Иван Михайлович Шевцов Во имя отца и сына
Валентине Ивановне Шевцовой - верному другу и доброму спутнику.
АвторГЛАВА ПЕРВАЯ. БОРОДИНСКОЕ ПОЛЕ
В просторном поднебесье Бородинского поля - ясный голубой покой.
На Бородинском поле во всю окоемную ширь - благостная золотая тишина.
Белая, беззвучно-невесомая, как пришелец из иных миров, паутина снует по солнечной стерне и бархатистой отаве, будит светлые думы и грезы, навевая их на зеленую бронзу и полированный гранит орлов и крестов, на людей, которые группами неторопливо идут от монумента к монументу.
Одна группа - рабочие московского завода "Богатырь". Они приехали в этот погожий воскресный день на поле русской славы, чтобы отдать низкий поклон мужеству и доблести своих предков, подумать о потомках, о величавом грядущем своего Отечества.
В напряженном волнении слушают люди рассказ экскурсовода, который рисует перед ними картину тех далеких дней, когда решалась судьба России вот здесь, на этой тихой, милой, задумчивой и до слез очаровательной в своем осеннем убранстве земле. Золото берез и трепетно-огненная медь осин гармонируют с праздничным нарядом людей, одетых просто, элегантно, со вкусом. Здесь группа рабочих; в сторонке, у другого памятника - группа колхозников, на батарее Раевского - профессора и преподаватели столичного института. Но попробуй различи их по одежке, по внешнему виду. Вот те, трое, что отстали от своей группы и на несколько минут задержались у черного мрамора, на котором высечены мудрые и крылатые слова: "Доблесть родителей - наследие детей", - кто они? Кто тот - седой, осанистый, высокий, с выправкой кадрового военного, в темно-зеленом новом костюме, с плащом, переброшенным на руку? Академик, доктор наук? Глаза его тепло светятся, озаряя уже немолодое, иссеченное временем лицо. Он чем-то взволнован, то и дело трогает пушисто-белый иней усов своих длинным и тонким пальцем и говорит с легким укором низкорослому, щупленькому и подвижному, смуглолицему, одетому в модную синюю на "молнии" куртку:
- Ты читай, читай, Костя. И думай…
- А что я? Правильные слова. Другого ничего не скажешь. Как, Ян Витольдович? - отвечает тот, кого назвали Костей, и обращается к тучному, глыбообразному человеку в шляпе и без галстука.
- Сильно, - гулко произносит Ян Витольдович. - Верно говорит Сергей Кондратьевич, есть над чем подумать, - и, вскинув тяжелую голову, смотрит вслед их удаляющейся группе. Затем задумчиво качает головой, берет под руку Сергея Кондратьевича Лугова, и все втроем медленно направляются к своим, остановившимся у другого памятника.
- Да я не про то ему говорю, - Сергей Кондратьевич кивает на Константина, все чем-то недовольный.
- А про что, отец? - не спеша спрашивает Константин Лугов.
- "Отец", - ворчливо повторяет Сергей Кондратьевич. - Я-то отец. Как видишь, сам сюда приехал и сына своего привез. А твой сын где? - Он резко останавливается и в упор смотрит на Константина Сергеевича. - Почему его нет здесь, с нами?.. И вообще, что это у нас за порядки - пожилые рабочие едут в одну сторону, а молодые - в другую? - И, хитро вздернув бровь, с подначкой к Яну Витольдовичу: - И куда смотрит завком, товарищ Варейкис?
- Ты не прав, Сергей Кондратьевич: молодежи тут больше половины, - отвечает председатель завкома Ян Витольдович Варейкис.
- А почему я комсомола не вижу? Романа Архипова нет. Или здесь? - продолжает упорствовать Сергей Кондратьевич, но уже мягче.
- В институте они - и Коля и Роман, - поясняет сын некоторым раздражением.
- Какой институт в воскресенье? - роняет уже совсем миролюбиво старик и добавляет, как мысли вслух, негромко и с чувством, горделиво обозревая поле: - Вот он, институт. Институт истории.
- Назначил профессор консультацию на сегодня. Поехали ребята, - уже не отцу, а Варейкису говорит Константин Сергеевич. - Легко сказать - диплом, высшее образование. А попробуй, как они - день в цехе, а вечер в институте. А требования? Разве сравнишь с прежними! - Да кто об этом говорит, - окончательно сдается Сергей Кондратьевич. Он любит внука и горд, что Коля работает на родном заводе и учится в институте. - Молодежь пошла умная, подкованная, замечу вам, на все четыре. Вот к нам недавно в конструкторское пришли двое из института. Дивные ребята. И до чего головасты - душа радуется. Глаза горят, светятся. Ум, живой ум видишь… Нет, что ни говорите, а человек хорошеет. С каждым поколением хорошеет человек.
- Ум облагораживает душу, - соглашается Варейкис. Он идет посредине между отцом и сыном Луговыми, огромный, прямой, тяжелым шагом. И дышит тяжело. Сергей Константинович замечает это, заботливо спрашивает:
- Что, Ян, тяжко без привычки шагать?
- Ты на сколько старше меня? - вместо ответа спрашивает Варейкис и останавливается.
- Лет на восемь. Тебе сколько?
- Готовлюсь на пенсию. Может, вместе? - Варейкис хитро щурит светлые глаза, не поворачивая головы.
- Не трави, Ян. Сказано, пока не запустим пятьдесят седьмую, ни на какую пенсию не уйду, даже ежели до ста лет доживу.
- Блажь, отец.
- Без тебя не запустят? Ты-то при чем? - Варейкис сказал это совсем дружелюбно, но опрометчиво, необдуманно. Старик вспылил:
- Ах вот как, я при чем… Ну да, конечно, вы начальство, а я что, я винтик или, если угодно, старый таракан из конструкторского бюро, который шебуршит в бумагах.
Но взорвался он только на минуту, и никто: ни сын, начальник литейного цеха, ни Варейкис - не принимает всерьез его вспышки. Старик отходчив и покладист. Через несколько минут он уже говорит председателю завкома голосом, полным теплоты и благодарности:
- Молодец ты, Ян, порадовал. День-то какой!.. Вот я думаю, петрушка получается у нас: ведь сколько, считай семьдесят лет, живу в Москве, а сюда, на Бородино, попал в первый раз. Стыдно. Отчего это у нас? Не от лености ж, нет. Я уверен, что все, кто с нашего завода сегодня приехал, все до единого в первый раз. Спасибо тебе.
- Спасибо скажи секретарю парткома: он организовал, - скромно отмахнулся Варейкис.
- Какому? - Серые брови Сергея Кондратьевича хмурятся, раздуваются, щетинясь, усы. - Старому или новому?
- Кто старого помянет - тому глаз вон, - шутит Варейкис. - Я говорю о Глебове, Емельяне Прокопиче. Его идея.
- А сам он что же не поехал? - Это спросил Константин Сергеевич. Его удивляло отсутствие нового секретаря парткома.
- Несчастье у него: тесть умер. Сегодня хоронят, - коротко отвечает Варейкис.
Своих догнали у наполеоновского орла. Здесь, на возвышенности, в те далекие дни стоял покоритель стран и народов, глядя в загадочную даль - туда, где за неприступными бастионами русских полков на семи холмах высилась белокаменная златоглавая столица. О чем он думал, властолюбивый деспот, щурясь на белизну берез и не замечая самого главного - непроходящей земной красоты? Да, о чем именно - хотелось бы знать Сергею Кондратьевичу.
Лугов отходит от группы в сторонку: голос экскурсовода мешает ему сосредоточиться, дать простор и волю своим думам. Нет, он не из простой вежливости сказал "спасибо" председателю завкома за эту поездку. Оказывается, благодарить надо нового секретаря парткома.
Странно и удивительно начинает свою работу на заводе "Богатырь" товарищ Глебов - с экскурсии на Бородинское поле. Лугову определенно нравится такое начало: в нем есть нечто многообещающее. Старик вспоминает, как начинал на заводе работу предшественник Глебова: в первый же день приказал секретарше пригласить к нему секретарей цеховых парторганизаций. Вызывал по одному. Звонит секретарша в механический мастеру Каурову - молодому инженеру, приглашает его как секретаря в партком. А тот не в духе был, что-то не ладилось: станки старые барахлили, давно нужно было заменить, спрашивает: "А в чем дело? Зачем меня в партком?" - "Новый секретарь желает с вами познакомиться". - "А вы скажите ему, что будет лучше, если он сам зайдет к нам в цех. Дело есть. Тут и познакомимся". Словом, подсказал, как нужно работать.
И снова мысли Лугова возвращаются в прежнее русло: не из простой вежливости благодарил он за эту поездку. Может, впервые за свою долгую жизнь он так зримо увидел красоту родной земли. Красоту не только внешнею, не только золотую звонь осенних берез и задумчивую ширь лесных далей, где в лучах невысокого солнца тихо струится хрустальный воздух, прогретый еще не остывшей землей. Он как-то по-новому, сердцем и разумом ощутил красоту и величие России в ее завидной судьбе, в большом, в исторически целом и философски сложном плане. Он смотрел с кургана в необозримый простор, глаза видели Бородинское поле, а душа чувствовала, как ширится и раздвигается горизонт, уходит в безбрежье, и там - на юге, на западе, на востоке, на севере встают другие поля - эпическими полотнами живой и немеркнущей истории - ледяное поле Чудского озера, Куликово и Марсово, плацдарм у Перекопа, Мамаев и Малахов курганы, заснеженное поле Подмосковья и фашистские танки на Волоколамском шоссе. И поля в тяжелых колосьях хлебов, цветущего льна, в котором, кажется, отражается небесная синь, леса, очарованные птичьим оркестром, и опять поля, и снова леса сквозь многие меридианы до самого Тихого океана.
Это - Родина, Отечество, Отчизна.
И почему-то подумалось Сергею Кондратьевичу: а чувствует ли Родину его сын Константин вот так же, как чувствует ее отец? Константин, который начинал свой долгий ратный путь в такую же осень 1941 года здесь, в Подмосковье, рядовым солдатом и закончил его гвардии капитаном на улицах Белграда? А внук Коля? Что он видит за кратким словом Родина? Каким звоном это слово звучит в его душе? Верно говорят: соприкосновение с высокими деяниями рождает высокие думы. А высокие думы, в свою очередь, рождают великие дела. "Доблесть родителей - наследие детей". Не в этом ли философский общечеловеческий смысл библейского "во имя отца и сына"?!
Сергей Кондратьевич пристально посмотрел на мастера из механического Андрея Каурова - плотного, точно отлитого из бронзы крепыша, подвижного непоседу с беспокойными карими глазами. Ярко-белый с черным орнаментом модный свитер его выделялся среди других. Он знал отца Андрея - Петра Никоновича Каурова, токаря из механического, ушедшего в сорок первом на фронт и погибшего где-то в лесах Белоруссии. Хороший был токарь, и скромный, тихий человек. Жена его Клавдия Ивановна работала в литейном на формовке. Помнится, когда получили "похоронку" - дело было летом, - привела на завод тринадцатилетнего Андрюшу - пусть к цеху привыкает, к делу присматривается, чем во дворе слоняться. Сирота. Тяжкое слово это вслух не произносили. Их было много, таких Андрюш, чьи отцы не вернулись с войны. Но были ли они сироты в том горьком стародавнем понимании? Отцов им заменила теплота и ласка рабочих сердец, заводского коллектива. Вырос Андрей Кауров, институт окончил, тридцати ему еще нет, а он уже мастер, инженер. Да какой мастер! Ян Витольдович говорит - перспективный, будущий главный инженер, директор завода, министр. Потому что имеет острый ум, беспокойное сердце, золотую рабочую хватку и добрую, отзывчивую душу.
В автобусе, когда возвращались обратно домой, Сергей Кондратьевич сел рядом с Кауровым. Поговорить хотелось.
- Как, Петрович, доволен поездкой?
- Еще!.. Чудо!.. - Кауров быстрым жестом погладил ежик непослушных темных волос. И сразу, почти без паузы, заговорил совершенно о другом, не имеющем никакого отношения к сегодняшней экскурсии?
- Сергей Кондратьевич, я хочу с вами посоветоваться, как с ветераном.
- Ну-ну? - насторожился Лугов.
- Как вы смотрите, если нам произвести революцию в цехах. Ну, положим, прежде всего в нашем, механическом?
Сергея Кондратьевича огорчил такой неожиданный, быстрый переход от Бородинского поля к заводским делам. Неужто в его душе так ничего и не осталось от сегодняшней поездки, не задело никакие струны? Однако "революция в цехах" возбуждала живой интерес. Хотел было заметить, что всякая революция полезна, поскольку ломает отжившее, но воздержался, молча ожидая. И Кауров продолжал вполголоса, видно не хотел, чтобы слышали другие:
- Переставить станки в технологической последовательности, чтоб не таскать детали из конца в конец по всему цеху. Смастерить специальные тумбочки для инструментов. И вообще покрасить стены в приятный цвет, чтобы глаз радовало. Чтоб цех был похож не на склад металлолома или жестяную мастерскую, а на творческую лабораторию.
- Что тут смотреть? Делать надо. Давно пора.
И все-таки их услышал сидящий сзади Варейкис. Он один занимал двухместную скамейку в автобусе. Услышал и вмешался, сказал, наклоняясь:
- Осенью будущего года.
- Что осенью? - не понял Сергей Кондратьевич.
- А вот эту самую твою революцию будем делать.
- Это почему именно в будущем году, да еще осенью? - обиженным тоном спросил Кауров. Его смутило безапелляционное заявление Варейкиса. Не успел человек внести предложение, как ему говорят - нет. Злило и то, что председатель завкома непрошено встрял в их разговор. Но это было в манере Яна Витольдовича, и на него не обижались - уважали его за прямоту, откровенность, простоту в обращении с людьми.
- По плану, - пояснил Варейкис. - Капитальный ремонт всего помещения. И кровлю менять будем.
- Давно пора, - спокойно сказал Сергей Кондратьевич. - При мне капитальный ремонт не делали. А я уже на "Богатыре", считай, шестьдесят лет.
- А как же завод? - Кауров явно был озадачен таким сообщением. Теперь он повернулся назад к Варейкису, ожидая ответа, и на смуглом лице его было такое выражение, будто от ответа председателя завкома завидела личная судьба мастера механического цеха. А Варейкис не спешил с ответом, и за него высказал предположение Сергей Кондратьевич:
- Остановят, стало быть?
- Зачем останавливать? - со своим ленивым спокойствием, в котором заключалась обыкновенная невозмутимость характера, возразил Ян Витольдович. - Государство не может позволить себе таких убытков. Вы представляете, что значит закрыть завод на месяц? Да даже на полмесяца. Не выпустить плановой продукции на сколько миллионов рублей? Представляете?
- Догадываюсь, - сказал старик Лугов.
- Дело не только в миллионах. - Лицо Каурова стало серьезным и озабоченным, на круглом лбу сбежались мелкие морщинки, а черные жесткие брови вытянулись в линию. - Мы не юбки шьем. Мы поставляем оборудование предприятиям, новостройкам. Да каким!.. Мм-да.
- Вот тебе и да-а, - заключил Варейкис, а Лугов подумал о Каурове с гордостью: "Государственный ум. Вот она, наша новая рабочая молодежь!"
Как всегда по воскресеньям, Сергей Кондратьевич обедал у сына. Впятером садились за большой круглый стол, громоздящийся посредине комнаты, и, как шутил внук Коля, начиналось "совещание за круглым столом". Так уж повелось у них издавна, еще когда они вместе с дедушкой жили в старом деревянном домишке у железной дороги, когда Коля пошел в первый класс, а Лада в детский сад, - за обедом в воскресные дни никто не молчал. Обед тянулся долго - час, а может и больше. Успевали переговорить обо всем, что у кого накопилось за неделю. Лада много и бестолку тараторила, стараясь не отставать от взрослых, зато Коля больше молчал и слушал. Таким он остался и теперь, сосредоточенно сдержанным, вдумчивым. Он не любил лишних слов и предпочитал слушать других. Дедушка Сережа одобрял в нем эту черту, а возможно, и помог ей укрепиться, говоря: "Твое при тебе останется, по-пустому языком что молоть? Лучше слушай других да ума-разума набирайся. И сам умней будешь".
Отца и дедушку Коля встретил в прихожей немым, но предельно красноречивым вопросом, выраженным в его взгляде, в ожидающе открытых глазах. Отец поспешил опередить старика - сказал, сияя довольным лицом:
- Жаль, что тебя, Николай, не было. Умная и полезная экскурсия.
- Да и внучке не помешало бы, - добавил старик, целуя огненно-рыжую голову поздоровавшейся с ним Лады.
- Ребята из соседней школы ездили, говорят, интересно, - скороговоркой протараторила Лада и ушла в спальню.
- Обедали, мать? - обратился к жене Константин Сергеевич, снимая куртку.
- Вас ждали. И Коля только-только ввалился.
- Вот и хорошо, аппетит нагуляли, поедим дружно, - сказал Константин Сергеевич, восторженно хлопнув в ладоши, и удалился в ванную.
Как только сели за стол, выключили телевизор, "чтоб не мешал пищеварению", как выражался Константин Сергеевич, и началось. Первой стала расспрашивать о поездке Лада. Старик молчал, а Константин Сергеевич попробовал словами нарисовать картину Бородинского поля: перечислял памятники, пересказывал некоторые эпизоды сражения. Старик хмурился, нервно трогал усы, наконец не выдержал, перебил сына:
- Не то, Костя, не то.
Все выжидательно посмотрели на дедушку - разве отец что-нибудь путает? - а Константин Сергеевич недовольно заметил:
- Ну давай, рассказывай ты. Ты у нас речистый.
- И я не могу, - тихо произнес Сергей Кондратьевич. - И никто не может… - Лицо его вдруг посветлело, в глазах снова вспыхнуло что-то юношеское, приподнятое, одухотворенное. - Словами нельзя передать. Это надо почувствовать. Сердцем. Там, на месте… А слова что, нет таких слов…
- Что ж, дед, твоя правда, - согласился Константин Сергеевич. - Бывает, что и слова бессильны.
- А Лев Толстой? - сказал Коля, переводя пытливый взгляд с отца на деда.
- Что Лев Толстой? - уточнил Сергей Кондратьевич.
- Бородинское сражение описал. Словами.
- На то он и Толстой, - обжигаясь горячими щами, сказал Константин Сергеевич. Но его реплика показалась старику неубедительной. Он подул в ложку, проглотил неторопливо, выпрямился на стуле и, не глядя ни на кого, проговорил:
- Одно дело - прочитать в книге, другое дело - там побывать.
- В сраженье? - не то в шутку, не то всерьез вставила Лада.
- На поле, - серьезно ответил старик. - Прочитать поле. Сердцем прочитать. И по-своему. Каждый по-своему. Вот я Каурову говорю про Бородино, а он мне про революцию в цехе. Выходит, он поле Бородинское прочитал не так, как я.
- Ну, а как ты, дедушка, прочитал? - уже забыв о том, что такое словами не расскажешь, живо поинтересовалась Лада и прибавила: - Какое оно?
- Широкое. Как Россия. И красивое.
- Что за революция у Каурова? - точно так же нетерпеливо, быстро перевел разговор Коля. Это черта молодости - все схватывать стремительно, но ни на чем долго не останавливаться: вперед и дальше бежать.
- Да разное, - не стал объяснять Сергей Кондратьевич и тоже неожиданно, чтоб только уязвить сына, ввернул: - Литейщиков ругал. Опять бракованное литье поставляете.
- А им что ни дай - все равно изгадят, - огрызнулся Константин Сергеевич. - Он бы лучше за своими стилягами присматривал. Вчера опять чепе.
- Что еще? - Старик метнул на сына сторожкий сухой взгляд.
- Ночью молот сожгли, - отрывисто бросил Константин Сергеевич.
- В кузнечном! - не спросил, а подтвердил Коля. - А при чем тут Кауров?
- А при том, что его шпана из механического забралась ночью в кузнечный, включила молот и сожгла, - резко, с нажимом на слова сказал Константин Сергеевич.
Наступила долгая пауза. Затем, нарушая ее, Коля спросил отца:
- Кто именно, не помнишь?
- Говорят, эти двое - тонкий и толстый
- Ключанский и Пастухов, - уточнил Коля.
- Больше, кажется, некому, - в сердцах проворчал отец. - Говорят, выпимши были.
Замолчали. Ели, не глядя друг на друга, словно кто-то из них виноват в том, что двое парней из механического цеха ночью зашли в кузнечный и сожгли там молот, хотя никто из Луговых не имел отношения ни к механическому, ни к кузнечному цехам. Но завод был их заводом - кровным, родным, и любое событие, любое происшествие на заводе воспринималось ими как свое, личное. Коля думал: "А может, зря на этих ребят наводят напраслину? Они, конечно, бузотеры, или, как говорит дедушка, анархисты, но какого рожна им понадобилось в кузнечном, зачем? Выпивши, ночью! Дико". Он знал неразлучных дружков - Вадима Ключанского и Юрия Пастухова. Особой симпатии они в нем не вызывали, пожалуй, наоборот. Но отец напрасно пытается свалить грехи литейного цеха на других. У него давнишняя неприязнь к механическому цеху, беспочвенная, глупая, и отец нисколько не прав. Механический цех правильно критикует литейщиков за плохое литье. Об этом и на комсомольском собрании говорилось. Правда, у отца есть свои оправдания, и не литейщики во всем виноваты, не все от них зависит, но механическому цеху от этого не легче. А почему молчит дедушка? Какой-то он сегодня задумчивый и опечаленный. Конечно, чепе на заводе для него не безразлично, но только ли это причина? Отец, как всегда, резкий и немножко взвинченный: видно, слова дедушки о плохом литье больно его задели. Надо бы как-то перевести разговор. Обычно это делают мама или Лада. Но они почему-то молчат.
Коля бросает недвусмысленный взгляд на сестру. Лада дружески улыбается - они понимают друг друга с полуслова, с одного взгляда. Но ее опережает отец. Перед тем как встать из-за стола, Константин Сергеевич не то с горькой иронией, не то в порядке укора бросает старику:
- Вот тебе и доблесть родителей, и наследие детей.
Лада и Коля не совсем понимают смысл этих слов, догадываются, что это продолжение какого-то спора между дедушкой и отцом, и ждут, что ответит дедушка. Сергей Кондратьевич не торопится, дернувшиеся брови и глаза выразительно говорят: "Но при чем тут…", он через минуту спрашивает, ни к кому не обращаясь:
- Интересно, а кто их отцы?
Теперь и Лада и Коля догадываются, что речь идет о Ключанском и Пастухове. Никто не ответил, так как никто не знал родителей Ключанского и Пастухова. Но на этом разговор обрывается: все встают из-за стола. Лада помогает матери убрать и вымыть посуду, отец включает телевизор и садится на стул поближе к экрану - он немножко близорук. Коля с дедушкой располагаются на диване. Транслируют футбольный матч между "Спартаком" и "Крыльями Советов". Константин Сергеевич болеет за "Спартак", Коля - за ЦСКА, старик вообще ни за кого не болеет.
- Как у тебя занятия прошли сегодня? - интересуется Сергей Кондратьевич, любовно глядя на внука.
- Не занятия, дедушка, консультация, - отвечает Коля, устремив глаза на голубой экран. А дедушка не смотрит на экран, смотрит на внука и продолжает допрашивать:
- А профессор ваш небось строгий старик?
- Да какой он старик? Мальчишка, - весело отвечает Коля и озорно улыбается. - Правда. Ему и тридцати нет.
- И уже профессор? - удивляется дедушка.
- Доктор наук. А такой простой… - Коля уже не смотрит на экран: он влюблен в своего профессора.
- Видно, что-то изобрел, открытие сделал, а?
Сергей Кондратьевич любит поговорить с внуком на темы науки и техники. И не только потому, что Коля сообщает ему много интересного, неожиданного. Это само собой. Но старику приятно, что внук жадный к знаниям и во многих вопросах, особенно теоретических, гораздо компетентнее отца и деда. И Коле нравится "просвещать" Сергея Кондратьевича, хотя бы в популярном изложении. Он усаживается поглубже, кладет руку на спинку дивана и начинает своим сдержанным тоном, который никак не соответствует светящимся возбужденным глазам:
- Ты знаешь, что атмосфера земли состоит почти на 80 процентов из азота? А что такое азот как сырье для химической промышленности, надеюсь, тебе не надо объяснять?
- Удобрение, - кивает головой дедушка.
- И не только. Так вот - выходит, запасы этого сырья у человечества неограниченные: бери сколько хочешь. А вот как взять, практически? Это уже сложная техническая проблема.
Константин Сергеевич убавляет звук телевизора: глядя на экран, он прислушивается к разговору отца и Коли и вдруг кричит как ужаленный:
- Ну, бей! Бей же, болванка… Ах, черт, такой мяч упустить!
- Сырье дармовое, вот оно, - не обращая внимания на отца, продолжает Коля и ловит воздух рукой, - а не возьмешь, не дается.
- Берут, и давно, - возражает Константин Сергеевич, не поворачивая головы. - Аммиачным способом… Ух ты! Угловой…
- А во что обходится этот азот, в какую копеечку? Ты знаешь? - тоном превосходства спрашивает Коля. - Удовольствие слишком дорогостоящее. А вот при помощи плазмы, то есть плазмохимическим способом в лаборатории, где работает этот самый мой профессор, получают дешевый азот… Что такое плазма, ты слышал, дедушка?..
- Ну, слышал, - неуверенно отозвался Сергей Кондратьевич, поясняя: - Материя или антиматерия. Что-то такое новое, ненашенское, неземное. - И, поймав на лице внука снисходительную улыбку, добавил, как школьник, отвечающий на экзамене: - Материя при высокой температуре.
- Не совсем так, дедушка, - заговорил Коля, а Константин Сергеевич произнес вслух:
- Куда хватил - антиматерия! Неземное!.. Ну-ну, за такие подножки надо с поля гнать, метлой, метлой.
Последняя фраза относится к футболистам, и дедушка и Коля это понимают и прощают ему его реплики, пересыпанные эмоциями болельщика.
- А ты зря, папа, - заступился Коля. - Действительно, на земле в естественном состоянии нет плазмы. Плазма, дедушка, это новое, четвертое состояние вещества. Ведь раньше как считали: твердое, жидкое, газообразное. У плазмы какое-то количество молекул и атомов ионизировано. - И поняв, что он уже переходит границу популярного, Коля неожиданно замолчал, подыскивая более доходчивые образы.
- Не газ, не жидкость и не твердое, - словно про себя размышляя, повторил старик. - А тогда что?
- Это - огонь, тысячи градусов температуры, - отвечал, воодушевляясь, Коля. - Вот солнце, - оно находится в состоянии плазмы. И звезды.
- Тысячи градусов, - снова, не оборачиваясь, проговорил Константин Сергеевич. Он как бы поддразнивал отца и сына. - А сколько? Две тысячи или сто тысяч градусов?.. Ну что ж ты стоишь, чего ждешь? Э-эх… Вот и достоялся, голова баранья. И упустил мяч, дура!
- Ну пять, десять, в зависимости от вещества, - уверенно ответил Коля.
- Десять тысяч! - удивился Сергей Кондратьевич. - Так это выходит что? При такой температуре все горит, все плавится - и сталь, и гранит, и бетон, и алмаз. В чем же ее держат эту плазму, в каком горшке?
- Есть такое специальное устройство, - охотно пояснил Коля, - плазмотрон называется. Представь себе цилиндрический сосуд из обыкновенного материала, в нем образована плазма в десять тысяч градусов. А стенок сосуда она не касается, от них ее отталкивает магнитное поле, она как бы висит в середине цилиндра. Понимаешь? Я, разумеется, несколько упрощаю.
- Гол!!! - воскликнул Константин Сергеевич и захлопал в ладоши, впервые оборотив свое возбужденное розовое лицо к отцу и сыну. - Красиво влепил… с подачи головой… Ах, молодец. Ну, теперь держитесь, "Крылышки", счет открыт.
Сергей Кондратьевич нарочито громко вздохнул, и вздох этот прозвучал с вызывающей иронией: старик не любил футбола и не понимал фанатизма болельщиков. Потом медленно встал, проговорил, положив Коле на плечо свою худую руку:
- Я, пожалуй, пойду.
- Да посиди еще, куда тебе спешить? - резко поднялся Константин Сергеевич, но сказал это так, для приличия, потому что знал: старик не останется, уйдет к себе.
И он действительно ушел, неторопливо, с обычной своей учтивостью поблагодарив сноху за обед.
В спокойном московском небе разгорался багряный закат. На улицах, как всегда по воскресеньям и праздникам, было мало машин, отчего город казался просторным, неторопливым, чего-то ожидающим. Чего?
Город не знал, и Лугов не знал. Людям вообще свойственно ожидание чего-то нового, неведомого, необыкновенного. В ожидании рождаются большие надежды, красивые, как сказка, удивительные, как быль.
Сергей Кондратьевич шел не спеша, смотрел в лица прохожих, не замечая их: все мелькало чем-то бессвязным, отрывочным - люди, такси, дома, поздние хризантемы на сквере, желтые ясени и еще зеленые тополя, медвяно-терпкий запах резеды и огоньки светофоров. И облака над горизонтом, ленивые, слегка нарумяненные; и бойкие, галдящие о чем-то своем воробьи на старой, золотистой липе; и мысли, бегущие со всех сторон и снова улетающие в разные стороны. Он отдыхал, и думы нисколько не мешали ему. Напротив, без них было бы неестественно, непонятно, беспокойно и жутко. Это были добрые, покладистые мысли, ни к чему не обязывающие, ничего не требующие. И кружились они вокруг одного - Бородинского поля, и о чем бы ни думал Сергей Кондратьевич: о Каурове или о своем внуке Коле - замечательных и умных представителях молодого поколения, о сожженном молоте в кузнечном, о новом секретаре парткома, который начал на заводе свою работу с организации сегодняшней экскурсии, - перед ним стояло среди осенних перелесков поле, увенчанное памятниками ратной славы, и крылатые слова, вырубленные в граните: "Доблесть родителей - наследие детей". Слова эти, прочитанные там, на поле, накрепко врезались в память, огненными буквами сияли в сердце, от них несло теплом, ясной уверенностью и чем-то бесконечным, неувядаемым. В конце концов, человек умирает: в ратном ли бою, как те, на Бородинском поле, или у себя дома, скошенный неизлечимым недугом, как тесть секретаря парткома. Но живет народ, и, если у этого народа есть высокая цель, ясный идеал, убежденная вера в свою правоту, если у народа есть крылатая мечта и сильные, умные люди, претворяющие мечту в жизнь, такой народ бессмертен и непобедим.
Жизнь - сражение, постоянное, нелегкое. Иногда с переменным успехом. Жизнь - это тоже поле битвы, независимо от того, гремит артиллерийская канонада или вместо нее кто-то, одержимый бредовыми идеями своей исключительности и превосходства, заполняет эфир и газетные полосы тлетворным ядом лицемерия, клеветы, человеконенавистничества.
Вот такие думы навеяло на Сергея Кондратьевича Лугова Бородинское поле.
ГЛАВА ВТОРАЯ. ЕМЕЛЬЯН ГЛЕБОВ
Отец Мусы, политрук пограничной заставы Махмуд Мухтасипов, погиб в неравном бою с фашистами в первый день войны - 22 июня 1941 года. Отец Димы, Максим Иванович Братишка, начавший войну на одном с Мухтасиповым участке границы, прошел большой путь от лейтенанта-летчика до генерала и теперь занимает важный пост в Вооруженных Силах страны. Муса родился в огненном девятьсот сорок первом. Дима - годом раньше. Отцы не знали друг друга, но вместе проливали кровь свою в священной битве. Сыновья встретились и познакомились совсем случайно, и дружба их скреплена не кровью, а коньяком в ресторанах Москвы.
Вот и сейчас они сидят за одним столиком в большом сумрачном зале ресторана "Метрополь" под высоким куполом витражного потолка и пьют коньяк, закусывая тонкими дольками лимона: на большее денег не хватило. Изредка они бросают полные презрительного равнодушия взгляды на танцующие вокруг фонтана пары и лениво роняют полусонные слова.
Белобрысый, стройный Дима (или просто Дин) одет в темный дорогой костюм и белоснежную нейлоновую сорочку с модным заграничным галстуком. На ногах - черные остроносые мокасины и пестрые эластичные носки. Мягкие, с шелковистым отливом волосы аккуратно пострижены под польку, зачесаны назад и тщательно приглажены. Глубокие светло-голубые глаза полны меланхолии и грусти. Ему всего двадцать один год, а на его бледном лице лежит печать усталости, будто юноша уже успел побывать во льдах Антарктиды, плавал на атомной подводной лодке к Северному полюсу, написал "Хождение по мукам" и, может быть (пока это глубокая тайна), фотографировал обратную сторону Луны с космического корабля. Словом, изведал все в жизни - любил, страдал и, все познав, не то чтобы разочаровался, а просто устал. Он ничем не напоминает стилягу-тунеядца или преуспевающего модника-пижона, заполнявших собой в шестидесятые годы проспекты и рестораны крупных городов, туристские базы, дома отдыха, страницы "Крокодила" и витрины "комсомольских прожекторов". Он не то, что его приятель Муса, или Мусик-Хол (впоследствии просто Хол), наряженный в пестрый свитер грубой вязки, с постоянной нагловатой ухмылкой тщедушный субъект с остро торчащими лопатками, впалой грудью и мутными настороженными глазами профессионального бездельника. Его прическа, напоминающая лошадиную гриву, черной челкой спускается до самых бровей и закрывает лоб. Давно не стриженные жесткие волосы свисают сзади на широкий ворот свитера. Но Хол умеет нравиться женщинам, особенно молодым, увлекающимся девицам: "В нем что-то есть".
Дима и Муса говорят о деньгах, которых им так не хватает, о девочках, которых больше, чем денег, но иные из них тоже обожают деньги. Итак, все дело в деньгах, только в деньгах, и разговор идет вокруг них.
- Генерал железно отказал. Во всяком случае, до января, - говорит Дин, безнадежно кивая головой и глядя в пространство.
- Ма пуста и бесперспективна, - в тон ему произносит Хол, брезгливо выпуская дым сигареты. Затянувшись, он небрежно отводит в сторону руку с папиросой, чуть ли не касаясь пальцем, украшенным дешевым перстнем, соседнего стола. "Ма" - это значит "мама". - Где выход, капитан Дин? - цедит сквозь зубы Муса, втыкая окурок в пустую рюмку и скользнув по лицу приятеля взглядом.
- Шевели мозгой, Хол. Прояви инициативу. Новый год на носу.
- Была надежда на шефа. Но… увы: последнее время он свиреп и не расположен ко мне. Между прочим, ты ему лег на душу… Разве что попросить для тебя?
- Думаешь, выгорит?..
- Надо дерзать, капитан Дин.
- Пробуй, Хол. Что надо взамен? - Дима смерил Мусу требовательным взглядом, ожидая ответа.
- Что с тебя возьмешь? Познакомишь с излишками.
- Надеюсь, Эла, Ава и Лика его уже не интересуют?
- Ты трезво мыслишь, капитан Дин. Он их знал до тебя.
Говорили вполголоса, потому что рядом за их столиком сидела незнакомая пара: красивая женщина, с проседью в темных постриженных волосах, большеглазая и задумчивая, и мужчина, крутолобый, властный, с величественной осанкой. "Артисты", - решил Муса и высказал свое предположение другу. Дима поднял накрашенную бровь: "Ну и что?"
Юля Законникова не была актрисой, если не считать ее участия в спектаклях народного театра при своем заводе. Отец Юли, командир партизанского отряда, был убит гитлеровцами. Что касается мужчины - Муса не ошибся: Алексей Васильевич Посадов, один из учеников Станиславского, сейчас руководил народным театром при заводе "Богатырь", где Юля работала чертежницей отдела главного конструктора. С 1941 года Алексей Васильевич живет один: война разлучила его с женой.
Посадов старше Законниковой почти в два раза: ей двадцать семь - ему шестьдесят. Посадову казалось, что в этом возрасте разница лет не имеет никакого значения. Юля ему нравилась. Долгие годы одиночества породили в нем потребность в близком человеке. Он надеялся, что Юля сможет стать ему другом.
Приглашение старого актера поужинать в ресторане Юля приняла с удовольствием. Посадов был интересным собеседником, его приятно было слушать.
Занятые разговором, Посадов и Юля не прислушивались к репликам юнцов, сидящих за их столом. Лишь изредка Алексей Васильевич бросал уничтожающие взгляды на Мусу: он не терпел такого сорта людей. Муса отлично понимал это, но не смущался. Напротив, как бы мстя Посадову, он строил глазки Юле. Шумел оркестр, безголосая, в чешуйчатых блестках певица гнусавила что-то о любви. Сквозь грохот барабана и визг саксофонов Муса шептал своему приятелю, кивая в сторону Юли:
- Зрела. А хочешь, я уведу ее от этого предка?
Муса встал и, выламываясь на кривых ножках, обтянутых узкими штанами, обратился к Юле:
- Разрешите?
Она посмотрела на него удивленно.
- Не танцую.
"Ну что?" - спросил торжествующий взгляд Димы.
- Перезрела, - пробормотал Муса.
Не обращая внимания на Мусу, Посадов продолжал:
- Пожалуй, надо бросать самодеятельный театр. - Слова его прозвучали еще нерешительно, в них слышался вопрос.
- Почему же, Алексей Васильевич? Поставили три спектакля. И какой успех!
- Поставили. А толку что? Не вижу смысла. Сколько сыграли спектаклей? Шесть. Всего шесть. Я теперь убежден, что "в условиях Москвы заводской народный театр не нужен. В провинции, где нет профессиональных театров, там - да, необходим. Там он нужен не только заводу, а и всему городу. А тут, где десятки профессиональных театров, тут он ни к чему. В Москве должен быть один народный театр, который смог бы дать публике то, что редко видишь в наше время на сценах профессиональных театров: героику. И назвать его - народно-героический. И репертуар соответственный - без пошленькой иностранщины и отечественной дребедени, без режиссерских выкрутасов, когда не поймешь, где артисты, где зрители. Пора возродить национальные традиции в духе Щепкина и Станиславского, Гоголя и Горького. Вот что надо! Не "Двое на качелях" и не "Трое в постели", а возвышенное: чистое, сильное, чтобы не пятки щекотало, а волновало душу!
Она дала ему закончить. Сказала:
- А вы сделайте из нашего заводского такой театр. Ведь вы можете.
- Сделать все можно. Были бы условия… И смысл, - отрывисто, с усилием, приглушив голос, хмуро ответил артист.
- Пойдите к новому секретарю нашего парткома. Говорят, симпатичный человек.
- Глебов? - Лицо Посадова вдруг оживилось, в глазах засветились добрые огоньки. - Емельяна Прокоповича я знаю: он раньше работал инструктором райкома партии. Интересовался нашим театром, помогал. Человек он верный. Но от него не многое зависит. Чем он поможет? Самодеятельность, она и есть самодеятельность. А тут нужны профессиональные актеры. Нужен труд, повседневный, репетиции - вот что нужно. Наконец, нужны талантливые актеры, способные играть героические роли. И репертуар, конечно. Самый гениальный актер ничего не создаст в пустяковой пьесе. Роль, характер, образ - это основа для актера. А когда тебе нечего играть, будь ты трижды Щепкиным - ничего не получится. Великие актеры рождаются и проявляют себя на великих ролях, в гениальных произведениях. И если мы хотим создать народно-героический театр, в котором так нуждается наша эпоха, - такой театр рано или поздно будет создан, - так вот, для героических ролей нужны и могучие актерские дарования. - Он снова увлекся и начал говорить громко, не обращая внимания на окружающих. - Жулика сыграть проще, чем героя. Об этом еще Островский сказал в "Лесе". Комиков много, настоящих трагиков нет. Кто у нас сейчас способен сыграть Ивана Грозного, Петра или, скажем, таких выдающихся людей, как Орджоникидзе или Киров? Пока я не вижу…
- А пьесы есть? - спросила Юля.
- И пьес нет. Они не нужны тем, кто пичкает зрителя всякой белибердой вроде "Двое на качелях".
Он крепко сжал челюсти и, прикрыв глаза, устало опустил голову.
Юля молчала. Немного остыв, он налил себе полстакана боржоми, выпил и сказал, уже успокоившись:
- А Глебов что? Я с ним знаком, встречались. Боевой паренек, зубастый.
Глебов рос без отца: убили кулаки, когда Емельяну не было еще и года. Застрелили за то, что он был коммунист, что в Петрограде делал революцию, а после в деревне вместе со своим дружком Акимом Титовым создавал коммуну. Прокоп Глебов был "красный", а бандиты называли себя "зелеными", в лесах прятались, на дорогах грабили.
Восьмилетний сын Емельяна Глебова Руслан, худенький светлоголовый мальчик, сидит за столом, решает задачи и сосредоточенно грызет карандаш: не получается. И вдруг глаза его потемнели. Не отрываясь от учебника, он воскликнул:
- Папа, смотри!.. Вот послушай задачу: "Для перевозки двенадцати бидонов молока выделили четыре машины. Сколько бидонов погрузят на каждую машину, если их поделить поровну?"
- Ну и что тебе не понятно? - спросил Емельян, несколько удивленный тем, что сын не может решить такой простой задачки.
- Глупо! - воскликнул Руслан и объяснил: - Ну кто станет возить двенадцать бидонов на четырех автомашинах, когда один грузовик запросто все увезет?! А может, их будут на "Волгах" перевозить? - рассмеялся мальчик.
- Действительно, нелепо получается, - произнес Емельян и подумал: "В задачнике - это еще куда ни шло. Хуже, когда подобные вещи происходят в жизни. Гоняем же мы по стране порожняком автомашины, выбрасывая на ветер огромные суммы".
Глебов на заводе недавно. До этого он никогда не работал на производстве. Когда его избрали секретарем парткома завода "Богатырь", на него сразу обрушился целый водопад вопросов и задач, которые нужно решать безотлагательно. Двери парткома не закрывались: шли рабочие из цехов и отделов, шли за помощью и советом. Да и самому надо было знакомиться с заводом, с людьми. Парторг механического жаловался на литейщиков: опять поставляют бракованные заготовки. А заодно сообщил с сожалением, что мастер Кауров подал заявление об уходе с завода, что отпускать его никак нежелательно: хороший мастер, толковый молодой специалист с высшим образованием. И Глебов, не откладывая в долгий ящик, тотчас же пригласил к себе коммуниста Каурова, спросил напрямую:
- Так что же вам не нравится на нашем заводе?
Кареглазый бронзоволицый парень остро взглянул на Глебова, точно прицелился, и ответил:
- Порядка нет. - Выдержав паузу, будто хотел посмотреть, какое впечатление произведут его слова на секретаря, пояснил: - Я пришел на завод мастером, думал, буду учить людей работать, а меня в снабженцы переквалифицировали, от гудка до гудка заготовки собираю. - И подытожил: - Нет порядка. И видно, не будет.
- А если попробовать навести порядок? - в свою очередь спросил Глебов.
- Ваш предшественник пробовал, да зубы обломал.
- А что ж вы его не поддержали? Вы, коммунисты?
- У нас он помощи не просил. Думал в одиночку. - Он помолчал, будто что-то решая для себя, и, резко вскинув голову, посмотрел на Глебова прямым взглядом. - Хотите начистоту?
- Только начистоту, - кивнул Глебов, приготовившись слушать.
- Есть вопросы, что ни в одиночку, ни с нашей помощью секретарь парткома не решит. И директор тоже.
- Интересно, - поддержал Глебов и выжидательно посмотрел в молодое решительное лицо инженера.
- Станки у нас старые? Старые. Достались нам еще от фабриканта. Выжмешь норму - потеряешь качество, а значит, и надбавку. Правда, надбавка больше символическая.
- Как это "символическая"? - вставил Глебов.
Кауров поморщился, сказал, уставившись на Глебова:
- Если, предположим, деталь обычного качества стоит два рубля, то деталь отличного качества на десять копеек дороже.
- Вы считаете, это мало? - вполне искренне спросил Глебов, прикидывая в уме: это пять процентов. И еще, не дождавшись ответа мастера, решил: действительно маловато. Какой смысл рабочему выгадывать копейки на качестве, когда можно заработать рубль на количестве?
- За отличную деталь я бы платил в два раза дороже, - сказал Кауров убежденно.
- А где деньги? Во что обойдется себестоимость детали?
- Будет та же, что и сейчас. Если не ниже. Пожалуй, ниже, - серьезно заключил Кауров.
По его интонации и по выражению темных глаз Глебов понял, что он уже думал об этом. Хотя то, что он сказал сейчас, казалось парадоксальным. Глебов попросил Каурова пояснить.
- Да очень просто, - сказал тот, доставая из кармана карандаш, без спроса взял со стола чистый листок бумаги.
Глебов приготовился к солидным подсчетам. Но Кауров вывел на листке двойку и к ней шесть нулей. После этого он поставил восклицательный знак и резко подчеркнул написанное двумя жирными линиями. Хотел было еще провести третью, да сломался карандаш.
- Ежегодно мы теряем два миллиона рублей на браке. Дайте эти деньги рабочему за отличное качество - и брака не будет, - заключил он.
Емельян не знал этих цифр и был поражен. Довод мастера не вызывал возражений. Он наталкивал на размышления.
После Каурова пришел из конструкторского старик Лугов, Сергей Кондратьевич, высокий, седой, с красивой, патриаршей осанкой. Он мягко и внимательно посмотрел на Емельяна, сообщил, что на заводе работает со дня основания, то есть с 1903 года, хорошо помнит немца-фабриканта и всех девятнадцать директоров завода. И тут же не преминул сказать, что только шесть из них были достойны доброго слова, и добавил, что ему исполнилось семьдесят четыре года. Но пока не внедрят в производство новый образец агрегата - модель пятьдесят семь, где есть доля и его труда, на пенсию уходить не собирается.
- Ну, а как долго будем его внедрять? - спросил Емельян, с интересом рассматривая ветерана русского рабочего класса, живого свидетеля трех революций и пяти войн.
- Можно было еще в прошлом году, - недовольно буркнул старик и настороженно посмотрел на Глебова.
- Так в чем же дело?
- В главном инженере. Надо менять технологию. А для этого нужно время. Опять же план…
Он просидел в кабинете Глебова более часа и все говорил, говорил, спокойно, обстоятельно. Емельян не перебивал его, делал пометки в своем блокноте.
На прощание заверил:
- Мы еще с вами встретимся, Сергей Кондратьевич, обязательно. И подробно обо всем переговорим. Согласны?
- Я с удовольствием. Нас, Луговых, тут на заводе целая династия. Сын начальником цеха работает, внук - тоже здесь, в сборочном.
С Константином Сергеевичем Луговым Глебов познакомился на другой день в литейном цехе. Сын не был похож на отца. Среднего роста, сутулый, с резкими движениями, осунувшимся, усталым лицом, угловатый, он подал Глебову костлявую руку, сказал отрывисто:
- Знаю, вам жаловались на нас. Все правильно. Критиковать надо. И помогать тоже надо.
Взвинченно, нервозно говорил он о нуждах литейщиков. А потом выяснилась причина:
- Дочка не ночевала дома. Ночь не спали, переволновались. Черт знает что передумали. Утром хотели звонить в милицию, к Склифосовскому или в морг. Я уже на работу собрался - заявляется. И хоть бы что. Как будто так и надо. У подруги, оказывается, ночевала. Зачем? Видите ли, у подруги трагедия, сердечная драма, роман, одним словом: кавалер жестоко обманул. Обрюхатил - и в кусты: "Я не я, и лошадь не моя…" А она - школьница!.. В одиннадцатом классе. И класс этот придумали ни к селу ни к городу, вроде пятого колеса в телеге.
Он ругал и дочь, и ее подругу, и тех, кто придумал в школе одиннадцатый класс, а в институтах шестые и седьмые курсы. ("Умный человек и за четыре года получит высшее образование, а дурака и за десять лет ничему не научишь"). Потом спросил совета у Глебова: как ему поступить с дочерью, серьезный разговор с которой должен состояться вечером после смены.
- Что в таких случаях делают? Выпороть, что ли?
Вопрос был не из легких, и Емельян ответил искренне, пожимая плечами:
- Вот уж затрудняюсь, что вам посоветовать… У меня, знаете ли, дочка еще в пятом классе.
- Значит, у вас все впереди, - горестно обронил Константин Сергеевич.
От такой реплики Глебову стало как-то не по себе.
Придя домой, Емельян сел на диван и открыл тетрадь с записями. Краткая, в одну строку, фраза: "Гл. инж. Почему тормозят модель пятьдесят семь?" - напомнила об очень серьезном, первостепенном. А из головы все еще не выходил рассказ Константина Сергеевича о дочери. Иногда ему казалось, что, в сущности, это один и тот же вопрос во всей жизненной полноте и многогранной сложности: агрегаты делают люди - дед, отец и сын Луговы, не спавшие всю ночь из-за того, что школьница не пришла домой ночевать.
Он вспомнил сегодняшний разговор с директором заводского Дома культуры Александром Александровичем Марининым, с которым по роду своей работы в райкоме и прежде приходилось не однажды встречаться. Маринин вошел в кабинет Глебова размашисто, сияя широкой, притворной улыбкой, как старый знакомый. Торжественно провозгласил, протягивая веснушчатую волосатую энергичную руку:
- Емельян Прокопович! Рад приветствовать вас на новом поприще, так сказать, на культурно-идеологическом фронте.
Глебов понял намек: должность инструктора райкома партии ему пришлось оставить из-за "отсутствия гибкости" в работе, как сказал секретарь райкома товарищ Чернов. В переводе на более конкретный язык это сводилось к одному конкретному факту. Глебов присутствовал на вечере поэзии в большой аудитории. В течение часа троица подвыпивших "молодых" популярных пиитов читала не совсем поэтичные и совсем недвусмысленные вирши, вызывая восторженный визг одной части аудитории и сдержанное негодование другой. Глебов, как представитель райкома, предложил устроителям вечера прекратить "балаган", а поэтам посоветовал вести себя в обществе более пристойно, поскромнее. На другой день Глебову пришлось писать объяснительную записку. Товарищ Чернов расценивал его поступок как "грубое администрирование" и "отсутствие гибкости в работе с творческой интеллигенцией". Маринин об этом знал. Он был хорошо осведомленным человеком, с большими связями среди работников культуры. Самоуверенный, с развязными манерами, он держался панибратски со старшими и высокомерно-презрительно с теми, от кого не зависел.
Поприветствовав таким образом Глебова и не дав ему произнести в ответ ни единого слова, Маринин заговорил с сенсационной значимостью, устало опускаясь в кресло:
- Грандиозное дело затеяли мы, Емельян Прокопович. Пришел за поддержкой и благословением.
Голос у Маринина бархатистый, хорошо поставленный, как у артиста, лицо чистое, мягкое, сдобренное здоровым румянцем, руки беспокойные - то он потрогает шестигранные очки без оправы, то безо всякой надобности достанет из внутреннего кармана пиджака авторучку с обнаженными купальщицами на черенке, то длинными ногтями пальцев побарабанит по столу.
- Слушаю вас, товарищ Маринин, - подчеркнуто официально сказал Глебов и внимательно посмотрел в серые, увеличенные стеклами очков беспокойные глаза Маринина. "Глаза ловкача", - подумал Емельян, заметив, как быстро Маринин отвел взгляд. Бесцеремонность директора Дома культуры была несносной.
- Совет Дома культуры, идя, так сказать, навстречу пожеланиям рабочего класса, молодежи нашей, - начал высокопарно Александр Александрович, - решил устроить выставку молодых, очень талантливых художников.
Емельян понял смысл нажима на слове "талантливых". Зная вкусы и пристрастия Маринина, он не верил ему и, насторожившись, стал следить за его бегающим взглядом, который никак не соответствовал напыщенности его слов. Александр Александрович говорил, что на выставке будет много оригинального, самобытного, новаторского, что гвоздем ее станут работы живописца Ильи Семенова, чье имя широко известно во всем цивилизованном мире. Глебов не знал такого художника, впервые слышал о нем и поэтому сказал, что, прежде чем решать вопрос о выставке, он, как секретарь парткома, хотел бы сам ознакомиться с работами молодых и "очень талантливых". Маринин предвидел такой шаг секретаря и заранее обдумал свое поведение. Доставая из папки бумаги, он торопливо заговорил:
- Пожалуйста, Емельян Прокопович. Вот список участников выставки и перечень их работ, так сказать, каталог. Полный порядок…
- Это само собой, - спокойно перебил его Глебов. - Но я хочу своими глазами осмотреть картины до того, как они будут развешаны в нашем Доме культуры.
- Видите ли, - возразил Александр Александрович, пытаясь как-то скрыть замешательство, - это связано с рядом трудностей, которые могут вызвать осложнения.
- Да полно вам: осложнения, трудности… - поморщился Глебов.
- Емельян Прокопович, ведь это художники. Народ тонкий, легко ранимый. С ними надо деликатно.
- А разве то, что мы посмотрим картины до выставки, заденет самолюбие авторов?
- Представьте себе - увы! - это так, - развел руками Маринин.
- Насколько мне известно, на любую выставку экспонаты просматривает и отбирает выставком. Так или нет? - Глебов не мог сдержать иронической улыбки, скользнувшей на его пухлых губах.
- Так их уже ведь смотрели, вот в чем дело.
- Кто?
- Председатель совета Дома культуры главный инженер завода Николай Григорьевич Гризул. И потом представители Союза художников.
- Какого союза - СССР, РСФСР или Московского отделения? И кто именно? - напористо спросил Глебов и по глазам Маринина понял, что насчет Союза художников тот явно "заливает".
- Смотрели товарищи из Московского отделения, - с подозрительной поспешностью уточнил Маринин, и Глебов окончательно решил: врет. - Мы советовались с Николаем Григорьевичем, и на этот счет ни у кого не было никаких сомнений. - В тоне Маринина послышались обида и раздражение. - Новый просмотр художники воспримут как недоверие, могут вообще отказаться и сорвут хорошее и нужное дело. Я не понимаю, зачем такая перестраховка. - Маринин нахмурился и потупил взор.
- Это не перестраховка, товарищ Маринин, а естественная и прямая обязанность партийного комитета… Чтоб потом не краснеть перед рабочими, - сухо произнес Глебов.
Его настойчивость взорвала Маринина.
- Тут должен быть такт, - поднявшись и не глядя на Глебова, съязвил он.
- Я не собираюсь брать у вас уроки по этике, - сдержанно сказал Глебов и тоже встал из-за стола, выпрямившись по-военному. - Решим так: договоритесь с художниками, когда представители парткома смогут посмотреть их работы, отобранные для выставки, Сообщите мне.
Маринин пожал плечами и молча удалился. Когда он ушел, Глебов подумал с досадой: "Вот и опять могут приписать мне "администрирование и отсутствие гибкости". Но чем упрямей и настойчивей был Маринин в своем стремлении не допустить предварительного просмотра картин, тем сильнее и тверже было желание Глебова ознакомиться с ними. В конце концов это не только его право, это его долг.
Теперь, сидя на диване и вспоминая встречу с Марининым, Глебов вдруг как-то еще зримей ощутил логическую связь между отдельными фактами, с которыми ему пришлось столкнуться в последние дни.
Жена позвала пить чай. Сидели на кухне, чаевничали. Он рассказал, сколько дел на него свалилось на новой должности. Да каких дел! Но работа интересная. А жена свое:
- И все-таки напрасно ты не отказался: не твое это дело, производство ты не знаешь, вырос в деревне.
- Я люблю работать с народом, - перебил Емельян. Он рассказал о сегодняшнем разговоре с Марининым.
Она забеспокоилась: снова неприятности.
- Зачем ты вмешиваешься? Черт с ними, с картинами! Ты своим делом занимайся, партийным.
- Это и есть мое партийное дело, - начал горячиться Емельян. - Душа человека, Леночка, самое что ни есть партийное дело. Ведь что главное в работе парткома? Люди, забота об их воспитании. Партком не может и не станет дублировать ни директора, ни главного инженера. И ты меня не толкай на позицию невмешательства. - Он обнял жену. - Не выйдет. Будем вмешиваться. И тебе советую. Иначе получится чепуха: растлители всегда найдутся там, где мы будем позевывать в кулак. Верно? Чтобы родители не воспитывали детей своих? Где же это видано? Исстари повелось: отец гордился своими сыновьями, когда они на поле брани прославляли свой род. Мастеровыми-работягами гордился, свое умельство им передавал, секрет мастерства, как драгоценное наследство. А когда кто-нибудь из сыновей начинал дурить, он спуску не давал, выбивал дурь, наставлял на путь истинный…
На другой день Емельян решил под вечер встретиться с главным инженером и выяснить у него ряд вопросов, в частности о задержке запуска в производство новой модели агрегата. Но утром главный инженер сам зашел к нему. Гризул был невысокого роста, в очках, с жесткой копной седеющих волос. Он был одет в рабочий костюм отличного покроя, элегантно сшитый либо по специальному заказу, либо приобретенный за границей. Николай Григорьевич держал себя привычно и без манерности. Перед тем как начать разговор, он легонько вздохнул, улыбнулся Глебову одними глазами и сказал:
- А ведь у меня, Емельян Прокопович, есть и еще одна должность - председатель совета Дома культуры.
- Хорошая должность. - Глебов тоже улыбнулся. - Почетная и… ответственная.
- Хлопот, конечно, много, но игра стоит свеч. Дом культуры наш, как вы знаете, лучший в районе.
- Это по чьей же оценке? - легко усмехнулся Глебов, глядя на Гризула.
- По отзывам деятелей культуры. В газетах хвалили. Вы не читали? И надо прямо признать: наш Александр Александрович - великолепный мастер своего дела. Талант в своем роде. Он много работает, и плодотворно. Умеет, умеет… И знаете, авторитет в коллективе, рабочие довольны.
Гризул старался говорить просто, будто вещал общепризнанные, не требующие доказательства истины. Глебов подавил в себе желание возражать, терпеливо слушал "прелюдию", за которой он ждал нечто главное. И не ошибся. Закончив характеристику директора Дома культуры, Гризул наконец заговорил о главном, о том, что привело его в партком.
- Произошло какое-то недоразумение с выставкой молодых художников, - сказал он, настойчиво глядя на Глебова. В голосе его зазвучала твердость. - Говорят, вы ее запретили? Это действительно так?
- Это действительно… не так, - неторопливо растягивая слова, произнес Глебов, и его лицо стало строгим. - Просто партком хочет посмотреть картины до выставки.
- Не вижу смысла, Емельян Прокопович. Лишние осложнения, и только. А зачем?
- О каких осложнениях вы говорите?
- Разговоры ненужные пойдут: мол, попахивает старыми методами.
- Я это уже слышал. И не только от Маринина, - с прежним спокойствием ответил Глебов, с интересом рассматривая Гризула, о котором ходила молва как о толковом, передовом инженере и вообще высокообразованном человеке. И вдруг решил вести разговор напрямую: - Вы, Николай Григорьевич, видели эти картины?
- Знаете ли, Емельян Прокопович, я не считаю себя большим специалистом в живописи, - уклончиво ответил главный инженер, поводя глазами по потолку. - Я доверяю авторитетам, отзывы которых весьма лестны. Илья Семенов - а он будет гвоздем выставки - это известное имя в мире искусств. Недавно за границей была его персональная выставка и прошла, надо сказать, с помпой. Там его знают, ценят, монографию о нем издали. А мы, к сожалению, не хотим замечать свои таланты. Как говорится: "В своем отечестве нет пророков". И все это только потому, что он идет непроторенным путем.
Голос у Гризула грудной, с глуховатой простудной хрипотцой, и потому слова его кажутся весомыми. Но Емельян не очень доверяет этому, заметив, как увернулся от ответа Николай Григорьевич. Повторять же свой вопрос он не стал, а лишь спросил:
- Это у Семенова есть абстрактные картины?
И слова его прозвучали не столько вопросом, сколько утверждением. "Семенова знает", - решил Гризул и внушительно заговорил:
- Видите ли, всякому подлинному таланту свойственно новаторство. Большой художник ищет, экспериментирует. Возьмите Пабло Пикассо или Давида Сикейроса. Они работали в разных жанрах - от реализма в нашем понимании до абстракционизма. И все равно остались художниками с мировым именем. Я думаю, вы не откажете по этой причине в большом таланте Илье Семенову. Реализм - он ведь разный бывает: талантливый и бескрылый. Точно так же и абстракционизм: есть хороший и есть плохой.
- Абстракционизм - продукт буржуазной идеологии, насколько я понимаю, Так или нет?
- А чего, собственно, нам его бояться? - вопросом на вопрос ответил Гризул. - Покажем народу, пусть народ сам решит, что плохо и что хорошо. Организуем обсуждение, поспорим. В спорах рождается истина.
- Ну, во-первых, откуда вы взяли, что мы боимся абстрактного искусства? - Глебов посмотрел Николаю Григорьевичу прямо в глаза. Тот не отвел взгляда, выдержал с холодным спокойствием. - Мы не принимаем его - это верно. Не принимаем, потому что не считаем искусством. Поэтому, во-первых, я не вижу смысла открывать дискуссию или, как вы говорите, обсуждение выставки. О чем будем спорить? Об абстракционизме? Я отлично помню, как народ наш возмущался абстрактной галиматьей на французской выставке в "Сокольниках". В том числе и картиной Пикассо "Женщина под сосной". Выставлять порнографию только для того, чтоб потом сказать публике: смотрите, мол, это цинизм, это скверно пахнет. Так, что ли?
От этих слов Гризул поморщился, как от яблока-дичка, завертел протестующе круглой щетинистой головой и, наконец, сказал раздраженно:
- Зачем же крайности?
- Рабочие будут ругать не только художников, но прежде всего нас за неуважение к ним, к рабочим. Хотите выставку для рабочих? Пожалуйста. Но давайте искусство наше, то, которое выражает идеологию, мировоззрение, вкусы нашего советского человека, искусство социалистического реализма.
- Но ведь абстрактных работ будет совсем немного. И ничего страшного не произойдет, если мы их вывесим для контраста, - настаивал Гризул.
- Так сказать, для консолидации? - иронически подбросил Глебов, и Гризул не счел нужным ответить на замечание. Он заговорил о другом:
- Я не считаю в данном случае единственно правильным метод запрета. Времена не те. Это вызовет скандал, никому не нужный. Художники будут жаловаться, напишут во все инстанции. Дойдет до заграницы. А там рады любому случаю, станут шуметь на всех перекрестках, что нет у нас свободы.
Слова эти подхлестнули Глебова. Сам того не желая, он поднялся, бледный, злой, и, не глядя на главного инженера, резко сказал:
- Пусть пишут, что хотят. Мы на свой народ работаем, а не на заграницу. И вымаливать похвалы у капиталистов или их слуг не собираемся. Пусть лучше ругают нас. Да, да, пусть ругают. Заимствовать их нравы и вкусы нам не к лицу.
Гризул встал, решив, что разговор, собственно, окончен и миссии своей он не выполнил. Емельян остался непреклонным, и главный инженер произнес довольно безобидно, как будто то, о чем они сейчас говорили, не стоило и выеденного яйца:
- Ну выставка ладно, пусть - все это мелочи жизни. Я не считаю себя компетентным в живописи. А как вам нравится наш коллектив? Вы бывали в цехах?
Вопрос был праздным, только бы перевести разговор. Глебов это понял и не поверил, что Гризул так легко, можно сказать, без боя, сдался. Емельян чувствовал по всему, что он нисколько не убедил Николая Григорьевича, который прекратил спор лишь ради того, чтобы не обострять отношений с первой встречи. Гризул действительно пожалел, что произошел этот прямой и открытый обмен мнениями, прояснивший сразу если не идейные позиции, то, во всяком случае, вкусы обеих сторон. Николай Григорьевич умел скрывать то, что думал, афишируя широту своих взглядов и объективность суждений. В главке его ценили как хорошего специалиста-производственника, умеющего ладить с коллективом и с директорами: как-никак, а он пережил трех директоров. В министерстве видели в нем инженера-новатора с большим кругозором, человека, который владел двумя иностранными языками, следил за развитием мировой технической мысли. В райкоме знали его как активиста-общественника. Николай Григорьевич всегда толково и, главное, эффектно выступал на различных собраниях и совещаниях, выдвигал смелые идеи. Ну а в красноречии ему нельзя было отказать. Не будь он инженером, он был бы юристом или литературным критиком.
Авторитет Николая Григорьевича рос, как говорят, не по дням, а по часам. И очень скоро трибуны научно-технических совещаний и иных собраний ему показались недостаточно высокими. Он требовал всесоюзных конференций с многотысячной аудиторией. Ее предоставила ему периодическая печать. Статьи за его подписью стали появляться не только в технических, но и в литературных газетах и журналах. Правда, статьи эти писались не без помощи сына, молодого, но уже успевшего снискать популярность драматурга Макса Гризула. В отношении авторства отец и сын Гризулы были более предусмотрительны, чем отец и сын Дюма; они не желали, чтоб читатель путал их, и сын стал Афанасьевым. Так удобней. В последнее время отец и сын ежегодно ездили за границу в составе различных делегаций и туристских групп. К заграничным командировкам они привыкли, как привыкают к очередному отпуску.
Ссориться или открыто конфликтовать с секретарем парткома завода не входило в планы Николая Григорьевича. Сегодня он просто хотел получше разглядеть Глебова, узнать, что это за человек и как построить свои взаимоотношения с ним. У Гризула была своя стратегия и тактика в жизни, благодаря которой он, в сущности заурядный человек, занимал довольно солидное положение. Сегодня, говоря военным языком, он провел разведку боем и пришел к заключению, что Глебов недолго продержится на заводе. Главный инженер поможет ему уйти, и чем быстрее, тем лучше. А пока… Пока с этим Емелькой надо держать ухо востро.
Глебов не стал отвечать на праздный вопрос о том, понравился ли ему заводской коллектив. Предложив Гризулу сесть, Емельян заговорил с ним совсем уже о другом.
- Я хотел, Николай Григорьевич, поговорить с вами о новом агрегате - пятьдесят седьмая модель.
- Что именно вас интересует? - с преувеличенной готовностью отозвался Гризул.
- Как скоро мы сможем внедрить ее в производство? Модель-то хорошая?
- Да, модель действительно прогрессивная. - Гризул внутренне насторожился, но ничем не выдал своего беспокойства. - Думаю, что мы можем гордиться этой моделью.
- Так что же мешает нам гордиться уже сейчас? - улыбаясь, сказал Глебов.
- Видите ли, в этом деле надо поторапливаться, но нельзя спешить. Переход на новую технологию - это довольно сложный и трудоемкий процесс. Все это, как вы понимаете, связано с нарушением производственного ритма, за которым стоит такая серьезная штука, как его величество план. Ведь, как вы, очевидно, помните, в совсем недалеком прошлом наш завод систематически и регулярно не выполнял плана. И только с приходом Бориса Николаевича мы, так сказать, вырвались из той позорной колеи, где нас бросало по ухабам штурмовщины и тому подобное. В общем, план не выполнялся. Особенно этим отличались времена царствования предыдущего директора - Гаврилы Федюкова. Вы о нем, должно быть, слышали. Грубый, самоуверенный невежда. Свою деятельность на заводе он начал с того, что уволил в первый же месяц двух начальников служб, одного начальника цеха, а два мастера сами попросили расчет. Перетащил на завод "свои кадры", обещал им жилье и все прочее. На первом же совещании руководящих работников завода Гаврила заявил: "Производство вы развалили! У меня так не выйдет, не позволю! Я научу вас работать!"
- И научил? - полюбопытствовал Глебов, понимая, что главный инженер уводит разговор в сторону, стараясь уйти от неприятного для него вопроса, "пустить пыль в глаза".
- Не успел: через десять месяцев его освободили с понижением. На последнем совещании, так сказать, прощальном, он сказал: "Жаль, что не пришлось нам с вами долго поработать. Меня отзывают в связи с переходом на другую работу. Так что вы уж тут постарайтесь без меня не подкачать".
С сияющим лицом Николай Григорьевич встал и, протягивая руку Глебову, сказал со сладенькой улыбочкой:
- Ну что ж, не буду вас задерживать - еще увидимся.
- А вы меня не задерживаете. Напротив, я вас хочу задержать. Так как же с пятьдесят седьмым? Когда мы его запустим в производство?
Гризул незаметно опустил протянутую руку, ответил, не садясь:
- Думаю, что где-то в будущем году.
- А почему не в этом? Насколько мне известно, первую партию новых агрегатов мы могли бы дать и в этом году. Вы же знаете, с каким нетерпением ждут их химики.
- В текущем году нереально, - морщась, покачал Гризул ершистой головой. - Год, в сущности, кончается.
- Три месяца - срок немалый, - напомнил Глебов.
- Завалим план. Стоит ли рисковать?
- А это что, непременно должно завалить план?
- Обязательно. Мы советовались с директором. Борис Николаевич такого же мнения.
- А некоторые рабочие думают иначе.
- То есть? - На смугло-сером лице главного инженера застыло недоумение, пронизывающий взгляд остановился на Глебове.
- Считают, что еще в прошлом году можно было запустить в производство пятьдесят седьмую модель.
Гризул ухмыльнулся, пожимая круглыми плечами, процедил:
- Прожектеры. - Он почему-то подумал на комсомол. И немного погодя добавил: - Хорошие ребята, только иногда забегают вперед… батьки.
- А что им остается делать, если батька устал и отстал, плетется как черепаха.
- Ну что касается батьки, это не совсем так, - возразил Николай Григорьевич. - А ребята молодые, горячие, силенки-то не рассчитают, им кажется, что все можно одним махом.
- Вы о каких ребятах? - полюбопытствовал Глебов.
- Да о тех, из "комсомольского прожектора", которые вас о новом агрегате информировали.
- Представьте себе, что информировал меня человек далеко не комсомольского возраста.
- В сущности, это не имеет значения, - быстро вставил Гризул. - Сейчас, в последние месяцы года, для нас важнее всего план. План, товарищ Глебов, прежде всего. Об этом очень остро говорилось и на последнем общезаводском партийном собрании, и на парткоме.
Что. ж, отношения выяснили, более или менее узнали и поняли друг друга.
После ухода Николая Григорьевича на душе у Емельянова остался какой-то нехороший осадок: его охватило чувство тревоги. Да, план - великое дело, и завод его должен выполнять. Ну а новая продукция - разве это не так важно? А нельзя ли сочетать одно и другое? Надо бы посоветоваться с начальниками цехов, с парторгами, поговорить с директором. Да, конечно, Глебов еще плохо знает производство. Чтобы не попасть впросак, надо осторожно вникать в производственные вопросы. Главное - изучать и советоваться.
В кабинете стало темновато. Емельян включил настольную лампу. И как раз в эту секунду раздался телефонный звонок. Александр Александрович Маринин сообщил, что молодые художники отказались дать свои картины на выставку в заводской Дом культуры.
- Все? До единого? - переспросил Глебов, озадаченный столь поспешной и организованной реакцией.
- Все, - коротко бросил Маринин, и в его голосе Глебов уловил злорадство.
- Причина отказа?
- Та, которую мы предвидели.
И в этом "мы" Глебов понял: Маринин и Гризул. Выходит, главный инженер, выйдя от Глебова, позвонил Маринину и рассказал о своем разговоре в парткоме. А Маринин позвонил художникам, которые, очевидно, ждали его звонка и уже заранее решили, как им действовать. Глебов сдержал вздох досады, сказал, стараясь не волноваться:
- Ну что ж, тем хуже для них.
- Не знаю, как для них, а для нас определенно хуже, - с издевкой бросил Маринин "под занавес".
"Нахал", - подумал Глебов, кладя трубку.
Когда Глебов вышел на улицу, падал первый снег. Он кружился в свете фонарей и таял на мокром асфальте. Емельян жил на улице Гончарова, в районе бывшего Бутырского хутора, где на месте недавней загородной свалки возник огромный жилой массив многоэтажных домов. Новые улицы названы именами знаменитых людей: Добролюбова, Руставели, Фонвизина, Гончарова, Яблочкова.
Глебов домой ходил пешком. Прогулки успокаивали, были для него лучшим отдыхом. Емельян вообще любил ежедневно и помногу ходить. Очевидно, сказалась давнишняя привычка пограничника. Он поднял воротник темно-коричневого драпового демисезонного пальто и, натянув на руки осенние перчатки, подумал: "Придется еще одну зиму проходить в легком пальто". Почти вся зарплата уходила на питание да на ребят. Горит все на них. Недавно купили Русику болгарский овчинный кожух, три раза надел, и вот извольте - является с оторванным воротником, в слезах. И ничего не поделаешь: мальчишка!
А тут еще Любочка поступила учиться в музыкальную школу. Учится хорошо. Пришлось купить в рассрочку пианино. И вспомнилось Емельяну его детство, любознательный вопрос матери, прочитавшей книгу Тургенева: "А какое такое оно, пианино? На гармошку походит?" Емельян сам тогда еще ни разу в жизни не видел пианино, но ответил уверенно, со знанием: "Что ты, мама, совсем не похоже. Пианина - она, как сундук, и блестит. Вся в золоте и серебре. А музыка - ну как живым голосом выговаривает". Матери так и не пришлось на своем веку увидеть пианино. Стремительно летит время! Великое и великолепное! Грандиозное и трагическое.
А что такое главный инженер Гризул, этот кругленький, низколобый человек с крепкой короткой шеей и жесткими барсучьими волосами, которым, кажется, износу не будет? Оборотная сторона медали с изображением Маринина, который для Глебова не был загадкой? Или это действительно передовой инженер и коммунист, каким он слывет у начальства?
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ГРИЗУЛ И К°
Из всех праздников Николай Григорьевич больше всех любил Новый год. По новому стилю день рождения Гризула приходится на 31 декабря. В этом совпадении для Николая Григорьевича было что-то знаменательное. Когда, как не под Новый год, люди щедры на добрые пожелания? А кому их адресовать, как не хозяину дома, который созвал гостей и накрыл стол с похвальной щедростью, невзирая на скромные подарки имениннику. Николай Григорьевич не скупился на расходы ради такого праздника.
Гостей собирали по этому случаю всегда особо важных. Каждую кандидатуру перед включением в список приглашенных всесторонне обсуждали на семейном совете под председательством самого Николая Григорьевича при участии его супруги - пышногрудой, дородной дамы - Светланы Ильиничны и сына - Макса Николаевича Афанасьева. Прежде всего в число гостей включались постоянные, те, кто приглашался из года в год: близкие родственники и друзья. Таких было немного. Затем шли необходимые знакомые. И, наконец, "разовые" и "крайне обязательные".
В числе завсегдатаев, никогда не вызывающих никаких сомнений либо отводов у членов семейного совета, были Александр Маринин, помощник скульптора Климова Матвей Златов, кинорежиссер Евгений Озеров и представитель министерства Иван Петров, старый покровитель семьи. На всех предыдущих торжествах неизменно присутствовали Ефим Поповин и давнишний друг Гризула старый большевик Арон Герцович, со своим сыном - художественным руководителем театра Михаилом Савельевым и замужней дочерью Ритой, женой крупного ученого. На сей раз двое - Ефим Поповин и Арон Герцович - вызвали возражения.
Светлана Ильинична, с карими в крапинку глазами и двумя родинками, украшавшими ее румяное круглое лицо, писала список. Когда она внесла Арона Герцовича, председатель семейного совета сначала поморщился, потом снял очки и сказал, мельком взглянув на сына:
- А стоит ли?
Макс смолчал. Светлана Ильинична, стрельнув в мужа глазами, в которых отразилась тревога, спросила:
- А почему?
- Арон болтлив и нуден. Всегда лезет в политику. А у нас будет новый гость, директор завода, мы его недостаточно знаем, - пояснил Гризул-старший, чего-то недоговаривая.
- Это невозможно, - решительно возразила Светлана Ильинична, бросая на супруга взгляд, в котором была видна готовность лечь костьми, но отстоять кандидатуру старого Арона. - И Миша обидится, и Рита не придет, так и знай, - пригрозила она на всякий случай. Рита была ее подругой.
Макс говорил примирительно, но вяло и равнодушно:
- Миша не обидится, и Рита никуда не денется: древнейший им тоже порядком надоел своим маразмом. Не в этом дело, - заключил он и начал с усталым глубокомыслием набивать в трубку "золотое руно".
- И вообще, квартира у нас не резиновая. Где сесть? И так тесно. Надо сокращать. А за счет кого? - Николай Григорьевич с раздражением надел очки и уставился стеклами на жену: - Нет, ты скажи, кого сократить?
- А я знаю? Я не начальник отдела кадров, - не сдавалась супруга, но все-таки предложила: - Зачем тебе Поповин? Ну к чему он? Вот увидите: рано или поздно его посадят. Я знаю, я чувствую.
Николай Григорьевич вздохнул. Он не очень верил в предсказания жены насчет незавидных перспектив Ефима Поповина. Но само слово "посадят", такое откровенное и прямое, вызвало неприятную горечь и испортило настроение. А тут еще сын, поддерживая сторону матери, сказал:
- Мама говорит резон. Фима однажды завалится, и все мы будем иметь бледный вид. Тебе бы, папа, лучше подальше от греха.
- Хорошо, - решительно сказал Николай Григорьевич жене. - Вычеркни Ефима и скажи ему, пусть не приходит и не тратится на подарок. Скажи, что мы уходим в гости, в ресторан. Наконец, уезжаем в Мексику встречать Новый год.
- Почему в Мексику? - поинтересовалась Светлана Ильинична. Это чисто женское любопытство. - А там разве есть елки?
- Какое мне дело, поезжай куда хочешь, - ответил' председатель семейного совета.
- Надо пригласить Соню с Жорой, - напомнила Светлана Ильинична после минутной паузы. Когда-то Сонин муж работал в Совете Министров и они дружили. Год назад он на чем-то "погорел", с тех пор работает научным сотрудником в каком-то музее и живет только на зарплату: сто двадцать рублей в месяц!
- А зачем? Что от него толку? Жрет, пьет, болтает гадости, - в запальчивости вырвалось у Николая Григорьевича то, что не положено говорить вслух воспитанным людям.
- Ты несправедлив, Жора - хороший человек, - укоризненно сказала жена.
А Николай Григорьевич уже сорвался: такое бывает с ним не так уж часто и только дома, в семье:
- Хороших людей, дорогая моя, много. А гость бывает нужный и бесполезный. Ты это должна знать.
- Ну хорошо, хорошо, не ворчи - они не придут: Жора болен, а Соня одна не пойдет, - успокоила Светлана Ильинична.
- Болен? Не может прийти? - вдруг обрадовался находчивый Макс. - Тогда надо обязательно пригласить, раз не придут. Все-таки пусть знают, что и им честь оказана. Меня можешь исключить из списка. Ну что вы так смотрите: я серьезно говорю - меня исключите.
- А в чем дело? Ты уезжаешь? Надеюсь, не в Мексику?
- Конечно, нет, кактусы меня не прельщают. Я буду встречать Новый год в компании холостой молодежи у натуральной лесной елки, не тронутой топором.
- На даче? - догадался отец. - Что ж, это не дурно со всех точек зрения.
- Но, Макс, ты мог бы и дома: не забывай, что у отца день рождения. К тому же у тебя есть невеста, - встревоженно вставила мать: идея сына ей явно не понравилась. - И я боюсь, как бы Ларочке не надоело ходить в невестах.
- Напрасно беспокоишься, дорогая, - успокоил отец, - твой сын вне конкуренции, и его невеста никуда от него не уйдет.
- Так что из того? - сказала Светлана Ильинична. - Сколько можно ходить в женихах? Ларочка славная девушка.
- Вот я и хочу, чтобы она всегда была славной, - шутливо заметил сын. - Опыт всемирной истории семьи и брака. Утверждают, что только невесты бывают хорошими, а жены, как правило, ни черта не стоят. Ты, мама, разумеется, исключение. Считай, что папе здорово повезло.
Николай Григорьевич не считает, что ему повезло, но говорит сыну совсем о другом:
- А на чьей даче, осмелюсь поинтересоваться, ты будешь встречать Новый год? Надеюсь, не на нашей?
- Не волнуйся, папочка. Фима Поповин предоставляет свой загородный особняк в полное распоряжение холостой молодежи.
- И кто же там будет? - не сдержала любопытства мадам Гризул.
- Какое это имеет значение? Впрочем, я, кажется, на самом деле уеду под Новый год в Новосибирск.
- Это так срочно? А как же Ларочка? - снова забеспокоилась мать.
- Невеста может подождать. А дела не терпят.
Николая Григорьевича не проведешь, он догадывается, что сын действительно решил встречать Новый год в компании молодежи и без Ларочки, для которой на ходу сочинил себе поездку в Новосибирск. Ах, это его личное дело: парень он взрослый и вполне самостоятельный, пусть живет как знает. Конечно, хорошо бы представить новому директору завода своего знаменитого сына - талантливого драматурга Макса Афанасьева. Но, видно, на даче у Поповина ему будет куда интересней.
Ефим Евсеевич Поповин работал "по коммерческой линии". Перебравшись в Москву на постоянное жительство сразу после войны, он не долго думая ринулся в торговую сеть. Там Ефим чувствовал себя как рыба в воде. Поповин родился и вырос в семье ростовских торговцев рыбой. Прежде ему никогда не приходилось заниматься коммерцией - сначала учеба, затем служба в погранвойсках, потом война. И хотя он не готовил себя к профессии работника прилавка - не пожалел, что начал свою жизненную карьеру службой в магазине. Родители мечтали видеть в нем знаменитого музыканта либо бойкого журналиста. Сам же Фима предпочитал последнее, потому что природа обошла его музыкальным слухом. Ну а что касается журналистики, то на этот счет у него сомнений не было, ибо писать умеет каждый мало-мальски грамотный человек и, как сказал какой-то классик, в каждом торговце живет журналист. Впрочем, может, классик и не так говорил, а афоризм этот принадлежит Евсею Петровичу, родителю Фимы. Но жизнь распорядилась по-своему, и теперь Фима довольствовался тем, что в нем в потенции сидел журналист с мировым именем. А пока что до поры до времени Поповин не только не стремился к мировой славе, но и всячески избегал ее, стараясь хранить свое имя в тени. Словом, в скромности ему нельзя было отказать. И в самом деле, Ефим Поповин не рвался сразу в генералы. Он начал войну рядовым на пограничной заставе, а кончил старшиной, заведовавшим складом трофейного имущества. Он не корил свою судьбу, трофеи - это тоже вещь, если понимать в них толк. Именно трофеи помогли ему поменять ростовскую квартиру на московскую.
И уже потом, сменив военную гимнастерку на штатский костюм, Ефим Поповин, опять-таки из скромности, не пошел сразу в Министерство торговли. Нет, он стал рядовым продавцом магазина "Мосодежда", бойко продавал штатские костюмы и пальто направо и налево: один направо, десять налево, конечно, за скромное вознаграждение. Но что в этом плохого: услуга за услугу. И благодарные покупатели совали ему в ответ хрустящие бумажки: и овцы целы, и волки сыты. И не только сыты, а и постепенно поднимаются по служебной лесенке, скромной, незаметной лесенке в торговой системе. Через год Ефим Поповин заведовал секцией мужской одежды, а еще через год стал директором магазина. Прибавилась, так сказать, официальная зарплата, весомей и внушительней стали "благодарности" покупателей. У директора магазина как по щучьему велению появилась дача: отличный двухэтажный особняк на песчаном берегу Москвы-реки в звонко-певучем сосновом бору. Он не строил его, нет, дело это долгое, хлопотное. Он купил дачу у вдовы погибшего на фронте генерала. Вот и все.
Теперь Ефим Поповин уже мог мечтать о кабинете в Министерстве торговли. Он подошел к самому порогу этого кабинета. Еще бы один год, один шаг, и перед ним широко распахнулась бы дверь. Впрочем, справедливости ради, надо сказать, что сам Ефим и не очень рвался в начальники: должность директора магазина его вполне устраивала. Но вдруг в газете появился фельетон о взяточниках из магазина "Мосодежда", того самого магазина, которым управлял Ефим Евсеевич Поповин. Впервые в жизни он прочитал свое имя в центральной газете и сразу возненавидел журналистику, которая показалась ему врагом торговли. Никогда не жаждавший славы. Ефим смутился, как красная девица, и готов был провалиться сквозь землю. Но земля удержала его: выручили два человека - следователь и защитник. Довели его до скамьи подсудимых, а дальше не пустили. Приговор был снисходительный и мягкий: три года условно. Правда, эти условные три года стоили Поповину довольно внушительной суммы безусловных рублей, которых хватило бы на три года скромной жизни рядовому труженику. Директорское кресло пришлось уступить другому. Оставшись не у дел, Ефим Евсеевич не отчаялся, не огорчился, даже обрадовался. Можно было наконец отдохнуть от напряженной, изнурительной работы.
Наивные люди почему-то считают, что жить без службы трудно, даже невозможно в обществе, где действует принцип: "От каждого по способностям, каждому по труду". На способности Поповин не жаловался. Что же касается труда, то на этот счет он любил повторять: "Хай трудится трактор: он железный". И получал по своим способностям. Потеряй работу Лугов, или Глебов, или даже маститый актер Посадов, они не на шутку бы заволновались. Прежде всего, во всей наготе встал бы вопрос: как и на что жить? Перед Попоенным подобной проблемы не возникало. Около двух лет Ефим нигде не состоял на службе, и это были самые счастливые годы его жизни: они принесли ему круглую сумму - один миллион рублей в старых деньгах. Имея за плечами опыт по части взяток, полученный в торговой сети, Ефим Евсеевич все эти два золотых года занимался посредничеством по передаче взяток. Речь шла не о каких-то жалких сторублевках. Теперь были иные масштабы. Из рук в руки без всяких свидетелей передавались десятки и сотни тысяч рублей.
И все это делали не так уж проворные, с виду мясистые руки Поповина, пораженные мелкой дрожью. Именно за эту дрожь и получал Ефим довольно солидные куши с обеих сторон. "Плата за страх", как в шутку называл он эти деньги.
В те годы Ефим Евсеевич и познакомился с Николаем Григорьевичем. Инженер Гризул, по собственному признанию, впервые в жизни брал "вознаграждение за услугу". Его "крестным отцом" в этом деле оказался Ефим Поповин. Так сошлись пути-дороги этих внешне несхожих людей. Николай Григорьевич был очень осторожен. Сперва его осмотрительность даже насторожила Поповина, породила тревожное подозрение: а не связан ли этот главный инженер с ОБХСС? Но страхи его были напрасны. С той поры они стали постоянно нуждаться друг в друге. Исподволь Ефим Поповин вошел в семью Гризула, в круг его знакомых и друзей. При встречах здесь любили поболтать, поспорить о науке и технике, литературе и искусстве, о событиях внутренней и международной жизни. Первое время Поповин старался больше молчать, слушать остроумных и неглупых людей. Потом, осмелев, стал угощать присутствующих не всегда смешными, но пикантными анекдотами. В этих делах он считал себя мастером. Со временем Ефим привык, поднатаскался, обтесался.
И еще одно важное событие произошло в жизни Ефима Евсеевича в те годы. Он женился. Наташа из Полтавы приехала в Москву поступать в Институт стали и провалилась на экзаменах. В тот роковой для очаровательной девушки момент сам всевышний послал ей на помощь своего ангела-хранителя по имени Ефим Поповин. Справедливости ради, следует сказать, что "безработный" в то время ангел совсем не случайно оказался у подъезда института. Заранее решив жениться на самой красивой девушке из числа тех, что не приняты в вуз, он во время вступительных экзаменов целыми днями слонялся по институтским коридорам, кругленький, полненький, побритый и надушенный, одетый с иголочки в светло-серый костюм и темно-синюю рубашку. Абитуриенты (да простит меня читатель за это напыщенное слово) принимали его за важное ученое начальство. Поповин не пытался рассеять их заблуждения, а, пожалуй, напротив. Наталку-Полтавку он успокоил внушительным советом - не вешать нос. В жизни, мол, из любого положения можно найти выход. А в чем он состоял, Ефим объяснил девушке в ресторане "Националь". Прежде всего он спросил ее, почему она, такая милая, неземная, избрала сугубо мужской институт? Зачем ей понадобилась сталь? Наташа смутилась и откровенно призналась: "Не знаю". Тогда Ефим Евсеевич, расправляясь, как обычно, с обильным и дорогим ужином (поесть он любил), позволил себе задать следующий вопрос: а зачем ей, такой красивой и такой умной, понадобился диплом?
Наташа в самом деле была недурна собой. Что же касается ума, то тут, мягко говоря, Поповин глубоко заблуждался. Правда, он вообще считал ум излишней роскошью для женщин. Как правило, доказывал Ефим с апломбом именитого философа и социолога, подавляющее большинство девушек стремится получить вузовский диплом в надежде на выгодного жениха, и чаще всего им приходится полученные в вузе знания применять в практике домоводства. Стоит ли из-за этого пять лет себя пичкать всяческими премудростями, ломать голову над таблицами и формулами, жертвовать здоровьем и молодостью? Неразумно, глупо, нелепо! К чему девушке диплом, если есть человек, готовый жениться на ней без диплома?
В общем, в Полтаву Наташа возвратилась не одна, а с богатым мужем. Погостили они там всего несколько дней. Жили в лучшей гостинице, принимая родных и знакомых в двухкомнатном люксе. Муж не скупился на угощение, стараясь задобрить близких невесты, отпускавших по его адресу далеко не лестные оценки (ему шел тридцать седьмой год, а Наташе - двадцатый). Другие считали, что он не только некрасив, но даже чем-то неприятен. Зато, говорили третьи, видать, человек солидный, занимает, наверно, какой-то важный пост. Всем не терпелось узнать, чем он занимается. Но этого даже сама Наташа не знала. "Где я работаю - не спрашивай. Это тайна. Понимаешь - государственная тайна", - сказал ей однажды Ефим. И Наташа не спрашивала. Недаром при первой встрече Поповин назвал свою будущую супругу умной.
И если умная жена не интересовалась, где работает ее муж, то соответствующие органы все-таки проявляли интерес к Ефиму, задавая себе вполне законный вопрос: а на какие средства живет этот безработный?
Пришлось ему подыскивать себе должностишку. Однажды Наталка-Полтавка узнала, что муж ее работает заведующим базой центрального склада галантерейных товаров. Это открытие прямо-таки обескуражило молодую супругу, считавшую, что ее муж ответственный работник, по крайней мере министерского масштаба. На ее недоуменный вопрос: как это понимать, он ответил с видом, полным таинственного значения: "Так надо, дорогая моя. Будь умницей". - "Постараюсь", - тоже со значением ответила Наташа. А через два года она узнала, что база, которой заведовал ее муж, снабжала галантерейные палатки Москвы ворованными товарами. Как-то ночью между мужем и женой произошел откровенный разговор. Ефим, ничуть не смущаясь, объяснил, с потугами на философию: "Да, моя дорогая, такова жизнь. Жизнь - борьба. Кто это сказал? Не знаешь. Ну и я не помню. Борьба. Побеждают самые сильные и самые умные. А победителей не судят. Это кто сказал?.. Ну неважно". - "А ведь и тебя могли засудить, как тех, что в газете", - задумчиво сказала Наталка. "Судят дураков, а не победителей", - браво ответил Ефим.
Однако оставаться долго без работы теперь Поповин не рискнул. Месяца через два он получил себе уединенное тихое местечко заведующего коммерческим складом стройматериалов. Как и прежде, эта работа оказалась непыльной и денежной. Небольшой штат - в пять человек - вполне устраивал Ефима Поповина, превратившего в скором времени склад в частную лавочку. ОБХСС и контролеры пока что не добрались до нее.
От безделья и бездетности Наталка-Полтавка расцвела и раздобрела, обзавелась твердым характером и юным возлюбленным - по крайней мере так она сама называет двадцатилетнего Мусу Мухтасипова. В то время как под неотвратимым напором лет и обильной пищи чревоугодник Ефим из кругленького колобка превратился в подлинного бегемота, жена его добрела и наливалась, как августовское яблоко. А кому не лестно иметь интересную жену? Все на нее смотрят, все только о ней и говорят, все тебе завидуют, а она твоя, собственная, черт возьми!
Все познается в сравнении. На людях Наташа сравнивала своего Фиму с другими, и результаты были отнюдь не в пользу мужа. И тогда в ней зародилось отвращение к нему. Нет, она не думала бросать своего Фиму, сделать такую глупость она не могла. Но завести молодого любовника Наталке не составило большого труда. И она стала изменять своему Фиме, которого в глаза ласково звала "мой кабанчик", а в его отсутствие презрительно - "боров". После ряда случайных встреч, так сказать "разовых", без привязанностей и чувств, Наталка нашла себе кареглазого паренька Мусу, который пленил ее независимым видом и свободными манерами. Наталка привязалась к нему самозабвенно, боготворила его и выполняла все его прихоти. Боясь потерять, ревновала к девчонкам. Щедро дарила лаской и деньгами, только бы он был постоянно при ней.
Когда у Поповина возникли подозрения об измене жены, он решил проверить свои предположения. Нет, он не пал так низко, чтобы самому шпионить за женой. Ефим поручил это своим подручным, которые за деньги готовы были на все. И "мальчики" доложили: точно, встречается с неким юнцом Мусой Мухтасиповым на квартире у гражданки такой-то в Серебряном переулке на Арбате. Ефим Поповин рассвирепел: "Как? За мои деньги, с каким-то щенком?! Уничтожу!"
Кого уничтожать - жену или щенка, он не сразу решил. А когда прошла первая вспышка, Ефим зарыдал. Было до боли обидно: поил, кормил, холил, как принцессу одевал. Все для нее предоставил, все, что другие, может быть, будут иметь только при коммунизме (именно таким представлял себе Ефим Поповин коммунизм). И на тебе - черная неблагодарность! Конечно, убивать ее Ефим не собирался, а любовника тем более. Просто он выгонит ее, пусть выматывается из Москвы в свою Полтаву. Пусть попробует, пусть поживет одна, без Ефима. "Наталка, - сказал он ей решительно и спокойно, - я все знаю. Я тебя не виню, хоть ты и поступила, как последняя сволочь. Но я не могу больше находиться с тобой под одним одеялом. Уходи. Уходи немедленно".
Он ожидал, что она разрыдается, бросится на колени и скажет с мольбой: "Прости". Но вместо этого - о, современные женщины! - Наталка-Полтавка повела подкрашенной бровью, сделала ямочку на тугой розовой щеке и сказала с преступным хладнокровием: "А почему бы не тебе уйти?" Ефим даже обалдел от такой наглости и не сдержался, закричал: "Вон!" - указав куцым перстом на дверь. Она не двинулась с места, только ухмыльнулась и между прочим заметила: "Дурак ты по самые уши, вот что я тебе скажу. Не уйдешь по доброй воле - выведут и силой водворят в особняк далеко от Москвы. Понял?"
Как тут не понять - он отлично понял довольно прозрачную угрозу и во второй раз заплакал. А потом все утряслось-уладилось. Ефим понял, что можно и под одним одеялом мирно сосуществовать, и повторил себе чьи-то слова: "Подумаешь, что за беда - будут деньги, будут девки". А деньги у него всегда водились. Он даже представить себе не мог, как это при коммунизме люди будут жить без денег. Нет, это невозможно! Вы представьте себе даже такой обыкновенный случай: день рождения у приятеля, ну, скажем, как сегодня, под Новый год у Николая Гризула. Надо нести подарки. А ведь они денег стоят. Один принесет, другой и третий. Разные подарки принесут. Не будь денег, как определит именинник, чей подарок дороже. Вот Алик Маринин - он непременно подарит какую-нибудь чисто символическую, копеечную безделушку "со значением". А старик Арон - тот вообще ничего не принесет, предоставит исполнить этот не очень приятный обряд своим детям. А дата кругленькая, шестьдесят лет. До них надо дожить.
В самом деле, Арон Герцович, например, и на этот раз ничего не преподнес. Правда, он приехал вместе со своим сыном и невесткой в собственной "Волге" и те подарили хозяину тяжелую серо-мраморного цвета трость, сделанную во Вьетнаме из рога буйвола. "Только роговой дубины и не хватало Гризулу для полного счастья", - иронически подумал Поповин. Столкнувшись с Герцовичами в прихожей, Ефим подождал, пока они пройдут в гостиную, затем порывисто обнял именинника, по-братски расцеловал и сказал:
- Шестьдесят лет - это много. Не каждому суждено дожить до такой даты. Ты не бросил курить? Нет? Ну и кури на здоровье. - И с этими словами сунул ему золотой портсигар, наполненный сигаретами "Друг".
Да, Ефим Поповин отлично изучил друзей Гризула, знал, кто чем дышит и кто на что способен. Привычным взглядом он окинул круглый ореховый столик в прихожей, заваленный подарками, и почти безошибочно определил, кто что принес. Иронически подумал: "Глина, стекло, фарфор. Глупо. Хлам, ни на что не годный".
- Вы один? - с деланным удивлением спросила Светлана Ильинична и задала ненужный вопрос: - А что с Наталкой?
- Ай, так… Плохо себя чувствует. Нездоровится, - вяло отмахнулся Ефим и шаром вкатился в кабинет, полный гостей. Он остановился у порога, сделал общий поклон. Глаза привычно обшарили комнату и остановились на мужчине, с виду довольно моложавом и добродушном. Ефим Евсеевич бесцеремонно всматривался, точно спрашивал: "А ты кто такой? Всех остальных я знаю".
"Новенький" внешне ничем не выделялся. Он не был изысканно одет, как другие, держался скромно, даже чуточку стесненно. Гризул не отдавал гостю особого предпочтения. Вернее, не подчеркивал своего к нему особого расположения, чтобы не обидеть других, и Ефим сразу определил: важная особа. Гризул познакомил их:
- Борис Николаевич, наш новый директор завода, - Ефим Евсеевич Поповин.
Они пожали друг другу руки и обменялись дежурными улыбками. Впрочем, у Поповина улыбались только толстые линялые губы, а заплывшие жиром глаза холодно светились в узеньких щелочках, оценивая нового человека. "Простоват, - решил он. - Такого Гризул легко обведет вокруг пальца".
Николай Григорьевич занимал квартиру из четырех комнат в кооперативном доме: кабинет сына Макса, комната дочери Клары, студентки первого курса МГУ, спальня родителей и столовая, отделенная от кабинета Макса раздвижной стеклянной перегородкой.
Нынче перегородка распахнута настежь, и в образовавшемся большом, почти сорокаметровом зале накрыт стол на двадцать персон. В нише балкона сверкает разноцветными гирляндами нарядная елка. Изящная, привезенная из Франции модерн-люстра (без банального хрусталя) погашена. Через всю стену столовой - лесенка полочек по диагонали из угла в угол, от пола до потолка. На полочках забавные безделушки, томик стихов Евтушенко, Назыма Хикмета. На стене портрет Ремарка, рисунок Пикассо, вырезанный из журнала. Стена кабинета Макса - сплошной книжный стеллаж.
На столе, просторном, широком, во весь зал, - филиал гастронома.
Перед тем как сесть за стол, Светлана Ильинична внесла в зал маленького засушенного настоящего крокодила с хищным оскалом зубов. Чтобы гости получше могли рассмотреть оригинальный подарок, включила люстру. Указывая глазами на кинорежиссера Евгения Озерова, сообщила:
- Это Евгений Борисович подарил. Из Гвинеи привез. Правда, интересно?
Гости с любопытством рассматривали заморскую диковинку, а Ефим Поповин с глубокомысленным видом скептически сказал:
- Да, это, конечно, лучше, чем живой крокодил. Мертвый враг всегда лучше живого. Кто это сказал?
За стол сели часов в десять, и, пока Новый год шагал к Москве по заснеженной сибирской тайге, не было конца тостам за здоровье Николая Григорьевича. Пили за его шестьдесят славных лет, за его прошлое, настоящее и будущее, за то, что он живет на этом свете, украшая землю своими делами, за его милую жену и деток, достойных своих родителей. Детки, правда, отсутствовали. Они встречали Новый год в своей компании за городом, на даче Ефима Поповина. Отдав должное имениннику, постепенно перешли к другим тостам и прежде всего заговорили об искусстве и литературе, должно быть, потому, что эта область считается доступной почти всем мало-мальски культурным и образованным людям.
Именинник спросил "министра культуры" (так здесь называли Александра Маринина), что нового на его фронте. Польщенный тем, что его назвали "министром культуры" в присутствии директора завода, так сказать, его непосредственного начальника, Александр Александрович, или просто Алик, бойко ответил:
- В арабской академии в Багдаде какие-то неизвестной породы черви-точильщики пожирают редчайшие древние книги. И ничего сделать нельзя. Жрут - и точка! Как вам это нравится?
- Дустом травить надо, - просто и без всякого удивления ответил Герцович-старший, бритоголовый сухонький старик с печальными глазами на усталом, иссеченном мелкими морщинками лице. Все это он считал мелочью, житейской суетой, на которую не стоит тратить ни сил, ни здоровья. Проблемой всех проблем для него был один-единственный вопрос: будет ли сохранен мир на земле, Все остальное - пустяки.
- Эврика, Арон Маркович! - вскричал Алик Маринин. - В том-то секрет, что нет никаких средств борьбы с этими червями-точильщиками. Своего рода шашель. Гибнет древняя культура, цивилизация!
- Подумаешь, потеря, - вступил в беседу Поповин. - Кому нужны старые книги? Тут новые читать некогда. Может, есть смысл и нам завести этих червей?
- Не в том дело, сам факт потрясающ! Никаких средств борьбы, а? Вот это здорово! - уже не с сожалением, а с восхищением продолжал Маринин, возбужденно размахивая руками.
- Ну и что же? Как будто мало в жизни потрясающего, - сказал театральный режиссер Михаил Савельев. - А вы знаете, что в мире обладает самой могучей энергией?
- Бык или солнце? - иронически отозвался Златов.
- Представьте себе, ни то, ни другое. Космические лучи, - уточнил Савельев.
- А разве не солнце их источник? - полюбопытствовал Иван Петров.
- В том-то и дело, что нет. А что именно - никто не знает. Откуда такая бешеная энергия?
- Ее выделяют взорвавшиеся звезды, - авторитетно произнес Николай Григорьевич.
- Вы так считаете? - спросил Златов, склонив набок тяжелую голову.
- Не я, а крупные советские ученые: Шкловский и Гинзбург.
- Все это чепуха, гипотезы, - отрубил Златов.
Но всезнающий и неумолкающий Алик Маринин никому не хотел уступать пальму первенства. Он считал своим долгом говорить, заставляя других слушать. Тем более это было важно в присутствии директора завода, на которого директор Дома культуры должен произвести неотразимое впечатление. Тогда ему, Алику Маринину, плевать с космической высоты на какого-то ортодокса Глебова, будь он хоть трижды секретарь парткома. В конце концов, сколько сменилось этих секретарей на памяти Алика! Он же, как руководил культурным очагом завода, так и будет руководить, пока сам не сочтет нужным оставить этот скромный, но пока устраивающий его пост. И Маринин щедро угощал не очень остроумными анекдотами.
Потом марининский "конферанс" запивали французским коньяком "Наполеон" и венгерскими винами "Токай" и "Бычья кровь". Потом спорили, какая водка лучше, демонстрируя свои познания в этой области. Именинник считал лучшей японскую саке, которую делают из риса; Поповин находил, что приятней грузинской чачи водок нет - все-таки из винограда гонят; Иван Петров хвалил виски, Арон Герцович - московскую с золотой медалью.
И только Михаил Савельев вообще не признавал никаких водок и пил сухие вина, из которых выше всех ценил терпкое болгарское "Мельник", единственное в мире.
- Оно делается из особого винограда, который растет в небольшом горном селении Мельник и больше нигде, - объяснил басом этот упитанный немолодой человек. Поведя орлиным взглядом, он внушительно добавил: - И представьте себе: вымирает этот виноград. И ученые не могут его спасти. Никак, представьте себе. Тоже уничтожает какой-то неистребимый паразит.
Прошлым летом режиссер отдыхал на Золотых песках близ Варны и слышал там такую легенду.
Тут снова Алик Маринин вступил в роль балагура и весельчака и, явно любуясь собой, спросил Поповина, в каких случаях падает авторитет высоких инстанций.
- Меня эта проблема никогда не интересовала. Большой политикой не занимаюсь: талантах нет, - наигранно отмахнулся Ефим, и Маринин сам ответил на свои вопрос:
- Когда высокие посты занимают низкие люди, - и загадочно взглянул на Ивана Петрова, будто на что-то намекал.
- Браво, браво!.. - визжали дамы и хлопали в ладоши.
- Остро и смело сказано! И главное, типично, - мотнул большой круглой головой Златов и, протягивая через стол тарелку, попросил: - Будьте любезны, подбросьте мне кусочек карбонату. Попостней, пожалуйста. - Затем к хозяйке дома, которая сидела рядом с ним: - Вчера в магазине встретил вашу невестку, Ларису. Так ее, сдается, зовут? Хороша девчонка.
- Вы уже бабушка? - всплеснула руками жена Бориса Николаевича, обратив свое удивленное лицо на Светлану Ильиничну.
- Матвей хотел сказать "невеста", - поправила мадам Гризул, переведя улыбчивый взгляд с жены директора на Златова.
- А какая разница? - чуть улыбнулся Златов. - "Невестка" или "невеста". Вы знаете, что сейчас ставится вопрос об упрощении русской грамматики. И давно пора. Меньше всякой путаницы будет…
- Иностранцам, конечно, тяжело, - поддержал разговор Озеров. - Вопрос об упрощении русской грамматики поставила сама жизнь. Теперь, когда в наших вузах столько иностранцев… Нет, это своевременно и крайне необходимо. Из всех иностранных языков русский самый трудный для изучения.
- Это потому, что он самый богатый, - походя заметил Арон Герцович. - Да, да. Это я вам говорю, как старый журналист, как оруженосец языка.
- Реформа грамматики давно назрела, - продолжал Озеров, не давая оборваться разговору на "тему дня".
В ожидании новогодней речи Председателя Президиума Верховного Совета включили японский транзистор. Передавался концерт по заявкам радиослушателей. Диктор сказала: "Персональный пенсионер товарищ Герцович просит исполнить песню "Хотят ли русские войны", Выполняем вашу просьбу, Арон Маркович".
Все дружески посмотрели на старика Герцовича, а он сидел сосредоточенно-строгий и, ни на кого не глядя, слушал.
- Прекрасная песня, - сказала Светлана Ильинична, когда кончилась мелодия и объявили новую песню, на слова Некрасова, "Меж высоких хлебов затерялося…", которая исполнялась по просьбе какого-то офицера.
- Песня, конечно, популярная, - произнес после хозяйки Борис Николаевич, - только, по-моему, сама постановка вопроса нелепая: хотят ли русские войны? Кто это спрашивает? Автор-иностранец? Ведь советскому человеку и в голову не придет такой вопрос: хотят ли русские войны? Ответ вовсе не надо искать у жены автора и тем более у вдов и матерей. И так все ясно каждому - не хотят!..
Директора завода перебила его супруга - белокурая, болезненная женщина с лицом серьезным и неулыбчивым:
- Погоди, Боря, дай послушать. - И добавила полушепотом: - Мама любила эту песню.
Но дослушать ей не дали: Алик Маринин вспомнил новую сенсацию: в США вышел роман Дейчера в трех частях о Троцком. Первая часть трилогии называется "Пророк с оружием", вторая - "Пророк без оружия" и третья - "Пророк в изгнании".
- Между прочим, - сообщил Алик, - в трилогии есть любопытные факты. Оказывается, оба сына Троцкого тоже погибли.
Гризул громко, неестественно тяжело вздохнул. А Герцович-младший, он же Михаил Савельев, как и подобает театральному деятелю, патетически сказал:
- Трагедия пророка! Чем не Шекспирова тема?! Я верю - придет новый Шекспир, и жуткая трагедия пережитых нами лет станет во всей своей чудовищной наготе перед оцепеневшим от ужаса зрителем!
Он сделал напряженную паузу и уставился хмурым взглядом в одну точку. Правая бровь нервически дернулась и изогнулась дугой, над переносьем глубже обозначилась морщина. Казалось, он уже видит в своем воображении некий трагический образ и репетирует роль.
- Когда? - рявкнул изрядно захмелевший Иван Петров и, как бык, остановил на Савельеве мутные, налитые кровью глаза. - Когда нас не будет? А я хочу сейчас.
Вдруг у Бориса Николаевича, сидевшего напротив Петрова, мелькнула несколько озорная и не совсем серьезная мысль. А что, если посмотреть на Гризула, исходя из принципа: "Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты"? Друзья были здесь налицо, в качестве гостей. Причем они-то казались директору завода более понятными, чем хозяин дома, несмотря на то, что всех их, исключая разве Маринина, Борис Николаевич видел впервые. В Маринине ему не нравилась какая-то разухабистость. Непререкаемый апломб Александра Александровича всегда сопровождался снисходительной улыбочкой не глаз, а губ, подчеркивавшей превосходство. А это как раз и говорило об обратном, об отсутствии у человека большого ума. За внешней галантностью Маринина Борис Николаевич видел самоуверенного санаторского "культурника", не больше. Даже его остроты не смешили директора завода. И было непонятно, как этого не замечали остальные и принимали Алика всерьез, даже как будто с искренним восторгом. С искренним ли?
Наблюдая за Матвеем Златовым (Борис Николаевич не знал, что тот работает по хозяйственной части у скульптора Климова, и вначале принял его почему-то за маститого художника), он вдруг обнаружил, что скепсис его не что иное, как своеобразная маска, за которой надежно скрывалась энергичная натура с мертвой хваткой.
И в этот самый миг Борис Николаевич не увидел, а интуитивно ощутил на себе сверлящий взгляд жены Петрова, пикантной дамы то ли испанского, то ли греческого обличья, с изящно сложенной, стройной фигурой и красивым холодным лицом. Впрочем, о ее внешнем облике позаботилась не только природа. Неплохо позаботился об этом и супруг, судя по ее туалету. На ней все было просто и элегантно. В обществе на Беллу Петрову многие обращали внимание. Среди знакомых она слыла светской дамой, умеющей поддержать нужный разговор. Во всяком случае, в литературе круг ее познаний не ограничивался Кафкой и Сэлинджером. При необходимости (смотря по обстоятельствам) она могла щегольнуть дюжиной имен молодых западных писателей, твердо стоящих на позициях "анти": антиреалистов, антироманистов, антигероистов, антисюжетистов, анидиалогистов - словом, выступающих против всего на свете, в том числе и, пожалуй, в первую очередь, против здравого смысла. Белла владела тремя иностранными языками и работала переводчицей. Не в ТАСС, не в АПН, не в книжном издательстве, где, по ее словам, работали "переводчики-каторжане", не в журнале "Иностранная литература". Она работала переводчицей в довольно солидном учреждении, ведавшем зарубежными связями, работала с посещающими Советский Союз иностранцами, ездила за границу с советскими делегациями. Короче говоря, принадлежала к высшему кругу переводчиков и на редакционно-издательских трудяг смотрела с сожалением.
Борис Николаевич заметил, что глаза ее, большие, темные, со стальным отливом, смотрели на него сначала с любопытством, затем в них замелькали колкие огоньки неприязни. Ему стало неловко, и он перевел взгляд на Озерова, который танцевал с Ритой твист. В это время к нему подкатился сияющий Алик Маринин и, садясь рядом, любезно осведомился, делая удивленные глаза:
- А вы не танцуете?
- Для этого танца я слишком… консерватор, - ответил директор завода, найдя нужное слово.
- О-о, не верю, Борис Николаевич, - возразил Маринин. - Если б такое сказал товарищ Глебов…
Почувствовав в словах Маринина рискованное направление, Гризул решил прекратить их разговор.
- Друзья! Товарищи! - вмешался он. - Пожалуйста, к столу. Просьба занять места. - И уже к Борису Николаевичу, тоном, просящим прощения: - Скверная у нас привычка: даже в гостях не можем отрешиться от служебных дел и забот. Тоже нашли тему для разговора! Так могли и Новый год прозевать. И опять же был бы виноват секретарь парткома. К столу, товарищи, к столу. Прошу наполнить бокалы.
На даче Поповина стоял дым коромыслом. Во дворе разноцветными огнями сверкала большая заснеженная елка. Тут же на столе, под заснеженными елями, стояли бутылка коньяку, три рюмки и тарелка с бутербродами. Это для экзотики. В большом зале, освещаемом лишь неяркими сполохами камина, было шумно. За богато сервированным праздничным столом сидело двенадцать молодых людей: шесть девушек и шесть парней. Новенькой была Лада, дочь Константина Сергеевича Лугова, начальника цеха завода "Богатырь". Лада оказалась здесь случайно. Хотя - как считать - может, и не совсем случайно. Словом, из всех присутствовавших Лада знала только Юну Маринину, с которой второй год училась в одной школе и жила в одном подъезде. Константин Сергеевич Лугов, как и Александр Александрович Маринин, получил квартиру в заводском доме года полтора назад. В старой квартире, деревянном гнилом домишке в Марьиной роще, остался дедушка Сергей Кондратьевич. Не захотел переезжать, да и все. Не закапризничал, как это иногда случается с людьми его возраста, нет. Он был добрый, покладистый старик. Не поехал из-за сада, который когда-то давным-давно разбил возле своего дома. По правде говоря, в его саду на маленьком пятачке росли, сцепившись кронами, всего две старые яблони, очень старая груша, три молодые вишни, куст сирени и куст жасмина. И все же это был сад, лучший во всей слободе, гордость семейства Луговых.
Юна Маринина сама предложила Ладе встречать Новый год в одной компании, притом "до ужаса интересной".
- Будут художник, драматург, композитор, поэт и еще два славных мальчика - все знаменитости, будущие звезды, - убеждала Юна. Она была ровесницей Лады, хотя выглядела старше ее: вполне сложившаяся белокурая девушка с томным взглядом и чувственным ртом.
Ладе никогда не случалось бывать в обществе "знаменитостей". Предложение Юны ее заинтриговало, и она согласилась, осведомившись:
- А эти знаменитые, они что, с женами будут?
- С какими женами? Да ты что? - искренне удивилась Юна. - Это молодые ребята, в среднем лет по двадцать пять. Чудесные мальчики. Настоящие парни. Ты обалдеешь, Ладка!
И Лада в самом деле была недалека от "обалдения", потрясенная и очарованная непривычной для нее обстановкой. Загородный особняк в два этажа, наряженная натуральная елка во дворе, камин, свечи, полумрак, стол, сногсшибательная музыка, исторгаемая двумя магнитофонами (будто одного недостаточно), гавайская гитара и скрипка. Девушки и парни с необыкновенными именами: Аза, Лика, Эла, Юна, Дин, Хол, Радик, Макс, Артур. И все такие симпатичные, бесстрашные, умные, талантливые! Так смело обо всем судят. У Лады тоже редкие имя. Здесь это, пожалуй, единственное ее достоинство. А в остальном… Ну что она собой представляет, эта Лада Лугова? Тоненькая, стройненькая - это еще ничего. А лицо? Курносое, с веснушками, ни бровей, ни ресниц, все какое-то пшеничное, выгоревшее, и волосы огненно-золотистые. Недаром отец называл ее "золотая". И без маникюра: в школе не разрешают. Юна вот все-таки сделала ради такого случая. И ресницы Юна подвела тушью. А что такое Ладино простенькое бордовое платьице рядом с кричащими декольте? В нем Лада выглядит Золушкой, чувствует себя неловко, не перед размалеванными девицами с сигаретами в зубах, бесцеремонно рассматривающими ее, Ладу Лугову. Пусть рассматривают. Наплевать на них Ладе, ей, девушке с характером, гордой, умеющей постоять за себя. Девицы не очень нравились ей. Другое дело парни, тут Юна сказала правду: они настоящие и необыкновенные. Их можно слушать, ими можно любоваться, как сказочными принцами.
Лада догадывается: у каждой девушки есть мальчик. И у нее должен кто-то быть. Она еще точно не знает кто, потому что сидит между двумя парнями, и оба за ней ухаживают. Справа от нее - поэт Артур Воздвиженский, очень молоденький, почти мальчик. У него девичье лицо и голубые мечтательные глазки с беспокойным блеском. Темные волосы у поэта коротко пострижены, зачесаны челкой на лоб. Он много говорит и машет руками, как и все молодые поэты. Слева от нее сидит белобрысый подтянутый парень со скучающим выражением на лице. Может, это Евгений Онегин, а может, Печорин. Зовут его почему-то капитан Дин, хотя он, как сообщила Юна, никакой не военный, а просто студент МГУ. Но он тоже талантливый и умный. Юна сидит напротив - с драматургом. Лада слышала его имя - Макс Афанасьев, или просто Макс. Лада помнит кинофильм "Похищенная молодость". Там про девчонок и ребят, таких же, как они. Сценарий Макс писал. И пьеса его идет в театре - "Трое в постели". Лада не смотрела. Юна говорит: "Что-то потрясающее". А учительница истории Елена Ивановна Глебова назвала пьесу возмутительной пошлятиной. Кому верить? Лучше самой посмотреть и иметь собственное мнение. Главное, иметь собственное мнение. Макс самый старший здесь, ему уже под тридцать. Он похож на боксера, у него крепкие руки и тяжелый круглый подбородок. Клара, что сидит между композитором Радиком Грошем и художником Ильей Семеновым (тоже известным и, говорят, гениальным), оказывается, родная сестра Макса. Она дружит с Радиком. А Илья - с Авой, густо крашенной плоскогрудой девицей, которая без конца курит. Есть еще девушка Эла, пышная, с рыбьими глазами. Она много ест и пьет. Ухаживает за ней щупленький, тщедушный парнишка по имени Хол. А может, это его фамилия: тут ничего не поймешь.
По другую сторону от поэта сидит миниатюрная девушка с маленькой круглой головкой. Зовут ее Лика, она тоже знаменита, пишет коротенькие рассказы, которые называет то этюдами, то новеллами, то стихотворениями в прозе, печатается в журналах. Совсем недавно вышла в свет ее первая книжка под интригующим названием: "Голубое безумство". Хол сострил: "Глупое безумство". Но на его колкости здесь не обижаются. Лика довольно мила, интересна. Сама же она находит эти оценки изрядно заниженными, считает себя неотразимой, умной и талантливой. Она перманентно влюбляется в интересных парней, но те почему-то предпочитают волочиться за другими. Она уже успела пожаловаться Ладе, что еще не встретила человека, который по-настоящему сумел бы оценить в ней и женщину и поэтессу. И Лика, не теряя надежды, с чисто женской настойчивостью ищет этого человека. Осенью она была безумно влюблена в Дина - Дмитрия Братишку. Но и он скоро охладел к ней. Теперь она влюбленно смотрит на Артура Воздвиженского, самого модного поэта, из-за которого имел неприятности в райкоме Емельян Глебов. Но поэт после второй рюмки дарит одинаковые улыбки и белые стихи направо и налево: то Лике, то Ладе. Пожалуй, больше второй, чем первой. Это злит Лику и смущает Ладу: она не может понять, кто ж все-таки "ее мальчик" - капитан Дин или поэт? Вскоре Лада замечает, что она пользуется успехом у мужской половины, и это придает ей больше уверенности. Илья Семенов говорит ей через стол:
- У вас выразительное лицо, Ладочка. Вас никто не писал?
- Как? - не поняла она.
- Вы никому из художников не позировали?
- Нет, - смутилась Лада и покраснела.
- Отличный портрет можно сделать. Колоритный, - облизывая тонкие губы, увенчанные ниточкой черных усов, говорит художник. - Правда, ребята, великолепная модель? Для акварели. Огненные волосы, пламя!.. - Он щурит узкие с тяжелыми веками глаза, делая размашистые жесты худой рукой, точно набрасывая ее портрет.
Парни безоговорочно соглашаются:
- Да, здорово можно!..
Девушки смотрят на Ладу иронически, с явной неприязнью, точно они знают то, чего не знает эта завоображавшая наивная посредственность. Их взгляды говорят: "Ну что в тебе есть? Юность, свежесть? Это скоро пройдет". А поэт жужжит над ухом:
- Ты интересная. Хочешь, я посвящу тебе стихи? Для тебя одной. Нет, о тебе. Ну хочешь? - И не откладывая в долгий ящик, закатив глаза, пьяно импровизирует: -Ты янтарная роза. Ты осколок далекой эпохи, поднятый к нам балтийской волной. Ты туманность синей Галактики, ты частица Полярной звезды.
Лада смущенно улыбается, не зная, как ей отнестись к стихам поэта, тем более что стихи эти посвящаются ей. А Дин, наклонясь слишком близко к Ладе, говорит поэту с безобидной фамильярностью:
- Послушай, осколок галантной туманности! Может, лучше споем? Хол, гитару: старухи будут петь.
Лада озадаченно осматривается: где старухи? Потом спрашивает Дина:
- Какие старухи?
- Эх, старик, да ты еще совсем запеленатый, - отвечает Дин. - Старухи - это мы. Старики - вы. Все очень просто - наоборот. У нас все наоборот.
Хол выбирается из-за стола, подает Воздвиженскому гитару и, подойдя сзади к Братишке, говорит с гнусавой ленцой:
- Лада еще полуфабрикат. Прочти, капитан, ей лекцию, что такое мы. Клянусь мошной Рокфеллера, она принимает нас за так называемых стиляг.
- Ради бога, Ладочка, не сочти Мусик-Хола за обыкновенного стилягу, - дурашливо отзывается Братишка. - Нет и еще раз нет. Он знаешь кто? Он - подонок. А это высшая степень стиляги.
- Давайте потвистим, - предлагает Хол и обращается к Ладе, скривив тонкие губы. - А как наш полуфабрикат, умеет твистеть?
- Давай проваливай, полуфабрикат. Твист Ладочка танцует со мной, - небрежно цыкнул на него Дин, и Хол, оскалившись, удаляется к толстушке Эле. - Ты не обращай внимания на его манеры. Здесь каждый ведет себя, как хочет. Без условностей и церемоний. Так лучше. Тебе нравится здесь?
Она кивает. Потом, осмелев, спрашивает:
- А почему у вас такое имя?
- Меня зовут Дима. Ребята перекрестили: так проще и нестандартно. Дим много, а Дин один. Не считая американского государственного секретаря.
- А вы правда военный? - снова спрашивает Лада.
- И не мечтал. Почему ты решила?
- Капитан Дин. Почему капитан?
- Не знаю. Наверное, из-за предка. Он у меня генерал.
Ладе все нравилось: и новая песенка, и народная песня "По Дону гуляет", в которой вместо "По Дону гуляет" пели: "Подонок гуляет", и этот визг, и шум, и даже твист. И девицы теперь казались лучше. Из парней ей больше всех понравился Дин. А он, не в пример другим, с ней был сдержан, корректен и в меру любезен. Он даже не стал ее "просвещать", как это пытались делать другие. Но танцевал с ней.
Танцевал он великолепно, с вдохновением и мастерством.
А Хол только "просвещал" ее, а может, просто высказывался, излагая свое "мировоззрение".
- Гармония, гармония… А зачем? Почему у звезды должны быть одинаково равные концы? Условности, традиции. Кто их придумал?.. Господин. Для кого? Для рабов. Как цепи. Галстуки носят, бабочки и прочую мишуру. А смысл? Какой смысл в галстуке? Нелепость. Как брюки. Почему мужчина обязательно должен носить брюки? А может, мне юбка нравится. Есть же мужчины, которые носят юбки. Шотландцы или как их? Что, я не прав?
- У ну, - не то подсказал, не то просто прогудел в кулак Макс.
А Мухтасипов продолжал:
- Паспорта придумали. Как будто без паспорта человек не человек.
- За границей паспортов нет, - подтвердил художник.
- И правильно, - согласился Хол. - Памятников понаставили. А зачем? Жил поэт - умер, бац ему памятник. А мне он зачем? Я, может, не хочу на него смотреть и стихов его не читал. Мне он до лампочки.
Точно эстафету, его речь подхватила Лика. В ее потемневших глазах вдруг забегали злые огоньки, и она с каким-то ожесточенным наслаждением и ядом сказала:
- Господа выдумали для рабов слово "нельзя". Пользуются им, как хозяева, обучая своих собак: "Фу, нельзя!", "Бобик, фу!". То - нельзя, это - нельзя. Дома, в детском саду, в школе, в институте, на работе - везде только и слышишь это собачье "фу". Нельзя, нельзя, нельзя!.. Курить нельзя, пить нельзя, девушке пойти в гости или в театр в брюках нельзя. Возвращаться домой после двенадцати или не ночевать дома нельзя. Целоваться с мальчиком, который нравится, тоже нельзя! Да что это за жизнь? Что я - собака, моська какая-нибудь или рабыня, чтоб на меня везде кричали "нельзя"? Я человек. Я свободный человек цивилизованного мира. Я делаю то, что нравится мне. И мне наплевать, что кому-то мои поступки не по нутру. Мы идем к коммунизму, и не надо, чтоб на меня шикала каждая кухонная мещанка или выживший из ума персональный пенсионер.
- Дорогая крошка, - перебил Макс пылкий ее монолог. - Ты говоришь избитые истины. На научном языке это называется конфликтом поколений, явлением постоянным и вполне естественным. Так было, так есть, так будет. Проблема отцов и детей извечна и стара, как вселенная. Но будущее за нами.
- Все тепленькие места заняты предками, уступят они тебе, жди! - бросил Мухтасипов острые, как бутылочные осколки, слова.
- Это уже частность, - встав лицом к камину во весь рост, продолжал Макс. - Я говорю об общей тенденции. Отцы никогда не понимали детей, не доверяли детям и потому всегда с большой охотой одергивали их, поучали. Почему? Потому что психология отцов консервативна. Они боятся расстаться с традициями, потерять то, что накопили за долгую жизнь. Нам же нечего терять. Мы создаем новое, свое, мы дерзаем. Молодежь по духу своему - новаторы. Особенно наше поколение. История поставила перед нами необыкновенные задачи. Мы ломаем чудовищную крепость, созданную из предрассудков, пошлости, догматизма. И мы сломаем ее во что бы то ни стало и пойдем вперед. Мы авангард. Ретрограды нас называют стилягами и подонками. Пусть. Им от этого все равно не легче. В средние века таких, как мы, называли еретиками и жгли на кострах. Теперь другие времена. У нас есть свои трубачи, свои запевалы, как Артур, как Илья, как Радик. Каждая наша картина, песня, стих или драма - это автомат, который мы вручаем таким снайперам, как все вы, милые и храбрые старики и старухи. Мы вооружаем молодежь и ведем ее на штурм крепостных стен! Так пусть же Новый год будет НАШИМ годом, годом наших побед. Выпьем за это стоя!
Лада с удивлением слушала Макса, впиваясь открытыми, доверчивыми глазами в его лицо, полное решимости и силы. Она видела и слышала того самого героя времени, которых изображают на страницах журнала "Юность", которых хвалит учительница литературы и ругает Коля. Все, что говорил Макс, было для нее ново. Ей никогда такие неожиданные мысли и в голову не приходили, было странно их слышать, и в то же время ее подмывало любопытство: хотелось понять этих людей, объявляющих себя запевалами молодого поколения. Какой-то заграничный ликер, приятный на вкус, горячей волной разливался по всему телу, возбуждая, рисовал окружающий мир розовыми красками, и далекие тайные желания и мечты подходили к порогу действительности. Оставалось всего лишь сделать один шаг, чтоб переступить этот порог. Тут не было никаких запретов, можно было делать все, что хочешь. Лицо ее полыхало. Она вся была словно в огне и пыталась гасить этот внезапный пожар освежающим фруктовым напитком, удивительно ароматным. Лада пила его впервые и с большим наслаждением, чем густой душистый ликер. Тут можно было пить и есть все, сколько твоей душе угодно.
Дин сказал Ладе:
- Брось ты пить этот подсахаренный рыбий жир. Попробуй этого. - И вместо ликера налил коньяку.
Лада пригубила и отставила рюмку.
- Фу! Противно!
- Тогда пей шампанское. Из лучших сортов винограда. - Дин налил ей бокал. - Давай выпьем за тебя и за меня.
Лада отпила два глотка и поморщилась. Юна стала уговаривать:
- Пей! Шампанское - эликсир жизни. А хочешь сигарету? На, закури - это успокаивает.
Лада не знала, отчего ей нужно успокоиться, и отказалась от сигареты, покачав головой. Она с благодарностью улыбнулась подруге. Но в этот миг взгляд ее столкнулся с насмешливым и внимательным взглядом Макса, который будто в чем-то упрекал ее, говоря: "Ну чего боишься, глупенькая?" И тогда она ответила ему взглядом дерзким и сказала Юне с вызовом:
- Давай! - и потянулась через стол за сигаретой.
Она курила впервые в жизни, морщилась и слезилась от дыма, который почему-то попадал ей в глаза. А Макс сочувственно улыбнулся:
- Ничего, научишься. Это просто, как все просто в нашем сложном мире. Главное - будь самостоятельна. Для наших мам мы всегда будем дети, которых они готовы выпороть за самый безобидный естественный поступок. И ты для нее просто дите. А между тем это дите уже читало Бальзака и Мопассана, смотрело фильмы, которые детям до шестнадцати лет смотреть не разрешается.
- Родители во всем всегда видят трагедию, - сказала Юна. - Если девушка не пришла ночевать или стала не девушкой, то для них это - ужасное происшествие. Помнишь, Лада, какой у нас шум подняли из-за Ани?
- А чтобы не было трагедий, - добавил Дин, - родители должны как можно меньше знать о том, чем занимаются их дети. И дети не должны отчитываться перед родителями. Есть, конечно, дурочки, которые- приходят домой и докладывают: "Меня Петька поцеловал в парадном".
Бринкнула резко гитара, и голос Мусы прогнусавил:
Хорошо быть собакою, А неплохо и кисою: Где угодно… Где угодно…Вылезший из-за стола поэт пьяно орал:
- Я - талант. Я - гений! А гению все дозволено. Законы? Они не для меня. Я призван изменять законы. Я сам законодатель. Что вы мне цитируете богов, когда я сам бог. Вы цитируйте меня!..
Девчонки визжали в восторге. Лада настороженно молчала. Что-то не совсем ясное боролось в ее сознании, и борьба эта заслонила неприятное чувство и тревогу.
- Чтобы быть законодателем, надо иметь имя, - холодно-иронически бросил Братишка.
- Имя? - Воздвиженский тряхнул головой и величественно прикрыл глаза. - Мы сами создаем себе имена… Талантом своим.
- Ну это не совсем так, - авторитетно осадил его Макс, улыбнувшись Ладе. - Имена нам создают друзья и враги.
- А у тебя их нет. Ха-ха-ха! - громко расхохотался Мухтасипов. - Ни друзей, ни врагов.
Воздвиженского точно ушатом ледяной воды окатили. Девичье лицо его округлилось, вздулось вдруг побледневшими щеками, влажные глаза застыли, уставившись на Мухтасипова, а сухой, приглушенный голос продребезжал:
- У меня нет врагов и друзей? Это как понимать?
- Буквально, - мрачно ответил Мухтасипов, оскалив белые ровные зубы. - Кто, назови, кто твой враг?
- Мой враг номер один - скульптор Климов.
- Не знаю такого, - мотнул маленькой головой Мухтасипов. - Впрочем, пойди набей ему морду. Я разрешаю.
- Он мой идейный враг! - не принимая шутки, кричал поэт.
- У тебя есть идеи? - ввернул Мухтасипов. - Вот не думал.
- Ты мразь, ничтожество, амеба! - не найдя других аргументов, вскричал поэт, обретая снова голос. - А ты, ты? Кто ты такой? Почему ты здесь?
- Отвечаю на твои вопросы, - с прежней ленцой и безразличием прогнусавил Мухтасипов. - Первый вопрос. Ответ. Я не поэт. Второй вопрос. Я здесь встречаю Новый год. Удовлетворен?
- Да хватит вам!
- Бросьте!
- Будьте мужчинами! - закричали сразу несколько голосов.
Скучно, старухи, - вдруг призналась Лика, задумчиво разглядывая фужер с золотистым вином. - Хоть бы подрались из-за меня. Или поскорее женился бы кто-нибудь. Так хочется погулять на свадьбе, кричать "горько" и смотреть, как целуются.
- Подумаешь, удовольствие - глядеть, как целуются другие по приказу пьяной толпы. Я предпочитаю целоваться без свидетелей, - сказал Радик Грош.
- Крошка Лика хочет замуж, - заметил Илья Семенов.
- Естественное желание в ее возрасте, - отозвался Макс, вызвав недовольную гримасу сестры.
- Перестань, шуткам есть предел.
- В наше время, Кларик, пределов нет и быть не может, - ответил Макс.
- Дин, почему ты не женишься? - продолжала хандрить Лика, поводя томными глазками. - Поцелуй меня, Дин. Ты умница и талант. - Она хотела вызвать ревность у поэта.
- А ты мне не нравишься, - грубо ответил Братишка, - потому что ты набитая дура.
"Какой парень!" - с восхищением подумала о нем Лада. Нет, этот капитан Дин ей определенно нравился.
- И хамству тоже нет предела, - заметил поэт и тут же получил как награду долгий презрительный взгляд Братишки.
Воздвиженский заходил по комнате, искоса поглядывая то на Мухтасипова, то на Макса: он был недоволен, что так быстро погасили их стычку с Ходом. И Макс тоже хорош: за каким чертом подсунул реплику о друзьях и врагах? "Как глупо: имена создают враги. Что он этим хотел сказать?" Не выдержал, спросил, хмуро обращаясь к драматургу:
- Значит, враги создали тебе известность? Тебе, Радику, Илье, ну и… мне?
- Дорогой мой, - Макс снисходительно вздохнул, - говоря откровенно, теперь нам известность создают не здесь, а за рубежом наши друзья-прогрессисты. Радику, Илье, мне и тебе в том числе. Нас там переводят, нас туда приглашают, нас рекламируют. Оттуда наша слава приходит на родину. Парадокс, как и все в этом скучном мире. Но прелестно, "как всякий парадокс.
- В твоих стихах, Артур, нет философии, - продолжал Братишка. Ему тоже хотелось подразнить самовлюбленного "гения".
- Достаточно, что есть поэзия. Философия - это политика. А где политика - там нет места поэзии. Там лозунг, передовица, плакат, - бросил поэт.
Резко распахнулась дверь, и в комнату ворвалась разрумянившаяся на морозе хозяйка дачи.
- Наталка-Полтавка! - восторженно воскликнул Макс, широко распростерши объятья. - С Новым годом! Как мы рады!
- Ну, рады Или не рады, а я тут, - весело заговорила супруга Поповина. - Вот я, собственной персоной. Прошу любить и жаловать.
Она ловко распахнула и небрежно сбросила с себя норковую шубку, которую тут же подхватил поэт и отнес в прихожую. В дорогом платье-панцире, переливающемся блестками, как рыбья чешуя, она была похожа на соблазнительницу Сирену. Конечно, Наталка понимала, что ее внезапному появлению здесь не обрадуются, и лишний раз убедилась в этом. Быстро в уме посчитала парней и девчат: шесть на шесть. А она - тринадцатая. Чертова дюжина. Как неприятно, тем более под Новый год. Она, разумеется, не предполагала, что будет тринадцатой. Но это все равно не остановило б ее. Она ждала своего возлюбленного в комнате в Серебряном переулке. С ним она хотела встретить этот Новый год, вдвоем. Муса обещал прийти, "если не помешают какие-либо обстоятельства".
Каким-то чутьем она догадалась, где может быть ее возлюбленный, взяла такси и приехала. Поздравив с ходу молодежь с Новым годом и по-мужски опрокинув рюмку коньяку, удалилась в свою комнату на второй этаж, взглядом поманив за собой Мусу. Он поднялся к ней через минуту, изображая мертвецки пьяного, погруженного в бездну меланхолии. Она ждала его первого взгляда наедине, а не у всех на виду, где им, естественно, пришлось бы скрывать свои чувства. И он посмотрел на нее, но как? Тоскливо, равнодушно. Не было в этом взгляде ни нежности, ни любви. Ей стало до боли обидно. И когда Муса хотел опуститься на широкую, низкую тахту, сработанную югославскими мебельщиками, Наталка крепко и порывисто обвила руками его шею, щедро осыпав поцелуями, сдобренными горячей слезой и столь же горячими словами:
- Милый… родной… почему так жестоко? Я ждала. Я вся исстрадалась. Встречать с тобой Новый год - это потом весь год с тобой… Ты с кем тут? С этой рыжей? Кто она? Что ты в ней нашел? Цыпленок желторотый. Что она понимает в любви?
- Полуфабрикат, - насмешливо выдавил Муса: ему нравилось это слово. - За ней Дин… Он ее на турбазу на каникулы пригласил.
Мухтасипов говорил правду: Дима Братишка предложил Ладочке поехать с ним на подмосковную турбазу на время школьных каникул.
Началось просто. Димка, играя брелоком с ключами, спросил:
- Ты никогда не была на турбазе?
- Нет, - тихо ответила Лада, наблюдая за музыкальными пальцами Братишки.
- Счастливая. У тебя много интересного впереди. Придется мне над тобой шефство взять. Я достану тебе путевку на каникулы. Мороз, снег в блестках, иней на березах, лыжи, пестрые свитеры. А вечером в клубе магнитофон и танцы до обалдения. Бесподобно! Ну решай. Говори "да", и завтра ты будешь обладать звездным билетом - путевкой на турбазу.
- Это называется "звездный билет"?
Вместо ответа Братишка настойчиво повторил свой вопрос:
- Ну, согласна?
Пухленькое личико Лады стало задумчиво-грустным, после небольшой паузы она ответила нетвердо:
- Не знаю. Как папа.
- А при чем тут папа? Ты что, не человек?
- Он у меня строгий.
- А ты имей характер. Мой генерал тоже строгий. Он у тебя кто? Где работает?
- На заводе. Начальник цеха.
- Родители консервативны. Всегда так было. А наши родители особенно.
- Почему?
- Они привыкли сами подчиняться и хотят нас приучить. У них это называется традицией: дети должны продолжать своих отцов. Они забывают, что мы свободны. И никаких традиций, никаких условностей. Человек свободен. Ты смотрела "На дне"? Помнишь, Сатин говорит: "Человек свободен!" И зал аплодирует.
- Все равно, он не пустит.
- В конце концов, можешь сказать отцу, что тебя в школе премировали путевкой… Это недалеко. Час езды на электричке. Все расходы я беру на себя.
Она согласилась, найдя его совет насчет путевки-премии убедительным. Затем спросила о Наталке:
- Она кто такая?
- Хозяйка вот этих хором.
- Это я знаю. А кто она? Актриса?
- Законная супруга Ефима Поповина.
Лада подумала, помолчала и спросила:
- А он кто такой, Поповин?
- Ты не знаешь Ефима?
Это прозвучало примерно так: "Ты не знаешь Рокфеллера?" Лада слышала о втором и ничего не знала о первом, в чем откровенно призналась.
- Один из столпов общества, - снисходительно пояснил Дима. - Или человек, который умеет широко и красиво жить.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. НА ТУРБАЗЕ РАСКРЫВАЕТСЯ ОБМАН
По совести говоря, вряд ли можно было выбрать в живописном Подмосковье более чудесное место, чем то, где расположилась турбаза. Берег реки в причудливых излучинах, сосновый бор на крутояре, березовые рощи, солнечные поляны и глубокие овраги. А вокруг небольшие села с частоколом телевизионных антенн и куполами давно бездействующих церквей да бегущие в бесконечность струны высоковольтных линий.
На турбазе отдыхала главным образом молодежь: шумная, звонкоголосая, гремящая лыжами, сверкающая пестрыми свитерами, разрумянившимися лицами, колкими остротами. Там было сорок восемь Тань, тридцать четыре Гали, девятнадцать Наташ, четырнадцать Валь, девять Нин, шесть Светлан, две Марины, две Розы, Люся, Лада и Магнолия. Мужская половина состояла из двенадцати Славиков (сюда входили Святославы, Ярославы, Изяславы, Мстиславы и прочие Мечиславы), восьми Борисов, семи Владимиров, пяти Вадимов, четырех Александров, трех Михаилов (в том числе Михаил Петрович Гусев-Лобанов), трех Николаев (не считая дяди Коли), двух Рудольфов, двух Артуров, Павла, Петра и Гарольда.
Хорошенькими оказались две Вали и две Гали, а Люся была просто красивой. Зато Розы и Магнолия до того не соответствовали своим именам, что их хотелось назвать как-то по-другому.
Были еще "Он" и "Она". "Он" работал в системе Главкинопроката, "Она" - в Комитете по научно-технической информации. Имен их отдыхающие не знали, зато достоверно знали, что у него в Москве есть жена, у нее (там же) муж. И еще был товарищ Угрюмов, или просто дядя Коля, пожилой человек, не соответствующий своей фамилии. Он всем откровенно и ласково улыбался, редко бывал трезв и регулярно ходил на танцы. С ним в одной комнате жил капитан третьего ранга, веселый, общительный малый лет тридцати, рано и основательно облысевший, что, впрочем, не мешало ему пользоваться успехом у девятнадцатилетних Галь и двадцатилетних Валь. Имени его не знали, не было нужды: для всех он был просто моряк.
Среди парней было три "неотразимых". Один, с длинными рыжими баками, танцевал всегда и везде, где только слышалась музыка, а иногда и без оной. Танцевал всем телом, каждой клеткой - все в нем двигалось, шевелилось: голова, глаза, брови, ноги, руки, плечи, спина и все, что выше плеч и ниже спины. Рыжий чуб, лошадиной челкой сбитый на лоб, закрывал даже брови. Одет он был в узенькие черные брючки и куртку с медными пуговицами и колечками. На ногах остроносые штиблеты. Второй "неотразимый", чернявенький, круглолицый, нос пуговкой, танцевал легко и просто, на девушек смотрел свысока, уверенный, что все в него влюблены и каждая только и мечтает о том, чтоб он уделил ей хоть полкапли внимания. Третий "неотразимый" развязен, циничен и остроумен. Корчил из себя повесу. Стучал в девичьи комнаты и кричал через дверь деланно-умоляюще:
- Маришка, открой, на коленях стою! И без гитары.
Врывался к девушкам и довольно бесцеремонно лапал их. Они пищали на весь этаж, не поймешь - от удовольствия или возмущения. Приходил дежурный:
- Что здесь? Почему в девичьей парни? Кто разрешил?!
Девчата заступались за "неотразимого":
- Книгу принес. А что, нельзя? Разве здесь монастырь? А мы-то думали - турбаза.
Голос дежурного, резкий и строгий, слышался по утрам и вечерам. Вечером, после танцев, когда так хочется перед сном почитать книжку или посидеть в компании мальчиков, иногда за рюмкой вина, этот голос сотрясал коридор:
- Отбой! Гаси свет!
А утром, когда так сладко спится, он снова гремел неумолимо:
- Кончай ночевать, выходи на зарядку!
Директором турбазы был отставной полковник, приятель Ефима Поповина, страстный поклонник спиртного, человек хмурый, недоверчивый, любящий власть и чинопочитание. Перед отбоем он сам ходил по коридорам длинных корпусов, грубо выгонял парней из девичьих комнат, приговаривая охрипшим то ли от водки, то ли от мороза голосом:
- А что ж, прикажете мне красный фонарь на ворота вешать?
Юные остряки отвечали на это:
- Зачем фонарь вешать? И без фонаря все видно.
И будто в подтверждение этой угрозы в клубе турбазы висела доска объявлений, а на ней постоянно красовались три-четыре приказа директора, в которых такому-то или такой-то объявлялся строгий выговор "за морально-бытовое поведение".
Правда, приказы вывешивались уже после отъезда провинившихся с турбазы, так сказать, в назидание потомкам.
Впрочем, директор, предоставляя Диме Братишке отдельную комнату (это делалось "из уважения к Ефиму Евсеевичу"), на всякий случай предупредил, больше для порядка:
- Ты не очень… Имей в виду…
- Все будет в порядке, Яков Борисович, - заверил Дима, поняв намек с полуслова, и для пущей важности добавил: - Ефим Евсеевич обещался подъехать.
- Хорошо, всегда рад, - едва слышно обронил директор, давая понять, что разговор окончен.
Комната не люкс: кровать, стол, тумбочка, зеркало над умывальником. Что еще нужно? "Персональный" умывальник в условиях турбазы - уже комфорт! Комната Лады на противоположной стороне, наискосок. Правда, Лада не одна, с ней еще три девушки. Но это не имеет никакого значения: там она будет "числиться", а жить здесь, у Димы. Так решил он, пока еще не согласовав этот вопрос с Ладой. Вечером все утрясется. А пока… свободная стихия лыж!
Снег - как в сказке: пушистый, будто усеянный алмазами. Воздух морозный и звонкий. Небо синее, бездонное. Неяркое солнце.
До обеда еще три часа, и Дима решил познакомить Ладу с окрестностями турбазы: здесь он был не впервой. Лыжня полированная, лыжи сами бегут, не остановишь. Снежная целина вдоль лыжни вся исписана лаконичными изречениями, почти восклицаниями: "Люся - божество!", "Света + Коля = Любовь!", "Нина дура", "Гарольд кретин", "Га-лин-ка, Гал-чо-нок…" И прочее в таком же духе. Убедительное подтверждение того, что от любви до ненависти один шаг.
А роща… Как прекрасна березовая роща зимой! Какой ажурный рисунок - бело по белому, черные крапинки на бересте, кофейные почки. Рябит в глазах.
Лада идет впереди. На ней желтая, канареечного цвета куртка и черные брюки. Огненно-золотистую голову венчает черная шапочка. Диме нравится "ансамбль". "У этой рыбки есть вкус", - думает он о Ладе и весело кричит у развилки:
- Сворачивай на левую лыжню! Пойдем на Сонькину горку.
Лада сворачивает и останавливается.
- Почему называется "Сонькина горка"?
Этот вопрос для Димы не нов. И он отвечает на него так же, как и вазовский культурник:
- Отдыхал тут один парень, влюбился в девушку. Сонькой звали. У нее день рождения был. Он и спрашивает: "Что тебе, пчелка, подарить?" А она: "Подари мне вот эту гору". - "Хорошо, - сказал парень, - дарю. Бери ее, твоя гора". На другой день утром пришли на горку лыжники и видят: на самом гребне столб, на нем доска, на доске красными буквами надпись: "Сонькина горка". Так и пристало это название.
- Когда это было? - спросила Лада. Легенда ей явно понравилась.
- Давно. Лет пять назад, - ответил Дима и почему-то добавил слова, которые тоже всегда говорил культурник: - Теперь так не любят.
Лада подумала: прошло пять лет, люди приезжают и уезжают, а Сонька осталась навсегда. Интересно, поженились ли они с тем парнем? Может, у Соньки уже куча детей. А горка все-таки ее. Навсегда. И потом с грустью про себя повторила: "Теперь так не любят". И не поверила этим словам, потому что хотела хорошей любви. Тронула лыжи, упруго изогнувшись, оттолкнулась палками и понеслась легко и неудержимо. Метров через сто остановилась.
- Дима, а Дима… Подари мне что-нибудь?
- Например?
- Ну хотя бы вот эту березовую рощу. Она такая… необыкновенная!
- С удовольствием! - воскликнул Дима и лыжной палкой начертил на снегу огромнейшие буквы: ЛАДОЧКИНА РОЩА
Лада посмотрела на него тающими глазами.
На Сонькиной горке катались немногие: она была довольно крута и с выбоиной на самой середине склона. Редко кто благополучно проходил эту коварную выбоину. Лада не считала себя отличной лыжницей, и Дима посоветовал ей не рисковать. А сам пошел. Собственно, Дима привел-то сюда Ладу, чтобы порисоваться, показать себя.
Он был хорошим спортсменом, и в частности лыжником. Спорт - это единственное увлечение, которое не бросал Дима даже в условиях его нынешней бестолковой жизни.
Весной прошлого года Дмитрия Братишку исключили из университета за неуспеваемость, пьянство и недисциплинированность. Диму это не очень огорчило. Он так рассуждал: "Учиться? А зачем? Ради диплома? Ну, а диплом что мне даст? Сотнягу в месяц, ради которой человек должен изо дня в день, с утра до вечера торчать на работе. А много ли разгуляешься на сотню?" Нет, такая перспектива Диму не устраивала. Он мечтал о другой жизни, "красивой и широкой". Тем более видел, живут люди, не обременяя себя работой, и загребают большие деньги. Главное, "напасть на жилу". И Дима решил заняться поисками счастья. Благо, у него был состоятельный отец, который содержал сына, пока тот занимался "самоопределением". Ни отцу, ни мачехе, ни даже родной матери, которая жила в Киеве со вторым мужем, Дима, разумеется, не сообщил, что он уже не студент университета.
Максим Иванович Братишка разошелся со своей первой женой Эрой давно. Долго жил один, вернее, с Димой, а три года назад женился на довольно милой особе "не свыше тридцати лет". Ася была эстрадной певицей, часто выступала в кинотеатрах и ресторанах в сопровождении оркестра, развлекая праздный люд. Она очень тяготилась своей профессией. Поэтому, выйдя замуж за генерала Братишку, Ася бросила эстраду и занялась устройством домашнего уюта. Она была моложе своего мужа на восемнадцать лет и старше пасынка на три года. С Димой сразу сумела установить добрые, дружеские отношения, став ему не мачехой, а другом, что безмерно радовало генерала. Максим Иванович, по своему характеру человек отзывчивый, любил единственного сына и обожал, боготворил Асю. Если для сына он делал все возможное, то для молодой жены готов был сделать сверхвозможное. Поэтому Дима меньше всего заботился о хлебе насущном. Он знал: пока жив отец, никакие невзгоды ему не страшны, от любой бури-урагана укроет его крыша отцовского дома.
Лада любовалась Братишкой, его ловкостью, с которой он взял трудный спуск Сонькиной горки. Она спустилась в долину реки немного правей, там, где бугор сбегал полого. Дима ждал ее внизу. Затем они по прозрачному льду перешли речку, поднялись на противоположный, совсем отлогий берег. Диму распирала удаль и озорство.
Он носился по снежной целине, словно вырвавшийся на волю годовалый жеребенок. За речкой они пересекли асфальтированное шоссе. Там Дима поднял кем-то оброненный, а вернее всего, выброшенный галстук, витой шнурок с металлической защелкой: такие носили пижоны в конце пятидесятых годов. Появившийся невесть откуда в нашей стране "ошейник" этот так и не привился, не заменил традиционного галстука.
- Зачем, он тебе? - спросила Лада, догнав Диму.
- Да так. Повесим у входа в столовую, может, хозяин отыщется. - И он через поле, взметая снежную искристую пыль, помчался к грузовику, с которого коренастый паренек в черном полушубке и красном шарфе проворно сбрасывал лопатой навоз.
Дима сказал:
- Послушай, друг, как это называется: раньше работали вручную, а теперь лопатой? Технический прогресс…
- Тоже мне друг отыскался, - недружелюбно бросил паренек, продолжая свое дело. - Такие друзья прошлым летом у нас баню сожгли.
Дима надменно сказал, потряхивая подобранным на дороге шнурком:
- Хочешь я тебе галстук подарю? Заграничный. С фамильным гербом.
Паренек мельком взглянул на Братишку, потом на Ладу. Вопреки ее ожиданию, не вспылил, не ответил на грубость грубостью, а просто, даже добродушно проговорил:
- Нужен он мне, как зайцу колокольчик.
- А чего? Принарядишься, поедешь в столицу, пройдешься по "Броду", все девки от "Астории" до "Националя" будут у твоих ног. Штабелями. Раз - и крести козыри… А? Не хочешь?
- Прощай, будут деньги - заходи! - насмешливо бросил парень, садясь в кабину.
Ожидаемого эффекта не получилось: паренек оказался тоже не лыком шит, и Дима поспешил ретироваться в сторону турбазы, пытаясь отвлечь Ладины мысли пустой болтовней.
- Прошлым летом я с ребятами ехал на своей машине, - рассказывал он наигранно весело и непринужденно. - По шоссе тетка шла. Замечталась. Я - сигнал. Она с перепугу туда-сюда, как угорелая заметалась и вдруг - бац на дорогу. Я баранку направо, объехал, даже не задел ее. Она со страху упала. Мы остановились. Спрашиваем: "Что с тобой, тетка? Ушиблась?" А она еле языком ворочает: "Не знаю. Голова, говорит, кружится и тошнит". Вот незадача. Гляжу, показался сзади мотоцикл. Не влипнуть бы в историю. "Садись, говорю, в машину, довезу до больницы". Охотно села рядом со мной на переднее сиденье. И вдруг - надо же! - налетаю на самосвал. Помял крыло, отделался легким испугом. Пока мы разбирались, кто прав, кто виноват, смотрю, моей тетки и след простыл. Километра через два догоняю ее. Останавливаюсь. "Что ж это, говорю, садись, довезу до больницы". А она мне: "Спасибо, милый. Только от твоей езды все прошло", И рукой помахала. Комедия, да и только!
После обеда Дима пригласил Ладу к себе в комнату, угощал трюфелями, апельсинами и портвейном. Сам пил дешевый молдавский коньяк. Лада с удовольствием ела конфеты, апельсины, с трудом выпила четверть стакана вина.
- Ну как ты можешь? Опьянеешь.
- Я?.. Ты плохо меня знаешь, рыбка моя, - хвастался он.
Выпив сразу полстакана, Братишка захмелел. Бледное лицо покрылось красными пятнами, взгляд стал бессмысленно тупым. Дима обнял Ладу и попытался поцеловать. Она увернулась и запротестовала:
- Не надо, ну что ты делаешь?
Ее слова Дима понял по-своему:
- Хорошо. Это мы оставим на вечер. Ты будешь спать у меня.
- У тебя? А ты где? - искренне удивилась Лада и посмотрела на Диму настороженным взглядом.
- И я здесь. С тобой. Понимаешь? Вдвоем.
- С какой стати? - В округлившихся глазах девушки застыло недоумение. Ее наивность смутила как будто даже Диму.
- Потому что ты мне нравишься. Я тебя в момент узрел. Ты не такая, как другие. Все эти Авы, Лики, Элы вышли в тираж. Перезрели, как сказал бы мой верный оруженосец Хол.
- А Юна? - быстро спросила Лада, вспомнив однокашницу, которая ввела ее в "общество" Димы.
- Юна? Имя, не соответствующее своему значению, - небрежно ответил Дима. - Я знал одну девушку. Она была рыжая и горбатая. А звали ее Роза. Ирония судьбы.
- Я тоже рыжая. - Пухленькие губки Лады надулись, на веснушчатом лбу хмуро сошлись подкрашенные бровки. Серые глаза с реденькими, подведенными черной тушью ресницами вдруг стали холодными. И она, отстранившись от него, глухо сказала: - И я тоже ирония судьбы?
Но Дима давно привык к подобным вспышкам самолюбивых девчонок. Поэтому он не стал оправдываться, а добродушно улыбнулся и устало заметил:
- Мы с тобой блондины. А ты к тому же еще и золотая. Рыбка золотая. Из пушкинской сказки, - и потянулся к ее почти еще детской руке.
Лада вскочила и, открыв дверь в коридор, тем же глухим голосом произнесла:
- Прощай, рыбак, - и ушла к себе.
Три девушки, с которыми поселили Ладу, были в комнате, отдыхали после обеда. Две Тани - подружки - работали продавщицами универмага. Койки их стояли у окна. Когда Лада вошла, они о чем-то шептались, то и дело прыская безудержным смехом.
- Через час пошла посмотреть, так, для интереса, а он стоит под часами, весь посинел на морозе и чечетку откалывает. Умора, - донеслось до слуха Лады.
- Да что ты, Танька, разве можно: это бесчеловечно, - укоряла подругу вторая Таня.
Рядом с кроватью Лады лежала на койке поверх одеяла молодая большеглазая женщина и держала в руке тоненькую книгу небольшого формата. "Стихи", - машинально прочитала Лада на обложке и пожалела, что не взяла из дому книгу. Ни к кому не обращаясь, спросила:
- Скажите, здесь есть библиотека?
Соседка посмотрела на нее удивленно и строго и сказала спокойно, даже дружелюбно:
- Меня зовут Юля. А это две Тани. Таня Зеленая и Таня Голубая. А тебя?
Лада назвала свое имя и посмотрела на Тань. У одной глаза были зеленые, у другой - голубые. В дверь негромко постучали. Вслед за этим на пороге появился багровый Дима и развязно, как закадычным дружкам, провозгласил:
- Приветик!
Юля смерила взглядом вошедшего.
- Это что за новое явление мессии?
Но Дима не удостоил ее ответом. Он сразу же обратился к Ладе, почесывая висок и морща нос:
- Зайди, пожалуйста, ко мне на минутку. - И, уходя, насмешливо бросил с порога Юле: - Вы мною недовольны, мадам Баттерфляй?
- Не столько тобой, сколько твоими родителями, - съязвила Юля.
- О-о, бедные мои папа и мама! - Дима дурашливо сложил на груди руки и воздел к небу глаза. - Как они будут огорчены. - Закрывая дверь, напомнил Ладе: - Я жду, Ладочка.
Лада молча подошла к двери и повернула ключ. Затем, не раздеваясь, легла на спину и закрыла лицо руками. Ей было стыдно. "Почему в жизни все не так бывает, как пишут в книгах? Почему действительность не совпадает с мечтой?" - спрашивала она себя и вместо ответа услышала вопрос Юли:
- Кто он такой?
Лада понимала, что вопрос обращен к ней. Открыв лицо и глядя в потолок неподвижным взором, бросила:
- Так. Знакомый один.
- Вместе приехали? - полюбопытствовала Таня Голубая.
- Он один в комнате? - перебила Таня Зеленая.
Лада ответила обеим сразу:
- Да.
- Чем занимается? - спросила Юля.
- Студент.
- Физик или лирик? - захотела уточнить Юля Законникова.
- Не знаю.
- Чей-нибудь сынок?.. - не отставала Юля.
- Генеральский.
- Ты с ним дружишь? - поинтересовалась Таня Зеленая.
- Да.
- Давно? - снова стала спрашивать Юля.
Обе Тани молчали с настороженным любопытством,
- Нет, - едва выдавила Лада.
- Ты знакома с его родителями?
- Нет.
- А он с твоими?
- Тоже.
- Может, он женат? Есть дети?
- Не знаю.
- Ты выходишь за него замуж?
- И не подумаю.
- Ты его любишь?
- Не знаю.
- А он тебя?
- Не знаю.
- Да, девочка, ты, в самом деле, еще ничего не знаешь. - Юля вздохнула и положила книгу на грудь. - Ну, а родители твои знают, что ты здесь?
Этот вопрос, как раскаленная иголка, ужалил Ладу. Охватившая ее тревога разбудила совесть. "И до чего ж они приставучие! Точно следователи. И верно, Лика права: "То нельзя, это нельзя". Ну какое им дело, чего они суются? Не обязана я перед ними отчитываться. Да. Не обязана. Ни перед кем". Где-то в сознании послышался отдаленный голос: "Человек свободен!.. А ты что, не человек?.. Имей характер. Родители консервативны… Они привыкли сами подчиняться и хотят нас приучить!.. Не выйдет!.." Это память бросает Ладе спасательный круг, и ей становится легче. Не надо отвечать слишком любопытной соседке, не надо отчитываться перед родителями. Растревоженная совесть угомонилась. Лада закрыла глаза и притворилась спящей. Над ней, распростерши во всю ширь гигантские радужные крылья, парила любовь, неизведанная, непонятная. Она делала чудеса: наглость превращала в смелость, цинизм - в прямоту, остроумие - в ум. Каждому слову и каждому поступку любимого придавала удивительные краски.
"А Дима все-таки хороший", - думала Лада.
Но он не мог отплатить ей тем же. Лада для него была просто "очередной рыбкой". В ожидании ее он не притворно, а по-настоящему вздремнул. И проснулся под вечер.
После ужина Лада снова пошла к Диме в комнату.
Об этом Юле доложили обе Тани.
- Надо выручать девчонку, - сказала Юля.
- Ты поговори с ней, у тебя это получается. Ты, как старшая сестра, - посоветовала Таня Зеленая.
- А может, не надо? Пусть, как хочет. Нам-то что, - сказала Таня Голубая. - Своя голова на плечах. Ей видней. А мы что? Мы ничего не знаем. А может, у них любовь? Он мальчик симпатичный. А что разбитной, так они все теперь такие. Это даже неплохо.
- Симпатичный, разбитной, любовь… Стиляга он, вот что я тебе скажу, - возразила ей Таня Зеленая. - И никакой там любви нет. У таких не бывает. У них постельная любовь с коньяком. Один в комнате. Заходи. В буфете брал бутылку шампанского и вафли. Сама видела.
Таня Зеленая возбужденно прошлась по комнате. Овальное лицо ее было серьезным. Она ждала, что скажет Юля - самая старшая и самая опытная из всех них, четырех обитательниц этой продолговатой, в одно окно, комнаты, окрашенной в серый неприветливый цвет. К Юле они относились с уважением. И Юля сказала. Не просто сказала, а предложила:
- Вот что, девочки. Пойдите к нему в комнату. Вроде как бы за Ладой. Составите им компанию, всякие там вафли, шампанское. Угоститесь. И не стесняйтесь. Не робейте. С хамами не надо церемониться.
- Это мысль! - подхватила Таня Зеленая. - Покажем, на что способны работники советского прилавка.
- Не посрамим чести Мосторга! - воскликнула Таня Голубая и обратилась к Юле: - А ты что, не пойдешь с нами?
- Мне не совсем удобно, поскольку у нас с ним с первой встречи получился конфликт. Я буду, так сказать, в резерве. На случай, если понадобится подкрепление. Ну, девочки, помните: "Смелого штык не берет!" - весело напутствовала Юля.
Обе Тани прихорашивались минут десять: подправили брови, ресницы, подкрасили губы и, с благословения командира своего - Юли Законниковой, ушли на "боевое задание".
Прежде чем постучать в дверь Диминой комнаты, прислушались. Да, Лада там: слышался ее негромкий ровный голос и приглушенные краткие фразы Димы. Постучали, не сильно, но настойчиво.
- Что надо? - свирепо отозвался Братишка.
- Нада Лада, - ответила в рифму Таня Зеленая и толкнула дверь.
Дверь была закрыта изнутри.
- Ее нет, - поспешил ответить Дима, но Лада, которую вдруг снова охватила тревога, подошла к двери, повернула ключ, и они, не ожидая приглашения, переступили порог Диминой комнаты.
- Добрый вечер! - Таня Голубая кокетливо улыбнулась Братишке и состроила глазки: нужно было с маху обезоружить парня. Затем, устремив свой взор на стол, где стояли три бутылки в окружении рассыпанных конфет, апельсинов и вафель, воскликнула с наигранной непосредственностью: - У-у-у, да тут пиршество!
Тане Зеленой показалось, что подруга слишком торопится, поэтому она постаралась несколько сгладить ее слова и, осмотрев комнату, сказала:
- На одного! И умывальник, и зеркало!
- Шампанское! Обожаю, - продолжала Таня Голубая, осматривая стол.
- А я портвейн и трюфели, - поддержала Таня Зеленая.
- Как здорово! Живут же люди! - нараспев восторгалась Таня Голубая.
Братишка правильно оценил обстановку и разгадал нехитрый маневр "неприятеля". Спросил грубовато непрошеных гостей:
- Что вам нужно?
- Не что, а кто, - учтиво поправила Таня Зеленая. - Это - во-первых. Во-вторых, нам нужна Лада. А в-третьих, настоящий мужчина, тем более хозяин, мог быть повежливей с гостями, к тому же с женщинами.
- И такой симпатичный хозяин, - льстиво добавила Таня Голубая, одарив Диму улыбочкой. - Конечно, мы рассчитываем на угощение. - Она снова вожделенно посмотрела на стол и облизала губки.
- Хотите вина? - предложил Дима, беря бутылку.
- Хотим, - ответила Таня Голубая, и Дима налил им в стаканы.
- За что будем пить? За знакомство? - спросила Таня Голубая, подняв стакан с шампанским.
- Старо и банально. Это все равно, что пить за прекрасный слабый пол, - обронила, тряхнув головой, Таня Зеленая и тоже подняла граненый стакан с портвейном. - Я думаю, что наш добрый хозяин предложит более современный и оригинальный тост.
Дима посмотрел на Таню Зеленую пристально, прищурив глаз.
Он понял ее и принял вызов. Ухмыльнувшись и подмигнув Ладе, он деланно откашлялся и, держа в руке пластмассовый стаканчик с коньяком, заговорил неестественно громко:
- Ну что ж. Я хочу выпить за здоровье моих гостей и пожелать… - Сделав паузу, он многозначительно посмотрел в глаза Тане Зеленой и, чокнувшись с ней, продолжил: - Хочу пожелать хорошего жениха и мужа. По-моему, это совпадает с вашим желанием, если не ошибаюсь?
- Одного на двоих? - обиженно спросила Таня Голубая, но подруга перебила ее:
- Спасибо. Очень хороший тост. - Таня Зеленая еще раз чокнулась с Димой и, выпив вино, закусила конфетой. - Обычно желают всякую всячину: успешно сдать сессию, защитить диплом, здоровья и тому подобное. Почему-то считают, что это главное, что в этом счастье. А вот жениха, хорошего мужа мне еще никто не желал. Вы первый. Не просто мужа, а хорошего, нежного, такого… настоящего, которого можно любить всегда, без которого невозможно жить.
- Зеленая, ты говоришь, как поэт, - не то с завистью, не то с восхищением заметила Таня Голубая.
- Приходится. Потому что больно много наплодилось зеленых поэтов, которые ни черта не смыслят ни в жизни, ни в любви, - с сердцем ответила Таня Зеленая.
Дима понял, что разговор угрожает принять затяжной характер, а это никак не входило в его планы. И он, решив закруглить его, сказал, снисходительно улыбаясь:
- Я рад, что мне удалось угадать ваши мысли. И все же осмелюсь спросить: что привело вас ко мне, если не секрет? Надеюсь, не жажда влаги Бахуса?
- О нет! Нам срочно нужна Лада, - объяснила Таня Зеленая.
- Зачем? - уставился на нее Дима.
- Ею интересовался… один человек, - сочинила Таня Голубая.
- Кто именно?
- Это секрет.
- У нас с Ладочкой нет секретов.
- Тем не менее…
- Ладочка, у тебя от меня секреты? - Дима требовательно посмотрел на Ладу.
- А почему бы и нет? - уклонилась Лада. - Пойдемте, девочки. - И направилась к двери.
- • Лада? - растерянно произнес Дима. - Ты пожалеешь! - Это прозвучало угрозой.
- О чем? - недоумевая, спросила Лада, остановившись на пороге открытой двери.
- Я прошу тебя, - смягчился Дима. - Ты придешь ко мне?
- Покойной ночи, - сказала Лада, и это прозвучало ответом.
- Добрых снов, - рассмеялась Таня Голубая и, поведя круглыми плечиками, шумно хлопнула дверью.
Это уже слишком. Девчонка, кажется, переоценила себя и забылась. Дима свирепо шагал по комнате, багровея от бессилия. Допил остаток коньяка и поклялся проучить эту рыжую веснушчатую дурнушку, возомнившую себя принцессой. Кроме как вызвать в ней ревность, ничего более путного он не мог придумать. Лежа на койке в пестром свитере, лыжных брюках и ботинках, Дима затягивался сигаретами и обдумывал, как он с завтрашнего дня начнет атаковать голубоглазую Таню и, конечно, добьется, победы. Он был уверен, что Таня влюбилась в него с первого взгляда и зашла только затем, чтобы как-то показать Братишке свою симпатию. "Небось сейчас обо мне говорят, - самодовольно решил он. - Зайти, что ли? Пожалуй, не стоит, опять начнет придираться мадам Баттерфляй. Наверно, какая-нибудь партийно-комсомольская тетя. Ух, не люблю этих ортодоксальных моралисток!"
Но Дима ошибся: девчата говорили вовсе не о нем. Таня Голубая весело и бойко рассказывала о первых шагах своей трудовой жизни, о том, как со школьной скамьи она пришла работать продавщицей в продовольственный магазин.
- Магазин небольшой, на окраине, народу не так уж много. Нас трое за прилавком: я, еще одна пожилая продавщица и директорша, такая разбитная тетка. За работой я и не заметила, как пролетело время. В час закрыли на обед и пошли в комнатку директорши. Взяли кусок колбасы, две банки консервов и пол-литра водки. Смотрю, наливают водку в стаканы. Я испугалась. А директорша приказывает: "Бери, пей без разговора. В нашем деле без этого нельзя". А я к стакану боюсь притронуться. Даже глаза закрыла. Пожалели они меня и налили стакан портвейна. Выпила я его, и как-то сразу стало весело, приятно. Тетя Поля и директорша показались мне такими добрыми. Перерыв кончился, надо идти за прилавок, а я не могу. Ноги подкосились. Директорша спрашивает: "Сможешь работать?" - "Спать хочется". - "Ну тогда иди". Затолкали меня под прилавок. Там я и проспала до самого вечера.
А потом рассказывала Таня Зеленая, как за ней доцент один ухаживал.
- Из нашего института. Смешной такой дядька, Яков Яковлевич. У нас читал лекции на втором курсе. В сессию сдавала экзамен. Вопрос попался трудный. Чувствую - тону. И тут он начал подбрасывать наводящие вопросы. Один, другой, третий. Уже сам за меня отвечает. Умора… Ну, думаю, завалила. Раскрыл он мою зачетку и на меня уставился: локти на стол, ладонь под щеку. Глаза у него совсем не злые, взгляд такой добрый, теплый. Я волнуюсь. Смотрел, смотрел, а потом душевно спрашивает: "Что вы, Таня, сегодня вечером делаете?" - "Не знаю, - говорю, - наверно, заниматься буду". - "Пойдемте, - говорит, - в "Сокольники" и там продолжим наш экзамен. Хорошо? Материал вы, конечно, знаете. Только волнуетесь". Мы и пошли. А что оставалось делать? Вообще, он дядька видный. И не стар еще, тридцать с небольшим. А может, и сорок. Ходили мы, гуляли в парке. Он о себе рассказывал, жаловался на судьбу, на жену-ведьму, которая его поедом ест. А в общем, скучно с ним было, нудный какой-то. Походили - погуляли. Он назначает мне еще свидание. А мне это ни к чему. Время только терять. Я начинаю отказываться. Настаивает, просит, буквально умоляет. Только одно свидание. Еще одно…
- И ты сдалась, - сказала Таня Голубая.
- Сжалилась, - добавила Юля.
- Встретились мы возле театра Пушкина, на Тверском бульваре, сели на скамейку. Смотрю - полез в портфель, достал какую-то толстую рукопись, отпечатанную на машинке, и стал мне ее читать.
Таня Зеленая сделала паузу, поглядела на девушек, словно ждала от них вопроса.
- И что это было? - не выдержала Таня Голубая.
- Кандидатская диссертация!.. - торжествующе сообщила Таня Зеленая. Девушки весело рассмеялись. А она добавила: - На тему "Хранение ранних овощей при транспортировке на дальние расстояния". Нет, вы представляете себе, девчонки? Пригласил для важного разговора. И такую несусветную муть он мне читал… Я думала, умру. Вот тут я и посочувствовала его жене. И почему-то подумала: а она его, наверно, бьет. Сапогом. Валяным.
- Такого и кирзовым можно, - сказала Юля.
- Ас чего б это он вдруг начал тебе читать? - спросила Таня Голубая. - Что хотел?
- Хотел свою образованность показать, - ответила Юля и, подумав, добавила: - Впрочем, это, быть может, ничуть не хуже, чем слушать стихи бездарного поэта.
Утро следующего дня было невеселым, под стать настроению Лады: небо слилось с землей, мела поземка. Мороз хотя и отпустил, но без солнца и при ветре погода казалась холодной.
В столовую Дима явился одним из первых, быстро разделался с едой, и, когда Лада шла завтракать, он уже стоял на лыжах, заигрывая с девчонками, делая вид, что не замечает Ладу. Не будь с ним рядом незнакомых девчонок, Лада бы подошла к Диме, попросила подождать ее. Но чувство собственного достоинства заставило девушку сказать самой себе: "Ах, так?! Ну хорошо. Подумаешь, принц какой!" И она пошла на лыжах одна.
Ветер усилился. Снежная серебристая пыль струилась по белому полю, оседая в лесной затиши. Лада, сама не зная почему, шла дорогой, по которой шла вчера… с ним. С противным воображалой. Лада еще не понимала: ненавидит ли она его или любит? А может быть, одновременно то и другое?
Не было бриллиантовых россыпей на снегу, мир, сделанный из хрусталя, растаял, как мираж. Все стало другим, незнакомым и неприветливым. В лесу на фоне заснеженных елей свежими ранами краснела рябина. Машинально передвигая лыжи, Лада не замечала ни ветра, обжигавшего пылавшее жаром лицо, ни снега, заметавшего ее следы, ни леса, по опушке которого она шла наедине со своими взбаламученными мыслями. И только когда вокруг себя она увидела белые стволы берез, Лада поняла, что находится у той самой рощи, которую подарил накануне ей Дима. Словно повинуясь инстинкту, она шла сюда, к СВОЕЙ роще, к СВОИМ березкам, чтобы утихомирить мятежный хаос мыслей, успокоить взбунтовавшееся сердце.
И ей нестерпимо захотелось снова добраться до того места, где рукой Димы по золотисто-голубому снегу были выведены слова: "Ладочкина роща". Она взмахнула палками и, подгоняемая нарастающей волной чувств, устремилась вперед.
Заветной надписи не было: ее замела поземка. Остановилась растерянная, внезапно обмякшая. И вдруг вспомнила, с какой бездумной легкостью были написаны эти слова на снежной целине. Это была просто игра, минутная забава. Как и все остальное: встреча с Димой, поездка на турбазу, слова любви, которые он ей говорил. Ничего этого не было, как не было надписи на снегу, исчезнувшей при первом дуновении ветра. И Лада вспомнила фразу, сказанную Юлей Законниковой по адресу Дмитрия Братишки: "Дерьмо в золоченой облатке". Надо немедленно уехать домой, только домой, забыть обо всем, будто ничего и не было. А что сказать родителям? Не понравилось, мол. Плохо кормят. Клопы заели. Опять лгать? А дома все считают ее честной, хорошей девушкой…
Словно пытаясь уйти от своих мыслей, Лада помчалась к Сонькиной горке и на ходу подумала: почему же Сонькина горка живет уже пять лет, а Ладочкина роща не продержалась и суток? Там была любовь, настоящая любовь, а у Димы - снежная пыль, обман.
С новой силой закипела в ней обида, хотелось плакать, кричать, упрекать. Но кого?
На Сонькиной горке было безлюдно, ни души. Лада взобралась на гребень, глянула вниз. Все тонуло в туманной дымке. Лишь за рекой на колхозных огородах чернел грузовик и человек в черном лопатой сбрасывал на снег перегной. Он заметил лыжницу и выпрямился. Лада подняла вверх палку. Человек помахал ей рукой. И снова вспомнился ей вчерашний день: стремительный бег Димы, словно полет птицы, вниз к реке с этого же гребня. "Подумаешь, какой герой! Опасно. А чем я хуже тебя?" Лада сделала сильный толчок палками.
Упругий ветер колюче ударил в лицо. Лада присела, согнула в коленях ноги, подавшись корпусом вперед: так учили ее в школе. С каждой секундой лыжи ускоряли бег, рвались, словно бешеные, вперед, хотелось умерить их прыть, притормозить, но Лада не знала, как это сделать. И она отдала себя во власть стихии: куда вынесут.
Морозный ветер слепил глаза, свистел в ушах сигнальной сиреной. Вдруг что-то дрогнуло под ногами, закачалось, лыжи взметнулись в воздух, потеряли под собой опору, и в этот же миг какая-то сила швырнула Ладу в сторону, ударила о снег, затем подхватила, перевернула несколько раз и потом сразу покрыла покоем и тишиной. Только перед глазами все еще плыли голубые круги да половина сломанной лыжи бежала вниз, к реке.
С минуту Лада лежала без движения, словно хотела прийти в себя, понять, что произошло. Прежде всего - она жива. И от сознания этого ей стало отрадно. Но тут возник вопрос: как быть со сломанной лыжей? За нее надо платить. А денег у Лады нет. Это была пустяковая неприятность. Но чем упорней о ней думала Лада, тем все больше она увеличивалась, росла, пока не достигла размеров грандиозного скандала, который обязательно должен был докатиться до родителей, школы и комсомольской организации. Можно, конечно, за помощью обратиться к Диме. У него наверняка есть деньги. Но его просить об этом она ни за что не станет. И даже если он сам предложит, она все равно откажется. Пусть знает, что у нее есть гордость и человеческое достоинство. Лучше уж попросить взаймы у Юлии Законниковой и у Тань. Они выручат. Им Лада вернет в Москве, возьмет у дедушки, он не откажет, поймет ее… А впрочем, что в этом особенного? Разве редко ломаются лыжи? Почему бы не сказать об этом родителям? Они знают, что она поехала на турбазу. Чего же ей паниковать? Вот дура-то: ни с того ни с сего - в панику.
Лада попыталась подняться. И не смогла. Нестерпимо болела нога, так болела, что хотелось кричать. А может, полежать еще немного, и все пройдет? Прошла минута, три, пять. Боль не утихала и не позволяла ей подняться. Становилось холоднее, густая поземка била ей прямо в лицо мелкой обжигающей крупой. А вокруг белое безмолвие. И неоткуда ждать помощи. Может, надо ползти на турбазу? Тут недалеко, километра три, не больше. Вряд ли с больной ногой доползешь. Легче добраться до шоссе, что за рекой. До него метров пятьсот.
Она попробовала подняться на руках и провалилась в снег, ощутив острую боль в левой ноге. Наверное, лыжи мешают ей ползти, решила она. Преодолевая боль, Лада с трудом сняла лыжи, отбросила палки и не поползла, а покатилась под гору.
Он возник перед ней неожиданно, огромный, весь в черном. Только шарф ярко-красный да глаза и зубы светились на смуглом лице. Она узнала его сразу. Это был тот, вчерашний, которому Дима показывал свое превосходство. Парень с теплый участием забеспокоился:
- Жива?
Ладе было неловко перед ним. Парень узнал ее, хотя она этого и не хотела. И когда Лада сказала ему, что болит нога, он тотчас спросил:
- А что же тот, с ошейником? С другими сбежал. - Последняя фраза прозвучала утвердительно, потому что сегодня он видел Диму с девушками. - Ничего, бывает и хуже.
Лада так и не поняла, о ком это было сказано: то ли о Диме, который "с другими сбежал", то ли о ней, незадачливой лыжнице.
Проваливаясь по колено в снег, парень понес ее к грузовику. Ей было больно, но она, закусив губу, терпела. "Какой хороший, какой человек!" - мысленно восторгалась Лада юношей, пришедшим ей на помощь в трудную минуту.
- Вам, наверно, тяжело? Вы устали, отдохните, - волновалась она.
- Чего там, ты легкая, - ответил парень, и его потное, обветренное лицо расплылось в улыбке.
Невольно захотелось сравнить этого паренька с Димой. Лада всячески противилась искушению, будто речь шла о таких абсолютно несравнимых вещах, как водопад и персик. Расставаясь с ней в больнице, парень сказал:
- Желаю долго не залеживаться.
И вот бывает же такое: Лада забыла спросить его имя.
На другой день после завтрака Ладу навестили Юля Законникова и обе Тани, принесли ей апельсинов. Девушки были недолго, расспросили, как все произошло, посоветовали не переживать, поскольку это простой вывих и ушиб. До свадьбы, мол, заживет. Таня Зеленая оставила свой домашний телефон и просила звонить. (У остальных, в том числе и у Лады, телефона дома не было.) Договорились, что Юля поговорит с директором, чтобы он не подымал шум и не тревожил зря родителей. Тем более, что врачи обещали через несколько дней выписать Ладу.
В палате было еще четверо больных, но все ходячие. Ладе не хотелось завязывать с ними знакомство. Она решила поразмышлять наедине с собой. И удивительное дело, Лада поймала себя на мысли, что думает не о пареньке, который привез ее в больницу, а о Диме и совсем не осуждает его. Конечно, приход в больницу трех малознакомых девушек растрогал Ладу. Но в то же время возбудил в ней новое желание: пришел бы сюда Дима. Как бы она была рада, даже счастлива и ни в чем бы не упрекнула его. Все простила. Что именно - Лада еще отчетливо не представляла себе. А чем же все-таки провинился перед ней Дима? И незаметно от наступления она перешла к обороне, внушив себе мысль, что не Дима, самый порядочный из всех ее знакомых мальчиков, виноват в случившемся, а она сама.
Няня, вошедшая с букетом комнатных роз, прервала ее мысли. Это был даже не букет, а всего лишь два небольших распустившихся бутона: один ярко-розовый, другой бледно-розовый. Подавая Ладе цветы, она сказала:
- От парня, Димой звать.
- Он здесь? - всполошилась Лада, готовая выпрыгнуть из постели. Лицо ее запылало, да так, что и старушка заулыбалась от радости.
- Ушел. Велел передать цветы и привет.
- Как ушел? - Лада так и замерла с раскрытым маленьким ртом.
- Вот так. Велел передать. Может, постеснялся беспокоить, - добавила няня, стараясь смягчить неожиданное огорчение.
- И записки никакой не оставил? - допытывалась Лада. Ей не верилось: как он мог уйти и не оставить записки. Хоть бы два слова.
- Какую тебе еще записку? Розы зимой лучше всякой записки, милка. А что толку в записке? Слова одни. А энти, цветы-то, они больше скажут, чем слова. Лучше всяких слов, считай.
Лада благодарно улыбнулась нянечке и понюхала цветы. Они благоухали совсем как выращенные под открытым небом. Пожалуй, даже тоньше, нежней был их аромат. "Да, няня права, - утешала себя Лада. - Розы в январе красноречивей всяких слов и записок. И где только он их раздобыл, этот славный Дима?" Лада, разумеется, не знала, что розы ему достались довольно легко: он зашел в библиотеку и тайком срезал в вазоне два едва распустившихся бутона.
Не успела Лада насладиться подарком Димы, как та же нянечка сообщила, что к ней снова пришли два парня. "Дима с приятелем. Один не решился", - мелькнуло в голове у Лады. Но, увы, пришел ее старший брат Коля с заводским дружком Романом Архиповым. Лада растерялась, лицо ее побледнело, сделалось серым. "Значит, директор все передал родителям", - испуганно подумала Лада.
- Вы получили телеграмму?
- А ты разве посылала? - спросил Коля и пододвинул Роману Архипову табуретку, жестом предлагая сесть. Сам же он примостился на краю Ладиной койки.
- Нет. Директор, наверное, послал? - сказала Лада и недоуменно взглянула на Архипова.
- Это Роман, комсомол наш, - представил Коля. И хотя ребята знали, что Лада второй день в больнице, брат все же спросил: - Ты давно здесь?
Но ее мысли были заняты другим, поэтому она не обратила внимания на вопрос.
- Так кто же вам сообщил? - допытывалась она.
- Наташа, - сказал Коля. - Девочка из твоего класса.
- Наташа Ермолова? - Лада вспыхнула. - А она откуда узнала?
- В том-то и дело, что не знала, - негромко сказал Коля и искоса взглянул на больных, присутствовавших в палате. Неудобно было при посторонних говорить о сугубо личном. - Вообще, Ладочка, заварила ты кашу. Не знаю, как будешь расхлебывать.
- Ну, хорошо, хорошо, как-нибудь расхлебаю, рассказывай, что Наташа? - поторопила его Лада.
- Пришла Наташа и спросила о тебе. Мама всполошилась: "Как? А разве вы не вместе на турбазе? Тебе не дали путевку?" - "Какую путевку, какая турбаза?" Наташа ничего не знала. Отсюда все и началось. Стали выяснять. Оказалось, что школа никаких путевок не давала. Старики наши в панику. Начались розыски. Подняли всех на ноги. Мы с Романом узнали, где под Москвой какие турбазы. Поехали. Нашли. Нам сказали, что есть такая Лада Лугова, что с тобой беда приключилась и все такое. Теперь поняла?
На турбазе ребята справлялись не только у директора. Они познакомились и с Ладиными соседками по комнате. Юля оказалась знакомой им по заводу, вместе были участниками народного театра. Узнав, что Лада родная сестра Коли, Юля обрадовалась и рассказала ребятам о Диме, помогла выяснить, каким путем Лада попала на турбазу.
Лада молчала. Она уже все поняла и, охваченная тревогой, ждала дальнейших разоблачений: где взяла путевку и кто ее оплатил. Коле она еще могла открыть правду, но что скажет мать? А тут Роман вдруг ни с того ни с сего пришел в восторг:
- О-о, розы! В январе! Вот это здорово! Откуда?
- Все ясно, - вздохнул Коля. - Ну, в общем, Ладка, нога пустяк. Пройдет. А вот что сказать дома?
Она молчала, уставившись в потолок глазами, полными слез. Коля до сих пор ругал ее, но теперь понял состояние сестры. Роман, чтобы не мешать, незаметно поднялся и отошел к окну. Не поворачивая головы, Лада молвила:
- Говори, что хочешь. А я домой не приду.
- Дура ты, Ладка, - обозлился Коля. Со слов Юли Законниковой он понял, что "грехопадение" не состоялось. - Думай сначала, а потом говори.
Лада закрыла лицо одеялом и разрыдалась.
- Ну вот еще, как маленькая. И не стыдно? - растерялся Коля. - Подумаешь! Ничего страшного не случилось. Ну поругают. Мало ли что бывает…
- Я к дедушке поеду, - всхлипывала Лада. - У него поживу. Меня послезавтра выпишут. Ты приедешь за мной, Коля, а? Приедешь? - С заплаканным лицом и округлившимися красными глазами, умоляюще глядевшими на Колю, она выглядела совсем ребенком.
- Ладно, приеду, - согласился он. - Только не валяй дурака, не маленькая. - И, покосившись на розы, добавил: - Цветы выбрось.
Лада закрыла влажные глаза и кивнула головой. И в ее мозгу вдруг всплыли дурацкие строки, прочитанные Мусой:
Хорошо быть собакою, А неплохо и кисою…Губы Лады зашевелились, казалось, эти слова вот-вот невольно сорвутся с ее уст, и брат услышит их. Она закусила до крови нижнюю губу.
ГЛАВА ПЯТАЯ. НЕ ПЛЮЙТЕ В ДУШУ
Климову нездоровилось: побаливала печень, покалывало под левой лопаткой. Но эта боль тревожила его меньше всего - к ней он привык, не обращал внимания. Гораздо хуже было то, что болела душа, а эту боль ничем не загасить. На днях к нему должна была приехать авторитетная комиссия и посмотреть проект памятника героям Курско-Орловской битвы, чтобы окончательно решить судьбу монумента. Петр Васильевич с волнением ждал комиссию, никуда не отлучался из мастерской. В любую минуту могли позвонить и сказать: "Встречай, едут!" Как вдруг в газете под рубрикой "Заметки писателя" появилась большая статья Макса Афанасьева, в которой резко критиковался проект этого памятника. Попутно в ней иронически говорилось о творческом методе Климова и ставился вопрос о нецелесообразности сооружения исторических монументов в наше время, тем более героям Отечественной войны, скромным людям, которым были чужды напыщенность и помпезность. Не лучше ли, спрашивал писатель, сохранить поле битвы в его первозданном виде: с траншеями, подбитой техникой, оружием?
На первый взгляд мысли автора казались заманчивыми, подкупающими. Но стоило всерьез задуматься, как сразу же обнаруживалось, что исходным пунктом в статье Макса Афанасьева было пренебрежительное отношение к подвигу народа. Не мог же он не знать, что время очень быстро сгладит следы войны. И тогда уж ничто не напомнит потомкам о героизме и мужестве отцов и дедов. Памятник же останется в веках как символ героического прошлого народа.
О статье Климов узнал по телефону от своего помощника Матвея Златова - плотно сбитого нестареющего человека, с бесшумной рысьей походкой и внимательным, всегда спокойным взглядом.
Доставка материалов, расчет с мраморщиками и гранитчиками, формовка и отливка скульптуры, транспортировка и прочее - все лежало на плечах Златова, незаменимого организатора-коммерсанта. За это его Климов ценил. И когда Златов, бывало, хворал и не приходил в мастерскую, Климов буквально зашивался, и слаженная работа творческой мастерской сразу приостанавливалась, угрожая хаосом. Нет, без Матвея Златова Климов был как без рук. И тот это отлично знал. Климов платил ему из собственного кармана двести пятьдесят рублей в месяц. Златов не жаловался, с него хватало. К тому же у него бывали еще и левые заработки, куда более солидные, чем тот, который он получал у Климова.
Златов кое-что соображал по части изобразительного искусства, особенно скульптуры. Вращаясь долгое время в кругу художников, прислушиваясь к разговорам, он поднатерся. Выдавая чужие мысли за свои, Матвей иногда даже высказывал свое мнение о произведениях. Златов был человеком весьма осведомленным о всех делах Союза художников, академии и других учреждений. Поэтому часто получалось так, что не Климов информировал Златова, а Златов - Климова. Информировал тенденциозно. Матвей не говорил неправды шефу, он просто замалчивал некоторые факты. В особенности, когда правда могла повредить интересам Златова. Он ревниво оберегал своего шефа от каких бы то ни было посторонних влияний, от нежелательных друзей. Климов полностью доверял ему, делился с ним не только творческими замыслами, но и многими сокровенными мыслями по житейским делам, спрашивал совета. В этих случаях Матвей осторожно, тонко предлагал различные варианты. Такая серьезность, степенность и неторопливость нравились Климову. В творческие дела скульптора Златов не вмешивался, не навязывал своего мнения, был беспристрастен. Во всяком случае, так казалось самому Климову.
Когда появилась статья Макса Афанасьева, Златов пришел в мастерскую злой и негодующий. С порога своим обычным тихим голосом он спросил сидящего в глубоком кожаном кресле Климова:
- Что ты решил делать с этим подонком?
Петр Васильевич понимал, что речь идет об Афанасьеве. Однако того, что Златов не только хорошо знаком с Максом, но и дружит с его отцом, он не знал. Климов коротко взглянул на Златова и ничего не ответил.
- Положение трудное, но не безвыходное. - Златов сел за письменный стол и положил руку на телефонную трубку. Можно было подумать, что у него есть выход. Стоит только кому-то позвонить - и все будет в порядке. У Климова повеселело на душе. Но Матвей не позвонил, а глядя поверх очков умными преданными глазами, сказал:
- Помочь может только маршал. Ты с ним говорил?
- Да, он мне звонил. Возмущен, мечет громы и молнии. Пришлось успокаивать, - Климов горько ухмыльнулся.
Златов поймал эту ухмылку.
- Хороший признак. Значит, ты не очень расстроен.
Климов заговорил, обращаясь уже не к Златову, а негромко, точно к самому себе. Это были мысли вслух:
- Этого надо было ожидать. И дело вовсе не в Максе, а в принципе. В его статье совершенно определенная тенденция. Идет она с Запада. Там аукнется, здесь откликнется. И сама метода - гангстеризм - тоже оттуда. Иностранного производства. Ты не согласен? - Климов сверкнул на Златова острым взглядом.
- Видишь ли, - глубокомысленно произнес Златов, не глядя на Климова. - Если мы хотим сосуществовать всерьез, то надо быть последовательными: нужны уступки с нашей стороны.
- В идеологии? - быстро спросил Климов. Кофейные глаза его округлились, излучая пронизывающий блеск.
- А как же иначе? Борьба разжигает страсти.
- Тебе не кажется, что ты несешь чепуху?
- Возможно, - легко согласился Златов, никогда не вступавший в спор с Климовым. Он умел скрывать свои мысли и чувства, симпатии и антипатии.
Пройдясь по кабинету тяжелой походкой, Матвей переключил разговор в другое русло:
- А тебе не кажется, что ты устал, что тебе надо отдохнуть?
- Нет, не кажется, - недовольно и резко ответил Климов. Отдыхать он действительно не умел, никаких санаториев не признавал. Расходовать драгоценное время на ничегонеделание, попросту сорить им считал недопустимой роскошью.
- Тогда тебе надо влюбиться, - посоветовал Златов, задумчиво и бесшумно шагая по длинному кабинету.
- Только этого мне не хватало. Особенно теперь.
- Именно теперь. Я был бы рад. Любовь помогает пережить любые неприятности. Что может быть сильнее любви! - Златов остановился и поверх очков тупо уставился на Климова.
- Можно подумать, что ты всю жизнь занимаешься этой проблемой. - По лицу Климова легкой тенью скользнуло подобие улыбки.
- Думай что хочешь. Твое право. А мое - думать, что ты вообще не способен на серьезные чувства. - Похоже было, что Златов "поджигает" своего шефа.
- А в кого влюбляться? - вдруг довольно живо спросил Климов. - Я не верю женщинам. С меня хватит!
Но слова его не воспринимались серьезно: в них звучала легкая ирония.
- Не надо уподобляться той пуганой вороне, которая боится куста. Если тебе однажды не повезло, это не значит, что все женщины такие.
- Все, - с деланной меланхолией сказал Климов.
- Ты говоришь чужие слова. И знаешь чьи? Посадова. Ему тоже не повезло, а время упущено, и вот он теперь зол на весь мир. А у тебя не все потеряно. Ты молод, интересен, знаменит. Пятьдесят лет - возраст любви. Любая девушка отдаст тебе сердце.
- В обмен на деньги?
- Зачем так? Я говорю о тех, которые полюбят тебя бескорыстно, как человека, как мужчину.
- Для меня этого мало, - отрывисто бросил Климов и встал. Теперь он говорил серьезно.
- А что еще тебе надо?
- Я хочу, чтоб она любила не только меня, но и мое искусство. Понимаешь - мое. Чтоб оно было для нее тем, чем для меня. Вот все это!
Климов широким жестом указал на длинную стену. Там на ореховом стеллаже стояли скульптуры, главным образом портреты: военных, артистов, писателей, рабочих, крестьян, государственных и общественных деятелей - в бронзе, мраморе и гипсе.
- Между прочим, - продолжал Златов, возвращаясь к началу разговора, - главное, на что бьет Макс Афанасьев, - это размер памятника. И тут, к сожалению, он находит себе сторонников даже в академии. Говорят, что это не будет смотреться. Слишком велик. Двадцать четыре метра - в степи!
Климов внимательно смотрел на Златова, пытаясь разгадать, кто именно в академии говорил о размере памятника: человек, вкусу которого он доверяет, или же кто-нибудь из его недругов? Спрашивать же Златова считал неудобным: не говорит - значит, так нужно. Златов был непроницаем. Бледное лицо Климова потемнело, сухие губы вздрогнули.
- Размер… Не будет смотреться… Когда Гутзон Берглун делал в скале памятник Вашингтону, Джеферсону, Линкольну и Теодору Рузвельту, он меньше всего думал о размере. Его волновала впечатляющая сила образа.
- Но то в скале, на горе, а у тебя равнина.
- Так у него высота семьдесят два метра, а у меня двадцать четыре. - В голосе Климова прозвучало едва уловимое раздражение. - Есть разница или нет? Тот памятник делали четырнадцать лет, а мы должны уложиться в четыре года… Размер, гигантомания. Я понимаю, когда Корчак Зиолковский решил в скале вырубать фигуру индейского вождя на лошади высотой сто семьдесят метров - это уже вздор, Древний Египет в американском издании. Тринадцать метров - длина пера на голове. Представляешь?
Раздался телефонный звонок. Златов снял трубку, поинтересовался, кто спрашивает Петра Васильевича, и, передавая Климову трубку, равнодушно заметил:
- Какая-то журналистка. Хочет писать о тебе статью. Как раз самый подходящий момент.
Последняя фраза Климову пришлась по душе, зацепилась в сознании, породила надежду. Выслушав девушку, Климов сказал:
- Ну приезжайте сейчас. Да, именно сейчас - у меня есть свободное время.
- Это было бы недурно, - заметил Златов, - если б она в своей статье, не вступая в спор с Афанасьевым, рассказала о проекте памятника Курской битвы. А? Как ты считаешь?
- Да, конечно. Хоть что-нибудь, чем ничего.
- Так что ты с этой мадам будь понежней, - пошутил Златов. - А я поехал на закупочную комиссию.
Не прошло часа, как Лика Травкина, восторженная, с пылающим лицом, сидела за письменным столом в кабинете Климова перед раскрытым блокнотом. Влюбленно глядя на скульптора круглыми птичьими глазками, она вела неторопливый "допрос", предварительно обойдя мастерскую и познакомившись с работами. Лика отрекомендовалась писательницей, корреспондентом молодежного журнала. Ее интересовали и биография, и творческий путь Климова. Особенно взволновал ее проект Курского памятника.
- Статьей Афанасьева все возмущены. Это непристойный выпад и просто… ну, вы знаете, несерьезно, неумно, - сморщив тонкий носик и вздрогнув круглыми плечиками, вкрадчиво прощебетала Лика.
- И у вас в журнале возмущены? - с язвительной улыбкой поддел Климов.
Он сидел в излюбленном кресле возле письменного стола и приставленного к нему круглого журнального столика. Глядя внимательно на девушку взглядом художника, думал: "Интересно, сколько ей лет? Двадцать пять, не больше. Нет, пожалуй, больше. Паутина морщинок у глаз, складка у рта… Юношеская прическа, мелкие черты лица и мягкий голосок молодят ее. В ней есть что-то… кошачье. Характера не заметно… А взгляд выдерживает привычно, даже с вызовом. Видно, восторженная натура. Любопытно".
- Я в редакции бываю редко. Изредка печатаюсь там. Я знаю, вы наш журнал недолюбливаете. Вы напрасно Думаете, что там плохо к вам относятся. Вас любят, уважают и ценят все порядочные люди. - Она, не сводя глаз, кокетливо глядела на Климова, подперев подбородок руками.
"Довольно разбитная особа", - подумал Климов и, лукаво улыбнувшись, обронил:
- Передайте им мою благодарность.
- Кому? - Лика ответила кокетливой улыбкой.
- Всем порядочным людям.
- Постараюсь. Через печать. - И тотчас же ее лицо стало серьезным, и она восторженно сказала: - Это будет мой лучший очерк. Вы такой большой… Я даже слов не нахожу. Я, конечно, знала ваши работы и раньше, но то, что я увидела… Нет, мне здорово повезло.
Он перебил ее:
- Вы в каком жанре пишете? Проза, стихи?
- И то и другое. Вернее, мое призвание - стихотворения в прозе.
- Ого! Сразу за Тургеневым.
Она почувствовала иронию и тут же приняла вид незаслуженно оскорбленной. Климов понял, но извиниться перед ней почел еще более неудобным. Чтобы как-то смягчить напряжение, искренне признался:
- Был бы счастлив познакомиться с вашими стихотворениями в прозе. По-моему, жанр этот имеет будущее. Он портативен. Толстенные тома скоро перестанут читать.
- Ну что ж, - снисходительно молвила Лика, - если так немного нужно для вашего счастья, готова услужить… - И достала из сумочки книжонку "Голубое безумство". Положила ее перед собой и, прежде чем сделать дарственную надпись, задумалась, прикрыв маленькой ладонью глаза: ей хотелось написать что-то сногсшибательное, архиоригинальное. Но большим умом Лика никогда не отличалась. И она написала:
"Гениальному Климову.
Дорогой Петр Васильевич!
Я счастлива,
что живу с Вами в одном городе".
Климов взял книгу, поблагодарил и, взглянув на обложку, вытаращил глаза:
- Почему "Голубое безумство", а не фиолетовое или не серо-буро-пластмассовое? - И поняв, что опять сгоряча задел авторское самолюбие, добавил извинительно: - Интригующе, черт возьми! Будем читать.
- Я буду ждать вашего отзыва. Хорошо? Для меня это очень важно. Ваше мнение…
- А как я вам сообщу?
Лика взяла из его рук книжку и на обложке написала свой телефон.
Климов предложил ей чашку кофе, она охотно согласилась.
Вечером того же дня Матвей из своей квартиры звонил Лике:
- Докладывай, крошка Лика, как прошла первая встреча?
Она осыпала его градом вопросов:
- Ты с ним говорил? Что он обо мне сказал? Как он…
- Я его увижу только завтра, - прервал ее Златов. - Ты очаровала его?
- Да, - торжествующе подтвердила Лика. - А он симпатяга.
- Угощал?
- Кофе с коньяком. И без пирожного.
- Холостяки пирожного не держат. Коньяк заменяет. Ну что ж, действуй решительно и в темпе.
- Завтра я ему буду звонить.
- Это зачем? Он просил?
- Нет. Я скажу, что очерк сдала в АПН, принят, пошел на заграницу. А теперь решила написать книгу о нем и уже даже с издательством договорилась.
- Так быстро? Не годится. Денька два повремени.
А утром Климов спрашивал Златова, показывая ему "Голубое безумство":
- Послушай, Матвей, ты не знаешь такую писательницу или журналистку Лику Травкину?
- А что такое? - Златов никогда не торопился с ответом. - "…Я счастлива, что живу с Вами в одном городе…" - прочел он дарственную надпись. А про себя с иронией подумал: "Следовало бы добавить: "И мечтаю жить с Вами под одной крышей". Женщины умеют скрывать свои мысли, недоговаривать, опускать концы в воду".
- Да вот подарила вчерашняя, писать обо мне хочет.
- Ну и как она? Молодая, умная?
- По-моему, просто сексуальная особа. Морочила мне два часа голову. Ничего она не напишет. А книжка ее - это какой-то бред. Отрыжка старой декадентщины… Она тут телефон оставила. И неспроста. Послушай, если она позвонит - я уехал в Курск. Вернусь через полгода, через… год, не раньше.
- Как это понимать? - Златов озадаченно склонил набок голову. Он был огорчен и не мог этого скрыть.
- Я ее сразу раскусил.
- Боишься влюбиться?
- В такую? Нет. Можешь быть спокоен: эта не для меня.
Вечером из дому Матвей звонил Лике:
- Как дела, невеста?.. Должен тебя огорчить.
- Что такое, мой мальчик? - Лика насторожилась.
- На Петю поставь крест.
Последовавшая затем долгая пауза свидетельствовала о замешательстве на другом конце провода. Потом маленькая вспышка надежды, и упавший голос Лики уточнил:
- Ты имеешь в виду Петра Васильевича?..
- Ну, конечно, не Петра Первого. - И снова пауза, скорбная, глубокая, точно пропасть. Матвей понял, что Лика не в состоянии задать следующий вопрос, и он попытался ответить на этот и на следующие возможные вопросы: - Думаю, что отчасти причиной твоя книжка. Она его взбесила. Я ведь тебя предупреждал, что он старомоден и во взглядах и во вкусах.
- Я не думала… А впрочем, рано или поздно, все равно пришлось бы ему показать "Голубое безумство", - оправдывалась Лика.
- Рано или поздно - не одно и то же. Это две большие разницы. Ты показала рано. А нужно было показать поздно. Понимаешь, поздно теперь поднимать шум из-за какой-то книжонки, которой грош цена на одесской толкучке.
- Ты так считаешь или так думает твой шеф? -ощетинилась Лика.
Златов пожалел о сорвавшейся фразе, поспешил успокоить подопечную:
- Он, он, конечно, он.
- Ну так передай своему шефу, что за него я и гроша не дам, даже в старых деньгах и на той же одесской толкучке в самый базарный день! Передай, пожалуйста. - Лика оправилась от первого замешательства, выпустила коготки и ощерила зубы.
- Послушай, крошка, ты же умная женщина, - здраво рассудил Матвей. - Стоит ли огорчаться о потере того, чего не имела?
Вместо ответа послышались короткие гудки: Лика положила трубку.
- Глупо, - вслух произнес Златов и прилег на диван, подложив под голову ладони. Он был один в своей комнате, и никто не мешал ему рассуждать. - Конечно, ее можно понять: сорвалась, можно сказать, золотая рыбка. Ну, а при чем тут я? Я желал им обоим добра. Думал, сойдутся и будут жить, как люди. Мое дело было устроить им встречу. А дальше действуй сама, не могу же я его заставить. Соображать надо. Что, она не знала, кто такой Климов? На него можно влиять, но перевоспитать нельзя. А она сразу - "Голубое безумство"… - Вспомнив надпись на книге: "Я счастлива, что живу с Вами в одном городе", Златов громко расхохотался: - А счастье было так возможно, так близко! Эх, крошка… Ты таки действительно "типичное не то" - чрезмерно очаровательна и чрезмерно глупа. На такую рыбку, как Климов, нужен другой живец.
А жениться Климову необходимо, в этом Златов был убежден. И чем скорей, тем лучше. Жена сделает из этого стихийного бунтаря то, что не всегда удается Златову.
И Златов стал думать о другом "живце". Правда, сам Климов даже не подозревал, что Златов озабочен не только тем, где найти хороший блок мрамора для Емельяна Пугачева, но и поисками подходящей во всех отношениях невесты для скульптора.
Саша Климов, единственный сын Петра Васильевича от первого брака, второй год работал на "Богатыре" и готовился поступать в МГУ на факультет журналистики. Писал стихи, короткие рассказы и печатал их в заводской многотиражке. В других редакциях, куда он раза три-четыре обращался, ему любезно отказывали.
- Значит, как литератор ты еще не созрел, - с улыбкой говорил Петр Васильевич сыну. - Не обрел мастерства. Садись и обретай.
- Но, папа, печатают же и в этих журналах совсем слабые рассказы, стихи и даже целые повести, - огорчался Саша. - Ты же сам говорил. И Алексей Васильевич…
- Да, да. Не отрицаю. Пока ты еще пишешь посредственно, то есть на среднем уровне. А сын Климова обязан писать только хорошо и выше. Понял? Вот потому тебя не печатают, - наставительно объяснял Петр Васильевич.
С сыном он разговаривал всегда полушутя, даже о самых серьезных вещах. Там, где некоторые родители в таких случаях пускаются в глубокомысленные нравоучения, Климов отделывался легкой иронией или мягкой шуткой. Петр Васильевич подозревал, что недоброжелательность к нему части деятелей культуры рикошетом бьет по сыну. Думал об этом и Саша. Поэтому полушутя-полусерьезно он ответил отцу:
- Тогда, может, мне подписываться как-то по-другому? Взять псевдоним?
- Попробуй. Например, Саша Красный. Был же такой поэт - Александр Гликберг, подписывался Саша Черный. И ты попробуй. Но уверяю - ничего не изменится, писать от этого лучше не станешь. Псевдоним никому еще не прибавлял таланта.
Саша был веселый, общительный паренек, обладавший неистощимой энергией и любознательностью. Уже в пятом классе он редактировал школьную стенгазету, теперь же, на заводе, был душой "комсомольского прожектора".
Их было трое заводил: Саша Климов, комсорг сборочного цеха Коля Лугов и секретарь заводского комитета комсомола Роман Архипов. Заводская библиотекарша Вероника - страстная поклонница ультрамодных стихов и абстрактной живописи - называла их в насмешку "железобетонными близнецами", хотя в общем-то это были разные парни. Саша, худенький, подвижной, за все брался и быстро остывал. В нем жило еще много мальчишеского. Был у них в доме попугай по кличке Пи-пи - зеленый ленивый флегматик, глупый, как все попугаи, но внешне чем-то напоминавший Матвея Златова. И вот однажды Саше взбрела идея разыграть Златова. Для осуществления этого Саше нужен был помощник, чтобы позвонить в мастерскую Климова. Роман Архипов отказался.
- Хорошо, не хочешь, не надо. Позвонит Коля.
И вот они вдвоем стоят у телефона, и Коля Лугов под диктовку Саши говорит подошедшему к аппарату Матвею Златову:
- Алло! Это квартира товарища Климова? Здравствуйте. С вами говорят из ветлечебницы номер девять. У вас есть попугай? Есть? Вам надлежит срочно сделать ему прививку. Сейчас в Москве свирепствует мадагаскарская чума. Разносчики ее - птицы жарких континентов. Да, да. Постарайтесь не позже завтрашнего дня. Это очень, очень серьезно. Наш адрес? Запишите: Новые Черемушки, Восьмая улица Строителей, дом тридцать шесть. С девяти до пяти вечера. Пожалуйста, не забудьте паспорт.
- Мой или владельца птицы? - уточнил Златов. Этого вопроса они только и ждали.
- Нет, нет, паспорт попугая, - давясь смехом, подтвердил Коля.
- А он разве есть? - неуверенно переспросил Матвей.
- Ну, конечно, конечно. Как же - такой редкий экземпляр, и без паспорта.
С бумажкой, на которой был записан адрес лечебницы, Матвей подошел к Климову, стоявшему высоко на лесах и занятому фигурой Лермонтова.
- Извини, пожалуйста, - глядя поверх очков, тихо начал Златов. - Звонили сейчас из ветлечебницы. Требуют завтра привезти Пи-пи на прививку противочумной вакцины. Какая-то мадагаскарская свирепствует, а ее разносчики - тропические птицы. - Матвей смиренно смотрел на шефа.
Климов, мысли которого так внезапно оборвал Златов, не сразу сообразил, о чем идет речь. Продолжая мять сильными руками глину, он бросил через плечо:
- Ну и вези. Я, что ли, повезу?
- Не в этом дело.. Я, конечно, повезу. Но они требуют паспорт.
- Мой?
- Нет, Пи-пи.
Климов остановился и, резко повернувшись, хмуро посмотрел на Златова.
- Матвей, что с тобой? Ты спал сегодня? Или, может, ты уже подцепил мадагаскарскую чуму? Так ты и себе заодно сделай укол.
- Я не шучу, я вполне серьезно. Я еще переспросил их. Они сказали, что у такой птицы, как наш Пи-пи, должен быть паспорт.
- Никакого паспорта нет и не было. Я купил его на птичьем рынке. Там все беспаспортное: рыбы, птицы, собаки, даже сиамские кошки.
Климов вновь принялся за работу. Златов не уходил.
- Как же быть? Сказать, что паспорт утерян?
- Послушай, Матвей. Выбрось ты этого попугая ко всем чертям за ворота! - раздраженно бросил Климов.
- На дворе минус пятнадцать. Замерзнет. Жалко птицу. Может, подарить кому-нибудь?
- Попугая и чуму в придачу? Здорово!..
- Какая чума? Пока ничего нет, но, если не сделать прививку, может быть.
- Делай что хочешь, только отстань. - Климов уже начал сердиться. - Вези хоть к Склифосовскому, хоть к Кащенко. И оставь меня в покое.
На следующий день, взяв попугая, Златов помчался в Черемушки искать Восьмую улицу Строителей. Чертыхаясь, он вскоре возвратился к Климову и, с раздражением швырнув Пи-пи в угол, мрачно проворчал:
- Разыграли, мерзавцы. Не пойму кто: голос незнакомый.
Климов раскатисто захохотал. Он смеялся до слез, багровея, приговаривал:
- Я ж говорил: тебе надо прививку сделать. От кретинизма. На такую дешевую покупку клюнул.
Роман Архипов казался полной противоположностью Саше Климову. Сдержанный, по-военному всегда подтянутый, этот светлоглазый парень был не по годам серьезен. Техника - его родная стихия. Общественно-комсомольская работа оставляла ему мало свободного времени. В спорах о современном стиле в литературе, которые нередко вспыхивали в среде заводской молодежи, он участвовал пассивно. Стихов и романов, о которых обычно дискутировали, Архипов не читал - не трогали они его. На художественные выставки ходил редко. Но зато много времени отдавал институту. Он учился на вечернем отделении механического факультета. Его отец, советский дипломат, жил с матерью за границей, а Роман с братом обитали в трехкомнатной московской квартире. Иногда к нему заходили Саша Климов и Коля Лугов или товарищи по институту, крутили магнитофон, смотрели телевизор, обсуждали очередной номер "комсомольского прожектора".
Однажды в соседнем доме обворовали квартиру. Днем. Все возмущались. Роман сказал мрачно:
- Эх, сделать бы так, чтобы воры попадались, как лиса в капкан.
И недели через две капкан-"вороловка", сконструированный Романом, был установлен в квартире Архиповых. Принимала его авторитетная комиссия в лице Александра Климова и Николая Лугова. Втроем они поднялись на пятый этаж, где жили Архиповы. Роман достал связку ключей, сунул длинный с крючком штырь в замочную скважину, повернул его дважды и негромко пояснил:
- "Вороловка" выключена.
Без каких бы то ни было происшествий ребята вошли в квартиру. Затем они возвратились на лестничную площадку, и Роман захлопнул дверь на замок.
- Теперь предположим, вы подобрали ключи или отмычку от нашего замка. Вот тебе, Саша, ключ, открывай дверь и входи.
- И что будет? - насторожился Климов.
- Да ты не бойся, останешься цел и невредим, - успокаивал Роман.
- Да ну тебя: знаю я твои штучки, - Климов отдал ключи Лугову. - Пусть откроет дверь Коля.
Тот молча взял ключ, неторопливо сунул его в замок и резко открыл дверь. И тут же в квартире взвыла сирена, откуда-то сверху ударили упругим пучком струи воды. Коля отпрянул от двери и чертыхнулся, больше от изумления.
- Ну как?! - восторженно спросил Роман.
- Безотказно!
- Впечатляюще!
- Так это для вас я зарядил водой. А вообще - заливаю красными чернилами, - пояснил Роман. - Представляете состояние вора, вдруг под вой сирены окропленного красным. Точно кровью меченный.
- Убежит, - определенно решил Коля.
- Но его запомнят лифтерша, дворник, соседи и прохожие. Словом, больше сюда он не сунется и другим закажет дорогу, - сказал Роман.
- А может, не закажет, а только укажет? - заметил скептически Саша и добавил: - Аппарат не соответствует своему назначению. Какая же это, к черту, "вороловка", когда она никого не ловит, а только отпугивает?
- Предупреждает воровство, - компромиссно уточнил Коля, второй член комиссии.
Изобретение было принято с оценкой "удовлетворительно" без рекомендации в серийное производство и внедрения в быт.
А потом как-то однажды Романова мама возвратилась из-за границы, не предупредив сыновей о своем приезде. С вокзала она приехала на такси днем, ребят дома не было, и она стала первой жертвой изобретательства сына. Аппарат действовал безотказно.
Таков был Роман Архипов.
Что же касается Коли Лугова, то, по мнению заводских ребят, он был в этой тройке своего рода буфером, выполняющим роль арбитра. Когда Архипов говорил "да", а Климов - "нет", решающее слово принадлежало Лугову. А если говорить о его профессиональном мастерстве, то в сборочном цехе таких, как Коля Лугов, было раз, два - и обчелся. Все звали его там "профессором".
Саша пришел с работы без четверти пять и возле своего дома столкнулся с Посадовым. Алексей Васильевич, подняв бобровый воротник зимнего пальто, стоял монументом у крыльца, о чем-то" раздумывая.
- Вы к нам или от нас? - спросил Саша, не поздоровавшись.
- А-а, ты уже с работы, - будто обрадовался Посадов, подавая руку Саше. - А я, понимаешь, дошел до вашего дома и вдруг вспомнил, что мне к пяти надо быть на заводе, в парткоме… Значит, опоздал. Ну ладно - переживем.
Вошли в дом, разделись. Посадова Петр Васильевич встретил обычным вопросом:
- Где ты пропадал? Сто лет я тебя не видел. И тот, как всегда, ответил:
- Дела, брат, дела.
- А что, и до вас добрался новенький?
- Что за новенький? - нахмурился Посадов, не поняв Сашу. - Ты о ком?
- О Глебове. Он вас вызывает?
- Не вызывает, а приглашает. Просили зайти, - поправил артист, приглаживая серебристую шевелюру. - Меня, братец мой, вызывать не могут. Это вот таких шересперов, как ты, надо вызывать, да почаще, чтобы помнили и не забывали.
- Что помнили, Алексей Васильевич? - Саша стоял перед сидящим на диване артистом и лукаво улыбался.
- Что человек должен быть человеком, иметь честь, достоинство, совесть, наконец, порядочность. - И Посадов нахмурился.
- Это обязательно для всех людей или только для рядовых, так сказать, для масс? - Сашины глаза сузились, а на беспокойных губах играла улыбка.
- Ты эти штучки брось, - погрозил Посадов Саше толстым пальцем.
Саша частенько донимал отца и Посадова "щекотливыми" вопросами. И всегда с колючей улыбочкой.
- Ты вот что, сходи распорядись насчет обеда, - повернулся Петр Васильевич к сыну.
Обедали все вместе. Петр Васильевич рассказал Посадову о визите к нему Лики и о "Голубом безумстве".
- Вы не хотите иметь Энциклопедический словарь? - спросил Посадова Саша. И этот вопрос задан неспроста, а с тайным смыслом. Он уже много слышал об этом словаре от Вадима Ключанского, дескать, там - торжество истины и справедливости.
- Есть такой словарь? - заинтересовался Петр Васильевич.
- Говорят, скоро выйдет из печати. Вокруг него уже идет сенсационный шум.
- Догадываюсь, - сказал Климов-старший. - Сами себя небось расхваливают до небес, в гении друг друга возводят.
- А зачем мне нужно собрание дифирамбов? По энциклопедии нетрудно догадаться, что это такое будет, - добавил Посадов и помрачнел. - Я воевал в 33-й армии. Командовал ею генерал Ефремов, тот самый, которому памятник в Вязьме стоит. Между прочим, первый памятник герою Отечественной войны. Вучетич, кажется, делал. А попробуйте найдите имя генерала Ефремова в энциклопедии. Нет его.
- Мы многих, к сожалению, не помним, кем по праву должна бы гордиться Россия, - с грустью заметил Петр Васильевич. - Возьмите Савву Мамонтова. Ведь сколько он сделал для русского искусства! Горькому и Шаляпину помог на ноги стать. А скольких художников поддержал!
- Да-а, Савва Мамонтов - это человек! - согласился Посадов и, выпрямившись, сжал тяжелые кулаки. - Вот о ком книгу писать надо! Был богатый человек, это верно. Но куда он, Савва Иванович, свои капиталы вкладывал? В искусство, в таланты народные. Россию любил. И не драпал за рубеж, как рябушинские. Помню, в первые годы Советской власти зашел я как-то к нему на квартиру. Жил он тогда в какой-то хибарке на Красной Пресне. Шел я к нему и думал: "Вот сейчас встречу лютого врага революции". Дескать, станет в позу, начнет ругать Советскую власть. Ничего подобного. Сидит передо мной старикашка и спрашивает: "Ну как там Федька поживает?" Это он о Шаляпине, вот о ком думал! - Окинув взглядом Климовых, Посадов смолк.
Саша заторопился на завод.
- У нас сегодня во Дворце культуры вечер поэзии. Выступают самые молодые, самые популярные, самые-пресамые: Артур Воздвиженский и Новелла Капарулина. Пойдемте, Алексей Васильевич?
Посадов поставил на стол чашку с чаем, посмотрел на Сашу.
- А что я там не видел? Комедиантов?
- Они поэты, Алексей Васильевич. - Лукавые глазки Саши улыбались. - Знаменитые, всемирные. Их стихи даже "Голос Америки" цитирует.
- Вот и пускай едут в Америку. А вам, заводским ребятам, они к чему? - рокотал ворчливо Посадов.
- Действительно, нашли кого приглашать, - хмуро бросил Петр Васильевич. - Да этому Воздвиженскому нужно сначала русскую грамматику как следует выучить, а потом уже стихи писать.
- А зачем ему учить? - сказал Посадов. - Для него грамматика устарела. Потому и реформу замышляют.
- Ну пойдемте, Алексей Васильевич, - умолял Саша: к старому актеру он питал особую привязанность. - Там вы и с Глебовым увидитесь.
- Разве что, - сдался Посадов. Сашу Климова он любил по-отечески, дарил ему разные безделушки, приглашал его на спектакли и концерты, терпеливо слушал его стихи. Впрочем, никогда не переоценивал его способностей. "В тебе артист сидит. А поэзия - возрастное. Пройдет. А вот сцена - сцена для тебя, и ты для нее".
"Не морочь парню голову, - обычно возражал отец. - Актер из него не получится, хороший актер, а не кривляка".
Посадов не соглашался с Петром Васильевичем, а сам Саша всерьез никогда не думал о сцене.
- А ты знаешь, я, пожалуй, пойду с тобой, - объявил Посадов, вставая. - А то как-то нехорошо получится перед Глебовым: он просил, я обещал. Ну, до скорого, - бросил он и направился к выходу.
ГЛАВА ШЕСТАЯ. ПОЭЗИЯ И АНТИПОЭЗИЯ
У входа в заводской Дворец культуры на рекламном щите метровые буквы:
ВЕЧЕР ПОЭЗИИ. СТИХИ, ПОЭМЫ.
ЗАРУБЕЖНЫЕ ВПЕЧАТЛЕШИЯ.
ВПЕРВЫЕ У НАС В ГОСТЯХ МОЛОДЫЕ ПОЭТЫ
АРТУР ВОЗДВИЖЕНСКИЙ И НОВЕЛЛА КАПАРУЛИНА.
Вход свободный
Начало в 18 часов
При входе в библиотеку тот же текст, только помельче. У библиотечной стойки - книжки Воздвиженского и Капарулиной с интригующими названиями: "Вниз головой", "Треугольный шар", "Космодуги", "Электронная парабола", "Я иду", "Твист и ракеты". А по другую сторону, под рубрикой "Прочти эти книги" несколько книг современных поэтов и прозаиков. Между двумя полками за барьером стоит симпатичная и торжественно-нарядная Вероника. Ей двадцать лет. У нее пунцовые от волнения щечки и черные от туши ресницы и брови. На голове - копна модных седых волос, сделанных парикмахером. Она мило улыбается, увидев у выставки среди трех друзей Сашу Климова, которого она давно уже милосердно простила, сняв с него ярлык "железобетонного ортодокса".
- Итак, чем нас сегодня будет воспитывать очаровательная Вероникочка? - спрашивает, отвечая ей на улыбку, Саша.
- Тебе могу предложить повесть "Я не люблю вокзалов", перевод с армянского, - говорит Вероника.
- Это о чем? - поинтересовался Саша.
- Об одном лоботрясе, который после окончания школы не знал, куда себя деть, бил окна, всех критиковал, никого не признавал и поэтому считал себя самым умным на свете парнем. Я читал, - поспешил пояснить Коля.
Вероника ухмыльнулась.
- Стоит читать? - спросил Саша.
- Хорошая книга, - похвалила Вероника. - Ты его не слушай.
- Девочки, рестораны, поцелуи в подъезде и на улице, - комментировал Коля. - Очередной образцово-показательный антик, герой времени, литературы, песен и кино.
- Это уже старо, мне что-нибудь пооригинальней, - отказался Саша.
Зрительный зал был полон. Пришла на вечер поэзии не только заводская молодежь. Глебов обратил внимание, что в зале немало было пожилых рабочих: мужчин и женщин. Он сидел с краю в пятнадцатом ряду вместе с Посадовым. Впереди них - Саша Климов, Коля Лугов, Роман Архипов и Юля Законникова. Вступительное слово произнес Александр Маринин. Он говорил цветисто, темпераментно о том, что молодая поэзия завоевала сердца масс, вышла на площадь и эстрады, покорила смелой мыслью и новизной формы. Что молодые поэты ищут, выполняя наказ Маяковского: "Твори, выдумывай, пробуй". И находят. И творят. И выдумывают. Успешно. Это прежде всего относится к сегодняшним гостям: Артуру Воздвиженскому и Новелле Капарулиной.
По залу волной прокатились аплодисменты. Поэт и поэтесса встали и непринужденно поклонились. Затем Маринин предоставил слово Капарулиной. Высокая сутулая девушка с растрепанными темными волосами и большими глазами, пожалуй, слишком большими для ее бледного мелкого лица, поднялась. Неторопливо и торжественно взошла на трибуну, отсутствующим взглядом обвела настороженный зал. Выдержав паузу, точно собираясь сделать какое-то откровение, она. грудным с хрипотцой голосом возвестила:
- Мой великий друг Артур Воздвиженский, - и смолкла, ожидая привычных аплодисментов в честь "ее друга". Аудитория молчала, не догадываясь, что именно в этом месте надо неистово аплодировать. Не дождавшись хлопков, поэтесса надула губки и продолжала: -…недавно рассказал мне о своей встрече с одним американским бизнесменом в Филадельфии. Так вот, этот бизнесмен, весьма далекий от поэзии и политики, признался советскому поэту: Петр Великий прорубил окно в Европу… А теперь наступило новое время - эпоха открытых дверей. Мы проводим "недели открытых дверей" в институтах, университетах и других учебных заведениях. Хорошо" бы проводить "недели открытых дверей" и на заводах. Между прочим, в Финляндии вообще не запирают дверей. Я написала стихи, которые называются "Настежь".
Она сделала паузу, вдохнула глубоко, точно собиралась нырять в воду, резко встряхнула головой и начала с пафосом:
Прочь запоры, заборы, Все поры - настежь! Откройте, отворите Двери, окна, Шлагбаумы, границы! Пусть люди, как птицы, Летают друг к другу Друзьями. Друзья мы И те, кто в Париже, В Нью-Йорке и Риме. Мы други и братья. Одни у нас заботы, Едины печали, На что нам заборы, К чему нам печати, Все к черту: Запоры, затворы, Замки и за мки, В которых чинуши, Бумажные души, Бездушные туши, Слепы и глухи И к правде, И к правым, и к левым, К Сезаннам, Гогенам, К мадоннам, поэтам Необыкновенным. Ломайте, крошите, Чтоб солнце, чтоб воздух, Чтоб только правда! Свободно дышите. Смело пишите Вот наша правда и Право! Да!Она резко мотнула головой, рассыпав волосы гривой. В передних рядах несколько парней и девчат неистово завизжали и зааплодировали. Ребята, сидевшие впереди Глебова, удивленно приподнялись и стали их. рассматривать.
- Что там за энтузиасты? - озадаченно спросил Климов. - Не из литейного ли?
- Нет, похоже не наши, не заводские, - проговорил Коля, всматриваясь. - Какие-то пришлые.
- Любопытно, - произнес Роман и осторожно боковым проходом подошел к сцене. Он вернулся, когда Капарулина прочла еще два стихотворения, сообщил: - Точно, не наши.
Саша Климов обратился к Посадову: - Видали, Алексей Васильевич!.. Стихотворцы своих аплодисментщиков за собой таскают.
- Не может быть, - ответил за Посадова Глебов.
- Точно, Емельян Прокопович, - подтвердил Архипов. - Я специально ходил смотрел. Наши так не визжат. А это эстрадные истерички. Наемные.
- Ну вы бросьте. Разве у поэтов не может быть поклонников? - остановил их Глебов. - Узнали, где выступают кумиры, и пришли. Вполне закономерно.
- Стишки так себе, - заметил Коля.
- А сама поэтесса - ничего, - отозвался Саша.
Следующее слово Маринин предоставил Артуру Воздвиженскому. Ритуал восхождения на трибуну был тот же, что и у Капарулиной. Первые ряды неистовствовали. "Антигром!" - отчетливо донеслось до слуха Глебова.
- Антигром, "Анти-Дюринг", антилопа, антимир, Антиох Кантемир, - дурашливо вполголоса проговорил Саша.
Воздвиженский, безвольно опустив плечи, стоял на трибуне и прислушивался к аплодисментам. Он чутко ловил их пульс и со сноровкой опытного ловца ждал тот момента - нет, не минуты, а именно момента, когда аплодисменты начнут иссякать. Тогда он поднял руку, скромно улыбнулся и попросил зал соблюдать тишину.
- Я недавно вернулся из Штатов, - тихо начал Воздвиженский, как бы призывая зал к вниманию. Уставившись в пол, себе под ноги, он сосредоточенно думал, будто силясь воскресить в памяти нечто сугубо важное. Наконец поэт молвил: - Новелла здесь уже говорила. Мне думается, мы их плохо знаем, они - нас. В этом беда. Чтобы понять Америку, надо пожить в ней. Проще всего сказать: Нью-Йорк - город контрастов. Это так же примитивно, как и банально. Так можно было говорить во времена Горького и Маяковского. Сегодняшняя Америка удивляет и поражает. Непривычным. Необыкновенным. Америка беспокойная, пресыщенная, мятущаяся. Всегда в пути, в непрерывной гонке, в бешеном поиске экспериментатора. Парадоксы на каждом шагу. Высокий жизненный уровень, комфорт в быту, гангстеры и апатия в духовной жизни. Как это совместить? Демократические институты, свобода печати, разные благотворительные общества - и расовая дискриминация. Эйнштейн и антисемитизм. Кажется дико и неправдоподобно.
Климов, возбужденно посмотрев по сторонам, быстро обернулся к Посадову. Тот был хмур и суров, не разделял беспечной веселости Саши.
- Я прочту вам свои последние стихи, которые я написал только что, перед тем как ехать сюда, - неожиданно предложил Воздвиженский.
Биссектрисы ракет и параболы спутников, да доска аудитории звездное небо с таблицами чисел. Месопотамия, матерь народов истории, слышишь? История со скоростью света мчится…Глебов внимательно слушал. Он вспомнил первую встречу с поэтом, когда Воздвиженский вместе с двумя своими коллегами паясничали перед студенческой аудиторией. Это было год назад. Воздвиженский только что вернулся из Италии и Франции. Он делился своими сумбурными впечатлениями о Европе и читал экстравагантные стихи, навеянные парижскими ночными кафе. Помнится, его за это критиковали в печати, о его легкомысленных интервью с буржуазными журналистами говорилось на совещаниях. Но не прошло и года, как, то ли в порядке перевоспитания, то ли в порядке поощрения, его уже послали в Америку набираться новых впечатлений. Глебова же за "администрирование" освободили от должности инструктора райкома. Емельяну показалось, что за этот год в облике поэта произошли значительные, хотя и еле уловимые перемены, которые нелегко было сразу определить. В стихах, в манерах, даже в голосе. Год назад он был более развязен, нарочито задирист, вызывающ. Теперь в нем появилось больше самоуверенности и апломба.
Мысли Глебова прервал Посадов:
- Боже, какая пошлятина! Паяц. И кто это организовал?
- Маринин, кто же еще, - тихо ответил Глебов.
- А почему бы не пригласить на завод настоящих поэтов? - вслух сказал Посадов.
- Старик прав. - Архипов легонько толкнул Сашу.
Воздвиженский все читал. Неуемные аплодисменты с первых рядов, их преднамеренное неистовство лишь подчеркивали равнодушие слушателей. Постепенно с задних рядов начали уходить, сначала осторожно, украдкой, затем демонстративно. Маринин сердито постучал по микрофону и, укоризненно качая головой, сказал:
- Товарищи… Не показывайте себя с дурной стороны.
И в этой внезапно образовавшейся паузе прозвучал громкий голос из зала:
- Почитай нам Бориса Ручьева!
- Василия Федорова.! - вслед за ним выкрикнул Саша Климов.
Маринин неистово забарабанил в микрофон и поднялся, сделав почтительный поклон в сторону Воздвиженского.
- Товарищи, товарищи! Так нельзя. Поэты не читают чужих стихов. Не путайте их с артистами.
Воздвиженский с гримасой неудовольствия сошел с трибуны и сел рядом с Марининым. Но тут же поднялся, взяв в руку микрофон, другой нервно сгреб со стола кучу бумажек, вяло проговорив в зал:
- Чтобы ответить на эту массу записок, потребуется, пожалуй, целый вечер. Я вижу, вы устали, поэтому мы решили не задерживать вас своим присутствием. Благодарим за внимание.
Он сделал кивок в сторону зала и вышел из-за стола, ожидая Капарулину. Пропустив поэтессу вперед, он под нестройные, жидкие аплодисменты что-то сказал Маринину, удаляясь. Такого конца никто не ожидал.
- Что это вдруг сорвались? - недоумевал Коля, вставая.
- Конец первой серии, - сострил Саша.
- Продолжения не последует, - добавил Роман.
В фойе Посадов познакомил Глебова с Юлей, Вероникой, Романом, Колей и Сашей. Впрочем, с Архиповым Глебов уже был знаком, беседовал с ним как с секретарем комитета комсомола.
- Артисты, актив мой, - с гордостью похвалился Посадов.
- Бывшие артисты, Алексей Васильевич, - поправила Юля.
- Бывший актив, - поддел Саша.
Посадов поморщился, хотел ответить, но смолчал: поднимать этот вопрос на ходу, в людской толчее было не совсем уместно.
Из Дома культуры Глебов позвонил домой и предупредил жену, что придет не один, а с Алексеем Васильевичем Посадовым. До дома они решили идти пешком, подышать морозным воздухом. Посадов поднял бобровый воротник, взглянул на легко одетого Глебова, заботливо спросил:
- Не холодно? А то возьмем такси?
- Да нет, Алексей Васильевич, я привык, а вы? Не любите вечерних прогулок?
- Почему же, напротив, - отозвался Посадов. Он ждал, когда Глебов начнет обещанный разговор, предполагая, что речь пойдет о народном театре. Но Глебов начал с другого.
- Сегодня в обеденный перерыв прошелся я по цехам. И что меня поразило: сидят ребята и режутся в карты, в домино, редко кто в шахматы и шашки. Представляете, Алексей Васильевич, люди со средним образованием. Меня это огорчило.
- Хорошо, а что вы им предложите взамен? - Посадов замедлил шаг. - Громкую читку газет, беседу о вреде табака или о пользе кефира?
- Да нет, зачем же. Какой-нибудь интересный разговор.
- О чем?
- Да вот хотя бы о поэзии. Вы слышали реплики, видели, как сегодня реагировала заводская молодежь на выступления ультрапопулярных. Значит, интересуются поэзией. И разбираются. Помочь надо. Побеседовать о живописи, о музыке. Да мало ли о чем. Важно, чтоб это было интересно и полезно.
- Все это, конечно, правильно. Только кто должен проводить эти беседы?
- Ну, скажем, о поэзии - пригласить поэта. Прямо в цех. Пусть почитает стихи, расскажет, ответит на вопросы.
- Ответят… Они вам ответят! - язвительно повторил Посадов. - Видали, как ответил этот Артур Воздвиженский?
- Не о нем речь. Этого в цех и не заманишь. Я говорю о настоящих поэтах. Или, скажем, вот вы? Могли бы рассказать о Художественном театре, о театре вообще, о великих актерах. Как вы на это смотрите?
- Да я-то что? Я, конечно, мог бы. Но этого мало. Тут ежели начинать такое дело, то надо продумать все обстоятельно. Чтоб не погасло. Ну, предположим, раз в неделю в обеденный перерыв выступает кто-то из интересных людей. Ну, допустим, скульптор Климов, Петр Васильевич, народный художник. Вы не знакомы? Этот юркий чернявенький паренек - сын его. Климов мог бы много любопытного рассказать.
- Сын Климова? - Глебов был удивлен и обрадован. И не хотел скрывать этого. - У нас на заводе? И что он делает?
- Работает в цехе. Ну и "комсомольским прожектором" заправляет. Паренек шустрый, с характером. Весь в отца. Любит задавать острые вопросы.
- Вам и Климову следует не в цехах выступать, - заговорил Глебов, - а во Дворце культуры. Устроить вечер, собрать побольше аудиторию.
- А почему? Можно и в цехе. Это даже лучше, - сказал Посадов. - А вот вашего Алика Маринина давно пора бы выгнать.
- Почему же? - насторожился Глебов.
Посадов помедлил. Емельяну показалось, что он не расслышал вопроса. Но Посадов вдруг резко повернулся к Глебову:
- Вы только еще хотите воспитывать молодежь. Собираетесь. А маринины уже давно воспитывают. Только в другую сторону. Вот вы говорите Маринину: надо пригласить скульптора, артиста, писателя или еще кого-нибудь. Маринин приглашает, устраивает вечера, встречи. Он знает, кого приглашать. У него на любой счет есть свой Артур Воздвиженский. О парижах, нью-йорках расскажет, стихи для девочек прочтет: "Настежь двери, границы, шлагбаумы".
Вы помните, у Бориса Ручьева есть такие стихи:
…Невидимо стоглавый и сторукий, Минуя все привады волчьих ям, Никем еще не признанный, гадюкой Он всюду полз за нами по пятам… Он в праздники садился с нами вместе, Знал беды наши, вкусы, имена. И, если не хмелели мы от лести, Вином своим поил нас допьяна. И в городе, омытом нашим потом, От наших спящих жен невдалеке, Он песни пел нам по заморским нотам На задушевном нашем языке: О городах, которых мы не знали, О славе неизвестных нам знамен, О золоте, дороже нашей стали, О женщинах, прекрасней наших жен… …Разведчик смерти. Рано или поздно, Вернее, поздно - и не к чести нам Он будет понят, пойман и опознан И, как убийца, скручен по рукам…Он оборвал и поникшим голосом сказал:
- Это отрывок из его поэмы "Прощание с юностью". Так пишут рабочие поэты.
Было тихо, большой город, пронизанный миллионами золотистых огней, сверкавших на морозном воздухе, будто затаив дыхание, слушал стихи, такие простые и мудрые, как сама правда. Стихи были созвучны душевному настрою Посадова и Глебова, они как бы сломали между двумя этими людьми внутренний барьер, призвав к доверию и взаимопониманию. Посадов постоял, глядя в растерянное лицо Глебова, и снова зашагал. Емельян не мог прийти в себя несколько секунд, потрясенный большим талантом поэта. В его ушах все еще звенели только что услышанные им стихи. Затем он ускорил шаг, догнал Посадова и взволнованно проговорил:
- Вот бы кого пригласить к нам на завод.
- В Магнитогорске живет, - ответил Посадов.
- Да, далековато, - огорчился Глебов.
- И в Москве есть талантливые ребята. Только Маринин их не пригласит, вот в чем вопрос.
- Ну это мы еще посмотрим! - сорвалось у Глебова.
Помолчали. Подходя к улице, где он жил, Глебов спросил:
- А эта девушка, что была с Архиповым?
- Юля-то? Из вашего же заводского конструкторского бюро. Вы ничего о ней не знаете?
- Нет.
- Интересная судьба. Поэма. А вернее, драма, трагедия!
- Любопытно.
- Училась в МГУ. Вышла замуж за иностранца - студента. Уехала в Африку. Там она и узнала, почем фунт лиха. С большим трудом удалось ей вернуться домой. В общем, история, достойная пера авантюрного романиста.
- А она тоже могла ведь выступить перед рабочими, рассказать про жизнь за рубежом, - вслух подумал Глебов.
Посадов поморщился, но промолчал. Только уже когда садились в лифт, неожиданно сказал:
- Она не любит вспоминать об этом.
- Вы о ком? - не понял Глебов.
- О Юле Законниковой. Должно быть, душевная рана еще не зарубцевалась.
- Да. У нее такие печальные глаза. Даже когда улыбается, - вспомнил Емельян. И нажал кнопку лифта. - Вот это, Леночка, и есть Алексей Васильевич Посадов, - представил Емельян гостя жене.
Елена Ивановна с хозяйским радушием протянула артисту узкую теплую руку, и суровый взгляд артиста смягчился.
- Очень рада познакомиться. По сцене я знаю вас уже, наверное, лет двадцать. Еще в студенческие годы бегали на галерку, чтобы поглядеть.
- Видите, какая у вас древняя поклонница? - помогая Посадову раздеться, пошутил Емельян.
- Что-то не верится, - улыбнулся Посадов, не сводя с хозяйки глаз. - В древность не верится. Слишком молоды. Вас и сейчас можно принять за студентку. Притом первого курса.
- Да полно, Алексей Васильевич. У меня уже дочь скоро невестой будет, - вспыхнула Елена Ивановна.
Для своих сорока лет Елена Ивановна выглядела очень молодо. Ни одна морщинка еще не тронула ее белого чистого лица. Ее бирюзовые глаза смотрели доверчиво и открыто.
Алексей Васильевич, разрумяненный морозцем, переступил порог теплой комнаты и остановился посередине, осматривая стены: репродукция "Зимы" Дубовского, довольно посредственный офорт с морским пейзажем, портреты Дзержинского и Маяковского, гипсовый бюст Ленина на книжном шкафу.
- Вы удивительно похожи друг на друга. Как брат и сестра. Особенно глаза.
- Это находят многие, - подтвердила хозяйка, торопливо направляясь на кухню.
Елена Ивановна собрала ужин в большой комнате, служившей одновременно столовой, гостиной, кабинетом и спальней. (Дети спали во второй комнате, поменьше.) Ради такого случая Емельян поставил на стол бутылку столичной и бутылку сухого вина, чем вызвал недоуменный вопрос гостя:
- А это, собственно, зачем?
- Да уж так у нас заведено. Тем более с мороза, - улыбнулся Глебов, потирая озябшие руки.
- Лично я не пью, - сообщил Посадов, - может, поэтому и считаю бутылочную традицию консервативной. Вот чаек - это да-а. С мороза этак стаканчиков пять. Как вы насчет чайку?
Глебов пожал плечами:
- Что ж, чай так чай…
За ужином говорили о сегодняшнем вечере поэзии во Дворце культуры и о будущих. Глебов рассчитывал на помощь Посадова, а тот, в свою очередь, ругал Маринина.
Емельян в душе признавал, что Посадов прав, но пробовал смягчить резкость характеристики:
- Вы правы, Алексей Васильевич. К сожалению, дело не только в одном Маринине. Я сегодня зашел в библиотеку, - рассказывал Глебов, - поинтересовался фондами: что наши библиотекари рекомендуют читателю, что требует читатель?
- Ну и что вы выяснили? - перебил его Посадов и сам ответил: - Предлагают читателю все тот же товар, того же Воздвиженского.
- Хуже, Алексей Васильевич, хуже. - Глебов посмотрел на Посадова, затем перевел взгляд на жену. - Даже если вы и захотите почитать, ну, скажем, Николая Островского, Фадеева - не сможете. Этих книг нет в библиотеке. Спрашиваю: почему? Не получаем, говорят. Бибколлектор снабжает нас книгами.
- Представляю, - снова не удержался Посадов, отхлебнув и поставив чай. - В бибколлекторе сидит такая же поклонница Воздвиженского, и она решает, кого пущать на полки библиотек, а кого не пущать. Она делает политику, воспитывает. А вы говорите! Вы понимаете, как все это крепко связано одной веревочкой. Как глубоко, даже очень глубоко зашло. Вон Петр Васильевич Климов. Его пинают, кусает какая-то критическая мошкара, гнус. А он делает вид, что так и должно быть, что ничего страшного нет. И самое страшное, что, если, мол, и есть, то бороться с этим бесполезно и невозможно: все это групповщина.
- А может, он прав насчет групповщины, - проговорил Глебов не свои, а чужие слова, которые часто повторял секретарь райкома Чернов.
- Что? И вы туда же? - Посадов поднял на него изумленный взгляд и резко отодвинул от себя стакан. - А .то она значит, эта групповщина? С чем ее едят? Извольте объяснить мне и растолковать популярно! Сколько, по-вашему, у нас их, этих самых групп, какова их платформа, где яблоко раздора?
- Надо полагать, в основном две, - ответил Глебов.
- Хорошо, пусть две. И что ж получается на деле: одна группа отстаивает линию партии, борется за народное, высокое искусство, возвышающее человека. А другая подрывает эти принципы, насаждает всякую гниль, тащит с Запада все без разбору, растлевает. Я вас и спрашиваю: в чем же криминал так называемой групповщины? И почему надо закрывать на это глаза, ругать и правых и виноватых?
- Я вас понимаю, Алексей Васильевич, происходит обычная идеологическая борьба. Битва за души людей.
- Обычная? Ничего себе - обычная. Вы бываете на художественных выставках, на спектаклях, смотрите телепередачи, кино? - Посадов остановил взгляд на жене Глебова. Ему показалось, что она хочет что-то сказать.
- Нерегулярно, - ответила Елена Ивановна, слегка смутившись. - Но я с вами согласна целиком.
- Да, но ведь печать наша критикует и слабые спектакли, и плохие стихи. Того же Воздвиженского, - заметил Глебов.
- А толку что? - вспылил Алексей Васильевич, не отрывая взгляд от Глебова. - Что толку-то? Кажется, Голсуорси сказал, что ничто так не способствует популярности, как нападки газет. Его критикуют, потом переиздают, ругают снова, а затем хвалят, экранизируют, инсценируют, транслируют по радио и телевидению. Все его же, Артура Воздвиженского. А вас? Вот вы попробуйте напишите патриотическую вещь, отнесите в кино или в театр, а я посмотрю, как она там пройдет.
- Ну а если это будет талантливая вещь?
- А вам будут говорить, что она бездарная. Попробуйте поспорьте. Даже если гениальная, все равно ничего не докажете.
Глебов это и сам знал. Работая в райкоме партии, он сталкивался с подобными фактами. Горько было слушать Посадова, человека прямого и слишком резкого в суждениях, высказывавшего свое мнение с душевной болью. Сегодняшний вечер поэзии окончательно укрепил Емельяна в том, что идеологическую работу надо ставить на первый план. "На первый план, - мысленно повторил он и подумал: - А ведь найдутся такие, которые скажут мне с начальственным упреком, что, дескать, производственный план - это святая святых всей твоей деятельности". Но Глебов всегда был тверд в своих убеждениях, тверд и последователен. В райкоме некоторые считали эту черту характера "отсутствием гибкости" и упрямством. Поэтому ему понравилось, что Посадов говорит и мыслит так же, как и он, Емельян Глебов. Слушая Алексея Васильевича, секретарь парткома прикидывал, как лучше использовать большой житейский опыт этого человека для общего дела, и вдруг представил себе такую картину. После выступления Капарулиной и Воздвиженского поднимается на сцену Посадов и говорит могучим баритоном: "А теперь, друзья мои, я прочту вам стихи иных поэтов, о которых не трезвонит критика. В лучшем случае, обходит молчанием, иногда походя лягает". И прочел бы стихи наподобие тех, которые цитировал час назад, прогремел бы на весь зал набатным колоколом! Это было бы здорово!.. А! Подумав об этом, Глебов сказал:
- Я хотел поговорить с вами, Алексей Васильевич, насчет нашего народного театра.
- А что ж тут говорить, - поспешно отозвался Посадов. - Дело ясное, так сказать, причины налицо. Поставили мы три спектакля. На энтузиазме. Сыграли по два раза. Вот и все. Овчинка выделки не стоит. На подготовку спектакля уходит масса времени, сил, энергии. Репетируешь месяцами, а играешь два раза. Ну куда ж такая расточительность!
- Нерентабельно, как у нас говорят?
- Вот именно, - подтвердил Посадов.
- Ну, а если развесить афиши по городу, давать спектакли не только для своих, заводских, а для всех желающих? - предложил Емельян.
- Вряд ли поможет, - усомнился Посадов. - Столичный зритель набалованный, он так рассуждает: вот еще, какой-то самодеятельный, стоит ли тратить время и деньги, лучше схожу в кино или посижу у телевизора, сэкономлю рупь. Или пойду футбол смотреть. Там много думать не надо. Ори во всю глотку, свисти что есть духу, топай ногами, тряси кулаками. Словом, давай волю необузданным инстинктам далеких предков.
Глебов не был болельщиком, однако не разделял взглядов Посадова на футбол. Спорить же не стал.
- А если для затравки пустить несколько спектаклей бесплатно? - предложил Глебов. - Или, скажем, не зрителя к себе вызывать, а самим идти к зрителю, выступать в клубах и Дворцах культуры других заводов. В Москве таких наберется не один десяток.
- Все это слова, - вдруг охладил его пафос Посадов. - А мне нужна конкретная помощь. Средства нужны.
- Найдем, - пообещал Глебов. - Что еще?
- Для начала хватит.
Трое юношей и две девушки возвращались из Дворца культуры домой. На улицу вышли все разом. Остановились ненадолго, пожав на прощание друг другу руки. Закуривая сигарету, Коля Лугов хмуро сказал:
- Я все думаю, где мы с ним встречались? Ну такое знакомое лицо, что…
- Чье лицо? - перебил Саша.
- Да этого, секретаря парткома, Глебова.
- Вчера в цехе виделись, - напомнил Саша. - Вспомни. Склероз?
- Не-ет, где-то раньше, - не согласился Коля.
- Я начинаю околевать, - поежилась Вероника.
- Коля, не околевай нас, - скаламбурил Саша.
- Итак, кто куда? - спросил Коля.
- Нам с Сашей по пути, - отозвалась Вероника и крепко взяла Сашу под руку. Делая вид, что ей холодно, она прижалась к нему.
- Нам налево, - объявил Саша, поднимая цигейковый шалевый воротник и по-черепашьи втягивая в него голову: он зимой и летом ходил без головного убора.
- В таком случае нам с Юлей направо, - неуверенно произнес Роман Архипов, восхищенно глядя на Юлю.
- Что ж остается мне? - проронил Коля. - Единственное: идти прямо, только прямо. Мой путь ровный, как штык…
- Или как характер Алексея Васильевича, - вставил Саша и попрощался: - Покедова, мальчики. До завтра.
Когда все разошлись, Вероника сунула свою руку в карман Сашиного короткого полупальто и, сжимая его теплую руку, заметила:
- Ворчун твой Алексей Васильевич. Ворчит, ворчит, как старый дед, всем недоволен, все ему не так. И во всем винит молодежь. Допотопный он какой-то, весь в прошлом.
- Брось нападать на старика. Тоже мне - "вся в будущем". Правдивый старик.
- Ты его не защищай.
- Я себя защищаю - буду и я стариком, и тоже буду ворчать на молодежь, - ответил Саша, убыстряя шаг. - Мы на троллейбусе или на автобусе?
- Все равно. Лучше, конечно, на такси. - На ней было осеннее пальтишко.
- Не вижу предлога для расточительства.
- Я пошутила. Миллионер - Климов-старший, а Климов-младший - пролетарий.
- - Живем на свою зарплату.
Под ногами скрипел сухой от мороза снег. Окна троллейбусов стали матовыми. На остановке была еще одна парочка.
- Нет, действительно, - не унималась Вероника, - почему он не хочет понять тех, у кого другой вкус?
- Кто это "он"? Назови имя.
- Посадов твой.
- А-а. Все не можешь успокоиться.
- Пристал: "Дайте Шишкова". - "А у нас нет Шишкова". - "Как это нет?" - "А вот так: нет - и все. Не имеем. И вообще вы первый спрашиваете Шишкова". - "Позвольте, вы давно тут работаете?" - "Уже скоро год". - "Ага, значит, без году неделя. А уже обобщения делаете, не интересуются, мол, читатели Шишковым". И пошел, и пошел. Барахла, мол, всякого понавыставляли, приличных книг у вас нет. - Она забавно имитировала голос Посадова.
- Критику надо признавать. Иначе ты не сможешь двигаться.
- Это как?
- Двигаться. Вперед. Вон как троллейбус… Кажется, идет. Значит, уедем.
- Нет, правда же, если когда-то в молодости он увлекался Тургеневым, так и мы должны восторгаться всякими там дворянскими гнездами. Скажи, я не права?
Они вошли в полупустой троллейбус. Это избавило Сашу от необходимости отвечать на беспредметный, как он считал, вопрос девушки. Но Веронику было трудно остановить: она не умела молчать и в троллейбусе тараторила без умолку.
- Новый секретарь парткома, видно, тоже штучка: Островский ему, видите ли, срочно потребовался, Фучик, Джалиль и еще что-то в этом роде. Говорит, не ту литературу пропагандируем.
- И правильно говорит, - согласился Саша. Это еще больше подстегнуло Веронику.
- Что ж тут правильного? Подумаешь, законодатели какие! Им, видите ли, подавай Шишкова с Фучиком и тэ дэ. А нас от них в сон клонит. Мне абстрактное искусство нравится. Но значит ли это, что я плохой человек?
- Совсем не значит. Ты славный человек, и мы с тобой уже давно пришли к такому выводу.
Вероника вдруг притихла. Она, в общем-то, была безобидной, симпатичной девушкой. Выдержав самую большую паузу, на которую только была способна, она печально молвила:
- Тебе скучно со мной? Да, Саша?
- Мне ни с кем не бывает скучно, - улыбнулся Саша и сдавил ее холодную руку.
- И ты никогда-никогда не грустил?
- Нет. Я безнадежный оптимист.
- Ты все шутишь. Хоть бы раз увидеть тебя серьезным.
- Ежедневно в шесть тридцать утра, когда звонит будильник. Кроме выходных и праздников… Нам сейчас выходить. Чуть было не проехали.
- А мороз, по-моему, немножко отпустил. А, Саша? Ведь верно?
- Просто ты акклиматизировалась.
- Саша, пойдем в кино?
- Сейчас? Поздно…
- Ну завтра.
- Не могу. Мы занимаемся у Ромашки.
- Чем?
- Чем занимаются непризнанные изобретатели? Не знаешь?
- Разным-всяким. А девочки вас навещают?
- Нет. Мы патентованные женоненавистники.
- Рассказывай. Я видела, как твой Ромашка смотрел на Юльку. Все зенки проглядел.
- Это он таким способом выражал ей свое презрение.
- Нет, серьезно, Саша, пригласи меня. Я не помешаю вам. Буду сидеть и смотреть… на тебя.
- Кто поверит? Ты в первую же минуту сцепишься с Романом. У вас полярно противоположные платформы. У него на стене Репин, Рембрандт, два Серова - старый и новый, два Герасимова и Павел Корин, палехский пейзаж в натуральной березовой рамочке с берестой и ветками.
- А Юля бывает у него?
- Не знаю, не видел.
- Он скрытный и хитрый. Он слишком правильный. - Это прозвучало у Вероники, как упрек.
- Ты хотела сказать - порядочный?
- А по-твоему, все так называемые неправильные - непорядочные?
Саша не ответил. Вероника повторялась, а тот, кто повторяется, рискует быть скучным. Он рассеянно слушал ее.
- Твоим мальчикам и Юле Воздвиженский не понравился, и вообще…
Он молча пожимал ее руку в кармане.
- А тебе?
На вопрос, лично обращенный, хочешь не хочешь, отвечать надо, а то еще обидится и задаст кучу более неприятных вопросов.
- Мне больше понравилась Капарулина, - ответил Саша. - У нее такие большие глаза, как у коринской монашки.
- Роман любит Юлю?
"Что за дурацкая привычка задавать пустые вопросы! Спросила хотя бы: люблю ли я ее? А что вы думаете, она это может. Вот возьмет да сейчас и спросит. А что ей ответить? Вот за Романа мне ничего не стоит".
- Умирает от любви, - весело бросает он. - Боюсь, до весны не дотянет, если не добьется взаимности.
- Почему она корчит из себя трагическую личность? Ну что она такое?
- Старушка, не надо, - увещевал Саша. - В тебе заговорили нехорошие инстинкты. Не забывай морального кодекса: человек человеку друг и брат… Все девушки - сестры.
Вот и Вероникин дом. Сейчас он скажет ей обычное "до завтра" и побежит на троллейбус. Он довезет его до центра. А дома - горячий чай, ужин и шумная беседа в кругу отцовских друзей: у скульптора всегда кто-нибудь засиживался до позднего вечера.
- Саша, ты когда-нибудь целовался на морозе? - на прощание спрашивает девушка.
Забавный вопрос, черт возьми! Хотя это лучше, чем: "Ты меня любишь?" Тут еще можно шуткой отделаться.
- Не приходилось. Говорят, губы к губам примерзают, не отдерешь.
- Тогда спокойной ночи, - говорит Вероника.
- До завтра.
Саша пожимает ей руку и уходит, чувствуя себя в чем-то виноватым. Он знает, что завтра они не увидятся. И послезавтра тоже. А вообще, им бы лучше не встречаться. Вероника, она, конечно, хорошая и, пожалуй, даже красивая. Но чего-то в ней недостает. Чего именно, Саша толком не знает, но догадывается: нет того, что заставило бы биться Сашино сердце.
Юля и Роман не говорили ни о Саше, ни о Веронике. Они даже не вспомнили их. Они больше молчали. Изредка Юля роняла холодные, полные скрытого смысла слова:
- Жаль наш театр. Алексей Васильевич не прав.
- По-моему, он устал, - -пояснил Роман. И после долгой паузы добавил: - Что касается меня, то я не смогу снова участвовать в спектаклях: институт много времени берет. И ребята тоже.
- А мне хочется играть. Сыграть бы такую роль…
Она остановилась, глядя в золотисто-морозную дымку, в которую погрузился вечерний город, и не досказала фразы. Видно, не хватило слов, чтобы выразить мечту. Роман внимательно посмотрел на нее: в неуклюжей рыжей лисьей шапке, похожей на стог сена, в пальто с таким же пушистым воротником, она показалась ему какой-то далекой и недоступной. Он попытался сам сообразить, какую роль ей хочется сыграть. "Зои Космодемьянской или Анны Карениной, Лизы Чайкиной или Катюши Масловой?" - перебирал он в уме имена подлинных и литературных героинь.
- Мне кажется, Алексей Васильевич найдет общий язык с новым секретарем парткома, - сказала Юля.
Роман промолчал. Он не хотел думать об этом и всякий раз, когда она произносила имя Посадова, ревниво воспринимал ее слова. Роман даже упрекал ее как-то: "Похоже, что ты в него влюбилась". Она расхохоталась: "Поздно, мой друг, поздно". Почему именно поздно, он так и не узнал.
- Найдут? Как ты считаешь? - назойливо повторила она.
- В каком смысле?
- В смысле народного театра.
- Возможно. Глебов, видно, человек неглупый.
- Да, он, кажется, дельный, - согласилась Юля и умолкла.
- Странно, - вдруг удивился Роман. - Идем с вечера поэзии - и ни слова ни о вечере, ни о поэзии.
- Значит, такая поэзия.
- Меня удивляет не то, что плохие стихи, а то, что они некоторых привели в восторг. В чем же дело? Жонглируют словами, как циркачи, а ребята хлопают и визжат. И не только чужие, а и наши, заводские, вроде этой Вероники, - продолжал Роман.
- Какое это имеет значение: наши, не наши, - обронила Юля. - Все наши. Только одним нравится, а другим нет.
- Ты считаешь, это искренне?
- Что?
- Нравится? Или хотят быть модными?
- И то и другое. Когда-то я сама увлекалась пустыми, но модными стихами, музыкой без мелодий, картинами без рисунка и живописи, вообще модерном, - призналась Юля, и это прозвучало так, будто речь шла о чем-то далеком-далеком.
- Всерьез? Или за компанию?
- Я и сама не знаю. Внушили, что это талантливо, сногсшибательно. Главное, необычно. Тогда казалось, в нем что-то есть. Надо было понять, что именно. Но было лень. Легче принимать на веру. И потом, не хотелось оставаться белой вороной. В нашей группе, например, в университете все курили. И я курила. Все пили. И я пила. Все презирали и ниспровергали предков.
- А что создавали на развалинах? - энергично перебил Роман.
- Модерн. В общем, для меня это хорошо знакомо, через все это я прошла, как через оспу.
- Почему такое сравнение?
- Потому что остались следы: не на лице - на душе.
- По-моему, все эти модерняги просто примитив, - уклонился Роман, не желая растравлять ее раны.
- А они нас называют примитивными. Отсталыми, невоспитанными. Эх! - Она оборвала разговор. - Подонки.
Они немного не дошли до заводского общежития, где жила Законникова.
Прощаясь, он взял ее руку и долго не хотел отпускать. Вздыхал, умоляюще смотрел ей в глаза, повторяя только одно слово, будто оно было единственным, которое он способен произнести:
- Юля…
Она отвечала ему коротким пожатием, будто спешила освободить руку, и с каким-то надломом говорила:
- Не надо. Слышишь, Роман? Не надо.
- Почему? - дрогнувшим голосом спрашивал он. - Почему ты не расскажешь, что у тебя на душе?
- Как секретарю комсомола?
- Юля! При чем здесь комсомол? Ты обещала рассказать о своих скитаниях.
- Как-нибудь потом. Сейчас не надо об этом. Я расскажу. Обязательно. Должна рассказать тебе. Ну, Роман, до завтра. Не надо на меня так смотреть. Ты ведь добрый, не то что я.
- Юля…
- Нет-нет, не нужно, молчи! - перебила она. - До завтра, Роман. Иди. Покойной ночи…
Юля боялась его любви, считала, что прошлое рано или поздно встанет стеной между ними. Она понимала, что лучше заранее рассказать Роману о себе, но боязнь потерять друга сдерживала ее. Юля думала, что Роман станет смотреть на нее другими глазами. За свое прошлое жестоко казнила себя, считая жизнь свою конченой. Больше всего, пожалуй, она опасалась одиночества, поэтому была рада встречам с Романом, его друзьями и Алексеем Васильевичем…
Коля пожалел, что пошел во Дворец культуры. Поэты не только не доставили ему радости, напротив, разочаровали его. Сегодня должна была возвратиться Лада, и он с сожалением подумал, что ему обязательно следовало бы присутствовать при первой встрече ее с родителями.
Еще вчера Коля слышал, как мать с отцом и дедушкой говорили о Ладе. Отец был взбешен ее поступком, грозился выпороть дочь ремнем.
- В жизни не бил детей, а на этот раз придется. Исполосую так, что век будет помнить.
- Раньше надо было. "Учи дите, пока оно лежит поперек лавки, а не тогда, когда вдоль" - так говорили в старину, - поучал дедушка Сергей Кондратьевич. - А теперь, почитай, она уже невеста.
- И то правда. Моя двоюродная сестра Феня в шестнадцать лет вышла, - поддержала дедушку мать.
- Вот-вот, оправдывайте. Защитники! - взорвался отец. - Адвокаты! Невеста без жениха - не невеста, а просто девка!
- Да успокойся ты, Костя! Еще ничего не известно, - заговорила рассудительно мать.
- И никакого жениха не было, - встрял в разговор Коля.
Но мать и тут нашлась:
- Почему же? Жених мог быть. Не жених, так школьный товарищ, что ж тут такого? Любовь, она в такие годы и приходит. Первая любовь…
- Правильно, Дуняша, - поддакнул дедушка и потер рукой глаза, словно хотел снять с них невидимую пленку. - И жених и любовь… Только вот плохо: не ценят они первую любовь. А она святая. Потом спохватишься - да поздно. Кусай локти. Или вам все равно? - Он вопросительно посмотрел на Колю. - Нет, не все равно: не обезьяны вы, а человеки, черт вас дери. Любовь любовью… Но ложь - самое негожее, подлое дело. - Он сидел у стола, прямой, с гордо поднятой белой головой.
- Самое подлое, - подхватил отец и заходил по комнате. - Я не потерплю, чтобы в моем доме…
- Да что ты, Костя! - прервала его мать. - Господь с тобой…
- Выгоню! - Отец остановился и указал пальцем на дверь. - Вышвырну! Пусть идет к нему! Еще никто дурно не говорил о Луговых. Не было в нашем роду позора.
- Погоди, погоди! - остановил его Сергей Кондратьевич. - Сперва давай разберемся.
Но Константин Сергеевич уже не мог остановиться.
- Я знал, чувствовал, когда еще она первый раз ночевать домой не явилась. А все вы: "Ничего страшного. Девчонка о подружке заботится". Вот о каких подружках шла речь. Теперь ясно?! Сердобольники!..
Сергей Кондратьевич не спеша поднялся:
- Ну, покричали - и хватит. Я думаю, Константин, с Ладой пусть поговорит мать. Так будет лучше. Они женщины.
- Конечно, - согласилась мать. - Что толку от твоего крика? Она девочка гордая, с характером. Как бы чего, не дай бог, не натворила.
- Гордые не шляются по злачным местам, не лгут родителям. Они уважают себя и других. Потому и горды, что знают себе цену. Ну ладно, - бросил Константин Сергеевич, несколько смягчившись. Первая вспышка возмущения миновала.
Из больницы Лада выписалась после обеда. Пока добралась до Москвы, было уже пять часов. Ладу лихорадило. Она никак не могла сосредоточиться, взять себя в руки и принять какое-то определенное решение. Лежа на больничной койке, с ужасом думала только об одном: о предстоящей встрече с родителями. Не знала, что скажет отцу и матери, но знала, что они скажут ей. Лада чувствовала себя виновной и отлично понимала, в чем именно состоит ее главная вина. Ложь. В их семье это считалось самым позорным проступком - сказать неправду. Лада помнит: многое ей и Коле прощали родители - утерянные деньги, на которые надо было купить хлеб, разбитую тарелку, невыученный урок. Но обман, даже мелкая ложь не прощались.
И зачем она сказала неправду? "Разве нельзя было обойтись без этой лжи? - спрашивала себя Лада и отвечала решительно. - Нельзя!" Иначе родители не пустили бы ее на турбазу. Ну а почему? Что она плохого сделала? Поехала с мальчиком, который ей нравится? Ничего особенного. Выходит, сами родители вынудили ее лгать. Размышляя так, она внезапно набрела на спасательный щит, которым, оказалось, можно было прикрыться. И не только щит, но и меч: можно перейти в наступление. Об этих "доспехах" она впервые узнала в новогодний вечер. Теперь они четко всплыли в ее памяти, звучали в ушах чужими, но единственно спасительными словами: "Я свободный человек цивилизованного мира. Я делаю то, что нравится мне. И мне наплевать, что кому-то мои поступки не по нутру…" Это говорила Лика, стихи которой читают тысячи людей. "Отцы никогда не понимали детей, не доверяли детям и потому всегда с большой охотой одергивали их и поучали. Потому что психология отцов консервативна… Главное - будь самостоятельна. Для наших мам мы всегда будем детьми, которых они готовы выпороть за самый безобидный поступок". Это говорил Макс, известный драматург, к голосу которого прислушиваются тысячи зрителей. "А чтобы не было трагедий, родители должны как можно меньше знать о том, чем занимаются их дети". Это говорил Дима, самый умный и самый красивый мальчик на всем белом свете.
Да, это были щит и меч, и Лада решила воспользоваться этим оружием, потому что не имела другого. И все-таки иной, не совсем посторонний голос ей шептал, что оружие ее - и щит и меч - ненадежно, на него нельзя целиком положиться, оно не испытано ею, не пристреляно. И прибегнуть к нему можно лишь на худой конец, в крайнем случае.
А пока она решила ехать не домой, а к дедушке. Дальше - видно будет. Дедушка добрый, с ним можно договориться. Это на вид он строгий и суровый.
Сергей Кондратьевич, придя с завода домой, затопил печь, положив несколько сухих поленьев - дров было достаточно: сносились старые, отжившие свой век деревянные дома и бараки, - поставил на плиту чайник и, сидя у огня на низенькой скамеечке, сделанной Колей, задумался. Дрова горели весело и жарко, обдавая лицо и руки приятным теплом. И тепло это, и треск в печи, и жаркие сполохи пламени располагали к спокойному отдыху и неторопливым, ровным раздумьям. За окном прогромыхала электричка: домик стоял недалеко от железной дороги. Сергей Кондратьевич машинально обернулся - в синем окне замелькала золотая цепочка огней. Он встал, не зажигая огня, сел к окну и, облокотившись на стол, уставился в синеву вечернего города. Наверно, тысячи раз сидел он вот так у окна, слушая перестук поездов, машинально считая вагоны, думая о разном. Он думал о том, что когда-то, в годы детства Коли была здесь городская окраина, а вот теперь самый что ни на есть город. Москва шагнула веселыми шагами многоэтажных домов уже за железную дорогу, сметая со своего пути трухлявую рухлядь деревянных хибарок. Новая жизнь наступала стремительно и неотвратимо.
Эта мысль возбуждала горделивую радость, к которой украдкой, точно слабая тень - не от солнца даже, не от луны, а от светлого неба, - примешивалась грусть, та извечная тоска по уходящему и привычному. Старику Лугову не хотелось покидать насиженное место, и он пытался найти тому оправдание. Дескать, не дома жалко, а сада, вот этой зелени под окном. Он любил копаться в земле: сажал цветы, удобрял почву, ухаживал за деревцами. В новом доме этого ведь ничего не будет. Хорошо, если бы квартира была на первом этаже, можно под окнами разбить газончик. Было же время, когда давали за городом рабочим и служащим садовые участки. Луговы не взяли, ни к чему было, когда возле своего дома сад. Теперь старик пожалел. Некоторые рабочие их завода понасадили сады, клубнику, малину. Каждое воскресенье ездили туда, находили в этом радость.
На стареньком телевизоре стояло нечто вроде подсвечника. Лугов взял его в руки. Легкий, янтарного цвета предмет, с двумя колесиками и зубчатой резьбой на одном, старик принес сегодня из цеха. Это были новые детали клапана, сделанные из пластмассы, заменившей дорогую бронзу. Они ласкали глаз, радовали сердце старика: идея замены принадлежала Лугову-старшему.
Директор, секретарь парткома и главный инженер поздравили его. Потом Глебов сказал, что на той неделе будет заседать партком. Сергей Кондратьевич обдумывал свое выступление на парткоме. Но ему помешала Лада. Она пришла неожиданно, возбужденная, розовощекая, без следов какого-либо раскаяния на лице. Словно бы ничего и не случилось.
- Здравствуй, дедушка, - поздоровалась Лада и чмокнула его в щеку сухими холодными губами. Быстро сняла пальто, набросила на плечи белый шерстяной платок и, потирая озябшие руки, подошла к огню.
- Садись, внучка, отогревайся, - неторопливо сказал старик, указывая на скамеечку возле плиты. - Сколько там, не знаешь? Наверно, градусов десять?
- Морозно, - согласилась Лада и принялась кочергой орудовать в печи.
- Ну как отдыхалось? - без паузы, тем же дружеским тоном спросил дедушка. - Кормили хорошо?
- Сносно, - ответила Лада, глядя на огонь. Тон дедушки ее успокаивал.
- А горы, должно быть, крутые? - заинтересовался старик.
- Одна горка коварная.
- Как же ты так неосторожно?
- Сама не знаю, - Лада пожала острыми плечиками.
Наигранная беспечность внучки не понравилась Сергею Кондратьевичу. Он вздохнул. Лада уловила настроение дедушки. Натянутая улыбка тронула ее маленький рот, а лукавые глаза сощурились, устремившись на пламя. Она готовилась к обороне, пытаясь оправдаться: "Плевать мне на то, что будут говорить. Я ничего плохого не совершила. Я люблю его. Да, да, люблю и имею на это полное право". И тут же вспомнила вычитанную у Бальзака фразу: "Я хочу любить с высоко поднятой головой, ломая все на своем пути во имя любви". Она мысленно повторила слова, как молитву, которая должна охранять ее.
Дедушка присел к столу, на излюбленное место, и стал наблюдать за внучкой: строгий профиль, капризно вздернутые губы, взгляд, полный решимости. "Вся в отца, - подумал он. - Характерец, будь здоров". Спросил:
- Ты из дома?
- Нет, я домой не заходила. Прямо сюда.
- • Ты, наверно, голодна. Попьем чайку. Сейчас заварю свеженького.
- Не надо, дедушка, не беспокойся, я сыта.
- Чай - он полезен для всякого… Во всем мире пользуют его. Значит…
- И ничего это еще не значит, - упрямилась Лада. Она встала, чтобы заварить чай. - Тогда выходит, что водка и табак тоже полезны, поскольку их "во всем мире пользуют".
- Это и медициной доказано, что чай полезен, - не сдавался старик.
- А курево и водка вредны, - вставила Лада, и язвительная усмешка заиграла на ее губах. - И тем не менее человечество с давних пор пользуется; и тем и другим - и вредным и полезным. Значит, такова жизнь, дедушка. Полна неожиданностей и противоречий.
"Рассуждает, как взрослая, это хорошо. А вот что поучает и задирается - это плохо", - подумал Сергей Кондратьевич и сказал уже с определенным намеком:
- Да еще каких неожиданностей! И никогда не думаешь. Такую неожиданность тебе преподнесут, что от стыда умереть можно. А насчет противоречий, так ты бы погодила с ними, с этими вашими противоречиями. Сначала вырасти, выучись, стань человеком, место свое в жизни найди, а тогда уж и противоречь себе на здоровье.
Лада почувствовала себя уязвленной. Поставила на стол чашку, стакан в серебряном подстаканнике и масло: здесь она хозяйничала, как дома. Потом пододвинула пластмассовую хлебницу с батоном старику - хлеб резал всегда сам Сергей Кондратьевич - и сказала не задиристо, но с достоинством:
- Дедушка, ты считаешь, вы хорошо поступали, что в свое время не противоречили?
Не жажда спора толкала ее на эти вопросы, а желание поскорее высказать то, что накопилось у нее за эти несколько январских дней, все то, что для нее самой казалось новым и неожиданно важным. Сергей Кондратьевич посмотрел на нее внимательно, и на лице его отразилась душевная горечь.
- Что ты знаешь, внучка, о нашем времени? Ничего… Жизнь - она штука хитрая. И прошлого целого народа нельзя зачеркнуть или запятнать ошибками. Нельзя, невозможно, - убежденно повторил он и, нахмурившись, начал нарезать хлеб.
Лада не обратила внимания на то, как дрожат его руки: в ее возрасте наблюдательность бывает односторонней, юности не присуща проницательность опытного человека. И Лада, не подозревая, что она задевает чувствительные струны дедушкиной души, сказала не свои, а чужие слова:
- Но нам не нравится ваше прошлое. Мы не хотим, не понимаем и не принимаем его.
Она резко вздернула огненно-рыжую голову, выпрямилась, и старик увидел, как пухленькие щечки ее вспыхнули от волнения. Ее непосредственность обезоруживала, и Сергей Кондратьевич подавил в себе суровость и заговорил ровным приглушенным голосом:
- Прошлого нашего не трожь. Оно не только наше - оно и ваше. Не будь его, кто знает, и вас бы не было. Потому что прошлое наше - героическое. Оно - сплошной подвиг… Любое прошлое любого народа - оно фундамент будущего. А попробуй, построй дом без фундамента, что получится? Долго ли простоит такой дом? Были у нас горячие головы и раньше, до войны, которые топтали прошлое, хотели, чтоб народ забыл его. Чтоб люди забыли свой род и племя. В войну пришлось вспомнить и Александра Невского, и Суворова с Кутузовым, и слова Ленина о национальной гордости. Я вот всю войну у станка простоял, а ты отца своего спроси, пусть расскажет, как это прошлое пригодилось им на фронте, что оно за оружие, наше прошлое, и какая в нем сила.
- Ну, дедушка, мы с тобой о разном говорим.
- Нет, не о разном. Фашистов мы одолели в советскую эпоху. И Днепрогэс, и Магнитку, и сотни новых заводов тоже в советскую эпоху построили, и на Северный полюс слетали, и даже в хваленую Америку через этот полюс перемахнули. Все было в нашем прошлом. И делал это народ, Советская власть, та самая, которая кой-кому поперек горла стоит. Кидаются они на нее со всех сторон, как свора борзых, да ничего сделать не могут. А теперь и изнутри пытаются, на разных там недорослей надеются… Не выйдет. Кишка тонка. Вот это ты и запомни. И всем, кто будет поднимать руку на наше прошлое, так и говори, что они замахиваются на наше настоящее и будущее, на Советскую власть.
Почувствовав шаткость своих позиций, Лада решила прекратить разговор. Ей не хотелось терять в дедушке союзника. Она рассчитывала на его поддержку и сочувствие и поэтому переключила разговор на другую тему:
- Дедушка, а ко мне Сега не заходил?
- Сега? Что это такое? - вскинул он белые брови, глядя прямо на внучку.
- Сега Баранов? Мальчик из нашего класса, - пояснила Лада.
- Баранов? А почему Сега? - рассуждал старик. - Как его зовут по-человечески? Сигизмунд, что ли?
- Да нет же, тогда было бы Сига, - засмеялась Лада. - Ну Сергей, понимаешь?
- Ах, Сергей, - протянул дедушка. - А что ж, Сережа не нравится? Неприлично или как? - продолжал допытываться Сергей Кондратьевич.
- Нет, почему же. Это старо. Со времен Петра Первого все Сережа да Сережа. Приелось, понимаешь? - Лада сморщила свой маленький носик, тронутый линялыми веснушками, и добавила, словно в оправдание: - У нас в классе есть один мальчишка по имени Барс. Барсик Елонский.
- А волка или крокодила нет? - без улыбки спросил Сергей Кондратьевич.
- Ты все шутишь, дедушка. А что тут такого? Всякие есть хищные имена: Лев, Тигран, Леопард или Лео.
- Нет, отчего же, - перебил дедушка, - я не против Барса Елонского - это даже звучно. Сега Барсович - тоже ничего. А вот Волк Баранов - как-то ни к селу ни к городу, - с деланной серьезностью отозвался Сергей Кондратьевич и добавил: - Так ты и меня уже Сегой зови.
- Давай лучше чай пить. Он получился на славу, - миролюбиво проговорила она и стала наливать свежий душистый чай в дедушкин стакан.
- Тебя сегодня ждут дома. Так что ты попей чайку и поезжай. Чтоб не волновались, - посоветовал дед.
Коля пришел домой. Мать, закрывшись во второй комнате, разговаривала с Ладой. Отец лежал на диване и читал газету. Константин Сергеевич сурово предупредил сына, указав кивком на дверь комнаты:
- Не ходи.
Коля понял и отправился на кухню перекусить. Заглянул в холодильник.
Там ничего не было, если не считать сырого мяса, заготовленного на завтра. На подоконнике в кастрюле обнаружил щи. Они у него не вызвали энтузиазма, но, как говорится, голод не тетка. Он поставил кастрюлю на газовую плиту.
Минут через десять на кухню пришла Лада, пунцовая, но улыбающаяся. Преодолевая неловкость, спросила.
- Ты что ешь?
- Щи круглосуточные на мясном отваре. Восемь копеек порция. Будешь есть или деньгами возьмешь - на кино? - дурачился Коля.
- Давай лучше поедим, - улыбнулась Лада, заглядывая в кастрюлю.
- Ну как твои дела? - с веселой миной осведомился Коля. - Пронесло?
- В общем, да. Отец все еще дуется.
- Считай, что пронесло. Могло быть хуже, - философски изрек Коля. В кухню вошла мать. - Вспомнил! - обрадованно воскликнул Коля. - Ах, черт возьми! - Широкое лицо его сияло. Всю дорогу, напрягая память, он пытался вспомнить, где и когда встречался раньше с Глебовым. Наконец вспомнил.
- Что такое? - вздрогнула мать.
- Одно дело вспомнил, - смущенно сказал Коля и, чтобы избежать расспросов, ушел в комнату.
Когда это было? И давно и недавно. Аттестаты зрелости. Школьный выпускной бал. Музыка, улыбки. Трогательное до слез прощание со школой. Тревоги, волнения. Все было светлым и чистым, как девочки-первоклассницы в сверкающих белизной фартучках. И была она, Вера Титова, самая лучшая, самая прекрасная девушка, одноклассница, его первая любовь и мечта. Он танцевал с ней и во время танца сказал:
- А ты знаешь, что сегодня самая короткая ночь?
- Ну и что? - непонимающе ответила она.
- Поедем за город, в березовую рощу. И там встретим рассвет. На берегу Москвы-реки, на лесной опушке.
- Ты это сам придумал? - охладила она его пылкое воображение и уничтожила мечту, которую он вынашивал и лелеял.
- Ну почему, Вера? Выслушай меня.
Она и слушать не хотела, словно его предложение было оскорбительным для нее.
- Если тебе хочется, поезжай хоть в лес, хоть на край света. Я иду с девчонками на Красную площадь.
Коля обиделся. "Ну, что ж", - решил он про себя. Больше его не видели в тот вечер ни в школе, ни на Красной площади, ни на Ленинских горах, где многие, очень многие выпускники встречают зарю, нового дня. А Коля в электричке поехал за город. Правда, недалеко. В час ночи сошел на платформе Левобережная, не доехав остановки до Химок. Гасли звезды, падая в росные травы. Канал, плотно прикрытый покрывалом тумана, дремал, охраняемый нарядами вязов, сосен и дубов, стоявших по берегам. На востоке уже светлело небо. Теплом дышали кусты, пряно пахли травы под ногами, мокрыми от росы. Все отдыхало, и все казалось Коле непривычным и незнакомым, иным, чем днем.
И хорошо, что он не пошел с классом, а уехал сюда один. Эх, Вера, Вера, увидишь ли ты хоть раз в жизни такое очарование и такой простор!
В роще было совсем не холодно. Сцепившись темными, литыми кронами, высились дубы, невозмутимые, не подверженные разрушительной силе времени. На крутом берегу клонились, к реке белоствольные березки. Они, будто заколдованные, глядят в посветлевшую от запылавшего на востоке неба воду.
Здесь, наедине с самим собой, он впервые в жизни задал себе вопрос: "Что же дальше?" Куда пойдет Коля Лугов, какая ждет его судьба? Хорошо бы, как Гагарин. У радиоприемников весь мир. Семья Луговых: мама, папа, дедушка, Лада, друзья - Саша Климов и Вера Титова - замерли в ожидании. Торжественный голос диктора оповещает на всю планету: "…космический корабль "Россия-1" достиг поверхности Марса и благополучно произвел посадку. На борту космического корабля "Россия-1" находится гражданин Советского Союза комсомолец Лугов Николай Константинович".
Восторги. Овации. Поцелуи. Мама плачет. И Вера… тоже: "Какая я дурочка!.."
И вот Коля возвращается на Землю. Ликует Москва. Море цветов. Миллионы улыбок. В первом ряду встречающих - Вера, знаменитая киноактриса. Они с ней садятся в машину и едут…
Коля не заметил, как зарделся, окрасился в пурпур восток и зацвело до самого зенита небо. У березок, что сгрудились почти у самой воды, Коля увидел человека, который, как и он, стоял на берегу и глядел на восход солнца. Их разделяло метров двести. Боясь пропустить рождение первого луча, возвещавшего наступление нового дня, он не заметил, как очутился рядом с незнакомцем.
- Удивительно!
Несмотря на то что слово это было произнесено негромко, Коля вздрогнул от неожиданности и машинально поднялся. Но человек, не обращая внимания на Колю, смотрел на солнце и щурил большие глаза. Ему по внешнему виду было лет под сорок. Одет он был в поношенные хромовые сапоги, вымытые росой, в военное галифе, китель с зеленой окантовкой и без погон. "Отставник", - решил Коля, с любопытством ожидая, что будет дальше. Незнакомец, как видно, не собирался уходить. Он сел тут же, недалеко от Коли, и спросил, глядя на реку:
- Из Москвы?
- Ага. А вы?
- Тоже. Сегодня какой день?
- Пятница. Двадцать второе июня, - сообщил Коля.
- Только тогда было воскресенье. Ты какого года рождения?
- Сорок второго.
- Значит, за год до твоего появления на свет в этот день началась война.
Человек казался Коле добрым, внушал уважение. И Коля без колебания опустился рядом с ним.
- А вы где в это время были?
- На границе, - вздохнул человек.
- Были пограничником?
- Начальником заставы.
- И остались в живых! - вырвалось у Коли.
- Повезло, - с тихой грустью ответил человек.
- Наверно, это было страшно? Первый удар… - не отставал Коля.
- Не то слово. Было трудно… - Незнакомец, нахмурясь, посмотрел за реку. Коле показалось, что он станет рассказывать о боях на границе. Но тот неожиданно спросил: - А ты как здесь очутился?
- После выпускного вечера в школе. Решил посмотреть восход солнца… Вы тоже?
- Не совсем. - Он устало улыбнулся. - Вот уже два десятка лет в эту самую короткую летнюю ночь встречаю восход солнца. Так сказать, личная традиция.
Он стал расспрашивать Колю, как учился, кто родители, что думает делать дальше. На последнем вопросе Коля замялся:
- Не знаю. Может, на стройки в Сибирь подамся. Поговорю с ребятами.
- Ну а чем на заводе плохо? Будешь работать вместе с отцом и дедушкой.
Взгляды их встретились, и Коля понял, что собеседник хотел, чтобы он пошел на завод.
- Рабочий класс - великая сила. Авангард, - продолжал незнакомец. - И ему нужна смена, молодая, хорошая. Смена. - цемент общества. Молодых рабочих в Москве избытка нет. Будешь работать и учиться. Учиться обязательно. В заочном, в вечернем ли, но учиться. Будет трудно. Я сразу после войны поступил в заочный институт. Недоедал, недосыпал. Но институт окончил.
- А это обязательно? - спросил Коля.
- Непременно.
- - А зачем? Работают же мастера, даже начальники цехов без диплома. И неплохо, - вспомнил Коля разговор отца с дедушкой.
- Бывает и такое. Но я уверен, лет через десять уже не будет ни начальника цеха, ни мастера без высшего образования.
Коля внимательно слушал, пытаясь угадать, чем занимается этот человек. Учитель? Мастер завода? Или просто рабочий? "Нет. Нет, не рабочий…" - заключил он, взглянув на руки.
- А вы сами где работаете?
- В райкоме партии.
- А я думал, на заводе, - смущенно улыбнулся Коля, посмотрев в лицо собеседнику.
С тех пор и запомнились ему его глаза и разговор, в сущности, очень обыкновенный. Но происходил он в такой обстановке и в такое время, что крепко запал в душу Коле. Да, собственно, разговор этот решил судьбу и Николая Лугова, и его школьного друга Александра Климова. Они пошли работать на завод "Богатырь".
И вот теперь Коля встретился с ним на заводе. Интересно, узнал его Глебов или нет. Наверное, нет. А Коля Лугов запомнил его. И у него было так радостно и светло на душе.
Посадов спешил. Куда, зачем - он и сам не мог сказать. Выйдя от Глебова, он грузно ввалился в такси и на вопрос: "Куда ехать?" - ответил неопределенно:
- Поезжайте вперед, а я подумаю… Скажу потом.
Он думал долго… Заехать к Климову, что ли? Недавно виделись. К отставному генералу - старому приятелю? Поздновато: он рано ложится. Оставалось одно -ехать домой. Он не любил свою квартиру вечером, особенно в зимнее время. Она нагоняла на него тоску, напоминала о прошлом, о том, что прежде вечера он проводил либо в театре, либо в кругу друзей-артистов - домой возвращался за полночь, принимал душ, ложился в холодную, с утра не прибранную постель и сразу засыпал. По старой привычке он и теперь не мог уснуть до двух часов, преследуемый бессонницей, которой страдают пожилые нервные люди. Он пытался бороться с ней работой, но безуспешно: после полуночи он уже ничего не мог делать, даже читать. И тогда он попадал в плен назойливых, неприятных, неотступно преследующих его дум, от которых убегал в течение дня. Они настигали его в полночь, в тишине неуютной холостяцкой квартиры.
Летом было проще: ему удавалось спрятаться от одиночества. Садился в такси и ехал. Не важно куда: в Останкино, в Главный ботанический сад, в Сокольники, в Химки или за город, на дачу к приятелю. Он с нетерпением ждал весны.
Алексей Васильевич ничем не хворал: болезни обходили его стороной, и все же в последнее время он начал ощущать недомогание. Могучий организм, которому, казалось, не будет износу, начал незаметно сдавать. Сам Посадов видел причину этого в духовной неурядице, в постоянном раздражении от неудовлетворенности, которое и расшатывало нервную систему. Уход из театра "по старости", на пенсию, пусть даже с почетом, он пережил тяжело. Ведь он-то знал, что подлинная причина ухода из театра была не в старости, а в конфликте с директором, в острых столкновениях по делам далеко не мелочным. Спор шел по большому счету, по вопросам репертуарной политики. Посадов со свойственной ему прямотой и откровенностью высказал давно наболевшее: театр утрачивает национальные традиции - ставит всякую переводную дребедень, в которой настоящим искусством и не пахнет. Театр боится героического, патриотического, предпочитая ему дешевую "проблематичность". Режиссура увлекается сомнительными экспериментами, пытаясь возродить худшие образчики театральных поисков двадцатых годов.
- Вы, уважаемый Алексей Васильевич, отстали, утратили чувство времени, - холодно ответил ему директор. - Если вам не нравятся роли… что ж, ничем не можем помочь.
Это звучало так: можете уходить, мы вас не держим. А когда Посадов, сославшись на свой прежний режиссерский опыт в народно-героическом театре, пожелал ставить спектакли, ему отказали.
Уйдя на пенсию, Посадов занялся театральными и радиотелевизионными инсценировками русской и советской классики. Однако театры пьес его не принимали: режиссеров классика не интересовала. Работа в заводском народном театре увлекла, зажгла большие надежды. Успех первых спектаклей во Дворце культуры окрылил его, но ненадолго: вскоре он понял ограниченные возможности народного театра в условиях Москвы. Равнодушное отношение к театру со стороны бывшего секретаря парткома завода и систематические стычки с Марининым гасили в нем самые лучшие надежды. Все чаще и чаще одолевали горькие мысли об утраченных грезах. С болью думал о том, что творческая жизнь его миновала, что многое осталось неосуществленным, и не по его вине. Ему мешали. А он не хотел сдаваться. Он отлично понимал, что идет ожесточенная идеологическая борьба, видел расстановку сил, знал стратегию и тактику противника, безошибочно определял, кто по какую сторону баррикад стоит, и возмущался, когда некоторые должностные лица не умели или не желали разбираться в обстановке.
Он утешал себя: пока я живу - я борюсь. И когда из редакции драматического радиовещания ему пересылали трогательные отзывы слушателей - рабочих, пионеров, солдат, студентов, ученых - он плакал. И это не были слезы чувствительного старика. Это было волнение бойца, который знал, что он не одинок, что он нужен обществу.
Доброе слово простых людей вызывало новый прилив творческих сил, ярость в работе. Он нес на радио подготовленные им новые передачи: инсценированные рассказы, повести, пьесы.
Возвратившись домой, Алексей Васильевич принял, по обыкновению, душ, выпил стакан кипяченого молока и лег в постель. Люстра была выключена, у изголовья горел старинный канделябр, отбрасывая на стену резкие тени. Спать не хотелось. И читать тоже не хотелось. И думать не хотелось. Но последнее не удавалось: думы наседали.
И как ни старался Посадов гнать от себя беспокойные мысли, они вновь и вновь возвращались к нему, незаметно, тайком вливались в ткань текущих дум, образуя собой нечто общее, единый поток извечной мысли о жизни, смерти и бессмертии. "Пока я живу - я творю, я делаю для людей доброе дело и этим счастлив, - размышлял Посадов, погасив канделябр. В темноте думы плыли спокойней, неторопливо, казались более весомыми и глубокими. - Но что будет потом, после меня? Что оставлю я людям? Мраморную плиту на кладбище, которая нужна разве что близким родственникам, которых у меня нет? Несколько второстепенных ролей, сыгранных в третьестепенных кинофильмах? Ведь главное было в театре, на сцене. А театр, как и газета, - он для современников. Пока ты жив - ты есть, тебя знают и помнят. Ты умер, и остается лишь кусок мрамора на кладбище или, в лучшем случае, на здании, в котором ты жил. Но это личное, и бог с ним, с личным. Важно другое: останется ли то, во что ты верил, во имя чего горел, чему отдал все свои силы и жизнь - большое искусство, реализм, идеи твоего века? Не будет ли все это уничтожено теми, кто уже сегодня издевается над святынями народа? Вот и недавно один популярный писатель в интервью с иностранным корреспондентом сказал с раздражением, что Третьяковку нужно было давно сжечь, поскольку она мешает новому искусству". Вспоминая этот факт, он думал о Маринине. Для Посадова это был обобщенный образ, как он выражался, "духовных растлителей". Конечно, Посадов понимал, что Маринин - мелкая карта в крупной игре, но сквозь Маринина, как сквозь призму, он просматривал всех игроков - тузов и королей, тактику коварства, подлости и цинизма. Вера марининых, их святая святых - деньги и власть. Маринины всегда стремятся быть наверху. Маринину нравится все то, что нравится буржуа. В том числе и в области духовной жизни. Маринин поддерживает абстракционистов, потому что там не требуется таланта. Там любой шарлатан успешно венчается лаврами гения. И взбирается наверх, в то время как подлинные таланты, выразители дум и чаяний народа вынуждены влачить жалкое существование и умирать безвестными. То же самое и в жизни. Маринин пропагандирует Воздвиженского и Капарулину потому, что их стихи - то же шарлатанство абстракционистов. Там нет мыслей, нет поэзии, изящества, начисто отсутствует прекрасное. Посадов был убежден, что и Воздвиженский и Капарулина - растения искусственного происхождения. Им создали признание и известность за рубежом и навязали нашему читателю все те же маринины, которые любят болтать о так называемой свободе мнений, о терпимости к инакомыслящим. "А дай Маринину власть, так он тебе покажет свободу, - рассуждал сам с собой Посадов. - Он всех инакомыслящих в ярмо впряжет. Всех заставит плясать твист под вой саксофона".
В идеологической борьбе двух миров Посадов предпочитал наступательную тактику. Однако были и другие - "оборонцы". Свои позиции они всегда оправдывали магической фразой: "Не так просто…"
Она произносилась всегда таинственно, с намеком на что-то серьезное. В самой фразе и в интонации был не только призыв к осторожности, но и предупреждение о возможности, вернее, неизбежности каких-то трагических последствий. Эту фразу произносили многие: и сторонники "оборонительной" тактики, и те, кто откровенно попустительствовал марининым, и сами маринины. "Не так просто" - это был своего рода щит. За ним скрывалось нечто запретное и страшное, чего нельзя было произносить вслух.
И вдруг его осенила такая простая мысль: а ведь и маринины, и Воздвиженские - это просто накипь в бурлящем горниле жизни, пена могучего океана советского общества. Бушует океан, здоровый и величавый, и где-то на его поверхности у берега образуется пена, и на первый взгляд может показаться, что она, эта пена, загрязнила всю воду. Но это неправда - нечистоты, мусор столь ничтожны, мизерны в сравнении с безбрежной ширью океана, что им никак не загрязнить даже тысячной доли его поверхности. Рассердится океан под свежим ветром и вышвырнет на берег вздыбленной неукротимой волной всякую нечисть. И снова прозрачен и светел во всю неизмеримую глубину свою и неоглядную даль, спокоен и мудр в сиянии солнечных радуг, - и не в этом ли его невозмутимом спокойствии кроется горделивая сила?
Вот так же и марининых можно по пальцам пересчитать, и корней в народе, как всякий мусор, они не имеют. И многочисленность их иллюзорная, кажущаяся от чрезмерной их шумливости. Шумят, галдят о себе, стараются держаться у всех на виду, на поверхности, как та пена, а люди, миллионы людей настоящих, спокойно и уверенно делают свое великое дело, не обращая внимания на истошный вой саксофонов. От такой неожиданной аналогии на душе Посадова становилось теплей, мрачные мысли таяли, рассеивались, как дым сигареты, и он уже с глубоким убеждением отвечал на свой главный, волновавший его вопрос: да, на века останется в нашем народе то, во что он верил и верит, во имя чего отдал свой могучий талант - героическое искусство, осененное идеями Ленина. Потому что не оскудела и никогда не оскудеет талантами советская земля, и грядущее ее племя, молодое, незнакомое, будет так же неистово и мужественно бороться за торжество коммунистических идей, как боролись их отцы, деды и прадеды.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. И СНОВА СТИХИ
На другой день после вечера поэзии в обеденный перерыв в цехах не стучали, как обычно, в домино, не играли в японского дурака. В сборочном, где больше всего работало молодежи, шел горячий спор о поэзии. Начали его Саша Климов и Коля Лугов с безобидных шуток по поводу вчерашнего выступления Новеллы Капарулиной и Артура Воздвиженского. Роман Архипов бросил несколько язвительных замечаний о стихах модных поэтов. Ему стали возражать поклонники Воздвиженского. И пошло! Уже через три минуты аудитория, как говорится, разделилась на два лагеря, далеко не равных количественно. Сторонников модерн-поэзии было человек пять - семь, не больше, но они выступали удивительно активно против своих оппонентов, спорили до хрипоты и в выражениях не стеснялись.
В самый разгар спора Саша Климов, взобравшись на ящик, провозгласил:
- Внимание! Сейчас я вам прочту одно стихотворение, после чего вы мне должны ответить на два вопроса: во-первых, когда приблизительно написано оно и, во-вторых, кто автор? Идет?
- Давай, крой, - начальнически разрешил мастер Деньщиков и посмотрел на часы. - Только покороче, а то обед кончается.
Саша прочитал:
Голова моя - темный фонарь с перебитыми стеклами, С четырех сторон открытый враждебным ветрам. По ночам я шатаюсь с распутными пьяными Феклами, По утрам я хожу к докторам. Тарарам. Я волдырь на сиденье прекрасной российской словесности, Разрази меня гром на четыреста восемь частей! Оголюсь и добьюсь скандалезно-всемирной известности. И усядусь, как нищий-слепец, на распутье путей. Я люблю апельсины и все, что случайно рифмуется, У меня темперамент макаки и нервы, как сталь. Пусть любой старомодник из зависти злится, и дуется, И вопит: "Не поэзия - шваль!" Врешь! Я прыщ на извечном сиденье поэзии, Глянцевато-багровый, напевно-коралловый прыщ, Прыщ с головкой белее несказанно-жженной магнезии И галантно-развязно-манерно-изломанный хлыщ. Ах, словесные, тонкие-звонкие фокусы-покусы! Заклюю, забрыкаю, за локоть себя укушу. Кто не понял - невежда. К нечистому! На-кася выкуси. Презираю толпу. Попишу? Попишу, попишу… Попишу животом, и ноздрей, и ногами, и пятками, Двухкопеечным мыслям придам сумасшедший размах, Зарифмую все это для стиля яичными смятками И пойду по панели, пойду на бесстыжих руках.Климов обвел всех плутоватым взглядом, пунцовый от возбуждения:
- Ну прошу, товарищи, кто первый?
Не двигаясь с места, Вадим Ключанский промямлил:
- Подумаешь, ребус. Стихи написаны после пятьдесят шестого года, автор Артур Воздвиженский.
По цеху пробежал шумок. Саша поднял руку:
- Кто следующий?
- Это пародия на Воздвиженского. И сочинил ее Саша Климов, - глухо проговорила Белкина.
- Еще? - Саша торжествующе посмотрел на людей.
- Давай, не тяни, осталось всего три минуты, - поторопил начальник цеха.
- Итак, уважаемые слушатели! - продолжал, подражая спортивному комментатору, скороговоркой Климов. - Написал эти отличные сатирические стихи действительно Саша. - Сделав жест в сторону Белкиной и внушительную паузу, он бросил: - Только не Климов, нет. Саша Черный. И написал их в 1909 году.
Заглушая веселые возгласы удивления, Саша Климов крикнул, соскакивая с ящика:
- Вот так-то, дорогие любители поэзии! Историю надо знать! Чтоб не повторяться!
Емельян Глебов во время обеденного перерыва тоже находился в сборочном цехе: вместе со стариком Луговым они сидели в сторонке за высоким станком и прислушивались к спорам молодежи.
- Вот так бы каждый день, - с удовольствием заметил Сергей Кондратьевич.
- Постараемся, - тихо ответил Глебов и повернулся к старику: - С вашей помощью,
- С моей?
- Обязательно, Сергей Кондратьевич. Почему бы вам в один из обеденных перерывов не рассказать молодым рабочим, как вы начинали трудовую жизнь в дореволюционные времена.
- В книгах лучше описано. Какой я говорун? - пожал плечами Сергей Кондратьевич.
- Книга книгой, а живой человек убедительней. Говорят, лиха беда начало.
Это было хорошее начало, и Емельян остался доволен комсомольцами. После смены он пригласил к себе комсомольский актив, похвалил ребят, и тут же все вместе наметили темы бесед на месяц вперед. Здесь же присутствовал и приглашенный Глебовым Александр Александрович Маринин.
К немалому удивлению комсомольцев, Маринин включился очень активно в эту работу: предлагал темы, называл имена людей, которые могут приехать. Утром следующего дня на щите "комсомольского прожектора" висел план бесед на месяц.
Петр Васильевич Климов ехал на завод с самыми добрыми чувствами и намерениями. Жаль, рассуждал скульптор, что не сделал этого раньше, давно надо было побывать, поинтересоваться у мастера, как работает Саша. Петр Васильевич надеялся на заводе подыскать для себя подходящую модель. С Емельяном Глебовым они встретились минут за сорок до обеденного перерыва. В партком зашли также директор с главным инженером: повидать талантливого скульптора. Климов, не любивший зря терять время, стал расспрашивать о заводе, о людях. Инициативу в разговоре взял главный инженер, называя передовиков производства. Упомянул Константина Сергеевича Лугова, который пришел на завод учеником и вырос до начальника цеха.
- Луговы - это династия, - заметил Глебов. - Старший, Сергей Кондратьевич, интереснейший человек, изобретатель и рационализатор.
Климов захотел повидаться с ним. Когда после, идя по цехам, Глебов подозвал Сергея Кондратьевича и представил его скульптору, Петр Васильевич крепко пожал ему руку, внимательно посмотрел на него и сказал:
- Буду рад познакомиться с вами поближе, - решив про себя: получится очень выразительный портрет.
В цехе Климова сопровождала целая свита любопытных, среди которых были и Александр Александрович Маринин, даже библиотекарша Вероника.
В обеденный перерыв, представляя собравшимся скульптора, Глебов рассказал о его творчестве. Петр Васильевич всегда испытывал неловкость, когда говорили о нем в его присутствии, а сейчас тем более. К рабочей аудитории он всегда относился с чувством особого уважения и теплоты.
Ведь Климов сам происходил из рабочего племени, в юности был подмастерьем в Нижегородских механических мастерских. Сейчас стоял он в огромном цехе с высокой стеклянной крышей, окруженный рабочими, главным образом молодежью, и улыбался дружески, смущенно. Они внимательно смотрели на него, ожидая чего-то интересного и необычного, и Климов заговорил, приглушенно, глядя в лица людей маленькими, цвета кедрового ореха проницательными глазами:
- Дорогие товарищи. Я с огромной радостью приехал к вам. Надеюсь, что и вы побываете у меня в мастерской. Буду рад показать вам и свое "производство". - Он улыбнулся, у глаз его собрались мелкие морщинки и снова распрямились. - Приезжайте.
Окруженный плотной толпой рабочих, он не знал, что ему дальше делать. И тут выручил Глебов:
- Петр Васильевич, у товарищей есть вопросы.
- Вопросы? А-а, пожалуйста, - с готовностью отозвался Климов.
- Нас, конечно, всех интересуют, - поторопился высказаться Гризул, - довольно сложные и острые процессы, происходящие в настоящее время в советском изобразительном искусстве.
Климов повел короткой бровью, прищурил глаза и, не глядя на Гризула, попросил уточнить:
- Какие, собственно, процессы вы имеете в виду?
- Ну хотя бы борьба с бескрылым фотографизмом и парадной помпезностью, поиски новых форм.
- Борьба в нашем искусстве никогда не прекращалась, - ответил Климов. - Всегда боролось талантливое с бездарным, реалистическое - с формалистическим, идейное - с безыдейным. Такая борьба идет и сейчас. Что же касается поисков новых форм, то и это всегда было уделом каждого талантливого художника,
- В скульптуре, есть абстракционисты? - вдруг выпалил Роман Архипов.
- Вот это уже конкретно! - улыбнулся Климов. - Появляются. Как высшая стадия формализма, с которым у нас, к сожалению, в последнее время борьба ослаблена.
- Что вы имеете в виду, говоря о формализме? - выскочил Маринин.
- Формалисты те, кто пренебрегает реальной действительностью, они уродуют, искажают, ломают формы, созданные самой природой. - Климов сунул руку в карман легкого серого габардинового пальто и достал оттуда какой-то бронзовый предмет, похожий на пивную кружку, и пустил его по рукам. - Вот вам образец так называемой абстрактной скульптуры. Скажите мне, что изображает это "произведение"?
Рабочие с недоумением рассматривали странную вещицу. И тогда Вадим Ключанский вдруг спросил:
- А разве обязательно что-то изображать?
Очевидно, он по наивности рассчитывал вопросом ошеломить аудиторию. Климов вскинул подвижные брови, мельком взглянул на спрашивающего и спокойно ответил:
- Видите ли, юноша, отвечать на ваш вопрос - значило бы говорить о целях искусства, что оно такое и зачем. То есть, начинать с азов.
- Да, действительно - загадка, - проговорил Константин Лугов, возвращая Климову "штуковину". - На стол такую не поставишь.
- А бронза ничего, Сергеич, нам бы пригодилась, - в шутку бросил стоявший рядом с ним Кауров.
Климов тотчас же воспользовался этими двумя случайными репликами и сказал:
- Вот и ответ на ваш вопрос, молодой человек. Ваши же товарищи ответили: на стол не поставишь.
Тогда, набравшись смелости (она долго не решалась на это) заговорила Вероника:
- Ну не все ж там такие? Есть и талантливые художники… За рубежом, я имею в виду. Бывают и у них удачные находки.
- Совершенно верно, - подхватил Климов. - Есть и там талантливые, ищущие художники. Кстати сказать, у нас они учатся, у лучших советских мастеров. Не так давно известный индийский художник Барод Укил прислал в нашу Академию художеств письмо. Оно было опубликовано в "Правде". Укил решительно отстаивает национальные традиции в искусстве. Да, мы интернационалисты-ленинцы, но это вовсе не значит, что мы должны заменить национальный характер искусства вненациональным. "Космополитизм - чепуха, космополитизм - нуль и хуже нуля; вне народности ни художества, ни истины, ни жизни, ничего нет". Эти слова принадлежат Тургеневу.
Потом Климова попросили рассказать, как он стал скульптором. Петр Васильевич мягко улыбнулся и довольно долго собирался с мыслями:
- Началось все с того, что еще в детстве я из хлебного мякиша вылепил фигурку. Меня за это наказали. Тогда я пошел на берег реки, набрал глины и снова стал лепить… Затем решил поступить в Академию художеств - ныне Институт имени Репина, в Ленинграде. В то время там было засилие формалистов. На вступительных экзаменах вылепил пограничника в секрете. Мою работу забраковали. Я расстроился и ночью в умывальнике вылепил барельеф "Изгнание реалистов из академии". Утром о моем "художестве" донесли начальству. И случилось невероятное - понравилось. Так меня приняли в академию.
- А над чем вы сейчас работаете? - заинтересовался мастер Кауров.
- Мечтаю вылепить портрет Сергея Кондратьевича Лугова, вашего ветерана труда.
В заключение договорились, что в ближайшее воскресенье группа рабочих навестит скульптора.
Мастерскую Климова посещали многие: от школьников до иностранных туристов. Но к предстоящему посещению рабочих с завода "Богатырь" Петр Васильевич относился по-особенному. Правда, Саша сообщил ему, что будет в основном молодежь и что ребята собираются продолжить с ним спор об искусстве. Некоторые считают его взгляды устаревшими, а его самого "дремуче-консервативным", как выразился Вадим Ключанский. По-своему готовились к встрече Маринин и Матвей Златов. В результате конфиденциальных переговоров они пришли к выводу, что было бы неплохо "подкинуть" сюда же поэтов Артура Воздвиженского и Новеллу Капарулину, а также композитора Радика Гроша. Так сказать, для оживления. Мысль об этом подал Маринин, Златов по достоинству оценил ее, обещая все устроить и даже при удобном случае поставить в известность Петра Васильевича.
- Пусть приходят, - равнодушно согласился Климов, не придав никакого значения словам Златова.
Поспорить Петр Васильевич любил и, увлекшись, иногда срывался, не стесняясь в выражениях.
- Ребята у нас горячие, - предупредил Саша отца, - спор может не ограничиться вопросами искусства.
И тогда Климов решил пригласить на эту встречу двух близких своих друзей: Алексея Васильевича Посадова и маршала - героя Великой Отечественной войны. "Молодым рабочим, знающим войну только по книгам да кинофильмам, приятно будет повидать героя", - думал он.
Встречу Климов назначил на четыре часа.
Климов вначале думал, что портрет старика Лугова он сделает за два-три сеанса. Так ему показалось, когда Сергей Кондратьевич впервые приехал после работы прямо в мастерскую. Лугов позировал хорошо, охотно говорил, при этом не только на заводские темы. Петр Васильевич старался поддерживать и направлять беседу. Он умел завоевать у людей доверие, расположить к себе собеседника и вызвать на откровенность.
Но в конце третьего сеанса, во время которого Климов предполагал закончить работу, он вдруг понял, что портрет не получился. Понял это, охваченный каким-то странным чувством тревоги и радости одновременно. Такое испытывает завзятый математик, столкнувшись с интересной, но трудной задачей. Это было не чувство обычной профессиональной неудовлетворенности, а нечто большее, ибо за ним скрывались серьезные раздумья художника над искусством. Портрет старого рабочего не удовлетворял ваятеля, хотя сам Лугов был доволен, не говоря уже о Саше, который находил "поразительное сходство с оригиналом". И несмотря на все это, Петр Васильевич молчал. Ему одному виделся иной, более интересный образ, и не вообще старого рабочего, а именно Лугова Сергея Кондратьевича. Скульптор стремился к этому образу и не мог схватить его, не находил те единственно верные штрихи, которые бы выражали обаятельный и сильный характер.
Следующие два сеанса (по четыре часа каждый) желаемого результата не дали и не принесли скульптору радости удачной находки или свершения замысла. Когда его шофер увозил домой усталого, но по-прежнему полного энтузиазма и готовности позировать старика, Петр Васильевич, тоже усталый, садился в старое кожаное кресло и долго вдумчиво всматривался в творение своих рук. На него из свежей пахнущей глины весело смотрели глаза уже старого, но еще крепкого человека, и где-то в густых усах пряталась добродушная улыбка. Каждый сеанс Сергей Кондратьевич открывал скульптору нечто новое о себе и казался другим. Другими были лицо, глаза, жесты и даже голос, и Климов понимал, что это зависело от настроения и состояния старика. Скульптор искал синтез, то основное и главное, что оставалось неизменным и составляло характер этого человека. Но когда казалось, что это основное схвачено и зафиксировано в глине, ваятель вдруг понял, что он поймал какой-то один миг, одно состояние человека и что оно не отражало всей сущности характера, судьбы, всего прожитого и пережитого, озаренного ясной и- глубокой мыслью.
Мозг Климова работал лихорадочно. Память искала знакомые образы, созданные руками великих и гениальных предшественников. Они всплывали перед ним, увековеченные в граните, мраморе и бронзе, на холстах и фресках - яркие и сильные характеры. И почему-то ярче других виделись портреты Павла Корина из "Уходящей Руси" - быть может, потому, что видел он их недавно и они врезались в память с необычайной отчетливостью. Что было главным в этих коринских уходящих - и в молодых и старых, в мужчинах и женщинах, в здоровых и убогих? - спрашивал себя Климов. И отвечал, не задумываясь, с бесспорной убежденностью: сила духа, сила, которую питала вера. Пусть слепая, не всегда осознанная вера одержимого фанатика, но все-таки вера, ради которой люди готовы были жертвовать своей жизнью. Отдать жизнь за идею не всякий сможет. А эти коринские обломки рухнувшего мира, чуждые, быть может, не совсем понятные Климову, уходили из жизни с поднятой головой. Их образы были предельно трагичны. Трагизм их судьбы художник понимал отлично. Он не осуждал их, он даже где-то по-человечески сочувствовал им. И не лгал, не фальшивил, не льстил - он изображал правду такой, какой она есть, и в этой правде подчеркивал и выпячивал то, что было главным в этих людях.
Климов знал всю жизнь старика Лугова. За шесть встреч многое было переговорено. Теперь он уже понимал, что не в этом весь Лугов, что за кажущимся благодушием скрывается беспокойная натура человека, которому до всего есть дело, человека острой мысли и напористого характера, неутомимого, в то же время немного усталого. И озабоченность его не мелочная, проходящая, а глубокая, нелегко разрешимая. Она выражалась в глазах, которые вдруг становились задумчиво-грустными, и в характере жестов, когда старик подпирал тяжелую голову скрещенными руками. Скульптор обратил внимание на этот жест: обе руки тянулись к лицу - красивые, жилистые, тянулись к подбородку и подпирали уставшую от напряженных дум голову. И было тогда в этой гармонии нечто удивительно цельное, единое, словно без рук образу не хватало мысли, полноты и завершенности.
Вот тогда-то и начиналась самая работа: Климов закрывал целлофаном глиняный портрет и брал в руки пластилин. Он компоновал, строил по памяти новую композицию: руки сцепились пальцами, и на этот прочный мост легла задумчиво-усталая голова со взглядом беспокойным, глубоким и светлым.
Петр Васильевич понимал, что не он первооткрыватель композиции "голова - руки". Что задолго до него Коненков так компоновал едва ли не лучшую свою работу - портрет Достоевского. Хотя и Коненков в своем решении образа Достоевского шел от Перова. Не в этом дело - главное, что скульптор теперь был убежден в своей находке, и он начал, в сущности, заново лепить старика Лугова.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ВСТРЕЧА С МАРШАЛОМ
Место сбора, как условились, было у памятника Ивану Федорову. Там экскурсантов встречал Саша Климов. Емельян приехал к "Метрополю" без трех минут пять. У памятника уже стояли четверо Луговых (трое мужчин и Лада). И тут Емельян пожалел, что не взял с собой жену. Луговых окружали: Пастухов, Ключанский, Белкина, Юля Законникова, Вероника, Клаша Дулина, Кауров, двое парней из сборочного цеха. Рядом с Вероникой - Саша Климов. Он уже предупредил всех, что в гостях у отца будут маршал и Посадов.
- А почему не видно Архипова? - удивился Глебов.
- Какие-то дела в институте, - ответил Саша. - Словом, занят.
- Кто еще должен быть? - спросил секретарь парткома.
- Александр Александрович обещал, - ответила Вероника.
Маринин прибыл минуты через три. На нем была шапка из выдры в форме пирожка, короткое пальто с шалевым воротником (тоже из выдры), модные штиблеты. Весело поздоровался со всеми за руку, каждому сказал комплимент и обратился к Емельяну:
- А он, кажется, славный дядька, этот скульптор. Весьма, весьма любезно с его стороны. Как вы находите?
- Да, конечно, - согласился Глебов, и они направились в мастерскую.
Маршал произвел на всех впечатление своим внушительным видом. Он был под стать Посадову: высок, широкоплеч, с крупными, точно вырубленными чертами лица. Густые брови и глубокая продольная складка у переносья придавали лицу излишнюю суровость, а тяжелый раздвоенный подбородок и резкие энергичные складки у рта свидетельствовали о большой силе воли и крутом характере. Глебов слышал и читал о маршале много, но почему-то представлял его внешне не таким, более подвижным, свободным.
Емельян охватил взглядом рабочий кабинет Климова: одна стена - сплошное окно, другая - вся в стеллажах со скульптурами. В глубине - письменный стол, над ним в стандартных бронзовых рамочках, в которые обычно вставляют фотографии, три транспаранта с текстами. Пока остальные рассматривали скульптуры, Глебов успел прочесть тексты. Верхний, центральный, гласил:
"Мне не нужно друга, который, во всем со мной соглашаясь, меняет свои взгляды, кивая головой, ибо тень делает это лучше.
Плутарх".
Слева Емельян прочел:
"Я знаю, что и я подвержен погрешностям и часто ошибаюсь, и не буду на того сердиться, кто захочет меня в таких случаях остерегать и показывать мне мои ошибки.
Петр Первый".
Справа:
"Труд, труд! Как я чувствую себя счастливым, когда тружусь.
Лев Толстой".
- Любопытно, - признался Глебов подошедшему к нему скульптору.
- Полезно, знаете ли, иногда прислушиваться к голосу великих и мудрых, - ответил Климов и, взяв Емельяна под руку, улыбнулся.
Сегодня Петр Васильевич показался Глебову несколько иным: в шерстяной вязаной рубахе серого цвета, без пиджака (в кабинете было довольно тепло), подвижной, общительный, он был весь какой-то домашний. Даже не верилось, что этот невысокого роста, чуть-чуть сутулый крепыш с короткой жилистой шеей мужика создал стоящие на стеллажах скульптуры, которые удивляли и восхищали зрителей. Среди портретов Емельян в первую же минуту увидел бронзового Посадова и беломраморного маршала. Посадов казался несколько моложе, чем в жизни, жестче. Мраморный маршал был совсем молод, в погонах генерал-полковника: видно, Климов лепил его давно. И потому, что Климов, Посадов и маршал были на "ты", Глебов понял: всех их связывает давнишняя дружба.
В углу, рядом с дверью, на, специальной тумбе-подставке стоял портрет, закрытый белой материей. Ни Посадов, ни маршал не обращали на него внимания. Но любознательные заводские ребята не прошли мимо, и Коля Лугов шепотом спросил Сашу:
- А там что спрятано?
- Секрет, - ответил Саша и, намекая, прибавил: - Отец приготовил сюрприз.
Это еще больше разожгло любопытство ребят, и Ключанский, бесцеремонно отвернув нижний край чехла, заключил с видом знатока:
- Гранит.
К этому "граниту" и вел Климов, взяв под руку Емельяна и Сергея Кондратьевича. Подойдя, он пригласил всех остальных. Шагая широко, легко подошел маршал и недвижно застыл в окружении ребят. Вразвалку приблизился Посадов. Петр Васильевич, не сказав ни слова, снял покрывало.
Наступила тишина. Все глядели на скульптуру, затаив дыхание. У Сергея Кондратьевича влагой блестели глаза. Посадов перевел взгляд с него на портрет и застыл. То же самое произошло и с маршалом. Глебов, всматриваясь в высеченное в базальте лицо Лугова, спрашивал себя: "В чем же притягательная сила этого образа? Характер? Но какой? Что в нем главное?" Первым нарушил молчание маршал. Должно быть, он, как и Глебов, задал себе тот же вопрос и ответил по-военному коротко:
- Честно прожитая жизнь. - Отойдя назад, он снова стал всматриваться в портрет.
- Да-а, батенька, - пробасил Посадов. - Красотища-то какая! Красота души человеческой!
Маринин не хотел отставать. Подражая маршалу, он лаконично сказал:
- Классическое изящество формы. - Почувствовав, что это не произвело нужного впечатления, он добавил: - Отличная пластика. Вы меня покорили, Петр Васильевич.
Посадов бросил на него презрительный взгляд: "А этот гусь как сюда попал?" Андрей Кауров, не отрывая глаз от портрета, тихо произнес:
- Сила и мудрость.
А Глебов будто продолжил его мысль:
- Глубокое раздумье над жизнью.
- Хочется вспомнить книгу Шолохова "Судьба человека", - заметила Юля Законникова.
- Именно, - подхватил Маринин. - Вы верно подметили.
Глебов наблюдал за ребятами, особенно за теми, которые на заводе шумно ратовали за "новый стиль". И, к радости своей, нашел, что и Пастухову, и Веронике, и Белкиной, и Ключанскому - всем нравится. Только они, боясь показаться старомодными, предпочитают скрывать свои чувства. Глебов обратил внимание еще на одного человека. Плотный, невысокого роста, с видом желчным и настороженным, он ходил неслышно, появляясь то там, то тут, и все движения его, тоже бесшумные, но уверенные, и взгляд мягкий, но зоркий, в котором сквозил проницательный скептицизм, говорили, что он в этом доме своего рода "маршал". Это был Матвей Златов. Когда в парадном позвонили, он открыл дверь и впустил поэтов: Воздвиженского и Капарулину. Представив их своим до застенчивости негромким голосом, он тут же бесшумно исчез. На него никто не обращал внимания, но он видел всех.
Из кабинета пошли в мастерскую, так сказать, в производственный цех, где Климов рассказал ребятам о работе мраморщика и гранитчика.
Здесь был особый мир, царство образов, обретших бессмертие. Огромный зал со стеклянной, тусклой от пыли крышей был похож на литейный цех. Только вместо станков здесь жили титаны, сотворенные рукой человека. Одни в глине, окруженные строительными лесами, вздымались ввысь метров на пять, другие, вырубленные в мраморе, стояли рядом.. Третьи, маленькие, в пластилине, свидетельствовали о мучительных поисках художника, о его беспокойной мысли и горячем сердце. "Какой титанический труд!" - подумал Глебов и вспомнил толстовские слова в бронзовой рамочке над письменным столом.
А Климов с радушием хозяина уже показывал гостям эскизы монументов, над которыми работал. Их было три: Ленину, Лермонтову и узникам, погибшим в фашистских концлагерях. Последний представлял собой глухую стену, иссеченную пулями; на стенах - выцарапанные надписи узников. Горельефы - на фоне стены.
- Мне хочется сказать, - заметил скульптор, - о тех безымянных наших братьях и сестрах, светлых и чистых людях, которые погибли в страшных муках лишь потому, что они были советскими людьми.
- Там были не только советские, - мельком напомнил Воздвиженский.
Климов, не обращая внимания на реплику, продолжал:
- Я хочу сделать памятник из самого твердого камня, чтобы он вечно напоминал потомкам, что в каждом из тех замученных фашистским зверьем жили Муса Джалиль и генерал Карбышев.
Спор разгорелся вокруг Лермонтова. Великий поэт был изображен в кавказской бурке, с обнаженной головой, стоящим на выступе утеса над пропастью. Глебову фигура поэта показалась впечатляющей: крыльями вздутая ветром бурка, вздыбленный, устремленный ввысь утес. Но Капарулина нашла, что все это скучно.
- Опять постамент, опять на нем же фигура. Было такое, наверное, сто раз, - скривила она губы, глядя мимо Климова. - И почему должен изображаться Лермонтов, а не Демон, предположим? И не шаблонно, как-нибудь так, ну хотя бы в духе Врубеля?
- Родненькая, не знаю вашего имени, - Климов коснулся руки Капарулиной, - вы предлагаете памятник Демону, притом не оригинальный, а врубелевский. А я делаю памятник Лермонтову для Москвы, о которой поэт сказал: "Москва, как много в этом звуке для сердца русского…" - И мягко заулыбался.
Настроенный миролюбиво, Петр Васильевич хотел спор перевести в шутку. И вообще от дискуссий с женщинами он в принципе уклонялся, поговаривая: "Да разве бабу переспоришь? Она черта заговорит". Капарулина, видно, неправильно поняла настроение хозяина, приняла его добродушие за слабость, продолжая в том же тоне:
- Но все же знают, что Лермонтов написал "Демона". Почему вы боитесь аллегорий, символов? Мне кажется, в скульптуре им самое место.
- Миленькая, ничего я не боюсь, даже Демона, будь он в каком угодно образе. Может, мне, в самом деле, вылепить вместо Лермонтова купца Калашникова или мальчика Мцыри, ловящего рукою молнию?
Артур Воздвиженский подхватил его мысль:
- А что?! Это великолепная идея! Мцыри на утесе ловит рукой молнию! Необычно, красиво, глубоко!
- Не обязательно Мцыри, - возразила Капарулина и поморщилась. - Можно в виде одинокого паруса.
- Лермонтов? В виде паруса? - серьезно переспросил Климов. И, помолчав, внезапно ответил: - Было время, когда некоторые архитекторы, увлекшись необычным, строили здания в виде трактора, дирижабля и несли черт знает еще какой вздор. - Он вздохнул, лицо его сделалось грустным. - Я за аллегорию, за символ, за что угодно, лишь бы это было понятно и приятно зрителю. Вы, наверно, помните памятник Вучетича в Берлине. Воин-освободитель держит в руке меч, расколов им фашистскую свастику и прижав к груди ребенка. Символ ведь, не так ли? А какая глубина мысли! И всем понятно. Всем. Или вот недавно я видел у Томского эскиз памятника революции 1905 года. Там все есть: аллегория и символ, но все подчинено грандиозной идее, выражено ярко и, я бы сказал, просто здорово. На мой взгляд, это лучшая работа Томского.
В углу стояло несколько гипсовых фигур, тонированных под бронзу.
У одной не было руки, у другой - носа, у солдата - сломан автомат. Глебов спросил Климова, где оригиналы этих произведений.
- Это и есть оригиналы, - ответил Петр Васильевич, остановившись возле поврежденных скульптур.
- Ну, а копии или как они называются? - допытывался Емельян.
Климов подождал, пока подойдут остальные, бродившие по всему залу. Когда его окружили плотным кольцом, он положил руку на гипсового солдата с отколотым носом:
- Вот, друзья, образец современного вандализма сторонников антиреализма и свободы творчества. Это давние мои работы, первых послевоенных лет. Отформовал я их в гипсе. Надо было бы отлить в бронзе, да руки не дошли. Стояли они у меня под навесом во дворе. Летом я уехал на стройки Сибири. Возвращаюсь и вижу в моем дворе доподлинный погром.
- При чем же тут противники реализма, не понимаю, - заметил поэт и передернул плечами. - Вероятно, какие-то пьяные хулиганы порезвились.
- Да, это, конечно, безыдейные хулиганы, - ухмыльнувшись, поддержала своего коллегу Капарулина. Утверждение Климова показалось ей неправдоподобным.
- Вы уверены?
- Абсолютно, - небрежно бросила Капарулина.
Климов обвел взглядом присутствующих. Посадов не выдержал:
- Да что тут доказывать, когда факт установлен милицией и известно, кто это сделал и зачем. - Он знал эту неприглядную историю.
Вандалов поймали, хотели судить, да Климов не стал связываться с подонками; поднимать шум, на который те и рассчитывали. После реплики Посадова он подчеркнул:
- Именно хулиганили идейные антиреалисты и жрецы свободы творчества. Так они понимают свободу.
- Свободу громил, - заметил маршал.
- Дай им волю, они начнут вот так же расправляться с неугодными им художниками, как расправились со скульптурой, - добавил Посадов. - Сожгут и Третьяковку…
- Да они уже и начали расправляться, правда, в печати, - на ходу бросил Климов, направляясь дальше: здесь было прохладно.
Воздвиженский задержал его:
- Может, вы имеете в виду статью Афанасьева?
- Многие статьи и в разных органах. В том числе и эту, - ответил Климов, уже на ходу. Он шел впереди размашисто и, как заметил Глебов, был слегка взвинчен. Благодушие и теплота исчезли, видно, разговор об изувеченной скульптуре задел в нем больное место. Он готов был не только защищаться, но и нападать.
Перемену в нем заметили многие, вполголоса возмущались:
- Какое хулиганство…
- Таких судить надо…
- И это в наше время!
- У него есть враги, - сказал не то сочувственно, не то желая объяснить поступок хулиганов, Маринин.
- Но есть и друзья. И их в тысячу раз больше, - буркнул маршал, и тогда Глебов заметил в сторону Маринина:
- Только посредственности не имеют недругов.
Хозяин провел их в гостиную, где горел камин, усадил и попросил Сашу распорядиться насчет кофе. Из гостиной дверь вела в библиотеку - небольшую квадратную комнату, без окон, заставленную книжными полками. Свет люстры с зелеными абажурами мягко падал на журнальный столик с лампой и стоявшее рядом с ним кресло.
В гостиной Воздвиженский решил вернуться к прерванному разговору и напомнил статью Макса Афанасьева, критиковавшего климовский проект памятника героям Курско-Орловской битвы.
- Афанасьев, конечно, увлекся, допустил известные перехлесты.
Тон у поэта солидный, взгляд снисходительный, поза независимая.
- Макс вообще в полемическом угаре бывает невменяем, - уныло вставила Капарулина.
- Ваш Макс Афанасьев, - хмуро прервал ее маршал густым басом, - негодяй и циник.
Что вы, товарищ маршал. Его фильм "Гибель батальона" обошел весь мир, - с прежней миной протянул поэт.
- А вы его спектакль "Трое в постели" смотрели? - продолжал маршал.
- Знаю я эту пьесу, - ответил Воздвиженский, покачивая головой и пожимая плечами.
- Ну и как вы ее находите? - взглянул на поэта маршал.
- Дело субъективное: одним нравится, другим нет.
- Я спрашиваю лично вас? - настаивал маршал, не сводя с поэта требующего взгляда.
По лицу Маринина пробежала тревога.
- Пьеса, несомненно, талантлива. За границей пользуется большим успехом, - ответил поэт и потупился.
- Когда там хвалят нас, я всегда вспоминаю высказывание, кого вы думаете? - маршал смотрел теперь уже не на поэта, который его больше не интересовал, а на Посадова и Климова.
- Бебеля, - ответил Петр Васильевич.
- Нет, - возразил маршал, - не угадали. Крылова, нашего дедушку Крылова. Задолго до Бебеля Иван Андреевич сказал: "Кого нам хвалит враг, в том, верно, проку нет".
- Но ведь "там", как вы говорите, живут не одни же наши враги. Один мой друг рассказывал мне, что Арагон, например, защищает абстрактное искусство, - обронила Капарулина, глядя в камин и потирая над огнем бескровные пальцы.
- Не знаю, что вам рассказывал ваш друг и какое искусство защищает Арагон. Но я убежден, что настоящие коммунисты борются за искусство социалистического реализма, потому что это искусство трудящихся, потому что оно выражает светлые идеалы человечества. Оно возвышает и облагораживает человека, а не притупляет его, не сводит его до животного. И те, кто ненавидят реализм, те, как правило, ненавидят и социализм, - сказал Климов.
- О, это весьма и весьма любопытно, - оживился Маринин. - Ставить знак равенства между реализмом и социализмом! Черт знает что! Ведь так и до абсурда можно договориться!
Хозяин дома не стал отвечать директору Дома культуры. И Алик Маринин, увлекшись, продолжал:
- Ведь это в корне неверно, дорогие товарищи. Так можно обвинить всю нашу молодежь, которая ищет, иногда заблуждается, в бог знает каких грехах: в ненависти к социализму.
Тут не удержался Глебов. Он поднялся, извинился перед хозяином и, волнуясь, повернулся к Маринину.
- Конечно, ошибки в молодости естественны. Но зачем же обобщать? Кто вам сказал, Александр Александрович, что вся наша молодежь ненавидит реализм, не принимает его? Кто? Давайте спросим. Вот перед вами ее представители.
- Признавайся, ребята, кто ненавидит реализм? Наказывать за это не буду, - расхохотался маршал.
Все заулыбались.
- Меня всегда возмущают разговоры: "нынешняя молодежь", "современная молодежь", - стремительно заговорил Климов. - Да эти рассуждения продолжаются уже сотню лет. А вы - "современная молодежь"… Если хотите знать, об этой "нынешней" молодежи еще Бальзак очень мудро сказал.
- Что сказал Бальзак? - полюбопытствовал Посадов, оторвавшись от журнала, который он листал.
Петр Васильевич вернулся из библиотеки с томиком Бальзака с заложенными бумажками страницами. Став у двери, он громко прочитал:
" - Нынешняя молодежь… судит свысока о поступках, мыслях, книгах: она рубит сплеча, еще не научившись владеть мечом… Молодые люди нетерпимы, ибо они не знают жизни и ее тягот. Пожилой судья мягок и добр, светл, молодой судья неумолим. Один все знает, другой ничего".
- Да-а! Как изумительно сказано! - пророкотал довольный Посадов.
- Тонко подмечено, - поддержал маршал. - "Рубит сплеча, не научившись владеть мечом". Тонко, я вам замечу. И жизни не знают. Им не пришлось испытать того, что испытала молодежь военных лет. Некоторые из нынешних молодых людей ниспровергают отцов, потому что к этому призывают такие, с позволения сказать, драматурги, как Афанасьев, А в наше время сын, похоронив батьку в братской могиле, прямо от нее с отцовской винтовкой шел в бой.
Вдруг послышался робкий голос Юрия Пастухова:
- А скажите, товарищ маршал, всегда бывает страшно в бою или только поначалу, пока не привыкнешь?
Все зашевелились, как по команде "вольно", ожидая ответа. Страх… Действительно, что это такое? Все ли люди ему подвержены? Как в себе преодолеть это чувство? Одному таракан залез под рубашку, он до смерти перепугался, другой спокойно идет в стан врага, через минные поля… Маршалу тоже нелегко было ответить на этот вопрос. Но он все же сказал:
- Страх - дело субъективное, зависит от человека, от его характера, силы воли. Подавить его в себе может любой. Привычка, опыт имеют немаловажное значение. Это ясно. Недаром говорят - "обстрелянный солдат". Мне помнится такой случай. Ехали мы в штаб корпуса на трех машинах. Местность открытая, впереди небольшая деревушка, почти вся сожженная. Неожиданно появились два "юнкерса" и настигли нас на окраине этой деревушки. Скрыться негде. А самолеты, видим, сейчас нас накроют. Выскочили из машин, залегли в кювете. Вы понимаете, не страх нас заставил это сделать, а здравый смысл. Одни легли лицом к земле и, закрыв глаза, ждали. Другие лежали навзничь и смотрели в лицо смерти. Должен признаться: неприятное это чувство, когда видишь, как от самолета отрывается бомба и со свистом падает на тебя. Не знаю, что чувствует приговоренный к расстрелу в последние секунды жизни. Во всяком случае, он не видит, как летит в него пуля. А тут все на виду; вот оторвались от самолета черные точки - ближе, все растут, увеличиваются. Уже слышен слабый, нарастающий свист. Летят прямо на тебя. Никуда от них не денешься, спасения нет. Секунда - и конец, от тебя не останется даже мокрого места. Страшно? Да, страшно! В самый последний миг закрываешь глаза, они сами закрываются почти одновременно с оглушительным взрывом: один, второй, третий. Три бомбы. Они упали метрах в семидесяти. Осколки забарабанили по автомашинам. У одной поврежден мотор, другие хотя и изрешечены, но ехать можно. Самолеты ушли. Мы поднялись - и к машинам. Пока водители осматривали повреждения, я заметил по другую сторону избы группу солдат и с адъютантом направился туда. Подхожу: сидят человек десять солдат и невозмутимо делят махорку, полученную у старшины. "Бомбили?" - "Да. Подумаешь! Самолеты? Бомбы? Скоро уж три года, как бомбят. Вот, смотрите, осколок еще тепленький". Оказывается, они на "юнкерсов" и внимания не обратили. Было дело поважнее - дележка махорки.
И тогда с жаром заговорил Маринин, уловивший в ответе маршала что-то подкреплявшее его мысли.
- Очень верно вы подметили, товарищ маршал. Мне приходилось много бывать на войне, и я убедился, что страх можно подавить в себе. Каждый юноша или девушка может стать героем и совершить подвиг. Вы помните, до войны была такая песенка: "Когда страна быть прикажет героем, у нас героем становится любой"? Война подтвердила справедливость этой песни.
Климов снисходительно улыбнулся: его рассмешила эта нелепая фраза: "Приходилось много бывать на войне" - таким манером когда-то изъяснялся чеховский Епиходов. Но его размышления перебил голос поэта.
- Совершенно верно, - заговорил Воздвиженский, признательно взглянув на Маринина. - Я уверен, что те ребята, которых кое-кто величает стилягами, если потребуется, будут действовать не хуже, а, может, даже лучше правоверных мальчиков, которые регулярно платят комсомольские взносы и могут без запинки продекламировать статьи Устава ВЛКСМ.
- А вы, молодой человек, между прочим, комсомолец? - спросил маршал, устало посмотрев на Воздвиженского.
- Нет, но это в данном случае не имеет никакого значения. - И, натянуто улыбнувшись, Воздвиженский добавил: - Маяковский, как известно, не имел партийного билета, но это не мешало ему писать хорошие стихи.
Емельяна подмывало сказать, что Воздвиженский исключен из комсомола, но его опередил Климов:
- Между прочим, я тоже регулярно плачу партийные взносы и знаю Устав партии. А что касается тех субъектов, которые якобы способны на подвиг, то, во-первых, позвольте вам не поверить, уважаемый Артур. Я знаком с вашими стихами, знаю, что вы и некоторые ваши собратья по перу давно носитесь с этой не такой уж невинной идеей.
А в чем ее порочность? - спросила Капарулина. - В неправде, - резко ответил Климов. - К вашему сведению, и Зоя Космодемьянская, и Александр Матросов, и молодогвардейцы, и тысячи других героев прошлых войн не принадлежали к тому сорту молодых людей, которых вы воспеваете и, так сказать, берете под свою защиту. Верно я говорю?
Петр Васильевич обвел взглядом присутствующих. Константин Сергеевич Лугов, маленький, плотный, вскочил со стула, шагнул вперед к Климову:
- Совершенно правильно! Дорогой Петр Васильевич, вы бы посмотрели на этих некоторых. Срам и стыд, до чего доходят…
- Вашу "идею", - Глебов поднялся и заговорил, прищурив глаза, - придумали те, кому почему-то уж больно хочется развращать молодежь, поощрять в ней все плохое и высмеивать все здоровое. Те, кто в своих стихах рифмует "отцы - подлецы, отцы - мертвецы".
Глебов перевел взгляд на Воздвиженского, будто напоминая ему о вечере в студенческой аудитории. Глебову, как работнику райкома партии, пришлось тогда вмешаться и напомнить распоясавшимся стихотворцам, что они находятся не в Гайд-парке и не в каком-нибудь модерн-клубе Парижа, Рима или -Нью-Йорка. Молодые пииты призывали покончить с наследием отцов, выбросить на свалку истории как ненужный хлам и начать строить жизнь по схемам, завезенным туристами. Недозревшие "старики" и "старухи" в экстазе хлопали в ладоши, бессмысленно выпучив круглые, пластмассовые глаза. Слушая их, Глебов подумал: "А нет ли тут субъективного элемента?" Помнится, когда Глебов поинтересовался деталями биографии Воздвиженского, то оказалось, что у поэта, собственно, и биографии не было, как не было отца. Вернее, был, но с матерью не жил, ушел от семьи, когда Воздвиженский только собирался пойти в первый класс. Его мать служила в научно-исследовательском институте. Отец, юрист, вначале состоял членом коллегии адвокатов, потом за взятки сам попал на скамью подсудимых. Пришлось расстаться с юриспруденцией и заняться музыкальной критикой. "Но при чем же тут миллионы других отцов, честных советских граждан и патриотов?" - думал Емельян.
Неожиданно поднялся маршал. Его опередил Маринин, напомнил, как бы спохватившись:
- Мы не засиделись, друзья? Не утомили хозяев? Как говорится, пора и честь знать. Хорошего понемножку.
Все вдруг пришли в движение и стали прощаться с хозяином, а Петр Васильевич выразил недоумение:
- Да куда же все сразу? Сегодня выходной. Товарищи поэты нам стихи прочтут. Мы послушаем. - Климов посмотрел на Воздвиженского. Тот отрицательно покачал головой: в этой аудитории он не решился читать стихи, знал - не примут, не поймут, не оценят. И Климов, обладая тактом, понял это и не настаивал, лишь заметил: - И разговор не закончили…
- У этого разговора нет конца, - ухмыльнулся Посадов.
- Будет. Непременно будет, Алексей Васильевич, - твердо сказал маршал. - Не вешайте нос.
- Вы оптимист, я вижу, - улыбнулся Посадов.
- Военные всегда были оптимистами, - бросил Климов. - В этом их сила.
На дворе лениво падал невесомый снег. До улицы Горького шли гурьбой. Там простились.
Пастухов, Ключанский и Белкина, отделившись от группы, сразу начали спорить. Молчавшие в мастерской, они тут спешили выговориться. Юрий Пастухов был поражен увиденным в мастерской Климова: работами, самим ваятелем и, конечно, маршалом. Он искренне радовался и открыто выражал свои чувства:
- Вот за такое искусство голосую и я, без всяких ярлыков. Это, старики, впечатляет! За душу берет.
- А ты знаешь, что о тебе говорил покойный Бисмарк? - брезгливо скривил толстую отвисшую губу Ключанский. Он шел, сутулый и длинный, приподняв плечо, засунув руки в карманы. - Не знаешь? Он говорил: "Глупость - дар божий, но не следует им злоупотреблять". - И глухо рассмеялся.
- А знаешь, что сказал Карел Чапек о тебе? - парировал Юрий. - Он сказал, что одно из величайших бедствий цивилизации - ученый дурак. А ты последняя модель цивилизованного осла, у которого конструкторы убрали две ноги, хвост, совесть и половину мозгов. Своего рода, облегченная модель.
В конце концов они поругались. Белкина, поддержавшая Юру, вначале пыталась примирить их взгляды. Ей это не удалось. И вдруг Ключанский остановился и, презрительно глядя на Белкину, спросил:
- У вас что, любовь или физиологическая потребность? - И, не дожидаясь ответа, удалился.
Воздвиженский, Капарулина, Вероника и Маринин решили вместе поужинать. Возле ресторана "Астория" на улице очередь.
- Воскресенье - везде так, - разочарованно сказала Вероника.
Воздвиженский предложил ресторан Центрального Дома литераторов. Маринин сделал встречное предложение - ресторан ВТО. Последнее было принято. Шли вверх по улице Горького и ругали Климова, Посадова, а заодно и маршала. Маринин был недоволен: идеологическое сражение не состоялось. Он чувствовал себя неловко перед поэтами. А Воздвиженский с упреком брюзжал:
- Ваши заводские слюнтяи молчали, как караси, уткнувшиеся мордой в ил.
- Оробели, увидев маршала, - оправдывался Маринин за Ключанского, Пастухова, Белкину и Веронику.
- Тоже мне авангард! - укоризненно добавила Новелла и, увлекая за собой Воздвиженского, прошла вперед.
Александр Александрович, подхватив Веронику под руку, допытывался:
- Ты чем-то расстроена? Недовольна, что побывала в доме будущего свекра? Он тебе не понравился?
- Оставьте, Александр Александрович, какой он мне свекор. Без мужа свекра не бывает… А на ребят, по-моему, обижаться незачем. Действительно, первый раз попали в мастерскую скульптора, столько всего интересного увидели.
- Тебе понравились его работы?
- Очень. Особенно портрет Лугова, - с восхищением ответила Вероника.
В ее голосе зазвучал такой непосредственный восторг, что Маринин не решился разубеждать ее.
- Да, как портретист Климов, несомненно, талантлив. А его памятники скучны, традиционны. Понимаешь, не нужно ему браться за монументальные вещи, это не его стезя.
В ресторане ВТО Александр Александрович был свой человек. Метрдотель услужливо "организовал" для них свободный столик. Когда официант принял заказ, Вероника вдруг заговорщицки сообщила, глядя в арку другого зала:
- Мальчики, а здесь наши… Посадов с Юлькой и Глебов. Лакают коньяк.
- А почему ты решила, что Законникова с Посадовым, а не с Глебовым? - озадачил ее вопросом Маринин. - Посадов старик. Он - ширма. А с Глебовым у них наклевывается роман.
- Это у них давно, - как бы нехотя обронил Воздвиженский.
Вероника приняла его слова всерьез, так, как того и хотел Воздвиженский.
- Может, он и на завод ее устроил, когда в райкоме работал? Иначе как ее приняли с такой биографией и тут же общежитие дали? Теперь все ясно.
- Узнала б его жена, что он сидит в ресторане с молодой и довольно приятной особой… - продолжал Маринин.
- А для этого всего лишь нужно две копейки, - сказал Воздвиженский и бросил на стол монету.
Вероника не догадалась, чего от нее хотят. Была пауза. Ждали, испытующе глядя на Веронику. А она не понимала. Тогда Новелла, презрительно ухмыльнувшись захмелевшими глазами, взяла монету и вышла к телефону-автомату…
А "молодая и довольно приятная особа" в это время говорила о Капарулиной и Воздвиженском, о библиотекарше и директоре Дома культуры:
- Заграница, заграница… А что они о ней знают?
- Ну как же, поэты частенько там бывают, - напомнил Посадов, взглянув туда, где сидел Маринин с приятелями.
- Ну и что? Бывают… - Юля посмотрела на Глебова, который исподволь наблюдал за ней. - А ничего не видят, ничего не знают. Я бы им рассказала, что такое заграница.
Она закончила фразу шепотом под сочувственным взглядом Глебова. Ей вдруг показалось, что он увидел ее насквозь.
И она подумала: только тот способен понять душу другого, кто сам много пережил и выстрадал. Посадов ее не понял, не мог понять, потому что слишком был занят собой. Роман Архипов, может, и хотел, да недостаток жизненного опыта помешал ему. И то, чего Юля не смогла доверить ни Алексею Васильевичу, ни Роману, она может рассказать только ему, Емельяну Глебову. На протяжении полутора часов, которые они провели в мастерской Климова, Юлия, быть может сама того не желая, подсознательно отдавала все внимание не гостеприимному хозяину, не легендарному маршалу, не знаменитому и уважаемому ею артисту, а Емельяну Глебову, человеку, о котором она ничего не знала и видела, в сущности, второй раз.
Мы часто склонны выдавать желаемое за действительное, предпочитая радость самообольщения горькому разочарованию. Юле казалось, что Глебов подчеркнуто уделяет ей внимание. На самом же деле он в мастерской был занят исключительно Климовым и его творчеством. Ничто его больше не интересовало. И теперь у него было такое ощущение, как после прочтения содержательной книги. В ответ на Юлины слова он говорил совсем не то, что ожидала Юля. Она думала, Емельян попросит ее рассказать рабочим, что такое заграница, или хотя бы ему с Алексеем Васильевичем. Но Глебов задумчиво сказал:
- По-моему, он чем-то встревожен и огорчен. Что-то подорвано в нем, нарушено. Чувствуется внутренняя неуверенность.
Посадов догадался: речь идет о Климове.
- Подлинный талант, в отличие от преуспевающей посредственности, всегда полон сомнений, душевных тревог, переходящих иногда в надлом, - ответил он Глебову.
Глебов допил вино и поставил фужер. Его глаза встретились с проницательным взглядом Юли. Она пыталась понять Глебова. Но понять настоящее человека, не зная его прошлого, невозможно.
Природа наградила Емельяна многими хорошими чертами: честностью, прямотой, человеколюбием и темпераментом. Жизнь ломала его характер, волю, стремилась подмять под себя, раздавить. Избыток темперамента заменился трезвостью аналитика. Вопросы, на которые трудно было найти ответы, сушили его душу, постоянно причиняя боль, чувство собственного бессилия перед несправедливостью, с которой нередко приходилось сталкиваться, разрывало его сердце. А рядом была непреклонная вера в торжество справедливости: все перемелется, будет так, как должно быть. Удивительный сплав противоречий: бездумного лихачества и трезвого расчета, почти детской доверчивости и холодной подозрительности, доброты и злопамятства. Многое переменилось в характере Емельяна Глебова. Появились новые черты во внешнем облике. Жестче стала складка у рта, настороженней взгляд, печальней глаза.
Емельян тоже видел Юлю как бы сызнова. Если на вечере поэзии в Доме культуры он обратил внимание на Юлины глаза, то теперь он неожиданно увидел ее губы, крупные, мягкие, едва тронутые помадой. Они выражали горячее желание и угасшие надежды, усталую покорность и безграничное упрямство. "Почему она здесь? А я? - думал Емельян, спокойно разглядывая ее. - Ах, да. Алексей Васильевич, это он пригласил. Но почему именно ее? Какая-то драма, Юля жила где-то в Африке, была замужем. Она хотела рассказать об этом. Это интересно. Надо напомнить ей".
- Вы хотели рассказать о загранице.
- Вас это интересует?
Слова ее звучат тихо, замирают на губах вместе с грустной улыбкой.
- Любопытно, - подтвердил Емельян.
- Долгая песня. Чтобы все рассказать, и дня не хватит. А сейчас уже поздно. - Она откидывается на спинку полумягкого кресла. Она уже понимает, что влюблена. От этой догадки ей становится не по себе. Что-то давно знакомое и в то же время неизведанное наполняет радостью ее сердце.
Посадов взглянул на часы:
- Что вы, милые, только девять часов. Солидные люди начинают к этому времени съезжаться, а вы уходить собрались.
- Пора, пора, - сказал Емельян, мельком взглянув на часы. - А вы можете оставаться.
- Да нет, уйдем все вместе. Нам с Емельяном Прокоповичем по пути.
Юля сказала это таким тоном, что Посадов почувствовал: уговаривать бесполезно.
Елена Ивановна ждала мужа часам к семи. Поэтому, когда часы пробили восемь, она начала беспокоиться. Обычно, когда Емельян задерживался где-нибудь, он по телефону предупреждал жену. С непонятным беспокойством Елена Ивановна ждала звонка. Любаша играла на пианино, готовясь к завтрашнему экзамену. Руслан смотрел телевизор с выключенным звуком, чтоб не мешать сестре.
В девятом часу раздался телефонный звонок. Любаша перестала играть.
- Елена Ивановна, - спрашивал приятный и немножко взволнованный женский голос. - Простите, что я не называюсь. И вообще, может, мне не следовало вас беспокоить. Но я тоже жена…
- Я не понимаю вас, в чем дело? - не удержалась Елена Ивановна. - Кто это говорит?
- Дело в том, что ваш супруг Емельян Прокопович сейчас сидит в ресторане ВТО с молодой и симпатичной особой.
Что-то оборвалось внутри Елены Ивановны, до предела натянутая струна напряженного ожидания лопнула. Надо выдержать паузу, небольшую, совсем недолгую. Выждать, чтобы не сорвалось с языка необдуманное слово.
- Благодарю вас, - с подчеркнутой любезностью ответила Елена Ивановна. - Я знаю. Он мне звонил. Это моя подруга.
Елена Ивановна нашла в себе силы даже улыбнуться при последних словах. Спокойно, словно это был обычный разговор, положила трубку. За ней ведь наблюдают любопытные глаза дочери (детям все надо знать!). Сейчас последует нетерпеливый вопрос. Так и есть:
- Мама, кто звонил?
- Занимайся, скоро спать ложиться, а ты еще не готова. - И сама почувствовала, что ответ получился не совсем педагогичным: он не только не удовлетворил любопытства девочки, а, напротив, заострил его. Маленькие пальчики дочери с преувеличенной торопливостью забегали по клавишам, и полились не очень стройные звуки мелодии. Елена Ивановна вышла на кухню. Она не знала, что ей делать. Не находила слов.
"А, собственно, что произошло? - неожиданно спросила она себя. - Почему нужно верить всякой анонимке, а не мужу? Смешно. Глупая и злая шутка. Вчера он предупредил, что идет к скульптору.
Каким же образом он очутился в ресторане ВТО с молодой, симпатичной девушкой? Кто она такая?"
И тут постепенно, но все нарастая, вступают в схватку две силы: слепая ревность и здравый смысл. Первая - нагромождая вопрос за вопросом. Вторая - не успевая отвечать, отступает под стремительным натиском слепой ревности, пока не оказывается поверженной.
Елена Ивановна надевает пальто, шапку и говорит изумленной дочери:
- Я скоро вернусь.
- Мама, ты куда? - спрашивает Руслан.
- Ложитесь, ребята, спать. И никому не открывайте. Поняли? Я скоро…
В троллейбусе, идущем к центру, народу немного. Елена Ивановна садится у окна. Здравый смысл оживает и переходит в наступление. Куда она едет? В ресторан. Зачем? Чтобы проверить, там ли ее муж. А если он там с товарищами? Может, скульптор пригласил. С ними в компании есть и женщины. Ну и что же? Почему же он не позвонил? Ревность начинает терять позиции и к Пушкинской площади окончательно сдается. Здравый смысл побеждает. Елена Ивановна выходит у кинотеатра "Россия", идет по бульвару до памятника Пушкину и, вернувшись к театру Ленинского комсомола, садится в троллейбус и едет домой. Ей было неловко: так необдуманно сорваться из дому. Она прислоняется к окну и начинает наблюдать за машинами: если увидит машину с номером, сумма цифр которого будет равна ста, значит, женщина-аноним сказала правду. В воскресный вечер, особенно зимой, на улицах не так уж густо автомашин. Перед светофором у перекрестка Лесной улицы троллейбус остановился. Рядом с ним - несколько такси. Елена Ивановна машинально посмотрела в одну из машин и увидела позади шофера Емельяна, а рядом с ним женщину.
Елена Ивановна попыталась взять себя в руки. Анонимный звонок - ерунда. Но, когда она своими глазами увидела рядом с мужем молодую особу, не верить анонимке было невозможно.
Перед глазами все пошло кругом. Такси рванулось с места и умчало ее Емельяна, а троллейбус замешкался, медленно поплелся за резвыми "Волгами": водителю некуда было спешить, равно как и другим пассажирам. Им было невдомек, что вот сейчас здесь, может быть, рушится семья, которую все знакомые считали прочной и хорошей. Да и сами Глебовы так думали. Вдруг оказалось, что достаточно встречи со смазливенькой бабенкой, и… Нет, Елена Ивановна этого не переживет, не простит… Никогда! "Какое вероломство! Какая подлость!" - стучало в мозгу. Быстрей, быстрей домой. Сейчас она соберет его вещи, сложит в чемодан и поставит в прихожей. Дети, наверное, спят. Расстанемся тихо, без объяснения. Ей ничего не надо: ни оправданий, ни раскаяний. Все кончено.
От троллейбусной остановки до подъезда она буквально летела. Руки дрожали, ключ не попадал в замочную скважину.
Из прихожей дверь в гостиную была открыта. Емельян сидел на диване у настольной лампы с книгой в руках. Елена Ивановна переступила порог и замерла. Вид у нее был жалкий и странный. Лицо бледно-серое, в округлившихся глазах застывшие слезы. Встревоженный Емельян подхватился:
- Что случилось, Леночка?
Безвольным жестом руки она остановила его.
Емельян, путаясь в догадках, повторил вопрос:
- Ты была у своих? С мамой что-нибудь?
- Где ты был? - отчужденно спросила она, не двигаясь с места.
Он удивился, отвечая, как прилежный первоклассник.
- У Климова… Потом Алексей Васильевич пригласил нас в ресторан поужинать.
- Кого это "вас"?
- Меня и Законникову… Эта женщина у Посадова в народном театре играет.
- Ты давно дома?.. На чем ты ехал?
- На такси. Вместе с ней. Она дальше поехала, к себе в общежитие. А я вышел.
Елена Ивановна испытующе посмотрела в глаза мужу. Под его доверчивым взглядом растаяли все ее подозрения, и она разрыдалась, бросившись к нему на шею. Емельян обнял ее, обмякшую, беспомощную, в пальто и шапке, прижал к груди и ласково проговорил:
- Леночка, родная, что случилось? Дай я сниму пальто.
Он помог ей раздеться, посадил на колени, и она, вся в слезах, смеясь и целуя его, начала шепотом рассказывать:
- Какая я глупая! Я никогда не знала такой ревности. Не думала, что это так больно и тяжело. Наверно, я тебя сильно люблю.
- Ну, Леночка, ревность не всегда признак любви. Чаще - голос уязвленного самолюбия.
А она все спрашивала его, возбужденная и счастливая, любит ли он ее.
- Кто много и красиво говорит о любви, тот не способен на глубокие чувства, - ответил Емельян.
Елена Ивановна решила не говорить мужу об анонимном звонке, чтобы не расстраивать его: она теперь знала, что это была подлая провокация…
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. НАСЛЕДНИКИ
О скульптуре Климова и о самом ваятеле много говорили в цехах завода "Богатырь", завидовали тем, кому посчастливилось в воскресенье побывать в мастерской Петра Васильевича. Уже в понедельник в обеденный перерыв Вероника как бы случайно встретилась с Сашей. Она была по-необычному серьезна, без прежней своей игры в значительность, серьезна в самом деле, на что наблюдательный Саша сразу обратил внимание. Сказал со своей непосредственностью, щуря насмешливые глазки:
- Ты сегодня какая-то не такая.
- А какая?
- Совсем другая.
Она, вопреки Сашиному ожиданию, не стала кокетничать, а просто сказала:
- После вчерашнего я много думала. Работы твоего отца не то чтоб поразили, а, ты понимаешь, как бы тебе сказать, встряхнули, что-то перевернули во мне. Я еще не могу разобраться, что именно.
Она могла бы сказать - не только работы Климова, но и вообще все события вчерашнего дня, встреча с маршалом, ужин в ресторане. Но она сказала об одном Сашином отце.
- Искусство, если оно настоящее, всегда встряхивает, заставляет думать, - так же просто, скрыв свое приятное удивление, заметил Саша.
- Мне хочется с тобой поговорить… об искусстве.
Доверчивая откровенность светилась в ее открытых блестящих глазах и покоряла Сашу. Он пообещал:
- После смены зайду. Обязательно.
Вероника ждала его в библиотеке и немножко волновалась. Ей действительно хотелось многое сказать Саше, совершенно новое, для нее неожиданное, но она опасалась, что не сможет сказать так, как надо, потому что мысли ее еще не устоялись, не пришли в порядок, а находились с том хаотическом состоянии, когда еще самой не совсем и не до конца ясны. Боялась, что и Саша, всегда относившийся к ней с дружеским легкомыслием и безобидной иронией, не поймет ее, новую - по крайней мере так думала сама о себе Вероника - и не поможет ей разобраться в том нестройном рое мыслей и дум, которые вдруг охватили ее после вчерашнего посещения мастерской Климова. А именно в его помощи она теперь нуждалась.
Как она не хотела видеть сейчас читателей: не дадут поговорить с Сашей наедине. Поэтому двух девушек из конструкторского отдела, зашедших поменять книги, она старалась поскорее выпроводить. А девушки не спешили уходить, они искали какие-то необыкновенные, сногсшибательные книги и все, что предлагала им Вероника, отклоняли. Когда наконец они ушли, заявился Посадов, сухо поздоровался и пошел к дальним стеллажам рыться в книгах. Он это делал часто: отыщет нужную книжку и идет в читальный зал. Домой книг никогда не брал, полушутя объясняя: "Еще потеряешь, потом с вами беды не оберешься". На этот раз он быстро отыскал том Ленина и удалился в читальный зал. Вероника с облегчением вздохнула.
Придя в библиотеку, Саша обратил внимание, что со стенда книжных новинок исчезли сборники Капарулиной и Воздвиженского. На их месте стоял толстый детективный роман "про шпионов", как говорят читатели, две повести модных молодых писателей - одна "про любовь", другая "про современных мальчиков и девочек". Обе эти повести Саша читал раньше в журнале "Юность" по совету Вероники.
Саша и Вероника поняли, что поговорить им сейчас не удастся. Они условились встретиться после закрытия библиотеки.
В тот же день Коля Лугов говорил Роману Архипову:
- Вчера Пастухов с Ключанским поссорились… на идейной основе. Белка примкнула к Юре.
- Это ненадолго, - поморщился Роман: - у Пастухова не было и нет своих позиций - привык думать чужой головой.
- Ты это зря, - возразил Коля и серьезно вздохнул.
- Что именно? - Роман открыто посмотрел ему в глаза.
- Пастухова и Белкину считаешь безнадежными.
Для Архипова Пастухов и Белкина были главными подпевалами Ключанского. Ну а уж этого Вадика он считал законченным стилягой, живым носителем тлетворных бацилл. Все, что тащил на завод Ключанский - пошленькие песенки и гнусные анекдоты, грязные сплетни и сенсационные "мнения", - бойко подхватывалось и распространялось Белкиной и Пастуховым.
- Конечно, встреча с маршалом не должна для них пройти бесследно, - уже рассудительно произнес Роман. - Ключанский выглядел ощипанным цыпленком.
- Побольше бы таких встреч, - сказал Коля. - Пастухова с Белкиной обязательно надо приглашать. Да и Ключанского тоже: скорей поймет, что такое эти капарулино-воздвиженские. И вообще, нам надо чаще собираться. Всем вместе. И в другой обстановке. В домашней.
Да, Роману было над чем задуматься. Он придерживался того нехитрого мнения, что горбатого могила исправит, и не очень верил в возможность перевоспитания "трио", возглавляемого Ключанским. Главное, считал он, не допустить распространения заразы, оградить молодежь от влияния Ключанского. Дурной пример заразителен. И вдруг Ключанский поссорился с Пастуховым и Белкиной! Это было неожиданно и ново. "А пожалуй, Коля прав, - думал Роман, возвращаясь после работы домой. - Надо собираться всем вместе. В непринужденной обстановке". Он вспомнил, что не только Коля, но и Саша Климов как-то довольно прозрачно намекали ему устроить на квартире Архиповых - а где же больше: отдельная трехкомнатная, родители за границей - нечто вроде вечеринки. По случаю? Предлог всегда можно придумать. А, собственно, не обязательно предлог: разве нельзя просто так? Можно, конечно, пригласить и Пастухова с Белкиной. Ключанского лучше не надо: испортит весь вечер. А впрочем, это любопытно - посмотреть, какой он, Ключанский, за проходной завода. Даже очень интересно. Ключанский не комсомолец. Ну и что с того - и Олег, младший брат Романа, тоже не комсомолец. Олег - аномалия. Или просто Роман не понимает родного брата. В строительном институте Олег учится на пятерки и четверки. Тут к нему никаких претензий. В поведении тоже - хоть в монастырь: к спиртному равнодушен, девушек презирает "в принципе". Это куда ни шло - до поры до времени. Природа - она свое возьмет. Беспокоит Романа другое: затворничество брата - у Олега нет друзей. И похоже, что он в них не нуждается. Одиночество его вполне устраивает. Как-то Роман пытался завести с ним разговор о комсомоле.
"А зачем мне он сдался, твой комсомол? - грубо оборвал Олег. - На собрания ходить, понапрасну время терять". Да что комсомол: Олег месяцами не бывает в кино, годами - в театре. "На всякую дребедень тратить время". Художественной литературы не читает. Некогда. Признает лишь техническую, научную и фантастику. Эти книги читает запоем и систематически. Они для него - пособие, хлеб и воздух. У Олега есть страсть, в которой он видит весь смысл и цель своей жизни. Это - техника, изобретательство.
Роман остановился перед дверью своей квартиры, поискал в карманах ключи. Ключей не было: опять забыл дома. Нажал кнопку звонка. Дверь открыл Олег. Он был в черной рубахе с закатанными по локоть рукавами, черных старых брюках. Вернее, и рубаха, и брюки, и руки, и круглое лицо, и волосы - все было серым от известки, цемента, шлака и прочих "компонентов", как выражался Олег.
- Послушай, дед, - так Роман в шутку называл брата, - ты хотя бы не таскал грязь по всей квартире. Кухню ты превратил в лабораторию - я молчал. Из ванной сделал литейно-формовочный цех - я тоже терпел. Но ты, кажется, решил всю квартиру превратить в цементно-асбестовый завод.
- Дорогой и горячо любимый внучек, - с необычным воодушевлением начал Олег, - не волнуйся, я все уберу. На днях состоится генеральная уборка, и ты снова получишь в натуральном первозданном виде и кухню, и ванную, и все, что необходимо для маленького мещанского счастья.
В глазах его и на лице сияло радостное возбуждение. Роман это заметил и, уставившись на брата с добродушным любопытством, спросил:
- Следует ли из этого, что ты наконец поймал свою жар-птицу?
- Что такое жар-птица по сравнению вот с этим, - ответил Олег, протягивая брату квадратную плитку. - Жар-птица - это сокращенно от жареной утки. Всего-навсего. А вот эту штучку сравнить не с чем. На, пробуй: бей, ломай, грызи, кроши, жги. И ни черта ей не делается. Ни черта! Пускай по ней танки, самоходки. Хоть дьявола. Ты представляешь - все шоссейные дороги, улицы, площади покрыты вот этим панцирем. Вместо асфальта. Миллионы рублей экономии!
Роман рассматривал плитку, пробовал гнуть, ломать. Она казалась слегка эластичной, но ни погнуть, ни сломать ее не удалось.
- Так что ж, дед, выходит, это революция в дорожном строительстве? И совершил ее ты - кустарь-одиночка, рак-отшельник?
- До революции, внучек, еще ой как далеко. Дальше, чем до луны. Во-первых, нужны лабораторные испытания, потом на заводе, потом в деле. Потом - черт с котом. Один ученый-энтузиаст сказал, что, если бы мы внедрили в жизнь хотя бы половину всех открытий, мы бы сразу перешагнули в двадцать первый век. Трудно изобрести. Но еще труднее внедрить.
Пухлые розовые губы Романа скривились в ухмылке. Брат посмотрел на него вопросительно. Роман ответил:
- Ты рассуждаешь, как наш Посадов. Он говорит: написать хорошую пьесу трудно, но поставить ее в театре в десять раз трудней.
И вдруг Роман уцепился за внезапно мелькнувшую мысль, которая показалась ему не то чтобы спасительной, но неожиданно подходящей. Бывает так. Перед вами стоит какая-то неотложная проблема. Ее нужно решать, и решать не одному, а с помощником, и помощник должен обладать какими-то определенными качествами. И вот вы случайно встречаете такого человека: "Ба! На ловца и зверь бежит. Послушай, дружище, ты-то мне и нужен!.." Именно так и сказал Роман Олегу:
- Дед, у меня к тебе дело. Серьезный вопрос. - И пошел в свою комнату, увлекая за собой брата. Не решать же серьезный вопрос в прихожей.
Роман сел на диван, кивнул Олегу на стул: присядь, мол, разговор будет ответственный. И Олег сел.
- На днях у нас соберутся ребята наши, заводские.
- Саша и Коля?
- Не только. И еще… Разные будут. В общем, всякой твари по паре.
- Цель сборища?
- Просто так, без определенной цели. - От прямого вопроса Роман даже стушевался. - Свободный досуг… Понимаешь?
- Словом, собрание без повестки дня. Одни прения, без доклада?
- Допустим.
- Так ты хочешь, чтоб я своим присутствием не стеснял парных тварей? - попробовал догадаться Олег.
- Напротив.
- Навести порядок в квартире?
- Это само собой. Этим мы с тобой займемся на паритетных началах.
- А что от меня требуется?
- Рассказать ребятам о путях творческого поиска.
- Не понимаю.
- Ну о том, как ты изобрел дорожную броню.
- Об этом еще говорить рано и ни к чему.
- Нет, ты просто расскажешь о самом поиске. Весь процесс. Какие трудности и те де.
- Категорически умываю руки. - Олег встал, замотал головой и щитом сложил руки на груди. - Уволь, уволь, как говорила наша покойная бабушка…
Он ушел в ванную, оставив брата решать "проблему вечера". Хоть бы день рождения придумать, что ли, размышлял Роман. Пригласить кого-нибудь из ветеранов - не годится. Непринужденной встречи не получится. Обсудить какую-нибудь книгу или фильм? Тоже как-то похоже на очередное мероприятие. Потом еще вставал вопрос: сколько человек пригласить? Ну не больше двадцати. И кого? Комсомольский актив - цеховых комсоргов плюс Ключанского, Пастухова, Белкину, Юлю, конечно. Веронику. Можно еще Ладу Лугову. А вообще, надо бы посоветоваться с Глебовым: у него больше опыта, может подсказать.
Он решил после работы зайти в партком. Но во время обеденного перерыва в цех позвонил Глебов и попросил Романа зайти к нему. Роман условился с Сашей и Колей собраться у него и обсудить детали предстоящего вечера. В обед они лишь накоротке перемолвились, как им казалось, самым сенсационным: "трио" Ключанского расстраивается. Вероника "на распутье". В партком пошли сразу после смены все втроем.
- Вы меня в приемной подождете. Пококетничайте с Людой, - сказал ребятам Роман.
- Ты только недолго, - бросил ему вдогонку Саша.
- А-а, Роман! Входи, входи, - дружески пригласил Глебов. Он слышал реплику Саши. Спросил: - А это кто там тебя напутствует?
- Ребята: Климов и Лугов.
- Давай их сюда, не помешают.
Роман вернулся в приемную, кивнул ребятам - дескать, пошли.
- Постараюсь вас долго не задерживать: народ вы занятой, молодой, времени в обрез, - улыбаясь в сторону Климова, проговорил Глебов. Он был в хорошем настроении, и это располагало к доверительной и откровенной беседе.
Вначале Глебов поинтересовался, какое впечатление оставила встреча с маршалом. Ребята рассказали о Ключанском, Пастухове, о Белкиной и Веронике. Глебов оживился. Он вспомнил свой прежний разговор с Архиповым о "неподдающихся". Сказал Роману:
- Теперь ты понял, что неисправимых нет? Надо только уметь подобрать к каждому ключи. Ключи к сердцу. Помнится, у кого-то из поэтов есть строки, что-то вроде того, что "в дни психических атак сердца, не занятые нами, немедленно займет наш враг". Уступать нельзя ни одного человека. - Затем поднял книгу в красном переплете с надписью золотыми буквами "История завода "Богатырь". Спросил всех троих: - Знаете эту книгу?
Те пожали плечами. За всех ответил Роман.
- Слышал, что есть такая. Читать - не читал.
- Читать ее так же трудно, как передовую статью плохой стенгазеты. Сочинитель ее - бывший заведующий парткабинетом - не очень заботился о будущих читателях. Содержание вполне соответствует стилю. А рассказать нам есть о чем. Более чем полувековая история завода вобрала в себя судьбы сотен интереснейших людей. Эта книга должна читаться, как хороший роман. Она - живая эстафета поколений. Словом, друзья, нам с вами нужно заново написать настоящую историю нашего завода. Поднять ветеранов, разыскать материалы, документы, записать воспоминания. Последовательно, раздел за разделом. Завод в первые годы основания. Затем завод в огненном 1905 году. Завод в семнадцатом году. В советское время - годы гражданской войны, реконструкции и первых пятилеток. Завод в годы Великой Отечественной войны. И так далее. В центре должны быть люди. Их судьбы и дела. Изобретатели, ударники, мастера, герои-фронтовики. Одному этот труд не под силу. Мы рассчитываем на помощь комсомола.
Разговор получился горячий. Забыли о времени, не заметили, как пролетел добрый час. Уже выйдя на улицу, озабоченный, но довольный Роман сказал без особого сожаления:
- О вечере так и не поговорили.
- Да что говорить, - подхватил Саша. - Вот тебе главная тема вечера - история завода. Распределим обязанности. Может получиться увлекательная книга.
Предлагая комсомольцам эту идею, Глебов имел в виду дальний прицел: он рассчитывал одним выстрелом двух зайцев убить. Конечно, хорошо иметь настоящую, интересную книгу о своем заводе.. Это одна сторона дела. Но не менее важно, чтобы молодежь, так сказать, "собственноручно" прикоснулась к волнующим страницам этой истории.
Лада пришла на вечер к Архиповым с Колей. Внешне она не проявляла особого интереса к этому вечеру, и Коле пришлось ее даже уговаривать.
- Я никого там не знаю, - капризничала она.
- Ерунда и неправда - ты всех отлично знаешь. С Романом и Сашей лично знакома. С Юлей тоже. Остальных знаешь заочно.
Собственно говоря, так оно и было: всех остальных ребят и девушек, собравшихся в этот субботний вечер на квартире у Архиповых, Лада знала по рассказам брата. В кухне верховодила Юля. Ладу она встретила как старую знакомую, с дружеским покровительством и сразу включила ее в бригаду. Бригада пока что состояла из Юли и Саши - Лада была третьей, и совсем не лишней, поскольку Саша, как специалист по сервировке стола, взял на себя обязанности консультанта.
С Юлей Лада чувствовала себя хорошо и была благодарна ей за то, что та ни одним словом не напомнила о турбазе. В Юле ей нравилась уверенность и какая-то непосредственная независимость во всем, от малейшего жеста и слова до поступка, которая постигается житейским опытом. Этот опыт сквозил во всем, и, должно быть, в нем и таилась та притягательная сила, которая внушала таким, как Лада, уважение к себе. Ладе казалось, что Юля все обо всех здесь присутствующих доподлинно знает и всех видит насквозь. И она старалась также наблюдать, изучать людей. Прежде всего внимание ее привлек Вадим Ключанский. Его угловатая, в белом свитере, фигура непрерывно металась по всей квартире. Казалось, он больше двух минут нигде не может задержаться. То потрогает фарфоровую статуэточку, то постучит по хрустальной вазе, то в позе ценителя остановится перед картиной и, кисло поморщившись, отойдет. Ходит расслабленной походкой и все время что-то насвистывает, нащелкивает костлявыми пальцами, улыбается и что-то говорит, должно быть, нескромное, в лицо то Белкиной, то Веронике, от чего они краснеют и отпускают в его сторону резкие слова. Он и на Ладу посмотрел до неприличия игриво, подмигнул чему-то и показал большие белые зубы. Ладу это разозлило, и она ответила Ключанскому холодным презрением. Он чем-то напоминал ей Мусу Мухтасипова: походочкой и циничными взглядами. "В отношении Ключанского Коля не ошибся", - решила Лада. Таким она и представляла его по рассказам брата. А вот Пастухов Юра кажется совсем не таким. Коля говорил, что это развязный шалопай, оруженосец Ключанского (куда иголка - туда и нитка), во всем подражает своему кумиру и преданной собачонкой смотрит ему в рот. И ничего подобного: Пастухов даже не разговаривает с Ключанским и держится скромно. Внешне он, конечно, неинтересный: невысокого роста, широкий в плечах, и руки грубые, красные, пальцы - коротышки. И белобрысый, как Роман. Но Роман другое дело. Роман подтянут, строен и строг. Даже, пожалуй, слишком строг, слишком серьезен и резковат. У себя дома, а пиджак стесняется снять. Девушек стесняется. Вернее, одну - Юлю. Ладе забавно - она знает тайну, которую, может, другие не знают: Роман влюблен в Юлю. Об этом Коля говорил. Да она и сама видит. А Вероника влюблена в Сашу Климова. Она такая милая, симпатичная. Голосок у нее такой тихий и нежный, а глаза круглые, всегда чему-то удивляются и блестят таким добрым блеском, точно говорят: "Вы все здесь славные, и я всех вас уважаю, а Сашу люблю".
А вот Лада никого теперь не любит. И ее никто не любит. Да тут и нет, кого бы она могла полюбить. Впрочем, есть еще один человек, образ которого не совпал с описанием Коли. Это Олег Архипов. Она представляла его этаким взлохмаченным, угрюмым, нелюдимым, а перед ней стоял стройный, гибкий юноша с голубыми глазами и гладко причесанными на сторону темно-каштановыми волосами. Он был без пиджака, в васильковой шерстяной рубахе с накладными карманами и в темных щегольских брюках. В глазах его постоянно дежурит незлая насмешка, скорее хитринка, а на усталом застенчивом лице - печаль гордой самоуверенности. "Интересный", - заключила Лада.
Вечер был в разгаре. Уже после того как поговорили о том, как будут работать над историей завода, после магнитофонов, после выпитого вина и кофе, после бутербродов с колбасой, ветчиной и селедкой был погашен свет и выключен телевизор. "Плацкартные" места на диване, креслах и стульях заняли девушки, а у их ног на полу расположились парни. На сервант наброшена белая скатерть. Это экран. У проекционного аппарата колдует Вадим Ключанский. Он суетлив, самоуверен и развязен. Он не желает признать, что в магнитофонном состязании победил Саша Климов оригинальной музыкальной композицией "Слово о песне". Пошленькие салонные песенки Ключанского успеха не имели. Это удивило даже Юру Пастухова.
- Не та аудитория, - то ли с сожалением, то ли с подначкой по адресу Вадима обронил он как бы мимоходом.
И вот теперь Ключанский крутит свой фильм, "документальный, неподцензурный, оригинальный", как гласит один из титров. Снимал фильм не сам Вадим. Он получил его у своего приятеля напрокат. Автор сценария Никита Незнамов, режиссер-постановщик Видь Неизвестный. Это, конечно, псевдонимы. И разумеется, не излишняя скромность не позволила авторам назвать свои подлинные имена. Фильм получился уж слишком нецензурным. Оператор бесцеремонно раздевал девушек и парней на пляжах, в ваннах и спальнях. Лада Лугова смущенно прятала глаза и отворачивалась от экрана. В момент самого бесстыжего кадра Юля Законникова резко сказала:
- Хватит! Прекратите мерзость! Саша, включи свет!
И когда вспыхнула яркая хрустальная люстра и триста свечей осветили розовые юные лица, все почувствовали неловкость и избегали смотреть друг другу в глаза. Только Олег Архипов жестко съязвил, многозначительно поглядывая на Сашу Климова:
- Вот оно, искусство атомного века! А вы мне говорите: в кино не ходишь.
Подобный разговор уже не раз возникал в доме Архиповых - Саша любил подразнить Олега. Он и сейчас был не прочь "завести" его. Похоже, и Олегу нравилась постоянная пикировка с братом и Сашей. Роман, чтобы только увести разговор и сгладить неприятное впечатление от фильма, который показывал Ключанский, сказал Климову:
- Ты, Сашок, сегодня с ним поосторожней. Он победитель. Видал, какую штуковинку соорудил? - и протянул Климову плитку изобретенного Олегом материала.
Все с интересом обратили внимание на серую, ни о чем не говорящую плитку. Саша повертел ее в руках, попытался сломать, затем равнодушно передал Пастухову, говоря:
- Подумаешь, симфонию сочинил!
Олег взорвался, выхватил из рук Пастухова плитку и с чувством уверенного превосходства, с некоторой запальчивостью сказал, потрясая плиткой:
- Да это… да это дороже десятка ваших симфоний, ваших гнусавых песенок, от которых хрипнут магнитофоны, ваших постыдных фильмов. Потому что это нужно людям. Всем людям нужны хорошие дороги.
- С дороги человек хочет отдохнуть. Насладиться достижениями культуры, - лениво промямлил Ключанский.
- Вот как! - воскликнул Олег. - И вы думаете, мы насладились вашим фильмом? Кто насладился? - Стоя в центре комнаты, он обвел всех беспокойным вопросительным взглядом. - Ну, кто получил наслаждение …с дороги?
- Я говорю вообще, а вы переводите на частности, - засунув глубоко в карманы длинные руки и запрокинув кверху голову, так что зашевелился острый кадык, произнес Ключанский. - Тут дело вкуса. Не нравится фильм, включите телевизор.
- А там что, лучше? - на ходу бросила Юля и вышла на кухню.
- Кстати, - подхватил Олег, - телевизор создал ведь тоже ученый. Инженер, конструктор. Это дело рук изобретателя, а не художника.. Вы об этом забываете. Потому что изобретатель, ученый у нас обезличены. Так сказать, безымянные авторы. Неизвестные в полном смысле слова. Вот вы даже на порнографии ставите имя. Потому что так уж заведено в искусстве - обязательно подавать имена: "Сюита Петрова-Редькина. Соло на скрипке Пробивнович-Данченко". На весь мир. И так каждый день с детских лет вдалбливают нам имена знаменитостей. И уже первоклассники знают, что есть такой композитор Петров-Редькин. Неважно, что он там сочинил, может, с миру по нотке - себе сюитку. Или еще почище - футбол. Какого-нибудь правого офсайда Пупкина знают все мальчишки. Девчонки визжат на стадионах: "Пупкин! Пупкин!" А что от него толку, польза людям какая от этого офсайда или вратаря? У вас есть холодильник? А вы знаете, кто его создал?
- Какой-то Зил, - в шутку бросил Саша.
- Ага, вот именно Зил. А вот повесть какого-нибудь Авралова, в которой мыслей и на копейку не наберется, вы знаете. Может, и не читали, это не обязательно. Зато имя автора слышали. А об изобретателях молчим.
- Ну как же молчим, - возразил Саша, - и о них каждый день в тех же последних известиях.
- Верно, - согласился Олег. - Говорят иногда. О двух-трех в год. А их десятки, сотни.
- Обо всех не скажешь - на последние известия дают полчаса, - поддержал Сашу Коля Лугов, - надо и о международных делах.
- Ну да, ну да, - быстро отозвался Олег. - Обо всех не скажешь, это, мол, не обязательно. А вот о шахматах - тут уж хоть всемирный потоп или землетрясение, а о шахматистах скажи обязательно.
- Это старо, - сказала Вероника. - Вы повторяете Базарова.
- Что ты, Верунчик! - воскликнул Саша. - Вы думаете, Олег читал Тургенева? Разве что в объеме школьной программы. - И тут же без всякого перехода, оживленно: - Ребята, я где-то читал, что бином Ньютона открыл совсем не Ньютон, а задолго до него Омар Хаям.
- Все правильно, - подтвердил Олег. - Бируни задолго до Ньютона открыл закон земного тяготения и задолго до Коперника утверждал, что Земля вращается вокруг своей оси.
- Роман, он у тебя действительно такой или играет? - спросила Белкина, дружески улыбаясь Олегу.
- В смысле футбола он действительно ни бум-бум. Разницу между вратарем и офсайдом не найдет. Зато в своем деле парень - зубр. То, что он изобрел - покрытие для дорог взамен асфальта, - это бесподобно. Олег, объясни ребятам.
- Пропаганда и популяризация не моя профессия, - отмахнулся Олег.
- Хорошо, я в двух словах и популярно, - продолжал возбужденный Роман. Он был рад, что о фильме Ключанского все забыли. - Вы, надеюсь, понимаете значение асфальта? Но асфальт не прочен. На ремонт дорог и улиц ежегодно тратятся миллионы рублей. То, что предлагает Олег взамен асфальта, - это чудо-панцирь. Он обладает всеми положительными свойствами асфальта и в десять раз превосходит в прочности. Производство его проще, экономичней.
- Как называется ваш материал? - спросил Пастухов.
- Пока никак, - ответил Олег.
- Назовите "архипец" или "олеговна". Таким образом увековечите свое имя. Станете рядом с Петровым-Редькиным, - съязвил Ключанский и добавил: - В мире капиталистических хищников вы могли быть миллионером. Мультимиллионером.
- А это ужасно - быть миллионером, - сказал Олег.
- Почему? - Ключанский, развалясь в кресле, уцепился рукой за свою ногу и саркастически взглянул на Олега.
Тот с простецкой наивностью ответил:
- Больно хлопотно. Я где-то читал, что в резиденции Генри Дюпона сто пятьдесят комнат. Одних только спален пятьдесят.
- А это зачем? - удивилась Лада.
- Для антуража, - ответил Олег. - А у Пьера Дюпона двести комнат и застекленный тропический сад в шесть гектаров. Вы представляете, что это значит - шесть гектаров под стеклом?
- Нет, ну комнаты - это еще можно понять, а вот спальни - это уж совсем какая-то фантастика, - сказал Коля. - Что он делает в пятидесяти спальнях? Ненормальный.
- Одна миллионерша подарила своему сыну в день его совершеннолетия особняк стоимостью в полмиллиона долларов, - сообщил Ключанский. - В особняке купальный бассейн, выложенный перламутровой плиткой, зимний сад с водопадом. А в спальне щиток с кнопками. Захотелось посмотреть телевизор - нажми кнопку и смотри не вставая. Захотелось кино посмотреть - нажми кнопку, и тут же заработает кино. Все в спальне. Захотелось тебе искупаться - нажми кнопку, и бассейн наполнится водой. Вот это житуха! Вообще, скажу я вам, загнивающий капитализм недурно живет. Умеют. Они все умеют.
- Что все? Деньги из рабочих выколачивать? - спросил Пастухов.
- И тратить умеют, - ответил Ключанский. - Русские капиталисты не умели тратить деньги. Развлекались примитивно. Их фантазия дальше цыганок и ванн из шампанского не шла.
Ключанский говорил неискренне, напыщенно. И Роман вдруг увидел во всем облике Ключанского нечто комическое. И сказал с оживленным любопытством:
- Послушай, Вадим, а что б ты делал, если бы вдруг у тебя оказался миллион?
- Миллион рублей? В новых деньгах? - переспросил Ключанский и, опустив ногу, вцепился обеими руками в подлокотники кресла. Глаза его блаженно улыбались, а худое серое лицо покрылось пятнами. - Я бы первым делом ушел с работы. Года два я бы просто отдыхал. Харчился б в лучших ресторанах. Ну и, конечно, квартиру кооперативную из четырех комнат в Москве. Дачу в Сухуми и в Паланге. И еще под Москвой. Машину. "Мерседес" бежевого цвета. И "газик" - вездеход. Яхту, конечно. Ну не такую, как у проклятых буржуев, а так - собственный катерок, чтобы можно было девчонок покатать вдоль побережья.
- И это все? Так мало? - Пастухов уже смотрел на Ключанского с иронией и явным желанием дразнить.
- Почему все? Я снял бы на вечер ресторан "Берлин", пригласил бы вас всех и еще ребят и споил бы до чертиков. На дармовщину, представляю, как бы пили! А? Отборный коньяк. А тебя, Подпасок, - он так называл Юру Пастухова, - я взял бы к себе в холуи. То есть начальником личной охраны. И дюжину телохранителей-боксеров к тебе в подчинение.
- Боксеров-собак, что ли? - уточнил Саша.
- Зачем собак - ребят с хорошими кулаками. Я б им платил по красненькой в день. А Подпаску четвертную.
- Ну как, Юра, согласен в день за двадцать пять ходить старшим холуем Ключанского, охранять его драгоценную жизнь? Сумма - дай бог… - подначил Коля Лугов.
- Таких, как Вадим, я даже в младшие холуи не взял бы. Без денег, - зло ответил Юра.
- А за полсотни, Подпасок, пойдешь? - издевался Ключанский. Он уже вошел в роль миллионера и говорил серьезно. - Полсотни в день и мои харчи в лучших ресторанах. Пригласим девчонок, закажем самолет: завтрак в Москве, обед в Ленинграде, ужин в Киеве. Потом начнем осваивать Черноморье: Одесса, Крым, Кавказ. Потом Прибалтика. Соглашайся, Подпасок. А то найду другого - жалеть будешь. На старые деньги полтыщи в день.
- Ну а дальше? - подначивал Коля. - Крым, Кавказ, Прибалтика, а дальше?
- Дальше Урал, Сибирь, Дальний Восток, - подсказала Белкина.
- Не-ет, - поморщился Ключанский. - Дальше - туристские маршруты: Париж, Рим, Лондон, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро, Токио.
- И без обратной визы, - мрачно сказал Роман.
Жесткие губы Ключанского иронически поджались.
Он с весомой небрежностью качнул головой и лениво ответил:
- С деньгами? Какое это имеет значение: с деньгами везде проживешь.
- А как же мы? Белка как? - с деланной наивностью спросил Юра Пастухов.
- Белку я, пожалуй, с собой возьму.
- Белку? В Европу? У-у-у, товарищи, это грандиозно! - сказал Саша. - Белка едет в Европу.
- Всю жизнь мечтала жить и умереть в Париже, - сказала Белка. И затем, понизив голос, после паузы продолжила строку. - Если б не было такой земли - Москва.
- Старуха, - Ключанский встал и посмотрел на Белкину с покровительственным превосходством, - ты еще не знаешь настоящего сервиса. Бассейн из перламутра, спальня с кнопками, зимний сад. И деньги. Деньги, при любом общественном строе - это благо! - Он прищелкнул тонкими пальцами и томно заходил по комнате.
- Сволочь же ты, Вадька, деликатно выражаясь, - сказала ему в спину Белкина. - Для тебя деньги - все: и бог, и вера, и высший идеал.
- Ну, хватит, размечтались, - примирительно сказал Вадим. - Лучше, господа миллионеры, пошарьте в своих карманах, может, наскребем на поллитровку и на бутылку вермута. Я сбегаю, пока магазин не закрыт. А? Ну, ребята, как?
- Хватит! - запротестовали девушки.
- Не стоит, Вадим, - дружески уговаривал Роман. - Выпили понемножку - и поставим точку. Уже подвели черту!
- Да что там выпили, - с грустью сказал Юра Пастухов, щупая в кармане пиджака мелкие монеты. - Только раздразнил.
- И тебе не стыдно? - с укором подступила к нему Белкина. - Несчастный алкоголик. - И, воспользовавшись музыкой (Саша догадался вовремя включить магнитофон), пригласила: - Пойдем лучше танцевать.
Танцевать с Белкиной Юра всегда готов. А Роман уже приглашал Юлю. Все расступились, образуя полукруг. Вечер продолжался. О миллионах забыли. И даже Ключанский больше не вспоминал о них.
В понедельник Юра Пастухов опоздал на работу на целый час. Белкина вовсе не пришла.
- Что случилось, Юра? - с дружеским участием негромко спросил Роман,
Пастухов повел бровью и ничего не ответил. Вернее, дал понять, что ответ его в данном случае вовсе и не нужен. Роман спросил еще мягче и тише:
- Ты не знаешь, что с Белкиной?
- Ничего особенного, - не очень дружелюбно отозвался Пастухов.
- Почему ж она не вышла на работу? Заболела?
Пастухов пристально посмотрел на Архипова. Слово "заболела" встряхнуло его, насторожило.
- Тебе и это известно? - сорвался совсем нежелательный вопрос.
Пастухов на какой-то миг решил было, что Роман знает, почему Белкина не вышла на работу. Роман ничего не знал, но сделал вид, что ему кое-что известно, ответил вопросом на вопрос:
- Она где?
- В больнице.
Они смотрели теперь друг на друга со строгой доверчивостью и с той откровенностью, когда скрываться уже бессмысленно, когда все прочитано во взгляде и остается лишь словом подтвердить догадку.
- Аборт? - спросил Роман.
- Да, - ответил Пастухов.
Это было после смены у проходной: Архипов поджидал его - хотелось поговорить вот так, запросто, как будто совсем непреднамеренно. Еще во время работы он узнал от мастера, что Пастухов подал заявление об увольнении. При этом, как сказал мастер, заявление не было подготовлено заранее, Пастухов написал его тут же в цехе на клочке бумаги. Очевидно, и окончательное решение созрело тоже сегодня. Поступок Пастухова огорчил: Роману казалось, что парень, уйдя из-под влияния Ключанского, начал нащупывать верный путь в жизни. Роман и его товарищи старались помочь Пастухову. И вдруг такое. Из-за чего, собственно, что за причина увольнения? Мастеру он объяснил не без иронии: "В связи с переходом на другую работу". Приняв заявление от Пастухова, мастер сказал:
- Что ж, дело твое - доложу начальнику цеха.
Роману не хотелось, чтоб Пастухов ушел с завода, и он решил поговорить с ним по душам. Теперь мелькнуло подозрение: а нет ли связи между заявлением Пастухова и абортом Белкиной? Глядя прямо в глаза Юре, Роман спросил с мужской откровенностью, и в тоне его не было осуждения:
- От тебя?
- Возможно… Впрочем, едва ли. Тогда она с Вадимом еще дружила.
Они медленно шли вдоль высокого заводского забора, оба серьезные и озабоченные. Их обгонял поток рабочей смены, веселый, оживленный. Наступила неловкая пауза, которая, как показалось Архипову, могла погасить этот в общем-то неплохо начавшийся разговор, и он торопливо искал следующую уместную фразу, которая бы помогла преодолеть невидимый барьер.
- Она когда?.. - глухо спросил Роман.
- Вчера, - в пространство обронил Пастухов и затем, немного погодя, добавил: - Она тоже уходит с завода.
- Вот те раз! - Роман был озадачен. - А это почему?
- Не знаю, спроси ее. - Пастухов пожал плечами, подчеркивая свое полное равнодушие к Белкиной, а Роман не верил его безразличию.
- Вы что, сговорились?
- Нет, каждый по себе. Просто случайное совпадение.
- Ну а дальше чем будешь заниматься?
- Поживем - увидим, - с нарочитой небрежностью произнес Пастухов, и Роману показалось, что он кому-то подражает. Ну да. Ясно кому.
- Оставь ты эти ключанские манеры, тебе они не идут, - дружески проворчал Роман и передразнил: - "Поживем - увидим". А жить на что будешь? Ты что, сын миллионера? Или на министерской дочери женишься?
Сказав это, Роман с укором подумал о себе: "А ведь я не знаю, кто у него родители. Досадно, конечно". Он не стал оправдывать себя: мол, молодежи на заводе много, всех знать невозможно. Вместо этого спросил:
- Отец твой кто?
- Алкоголик, - не задумываясь, словно давно ожидая такой вопрос, ответил Пастухов.
- Нет, я в том смысле - чем он занимается?
- Не знаю, - пожал крепкими круглыми плечами Пастухов. Когда он это делал, короткая шея его вовсе исчезала и круглая голова, казалось, покоилась на одних плечах. - Должно быть, водку пьет. - Это об отце.
- На какие шиши?
- На бутылки.
- Я серьезно. - Роман начинает сердиться. В самом деле, с ним, как с человеком, а он дуется, как капризный ребенок.
- И я серьезно. Слоняется целыми днями по пивнушкам и собирает под столами пустые бутылки из-под водки и вина. Это там, где приносить и распивать спиртные напитки запрещается. Ну, значит, приносят и распивают, а бутылки под стол прячут. А то у палаток, где посуду принимают, подбирает непринятую. Принесет человек сдавать пустые бутылки, а приемщица обнаружит на горлышке шов или еще какую-нибудь пупырышку и не принимает: дефект. Человек тут же оставляет бутылку. Ну а отец ее себе, как брошенную, а потом в другой палатке знакомой приемщице и продаст. Бутылка-то нормальная.
- Это ж сколько ему надо в день бутылок? - вслух прикинул Роман.
- Бывает, и полсотни за день, - подсказал Пастухов. - Подсчитай - шесть рэ как одна копейка. На эти деньги два дня жить можно вот так. - Он провел по горлу крепкой куцей ладонью.
- И нигде не работает?
- Не знаю: он с нами не живет.
- А семья у тебя?
- Мама и младшая сестренка.
У железнодорожной насыпи Роман предложил:
- Давай посидим.
Пастухов молча согласился. Они сели на сваленные в кучу шпалы у ржавых запасных путей, которых уже давно не касались колеса вагонов. Пастухов по-прежнему изображал полное равнодушие и отчужденность: дескать, о чем нам с тобой говорить, когда все решено - я уже не ваш. Вдруг он заметил вдали толпу людей, которые блокировали пивную палатку, и сразу весь преобразился, глаза оживленно засверкали. Роман обратил внимание на столь резкую перемену, но не догадался о причине, ее. Пастухов сам выдал, сказав мечтательно:
- Сейчас бы по кружечке пивка. Голова после вчерашнего… Как ты?
- Особой жажды не испытываю. Разве что за компанию, - ответил Роман, но продолжал сидеть.
- Да, чего не сделаешь за компанию, - уже с веселой насмешливостью проговорил Пастухов. - За компанию, говорят, наш главный инженер чуть не удавился. Пошли? - Он хотел было встать, но Роман задержал его:
- Погоди, успеем. А у тебя это давно?
- Что?
- Любовь… к спиртному.
- А-а. А я подумал… Да как тебе сказать: пожалуй, с молоком матери. Родители мои злоупотребляли. В общем, отец приходил домой пьяный, скандалил. Пропивал все. Мама с горя тоже начала пить. Потом он ушел от нас… Первый раз я напился лет в десять. В третьем классе, кажется, учился. Был праздник Первомая. Родители пили у нас дома, потом пошли к соседям. Стол оставили неубранным. На столе в рюмках недопитая водка и вино. Мы с сестренкой остались вдвоем. Я ей говорю: "Шура, давай достойно отметим Первомай". Она говорит: "Давай". Сели за стол, как большие. Я взял рюмку с вином, она - с водкой. Я свою сразу выпил: сладкое и даже приятное. Она попробовала, сморщилась и плюнула: "Гадость, говорит, и как только взрослые пьют". Ну а я уже захмелел, мне теперь море по колено. "А хочешь, говорю, я выпью?" - "Нет, не выпьешь, слабо", - говорит. "Нет, выпью". - "Нет, не выпьешь!" Что я, не мужчина? Взял и выпил одним махом. Не скажу чтоб мне было приятно. Пожалуй, напротив. Но зато сколько гордости. Вышел во двор героем, ног под собой не чуял. Потом началась рвота. Тут соседи: "В чем дело? Что с ним? Ребенок умирает, скорей вызывайте неотложку!" Я и в самом деле готов был умереть: говорят, весь побледнел, пульс слабый. Что со мной - никто ничего не знает. Сначала решили, что отравление. В общем, поднялась паника, меня увезли в больницу. А на следующее утро я уже был дома. Выдержал, так сказать, первый экзамен. После этого случая лет семь сам в рот не брал и презирал всех алкашей, в том числе и отца. Потом постепенно начал привыкать. Ты думаешь, я пьяница? Ерунда. Не больше других. Один я никогда не стану. И не тянет. Вот за компанию… Пошли, что ли?
Он быстро поднялся. Встал и Роман. Доверчивая откровенность Пастухова подкупала. Верилось, что может состояться откровенный и полезный разговор. Когда сбежали вниз по старой деревянной лестнице с шаткими перилами, перепрыгивая через колдобины и разный хлам, Роман спросил:
- А Белкина подыскала себе другую работу?
- Может, и подыскала, - теперь уже беспечно и весело отвечал Пастухов. - Ей что, на лотке может торговать пирожками.
- Или к себе в деревню вернется? - предположил Роман, вспомнив, что родители Белкиной работают в колхозе, а сама она живет в общежитии.
- Едва ли. У ней гордости навалом. Что ты - чтоб наша столичная Белка в деревню вернулась? Да она лучше обнадежкой станет.
- Это как понимать?
- Есть такие: нигде не работают, в ресторанах харчатся за счет денежных кавалеров, которых предварительно обнадеживают.
- А почему "обнадежка"? - не совсем понял Роман.
- Никогда не слышал? - в свою очередь, переспросил Пастухов. - Очень просто и примитивно. Где-нибудь возле гостиницы какая-нибудь Белочка или Лисичка знакомится с приезжим Бобром. Случайно, конечно. Слово за слово, обнадеживающая улыбка, и Бобер приглашает Лисичку в ресторан. Она сочиняет легенду о себе: незамужняя, имеет отдельную жилплощадь, без соседей. Работает в почтовом ящике. Вчера ушла в отпуск. Это в ресторане она ему рассказывает. Бобер весь в мечтах и надеждах, заказывает все, что душе угодно. А она скромно намекает: "Кофе не надо. Кофе у меня дома будем пить". А у самой-то и дома нет. И вот, когда съедено все и выпито, когда официантке осталось принести мороженое и подать счет, Лисичка отлучается по своим делам, в туалет. Бобер ждет. Предвкушает аромат домашнего кофе и прочее. Ждет десять минут, тридцать, час. Наконец, с кислой физиономией платит деньги и уходит. Шума он, разумеется, поднимать не станет. Уйдет тихо, оболваненный. А ее и след простыл. Завтра таким манером она пойдет в другой ресторан. Послезавтра - в третий. У нее строгое расписание. В Москве сколько ресторанов? Шестьдесят, наверно, есть? Значит, только через два месяца она снова придет в первый. Ну а глупые Бобры всегда найдутся.
Пиво было свежее и холодное. В очереди человек двадцать. Пастухов выпил, две кружки, Роман одну. Заплатил за себя и за Пастухова. Потом сидели на скамеечке, говорили о жизни. Говорил больше Пастухов, о себе рассказывал. О трудном детстве, об отце, которого не любил, о горемычной матери, которая работает сейчас лифтершей в соседнем доме, о Ключанском, с которым они дружат давно. Что их связывает, Пастухов так и не мог толком объяснить.
- С Вадимом весело, хотя вообще он порядочная зануда, - заключил Пастухов.
А Роман внезапно спросил:
- А что тебе в нем нравится?
Пастухов задумался. Вопрос для него был слишком неожиданным. Проще всего обозвать человека недобрым словом. А ты попробуй конкретно скажи, чем плох человек, докажи и убеди. Роман ждал. Пастухов попытался уклониться, бросил как бы походя:
- Не стоит об этом.
- А все-таки? - настаивал Роман.
- У него странный взгляд на человека. В нашем подъезде живет Витька Багров. Хороший парень. Я как-то сказал Вадиму: "Хочешь, я тебя познакомлю с моим приятелем Витькой?" А он сразу: "А что он может? Кто отец?" Я ему: "При чем тут отец? Витя простой, честный, порядочный парень". А он мне: "Подумаешь, качество - порядочный, честный. Старо. Продается как уцененный товар. Пережиток. Ну скажи, на кой черт мне его порядочность? Да от его честности могут быть только неприятности".
- Он пошутил, наверно, - заметил Роман нарочито, пытаясь как бы оправдать Ключанского. Но это только подогрело Пастухова:
- На полном серьезе. Он такой - Вадим. Я-то его хорошо знаю.
- Так что ж получается? Что он признает только жуликов?
Пастухов кивнул.
- А ты? - Архипов пристально посмотрел ему в глаза. - Тебя он за кого принимает?
Спросил - точно обухом по голове. Он не раз возникал у самого Пастухова, этот коварный, неприятный вопрос. Но тогда было проще - наедине с самим собой можно и отмахнуться. Пройти мимо. А тут спрашивает человек серьезный и неплохой товарищ, - в последнее время Пастухов постепенно начал проникаться симпатией к Роману и вместе с тем чувствовал все нарастающую неприязнь к Вадиму Ключанскому. Помимо своего желания он сравнивал этих двух парней, и чем пристальней присматривался к обоим, тем четче и ясней становился облик одного и другого. Грязь, которой методически изо дня в день Ключанский при Пастухове поливал Романа и его товарищей, при трезвом взгляде постепенно смывалась, и Пастухов видел Архипова и его товарищей совсем не такими, какими их изображал Ключанский. И чем чище в глазах Пастухова становился Роман, тем грязнее Вадим. И теперь, точно припертый к стенке таким простым и естественным вопросом, Пастухов думал о своем бывшем друге с раздражением и неприязнью: "Ложь, клевета и цинизм. Клевета, цинизм, ложь". Будто эти три слова давали исчерпывающую характеристику Ключанскому.
Архипов понял, как трудно отвечать Пастухову на его вопрос, и он не настаивал, спросил, переводя разговор:
- А Вадим пьет?
- Любит, но пьет мало. И потому не пьянеет, - охотно и с облегчением ответил Пастухов. И потом добавил: - А вообще он щедрый: всегда угощал.
- Спаивал, - вслух подумал Роман.
"Возможно", - мысленно ответил Пастухов.
И вдруг, посмотрев на Романа своими светлыми, доверчивыми глазами, заговорил с тем проникновением, с которым неожиданно открывают душу близкому другу:
- А знаешь, почему я опоздал?.. Ну это понятно - перебрал. А почему? Думаешь, просто так - безыдейно напился, без всякой причины? Только тебе одному скажу. И больше ни одна душа… Я ее люблю. Понимаешь, люблю Белку. Она хорошая. Не важно, что лицом не вышла. И вообще, внешность не имеет значения. В ней есть человек. Понимаешь, Роман, настоящий человек в ней сидит глубоко. Она не предаст, не солжет. И все, что думает, в глаза скажет. Не побоится. Может, иногда неправильно, сумбурно. Образованьице у нее, сам знаешь… Нахваталась с бору по сосенке. У того же Вадима. А Вадим у Маринина. - Он сокрушенно ухмыльнулся, глядя в пространство, и сколько было горечи и злости в его вдруг потемневших, посуровевших глазах. - Ну и научили. Довели до больничной койки.
Он замолк, торопливо закурил. Роман ответил на его слова глубоким вздохом сочувствия. Пастухов понял его и был признателен. Затем Роман сказал:
- Я только одного не понимаю: зачем тебе уходить с завода?
Обычно флегматичный, вялый, Пастухов вспыхнул, что-то долго копившееся в нем прорвалось:
- А я что, по-твоему, бревно? Не человек я? Не слышу, что в цехе говорят: "Гнать таких! Позор!" Я сам понимаю - позор. И не хочу позорить цех… и завод. Дожидаться, когда выгонят. Лучше сам уйду. По собственному желанию. И начну все заново. Без Вадима… И, может быть, без Белки.
- Почему без Белки? Ведь ты ее любишь!
- А, простить? Скажи, ты смог бы простить? Вот ты, на моем месте? - Он все больше возбуждался и, забывая, что на скамейке напротив сидят посторонние, начал говорить громко: - Молчишь, потому что не знаешь.
- Когда любишь - все простишь, - без назидания, будто о себе самом сказал Роман. - И потом, вы же хотите все начать заново и без Ключанского. Важно, чтоб и она тебя любила. Иначе - ерунда.
- Она не верит, что я ее люблю. Вообще она говорит, что ее никто не полюбит: ты же знаешь, она некрасивая. И страдает из-за этого. Очень даже переживает. Для девушки - это все. Даже набитая дура при красоте сходит за королеву.
Они расстались друзьями. Условились, что Пастухов заберет заявление обратно и уговорит Белкину не уходить с завода. Роман проводил его до дома. У подъезда Пастухов сказал, пожимая руку:
- До завтра.
- До завтра.
- А я о тебе раньше не так думал.
- Знаю.
Роман догадывался, как думал о нем Пастухов: головой Ключанского думал. Интересно, а чьей головой думает Вадим Ключанский? Маринина, как сказал Пастухов? Почему именно? Что между ними общего? И чьей головой думает Маринин? На последний вопрос Роман не мог дать ответа. Он был еще зелен и неопытен в идеологической борьбе, не знал ее тактических тонкостей, не догадывался о серьезности, и масштабах. Вечером он рассказал брату о Пастухове и Белкиной.
- Ты понимаешь, дед, это же победа, моя победа, черт возьми! - возбужденно говорил Роман. - Юра Пастухов хороший парень. Из него выйдет отличный рабочий!
- Отличные бывают специалисты: инженеры, конструкторы, изобретатели, - вдруг совершенно спокойно, пожалуй, даже равнодушно ответил брат, не отрываясь от учебника, который он читал. - Рабочие бывают либо хорошие, либо плохие. Плохих надо увольнять. Тогда будет порядок на производстве.
Вот так огорошил! Роман посмотрел на него удивленно и вопросительно, но дед не удостоил его даже взглядом, по-прежнему сидел в кресле под торшером, уткнувшись в учебник. Наконец Роман ответил только одним словом:
- Не оригинально.
- А я и не претендую. Это сказал у нас на лекции профессор Гаранин.
- А поумней ваш профессор ничего не мог придумать? - ехидно бросил Роман.
- Придумал, - с неизменным спокойствием произнес Олег. - Он сказал, что в век современной науки и техники ведущей силой общества являются специалисты: ученые, изобретатели, инженеры, конструкторы.
- И как это надо понимать? - с живым интересом осведомился Роман.
- А так, что во главе всей общественной жизни должны стать специалисты: ученые, инженеры. Они должны стать руководителями государственных учреждений, в том числе и правительства… Не исключая и партийных органов.
- Вот даже как? Значит, техника руководит обществом.
- Командуют ученые и сильные. В этом есть логика.
- Ну а как же насчет идеологии? Вы не спросили?
- Интересовались. Один студент задал вопрос о надстройке и базисе в эпоху технократии.
- И что ж он ответил?
- Полное, мол, соответствие марксизму: надстройка держится на базисе. Хозяева живут в доме, все прочие в мезонине.
- Шикарно устроился ваш профессор. А как ты, дед, смотришь на подобную реорганизацию мира?
- Хладнокровно. Но, скажу тебе, наш Гаранин не так глуп, как ты думаешь.
- Я думаю о другом. О том, что ваш профессор тоже не оригинален. Подобные "идеи" я уже слышал. И знаешь от кого?
- От Саши Климова?
- Ну-у, разве Саша станет рекламировать такую ахинею. От Вадима Ключанского! - с торжествующим злорадством сообщил Роман, и в глазах его светилось удивление. Видя равнодушие брата, никак не прореагировавшего на такой факт, он снова сказал: - Нет, ты подумай - от Ключанского!
- Вот он и метит в будущие руководители общества, - иронически улыбнулся Олег.
- Ну какой он специалист. О себе он пока помалкивает. Но с жаром говорит, что руководить страной должны умные инженеры. Такие, как наш Гризул. Он видит причину наших недостатков и трудностей в партийных работниках.
- Гризул беспартийный?
- Что ты, напротив, член парткома.
- Тем более. Выходит, Ключанский не против партийного руководства. Все в ажуре, так сказать, на высокой идейной основе.
- И ты считаешь… - начал горячиться Роман, готовый к острой дискуссии, но, как всегда, Олег решительно избегал, как он выражался, бесполезной болтовни и теперь оборвал брата на полуслове:
- Я считаю, что вся эта философическая демагогия не стоит выеденного яйца. И оставь меня, пожалуйста, в покое.
- Но ведь ты же будущий руководитель общества. Быть может, глава государства или, на худой конец, министр, - с издевкой продолжал Роман. - Может, вспомнишь тогда о своем бедном братце и престарелом отце-коммунисте, который всю свою жизнь провел на комсомольской, партийной и дипломатической работе.
- Да отстань же ты. Собери свое трио и обсуди с ними проблему, которая меня нисколько не интересует.
Роман никого не стал собирать и брата оставил в покое. Но "проблема технократии" засела в его мозгу, как все необычное и новое. Он попытался разобраться в ней самостоятельно, без посторонней помощи. Роман любил порассуждать наедине с самим собой, лежа в постели, перед тем как одолевал его крепкий, беспробудный сон. Роман до сих пор не может понять брата: действительно ли Олег равнодушен ко всему, что не связано с его непосредственной деятельностью, или играет. Роман не однажды называл брата аполитичным буйволом, но в серьезность этой своей оценки не верил. У младшего брата были свои убеждения, которые в главном и основном не отличались от убеждений Романа. К "проблеме технократии", по глубокому убеждению Романа, брат отнесся со свойственным ему ироническим равнодушием. Ничего серьезного в этой "проблеме" он не увидел. Роман был иного склада человек. Его интересовало в жизни все, и на все он должен иметь свое независимое мнение. Когда впервые Ключанский принес на завод "идею технократии", Роман как-то не обратил на это внимания. Слишком много приносил на завод различных "идей" и сенсаций Вадим Ключанский. То он, ссылаясь на "мировые авторитеты", утверждал, что абстракционизм - это новая прогрессивная ступень в изобразительном искусстве, то говорил, что Зоя Космодемьянская никакого подвига не совершала, все это выдумки досужих журналистов, авторству которых принадлежит и миф о залпе "Авроры" в Октябре семнадцатого. Никакого, мол, залпа не было, был одни выстрел и тот холостой, как не было и двадцати восьми панфиловцев. Но нашелся на заводе участник боев под Москвой из дивизии Панфилова, и Ключанский был публично осмеян и посрамлен. Однако его это ничуть не смутило. На другой день он рассказывал новую сенсацию, советовал, что читать в журналах, какой фильм или пьесу смотреть, рассказывал любопытные случаи из жизни именитых людей, старые и новые анекдоты, напевал не всегда приличные песенки безымянных авторов, выдавая их за "студенческий фольклор". Затевал споры, дискуссии, показывал, как надо танцевать твист и чарльстон, и вообще "веселил публику".
У Ключанского были свои поклонники, в числе их Пастухов и Белкина. Одним импонировал веселый характер Вадима, независимость суждений, другим - его осведомленность, легковерно принимаемая за эрудицию. Роман и раньше смутно подозревал, что Вадим высказывает не свои, а чужие мысли, что он только добросовестный распространитель и пропагандист. Теперь Роман утвердился в своих догадках. Любопытно, что Ключанский раньше профессора Гаранина высказал мысль о гегемонии технократии. Не значит ли это, что и профессор был не оригинален. А звучит-то как: "гегемония научно-технической интеллигенции"! Это что ж, выходит, взамен гегемонии пролетариата? Далеко хватили.
Почему-то сейчас вспомнились слова брата о том, что рабочие бывают либо хорошие, либо плохие. Отличными ж могут быть только инженеры. Он всерьез так думает или повторяет слова тоже какого-нибудь "профессора"? Откуда такое барски высокомерное отношение к рабочему?
- Дед, а дед! - прокричал Роман брату, который занимался в соседней комнате.
- Чего тебе, внучек?
- Поди сюда на минутку. - И появившемуся в дверях Олегу: - Послушай, а какую же роль вы со своим профессором отводите рабочему в новой эре?
- Я вижу, тебя очень заело.
- • Еще бы: я ведь тоже рабочий. Поэтому мне интересно знать, что день грядущий мне готовит.
- Лично я никакой тебе роли отводить не собираюсь. А что касается профессора Гаранина, то он считает, что крылатая фраза "владыкой мира будет труд" уже изжила себя до некоторой степени, устарела. Ее надо заменить так: владыкой мира будет ум изобретателя.
И ушел к себе, не проявляя ни малейшего желания спорить. А Роман думал: интересно, как наш главный инженер относится к вопросу гегемонии технократии? Должно быть, положительно.
Мысль эта показалась смешной и наивной. Ее не хотелось принимать всерьез. И он решил, что брат, пожалуй, прав: все это пустая болтовня. Он не дал себе труда задуматься, откуда идет эта "теория", кто настоящий ее автор, зачем и кому она нужна. Однако через несколько дней Роману вновь пришлось столкнуться с чем-то подобным при довольно интересных обстоятельствах.
Как раньше было решено комитетом комсомола, заводская молодежь собирала материал по истории своего предприятия. Группами по три-четыре человека молодые рабочие беседовали с ветеранами, записывали их рассказы, смотрели старые семейные фотографии, разные документы из частных архивов - словом, все то, что так или иначе касалось истории завода и его коллектива. Комсомольцы помнили совет Глебова: главное - человек, рабочий, инженер, их трудовой подвиг; без показа людей никакой истории у нас не получится.
Длинная и узкая, в одно окно, комната комитета комсомола была полна людей. Табачный дым густой полосой тянул не в форточку, а в открытую настежь дверь. Все говорили разом. Было шумно. Старшие групп докладывали членам редакционного комитета о собранных материалах по истории завода. Иногда в разговор вступали сразу все участники групп, перебивая друг друга или дополняя старшего. Юля и Вероника рассказали о встрече с доктором технических наук, который до войны работал здесь на заводе в отделе главного конструктора. Кое-что из его рассказа девушки записали. Но главное - профессор обещал сам написать для истории завода нечто вроде воспоминаний.
- В общем, интересный дядька, - заключила Юля свой доклад. - Его бы, Роман, пригласить к нам на завод, встречу с молодежью организовать во Дворце культуры.
Роман молча кивнул и сделал себе пометку в блокноте. Затем докладывал Юра Пастухов. Вместе с Белкиной и еще двумя девушками они были на квартире у бывшей наладчицы завода, пять лет назад ушедшей на пенсию, Людмилы Федоровны Танызиной. Пастухов был взволнован, говорил несколько сбивчиво; ему то и дело подсказывала Белкина. И это его еще больше сбивало, он терял последовательность, забегал вперед и снова возвращался к началу рассказа.
- Ну, товарищи, доложу я вам - это не женщина, а целая книга. О ней роман писать надо! - говорил Пастухов, оглядывая всех ребят широко распахнутыми светлыми глазами. - Эпопея! Эпопея советской семьи.
- Героической семьи, необыкновенной, - поправила Белкина.
- А может, и обыкновенной, - не принял поправку Пастухов. - Отец ее, старый большевик, за участие в баррикадных боях на Красной Пресне в пятом году был сослан в Сибирь.
- Приговорен к пожизненной каторге, - вставила Белкина.
- Просто к каторге, - не согласился Юра. - Там и погиб. Мать ее работала на заводе здесь, в Москве.
- Только не на нашем, на заводе Михельсона работала. Там, где Каплан в Ленина стреляла, - опять добавила Белкина.
Пастухов кивком головы принял поправку и продолжал:
- Муж ее, Василий Ларионович Танызин, у нас начальником литейного работал. Это еще до войны. А когда война началась, со всем своим цехом добровольцем пошел в ополчение. Он погиб под Можайском осенью сорок первого. Трое детей у них было: Александр, Алексей и Маша. Старший, Александр, до войны шофером в Москве работал. Алексей в армии служил танкистом. Маша училась в школе. В первых боях с фашистами погиб Алексей. Александра призвали тоже в сорок первом. Он всю войну провел на фронте. Был дважды ранен. Начал рядовым под Орлом, а Болгарию освобождал уже майором. Погиб в Чехословакии весной сорок пятого. Не дожил до победы. В сорок втором Маша добровольно пошла в армию, окончила курсы радистов. Работала у партизан на территории Белоруссии и Польши.
- Нет, она была нашей разведчицей, ее в тыл врага на парашюте выбросили, - подсказала Белкина.
- В одном бою с фашистами она была ранена. Ее схватили, пытали в гестапо и потом убили, - продолжал Пастухов, а Белкина снова перебила:
- Есть письмо польских партизан к матери. Там описываются подвиги Маши.
- Да, очень интересное письмо, - подтвердил Пастухов и бережно развернул сверток, который он держал в руках, припасая его напоследок, да вот Белкина вынудила раскрыть преждевременно. В свертке были какие-то документы, грамота, фотографии. Все это Юра раскладывал на столе перед Архиповым. Пояснил: - Старушка оказалась доброй. Вот дала нам на время, с возвратом, под честное комсомольское.
И Юра по порядку стал показывать все, что предоставила им Людмила Федоровна. Вот довоенный снимок сына Алексея, опубликованный в армейской газете. Он в кожаном шлеме, высунулся по пояс из танкового люка. Добродушная улыбка во все лицо. Подпись под клише: "Отличник боевой и политической подготовки механик-водитель Алексей Танызин".
- Дома еще есть его портрет. Большая фотография в рамке, - сообщила Белкина, а Пастухов тем временем уже показывал довоенные фотографии Василия Танызин а.
Вот они вдвоем сидят рядышком с Людмилой Федоровной, еще совсем молодые. Вот он один, усатый, худолицый, внимательно и строго смотрит на вас: эта фотография была на Доске почета завода. А вот еще - совсем полинялая, желтая, один угол залит фиолетовыми чернилами: бравый молодой человек в кубанке, кожаной куртке и с маузером на ремне. Деревянную колодку маузера он поддерживает рукой, словно опасается, что эта столь существенная деталь не попадет в объектив.
- Брат Людмилы Федоровны, - быстро пояснила Белкина, - красный командир. Погиб в гражданскую войну под Перекопом.
- Нет, ребята, вы бы послушали эту женщину. Когда она рассказывала, у меня слезы… Вы понимаете, это такая замечательная семья, героическая…
- -А внук… Это фотография внука, - взволнованно сказала Белкина. - Посмотрите. Это единственный сын старшего Танызина, Александра. Он не помнит отца.
- Всего два года ему было, как началась война, - добавил Пастухов. - Окончил военное училище. Лейтенант ракетных войск. Москву охраняет.
- Она, Людмила Федоровна, его воспитала, - сказала Белкина. - А как старушка о детях своих говорит! И об этом, о внуке. С какой любовью! Какие это ребята были, настоящие, чистые, светлые. Когда слушала я ее, вы понимаете, мальчики, подумалось: а правильно нас старшие ругают. Честное слово. Мы, по-моему, много из себя воображаем и шумим.
- Иного спроси, зачем он живет, ну вот того же Вадима, и он не ответит. Потому что не знает, - сказал Пастухов.
- А ты? Ты знаешь, зачем живешь? - вдруг обожгла его Вероника, и длинные искусственные ресницы ее тревожно затрепетали. - Вот я, например, не знаю. Ну что вы на меня так смотрите? Не знаю.
- После встречи с Танызиной, - вдруг сказала Белкина, - я знаю, зачем живу и как мне надо жить.
- Ребята, а что, если нам собрать их во Дворце культуры, - предложила Юля, - ну вот этих Талызиных - бабушку и внука, доктора технических наук и других интересных людей, ветеранов нашего завода. Организовать встречу с молодежью.
- Все это правильно и хорошо, - сказал Роман. - Героическая семья, интересные материалы. Ну а конкретно о заводе что вам старушка рассказала?
- Масса! - воодушевленно ответила Белкина. - Как во время войны, когда мужчины на фронт ушли, женщины, подростки по целым неделям из цехов не уходили. Отработают смену и тут же у станков спят.
- Вот смотрите, целую тетрадь записал, что она рассказывала о заводе. Только обработать надо. Это уже ваша задача - редактировать.
В это время, расталкивая присутствующих, в комнату с шумом ворвался возбужденный Коля Лугов, а за ним вразвалку, опустив одно плечо и с сигаретой в зубах, проплыл Вадим Ключанский.
- Братцы! Товарищи! - захлебываясь, заговорил Лугов. - Кого открыли! Мировое открытие. Находка.
- Сенсация! - произнес Ключанский, и толстые синие губы его скривились в саркастической улыбке.
- С Лениным виделся! - торопился Коля, будто опасался, что Ключанский его опередит.
И Вадим действительно добавил:
- Беседовал вот так запросто, как я с вами.
- Посадов, что ли? - нетерпеливо и холодно предположил Саша Климов.
Коля отрицательно замотал головой, а Роман выжидательно произнес:
- А кто же? Больше как будто и не было у нас таких.
- Оказывается, есть! - задорно сверкая глазами и жестикулируя неуклюжими руками, сказал Коля. - Тут если по-настоящему копнуть, то найдешь такие клады…
- Ну кто, кто, говори! - торопила Юля.
- Тит Петрович Громовой! - торжественно сообщил Ключанский. - Редкостный экземпляр.
- Оказывается, на Бутырском хуторе Владимир Ильич Ленин присутствовал на испытании электрического плуга, - сказал Коля. - И там этот самый Тит Петрович Громовой тоже был и даже разговаривал с Лениным.
- Фии-уу! - просвистел Саша.
А Роман спросил:
- А это точно? Не сочиняет?
- Да нет же, - убежденно ответил Коля. - Только он оригинал. Знаете, как нас встретил? "Вы кто, - говорит, - такие?" Мы объяснили. А он на нас волком смотрит: "Зачем вам история понадобилась? С какой такой стати? Твист, транзистор, водка да всякая такая похабщина. Вот это для вас. А история, какая вам от нее польза?" Мы ему так ласково, с подходцем: "Что вы, Тит Петрович. Да разве ж мы такие? Вы нас обижаете!.."
- Ну, в общем, уговорили, - перебил Ключанский. - Уломали старика.
- Рассказал? - спросил Роман, весело глядя на ребят.
- Черта с два! - ответил Коля. - Ему, видите ли, аудитория нужна. "Что я, - говорит, - буду для вас двоих. Вы, - говорит, - соберите всю свою комсомолию, и тогда мы с вами пойдем на то место, где Владимир Ильич был. Вот так". Мы согласились. На субботу. Так что давайте решать.
- Идем! - воскликнула Юля.
- Конечно, - сказал Роман. - Значит, на субботу. После смены? Сразу с завода.
- Зря время потеряем, - ни к кому не обращаясь, обронил Ключанский и выбросил окурок в форточку. - Дед - типичное ископаемое. Ворчун. Ничего интересного он не скажет. Пустая затея.
- Старик что надо. Старый коммунист, - живо возразил Коля под одобрительный шумок присутствующих. Ключанский не сдавался и лениво произнес:
- Вообще, мы увлекаемся археологией. Смотрим назад.
- Так что, по-твоему, и история не нужна? - нацелился на него Роман, сбоченив голову.
- Кому как. Мне лично она ни к чему, - с циничной откровенностью ответил Вадим.
Тогда в ответ зашумели возмущенные голоса:
- Ну, знаешь ли…
- Громовой прав. ТТВ тебе дороже всего на свете.
- Транзистор - твист - водка.
- Вино.
- Все равно на "в".
- Между прочим, - сказала Юля, обращаясь к Вадиму, - в субботу ты можешь не ходить на встречу. Дело добровольное. Кому что.
Ключанский не стал спорить. Но на встречу с Титом Петровичем пришел.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ОТЦЫ И ДЕТИ
Андрей Кауров вместе со своей матерью Клавдией Ивановной занимал отдельную двухкомнатную квартиру в том же новом блочном пятиэтажном доме, в котором жила семья Константина Сергеевича Лугова. Сегодня Андрея назначили начальником механического цеха. Это назначение для него было несколько неожиданным. О том, что его предшественник уходит на пенсию, Кауров знал, но как-то не задумывался над тем, кто займет его место. В конце концов, какая разница: он, Андрей Кауров, свое дело знает превосходно, так что авторитет его как мастера был прочен и непоколебим не только в механическом цехе, но и в целом на заводе. Обладая покладистым характером, он умел ладить с людьми - как с подчиненными, так и с начальством. И вдруг сегодня его вызвали к директору. В светлом большом кабинете кроме самого Бориса Николаевича за длинным полированным столом сидели Глебов, Варейкис и Гризул. Разговор был краток. Борис Николаевич своим, как всегда ровным, не ведающим вспышек и резких нот, голосом сказал, "что есть мнение предложить вам, Андрей Петрович, должность начальника механического цеха". Кауров повел густой темной бровью, дернул плечом, облизал крепкие губы, точно собирался что-то сказать, но промолчал.
- Вы не возражаете? - спросил Борис Николаевич и перевел взгляд с Каурова на Глебова. Андрей не успел ответить, его опередил вопрос Гризула:
- Как вы сами думаете - справитесь?
Это был непростой вопрос: в нем звучали скрытый намек, предупреждение, каверзная подначка. И Кауров это хорошо понял. Он даже предположил, что здесь, перед самым его приходом кандидатура на должность начальника механического цеха обсуждалась в горячем споре, и главный инженер высказался против Каурова. Андрей знал, что Гризул почему-то недолюбливает его. И потому ответил сухо, холодно глядя в глаза главному инженеру:
- Сам я никак не думал.
- Это дело серьезное, - угрюмо произнес Гризул и стал что-то чертить на листке бумаги.
- Надо подумать, - с натянутой веселостью сказал Андрей и вдруг тряхнул головой и открыто, пожалуй, с вызовом посмотрел на Гризула.
- Да что ж тут думать! - как-то уж очень горячо заговорил Варейкис, и стул скрипнул под ним. - Мы все тебя хорошо знаем, потому и доверяем. Молодой инженер, грамотный, производство знаешь, народ тебя любит. Справишься. Вполне. Что тут думать: работать надо.
Председатель завкома просто повторил то, что он говорил в этом кабинете десять минут тому назад в отсутствие Каурова.
- Ян Витольдович прав: надо принимать цех и работать. Быстрей ликвидировать брак. Выполнять решение последнего партийного собрания: ритмичность и качество. - Борис Николаевич посмотрел на Глебова. Емельян обратился к Андрею:
- У вас есть какие-нибудь сомнения? Вас что-нибудь смущает?
- Да нет, - Андрей пожал плечами. - Благодарю за доверие.
Так решилась судьба Каурова.
В пять часов Андрей был дома. Мать налила тарелку горохового супа со свининой. Андрей любил его. А тут почему-то ел вяло, нехотя. Не доел и от второго отказался. Выпил кружку ядреного квасу собственного приготовления. Мать забеспокоилась, сердцем почуяла - что-то стряслось.
- Ты что это, Андрюша, не заболел ли?
- Да нет, мама, просто не хочется.
- Аи на работе что стряслось?
В глазах Клавдии Ивановны - напряжение, в голосе дрогнула тревога. Он видел это и поспешил успокоить. Улыбнулся тихо и мягко; как улыбаются старому доброму другу:
- Стряслось, мама, назначение новое получил.
- Это как же так? Куда тебя еще? - Она стояла перед ним сухонькая, растерянная, опустив плетями жилистые руки, с полуоткрытым ртом и растопыренными глазами.
- Начальником цеха назначают. Механического.
- Тебя? - Вырвался возглас радости.
- Сына твоего. - Он подошел и легонько ласково обнял ее.
Клавдия Ивановна тихонько отстранилась и присела на краешек дивана. Задумалась. Андрею показалось, что мать опечалена его назначением. Спросил удивленно:
- Ты что, мама? Не рада?
- Как не рада, очень даже рада, - ответила она, не меняя позы и глядя мимо сына задумчивым тяжелым взглядом. Прибавила погодя: - Отец бы порадовался. Не довелось. А как бы порадовался. Он тоже в механическом работал. - И добавила: - В твоем цехе.
Это Андрей знал. Он даже знал токарный станок, на котором работал Петр Николаевич Кауров. Портрет отца - увеличенная фотография - висел над диваном. Отец смотрел на Андрея из бронзовой узенькой рамочки добродушно, с едва уловимой, пожалуй, натянутой улыбкой: очевидно, фотограф попросил его не делать "сурьезное" лицо. Андрей помнит отца совсем другим, не таким, каким изобразил его фотограф. Очень ласковым, мягким и добрым. Петр Кауров за всю свою жизнь никогда ни с кем не ссорился. "Он был обходительный. И ты пошел в него", - говорила мать. Андрей не считал себя "обходительным" и нередко вступал в горячий спор. Не по пустякам, а когда касалось серьезного дела. Он не совсем понимал, что такое быть обходительным, какой именно смысл вкладывала мать в это слово.
- Веселиться надо, а ты словно и не рад, - сказала Клавдия Ивановна, вставая.
- Сначала нужно с браком покончить, а потом уже радоваться. Качества, качества и еще раз качества требуют от нас. И правильно требуют. Борис Николаевич так и сказал: ритмичность и качество. - Андрей всегда охотно делился с матерью заводскими делами. Это вошло в привычку с тех давних пор, когда в суровое военное время он мальчонкой пришел в цех. Он не изменял этой привычке и теперь, став инженером: понимал, что дела заводские - это дела жизни его матери.
- И что ж, опять литье поставляют негожее? - спросила Клавдия Ивановна, и лицо ее приобрело резкие черты, глаза сделались колючими, и суровый холодок прозвучал в голосе. Она давно считала, что все беды механического цеха из-за плохого литья. И только в этом видела причину брака.
- Бывает, и литейный дает бракованные заготовки, и сами портачим. Ребята молодые - опыту мало, - ответил Андрей, но последние слова его мать пропустила мимо ушей. Она была убеждена - все дело в литейщиках.
- Константин-то, что ж он себе думает, - заговорила она с укором. - Не маленький, да и голову на плечах вроде бы не дурную имеет. Считай, всю жизнь на "Богатыре", тоже вроде тебя, мальцом пришел. А на фронт вместе с твоим отцом уходил. На формовке, правда, он не работал. Но стребовать должен. Какой же ты начальник цеха, если не можешь стребовать. Кто у него на формовке?
- Да точно не знаю. Молодежи много.
- И что с того, что молодежь. Учить надо. Дело это тонкое, особого подхода требует: тут тебе и глаз, и руки, и все такое. А учить-то небось некому. Учителя-то на пенсии сидят. То-то и оно, - заключила мать и сокрушенно вздохнула. Потом, посмотрев на портрет мужа, заговорила, подперев пальцем щеку. - А какие мастера прежде были. Взять хоть бы токарей, хоть фрезеровщиков. Или у нас, в литейном: Ленька Точилин. С финской не вернулся. Саша Морозов - в Отечественную погиб. И Коля Шпаков, и Малинкин, и Вася Танызин. Все полегли на войне. Нет, Коля помер после войны. Вот еще Леша Мелехин был - какой мастер, золотые руки. Теперь, сказывают, генерал. Да, Лешка - генерал. Спокойный всегда был, степенный. Не чета Косте Лугову. Горяч Константин, больно горяч и шумлив. Но уж и правду-матку кроет - в глаза. Хоть ты министр, хоть директор. Луговы - они все такие. За правду умеют постоять. Сергей Кондратьевич - он тоже… горяч был в молодости, беспокойная душа. - И уже другим, мягким тоном совета: - Ты б, сынок, с Константином поговорил, по-хорошему, по-соседски.
- О чем, мама?
- Насчет заготовок. Чтоб следили. Дело-то общее, государственное. Теперь ведь вы одинаковы - оба начальники цехов. Аи не хочешь?
- Да дело не только в нем. Константин Сергеевич сам все понимает. Тут общая беда наша - кадры. Старики уходят, не успев передать свой опыт молодежи. А в цехах в основном молодые ребята, а учить их, как ты говоришь, некому.
Клавдия Ивановна задумалась. Она смотрела куда-то мимо сына, сосредоточенно щуря маленькие темные глаза. Сын повторил ее слова - "некому учить", значит, он согласен. А что, если?.. Только вот поймут ли ее правильно.
- Может, мне пойти к формовщикам… Ну просто так, подсказать, ребятам пособить? Дома-то что сидеть.
Она задержала на сыне долгий вопросительный взгляд, поймала его нежную улыбку и отрицательное покачивание головой: не советует. Значит, не понял. Пояснила:
- Не на работу, а так, проведать. Соскучилась дома сидемши.
- Константин Сергеевич может обидеться, - наконец произнес Андрей не очень уверенно. Предложение матери прозвучало для него так же неожиданно, как и назначение начальником цеха.
Она вышла в другую комнату, переоделась в выходное платье, накинула на голову платок. Андрей догадался: уходит. Спросил, далеко ли?
- К Луговым зайду. Давно я у них не была. Давесь во дворе Евдокию встретила. Что, доверит, Клава, не заходишь. Заходи, говорит, чайку попить.
- Ох, мама, мама, - и лгать-то не умеешь,..
- Вот истинно говорю - приглашала Евдокия. Соседи ж мы, разве чужие. И что ж такого - свои люди, и без приглашения можно. - И вспыхнула румянцем смущения.
- Ну что ж, сходи, попей чайку, коль приглашали.
Клавдия Ивановна бесшумно прикрыла за собой дверь, а сын сел за письменный стол, приставленный вплотную к подоконнику, и машинально посмотрел в окно, думая совсем о другом: о матери, которую сейчас поздравят Луговы, а она станет проситься в литейный цех - соскучилась, мол, и прочее. Эх, мама, мама, добрая, милая старушка. Рада, конечно, и горда. И как хотелось бы ей разделить эту радость с отцом, с которым все делила - и хорошее и плохое. Мысль об отце, появившаяся вот так неожиданно, невзначай, вдруг нахлынула, навалилась на Андрея огромной могучей волной, захлестнула, обдала всего без остатка, завладела чувствами, отметая прочь все иное, все-все, что не было связано с именем отца, которого он всегда помнил, любил по-детски трогательно, до трепета души и образ которого со временем не стирался в памяти, а как-то преображался, получал новые черты.
Андрей неторопливо, повинуясь воле нахлынувших мыслей и чувств, выдвинул ящик стола, достал зеленую из кожезаменителя папочку, в которой хранились фронтовые письма отца. Андрей знал их наизусть. Он редко, только в особых случаях доставал зеленую папку и бережно развертывал письма отца, как священную реликвию. Он доставал их только тогда, когда бывал один, чтоб никто не мешал его чувствам, не спугнул длинную вереницу дум, не увидел блестящих влагой глаз. Он знал, что и мать его тоже иногда перечитывает эти письма, и тоже одна, без свидетелей. Он бережно разглаживал пожелтевшие листки, исписанные неровным почерком, медленно читал, останавливаясь на тех местах, которые вызывали на раздумья.
"Родная Клава!
Только что закончился жестокий бой. Получилась свободная минута. Ребята пишут письма - и я пишу и шлю вам с Андрейкой свой горячий фронтовой привет. На рассвете наш батальон выбил фашистов из деревни Елкино. Вернее, деревни как таковой нет. А когда-то до войны стояла она на крутом берегу речки совсем неглубокой. И наверно, красивая была, потому что старинный парк возле церкви, могучие липы, березы вдоль дороги - и сады. Сплошные сады. Были. А сейчас ничего нет: ни парка, ни садов, ни домов. Только печи стоят на пепелищах, как надгробья на погосте. Поломанные, погубленные, обгоревшие деревья, окопы на крутом берегу. И церковь без купола, ободранная, с дырками от снарядов. С колокольни бил их пулемет, когда мы наступали. В нашей роте шесть убитых и раненые есть. Костя Лугов тоже ранен в бедро осколком мины. Говорят, рана неопасная. А вообще, милая Клава, ты солдатка и должна быть готова ко всему. Война жестокая, она каждый час уносит жизни людей. И сражаемся мы за вас, чтобы вы жили, за Родину, за нашу любимую, прекрасную Москву, за тебя, Клава, за Андрейку нашего - сынка моего и наследника. Все хотят жить, и никто не хочет умирать, потому что жизнь, какая б она ни была - ив радости и в горе, все равно прекрасна. А смерть ходит по нашим пятам - меченная свастикой. Она кругом - и на земле и в небе. И чтоб остаться жить, чтоб вернуться к вам живым, расцеловать моих родных, чтоб снова вместе, втроем, пойти в Останкино, покататься на лодке - надо уничтожить смерть, меченную свастикой.
Любимая моя. Ты не представляешь, что они, гады, делают с нашей Родиной, с живыми людьми. Ужас, кровь стынет в жилах. Все, что о них пишут в газетах, об их зверствах - все правда, жуткая, страшная правда. И мы мстим святой местью. У нас нет иного выбора: умереть или победить. Многие из нас не вернутся домой. Это судьба. Кому как она улыбнется - никто наперед не знает. Но верь - ты всегда будешь со мной, до последнего вздоха. Ты и мой сыночек, кровинка моя. Я часто смотрю на фотокарточку, где мы втроем. Любовь моя, здесь, в огне, я сильней понял, как дорога ты мне, какое это большое счастье любить и быть любимым. Я часто вспоминаю прожитую нами совместную жизнь. И мне приятно и тепло на душе - как хорошо мы жили. И это потому, что ты - самая славная женщина в мире, жена, мать и друг. Ты же знаешь, мне никогда прежде не приходилось писать тебе писем, потому что мы никогда не разлучались. И теперь, наверное, все, что на душе накопилось, говорю тебе в этом письме. Нет, не все. Всего не скажешь, не передашь словами. Да и слов таких нет, чтоб передать тебе все, что я думаю и чувствую. А если письмо это окажется последним, если мне придется умереть за Родину - помни и знай: я не посрамил земли русской и чести рабочего класса. И ты с Андрейкой можешь гордиться мной. Клава, радость моя! Береги Андрейку. Приласкай его. И скажи, пусть он мне напишет. Я жду от вас весточек. Здесь они нужны, как патроны. Они помогают нам бить фашистского гада. Целую вас обоих и крепко прижимаю к груди.
Любящий вас Петр".
Андрей дрожащей рукой отложил письмо в сторону, задумался. Не впервой читает он это письмо, и каждый раз находит в нем что-то новое, дополняющее портрет отца. Его поразила огромная сила любви, супружеской верности. Любви к жене, матери Андрея, и Родине. Верности жене и опять же - Родине. Отец ему казался воплощением любви и верности, человеком большого сердца, нежной души. Такие люди не способны не только на подлость, но и вообще на плохой поступок. Какая нравственная сила, красота и величие. Простые и великие. Это они спасли человечество от рабства. Великие и простые.
Андрей взял другое письмо: самое страшное, последнее, предсмертное письмо. Исповедь и завещание человека, идущего на смерть во имя жизни. Оно было написано чернилами: видно, писал отец не в окопе, а в штабе. Строки ровные, почерк четкий.
"Дорогие мои Клава и Андрейка.
Когда вы получите это письмо, меня уже не будет в живых. Через два часа я ухожу на ответственное боевое задание в стан врага. Если жив останусь - вы не прочтете этих строк. Если не вернусь - товарищи мои перешлют вам это письмо. Но я знаю, что не вернусь. Шансов уцелеть менее одного процента. Я пошел добровольно, пошел потому, что это нужно для Родины, для нашей победы, для вас, родные мои, для будущего моего сына. Не печалься, Клава, не убивайся. Слезами ничего не добьешься, только здоровье подорвешь. Ты не одна теряешь мужа и отца. Таких тысячи. Постарайся получше устроить свою жизнь, найди счастье с другим человеком. Ты еще молода, а главное - ты замечательная женщина. Таких нельзя не любить. Ты должна жить и за себя и за меня. Ты должна воспитать Андрейку гражданином, достойным памяти его отца. Он сделает то, что не успел сделать я. Я не успел вступить в партию, не считал себя достойным быть коммунистом. Это высокая честь, и ее надо заслужить не словами, а делами. Но я всегда был большевиком. Пусть же мой сын будет коммунистом. Идя на смерть, я думаю о жизни, которая настанет после нашей победы. Хорошая это будет жизнь. Эх!.. А мы победим - в это я твердо верю. Запомните, родные мои, ваш папка верил в победу. А те, кто вернется с войны, будут великие люди, настоящие. Верьте им. Потому что здесь, на войне, я понял истинную цену всему. Я понял, как дорога для нас Родина и наша родная Советская власть - единственная в мире праведная власть. За Родину, за нашу Советскую власть, за рабочее дело - не страшно умирать, гордо умирать! Я знаю, что есть еще у нас брюзги и ворчуны, которым то не нравится, это нехорошо. И Советскую власть готовы хаить. Хорошо прочитал наш политрук слова великого Пушкина: "Зачем кусать нам грудь кормилицы нашей? Потому что зубки прорезались?" Это Пушкин так сказал о тех, кто Родину свою оплевывает, к недругам ее в услужение идет.
Клава, передай мой прощальный привет всем нашим заводским. Не знаю, получила ли ты письмо, в котором я писал о ранении Кости Лугова. Скажи дяде Сереже, что сын его храбро бил фашистов под деревней Елкино. Сейчас его нет в нашей части, эвакуирован в тыловой госпиталь. Трудно тебе будет, я знаю. Обращайся за помощью и советом к дяде Сереже Лугову и Яну Витольдовичу. Они старые рабочие, всегда помогут. Это настоящие люди. И еще раз говорю: выходи замуж и воспитай Андрейку. Кем бы он ни был, пусть только будет человеком. Конечно, я желал бы, чтоб он учился, окончил институт. Нашей стране нужны грамотные люди. Везде - и в колхозе, и на заводе.
Сыночек мой, Андрейка. Выше голову. Мне доверена высокая честь умереть за советскую Родину. Иначе нельзя. Иначе Гитлер сделает тебя и маму нашу рабами. Я не могу допустить этого. Сын мой, помни, что фашизм - это самое страшное зло на земле. И мы его победим. Кончится война. Ты вырастешь большой. Будь бдительным сам и учи бдительности своих товарищей. Не допустите нового Гитлера. Он может поменять свастику на какой-нибудь другой значок и будет говорить, что его нация богом избранная господствовать над миром, что его народ самый талантливый и самый достойный.
Будь к таким беспощаден. Это людоеды-фашисты, враги человечества. Знай, что все люди, все народы и нации - равны. Так Ленин учил.
Прощайте, мои родные.
Не надо слез.
Прощай, Родина - Советская Россия.
Прощай, русская земля!"
Что-то сухое подступило к горлу Андрея, сжимало, душило и отпустило лишь тогда, когда слезы навернулись на глазах. Теперь он мысленно, не глядя в текст, повторял отцовские слова, медленно, размеренно, вдумчиво. И они возникали перед глазами как-то даже зримо, эти отлитые из нержавеющей стали слова: Родина, Советская власть, коммунист, рабочий класс. А кто-то длинноволосый, бородатый с ехидной улыбочкой шептал ему: "Не надо громких слов, не надо лозунгов!" И стыдил, стыдил сыновей, чьи отцы спасли мир от фашизма. А те, великие и простые, шли на смерть с гордо поднятой головой и не стыдились высоких слов, потому что в них, в этих словах, была их сила, их вера, их надежда, - настоящее и будущее. Андрей выпрямился, положив на стул вытянутые, сжатые в кулаки руки, вздохнул глубоко. Подумал: "Какой отцовский завет я еще не исполнил? Не научился любить, как любил отец?" Но это еще впереди, он не встретил женщину, которой можно было бы подарить весь жар своего сердца. Не научился ненавидеть волосатиков, кусающих грудь кормилицы своей? Пожалуй. Но это оттого, что мы слишком снисходительны и терпеливы. Слишком доверчивы и благодушны. "Будь бдительным", - завещал солдат, уходя на подвиг и на смерть. "Будь коммунистом. А быть коммунистом - высокая честь, и заслужить ее надо не словами, а делами". Так думал простой советский рабочий сороковых годов в последний день своей жизни. Рядовой, обыкновенный, беспартийный большевик.
Андрей посмотрел на висящий над диваном портрет и вслух вполголоса молвил:
- Спасибо тебе, отец, и вечная слава.
И вспомнил мать - самую лучшую женщину в мире, достойную большой любви. И добрая, теплая улыбка осветила его суровое задумчивое лицо. Она, его ласковая мама, исполнила завещание своего мужа: воспитала и вырастила сына таким, каким хотел его видеть отец. Андрей, повинуясь какому-то внезапному желанию, поднялся и хотел было пойти сейчас же к Луговым. Там она - его мама. Но тут же сообразил: зачем, не нужно. Его приход сейчас могут не так понять. Ведь там небось идет разговор о делах заводских, о литейном цехе, о формовщиках. Эх, мама, зачем ты пошла, неугомонная душа твоя!
Так оно и было. Луговы приветливо приняли соседку, накрыли стол в большой комнате - чаевничали. Во второй комнате Коля сидел за учебником политэкономии и писал конспект. Луговы от души поздравили Клавдию Ивановну с повышением сына, а Константин Сергеевич полушутя-полусерьезно заметил, что такое дело следовало бы "закрепить" по древнему обычаю бутылкой столичной.
- Да уж, как положено, за нами не пропадет, - согласилась Клавдия Ивановна и, отхлебнув глоток чаю, сказала нараспев: - Давно я на заводе не была. А хочется, ой как хочется, Сергеич. Соскучилась по нашему литейному. А у тебя небось теперь все новенькие, знакомых-то, чай, мало осталось. А хочется взглянуть. Что ни говори, а жизнь-то, считай, вся там и прошла, на заводе.
- А ты заходи, познакомишься с новенькими, - пригласил Константин Сергеевич. Каким-то чутьем он понял тайную мысль Клавдии Ивановны. Неспроста она затеяла такой разговор. Прибавил после паузы: - Может, поучишь девчонок, которые на формовке.
- Куда мне. Разве они нашу науку признают. Они теперь все ученые, сами с усами. А умения-то и нет. Оно годами дается, - ответила Клавдия Ивановна. - А за приглашение - спасибо. Приду, обязательно приду.
После чая женщины удалились на кухню "посекретничать", а большой любитель кино Константин Сергеевич решил посмотреть по телевидению художественный фильм под интригующим названием: "Жизнь - хорошая штука, брат". Но название мало соответствовало содержанию: на голубом экране мелькали какие-то несвязные кадры: то Москва, то какая-то зачерноморская страна и мечущийся герой - неврастеник, которого покусала бешеная собака. По замыслу автора этот герой должен олицетворять подлинного революционера коммуниста. Но вся "деятельность" этого революционера сведена к навязчивой истерии: умрет он или нет. Получилось нечто карикатурное, неприятное, и Константин Сергеевич смотрел фильм без всякого интереса, морщась и отпуская по адресу постановщика далеко не безобидные реплики. Но вот один из героев фильма - московский кадр - громогласно объявил, что Мейерхольд - большой талант, а Большой театр - это элеватор, который нужно сломать, потому как от него, мол, разит мертвечиной.
- Ого куда хватил! - гневно воскликнул Константин Сергеевич и со злостью переключил на другую программу. - Добрались-таки и до Большого театра.
Коля сидел в соседней комнате за учебником. Услыхав слова о Мейерхольде и Большом театре, он заложил линейкой учебник и вышел к отцу в тот самый момент, когда Константин Сергеевич с раздражением щелкнул переключателем программ. Сказал с подначкой:
- Значит, элеватор. А что, ловко придумано: в храме русского искусства устроить элеватор.
- Мерзость какая, - резко бросил отец, закуривая папиросу. - Показывают всякую ерунду, не поймешь, что к чему.
- Однако ж ты понял, что Мейерхольд - большой художник, а Большой театр - элеватор. Да, может, ради одной этой фразы и фильм создан. Вот Посадов, например, уверяет, что ни один фильм на современную тему не выпускают на экран, если в нем нет твиста.
Константин Сергеевич уже не слушал сына: затягиваясь табачным дымом, он следил за голубым экраном. Передача шла то ли из какого-то молодежного кафе, то ли из студии телевидения, оборудованной под кафе. Зрители сидели за столиками, на эстраду, украшенную большой шестиугольной звездой, выходила девчонка в платьице "мини" и, присосавшись к микрофону, как телок к вымени коровы, безголосо завывала, явно подражая Пьехе. Константин Сергеевич уже было протянул руку, чтоб выключить телевизор, как Коля вдруг точно ошпаренный схватил его за руку:
- Стой! Погоди, папа! - и с непонятным волнением уставился на экран, вызвав недоумение отца. Через минуту он удивленно воскликнул: - Она!.. Там, в зале, за столиком!..
- Ты что, как наскипидаренный, - возмутился отец. - Кто она?
- Лада, - выдохнул Коля, не сводя напряженного взгляда с экрана.
- Наша Лада? Да не может быть: ты обознался. Операторы снова показали зал, и Коля торопливо ткнул пальцем в экран:
- Да вот она, вот, гляди, с каким-то бульдогом.
Это действительно была Лада, Коля теперь уже не сомневался. Константин Сергеевич успел лишь на какой-то миг увидеть дочь, как объектив телекамеры снова был направлен на безголосую певичку. Да и сам мотив песни - не мелодия, а именно мотив, потому что никакой мелодии не было, - не требовал голоса, и слова были какие-то крикливые, без определенного смысла. Певичка изгибалась всем корпусом, шевелила бедрами, размахивала рукой и металась по сцене, волоча за собой черный хвост микрофонного провода. Ей хлопали сидящие в зале за столиками размалеванные девушки и длинноволосые, бородатые и безбородые юноши. Она сошла со сцены и тоже села за столик. И тогда Константин Сергеевич снова увидел на экране Ладу и громко закричал:
- Дуся! Иди на дочь посмотри! - и уже к сыну: - Поди позови мать, пусть полюбуется.
Но когда пришла мать вместе с Клавдией Ивановной, ведущий вечера объявил, что сейчас выступит гость из Минска, и тотчас же на сцену выбежал долговязый молодой человек, коротко постриженный, с горбатой, колесообразной шеей. Он решительно поднес микрофон к раскрытому рту, точно хотел заглотать его и, расхаживая по сцене твердыми, хозяйскими шагами, начал кричать что-то резкое, вызывающее. Кричал, как заклинание, с надрывом, и микрофон преображал его голос в какие-то неестественные трубные звуки, от которых вздрагивала большая шестиконечная звезда. Так он пел. И мастера рекламных шумих, искусные творцы голых королей, называли его восходящей звездой. Но сейчас Луговым было не до этой звезды: их всецело занимала дочь, ушедшая к подруге делать уроки и почему-то оказавшаяся за столиком в объективе телевизионных камер. Лишь Коля сказал по поводу певца:
- Стоило такого хлыста из Минска тащить, будто в Москве мало.
Нетерпеливо ждали, когда снова покажут зал. Но передача подходила к концу, и зал кафе больше не появился на экране. Константин Сергеевич выключил телевизор и, не сказав ни слова, лишь метнул на жену гневный взгляд, оделся и вышел из дому. Он не хотел при Клавдии Ивановне начинать острый семейный разговор. Не понимая, в чем тут дело, Клавдия Ивановна спросила по простоте душевной:
- Что ж она, дочка-то ваша, пела или плясала? А может, стихи читала?
- Да нет, что ты, Клава, обознались они, - поспешила с ответом Лугова, но сама не верила в то, что говорила. Она поняла: муж не напрасно взбешен, поняла по его молниевому взгляду, по резким жестам, по тому как он нахлобучил на голову треух и, хлопнув дверью, даже не простясь с Кауровой, ушел. Она старалась не смотреть на сына, дабы только он не встрял в разговор и не стал опровергать ее, и попыталась увести гостью на кухню. Но Клавдия Ивановна, заподозрив в поведении Константина Сергеевича что-то неладное, сказала, что она и так засиделась, и, поблагодарив хозяйку, ушла к себе.
Проводив Каурову, мать, озабоченная и, пожалуй, взволнованная, вошла в комнату сына. Коля стоял у окна и смотрел на улицу. Она спросила с легким укором:
- Что это отец-то наш подхватился, словно на пожар. Куда он? - Коля не ответил и не обернулся.
- Нет, вы обознались, Лада занимается. Кто ее туда пустит на этот телевизор.
- Значит, пригласили, - сдерживая раздражение, ответил Коля.
- Быть не может. Она б сказала, уж похвалилась бы.
- Было б чем хвалиться. - Ухмылка скривила безусое лицо Коли. Теперь он стоял спиной к окну. - Словом, мама, урок не пошел в прок… А бульдога этого я где-то видел.
- Какой урок, что ты мелешь, - сердилась мать. И как все матери, она не хотела допускать и мысли о каком-нибудь плохом поступке своей дочери. Уже уходя в кухню, недовольно и с натянутым недоумением прибавила: - Вон и отец хлопнул дверью. А чего хлопать - сам не знает.
Константин Сергеевич и в самом деле не знал, почему он хлопнул дверью. Вернее, вначале, когда надевал на себя пальто и нахлобучивал на голову треух, он был убежден, что дочь провинилась, а когда вышел на улицу и вдохнул пахнущий весной сладковатый мартовский воздух, вдруг понял, что он не знает, в чем именно состоит ее вина. Его возмущало, что дочь была в каком-то кабачке, называемом молодежным кафе, среди развязных кривляк, слушать которых он был не в силах. А ей, выходит, нравится. Что ей на это скажешь, в чем упрекнешь? Да она тут же ответит, что их смотрят и слушают миллионы телезрителей. Тебе не нравится - можешь выключить телевизор или переключить на другую программу. А там - Большой театр - элеватор. Этот мысленный спор с дочерью охлаждал его вспышку и одновременно злил, потому что в споре этом он не мог убедительно доказать свою правоту, потому что его доводы были несколько субъективны. А ложь? Ведь она солгала: сказала, что пойдет к подруге уроки делать, а сама… Это же второй случай возмутительной лжи. Выходит, поездка на турбазу ее ничему не научила. И вообще, она плюет на мнение родителей. Взрослая? Нет, пока ты сидишь на моей шее, будь добра вести себя… Выйдешь замуж, уйдешь из моего дома, тогда хоть на голове ходи.
Казалось, он нашел достаточно веские основания для упреков. И прежде всего - ложь. Лжи он не потерпит. И недоумевал: почему не может найти общего языка с дочерью. Вот ведь с Колей - все отлично, никаких недоразумений. Растет хороший, правильный парень, работает, учится, радует родителей. А ведь говорят, что мальчишки - народ более трудный, чем девчонки. У Луговых же все наоборот. "А может, мы сами в чем-то виноваты, может, не нашли верный подход к ней, не тем ключом открывали этот ларчик. Дело прошлое - история с поездкой на турбазу. Поговорили, пошумели между собой. А главная виновница - Лада - осталась как-то в стороне. Поняла ли, осознала ли она всю глупость своего поступка, позор свой?" Вот в чем вопрос, и ответа на него Константин Сергеевич не находил. Что у ней на душе, в мыслях? Чем она живет, к чему стремится, что любит и что ненавидит? И как поступить сегодня? Отец прав - криком, пожалуй, делу не поможешь. Нужно просто поговорить, спокойно, толково, чтоб понять друг друга.
С такими мыслями примерно через час Константин Сергеевич возвратился домой. Лады еще не было. Он молча разделся, взял газету и прилег на диван. Дверь в комнату, где занимался Коля, была открыта. Из кухни позвала жена.
- Чего тебе? - недовольно откликнулся Константин Сергеевич.
- Ну поди же, поди, дело есть.
Во время отсутствия мужа она уже поговорила с сыном и окончательно убедилась, что ничего такого не случилось. Конечно, нечего ей там делать - дите еще. Да к тому же ложь. Тут она не находила оправдания дочери. Константин Сергеевич нехотя поднялся, пошел в кухню, стал в дверной раме.
- Ну? Слушаю.
- А ты присядь, возьми табуретку и садись.
- Ну, говори, говори. Может, мне стоя удобней тебя слушать.
- Ты что ж это убежал, не попрощался с Клавой, никому ничего не сказал. К чему такое, Костя? Вспылил неизвестно из-за чего. Ты руководи собой. Подчиненными руководишь, и, говорят, неплохо, а собой не можешь. Ай как не хорошо!
И от ее полушутливого ласкового тона, который был хорошо знаком ему и который всегда гасил его вольные и невольные вспышки, Константин Сергеевич тепло, признательно заулыбался и сказал примирительно:
- Ну ладно, ладно. Вот придет она, и мы все спокойно выясним. Только мне не мешать: первое слово я скажу. А с Клашкой мы сочтемся - свои люди. В цех собирается прийти. Думаешь, и впрямь соскучилась?
- А почему б и нет. Все ж таки свое, родное. Завод - тот же дом.
- Конечно, конечно. Только я ее насквозь вижу. Литейщики подводят механический. То есть, ее сына подводим. Порядком брак даем. Вот она и решила нас поучить.
- И то дело, и надо вас учить. Что ж, так и будете брак поставлять. Молодец, Клава, коли так.
- Ну-ну, пусть поучит. Девчонки у меня с формовочной зубастые.
- Так ведь не зубами же форму делают, а руками.
Ужинали без Лады - не стали ждать. Но спать не ложились и о ней не говорили, помалкивали. Она пришла веселая, довольная. Глаза блестят вкрадчиво и виновато.
- Вы уже поужинали? - спросила машинально, чтоб что-то сказать. Не отрываясь от книги, отец спросил:
- Что так долго? - Он читал толстую "Куклу" Болеслава Пруса. Увлекся.
- Засиделись, - ответила скороговоркой и ушла в комнату, где занимался Коля. Мать спросила вдогонку:
- Где ж это так долго засиделись?
- У девочки. Из нашего класса, - донесся до них уверенный ответ. Родители переглянулись. Ответ был столь естественный, что у матери снова появилось сомнение: ошиблись насчет кафе, обознались. Да и отец уже готов был поверить ей. И тогда Коля вышел в комнату, где сидели родители, и, покачивая головой, возмущенно произнес:
- Ну и ну… - Выждав паузу, спросил появившуюся в дверях сестру: - А кто этот, что с тобой сидел… с квадратным лицом?
- Где? - быстрым изучающим взглядом пробежала по лицам родителей.
- За столиком. В кабачке, - пояснил отец, - теперь уже отложивший в сторону "Куклу".
Она все поняла: знают, видели. Вспышка смущения легкой тенью скользнула по ее лицу лишь на миг и тут же погасла. Сказала совсем весело, как ни в чем не бывало:
- А-а, вы смотрели? Правда, было интересно?
"Актриса", - подумала мать и, прикрыв веками глаза, тяжело вздохнула.
- Погоди, я что-то не пойму. Где было интересно? У подруги? - Голос отца пока еще ровный, но уже на пределе, готовый сорваться.
Его вопрос несколько сбил с толку дочь, но по лицам брата и матери она догадалась, что ее видели по телевидению. Сказала тоном капризного ребенка и надула пухленькие губки:
- Да что вы меня разыгрываете! Ну знаю же - видели. Смотрели передачу из молодежного кафе? Нас пригласили, было очень интересно. Ты знаешь, Коля…
- Кто пригласил? - перебил ее скороговорку твердый вопрос отца.
- Знакомые ребята.
- Ребята или дяди? - Это спросила мать.
- Да что ты, мама, ну, конечно, ребята, с которыми встречала Новый год, - быстро ответила Лада и немножко смутилась.
- Тот самый? С которым на турбазу ездила? - Этот вопрос отца прозвучал жестоко. Лада вспыхнула, ресницы затрепетали, глаза заблестели слезой. Мать решила смягчить накаляющуюся атмосферу, заговорила своим обычным примирительным тоном:
- Нас что беспокоит? Неправда. Ты опять говоришь нам неправду. Сказала, что занималась у подруги. Оказывается…
- Ложь, снова ложь, - не удержался Константин Сергеевич.
- Никакой лжи нет, - ответила Лада. - Сперва занимались. Потом за нами заехали эти ребята…
- Какие? Что-то знакомое лицо. Тот, что с тобой сидел, это кто? - спросил Коля.
- Драматург. Ты его не знаешь, - отмахнулась Лада и быстро продолжала, уклоняясь от прямого ответа: - Сказали, что будет интересно, и мы поехали.
- И действительно было интересно? - спросил отец.
- Очень. Выступали талантливые известные артисты, поэты, композитор Грош.
- Грош - это что, цена композитора? - съязвил Коля.
- Предел остроумия, - Лада метнула на брата короткий презрительный взгляд. Но Коля не обиделся и с улыбкой снова спросил:
- А драматурга как фамилия? По-моему я его знаю.
- Нет, ты его не знаешь, - ощетинившись, бросила Лада.
- Ну, что ж ты не хочешь назвать, если он - знаменитость. Что ж тут такого. И нам интересно, - уже мягко попросила мать.
- Макс Афанасьев. Смотрели кино "Гибель батальона"? Вот это его фильм, - ответила Лада даже с некоторой гордостью.
- И пьеса "Трое в постели" - тоже его, - уточнил Коля нежелательную для Лады деталь.
- Ничего себе компания, - съязвил Константин Сергеевич и продолжал допрашивать: - Значит, тебе очень понравилось? И этот, с лошадиной шеей? Гость из Минска?
- А вам не понравилось? - с каким-то непосредственным удивлением, в свою очередь, спросила Лада. - Да что вы, его так принимают! У него такой сильный голос!
- На батарее команды подавать, - заметил отец. - А приличную песню этим голосом не споешь. Только испохабишь.
- Папа, ну как ты не поймешь - это эстрада. Там своя специфика, свои песни.
- Ну да, ну да, там все свое, - в тон проговорил отец. - Там даже звезды свои - шестиконечные. Ты не знаешь, что они обозначают?
- Ну, папа, ты придираешься. Нельзя ж на занавес пятиконечные звезды, - возразила Лада. - Что тут особенного. Вон и журнал "Юность" разбивает стихи шестиконечными звездочками.
- Во всяком случае, дочь, и ты это хорошо себе запомни: разница огромная, как два полюса. И наша звезда, советская, пятиконечная. Под этой звездой наши соотечественники ходили на смертный бой за нашу, Советскую, власть. А шестиконечная звезда - знак государства Израиль. Каждому светят свои звезды. И ходить тебе с этим, который сочиняет про Троих в постели, я решительно не советую. Если ты уважаешь себя и нас… Вот так-то, дочь. И, на наш взгляд, ничего там, в этом кафе, хорошего не было. Цинизм. Эти угрозы превратить Большой театр в элеватор. Большой театр!
Последнюю фразу Лада не поняла. Сказала:
- А при чем тут Большой театр, элеватор?
- Папа перепутал, - улыбнувшись, поправил Коля. - Как раз в то самое время, когда вас показывали, по другой программе шел фильм "Жизнь - хорошая штука, брат". Фильм дрянь, но там есть подленькие реплики.
- А я считаю, дети, это одно и то же - и фильм и концерт из кафе - одно другого стоит. А теперь иди ужинать да ложись спать. Завтра на свежую голову все взвесишь, подумаешь и, может быть, поймешь, где настоящее искусство, а где - "Трое в постели".
Такой финал больше всего удивил мать и сына. Не нашел Константин Сергеевич для дочери других слов, возможно, потому, что все остальное он высказал ей до этого, высказал мысленно, когда вскипяченный ходил по улице Добролюбова.
Уже в кухне, за ужином, Лада сказала Коле, что Макс Афанасьев приглашает ее сниматься в кино.
- "Трое в постели"? И ты, разумеется, будешь третьей - Злая ироническая улыбка сверкнула в глазах брата. - Ну-ну. Только имей в виду - там третьих лишних не бывает.
- Где там?
- У этих твоих новых гениев.
- А я не понимаю, почему ты о них так говоришь.
- Потому, что ты, Ладка, или еще совсем ребенок, или непроходимая дура. Потому и не понимаешь.
Сказав это с ожесточением, он круто повернулся и ушел к себе.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. ПОДЛОСТЬ ИЛИ БЛАГОРОДСТВО?
Предстоял трудный день. На повестке дня заседания парткома завода было два вопроса: прием в партию и улучшение организации производственного процесса. По первому вопросу выступил Глебов, по второму - член парткома Гризул.
Утром Емельян пришел на завод раньше обычного: за полчаса до смены. В проходной он столкнулся с директором.
- Решили пораньше? - удивился Глебов, поздоровавшись.
- Я всегда в это время, - ответил Борис Николаевич.
Глебов почувствовал себя неловко.
В середине дня в кабинет к Гризулу зашел - как всегда, сияющий - Алик Маринин. Он пожал руку главному инженеру и присел не в кресло, а на подлокотник, давая понять, что забежал ненадолго.
- Ты сегодня именинник? - пошутил Николай Григорьевич, имея в виду прием Маринина в партию.
- Это сложная процедура? - поинтересовался Алик.
- Да нет. Нынче все гораздо проще. Прежде было волынисто, а теперь чисто формально. Проголосуем, утвердим, я скажу несколько теплых слов в твой адрес. И все.
- Могут быть вопросы ко мне?
- Вряд ли, - Гризул поморщился.. - Разве что какой-нибудь Лугов или Шахбазов спросит, почему в Доме культуры не проводятся вечера на патриотические темы.
- Как это не проводятся? - Маринин вскочил с места и забегал по кабинету. - Разве в День Советской Армии плохой был вечер?
- Так и ответишь, - успокоил его Николай Григорьевич.
Помолчали. Потом Маринин вдруг заговорил, точно вспомнил что-то, хотя именно из-за этого он и завернул к Гризулу:
- Послушай, Ника, ты много делаешь добрых дел, история этого никогда не забудет. Не мог бы ты сделать еще одно? Очень нужно.
Гризул насторожился, но по-прежнему продолжал стоять у окна и смотреть во двор, заложив руки за спину. По движениям его пальцев. Маринин догадался, что Гризул слушает, хотя просьба не вызывает в нем особого энтузиазма.
- Надо устроить на завод одного человека, - продолжал Маринин, наблюдая за пальцами Гризула. - Хороший парень. Работал на одной базе. Вышла маленькая неприятность - помощник подвел. Его хорошо знает Поповин.
- Вместе бизнес делали? - отозвался Гризул и, круто повернувшись, пошел за письменный стол. Что-то записал в календарь и твердо сказал: - Не могу.
- Почему, Ника? - удивился Маринин и заглянул в глаза Гризулу. - Хороший парень. Не подведет.
- Ты и за Полякова ручался, а он работает плохо и, кажется, влип в какую-то историю, кстати, вместе с Поповиным. Вообще, с этим делом надо кончать. По твоей просьбе я уже взял на должность начальника технического отдела человека, который… не тянет.
- Этот потянет - золотая голова, - настаивал Маринин.
- А куда я его возьму? Нет свободной должности.
- Должность можно придумать. Не должность украшает человека, а человек украшает должность. Это же в твоей власти.
- Надо мной есть директор, пойми.
- А он что, не покладист?
- Осторожен и любит порядок. И Глебов. С этим не сговоришься.
- И долго он будет?
- Долго не долго, а сам не уйдет, - довольно прозрачно намекнул Гризул.
Маринин посмотрел на часы:
- Увидимся в парткоме. - И уже с порога: - Ну так я скажу этому парню, чтоб зашел к тебе? Между прочим, его рекомендует Матвей Златов.
И Гризул сдался, буркнув недовольно, со вздохом:
- Хорошо.
Заседание парткома началось с обсуждения вопроса о приеме в партию Романа Архипова и Александра Маринина. Предстояло утвердить решение первичных организаций. В кандидаты партии Архипов вступил еще во флоте, военным моряком. Коммунисты цеха, где он работал теперь, единогласно голосовали за него, уважая Романа как производственника и активного общественного работника. Лишь кузнец Шахбазов задал Роману Архипову единственный вопрос:
- Ответь, дорогой, почему последний год так мало приняли ребят в комсомол? Как секретаря тебя спрашиваю. Молодежи на заводе сколько, знаешь?.. Ээ-гэ! - Он сокрушенно покачал головой, произнося гортанный звук и прищелкнув в завершение языком. - А комсомольцев сколько? И половины не наберешь. - Спросил, не ожидая ответа, так как и без того было ясно для всех, в чем причина. - Плохо работаете с несоюзной молодежью. Нехорошо.
- Это наша слабинка. Постараемся исправить, - краснея, тихо ответил Роман.
С Марининым все было сложнее. На партсобрании заводоуправления при рассмотрении заявления Маринина выступил Гризул. Он дал Александру Александровичу блестящую характеристику во всех отношениях. При голосовании же почти половина коммунистов воздержалась, и решение о приеме его в партию было принято большинством в три голоса. Формально требование Устава соблюдено. "Но почему два десятка коммунистов молчаливо отказали Маринину в доверии? - недоумевал Глебов, читая протокол собрания. - Почему никто не выступил и не объяснил своего отношения к директору Дома культуры?" Никто не задал даже вопросов. Кроме этого, было еще одно "но", совсем неожиданное для Маринина. Примерно за неделю до этого Глебов познакомился с автобиографией Маринина, которую он писал еще в начале пятидесятых годов. Перечисляя свои заслуги перед Родиной, Александр Александрович, в частности, сообщал, что помог органам разоблачить врага народа П. П. Постышева. Глебова это сбило с толку: кто же все-таки этот вездесущий Александр Маринин? "Ознакомить членов парткома с этим довольно пикантным фактом автобиографии Маринина или промолчать, - думал Емельян. - В конце концов, дело прошлое. И не он один в те годы совершал глупости из вполне честных побуждений". В тридцать седьмом году Маринину было двадцать лет и работал он в то время в Киеве во Дворце пионеров. Постышев много уделял внимания школе и пионерии. Маринин ставил себе в заслугу трагическую гибель верного сына партии, старого революционера, руководившего сибирскими партизанами. Постышев открыто, с присущими ему мужеством и прямотой, выступил против репрессий. Рядом: Маринин и Постышев. Какая чепуха, смешно. И Глебов решил не придавать значения деталям давнишней автобиографии Маринина, о которой Александр Александрович, быть может, уже и забыл.
Маринин держался на парткоме чересчур бойко. Глебов, докладывая о Маринине, обратил внимание на то, что в первичной парторганизации почти половина коммунистов воздержалась. Первым протянул руку для вопроса Шахбазов. Емельян ему кивнул в знак согласия.
- У меня такой вопрос к Александру Александровичу, - сверкнув на Маринина темными глазами, сказал кузнец: - Скажи, дорогой, что ты делал в годы войны?
Тот неторопливо встал, крепко сцепил пальцы на груди, потом быстро засунул руки в карманы темного пиджака и тотчас же вынул их, спрятав за спину.
- Мне приходилось много бывать на войне, - начал он спокойно, поочередно обводя взглядом присутствующих. - Я руководил концертной бригадой, которая обслуживала наших доблестных воинов. Мы выступали в разных местах: в госпиталях и на передовой. Одним словом, мы были теми, кого образно называли "доноры духа".
- Как, как? - не понял Емельян, устремив на Маринина взгляд.
- В первый раз слышу такое выражение, - заметил Посадов и проворчал, заерзав на стуле: - Не многовато ли?
Поднялся Глебов:
- Если говорить по существу, то "донором духа" советского народа и армии в годы войны была наша партия, Именно она зажгла в людях священный огонь патриотизма. Я так понимаю? - Опершись руками о стол, он добавил: - Еще вопросы к товарищу Маринину?
Подняв острый подбородок, скороговоркой заговорил Константин Лугов хрипловатым голосом:
- Что так поздно надумал вступать?
Вопрос, конечно, не очень существенный, поморщился Емельян, но промолчал: в конце концов, каждый вправе спросить, что его интересует. Очевидно, Маринин предвидел этот вопрос, потому что ответил сразу, без запинки:
- Раньше я не мог. Я видел в годы культа произвол. Коммунисты молчали. Рядовые члены партии были бессильны что-либо сделать. Я не хотел брать на себя моральной ответственности за преступления.
Ответ вызвал гневное оживление. Первым сорвался Посадов:
- Черт знает что!
- Выходит, по-вашему, товарищ Маринин, - вслед за Алексеем Васильевичем проговорил директор завода, - все мы, вот здесь сидящие, несем моральную, как вы сказали, ответственность за незаконные репрессии в период культа? Так?
Маринин стушевался. Мысленно укоряя себя за необдуманный шаг, он выпалил первое, что пришло на язык, лишь бы разрядить непредвиденно сгустившуюся атмосферу.
- Вы меня не поняли. Я не то хотел сказать.
- Заговорился, Александр Александрович, зарапортовался, - с деланным добродушием пожурил его Гризул в надежде как-то замять неприятный разговор. Но это было не так просто. Ответ Маринина всем показался ясным и определенным. Не успел Гризул закончить фразу, как задал вопрос Константин Лугов:
- А как вас еще иначе понимать?
Маринин видел, что попал в дурацкое положение. Надо было как-то выкручиваться и отвечать Лугову, этому несносному крикуну. И Александр Александрович объяснил, не сводя мягкого, покорного взгляда с начальника литейного цеха:
- Видите ли, дорогой Константин Сергеевич. В то время один мой дальний родственник по линии матери жил за границей, точнее говоря, в Латинской Америке. Конечно, я должен был об этом написать в анкете и, конечно, меня не приняли бы по этой причине. Два года назад этот родственник, к счастью, скончался.
Маринин вдруг замолк. Создалось впечатление, что он не закончил фразу. Все зашумели. Уж очень нелепым показалось его объяснение, смехотворно и цинично прозвучало это слово "к счастью". Гризул не находил места, нещадно в душе обзывая Маринина кретином.
Глебов поднял руку, призывая к тишине и вниманию. Он решил, что при таком обороте дела не имеет смысла скрывать от членов парткома некоторые подробности давнишней автобиографии Маринина.
- Честно говоря, товарищ Маринин, вы немного запутались и нас хотите запутать.
- Я волнуюсь, Емельян Прокопович, - признался Маринин и, достав платок, стал вытирать лицо, чтобы показать, что он действительно волнуется.
- Волноваться не надо. Давайте разберемся спокойно, - продолжал Глебов. - Оставим в стороне ваших латиноамериканских родственников. Мы знаем, что в нашей партии есть коммунисты, имеющие родственников за границей. И никто их за это не казнит. Это, так сказать, плод вашей фантазии или вашего волнения. Я хочу напомнить вам о другом, о более существенном. Вот вы говорите, что коммунисты молча взирали на беззакония периода культа личности… Разные были коммунисты. Вам известно такое имя - Павел Петрович Постышев?
Глебов спокойно посмотрел в глаза Маринину. Емельян был далек от каких-то "психологических этюдов". "Вспомнит или нет? - думал он. - Сам расскажет или придется напомнить?"
- Постышев? Как же, наше поколение хорошо его помнит. В школе еще был лозунг: "Учиться на три "П", то есть: Павел Петрович Постышев, - отозвался Маринин и отвел глаза от Глебова, который продолжал стоять, глядя на Маринина.
И по тому, как задрожали губы Александра Александровича, как растерянно забегали глаза, Емельян Глебов понял, что Маринин ничего не забыл и сейчас должен заговорить об автобиографии. Глебов ждал, но Маринин упрямо избегал его взгляда, и похоже было, что не собирался сам рассказать о том, чего от него ждали собравшиеся.
- Вам приходилось лично встречаться с Постышевым? - спросил Глебов.
Теперь Александр Александрович окончательно убедился, что этот вопрос задан ему неспроста. Он помнил все, а не только какие-то две строчки автобиографии. Правда, именно на эти две строчки он в свое время возлагал немалые надежды: цель была определенной - сделать карьеру. Теперь он вспомнил и заявление, которое подписал вместе с двумя другими парнями. Одного, кажется, звали Магидов. Не так давно он случайно встретил его в Доме журналиста. Заявление было мерзкое, грубо инспирированный донос. Маринин действительно однажды слушал выступление П. П. Постышева. В перерыве Павла Петровича окружили слушатели, задавали вопросы. Кто-то спросил: "Можно ли дружить с мальчиком, отец которого репрессирован как враг народа?" - "А почему же нельзя? Дети за поступки родителей не отвечают", - ответил Постышев. В кляузе, которую подписал Маринин, говорилось, что Постышев, сойдя с трибуны, в кулуарах призывал к милосердию по отношению к врагам народа, усыпляя бдительность, и непочтительно отзывался о действиях карательных органов. Александр Александрович не сам писал это заявление, писал кто-то другой, а он лишь подписал и затем гордился этим своим поступком. Он был убежден, что именно это заявление послужило основным обвинительным документом в "разоблачении врага народа Постышева".
Маринин уже пожалел, что затеял всю эту историю со вступлением в партию. Пытаясь сохранить спокойствие, сказал Глебову:
- Да, я слышал его выступления в Киеве. Великолепный оратор и вообще обаятельный человек.
- Это вы теперь так считаете или и тогда так думали? - Голос Глебова зазвучал тверже, настойчивее.
В голове Маринина мелькнула мысль: "Здесь все знают". И он рассказал, как это было. А когда закончил, в кабинете воцарилась странная тишина, которую никто не решался нарушить.
- Вопросы к товарищу Маринину есть? - спросил Глебов.
И снова настороженная тишина. И снова спокойный голос Глебова:
- Кто хочет говорить?
Глебов и Борис Николаевич одновременно посмотрели на Гризула. Это было вполне естественно: Гризул рекомендовал Маринина в партию, выступал в поддержку Маринина на партсобрании в заводоуправлении, должен и здесь выступить, и, быть может, первым. Николай Григорьевич понимал, что выступать ему надо непременно. Оценивая сложившуюся обстановку, он понимал, что его положение будет не из легких. В голове рождались различные варианты выступления. Маринин, конечно, свалял дурака, отвечая на вопрос Лугова. Не ожидал Николай Григорьевич от него такого опрометчивого ответа. Может, отказаться и послушать, что скажут другие. Может, будет резон выступить и сказать: не знал, мол, я об эпизоде с Постышевым, а посему беру свою рекомендацию обратно. Пожалуй, можно еще выразить и сожаление, что несколько легкомысленно поступил с рекомендацией.
- Желательно бы послушать рекомендателей, - предложил Ян Витольдович Варейкис.
Николай Григорьевич встал, взглянул исподлобья на Варейкиса и заговорил, сквозь зубы процеживая слова:
- Я выступил бы и без напоминания, Ян Витольдович, Александра Маринина я знаю лет двадцать. Знаю его как работника идеологического фронта, способного, я бы сказал, талантливого в своем деле человека, который все свои силы, энергию, опыт отдает большому и ответственному делу воспитания масс. Великолепный организатор, он сумел за сравнительно короткий срок наладить работу нашего Дома культуры. Не будучи формально коммунистом, он честно, добросовестно, с присущей ему энергией и принципиальностью проводит в массы, в рабочую среду идеи партии по культурному воспитанию, уделяет внимание молодежи. Как человек эрудированный, он пользуется авторитетом и уважением среди художественной интеллигенции столицы. Я считаю, что Александр Маринин достоин быть в рядах Коммунистической партии. Решение партийного собрания предлагаю утвердить… Что же касается эпизода с Постышевым, о котором с присущей ему прямотой рассказал Александр Александрович, то, я считаю, он не должен иметь какое-либо влияние на наше решение.
Членов парткома охватило волнение, в котором Гризул почувствовал нарастающий протест. Поправив очки, он с невозмутимостью уверенного в себе человека продолжал:
- Давайте посмотрим на это трезво, с позиций сегодняшнего дня. Я не думаю, чтоб кто-нибудь из вас считал, что Постышев был арестован на основании какого-то мальчишеского заявления. И смею вас уверить, что оно, несомненно, не фигурировало в деле Постышева. Поступок Маринина объясняется очень просто. К нему обратились… он подписал, искренне веря, что совершает благородный, патриотический поступок.
- Подписывать заведомую клевету вы считаете благородным поступком? - задвигался на стуле Варейкис. Темная глыба качнулась на светлом фоне окна.
Гризул не успел открыть рот, как его перебил Посадов:
- Позвольте вас спросить, Николай Григорьевич, я продолжаю реплику Яна Витольдовича: в таком случае, что же вы называете подлостью, если вы заведомую клевету выдаете за благородство?
- И патриотизм! - выкрикнул Шахбазов.
- Он, как и все мы, здесь сидящие, верил Сталину, - спокойно продолжал Гризул, но его снова перебил репликой Лугов:
- Он не верил! Он сам говорит, что потому и в партию не хотел вступать.
- Это была, по-моему, оговорка, - ответил Гризул. Незаметно он все глубже втягивался в полемику, давая волю чувствам. - Товарищи, надо исходить из реальной обстановки, из конкретной действительности. Мы же не исключаем из партии тех, кто во время культа совершал куда более серьезные проступки, опять-таки в силу известных исторических условий, а не по злому умыслу.
Глебов без труда разгадал не столь уж хитрый, сколь подлый ход Гризула, который речь свою закончил так:
- Маринин работает на нас. Он идет в партию, желает быть в наших рядах, и мы не имеем права в этом отказать ему. В конце концов, наш долг, наша обязанность помогать таким товарищам, как Маринин, воспитывать их, а не отталкивать.
И не успел он сесть, как этот эффектный конец его речи был подпорчен неожиданной репликой молчавшей аппаратчицы Кати Литвинец:
- Партия - не колония для трудновоспитуемых, Николай Григорьевич. Партия - передовой отряд, авангард. Коммунист - это пример совести, честности, порядочности. А я не верю Маринину. Не верю!
- Вы хотите слова? - обратился к ней Глебов.
- Я уже свое слово сказала, - покраснев, ответила Литвинец. - Я буду голосовать против.
Поднялся директор. Посмотрев на Глебова, попросил слова. Борис Николаевич начал негромко и неторопливо:
- На собрании я воздержался при голосовании. И если бы меня спросили почему, я, пожалуй, не смог бы тогда ответить. Какой-то внутренний голос подсказывал мне, что не дорос товарищ Маринин до высокого звания коммуниста. Теперь я вижу - чутье мне не изменило. Меня несколько удивляет позиция Николая Григорьевича, его попытка оправдать поступок товарища Маринина. И попытка, прямо скажу, безнадежная. Товарищ Литвинец сказала коротко, но ясно, и я с ней согласен. Партия - авангард народа, и она принимает в свои ряды достойных. Я считаю, что товарищ Маринин не достоин быть в ее рядах.
Затем слово взял Посадов.
- Вопрос, по-моему, совершенно ясен и не требует длинных речей. Товарищ Гризул меня, как и Бориса Николаевича, тоже удивил, поэтому я и задал вопрос: что ж такое подлость, если считать поступок Маринина благородным? Товарищ Гризул готов во всем винить Сталина, в данном случае и в том, что Маринин написал ложный донос… на Постышева.
- Не написал, а подписал, - поправил Гризул.
- Это не имеет значения, - отмахнулся Посадов и, сделав паузу, повысил голос: - Подписал - значит, отвечает! Не могли ж писать одновременно трое. Писал один, подписали все вместе!.. Я хочу сказать еще вот о чем. В течение трех лет мне приходилось сталкиваться с Александром Александровичем по работе. Часто слышал от него достаточно резкие слова о произволе и беззаконии в годы культа, о репрессиях и невинно пострадавших. Как-то слишком много, к месту и не к месту, по поводу и без всякого повода говорил об этом Александр Александрович. Я, грешным делом, подумал, что в этом есть что-то личное: не пострадал ли сам Маринин? Оказывается, нет, наоборот, писал доносы на невинных людей, коммунистов. Я знал Павла Петровича Постышева, поистине выдающегося деятеля партии. Мне больно сознавать, что к его репрессии приложил свою руку человек, который работает рядом со мной. Давайте называть вещи своими именами. Русский язык, пока его, слава богу, не изуродовала реформа, богат. В нем есть слова, которыми можно точно назвать поступок Маринина, - подлость и лицемерие.
Он разволновался и, тяжело дыша, сел, сжимая и разжимая кулаки. Наступила напряженная тишина, которую после паузы нарушил голос Глебова:
- Кто еще хочет говорить?
- А о чем, Прокопыч? И так все ясно. Надо голосовать, - ответил Лугов.
- Я хочу сказать несколько слов. - Глебов поднялся, заглянул в листок, лежавший перед ним. - Большую часть из того, что мне хотелось сказать, уже высказали другие товарищи. Это произошло потому, что мнения на этот счет у нас едины, точки зрения сошлись. Меня тоже удивило выступление Николая Григорьевича.
- Я говорил искренне и остаюсь на своей точке зрения, - вставил Гризул.
- Это ваше право, - продолжал Глебов. - Точно так же, как и мое право иметь собственное мнение по поводу вашей точки зрения. Вот вы, Николай Григорьевич, утверждаете, что товарищ Маринин - отличный работник идеологического фронта, воспитатель масс, или, как он сам себя назвал, "донор духа". Позвольте не согласиться с этой оценкой. Мне она кажется слишком завышенной. По-моему, нередко Александр Александрович направляет молодежь не в ту сторону, и линия, которую он проводит в вопросах культурно-массовой работы, - это не линия партии. Я имею в виду вечера, на которые приглашались не воспитатели, а, скорее, растлители. Душок ревизионизма нет-нет да и проявляется в деятельности товарища Маринина, о чем мы с ним уже не раз беседовали… Не хочу повторяться, об этом уже говорилось. Я никак не могу поверить, товарищ Гризул, что Маринин совершал свой поступок из благородных, патриотических побуждений. Вы меня простите, но это звучит цинично.
- А в нем все - сплошной цинизм, - бросил реплику Варейкис.
Никто не понял, кого он имел в виду - Гризула или Маринина. Не отвлекаясь, Глебов продолжал:
- В любые времена, в любой обстановке заведомая ложь считалась подлостью. И в те времена, о которых напомнил нам товарищ Гризул, были люди, которые, рискуя жизнью своей, отказывались давать ложные показания. А тут, видите ли, - патриотизм. Патриотизм, Николай Григорьевич, - это то самое, чего так недостает в работе нашего Дома культуры и его директора.
- И председателя общественного совета, - опять вставил Варейкис, имея в виду Гризула.
- А вечер, посвященный Дню Советской Армии! - невольно сорвалось у Гризула.
- Лично я не склонен считать его удачным, - ответил Глебов. - И тут наша вина, моя и ваша, Николай Григорьевич, как председателя совета. Занялись мы другими делами и не поправили товарища Маринина.
- А в чем вы считаете его неудачным? - Гризул заерзал на стуле. - Речь шла о советском патриотизме, о подвиге.
- Да, о подвиге, - повторил Глебов. - В слишком одностороннем толковании. В сущности, не ратному подвигу советского воина, а мужеству военнопленных был посвящен этот вечер. Именно об этом, и только об этом говорил и бывший советский офицер, затем узник гитлеровского концлагеря, и писатель, посвятивший все свое творчество теме военнопленных. Я ничего плохого не хочу сказать о военнопленных: судьба их поистине трагична, многие из них были настоящими советскими патриотами, проявили мужество и стойкость. И не зря наш замечательный скульптор Петр Васильевич Климов мечтает создать памятник мужеству узников фашизма. И при всем этом мы должны воспитывать нашу молодежь на примере тех, кто не поднял руки перед врагом, а сражался до последнего вздоха. Вы простите меня, что я несколько отвлекся. У меня на погранзаставе в первый день войны произошел такой случай. Два пограничника, Леон Федин и Гаврик Гапеев, были в наряде в роковое утро 22 июня сорок первого года. Лицом к лицу столкнулись с фашистами они в первый час войны. Федин поднял руки и сдался в плен. Гапеев умер, как герой, положив больше десятка фашистов, сорвал атаку ценой своей жизни! Тяжело сложилась судьба Федина. Бежав из плена, он сражался в тылу врага, в бою потерял зрение. В сущности, он спас мне жизнь. Но я отдаю предпочтение подвигу Гаврика Гапеева, который остался верен военной присяге.
Гризул решил держаться до конца: при голосовании он единственный из членов парткома поднял руку за прием Маринина в партию.
Закончив обсуждение первого вопроса, сделали перерыв. В приемной собрались приглашенные на заседание рабочие, мастера цехов, технологи. К Емельяну подошел Борис Николаевич и шепнул:
- Докладчик взвинчен. Может, есть смысл перемести обсуждение производственных дел на следующее заседание?
Емельян об этом думал и, прикинув все "за" и "против", ответил:
- Неудобно: народ собрался. Да и откладывать дальше нецелесообразно. А что взвинчен - может, это и неплохо, острей разговор пойдет.
Директор согласился. К ним подошел Гризул и взволнованно заговорил:
- Я не понимаю вас, товарищи. Ну, допустим, человек четверть века назад сделал грубую ошибку, совершил преступление. Но теперь же он осознал ее, стал другим. Даже с юридической точки зрения мы не можем, не имеем права поднимать этот вопрос из-за давности времени.
- Юридически - да, но в данном случае я не верю в превращение Маринина, - ответил Глебов. - Возможно всякое превращение, даже дурака в умного… Но в действительности такое превращение бывает редко. И по одной возможности превращения этого рода я не перестану дурака считать дураком.
Гризул выдержал многозначительную паузу и сказал:
- Коль уж дело дошло до цитат, то позвольте мне напомнить вам слова Герцена, которого, я полагаю, вы уважаете и цените. Так вот, он говорил, что обвинить гораздо легче, нежели понять.
Выпалив эти слова, Николай Григорьевич круто повернулся и отошел.
Трудно сказать, была ли тому причиной "взвинченность" Гризула, но доклад Николай Григорьевич сделал краткий, совсем не в его манере. Поповину своего выступления он посвятил успехам, которых коллектив добился за последнее время. Самое важное, что завод выполняет производственный план. Похвалил отдел главного конструктора, напомнив, что за пять лет создали пятьдесят новых машин и десять модернизировали. Сделал реверанс и в адрес секретаря парткома, который содействовал своим вмешательством быстрейшему внедрению в производство новой модели агрегата.
- Нас предупредили, что в нынешнем году не Урал будет поставлять нам стальное литье, а столичный завод "Серп и молот". Но земляки нас подводят, дают некачественное литье, тем самым ставят нас в затруднительное положение. - Николай Григорьевич говорил резко, начальственно. - Но нас выручили наши литейщики. За это спасибо вам, товарищ Лугов. Однако, Константин Сергеевич, мы вас хвалим за хорошее, а за плохое будем критиковать. Уж очень высокий процент брака в литейном цехе. Об этом, я думаю, подробно скажет товарищ Кауров, потому как механическому цеху приходится расплачиваться за это. Знаю, вы будете говорить, что формовочная земля плохая, оттого и брак. Но только ли в этом причина? Нет. В формах, товарищ Лугов, вы доводите температуру до шестисот градусов вместо трехсот. Факт. И прискорбный. Отсюда трещины в литье. Много шумят ваши ребята: "Мы - художники!" Пора кончать с этими "художествами".
Чтобы избежать упреков в пристрастном отношении к начальнику литейного цеха Константину Лугову, Гризул пожурил руководителей других цехов и служб. В частности, Каурова. Говорил о предприятиях-поставщиках, которые нарушают нормальный ритм работы завода, о том, что завод все еще много средств расходует на штрафы. Сказав обо всем понемногу, не сделав детального анализа и не дав серьезных предложений, Гризул кончил. Доклад его получился поверхностным и несобранным. Это чувствовал и сам Николай Григорьевич. Сразу же за ним попросил слово Борис Николаевич и начал с критики докладчика.
- Я ожидал большего от доклада. Прежде всего, хотелось бы выделить главное: найти основные наши недостатки и наметить меры по их устранению. План мы выполняем, даже перевыполняем. Но какой ценой? Штурмовщиной и снижением качества продукции. Ритмичность и качество - вот, на мой взгляд, те слабые места в нашей работе, от которых зависит и многое другое, в том числе и прогулы, и опоздания, и появление на работе в нетрезвом состоянии. Я давно просил главного инженера: дайте нам план ритмичности. До сих пор вы не дали мне такого плана, товарищ Гризул. Нам еще рано самообольщаться успехами. Да и вообще, это занятие для тщеславных. Создали пятьдесят новых машин за пять лет. Что ж, цифра внушительная. Но вы не сказали, Николай Григорьевич, об их качестве. А ведь они уступают лучшим мировым образцам. Что я имею в виду? Шум, - это очень важно. Меня удивляет, что товарищ Гризул, эрудированный инженер, часто бывающий за границей, как-то обошел этот вопрос в докладе.
- И на практике, - не утерпел Варейкис.
Гризул ухмыльнулся: на реплики председателя завкома он не обращал внимания, привык к ним, считая их старческим брюзжанием человека, которому давно пора на пенсию. Критика директора - это вещь неприятная. Неужто его выступление в поддержку Маринина повлияло на настроение Бориса Николаевича? А может, Глебов? Николай Григорьевич пытался найти разгадку, уловить ее в тоне, в жестах. А в это время до его слуха долетели новые слова директора:
- С начальником снабжения Поляковым нам, товарищи, надо что-то делать. Закупил массу ненужных заводу материалов. Лежат они без движения, заморозил средства. Потом начал их сбывать какому-то коммерческому складу. Словом, дело нечистое. Им занялся ОБХСС, будут выяснять…
"Небось Ефиму Поповину", - мелькнула в голове Гризула догадка, оставив неприятный осадок. И вспомнил он, что Поляков был принят на завод по рекомендации Маринина, но об этом на заводе никто не знал. Дело было еще при старом директоре, в случае чего можно на него свалить: директор, мол, подбирал "эту кадру". Теперь снова кого-то еще предлагает Маринин. Конечно, Алика можно было бы послать к черту. Но Златов? Этого не пошлешь. Слово Матвея Златова - закон и для Маринина, и для Гризула, и для Поповина… Нет, придется брать.
После директора выступил Сергей Кондратьевич Лугов, отец начальника цеха. Он говорил ласково, душевно:
- Мастерство… Какое хорошее, благородное слово! Бывало, слово "мастеровой" считалось самой высокой похвалой. А мы забыли это слово. Золотые руки. А как мы их ценим, золотые руки рабочего? А никак. Потому что уравниловка у нас. Хоть Иванов, хоть Петров - одна цена. А того не знаем, что Иванов может сделать вещь - закачаешься, любо-дорого посмотреть, блоху на ходу подкует, а Петров работает тяп-ляп - и готов корабль. Видит такое дело Иванов, что умельство-то его не ценится, и думает: а черт с ним, кому это надо? И тоже под Петрова работает. Вот вам и качество. А молодой паренек, который первый год к станку стал, он все это видит. И вы думаете, мечтает постичь тайны мастерства? Ничуть не бывало. А зачем ему? Потому как стимула нет. А я думаю, дай такое право нашему директору, скажем, рублем распоряжаться, платить, значит, по мастерству, по умению, уверен, качество другое бы пошло. И гордость мастерового появилась бы, и рабочую честь вспомнили бы, и, может, опять привилось бы забытое слово "умелец". Вот главному инженеру не понравилось, что литейщики себя художниками называют. А мне думается, это хорошо. Каждый рабочий должен гордиться своим трудом, видеть себя художником своего дела. Другое дело, что в литейном цехе разные есть люди - и художники и сапожники. Так вот надо нам художников примечать и привечать. Нельзя всех в одну кучу. Надо где-то этот вопрос ставить, чтоб зарплату подвижной сделали. Доска почета - она штука хорошая, а рублем тоже бить надо. И под конец мне хочется еще одну думку высказать, насчет вторых профессий. Разные тут споры ходили. Одни говорят - надо, а другие говорят: зачем они? Якобы и вовсе ни к чему. А я думаю, что все же надо нам учить вторым профессиям. Дело это надежное и себя оправдало. Скажем, заболел человек или в отпуск ушел. Срочно заменить надо, а некем. Вот тут и годится вторая профессия. Я кончил.
Николай Григорьевич слушал и думал совсем о другом: "Все это никому не нужная болтовня: разговоры, парткомы, собрания, речи, доклады. Живут же люди на земле без парткомов и делают красивые вещи… Надоело, надоело, надоело" - стучало в виски. Впервые он так явственно почувствовал, что презирает всех этих людей. Куда им, этим твердолобым и ограниченным, до него! Они только и способны на пьянки, прогулы. Отсюда и штурмовщина, штрафы. Все это было, есть и будет. К этому надо привыкнуть, как к неизбежному, как к зимним холодам, от которых можно укрыться лишь где-нибудь в жарких странах.
- Год, как лежит во дворе полученное с другого завода литье. Не используем. А за него денежки народные, государственные денежки плачены. Знаю, скажете - бракованное. А почему сразу не предъявили тому заводу претензию? Почему взяли заведомый брак? Может, потому, что там директором приятель нашего главного инженера?
Гризул очнулся. Кто это говорит? Андрей Кауров, молодой инженеришка, мечтающий совершить революцию в производстве. Сколько вас было, таких мечтателей-революционеров! Но откуда такая прыть? Получил повышение? Выскочка.
- Верно сказал докладчик, запороли у нас коленчатый вал. Это чепе. Я не снимаю с себя ответственности. Запорол Вадим Ключанский - разгильдяй из разгильдяев и первоклассный демагог, "гражданин Земли", как он себя величает. Всем помнится случай, когда ночью вместе со своим дружком Пастуховым Ключанский зашел в кузницу, включил молот и сжег. Говорят, были в нетрезвом состоянии. По административной линии мы тогда приняли меры. Но комсомол тоже не должен оставаться в стороне.
- Ключанский не комсомолец, - бросил реплику Роман Архипов.
- Пастухов комсомолец, - продолжал Кауров. Гризул подумал: "Почему я смолчал, почему не ответил на выпад репликой? Похоже, что началось наступление на главного инженера. Кто же возглавил его? Глебов? Ну что ж, Емельян Прокопович, давай пробуй. Только учти - расплата будет жестокой, пеняй тогда на себя. Ты не рассчитал свои силы, не учел силы своего противника. Не ты один - многие, между прочим, не учитывали, не тебе ровня. Не учитывали даже некоторые сидящие на вышках. Ах как красиво они летели оттуда вниз головой! Ну а тебе, Глебов, невысоко придется падать. Ты со своими ортодоксальными идеями высоко не поднимешься. Время ваше кончилось, настало наше время".
- Третий день не собираем насосы. Нет пустяковой шайбочки. Так рождается штурмовщина. Детали поступают в конце месяца. А до этого загораем. Потом гоним. Сверхурочно. Спешно. Штурмуем план и даем брак. А ведь сборочный цех - зеркало завода. Почему никто не позаботится, чтоб детали шли потоком? Сергей Кондратьевич правильно говорил о зарплате. Надо бы что-то придумать в отношении молодых рабочих. Приходят ребята на завод и, как правило, первые три-четыре месяца не выполняют норму и, естественно, мало зарабатывают и уходят. А нельзя ли для них в первые четыре месяца снизить норму? Это надо для пользы дела.
"Комсомолец дело говорит, - думает Гризул о Романе Архипове. - Парень талантливый, только упрямый. Изобретатель. Пожалуй, напрасно запретил я ему претворить в жизнь на заводе свое изобретение".
Последним говорил Глебов. Николай Григорьевич пришел в себя, стал прислушиваться к словам Глебова: посмотрим, мол, что смыслят в производстве партийные пропагандисты. Он ловит каждую фразу Емельяна Глебова на лету.
- Мы работаем на большую химию, поэтому должны сознавать свою ответственность, - говорит Глебов.
"Красивые слова, - мысленно комментирует Гризул. - Ответственность должна быть везде, на химию ты работаешь или на ширпотреб".
- Производственный отдел работает плохо. Даже готовую продукцию не можем вовремя отправить заказчику. Нарушая сроки отправки продукции за рубеж, мы не только несем огромные материальные убытки. Подумайте только: двести тысяч рублей штрафа мы уплатили за задержку машин и брак. Кроме того, большой моральный урон, подрываем престиж фирмы, в данном случае Советской страны.
Гризул знает, что производственный отдел действительно работает плохо. А Глебов уже говорит дальше:
- Нет у нас тесной связи с заводами-поставщиками, отсюда и многочисленные недоразумения, простои, задержки, штурмовщина. В итоге - низкое качество, а то и просто брак. Вообще, качеству продукции мы уделяем недостаточно внимания.
"Долдонит, как попугай, мысли директора", - ехидно думает Гризул, продолжая вслушиваться в речь Емельяна.
- Технический отдел медленно внедряет новшества в производство.
"Камешек в мой огород", - признает Гризул.
- Здесь никто не говорил о текучести кадров. А это наш бич, товарищи. Только за один год принято на работу шестьсот человек, уволилось пятьсот. Не уволены, а уволились. Почему? Причин тому много. Но в общем-то, от нас зависящие: мало думаем и заботимся о человеке. Недавно начальник отдела снабжения Поляков через весь двор, слышу, тоном фельдфебеля кричит рабочему: "Эй, ты, безрукий! Поди сюда на минутку!" Откуда такое высокомерное пренебрежение к человеку? Оказывается, рабочий этот - модельщик…
- Воробьев! На фронте руку потерял, - подсказал Константин Лугов.
- Два ордена и пять медалей имеет, - добавил Варейкис.
- Точно. Рабочий этот - товарищ Воробьев, коммунист, герой войны, - продолжал Глебов. - А вот где воевал Поляков, неизвестно.
- Как неизвестно? Известно, - снова перебил Варейкис. - На пятом украинском: Ташкент брал.
- Какое это имеет значение? - не выдержал Гризул. - А если бы Поляков воевал? Разве это дает ему право хамить? Речь идет о дремучем хамстве, а не о том, где кто воевал.
Глебова не смущали реплики главного инженера.
- Вот здесь Роман Архипов сказал, что Ключанский не комсомолец. Это-де не по его ведомству. Такой подход я считаю в корне неверным. Он наш, заводской, и долг комсомольцев повлиять на Ключанского, воспитать этого "гражданина вселенной".
- Нет, пока еще только Земли, - пошутил Кауров.
- Архипов напрасно о себе не сказал, - продолжал Глебов. - Ему и его товарищам запретили экспериментировать. Я думаю, Николай Григорьевич, вы им разрешите: ведь это будущие инженеры, рационализаторы, конструкторы. Пусть ребята дерзают.
Гризул в знак согласия закивал головой и сказал:
- Это была временная мера.
Пусть себе дерзают. Николай Григорьевич от всего устал. Бремя главного инженера, считай, самое тяжелое и неблагодарное на заводе. Это все равно что начальник штаба в армии. Николай Григорьевич давно мечтал найти более прибыльное и менее хлопотное место. Была неплохая вакансия в совнархозе. Но Гризул все взвесил и решил повременить. Потом друзья предлагали совсем приличную работу в одном государственном комитете. Положение, должность, минимум труда и максимум зарплаты. Можно, сидя на службе, писать докторскую диссертацию. А об этом Николай Григорьевич давно мечтал. Ом уже готов был дать согласие, но вмешался Матвей Златов. Я, мол, для тебя нашел дело поинтересней: Комитет по координации. Матвей - человек умный, опытный и со связями: ему верить можно. А вот почему-то тянет. Ждет, когда с помощью Глебова Николай Григорьевич получит выговор? Конечно, до выговора дело не дойдет. Глебов не усидит в своем кресле до выговора Гризулу. Надо как-нибудь напомнить Златову о себе.
Так рассуждал про себя Николай Григорьевич на заседании парткома. И после, когда шел домой один, не замечая ни огненного заката, ни синих теней на голубом апрельском снегу, ни бойких воробьев, возвещавших приход весны. Он думал только об одном: скоро поездка в Италию. Иван Петров обещал все устроить. Как, должно быть, очаровательна весна на Средиземноморье!
- Николай Григорьевич! - проскандировали у него за спиной несколько голосов.
Гризул испуганно вздрогнул, точно его поймали с поличным. Оказалось, это были ребята: Роман Архипов, Саша Климов и Коля Лугов. И сразу отлегло от сердца. Рассердившись на неуместную шутку, он угрюмо буркнул:
- Ну, что еще?
- Значит, нам можно теперь продолжать свои эксперименты? - спросил Роман.
- Кауров будет шефствовать над нами, - добавил Саша. Как-никак, мол, работаем под наблюдением инженера.
Николай Григорьевич давно недолюбливал Каурова и буркнул:
- А он вам зачем? Пятое колесо в телеге.
- Ну спасибо вам, Николай Григорьевич! - поблагодарили ребята и устремились вперед.
Гризула прошиб холодный пот. Несмотря на самоуверенность, страх не покидал его. Не было, пожалуй, дня, чтоб он не испытывал этого неприятного ощущения. Вот и сегодня: второй раз в течение дня. Сначала на парткоме, когда Борис Николаевич упомянул о Полякове, которым должен заняться ОБХСС, что-то неприятное кольнуло под ложечкой. Хотя, если подумать, отчего бы? С Поляковым у Гризула никаких отношений нет, если не считать, что он, зная этого жулика и дельца, принял его на работу. Чем они занимаются с Поповиным - это их дело, Гризул тут ни при чем. Хотя, пожалуй, Светлана и Макс правы: Поповин не знает меры, и от него надо быть подальше, как от греха.
"А с Глебовым надо кончать", - твердо решил Николай Григорьевич.
В это время Емельян Глебов в своем кабинете разговаривал с Борисом Николаевичем и Яном Витольдовичем, которые задержались после парткома. Старый рабочий коммунист Варейкис, человек резкий, но справедливый, не мог понять позиции Гризула в отношении Маринина.
- Хорошо, мы знаем: у них старая дружба, приятельские отношения и все такое. Но есть же еще партийность! Есть или нет, скажите? - настойчиво спрашивал Ян Витольдович директора и секретаря парткома.
- Вы его лучше знаете, давно с ним работаете, - улыбнулся Борис Николаевич.
- Да я-то знаю. Другие не хотят знать. Считают его примерным инженером и коммунистом. В активе ходит. А инженер он плохой. Дилетант и белоручка. Языком работает, для рекламы. Он умеет пыль в глаза пустить.
Борис Николаевич вздохнул и раздумчиво покачал головой. Присмотревшись к Гризулу за короткое время совместной работы на заводе, он все больше склонялся к мнению председателя завкома.
- Хорошо, - вдруг отозвался Глебов, - если это так, как вы говорите, а мне думается, что в этом есть солидная доля правды…
- Все сто процентов, - перебил Варейкис. Он любил вставлять реплики.
- Почему же нам не развеять миф о Гризуле? Доклад он сделал убогий, жалкий. Мне даже неловко было за него. Старик Лугов и молодой инженер Кауров и то куда серьезней говорили.
- Емельян Прокопович, - Борис Николаевич взглянул на Глебова, - вам, как бывшему работнику райкома, должно быть, ведомо, что не так просто развенчиваются мифы. У Николая Григорьевича сильная рука.
- Где? - стремительно спросил Глебов.
- Там, - директор кивнул на потолок.
- В небесах, - добавил Варейкис, и этот намек всех рассмешил.
- Сегодня снова звонили, - сообщил директор, - просили оформить ему командировку за границу,
- В седьмой раз! - воскликнул Варейкис. - Почему ему?
- Да, действительно, почему? Чем он лучше других? - спросил Глебов.
- Языки знает, - отозвался Борис Николаевич.
- Разве только он один знает? - возразил Глебов. - Насколько мне известно, вы, Борис Николаевич, тоже знаете. Я, например, немецкий знаю.
- А он знает франко-итальянский, - с иронией сказал директор.
- Есть такой язык? - поняв шутку, спросил Глебов.
- Почему бы ему не быть? - ответил директор. - Есть же франко-итальянские кинофильмы.
- Шутки шутками, товарищи, а дело серьезное, - поднялся со стула Ян Витольдович и зашагал по кабинету.
- Шутки, они тоже разные бывают. - Борис Николаевич вздохнул и добавил многозначительно: - Бывают и горькие.
- Я не подпишу рекомендацию, - заявил Глебов.
- Я тоже, - присоединился Варейкис.
- Пусть поедет Кауров, - предложил Глебов. - Молодой инженер, толковый работник. Начальник цеха. Я думаю, что от его поездки будет больше пользы.
- Подпишете. И вы и я - весь треугольник подпишет рекомендацию. И поедет главный инженер, - с унылой уверенностью произнес Борис Николаевич. - Потому что едет он по персональному приглашению: не Каурова, а Гризула приглашают итальянцы.
- Персонально? - переспросил удивленный Глебов.
- Именно. Его знают там. А Кауров что - зачем им какой-то Кауров! Так что подпишем.
Это прозвучало как веление рока, как неизбежная напасть, с которой приходится мириться. И потому они предпочли больше не говорить на эту тему, не бередить незаживающую рану.
Идя домой, Глебов продолжал думать об этом разговоре. Дать руководителям предприятий больше самостоятельности. Эти идеи уже давно бродят в рабочей среде. Разумные, рано или поздно они пробьют себе дорогу, сама жизнь поставит их на повестку дня. Но тот факт, что Гризул с особым рвением говорил о предоставлении директорам заводов большей власти, Емельяна настораживал. Он понимал, что Гризул и здесь видел личную заинтересованность, выгоду для себя. Какую? Гризул теперь был ясен для Глебова. "Если произойдет реорганизация в руководстве промышленностью в желаемом направлении, - рассуждал Глебов, - то Гризул и ему подобные непременно будут рваться в директора. Любой ценой - только бы получить пост самостоятельного руководителя предприятия, облеченного доверием и властью".
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. МОЗАИКА
После долгого, почти годичного перерыва Посадов собрал труппу народного театра. Это была вступительная беседа режиссера, на которой Алексей Васильевич изложил свои принципы, требования к актерам и цели театра. Многое из этого им было уже сказано три года назад, когда из кружков художественной самодеятельности образовался театр. Посадов решил повторить это сейчас перед значительно обновленным составом труппы.
Роман Архипов и Коля Лугов, занятые учебой в институте, вынуждены были уйти из труппы. Саша Климов остался; хотя он и готовился поступать в институт, но надеялся везде управиться.
Алексей Васильевич пришел на встречу по-особому собранным, одетым в новый костюм. Во всем его облике была печать праздничности. Говорил он, сидя за столом, напряженным от волнения голосом, иногда сверяясь с записями, сделанными крупным, размашистым почерком в толстой тетради, лежавшей на столе. Его состояние с первой же фразы передалось слушателям, которых собралось в небольшой комнате человек тридцать. Он говорил о роли театра в общественной жизни, о том, как по-разному понимают цели и задачи театра: для одних это был просто балаган, для других - храм искусства. И если балаган немыслим без пошлости и дешевого развлекательства, то храм не терпит ни крупицы того, что оскорбляет высокое чувство человеческого достоинства, не терпит фальши и цинизма.
- Мы хотим видеть театр таким, каким видели его гении сценического искусства Шекспир и Сервантес, Гоголь и Щепкин, Чехов и Станиславский, - рокотал крепкий, тугой голос Посадова, а светлые голубые глаза его теперь казались темными и суровыми. - После представления искусной и правильно поставленной комедии зритель уходит из театра, восхищенный происшествиями, умудренный рассуждениями, предупрежденный против плутней, наученный примерами, возмущенный пороками и влюбленный в добродетель, ибо хорошая комедия обязательно пробуждает эти чувства даже в примитивной душе. Это слова великого Сервантеса. Театр - школа воспитания масс. Он воспитывает человека, возвышает его и очищает. Михаил Семенович Щепкин как-то сказал: "По званию комического актера мне часто достается представлять людей низких, криводушных, с гаденькими страстями; изучая их характер, стараясь передать их комические стороны, я сам отделался от многих недостатков, и в том, что я сделался лучше, нравственнее, я обязан не чему иному, как театру".
"Театр - это любимая женщина, - говорил корифей русского, реалистического театра Константин Сергеевич Станиславский. - Театр - это любимый ребенок; бессознательно жестокий и наивно-прелестный. Он капризно требует всего, и нет сил отказать ему ни в чем. Театр - это вторая родина, которая кормит и высасывает силы. Театр - это источник душевных мук и неведомых радостей… Театр - это самая могущественная кафедра, еще более сильная по своему влиянию, чем книги и пресса. Эта кафедра попала в руки отребья человечества, и они сделали ее местом разврата. Моя задача, по мере сил моих, очистить семью артистов от невежд, недоучек и эксплуататоров".
Мы с вами, дорогие друзья, будем строить свой театр по заветам Станиславского, будем работать по его системе.
Алексей Васильевич встал, хмуро опустил голову и, подумав, глухо сказал:
- В нашей работе был перерыв. Я много думал о судьбе заводского театра. И пришел к выводу, что наш театр будет иметь успех только в том случае, если мы найдем для него отличный, оригинальный репертуар. Нам нужен театр мысли, а не протокольных фактов, как говорил Станиславский. Мы будем ставить спектакли большой жизненной правды. Кроме репертуара должно быть высокое профессиональное мастерство. Без этого нет спектакля, нет театра. А мастерство достигается непрерывным трудом, вечным поиском. Однажды Станиславский увидел на репетиции спектакля "Взятие Бастилии" в массовой сцене скучающих статистов. Он, человек выдержанный, ровный, обладающий большим тактом, рассвирепел, разразился огненной речью, резкой и беспощадной. "Гордостью Художественного театра были народные сцены. А вы хотите равнодушным отношением к народным сценам, скучающими лицами, вялыми ритмами лишить нас того, что мы накопили за двадцать пять лет. Этого не будет! - кричал Константин Сергеевич. - Я потребую тогда закрыть театр… Я не потерплю распущенности и халтуры на сцене. Я не желаю видеть - не имею на это права - скучающих физиономий на сцене!"
Я думаю, вы поняли меня. Актер - это не шут, не скоморох. Он сеятель возвышенного, поборник правды и справедливости, пример высокой порядочности и благородства, - заключил Алексей Васильевич.
Слова Алексея Васильевича о благородной миссии театра, его пламенная речь о Человеке с большой буквы, о величии и красоте его духа вызвали в душе Емельяна бурю мыслей и чувств, и это было как нельзя кстати. Глебов готовил доклад на открытом партсобрании, он долго вынашивал его, думал о нем, будучи на работе, в пути, дома, искал образы и слова, в которые необходимо было воплотить мысль. Перед его глазами постоянно и неизменно стояла одна главная цель: воспитание строителя нового мира. Вот почему все, о чем говорил Посадов, так глубоко запало в сердце Емельяна.
Придя домой уже в начале десятого, он сбивчиво, боясь растерять душевный запал, рассказал жене о беседе Посадова с труппой, заметив, что хочет поработать здесь, на кухне. Елена Ивановна не стала мешать ему, поцеловала и ушла к себе в комнату. Вскоре на кухонном столе появились стопки книг и журналов, полдюжины записных книжек разных лет, чистые листы бумаги. Емельян в теплом шерстяном свитере сидел на табуретке и смотрел через окно в темноту ночи, где постепенно гасли золотистые точки огней в домах. Мысли роились в голове. Бессонные ночи прежних лет, вечера, проведенные в читальных залах, лекции профессоров, труды ученых - все вдруг хлынуло на него морем человеческой мысли, в которой он собирался найти ответ на единственный и главный вопрос: каким должен быть настоящий человек.
Полночная тишина заполняла кухню. В окно смотрелся глазами окон отходящий ко сну город, и над ним в вышине взор Емельяна поймал ярко мерцающую звезду. Затаив дыхание, смотрел на нее и думал о человеке настоящего и будущего. И тогда перед ним беззвучными яркими видениями всплывали образы великих людей, вечно живых, оставивших на земле свои бессмертные творения. Один за другим проходили они, как живое воплощение мечты о Человеке. "Все для человека!.." Это он, Максим Горький, сказал, что существует только человек: все же остальное - дело его рук, его мозга.
"Какая прекрасная и благородная вещь - труд", - говорит Тургенев, человек, достаточно потрудившийся за свою долгую жизнь. И, точно вторя ему, гениальный Менделеев завещает людям:
"Трудитесь; находите покой в труде, ни в чем другом не найти! Удовольствие пролетит - оно себе; труд оставит след долгой радости - он в другом".
Шелестят желтые страницы записных книжек военных лет.
И вставали перед Глебовым богатыри, отдавшие жизни свои во имя счастья человечества; гвардия сильных духом, неподкупных и честных, осененных великим знаменем патриотизма, проходили перед ним имена, вписанные золотом в страницы истории великого народа. Имена их звучали, как боевой клич и торжественная клятва, как твердая поступь поколений:
Радищев!
Рылеев!
Разин!
Пугачев!
Герцен!
Некрасов!
Толстой!
Лазо!
Егоров!
Серго!
Постышев!
Киров!
Дзержинский!
Генерал Карбышев и
Муса Джалиль!
Рядовой Матросов
и капитан Гастелло!
Солдаты и партизаны!
Красногвардейцы Петрограда и матросы "Потемкина!"
И комсомолец 60-х годов Борис Коваленко, уходя из жизни в легенду, завещал соотечественникам: "Берегите Родину! Нет на земле ничего лучше, чем Советская власть!"
Встали, пришедшие из легенд, живые, победившие смерть!
А над ними огромнейшее, через весь шар земной алое полотнище, и на нем в лучезарном сиянии одно слово: ЛЕНИН.
За каждым - былинная судьба, прекрасней и величавей легенды. Железная воля, любовь к жизни и правде, борьба и подвиг.
И там, в ночной тишине московской квартиры услыхал Емельян Глебов из глубины веков их жаркие голоса. Понял разумом, сердцем почувствовал, что жизнь их, дела нам завещаны, грядущим поколениям, как живой пример, как воплощение мечты о самом прекрасном творении вселенной - Человеке. Пример всем сидящим за школьной партой и студенческим столом, за штурвалом комбайна и пультом электронной машины, за роялем и в кабине космического корабля; стоящим у заводских станков и ракетных установок. Всем, всем, всем.
Вот об этом и надо рассказать современникам, каким представляется Глебову Человек нового мира.
Мелким бисером по листам бумаги побежали быстрые строки порой недописанных слов, понятных только Емельяну. Рука едва успевала за мыслью, устремленной от прошлого к будущему. Отдельные понятия составляли целые главы: "Любовь", "Дружба", "Честность", "Прямота", "Счастье", "Труд". И за всем этим, вернее, над всем, стоял Человек.
Чуть слышно журчал на плите чайник, густым ароматным настоем остывал стакан. Чем больше становилось исписанных страниц, тем меньше оставалось чая в стакане.
Глебов писал вдохновенно, не обращая внимания на время. Уже погасли в окнах огни, ушли в парк последние троллейбусы. Он не сразу заметил жену, остановившуюся у дверей. Она смотрела на мужа, на его горящие глаза, выпуклый лоб и круглый волевой подбородок, к которому сбегали резкие складки от плотно сжатых губ. Стояла и любовалась им. Емельян, охваченный вдохновенным трудом, уже увидевший перед собой образ Человека будущего, был прекрасен.
Он вдруг оглянулся с удивлением и радостью:
- Лена!
В мягкой шелковой пижаме она порывисто подошла к нему, нежно улыбнулась и, обнимая, ткнулась губами в его волосы:
- Уже утро… Как же ты без сна?
Большой зал Дома культуры битком набит. Пожалуй, впервые на открытое партийное собрание пришло так много беспартийных, и главным образом молодежи. Емельян, как всегда перед публичным выступлением, волновался. К тому же Роман Архипов предупредил его: будет много острых вопросов. Не в характере Емельяна было уклоняться от ответа или скрывать свои мысли.
Глебов видел, как в проходе перед сценой группа молодежи атаковала старика Лугова вопросами. Сергей Кондратьевич слушал, слушал, а потом бросил Вадиму Ключанскому:
- Ты этими своими беспардонными вопросами "почему?" напоминаешь розовенькую птичку. Есть такая, чечевицей в народе зовется, потому что всю жизнь и всех подряд спрашивает: "Чечевицу видел?"
Ребята рассмеялись, но Вадим не растерялся:
- Должно быть, потому и спрашивает, что ей не отвечают. Все молчат - и те, кто не видел, и те, кто видел эту самую чечевицу. Молчат как рыбы. До каких же пор будем в молчанку играть, а? Пора бы ответить.
- Кому, чечевице? - прицелился старик в Ключанского прищуренным глазом.
- Людям… - сказал Вадим.
- Да ты-то и не знаешь, что такое чечевица. Наверно, никогда и не пробовал, оттого и шумишь больше всех.
- Это из которой знаменитая похлебка делается, - небрежно произнес Ключанский. - Тоже нашли, чем гордиться. Можно сказать, лаптями. Чечевичной похлебкой…
- За которую кое-кто готов продать совесть, честь, Родину и Советскую власть! - вспылил Сергей Кондратьевич.
- А что, чечевица - красивая птичка, - чтобы смягчить настроение, перебил Юра Пастухов.
Но Сергей Кондратьевич раздраженно заметил:
- Красивое перо еще ни о чем не говорит. Соловей в красивые перья не рядится, а все-таки он соловей, первая птица на земле. А павлин хоть и красив на вид, а дурак. Глуп и жесток. Яйца павы пожирает. И думает глупость свою красивой одеждой прикрыть. Как и люди некоторые…
В перерыв Емельяна обступила молодежь. Разговор продолжался. Вадим Ключанский спросил:
- Вот вы говорили о Борисе Коваленко. А собственно, какой подвиг он совершил? Я не понимаю.
Пришлось снова повторять уже сказанное в докладе:
- Вся короткая жизнь этого молодого юноши, комсомольца, героя нашего времени, была подвигом. Он строил электростанции у нас, на Родине. Помогал египетским друзьям строить Асуан. И когда он с товарищами возвращался из Египта домой, над морем с самолетом случилось непоправимое. Самолет неминуемо должен был упасть в море. Тогда летчик вышел в салон к пассажирам и честно сказал, что через несколько минут все погибнут. Но пока что есть радиосвязь с Родиной. Есть возможность передать последнее слово родным и близким. И тогда к микрофону подошел Борис Коваленко и от имени всех находившихся в самолете советских людей сказал: "Берегите Родину! Нет на земле ничего лучше, чем Советская власть!" Понимаете, товарищи, в этих словах-завещании воплощен великий и прекрасный образ советского человека, патриота и гражданина.
- Нет, но мне непонятно завещание: как будто Советской власти грозит опасность, - продолжал Ключанский.
- А вы считаете - нет? - спросил Глебов. - А разве мировой империализм, разные там претенденты на мировое господство не лелеют мечту задушить нашу Родину, в которой им прежде всего не нравится Советская власть?
Емельяна поразило на этом собрании прежде всего обилие записок. Раньше такого не бывало. И о чем только не спрашивали: о сроках строительства нового жилого дома, о маршале Жукове, о группе журналистов, скопом получивших Ленинскую премию. Один аноним ехидно спрашивал Глебова о его взаимоотношениях с Юлей Законниковой. Глебов считал своим долгом не уклоняться ни от одного ответа. Он даже хотел отвечать и на эту явно провокационную анонимку. Но председательствующий посоветовал ему не делать этого:
- Зачем? Какая-то скотина хочет бросить тень на тебя и на эту женщину… Ты поставишь ее в неловкое положение.
И тогда Глебов сказал в зал:
- В президиум поступила еще одна записка, без подписи. Она личного свойства. После собрания я прошу автора подойти ко мне.
Как и следовало ожидать, никто не подошел к Глебову.
Об этом собрании долго говорили затем и в цехах " дома. Многие поздравляли Глебова с хорошим, интересным докладом. Даже всезнайки и скептики признавали: "А наш секретарь парткома - парень с головой". В семье Луговых горячо одобрили собрание, и Константин Сергеевич очень жалел, что на нем не было Лады.
Тревога за дочь не утихала в нем, а, напротив, росла. На третий день приехал на завод инструктор райкома, с которым Емельян недавно работал. Интересовался собранием,
- Донесли о "криминале"? - спросил Глебов.
Тот помялся и доверительно сообщил:
- Анонимка поступила. Игорь Поликарпович приказал разобраться и доложить.
- Что ж, разбирайся, докладывай.
- Докладывать-то нечего. На анонимку не следовало бы обращать внимания. Но приказ есть приказ. Не знаю, отчего Игорь Поликарпович так нервничает, придает такое значение? В общем, он зол на тебя, ты это поимей в виду. На всякий случай. Очевидно, вызовет тебя для разговора. Метал громы и молнии по твоему адресу. Но ты меня не выдавай. Кстати, о партактиве знаешь?
- Знаю и готовлюсь.
- От вас приглашаются трое: ты, директор и главный инженер. Вопрос серьезный: борьба за качество продукции. Подумай. Кому-то из вас, может, придется выступить.
Игорь Поликарпович Чернов пришел с работы раньше обычного: ему нездоровилось. Одолевали усталость, головокружение. Он знал - повышенное давление. В прошлом году около месяца он пролежал в больнице, потом лечился в санатории. Врачи определили предынсультное состояние. Некоторое время после санатория он чувствовал себя неплохо, потом снова начал быстро уставать, и усталость эта сопровождалась острыми головными болями. В мае ему исполнилось шестьдесят лет - по нынешним временам возраст далеко не стариковский, хотя и пенсионный; уходить на покой Чернову не хотелось, можно было бы еще и поработать, но он понимал, что служебная карьера его идет к закату, и состояние его здоровья мешает работать так, как требует бурная, захлестнутая волной различных реорганизаций и переустройств обстановка. А район большой, промышленный, и таких крупных предприятий, как завод "Богатырь", в районе несколько. Вопросами промышленности занимался второй секретарь - молодой, энергичный кандидат экономических наук, инженер по образованию, человек толковый и перспективный. На него Игорь Поликарпович полагался вполне и где-то в душе ревниво завидовал ему. Чернов догадывался, что в горкоме зреет мнение сделать второго первым. Сам же он, как и положено первому секретарю столичного райкома, занимался больше вопросами идеологии, в которых чувствовал себя не совсем уверенно, хотя и не желал в этом признаться даже самому себе. С мнением заведующего отделом пропаганды райкома он не очень считался, полагаясь всецело на авторитет своей супруги Стеллы Борисовны - кандидата филологии, работающей в Институте мировой литературы. Дома и среди близких друзей он так и называл ее - "мой зав. агитпроп".
Стелла Борисовна была всегда в курсе дел на идеологическом фронте, особенно всего, что касалось вопросов культуры. Вращаясь постоянно в литературных кругах, она обладала широкой информацией, почерпнутой из достоверных, хотя и весьма сомнительных, источников. Она сообщала мужу такие "новости", которые он не всегда мог получить как от своих подчиненных, так и от вышестоящих. Она рассказывала ему о новых книгах, об интересных статьях в газетах и журналах - сам ведь за всем не уследишь, - о выставках, спектаклях и кинофильмах, которые обязательно нужно было посмотреть. Супруги Черновы смотрели.
Стелла Борисовна приносила новые книги стихов Артура Воздвиженского и Новеллы Капарулиной с трогательными дарственными надписями, вслух читала Игорю Поликарповичу некоторые стихи и восторгалась смелостью мысли и новаторством формы. Нередко Чернов не разделял ее восторгов по поводу "сногсшибательных" стихов и не понимал произведений модных художников - тоже с дарственными надписями, - которыми Стелла Борисовна украшала стены гостиной. В свою комнату Игорь Поликарпович это искусство не пускал: оно его не волновало. И Стелла Борисовна не настаивала. Она считала, что все придет со временем: муж привыкнет, поймет и полюбит это искусство хотя бы уже потому, что это искусство понимает его любимая жена. Как-то полушутя (она вообще предпочитала разговаривать с мужем полушутя: это была удобная форма скрывать свои мысли) Стелла сказала:
- Ты меня любишь. Значит, ты должен любить все то, что нравится мне. У нас должен быть общий вкус. Ты и я - одно. Согласен? Единое.
Приходилось соглашаться хотя бы на словах, чтобы не обижать обожаемое существо, тем более что значительная разница в возрасте с каждым годом все ощутимей давала себя знать. Эта симпатичная, обаятельная женщина, выглядевшая гораздо моложе своих сорока трех лет, умела быть душой любого общества. И это всегда радовало Игоря Поликарповича, он гордился своей женой, боготворил ее и выполнял иногда ее далеко не невинные капризы. Она была его другом и советчиком во всем. Она знала многих работников райкома заочно, не будучи с ними лично знакома, давала им характеристики, которые Игорь Поликарпович находил хоть и слишком убийственными, но тем не менее не лишенными остроумия. Например, Стелла Борисовна никогда в глаза не видела Емельяна Глебова, но тем не менее отзывалась о нем с крайней неприязнью, называя его не иначе, как "осколок прошлого". На это Игорь Поликарпович недовольно морщился и возражал:
- Ну зачем так, Стеллик? Ты же его совсем не знаешь.
- Говорю - значит, знаю. Знаю со слов людей, которые давно и превосходно знают этого Емельку. И ты напрасно его защищаешь. Он позорит райком, позорит тебя, и когда-нибудь дело кончится неприятностями или скандалом.
Когда Емельян, будучи инструктором райкома, однажды призвал к порядку не в меру распоясавшихся молодых ультрамодных пиитов, Стелла пришла домой возбужденная, поцеловала мужа несколько ласковее обыкновенного, сообщила как сенсацию, не успев даже раздеться:
- Ну вот, видишь, все получилось так, как я говорила. Опять я оказалась права.
- В смысле? - насторожился Игорь Поликарпович.
- В отношении твоего Глебова. - Она сделала сильное ударение на слове "твоего" и с презрением произнесла фамилию Емельяна.
- А что такое?
- Как? Ты не знаешь?!. Боже, да об этом вся Москва говорит. Горком заинтересовался. Говорят, первому доложили, и он был страшно недоволен поведением твоего Глебова.
И опять подчеркнуто - "твоего".
- Но что именно произошло? - с нетерпеливым беспокойством спросил Игорь Поликарпович. Шутка ли, первый секретарь горкома недоволен поведением какого-то Глебова, а он, первый секретарь райкома, ничего об этом не знает!
- Подожди, сейчас разденусь. - Стелла Борисовна не спешила. Пускай потомится в ожидании, злей будет. Но, увидев, что муж тянется к телефону, быстро предупредила: - Подожди, не надо никуда звонить. По крайней мере, сначала выслушай. - Сняв сапожки и облачившись в меховые тапочки, она вошла в гостиную - это была ее любимая комната, - розоволицая, с горящими цыганскими глазами, села в кресло у журнального столика, не спеша закурила сигарету. Долго тянулись для Игоря Поликарповича эти минуты томительного ожидания. Наконец, выпустив облако табачного дыма, она начала: - Ну так вот. В студенческой аудитории выступали известные молодые поэты. Их было несколько человек, в том числе Воздвиженский и Капарулина. Читали стихи, отвечали на вопросы. Все было довольно мило, интересно и содержательно. Студенты великолепно принимали гостей. И, представь себе, каким-то образом, неизвестно почему там оказался твой Глебов. Говорят, был под этим самым. - Она сделала характерный щелчок, снова затянулась дымом. - Что-то ему не понравилось в стихах. Вообще, позор: Глебов - ценитель поэзии! Он, конечно, грубо, бестактно оборвал выступающего поэта и предложил ему или всем, точно не знаю, покинуть зал. Студенты возмутились, подняли шум. Словом, получился скандал.
На самом же деле все было совсем не так. Студенты действительно шумели, возмущаясь безобразным поведением пиитов, требовали призвать их к порядку. В горкоме об этом инциденте никто ничего не знал, включая и первого секретаря, никто не собирался из мухи делать слона.
Выслушав жену, Игорь Поликарпович тут же позвонил на квартиру заведующему отделом пропаганды и попросил доложить, что произошло на встрече поэтов со студентами.
- Игорь Поликарпович, дело обстояло так: поэты вели себя непристойно, Глебов сделал им замечание, - начал было докладывать заведующий отделом, но, уже подогретый информацией жены, Чернов нетерпеливо и недовольным тоном перебил его:
- Да не поэты, а Глебов вел себя непристойно. Говорят, был пьян. И вообще, что он понимает в поэзии? Что это за метода? Пора кончать с администрированием. Если каждый инструктор райкома будет учить поэтов писать стихи, а художников рисовать картины, у нас не будет хороших стихов и картин.
- Игорь Поликарпович, их никто не учил и не собирается учить. Просто их попросили вести себя поприличней.
- Что значит "поприличней"? Бывает, ошибется человек по молодости. Надо подсказать, воспитывать, но делать это с тактом. Таланты - явление редкое, к ним надо относиться бережно, с уважением. Вот что, Виктор Иванович, ты разберись с этим делом и завтра утром доложи мне. Уже горком заинтересовался, понял? И вообще, почему Глебов оказался в институте?
- Я его послал, Игорь Поликарпович.
- Тоже нашел кого посылать. - И положил трубку.
Уже в тот же вечер Чернов для себя решил, что Глебову лучше не работать в райкоме, особенно в идеологическом отделе, где нужны гибкость, такт. На другой день ему доложили все, как было на самом деле. Игорь Поликарпович поверил в объективность доклада, понял, что поэты действительно вели себя плохо и призвать их к порядку нужно было. Другое дело - как? Очевидно, у Глебова, считал Чернов, не хватило такта - иначе об этом не говорила бы "вся Москва". (Словно у Москвы нет других забот.) На третий день Чернову звонил кто-то из Московского отделения Союза писателей, просил разобраться в этом неприятном инциденте и принять меры в отношении инструктора, который сорвал вечер. Игорь Поликарпович пообещал разобраться, а про себя подумал: "Черт бы побрал этого Глебова - еще в ЦК пожалуются. Начнут выяснять, а это всегда неприятно". Заранее настроенный против Емельяна, он решил, что нужно как-то отреагировать. И Глебова выдвинули на должность секретаря парткома завода "Богатырь". Собственно говоря, это нельзя было назвать ни повышением, ни понижением, просто человека перевели на новую работу, и совесть Игоря Поликарповича была чиста. Он даже любимую жену упрекнул в необъективной информации.
- Мне так передали, - недоуменно пожала плечами Стелла Борисовна и добавила: - А вообще об этом до сих пор с возмущением говорят и в Доме литераторов, и в агентстве печати.
Прошло не так много времени, и однажды Стелла Борисовна ошарашила мужа еще одной сенсацией, связанной с именем Глебова. Она случайно встретила Светлану Гризул, и та рассказала ей о чепе на заводе "Богатырь". Оказывается, небезызвестный Емельян Глебов под видом открытого партийного собрания устроил вечер вопросов и ответов.
- Можешь представить, какие там были вопросики, - говорила Стелла Борисовна язвительным тоном. - И он, конечно, отвечал.
На этот раз Игорь Поликарпович отнесся с недоверием к сообщению жены и звонить никуда не стал, решив завтра все выяснить без нервозности, спокойно и обстоятельно. Но именно на другой день и была получена в райкоме анонимка, подтверждающая сообщение Стеллы Борисовны. Собственно, под письмом стояла подпись: "Группа рабочих" - и дальше несколько неразборчивых каракулей. Игорю Поликарповичу опять нездоровилось. Вспомнив сообщение жены, он поинтересовался собранием на "Богатыре", и, естественно, его тут же ознакомили с "тепленькой", только что полученной анонимкой. Расстроенный острой головной болью, Чернов принял анонимку за подлинное письмо рабочих и, конечно, вскипел. Приказал инструктору поехать на завод, все выяснить и доложить.
Актив начался в девять утра. Присутствие на нем одного из секретарей горкома партии, по мнению Глебова, свидетельствовало о серьезности вопроса. Выступал Чернов. Доклад был посредственный, без особой остроты и каких-либо открытий.
В перерыв к Глебову подошел помощник Чернова и передал, что Игорь Поликарпович просит задержаться после актива. "Будет разнос", - сокрушенно подумал Емельян, пытаясь собраться с мыслями. Он не находил за собой никакой вины: собрание прошло нормально. Записки? Что ж, записки всегда идут из зала и в президиум и к докладчику. Правда, некоторые товарищи предпочитают не отвечать на острые вопросы. Емельян же считал, что это нечестно и дает основания любому демагогу говорить: "А-а, в молчанку играете! Не то время. Надо отвечать". Когда председательствующий предоставил в прениях первое слово Гризулу, Емельян был несколько удивлен, хотя вообще-то райкомовская трибуна давно "обжита" Николаем Григорьевичем, здесь он свой человек. Но Глебов не предполагал, что Гризул будет выступать на активе.
Николай Григорьевич был одет в темно-серый костюм, совсем еще новый, сшитый первоклассным портным (работа вдвое дороже материала), и в серую рубашку без галстука. Он спокойно вышел на трибуну, выдержал паузу. Каждый жест, каждое движение, которыми сопровождались слова, были точно рассчитаны и хорошо продуманы. Гризул держался с достоинством, но не рисовался, как у себя на заводе, ничем не подчеркивал своего превосходства. Он хорошо знал: здесь не любят кривляк и мастеров дешевых эффектов. Эрудицией, широким кругозором, какой-нибудь неожиданной новинкой хотел покорить своих слушателей главный инженер завода "Богатырь". Он рассказывал о работе зарубежных фирм: Соединенных Штатов, Англии, Австрии, Японии, где ему приходилось бывать.
- Недавно у нас на парткоме, - говорил Николай Григорьевич, - зашел разговор о качестве продукции. Некоторые товарищи высказали мнение о необходимости возрождения на наших предприятиях так называемого умельства. Дескать, умельцы решат вопрос качества. Я знаю, такое мнение бытует не только на нашем предприятии. Лично я считаю эту "идею", если можно так выразиться, очень уязвимой, оторванной от жизни, старомодной. В самом деле, товарищи, при современном уровне техники, при поточных линиях, при автоматике смешно и наивно делать ставку на рабочих-ювелиров, умельцев, ссылаясь при этом на дореволюционный опыт, на практику дедов и прадедов.
"Странное дело, - думал Емельян, - на парткоме об умельцах, о повышении квалификации рабочих, о мастерстве говорил старик Лугов дельно и толково. Все его поддержали. Почему же Гризул там не возразил? Или считал, что слушатели не доросли до его идей, не смогут оценить, не стал метать бисера…" Да, Гризул шаг за шагом все глубже открывался перед Глебовым и уже, как и Маринин, просматривался насквозь.
Оперируя фактами, Николай Григорьевич уверенно утверждал, глубокомысленно хмурясь и сверкая в зал стеклами очков:
- В капиталистическом мире качество создает конкуренция. Покупатель берет товар лучшего качества. Производитель товара низкого качества вылетает в трубу. У нас же, как вы знаете, производители, выпускающие плохой, некачественный товар, лично никакого материального ущерба не несут - ни руководители предприятий, ни рядовые рабочие. Там фабрикант требует от своих инженеров, от рабочих высокого качества. Он бьет заработком. Наконец, выгоняет на улицу инженера или рабочего, не сумевших дать высококачественную продукцию. А вы знаете, что такое потерять место в странах, где есть безработица. Это настоящая трагедия. У нас же перейти с одного завода на другой ничего не стоит. "Без работы не буду", - так говорят наши рабочие. Отсюда и нарушения трудовой дисциплины: прогулы, опоздания, пьянство.
Николай Григорьевич сделал паузу, посмотрел на часы, виновато улыбнулся председательствующему:
- Мое время, кажется, истекает. Я заканчиваю. Вопрос, который мы сегодня обсуждаем, чрезвычайно важный и своевременный. И я думаю, я уверен, что он будет решен. Для этого, на мой взгляд, необходимо: во-первых, дисциплина на производстве - надо установить самую что ни на есть железную, военную дисциплину; и, во-вторых, очевидно, настало время подумать нам о фирмах. Поставить зарплату в зависимость от реализованной продукции. И вообще, нужно предоставить больше самостоятельности руководителям предприятий. В Риме мне пришлось разговаривать с доктором Фишем. Это крупнейший специалист по вопросам экономики. Он высказал много интересных мыслей, которые они собираются осуществить в ближайшем будущем. По-моему, они готовят весьма перспективный эксперимент, из которого и мы могли бы кое-что позаимствовать. Конечно, разумное.
Он сделал легкий поклон в сторону зала и сошел с трибуны. Размышляя над выступлением Гризула, слушая речи других ораторов, Глебов решил тоже выступить и послал в президиум записку с просьбой дать ему слово. Он проследил весь путь своей записки, видел, как поморщился Чернов и, прочитав ее, не сделал никакой пометки в списке выступающих. "Значит, не хочет давать мне слова", - определил Глебов. Это уже было нарушением партийной демократии.
Во время следующего перерыва Емельян подошел к Чернову, который вместе с секретарем горкома разговаривал с группой участников совещания. На приветствие Глебова Чернов едва кивнул, смерив его недовольным взглядом.
- Маловато остроты в выступлениях и деловитости, побольше бы конкретных предложений, - заметил секретарь горкома.
- Гризул говорил интересно. Предложения его заслуживают внимания, - возразил Чернов.
- Он во многом не прав, - выпалил Глебов. - Особенно в отношении умельцев.
Чернов недовольно поморщился, хотел что-то сказать, но его опередил секретарь горкома:
- Вот вы и поспорьте с ним. Выскажите свою точку зрения. Обязательно.
- Я записался в прениях, - сообщил Глебов и пристально посмотрел на Чернова. Светлые, стеклянные глаза Игоря Поликарповича сделались ледяными, лицо вытянулось, голос сорвался:
- От вас уже выступил Гризул.
- А я хочу с ним поспорить, - твердо сказал Глебов и, переводя взгляд на секретаря горкома, добавил: -А вообще, мне кажется, говоря о качестве продукции, мы забываем о воспитании того, кто непосредственно делает эту продукцию.
Секретарь горкома одобрительно кивнул и снова повторил:
- Обязательно выступите. Непременно.
При сложившейся ситуации Чернов вынужден был скрепя сердце предоставить слово Глебову. Из этого Емельян понял, что над ним сгустились грозовые тучи и первый гром, вероятно, разразится сразу же после собрания актива. Он уже пожалел, что так настойчиво добивался слова, пожалел потому, что почувствовал, как от волнения начинает терять самообладание. Чего доброго, выйдет на трибуну, наговорит бог знает чего, главного не успеет сказать. Теперь его волновало не столько выступление, сколько предстоящий неприятный разговор с Черновым. Председательствующий - второй секретарь райкома назвал имя Глебова. Емельян вздрогнул, почувствовав, как кровь ударила в лицо, зажгла щеки и уши. Ему даже показалось, что все присутствующие в зале знают о нем что-то сенсационное и настороженно смотрят на него. У Глебова не было никакого конспекта. Он поднялся на трибуну и почувствовал, как дрожат руки. Прежде чем произнести первое слово, Емельян внимательно посмотрел в зал и увидел там много знакомых лиц: директоров предприятий, партийных работников, передовиков производства. Это были хорошие, "свои ребята", и у Емельяна сразу отлегло от сердца.
- Товарищ Гризул уже сообщил вам, что у нас на парткоме не так давно шел разговор о качестве продукции. Меня только немного удивило, что Николай Григорьевич, дважды выступавший на парткоме, ни словом не обмолвился о качестве продукции. Очевидно, берег запал для настоящего совещания. Но не в этом суть. Главное в другом.
Прав главный инженер, когда говорит о предоставлении большей самостоятельности руководителям предприятий. Наш завод, к примеру, за год уплатил шесть тысяч рублей штрафа за то, что недодал запасных частей заказчикам. Мы не смогли их дать, потому что только во втором цехе у нас не хватает двадцати рабочих. А по всему заводу не хватает около ста человек. Теперь представьте себе такую картину. Если бы директор завода по своему усмотрению израсходовал эти шесть тысяч рублей на премии или увеличение зарплаты рабочим, я уверен, что эти злополучные запчасти, за которые заводу пришлось платить огромную сумму, были бы изготовлены и получены заказчиком. И сделали б их рабочие второго цеха, даже без тех двадцати человек, которых недостает по штату. Материальный стимул - эхо большое дело. Но я никак не могу согласиться с утверждением Николая Григорьевича о том, что время мастеров, умельцев миновало. Нет, умелые руки рабочего нам нужны и в век автоматики. И в них, в умельцах, мне думается, одно из условий высокого качества продукции. Капиталистическая система борьбы за качество для нас не может быть примером. Мы не можем слепо переносить в наше производство их опыт. Товарищ Гризул говорит о железной, военной дисциплине на производстве. Но мы не можем гнать рабочего на улицу, как это делает капиталист. Нам не позволят этого. Советская, рабочая власть не позволит. Следовательно, надо воспитывать рабочих, учить их высокому мастерству. Воспитывать коммунистическую сознательность, рабочую гордость, гордость за честь марки своего предприятия. Вот здесь сегодня и докладчик, и другие ораторы много и правильно говорили о качестве продукции. Но никто не сказал о качестве человека, того, кто создает вещи, о воспитании в нем лучших черт гражданина коммунистического общества, об идейной закалке рабочего. Все так называемые сложные натуры, которых кое-кто из кинорежиссеров и писателей пытается сделать героями нашего времени, не способны заниматься созидательным трудом и создавать материальные блага. Мы не можем молча взирать на то, как на наших глазах поклонники буржуазной идеологии растлевают молодежь.
- Это совсем другой вопрос, - раздраженно перебил его Чернов и поморщился.
- Это один, единый вопрос, Игорь Поликарпович,--продолжал Глебов, обращаясь к залу. - Отличную продукцию в наших условиях может выпускать сознательный мастер, умелец. И не боязнь потерять свое место, а рабочая гордость, честь советского человека будут для него стимулом отличной работы. И тут я не согласен с товарищем Гризулом.
- Гризул дело говорил, а вас заносит в сторону от обсуждаемого вопроса, - грубо оборвал его Чернов. Он поднялся, важный, самоуверенный. - Мы говорим про Фому, а вы про Ерему. Вы не поняли задачи. Речь идет о качестве продукции, и на это дело надо нацеливать всю работу партийных организаций. А вы у себя на заводе просветительством занимаетесь, на дешевку бьете, устраиваете вечера вопросов и ответов вместо партийного руководства… Вы кончили, Глебов?..
Это не был вопрос. Нет, это был довольно прозрачный намек, почти приказ покинуть трибуну. Глебов, не сказав больше ни слова, огромным усилием воли сдержал себя и ушел с трибуны. В зале кто-то хихикнул, но тотчас же был захлестнут нестройным гулом удивления и хлопками аплодисментов.
Глебов не знал, что секретарь горкома в довольно резкой форме сделал замечание Чернову, считая его поведение в отношении секретаря парткома завода "Богатырь" недопустимым. Тем более, что, по мнению секретаря горкома, Глебов высказал очень дельные мысли. Зайдя после совещания в кабинет первого секретаря райкома, Емельян почувствовал некоторую перемену в поведении Чернова. Они были вдвоем. Игорь Поликарпович пригласил Емельяна сесть и предложил чаю. Глебов, поблагодарив за любезность, отказался. Чернов помешивал ложечкой в стакане и, не подымая глаз, говорил голосом очень утомленного бременем государственных забот человека:
- В отношении умельцев ты, конечно, прав. Тут Гризул увлекся. Заграница его сбивает. - Он вздохнул, точно давал понять, что это было сказано между прочим, как прелюдия. Достав из ящика стола тоненькую папку, Чернов открыл ее и, надев очки, молча прочитал какую-то бумажку. Потом снял очки и уже без прежней усталости жестко посмотрел на Глебова в упор: - Райком недоволен вашей работой, товарищ Глебов. Вы не сделали для себя никаких выводов из ваших прошлых ошибок. Опять повторяете старое.
- Я не понимаю, о каких ошибках идет речь, что вы имеете в виду? - мягко заметил Глебов.
- О тактических ошибках в области идеологии. За что мы вас ругали здесь, в райкоме. На вас снова жалуются. Вы запретили выставку художников в Доме культуры…
- Это не совсем так, Игорь Поликарпович. Идет идеологическая борьба. И спорим мы не о том, какие штаны лучше…
- Погодите, - перебил Чернов. - Вы не умеете себя вести.
- Хорошо, я буду молчать.
- Устроили под видом открытого партийного собрания вечер вопросов и ответов. Кто вам разрешил? Кто позволил вам разводить демагогию? Кто? Я вас спрашиваю, товарищ Глебов.
- Во-первых, это было обычное открытое партийное собрание. Мне, как докладчику, задавали вопросы. Я на них отвечал. Я обязан был отвечать.
- Какие вопросы?
- Разные.
- Именно, разные бывают вопросы… И провокационные.
- Таких не было.
- О Ленинских премиях говорили? - Холодные, как стекляшки, глаза Чернова уставились на Глебова, точно уличили его, поймали с поличным.
Емельян выдержал взгляд.
Они отлично понимали друг друга. Но Чернов не хотел ставить точки над i, называть вещи своими именами, он предпочитал полунамеки и подтекст. Глебов напротив - не оставлял места для недомолвок.
- Да, говорили и о Ленинских премиях, - сказал он, возбуждаясь. - Об этом говорят на улицах, в кинотеатрах, в кафе, в цехах. Народ говорит. Было бы лучше, если б к голосу народа прислушались.
Емельян горячился, почувствовав слабость оппонента.
- Этот вопрос не имел отношения к повестке дня, - остановил его Чернов. - Тебя могли спросить о супруге английской королевы. И ты стал бы отвечать? А может, еще об искусственном осеменении овец. Надо же думать. Надо быть в какой-то степени дипломатом.
- Дипломаты имеют дело нередко с недругами. Их профессия - скрывать свои мысли, - горячо парировал Глебов. - А я разговариваю со своими рабочими. Я коммунист и дорожу доверием коммунистов. Я должен, обязан говорить им правду, только правду в глаза. И честно отвечать на их вопросы. Так Ленин учил!
- Ну, Ленина ты плохо знаешь. Ленин учил не плестись в хвосте у масс, не идти на поводу у демагогов, а вести за собой, организовывать и направлять людей. Видеть главную цель, а не ковыряться в обывательских дрязгах…
Чернов поднял руку, осадив пытавшегося возразить Глебова, и перевел разговор на другую тему:
- Как у вас с приемом в партию? Почему ставите искусственные преграды?
Глебов понял, о ком идет речь, улыбнулся, ожидая, что еще скажет Чернов. Но тот выжидательно молчал.
- Вы, очевидно, имеете в виду Маринина? - спросил Глебов.
- Вообще, зачем нужно было ворошить прошлое? -увильнул от ответа Чернов. Его дряблое, бледное лицо покрылось розовыми пятнами. Дрогнула рука. Глебов понял: начинается самое главное.
Глебов смотрел на Чернова и пытался понять: или он, занятый всецело хозяйственными делами, действительно не может постигнуть всей глубины и серьезности идеологических битв, или же все отлично понимает, но, не желая плыть против течения, хочет оставаться в стороне от огня, боясь обжечься, потому что, кроме собственного благополучия, ему, по мнению Глебова, на все наплевать. Неужто этот человек никогда не задумывался над судьбами личности и народа? Неужто у него никогда не болела душа? В непроницаемых глазах Чернова Глебов неожиданно обнаружил искорки сострадания, хотя на его лице по-прежнему было видно раздражение.
Подумав, Чернов горестно вздохнул, произнес как-то вяло, нерешительно, одолеваемый какими-то сомнениями:
- Да, Емельян Прокопович, что-то не получается у вас. Посмотрим, посоветуемся и будем решать. А вам советую серьезно подумать. - И, поднявшись над столом, рыхлый, но бодрящийся, закончил: - У меня все. Можете быть свободны.
- У меня есть вопрос, - продолжая сидеть, сказал Глебов. - Я все же так и не понял, в чем вы меня, собственно, обвиняете?
- Подумаете на досуге - поймете, - хмуро бросил Чернов и добавил: - Мы еще вернемся к этому разговору. До свидания.
Было еще светло, когда Глебов вышел из райкома. Тяжело и муторно было на душе у Емельяна. Чернов уклонился от ответа на его вопрос. Обвинить человека в плохой работе, не подтвердив это серьезными фактами, было по меньшей мере несправедливо. Последние слова Чернова звучали уже угрозой: не справился, мол, будем решать. Что? Дальнейшую судьбу коммуниста и человека. Чернов советовал "серьезно подумать". Над чем? Над проступками, которых Глебов не совершал, над несуществующими ошибками? Емельян, думая об этом, все время ловил себя на мысли, что Чернов был с ним неискренен и неоткровенен. Он говорил Глебову одно, а думал совсем другое, сознавая шаткость и неубедительность своих обвинений.
Из райкома Глебов, как обычно, домой шел пешком: лучше думалось. Он еще не знал, что по заводу, по цехам, как мокрый, зыбкий туман, уже расползался слушок, что секретарь парткома оскандалился на партийном активе, был позорно удален с трибуны за то, что пытался произнести глупую речь. Сергей Кондратьевич Лугов узнал об этом от Полякова, когда они встретились после работы. у проходной.
- Не везет нам на секретарей парткома, - с деланным сожалением говорил начальник отдела снабжения. - А на вид как будто и ничего. А? На вид Глебов ничего? Говорить умеет. Вот так оно и бывает: наружность обманчива.
И ушел, довольный, торжествующий, оставив Лугова в растерянности. Нехорошо было на душе у старика от такой вести. Противно было смотреть на Полякова, который недавно, выступая на партсобрании, рассыпался в комплиментах Глебову. "Прохвост, он и есть прохвост", - решил Сергей Кондратьевич, направляясь к автобусной остановке.
Теперь Сергей Кондратьевич жил в новом доме, на первом этаже, занимал двадцатиметровую комнату в двухкомнатной квартире. Во второй комнате обитала старуха-пенсионерка, сухонькая, говорливая неграмотная женщина, у которой есть дочь, растут внуки. Живут они где-то в Измайлове. К ним она ездит редко: не ладит с зятем. Лет десять, как поссорились. Лизавета Петровна - так звали соседку Лугова - не желает мириться с зятем. И никакой помощи от них не принимает. Живет на пенсию: тридцать четыре рубля в месяц. Сидит либо в кухне, когда Сергей Кондратьевич дома, либо в садике на скамейке с соседками. И болтает, болтает без умолку. Только этим и живет.
Сергей Кондратьевич вошел в квартиру с думой о Глебове. Главное, никто еще толком не знал, что произошло, а уже болтают, судят.
В жизни случается, когда напряженно о ком-нибудь думаешь, глядь, а он тут. Так случилось и теперь: только Сергей Кондратьевич расположился почаевничать - на пороге Глебов. Старик приглашал его посмотреть свое новое жилье. Глебов обещал зайти как-нибудь. Лугов думал, что это, как обычно, вежливая благодарность, и поэтому, увидев Емельяна, обрадовался, даже растерялся от неожиданной радости:
- Емельян Прокопович… Вот хорошо, что зашел.
Старик смотрел на Глебова, пытаясь по выражению лица определить душевное состояние.
- Шел мимо, дай, думаю, зайду, с новосельем поздравлю.
Глебов вошел в комнату и осмотрелся. Светло и чисто. Этажерка с книгами, старенький телевизор и новая недорогая радиола: внучка подарила на новоселье. Старик любил музыку слушать. Да и сама внучка частенько сюда забегала с пластинками и угощала дедушку либо поросячьим визгом, либо гнусавым завыванием. Где она их только и достает!
Случай такой, что чаем не отделаешься: старик достал из шкафа графинчик водки.
На тумбочке лежал толстый том в синем переплете. "Преображение России", - узнал Глебов. Старик поймал его взгляд, пояснил:
- Штудирую свою роль. Скоро репетиция. А хороший спектакль должен получиться! Как ты считаешь?
- Должен!
Сергей Кондратьевич поставил закуску: квашеная капуста, селедочка с лучком, колбаса. Налил по стопке. Емельян поднял свою:
- Желаю, Сергей Кондратьевич, чтоб в этой квартире не водились хвороба, тоска и разные там клопы-паразиты. Пусть всегда эта комната будет полна радости!
- Спасибо, Емельян Прокопович. Спасибо, дорогой. Глебов рассказал ему о партийном активе, о выступлениях. Не умолчал о речи Гризула и о своем возражении ему.
- И правильно сделали, - одобрил Лугов. - Это очень хорошо.
- Хорошо или не хорошо, только договорить мне не дали. - Глебов вздохнул и с грустью посмотрел на графин. Старик понял этот взгляд по-своему, наполнил рюмки. А Емельян продолжал: - Товарищу Чернову не понравилось мое выступление.
- Это чем же не понравилось? - встревожился старик и посмотрел на Глебова. Лицо его стало строгим.
- Дело, собственно, не в выступлении, а во мне самом. Я не нравлюсь секретарю райкома. Похоже на то, что хотят, чтобы я ушел в отставку или стал другим. А я не могу сделать ни того, ни другого. Вот в чем беда.
- Да и нам другой не нужен. Нам нужен ты такой, какой есть. Других у нас много перебывало. - Старик дрогнувшей рукой взял стопку и поглядел Глебову в глаза. - Давай-ка выпьем за то, чтоб ты, Емельян Прокопович, никогда не был другим, а был всегда таким, каков есть. Вот такой ты и нужен людям, таким тебя и полюбили рабочие. Я за это и выпью до дна, и все. Моя норма вышла.
Емельян признательным взглядом поблагодарил старика, выпил, закусил.
- В отставку… - ворчал старик, - ишь чего захотели. Мало ли кто кому не нравится! Чернову уж больно нравится наш главный инженер. Отставку твою, Емельян Прокопович, мы не примем. Нет.
- К сожалению, не вы решаете, - горько усмехнулся Глебов.
- Как это не мы? - обиделся старик. - Мы тебя избирали. Мы и не отпустим. Всем заводом скажем товарищу Чернову: ты брось, не шути. - Помолчав немного, старик продолжал: - То-то по заводу сплетню пустили. Не успели, значит, вы возвратиться, как у нас уже начали языки чесать.
- О чем, Сергей Кондратьевич? - не понял Глебов.
- Да все о том, что тебя слова лишили на совещании, ну и все такое.
- Вот как?! - изумился Глебов. Он был поражен столь быстрой реакцией. Подумал: кто же принес на завод эту сенсацию? На активе от "Богатыря" были трое: Глебов, главный инженер и директор. Борис Николаевич не мог. Значит, Гризул. Быстро сработала машина, завидная оперативность!
- Кто же это вам такую новость сообщил? - осведомился Емельян.
- Поляков, - ответил Лугов.
Глебов поднялся, подошел к радиоле, нажал на клавишу:
- Послушаем лучше музыку, Сергей Кондратьевич.
Опережая шум и треск, в комнату, как лавина, ворвались звуки каких-то инструментов и голос певца:
По горам ты топай-топай, За веревочку держись. Концентрат перловый лопай, Вот такая наша жизнь.Глебов повернул ручку настройки. Диктор говорил о расследовании убийства Кеннеди. Глебов выключил радио.
- Ясно одно, что дело темное… - И зашагал по комнате. - Вот вам буржуазная демократия и свобода… Свобода убивать. Свобода, где любой гражданин - от безработного до президента включительно - кролик, которого запросто и в любое время может подстрелить хозяин. Все эти Ли Освальды, Джеки Руби - наемные исполнители. А за их спиной маячит зловещая тень расиста Голдуотера. Новый фашист…
- Потому они и не могут без войны, - заключил старик. - Им обязательно, чтоб разбой. В Корее, в Конго, во Вьетнаме - где угодно, только бы разбойничать. Америка мне напоминает бандюгу, который не нарывался на хороший кулак. А нарвется, поздно или рано нарвется, и так набьют морду, что лет сто будет помнить.
Решив, что Глебов собирается уходить, старик огорчился, предложил еще рюмочку, "посошок".
- Ну, пожалуйста, Емельян Прокопович, наперстками ведь пьем. Сколько тут: пятьдесят граммов не будет. Музыку послушаем.
- Музыку надо слушать, когда космонавты летают, - сказал Глебов. - Тогда по радио и музыку хорошую дают: либо классическую, либо народную. Без визга, без "топай-лопай".
- Это, стало быть, потому, что в космос летают настоящие парни, - решил старик. - Стиляг в космос не пускают.
- Куда им. Они ведь "антигерои".
Сергей Кондратьевич поставил на радиолу пластинку. Глебов посмотрел на старика с благодарностью, вслушиваясь в бурные вихри "Варшавянки". Емельян видел, как заблестели глаза старого рабочего, как дрогнули сухие губы. И старик продолжил:
- Хотите еще? Старинные русские…
Емельян согласился. Сергей Кондратьевич сменил пластинку. Зазвучали разудалые и печальные мелодии. Хор Свешникова пел: "Однозвучно гремит колокольчик". Слушал Глебов и думал про себя: "Кому не нравится моя персона? Чернову? А может, не ему? Хочет меня сломать, раздавить. Ну нет, поборемся". В конце концов, что такое Чернов? Есть горком, ЦК, наконец, есть партия, интересы которой он, Глебов, будет отстаивать до конца. И вспомнились ему горькие слова, сказанные на одном большом совещании, о том, что защищать линию партии в идеологии - дело рискованное, ибо жестоко расправляются с инакомыслящими сторонники сосуществования идеологий.
…А Гризул в Центральных банях ревностно тер румяную ладную спину Ивана Петрова и, захлебываясь от удовольствия, рассказывал ему, как был повержен и посрамлен на партактиве Емельян Глебов. Натренированной рукой взбивал он пышные хлопья мыльной пены, приговаривая:
- А в общем, песенка Глебова, надо думать, спета. Не прошла и неделя, как погорел Емеля.
Но Петров почему-то молчал и мрачно кряхтел, чего с ним никогда не бывало. Николай Григорьевич не сразу заметил подавленное настроение своего покровителя. И только когда тот, прикрытый простыней, разлегся в раздевальне на мягком диване и рывком влил в себя одну за другой две рюмки московской и не стал закусывать, Николай Григорьевич увидел, что глаза у Петрова красные, растерянные и под ними наметились, как тени, темные бугорки. Тогда вмиг согнав со своего лица восторг и беспечную веселость, Гризул спросил участливо:
- Что-нибудь стряслось, Иван Иванович?
Петров тупо взглянул на бутылку, засопел, раздувая ноздри, и сказал вместо ответа:
- Значит, через три дня ты в Италии. Мм-да-а… Можно позавидовать.
Проницательный Гризул понимал, что за этой фразой кроется нечто другое, более значительное и серьезное. Николай Григорьевич не только никогда не любил, но даже не питал уважения к Петрову, хотя внешне оказывал ему всяческое внимание и вполне искренне желал успехов, так как от этого зависело процветание самого Гризула. Конечно, и этой предстоящей поездкой в Италию Гризул обязан не кому-нибудь, а именно Петрову, который как бы лишний раз напомнил об этом Николаю Григорьевичу.
- Что-нибудь серьезное? - обеспокоенно переспросил Гризул.
- Беда, Коля…
- На работе, дома?
- И на работе, и дома. Беда, как ты знаешь, не ходит в одиночку. - Он взял бутылку и наполнил стопки. - Ты мне о Глебове сейчас рассказывал, а у меня на душе кошки скребли. Понимаешь? Все прахом… Придется распрощаться с министерством.
- А нельзя ли все-таки что-то предпринять? Неужели все так серьезно?
- Пытаемся, - безнадежно отозвался Петров. - Алексея Ивановича подключили. Да вряд ли поможет. Партгосконтроль вмешался. Это, скажу тебе, не очень симпатичное учреждение. Сейчас важно другое: кто займет мое место?
Еще бы, Николай Григорьевич великолепно понимал это, поэтому спросил, стараясь не выдать тревоги. (Ибо что такое Петров без должности? Все равно что рыба в океане: не имеет цены.)
- А кого же намечают?
Петров выпил водку и впервые пристально посмотрел на Гризула:
- Тебя, Коля. Надеюсь, ты тогда и мне местечко найдешь?
- О чем речь, Иван Иванович! Была бы шея - хомут найдется! - с готовностью сказал Гризул и про себя подумал: "Только вот спину тереть больше я тебе не буду. И сегодня напрасно… Теперь ты мне будешь. А? Понял? Теперь ты мне! Вот она, фортуна. Хоть комедию пиши. А что, чем не сюжетец? Пожалуй, подарю Максу, он быстро сварганит пьеску". Вслух же спросил:
- Ну а дома?
- С Беллой мы, кажется, расходимся
- Чья инициатива?
- Ее.
- У нее кто-то есть? - не очень деликатно поинтересовался Гризул, словно от этого зависело какое-то решение.
- Не все ли равно: нет - так будет.
Беллочка Петрова, в девичестве Солодовникова, после того как ее родителей убили фашисты осенью сорок первого года, осталась сиротой и была спасена матерью Глебова; за это гитлеровцы расстреляли его мать. Сейчас Белла, тридцатилетняя красавица, давно разочаровавшаяся в своем супруге, звонила по телефону Матвею Златову в мастерскую Климова:
- Матвей, это ты? Воздай мне хвалу в поэзии или хотя бы в презренной прозе: раздобыла для тебя книгу Радхакришнана, а это мне чего-то да стоило.
- Зачем в поэзии и прозе? - наигранно отвечал Матвей Златов. - Ты достойна бессмертного мрамора. Но пока что я не вижу среди наших скульпторов гения, который мог бы изваять тебя, Нефертити двадцатого века… Когда ты мне можешь вручить Радхакришнана?
- Да хоть сейчас: книга у меня.
- Ты где?
- Недалеко от вас.
- Так ты, может, зашла бы в мастерскую?
- А удобно ли?
- Почему бы нет? Мы тебя не съедим и не сглазим.
- Ну, хорошо.
И через четверть часа она была в мастерской. Ее встретил сам Петр Васильевич Климов. Матвей где-то замешкался и не вышел на звонок. Сняв обезьянью шубку, Белла вошла в кабинет, как входят в дом близких друзей. Вошла и обворожила хозяина. Петр Васильевич остановился посредине кабинета и замер от восторга. Как восхищенный провинциал, смотрел он на нее карими, широко раскрытыми глазами. Это смутило даже такую бывалую молодую даму, как Белла Петрова. Чтобы прервать неловкое молчание, Климов сказал:
- А Матвей был прав: вы действительно достойны мрамора. Страшно, но я бы рискнул… - Не сводя с Беллы профессионального взгляда художника, говорил, будто рассуждал вслух: - Характер дай боже! Вы меня извините, люблю людей с характером. Теперь это редкость. А может, и не только теперь. Пожалуй, в прошлом еще больше было безвольных людей.
Затем он взял из ее рук книгу Радхакришнана и заметил с нескрываемой завистью:
- Матвею повезло… Где бы мне достать? Нет ли там еще одного экземпляра?
Белла обменялась с вошедшим Златовым взглядом, сказала решительно:
- Хорошо, я Матвею достану еще. А этот экземпляр преподнесу вам, Петр Васильевич. Я люблю людей сильных и непосредственных.
Так Белла Петрова вошла в дом Климова, чтобы затем войти в жизнь самого Петра Васильевича.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. ВЕСЕННИЕ ЭТЮДЫ
В большой город весна приходит раньше, чем в села, но, как это ни странно, приход ее горожане замечают гораздо позже, чем деревенские жители. Деревня видит и слышит звонкую мартовскую капель, прилет грачей, первые ручьи, утренние заморозки и бурный ледоход. Весна в деревне длительна, разнообразна и щедра.
Большой город не слышит грачиного галдежа и свиста скворца, не чувствует и того неповторимого запаха весны, настоенного на клейких почках, в котором смешаны ароматы прелой земли, талых вод, первых туманов, который волнует и пьянит разум сильнее всякого вина. Когда на бульварах, во дворах и на улицах, омытых дождями, приубранных дворниками, зазеленеет первая травка, а тополя и ясени беззвучно распустят молоденькие веселые листочки, горожанин знает: пришла весна, по-настоящему и всерьез.
Весна - пора обновления. Обновляется природа. Обновляются люди.
В облике вернувшегося из Италии Николая Григорьевича Гризула было что-то новое, необычное. Не только крепкий южный загар кричал об обновлении главного инженера завода. Нет, он весь стал каким-то свежим, помолодевшим. Прибавилось самоуверенности и окрыленности. С директором Гризул разговаривал важно, независимо. Глебова игнорировал. Все это было для многотысячного коллектива "Богатыря" настоящей загадкой.
Но люди не могут долго пребывать в неведении. Тем более что с древних времен существует довольно удобное для таких случаев понятие, как "гипотеза". И вскоре по заводу прошли слухи, что Гризул уходит: то ли в министерство, то ли куда-то еще, уходит с повышением. Это точно. Николай Григорьевич не подтверждал и не опровергал слухов, лишь многозначительно улыбался.
Маринин же ушел с завода внезапно, без предварительной психологической подготовки. Ушел работать на телевидение. Там иные масштабы. Аудитория - не сравнить с заводским Домом культуры. Есть где развернуться "донору духа". По этому поводу Посадов заметил Глебову:
- Продаю телевизор. Теперь он мне ни к чему, коль дело до Маринина дошло. Этот "донор" будет ежедневно вливать тот еще душок…
- Вам-то что, - отозвался Глебов. - А вот у меня дети. И я не желаю вручать их воспитание Маринину…
Почти одновременно с Марининым ушел и Поляков, тихо, по собственному желанию в прямом смысле этого слова: подал заявление с просьбой освободить, как и положено, за две недели. Его не уговаривали, свято место пусто не бывает. На эту должность Гризул имел на примете не одного, а нескольких кандидатов.
Глебов думал над кандидатурой директора Дома культуры. Он хотел видеть на этой должности молодого, энергичного парня из заводских, который бы хорошо знал, чем живет рабочий. Такой парень у него был - Саша Климов. И когда Глебов сообщил об этом Посадову, тот горячо поддержал его.
- Согласится ли он сам? - усомнился Емельян.
- Согласится, - заверил Посадов. - А хотите, я с ним предварительно поговорю.
- Да, пожалуй, не стоит, Алексей Васильевич. Нужно еще посоветоваться с председателем общественного совета Дома культуры.
- С Гризулом-то? - переспросил Посадов.
И подумал: знаю, мол, что вам Гризул ответит.
В кабинет Глебова влетел рассвирепевший Николай Григорьевич и бросил на письменный стол металлическую пластинку, на которой рукой опытного художника по белой эмалевой краске было написано черными буквами: проспект Гризула.
- Полюбуйтесь! - мрачно добавил Николай Григорьевич.
- Что сие означает? - Глебов взял пластинку и с любопытством повертел в руках.
- Главный инженер завода удостоился… - попытался иронизировать Гризул. - Бывший Вонючий тупик назван проспектом моего имени. При жизни. В нарушение существующего закона.
- В порядке исключения, - стараясь свести дело к шутке, заметил Глебов.
- Я человек не тщеславный и в принципе враг всякого культа, поэтому прошу партком оградить меня от незаслуженных почестей.
- От перемены названия, как я понимаю, ничего не изменилось, - усмехнулся Глебов. - Клоака по-прежнему распространяет зловоние.
- Я в этом не виноват.
- Понимаю. Кто это сделал?
- Полагаю, что артисты-изобретатели, их почерк.
- То есть?
- Деятели "комсомольского прожектора".
- Климов?
- Возможно. - И, перейдя на официальный тон, не глядя на Глебова, мрачно процедил сквозь зубы: - Я прошу принять меры. Надо строго наказать хулиганов.
- Да, нехорошо, - согласился Глебов. - А с Вонючим тупиком нам что-то надо делать.
- На этот счет у директора есть свои соображения, - равнодушно буркнул Гризул, собираясь уходить.
Глебов задержал Гризула у порога:
- Николай Григорьевич, одну минуту. Я хотел с вами посоветоваться по поводу директора Дома культуры.
Гризул вопросительно взглянул на него. Глебов понимал, что поднимать разговор сейчас о Саше Климове некстати. Но делать нечего: днем раньше, днем позже. И спросил:
- Как вы смотрите насчет кандидатуры Климова?
- На должность директора? - Гризул от изумления даже очки снял.
- Да, - спокойно ответил Емельян.
- Вы шутите? Или в порядке поощрения за это? - Николай Григорьевич глазами указал на пластинку.
- Ну, а если серьезно? - повторил вопрос Глебов.
- Что же он сможет делать? Выкидывать штучки-дрючки? Этого недостаточно, я полагаю. Да у него и высшего образования нет.
- Маринин тоже не имел, - напомнил Глебов.
- Что вы сравниваете, - поморщился Гризул. - У Маринина был опыт. Такого, как Александр Александрович, не найти.
- Опыт - дело наживное. Поработает - научится, - быстро заговорил Глебов, чтобы отвлечь Гризула от ненужных разговоров о Маринине.
- Как хотите, мне все равно, - пожал плечами Гризул и надел очки, делая вид, что торопится. Глебов его не задерживал.
Матвей Златов заехал к Гризулу домой в воскресенье. Николай Григорьевич был один, ждал своего старого друга и покровителя, обещал рассказать ему о поездке в Италию. Сидели вдвоем в кабинете, неторопливо потягивали легкое вино, закусывали хурмой, которую считали самым полезным фруктом, обладающим целебными свойствами. Матвей слушал внимательно, изредка задавал вопрос или вставлял краткую, но весомую реплику и опять слушал. Все, о чем рассказывал Гризул, было очень интересно. Италия произвела на главного инженера впечатление не только историческими памятниками культуры, но и контрастными парадоксами современной жизни. Гризул говорил о заводах "Фиат", на которых знакомился с организацией производства, о забастовках, о межпартийных баталиях, о движении за выход страны из НАТО. Но больше всего Матвея интересовали встречи Гризула с представителями интеллигенции, так называемыми интеллектуалами и авангардистами. У одного из них - Артуро Леви - Николай Григорьевич побывал в гостях. Вечер провели в интересной беседе, в откровенной дискуссии. Леви - кинодеятель прогрессивных взглядов, принадлежащий к партии Ненни, не раз бывал в Москве и с симпатией отзывается о нашей стране, где у него много друзей среди творческой интеллигенции. Кроме Гризула и нескольких итальянцев в гостях у него в тот вечер были чешский профессор права, польский журналист и французский бизнесмен - все, по словам Николая Григорьевича, милые, симпатичные люди, с которыми легко и просто было найти общий язык, несмотря на различный подход к некоторым вопросам современности. В конце концов, как сказал кто-то из популярных, важно не то, что разъединяет, а то, что объединяет людей. Да, там, на Западе, внимательно и с сочувственным пониманием следят за творческой активностью молодой поросли деятелей советской культуры. Издают стихи Воздвиженского, Капарулиной и еще каких-то неизвестных на родине соотечественников Гризула. Интересуются новаторскими поисками молодых художников и осуждают встречи на высшем уровне, которые проходили в Манеже.
- Да, между прочим, - оставив спокойный повествовательный тон, встрепенулся Гризул, - итальянцы и французы собираются ставить фильм по мотивам пьесы Макса "Трое в постели". Надеются на успех у публики.
Но это сообщение не очень интересовало Матвея, он пропустил его мимо ушей и заметил совсем о другом, о том, что было ближе его душе:
- Да, но наши молодые художники нового направления после критики их в Манеже не могут реализовать свои работы.
- А что ты хотел? Это вполне логично: государство не платит деньги за искусство, которое оно официально не признает, - сказал Гризул. - Нет дураков, чтоб выбрасывать деньги на ветер. Рокфеллер ни одного цента зря не заплатит. Он поддерживает и поощряет тех, кто работает на него, кто служит его системе.
- Все это так, - согласился Матвей. - Но нашим молодым экспериментаторам не на что жить. На пустой желудок трудно экспериментировать. А разве они виноваты, что живут в стране, где нет богатых меценатов?
- Богатые есть, меценатства как такового нет, не принято, - поправил его Гризул и снова стремительно сообщил, наливая Златову вино: - Между прочим, абстракционизм и там всем надоел, кажется, изжил себя и выходит из моды. У Артуро Леви много говорили о странном интервью Пикассо, опубликованном во "Франкфурте Руншау". Довольно печальная исповедь великого старца. Вот послушай, что он говорит. - Гризул поднялся, достал отпечатанные на машинке два листочка и, сев в кресло, начал читать: - "…Многие из нас становятся художниками по причинам, имеющим мало общего с искусством… Люди уже не ищут в искусстве утешения и чего-то высокого. Самая утонченная, состоятельная часть, дистилляторы квинтэссенции требуют нового, оригинального, экстравагантного, скандального. И я, начиная от кубизма и далее, доставлял удовольствие этим господам и критикам всевозможными экстравагантностями, которые приходили мне в голову, и чем меньше их понимали, тем больше мной поражались, и чем больше я забавлялся всеми этими играми, всеми этими загадками, ребусами и арабесками, тем больше приходила ко мне слава. А слава для художника - значит распродажа, прибыли, богатство. Сейчас я, как знаете, известен и очень богат, но когда я остаюсь наедине с самим, собой, у меня не хватает смелости видеть в себе художника в старом, великом значении этого слова. Джотто и Тициан, Рембрандт и Гойя были великими художниками. Я - всего лишь развлекатель публики, который понял свое время. Это мое признание горько и больно, но оно заслуживает того, чтобы быть искренним".
Гризул кончил чтение и с каким-то настороженно-торжествующим любопытством уставился на Златова. Матвей молчал. Лицо его было непроницаемым, серым, точно изваянное в граните. Наконец, сказал с осуждением:
- Совершенно безумная откровенность. Не всякие мысли можно высказывать вслух, даже если ты общепризнанный гений.
- Что говорить - неосторожная исповедь. То, что можно говорить духовнику, нельзя доверить репортеру, - согласился Гризул, протягивая Златову странички интервью.
- Ты мне перепиши: я покажу Климову. - Но, быстро пробежав глазами весь текст - Гризул прочитал вслух лишь выдержку, - сказал: - Впрочем, не нужно Климову. И вообще, это незачем афишировать. Было бы лучше, если б Пикассо отказался от этого интервью.
Гризул вопросительно сверкнул очками.
- Заявив, что он никакого интервью не давал, - пояснил Златов.
- А если оно записано на магнитофонную ленту?
- Ее можно купить. Только и всего.
Гризул довольно заулыбался: как такая простая мысль не могла прийти ему в голову!
Весна - пора любви.
Эта весна принадлежала Роману Архипову - целиком, безраздельно, вся без остатка: с молодыми бульварами, чистыми и свежими после теплых дождей, с кварталами новых многоэтажных домов, сверкавших пестрыми балконами, как празднично расцвеченные корабли в Севастопольской бухте, с веселой суетой центра столицы, с мостами через Москву-реку и подземными переходами, с бронзовым Пушкиным, задумчиво склонившим голову перед бесконечным потоком толпы устремленных куда-то потомков, с кремлевскими звездами и дворцами ВДНХ, с шумными цехами и зеленым двором завода "Богатырь". Роман любил так, как любят чистые, мужественные сердца, уверенные в том, что до них еще никто на свете так не любил.
В субботний предвечерний час они бродили по Выставке достижений народного хозяйства, любовались фонтанами, простором и покоем. Пока еще здесь не было многолюдно, как в летние месяцы. Тихая улыбка озаряла лицо Юли. И обычная застенчивость Романа, под которой пряталось лучшее, что в нем было, растворялась постепенно. Он даже спросил ее, глядя себе под ноги:
- Почему ты не выходишь замуж?
- Потому что я не хочу быть просто женщиной, хочу быть богиней, - игриво ответила Юля. И вдруг, сделавшись задумчивой, сказала: - А вообще, я, пожалуй, сегодня отвечу на твой вопрос.
И Юля заговорила. Она выложила ему все, что было у нее на душе. Роман слушал, не перебивая. Рассказывала она торопливо, сбивчиво, потому что волновалась, опуская иногда интересное и важное, подробно останавливаясь на незначительном. Начала с того, как впервые приехала в Москву с аттестатом зрелости и золотой медалью отличницы, как впервые робко переступила порог университета.
- Я была - сама мечта и романтика. Комсомолка-активистка, дочь партизанского командира, я смотрела на жизнь так, как смотрели те, кто боролся за революцию, кто сражался с фашистами. Я была такой, которых теперь называют "ортодоксами". Словом, я была патриоткой. И вдруг в университете я узнаю, что это старо, несовременно, что я - глухая провинция, у молодежи теперь новые веяния и новые идеалы. Так говорили не только многие из студентов, подкатывавшие к университету на папиных машинах, но и некоторые преподаватели: на лекциях, и особенно после, когда мы окружали их в перерыве, задавая откровенные вопросы. Я не хотела быть отсталой, дремучей провинциалкой, старалась стать современной, заставляла себя отказываться от того, чему поклонялась и безраздельно верила. Это было время "переоценки ценностей", удивительных и странных открытий. Я брала пример с моих столичных коллег - папиных дочек и сынков, которые в моих глазах олицетворяли авангард века. Я зачитывалась "Юностью", узнала, что Шолохов, Фадеев, Фурманов, Николай Островский - это, мол, памятники, история, к которой не стоит возвращаться.
Как-то в общежитии, сидя у репродуктора, я заслушалась "Уральской рябинушкой". Моя соседка по комнате Лика Травкина - теперь она стала московским литератором - с иронией спросила меня: "И тебе нравится этот примитив?.." - "Хорошая песня", - ответила я. "Бедная, - пожалела меня Лика. - В тебе еще живет деревня с балалайкой и частушками. А мы вот не принимаем деревенских песен. Нас они не трогают. Скажешь, это непатриотично? Нас надо за это казнить?" И пошла, и пошла выкладывать себя. Она даже не знала, что "Уральская рябинушка" не деревенская, а городская песня. "Тебе, наверное, и "Аленушка" в Третьяковке нравится? Сидит босая, непричесанная девка у лесного пруда и плачет. А чего плакать, чего строить трагедию? Подумаешь: что случилось? Иванушка изменил? Ну и что - измени ты ему. Или эти так называемые "Богатыри" - древние бородатые купцы на конях. Позируют. Или "Дети в грозу". Художник хотел передать психологию детского страха. А что, получилось? Жалкий лепет. Грозы испугались. Ну и что? Пусть сидят дома. Кому это интересно? Нам, нашему поколению? Зачем? Мы грозы не боимся, мы идем на грозу". Так перевоспитывала она меня. Правда, я однажды взорвалась и наговорила ей резкостей. Но она выслушала меня и спокойно ответила: "С такими вкусами, как у тебя, вообще не стоит жить".
В те годы там, в университете, я узнала, что теперь и любовь тоже новая, свободная, раскрепощенная от условностей и традиций. И люди другие. Так живут на Западе. Мы старались подражать Западу. Во всем. У нас это считалось бороться с последствиями культа. Между прочим, когда я была за рубежом, далеко от Родины, один американский журналист, коллега моего друга, сказал: "С Россией мы воевать не будем. Русских коммунистов и Советы уничтожим мирным путем. Руками нового советского поколения, которое воспитаем мы. Воспитаем в нашем духе". - "Растлите?" - уточнила я. "Если хотите, да", - ответил он самоуверенно. "Всю молодежь?" - спросила я. "Зачем всю? Всю и не нужно. Достаточно студенчества", - сказал он. "Вы так думаете? По-вашему, какая-то жалкая кучка подонков может уничтожить Советскую власть?" - "Вы забываете, - уточнил американец, - что у руководства страной будут стоять не те молодые люди, которые работают на заводах и на фермах, а те, которые учатся в университетах". - "Вы плохо знаете советский народ", - ответила я, "Что народ, - ухмыльнулся он. - Народ никогда ничего не решал: за него решают те, кто у власти. А они, как правило, народа не любят, не понимают и часто презирают".
Меня поражал его откровенный цинизм и то, как он разговаривал со мной, словно я была посторонней, чужой советскому народу. Я сказала, что он меряет все на буржуазный аршин. Он возражал, считая меня наивным ребенком, похвастался своим знанием СССР, где он дважды бывал.
Разговор этот происходил в Австрии, в Венском лесу, в небольшом ресторанчике. Внизу в сиреневой дымке лежала красавица Вена, а у меня на душе было такое, хоть плачь. Хотелось крикнуть этому подлому американцу прямо в лицо: "Неправда! Неправда! Вы не знаете Советской власти, нашей страны и нашего народа!" Слова его мне тогда запали глубоко в душу и, быть может, помогли многое понять и разобраться в собственной судьбе.
Она замолчала и, остановившись у скамейки между фонтанами "Каменный цветок" и "Дружба народов", рассеянно предложила:
- Посидим?
Роман с готовностью согласился.
- Ну вот, - продолжала Юля, силясь восстановить утерянную нить разговора. - О чем я? Ах да… Университет. Там я узнала вкус вин и коньяков, познакомилась со студентом-иностранцем. Звали его Азиз. Красивый парень. Арабы вообще интересные. Полюбила его. Он был внимателен, нежен. Думаю, что по-своему и он любил меня. Племянник короля небольшого государства, он был избалованный, но не глупый парень. Поженились. Закончив Московский университет, мы уехали в его страну. Экзотическая южная страна, богатая и нищая, трудолюбивый народ, который грабили все, кому не лень. Столица - вполне современный европейский город, с большими магазинами, красивыми зданиями. Особняки в тенистых парках, кинотеатры, клубы. Но все это принадлежало не коренному населению, а европейцам, которые фактически оккупировали страну… Они - владельцы и домов, и особняков, и магазинов, и кинотеатров. В их руках не только финансы и экономика страны. Они захватили и духовную жизнь. Разрушили национальную культуру, перенесли сюда свою, европейскую, чуждую духу народа. Король там полновластный хозяин. Все государственные посты заняты его родственниками. Советники и эксперты - иностранцы, которых народ ненавидит, а король им покровительствует. Особенно ненавидит народ зятя короля - молодого авантюриста, циника и развратника. Сын француженки и араба, до женитьбы на дочери короля он жил во Франции, служил актером в какой-то бродячей труппе, газетным репортером в бульварном листке. Ловкий, изворотливый современный модерн-Растиньяк, растленный до предела, он сумел соблазнить королевскую дочь и, став зятем, сразу получил два министерских портфеля: иностранных дел и культуры. Выписал из Франции бывших своих дружков - всякую мелкотравчатую шваль, заполнил ими свои министерства. И делали они там, что хотели, прежде всего бизнес. Ну и "развлекались". Главное действующее лицо в моей истории - королевский зять. Я ему приглянулась. Он об этом прямо сказал мне. А потом Азизу: "Она будет моей любовницей". А Азиз не посмел ослушаться:" это грозило расправой. Фактически мой муж продал меня, свою законную жену, продал, подарил или просто уступил деспоту, перед которым все трепетали и заискивали. Я задумала убить королевского зятя и покончить с собой. В лесу на охоте стреляла в него. К сожалению, только ранила. Потом я бросилась в густые заросли тропического леса. Около месяца скиталась в джунглях, пока не встретила Рихарда, австрийского журналиста. Нас познакомил Азиз в первые дни нашего приезда в страну. Рихард помог мне добраться до Австрии.
Юля умолкла и облегченно вздохнула. Теперь Роман знал о ней все. Она думала, что Роман станет расспрашивать ее о подробностях, о муже и Рихарде. А он только сказал:
- Значит, там теперь республика? Народ все же пришел к власти!
- Да как сказать… Обстановка в стране сложная. Монополисты нашли на Западе двух негодяев, полуарабов-полуфранцузов, вроде королевского зятя. Эти два типа прошли специальную подготовку, затем их забросили в королевство, где они стали выдавать себя за коммунистов-патриотов, вести якобы революционную работу. Вскоре их арестовали и судили. Печать об этом трубила, создала им рекламу. Их приговорили к смертной казни, но те же монополии устроили им побег. Так в стране была создана легенда о двух героях-патриотах. Когда свергли короля и установили республику, те двое спешно прибыли из эмиграции и вошли в правительство республики. Так что понимаешь, как там это все сложно. Монополии - это международная организация, имеет свою агентуру по всему свету и прямо или косвенно контролирует правительства многих стран.
Он с восхищением смотрел на молодую женщину, которая благодаря своему жизненному опыту, казалось, была старше его лет на десять.
Из репродукторов звучали мелодии. И вдруг голос диктора:
- Юлия Елисеевна Законникова! Вас ждет муж у Главного входа.
Четко, ясно, громко по всей территории. И снова через несколько секунд:
- Юлия Елисеевна Законникова! Вас ждет муж у Главного входа.
- Юля, тебя, - вздрогнул Роман и поднялся. - Ты ведь Елисеевна?
- Все сходится, только это не меня, - взволнованно отозвалась Юля. И потом, немного смутившись, пояснила: - Никакого мужа у меня нет.
- Ну хорошо, а вдруг? - предложил Роман, видя ее неловкость. - Иди. Иди-иди. Ведь ждет же человек.
Юля стояла в нерешительности. Большие глаза округлились, лицо побагровело.
- Ничего не понимаю, - растерянно проговорила она, теряясь в догадках: кто это? Азиз? Откуда? Почему вдруг? Нет, не может быть. Тогда Рихард? Тоже невероятно: Рихард не позволит себе дать такое объявление, потому что она не была его женой.
Юля доверчиво взяла Романа под руку и впервые за все время их знакомства прижалась к нему, точно искала защиты и совета. Роман, почувствовав ее близость, ласково сказал:
- Иди, Юля.
Она покачала головой и, прикрыв глаза, упавшим голосом произнесла:
- Нет, я не пойду.
- Но почему… Юля? Пойдем вместе… если ты, конечно, не возражаешь.
- С тобой, да, - прошептала она и еще крепче прижалась к Роману.
Они направились к Главному входу.
Саша Климов выскочил от Глебова, не чувствуя под собой ног. Шутка ли - директор Дома культуры! "Что это значит?" - спрашивал он себя. Но с ответом не спешил: ведь он мечтал стать журналистом. Он спал и видел свои вдохновенные очерки в центральных газетах, подвалы, под которыми красовалось его имя. Пределом же мечты, смыслом жизни была книга стихов и поэм Александра Климова (без всяких псевдонимов). Вот она выставлена на стенде новинок Вероникой, этой хотя несколько и чопорной, но очаровательной девушкой. Саша мечтал об университете. Он понимал: как дорога к звездам идет через космос, так путь к мечте лежит через образование. В этом году Саша обязательно поступит в университет. Если не на очное, то на заочное отделение. А как же Дом культуры? Надо посоветоваться, и прежде всего с Архиповым. Где он сейчас может быть? Саша вспомнил, что Роман договаривался с Юлей пойти на ВДНХ, и помчался на выставку. Но как их там разыскать? Это все равно, что искать пятак во ржи. И тут он услышал голос диктора, который передавал по радио объявления: "Георгий Тимофеевич Звонарев! Вас ожидает друг у входа в павильон "Электроника".
- Идея! - воскликнул Саша и помчался на радиоузел, сочиняя на ходу текст объявления. Может, так: "Роман Васильевич Архипов! Тебя ждет друг у Главного входа." Нет, Архипов сразу догадается и не подойдет. И тогда Саша решил дать то объявление, которое так взволновало обоих - Юлю и Романа.
К самому входу Юля пошла одна: Роман сел на скамейку невдалеке от ворот. Саша Климов появился перед ним, как из-под земли, неожиданно, - веселый, по-озорному улыбчивый, дурашливо импровизировал:
Там у дворцов за фонтанами где-то Ищет товарищ Ромео Джульетту. Ищет давно и никак не находит. А солнце взойдет, потом снова заходит. Мы ему скажем: "Товарищ Ромео, Любит другого коварная дева".- Ты не меня ждешь? - все так же насмешливо спросил Саша. Роман сразу догадался:
- Объявление ты дал?
- Должен признаться - да. Вынужден был. Обстоятельства…
- Удивляюсь, как это у тебя хватило ума?
- Безвыходное положение. В таких случаях говорят: голь на выдумки хитра.
- Так вот что, голь, иди к Юле и проси прощения.
- Но мне сначала надо поговорить с тобой… Важное дело.
- Сначала попросишь прощения, - очень решительно сказал Роман. - Это и есть самое важное дело.
Саша понял, что друг свирепеет не на шутку. И со словом:
- Понимаю, - смущенно побрел к воротам.
Увидев Климова, Юля не рассердилась, а почему-то даже обрадовалась И сразу спросила:
- Так это ты? Твои проделки? - Он виновато кивнул. - Ох… Отлегло от сердца.
- Я должен принести тебе мои извинения. Могу перед всем народом, публично. Но ты мне очень нужна. Ты и Роман. Я хочу с вами посоветоваться.
Разумеется, ему была не столько нужна она, сколько Роман. Но раз уж так получилось, рассказал обоим о предложении Глебова. Вопреки его ожиданию ни Роман, ни Юля не выразили восторга или хотя бы радости. Юля сказала озабоченно:
- Дело серьезное.
Роман съязвил: .
- Судя по сегодняшнему твоему легкомысленному поступку, ты еще не дорос до такой ответственной должности. Не дозрел. Мальчишка.
- Ну будет тебе: Юля меня простила. Я понимаю, что дело серьезное и потому сразу помчался разыскивать вас. Завтра я должен дать ответ: да или нет.
- А сам ты как считаешь? - уже серьезно спросил Роман.
Саша ответил не сразу, он думал. Думать заставили сдержанность Романа и Юли. Значит, сам он чего-то недопонимал, возможно, переоценивал свои способности и несколько легкомысленно отнесся к предложению. Ну что же, может, и в самом деле ответить "нет"? А Роман уже говорит своим спокойным вдумчивым тоном:
- Спортивную работу надо будет по-настоящему наладить. Кружки, выставки, интересные вечера, читательские конференции… Теперь ты Веронике можешь назначать свидание в приказном порядке.
- Это уже будет считаться использованием служебного положения в корыстных целях, - вставила Юля.
- Хватит вам шутить, я ведь серьезно. Я понимаю, что без вашей помощи, я имею в виду комитет, и без помощи Емельяна Прокоповича мне не потянуть.
- Потянешь, - уже твердо сказал Роман. - Потянешь, Сашок, с нашей помощью.
Юна Маринина во время большой перемены спросила Ладу:
- Вам телефон не поставили?
- Нет. А вам?
- Нам подключили, - с чувством превосходства ответила Юна и, перейдя на шепот, сообщила: - Тебя хочет видеть Дин.
- Димка? - оживилась Лада.
Диму Братишку Лада не видела со времен встречи на турбазе, часто думала о нем. Он был первый мальчик, который сказал: "Ты мне нравишься" - и пытался ее поцеловать.
- Позвони ему, - намекнула Юна.
- Что? Никогда! - с притворной строгостью отрезала Лада. - Пусть он…
- Дурочка. Он бы тебе уже раз сто позвонил. А куда? На деревню дедушке? Хочешь, я позвоню, поговорю с ним, а ты будешь слушать.
Это было в субботу. После уроков из автомата Юна звонила Диме Братишке. Лада стояла в телефонной будке, розовая от волнения.
- Хэлло, Дин! Это ты? Я тебя сразу узнала. Как поживаешь? Мы? Я? Экзамены начинаются. Лада? Рядом со мной. Передать трубку? С удовольствием.
И Лада услышала его голос.
- Здравствуй, золотая, - развязно сказал он.
- Здравствуй, - ответила она сдержанно и с досадой подумала: хоть бы Юна вышла из будки.
- Я хочу тебя видеть. Я по тебе соскучился. Ты завтра что делаешь?
- К экзаменам готовлюсь.
- В воскресенье и выходной не грех бы сделать. Или давай так: часов до двенадцати ты занимаешься, а в час мы встречаемся с тобой. Устраивает?
- Хорошо, - ответила Лада не очень решительно.
- Только точно, - предупредил Дима. Не дав ей опомниться, назначил: - Значит, ровно в час у памятника Юрию Долгорукому. Напротив Моссовета.
Лада о многом могла бы спросить Братишку: почему именно в час, а не в два, почему у Долгорукого, а не у Маяковского. И вообще, почему он ей диктует? Но, во-первых, такие вопросы неудобно было задавать при Юне, и, во-вторых, ей очень хотелось встретиться с Димой.
С утра она села за учебник истории. Но ничего не шло в голову: события казались скучными и совсем ненужными. Куда интересней казалось то, что ждало Ладу после двенадцати часов. Все ее внимание было приковано к будильнику, стоявшему на серванте. Брат сидел в этой же комнате и занимался сопроматом.
- Коля, наши часы правильные? Сколько на твоих?
Будильник точно совпадал с Колиными часами. В двенадцать Лада сказала матери, что едет к подруге проконсультироваться по неясным вопросам, собралась уходить.
- Ты что так вырядилась? - насторожилась мать. Лада была одета в свое лучшее платье, на ногах новые, купленные к Первомаю туфли.
- Сегодня воскресенье, - схитрила Лада, пытаясь скрыть смущение.
- Смотри, - предупредила мать.
К часу Лада была на Советской площади, над которой распростерлась бронзовая рука основателя Москвы.
На князя Долгорукого какие-то иностранцы наводили объективы кинокамер и фотоаппаратов. День был пасмурный, над городом громоздились синие тучи, угрожая неуместным в воскресенье дождем.
Дима появился внезапно, вынырнув из толпы и с той стороны, откуда она меньше всего ожидала. Он был весь васильковый: яркие васильковые брюки и чуть посветлее шерстяная рубашка. Броские - синее с красным - носки. С тихой беспечной улыбкой на бледном лице Дима спросил:
- Не опоздал?
- У меня нет часов, - ответила Лада, преодолевая волнение.
- Вот какая ситуация, - Дима взял ее за локоть, увлекая за собой. - Я думал, мы где-нибудь погуляем. Но сейчас пойдет дождь. Зайдем ко мне, здесь рядом, и там решим.
- К тебе? Не-ет, - наотрез отказалась Лада.
- Дома никого нет: предки на даче, раньше утра не вернутся, - пояснил Дима "ситуацию", которую он заранее продумал до мелочей.
- Тем более, - решительно подтвердила Лада свой отказ. - Это неприлично.
- Какая чепуха! - Дима расхохотался. - Что с тобой, Ладочка, ты ли это, моя золотая? Не узнаю… Во-первых, я не выключил газ. Во-вторых, я тебе покажу такие магнитофонные записи - обалдеешь. Шик-модерн… В-третьих, я покажу тебе такие кинокадры, которых ты никогда нигде не увидишь. Сам снимал на пляжах Черного моря и в других местах. Хол был моим ассистентом. Понимаешь, ассистент оператора. В-четвертых, я подарю тебе последний сногсшибательный номер "Юности". Или ты выписываешь?
- Нет, папа и брат не любят этот журнал.
- Какие ретрограды! - воскликнул Дима и с преувеличенным сочувствием добавил: - Боже мой, представляю, как тебе с ними трудно.
- А что такое ретроград? - подумав, спросила Лада.
- Ну, в общем, те еще… остатки.
Теперь для нее это уже был прежний Дима, не тот, которого она увидела на турбазе, а другой, хороший мальчик. И хотя она знала, что идти к нему на квартиру неприлично, но соблазн был слишком велик: сногсшибательные магнитофонные записи, не считая свежего номера "Юности". После настойчивых уговоров она сдалась, решив, что зайдет совсем ненадолго.
Обстановка генеральской квартиры Ладу поразила: дверь зеркального стекла из просторной прихожей вела в гостиную, в которой виднелась фарфоровая люстра работы немецких мастеров, удобная мягкая мебель, ореховое пианино, до блеска натертый паркет - такого еще не приходилось видеть Ладе. У Димы отдельная комната, светлая, правда, не отличающаяся особым порядком. Два стола: письменный и журнальный, диван. У журнального столика - два кресла, заваленных кинолентами. На одном столе - кинопроектор, на другом -магнитофон, какие-то иностранные иллюстрированные журналы в пестрых обложках, с которых скалили зубы смазливенькие кинозвезды.
Дима делал все, что обещал. Выключив на кухне газ, завел магнитофон: ей не понравились бешеные визги джаза; показал киноленты, после которых Лада вся запылала румянцем; преподнес ей журнал "Юность". Ко всему этому еще прибавились: коробка шоколадных конфет, ананасы и шампанское с коньяком. За окном, выходившим на улицу Горького, по темному асфальту хлестали светлые плети дождя, загоняя прохожих в магазины и подъезды. Дима был рад дождю: он принуждал их сидеть в квартире, а это и входило в его планы.
Второй раз в своей жизни Лада захмелела от вина и от новой обстановки, в которой находилась. Робко войдя в квартиру Братишки, она через полтора часа уже успела так освоиться, что на какой-то миг почувствовала себя хозяйкой, взрослой и самостоятельной. Ей это было приятно. Она не очень противилась, когда Дима ее поцеловал. Ее охватило чувство, которое она не в состоянии была выразить. Она не то что хотела дать волю инстинктам, а просто с тайным любопытством желала новых, не изведанных ею ощущений, о которых читала в популярном молодежном журнале. И именно не свои, а чужие слова она сказала заплетающимся языком, когда Дима притворился обиженным:
- Хорошо, я буду твоей…
Потом Лада плакала, ненавидя его и презирая себя. Настойчиво спрашивала, глядя сквозь слезы в его холодные глаза:
- Ты любишь меня? Дима?
- Поздновато спрашиваешь: надо было чуть пораньше, - цинично бросил он.
Что-то зловещее было и в его словах, и во взгляде. И Лада почувствовала себя маленькой, беспомощной и беззащитной.
Зазвонил телефон. Дима снял трубку. Ефим Поповин напоминал:
- У тебя включен телевизор?
- Нет, а что?
- Как что? Ты забыл?!! Забыл, что через час увидишь меня на голубом экране? Кстати, напомни и своему родителю, скажи, что выступает твой шеф, доцент из университета. Он таки на даче? Ну позвони ему туда и напомни, пусть немедленно включит телевизор. Будь здоров, звони и не пропадай. Ты мне в эти дни понадобишься.
Пока Дима разговаривал по телефону с Поповиным, а затем с отцом, Лада, не простясь и оставив "Юность", тихо исчезла. Дима не удивился и тем более не огорчился.
Ефим Поповин не мог жить без коммерческих махинаций. Казалось бы, что человеку еще надо? Все есть: квартира, дача, машина, должность директора коммерческого склада стройматериалов, кругленькая сумма на черный день. И все-таки чего-то ему недоставало для полноты счастья - быть может, еще одной тысячи и… славы.
Однажды он прочитал на последней странице "Известий" лаконичное объявление: "Инюрколлегия по наследственным делам разыскивает по делу Михаила Гершберга его сына Павла Николаенко". Прочитал и ахнул, осененный грандиозной мыслью.
- Послушай, Хол, - спросил он присутствовавшего при сем Мусу Мухтасипова, - твоего дружка Николаенко Пашкой звать?
- Ну допустим.
- Срочно тащи его ко мне.
- На предмет?
- На, читай, - и он сунул под нос Мусы "Известия". - Ты можешь стать миллионером.
Муса был сообразительный парень по части "комбинаций", пожалуй, даже превосходил самого Поповина. Он сразу разгадал "идею" Ефима Евсеевича. Скорчив физиономию, он обронил:
- Ничего не выйдет: наследство Михаила Гершберга вы не получите.
- Ты уверен?
- Пашкиного отца зовут не Михаил, а Тарас. Это раз. Пашкина фамилия оканчивается на "в" - Николаенков. А вам нужна голенькая, без этого дурацкого "в". Это два. И, наконец, Пашкин отец жив и работает в каком-то НИИ. Это три.
- Отпадает, - сокрушенно вздохнул Поповин, облизывая свои мясистые облезлые губы. - Считай, что миллион с тобой упустили.
- Зачем вам миллион? - Лисья мордочка Мусы вытянулась, в хитрых глазках заиграли огоньки. - Вам что, мало?
- С меня хватит. Я могу и на зарплату прожить. И живу. О тебе забочусь и о твоих дружках. Где Дин? Что-то его давно не видно.
Читая в газетах о героях Отечественной войны, имена и подвиги которых стали известны людям только теперь, Поповин с завистью думал: а ведь я тоже воевал. С самого первого дня, с первой минуты. Почему ж обо мне не пишут, почему не награждают? И он решил добиваться восстановления справедливости. Да, в роковое утро 22 июня сорок первого года рядовой Ефим Поповин вместе со старшим пограничного наряда поваром Матвеевым был на границе и сделал первый выстрел по фашистам. Поповин струсил, бой с фашистами вел Матвеев, пока не был ранен. Тогда Поповин, посоветовав Матвееву сдаваться в плен, бросил товарища и убежал на заставу, где доложил лейтенанту Глебову о своих "подвигах" и о том, что Матвеев убит. Он был уверен, что фашисты прикончат раненого пограничника. После войны Ефим Поповин, чтобы удостовериться в точности своего предположения, поехал на родину Матвеева, в Ярославскую область, и там окольным путем узнал: Матвеев не вернулся с войны. Родные и близкие считают, что он погиб в первом бою на границе. Поповин торжествовал: единственный свидетель унес на тот свет правду о предательстве Ефима Поповина.
Но это было не совсем так. Два пограничника пятой заставы встретились в фашистском плену: Матвеев и Федин. Первый рассказал второму о трусости Поповина, Леон Федин, бежавший затем из лагеря военнопленных; сообщил о Поповине Глебову и Ефремову. Поповин же не знал этого, поэтому действовал напористо, расчищая себе путь к воинской славе. Прежде всего, на чистом пожелтевшем листке, вырванном из старой, довоенной тетради, Ефим простым карандашом написал:
"Дорогие товарищи! Родина, братья и друзья!
К вам обращается комсомолец, пограничник Поповин Ефим Евсеевич в свой предсмертный час. На пятой заставе, которой командовал лейтенант Глебов, я со своим другом Матвеевым встретил огнем десанты врага. Свыше десяти гитлеровцев мы уничтожили в первые минуты войны гранатами и винтовками. Матвеев погиб, а я через кольцо врага прорвался на заставу. Лейтенант Глебов послал меня с донесением в штаб отряда. Я пробирался по территории, захваченной врагом. Я пробирался вдоль шоссе, по которому шли колонны немцев. Недалеко от деревни Городище возле взорванного через речку моста я подошел к самому шоссе и стал ждать в кустах. Тут густой лес подходит к дороге. Колонна немецких машин остановилась у моста. В кузовах грузовиков много солдат. Я бросил две гранаты в две машины, в самую гущу. А потом стал в упор расстреливать других из автомата. Около сотни вражеских солдат и офицеров нашли себе могилу на шоссе у взорванного моста. Мне удалось благополучно скрыться в лесу. А на другой день я напоролся на засаду врага. У меня не было ни гранат, ни патронов - все израсходовал у взорванного моста. Донесение начальника заставы я успел уничтожить. Меня допрашивали и пытали гестаповцы, но я ничего не сказал. Я знаю, утром меня казнят, расстреляют или повесят за то, что я не нарушил присягу. Смерть меня не страшит! Я верю в нашу победу! Да здравствует коммунизм! Прощайте, товарищи! Бейте фашистских гадов так, как били их мы, советские пограничники.
Поповин Е. Е.
26 июня 1941 г.".
Писал с нарочитой торопливостью, неровным почерком, что должно было свидетельствовать о душевном состоянии автора. В грубую ложь были вкраплены крупицы правды, вкраплены продуманно, с определенной целью: замаскировать, припудрить вымысел. Поповин действительно служил на пятой погранзаставе и в первые минуты войны находился в наряде с Матвеевым. Верно и то, что начальник заставы Емельян Глебов посылал его с донесением в штаб отряда. Вот и все.
Закончив с "предсмертным" письмом, Ефим раздобыл дешевенький металлический портсигар довоенного образца и на внутренней стороне крышки гвоздем нацарапал свои инициалы и фамилию: "Е. Е. Поповин". Вложил в портсигар "письмо потомкам" и на целый год закопал его в рыхлую землю на огороде своего дачного участка. Через год, в середине мая, он взял портсигар, отвез в Белоруссию, туда, где происходила на границе описанная им "баталия", и подбросил во двор школы.
Как и предполагал Ефим Поповин, пионеры нашли ржавый портсигар и прочли сохранившуюся записку "героя". Вскоре "поповинское сочинение" появилось на страницах столичной газеты, редакция которой просила читателей, лично знавших Поповина, прислать о нем свои воспоминания, которые дополняли бы портрет героя. В тот же день в редакции раздались звонки друзей и знакомых Поповина, сообщавших, что герой жив, здоров и что этот скромный человек честно трудится на благо Родины. Через неделю в той же газете появился очерк Лики Травкиной, в котором красочно расписывались "боевые подвиги" Ефима Поповина. Из очерка читатели и узнали, как герой чудом избежал петли: деревню, где стояли немцы, ночью якобы бомбила наша авиация, и ожидавшему смертной казни Поповину удалось в сумерках скрыться. Через некоторое время новоявленному герою Алик Маринин предложил выступить по телевидению. ОБХСС, заинтересовавшемуся было деятельностью лесосклада, стало как-то неловко, когда там узнали о неожиданном "посвящении в герои" его директора, скромного и честного труженика. Поповин тем временем торопился: важно не дать опомниться. Кто-то должен был возбудить ходатайство о присвоении ему звания Героя Советского Союза. На своего бывшего начальника Емельяна Глебова он не рассчитывал, хотя не прочь был заручиться его поддержкой. Недаром же в очерке Лики Травкиной упоминалось имя лейтенанта Глебова. А сам Поповин, выступая по телевидению, так и говорил:
- Мне особо хочется сказать доброе слово о Емельяне Прокоповиче Глебове, под умелым командованием которого наша пятая пограничная застава нанесла тяжелый урон врагу.
Больше надежд Поповин возлагал на отца Димы, генерала Братишку, о котором уже имел кое-какие сведения. Максим Иванович был человек отзывчивый, душевный, мягкого, покладистого характера. Именно на доверчивости генерала и строил свои расчеты Ефим Поповин.
Говорят, на ловца и зверь бежит. На следующий день после выступления по телевидению Дима позвонил Поповину:
- Сенсация, Ефим Евсеевич! Неслыханно. Вы знакомы с моим предком? Ну вспомните. - Нет, Ефим не помнил. Точнее, он не знал, что ему надо вспомнить. - Вы не встречались с ним на границе в сорок первом? Ну вспомните!
- Не помню, - признался осторожный Поповин. - А что такое? Не морочь мне голову, говори быстрей.
- Да генерал-то мой тоже на пятой заставе был в первый день войны и этого вашего начальника, как его?..
- Глебова, - подсказал встревоженный Поповин.
- Ну да, Глебова, хорошо знает.
- Летчик-лейтенант! - вспомнив, воскликнул Поповин. - Ну как же! Отлично помню. Его над нашей заставой сбили. Так это твой отец? А ты не шутишь?! - закричал от радости Поповин.
Было от чего восторгаться. Сама судьба шла ему навстречу. Все складывалось как нельзя лучше. Теперь Поповин обязан был встретиться с Глебовым и Братишкой. И немедленно, пока свежи в их памяти его выступления по телевидению и газетный очерк. Генерал Братишка "в курсе", об этом позаботился Дима. А вот Глебов, как все это он воспримет? Прочел ли он очерк, смотрел ли передачу? Правда, два номера газеты Ефим Поповин всегда носил при себе. В понедельник в шестом часу вечера он позвонил Глебову по телефону на квартиру. Позвонить на работу и попросить о встрече Ефим не захотел. Чего доброго, Глебов может сказать: "Что ж, приезжай, заходи в партком, буду рад". А что это за встреча в служебном кабинете? Терпеть этого не мог Ефим Евсеевич. Разговор по душам не получится. Пригласить в ресторан или к себе домой - неизвестно, как обернется дело. Во всяком случае, для первой встречи это не подходит. Самое лучшее - встретиться на квартире у Глебова.
Полную информацию о семье Емельяна он получит от Маринина.
Глебов был осведомлен о неожиданном появлении нового "героя" войны. Когда читал очерк - не верил своим глазам. Перед ним была циничная ложь. Емельян еще мог бы поверить в героические приключения Поповина после того, как послал его с донесением в штаб, если бы Поповин не врал в первой части своей записки, разрисовывая свои подвиги на границе в первые минуты войны, когда он находился в наряде вместе с Матвеевым. Глебов-то знал, как было все на самом деле, как Поповин струсил и предал Матвеева. Теперь ему было совершенно ясно: врет во всем.
Емельяна не раз подмывало выключить телевизор, позвонить на студию и сказать: "Товарищи, что вы делаете, кого выпустили на трибуну?! Миллионы людей с восхищением смотрят и слушают его, не подозревая, что перед ними авантюрист!" Но Глебов тут же вспомнил, что на студии теперь работает Маринин, поэтому желание обращаться туда у него отпало. Тогда он решил написать протест в газету, разоблачить подлог, рассказать правду.
Когда Емельян услыхал по телефону скрипучий голос Поповина, жаждущего с ним встречи, он не удивился. Ему не хотелось, чтоб этот грязный тип переступал порог квартиры. Только благодаря изворотливости и настойчивым просьбам Глебов согласился принять Поповина у себя дома.
Жена Глебова знала всю правду о Поповине. Поэтому, когда Емельян предупредил ее о предстоящей встрече и просил оставить их вдвоем, Елена Ивановна встревожилась.
- Ничего, Леночка, все будет в порядке. Не волнуйся, - успокоил ее Емельян. - Я думаю, что наше свидание будет недолгим.
- Будь благоразумен, - напутствовала Елена Ивановна, уходя с ребятами на прогулку.
Емельян не мог ничем себя занять в эти томительные и неприятные для него минуты ожидания.
Звонок был резкий и длинный. Емельян спокойно прошел в прихожую. "А что, если Поповин полезет целоваться?" - мелькнуло у него в голове.
И, не найдя ответа, он открыл дверь. Перед ним стоял человек, напоминавший квадратную тушу, обтянутую синим плащом "болонья", и, уставившись на него узенькими щелочками заплывших жиром глаз, добродушно улыбался. Это обезоружило Глебова. В руках Поповин держал большой сверток, из которого торчали горлышки бутылок. Глебов напряженно улыбнулся, указывая на столик в прихожей, куда можно было бы свалить его вещи. Всем своим видом Емельян старался показать Поповину, что встрече не рад. И Поповин, поняв это, не полез целоваться, а весь насторожился, приготовился к чему-то очень неприятному, но заговорил первым, дружелюбно, с преувеличенным вниманием рассматривая Глебова:
- Не узнал бы я вас на улице, Емельян Прокопович. Сильно вас время закамуфлировало.
Избитая, казалось бы, ничего не стоящая от частого употребления фраза была пробным шаром. Поповину важно было, что скажет и как скажет Глебов. Емельян, сделав вялый жест рукой, сказал:
- Садитесь, пожалуйста.
Поповин присел у стола и попросил разрешения курить. Глебов пододвинул ему пепельницу. "Неужели ничего не знает? Не читал газет, не смотрел телевизора?" - подумал Поповин, по-своему объяснив поведение Глебова. Достав из кармана пиджака газету с очерком, название которого было жирно обведено красным карандашом, он протянул ее Глебову. Емельян, не взяв газету, в упор посмотрел на Поповина:
- Я читал. И письмо ваше тоже читал…
- Вчера пригласили на телевизор… - начал было Поповин, но Глебов прервал его:
- Смотрел… - Их взгляды встретились. - А вам известно, что Матвеев жив?
Он рассчитывал этим сразить Поповина, но тот не смутился:
- Не может быть! Ведь его на моих глазах… наповал…
- Вы лгали миллионам людей, - сдерживая ярость, произнес Глебов. Глаза его потемнели, резче обозначилась складка на переносье, сошлись густые брови. - Не лгите мне. Я знаю все. Хотите, я вам напомню о воскресенье. Не вчерашнем, а о воскресенье двадцать второго июня сорок первого. Не вы, а Матвеев оказался героем в первые минуты войны. Вы струсили, убежали. Матвеев просил вас помочь ему.
Поповин глядел на Глебова обалдело, слегка приоткрыв рот. Щелочки глаз расширились, обнажив желтовато-красные белки. Правда, которую он считал навеки похороненной, неожиданно воскресла и предстала перед ним как грозный судья. "Матвеев, значит, жив и обо всем рассказал не только Глебову, а многим другим, - лихорадочно думал Поповин. - Кто же знает еще? Кто, кто, кто?.." Колотилось в груди сердце.
Очнувшись от первого потрясения, Поповин, забегав глазами как загнанный волк, заюлил:
- Я не виноват… Первый бой журналисты приукрасили. А потом, когда вы меня с пакетом… Все было, как написано…
- И там ложь. Все ложь. И весь вы - сплошная ложь и цинизм. Без обмана не можете. Вы думаете, я не знаю, как вы пытались ошпарить себе кипятком руку, чтобы уволиться из войск, бежать домой? Знаю.
Емельян, засунув руки в карманы, подошел к окну. В комнате стояла такая тишина, что скажи слово, и оно прозвучит, подобно взрыву гранаты. Поповин сник. Он напоминал человека, которого волной сбросило с корабля в море и который, видя, что корабль удаляется, готов был кричать, цепляясь за соломинку. Не поворачиваясь, Емельян сказал:
- Запомните, Поповин: правда бессмертна. Похороненная недругами, она непременно воскреснет. Рано или поздно. Через десять, двадцать, через пятьдесят лет. И возмездие обрушится на тех, кто пытался уничтожить ее. - Повернувшись к Поповину и нахмурив брови, Емельян проговорил: - Правда - это голос и совесть народа.
И вдруг Поповин весь съежился, пополз со стула и плюхнулся перед Глебовым на колени.
- Емельян Прокопович… - умолял он скорбным голосом. - Пощадите, заклинаю, что угодно требуйте. Все сделаю… Все, что прикажете, что пожелаете… Только пощадите. Бес попутал…
Цирковой трюк едва не рассмешил Глебова. Не человек, а скользкое медузоподобное существо распласталось на полу у его ног. Оно лепетало какие-то слова, в которых не было ни смысла, ни искренности.
- Все сделаешь? - сурово спросил Глебов. - Хорошо. Вот бумага и перо. Садись за стол. Садись и пиши. В редакцию газеты. Пиши. Пиши, что ты лгал, все, что о тебе писали, - ложь, все свои воинские подвиги ты сочинил. Пиши…
Поповин поднялся, поправил костюм, выпрямился и вскинул голову. Он весь преобразился. Тяжелый, жирный подбородок надменно выдался вперед. Глаза снова стали узкими, как смотровые щели танка. Ефим не прикоснулся к бумаге, которую положил Глебов.
- Матвеев, говоришь?! - прохрипел Поповин, брызжа слюной. - А он врет! Врет! Свидетелей нет и не было. А меня теперь знает вся страна! Мне пишут, звонят! А кто знает Матвеева? Никто. Вы все завидуете мне! Да, да… Ты тоже.
- Вон… - почти шепотом произнес Глебов.
Поповин отлично понял значение этого слова, понял по интонации, по виду Глебова. Сорвав с вешалки плащ, он метнулся к выходу и скрылся за дверью.
- Погоди! Вернись! - догнал его уже на лестнице повелительный возглас Емельяна.
Что-то обнадеживающее зашевелилось в Поповине. Он сначала остановился, подумал и решил, что Глебов опомнился, сраженный последним монологом Поповина, что он сейчас станет торговаться, пообещает молчать и они заключат сделку, что благоразумие взяло над Глебовым верх. Давно бы так. А то цену набивал.
Поповин вернулся и в открытую дверь прошел в прихожую, решительно ожидая, с чего теперь начнет Глебов новый разговор.
- Забери свои вещи, - глухо и с иронией сказал Емельян, кивнув на свертки Поповина, лежащие в прихожей на маленьком телефонном столике: коньяк, шампанское и закуски так и не пригодились.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
Конец весны в Подмосковье едва ли не самое прелестное время года. После теплых дождей все вокруг зеленело, все буйствовало под неумолкающий аккомпанемент птичьего гомона.
В такую пору генерал Братишка с женой и тещей жили на даче: в московскую квартиру, где теперь полновластным хозяином был Дима, заглядывали редко. Прямо с работы Максим Иванович ехал за город, в свои пенаты, а утром в девять часов у калитки его уже ждала машина. Здесь, на даче, генерал отдыхал, наслаждаясь свежим воздухом и красотой весенней природы. Дачный поселок, в котором находился рубленый, обшитый тесом и покрашенный в розовый цвет - вкус Аси - дом генерала, прильнул к опушке березовой рощи, разрезанной оврагом с родником и лесной ухабистой дорогой, выходившей к пологому берегу Москвы-реки.
Не успел генерал войти в дом, как еще у калитки его встретила встревоженная жена:
- Максим, арестовали нашего Димку… Из милиции звонили. Просили приехать. В чем дело - не сообщили.
Выходной день Максима Ивановича был омрачен. Что же там случилось?
В то солнечное воскресенье, когда Максим Иванович и Ася вышли в лес за грибами, рабочие завода "Богатырь", главным образом молодежь, организовали массовку, коллективный отдых за городом на берегу Москвы-реки. Инициатором этого был новый директор заводского Дома культуры Саша Климов. Партком и завком тоже не остались безучастными, делая все, чтобы выходной день прошел с пользой, оставил самые хорошие воспоминания. Одно дело, когда люди встречаются в цехе. Другое - на отдыхе, на лоне природы, за кружкой пива. Здесь можно не спеша поговорить с соседом по станку, познакомиться с его семьей, вместе спеть песню, раскрыть душу. В непринужденной обстановке люди лучше узнают друг друга, проникаются большим доверием и уважением. Тут каждый мог отдыхать, как ему захочется. Многие захватили с собой гитары, волейбольные мячи, транзисторы, магнитофоны. Было организовано катание на лодках. В гости к рабочим Саша Климов пригласил поэтов, артистов и даже композитора. Емельян ходил веселый, видя, что довольны рабочие. Что же касается Саши, то он чувствовал себя именинником.
Около полудня гулянье было в полном разгаре. И хотя вода была еще холодной, первые отчаянные купальщики и купальщицы уже барахтались в реке. Глебовы катались в лодке. Русик с Любашей на веслах, Емельян - у руля, Елена Ивановна щелкала фотоаппаратом. Детям доставляло огромное удовольствие грести. Плыли по течению. Навстречу мчалась четырехвесельная лодка, в которой сидели четыре человека: Вероника, Белка, Ключанский и Пастухов. Правее в небольшой лодке сидели Юля с Романом. Юля на корме с букетом цветов, Роман посередине. Но ему было не до весел, которые по этой причине без движения болтались у бортов лодки. Он влюбленными глазами смотрел на Юлю и молчал. И когда Глебовы поравнялись с ними, Емельян пошутил:
- Что, молодежь, горючее кончилось? Может, взять на буксир? У нас вон какие силы, - указал он на своих ребят. Польщенный Руслан с еще большей силой налег на весло.
Не успели Юля с Романом ответить, как сзади, точно ураган, налетел рокочущий гул, лодку Глебовых сильно толкнуло, она резко качнулась и опрокинулась. Глебовы оказались в воде. Быстроходный катер, виновник аварии, не только не остановился, но, прибавив ходу, промчался дальше и вскоре скрылся за поворотом. Оказавшись за бортом, Емельян крикнул жене:
- Спасай Любу!
А сам бросился на помощь сыну, который уже успел наглотаться воды. Подхватив его левой рукой, он рывками поплыл к берегу. Ощутив под ногами дно, Емельян обернулся и, не найдя на воде Любы, в испуге окликнул:
- Люба!
"Утонула…" - пронзила мозг страшная догадка. И тогда он еще звонче воскликнул:
- Люба!..
- Я здесь, папа, - послышалось позади него.
Любаша стояла на берегу в мокрой юбчонке, с которой струйками стекала вода. Роман Архипов, вытащив девочку на берег, шел теперь к реке, чтобы подобрать вещи, которые плавали на поверхности воды.
Происшествие омрачило праздник. Оборвались песни и музыка. Люди возмущались и негодовали:
- Бандиты!..
- И когда только у нас наведут порядок!
- И даже не остановились!
- Не иначе как пьяные… Кто же в здравом уме бросит пострадавших?
Многие видели: на катере было четверо - два парня и две девушки. Но кому принадлежал катер, никто не знал.
…После посещения квартиры Димы Лада дулась на него целую неделю. В субботу, в канун массовки рабочих "Богатыря", он поджидал Ладу возле школы.
- Третий день караулю тебя, - соврал Дима. - Нам надо поговорить.
- Поздно, - мрачно ответила Лада и ускорила шаги. Дима пошел рядом.
- Лучше поздно, чем никогда. Почему ты сбежала? У меня был серьезный разговор по телефону. Ты даже не представляешь - событие мирового значения. Фима Поповин - помнишь, Новый год у него на даче встречали? - оказывается, герой Отечественной войны. В тот день, когда ты ушла, его по телевизору показывали.
- Ну и пусть, какое мне дело… - буркнула Лада. - И вообще, отстань от меня, я не хочу тебя видеть.
- А вот и не отстану. Потому что я хочу тебя видеть.
- Ну и не отставай. Я иду домой, - сказала Лада.
- И я пойду к тебе домой.
Угрозу, которую Дима и не думал исполнять, она приняла всерьез. Лада постепенно начала отходить. Ей уже самой хотелось поговорить с Димой, отругать, высказать ему все, чем она жила эту неделю. Не здесь, конечно, где могут увидеть родные и знакомые. Она подняла на него глаза и спросила:
- Что ты хочешь?
- Хочу с тобой поговорить.
- На улице неудобно.
- Понятно. Условимся, где и когда.
- Не знаю.
- Едем завтра за город. Есть катер. Соорудим турне по Москве-реке. Возьмем Юну, Мусу.
И она согласилась.
Сбор у Белорусского вокзала.
В десять утра они вместе с Юной Марининой выехали из дому. К великому удивлению Лады, подруга уже знала о том, что произошло в прошлое воскресенье в квартире Димы. На вокзальной площади у памятника Горькому их ждал Дима и его верный оруженосец Муса. В такси доехали до "далекой гавани", места стоянки катера.
Никакого серьезного разговора между Ладой и Димой не получилось. Дима всячески избегал его, вел себя так, как будто ничего между ними не произошло. Ну а Лада тем более не хотела начинать неприятный разговор. Дима уже не казался ей таким злодеем, как раньше. Да, откровенно говоря, у Лады и не было оснований предъявлять Диме какие-то претензии, создавать "трагедию", потому что ничего особенного, как сказала об этом Юна, не случилось. Произошло то, что, должно быть, случается со всеми рано или поздно. Разница только в том, что одни предпочитают "рано", другие - "поздно". Вот и вся "проблема". Так объясняла Юна, для которой в жизни все было просто. Главное, ни о чем не жалеть и ни перед кем не отчитываться, внушала она Ладе спасительную мысль. И Лада стала принимать эту нехитрую "заповедь", потому что с ней, отбросив сомнения, душевные муки и угрызения совести, легко было жить. Особенно если выпить стаканчик - не коньяку (боже упаси!), а рубинового бальзама, называемого "Хванчкарой". От него приходит хорошее настроение, забывается все плохое, вылетают из памяти обиды и обидчики превращаются в ангелов. Если к тому же он сидит за рулем катера, который птицей летит по реке меж солнечными берегами, какой же он, к черту, обидчик?! Это герой, капитан корабля, ловкий и смелый малый, а главное - красивый.
Когда катер опрокинул лодку Глебовых, Лада вскрикнула, в ужасе закрыв на миг глаза:
- Ди-ма! Останови!
Но Дима даже не оглянулся, лишь прибавил газ.
- Они ж утонут! - умоляюще говорила Лада, толкая Диму в спину.
- Не утонут. Спасут, - невозмутимо ответил он. - Видала, сколько на берегу людей? Каждый второй жаждет подвига. Чем не случай отличиться?
- Это жестоко… Бесчеловечно… - бросила Лада, запрокинув голову и тяжело дыша. Ветер раздувал огненный костер ее волос.
Муса пытался сострить, и каждое слово его обжигало душу Лады. Сдерживаясь, чтобы не разрыдаться, она, не глядя на Диму, сказала:
- Ты сейчас же должен вернуться и извиниться.
- За кого ты меня принимаешь? - сухо переспросил Дима. - Что я, идиот? У меня нет никакого желания угодить в лапы милиции.
- Надо побыстрей мотать, пока не засекли блюстители, - проговорил Муса, на этот раз серьезно.
До самого причала молчали. От реки к автобусной остановке шли парами. Дима пытался успокоить Ладу:
- Что нос повесила? Испугалась? Привыкай. Это мелочь, не такое бывало.
- Зачем ты это сделал?
- Нарочно, что ли? Не рассчитал малость. Подумаешь, событие! Искупались - и все! Забудь, - посоветовал он, пытаясь обнять ее.
Она грубо оттолкнула его руку:
- Забыть? А мне думается, ты сейчас же должен об этом заявить в милицию,
- Сам на себя? - расхохотался он.
- Если ты честный, порядочный человек. А не трус.
- Ты ненормальная. Первый раз такую встречаю… Трус… Тебя, что ли, испугался?
Лада посмотрела на него долгим презрительным взглядом, и в глазах ее заблестели слезы.
- Тогда я пойду в милицию, - тихо сказала она.
- Что?! - Дима крепко сжал ее руку, она едва не вскрикнула от боли. - Что ты сказала? - Он с ненавистью посмотрел ей в лицо. - А ну, повтори!
- Я не думала, что ты такой… - ответила Лада, силясь высвободить руку. - Пус-ти… мне больно, - сквозь зубы выдавила она.
- Какой же я? - процедил Дима, все сильнее сжимая руку.
- Оо-й! - вскрикнула она и разрыдалась.
Он отпустил ее руку, и Лада, бросившись от него в сторону, быстро пошла к автобусу. Дима догнал ее и, смягчась, спросил:
- Ты не ответила, какой я? - словно это больше всего волновало его.
- Садист, - бросила Лада ему в лицо.
- А это хуже или лучше, чем предатель? - издевался он. - А ты знаешь, как поступают с предателями? Советую помнить.
Лада до самой Москвы не проронила ни слова. Только бы добраться до дому. Он тоже молчал: случай с лодкой и угрозы Лады тревожили его. Они вышли на улице Горького. Лада наотрез отказалась зайти к нему и пошла домой одна. Увидев милиционера, она нерешительно спросила:
- Как пройти в ближайшее отделение милиции? Мне немедленно нужно сделать заявление.
- Пройдемте, пожалуйста, - ответил старшина и зашагал рядом с ней.
На следующий день Глебову сообщили, кто опрокинул лодку. Его поразила невероятная случайность. Это были дети, родителей которых он знал: Дима Братишка, Муса Мухтасипов, Лада Лугова и Юна Маринина.
В тот же день в своем личном архиве Емельян разыскал завещание политрука Махмуда Мухтасипова своему сыну, которое тяжелораненый Махмуд писал в первый день войны, сидя в подбитом фашистском танке. Двадцать лет хранил Глебов этот документ, но, как ни старался отыскать Нину Мухтасипову, чтобы вручить ей последнее письмо мужа, попытки оказались безуспешными. И вот теперь при столь неподходящих обстоятельствах он нашел след Мухтасиповых. Не откладывая дела в долгий ящик, он решил найти Мусу Мухтасипова, а с ним и его мать. Емельян понимал, что момент он выбрал не очень подходящий. Из милиции ему сообщили, что Братишка и Мухтасипов арестованы. Мухтасипова однажды уже судили за мошенничество и спекуляцию.
Во вторник после полудня Глебов на электричке поехал в Загорск, где, по данным милиции, проживали Муса Мухтасипов и его мать.
Глебову не стоило большого труда разыскать Мухтасиповых. "Ведь вот какая чепуха получается! - с досадой думал Емельян. - Сколько писем и запросов посылал прежде, и все безуспешно, а тут на тебе - живет под боком".
Троице-Сергиева лавра поразила его величавой торжественностью и строгой красотой. Особенно нарядно выглядела она, освещенная предвечерним солнцем. Прежде чем спрашивать нужную ему улицу, Емельян не удержался от соблазна и вышел на центральную площадь города, чтобы полюбоваться замечательным памятником русского зодчества.
Вот и нужный ему домик, одноэтажный, ветхий, с резными серыми наличниками, с которых время давно стерло белила. Квартира № 2. У двери, обитой черным рваным дерматином, Емельян остановился, поискал кнопку звонка. Не найдя, негромко постучал, прислушался.
- Вы к кому? - спросила его девчонка лет десяти.
- К Мухтасиповым.
- Пожалуйста, налево.
Глебов пошарил рукой у двери. Из комнаты послышался знакомый голос. Говорят, человеческие голоса не меняются даже с годами.
- Входите, входите!..
Он открыл дверь и замер на пороге. Нина Платоновна сидела за швейной машиной и сужала сыну брюки. Она не сразу узнала Глебова и спросила официально:
- Вы ко мне? - Спохватившись, она предложила стул. - Я вас слушаю.
Емельян улыбнулся, шагнув к ней навстречу:
- Не узнала, Нина Платоновна?
Морщинистое лицо седой женщины вдруг озарилось, помолодело, узкие восточные глаза зажглись, расширились:
- Боже мой! Неужто Глебов? Емельян Прокопович!..
Она подалась ему навстречу, глаза ее повлажнели.
Потом они долго сидели за столом, пили чай с пряниками и беседовали. Нина Платоновна спросила о муже. Емельян рассказал о героической гибели политрука Махмуда Мухтасипова и сообщил о его последней просьбе. При упоминании о сыне Нина Платоновна вздохнула:
- Муса - мое горе, мой крест. Учиться не хочет, работать тоже. Ходит в натурщиках у какого-то художника. Зарабатывает и пропивает. В армию не взяли: дружок у него - сын генерала - помог. Со мной грубит. Я с ним уже ничего не могу поделать. Кабы отец… Как-то говорю ему: "Ведь я тебе мать, я жизнь тебе дала". Так вы знаете, что он мне на это ответил? "Между прочим, говорит, я тебя об этом не просил. Я бы не возражал, если бы меня родила не ты, а более обеспеченная женщина".
- Подлец! - обронил Глебов.
- Знаю. Сама все понимаю. Но что поделаешь. Судьба. При отце, может, был бы другим. Я для него все делала. Замуж из-за него не вышла. А женихи были. Многие делали предложение. И знаете, даже самой смешно: влюблялись в меня шоферы. Правда. Будто наваждение какое. Меня мужчины почему-то прозвали "девушкой сороковых годов". Как-то стою со знакомым у пивного ларька. Подъезжает безногий инвалид на коляске и говорит: "Девушка сороковых годов! Позвольте за вас выпить кружку пива". Выпил, сказал "спасибо" и заплакал.
Слушая несвязную речь Нины Платоновны, Емельян осматривал длинную, с одним окном, мрачноватую комнату, обставленную весьма скромно. И вдруг на комоде бросились ему в глаза безделушки явно иностранного происхождения. Емельян догадывался, откуда это.
А она все говорила, перескакивая с одного на другое:
- В жизни я много повидала хорошего и плохого. Но самое страшное было в сорок третьем году, когда я оставила Мусу у мамы и добровольно пошла на фронт. В медсанбате работала. Так вот. К нам привозили раненых. Это были почти мальчишки, еще не знавшие жизни, беспомощные юноши, изувеченные войной. Они умирали у нас на руках. Страшно было смотреть на них. Когда я думаю о своем сыне, я вижу перед собой глаза тех мальчишек. Только мать может понять и простить своего ребенка.
Перед Емельяном сидела и та, и совсем другая Нина Платоновна. Двадцать лет назад в ней была душевная доброта, женское обаяние. Теперь эти черты сохранились, но приобрели какие-то странные оттенки. Удивляло его то, что житейские невзгоды не ожесточили эту женщину. Напротив, она стала будто еще мягче, утратив способность противиться злу. Она даже не жаловалась, а просто говорила:
- Мне кажется, что я все еще только собираюсь жить.
И тогда он попытался возразить ей, но не напрямик, а в обход:
- Самое страшное для человека - бесполезно прожитая жизнь.
Она не поняла его и стала доказывать:
- Таких людей, по-моему, не бывает, каждый думает о своей пользе.
Из разговора было видно, что об аресте сына Мухтасипова еще ничего не знает. "Очень ее огорчит, или она воспримет спокойно сообщение о том, что Мусу будут судить?" - подумал Глебов. Он рассказал ей о происшествии на Москве-реке. Она, всплеснув руками, заахала и заохала, искренне сочувствуя пострадавшим. Глебов сознательно не назвал имена виновников аварии, ждал, что скажет она.
- Их-то, этих бандитов, задержали? - спросила женщина.
- Да, задержали. Будут судить, - сразу ответил Глебов и на второй, пока что не заданный вопрос.
- Кто ж они такие?
- Два молодых парня. Один - сын генерала, моего фронтового товарища, второй… - Емельян пристально посмотрел на Нину Платоновну, сделал паузу: - Ваш сын.
- Муса?! - воскликнула Нина Платоновна и вся изменилась в лице. - Боже мой! Он третий день уже не является домой. Нет, Муса не мог такое сделать. Нет-нет…
- Его, кажется, уже раз судили?
- Да, но оправдали… - торопливо проговорила Нина Платоновна и встала. - Я не была на суде, болела. Тогда он был несовершеннолетний.
- Очевидно, поэтому и не посадили.
- Что теперь будет? - Она растерянно посмотрела на Глебова. По ее лицу побежали, как рябь по воде, мелкие-мелкие морщинки, а глаза смотрели с мольбой о помощи.
"Трое суток парень не был дома, и это не обеспокоило мать, должно быть, привыкла к подобному", - подумал Глебов и ничего не сказал этой беспомощной женщине. Уходя, он пообещал Нине Платоновне сделать все от него зависящее, чтобы вернуть ее сына на правильный путь. Оставив Нине Платоновне адрес и телефон, Емельян попросил заходить в гости.
Домой Глебов возвратился поздно вечером. Жена сообщила, что дважды звонил генерал Братишка. Оставил свой телефон и просил с ним связаться в любое время, даже ночью. Емельян набрал нужный номер. Условились, что встретятся завтра после работы.
- Я за тобой заеду на завод и, с твоего позволения, увезу тебя к себе на дачу. Потолкуем в спокойной обстановке.
В машине разговора о "деле" не было. Максим Иванович не хотел посвящать шофера. Емельян понял это. И поэтому они вспоминали июнь сорок первого. Генерал упрекнул самого себя: вот, мол, как нелепо получается - живем в одном городе, а встречаемся редко, раз в десять лет.
- Да и то вынужденно, - поддел Глебов.
- Не говори, брат, - отозвался генерал. - А все занятость наша. Поверишь ли, книги читать некогда, хоть я и любитель. Вот уйдем на пенсию и тогда заживем нормальной человеческой жизнью.
- До пенсии еще далеко.
- И дотянем ли… Как у тебя со здоровьем?
- Пока не жалуюсь, - ответил Глебов и прибавил: - Нервы, правда, пошаливают. Но это не в счет, кого теперь этим удивишь? Ты Ивана Титова помнишь?
- Танкиста? Ну как же. Рубаха-парень был. Герой Советского Союза. Ни за что ни про что погиб человек.
Максим Иванович надеялся, что встреча со своим фронтовым другом и главным, так сказать, истцом поможет ему полюбовно уладить дело. Генерал плохо знал Глебова, о нынешней жизни и работе не расспрашивал из ложной деликатности. Он считал, вероятно, что Емельяну явно не повезло, коль тот "прозябает" на заводе.
- Да!.. - неожиданно воскликнул Максим Иванович, дружески положив руку Глебову на плечо. - Ты слышал, какая история? У тебя на заставе служил рядовым Поповин. Помнишь такого? - Глебов молча кивнул. - О нем в газетах писали и по телевизору показывали. - Глебов опять кивнул. - Ты уже в курсе? Он у тебя был?
- Был, - ответил Глебов.
- Он, оказывается, профессор МГУ, - похвастался генерал. - Сына моего учит.
- Ты что-то путаешь, Максим Иванович. Поповин никогда профессором не был…
- Ну, или доцентом. Словом, в университете, преподаватель, - поправился генерал.
- Что-то не то, - возразил Глебов. И стал объяснять: - Поповин работает директором коммерческого склада строительных материалов.
- Это, очевидно, другой. А тот, что у тебя на заставе был, герой, по телевидению показывали, - тот в МГУ. Я с ним сам, вот как с тобой, разговаривал. И сын мне сказал, что это, папа, мой преподаватель… Я ему еще ходатайство подписал на Золотую Звезду.
Глебов был потрясен новостями, которые сообщил ему генерал. Оказывается, Поповину удалось провести доверчивого Максима Ивановича. Но его обманул не только этот прохвост, а и собственный сын: Емельяну сообщили в милиции, что Дмитрий Братишка год назад исключен из университета. Неужто отец не знает? Выходит, что так. Вчера Глебов сочувствовал Нине Платоновне и готов был обвинить во всем случившемся генерала. Теперь он пожалел его.
- А у вас, я вижу, здесь совсем неплохо. Природа - красота! - сказал Глебов, глядя в окно машины.
- Природа шикарная, - согласился генерал. - Только ведь это на любителя. Кому что. Мне, к примеру, больше юг нравится, степи, море. Я простор люблю, может, потому и в авиацию пошел. Тебе вот лес по душе. А почему? Потому что ты его с детства полюбил. Он вошел в твою кровь, в сердце и душу. А у меня на родине лесов нет. Степь и Черное море. И мне все кажется тесно и в лесу, и в городе, воздуху мало, не хватает простора для глаз. Ведь вот закат. Мы его здесь по-настоящему и не видим. А вот у нас закат - это зрелище! Даль до самого горизонта, черт его знает сколько километров. Выйдешь под вечер, глянешь на запад - аж дух захватывает. Пожар на полнеба! Или другая картина: хмарь собирается. Солнце без лучей, круглое, как колесо, огромнейшее такое, вишневого цвета. Жутко, но до чего же внушительная картина. Я ведь красоту природы, Емельян Прокопович, впервые на берегу моря почувствовал. Ребенком. Пойдем, бывало, с ребятами на берег, как посмотрю на камешки, что в воде, - сколько радости! Особенно в штиль, когда вода хрустальная, тогда и камешки совсем другими кажутся, будто драгоценные, сверкают и переливаются.
К их приезду Ася, предупрежденная мужем по телефону, накрывала на западной террасе стол. Мило улыбаясь Глебову, она щебетала:
- Мне о вас Максим Иванович много хорошего говорил.
- Ладно, ладно, комплименты потом, а сейчас, Асенька, поскорей приготовь нам покушать, а то мы проголодались. А я тем временем покажу Емельяну Прокоповичу нашу обитель.
Он потащил Глебова сначала в сад, показывал фруктовые деревья, ягодники и, конечно, цветы, гордость генеральши. Затем водил по комнатам: три внизу и две наверху, по террасам, которых было целых три: восточная, западная и северная, где стоял бильярдный стол.
- Играешь? - указал Братишка на бильярд.
- Случалось. Да я не мастер.
Хозяйка пригласила их к столу, и они перешли на западную, залитую солнцем просторную террасу.
Выпив рюмку коньяку, Максим Иванович доверительно сказал:
- Вообще-то, у нас неладное происходит. Уж больно много ломаем. Как бы сгоряча дров не наломать. Перестройка, реформы - без конца. И главное, старое ломаем не потому, что оно плохое, а потому, что кому-то хочется создать свое, имя увековечить. Фантазируем, экспериментируем и совсем не думаем, во что это обходится народу. Может, в искусстве такое новаторство и терпимо, а в политике - сомневаюсь.
Братишка считал, что самый удобный момент наступил, и попросил Глебова рассказать, как все произошло.
- Я так расстроен, что места себе не нахожу, - пожаловался Братишка. - Ведь и парень-то неплохой. А вот связался с какой-то шпаной. Некий Мухтасипов, нигде не работает и не учится, разложившийся пьянчужка. А мой доверчив, легко поддается влиянию. Я уверен, что не он инициатор и зачинщик…
- Именно он, - Глебов остановил оправдательную речь генерала. - Все наоборот: Муса Мухтасипов попал под влияние твоего сына. Твой верховод, командир, а тот исполнитель.
- Не может быть!
- Прежде всего, - спокойно, даже будто без особой охоты продолжал Емельян, - я должен сообщить тебе два неприятных и неожиданных для тебя факта. Во-первых, сын твой никакой не студент, а стандартный тунеядец. Да будет тебе известно, что из университета он исключен еще в прошлом году.
- Не может быть… - простонал Максим Иванович.
- Это печально, но факт.
- Почему ж я ничего не знаю? - прорвалось у генерала.
- Что ж, явление довольно распространенное: родители не знают своих детей. Во-вторых, дорогой Максим, ты поступил легкомысленно с Поповиным, подписав ходатайство на Золотую Звезду. Ведь он просто авантюрист. И весь шум вокруг него тоже авантюра.
Глебов подробно рассказал Братишке о Поповине. А уж потом обстоятельно, как на следствии, изложил то, что произошло на Москве-реке. Максим Иванович был так оглушен неожиданными для него фактами, что в первые мгновения не мог произнести ни единого слова. Он растерянно водил вокруг позеленевшими глазами, приоткрывая рот, словно рыба, выброшенная на берег. Ему хотелось крикнуть: "Неправда!" Но это уже ничего не могло изменить.
- Значит, суд? - упавшим голосом спросил он.
- Да, суд, Максим Иванович.
Генерал снова замолчал. Его глаза стали суровыми, и он проронил сквозь зубы:
- Я с него десять шкур спущу… Только не суд. Пойми меня, Емельян! Позор!
- Я тебя хорошо понимаю. Но тысячи рабочих нашего завода, которые требуют суда и сурового наказания, не поймут тебя и не оправдают.
После этих слов генерал сник, опустил голову, обхватив ее руками. Потом, придя в себя, он поднял тяжелый взгляд и произнес, как приговор:
- Хай так - по справедливости, по закону - суд! Черт с ним. Мне только одно непонятно: откуда в нем и когда появилась вот эта зараза? Мы ведь в нем души не чаяли… Я хотел в сыне видеть себя. Свое будущее. Ты меня понимаешь, Емельян? Ведь ты тоже отец. Недаром же люди и молитву начинали словами: во имя отца и сына… Отцы, конечно, виноваты. Но только ли они? Не дом же растлил его? Тащат к нам с Запада всякую заразу… - Генерал уже пришел в себя. Он, кажется, сам увидел ответ на свой вопрос, только что заданный Глебову.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. В ТАЙНИКАХ ПАМЯТИ
В этот день Максим Иванович Братишка на дачу возвращался раньше обычного. В последнее время он находился в таком подавленном состоянии, что оно не могло не отразиться на его самочувствии. Покалывало сердце, голова казалась свинцово-тяжелой. С утра клонило ко сну. В машине он попытался вздремнуть и не смог. Одолевали неуемные мысли. Слишком внезапно обрушилась на него беда, пришла с той стороны, откуда он никак не ожидал. Он всегда считал, что у него растет если не примерный сын, то просто хороший, славный парень, за которого родителям не придется краснеть. Максим Иванович был уверен, что он все знает о своем сыне, что у Димы нет никаких секретов от отца. Как вдруг выяснилось, что он совсем не знает своего сына. Давно ли?
Генерал поднял тяжелые веки и устало посмотрел на дорогу, по которой ровно и плавно, почти бесшумно мчалась машина. Вдруг он увидел совсем новую дорогу. Вернее, это было все то же гладкое, прямое, как струна, фиолетово-сизое, со стальными переливами на подъемах шоссе, но теперь Максим Иванович смотрел на него другими глазами и увидел то, чего не замечал прежде: с обеих сторон вдоль шоссе стройными шеренгами стояли тополя.
Максим Иванович вспомнил эту дорогу в довоенные годы и во времена Отечественной войны: тогда не было этих тополей. Они пришли в таком обилии в подмосковный пейзаж уже после войны. Рядом с тополями гуськом бежали такие же молодые лиственницы, которых также не было на дорогах Подмосковья, на бульварах и в парках столицы в довоенные годы. А генерал, глядя на них, снова думал о сыне, в который раз спрашивая себя: случайно вышла у Димы такая неприятная история или нет? Он дотошно рылся в тайниках памяти, чтоб ответить безошибочно, объективно - не кому-нибудь, а себе, обстоятельно и точно, ибо от этого ответа зависело многое. Генерал хотел знать, почему его сын стал таким, а не тем, кого в нем желал видеть отец; кто виноват в этом и какова доля вины отца?
Дети должны быть лучше своих родителей. Эта немудреная мысль давно, еще в войну, овладела Максимом Ивановичем, в ее логичности он не сомневался и всякое отклонение от нее считал чрезвычайным происшествием.
Максим Иванович думал о сыне. Мальчик был любознательный, всем увлекался. Его волновала романтика воинского подвига, открытий и приключений. Он с жадностью просил отца рассказать не сказку, а "случай", эпизод из жизни, и Максим Иванович всегда с охотой рассказывал. Мальчик слушал, затаив дыхание, казалось, слушал бы без конца, и было видно, что он гордился своим отцом и где-то завидовал ему. Максим Иванович поведал сыну и о первых боях с гитлеровцами 22 июня 1941 года, о том, как его сбили над пограничной заставой, как потом с группой Емельяна Глебова он действовал во вражеском тылу, как перешел линию фронта по поручению командира партизанского отряда и как затем снова летал уже на штурмовике на Севере, у берегов Баренцева моря. Максиму Ивановичу было что рассказать сыну. И когда в День Победы, 9 мая, он надевал парадный мундир со всеми наградами, Дима садился на колени отца, бережно трогал ордена и медали, с восхищением спрашивал: "А этот за какой подвиг?"
Максим Иванович, испытывая приятное чувство радости и гордости за себя и за сына, воскрешал в памяти незабываемые дни своей жизни…
Генерал прикрыл тяжелыми веками воспаленные глаза, широкая ладонь тихо и мягко легла на серое, осунувшееся лицо, из глубин памяти выплыли прожитое и пережитое…
Генерал Братишка вздрогнул и открыл глаза. Машина теперь мчалась через дубраву. Но что это? В разгар лета могучие дубы стояли голыми, безлистыми. Казалось, по ним прошелся ураган огня или эпидемия страшной хворобы. Он спросил шофера с недоумением:
- Что ж это такое, Пахомыч? Чума пронеслась?
- Похоже, Максим Иванович. Вроде саранчи. Червяк такой есть, зеленый и прожорливый. Вроде непарного шелкопряда. Как нападет - весь лист сожрет, подчистую. И никакого от него спасу нет. Листожор называется или что-то в этом роде.
Максим Иванович снова прикрыл глаза и опять думал о сыне, продолжая воскрешать в памяти картины былого.
Сын трогал Золотую Звезду Героя и спрашивал: "А это за что?" Спрашивал не в первый раз, и не в первый раз отвечал отец. Он думал: сын хочет запомнить все, до единой детали, до интонации в голосе, до резкого жеста, до выражения подвижного характерного отцовского лица. Он знал: сын рассказывает мальчишкам о боевых подвигах своего отца.
Это было в Восточной Пруссии. Подполковник Братишка, командир истребительного полка, вел ночной бой с фашистскими самолетами над самым передним краем. Жестокий бой, в котором с обеих сторон участвовало не меньше двух десятков машин. Горели самолеты, кометами падали, прочертив огненной траекторией ночное небо. И не сразу можно было определить, чьи падают - свои или чужие. В эфире резко, отрывисто звучала нервическая речь на русском и немецком языках, пересыпаемая ругательствами. А когда воздушный бой окончился и уцелевшие самолеты уходили на свои аэродромы, подполковник Братишка пристроился в хвост последней фашистской машины. Он не стрелял, нет, он задался совсем иной целью, рассчитав, что в темноте фашисты примут его за своего. И расчет этот оказался верным. Братишка видел с высоты черного неба, как вспыхнули аэродромные огни и вражеские самолеты один за другим с полуразворота шли на посадку и, едва коснувшись земли колесами шасси, быстро сворачивали в сторону со взлетно-посадочной площадки. Братишка шел последним на вражеский аэродром, и, снизившись, он увидел впереди и справа от себя целую шеренгу самолетов, с которыми ему и его товарищам еще не раз предстояло вести смертельный бой в воздухе. А он решил разделаться с ними не в небе, а на земле, разделаться тут же, безотлагательно, сию минуту. Его самолет на бреющем полете шел над чужим аэродромом, а глаза летчика через прицел пулемета выхватывали из ночной темноты силуэты вражеских самолетов, стоящих на земле. Неподвижные, легко уязвимые цели стояли рядом, беспомощно-обреченные, под дулами крупнокалиберных пулеметов самолета советского летчика. Максим Иванович открыл по самолетам врага шквальный огонь.
Братишка знал по собственному опыту, как трудно сбить самолет в воздухе. Даже один самолет. А тут ему вдруг представился случай уничтожить сразу не один, а несколько, быть может, целую дюжину самолетов, и от этой мысли его охватил дерзкий вихрь, оттеснивший собой чувство страха и осторожности. Он расстреливал вражеские самолеты в упор, не думая о том, что и по нему могут открыть огонь, что он сидит не в бронированном танке, а в обыкновенном самолете. Максим Иванович помнил, что небо в ту ночь было холодным и звездным.
Генерал снова открыл глаза и проговорил, точно хотел подтвердить то, что закрепила память:
- Ночь была звездной. - И добавил торопливо: - М-да, именно звездной, - Он расправил на своем лбу мелкую гармошку морщин, потер лоб пальцами, спросил шофера: - А что, радио не работает?
- Работает, Максим Иванович. Да я вижу, вы отдыхаете…
- Вот именно… Включи-ка, Пахомыч.
Шофер порылся в эфире: передавали сообщение о положении в Конго, о грубом вмешательстве американцев во внутренние дела этой страны. Максим Иванович поморщился, попросил шофера найти музыку. Он надеялся, что музыка принесет ему душевный покой. Шофер включил только что начавшую работать круглосуточную программу "Маяк". Передавали зарубежную эстраду. Максим Иванович снова недовольно сморщил свое серое, осунувшееся, землистое лицо и спросил с упреком, словно шофер был виноват:
- А нашего, отечественного ничего нет?
- Так это и есть наше: "Маяк". А вы что хотите?
- Народные или советские песни. Или хорошую музыку. А этот визг прикрой: на нервы действует.
Шофер выключил радио, сказал сокрушенно:
- А помните, Максим Иванович, до войны какие песни мы пели? Отличные песни были. За душу брало.
- Да и во время войны было много хороших песен, - отозвался генерал, вспоминая свой разговор с сыном по поводу песен.
Дима приносил магнитофонную ленту и накручивал какую-то полублатную тарабарщину, где пошлые слова вполне соответствовали музыке. Генерал сердился: "Убери ты к черту эту похабщину". Сын говорил: "Это современные. Лучшие из лучших. У каждого поколения, отец, свои песни. Как правило, дети не поют отцовских песен, отцы не приемлют песни детей". - "Смотря по тому, какие дети и какие песни, - ответил генерал сыну. - Я в твои годы пел песни своих прадедов, дедов и отцов, со слезой пел".
Шофер снова включил приемник, и опять генерал услышал разговор о Конго. Максим Иванович вспомнил свой сегодняшний спор с генералом в отставке Аверьяновым. Отставной генерал утверждал, что ядерная война немыслима, так как в ее огне погибнут оба противника и вообще неизвестно, уцелеет ли что-нибудь живое на нашей планете. Поэтому Аверьянов не верил, что Пентагон может решиться развязать ядерную войну. Братишка решительно возражал, говоря, что от нынешних правителей США всего можно ожидать.
Мысли Максима Ивановича то уходили в сторону от того главного, что его сейчас волновало, то снова возвращались к сыну. Он думал о том, как много изменилось в мире и в стране за последние десять лет. В этих переменах было и отрадное, доброе. Но было и такое, что огорчало, вызывало чувство недоумения и досады. Как человек военный, он на все смотрел, все оценивал с позиций обороноспособности и боеготовности страны.
Старились вдовы, не дождавшиеся мужей с войны, уходили в армию сыновья, не помнившие своих отцов. Уходили, чтобы бережно хранить и приумножать доблесть тех, кто дал им жизнь и погиб смертью героя за эту жизнь. Генерал знал: не все оказались достойны отцовской славы. Он был недоволен иными молодыми солдатами: грамотным, хорошо подготовленным в вопросах техники, им не хватало идейной закалки и дисциплинированности.
Ася встретила мужа на улице и открыла тесовые зеленые ворота. Машина въехала во двор.
- Ой, Максим, ты бы знал, что у нас сегодня случилось! - нараспев заговорила генеральша, закрывая на засов ворота.
Во дворе густо пахло розами, флоксами и резедой. В воздухе парило, похоже, к дождю. Эта атмосфера покоя так же не соответствовала настроению генерала, как не соответствовало здоровое, воодушевленное лицо генеральши тем словам, которые она говорила.
- Представляешь, Максим, горихвост горихвоста убил. Насмерть. Вон труп лежит под смородиной. Иди, посмотри, - продолжала генеральша без сожаления, а, пожалуй, даже с какой-то странной веселостью в больших оживленных глазах. Веселость жены раздражала Максима Ивановича, но он умел скрывать свои чувства и с преувеличенным любопытством пошел туда, куда указала генеральша. - Представляешь картину: в скворечню к горихвостке забрался чужой горихвост. А муж его застал. И затеяли драку. Ты бы только видел, что творилось: ужас! И вот - насмерть.
- Кто кого? - спросил генерал, рассматривая мертвую синеголовую птичку с огненно-оранжевым хвостом. Генеральша вопросительно смотрела на мужа с полуоткрытым ртом: она не поняла смысла вопроса. - Муж чужого или чужой мужа? - пояснил Максим Иванович, уходя прочь.
- Да разве их отличишь, который наш, а который не наш: оба одинаковы, - ответила Ася и пошла вслед за мужем, продолжая выкладывать новости дня. - А птенчик славки улетел на березу и снова воротился на балкон. И сорока его караулила. Подлая тварь. А он, как чувствовал, что она за ним охотится, вернулся и спрятался под фанерой.
Птенец садовой славки жил на балконе уже четвертые сутки. Пять его собратьев утащила сорока. Она таскала их каждое утро по одному из гнезда, которое беспечная славка свила под карнизом кухни. Шестой, последний птенец не пожелал разделить участь своих братьев, выпал из гнезда в траву, хотя и не умел еще летать. Ася поймала его, снова водворила в гнездо. Но он снова упал на землю. Тогда догадливая генеральша все поняла: птенец спасается от сороки, и перенесла его на балкон. Ловила для него мух, комаров, разных букашек, которых он охотно заглатывал. И родители не оставили свое единственное дитя: поочередно летали на балкон и вместе с хозяйкой дачи кормили его. В общем, судьба птенца сложилась, в конце концов, недурно. Он безбоязненно сидел на ладони Максима Ивановича, а когда к его клюву подносили комара, широко открывал свой желтый рот. Максим Иванович ворчал на сорок:
- Ведь хищники, вредные твари. Истребляли же их, как волков. А потом нашелся какой-то ученый дурак и убедил кого-то из охраны природы, что сорока не так уж вредна, что и от нее есть какая-то польза. А какая именно - не сказал. И вот теперь не стреляют. Пусть, мол, живет, истребляет певчую мелочь и все такое. Помню, в каком-то журнале лет десять назад другой такой ученый спец доказывал, что волки никогда не нападали на человека, что для человека они совершенно безопасны. И чуть ли не обвинял человека - в несправедливости к бедным волкам.
Он сказал это с раздражением, сердито хмурясь и делая резкие жесты руками. Все мысли его были прикованы к одному, к главному, от которого просто невозможно было его отвлечь. Ему было обидно и горько, что жена не переживает вместе с ним, не понимает его душевного состояния, что судьба мелких пернатых заслонила от нее судьбу сына. Впрочем, сокрушаясь, думал Максим Иванович, какой он для нее сын: мачеха - она всегда есть мачеха. Досадно было то, что Ася не склонна к обобщениям и за судьбой Димы не умеет или не хочет видеть гораздо большее: судьбу какой-то части современной молодежи. Максиму Ивановичу казалось, что он уже тревожился не столько о сыне, черт с ним: он получил то, что заслужил, - он беспокоится о новом поколении вообще. А ведь в руках этого поколения будет святая святых: Советская власть, коммунизм, будущее, то, во имя чего жили, боролись, страдали и умирали миллионы людей не одного поколения.
Максим Иванович сказал жене, что ужинать будет потом, после, что он немного устал и хочет отдохнуть. Он снял китель и ботинки, взял свежую газету и прилег на гамак. Обратил внимание на статью о спектакле "Трое в постели". Критик очень деликатно, "по-отечески" журил молодого и талантливого драматурга Афанасьева, который "делал шаг назад в своем творчестве". В статье говорилось, что и для театра, и для драматурга этот спектакль является интересным и смелым поиском, однако поиск в целом не удался, несмотря на отдельные частные находки. Правда, критик тут же спешил сообщить непросвещенному читателю, что талант имеет право на ошибки. Критик досадовал и сожалел, что неудачу потерпел именно М. Афанасьев - автор классической пьесы "Гибель батальона".
Максим Иванович вспомнил оба эти спектакля и был удивлен, что "Гибель батальона" и "Трое в постели" написал один и тот же автор. Помнится, что покорил спектакль "Гибель батальона" правдивостью изображения первого дня войны, яркостью сильных характеров советских танкистов. Тогда, сидя в театре, он был уверен, что пьесу эту мог написать человек, сам все это видевший и переживший. И как-то не верилось даже, что автор такой талантливой пьесы совсем еще молод, что в сорок первом году он еще был дошкольником. Так что же произошло с молодым драматургом, почему он после талантливой героической драмы начал писать пошленькие эпигонские подделки?
Макс Афанасьев, всерьез уверовав в свою гениальность, нередко забывал, кому он обязан своей литературной карьерой. Зато об этом всегда помнил его отец - Николай Григорьевич Гризул. В 1948 году Николай Григорьевич, тогда еще молодой инженер, совершенно случайно на стадионе "Динамо" во время футбольного матча между "Спартаком" и "Торпедо" познакомился с полковником танковых войск Героем Советского Союза Иваном Акимовичем Титовым. Оба "болели" за одну команду. Игра была неинтересной, накрапывал дождь, и Николай Григорьевич теперь уже не помнит, кто из них - он или его сосед полковник - в середине первого тайма подал идею уйти в ресторан. Там за рюмкой водки они разговорились. Полковник интересно рассказывал о войне, в которой Гризулу не довелось участвовать. Молодой инженер слушал своего нового собеседника с тем вниманием и почтительностью, с которым слушают ребята рассказ бывалого воина. Гризул умел слушать, находя удобный момент, чтобы выразить свой восторг герою. Он смотрел на полковника восхищенными, с лихорадочным блеском глазами и говорил нарочито приглушенно, чтобы придать больше значимости своим словам:
- Ваш рассказ, Иван Акимович, - это готовый роман. Да, да, великолепный роман. Вы отличный рассказчик. Вы не пробовали сесть за бумагу?
- Пробовал, - признался полковник.
Молодой инженер вызывал в нем симпатию прежде всего тем, что умел слушать, умел расположить к себе. Как часто мы нуждаемся в хороших собеседниках, которым легко и приятно излить свою душу!
- Написал пьесу, - добавил полковник после некоторой паузы и смущенно заулыбался.
Полковник был молод, широкоплеч, бритоголов. Круглое лицо его прочно и выразительно хранило черты решительного, волевого характера. И его лицо, и бритая голова, и низкий грудной голос делали полковника старше по крайней мере лет на десять. Николай Григорьевич продолжал смотреть на полковника вопросительно, с готовностью ловил каждое его слово и не торопил вопросами. Титов сам сказал то, что хотел сказать:
- Как-то я смотрел в театре один спектакль. Уж и название забыл. Про войну. Такая белиберда, такой примитив, ну хоть кричи… И тогда я представил себе наших ребят, наш танковый батальон… на сцене… Все так, как было в действительности… Огонь… Смерть. Сила духа…
Полковник вдруг оборвал речь, умолк, пристально вглядываясь куда-то в пространство. Глаза его сузились и потемнели, казалось, он прислушивается к каким-то давно отгремевшим, но незабываемо знакомым звукам. Постепенно глаза его таяли, расширялись, становились влажными, приобретая печальный и тихий блеск. И тогда Гризул понял, что полковник больше не будет рассказывать о своих погибших товарищах, о тех, которых он хотел бы видеть на сцене сражающимися с фашистами. Теперь можно было задавать вопросы, и Николай Григорьевич спросил с прежним участием:
- И что с вашей пьесой? Вы кому-нибудь предлагали ее?
- Что значит - предлагал? - встрепенулся Титов, будто разбуженный странным вопросом.
- Ну какому-нибудь театру или режиссеру?
- Да где там. Я же не писатель. Знакомых в театральном мире у меня никого нет. Я даже не знаю, как это делается. Предлагать… Это что ж, прийти в театр и сказать: "Здрасьте, я ваша тетя. Предлагаю вам свою пьесу". А меня спросят: "А вы кто такой?" Я, как положено, представлюсь: "Командир гвардейского танкового полка". А мне скажут: "Ну и командуйте своим полком, чего вы в театр лезете? Без вас есть кому пьесы сочинять". Так или нет, уважаемый Николай Григорьевич?
- Оно, конечно, могут и так встретить. Лучше, когда есть знакомые, - согласился сочувственно Гризул и невзначай сообщил: - У меня есть знакомые из театрального мира. Серьезные, опытные.
…У Николая Григорьевича хорошая память. Все, что и как было потом, после этой первой встречи с полковником Титовым, он помнит в мельчайших подробностях. Помнит и будет помнить всю жизнь.
Во второй раз они встретились в доме Гризула. Николай Григорьевич был на редкость радушным хозяином, принял Титова, как старого друга, щедро угощал коньяком, комплиментами, говорил об обширных связях со знаменитыми людьми. Он не хвастался, не старался блеснуть, нет, он держал себя просто и с достоинством, и если показывал книгу какого-нибудь современного классика или ученого-академика с дарственной надписью: "Дорогому Николаю", то делал это как-то между прочим, походя и кстати. В общем, он вел себя так, как ведут люди, желающие заслужить доверие. И Титов поверил. В тот же вечер он оставил свою пьесу у Николая Григорьевича, который обещал показать ее одному известному драматургу.
Свою пьесу "Танки идут на таран" Иван Титов писал в то свободное от службы время, которое редко бывает у военных людей, тем более командиров частей и подразделений. Ей, этой пьесе, Титов отдал выходные дни, поздние вечера и время отпусков. Эта пьеса писалась кровью сердца человека, много повидавшего и пережившего. Он не искал ни литературной славы для себя, ни денег, которых ему хватало от получки до получки на более чем скромную жизнь. Он писал потому, что не мог не писать, потому что этого требовала его совесть, долг перед павшими товарищами, память о них, богатырях, принявших на себя первый удар гитлеровской армии. Он хотел, чтобы оставшиеся в живых ветераны и те, кому по возрасту посчастливилось не видеть войны, знали о подвигах своих братьев, отцов и дедов. Он, чудом уцелевший командир танковой роты, трижды горевший в танке, участник первого дня войны на границе в июне 1941 года, хотел только одного - рассказать людям легендарную быль о своем танковом батальоне, который несколько часов в неравном поединке сражался с танковой дивизией фашистов. Поэтому случайная встреча с доброжелательным, восторженно-любезным Гризулом высекла в нем маленькую искру надежды.
Николай Григорьевич стал читать пьесу "Танки идут на таран" сразу после ухода Титова, читал далеко за полночь, не отрываясь ни на минуту, и после прочтения долго не мог уснуть. Он был взволнован и потрясен. Потрясали могучие образы танкистов. Они были живые, осязаемо рельефные, со своей страстной верой в победу и лютой ненавистью к врагу. Этого нельзя было сочинить и придумать, нельзя было написать, основываясь на рассказах. Это надо было видеть и пережить самому, чтобы писать вот так - кровью и огнем. Гризула волновало то, что такую пьесу написал не профессионал-литератор, а кадровый военный, и он завидовал этому герою-автору, полковнику с Золотой Звездой на груди, простодушному и по-ребячески доверчивому.
Гризул, обладая острым, предприимчивым умом и находчивой фантазией, мысленно уже представлял героев титовской пьесы на сцене, на экране кино. И тогда в нем родилась подлая мысль в виде вопроса; почему все это написал кадровый военный, зачем ему, Герою Советского Союза, слава драматурга, когда у него достаточно военной славы? А ведь кроме славы он, очевидно обеспеченный человек, получит большие деньги, которые ему, так думал Гризул, в сущности, не очень нужны, в то время как эта слава и деньги очень нужны другим. А если какая-нибудь вещь одному не так уж кстати, а другому она позарез необходима, то по праву и по элементарной справедливости тот, другой, и должен обладать этой вещью.
Это был голос зависти, беспокойный, лихорадочный голос, лишивший инженера Гризула сна и покоя. Что-то недоброе, настойчивое подстегивало и торопило его. В его руках случайно оказался клад, и не воспользоваться им он не мог.
Но как? Предложить свое соавторство? Нет, это было бы слишком примитивно. Во-первых, кто он такой, Николай Гризул? Какое он имеет отношение к театру или драматургии? Да решительно никакого. Во-вторых, сама пьеса не нуждалась в каких-либо серьезных переделках или даже доработке. Гризул мог показать пьесу кому-нибудь из друзей своих, имеющих отношение к театру. Но тогда драгоценный клад ускользал из его рук, что никак не входило в планы Николая Григорьевича. В конце концов, можно было "потерять" пьесу Титова. Это немаловажное обстоятельство можно было зачислить в актив, над ним следовало подумать. И Николай Григорьевич думал, напрягая свой до предела изворотливый ум. Он вспоминал аналогичные случаи, старался найти в жизни прецедент. Когда-то слышал рассказы об исчезнувших рукописях, которые потом появлялись на свет за подписью людей, не имевших никакого отношения к созданию этих произведений. Правда, как правило, это случалось тогда, когда авторов уже не было в живых. Но Титов жил и был богатырски здоров.
Гризул навсегда запомнил последнюю встречу с полковником Титовым. Они разговаривали один на один в кабинете Гризула. На столе стояла бутылка отборного коньяка. Гризул волновался и прилагал немало усилий, чтобы скрыть это волнение от гостя. И делал это напрасно, потому что гость волновался не меньше хозяина, готовясь услышать первый квалифицированный отзыв о своем детище, быть может, суровый и не подлежащий обжалованию приговор.
- Я прочитал, - мягко, облизывая сохнущие губы и с усилием сдерживая волнение, сказал Николай Григорьевич и прямо, доверчиво посмотрел в глаза Титову. - И знаете, с большим интересом прочитал… - Он неторопливо, нарочито медленно произносил слова, будто обтачивал их, старался не оставить на них ни сучка, ни задоринки. - Знаете ли, дорогой Иван Акимович, это очень любопытно. Сама фактура, материал - великолепны. Я давал читать вашу пьесу одному маститому драматургу. - Николай Григорьевич лгал. Он никому не давал пьесу и даже никому о ней не говорил. - У него, знаете ли, несколько иное мнение. Он считает, что пьесы как драматургического произведения пока что нет. Есть какая-то основа, сырье, из которого можно создать пьесу.
Он сделал паузу и внимательно посмотрел на Титова, чтобы определить, какое впечатление произвели на полковника его слова. Титов сосредоточенно молчал и, глядя мимо Гризула, едва заметно кивал головой, и эти кивки Гризул понял как знак того, что он, Титов, разделяет, если и не полностью, то хотя бы частично, мнение своего рецензента. Значит, можно было продолжать разговор в том же духе. И Гризул продолжал, теперь уже спокойно, самоуверенно:
- Вот тут и возникает главный вопрос, сможете ли вы сами, не имея опыта не только в драматургии, но литературного опыта вообще, сможете ли вы довести пьесу до такой кондиции, когда ее можно будет показывать в театре? Потому что дать в театр пьесу в таком виде - значит заранее погубить ее. - Гризул говорил уже так, как будто и его мнение совпадало с мнением мифического рецензента. - Драматургия, как вы понимаете, самый сложный и трудный вид литературного творчества. Написать роман, повесть, стихи гораздо проще, чем пьесу. Тут помимо всего прочего нужно знать сцену. Короче говоря, вам нужна квалифицированная помощь, и, если вы ничего против не имеете, Геннадий Семенович (так величал Гризул своего мифического приятеля-драматурга, не называя, однако, его фамилии) рад будет вам помочь.
- В качестве соавтора? - уточнил Титов, и по тону его вопроса Гризул не смог определить, согласен он на соавторство или нет, потому ответил неопределенно:
- Не думаю… Вряд ли Геннадий Семенович на это пойдет. Хотя вообще-то дело это обычное: бывалый человек дает материал, соавтор-профессионал доводит его до уровня… Сплошь и рядом. Но в данном случае мы просто не касались этого вопроса.
- Да, конечно. Я вас понимаю, - сказал Титов, провел широкой ладонью по бритой своей голове. - Какой я писатель? Я просто хотел рассказать правду о первом дне войны, о своих товарищах.
Неожиданная податливость полковника обрадовала Гризула, и он, воодушевившись, быстро заговорил:
- У Геннадия Семеновича есть два общих замечания. Во-первых, название "Танки идут на таран" не годится. Название должно быть хлестким, "кассовым". Ну, например, "Стальные факелы" или что-то в этом роде. Надо подумать. Это заинтригует зрителя. Зритель пойдет в театр. Пьеса даст сборы. Во-вторых, надо подумать насчет имен действующих лиц. Какие-то они у вас слишком обыкновенные, приземленные. Коровушкин. Ну что это за фамилия?! Или Довбня! Не звучит. А ведь они герои, герои трагедии, и фамилии у них должны быть звучные.
- Насчет названия я согласен, может, по-вашему и лучше, - перебил его Титов. - А что касается имен, то тут вопрос особый. Ведь они не выдуманные, это настоящие имена моих погибших товарищей. У них остались семьи, друзья. Я хочу, чтобы их дети и внуки знали об их подвиге. Пусть в истории останутся на века. Поверьте, они заслужили это кровью своей и жизнью.
Титов с благодарностью принял "помощь Геннадия Семеновича, который, по словам Гризула, просил его не очень торопить: дело это серьезное, работа большая, в один месяц не делается. Хорошие пьесы создаются годами. Словом, Николай Григорьевич сказал начинающему автору, что он позвонит ему, когда подойдет время. Но он не звонил. Примерно через месяц, подстегиваемый нетерпением, Титов сам позвонил Гризулу и веселым, полушутливым тоном, которым он хотел скрыть свою робость, поинтересовался:
- Ну как там наш батальон? Не погиб еще?
- Позавчера я виделся с Геннадием Семеновичем. Работа идет полным ходом.
Еще через месяц Титов снова позвонил:
- Какие новости, Николай Григорьевич?
- Да все хорошо, Иван Акимович. Дела идут, - беспечно и твердо ответил Гризул тем тоном, который должен рассеять или убить в зародыше всяческие сомнения, если они могли возникнуть в доверчивой душе молодого драматурга. А они действительно возникли, потому что Титов на этот раз пожелал повидаться с таинственным Геннадием Семеновичем или хотя бы поговорить с ним по телефону. Гризул предвидел такую ситуацию, заранее предусмотрел ответ и ничуть не стушевался, а, напротив, очень естественно и убедительно сказал:
- Сейчас это невозможно: Геннадий Семенович уехал в Дом творчества месяца на полтора. Обещал там закончить работу над пьесой.
Гризул тянул. Ему нужно было время, чтобы что-то придумать. Но что? Сказать Титову, что пьеса потеряна? Скажем, забыл портфель в такси, разве такое невозможно? Кто-то из нечестных пассажиров, севших в машину после него, польстился на новый портфель. Принести полковнику искренние извинения. А потом слегка подправить пьесу, заменить названия и выдать за свою. Конечно, вариант не из лучших, довольно рискованный, чреватый возможными неприятностями и даже скандалом, и Гризулу пришлось от него отказаться. Николай Григорьевич знал, что у Титова есть если не второй экземпляр, как уверял сам автор, то оригинал пьесы. Нужно было придумать что-то другое.
С Титовым Николай Григорьевич разговаривал по телефону, сам ему позвонил, говорил тоном искреннего сожаления и сочувствия:
- Не получилось, дорогой Иван Акимович. К моему превеликому сожалению. Был у меня Геннадий Семенович, вернул пьесу. Он удручен. Пытался предложить театрам и даже на киностудию. Но, увы - сама тема не вызвала интереса. Театры сейчас избегают трагедий. Сейчас предпочтение отдается комедии. Это ходовой товар. Очень сожалею, да что поделаешь. Искусство - дело сложное. Там свои законы, которые постороннему человеку могут казаться лишенными логики.
И в тот же день Гризул послал по почте Титову авторский экземпляр пьесы. А через несколько месяцев на слегка подправленном отцом и сыном экземпляре появилась надпись: "Макс Гризул. Гибель батальона. Героическая трагедия в трех актах". Потом, немного подумав, Николай Григорьевич решил, что все-таки неудобно выносить свою фамилию в авторы. Титов может поднять шум. И он своей рукой зачеркнул "Макс Гризул" и вместо этих слов крупно начертал: "Максим Афанасьев". Это был подарок отца своему сыну, только что окончившему университет и мечтавшему о литературной карьере. Так появилось новое имя в драматургии. Дебют Макса Афанасьева был триумфом. Пьеса шла во многих театрах, потом по ней сделали кинофильм. Началась головокружительная карьера Афанасьева. О нем с похвалой писали газеты и журналы, отечественные и иностранные, его избирали в разные правления, комиссии и редколлегии, о нем готовили статью для энциклопедического словаря, его посылали за границу. Лика Травкина в одной из своих статей зачислила его в прямые наследники Шекспира, Евгений Озеров посвятил ему статью в двадцать журнальных страниц, в которой Афанасьев назывался гениальным художником, не имеющим равных себе мастером героической трагедии.
Все это Макс принимал за чистую монету, как должное. Он до того свыкся со своей славой, что был уверен, что "Гибель батальона" написал он сам. Только Николай Григорьевич помнил подлинную историю с драматургическим дебютом сына. Это была его первая большая тайна. Она хранилась на самом дне памяти, в самом потайном ее сейфе. Она ему дорого стоила: тревоги, волнения, страх, нервное напряжение - это не имеет цены. И все во имя чего и ради кого? Пусть бы для себя - тут уж куда ни шло. Недаром говорится: риск - благородное дело. А то ведь для сына, который, как считал Николай Григорьевич, лишен искреннего, глубокого чувства благодарности и слишком переоценил себя. Ну, а в общем Николай Григорьевич считал, что он выполнил свой отцовский долг, вывел сына в люди, сына, которым можно гордиться, да, собственно, им и гордится наше искусство. Угрызений совести он не испытывал. Это чувство ему не было знакомо. И когда однажды за праздничным столом кто-то из гостей поднял тост за здоровье Николая Григорьевича, воспитавшего такого сына, достойного своего отца, Николай Григорьевич посмотрел в самоуверенные, с беспокойным блеском тщеславия глаза Макса и растроганно прослезился.
Они действительно стоили друг друга.
В отличие от отца, Макс Афанасьев не испытывал того неприятного чувства тревоги, которое постоянно преследовало Николая Григорьевича Гризула, потому что он, хотя и знал всю тяжесть содеянного им преступления, как-то уж свыкся и не придавал ему особого значения.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ. РАСПРАВА
Больше всех шумел Маринин, требуя самой безотлагательной и самой жестокой расправы над Глебовым. И это казалось тем удивительней, что наиболее пострадавшим из четырех собеседников был не он, Алик Маринин, а Ефим Поповин, с маху втиснувший свою тушу в узкую пасть озеровского кресла. Он растерянно, дрожащими пальцами ломал сигареты, соря табаком на ковер, и вставлял половинки в мундштук. Сигареты крошились, трескались по шву, Ефим Евсеевич еще больше взвинчивался и бросал их на пол. Такая небрежность раздражала хозяина дома, Евгения Борисовича Озерова, и он молча подал Поповину плоскую металлическую пепельницу. Ефим благодарно кивнул и, не вставая с кресла, прочно засосавшего его, попытался собрать разбросанные на полу сигареты. Впрочем, сделал он это только для вида: расстроенный и убитый неожиданным разоблачением, он потерял дар речи и теперь только пыхтел и дымил сигаретами. Дело в том, что в Министерстве обороны всерьез отнеслись к сообщению Емельяна Глебова о том, что Поповин авантюрист и мошенник, генерал Братишка затребовал свою рекомендацию обратно, и представление к званию Героя было аннулировано. Экспертизе не стоило большого труда установить в "завещании" Поповина фальшивку. Возник вопрос о возбуждении против лжегероя уголовного дела. Поповин струхнул не на шутку: он опасался следственных органов - потянут за ниточку, размотают и весь клубок. А там, в середине клубка, были куда более серьезные преступления, за которые в общей сложности по Уголовному кодексу полагалось от десяти лет и выше. Разоблачение Поповина задело бы рикошетом и Маринина, предоставившего в распоряжение авантюриста голубой экран. Не меньше, а, пожалуй, больше других волновался и Николай Григорьевич Гризул, только что перешедший работать в ведомство, координирующее научно-исследовательские работы. Слишком много совместных дел, не подлежащих публикации, связывало его с Ефимом Евсеевичем. С грустью вспоминал Николай Григорьевич предусмотрительные предупреждения жены и сына держаться подальше от Поповина. ("Однажды он влипнет, и мы все будем иметь бледный вид".) И он действительно влип на дерзкой, хотя, в общем-то, глупой, по мнению Гризула, авантюре, и теперь, чтобы всем не иметь "бледного вида", нужно было немедленно сообща всеми неправдами, какие только существуют во второй половине двадцатого века, вытаскивать приятеля, сдуру угодившего в помойную яму. Для неотложного решения такого чрезвычайного вопроса и собрался на квартире у кинорежиссера этот узкий, состоящий всего лишь из четырех персон совет, своего рода штаб, разрабатывающий стратегический план жестокой битвы.
По общему мнению, спасти Поповина можно было прежде всего путем расправы с Глебовым, то есть с человеком, который разоблачил преступника. Ход этот не новый и не хитрый, но в наше время им пользуются так же, как пользуются водопроводом, "сработанным еще рабами Рима".
- Глебов должен гореть с треском! - кричал Алик Маринин, бесшумно вышагивая по большому ковру в просторной гостиной. - За клевету! Да, именно за клевету. Из черной зависти он оклеветал человека, известного всему миру героя войны. - Маринин остановился вдруг, будто внезапно затормозил, поправил очки и с решимостью пророка уставился на Озерова, спросил: - Что такое Глебов в общественном мнении? Ничто. Кто его знает? Никто. А Ефима знают. Миллионы знают. Какие у Глебова основания для обвинений? Ссылка на какого-то пограничника, которого давно нет в живых и который вообще погиб в первый час войны.
- А вы точно установили, что он погиб? - резко сверкнул очками Гризул на Поповина.
- Абсолютно. Второй раз сам ездил на родину его справляться. И брат и мать сказали, что не вернулся с войны, погиб на заставе, - просипел Поповин, и каштановые глазки его воровато забегали по собеседникам, которым он, разумеется, тоже не сказал правды о своем предательстве, лишь высказал предположение, что, может быть, Матвеев был не убит, а лишь тяжело ранен и в таком состоянии мог попасть в плен, где его и прикончили фашисты.
Но это всего-навсего предположение. Сам же Ефим терялся в догадках: откуда Глебову известно все, как было в действительности, и до таких подробностей, будто сам Емельян разговаривал с Матвеевым.
- Тогда ты можешь подать на Глебова в суд за клевету, - подсказал Озеров.
- Это долгая песня, и вообще суд… - Гризул пренебрежительно поморщился, не договорив фразу.
- Непонятна позиция Чернова, - снова вскричал Маринин. - Какого черта он чухается! У него было достаточно материалов и фактов. Он мог давно снять Глебова с должности секретаря парткома.
- Сейчас это не так просто, - спокойно и рассудительно заметил Гризул. - А потом, что изменится, если Глебова освободят от партийной работы? Дадут другую, и только. Может, тихую, незаметную, с меньшим окладом. Ну и что? Не в этом дело. Снятие Глебова - это уже следствие. Нам надо подумать о причине. - Он взял из рук Поповина пачку сигарет, закурил, давая понять, что он еще не сказал самого главного. В отличие от растерянного Поповина, взволнованного Маринина и несколько беспечного Озерова, Гризул был собранно-хладнокровен, расчетлив и вдумчив. Умный и сдержанный, он всегда умел находить выходы из самых трудных положений и делал это спокойно, без эффекта, как нечто обыденное. - Глебов должен быть дискредитирован. Так считает Златов. Я думаю, что он совершенно прав.
- В самое сердце, под корень, чтоб не поднялся - это правильно, - вслух прокомментировал Озеров совет Матвея Златова.
- Чтоб почувствовал свое бессилие и правоту, - продолжал Гризул и повторил: - Правоту и бессилие. Для таких, как Глебов, это самое страшное.
- Явный инфаркт, - торжествующе и злорадно выкрикнул Маринин и, сняв очки, спросил Гризула: - А что конкретно предлагает Матвей?
- Надо подумать, - неопределенно и вскользь метнул Гризул, и Маринин думал вслух:
- Посадов! Вот о ком не надо забывать. Эт-то, я вам скажу, зловреднейший фрукт. Посерьезней Глебова. Удар по Глебову будет прежде всего ударом по Посадову, который вернулся в театр только благодаря Глебову и начал там гальванизировать мертвецов вроде Станиславского. Народный театр, героика, романтика, подвиг, большие идеи и прочая ура-патриотическая трескотня. Кстати, по-моему, скоро должна у них состояться премьера. "Преображение России". Представляете? И тут удар! Перед самой премьерой.
Маринин пришел в восторг от своего монолога. Ему казалось, что мысли, которые он выстрелил с таким азартом, находились на грани гениальных. Для него Посадов был ненавистней Глебова. Гризул отлично понял его "идею" и не собирался ее преувеличивать и даже целиком разделять, но и не хотел гасить его пыл: напротив, чем больше накала, гнева и мести, умноженных на трезвый расчет и хладнокровие, тем лучше для дела. А расчета и хладнокровия у Николая Григорьевича больше чем достаточно.
И он сказал, не столько оспаривая или опровергая Маринина, сколько дополняя его:
- Дело не в нынешнем Глебове, каким он есть сегодня, а в потенциальном, так сказать, в перспективном. Глебов как секретарь парткома завода действительно ничто. Но Глебов может оказаться на месте Чернова, который, между прочим, кажется, должен в сентябре, что ли, уйти на пенсию. Получит орден за безупречную службу, и все. Глебов может оказаться и выше Чернова. Он, несомненно, талантлив, умен, эрудирован. Это надо иметь в виду для объективных оценок. Для себя. Вслух можно и нужно говорить, что он бездарен, невежда, дурак и все прочее. Одно другому не мешает. Так вот, ситуация может измениться. Тогда нам будет худо. А Посадов что? Старый гриб. Он бесперспективен, как солнце на закате. Вот почему я считаю, что Матвей прав. Глебов должен быть дискредитирован на всю жизнь, навсегда.
Подчеркнутая ссылка на Златова как на авторитет непререкаемый исключала резкие возражения или спор: Матвей - умница, он знает, как лучше, необдуманного совета не подаст. Вот почему после слов Гризула наступила серьезная, вдумчивая и долгая пауза, которую каждый из них должен был использовать для того, чтобы найти конкретные предложения. И в этой напряженной тишине резко скрипнули пружины под Поповиным, и слабый сиплый голосок пропищал:
- Суд над Братишкой и Мусой состоялся вчера. - Все молча повернули головы в сторону Поповина. - Братишке дали два года и на пять лет лишили Москвы. Это хорошо. Но вот Муса…
Поповин озадаченно закивал головой, и щелочки глаз его совсем сузились.
- Что Муса? - не утерпел Маринин.
- Непонятный фокус. И опять Глебов. Он выступал на суде в качестве пострадавшего, осуждал Братишку и вообще так называемых стиляг и тунеядцев, а потом вдруг зачитал завещание политрука заставы Мухтасипова своему сыну, написанное в первый день войны, и там, в суде, передал Мусе это завещание-подлинник, который он держал при себе двадцать с лишним лет. Это произвело эффект. Больше того, он взял Мусу на поруки и собирается устраивать его к себе на завод. Хочет из жулика сделать трудящегося человека. - Поповин оттянул руку в сторону и, не глядя, стряхнул пепел мимо пепельницы, на ковер.
- Вы мне устроите пожар, - недовольно сказал Озеров.
- Извиняюсь. - Снова скрипнули пружины под Поповиным.
- Но политрук, отец Мусы, погиб действительно? Ты его знал? - спросил Маринин.
- А то нет, - живо вздернул голову Поповин и добавил с улыбочкой: - Три года он учил меня марксизму-ленинизму…
- И что в завещании? - перебил его Гризул, не желая выслушивать не очень остроумную иронию Поповина.
- Ничего особенного: обычные патриотические наставления политрука. Ни одно из них его сын не выполнил.
- Так он не знал об этом завещании? - сказал Озеров.
- На суде впервые услышал.
- А ты знал? - ненужно поинтересовался Маринин.
- Откуда? И зачем мне? Там творилось такое, что не до того было: каждый думал о своей шкуре.
- И Мусу оправдали? - насторожился Гризул.
- К сожалению, - грустно обронил Поповин.
- Почему - к сожалению? Ведь это твой человек, - сказал Маринин и спросил напрямую: - Ты ревнуешь его к Наталке?
Поповин недовольно поморщился, давая понять, что "романчик" Мусы с его женой - сущая мелочь, о которой не стоило вспоминать. Тут вопрос гораздо серьезней, и он поспешил пояснить:
- В данной ситуации пребывание Мусы в Москве, тем более под крылышком Глебова - факт крайне нежелательный.
- Он что-нибудь знает? - снова спросил Гризул.
- Так, кое-что из мелочей, - поспешил его успокоить Поповин. - Это естественно, он у меня работал, я его привлекал…
- А по-моему, и не естественно, и не осмотрительно с твоей стороны, - упрекнул Гризул. Он считал положение гораздо серьезней в связи с "альянсом" Муса - Емельян, чем думалось Поповину. О некоторых преступных махинациях Поповина Муса знал со слов Наталки. Следовательно, нельзя ни в коем случае допустить открытого разоблачения Поповина. Надо хотя бы на время изолировать Мусу. Суд был как нельзя кстати, но им, выходит, воспользовался не Поповин, а его противник - Глебов. Конечно, это досадная случайность, а все же ее следовало предусмотреть во избежание излишних осложнений. Необходимо все учесть и предвидеть. Николаю Григорьевичу казалось, что его друзья заболели недугом, который Сталин называл "головокружением от успехов". Эта опасная болезнь ведет к беспечности, потере чувства реальности. Предостережение Матвея Златова о том, как важно не зарываться, видимо, не пошло впрок. История с крахом Ивана Петрова учит…
Маринин с Поповиным ушли одновременно, оставив хозяина дома с Гризулом. Озеров, оставшись с Гризулом, негромко спросил, словно его мог кто-то услышать, хотя он великолепно знал, что в квартире, кроме них, никого нет:
Что с Петровым? Почему он погорел?
- Петров недавно был в Америке, - загадочно обронил Гризул, отойдя к окну.
- Ну и что?.. - Озеров ждал ясного ответа, ибо был уверен в осведомленности Гризула.
- Говорят, якобы имел там встречи с Реймондом Рубиновым.
- Кто такой Реймонд Рубинов?
- Один из руководителей фонда Каплана. Есть такой в США.
- Ну и что? Насколько я понимаю, фонд Каплана - благотворительная организация.
- Не будьте наивны, - Гризул усмехнулся, потрогал очки, будто хотел убедиться, на месте ли они. - Через Вольмана фонд связан с Центральным разведывательным управлением. Думаю, что наши органы об этом отлично знают.
- Это тот Вольман, который возглавлял в Париже "Свободные профсоюзы в изгнании"? Кажется, эта организация носила явно антисоветский характер?
- Именно, - подтвердил Гризул и, с деланным удивлением взглянув на Озерова, добавил: - Вы хорошо информированы в международных вопросах. Теперь Вольман в Штатах. Возглавляет Институт международных исследований.
- И давно?
- С пятьдесят девятого года.
- Мне помнится, институт этот готовит антикоммунистические кадры, - охотно поделился Озеров своей осведомленностью.
Гризул снова усмехнулся, скривив губы и приподняв бровь. Ему нечего было добавить.
В развернувшейся невидимой жестокой борьбе между силами правды и подлости Гризул был одним из опытных бойцов. И в этом он едва ли уступал своему властному тренеру Матвею Златову, который всегда предпочитал оставаться в тени, хотя и находился невдалеке от ринга.
Глебов, знавший повадки и тактику дельцов, подобных Поповину, догадывался о предстоящей с ними битве А вот Муса, он, конечно, не мог и предполагать, что где-то в большой светлой квартире нового дома на Ленинских горах его судьбой интересуются кроме его шефа Поповина еще и такие люди, как Гризул, Озеров и Маринин. Муса пришел на завод и с помощью Глебова был назначен учеником к мастеру Деньщикову, с которым Емельян предварительно поговорил. Деньщиков дружески встретил новичка, показал ему цех, объяснил обязанности, познакомил с ребятами. Шефствовать над новичком он поручил Юре Пастухову.
- Ну как? Для начала все ясно? - спросил Деньщиков у него.
- Для начала - да, - равнодушно ответил Муса.
Они вышли во двор, и Мухтасипов осведомился, когда ему приступать к работе.
- По приказу ты зачислен с сегодняшнего дня, так что можно хоть сейчас. Но приходи лучше завтра с утра, чтобы вместе со всеми начинать. А пока сходи в парикмахерскую и приведи в порядок свою голову. У нас эти лошадиные прически не в моде. Видал, как смотрели на тебя в цехе? Это не потому, что новичок. Они почти ежедневно приходят. Ребят удивили твои бакенбарды и эти, как их, косы.
- Вызвали веселое оживление в зале, - невозмутимо пошутил Муса и покорно прибавил: - Хорошо, раз это так важно - постригусь наголо, под нуль, как солдат. Устроит?
- Ну это твое дело. Если тебе нравится, можешь и так ходить. Никто тебя не неволит. Я просто посоветовал. Но к чему возбуждать излишнее любопытство и вызывать насмешки? Красивый рабочий парень, а вид, как у ресторанного завсегдатая-тунеядца.
- Совершенно верно, я и есть таков. А вы разве не знали?
- Ты был таков. А теперь ты - рабочий завода "Богатырь". Это, братец мой, высокая честь. Будем считать, что с прошлым покончено. А с завтрашнего дня начинается новая жизнь. Ну, до завтра! - И Деньщиков протянул Мусе на прощание свою крепкую смуглую руку.
"Расставание с проклятым прошлым начнем с приведения в порядок моей непутевой головы", - подтрунивал над собой Муса по пути в парикмахерскую. Он вспомнил, как однажды ждал на остановке автобус. Машины долго не было. Стоявший позади пожилой офицер спросил: "Давно не было автобуса?" - "С год", - глупо сострил Муса. "Оно и по твоей голове видно. Наверное, с год в парикмахерской не был. А там тебя давно ждут", - поддел офицер. В очереди заулыбались. Муса понял, что тут ему не найти поддержки, и обозлился на офицера. "Там тебя давно ждут… Ну вот и дождались", - подумал он, переступая порог парикмахерской.
Взволнованная речь Глебова на суде и рассказ о предсмертной просьбе политрука Мухтасипова потрясли всех присутствующих в большом зале Дома культуры завода "Богатырь". Зал был полон. Емельян читал пожелтевший от времени, продырявившийся на сгибах листок в притихшем, оцепеневшем зале и сам вторично переживал то трагическое утро первого дня войны. Он читал медленно, негромко, делал долгие паузы, чтобы умерить свое волнение:
- "Дорогой мой мальчик. Сегодня фашисты напали на нашу Родину. Уже восемь часов, как наша пятая застава ведет кровопролитный бой. Скоро начнется третья атака. Для нас она может быть последней. Я сижу сейчас в фашистском танке, захваченном нашими пограничниками, притаился у пулемета и пушки и жду, когда фашисты снова ринутся в бой. У меня перебиты ноги, но это ничего. У меня есть руки, здоровые и сильные руки, чтобы управлять пушкой и пулеметом; у меня есть зоркие глаза, чтобы точно целиться во врагов. Наших бойцов полегло много. Они сражались геройски. Помни о них всегда, родной мой Муса. Врагов полегло больше, во много раз больше, чем наших".
Здесь Глебов сделал паузу, чтобы передохнуть, и посмотрел сначала на сидящих на скамье подсудимых Мусу и Диму, затем в зал. И снова продолжал:
- "Милый сыночек! Я не видел тебя, не слышал твоего голоса, и может случиться, что мы никогда не встретимся с тобой. Послушай меня, мой мальчик. Умирать не хочется. Очень хочется жить. Только здесь, где кругом пляшет и бесится смерть, только тут по-настоящему можно оценить жизнь. До чего она хороша и прекрасна! Люби ее, дорожи ею. Но больше всего люби свою Родину, нашу чудесную Советскую страну, созданную великим Лениным. Жизнь хороша и прекрасна, но Родина дороже жизни. И если когда-нибудь Родина потребует от тебя твою жизнь - отдай, не задумываясь. И еще люби труд, уважай людей, и люди будут тебя уважать. Делай им добро, не требуя наград. Это большое счастье - делать людям добро. Будь честным и твердым, справедливым и неподкупным, беспощадным ко всем и всяким мерзостям и подлостям рода человеческого. Люби маму, она у нас с тобой славная, помогай ей, заботься о ней, как заботится она о тебе. Помни, сын: если смерть настигнет меня здесь, я хочу жить в тебе, в твоих делах, я хочу, чтобы ты сделал в жизни и то, что не успел сделать я, и то, что должен сделать ты. Прощай, мой дорогой мальчик. Пусть никогда ты не услышишь ни свиста пуль, ни грохота снарядов, ни лязга танковых гусениц. Пусть эта война будет последней. 22 июня 1941 года".
Закончив чтение, Глебов обратился к суду:
- Товарищ судья! Разрешите передать этот документ тому, кому он адресован, Мусе Мухтасипову.
- Пожалуйста, передайте, - ответил судья, кивнув головой.
Емельян пошел к скамье подсудимых. Не все было убито и растлено в этом щупленьком юнце, где-то в закуточках души осталось человеческое, не тронутое тлей.
Впервые за последнее время заплакал Муса. Его мать, Нина Платоновна, тихо всхлипывала. То и дело прикладывала платок к глазам и молодая генеральша. Максим Иванович в суд не пришел: не хотел видеть своего позора. Плакали и многие другие. И только Дима Братишка сидел с сухими глазами, с каменным лицом, упершись тупым взглядом в одну точку. До него так и не дошло, почему Глебов берет на поруки Мусу и требует наказания для него, для Димы Братишки. Он не видел существенной разницы между собой и Мусой.
Первые три дня пребывания на заводе были для Мусы нелегким испытанием. До этого он не знал, что такое труд, никогда не трудился по-настоящему. В цехе Муса сделал для себя открытие о происхождении слова ТРУД. Ему действительно было трудно. К концу смены к ним в цех зашел Глебов и спросил его:
- Ну как, трудновато поначалу?
Муса решил не признаваться и ответил:
- Ничего, лиха беда начало.
- Парень смышленый, Емельян Прокопович, - чтобы подбодрить Мусу, сказал Деньщиков. - При желании да терпении дело у него пойдет.
После работы Емельян пригласил Мусу к себе на дачу. К удивлению Глебова, Муса отказался, сославшись на неотложное дело.
- Понимаете, если б вы заранее предупредили, - объяснил Муса, - а то я уже договорился, неудобно, человек будет ждать.
- Понимаю: свидание, - улыбнулся Глебов.
- Деловое, Емельян Прокопович, деятель один, - озорно улыбался Муса.
- Ну раз деятель, давай.
Художник Илья Семенов поджидал Мусу в ресторане "Прага", на четвертом этаже, в так называемом зимнем саду. Обед уже был заказан, и к приходу Мусы на столе появился коньяк в графинчике и холодные закуски.
- Давно я тебя не видел, старина, где пропадал? - Илья протянул Мусе тонкую руку. - Уезжал куда-нибудь? В Крым, на Кавказ, на Балтику?
- Нет, довольствовался Москвой-рекой, - небрежно бросил Муса и взглянул на художника: знает о суде или нет? "Наверное, знает, но виду не подает. Зачем, однако, я ему понадобился?"
- Тоже неплохо. Лето в Подмосковье нынче было по заказу, - заметил Илья, наливая рюмку Мусе.
- Кому как! - уклонился от прямого ответа Муса.
Семенов сделал вид, что не понял этого, и сказал:
- На юг надо ехать. Сейчас - начало бархатного сезона.
- Для кого бархатный, а для кого хлопчатобумажный, - заметил Муса и, чокнувшись, выпил коньяк.
- Брось хандрить, Хол. Давай-ка лучше махнем на юг. У меня есть две курсовки в Сухуми.
- Что ж, счастливого пути!
- А ты? - Семенов сделал удивленные глаза.
- Я теперь трудящийся пролетарий. Рабочий завода "Богатырь". Можете не любить и не жаловать, я не ваш покорный слуга.
- Ты серьезно? Ты, Мусик Хол, - рабочий завода?! - изумился художник и притворно расхохотался. - Надолго ли?
- На многие лета.
- Ну ладно, давай говорить всерьез: что ты нашел на заводе?
- Пока ничего, не считая работы, от которой гудит спина, и зарплаты, причитающейся за это.
- 'И много тебе платят?
- Для начала не балуют. Хватит на три хороших захода в "Арагви" с последующим заплывом в "Волгу" - на карпа в сметане.
- Не жирно. А я очень надеялся на твою компанию. Мне там, на юге, кой-какие этюды надо сделать.
- Ну и давай, - неопределенно буркнул Муса и поглядел на художника: цель встречи ему пока что не была ясна.
- Мне нужен помощник, - пояснил Илья.
- Таскать этюдник?
- Не только. Натурщик нужен. Юноша у моря.
Объяснение Семенова показалось Мусе рассчитанным на простаков, которые не имеют представления о работе живописца. Он не поверил Илье, но, чтобы не лишать его надежды, спросил:
- А на какие шиши поедет помощник?
- Беру на полное иждивение.
- Сроком?
- Пока на месяц.
- А потом?
- Там видно будет. Кстати, я давно хотел предложить тебе работенку в художественных мастерских, да видел - ты не нуждаешься. Не пыльно и денежно. Во всяком случае, раз в пять больше, чем на заводе.
- Интересно. А тебе известно, что твой покорный слуга смыслит в искусстве ничуть не больше, чем ты в ветеринарии?
- И не нужно, - вполне серьезно сказал Семенов. - Ты будешь деньги делать. Для художников. Дело и деньги. Художники нынче живут худо. Заказов нет, меценатов тоже. А жрать надо.
Похоже было на то, что Семенов высказывает давно наболевшее. Увлекшись, он ушел от основной темы, ради которой встретился с Мухтасиповым. Впрочем, Семенов не спешил: задуманное дело требовало времени. Кроме того, надо было учитывать и капризный характер Мусы, предпочитавшего пряник, а не кнут. "Пряник" в графине кончался. Семенов подозвал официанта и, указав глазами на графин, продолжал, возвращаясь к главному:
- А ты думаешь, те, кто ведает художниками и их мастерскими, имеют отношение к искусству? Наивняга! Да им это и не нужно. Это дело коммерческое. Там нужен человек вроде тебя и Ефима Евсеевича. Вот, например, должность, которую мог бы получить ты. Что от тебя потребовалось бы? Выгодно реализовать продукцию. Короче - всучить разную дребедень клубам, организациям, учреждениям и получить хорошую деньгу. Достать заказ. Найти заказчика. Это все должен делать человек, обладающий коммерческой смекалкой.
Наконец Мухтасипов решил, что понял смысл встречи: Семенову и К° нужен был человек, умеющий делать бизнес. А бизнес видно, большой, Муса это чувствовал нюхом опытного маклера. Но он ошибался: предложение Семенова было одним из пунктов стратегического плана, намеченного "четверкой" на квартире Озерова.
А Семенов все говорил, рисуя радужные перспективы, которые захмелевшему Мусе казались грандиозными, разжигали в нем уснувшие было страсти.
- А потом, - Семенов мечтательно смотрел на Мусу, приподняв рюмку с коричнево-золотистым коньяком, - потом поедем с тобой по Руси скупать иконы. Это настоящий капитал: иностранцы платят тысячи!
Расстались они поздно вечером. И не в "Праге", а в Химках, в ресторане "Волга". Муса был крепко пьян. Но когда Семенов, протянув ему руку, с нажимом сказал:
- Значит, договорились. Через пять дней мы купаемся в вине и пьем Черное море… Наоборот - купаемся в Черном море и пьем вино. Решено?
- Подумаю, - ушел от ответа Муса. - Чего думать? Все же ясно.
- Я подумаю. Имею я право думать или нет? - настаивал на своем Муса, едва ворочая языком. - Имею я право сам решать или нет?
- Решай, да поскорей: у меня курсовки горят.
- Ну и пускай горят. Можно и без них, дикарем…
- Зачем же: они денег стоят.
- Пускай горят и деньги. На иконах заработаем. У иностранцев много денег. Доллары.
Так они ни до чего определенного и не договорились в тот вечер.
Теплым рябиновым августом уходило подмосковное пето Пора было собирать в школу ребят. И дачники потихоньку уезжали. Для Емельяна лето пролетело как-то незаметно, промелькнуло электричкой среди лесных опушек. Не успел он оглянуться, как приближавшийся сентябрь напомнил ему о детских заботах: Русику понадобилось купить альбом для рисования, Любочка просила отца зайти за нотами в музыкальный магазин, а за какими, сказать забыла. Лена ездила на учительскую конференцию. А вчера решила, что нужно уже переезжать в Москву, не дожидаясь последнего дня августа.
Хотя в пригородных электропоездах народу будто и поубавилось, но к концу рабочего дня вагоны, шедшие из Москвы, по-прежнему были переполнены. Емельян, говоря по совести, радовался окончанию дачного сезона: надоело таскаться в электричках. Нынче Емельяну удалось занять место у окна по ходу поезда. Напротив него сидела девушка и читала журнал. Рядом с ней сидели двое молодых парней, развязных и болтливых. Вначале они рассказывали друг другу о своих амурных похождениях, потом, видно, это им надоело, и они начали приставать к девушке. Та не обращала на них внимания. Должно быть, парней это задело, и тогда один из них вырвал из рук девушки журнал. Девушка возмутилась:
- Отдайте журнал, хулиганы!
Те продолжали корчить физиономии и хохотать. По соседству с Глебовым сидела старушка, молча наблюдала эту отвратительную сцену и только горестно качала головой. Третьим на скамейке рядом со старушкой с краю сидел мужчина средних лет, с синим бритым подбородком, желтыми навыкате глазами, широкоплечий, плотный, крепкий на вид. Он не обращал внимания на двух молодых хулиганов, разговаривал со своим знакомым или приятелем, который сидел тоже с краю, но уже по другую сторону через проход - молодым, элегантно одетым парнем, при галстуке, в белой нейлоновой сорочке и черном костюме.
Глебов метнул на парней осуждающий взгляд и потребовал прекратить безобразие.
- А тебе что надо, сморчок! - задиристо сказал один - белобрысый, курносый, коренастый. Бесцветные глазки его сверкали азартом.
- Да это из этих самых… из ортодоксов, - насмешливо подзадорил его приятель, толстогубый, крутолобый, с большими оттопыренными ушами. - Разве не видишь - привык командовать.
- Ах, во-о-т оно что-о! - протянул белобрысый. - Жив еще, уцелел. Небось охранником служил. По морде видно. - И столь же нагло к девушке: - Это твой папаша или… наоборот? Ха-ха-ха! А получше не могла найти?
Они говорили громко, так что многие вблизи сидящие пассажиры, в том числе и желтоглазый сосед, обернулись в их сторону в напряженном ожидании реакции со стороны Глебова. Рассудком Глебов понимал, что эти двое подонков и, быть может, закоренелых хулиганов явно провоцируют скандал, и поэтому не следовало бы поддаваться на провокацию. Но эта здравая мысль оттеснилась внезапно нахлынувшим чувством обиды, собственного достоинства, грубо и цинично оскорбленного двумя великовозрастными негодяями, ненависти ко всему этому отребью. Глебов встал со скамейки и кулаком, по-боксерски ударил в лицо сначала одного, а потом другого. И тут же выпрямился, готовясь к защите: он был убежден, что хулиганы сейчас пустят в ход оружие. Но парни, к удивлению Емельяна, сидели и растерянно ощупывали свои физиономии. Первым подал возмущенный голос желтоглазый крепкий сосед:
- Это безобразие, хулиганство! Среди бела дня…
- Милиционер! - крикнул его изысканно одетый, с лоснящейся прилизанной шевелюрой приятель.
И удивительное дело - какое совпадение! - от двери к ним поспешно пробирался старшина милиции. Он был чрезвычайно корректен, даже любезен, предложил всем троим участникам инцидента, а также свидетелям выйти с ним из вагона. На станции в отделении милиции Глебов обнаружил только двух свидетелей - своего соседа и его элегантного приятеля. Девушки, из-за которой все началось, не оказалось. Это обстоятельство несколько огорчило Глебова, но ее исчезновение он объяснил довольно просто: испугалась, побоялась мести двух молодых хулиганов. Глебов был убежден, что сейчас все выяснится, истина будет установлена и справедливость восторжествует. Все-таки есть два свидетеля.
В отделении милиции часа через полтора, после опроса сторон и свидетелей, был составлен протокол, который гласил, что такого-то числа в электропоезде гражданин Е. П. Глебов, работающий секретарем парткома на московском заводе "Богатырь", без всяких причин и оснований нанес физическое оскорбление и телесное повреждение двум юношам: поэту, аспиранту Виктору Алмазову (толстогубый оказался молодым поэтом), и студенту Е. М. Пузикову, что подтверждено авторитетными свидетелями - кинорежиссером Е. Б. Озеровым и композитором доцентом Р. Г. Грошем.
Потрясенный таким оборотом дела, Емельян пытался взывать к совести свидетелей:
- Товарищи! Но вы же видели, девушка сидела, они ее оскорбляли…
- Никакой девушки я не видел, - сухо отрезал Озеров. - Я видел, как вы хулиганили, гражданин, зверски избивали вот этих беззащитных юношей. Это все видели. И весь вагон возмущался вашим, мягко говоря, поступком. Хотя на самом деле это - преступление, жестокое, садистское, за которое полагается, во всяком случае, не пятнадцать суток.
- Но ведь вы слышали, как они меня оскорбляли? Какими словами обзывали? - все еще не будучи уверенным, что здесь ловко инспирирована хорошо продуманная и организованная провокация, говорил Глебов Озерову.
- Я не слышал никаких оскорблений в ваш адрес, - холодно и в то же время с торжествующим злорадством ответил Озеров и отвернулся.
И тогда Глебов сразу все понял. С грустью и болью посмотрел на старшину милиции и только произнес:
- А ведь это грандиозная провокация, старшина! Вы понимаете, что это провокация?
- Бросьте свои штучки, гражданин. Видали, - недружелюбно и, пожалуй, даже враждебно, с явным недоверием сказал старшина. - Что ж, по-вашему, эти товарищи врут? Солидные и уважаемые люди напраслину наговаривают? - И уже любезно, обращаясь к Озерову: - Вы, товарищ Озеров, знакомы с пострадавшими или, может, они ваши родственники?
- Да что вы, впервые вижу этих молодых парней, - пожал круглыми плечами Евгений Борисович.
- Ну вот, все лгут, только он один правду говорит, - резюмировал старшина и пристыдил Глебова: - Эх, гражданин, гражданин, а еще на партийной работе!
"На партийной работе", - эта фраза крепко врезалась в память Емельяна Глебова. Он повторял ее, строя различные предположения по поводу всей этой истории и предстоящих ее последствий. Он снова и снова воспроизводил в памяти всю картину инцидента, всесторонне анализируя все решительно: действия девушки, парней и двух свидетелей. В том, что парни преднамеренно провоцировали инцидент, Емельян не сомневался и не считал их поведение случайностью. Не случайным казалось ему и такое точное появление милиционера, хотя все могло быть. В отношении милиционера он колебался. Исчезновение девушки, как главного свидетеля, не вызывало в нем особых подозрений, ее поступок можно легко объяснить. Он пробовал допустить, что оба - и режиссер и композитор - дали вполне искренние показания в пользу аспиранта и студента, не видя за разговорами начало инцидента и видя только его конец. Теперь Емельян понял, что во всех инстанциях, в том числе и в партийных, будут верить не ему, а "посторонним" и "беспристрастным" свидетелям - Озерову и Грошу (фамилии их Глебов запомнил). В этом был трагизм его, Глебова, положения. Слишком авторитетны были свидетели, внушительны их показания, не вызывающие сомнений. Именно на этом и строили расчеты организаторы провокации. И если Евгений Борисович Озеров унизился до прямого и непосредственного участия в грязной авантюре, то лишь потому, что этого требовало особое значение, которое придавалось личности Глебова и расправе над ним. Тем не менее Емельян не сразу оценил всю серьезность происшедшего и попытался успокоить встревоженную жену, которая каким-то чутьем уловила нависшую над мужем опасность.
- Тут что-то не так, - говорила озабоченная Елена Ивановна. - Или ты мне не все рассказал, опустил какие-то существенные детали и нюансы, или ты сам еще во всем не сумел разобраться. В любом случае, я думаю, тебе надо немедленно что-то предпринять. Ты же знаешь, как все могут раздуть, напишут в райком. А там, учитывая твои отношения с Черновым…
Да, Емельян не мог не принимать во внимание свои отношения с первым секретарем райкома и решил на другой же день зайти в райком и рассказать о случившемся. Утром, придя на завод, Глебов узнал еще неприятную новость: Муса не пришел на работу. Причина неизвестна. Сообщение это вызвало в нем прилив досады и раздражения, породило ассоциации образа Мусы с теми двумя вчерашними. "Волчонок, кажется, убежал в лес", - мелькнула горькая мысль, но он попытался отогнать ее от себя. В райкоме заведующий отделом - самого Чернова не было - внимательно выслушал Глебова и попросил написать объяснение, сообщив, что из милиции уже пришло отношение, но Игорю Поликарповичу еще не докладывали.
- Быстро, однако, сработали, - словно мысли вслух высказал Глебов, придавая своим словам особое значение.
- Это говорит о четкости работы нашей милиции. Только и всего. А ты как думаешь?
- Я думаю, что не только, - загадочно ответил Глебов.
- История, конечно, неприятная, главное - свидетели. Они что ж? - Заведующий отделом смотрел на Емельяна с той откровенной доверительностью, когда человек сочувствует, искренне желает помочь, но не знает еще, как это сделать.
На следующий день Муса явился на завод за полчаса до начала работы, прошел в цех и увидел напротив своего рабочего места в рамочке отпечатанный на машинке крупным шрифтом текст предсмертного письма отца "Завещание сыну". Никто на Мусу не обращал внимания, никто ни о чем не спрашивал. И впервые за всю свою недолгую жизнь Муса почувствовал небывалый приступ стыда. Тогда он смело подошел к мастеру, весь открытый настежь, прозревший, быть может, на какой-то миг, с решимостью на все, и сказал не своим, вернее, необычным и для него, каким-то странным голосом:
- Простите меня за вчерашнее… В последний раз. Больше не повторится.
Мастер, который долго ломал голову над вопросом, как и с чего начать завтра разговор с Мусой, теперь, глядя на юношу, видного насквозь, понял, что говорить ни о чем не надо. Лишь негромко, как будто ничего особенного не случилось, ответил:
- Хорошо, верю.
Этот ответ так тронул с тревогой ожидавшего "разноса" Мусу, что ему вдруг захотелось во всех подробностях рассказать мастеру о позавчерашней встрече с художником Семеновым, о его заманчивом предложении бросить завод и перейти в "систему искусства". И о том, что он, Муса, решил никуда не уходить, не поддаваться соблазну и что позавчерашняя встреча в ресторанах была для него своего рода прощанием с прошлым. Но он не сказал ничего этого, потому что мастера позвали в партком.
Глебов считал своим долгом проинформировать членов парткома об инциденте в электричке, рассказал им все, как было, потому что утаивать ему было нечего, он чувствовал себя ни в чем не повинным и был убежден в своей правоте. И ему верили. Только, как и в милиции и в райкоме, у заводских товарищей возникал недоуменный вопрос о показании свидетелей. И лишь один-единственный Алексей Васильевич Посадов, лично знавший Озерова (когда-то снимался в его фильме "Дело было вечером"), пробурчал:
- Этому гангстеру я не очень доверяю. Он на все пойдет, если ему выгодно.
- Тогда объясните, какая для него выгода, когда он с Емельяном Прокоповичем даже не знаком? - сказал Варейкис, пытаясь нащупать хотя бы незаметную тропинку к истине.
- Одна шатия-братия! - махнул рукой Посадов и, не располагая никакими конкретными фактами, добавил: -У Емельяна Прокоповича слишком много недругов появилось. Один Маринин чего стоит. А вы думаете, у этого генеральского сынка (он имел в виду Диму Братишку) не было дружков-приятелей, которые и подстроили все, как положено? Из мести.
Слова Посадова навели на размышления и директора завода, заставили кое-что вспомнить.
- Кинорежиссер Озеров? - переспросил Глебова Борис Николаевич. Потом вопрос к Посадову: - Какие у него фильмы?
- "Дело было вечером" и еще какая-то мишура в том же духе, - поморщился Алексей Васильевич.
- Знаю такого, - вдруг оживившись, отрубил Борис Николаевич. - Знаю, что он дружит с Марининым, с Поповиным, с Гризулом. Встречал их в одной семейной компании. - Он не стал уточнять, когда это и где было: имелся в виду новогодний вечер на квартире у Николая Григорьевича.
- Ну тогда все ясно, - протянул Константин Сергеевич Лугов. - Оттуда и сыр-бор. И гадать нечего.
- А что я вам говорил? - торжествующе провозгласил Алексей Васильевич. - Вы что ж думали, идеологическая борьба - это область теории, журналистских споров, эстрадных стишков и абстрактных картинок? Не-е-т, дорогие мои. Эта штука куда серьезней, чем какой-нибудь пограничный инцидент.
- Что говорить, Алексей Васильевич, - вставил Лугов. - Зараза есть зараза. Возьми простую моль: не будешь бороться - все съест! Или тот же шашель. В первую мировую войну, сказывают, не только ящики из-под снарядов и патронов проедал, а и самые гильзы. Латунные гильзы насквозь до самого пороха протачивал. Вот тварь-то какая. Хуже всякого диверсанта-вредителя.
Среди рабочих завода прочно утвердилась версия, что против секретаря парткома была организована преднамеренная провокация, в которой участвовали - и это уже передавалось как достоверный факт - Маринин и Гризул, то есть люди, которых хорошо знали на заводе, хоть сейчас они и не работали на "Богатыре". Молва народная, она всегда бродит где-то совсем недалеко от истины, она может несколько искажать факты, упускать или присочинять несуществующие и несущественные детали, но не уходит от реальной действительности. Недаром же говорится: глас народа - глас божий.
Глебов ждал вызова к Чернову. Он так рассуждал: коль на него в райком поступило из милиции такое серьезное обвинение, то делу обязательно должен быть дан соответствующий ход. Будут выяснять, расследовать, разбираться, чтобы установить истину и принять соответствующее решение. Он был уверен, что дело это не минует первого секретаря райкома, особенно если верна версия о том, что это преднамеренная провокация и в ней замешаны Маринин с Гризулом. Они-то уж постараются поставить в известность Игоря Поликарповича о недостойном поведении секретаря парткома завода "Богатырь". Глебов знал, что разговор у Чернова будет неприятным, но надеялся на то, что из его объяснительной записки Игорь Поликарпович узнает истину. Сам он, разумеется, разбираться не будет, поручит кому-нибудь из инструкторов. Таким образом, Емельян мог рассчитывать на объективный разбор его "дела" и как итог - торжество справедливости и законности.
И вдруг одновременно, в один день, в двух московских газетах появились фельетоны, в которых главным "героем", в кавычках, конечно, был Емельян Глебов. Один фельетон назывался "Завистливый кляузник". Автор некто З. Бумажный вначале с мнимым глубокомыслием и провинциальным остроумием порассуждал о людях-неудачниках, лишенных, как правило, таланта, но в избытке наделенных завистью. "Зависть бывает черная, желтая, подлая, пошлая, прирожденная, капризная, злобная, мелкая и т. д., - изощрялся фельетонист. - Но во всех случаях все, так сказать, виды зависти сохраняют свой неотъемлемый признак - что-то мерзкое и вонючее". Дальше фельетонист шарахнулся в дебри истории, чтобы позаимствовать там несколько широко известных примеров зависти, не преминув прихватить попутно и пушкинского "Моцарта и Сальери". Затем от Моцарта фельетонист перебросил исторический мостик к берегу современности, и второй конец этого мостика лег прямо к ногам Ефима Поповина. "Поскольку дела и подвиги этого героя были широко известны народу, - как мельком заметил фельетонист, - то я позволю себе лишь вкратце напомнить о них, ибо этого требует сама тема и предмет разговора". Процитировав самые эффектные места из нескольких восторженных писем от читателей и телезрителей, адресованных Поповину, и сообщив, что таких писем сотни и что они выражают мнение миллионов, фельетонист поставил загадочное "но". "Но вот появилось и еще одно письмо, - вещал фельетонист. - Оно единственное в своем роде, так сказать, уникальное. Автор его тот самый Сальери, простите - бывший лейтенант и начальник погранзаставы, на которой служил рядовым Ефим Евсеевич Поповин, Емельян Глебов. "Как! - воскликнул он, снедаемый черной завистью, - чтобы мой подчиненный, который стоял предо мной как лист перед травой по стойке "смирно", которого я мог в любое время посадить на гауптвахту, чтобы этот рядовой поднялся выше меня, его прямого и непосредственного начальника! Да как он смел?!" И тогда черная зависть породила заурядного желтого злобствующего кляузника. И Глебов начал строчить на Ефима Поповина кляузы". Заканчивался фельетон так: "Кляузник - явление хоть и редкое, вымирающее в нашем обществе, но все еще встречающееся то там, то тут. И, быть может, не стоило бы выводить на суд общественности еще одного кляузника, чтобы никаким образом не бросить тень на честного гражданина и мужественного солдата Ефима Поповина, если бы не два весьма прискорбных обстоятельства. Первое: кое-кто, должно быть, в целях перестраховки, не освободившись от привычек культовских времен, всерьез отнесся к кляузе Глебова, рассудив по старинке: нет дыма без огня. И второе: курьезный и печальный факт - Емельян Глебов занимает почетную и ответственную должность секретаря парткома завода "Богатырь". Быть может, только поэтому и кляуза его кое-кому показалась заслуживающей внимания".
Удар наносился не только по Глебову, но и по тем товарищам из Министерства обороны, которые прислушались к его заявлению и на основании экспертизы установили, что письмо Поповина, якобы имеющее двадцатилетнюю давность, чистейшей воды липа. Автор, а вместе с ним и газета пытались припугнуть этих товарищей, названных деликатно "кое-кто", дискредитировать выводы экспертизы, а в лучшем случае заставить их смущенно отойти в сторону от "дела Поповина", коль в него вмешалась такая сила, как печать и телевидение. Кроме военных задевались и партийные органы, в частности райком и горком, которым надлежало немедленно расправиться с кляузником, "пробравшимся" на ответственный пост. Тон фельетона был груб и вызывающ, будто речь шла не о советском человеке и коммунисте, а о каком-нибудь белогвардейце, фашистском приспешнике или рецидивисте. И в этом тоже был свой расчет - унизить и оскорбить Глебова и связать руки тем, кто мог бы стать на его защиту: мол, кого вы защищаете? Держитесь подальше от него. Фельетонист, печатая фельетон, ничем особенно не рисковал, поскольку знал, что у Глебова нет ни свидетелей, ни явных улик против Поповина. А военные власти вряд ли пожелают лезть в это грязное дело.
Авторы второго фельетона композитор Р. Грош и кинорежиссер Е. Озеров примерно теми же красками нарисовали целую картину, на переднем плане которой стоял, засучив рукава, громила - хулиган Глебов, по недоразумению занимающий партийный пост. Авторы не жалели красок, расписывая "звериное избиение" скромных юношей, один из которых был талантливым стихотворцем. Тут фельетонисты не преминули сообщить читателям, что Глебов и раньше "избивал" поэтов, пользуясь, так сказать, административной властью. Но, оказавшись бессильным и беспомощным в идейном поединке, Глебов прибегнул к физической расправе над ненавистной ему молодой поэзией. "На что же рассчитывал хулиган Глебов? - вопрошали авторы. - На безнаказанность и на попустительство со стороны партийных органов?.." Сообщили уважаемые и авторитетные авторы также о том, что недавно на судебном процессе, разбиравшем дело двух хулиганов, Глебов неожиданно для судей взял под защиту одного из подсудимых, демагогическими уловками добился его оправдания и немедленно устроил на работу к себе на завод, где, между прочим, его подзащитный на третий же день совершил прогул.
Вот этого-то и не следовало писать Грошу и Озерову, это была их оплошность, отсутствие чувства меры, которому постоянно учил их Матвей Златов. Дело-то в том, что Муса, прочитав фельетоны и лично зная одного из авторов - Радика Гроша, сразу сообразил, в чем тут суть. О своих предположениях он рассказал не только Глебову, но и товарищам по цеху.
Глебов прочитал фельетоны утром на работе. Подавленный, он не знал, что делать. Не понимал, где находится и в какое время живет. Голова гудела и плохо соображала. Он закрывал глаза и слышал в ушах злорадный смешок авторов фельетона, а вместе с ними Гризула, Маринина и Поповина: "Что, получил? Еще не такое будет. Сомнем. За тобой правда? Ну и ешь ее на здоровье. А за нами - сила. Сотрем в порошок… Всякого, кто станет на нашем пути". Теперь у него не было сомнений: действовали люди Поповина. И хотя Глебов готовился ко всему, такого удара он не ожидал. Вспомнилась война: был на заставе и в тылу врага, где он не раз смотрел смерти в глаза. Там было легче, гораздо легче. Там он ни разу, даже когда шел в гестапо выручать Женю Титову, не чувствовал себя таким беспомощным и беззащитным.
Зашли, сговорившись, одновременно Борис Николаевич и Ян Витольдович. Директор - с тихой улыбкой, предзавкома - не сумевший скрыть негодования.
- Главное, не вешать нос, - с порога сказал Борис Николаевич, широко шагнул к столу, из-за которого поднялся Глебов, и протянул ему руку. И в его крепком рукопожатии Ёмельян почувствовал первую искреннюю поддержку. - Раскрылись полностью, сбросили маски.
- Надо идти в горком, в ЦК! - взволнованно проговорил Варейкис. - Распоясались… Куда дальше? Некуда.
Потом зашли Луговы - Сергей Кондратьевич и Константин Сергеевич, Кауров, Роман Архипов. Негодуя и возмущаясь, наказывали: не падать духом, не вешать нос. Позвонил Посадов, сказал срывающимся голосом:
- Вы у себя будете? Я сейчас приеду. Не нахожу слов.
- Жду, - коротко ответил Глебов и, положив трубку, спросил, глядя на Лугова-сына и на Романа: - Что говорят в цехах? Читали?
- Хотят идти в редакцию, коллективно, с протестом, - ответил за них Кауров.
- Этого делать не нужно.
- А почему? Почему не нужно?! - вскричал Варейкис, багровея и сжимая кулаки. - Сидеть сложа руки? Тебя будут избивать! Ты кто? Враг Советской власти, троцкист, фашист? Как они смеют с тобой так разговаривать?!
- Я такого хулиганства на страницах печати за свою жизнь не помню, - признался директор.
- А этот фельетонист Змей Бумажный просто лается, как базарная торговка. И печатают. Как только редактору не гадко было читать! - добавил Константин Лугов.
- Хоть он и бумажный, а все же змей, значит, может жалить, - произнес Сергей Кондратьевич.
- Хоть он и змей, а все ж бумажный, и пугаться его не надо, - вставил Варейкис.
В это время зазвонил телефон: Глебова срочно приглашали к Чернову.
- Все как есть расскажи, - напутствовал старик Лугов.
- А если что, кликни нас на подмогу, - шутя заметил Варейкис, положив широкую ладонь на плечо Глебову. - Скажи, что это дело так оставлять нельзя. Требуй тщательного расследования и наказания виновных.
Словом, в райком Емельяна сопровождал наступательный оптимизм заводских коммунистов - членов парткома. И это ободряюще подействовало на него, подняло совсем упавший было дух, придало уверенности, вернуло разум. Опытный вероломный противник поставил Глебова в положение обороняющегося, сразу лишив его преимуществ, которые в таком случае достаются наступающему. Но Емельян, напутствованный товарищами, шел в райком и готовился не к защите, а к нападению.
Прочитав фельетоны, Чернов вспылил. И его нетрудно понять: в его районе - чепе, и виновник скандальной истории, которая ложится пятном на район, опять же Глебов, к которому под влиянием Стеллы Борисовны у Игоря Поликарповича, быть может помимо его воли и желания, сложилось предвзятое отношение. Уже одно упоминание имени Емельяна Глебова вызывало в нем чувство раздражения, с которым он уже не был в состоянии бороться. И если во всех прошлых глебовских "историях" в конце концов находились какие-то смягчающие или даже оправдывающие Глебова моменты, то здесь проступок был налицо. Два фельетона, разных авторов, почтенных граждан - Стелла Борисовна уже успела супругу охарактеризовать и Озерова и Гроша как людей непререкаемого авторитета, - воспринимались Черновым как приговор общественности. У него никаких сомнений не могло появиться насчет достоверности изложенных в фельетонах фактов и тем более преднамеренной провокации. Для Игоря Поликарповича было совершенно очевидным, что коммунист, так грубо запятнавший свою репутацию, не может стоять во главе партийной организации крупного предприятия.
Глебову не пришлось сидеть в приемной: Игорь Поликарпович с нетерпением поджидал его. Для себя он решил его судьбу, отдав распоряжение заведующему орготделом безотлагательно провести заседание заводского парткома, на котором рассмотреть персональное дело Глебова, освободить его от должности секретаря и вывести из состава парткома. Чернов, недолюбливающий Глебова, не хотел вникать во все детали и тонкости этого дела - слишком очевидны были факты против Глебова: отношение из милиции, два фельетона в центральной печати да плюс несколько писем и жалоб (правда, анонимных) на неправильные методы работы Глебова на заводе. Чернов считал, что материалов для освобождения Глебова от работы более чем достаточно, притом его надо не просто освободить, а с объявлением строгого выговора, чтоб учел на будущее. Когда заведующий отделом заикнулся насчет новой работы для Глебова, Чернов, поморщившись, бросил:
- Направьте куда-нибудь в школу, учителем. У него ж университетское образование.
Чернов встретил Глебова, сидя за письменным столом.
Перед ним лежали два фельетона, испещренные жирными линиями красного карандаша. Кивнул на кресло напротив стола и, развертывая газету, не глядя в лицо Емельяну, сказал угрюмо:
- Ну что, Глебов, достукался?
- Это провокация, фальшивка, - поспешил предупредить Емельян. - Я прошу меня выслушать.
- Да что ж слушать, и так все ясно, - мрачно проворчал Чернов и поднял на Емельяна тяжелый взгляд. - Вы не можете, Глебов, без чепе.
- Я еще раз прошу, Игорь Поликарпович, выслушать меня, - настойчиво потребовал Емельян, облизав вдруг пересохшие губы. Что-то сухое подступало к горлу, застревало там, мешало говорить и даже дышать.
Не обращая внимания на его просьбу, Чернов продолжал, глядя то на Глебова, то в газету:
- Что ж получается? Работал в райкоме. Проявил неумение вести себя с творческой интеллигенцией, показал свою нетерпимость и догматизм. И это теперь, когда нам с большим трудом удалось установить дружеские контакты с передовой интеллигенцией Запада. Администрировал, вмешивался. На вас были жалобы. Не только письменные. Мне надоело выслушивать упреки. Мы вас послали на завод, думали, что вы там остепенитесь. А вы, вместо того чтобы там вникать в производство, нацеливать коммунистов на борьбу за план, за качество продукции, по существу, продолжали гнуть свою прежнюю линию, затеяли склоку с главным инженером, с директором Дома культуры, организовали идейно вредный вечер вопросов и ответов под видом открытого партийного собрания. И опять на вас жалобы, от которых я устал. Вы понимаете, Глебов?
- Нет, не понимаю.
- Мм-да… Ведь вы, Глебов, присвоили себе немыслимые функции, начали поэтов учить стихи писать, художников - рисовать картины. Да не ваше это дело! На то есть союзы писателей и художников. Есть специалисты. Пусть они и занимаются. Зачем нам вмешиваться в эти чисто профессиональные вопросы?
- Ленин считал искусство и литературу составной частью партийной работы, - с трудом выталкивая слова, негромко произнес Глебов.
- Что вы меня учите? - поморщился Чернов и откинулся на спинку стула, выпятив грудь. Рыбьи оловянные глаза смотрели холодно и отчужденно.
- Я просто напомнил, - обронил негромко Глебов.
- А я вас об этом не просил… Потом случай на реке, это что - тоже ведь чепе?
- Так не я же опрокинул лодку, а меня опрокинули, - снова заикнулся Глебов.
- Но почему-то именно вас, а не кого-нибудь другого… И потом в суде вы стали выгораживать хулигана вопреки всякому здравому смыслу.
Емельян молчал, понимая, что пытаться сейчас что-то объяснить просто бессмысленно. Чернов продолжал:
- Я уже не говорю о последнем случае в электричке и о фельетонах. Это позор. Позор для всего района, для нашей партийной организации.
- Вы же не хотите выслушать… - снова сорвалось у Глебова.
- Слушать ваши оправдания? Сколько же можно? Мы слишком долго и терпеливо слушали вас, в этом наша вина. Вы неискренни, Глебов. Я вам не верю. Вы действительно затеяли драку и избили двух юношей. Не они вас били, а вы их. Это что, неправда?
- Меня оскорбили, я защищал свою честь.
- Честь защищают не кулаками. Для этого существует закон.
- Хотел бы я знать, как бы вы вели себя, окажись на моем месте.
- Я, Глебов, на вашем месте не мог оказаться. .У меня нет основания не верить уважаемым и авторитетным товарищам, невольным свидетелям вашего хулиганства.
- Это ложь! - воскликнул Глебов. - У меня есть данные… Все эти озеровы, гроши - одна шайка, из мести они спровоцировали драку…
- Озеров коммунист, - резко оборвал Чернов, стукнув кулаком по столу.
- Не всяк тот коммунист, кто имеет партбилет, - вдруг преодолев какую-то скованность, твердо сказал Глебов и посмотрел на Чернова с той решимостью, которая граничит с вызовом. Взгляды их столкнулись.
- Что вы этим хотите сказать, Глебов?
- Я хочу сказать, что они есть и теперь в партии, циники, которые в душе издеваются над партией и ее идеями, над священной верой коммунистов, спекулируя именем Ленина. Они произносят высокие фразы и делают низкие дела. Партия не застрахована от проходимцев.
От этих слов Чернова будто перевернуло. Бледное лицо его пошло розовыми пятнами, веки заморгали бесцветными ресницами, перекосилось плечо. Он встал.
- Все, Глебов! Больше нам с вами не о чем говорить. Зайдите к Грищенке и получите от него указания. Вы свободны.
"Не товарищ, а просто - Глебов", - мелькнуло в сознании Емельяна.
Повинуясь внутренней дисциплине, он повернулся и сделал два шага к двери. И вдруг мозг его молнией пронзила мысль о своей правоте и силе, осветила образы несгибаемых коммунистов - Орджоникидзе, Постышева, Блюхера. И тогда Глебов остановился, обернулся лицом к Чернову и увидел маленького человека, всецело занятого благополучием своей собственной персоны. Твердый, решительный взгляд Глебова, взгляд, в котором сверкало благородное презрение и чувство собственного достоинства, смутил и насторожил Чернова. Глаза их встретились - блеклые, воспаленно-усталые глаза Чернова и влажные, вдруг потемневшие глаза Глебова. Каменное лицо Емельяна дрогнуло, негромкий голос четко выдавил железные слова:
- Нет, не все, товарищ Чернов. - Он с трудом произнес это слово "товарищ" и повторил: - Не все. Впереди еще много жестоких битв за коммунизм не на жизнь, а на смерть… Как бы нам не оказаться по разные стороны баррикад…
Глебов круто повернулся и хлопнул дверью.
Выйдя от Чернова, он остановился в коридоре у окна и посмотрел на залитую солнцем улицу, широкую и бесконечную в своем неукротимом и вечном движении, и почему-то в этот миг ему вздумалось сравнить улицу большого города с рекой. Улицы-реки, переулки-ручейки, площади-моря. А есть площадь - целый океан, Красная площадь, океан истории, человеческих судеб. Что-то он не успел высказать Чернову, забыл, упустил. А что именно, не мог поймать в бурлящем хаосе дум. "Океан истории - Красная площадь, - сверлила неотступная мысль. - Сесть в троллейбус и плыть по улице-реке к центру, в океан человеческих судеб".
Заведующий орготделом райкома Грищенко, недавно выдвинутый на эту должность из инструкторов, молодой симпатичный парень, раньше работал с Глебовым в одном отделе и искренне сочувствовал Емельяну в сложившейся не в его пользу ситуации. Глебова, зашедшего к нему после разговора с Черновым, он встретил с дружеской улыбкой, усадил на диван и сам сел рядом, показывая тем самым свое расположение.
- Не горюй, Емельян Прокопыч. Знаю, был неприятный разговор.
- Самое неприятное - это то, что он не пожелал меня выслушать, - стремительно, под напором неостывших чувств сказал Глебов.
- Это бы ничего не изменило. После такого дуплета печати, ты сам понимаешь… Да и его понять можно: на выступление печати надо реагировать. Ведь с него спросят. Верно? А как бы ты на его месте поступил?.. И потом, если принять во внимание его болезнь…
Глебов слушал рассеянно, с замедленной реакцией, не успевая улавливать его мысли. Сказал:
- Он на меня волком смотрел, как на врага. Ни разу товарищем не назвал. Дескать, гусь свинье не товарищ.
- Не ясно только, кто гусь, кто свинья, - заулыбался Грищенко. Он вообще старался держаться веселого тона.
- На гуся я согласен. Пусть буду гусь, - сказал Емельян. - Представляю, как отзывается о моей персоне Чернов: "Глебов - это тот еще гусь". А он в таком случае свинья.
- И знаешь, - быстро перебил Грищенко, не желая допускать никаких выпадов по адресу своего начальника, - поменьше болтать надо. Начальство есть начальство, и оно не любит, когда о нем плохо говорят вообще, а подчиненные в частности.
- А что я о нем плохого сказал? Свинья - так это к поговорке, в порядке распределения ролей. И вообще, это я о Поповине, вот уж кто свинья - классическая, без грима.
- Да не сейчас. Я имею в виду прошлое. Однажды в частной беседе ты назвал Игоря Поликарповича беспринципным дьячком. Ему передали. Выслужился кто-то. Такие у нас не перевелись и вряд ли когда переведутся, ты это лучше моего должен знать.
- Так что ж, может, мне пойти к Игорю Поликарповичу и в порядке извинения назвать его принципиальным протодьяконом?
- Да ну тебя, Глебов, ты все шутишь.
- В моем положении это, пожалуй, единственное утешение - шутка.
- Что твое положение? Оно не так уж трагично, как тебе кажется. Пойдешь в школу завучем.
"Значит, все, судьба моя решена", - быстро промелькнула, как ночная птица, туманная, зыбкая мысль. И Емельян почти машинально проговорил:
- Ты думаешь, справлюсь?
- Не сомневаюсь. Поработаешь год-другой, назначим директором.
- А вдруг и там совершу чепе, как говорит товарищ Чернов? - с иронией подначил Глебов.
- Там нет простора для идеологических экспериментов.
- А я должен стать другим? Это ты хотел сказать? Так вот - решительно не обещаю, - твердо сказал Емельян. - Просто не смогу быть другим. И прошу принимать меня таким, каков есть, каким воспитали меня пионерия, комсомол, партия, наконец, погранвойска и партизаны. Таким я и умру.
- Ну, ладно-ладно, о смерти нам еще рано думать. А сейчас подумай вот над чем: послезавтра надо собрать партком и обсудить твое персональное дело в связи с фельетонами. Хорошо продумай свое выступление. Это мой тебе дружеский совет. Чтоб спокойно, без скандалов. Честно и прямо скажи, в чем ты не прав, где твоя вина. Освободим - и делу конец.
- Я буду говорить только правду. Только правду, - повторил Емельян, уходя.
А теперь - в океан истории. Нырнуть в троллейбус - и плыть. В эти часы московский троллейбус относительно свободен. Глебов опустил в кассу четыре копейки, оторвал билет и в шутку, как это делают студенты перед зачетами, посмотрел номер. Сумма трех первых и трех последних цифр совпадала. Горько улыбнувшись, подумал с иронией: к счастью, черт возьми. Врут приметы, какое тут уж счастье! А интересно, много ли здесь, в троллейбусе, счастливых? Взглянул на улицу с утешительной мыслью: а небось в этом бесконечном людском потоке судеб я не одинок со своей бедой. Наверно, есть и похуже. Впрочем, нет - хуже быть не может. Самое страшное для человека - суд над невинным. И не в результате какой-нибудь следственной ошибки, случайного недоразумения, а нарочито, преднамеренно. Это жестокая пытка, истязание не тела, а души, медленная экзекуция сердца. Утонченный, цивилизованный палач знает, что ты невиновен и, как садист, наслаждается твоими муками. Он куда жесточе тех, которые в старые времена посылали людей на плаху.
А Красная площадь, как всегда, торжественно-просторна.
От Лобного места Глебов медленно пошел к Спасским воротам, чтоб через Кремль выйти в Александровский сад, где должен быть конец очереди в Мавзолей. Куранты пробили четверть. Золотом горит купол Ивана Великого, и плавно, как полет орла, реет над Кремлем алый флаг Родины. У Мавзолея очередь, ей не видно конца. Идут к Ильичу, медленно и нескончаемо, в суровом молчании несут свои думы, заботы и печали. Пойдет и он, Емельян Глебов, пронесет свои думы и боль, но это потом, погодя немного. Бронзовые патриоты Минин и Пожарский кличут народ русский на защиту отчизны. В Кремле у Царь-пушки и Царь-колокола толпились группы людей.
Медленно двигалась очередь по центральной дорожке Александровского сада. По сторонам в газонах разноцветными флагами полыхали гладиолусы. Впереди Глебова стояли трое солдат, позади, очевидно, приезжие: муж, жена и девочка дошкольного возраста, которой не терпелось увидать "дедушку Ленина". Девочка тараторила без умолку: "А где лежит дедушка Ленин? А что я ему скажу? А можно ему стишок рассказать?"
И в голове Глебова, как по индукции, возникает тот же вопрос: "А какие я стихи прочту Ленину? Те, которые пишут Артур Воздвиженский, Новелла Капарулина и прочие? А что мне скажет Владимир Ильич, что скажет нам по многим и многим вопросам нашей жизни?"
Мысли снова и снова возвращаются к главному, что камнем легло на сердце: "Почему так жестоко хотят со мной расправиться? За что?"
У Мавзолея поток убыстрился. Идут, идут люди к Ильичу со своими думами, заботами, радостями и печалями. Идет с ними и Емельян Глебов. По гранитным ступеням вниз, где покой и тишина, где не слышно даже шагов. Он пробыл там, у Ленина, должно быть, не больше трех минут. А показалось - вечность. Когда выходил, солнце слепило глаза, расплескало у ног брызги лучей, золотистые, по-осеннему мягкие. Сердцу стало как будто легче, на душе светлей. Кем-то приглушенная, загнанная вглубь вера, большая и светлая, с которой он ходил в контратаки, которая светила на трудных дорогах жизни, теперь ожила, вновь возродилась. И сразу ничтожными временщиками показались ему гризулы и черновы. Подумалось: сегодня они есть, завтра их нет. А солнце будет вечно светить людям.
Из будки автомата Глебов позвонил на завод.
- Приходил Посадов, - ответила ему секретарша. - Я сказала, что вы в райкоме. Борис Николаевич, Ян Витольдович и многие наши справлялись о вас. Звонил скульптор Климов. Просил позвонить ему обязательно. И телефон свой оставил.
- Спасибо, Людочка, у меня есть его телефон.
Набрал номер Климова. Трубку взял сам Петр Васильевич, как всегда, обрадованно проговорил:
- Емельян Прокопович, родной вы мой, вы где сейчас?
- На Красной площади.
- Что вы там делаете?
- Был у Ленина.
- Прекрасно. Одобряю. А теперь заходите ко мне. Я очень хочу вас видеть. У меня сейчас Алексей Васильевич. Мы ждем вас.
В прихожей Климов расцеловал Емельяна как старого и верного друга, сказал вполголоса:
- А знаете, какое преимущество у нас, москвичей, перед сибиряками, предположим?
Глебов пожал плечами: "Вообще, мол, много разных преимуществ у столичных жителей". И тогда Климов ответил:
- Когда на душе у нас уж очень тяжело, так что дышать нечем, мы идем к Ленину. Признаюсь, я тоже не раз ходил. И представьте себе - помогало. - Познакомив Глебова со своей новой супругой, Климов сообщил: - Эта та самая Беллочка, которая жизнью своей обязана вашей маме, Емельян Прокопович.
Привлекательная женщина жеманно протянула Емельяну тонкую руку с золотым кольцом и брильянтом.
- Я очень, очень рада. Позвольте мне вас поцеловать, - сердечно произнесла она и сухо приложилась к щеке. - Я только недавно узнала, что вы сын той самой женщины… - И, спохватившись, добавила: - Тети Ани. Я собираюсь поехать на ее могилу. Хочу поставить там памятник. Вот Петя должен сделать. Мы решили из диорита. Мрамор на сельском кладбище - не практично.
- Мне нужны фотографии вашей мамы, Емельян Прокопович, - сказал Климов.
- Сохранилась плохонькая, - ответил Глебов, растроганный вниманием. - Перед самой войной корреспондент сфотографировал как ударницу.
- Мне нужен и профиль, - добавил Климов. - Ну мы потом посмотрим. Вы приготовьте мне. Я не хочу откладывать это дело в долгий ящик, и Беллочка меня торопит.
Емельян с любопытством, обрадованно, как при долгожданной встрече, рассматривал человека, ради жизни которого погибла мать.
В Белле - теперь уже не Солодовниковой, не Петровой, а Климовой - он хотел видеть достойного человека, ради которого пошла на самопожертвование мать. Может быть, хотел даже видеть частицу своей матери. Первое впечатление было неопределенное. Белла казалась, какой-то неуловимой; внешнее обаяние, мягкие манеры и внимательность этой женщины казались неестественными.
- Простите за нескромность, - обратился к ней Емельян. - Каким путем вы узнали, что я - это я, то есть…
- Понимаю, - мило улыбнувшись, предупредила Белла. - Мне о вас рассказал Арон Маркович Герцович. Вы его помните?
- Арона Марковича? Ну как же! Чудесный человек. Где он? Ведь он, кажется, был репрессирован?
- Да, да, - вздохнула Белла, изменившись в лице, словно поменяла одну маску на другую. Емельян внимательно наблюдал за Беллой. - Сейчас он живет в Москве, на пенсии.
- Ну а ребята, Фрида, Моня? - не отставал от нее Глебов, у которого воспоминания детства оттеснили на время нынешние неприятности.
- Они тоже в Москве, - равнодушно ответила Белла. - Рита замужем. У нее растет дочь. Такая же интересная. Ну а вы как? У вас двое ребят? - продолжала она так, будто они были старыми знакомыми.
- А как с ними повидаться? - спросил Глебов.
- С Герцовичами? - уточнила Белла. - Рита, кажется, позавчера уехала в Японию в туристическое турне. А Миша? Я не знаю, у меня его телефона даже нет. Мы как-то не общаемся. У него своя компания.
- А где он работает? - допытывался Глебов.
- Где-то в театре, - нехотя ответила Белла.
Глебов, почувствовав это, не стал больше расспрашивать о Герцовичах. Но в то же время растревоженная память вызвала в Емельяне желание рассказать не столько молодой даме, сколько ее супругу о родственнике Герцовича.
- А вы Якова Робермана не знали? Двоюродного брата Арона Марковича? - обратился он к Белле.
- Слышала. Он, кажется, погиб в войну, - по-прежнему равнодушно отозвалась Белла и пристально посмотрела на Глебова.
Емельян не понял взгляда и стал рассказывать дальше:
- Вы знаете, Петр Васильевич, интереснейший был человек Яков Роберман. Первоклассный кузнец. Артист своего дела. И никогда спичек не имел. Принципиально. Придет, бывало, утром в кузницу, возьмет клещами гвоздь и начинает его бить молотком. И так ловко, так виртуозно вертел гвоздь на наковальне, что минут через пять он становился раскаленным. Тогда Яков брал папироску и спокойно прикуривал от гвоздя. А после этой же папироской разжигал горн. Мы мальчишками, когда приезжали в город, заходили к нему в кузницу полюбоваться работой. У него в кузнице народ всегда толпился. Яков любил работать на людях. Кузница стояла у большого шляха при въезде в город. Когда пришли немцы, Яков собрал нехитрый свой инструмент и пошел по деревням зарабатывать на кусок хлеба. Кому рогач сделает, кому ведро, кому железную тяпку. Он все мог. Кастрюли латал, лошадей ковал. Уважали его люди и прятали от оккупантов. Однажды фашисты объявили: кто выдаст кузнеца Якова, получит вознаграждение. И представьте" себе - нашелся негодяй. Продал за две пачки сигарет. Гитлеровцы расстреляли Якова. А партизаны потом повесили предателя.
- За две пачки сигарет! - воскликнул Климов, подняв тонкие брови. - Каких только подлецов не водится на земле! А, Беллочка? Ты слышишь? Продать человеческую душу за понюшку табака!
Белла молчала. Нет, она не была взволнована страшным рассказом. Это казалось тем более странным, что Белла сама пережила ужасы войны и ее личная судьба в чем-то была схожей с судьбой Якова.
Потом перешли к главному. Емельяну пришлось все рассказать о Поповине, о том, как он приходил к нему домой, об инцидента в электричке, о своем разговоре с Черновым и заворготделом райкома. Рассказал и о том, что по его заявлению военные товарищи произвели экспертизу поповинского "предсмертного" письма, в котором он описывал свои подвиги и которое послужило причиной возведения Ефима Евсеевича на пьедестал героя, и экспертиза эта установила, что письмо Поповин написал не в сорок первом году, а два, максимум три года назад.
- Так это же ваш козырь! - вскричал Климов, но Глебов своим скепсисом охладил его:
- Козыри имеют силу в честной игре. А здесь орудуют шулера, и ни о какой честности или справедливости говорить не приходится.
- Тут что-то не так, - с видом человека, глубоко обеспокоенного судьбой Глебова, заговорила Белла. - Я не могу поверить, чтоб на такое грязное дело могли пойти известные в мире искусства люди. Евгений Озеров или тот же Радий Грош - это же не просто какие-то проходимцы. У них есть имя.
- Имя? - быстро перебил ее Посадов. - Позвольте вас спросить - а кто создал им имя?
- Надо полагать, сами они, своими талантами, - ответила Белла, и Емельян заметил в ее глазах холодные, пожалуй, даже злые искорки.
- Сами - это да, конечно, сами создали, - подхватил Посадов, возбуждаясь. - А вот насчет талантов - позвольте мне не согласиться. Я-то знаю Женьку Озерова, снимался в его фильме. Талантом там и не пахнет. Зато нахальства, цинизма - да-аа, этого добра навалом. Не верите? - Он подошел вплотную к Белле, огромный, рокочущий и уставился на нее вопросительно.
- Не верю, - спокойно, с железной самоуверенностью ответила Белла и натянуто улыбнулась.
- Тогда позвольте, я оглашу вам документ, один документик. - Дрожащими руками Посадов пошарил в кармане и достал вырезку из газеты. - Вот, вчера рылся в бумагах и случайно мне под руку попался старый номер "Правды", ну не такой уж старый, от двадцать второго февраля 1959 года. Так вот, послушайте. Называется "Пузыри славы". Речь идет о таких деятелях, как Озеров и Грош. Некий эстрадный плясун Николай Кустинский объявил себя гением и начал гастроли по стране. Я читаю: "Триумфальное шествие Николая Кустинского по концертным залам страны уже началось. Афиши, торжественно возвещавшие об этом эпохальном событии в истории искусства, были украшены портретом гастролера и его звучной фамилией, изображенной самым крупным шрифтом, каким только располагает современная полиграфия. Слава подобострастно забегала вперед, чтоб оповестить население о счастье, которого оно сподобилось. К нам едет король чечетки!.. Гастроли наделали много шума. Не было ни одного города, где бы зритель остался равнодушным. О Кустинском говорили. Больше того - о нем кричали. Нет, это был не шум оваций. Зритель встречал корифея чечетки и куплетов единодушным кличем: "Вон с эстрады!" Гастролер оскорблял взор и слух зрителя пошлыми куплетами и не менее пошлыми ужимками, кабацкой развязностью, скверной дикцией… По бухгалтерским данным, гастроли Кустинского принесли государству убытки более чем на 180 тысяч рублен. Бывший руководитель ВГКО Барзилович насадил в этом учреждении нравы, при которых люди типа Кустинского были окружены почетом, а сомнительные дельцы-администраторы получили возможность распоряжаться судьбой артиста: "прикрыть" даровитого молодого музыканта, певца, разговорника или, наоборот, "сделать" артиста - создать ему дутую славу. Может быть, Барзиловичу доставляло эстетическое наслаждение слушать плоские остроты своего фаворита? Пусть бы тогда убыток в 180 тысяч рублей меценат и уплатил из собственных средств. Нет, ничего подобного не произошло. Чего же тут удивляться, что Кустинский все еще храбро распевает самодельные куплеты о секретарше с напудренным носом, сравнивая ее с… собакой, и уже теряющие представление о реальности сатирики Громов и Милич коробят зрителя затхлыми остротами. Подчас посредственные эстрадники получают по четыре с половиной ставки за организованные без всякой надобности меценатами-администраторами сольные концерты и эксплуатируют других, часто более даровитых артистов эстрады - их включают в свиту дутых знаменитостей. Слабый музыкант Семен Фейгин каким-то чудом получил "зеленую улицу" - сольные концерты и "красную строку". А многим талантливым артистам - молодым и уже зрелым - приходится преодолевать самые трудные барьеры, прежде чем удается встретиться с массовым зрителем".
Посадов закончил читать и победоносно оглядел всех присутствующих. Белла, слушавшая его с нетерпеливой гримасой, теперь заговорила первой:
- Но какое это имеет отношение к Озерову и Грошу? - пожала плечами и сморщила тонкий точеный носик.
- Самое прямое и непосредственное, - ответил Климов и потянулся к Посадову за газетной вырезкой.
- Это ответ на ваш вопрос; кто создает имя всяким проходимцам, - сказал Посадов, весело глядя на Беллу. - И не мой ответ, а "Правды". Нашей "Правды", а не какого-нибудь листка, где подвизаются разные бумажные гроши.
Климов быстро пробежал глазами фельетон и, возвращая его Посадову, сказал, желая как-то оправдать жену:
- Белла в этих делах наивная девчонка. Она никак не хочет поверить, что в наше время возможна вот такая гнусная провокация, которую учинили против Емельяна Прокоповича. А я, между прочим, этого ожидал, - сказал Климов. - Вы доверчивый и неосмотрительный человек.
- Я это знаю, отлично все понимаю, - заговорил Глебов. - Но я никогда не думал, что в идеологической борьбе наши противники будут прибегать к уголовным методам и приемам.
- Тоже, значит, наивное рассуждение, - повел тонкой подвижной бровью Климов. - Выходит, вы плохо знаете своих идейных противников. У них ведь ничего святого нет. Единственный бог, которому они поклоняются, - рубль.
- Ну нельзя так, Петя, это слишком прямолинейно, - опять возразила Белла. - Тогда выходит, что и маститые художники, и писатели, которые признают абстрактное искусство, - они тоже поклоняются рублю и в борьбе с тобой не брезгуют никакими средствами?
- Совершенно верно! - возбужденно воскликнул Климов и зашагал по кабинету.
- Кстати! - воскликнул Посадов. - Вчера по телевидению выступал этот самый Женька Озеров. Ну, как всегда, нес всякую ахинею и, между прочим, - вы это учтите, Емельян Прокопович, пригодится, - сказал, что скоро будет ставить кинофильм о первом дне войны на границе по сценарию героя первых боев Ефима Поповина и писателя Макса Афанасьева. Поняли? Вот вам лишнее доказательство, что это одна шайка-лейка,
- Вообще, я не понимаю, кому и зачем нужна эта борьба, всякие там дрязги? - вставила Белла. - Зачем трепать друг другу нервы, здоровье? Вот Петя тоже нервничает, статьи пишет. А к чему? Зачем ему, скульптору, писать статьи? Разве мало у нас журналистов? Эта междоусобица, групповщина только делу вредит. Алексей Васильевич, скажите, что я права, а то он меня не слушается.
Белла говорила тоном обиженного ребенка и одновременно ласковой жены, смысл жизни которой - в заботах о муже. Но Алексей Васильевич, вместо того чтобы внять этому ангелу, спросил не без задней мысли:
- Говорите, групповщина? А ваш супруг к какой группе принадлежит, позвольте вас спросить?
- Не знаю, - беспечно рассмеялась Белла. - Наверно, к той же, что и вы.
- А какая идейная платформа этой группы, позвольте полюбопытствовать, сударыня? - наигранно допытывался артист.
- Идейность, партийность, народность, - выручил супруг замешкавшуюся хозяйку.
- Следовательно, другая группа, - резюмировал Посадов, - против идейности, партийности, народности? Так я вас спрашиваю, какая ж это групповщина? Это форменная идеологическая битва. Почему ж вы хотите, чтоб ваш супруг был где-то в стороне? Разве это не касается судеб нашей культуры, в конечном счете судьбы народа?
- Вы слишком обобщили и подняли на высоту, - оправдывалась Белла. - Вы знаете, что Петя спит по пять часов в сутки?
- Возраст, дорогая моя. Все старики страдают бессонницей, - пошутил Посадов, подмигнув Климову.
- Какой же он старик! - воскликнула Белла. - Он еще совсем юноша.
- Значит, тогда от пылкой любви. Молодоженам тоже присуща бессонница.
Климов снова перевел разговор на Глебова.
Судили-рядили и сошлись на одном: бороться и отстаивать свою правоту до конца. Чернов - не самая высшая инстанция в этом деле. Климов советовал обратиться в горком, потребовать объективного расследования, в конце концов, передать решение судьбы Глебова на усмотрение коммунистов завода "Богатырь".
Глебов с Посадовым вышли. На улице Алексей Васильевич сказал:
- Видали, как она в него крепенько вцепилась? Точно лайка в медведя. Не отпустит. Хватка мертвая. Чувствую: угомонится Петюша, остепенится.
- Вы думаете? - усомнился Глебов - он был о Климове другого мнения.
- Могу спорить. Это опытная укротительница. Она из любого тигра сделает послушного бобика. Только хвостиком будет вилять… Ну да бог с ними. Хотя и жалко: еще один солдат выбыл. А храбрый был воин, неукротимый.
- Да будет вам, Алексей Васильевич. Вы ошибаетесь. Сами же говорите - "неукротимый". Значит, нельзя его укротить.
- Всем нельзя, а этой можно, эта - особая наездница. - И, переходя к другому, напомнил: - Вот вам мой наказ - не принимайте все близко к сердцу. Что бы ни было, как бы дело ни обернулось, рано или поздно правда свое возьмет. Помните лозунг военного времени: наше дело правое - мы победим. И не забывайте, что послезавтра у нас премьера.
- Как послезавтра? - встревожился Глебов.
- А так, как в афише.
- Но ведь послезавтра же партком? Меня снимать будут. Или, как говорится, освобождать.
- Это мы еще посмотрим. Нужно обязательно запросить у военных товарищей официальную справку экспертизы по письму Поповина. Непременно и немедленно… Да, между прочим, я тут вам журнал раздобыл со стихами Владимира Фирсова. Точно о вас стихи. Дома почитаете. - И передал Емельяну журнал.
После ухода Глебова и Посадова между молодоженами произошла первая если не размолвка, то неприятная сцена. Белла подсела к мужу на подлокотник кресла и, ткнувшись лицом в его седеющие волосы, кокетливо спросила:
- Что такое Глебов? Ты его хорошо знаешь? Вы давно знакомы?
- Замечательный парень, настоящий, - не задумываясь, ответил Петр Васильевич и поцеловал пальцы жены. Именно так она и думала. Правда, ответ мужа ей не нравился, как и сам Глебов.
- Я понимаю, - тихо молвила она, - мы в долгу перед ним, вернее, перед его покойной мамой… Героической женщиной…
- Он достоин ее, - перебил Петр Васильевич, нежно сжимая руки жены. - Этот Емельян не посрамил и имени своего отца, который тоже погиб за Советскую власть. Ты знаешь, родная, мне иногда кажется, что в нем сидит дух Сергея Лазо.
- А ты не выдумал его, не сочинил? Ведь ты у меня - увлекающийся ребенок. - Она обвила руками шею мужа. - Эти фельетоны… Нет, как ты себе хочешь, а я уверена, что дело тут не чистое, дыма без огня не бывает.
- Совершенно верно, вернее, против Глебова состряпано грязное, возмутительное дело, и те, кто это сделал, законченные подлецы! - возмутился Климов, поняв слова жены по-своему.
- Я о другом, Петя. Я не верю Глебову. И думаю, ты в нем ошибаешься. Странный он какой-то. Я хочу быть совершенно объективной, хотя он и сын той женщины.
- Я тебя не понимаю, - Климов освободился от объятий жены. - Ты же видишь его впервые, откуда такой вывод? Это несправедливо, и вообще…
- Неважно, Петя. У меня особое чутье на людей. Поверь мне - я никогда не ошибаюсь. Фальшь я чувствую интуитивно. Я объективна, а ты нет, ты увлекаешься, переоцениваешь. И Посадов тоже. Ну что общего между вами? Ворчлив, капризен, как все неудачники и бобыли. Мнит себя гением. А таланта в нем… я что-то не обнаружила. Вырезку из газеты таскает с собой. Как-то все несерьезно, склочно.
Это было уже слишком. Стараясь сдержать себя, Климов встал и, заложив руки за спину, прошелся по кабинету. Белла поняла, что перехватила. Она забралась в кресло с ногами и, подтянув колени к подбородку, стала следить за мужем, готовая улыбнуться и раскаяться в своем поступке. Выдержав паузу, Климов пришел в себя и, не глядя на жену, заговорил, продолжая шагать по длинному кабинету:
- Во-первых, Алексей Васильевич большой артист, по-настоящему народный, во всем значении этого слова. Талантливый и широкообразованный. Во-вторых, он чудесный человек, прямой и порядочный. Таких я люблю. В-третьих, он мой друг. - Климов остановился и, посмотрев прямо в лукавые глазки жены, добавил самое главное с сознательно подчеркнутой интонацией: - А друзей, дорогая моя, для себя я привык выбирать сам. Без совета и подсказки. Это моя слабость. И с ней, с этой моей слабостью, все всегда считались, зная, что я неисправим. И тебе хочу доложить: да, я неисправим, таков я есть!
Последние слова он произнес добродушно, улыбаясь, затем подошел к жене и поцеловал ей руку.
Белла приняла к сведению заявление мужа.
В школе во время большой перемены преподавательница литературы показала Елене Ивановне Глебовой газету с фельетоном. Елена Ивановна вспыхнула, пробежала фельетон и, собрав все самообладание, ответила:
- Я знаю: это фальшивка. Личные счеты. Инспирировано. Поповин действительно никакой не герой. Мелкий авантюрист.
Учительница с притворным сочувствием добавила:
- Я понимаю, вы тут ни при чем. И потом вам, конечно, трудно быть объективной. Ну а что вы скажете по поводу второго фельетона? - Она подала газету с опусом Гроша и Озерова, рассчитывая вторым ударом сразить Елену Ивановну, которую "идейно" недолюбливала.
Учительница изо всех сил старалась не отставать от моды, приходила в восторг от новоявленных гениев в литературе и искусстве, призванных заменить Льва Толстого, Чайковского, Репина. Мельком взглянув на газету, Елена Ивановна не побледнела, не выронила ее из рук. Она спокойно улыбнулась. И это обескуражило преподавательницу литературы.
- Дешевая провокация. Жалкая и гнусная, - ровным голосом, будто речь шла о постороннем человеке, сказала Глебова, возвращая газету.
- Ну, знаете ли… - только и могла произнести та, отходя в сторону.
В этот день Елена Ивановна в школе не задержалась. По пути домой еще нужно было забежать в поликлинику. Врач, уже немолодая, седеющая женщина, несколько флегматичная, устало взглянула в лечебную карточку пациентки, осведомилась:
- Вы не родственница того Глебова, о котором сегодня два фельетона?
- Жена, - твердо ответила Елена Ивановна и улыбнулась.
- Я вам сочувствую, - не меняя интонации, сказала врач.
- Благодарю вас. Но это провокация, - стараясь себя сдержать, добавила Елена Ивановна.
- Все равно. Какое это имеет значение? Такое не прощают.
- Не понимаю, что вы имеете в виду? - Слова врача насторожили ее.
- Такие всегда плохо кончали. Прошлое не повторится. Нет, никогда, - туманно пояснила врачиха. - И знайте: вашим детям придется расплачиваться за отца. Такого не прощают, - повторила она полушепотом.
- Вы угрожаете? - вспыхнула Елена Ивановна и встала. Руки ее задрожали, из глаз готовы были брызнуть слезы.
- Нет, мне просто вас жаль. Вы такая симпатичная…
Это было брошено в лицо с откровенной наглостью человека, уверенного в своей неуязвимости.
Возвращаясь из поликлиники домой, Елена Ивановна не шла, а бежала, подстегиваемая нарастающим чувством тревоги. Ей казалось, должно что-то произойти ужасное, непоправимое. Теперь она думала не о муже, которому грозила опасность, а о детях. В ушах все еще звучал монотонный угрожающий голос врачихи, а ее взгляд, злобный и холодный, горел такой ненавистью, от которой не жди пощады.
Елена Ивановна решила никому об этом не говорить.
Дома она взяла газеты и теперь уже внимательно прочитала оба выступления. Читала и чувствовала, как неукротимо надвигается на нее тревога и вместо негодования закрадывается растерянность. Она тревожилась за мужа, знала, что эту подлость он примет близко к сердцу, опасалась, как бы сгоряча не совершил какого-нибудь необдуманного шага. Позвонила на завод, и, когда Людочка ответила, что Емельян Прокопович в райкоме, Елена Ивановна еще больше заволновалась. А тут еще Русик подошел, тихий, виноватый, с застывшей слезой на глазах, и доложил, что ему сегодня поставили "кол" по поведению.
- А что случилось? - рассеянно, скорее машинально спросила Елена Ивановна сына.
- Я подрался с Геной.
- Из-за чего?
- А что он врет? - взволнованно заговорил мальчик, готовый вот-вот расплакаться. - Он сказал, что мой папа хулиган и кляузник. Что про него в газете написано. А я сказал, что это неправда, что он сам кляузник. А он все дразнился: "Хулиган, хулиган, сын кляузника". Я его ударил кулаком. И совсем не сильно. По носу… У него кровь пошла. Совсем немножко.
Мальчик ожидал со стороны матери серьезных упреков и ощетинился к защите. А Елена Ивановна, потрясенная этим фактом, тихо и даже ласково сказала:
- Не надо было драться, мой мальчик.
- А что он говорит неправду?! Пускай не выдумывает!
- Он глупый.
- Ну вот, - уже совсем успокоился Русик, поняв, что ругать его не будут. - А глупых бьют.
Это было ужасно. Дети сильно любят отца и гордятся им. И вдруг такая гнусная грязь! Елена Ивановна убрала осе газеты. Русика еще можно как-то успокоить А как быть с дочерью? Небось и она уже знает.
Действительно, придя из школы, Любаша первым делом спросила:
- Мама, где сегодняшние газеты?
- Не знаю, - с безразличным видом ответила Елена Ивановна и также мельком спросила: - Зачем тебе?
- Нужно, - как всегда, отрывисто сказала дочь. - Руслан, ты не брал газет?
Настороженный мальчик сообразил:
- А-а, знаю, зачем ей. Она думает, что про папу написали. А это неправда, это Генка все наврал.
- Ну хорошо, отдай газету, - понизив голос, попросила Любаша, и Елена Ивановна поняла, что дочь уже знает.
- У меня нет, - искренне признался Русик, а мать ушла на кухню и оттуда позвала дочь.
- Что, мама? - дочь смотрела настороженно.
- Зачем тебе газета? - Елена Ивановна доверительно смотрела в большие синие, отцовские, глаза дочери.
- Что там про папу?
- Это фальшивка, Любаша, - ответила Елена Ивановна и поправила дочери волосы.
- А зачем тогда напечатали?
- Папины враги, доченька, нечестные люди написали, а редакция не разобралась и напечатала.
- И что ж теперь будет?
- Их накажут.
- А папа как же? Его оклеветали, опозорили…
- Будет добиваться опровержения.
- А разве так можно? Печатать неправду? Так всякий хулиган может опозорить любого порядочного человека. - Любаша быстро повернулась и, боясь разрыдаться, помчалась в детскую.
Что могла на это ответить учительница истории ученице? Что могла ответить мать дочери? Как объяснишь ребенку, который верит каждому печатному слову? И тут Елена Ивановна поняла, какой страшный удар нанесен ее мужу. Если детям она еще как-то могла объяснить, то как объяснишь друзьям, знакомым, соседям и просто незнакомым людям, которые тоже привыкли верить нашей печати?
Когда Елена Ивановна стала возиться на кухне, Русик таинственно сообщил:
- А Любка плачет…
Елена Ивановна вошла к дочери.
- Ну ты что?
- Я… ничего. - Девочка ладонью смахнула слезы, не глядя на мать, затем вдруг сообщила, быстро и ненужно перебирая на столе учебники: - Сегодня Антонина Михайловна спросила: "Твой отец где работает?" Я сказала, что на заводе "Богатырь". "Да?.. Секретарем парткома?" И так ехидно, что, понимаешь, мама, мне было неприятно.
- Ну что ж, читала и она. Газеты читают… - попробовала пошутить Елена Ивановна. Она не знала, что из салона Гризула уже ползли сплетни, инсинуации, сочиненные и распространяемые превеликими в этом деле мастерами: "Кляузник… хулиган… бабник… Связался с какой-то распутной девкой, приехавшей из Африки…"
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. ОСТОРОЖНО: ЛЮДИ!
Жизнь полна неожиданностей. Иногда их выпадает на долю одного человека столько, что можно подумать: жизнь состоит из одних неожиданностей. В этот самый тяжелый для Глебова день Емельян немного задержался на работе. Просто в конце рабочего дня к нему в партком зашли Борис Николаевич и Ян Витольдович. Потом появились Константин Лугов и Андрей Кауров. Зашли как бы по делу, придумав предлог, а в действительности хотели подбодрить Глебова, успокоить. И разговор-то начинали самый деловой, не относящийся к истории, которую теперь уже все с убежденностью считали провокацией. Говорили о том, что на днях нужно поехать в заводской дом отдыха и окончательно решить, где строить новый корпус для отдыхающих, спортивную площадку. И все старались держать себя так, как будто с Глебовым ничего не случилось. Константин Сергеевич с юмором рассказывал, как вчера приходила в литейный цех Клавдия Ивановна Каурова и вела деликатную дипломатию с молодыми формовщицами. И вдруг звонок из дома. Елена Ивановна спрашивала:
- Ты когда придешь?.. Дело в том, что тебя дожидается гость. Ну кто, кто! Приходи - увидишь. Сейчас я передам трубку.
Да, это была неожиданность: Емельяна ожидал Арон Маркович Герцович, когда-то давным-давно, еще до войны помогавший Емельяну выходить в люди. В последний раз они виделись в 1937 году - Герцович тогда редактировал районную газету, а Глебов уехал учиться в военное училище пограничных войск. Сколько воды утекло с тех пор! Емельян вспоминал Герцовича трогательно и нежно, как вспоминают ученики своего любимого учителя. С именем Арона Марковича у Емельяна была связана его крылатая юность, безграничный голубой простор его мечты, хотя сам Герцович и не подозревал, что Емельян помнит его, и вспомнил о нем совсем недавно, когда имя Емельяна Глебова стали произносить с какой-то зоологической ненавистью его домашние. И однажды он спросил Фриду: а не тот ли это босоногий селькор, который подписал одну свою корреспонденцию псевдонимом Денис Дидро?
- Именно тот самый.
- А где он и что? - оживился Герцович.
- Зачем тебе? Ты хочешь с ним увидеться? - насторожилась дочь. - И не думай. Этого еще не хватало.
Он тогда ничего не ответил дочери. Но думать - думал. Подмывало любопытство: почему Глебова, которого он знал с положительной стороны, так, мягко говоря, не любят Гризул и Маринин, Поповин и Златов? Предположим, Гризул и Маринин - понятно: вместе работали - не сработались. А почему не сработались? Почему Ефим Поповин, участвовавший в первых боях с гитлеровцами на самой границе, так плохо отзывается о своем бывшем командире? Почему? Это очень интересовало Арона Марковича, не давало покоя. Он, старый газетчик, человек, проживший долгую и нелегкую жизнь, каким-то чутьем догадывался, что тут какое-то недоразумение, кто-то кого-то не понял и он, Герцович, должен помочь сторонам во всем разобраться, все выяснить и быть беспристрастным судьей. А если окажется, что Глебов действительно такой, каким его рисуют дети Герцовича, - когда-то Емельян, кажется, был влюблен в Фриду первой отроческой любовью, - если он в самом деле подонок, то Арона Марковича занимал другой вопрос: как хороший сельский парнишка, сын участника штурма Зимнего, мог стать подонком? Все это надо было выяснить.
И вдруг Арон Маркович прочитал два фельетона о Глебове, и по торжествующему злорадству сына, который разговаривал по телефону с Озеровым, все понял. Понял, что с Глебовым жестоко расправились. Через справочное бюро узнал его адрес и вот - приехал. Зачем? Пожалуй, и сам Арон Маркович не смог бы ответить на вопрос, который ему никто не задавал. Хорошо зная повадки Гризула и К° и будучи возмущенным до глубины души, он хотел морально поддержать Глебова. Ему почему-то представлялся Емельян таким, каким он видел его в последний раз - худенький селькор с большими горящими глазами, босоногий мальчонка, по которому ночью из обреза стреляют кулаки, стреляют и не попадают.
Герцович не представлял заранее, что он скажет Глебову, но сказать хотелось очень многое, излить те беспокойные, тревожные мысли, которые накопились в нем за последние годы, созрели и вот теперь настойчиво просились на волю, к слушателям. Он пытался их высказать своим детям, друзьям детей, их окружению. Но они не понимали Арона Герцовича и слушать его не хотели. Герцович с подозрением смотрел на идеологические мосты, которые с такой поспешностью возводились между деятелями культуры буржуазного Запада и социалистических стран. Он считал, что этот странный альянс выгоден империалистическому миру, потому что заправляет этим альянсом международный сионизм. А раз так, то ничего хорошего нам от такого альянса нельзя ждать, потому что сионизм всегда был и остается врагом социализма. Герцовичу были известны слова и дела сионистских лидеров, и он был убежден, что сионизм - родной брат фашизму, другая сторона одной и той же медали, на ободке которой начертаны лозунги о богом избранной нации, исключительно одаренной, призванной повелевать другими народами, господствовать над миром. Это утверждали фашисты, это же самое проповедуют сионисты. Цель у них одна. Разница лишь в методах, которыми они добиваются своей цели. Фашисты пользовались грубой силой, они шли с открытым забралом, народы мира их быстро разгадали, поднялись на священную борьбу за свое существование. Главная тяжесть этой жестокой смертельной битвы легла на плечи советских людей, и фашизм был разгромлен. Сионизм идет другим путем - скрытым, тайным, проникая во все жизненно важные ячейки государств всего мира, подтачивая изнутри все сильное, здоровое, патриотическое, прибирая к рукам, захватывая все главные позиции административной, экономической и духовной жизни той или иной страны. Как фашисты, так и сионисты люто ненавидят марксизм-ленинизм и его идеологию, в частности идеи интернационализма, братства народов, с той лишь разницей, что сион охотно засылал свою агентуру в международное коммунистическое и рабочее движение. Иногда их агентам удавалось пробираться к руководству компартий. И тут перед Герцовичем всегда вставал образ Иудушки-Троцкого (Бронштейна), которого он считал одним из типичных агентов сионизма, международным провокатором номер один. Это была личная точка зрения Арона Марковича, его собственный взгляд и убеждение, быть может, не совпадавший с теоретическими исследованиями философов и социологов. Что ж, каждый индивидуум имеет право на свое мнение, если он не пытается навязывать его другим. В споре Герцович любил повторять фразу: "Это вы так считаете? А я так не считаю". Он говорил: "Вы считаете, что международный сионизм состоит на службе у американского империализма. А я так не считаю. Я убежден, что все наоборот: американский империализм составляет военную и экономическую базу сионизма, служит целям сиона, обслуживает сион. Не верите? Ну так узнаете. Когда сеешь ветер, помни о буре". Герцович волновался, поджидая Глебова, рассказывал Елене Ивановне и детям, каким был Емельян лет тридцать тому назад, и они слушали его с интересом.
- Босиком пришел ко мне в редакцию, а на ногах - цыпки. Вы представляете? Цыпки в кровь. Знаете, что такое цыпки? - и весело смотрел на Любашу и Русика. Нет, они впервые слышат это странное слово - цыпки. Арон Маркович понял это по их глазенкам. Сказал: - Ну и хорошо, что не знаете. Вам бы многое не следовало знать. Не знать, что такое война. Это главное.
Щелкнул замок входной двери.
- Это папа, - оповестил Руслан.
Герцович встал: сухонький лысый старик с мелкой дрожью в пальцах. "Волнуется", - решила Елена Ивановна. Он обнял Глебова, они расцеловались. Сказал негромко, рассматривая в упор Емельяна:
- Ну, не узнал бы я тебя, Емельян. Нет, не узнал бы.
- Да ведь вы тоже, Арон Маркович, изменились. Сколько лет не виделись?
- Много, Емельян. И каких лет! Недаром в войну год за три считали… А я тут рассказывал, каким был ты отроком. Не верят. И про Дениса Дидро тоже не верят.
Ребята ушли во вторую комнату, Елена Ивановна в кухню - ужин готовить. А они остались вдвоем, сидели, разговаривали. Емельян рассказал, что произошло в электричке на самом деле. Герцович сокрушенно кивал головой: он верил ему, а не фельетонистам. Да, он так и предполагал. Вздыхал часто, глубоко, сокрушенно, глядя мимо Емельяна печальными, с желтой поволокой глазами. Рукам не находил места. Тогда Глебов сказал:
- Но об этом хватит. Лучше расскажите вы, как поживаете? Как дети - Моня, Фрида?
- Живем вместе и врозь. А у вас здесь можно закурить? - попросил Герцович. Он сильно волновался, и Глебов это видел, сказал:
- Пожалуйста, ради бога. Помню, вы раньше много курили, папиросу за папиросой. - Поставил на стол пепельницу.
- Курил. Теперь меньше… Так вот, ты спросил о детях, а это самый для меня больной вопрос. Мы стали чужие. Не понимаем друг друга. На разных языках разговариваем и потому больше молчим. Я у сына живу. Он режиссер в театре на Волхонке. Ставит спектакли, на которые я не хожу. Спросишь, почему? Я их не понимаю. Они меня не то что не трогают - раздражают и возмущают. Это не искусство, Емельян. Не знаю, как ты находишь, а я считаю, что это не искусство. Фиглярство. И называется оно знаешь как? Новая интерпретация. А что в ней нового? Что актеры играют самих себя? Да-да, не образы, типы, характеры, созданные драматургом, а самих себя. Толстой есть Толстой, а Чехов есть Чехов. И я хочу видеть то, что они когда-то создали, их эпоху, а не то, как их подправил мой сын. Ты со мной не согласен? Может, я стар и не способен понять…
- Согласен, Арон Маркович, ой как согласен. Такое искусство не понимают и не принимают не только зрители вашего поколения. Его не принимает и молодежь, здоровая трудовая молодежь. Студенты.
- Да, да, - задумчиво-отрешенно проговорил Герцович. - Но у них есть свой зритель. И много. Билеты проданы за месяц вперед.
- Вас это удивляет? - Глебов внимательно посмотрел на Герцовича.
- И тревожит, - глухо отозвался Арон Маркович.
- Реклама. Этот театр рекламируется на всех перекрестках. Люди идут из любопытства. Я как-то проходил мимо. Вижу, прямо на улице за столиком сидят две мини-девицы и зазывают. Записывают на очередь в театр.
- Да, да, реклама - великое дело. Своего рода искусство, которым владеют далеко не все, - сказал Герцович.
Елена Ивановна накрыла стол. Разговор продолжался и за чаем. Емельян спросил о дочери Фриде. Арон Маркович ответил без особого энтузиазма:
- Ничего. Домохозяйка. Внучат моих воспитывает. Их трое. Старший - от первого брака - уже студент. Младшие - школьники, две девчонки, вроде твоих. Зять - крупный ученый, в кибернетике заправляет. Захаркин Ермолай Авдеевич. Может, слышал? Нет? Величина, светило.
Емельян, присматриваясь к Герцовичу, вдруг подумал, как мало изменился этот человек. Не внешне, разумеется. Все такой же прямой, угловатый, или, как теперь называют, негибкий, железобетонный. Он был искренне рад встрече. Вспомнил недавний разговор у Климова, хотел было сказать о Белле Солодовниковой - Петровой-Климовой, да воздержался, сказал о другом:
- А я сегодня Якова Робермана вспоминал.
- Да, да, честный был человек, редкий, - проговорил Герцович с грустью. - А сын у него - тот еще тип. После войны махнул в Израиль, теперь обосновался в Латинской Америке. Издает сионистский журнальчик, который переводится на русский язык "унитаз".
- Ничего себе названьице, не за столом будь сказано, - заметила молчавшая до сих пор Елена Ивановна.
- А ведь тоже небось в целях рекламы придумал такое, - сказал Емельян.
- Да, наверно, - согласился Герцович. - Но представьте себе - название вполне соответствует содержанию. Это тот унитаз, в котором забыли спустить воду. Еще похлеще парижской "Русской мысли", которую редактирует некто Водов, он же Вассерман. Прошлым летом приезжал в Москву как турист.
- Вассерман? - уточнил Глебов.
- Да нет, Роберман. Альфонсо Роберман, Заходил ко мне. Приглашал перебраться к нему за океан. Насовсем. А что я там забыл? Нет, вы скажите - почему я должен туда ехать? Почему? Обещал рай, славу и всякие блага. А какую славу? А вот какую: я должен написать для его "унитаза" о лагерях нечто вроде Солженицына, ему нужен тираж, бизнес. Он на мне хотел заработать. Между прочим, и Яков Шарет, тот, что проработал всего лишь один месяц в израильском посольстве в Москве, тоже предлагал мне писать мемуары, которые будут изданы на Западе. Ты не слышал о Шарете? Как же, в "Правде" сообщалось, как этого дипломата выдворили из СССР за шпионскую деятельность. Я сказал и тому и другому: хватит, больно много таких писак расплодилось. Я не стану поливать грязью Советскую власть. Сейчас это модно: все чернить - коллективизацию, индустриализацию. Одно хаить, другое реабилитировать. Реабилитируют кулачество, троцкистов и всякую дрянь. А вы думаете, без колхозов мы бы смогли создать индустрию, без которой невозможно было бы разбить Гитлера? А разве без ликвидации кулачества можно было бы создать колхоз? Ты, Емельян, на собственной шкуре испытал, что такое кулак.
- Да шкуру-то, к счастью, не задели: в темноте да в спешке промазали, - улыбнулся Емельян, а Герцович с каждым словом оживлялся, карие с желтизной глаза его загорались, голос крепчал:
- Я уже не говорю о троцкизме, о котором нынешние историки пишут так, будто его совсем и не было, будто троцкизм - выдумки Сталина. Будто Ленин никогда не боролся с троцкизмом. Нет, неправда. Это о Троцком Владимир Ильич говорил, что его недостаточно вывести на свежую воду, с ним нужно бороться. Ты, Емельян, не знаешь - ребенком еще был. А я-то хорошо помню и знаю, что такое Лев Троцкий и чего он хотел. Он рвался в диктаторы. Рассчитывал руками желторотых юнцов разделаться с коммунистами. Это не кто-нибудь, а он придумал "теории" о борьбе поколений, о перерождении старых большевистских кадров. Я помню его слова о том, что якобы барометром для партии является учащаяся молодежь. И теперь находятся люди - не только там, за рубежом, а и у нас, - которые повторяют эти приемчики Троцкого.
- К сожалению, вы правы - есть такие, - вздохнул Емельян. Герцович высказывал его мысли, и это радовало. Хотелось сказать: я их знаю. Но Герцович продолжал:
- Троцкий расставлял свои кадры в армии. И если б Сталин вовремя не разглядел его - что бы было? Кошмар похлеще гитлеризма. Я-то знаю. Пускай там что угодно говорят историки, а я знаю: между сионизмом и троцкизмом дорожка прямехонькая, хорошо протоптанная. На чем они сходились? На жажде владеть миром.
- И на ненависти к коммунизму, - вставил Емельян.
- Троцкий был сионист, и его так называемая "партия" - прямая ветвь сионизма, - продолжал Герцович. - Об этом не принято говорить. И вообще, о сионизме почему-то вслух не говорят. А я вам так скажу - самый опасный враг тот, с которым не борются. Я прямой человек, но я честный человек. И когда я прочитал эти мерзкие фельетоны о тебе, я все понял. Я знаю, откуда дует ветер. Ты бросил камень в муравейник. У вас на заводе работал Алик Маринин, теперь он на телевидение ушел. Туда ему и дорога. Это пустой человек. Для него нет ничего святого. И Гризул, скажу тебе, тоже не клад. Ты его знаешь, и я его знаю. Фразер. О Поповине и говорить нечего. Заурядный жулик и аферист. Они считают себя интеллектуалами, а меня объявили маразматиком и ортодоксом. Я - не от мира сего, они - от мира сего. Ну-ну, пускай. Будущее покажет. Они сеют ветер… Ох как они прогадают! И я знаю ту лужу, в которую они сядут. Может, я не увижу ту бурю, я человек старый, свое прожил. Ты увидишь и вспомнишь тогда Арона. Одно жалко - внуков. Заморочат они им головы, вот что обидно. А тебя я не хочу утешать - ты не нуждаешься в утешении, и я не проповедник. Одно скажу - держись. Верь в себя и в свою правоту.
Емельян смотрел в его грустные, как-то сразу потухшие глаза и понимал: искренне говорит. Слова Герцовича растрогали Глебова, он встал, протянул старику руку:
- Спасибо вам, Арон Маркович. Я очень рад нашей встрече, понимаю вас, верю вам. Сердечное спасибо.
Елена Ивановна старалась сделать все, чтобы облегчить переживания мужа. Именно в ее моральной поддержке, поддержке друга больше всего сейчас нуждался Емельян. И когда Герцович ушел, он спросил жену:
- Ты уже читала?
- Конечно. Это возмутительно! И главное, все ведь отлично понимают, что это фальшивки. Уж слишком подозрительно это совпадение: в двух газетах одновременно.
- Но ты теперь понимаешь, какая это сила? - спросил он, внимательно глядя на жену.
Елена Ивановна увидела, что в глазах мужа, когда-то ясных, доверчивых, погас этот светлый блеск; теперь в них зажигались другие огоньки: иронии, сомнений, настороженности, а на лице у рта пролегли две глубокие борозды душевного страдания.
- Грубая ругань никогда не была признаком силы, - ответила Елена Ивановна. - А вообще, ты должен гордиться. Коль они начали стрелять по тебе залпами, да еще из таких орудий, как печать, то, видимо, ты для них серьезный противник. По воробьям из пушек не палят.
Емельян рассказал ей о разговоре с Черновым и с Грищенко.
- Ну и что, пойдешь работать в школу, - успокаивала жена. - Сейчас в школе очень нужны настоящие коммунисты. Борьба проникла и в школу. Нет, это будет совсем здорово, если тебя назначат в школу.
- Все это верно, Леночка. Но прежде я должен реабилитироваться.
В кухню вошли дети.
- Папа, - сказала Любаша, - нам задали сочинение на тему "Каким был Ленин?".
- Ну вот и опиши, каким ты его представляешь. Ты читала книги о Ленине? - спросил отец, привлекая к себе дочурку. - Кино смотрела?
- Да. Это я знаю. А мне интересно, каким ты его представляешь.
- Доченька, но ведь сочинение задали не папе, а тебе. И потом папа устал, - вмешалась Елена Ивановна.
Может, в ином случае Емельян и не стал бы опекать дочь: он приучал ребят думать самостоятельно и никогда не решал за них задачи. Но тут особая тема. Да и Любаша не просит помочь ей написать сочинение, а скорее, себя проверяет.
"Каким был Ленин?" - задумался Глебов. Дети смотрели на отца с глубоким вниманием: Любочка - сосредоточенно, Русик - с настороженностью. Он сказал, скорее отвечая самому себе, чем детям:
- Ленин был великий, мудрый и очень скромный. Он никому не позволял превозносить свою личность, старался не выделяться среди других. Он был чуток и внимателен к людям, непримирим с врагами и верен друзьям. Он не мог назвать какого-нибудь человека своим другом, а потом оплевать этого друга. У него слова никогда не расходились с делами. Он не принимал необдуманных решений, не действовал единолично. Он умел терпеливо и внимательно выслушивать советы других, критику и замечания в свой адрес. Он считался с мнением даже своих противников. Владимир Ильич любил простых людей. Он доверял людям, он был прост в обращении, бережлив. Однажды рабочие прислали ему в подарок болотные сапоги. Владимир Ильич поблагодарил рабочих за подарок, но велел эти сапоги передать для Красной Армии.
- Зачем? - не выдержал Русик.
- Потому что у него уже были одни такие сапоги. - И продолжил: - Ленин не терпел вокруг себя разных временщиков.
- А кто такие временщики? - снова спросил сын.
Емельян задумался: как бы это объяснить ему? Но мальчик задал новый вопрос:
- Они что, временные?
- Они-то временные, но успевают порой сделать столько зла, что на десятилетия хватает. Какой-нибудь подхалим вотрется в доверие к государственному человеку и безобразничает.
- Папа, вот ты говоришь, что Ленин не терпел этих самых… ну… временщиков.
- Да, да… Владимиру Ильичу было чуждо бахвальство, зазнайство. Он трезво оценивал успехи и не боялся критиковать недостатки. И все его сочинения, несколько десятков томов, написаны им самим, его рукой.
- Папа, но все, что ты сказал, это обыкновенное. Ну, понимаешь, каждый так должен. Разве можно иначе?
- Оказывается, Любаша, можно, да еще как можно, к нашему несчастью, - ответил Емельян. - В том и есть величие Ленина, что он обыкновенный, простой, всем людям понятный, как правда, как сама жизнь.
- Папа, а каким был дедушка, твой папа? - вдруг спросил Русик, сверкая глазенками. - Ты мне никогда не рассказывал.
Неожиданный вопрос сына глубоко растрогал Емельяна. Он погладил мальчика по головке, подхватил его и, подняв к потолку, посадил к себе на колени.
- Твой дедушка в революции участвовал, царский дворец штурмовал, Советскую власть для нас с тобой добывал. Он был настоящий человек, храбрый и честный.
- Как Ленин, - утвердительно сказал мальчик. - А кто его убил?
- Враги Советской власти.
- А их поймали?
- Одних поймали, а другие еще бродят по земле.
- А когда и их поймают?
- Когда-нибудь. Вот ты подрастешь и займешься этим. Хорошо? Ну а теперь пора спать. Уроки приготовил?
- Все. Только ты про дедушку мало рассказал.
- В другой раз.
Дети ушли спать, а Емельян остался вдвоем с женой. Елена Ивановна села напротив мужа, положила на его руку свою и посмотрела в глаза с проникновенной теплотой:
- Мне кажется, ты очень переживаешь.
- Как тебе сказать, - начал Емельян, понимая, что жена просто хочет успокоить его. - Конечно, неприятно.
- Борьба, дорогой мой. А ты что ж думал? Разве ты не знал, на что идешь? Знал. Разве не знал коварство, организованность и силу своего противника? Тоже знал. Так зачем же расстраиваться? И какой же солдат отчаивается при первом же поражении?
Емельян вздохнул тихо и задумчиво. Потом посмотрел в глаза жены, улыбнулся, прошептал:
- Устала ты. Пойди отдохни.
Глебов и сам устал, хотя и не очень ощущал утомление. Он чувствовал, как горят уши, лицо, мечутся мысли, не могут угомониться после внезапного и такого сильного потрясения. Ему все еще не верилось, что послезавтра придется уходить с завода навсегда, проститься с коллективом, к которому он привык, с работой, которую любил, уйти оклеветанным, сраженным злодейским ударом из-за угла, под улюлюканье подлецов. Нет, что-то надо предпринять, безотлагательно, завтра же. А может, сегодня. В его распоряжении всего один день. Обратиться в горком. Там наверняка сумеют разобраться. Но станут ли поправлять Чернова - старого партийного работника? "Нет, все это не то, не то", - морщась, говорил сам себе Глебов, не находя для себя какого-то твердого, ясного решения. Может, лучше уйти от этих гнетущих, испепеляющих мозг мыслей, чем-то отвлечься, успокоиться и отдохнуть? Он подошел к стеллажам и рассеянно посмотрел на книги. Взгляд остановился на книге в кирпичного цвета переплете - "Хождение по мукам". Название показалось созвучным его состоянию. Глебов любил эту книгу, как вообще любил Алексея Толстого. Достал ее и прилег на диван, включив у изголовья настольную лампу. Начал читать бегло, абзацами. И уже на второй странице глаза его замедлили бег по строкам, а мысли пристрастно впивались в текст:
"Дух разрушения был во всем, пропитывая смертельным ядом и грандиозные биржевые махинации знаменитого Сашки Сакельмана, и мрачную злобу рабочего на сталелитейном заводе, и вывихнутые мечты модной поэтессы, сидящей в пятом часу утра в аристократическом подвале "Красные бубенцы", - и даже те, кому нужно было бороться с этим разрушением, сами того не понимая, делали все, чтобы усилить его и обострить.
То было время, когда любовь, чувства добрые и здоровые считались пошлостью и пережитком, никто не любил, но все жаждали и, как отравленные, припадали ко всему острому, раздирающему внутренности.
Девушки скрывали свою невинность, супруги - верность. Разрушение считалось хорошим вкусом, неврастения - признаком утонченности. Этому учили модные писатели, возникавшие в один сезон из небытия. Люди выдумывали себе пороки и извращения, лишь бы не прослыть пресными".
Лезли навязчивые ассоциации, порождая массу противоречивых дум. Странным казалось, как это раньше он, читая "Хождение по мукам", не обращал внимания на эти строки, проглатывал их, не ощутив вкуса. Они не задевали его душу. Теперь же он усмотрел в них особый смысл, подумал с сожалением: очень плохо, когда люди читают и не вчитываются в текст, не задумываются над тем, что написано кровью сердца.
Алексей Толстой не успокаивал. А Емельяну хотелось покоя, он готов был повторить лермонтовское: "Я б хотел забыться и заснуть". Снова подошел к книгам, долго смотрел на пестрое разноцветие корешков.
И неожиданно вспомнил про журнал, который дал ему Посадов. Нашел стихи Владимира Фирсова, зачитался:
Порою хочется заплакать. Да что заплакать - закричать Забиться в угол, как собаке, И, накричавшись, замолчать. Молчать, чтоб все, что в мире мимо Прошло, оставшись за чертой, Чтобы ни писем анонимов С угрозою и клеветой, Ни лжи, что тащится за мною, Ни улюлюканья дельцов. Но вот я вижу - за спиною Встают края моих отцов. Встают размашисто, свободно, С избой отцовской над рекой. Да что я, собственно, безродный? Или беспаспортный какой? И мне ли, сыну коммуниста, Что продолжает путь отца, Бояться подленького свиста И улюлюканья дельца! Но нет! Я помню каждый шаг Многострадального народа… Таких, как я, в иные годы Меняли баре на собак. Таким, как я, тюрьмой грозили И, чтоб стереть с лица земли, Таких, как я, сынов России В Сибирь на каторгу вели. Все было - пытки и угрозы. Таких, как я, в иных годах Сжигали в топках паровозов И вешали на проводах. Таким, как я, в годах тридцатых Стреляли в спину кулаки. Но несгибаемо и свято К победе шли большевики. Все было… Даль черна от дыма. В огне отцовские края. В майданеках и освенцимах Сжигали вот таких, как я. И мне ли плакать, обессилев, В жилетку собственной судьбы, Когда велит судьба России Не уклоняться от борьбы!Прочитал и ахнул от удивления. Что за наваждение? А ведь это и впрямь о нем. Но ведь он не знаком с этим поэтом, никогда его не видел, не знает даже, молод он или стар. Еще раз повторил последние две строки.
Читал, а в голове плыли думы нестройными волнами, будоражили душу. Далекая и близкая история упрямо напоминала о современности, о том, что в мире еще много черных сил, жаждущих надеть на человечество ярмо рабства. Сколько еще бродит по планете претендентов на мировое господство, вещающих о превосходстве своей расы и нации - всяческих последователей Адольфа Гитлера! То там, то сям по городам Западной Европы мелькает проклятая людьми фашистская свастика и недобитые эсэсовцы устраивают сборища, мечтая о реванше. А за океаном "бешеные" и "полубешеные" с Голдуотером и ку-клукс-кланом во главе размахивают атомной бомбой. И международный сионизм сеет ветер.
…А ночью Емельяну приснился старый, давнишний и необъяснимо странный сон: южный город с голубым знойным небом и бирюзовой набережной, высокой горой и со старинной крепостью на ней, в которой размещается то ли пограничная застава, то ли военно-исторический музей. Такого города нет в природе, но Емельян знает его до последнего переулка. Он навещает его во сне, этот дивный город без названия. И каждый раз Глебов собирается проникнуть в крепость - ему очень нужно там побывать, - и всякий раз что-нибудь да помешает ему. Иногда он поднимается на гору, с большим трудом добирается до самых ворот… В этот город Емельян приглашает своих друзей, с которыми приятно разделить восторг перед красотой чудесного края. Он ведет их через долины, сады и виноградники, что лежат на пути в город, по горам, окутанным сиреневыми и алыми облаками, сквозь которые где-то в бесконечной дали синеет море и машет белым крылом то ли гигантская чайка, то ли парус.
- У тебя сегодня во сне было такое очарованное лицо. Интересно, что тебе снилось? - спросила утром жена.
- Опять мой город. Я был в нем с Алексеем Васильевичем в командировке. Мы ставили там спектакль "Преображение России".
Посадов поехал в горком партии и там узнал: перед ним у секретаря горкома был Петр Васильевич Климов, и тоже по делу Глебова. В горкоме его выслушали с должным вниманием и пришли к мнению, что одновременное появление о Глебове двух фельетонов - далеко не случайное совпадение. Секретарь горкома позвонил Чернову и посоветовал:
- Не делайте в отношении Глебова поспешных выводов. Тут явный сговор. Нужно разобраться.
- Да, конечно, тенденция чувствуется, - согласился Чернов. - Но факты остаются фактами, они против Глебова.
- Это все надо тщательно проверить, - настаивал секретарь горкома. - Поповин - жулик и авантюрист. Это факт проверенный. Разоблачил его Глебов. Это тоже факт достоверный. Вот отсюда и танцуйте. Да, между прочим, Игорь Поликарпович, не знаю - поздравлять тебя или как, но решение о твоем уходе на персональную состоялось
- Спасибо. Устал я, - сокрушенно вздохнул Чернов. Теперь он мог действительно отдохнуть.
Игорь Поликарпович сам не пошел на заседание парткома завода "Богатырь", поручив это дело Грищенке, которого просил в случае каких-нибудь непредвиденных осложнений немедленно звонить ему. И вот сразу же после звонка секретаря горкома звонок Грищенки, и такой растерянно-виноватый голос:
- Игорь Поликарпович, ничего не получается. Есть новые обстоятельства в пользу Глебова. Словом, все члены парткома решительно поддерживают Глебова и не согласны с точкой зрения райкома.
- Хорошо, пусть принимают решение, какое считают нужным, - спокойно ответил Чернов. - Приезжайте в райком.
Грищенко был озадачен, ожидал, что Чернов вспылит, обрушит на него поток тяжких упреков, обвинений в бесхребетности, в неспособности "проводить линию". "Что все это значит? - спрашивал он себя. - Откуда такая неожиданная податливость Чернова? Не мог же он отступиться от своего решения: такого с ним не случалось".
"Новые обстоятельства в пользу Глебова", о которых сказал он по телефону Чернову, заключались в следующем: партком располагал официальным документом из военного ведомства о мошенничестве Поповина с его "предсмертным" письмом. Кроме того, в день заседания в партком завода пришло авиаписьмо из Ленинграда от Леона Федина - бывшего пограничника заставы Глебова. 22 июня 1941 года Федин попал в плен к гитлеровцам и там встретился с раненым пограничником Матвеевым, который рассказал, как предал его Поповин, струсил и оставил на поле боя раненым. Следовательно, обвинения, брошенные Глебову фельетонистом, оказались неосновательными, фальшивыми, не говоря уже о самом тоне фельетона. Выходит, что клеветником был не Глебов, а фельетонист. Уже сам этот факт внушал рабочим доверие к Глебову и ставил под сомнение и второе обвинение, выдвинутое Грошем и Озеровым. "Мы верим Глебову и не доверяем газете, - в один голос говорили члены парткома, выражая мнение большинства коммунистов завода. - Это провокация, сговор жуликов!"
Конечно, после таких "новых обстоятельств в пользу Глебова" Грищенко был твердо убежден, что Глебов невинно и злонамеренно оклеветан.
Чернов встретил Грищенку мягко, даже задушевно, слушал, не перебивая, но, как успел заметить Грищенко, безразлично. Это был другой Чернов, совсем новый, удивительно непохожий на прежнего, какой-то отрешенный и, пожалуй, равнодушный. Когда Грищенко кончил, он лишь тихо произнес:
- Вот подлецы… Все могут. Ну ладно: все хорошо, что хорошо кончается. Глебову позвони, успокой. Нервы человеку потрепали.
И Грищенко сразу же после разговора с Черновым позвонил Глебову:
- Рад за тебя, Емельян Прокопович! Правда на твоей стороне. Игорь Поликарпович все понял. Но, думаю, не без помощи сверху. Ну до вечера. Я обязательно приду на премьеру.
Новый спектакль в Доме культуры вызвал большой интерес.
Первое действие прошло под гром аплодисментов. После второго зал неистовствовал, вызывая Посадова, Каурова и Законникову. И вот третье действие. Последняя картина. На сцене алеют флаги. Народ, восторженно ликующий, встречает Ленина.
Взрывом ахнули аплодисменты, одновременно в зале и на сцене.
Гремела овация, на сцену, полыхающую флагами, устремились зрители, обнимали друг друга, поздравляли, говорили самые теплые, самые взволнованные слова, глядя друг на друга открытыми влажными глазами. Емельян Глебов обернулся к жене и детям.
- Папа, теперь я могу писать сочинение о Ленине! - закричала Люба.
- А я видел моего дедушку Прокопа, - сказал Русик. - Он стоял рядом с Лениным.
- Вот и отлично. - Емельян взъерошил мягкие льняные волосы мальчика. - Значит, ты будешь настоящим наследником Ленина. Будешь ленинцем?
- Буду, - тихо и серьезно ответил Руслан.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ. РЕВЕЛА БУРЯ, ДОЖДЬ ШУМЕЛ…
Незадолго до конца дневной смены Борис Николаевич порывисто распахнул дверь в кабинет Глебова и прошел прямо к висящему на стене барометру, точно и спешил сюда лишь затем, чтоб щелкнуть по медной пуговке в центре циферблата. Он говорил, переводя дыхание, ни на кого не глядя:
- Идет, проклятый; напролом прет на дождь. Кто слышал сводку погоды?
- В "Правде" напечатано: дождь, ветер северный, порывистый. Температура пять - семь градусов, - мрачно ответил временно исполняющий обязанности главного инженера Андрей Кауров. Глебов, не вставая из-за письменного стола, повернулся лицом к окну. На стеклах стыли мелкие капли дождя. Сказал удрученно:
- На этот раз синоптики не ошиблись. А мы просчитались, Садись, Борис Николаевич.
- Будем откровенны и самокритичны: просчитались мы с Варейкисом. Согласен, Ян Витольдович? - Борис Николаевич, крепко сжав в правой руке спинку стула, на который решил сесть, вопросительно уставился на председателя завкома.
- Кто мог подумать, - развел руками Варейкис и шумно вздохнул. - Начало сентября.
- Подумали. Партком подумал. А мы с тобой не подумали и не поддержали, - откровенно признался директор. Глебов поморщился, заметил примирительно:
- Это не снимает ответственности с парткома: не смогли отстоять свою точку зрения, значит, не твердо были уверены в ее правоте.
А было так: Глебов предложил начать реконструкцию цехов в июне месяце. Дирекция и завком возразили: время летних отпусков - тяжелое время. Просто невозможно будет из-за нехватки рабочих производить реконструкцию, не останавливая станков. Ну, а о том, чтобы на время реконструкции приостановить работу завода или даже какого-нибудь цеха, не могло быть и речи. Решили начать переоборудование цехов в середине августа и завершить в конце сентября. Составили жесткий график работ: общее руководство реконструкцией возложили на Каурова. По этому графику прежде всего намечалось - как первоочередная задача - поменять кровлю трех цехов. Предстояла нелегкая работа, учитывая нехватку рабочих рук. Провели партийное, профсоюзное, комсомольское собрания, мобилизовали народ - и все шло по графику, вплоть до сегодняшнего дня. К концу августа заменили кровлю литейного и сборочного цехов, несколько дней тому назад сняли крышу механического цеха. И вдруг совсем некстати, не ко времени, пошел такой ненужный косой дождь, подстегиваемый порывистым холодным ветром. Вот и собрались сейчас в парткоме руководители завода, чтобы принять срочные меры: укрыть работающие станки и оборудование механического цеха, одновременно усилить работу по сооружению кровли.
К вечеру дождь усилился. Он метался по заводскому двору, как загнанный в вольер тигр, срывал с ясеней и тополей листву и швырял ее на мокрые, поникшие к земле, покалеченные хризантемы; обрушивал на горящие во дворе костры потоки воды и гасил пламя, гремел где-то вверху на крыше кровельным железом, стучал об угол здания оторванной водосточной трубой, с неистовым шумом, как коршун, врывался в механический цех и, обрушив шквал воды на полиэтиленовые пологи, повисшие над станками, донимал холодными брызгами шлифовщиков, фрезеровщиков, токарей.
Белкина улыбалась во все лицо широко открытыми удивленными глазами, на которые падали локоны мокрых волос, и бросала вопросительные взгляды то вверх, на провисающий пузырь полиэтилена, то на вьющуюся под руками металлическую стружку, то вправо, где за своим станком стоял Ключанский, то влево, где стоял за станком Пастухов. И Юрий смотрел на нее восторженно и кричал:
- Стихия!
А справа, услыхав его восклицание, ворчал, потирая озябшие порозовевшие руки, Вадим Ключанский:
- Нашел стихию!.. Просто бесхозяйственность. Произвол… Был бы Николай Григорьевич…
Он хотел помянуть добрым словом бывшего главного инженера, но не договорил. То ли случайная стружка, то ли оброненный кровельщиком гвоздь пропорол полог над станком Ключанского, и тонкая струя дождевой воды, как из спринцовки, ударила в худой затылок Вадима, по желобку потекла за ворот. Вадим ошпаренно взвизгнул, отскочил в сторону, матерно выругался, затем выключил станок и гнусавым голосом завопил:
- Эй, начальство!.. Мастер!.. Остановите потоп! - Он шел по цеху, задрав голову с геройским видом, и гнусавил: - Где начальство? Мастера не видали?
А вода тем временем, расширяя брешь в полиэтилене, обильно поливала станок.
- Да что он, очумел! - возмутилась Белкина. Она растерялась и обратила на Пастухова умоляющий, просящий помощи взгляд: - Посмотри, Юра, ведь зальет же, станок испортит.
Она не знала, что предпринять, просто ей в голову не пришла та мысль, которая пришла Пастухову. Юрий быстро схватил свой плащ, плащ Белкиной и стал ими укрывать станок Ключанского. Дождь не переставал, порывистый, шквальный, он швырял в открытый цех воду на полиэтиленовые пологи, нависшие над станками, и вода стекала на пол, а над станком Ключанского - на плащи Белкиной и Пастухова.
Подшефный Пастухова Муса Мухтасипов работал подсобным здесь же в механическом в одной смене с Юрием. Пастухов, а то и Белкина в последнее время нередко уступали ему свое место за станком, показывали, учили. Не сразу, а постепенно Муса полюбил металл, полюбил тогда, когда ощутил над ним свою силу и власть. А заодно проникся уважением к Пастухову и Белкиной. С Ключанским они постоянно обменивались колкостями, хотя Вадим всегда с интересом слушал Мусу, рассказывающего откровенно о своих похождениях. "Артист", - говорили о нем в цехе.
И вот теперь, увидав, как хлыщет из полиэтиленовой попоны струя воды и как Пастухов укрывает плащами станок Ключанского, Муса подошел неторопливо, окинул быстрым взглядом обстановку, процедил язвительно:
- Хозяин эмигрировал. Надо что-то предпринять.
- Да вот дыру бы заделать, - произнес Юрий.
- Это мы сей минут.
Муса куда-то исчез и вскоре явился с куском полиэтилена и лестницей. Он проворно взобрался к пологу и наложил на дыру лату. Течь прекратилась. Пастухов снял со станка плащи, и в это время появился Ключанский. Он шагал с дальнего конца цеха вместе с мастером и небрежно размахивал руками, выражая свое возмущение:
- Все залило. Станок по колено в воде. И меня всего окатило с ног до головы. Какая тут, к черту, работа. Куда смотрит начальство и техника безопасности!
Мастер, должно быть, не очень верил его словам, недовольно морщился, однако шел торопливо. Еще издали заметив их, Пастухов торопливо шепнул Мусе:
- Ты становись за мой станок, а я здесь. - И быстро включил станок Ключанского.
Подошел мастер - Иван Андреевич Деньщиков - пожилой рабочий, спросил Пастухова своим негромким голосом :
- Ну, что тут случилось?
- А ничего, - спокойно, даже несколько удивленный вопросом мастера, ответил Юрий.
Удивился и Ключанский, бросая мятущийся взгляд то на полиэтилен, откуда уже не текла вода, то на станок, совсем сухой и как ни в чем не бывало журчащий свой обычный унылый мотив.
- Ну, где потоп? - Деньщиков теперь уставился на Ключанского. - Что ты голову мне морочишь?
- Да я что, вру, по-вашему?! Пусть скажут - они видели. - Ключанский устремил большие округлившиеся глаза к соседним станкам. Белкина и Муса делали вид, что заняты своей работой, и хитро посмеивались Ключанский все понял. Но не устыдился, не испытал неловкости, а лишь со злостью сплюнул:
- Сволочи!
Пастухов уступил ему место и ушел к своему станку. Ключанский, злой и недовольный, насвистывал мотив "Черного кота", исподволь следя за станками Белкиной и Пастухова. Заметив, что Муса собрался уходить, окликнул с дурашливой официальностью:
- Товарищ Мухтасипов! Можно вас на минуточку?
- Что такое, синьор Ключанский? - отозвался Муса и остановился в нерешительности, тайно бросив вопросительный взгляд на Пастухова. Юрий кивнул.
- Ну подойди же, когда тебя просят по-человечески, - уже всерьез попросил Ключанский.
- Ну, если по-человечески, я готов, - лениво отозвался Муса, подходя к станку Вадима.
- Твоя работа? - Вадим кивнул вверх на залатанную дыру.
- Ты недоволен?
- Нет, напротив. Ищу героя, чтоб выразить мою искреннюю, глубочайшую признательность и благодарность. Я буду ходатайствовать перед треугольником о представлении тебя к высшей…
- Может, хватит паясничать? Мне некогда, - оборвал Муса и сделал попытку уйти. Ключанский торопливо заговорил:
- Подожди, у меня к тебе дело.
- Ну?
- Помнишь, ты рассказывал мне о художнике, который иконы собирает. Как его? Семенов?
- Ну? И что?
- Я видел его картины. На выставке. Шедевр. Преклоняюсь.
- Пожалуйста. А я при чем?
- Познакомь меня с ним.
- Зачем? - насторожился Муса. Он умел в нескольких словах схватить всю нить мыслей собеседника.
- Хочу лично высказать ему свое восхищение.
- А я с ним уже не вожусь, потому что он оригинальнейшая дрянь.
- Тогда дай мне его телефон.
- А ты не юли, - Муса уколол Ключанского сощуренными плутоватыми глазками. - Скажи прямо: хочешь наняться к нему в помощники? Пойдете по Руси обдирать с церквей иконы? Деньгу зашибать? Я тебя правильно понял?
- А тебе что за дело? Ты знай свое - подноси заготовки, рупь за смену заработаешь. - И, встретив уничтожающий, полный какого-то стихийного, вспыхнувшего внезапно, вдруг, презрения, с деланной независимостью отвернулся, лишь пробурчал гнусаво: - Ладно, можешь не говорить. Без тебя найду все, что мне надо.
- Вот-вот, валяй без меня, - бросил, уходя, Мухтасипов. Он направился в другой конец цеха, откуда начинался ударный фронт кровельных работ.
Наверху под дождем, освещенные лучами юпитеров, рабочие завода ставили и крепили стропила, и тут же следом другая группа делала обрешетку, а за ней третья группа - опытных кровельщиков, накладывала и сшивала железные листы. Резкий, дребезжащий лязг молотков по железу, глухой стук по гвоздям и болтам, прикрепляющим тес к стропилам, сливались с шумом ветра и дождя в выси, с воем станков внизу, превращаясь в какой-то общий неслыханный рев. Не гул, не грохот, а именно рев, экспрессивный, ритмично-беспокойный, вздыбливающий и призывный. И в черной бездне неба, секущего землю студеным дождем, театрально-сказочными, неземными виделись освещенные ярким светом и пронизанные косыми светлыми струями фигуры людей. Они чем-то напоминали Мусе космонавтов или фантастических обитателей иных миров. Он смотрел на них, задрав голову, откровенно любовался ими и тайно завидовал им, потому что там, среди них, не было и не могло быть Вадима Ключанского. Среди них Муса узнал секретаря комсомольского комитета Романа Архипова, узнал его по голосу, когда тот, преодолевая шум, кричал кому-то в черноту:
- Коля! У меня кончаются гвозди и болты!
А тот, кого назвали Колей, невидимый, в свою очередь, кричал:
- Вероника! Ну где же ты запропастилась? Гвозди кончаются. Захвати болты!
- Иду-у-у! - отвечал девичий голосок.
И снова, с неба из тьмы, знакомый голос директора Дома культуры:
- Юля! Железо! Давай железо!
- Есть давать железо! - совсем рядом с Мусой, за его спиной раздался такой чистый уверенный женский голос. Муса вздрогнул и обернулся. Он видел перед собой только глаза, большие, спокойные и как будто что-то знающие глаза, что-то такое, чего не знают другие.
- Ты кого там высматриваешь? - спросила она, метнув взгляд в высоту. Вместо ответа он сказал слова, которые пришли к нему вдруг, как-то сами собой и, возможно, помимо его воли:
- Давайте я понесу?
- Неси. Пожалуйста, - совсем просто, доброжелательно и без удивления сказала она и подала Мусе четыре листа железа. Оно было не таким уж тяжелым, но неудобно было его нести, резало руки. Юля догадалась и прокричала вслед уходящему Мусе: - Рукавицы раздобудь, а то руки испортишь. Да быстрей возвращайся.
Рукавиц не было, их заменил кусок ветоши. Муса брал теперь за раз по пять листов, было тяжело, но зато он чувствовал свое превосходство над представителем слабого пола - Юлей Законниковой, которая брала зараз на один лист меньше. Он не считал листов, не замечал дождя, не чувствовал усталости. Он все носил, носил и носил, пока Юля не сказала ему:
- Хватит. Пойдем передохнем у костра.
Было за полночь. Дождь немного угомонился, но ветер не утихал - со свистом завывал в полуобнаженных кронах ясеней, большой и дружной рощей заселивших заводской двор. У костра, подставляя языкам пламени розовые застывшие руки, полукругом стояли люди, позволившие себе сделать небольшой перерыв. Все они, закончив в четыре часа дневную смену, добровольно остались на ночь, чтобы победить стихию, не допустить приостановки работы цеха. Тут была не только молодежь из механического, литейного, кузнечного и сборочного, тут были люди из отдела главного конструктора, и среди них Сергей Кондратьевич Лугов, которого товарищи уговаривали, учитывая его возраст, пойти домой: мол, без тебя управимся. Но он и слушать не хотел. Здесь были Саша Климов и Вероника. Были даже начальник охраны и начальник пожарной. Были, конечно, директор завода и Глебов, Варейкис и Кауров. Группами, поочередно собирались они у костров на короткий перекур. Сыпались шутки, анекдоты, смех.
- Гляжу я сегодня на наш аврал, - степенно заговорил Сергей Кондратьевич, воспользовавшись паузой, - и вспоминаю военное время. Точно так же не уходили домой по Две, а то и по три смены кряду. Тут и спали. Прикорнешь несколько часов - и снова за станок. А в желудке пусто.
- И не день, не два - месяцы! - подхватил Варейкис - Потому что надо было, Сергей Кондратьевич, Родина требовала.
- А мне нравится такое. Как на Северном флоте на учениях, - заговорил Роман.
- Это здорово! - поддержал его Тимофей. Варейкис с подначкой толкнул в бок Константина Сергеевича:
- Ну а я тебе что говорил о нынешней молодежи?
- Всё правильно. Как там написано, так оно и есть, - ответил старик Лугов.
- Что написано? Где там? - не понял Варе
- Да там, на Бородинском поле. Ай забыл? "Доблесть родителей - наследие детей".
Загорск, 1964 - 1968 гг.


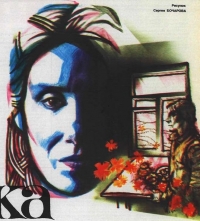

Комментарии к книге «Во имя отца и сына», Иван Михайлович Шевцов
Всего 0 комментариев