Судный день
ВИСОКОСНЫЙ ГОД
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Я был одновременно сыном и пасынком этому городку. С тех пор прошло немногим более десяти лет, а он уже не хочет узнавать меня. Так одиноко, как в первые минуты в родном городе, я не чувствовал себя в самом дальнем чужом краю.
Неприкаянно, как подкидыш, стоял на тротуаре мой чемодан, рядом с ним стыл я. Мы мешали всем. Но людская толпа обтекала нас, как река обтекает остров. И ни у кого не было ко мне ни любопытства, ни привета. Я узнавал и не узнавал свой город.
Как слоеный пирог, он и сейчас населен и горожанами, и деревенскими жителями, приехавшими на базар, паровозными гудками, запахами угля и яблок. Он начинается из лесов и смыкается с лесами. Кажется, у него нет ни начала, ни конца. Я знал его, как не знал самого себя. Городок был беден, нищ, гол, но приветлив. Он задыхался от голода, но из последнего кормил две сотни послевоенных детдомовцев. Недоедал, недопивал, но собирал рубли, копейки, куски хлеба и отправлял в далекий Ашхабад людям, пострадавшим от землетрясения. На содержании у города было множество сирых, увечных, потерявших в войне здоровье белорусов, русских, цыган и евреев. Но он не жаловался на свою долю.
Настал черед, он дал кусок хлеба и мне. И я говорю ему сейчас: спасибо. Не только за хлеб — за милосердие, терпенье, за то, что именно здесь я почувствовал себя человеком. Спасибо за всех, кто рос в таких городишках в неуютное послевоенное время, кому они заменили отца с матерью.
Все сейчас в моем городе вроде бы на своих местах. Книжный магазин — каменный дом с кривой, от фундамента до крыши, трещиной. Лужа у когда-то единственной водопроводной колонки. У этой колонки всегда было полно ребятишек, они и сейчас отираются возле нее.
Маленькие городишки, как старики, не любят нововведений. Но что же переменилось? У города моего детства новый, непривычный моему глазу цвет. И дело было не только в том, что перекрасились дома и заборы, речка из светлой и прозрачной стала желтой, одряхлела и заросла травой, — я же запомнил и пронес через все только серые и темные тона. Город в моей памяти был неподвижен и неизменяем, как на старой фотографической карточке, а он жил, год от года становился все красочнее и пестрее. И сейчас он мне удивительно напоминал тот большой и современный сибирский город, в котором я теперь живу.
Эта улица раньше не была покрыта асфальтом. Я помню ее седой от перегретого, как зола, песка. Из-за коричневых корней деревьев, оплетавших улицу, у меня летом никогда не заживали ссадины на ногах. Кровь от ушибов густела, посыпанная дорожной пылью, чернела.
Могу ли я забыть, как когда-то испытал здесь чувство полета!
В тот день небо было синим и глубоким, каким оно может быть только в конце лета. На придорожных кустах дрожала паутина. Лесные тропы и стежки переметали белые кружева грибниц. Окраины звенели от птичьего грая. Я шел по облитому солнцем белому песку и смотрел, как колышется небо — чуть приметное, настоянное летом голубое марево. Потом неизвестно почему побежал. Побежал прыжками. Мне очень хотелось оторваться от земли, рассечь маячившее надо мной марево. И мне — это помнится с каждым годом все отчетливее — удалось подняться, Я парил над желтым от солнца песком. Легко и свободно вдыхал запах хвои, идущий от стоящих у дороги сосен.
Я парил. Я знаю это. И с этим воспоминанием я не расстанусь, если даже сильно захочу. Потому что гораздо позже в снах я не раз переживал этот первый свой полет. Его сладкая жуть и сейчас наполняет меня уверенностью, что стоит мне только сильно пожелать — и я опять оторвусь от земли, взмахну руками и поплыву над знакомыми мне до последней заплаты на крышах домами.
Маленький автобус, давно уже изгнанный из больших городов, везет меня к родному дому. Раньше я ездил по этому городу в автобусе только из любопытства или озорства. Город из конца в конец — три километра. Это ли расстояние! Но неожиданно три километра растягиваются в десять. Старые проезды закрыты, надо объезжать, круг огромнейший, и я рад.
Автобус вступает в лес. По краям дороги все те же сосны, ободранные до живого осями телег. Меня и радуют, и пугают густо встающие у лесной дороги травы. Травами наш лес никогда не был богат. Все больше сосновые шишки, прикрытые сосновыми иглами, по-местному — глицей. По этим глицам мы пасли коров.
Мы — это хлопцы с Подольской улицы. Хлопцы — Леня Ревский, Володька Збышко, или, как все его звали, Украинчик, Арсень Кривой, Леша, Мила, Нина Улитины и я. У Улитиных фамилия Збышко. Улита — это мать их, а отца нет,, зовут детей по матери.
Отцов или матерей нет у многих, кто живет рядом с нами. Подольские улицы — а их сразу три на город, — все они рядом — богаты на сирот и сироток. Город зовет нас всех, подольчан, злыднями, бандитами. Мы — окраина. У нас свой закон: обмануть, стащить. В глазах города мы те, для кого нет ничего святого. Но если бы только город знал, как мы чисты в своей вороватости, драках, обмане, мечтах и бедности. Бедность наша у всех на виду, а слезы недоступны постороннему глазу. Мы ведь не от хорошей жизни, не с жиру воруем из вагонов свеклу и жмых, жарим на пастушьих кострах и едим июньские молодые побеги сосен, чуть позже — колоски ржи и пшеницы. И от этого у нас, как у галчат, вечно черные лица и рты. Из обручей, стащенных с железнодорожных платформ на станции, мы куем себе сабли и мечи. Наш главный оружейник — Володька Украинчик.
Как янычары, спрятав под лохмотья сабли и мечи, в полдень пригнав коров, мы уходим в город на разбой. И городские сторонятся нас, когда мы идем вместе, и бьют наших, когда ловят в одиночку. Но мы редко плачем, видно, потому, что нас часто бьют, бьют все, кому не лень: городские хлопцы, грузчики и обходчики со станции, лесник и объездчик. Два последних — наши кровные враги. Нам кажется, у них только и дел, что гоняться за подольскими пастухами.
На глице и шишках коров не накормишь, молока не попьешь, а поля и пастбища принадлежат колхозам. Но нам все равно, чья бы земля ни была. Мы, подольчане, идем по ней, как саранча. Что не поедают коровы, то вырывают про запас для них и себя пастухи. И коровы наши тоже, как саранча, прогонистые и юркие, вороватые. Под вечер мы иной раз запускаем их в овсы, а то и в картошку. Как они едят, как затравленно озираются по сторонам и как убегают, заслышав наш тревожный клич... Наши коровы, как лошади, знают даже, что такое галоп. Галопом мы всегда покидаем стражу — огромное поле, на краю которого когда-то стоял дом лесника, мужа Улиты. О доме сейчас напоминают только головешки. Сохранился сарай да несколько яблонь.
Мы любим гонять коров в стражу, особенно Улитины дети. В конце лета тут для нас яблоки, желуди, ржаные колоски и грибы, а для коров — сочная густая трава. Лесник и объездчик тоже знают о нашей любви к страже и приходят сюда с палками, специально для нас припасенными хлесткими длинными дубцами. Из-за этих дубцов у лесника и объездчика прозвища — шершни; подольские не знают их фамилий. Сколько раз ловили они нас на яблонях, и как мы бегали от них, как екали селезенки у коров, убегавших вместе с нами!
Но мы тоже хитрые. Крутим коров в центре поля, возле небольшого березового гая. В этом гаю мы чувствуем себя гораздо уютнее, чем дома. Дома крик, попреки, ремень, комнаты, полные мух, из каждого угла глядит бедность. А в гаю мы были богачами: поле, лес, небо — простор и воля. Можно становиться хоть на голову. Но Подольская делала из нас хороших хозяев, расчетливых и бережливых, учила добром не кидаться. Мы убрали с полей камни и в березняке сложили из них очаг. Выкопали неподалеку колодец. Брали из него воду и запивали ею сухой и горький привкус пережаренных колосков. На старой березе приспособили качели. Почему лесники ни разу даже не попытались оборвать их, не порушили нашего очага, не засыпали колодца — это для нас было загадкой.
Это для меня и сегодня загадка. Сегодня у меня, пожалуй, больше загадок, чем полтора десятка лет назад. И самая главная загадка — почему я не могу остановить автобус, войти в лес и превратиться в подростка-пастуха. Почему это невозможно? Ведь подросток тот — это я и есть. Он живет во мне. Это он сейчас смотрит на родные места моими глазами.
— Ну, привет, — беззвучно, одними губами, шепчу я ему. — Признал?..
— Ты чужой...
— Я приехал, чтобы стать своим.
— И опять врешь. На Подольскую не возвращаются. С Подольской только уходят. Я не хочу с тобой водиться. А будешь приставать — поколотим.
— Я тоже подольский.
— Подольский? И от лесников можешь убежать? Можешь босыми ногами, не морщась, ходить по сосновым шишкам, по стерне, есть колоски и цветы сосны, воровать жмых?
— Могу, но, понимаешь...
— Нет, ты не подольский.
— Ты прав и не прав. Я сейчас больше подольский, чем тогда, когда мы пасли с тобой коров в страже. Но ты знаешь только одну Подольскую и не догадываешься, что их были тысячи. И я на каждой из них жил, принадлежал каждой, из них.
— Хитро. В городе навострился так?
— Да, поумнел в городах разных. И в них не раз встречал тебя. Потому и не забыл.
— Чистенький, ухоженный, откормленный. Поколотить такого приятно.
— Драться я тоже умею. Подольский ведь.
— Злости в тебе не видно. Живот выпирает, а у злых живот на спине. Заелся, зажрался, лицо, как икона, светится. Таких Подольская всегда била, на место ставила.
— Злость теперь не в животе, а в голове начинается. И...
Автобус задергался, зачихал и остановился. Я очнулся и вышел. Место поначалу показалось мне незнакомым. Редкие малорослые сосны, кривые березки — хмызняк. Какое-то полузаросшее травой болотце.
Я обогнул автобус. Он почти прислонился к дубу с огромным гнилым дуплом внизу. Еще не осознав, что делаю, я опустил руку в дупло, но ничего не нашел в нем, кроме трухи. Разгреб труху — пусто. Удивился. В этом дупле жил удод, пестрая, красивая птица. Куда она девалась? Попробовал всунуть в дупло голову и еще больше удивился. Голова не проходила. Я обдирал щеки, но не сдавался. Как это, ведь раньше я протискивал в дупло даже плечи, что могло случиться?
Я смотрел в темноту широко открытыми глазами. Запах прели, как когда-то давным-давно, в детстве бил в ноздри. Я различал в темноте коричневую расслоенную на ромбики и квадраты труху, слышал злобное, почти змеиное шипение испуганного удода и понимал, что ничего этого для меня уже не существует. Все это прошло. Удод, наверное, давным-давно сдох или его съел хорек. Сколько минуло лет. Саднил ободранный лоб. Как в детстве, было чуть-чуть жутковато от непроницаемой темени в дупле. С трудом я высвободил голову. В глаза ударила весенняя яркая зелень. Только дуб, под которым стоял автобус, был по-стариковски черен и сух. Он будто вышел из моих взрослых одноцветных снов. Я часто видел его таким, каким он сейчас стоял передо мной, потому я, наверное, и не сразу узнал это болотце в лесу, в пятистах метрах от дома. Я погладил шершавую и жесткую кору дуба. Как мы не любили его в том далеком детстве! Я даже сейчас не могу припомнить у себя злее врага, чем он. Дуб рос близко от нашей улицы. Одиноко и заброшенно. В народе такие дубы с давних пор носят прозвища глухих. И по народной примете нельзя купаться, пока они не распустятся. А они не распускаются в иную пору до глубокого лета.
Автобус ушел. Я не захотел ехать в нем. Я пойду к своей родной улице по вот этой петляющей, опутанной корнями стежке. По ней я когда-то гонял коров. По ней, чувствуя себя подростком-пастухом, я пойду домой, в детство.
Саднит ободранный лоб. Все дальше в прошлое уводит меня память, к первым моим шагам по этой земле, по этому лесу.
Мальчишка-подросток в спадающих лохмотьями на босые ноги штанах из чертовой кожи бежит впереди меня с березовым прутом в руке.
— Подожди, — прошу я его. — Что мы все время бегаем друг от друга.
Он сбивает прутом листья с берез и не глядит на меня.
— Когда ты уезжал отсюда, ты обещал мне первому рассказать про все. Я слушаю.
— Ты прости... Я... был раньше, как бы тебе сказать... самоуверенным. А сейчас. Нет... Я сдержал уговор, но я боюсь. А вдруг все не так? А вдруг все не то? Подольская нетерпелива и не умеет слушать, она командует и приказывает, а все эти годы я учился слушать. А ты ведь любишь командовать.
— А ты не боись... Шершни, которые били нас в страже дубцами, умерли.
— Умерли твои, а мои шершни живут и с каждым, годом становятся все злее.
— Не понимаю, о чем ты...
— Это к лучшему. Слушай...
НАЧАЛО
Под стрехою сарая еще висела усохшая крапива, на перекладине двери в сарай лежали дробные белые камешки, на притолоке в хате торчал воткнутый тещей и забытый всеми нож. На воротах во двор ветер раскачивал березовые сухие ветки. Три-четыре недели назад улица встречала троицу — зеленый летний праздник. Березой, камешками и крапивой боронилась от ведьм, ведьмарок и злых ведунов. Трофим с Ульяной и верили и не верили в них. Но береженого бог бережет. Руки не отсохнут, если воткнуть в дверь сарая пучок крапивы, а нечистой силе, есть она или нет, дорога в хлев к корове заказана. Остречется она у ворот, повернет назад. И семья будет с молоком, скотина и человек не узнают ни приворота, ни порчи.
Веселый был праздник, почти детский. Они — бывший деревенский байстрюк, никогда не знавший отца Трофим Прыгода, видевший вдосталь хлеба только по праздникам, и такая же байстрючка Ульяна Говор — наконец-то дождались своего лета. Выстрадали свое хозяйство, вырвали сиротскими слезами, потом и мозолями и дом, и хлев, и корову, и семь соток огорода. И великим счастьем было перед зеленой древней троицей острекаться крапивой, устилать полы пахучей дерезой, обвивать крыльцо хмелем, перемазываться клейким молодым листом березы...
Трофим держал в руках хромовые сапоги, но не чувствовал радости. Первые в жизни самим справленные сапоги. Как Трофим любил прохаживаться в них по хате, под одобрительное потрескиванье половиц слушать постреливание задников, поскрипывание подошвы. Ноге было вольно и легко. По улице, по песку он будто плыл. И солнце гляделось в его сапоги, как в зеркало.
Солнце и сейчас играло в глянце хрома. Сыпало веселым дробящимся светом на стол, на лицо Трофима. Но душа его была глухой к этой радостной игре света.
— Папа, у тебя сегодня выходной? Пойдем в лес?
— Пойдем, сына, пойдем, не путайся под ногами.
— Это ты меня путаешь... Выходной — значит, надо выходить.
Сыну немногим больше двух лет.
— Надо выходить, папа, — тянет он одно и то же.
— Ага, Дима...
Трофим слышит, как жена гремит тарелками. Перебирает каждую, дышит на нее и трет, будто перед гостями стол готовится накрывать. И горка фарфора тоненько и празднично позвякивает. Рождает одни и те же мысли. Оба они к своей посуде непривычны. Оба в деревне у своих матерей ели из деревянных или глиняных чашек, в которых сегодня и свинье стыдно поднести. Ели и вовсе без посуды. Высыпала мать на чистый стол чугунок картошки-паронок, сыпала на край стола горсть соли или льняного пережаренного семени, ставила бутылку с перетертым хреном. Макали они паронки в соль или семя, запивали хреном и тому были рады.
— Ульяна, посуду не трогай, — говорит муж. — Везти далеко. Перебьем, а после собирай по тарелке. Закопаем в огороде.
Трофим строжится, командует женой, тещей и только сам не знает, что же делать ему. Садится на табурет, снимает ботинки и переобувается в сапоги. Ботинки отшвыривает на середину комнаты. Жена снова выставляет на стол чашки, блюдца. Теща по второму разу густо мажет швейную машинку солидолом. Женщины сегодня удивительно послушны. Хотя бы для приличия одна заспорила, огрызнулась. Было бы легче, покойнее.
Дима устремляется к ботинкам. Трофим прохаживается по хате и прислушивается к скрипу сапог. А скрипят они, будто ничего и не случилось, будто журавли, которые по весне вернулись из теплых южных краев — курлы-курлы, — хряско и радостно.
— Не трогай! — кричит он сыну, который пробует укусить ботинок. Шлепает его и выпроваживает за дверь.
— Ох, и рукастый же ты, — вздыхает теща.
— И что это? Чем ни старее человек, тем больше он вздыхает, — говорит Трофим теще.
— Поживи, порадуйся с мое, поймешь, — как всегда отвечает она.
Трофим молчит. Будто кто-то рукой сжимает сердце. Первый раз после месяца войны он чувствует боль, оглядывает избу и понимает, откуда пришла она. В доме кавардак, какого давно не было. «Бог ты мой, — думает Трофим, — сколько же всякого хлама приходится на человека. И когда-то было заводить все это?»
Сердце не отпускает. Не натешилось оно ни любовью, ни семейным счастьем. Кажется, только вчера сыграл он свадьбу. Выставил за околицей села хлопцам четверть водки. Выкуп за невесту. Хлопцы отвернули с дороги колоду. Трофим гикнул на лошадей, и те зазвенели бубенцами, заполыхали над дугами ленты и расписные рушники. И так без остановки, словно все под гору, под гору, до 22 июня сорок первого года.
А дальше опять дороги. Паровоз, как мужик-новосел, все время в пару, в работе, и при нем будто привязанный — он, Трофим Прыгода, машинист. И во всех поездах, ночью и днем: беженцы, беженцы. Весь мир от мала до велика поднялся и бредет неведомо куда.
По серым проселочным, лесным и полевым дорогам скоро брести его жене, сыну, теще. Они еще не знают об этом, не догадываются. Они не видели, он видел. Видел, как на одном из полустанков упал замученный дорогами одинокий и древний старик. Куда брел, от кого бежал он, одной ногой стоящий в могиле? Думал ли, что на глухом разъезде, именуемом «417 километр», как у загнанного волка, хлынет из его рта пена...
Трофим принес ему в своей мазутной фуражке воды. И когда старик поднялся и снова зашагал, догнал его и отдал последний кусок хлеба. Старик спрятал хлеб за пазуху и не оглядываясь побрел по серой дороге — ни спасибо, ни до свиданья. И Трофим, провожая его взглядом, впервые понял: это война.
«Черт бы ее побрал, эту войну, — думает он сейчас. — Не могла ни погодить, ни начаться раньше, когда был один, без жены, сына, тещи... Начал обживаться, жить по-человечески. Из помощника машиниста перешел в машинисты. Кончил скитаться по чужим углам, поставил свой дом. И вот на тебе...» Трофим не может оторваться от огромного черного, окованного медью, тещиного сундука, занявшего стол. «Как гроб, — думает он. — Чей только, неизвестно». Жена заворачивает в тряпки, кладет в сундук серебряные ложки, достает из платяного шкафа выходное пальто.
— Все в землю да в землю, — ворчит теща, — как в могилу... А носить что будешь?
— Немец же, мама, идет.
— И немец ходил, и поляк... А все равно и под немцем, и под паном, а носить что-то надо. Ох, горе мое, горе.
— Горе еще будет. А сейчас... Ну-ка, Ульяна, помогай.
Трофим становится на кровать и снимает со стены ковер — тихо плывущих под луной по озеру лебедей, Ульяна помогает ему. В последний раз глядит не наглядится на них.
Плывут-плывут белые лебеди, улыбается женщина, навалившись грудью на плетень, сладко жмурится, крутит ус казак. Глядит на картину и старая Говориха и видит в ней свою вдовью судьбу солдатки первой мировой войны. Не хотела она отдавать этот ковер в дочерин дом. Понимала: в сладкой-сладкой картинке горькая-горькая доля. Но разве молодым можно сегодня перечить, можно ли в них вложить свой разум и память.
«Долго-долго еще вам, лебеди, коптиться по деревенским и городским домам, — вздыхает про себя старая Говориха. — Ох, не меняется, ничто на свете не меняется».
Под ковром стена не оштукатурена. Голые, черные, чуть омоложенные рубанком бревна. Из пазов голой, без штукатурки, стены бородами свисает ломкий мох. Ульяна смотрит и говорит мужу:
— Дощикатурить бы хату, Трофим.
— После, после, Ульяна.
— Все после да после. А вот теперь как жить... У людей мужики как мужики...
— Ну, оштукатурю, а дальше? — говорит ей Трофим. — Что замолчала? Давай дальше, про соседа, у которого не дом, а лялька. Так? А у тебя не мужик, а зломка кусок?
Появляется Дима. Он открывает дверь, но не входит в хату. Висит на клямке, перебирает ногами, смотрит то ка отца, то на мать. И с воплем бросается к раскрытому, стоящему на полу утюгу. Бабушка перехватывает внука.
Дима отбивается, но бабка цепкая. Не выпуская из рук внука, она садится на табуретку возле печки и больше не поднимается. Молча следит из своего угла старая Говориха, как зять с дочерью собирают вещи и укладывают их в сундуки. Смирился и посерьезнел Дима. Он исподлобья рассматривает хату. Чуть прищурив правый глаз, полуоткрыв рот, смотрит на стену, на которой привык видеть ковер, лебедей. Без ковра стена кажется ему интереснее. Он дотягивается до бороды моха, пробует его на зуб. Тут же следует шлепок. Но у бабки рука для внука легкая. Дима уже примеряется к сундуку. Елозит по бабкиным коленям.
А на полу, раскрыв черную зубастую пасть, все так же стоит утюг. Лежат отцовские ботинки.
— Бабушка, — сладко шепелявит Дима.
— Что, внучек?
— А я тебя люблю.
Говориха расслабляет руки. Кажется, обманул... И тут происходит совсем непонятное для Димы. Мать хотела бросить в сундук огромную клетчатую шаль — Дима ходил в ней всю зиму, — да раздумала:
— А ну как до зимы не кончится, в чем его носить, — сказала мать. И бабка так сдавила Диму, что ему стало больно. Куда уж тут выскользнуть из рук.
— А я тебя любил, — хнычет Дима и не смотрит ни на утюг, ни на ботинки, требует: — Пусти, пойду гороха нарву.
— Горох еще зеленый, — отвечает Говориха.
— А я пойду проверю.
Говориха спускает внука на пол. Он топает к утюгу, хватает уголек и неумело прячет за спину. Мать смотрит ему в глаза, но не ругает. В руках ее все та же клетчатая с длинной бахромой шаль. Дима пятится от матери, раскрывает дверь, давит в кулаке уголек и убегает на улицу.
Ульяна не смотрит ни на мужа, ни на мать, но видит их, чувствует. Мать и муж для нее сейчас чужие. «Неужели они не понимают, — думает она, — в такой-то день переобуваться, наряжаться, как на праздник... А эта тоже расселась, как в гостях. А может, у него какая на стороне завелась? — прислушивается Ульяна, как скрипят сапоги мужа. — Все может быть, каждую ночь поездки... Кто их поймет, эти поездки... Дура ты, дура, — тут же корит она себя. — Война ведь война...»
— Война, — произносит Ульяна вслух.
И слово это, короткое и вроде бы спокойное, будто вихрем срывает ее с места. С шалью в руках мечется она по хате. «Точно вихрь, смерч», — с ужасом думает Ульяна. В смерче, бешено крутящем пыль и мусор, в самом центре его, она видит испуганные глаза сына, его ручонку, крепко сжимающую украденный из утюга уголек.
Ульяне довелось только раз видеть смерч, девчонкой. Это было в голодный, бог знает какой уже год. Соседские дети посреди улицы ели хлеб. Она стояла возле хаты и смотрела на них. Ветер дул на нее, и от запаха хлеба, как в оскомине, сводило рот. Вдруг возле ног девчонок взвилась какая-то воронка. Рванул неожиданно сильный ветер. Воронка начала расти, расти и приближаться к Ульяне, по спирали ходили в воронке обрывки бумаги, щепа, трава, песок. Живой громадный штопор оторвался от земли, песком и щепой ободрал лицо Ульяны и взмыл вверх. Вкрутился в хату. Затрещала, поднялась и тут же грохнулась оземь крыша. Как живая, постояла, пошаталась и рассыпалась по досточке, по жестяным заплатам. И все стало тихо. Ульяна, присев, укрыв подолом босые ноги, молча смотрела на лежащую в обломках крышу. Девчонки не могли ни дозваться ее, ни сдвинуть с места.
Прибежала мать, даже не глянула на крышу. Схватила дочь и бегом понесла к бабке, их деревенской знахарке. Знахарка два дня шептала над Ульяной и кропила ее водой, отпаивала напарами из трав. На третий день мать принесла ей последнюю в своем вдовьем хозяйстве курицу и забрала дочь домой. Что с ней было в те два дня, Ульяна не знает, помнит только, что у нее все время был страх за глаза. Их надо придерживать рукой, иначе они могут выпасть и потеряться. С глазами неладно и сейчас, Ульяна прикрывает их ладонями. Прикрывает, чтобы не видеть ставшего ей вдруг немилым дома. Среди голых, местами черных стен, среди кавардака на полу только мать, горюющая в темном углу у печки, казалась родной этому дому. Она лишь одна казалась здесь живой. И заглянувший снова в хату Дима сразу же бросился к бабушке. В его перемазанной углем ручонке было зажато с пяток плоских зеленых стручков гороха.
— Поспел! Поспел, баба! — разжал он перед Говорихой потную ладонь.
— Да нет же еще...
— А к вечеру поспеет?
— Поспеет, — сказала Говориха.
Дима вздохнул. До вечера было еще далеко.
Ульяна бросила в сундук последние, вышитые на свадьбу рушники. Потопталась, оглядывая хату, прошлась глазами по всем углам, тяжело и неловко, будто подняла непосильную ношу, зашаталась.
— Ох, куда ж это все, куда... Не дам, не дам... Трофим, мама, что ж это будет, куда вы глядите?
— Ну, вот и все, — вышла из своего угла Говориха. — Ты, Ульяна, поплачь. Повой. А ты, Трофим, готовь тележку.
Дима спрятался в бабкину юбку, как горошина в стручок. Трофим пошел к двери, постоял у порога:
— Ну, командуйте тут, мама, — сказал он. — Я за тележкой. — И быстро вышел.
Он готовил свою двухколесную, приспособленную для поездок в лес за дровами коляску, будто в глухую темную ночь собирался ехать на колхозное болото воровать траву.
Коляска была дорога ему так же, как жене ковер. Невелико богатство, но попробуй обойдись без нее в хозяйстве. Возил на тележке и картошку осенью с поля, и глицу из леса корове на подстил, а летом — траву и дрова. По соседям каждый раз не набегаешься, да справному мужику и стыдно что-то в долг просить. Трофим, пока сладил свой транспорт, обошел все свалки железного лома, выпил за него со сварщиками не одну бутылку вина. И вся работа собаке под хвост. Все бросать — и жену, и сына, брать винтовку и борониться уже по-настоящему, не как на троицу, без смеха, со злостью. И злость росла в нем с каждым его шагом по родному двору, с каждым ударом по гвоздю. Он гнал их в сухое неподатливое дерево по самую шляпку. Бил хлестко и резко, будто стрелял. И казалось ему, что он вбивает эти гвозди не в доску, а себе в душу.
И душа его отрешалась от мелких хозяйских забот, перестраивалась на новую военную жизнь, так же, как лет пять назад перестраивалась с деревни на город. Привыкала после волов, «цоб-цобе» к паровозу, инжекторам, грохочущей стали рельсов. И он готов уже был со своей деревянной коляской ехать туда, где под снарядами дыбилась земля, горели хлеба, текла кровь, только бы немец не дошел до его дома, не снял с места и не погнал в пекло его семью.
Он смазал колеса. Не понравилась боковая доска. Трофим потрогал ее, подумал, навалился всем телом и сломал. Но, как на грех, взамен ее ничего не было. Трофим приподнял плохо прибитую доску на крыше сарайчика. Еще подумал, что не по-хозяйски оголять крышу: пойдут осенние дожди, вся вода потечет на дрова. И все же оторвал.
Пора было переносить вещи. Но Трофим все тянул. А теща с женой ждали его. Они сидели молча и прямо в отдалении друг от друга. Такими они сидели, когда Трофим пришел к ним со сватами.
«Слава богу, — будто мотала пряжу, вспоминала сейчас старуха. — Зять достался неплохой, грех жаловаться. Не обижал и дочку и за мной доглядал... А что будет дальше?» Она не боялась войны. За свой век она три раза горела. Бывало, выскакивала из огня с детьми в чем только мать родила. По-новому заводила хозяйство, вставала на ноги. И это с тринадцатью детьми, без мужа. Ей не везло на мужей. Свой, родной, не вернулся с германского фронта, а два примака были неплохие хозяйские мужики, оба померли. Два раза в самые голодные годы ее обкрадывали, выводили корову, уносили кур, оставляли только стены да то, что было у нее и детей под боком. Не жаловалась, билась из последнего, но ее дети с торбой за спиной, как соседские, по дворам и селам за куском хлеба не ходили.
Не боялась старая Говориха умереть. Она верила, что переживет войну. Боялась за детей, у каждого из них были уже свои дети. Вот за них, внуков своих, и болело у нее сердце. Случись что-нибудь с их родителями, сумеет ли она поднять всех этих Дим, Петров, Марусь...
Дима, пригревшись, как котенок, молчал у бабкиных ног. Ему пора было спать. Он хорошо знал свой час. Но всегда надеялся: авось родители забудут. Надеялся и сегодня, потому и молчал, старался не обнаружить себя.
Ульяна не вытерпела:
— И куда он запропастился, окаянный? Мотает жилы!
Дима испугался и захныкал.
— Что тебе? — Ульяна взяла сына на руки, почувствовала, как к горлу подступает тошнота.
В первый раз она почувствовала это в то памятное воскресенье, но мужу ничего не сказала. Он и без нее за то воскресенье, за один день, почернел. Сейчас она думала, что ей делать. Говорить мужу или потихоньку, не тревожа его, искать подходящую знающую бабку, или оставить все, как есть. Может, случится и так, что родить не успеет. Немец, говорят, где-то рядом.
— Поехали, — появился на пороге Трофим.
— Яму копай глубже, — сказала теща. — Дальше положишь, ближе возьмешь. Соломы бы постлать на дно. Солома не дает гнили. Слышишь?
— Ладно, — отозвался Трофим.
— А ты, Ульяна, собирайся тоже, — распоряжалась теща. — Все под богом ходим...
— Молчи! — накинулась на мать Ульяна. — Хотела, а теперь никуда не пойду. Пропади оно все пропадом. Трофим, куда я без тебя?
— Не хоронишь же еще, — отстранил жену уже далекий и не принадлежащий ей Трофим, и она бросилась сначала к машинке. Погладила ее, припала к сундуку. И вдруг сникла, отошла. Села на материно место в углу, у печи. Все эти скрытые для глаза, упрятанные в узлы вещи сразу стали ей ненужными. Вековечная бережливость еще приказывала в последний раз проверить все и проследить, чтобы ничто не потерялось, не разбилось. Но эта же деревенская трезвость подсказала Ульяне, что все эти костюмы, отрезы, платья, машинка — наживное. Душа зашлась в жалости к мужу. Ульяна, выросшая без отца, ценила мужа, ценила как отца своего ребенка, как мужчину в доме. Она любила Трофима, но любовь сейчас молчала. Война отнимала у нее опору, руку. По-другому смотреть в эту минуту на Трофима Ульяна, как ни старалась, не могла. И чтобы перебить это нехорошее, некрасивое, что встало между ней и мужем, она всплеснула руками и запричитала:
— Кто все это донашивать будет! Кто на машинке моей шить будет!..
— Собралась бы, прошлась, — не отставала от дочери мать.
— Не, мама, не мило уже все мне. Чую я... Дима, ты пойдешь с папой. Иди, все запоминай. Все это твое. Запомнишь, Димочка? Иди.
— На новую квартиру? — обрадовался Дима и сноровисто, боком, боком заковылял к порогу.
Без жены, вместе с тещей зять вынес и погрузил на тележку вещи. Хотел ехать, но теща хватилась:
— Куда ж ты без лопаты? Пальцами копать будешь?
Пока Трофим разыскивал лопату, на крыльцо вышла Ульяна, склонилась над Димой.
— Гляди, сынок, запомни, все запомни.
Дима поглядел на стоящее над хатой солнце, перевел сощуренные глазенки на мать. Трофим толкнул тележку и почти бегом выкатил ее со двора. Жена с тещей вышли за ворота и долго смотрели ему вслед.
— Одурела ты совсем, — сказала Говориха дочери. — Запоминай. Как будто он что соображает. Запомнит...
Но Дима все же запомнил. Запомнил не место, где с отцом схоронили вещи, а гораздо больше — день со всеми красками, цветами, радостью и печалью. Это было первое, остановленное им мгновение жизни.
Много лет спустя стоило ему только подумать о том дне, прикрыть глаза — и он сразу видел мать. Не всю, правда, а только уроненные на колени белые руки, видел сидящую у печки бабушку, похожую на добрую, но ослепленную солнцем сову. Перед его глазами все время двигался, мельтешил отец. Он хорошо помнил его синий железнодорожный китель, горящие на солнце сапоги. Помнил тележку у крыльца, желтое неподвижное солнце. А что не смог запомнить, то позже увидел в снах. Сны его об этом дне, чем больше проходило времени, становились отчетливее и подробнее. И сейчас он знает все. Знает не только то, что было в этот день, но и то, что было до и после него...
— Вот видишь, я сдержал уговор, — сказал я, спрятал листки и закрыл чемодан. — Что же ты молчишь?
— Кто такой Дима? — спросил подросток-пастух.
— Ты не узнаешь себя?
— Меня зовут не Дима. Я не знаю ни Говорихи, ни Ульяны, ни Трофима с этой глупой фамилией Прыгода.
— Но все они жили на улице Подольской.
— А я их не знаю...
— Но поверь мне, это ведь все о тебе. Ты ведь начинаешься с того дня, о котором я тебе рассказал. В твоей жизни был такой день?
— Нет, ты все придумал. Это было ни с каким не с Димой. И совсем по-другому... День этот был короткий-короткий. Как будто не в самом деле. И серо-серо, как вечером в лесу у костра. А потом я увидел солнце, как желток в молоке, оно стояло на месте и совсем не высоко. Я поглядел на него, и мы с папой пошли. Сначала мы шли полем, и поле все белое-белое, сухое, без травы. И я все время щурился, потому что солнце было и на земле, лежало у меня под ногами и слепило. И в лесу так. Иглы у сосен были желтыми, и много-много игл. И я на них щурился и устал. Папа посадил меня в тележку. И еще я помню крышку швейной машинки, желтую и горячую, и песок желтый. И вообще все было горячее и яркое-яркое. Настоящее. Желтое так желтое, белое так белое... Ты все испортил.
— Так уж получилось... Хочешь, я все порву. Я уже рвал много раз. И это бы порвал. Но боюсь: буду рвать и забывать, забывать. Пусть все остается как есть. Я приехал, чтобы все показать тебе...
— Но кем ты стал? Кто ты есть?
— Фезеушник...
— Такой большой? Фезеушники такими не бывают. Ты врешь.
— Да... ФЗО я уже закончил давно. А фезеушником останусь навсегда, в душе как бы. Таковы мы оба с тобой. На всю жизнь подпоясаны широким фезеушницким ремнем с блескучей пряжкой. Мы с тобой начались и кончимся под смех и плач деревенской гармошки. И как мы ни будем шустрить, всегда, как тень, следом за нами будет идти наша фезеушницкая память, война...
— Да... Стоило ли уезжать отсюда? Столько лет где-то шляться, чтобы навсегда остаться фезеушником. Вся наша Подольская, как ты говоришь, в душе фезеушная.
— Хорошо.
— Что же хорошего? Работа. Работа. Грязь. Недостача... Кино по праздникам. А ведь я видел тебя летчиком, геологом, ученым, министром. А ты... фезеушник. Ты дурак?
— Иногда.
— Я так и знал. Мачеха говорила тебе правду. На ее месте я бы не давал тебе даже хлеба с сахарином. Одним фезеушником больше, одним меньше.
— Иногда, когда я чувствую себя дураком, я тоже так думаю. Но что ты можешь знать о фезеушниках. Не сахар у них, конечно, хлеб...
— Это уж я знаю.
— Ни черта ты, брат, не знаешь... Фезеушником, настоящим, не так-то просто стать. Это, может быть, еще потруднее, чем выбиться в министры.
ПРО ХЛЕБ ФЕЗЕУШНИЦКИЙ
— Помнишь вонючий лесок и овраг в нем, куда мясокомбинат вывозил отходы? На поляне возле этого леска ты с мачехой полол просо. Солнце стояло высоко. Просо разомлело от жары, стало серым и квелым, вы с мачехой тоже. С утра у вас не было во рту маковой росинки...
— И пришел батька. Принес булку хлеба. Без одной верхней корочки. Он тоже был голодный и ощипал корку, пока шел к нам. Хлеб пах мазутом. Папа пришел на поле прямо с поездки, в грязном. Он сказал: «Зайчиков хлеб...»
— Он всегда говорил так, когда возвращался из поездок и доставал хлеб из своего сундучка. В тот день мы втроем под сосной на краю просяного поля разломили зайчикову буханку и всю бы съели, если бы мачеха не опомнилась и не спрятала горбушку на вечер. В жизни вкуснее хлеба, чем тот, недоеденный мною, я не пробовал.
— А ты помнишь, как я его ел. Я отламывал по крошкам, мял в руках, закатывал в середину по щепотке соли. Клал катышек хлеба на нёбо и сосал, как конфету.
— Я про это забыл. Вот откуда, значит, я люблю соль. Так вот фезеушницкий хлеб был так же сладок, как и зайчиков. По вечерам, когда ФЗО уже засыпало или готовилось засыпать, когда был сыгран отбой, мы доставали из-под подушек и матрацев припасенные с завтрака, обеда, ужина краюхи, а по-фезеушницки птюхи — порции хлеба. Делили всем поровну и жевали, неторопливо, бережно, как беззубые старики, как коровы жуют жвачку. Иной раз мы были и не голодны, но все равно под подушками, в подушках, чтобы не нашел мастер, прятались птюхи хлеба на всякий случай. Мы еще в Белоруссии были приучены заглядывать хотя бы на день вперед. Кто такие мы? Фезеушники-детдомовцы. Ты же знаешь про детдом.
Мы покинули его неожиданно, уехали из Белоруссии далеко, и многие навсегда. Уехали в Сибирь, в ФЗО, чтобы стать шахтерами. Белоруссия в тот год могла нас обучить только специальности столяра-краснодеревщика: такие разнарядки по Белоруссии получил наш детдом. А тут вербовщик из Сибири, из Азии — набор в шахты.
Сначала нас было шестнадцать детдомовцев-белорусов. И Сибирь, ФЗО для всех нас шестнадцати началась с хлеба. В ФЗО нас не успели переодеть, как были в детдомовском, так и отправились на уборку первого целинного урожая. Ты не можешь даже представить, сколько сразу увидел я хлебов. Огромные, будто скирды соломы на токах и сушилках, бурты пшеницы, нескончаемые, как шляхи, гоны пшеничных полей. И работа, работа, работа до одурения. Я сначала попал на комбайн. «Пойдешь работать к Потемкину», — сказал, улыбаясь, бригадир-полевод.
Уже на второй день я понял, почему он улыбался. Потемкин был совсем не Потемкин. Кутный была его фамилия. Низенький хилый мужичонка, кажется, кривоногий, но за это не ручаюсь, потому что я не видел, как он ходит по земле при свете дня. Он все время был на комбайне один, без штурвального. Штурвальные от него посбегали. И стоял он на мостике без смены, в хорошую погоду — в старом без пуговиц, бог его уж знает в какого цвета пиджаке или такой же бесцветной, застегнутой под подбородок гимнастерке. Мне с копнителя были видны его худая, давно не мытая шея да часть спины с налипшими на одежду остьями пшеницы. Когда накрапывал дождь или сыпал снег, Кутный одевал брезентовый дождевик и по снегу и дождю продолжал уборку. Над кабиной комбайнера торчал, покачивался только остроконечный дурацкий колпак брезентовика. Как он выводил меня из себя, как мне хотелось прицепить к нему погремушку...
Но в первый день мне понравилось на копнителе комбайна. Было солнечно и тепло. Беспрерывно и густо сыпалась пшеничная солома. Я воображал себя Ильей Муромцем, этаким богатырем с вилами-копьем в руках, вставшим перед всеми змеями горынычами. И Потемкин для меня еще не был Потемкиным, и он мне тоже нравился. Он походил немного на отца. Добрые, но несколько подзавядшие и выцветшие на солнце глаза, добрые, мягкие, вконец изъеденные солнцем волосы, а на щеках две глубокие, охватывающие лицо подковой морщины. И все это подсвечено мягкой, чуть даже стеснительной улыбкой. Каков уж, мол, есть, таким и принимайте, люди.
Но день шел, шел и не кончался. Комбайн ходко бежал по полю. Горло и уши забило остьями пшеницы. Глаза слезились, но я не пытался вытирать их. Вяло ковырялся вилами и исправно жал на педаль сбрасывателя. Ко всему, сбрасыватель где-то заедало. И приходилось прыгать в копнитель, руками оттягивать защелку, вместе с соломой вываливаться на стерню. А комбайн шел ровно и быстро. И мне надо было бегом догонять его, закрывать на ходу копнитель. А ноги уже не слушались. Умер, испарился Илья Муромец, а змеев горынычей прибавилось. Они уже были не только в глазах и ушах, но и кололи спину, подмышки. Горели в тяжелых кирзовых сапогах ноги.
Но я знал — мне надо выстоять. Сначала я говорил себе, что мне надо выстоять, потому что я убираю хлеб. Хлеб, которым я мог накормить батьку, мачеху, детдом, весь мир. Но после полудня я уже и думать позабыл, что я убираю. Мне надо было выстоять, потому что стоял у штурвала Степан Кутный. Стоял и покуривал махорочку с самосадом, и ветер нес на меня вместе с запахом хлеба сладковатый запах самосада.
А мне было горько. И я теперь знаю, почему. Ты помнишь, и дома, и в детдоме — нигде я не был белоручкой. Я считал, что знаю работу и не боюсь ее. Дома я пас коров, рубил дрова, греб сено. В детдоме я наравне с мужиками косил, метал стога. И лугу ли, лесу ли, полю, думалось мне, не родной ли я? Я не боялся самой черной работы, знал: глаза боятся, а руки делают. А тут, на поле, испугались и глаза, и руки. Я испугался, что солнцу не будет заката, полю — конца, Степану — устали. Я, когда забирался на копнитель, чувствовал себя огромным и сильным. А тут будто приплюснули меня, сжали, и стал я меньше мухи, комаром, я считал, что меня можно сдуть ветром. Боялся, что затеряюсь в сваленной копне соломы.
Признаюсь тебе, я заплакал. И плакал тягуче, нудно и долго. Пока не разозлился на паскудное бесконечное поле, на хлеб, за которым пришлось ехать на чужбину, на весь белый свет. И я бился со всем этим белым светом, колол его железными вилами и, как в омут, вниз головой бросался в солому и срывал защелку копнителя. Барахтался и выползал из копны на стерню, как выползает среди зимы из своей берлоги поднятый охотниками медведь. И когда комбайн наконец остановился, я тут же бросился к Степану:
— Что?
— Гляди-кось? — уставился на меня Кутный. — Торопишься?
— Тороплюсь...
— Запаришься.
Он обошел меня и направился к копне соломы. Начал прощупывать измочаленные молотилкой колосья.
— Две нормы, хлопец, мы с тобой сегодня ахнем. А ты откуда такой ушлый?
— 3 Беларуси... 3 Палесся...
— Знаю. «Мокрай трапкай па голаму бруху» — гаворать?
— Гамонять.
— Гляди-кось: гамонять?
— Гамонять. А ты, гаманливы таки, в воину кем был в наших краях?
— Ну-ка, следователь, бери вилы. И гляди-кось у меня. Копны по всему полю, как понос тебя прохватил, раскидываешь. Ставь рядком да ладком... — ворча что-то себе под нос, он поднялся к штурвалу.
И все пошло сначала. Только мне работалось легче. То ли вечер снял усталость, то ли я приноровился, но поля не боялся, не боялся работы. Руки за день хотя и отяжелели, но я опять чувствовал в них силу. Сам по себе наладился и сбрасыватель у копнителя. Я огляделся — и мне, знаешь, понравилась Сибирь. Конечно, не Беларусь, не наш лес, не наше поле, но тоже хорошо.
Стоял сентябрь, а береза уже пожелтела. Много березы — и по краям поля и на самом поле. Желтая пшеница, желтые скрасна листья березы, а трава еще зеленая. И вокруг тихо. Вдали, среди берез, бьется в свету, играет в закате солнца небольшое озерко. От него ползет по полю холодок. А комбайн развешивает, как ленту, сероватый и теплый шлейф пыли с дымом. И въезжаешь в этот шлейф, будто входишь в наш родной дом. Пахнет свежим хлебом и чуть-чуть керосином.
Солнце раскраснелось и нырнуло то ли в озеро, то ли в березы. Степан остановил комбайн. Я думал — все, отработались. Но Кутный не торопился глушить двигатель.
— Иди сюда! — крикнул он мне и привалился к копне соломы.
— А я тебя и отсюда вижу, — ответил я ему.
— Так ты хочешь знать, где и кому я служил в ваших краях?
— А мне все равно, где и кому ты служил.
— Партизанил я в ваших краях.
— А я не следователь...
— Гляди-кось, все еще не отошел... Народ ваш не сердитый, работящий, гляди-кось, как ровно копны ставишь.
— Две нормы есть? — спросил я его.
— Две-то есть, — он подошел к копнителю. — Третью бы надо было. В потемочках, в потемочках, глядишь, и наскребем. Свежо, лунно будет, пока пшеница отойдет, мы и урвем. Погода стоит... Хочешь не хочешь, а рви, пока хребтина не треснет.
И комбайн пошел в потемочках. Пошел быстрее, чем днем. Потемочки стали ночью, как на мороз, вывалилась яркая и полная луна. А Потемкин и не думал покидать полосу. Я несколько раз задремывал. И, наверное, уснул бы, если бы ветер не донес до меня голос Степана. Я встряхнулся и прислушался. Кутный пел. Тогда начал петь и я. Бог его знает, что выкрикивал я в ту ночь, даже охрип.
Степан остановил комбайн, когда начали сереть звезды:
— Как в копнитель набьется полно соломы, так крикнешь мне. Пошабашим. Четыре нормы.
Я не помню, как мы приехали к полевому стану. Кутный ли занес меня в будку, сам ли я зашел, не знаю. Остаток ночи я так же яростно, как и днем, боролся с соломой. Барахтался и бился в ней: то она меня засыпала — и я умирал, то я вновь оживал и вылезал из соломы. И наконец выбился из сил, сдался. И тут почувствовал, что меня кто-то трясет за плечо. Я изо всех сил старался притвориться сонным, мертвым. Но меня подняли с пар и поставили на ноги.
— Иди умойся, — услышал я голос Степана и хохот ночевавших в будке механизаторов.
Я так и не понял, над чем они хохотали. Открыл глаза, а сам прислонился к нарам. Надо мной склонился Степан. Глаза его были красными и слезились, красным, будто протертое рашпилем, было и лицо. А шея, как и вчера, оставалась непромытой. По кадыку чередовались, бежали к впадине на груди темные и светлые полоски: как стекала вода, так и остались следы.
— Угробишь парнишку, Потемкин, — гудели мужские голоса. — Не двужильный и ты.
Я шел к умывальнику так, будто только сегодня утром научился ходить, и не верил ни в твердость земли, ни в свои ноги. А в спину мне, кажется, вбили кол. Я был весь прямой и негнущийся. Меня сейчас можно было переставлять и двигать, как вещь. А за столом колом стали в горле и масло, и хлеб, и каша. Я не думал, что впереди у меня такой же бесконечный, как и вчера, день, и не боялся его. Мне было все безразлично.
До серых звезд я выстоял на мостике копнителя и второй день. Много дней. Потерял им счет. Все они утонули в гуле мотора комбайна, в копнах соломы, в мелькании желтых пшеничных полей, в белых березовых колках. И когда настал день — комбайн Степана Кутного — Потемкина сломался, я не обрадовался. Чувствовалось приближение зимы: уже высыпал по утрам на пшеничные валки иней, все чаще на целые дни небо затягивали холодные, низко идущие над землей тучи, и вперемешку с дождем громадными хлопьями валил снег. А хлеба, очень много хлебов, лежали и стояли в полях у черных озер, у голых колков. Видеть, как гибнет хлеб, как он, живой и темный, мертвеет, покрывается синью и вбивается непогодой в землю, слышать, как гудит в сломанных, уже негнущихся стеблях холодный ветер, страшнее самой страшной усталости и работы.
Тот самый бригадир, который направлял меня на копнитель к Потемкину, приехал на полевой стан. Мы со Степаном ждали летучку.
— Поможет летучка? — спросил Степана бригадир.
— Как мертвому припарка, — сказал Степан. — Все. Моя уборочная окончилась. Отпелся.
— Как хлопец? — кивнул бригадир на меня.
— Сколько ты ему там написал?
Бригадир достал блокнот, посчитал и присвистнул:
— За полтораста трудодней.
— Пусть хлопец остается со мной. Гляди-кось, выправлю свой гроб с музыкой. Выйдем снова на подборку... А нет — отдохнет.
— На сушилке не хватает народу. Горит хлеб... — И бригадир на своем мотоцикле отвез меня в деревню.
До этого я нигде не видел и не слышал, что хлеб может гореть. Оно и понятно. Зерно горит тихо. Кончается, как человек, у которого уже нет сил бороться с болезнью. Так же, молча, как возле покойника, ходят мимо него люди. Разница лишь в том, что в такие минуты этим людям нельзя попадаться под горячую руку. Помнишь, как тебя однажды беспричинно выпорол отец? Я понял причину, когда попал на ток. Вспомнил: перед этим как раз к нам приехала бабка и в слезах рассказывала, что в колхозе выкашивают пшеницу и жито-зеленя, сеют многолетние травы: «Мужики плачут, а косят». Ты тогда сказал бабке: «Дураки. Раз жалко, не надо косить».
Рассудил... твоя беда — правильно рассудил. И отец это знал без тебя, и мужики знали, и бабка наша... И отец в ту минуту бил не тебя, а того, кого не мог побить, бессилие свое и боль.
На току и сушилке, в Сибири, я понял отца и мужиков, которые плакали, а косили жито и пшеницу-зеленя...
«Одним совком меньше... еще одним... одним...» — подгонял я себя и шуровал распаренную пшеницу в ненасытную железную утробу сушилки «Висхом». Железные челюсти черпаков конвейера подхватывали зерно и несли в жар. Они бежали наверх переполненными, а из нижних люков пшеница еле сочилась. Я старался не смотреть туда.
Меня раздражала спокойная неторопливость моего напарника Лени Дрозда. Он работал в фуфайке и, казалось, еле поворачивался. Вонзал совок в пшеницу и нес ее в приемник, словно отец новорожденного.
— Шуруй, Ленька!
Совок мелькает у меня в руках. А Ленька только улыбается. Русый его чуб описывает плавные круги-дуги от бурта к приемнику, от приемника к бурту. Через два часа я устал. Совка из рук не выпускал, но он тянул меня за собой. Мне очень хотелось упасть на него и не подниматься. И будь что будет. Гори она ясным огнем, эта пшеница. Через полчаса, час я бы, наверное, упал, но не выдержал Дрозд. Неторопливо прислонил совок к «Висхому», разгреб соседний с нашим бурт зерна и сказал мне.
— Ложись.
Приказал. И я лег в горячую пшеницу, как в постель. Ленькин чуб описывал все те же плавные дуги: от бурта к приемнику, от приемника к бурту. Я лежал, смотрел на это равномерное покачивание напарника, и перед моими глазами встал деревенский луг. Так же плавно и неудержимо мощно покачивались, ведя косу, косари в пестрядных белых одеждах, так же неторопливо и сонно, на глаз, вели серпами жнеи, зная, что до конца полосы, как до неба. Так же размеренно поднимался над головой кряжистого дядьки колун. И разлетались, лопались, как переспевшие арбузы, крученые дубовые чурки, жменя к жмене ложились в сноп жито и пшеница, плыли по левому боку от косарей ровным рядком подрезанные травы.
— Леня! — закричал я. — Леник, зачем ты послушал меня, зачем ты поехал в Сибирь учиться на шахтера? Тебе нужно не уголь добывать, а хлеб растить. У тебя это лучше получится. И тогда все будут сыты.
Дрозд смотрел на меня, как мы все смотрели на директора детского дома, когда он уговаривал всех нас стать садовниками и улыбался, как обычно в детдоме, когда мы, детдомовские активисты, тянули этого авторитетного для ребят парня в «общественную жизнь». Улыбался простецки, но, как всегда, помалкивал, И я чувствовал себя с ним, как в кабинете директора.
— Ты только правильно пойми меня, я хотел, как лучше, — сказал я Дрозду.
— Я понял. — Дрозд на минуту опустил совок. — Я давно понял. И не за тобой я в Сибирь потянулся. В чужом краю среди чужих людей легче искать себя, просторнее. Мы же пока с тобой казенные люди. Нас никто не спрашивает, чего мы хотим, нам дают что есть.
— Я выбираю свою дорогу сам, — сказал я.
— Это хорошо, — ответил Дрозд. — Но это тебе только кажется. Выбирать нам еще придется не скоро. Пока же мы люди казенной судьбы. И кончится она, когда все кругом будут сыты.
— Ты такой умный, что я ничего не понимаю. Научи же меня, как мне жить?
Дрозд опять улыбается простецки и ясно, как улыбался мне в ответ отец, когда я приставал к нему с расспросами о его солдатских подвигах, о его четырех годах на войне.
— Я брату хочу написать, — сказал Дрозд. — Пусть приезжает сюда, в Сибирь. Тут все есть. Земля, вода, трава. Хозяин только нужен — голодный и работящий.
— А мы где нужны? Кому и зачем? — не отставал я.
— Мы еще не хозяева, — ответил Дрозд и вздохнул. — Мы горелики, как наш Вася Горелик, как картошка сверху в чугунке — еще сырая, а уже подгорела.
Скрежетали и злились сушилки и веялки, красно светились в сизом тумане тлеющие вполнакала электрические лампочки. И вдруг наступила тишина и темнота. Умолк железный лязг «Висхомов» и «Кузбассов», перестал тарахтеть колесный трактор, крутящий динамо-машину сушилки. Дрозд в темноте отыскал меня и улегся рядом.
— Один — ноль, — сказал он.
— Что? — не понял я.
— Один — ноль... — повторил Дрозд. — В нашу, а может, и не в нашу пользу. — Приводной ремень к динамо-машине порвался. Перекур с дремотой.
— Починят.
— Опять порвется. Три — ноль за ночь. Еще раз порвется ремень. Потом загорится зерно в сушилке «Кузбасс» — это когда кочегаришку Горелика нашего мастер под утро водой обольет. Тогда будет три — ноль.
— В чью же пользу?
— С одной стороны, в нашу. Нам что... Мы не сеем и не пашем. Хозяина не видно. Председатель колхоза изо дня в день талдычит: «Товарищи фезеушники, хлеб — наше богатство. Наша задача — в срок и без потерь убрать его, не дать ему сгореть. Все до последнего зернышка — в закрома...» Мы здесь больше трех недель, и каждый день я слышу одно и то же. За это время и попугая можно другим словам обучить, а этот, видно, на всю жизнь заведен одни и те же слова повторять.
— А что ему остается?
— Ничего. — Ленька повернулся ко мне. — Я бы на его месте хоть ремень хороший на сушилку дал. Колхозников бы на сушилку поставил — всю деревню, а то они картошку в своих огородах копают да по базарам ездят... Сгорит пшеница.
Я молчал.
— Уже сгорела. — Дрозд отвернулся от меня, заелозил, зарываясь поглубже в пшеницу. — А в детдоме, семь лет я в нем прожил, и ни в один из годов не удалось и попробовать из детдомовского сада спелого яблока. Весной в столовой нашей на первое и второе такой кондер: крупинка за крупинкой гоняется с дубинкой. И прямо из столовой все мы в сад, на яблони, как гусеница, за весну всю завязь объедаем... А тут — горит пшеница, сгорела. Все уже знают, и председатель тоже. Хлеб от нас идет не на элеватор — там своя запарка, свой горелик и свой ремень держит все. Переливаем из пустого в порожнее. — И он заплакал, засморкался в прелую пшеницу.
Я лежал, слушал, крепился и тоже не выдержал. Плакать было сладко и легко. Сладчила во рту перегоревшая пшеница. Слезы катились к подбородку, пощипывали и беззвучно падали в зерно. Пощипывали и духмяно парили сушилки, тихо постреливало остывающее от жара железо. Жаром полнилась грудь.
— Ты почему плачешь? — спросил я Дрозда.
— Не знаю, — ответил он.
— Я тоже. Хочется плакать, и все тут. Не стыдно даже.
— Больно, — сказал он.
— Ты плачь в голос, — посоветовал я ему. — Все равно никто не услышит, зато легче будет. Я, когда поменьше был, всегда с криком ревел.
— Не могу, — сказал Дрозд. — Стараюсь, а не выходит, как раньше.
И мы тоненько попробовали завывать. Но слез уже не было. Горело только лицо, а дышалось легко, будто после грозы. Мы молча лежали в теплой пшенице и недоумевали, с чего разревелись.
Вася Горелик, кочегар «Кузбасса», Дрозд и я жили в одном доме. Вместе и вышли со двора сушилки.
— Какой сегодня сон видел? — спросил Горелика Дрозд.
Вася не ответил. В детдоме я его плохо знал. Он приехал недавно и был в другой группе.
В детдоме он жил особняком, никого не подпускал к себе, никого не задевал сам. Ни с кем не делясь, жевал по ночам коржики и печенье, хрустел яблоками, которые присылала ему мать. В детдоме его не любили, но не трогали. Больно уж противно верещал и плакал он после драк. И всем было боязно его дикого страха. Но по дороге в Сибирь Горелик начал нам нравиться. Благодаря ему мы были сыты все шесть длинных суток пути. Каждому из нас на дорогу выдали всего лишь по пятерке. А Вася умел торговаться со старухами на привокзальных базарчиках. Умел выждать и не упустить тот миг, когда раздавался свисток паровоза и цены падали.
— Я надую всех и уеду отсюда, — говорит он сейчас. — Я буду летчиком, а не фезеушником. Кроме хлеба, вам ничего не надо. Вы ничего не знаете о небе. И правильно, что никто не считает вас за людей.
— Поколотим? — спросил я Дрозда.
— Без пользы, — сказал он, — его бить, что облезлого пса. Поджимает хвост и все равно лает.
— Я человеком хочу стать, — с болью сказал Горелик. — А фезеушники не люди. Недаром анекдоты о них рассказывают. Одна бабка жалуется другой: огород испортили, огурцы потоптали. Фезеушники, наверное, сочувствует соседка. Нет, отвечает ей бабка, следы-то человеческие...
— Это о тебе анекдот, — сказал Дрозд Горелику, — о тебе. Уже потому ты скотина, что так о других людях думаешь. Хороший человек о другом до такого не додумается. Это я тебе поклясться могу. Хороший человек, он везде хороший.
— А я плевал на это. У меня цель. Когда добьюсь ее, я тоже буду хорошим. Когда человек добился всего, чего хотел, ему только и остается как стать хорошим. А пока надо учиться кусаться и меньше верить всяким там словам.
— Сволочь ты, — сказал Дрозд. — Бог жабе пока хвоста не дал. Отрастишь хвост — будешь великой сволочью. Востри лыжи, смывайся из ФЗО, потому что тебя в нем и прибить могут.
— И убегу, — напрягся, застыл, будто и впрямь собрался бежать, Горелик.
— Не успеет убежать, — обернулся ко мне Дрозд.
Горелик все же победил мастера, довел его до белого каления. Он ставил Горелика на все работы: и на комбайн, и на прицеп, и к «Висхому», и к веялке. И отовсюду наш Вася или сам сбегал, или дожидался, когда его гнали. Сейчас на самой сачковой должности — в кочегарах, — но и тут сачкует.
— Мастер хороший? — спросил я Дрозда.
— Сам увидишь.
С Дроздом мы в детдоме были в разных группах, подружились в дороге. Нас четверо друзей: Дрозд, я, Толя Беликов и Коля Казерук. Толя где-то в поле, на комбайне, а Коля в деревне, отвозит зерно от комбайнов. Я очень хочу увидеть его, но не знаю, смогу ли сегодня. От жара «Висхома» горят щеки, ноют предплечья и почему-то ноги. А спать не хочется совсем. Потемкин отучил.
Хозяйка, высокая и крепкая старуха, наливает нам в огромные эмалированные кружки молока. У Горелика в кружке, как говорят, с верхом, а у нас чуть побольше половины. «Бог с ним, — думаю я, — скорее бы до постели». Разморило в тепле. Хлеб перед нами свежий, теплый, видно, был поставлен в печь на ночь. Ноздреватый, мягкий, пышный пшеничный хлеб с коричневой, как у боровика, корочкой. Ни в детдоме, ни дома я такого не ел. Я сжимаю положенную передо мной хозяйкой горбушку и тут же расслабляю ладонь. Горбушка распрямляется, будто я ее не сжимал. Хороший хлеб, по-хозяйски выпечен. Я сегодня заслужил его.
...Сладок, говорят, хлеб заработанный. Не верь, не верь этому. После работы, когда ты не можешь пошевелить ни ногой, ни рукой, хлеб горек. Не веришь мне — спроси об этом у тех, кто растит и печет этот хлеб. Спроси любую из домохозяек: сладок ли ей обед, ужин после того, как она трижды угорит у печи или плиты? Горек, когда ты видишь, как гибнет хлеб и ничем не можешь исправить этого, хотя ты силен и работящ. И я чувствовал — горчит моя горбушка, отдает запахом браги и сизым туманом... Сладок хлеб в памяти, сладко вспоминать.
На следующий день Горелик убежал на работу раньше нас. Но когда мы пришли на сушилку, среди ребят его не было.
Тракторист опять клепал приводной ремень.
— Как ты работаешь? — злился, глядя на него, мастер.
— Это же не пас, а гремучая змея, склепка на склепке.
— Так и работаем: сутки чиним, час едем. — Тракторист был пожилой и спокойный.
— Я бы не поехал, — наседал на него мастер.
— А едешь. — Тракторист неторопливо и аккуратно постукивал по заклепкам. — Запрягли и едешь.
Мастер сплюнул и отошел к нам.
— То-то и оно-то, — рассудительно продолжал тракторист. — Все мы так, на словах только. А вот справку за вашу работу сельсовет не дает вам. А без справки ты что?.. И мне справка нужна. Помню, в тридцать девятом году...
— Пошли, — сказал мастер, — пошли, сейчас поедем.
Но поехать нам не удалось еще с полчаса. У тракториста что-то случилось с трактором. А мастер хватился, что нет Горелика. Некому кочегарить на «Кузбассе».
— Где он? — вскинул голову в сторону Дрозда мастер. — Где он, староста?
В пообтертом коричневом с красной искрой костюме мастер показался Дрозду петухом, и Дрозд улыбнулся:
— Не знаю, Дмитрий Васильевич. Опять, наверно, портянки забыл и на полдороге вспомнил. Пошел наматывать. А может, в лужу влез, ноги промочил и сейчас сушит у костра.
— Шутишь, староста?
— Горелик с нами шутит, — сказал Дрозд.
И тут появился Горелик, как маятник, покачиваясь взад и вперед. Подошел к мастеру. Дмитрий Васильевич молчал.
— Иду, значит, я мимо кукурузы, — сказал Горелик. — Ти-хо, ти-хо. И вдруг ветер как зашумит — у-у-у да снова у-у-у...
— У-у-у, — протянул мастер, подражая Горелику. — А дальше?
— А дальше... Как шарахнет по кукурузе, большой, черный...
— Конь, — подсказал кто-то Горелику.
— Корова, — обиделся Вася. — Шпион. Усы — во. Рожа... шпионская. И что-то закричал. Ну, я не дурак, ни дрына, ни винтовки. Как смальнул в кусты.
— Кто? — спросил Дрозд.
— Шпион.
— А ты?
— А я в кукурузу. А потом вокруг деревни... И вот, дрожит все, а на работу иду...
— Иди, иди, — сказал мастер. — Иди, Вася... домой. Собирай манатки — и в училище, к замполиту. Скажи: Окунев отказывается от меня категорически. И передай ему: пусть он тоже от Васи Горелика отказывается. Понял? Передашь?
— Передам... Спасибо, Дмитрий Васильевич.
— За спасибом я к тебе лет через пять приду. Сам разыщу...
Горелик повернулся и, не прощаясь, пошел.
— Портянки свои не забудь! — вдогонку ему крикнул Дрозд.
— Хорошо, — обернулся Горелик, постоял, посмотрел и скрылся навсегда.
У сушилки все время ворчали подъезжающие с зерном от комбайнов грузовики. Я все надеялся увидеть Колю Казерука. Но он, видимо, отвозил хлеб на другую сторону. Вдруг ребята закричали:
— Северное сияние! Северное сияние!
Мы с Дроздом отложили совки. Но сияние в ту ночь я толком не рассмотрел. Приметил только очень далеко, у самого горизонта, какую-то радугу. Но радуга вытянута по всему небу, а сияние только по краю и полукольцами. И холод от них. Может быть, это была просто холодная ночь, не знаю. Но я раза два или три передернул плечами, озяб. На меня шел грузовик. Я посторонился. Один из грузчиков спрыгнул из кузова. Я хотел спросить, кто у него напарник. Но грузчик приложил палец к губам и прошептал:
— Ти-и-хо...
Открыл боковой борт. К моим ногам хлынуло зерно. Вместе с зерном полетел на землю темный барахтающийся ком.
— А? Что? Куда?
С закрытыми глазами и склоненной набок головой передо мной стоял Коля Казерук. Рядом хохотал, держался за живот грузчик:
— Спит! Спит, как сурок. Лег и умер. Все время так его выгружаю, а отучить спать не могу.
Подошел Дрозд. Мы втроем пошли к нашему «Висхому», в тепло. Коля лег на зерно и в минуту уснул. А мы с Дроздом быстро наполнили приемник зерном и подсели к Коле. Дрозд тихонько засыпал Казерука пшеницей, а я смотрел на Колю и не узнавал его. Так ли мы встретились бы даже после дня разлуки в детдоме?
Я учился с Казеруком в одном классе, мы сидели за одной партой. И подружились потому, что не могли не подружиться. У него была не только нелепая фамилия, нелепым было все, что он делал. То разводил кроликов и раздавал их по детдому и поселку. То перекапывал детдомовский двор в поисках клада князя Пашковского, в имении которого мы жили. То вдруг начинал копить деньги, заготавливал и сдавал в аптеку травы, сушил на солнце лозовое лыко, продавал знакомым поселковым хлопцам все, что на нем было, а потом им же раздавал и деньги. И никогда у него ничего не было. Верил он всем безгранично и вечно кому-то помогал: воспитателю вскопать огород, детдомовской лошади для обмахивания летом от слепней подвязывал к хвосту пеньку. Лошади были самой сильной его страстью, они, случалось, и кусали его, били копытами, но не обманывали, как люди.
Казерук умудрился и в ФЗО прибыть без полученных в детдоме фуфайки и сапог. Фуфайка еще в Гомеле приглянулась какому-то деду, и Коля тут же отдал ее ему. Когда мы хватились, деда и след простыл. Не нашли мы в поезде, уже за Уралом, и молодого целинника, который выгодно променял свои давно просящие каши ботинки на сапоги Казерука.
Казерук на все наши слова простодушно хлопал глазами и решительно не понимал нас. Логика его была потрясающей:
— Фуфайка и сапоги казенные. Сейчас тепло, а к холодам нас переоденут в фезеушницкую форму, — говорил он нам.
Наша полесская бережливость и мудрость отскакивали от Казерука и лопались, будто мыльные пузыри. Мы махнули рукой и, каюсь, всю долгую дорогу нещадно эксплуатировали его. А он был только рад нашим все растущим прихотям и возможности исполнить их. И вот сейчас неутомимый и вечно жизнерадостный Казерук выдохся. Губы у него запеклись, а щеки были сухими и шелушились. На щеках, как на ласточкиных яичках, повсюду проступили веснушки.
Утром ровно в восемь втроем направились к своему дому. На крыльце дома вместо половика лежали теплые, из байкового одеяла, портянки Васи Горелика.
— Паскуда, — сказал Дрозд и выкинул их в грязь.
— А может, не паскуда? Может, он прав?..
— Не знаю... Не думаю, — сказал Дрозд.
Через несколько дней после встречи с Казеруком к нам в дом ввалился Толя Беликов. Выглядел он гораздо лучше Казерука, и встретились мы шумно.
— Щеки, щеки, хомяк, наел! Хорошо, видать, устроился, — ходил возле Беликова Дрозд.
— Отлично! — кричал в ответ ему Беликов. — Комбайн — зашатаешься, сносу нет. «Коммунар» называется. Старше меня в два раза. Списан двадцать лет назад. А бегает, как молодой. Ночь — не остановить. А только солнышко — как вкопанный. Тягачом не сдвинешь...
— Толкаешь, значит? — ворвался я в поток Толькиных слов.
— Ремонтирую. Руки, гляди...
Руки у него действительно были... Таких цыпок у меня никогда не было даже на ногах.
— Хороши руки. Приехал за заменой?
— Рук? Не... А «Коммунар» свой я ни на что не променяю. Я его сам в музей сдам... Руки мыть приехал, в баню комбайнер отпустил: техника, говорит, уже твоих рук боится, потому и ни с места днем.
Руки его в тот день нам так и не удалось отмыть. И свои-то мы отмыли в городской бане не с первого захода. Не в один день и даже не в один месяц сошли с нас чирьи, полученные от сквозняков.
ДОРОГИ
— День добрый, — здоровается со мной подросток с большим газетным свертком в руках. Я давно уже заметил его. Он делает второй круг у пруда и все присматривается ко мне. Что ему надо? Чистенький городской мальчишка на прогулке. Для меня же лес никогда не служил местом для прогулок. Я шел в него всегда на работу: за ягодами, грибами, пасти корову, за глицей корове на подстилку, за дровами.
— А в дупле, в этом дубе, — встряхивает прилизанным светлым чубиком парнишка, — когда-то удод жил...
— Жил? Удод? — удивляюсь я.
— Да. — Парнишка откидывает со лба волосы, портит свой чубчик. — В болотце и сейчас живут пятеро утят. Кто-то подстрелил утку-мать. Я принес им хлеба.
— А куда девался удод?
— Удод в школе, в живом уголке.
— Да... Какой же хлеб у тебя для уток?
— Чернуха...
— Черный питательнее, — говорю я ему.
Счастливые утки, счастливый удод. А были ли птицы в моем детстве до того, как кончилась война? Нет, не помню ни единой птахи. Их тогда не было, были самолеты. Великое множество самолетов. А потом неожиданно появились птицы, пчелы и мухи. А до этого только самолеты да цветные мошки в глазах от голода...
Широкий растоптанный деревенский шлях узок. Был шлях, а сегодня дорога. Бог знает, на какую такую свою погибель бредут по ней люди. Солнце до белых болячек, до черных трещин пропекло землю. Сегодня оно, может, и не жаркое — немцы идут в стальных касках. Сегодня людей печет боль за оставленные хаты, за свои покинутые селища, за свою землю, за погосты, на которых не лечь им уже рядом со своими родичами. А смерть многих из них уже не пугает. «Не может она быть лютее такой жизни», — думает Ульяна, меряя километры. Она идет с детьми, Дима сидит у нее на закорках, а Тому, полугодовалую дочку, она успела спеленать, закрутить в платок, перекинуть его себе через шею и несет дочку на груди в платке. Ульяна знает, что с таким грузом ей далеко не уйти. Горько только помирать на этой дороге, среди чужих людей. Была горечь, но не было жалости. Жалости даже к детям своим в Ульяне не стало уже давно. И откуда ее напастись?
Два года уже, как мир взбесился. Два года, как сгинул муж Ульяны. При немцах он прожил с нею только неделю. А в конце этой недели Трофим проведал, что их сосед, кочегар с его паровоза, Ефим Рудой вступил в полицию, и с утра ушел к нему. А в полдень Ульяна выбежала из дома, услышав во дворе Рудых крик и плач.
Плакал Ефим. Он сидел верхом на Трофиме и колотил его головой о землю.
— Ты меня кормить будешь?! — кричал он. — Может, и мать мою к себе возьмешь? Она тоже голодная. Где твоя... Советская власть? Сейчас власть та, которая с хлебом. Той и служить буду.
Мать Ефима семенила возле мужиков и только всплескивала руками. Ульяна схватила что попалось под руку, это была лопата-штыковка, и занесла ее над Ефимом.
— Не тронь!-— закричал Трофим и скомандовал парню: — Слезь!
Мужики поднялись с земли. Ефим глянул на Ульяну и заревел в голос.
— Новая власть, — сказал Трофим, — Ефим Ефимович Рудой. Вот какую гниду в соседях держали.
— Убью! — закричал Ефим.
— Сопли подотри! — сказал ему Трофим.
Парень послушно начал развозить по лицу кровь из разбитого носа.
— Ну, пойдешь со мной? — спросил Трофим Рудого.
— Пойду, — согласился парень, — только ты молчи: про полицию.
В доме Трофима нашлась еще бутылка тещиной самогонки. Мужики выпили ее под молчание женщин. Трофим поцеловал сына, наказал жене, что делать по хозяйству. Ефим тем временем сбегал к себе домой за: винтовкой, которую получил в полиции. И они ушли, подались в сторону леса. Ульяна больше их не видела. Вот уже второй год ни слуху ни духу от них. За это время успела помереть Ефимиха. Ульяна сама обмыла и схоронила ее, без единой слезинки и жалости в душе, без капли былого страха перед покойниками. Живые были ей страшнее мертвых.
Томе не исполнилось еще и двух месяцев, как у Ульяны пропало молоко. Кормила чем бог пошлет. Не думала она, не гадала, что доведется ее дочери сосать куклу. Хорошо еще, что мать в деревне запасливо живет. Старая Говориха своих детей вырастила на маковых куклах. И для внучки нашла припрятанный еще в лихие голодные времена клунок с маком. Ульяна жевала мак с хлебом, заворачивала в марлю и толкала в рот дочери. И сосала дочка, сундолила свою куклу, а насосавшись, засыпала. От мака все дети тихие, сонные. Тихой и квелой растет и Тамара. Сколько уж сегодня с утра пройдено, а хоть бы голос подала.
«Заснула бы ты, дочка, и не проснулась, — думает Ульяна. — Не видать бы моим глазам мук твоих. Обеим бы нам легче было. Хватит мне лиха и с Димой...»
Дима засучил ногами, заелозил на закорках:
— Солнышко головку печет.
— Пройди, сынок, ножками.
— Болят ножки.
«Разморило его, — думает Ульяна, — и сама-то я уж как кисель. Лечь бы сейчас на эту землю, на дорогу. И... будь, что будет».
В хвосте колонны через каждые пять. — десять минут гремят выстрелы. Кончаются чьи-то мучения. Ульяна старается не слышать этих выстрелов. Гонит и гонит ее вперед людской поток. Она будет идти, пока не потемнеет в глазах, пока небо не сравняется с землей и не опрокинется дорога. Тогда она поползет по ней. Чтобы хоть на минуту отвлечься, забыть усталость, Ульяна старается вспомнить что-нибудь веселое.
Вчера Дима принес ей бараньи рога. Большие крученые бараньи рога, белые от ветра и дождя...
— Мама, шуп принеш...
Ульяна сначала не поняла, что за «шуп» принес сын. Дима радовался:
— Немец, мама, дал. Добрый немец... «Матка шуп варить» сказал.
— Чтоб он подох, твой немец, — закричала Ульяна. — Чтобы ему, поганому, кроме этих рогов, больше ничего не довелось есть! Подавиться ему этим бараном... Выкинь, сынок, отнеси, где взял.
Дима унес рога из дома. А вечером она увидела их в чугунке в сенях...
Нет, ничего веселого не приходило в память. Серая пыль, взбитая людьми, как стадом коров, заслонила солнце. От нее серо все вокруг.
— Димочка, сынок, давай ножками. Я тебе ручку дам.
— А Тому несешь?
— Тома маленькая, девочка. А ты мужчина, большой.
— А далеко ножками?
— Нет... Вон до той сломанной груши.
Дима сползает со спины, и Ульяна чувствует, как прибывает сил, теперь бы глоток свежего воздуха, один глоток. Все тело до печенок пропиталось пылью. Ульяна пробивается к краю дороги, к ветерку.
Гребет ногами придорожную мягкую пыль Дима. Уже давно прошли грушу. То, что осталось от груши — черный корявый обрубок ствола, белые ободранные ветви, как кости. Дима на руки не просится, загребает серую, словно соль, пыль и все оглядывается, крутит по сторонам головой, будто старается запомнить дорогу. Мать рада, что сын не капризничает, можно перевести дух. И тоже смотрит по сторонам. Но глазу не на чем остановиться. Вокруг все серое, рябое и постылое.
А какими приветливыми были раньше молчаливые деревенские шляхи. А по краям шляхов разлаписто и густо росли груши и яблони. Груши, знаменитые белорусские дички и дули. Пока доберешься глазом до верхушки, шапка слетит, а на верхушке колесо и буслиное гнездо. И на одной ноге на краю гнезда задумчиво и тихо стоит, как сивый деревенский дед, бусел. Не морили раньше шляхи людей. Устанет человек, а на пути его скамеечка, глечик с водой или же в сторонке колодец. И тенек над головой: от вишен и черешен. Сорвет человек ягоду и разгонит дремоту и усталость. И дальше в путь-дорогу босиком, под шапками деревьев. Сапоги или ботинки бережно завернуты в чистую тряпку и — за спиной на палке. И самый дальний путь не в тягость человеку.
Любила деревенские шляхи и Ульяна. Любила на заре выходить на них и идти по зеленым прохладным подорожникам, по мягкой теплой дорожной пыли. Иди хоть на край света. Были шляхи молчаливы и грустны, но добры и зелены. А сейчас будто саранча прошла. Голо вокруг. Земля спеклась и высохла. Все спалила война. И шлях — как вывалившийся от жара и боли язык земли, а желтым пятном прикипевшее к небу солнце — больной ее глаз.
Рядом с Димой и Ульяной, сложив руки на автомате, бредет немец. «Черт с гнилого болота», — глядя на него, думает Ульяна. Немец не из молодых, лоб его разрезают морщины, а в морщинах блестит пот. «Гляди ты, как у человека, — удивляется Ульяна, — а все равно ты немец. Немцем родился, немцем живешь, немцем и подохнешь...» Немец, как и Дима, загребает ногами пыль, бредет устало, плечи его обмякли. «Снять с него мундир, автомат да каску, поставить в колонну — был бы человеком, — думает Ульяна. — За сорок тебе, видать по всему». Она знает, что из пожилых немцев иные бывают и помягче к народу. У нее на квартире как-то стоял один пожилой. Сам себе стирал белье. Диме дал губную гармошку...
— Дядя, а как тебя зовут? — неожиданно обращается к немцу Дима.
Ульяна дергает сына за руку так, что тот едва не падает: подальше, подальше от этих дядек, говорить долго они не любят. Но Дима не понимает матери и не отстает от немца:
— А как тебя зовут? — снова спрашивает он.
— Киндер? — показывает немец пальцем на Тому и Диму. «Повылазило тебе, что ли», — думает Ульяна, выдавливает улыбку и говорит:
— Киндер, киндер...
Немец качает головой. Ульяна видит, что из-под обметанных пылью ресниц на нее смотрят сочувственные глаза.
— Их хабе фюнф киндер, — говорит немец. — Петер, Курт, Иоганн, Лотта... Лотта...
Он указывает рукой на Тому. Видимо, Лотта у него тоже грудная.
— Иоганн, — тычет немец в Диму. — Иоганн, Петер...
Немец поднимает руку над головой, хохочет. Хлопает себя по каске. И тускнеет. «Стреляет уже, — думает про себя Ульяна, — уже с автоматом твой Петер». Но вслух говорит:
— Да...
— Я, я... — повторяет немец.
— Ты, ты, злыдень, — не выдерживает Ульяна, — наплодил злыденят! И наших детей стрелять пошел, чтоб тебя и земля не приняла. И Петера твоего, и Лотту.
— Я, я, — вздыхает немец.
Люди со страхом оглядываются на Ульяну.
Бредущая рядом с Ульяной старуха больно тычет ее сухим кулаком в бок. И Ульяна замолкает. Опустил голову, задумался немец.
Вьется дорога, курится пыль. По этой пыли молча и тихо катится людской ком.
На росстанях дорог у повязанного самотканым вышитым полотенцем креста взметнется желтая старческая рука, но не для знамения. Проклятия шлет она богу и людям за то, что допустили такое. Взовьется мягкая, как зола, пыль, грохнет, как охнет, выстрел. И все.
Дима вырывает руку. Ульяна из последних сил сдерживает скользкую потную ладошку:
— Еще немножко, Димочка, может, дадут передохнуть...
— На ручки...
Ульяне кажется, что она горит на огне. От жара вот-вот лопнут, растекутся глаза. Занялись, трещат охваченные огнем волосы на затылке. Но боли нет, не чувствует она боли. Небо уже сравнялось с землей, и дорога опрокинулась. Ульяна думает, что она уже умерла. И удивляется: до чего же легкая и не страшная смерть. Но она все еще идет. Идет, шатается, будто выбирает, где помягче упасть, волочит за собой по земле Диму.
— Я... Я... — качает головой немец и подхватывает на руки Диму. Ульяна не видит этого и не выпускает ладошки сына. Немец мягко отталкивает ее. Она клонится. Вот-вот упадет. Ульяну подхватывает и поддерживает старуха.
— Терпи, терпи, молодица. Недолго осталось, — приговаривает старуха.
Ульяна не слышит ее, но продолжает передвигать ноги. И кажется ей, будто идет она не деревенским изуродованным шляхом, а схватившимся зеленью и цветами весенним лугом. Ногам свежо и щекотно от проступающей с болота влаги, от налипших на них трав и лепестков цветов, сердцу вольно и сладко. Воздух запашист, будто перед дождем. Цветов вокруг — некуда ногу поставить, в жизни столько не видела. Гудят, ныряют среди голубых колокольчиков шмели. На стрелистых травах стеклянно светятся стрекозы. Где этот вольный и добрый луг, удивляется Ульяна, неужели на том свете? А шмели вокруг нее вьются, работящие, как на земле. Блестят на солнце их слюдяные легкие крылья. Жужжат, жужжат шмели...
— Терпи, терпи, молодица, — наконец прорывается, доносится до Ульяны голос старухи, — да не гни меня к земле. Я ее, матушку, и так лбом достаю.
«И чего она кричит, — думает Ульяна, — что это она ко мне пристала?» Шмели умолкают. И Ульяна понимает, что это гудели вовсе не шмели. Это плачет, гудит шмелем Тамара. Но у нее нет сил успокоить дочку. Нет сил сглотнуть засевший в горле горячий ком. В глазах прыгают цветные мошки, цветными комьями крутится, мельтешит мошкара.
— Ну, вот и акрыяла, — отчетливо доносится до Ульяны голос старухи, — а то я думала, молодица, пришел и мой час. Тебе, такой молодой, с детьми конец. А мне к чему старой земельку месить?
Ульяне страшно: зачем она выжила? Ведь уже приготовилась к смерти. Совсем было померла, побывала на том свете. Не похож он на этот, неплохо там. Проклятая старуха вытащила с того света. И теперь придется жить.
Ульяна видит, что Дима на руках у пожилого немца. Сын спит, положив ему голову на плечо, будто на руках у отца. И Ульяне безразлично, что немец несет ее сына. Скорее бы кончался этот шлях. Скорее бы станция, а там в вагоны. И будь, что будет.
Но не добраться им сегодня до станции. Шлях чужой и неведомый. Ни сел, ни хуторов, ни передохнуть, ни воды испить. Затихает, ослабела Тома. Надо бы чем-то ее покормить. В платке у пояса хлеб и кусочек сала. Ульяна ощупывает платок. В руках катается твердый с куриное яйцо шарик. Кукла. Нажеванный для Тамары в дорогу хлеб с маком. Кукла высохла и затвердела. Ульяна держит ее в сухой ладони и не знает, что делать. Нет у нее слюны, нет у нее воды, чтобы размочить хлеб с маком. Бутылка опорожнена Димой и выброшена еще на первых километрах пути.
Серым и сухим, как рашпиль, языком Ульяна пробует куклу. Старуха не отстает от Ульяны. Она вытаскивает из складок своей широченной цыганской кофты зеленую бутылку и передает Ульяне. Но в бутылке почти пусто. Она отпотела, на стекле внутри поблескивают лишь капельки воды. Несколько капель мутнеет на дне. «Что эти капли? Хоть потом своим смачивай куклу», — думает Ульяна. Но и пота нет. Все высушило солнце.
— Не гребуешь если, давай я нажую, — говорит старуха. Ульяна уже ободрала десны. Капли крови блестят на серой марле. Но Ульяна еще думает: доверить или нет куклу старухе. Та почти вырывает ее.
— Я чистая. Болестей нет. А дитю все равно. Им все родные, — кивает она на спящего на руках у немца Диму. — Ох, девонька, знаю я тебя. И матерь твою Говориху. Ох, досталось ей и тебе досталось...
Шепелявит, жует куклу старуха:
— Лампековшкая я... от твоей деревни три вершты. А что, Говориху оштавили, не взяли в неметшину?
— Оставили... Дома ее не застали. А я вот из города пришла и попалась... А тебя-то зачем и куда, бабуля, гонят?
— Я дошку шпрятала, так они меня... Мне-то одно помирать... Корми.
Старуха передает куклу Ульяне. Ульяна подносит ее ко рту дочери и слушает, как она чмокает. Прислушивается и старуха.
— Ест. Жить будет, — говорит она. — А что на кукле растет — не бойся. Я тоже на кукле, а во какая живая. И дочка моя на кукле — вся в меня. Мак человеку на пользу.
Ульяна не отзывается, и старуха укоризненно выговаривает ей:
— Без розуму вы, молодые. Думаешь, старая, вот и разболталась... Не! Я в эту путь-дороженьку горемычную не первый раз иду и по своей воле, и подневольно... На ней без гамонки нельзя. А нам с тобой прямая гибель. Давай ты мне, я тебе, все путь короче.
— О чем, баба?
— Да хоть, как молодой была, грешила?
— Ну, вы, баба, и скажете.
— А что? Возле меня хлопцы гужом вились. Нешто плохо? Твой-то где?
— На войне.
— Война кругом. А он в каком краю?
— Ой, не знаю. Не трави ты меня. Нас заняли, он из дому ушел и как в воду.
— И зять мой так. Может, вместе с твоим. Ты о нем не переживай. Не сахар и ему, конечно, а все не так, как тебе. Мужикам всегда легче. И не грешила я, молодица. Один грех на мне: есть хотела всю жизнь. По старцам ходила, куски собирала. Так детей и кормила.
— Куда гонят нас, баба?
— Известно куда, дочка... Ты, может, и выживешь, а меня — в печь. Человечина, говорят люди, горит хорошо, как смоловые поленья сухие... Дым только черный.
— И не страшно, баба, говорить такое?
— От страха никуда не убежишь, и под печкой найдет. А жить хочется, ой, как хочется. Выросли б крылья, взмахнула, ни один немец, ни одна собака не нашла бы... Бутылочку ты зря мою выкинула. В дороге все сгодится, и не угадаешь когда... Ты вот молодая, жить только начинаешь, разум твой повострей моего. Скажи ты мне: от кого наши беды, от черта или от бога?
— Неверующая я, бабушка. Ни в кого уже не верю.
— Ой, зря, девка, ой, зря. Живешь-то ты как без веры?
— От кого же наши беды, баба?
— От человека, от человека все идет.
— От меня?
— И от тебя, донька. И от меня. Вот толком еще не пойму сама: от мужика или от бабы больше зависит. С одной стороны, все живое идет от нас. Мы во всем: виноваты, выходит. А с другой подумаешь — сила вся в мужике. Мы только половинки. Вот тут у меня как раз-голова нараскаряку. Тут и приходится и о боге, и о черте вспомнить. Я баба смирная, дала миру мужика. Ты тоже смирная и тоже мужика выродила. Мы обе на них радуемся. А они меж собой на кулаках живут. Кто виноват? Мы, бабы, дурное у нас молоко, выходит? А может, у мужиков семя отравное?
Так за разговором меряли они километры.
Перед заходом солнца пришли в лесную деревушку домиков в двадцать пять — тридцать. Дома были чистенькие, ладные. Резные коньки на крышах, резные голубые, как вязаные, наличники. Садики возле домов. Через заборы свешивались тяжелые ветки яблонь с наливными краснобокими яблоками. Не верилось, что на свете есть война. Удивительно было только то, что ни на улице, ни в окнах — нигде не было видно ни одного человека.
— Сховайка, — сказала старуха Ульяне, — недобрая деревня. Плохо говорят про нее люди... Ох, чует мое сердце, сховают, спрячут тут нас, и концов никто не найдет.
Ульяна молчала. На закорках у нее опять сидел Дима. Все так же рядом с ней продолжал шагать пожилой немец.
Прошагали всю деревню, не спугнули ни кошки, ни собаки, ни курицы. У крайнего дома колонну остановили, разделили. Большую часть — подростков и женщин без детей — погнали дальше. А старух и матерей с детьми оставили. Таких набралось немного. Всех их завели во двор стоящего на отшибе дома. Вплотную к дому примыкал сарай. Возле сарая, на крылечке, на завалинке, у хаты и разместились люди. Лежали и сидели где кому досталось.
Ульяна с детьми присела у калитки, открывающейся на огород. Сразу же за калиткой начиналась кукуруза. Она росла вдоль забора, и здесь, возле забора, было посвежее. Но отдышаться ни Ульяне, ни людям не пришлось. Немцы принялись загонять всех в сарай. У Ульяны не было сил сдвинуться с места, и пожилой немец помог ей встать. Она приняла его протянутую руку и другой, свободной, рукой потянула Диму. Поднимаясь, она заглянула немцу в глаза и испугалась. В глазах его стояли слезы. Пошатнулась, оперлась о калитку. Калитка раскрылась. Немец толкнул ее в раскрытую калитку. Толкнул сильно. Она едва не растянулась, но устояла, ломая кукурузу, побежала по борозде. Немец тут же захлопнул за ней калитку. Но этого она уже не видела.
— Куда мы, мама, куда? К папе в лес? — испуганно спрашивал ее Дима.
— К папе, к папе, детка, молчи...
Но за спиной, у сарая, стоял такой гвалт, плач и стон, что едва ли кто-нибудь мог их услышать. Ульяна неожиданно споткнулась, упала, через нее перелетел Дима, захныкал.
— Молчи! — прикрикнула Ульяна.
Подняться она не решилась. Поползла. Дима шел рядом. Кукуруза кончилась. Впереди показалась черная кривая жердь изгороди, а за ней редкий низкорослый кустарник. От кустарника до изгороди было рукой подать. Но Ульяна не решилась засветло выйти из кукурузы. Во дворе, который она только что покинула, было тихо. Больше не слышно было ни людских голосов, ни стона, ни плача. Изредка лишь доносились до Ульяны лязг железа да короткие команды немцев-конвоиров. «Что это они там затевают?» — подумала она и тут же забыла о немцах. Она развязала платочек с едой, откусила высохшего за день жесткого, как кирпич, хлеба, но проглотить не смогла, сосала, как конфету, и ждала.
Попробовал откусить хлеба и Дима, но не сумел, принялся за сало. Ел его без хлеба, рвал зубами, как волчонок. В сумерках положил остаток сала на расстеленный платок. Пора было уходить. Но не так-то просто было решиться идти. Ульяна понимала, что вот-вот, с минуты на минуту Дима уснет, но не было сил, которые могли бы ее заставить шевельнуть хотя бы ногой.
И все же она решилась, хотела подняться, как вдруг за спиной всплеснулось и накрыло ее, заставило опять прижаться к земле огромное зарево. Взметнулся, ударил в небо душераздирающий вопль. Он держался на нечеловечески высокой ноте. И казалось, не ветер раздувает красные языки пламени, а людской голос выплескивается огнем и мечется, не находя места от боли.
Ульяна схватила жесткий, как камень, хлеб, недоеденное сыном сало. Ломая зубы, вгрызлась в краюху, кровянила об нее губы, десны. Рвала сало, глотала, не жуя. Когда есть уже было нечего, поднялась, при свете пожара набрала, наломала в платок кукурузных початков. И пошла не прячась и не скрываясь. Опять на закорках Ульяны сидел Дима, и тень, отбрасываемая ею, была похожа на двугорбого верблюда. У нее не хватило сил перелезть через изгородь. Она сломала жердь и, не разбирая пути, скрылась в красных кустарниках.
Ночь застала Ульяну в лесу. Она шла по целику в сторону, где, ей казалось, должна быть железнодорожная станция. Никак не могла выйти на торную дорогу. На пути изредка попадались тропинки, но их быстро скрадывала темнота, они терялись в кустарниках. Ульяна торопилась, в ушах у нее все еще звенел вопль.
Она шла, шла и удивлялась: до чего живуч человек, сколько в нем неведомых сил. Спит, обхватив шею матери, сын, спит подвязанная платком на груди дочь. А мать идет. «Может, я двужильная, может, у меня два сердца?» — думает она. Боится только одного — споткнуться. Знает — споткнется, упадет — это и будет смерть. Не гнется уже спина, не сгибаются ноги, она переставляет их, будто заведенная. Бьют по лицу колючие сосновые ветки. Ранят ноги, рвут платье кусты можжевельника и ежевики, хватают за плечи, держат, словно руками, ветки граба и дуба. Сопит Дима, Тамары не слышно. Она изредка вскрикнет, словно котенок промяучит, и снова проваливается в сон.
Ночь дышит белыми грибными туманами, бьется серой глазастой совой в ветвях белых берез, рыщет голодным волком на опушках, плачет горькой осиной. Сладко пахнет на косогорах последняя поздняя земляника. Скоро-скоро вместе с сорвавшимся с березы первым желтым листом зарядят косые осенние дожди. И сейчас под высокими звездами завязываются, раскидывают кружева грибницы, наливаются алым соком, пьяным ароматом ежевики, тучнеют желуди на дубах, у корней дубов жируют дикие кабаны — вепри. Плодовит, богат, неистощим лес...
Туман стал гуще, сгустилась перед рассветом и темень. Пропали и стежки, остались только кусты да деревья. Женщина почувствовала: под ее ногами-хлюпает вода. Болото. Когда вода дошла до щиколотки, Ульяна повернула назад. Попробовала обойти болото, но оно было повсюду, в какую бы сторону она ни бросилась. Лучше было бы, наверное, повернуть назад, выйти на сухое место и дождаться рассвета, но Ульяна знала — если до рассвета не прибьется к людям, не выйдет из леса, то не выйти ей никогда.
Вода обняла уже колени Ульяны, когда она почувствовала запах дыма. Она прижалась щекой к ольхе и втянула воздух. Тонкий и острый запах защекотал нос. Дым. Но откуда шел он? Серый непроглядный туман застилал болото. До восхода солнца оставалось немного. Но Ульяна просила солнце, чтобы оно не торопилось, в ночи огонек виден дальше. Она пошла, казалось ей, даже побежала. Счастье, что болото было не топким. Воды стало меньше, и женщина чувствовала, что выбивается на сухое место. Она увидела мелькнувший среди ольхи, среди тумана огонек, но не торопилась радоваться, могло и померещиться. А запах дыма все усиливался. И вот она увидела впереди костер, две или три фигуры возле него. А сил не осталось. Костер заплясал, задвоился в глазах. Она запнулась и упала на ровной, без единого сучка, без единого корня, стежке. Поползла, закричала изо всех сил, ей казалось, Очень громко, на весь лес. Но изо рта вылетал только хрип. Кричал Дима. Глаза его были закрыты, он отполз от матери, искал и не мог найти ее и плакал.
Люди, сидящие у костра, услышали этот детский плач, пошли навстречу ему. Они подняли Ульяну и Диму. Поначалу не разобрались, что у Ульяны еще один ребенок. И когда Тамара подала голос, удивились:
— Гляди ты, — всплеснула руками женщина, — сколько их тут. Как гороху в стручке... А ну, Рыгорка, шукай еще. Может, и третий есть.
Рыгорка, парнишка лет тринадцати — четырнадцати, пошарил в кустах с одной, с другой стороны, ничего не нашел.
— Нету, все тута, мама, в куче, — сказал он. И вместе с матерью понес Ульяну с Тамарой к костру.
Диму взяла на руки прибежавшая вместе с ними девчонка. Он плакал, но на голос у него не хватало силенок, не было и слез, и он всхлипывал и икал. Ульяна временами слышала его всхлипы, она слышала весь разговор, но не могла отозваться — отказал язык.
Рыгорка с матерью поднесли Ульяну к костру. Она поняла это потому, как пахнуло жаром в лицо. Ей померещился сарай в Сховайке, она дернулась от огня, выскользнула из рук Рыгорки, упала на землю и провалилась, потеряла сознание.
— Оживает никак, — поняла по-своему рывок Ульяны женщина, склонилась над ней. Увидела белые закатившиеся глаза:
— Марья! Воды! Скорей, отходит! В курени бежи, скликай народ.
Девчонка с Димой на руках бросилась от костра. И вскоре к нему потянулись женщины. Одна из них ложкой раскрыла Ульяне рот, разжала зубы и влила воды. Женщины развязали платок, занялись Тамарой.
— Личико! Уже личико посинело, — заголосила вновь набежавшая Марья.
— Правда, — сказала ее мать. — А кого тут вперед ратовать — не поймешь...
— Мать спасаем, мать, бабоньки, — начала распоряжаться невысокая, но широкая, коренастая, подпоясанная солдатским ремнем женщина.
— Мать, мать отхаживаем, правильно, Домна, — загомонили женщины. — Дочка еще груднячок, помрет — матери же легче.
— Живая девочка, живая еще! — закричала Марья. — Губами перебирает!
— Ну и голосистая же ты, брат, — поморщилась Домна.
Женщины замолчали. Немножко погодя, Домна распорядилась:
— Ну, Лукерья, твоя находка, ты себе в курень и забирай. Богато жить будешь... Два мужика в твоем курене. Не перечь. Прокормить подмогнем. По куреням, бабоньки.
Женщины понесли Ульяну с Тамарой в шалаш, где уже спал Дима. Домна осталась у костра. Подворошила его, бросила сухих веток. Вспыхнул огонь. При свете его она уже не казалась широкой и коренастой, выглядела щуплой и худой, некрасивой. Мешки под глазами, мужские скулы. Лицо мужское до носа, а рот маленький, подбородок птичий. Ремень поверх фуфайки, тяжелые солдатские кирзовые сапоги не по размеру, как навырост, ни дать ни взять — солдат-недоросток. Домна вытащила из кармана фуфайки кисет с табаком, ловко и быстро скрутила самокрутку, прикурила, взяв из костра голыми руками уголек. Глубоко затянулась.
Поднималось солнце. Быстро редел, уползал в лощины и кустарники туман. Из него проступили деревья, островерхие, из жердей, курени — шалаши. Можно было оглядеть весь островок. Был он небольшой, почти правильной круглой формы зеленый шар среди воды. И только в том месте, где чадил еще костер и сидела Домна, островок клином чуть врезался в болото. Из зеленого шара островка, от куреней к костру и дальше, к болоту, бежала единственная хорошо заметная стежка. Она доходила до самой воды и терялась в ней.
На островке, окруженном со всех сторон водой, не густо, но зато крепко росли могучие, в четыре-пять обхватов, дубы. Черные, будто каторжники, опоясанные серыми кольцами-кандалами от весенних паводковых вод, косматые, в длинных бородах темного мха. Под ветвями дубов к их стволам и жались островерхие курени.
Домна уже загасила самокрутку и поднялась, как из куреня вышла Лукерья и направилась к ней.
— Чего тебе? — строго спросила Домна.
Лукерья скрестила руки на груди.
— А, брат, понимаю. Казанская сирота, ну, пускай слезу...
— Видит бог, Домнушка, — перебила ее Лукерья, — да что там бог, ты меня знаешь...
— Знаю, потому к тебе и послала. К делу, Лукерья. Я спать уже невмоготу хочу. Тебе одной скажу: сплю я днем, как сова, ночью у меня сна нет. Ну?
— А я думала, что ты и правда железная, Домна.
— А я, брат, железная и есть. Что, картоха кончилась?
— Кончилась, Домна. И мучицы ни капли...
— Топи, брат, ее в болоте с детьми. Сытой станешь, выгуляешься. Топи, — надсадно, по-мужски закашлялась Домна.
— Не председательша ты, Домна, нет твоей власти, чтоб на меня кричать, никто тебя не выбирал.
— Я сама себя выбрала. Поднимай людей, пойдем за грибами, за ягодами... Пролетуем, Лукерья, не помрем. Летом будем бабами, а к зиме мужиками станем. Я знаю, что делать. И чтоб с бабы, с детей ее ни один волос не пропал. Иди.
Курени опустели, костер был залит. Все ушли за грибами. На островке остались Ульяна с детьми, Марья, дочь Лукерьи, возле них да еще с пяток ребятишек, за которыми присматривала все та же Марья. Больших хлопот ребятишки не доставляли, только часто лезли в воду. Марья им не мешала. В полдень Марья разожгла костер и испекла картошки. Вместе с детьми поела печеников с солью. И дети пошли по своим куреням спать. Пошла и Марья посмотреть, как там женщина с детьми. Ульяна все еще была в беспамятстве, металась. Полотенце, смоченное водой, сбилось на голове и высохло. Марья снова смочила его.
Дима спал, над ним вилась большая зеленая муха. Марья убила ее, но нечаянно хватила краем тряпки по лицу Димы. Он открыл глаза, увидел незнакомого человека и захныкал:
— Мама, хочу к маме.
— Спи! — прикрикнула на него Марья. — Мама твоя никуда не денется, спит.
Дима послушно повернулся на другой бок и уснул. Марья занялась Томой, у нее были мокрые пеленки. Она долго думала, что же ей подложить. В курене тряпок почти не было. Спали на сене. И Марья перебрала всю свою, материну, брата одежду, но ничего подходящего не нашла. Новое пускать на пеленки было жалко, а старья с собой в лес не взяли. Марья постояла, подумала, потом сняла платье, вышитую у подола нижнюю рубашку и подложила ее под Тому. Пока заворачивала, та проснулась и заплакала. Личико ее опять посинело и сморщилось.
— Что, маленькая? Чего тебе? — заприговаривала Марья, но Тома не успокаивалась.
— Есть хочешь? — догадалась она. — Чем же тебя накормить?
Накинула платье и побежала к костру. В золе нашла несколько недоеденных детьми печеников. Марья очистила их и растолкла с водой в деревянной расписной чашке. Раскидала в курене сено и у изголовья Ульяны нашла туго перевязанный тесемкой матерчатый сверток. Сняла материю, развернула бумагу, затем фольгу. А в фольге был сахар. Девочка сахаром посыпала картошку и стала прямо с пальца кормить Тому. Тома съела все, но чмокала губами, продолжала, как птенец, раскрывать рот, искала палец с картошкой. Марья заплакала и высыпала остаток сахара в кружку с водой, накрошила туда хлеба. Взяла на руки Тому, прихватила кружку и вышла из куреня.
Она пристроилась на солнце, на брошенной охапке травы. Покормила Тому тюрей и уснула вместе с ней. Здесь их и застали возвратившиеся женщины.
— Вот так сторож, Лукерья, у тебя, — сказала Домна, ставя у ног Марьи лукошко с маслятами. Марья сразу проснулась.
— Пол-литровую кружку тюри слопала, — засмеявшись, указала она на Тому.
— А мы сейчас грибник будем есть, — сказала Домна и посмотрела на Лукерью. — Гостья еще не просыпалась?
Марья покачала головой и пошла с Томой на руках в курень.
Ульяна очнулась где-то на третий или четвертый день:
— Дети... Где дети? — сразу же спросила она.
— Живы твои дети, — обрадовалась Лукерья. Она уже боялась, что Ульяна так и не выкарабкается. И придется ей тянуть на себе и своих, и чужих детей.
— Приведите мне моих детей. — Ульяна недоверчиво оглядела Лукерью.
— Да живы же, тебе говорю. Никто не позарится на твое богатство. Свое такое добро не ведаем как сбагрить... Меньшая твоя вон гноит дочерину рубашку. А больший с моим Рыгором последние штаны по кустам продирает.
— Дима... Дима, — дважды слабым голосом позвала сына Ульяна.
— Ох, божа ж ты мой, божа, — вздохнула Лукерья, — все мы, бабы, на одну колодку, как по одному заказу. Злиться или веселиться, не знаешь.
Лукерья вытерла рукавом кофты глаза и вышла из куреня. Привела Диму. Вслед за ними вошла в курень и Домна.
— Ты не будешь больше помирать, мама? — бросился к Ульяне Дима.
Ульяна приподнялась на локте, но рука не выдержала ее. И она снова легла. Сын припал к матери, обнял ее за шею и замолк, на шее его билась и щекотала материн лоб синяя тонкая жилка.
— Где я? — задыхаясь в цепких руках сына, спросила Ульяна.
— Среди людей, девонька, — громко ответила ей Домна и засмеялась. И лицо ее похорошело. Лукерья загляделась на нее и не заметила, как по сухой желтой щеке побежала слеза.
— Пореветь мне, брат, вместе с вами, что ли, — задумалась Домна. — Не бережете вы, бабы, слез на светлый день. Придется, брат, мне за вас всех одной отдуваться. Навоюсь... А сейчас, ну, Лукерья, на солнце просохни.
Лукерья вытерла слезу и присела возле Ульяны.
— Где я, люди добрые, — снова спросила Ульяна.
— Среди своего брата. Сховайские мы. Деревня наша знаменитая, Сховайкой называется. И мужики у нас все знаменитые, конокрады все. И бабы все в своих мужиков удались. Только не укрыла нас Сховайка... Немцы выгнали нас из наших хат, так мы сюда подались. А ты кто такая?
— Городская я... Пойду сейчас, пойду, — снова попыталась приподняться Ульяна, но не смогла. — Вот полежу еще капельку и помаленьку пойду.
— Никуда ты, девонька, не пойдешь, — Домна прикрыла Ульяне ноги дерюжкой. — Лежи уж... Зима придет — в землянки переберемся, построим. Немец заявится — обороняться будем. А пока поправляйся.
— Уйду я. Все равно уйду, — запротестовала Ульяна. — Не могу я тут оставаться. Не могу, дом у меня, муж... Кто ему скажет, где я, где его дети? Придет, а меня нет...
— Так... — Домна еще хотела что-то сказать, но, видимо, не смогла. Подхватилась и выбежала из куреня.
— Куда ты с детьми? — спросила Ульяну Лукерья. — Или тебе одной ночи мало? Оставайся уж... не объешь. Слушай Домну. Она у нас все знает.
— Чего это она убежала так быстро? — спросила Ульяна.
— Про мужика ты заговорила. Убили ее мужика немцы... Сгиб он. Председателем колхоза у нас был. Немец до нас не доходил, глухой наш край. Партизан кормили и сами кормились. А тут разыскали нас немцы, на мотоциклах прискочили. Демьян, как зачуял трескотню, — на коня. Подвода у конторы правления стояла, он обрезал постромки и — в лес. Лошадь подстрелили. И Демьяну пуля досталась, в ногу ударило. Привели к конторе. Домна перед немцами на колени. А они ее прикладами. Согнали нас, баб.
— Партызан! — кричат на Демьяна. Прямо на подводе разложили его и ну шомполами ярить. Поднялся он сам, хоть места живого на нем не было. И плюнул в глаза самому главному немцу. Тот ничего вроде, засмеялся даже, и Демьян смеется. Во мне все так и заколотилось. А Домна тоже смеется. За меня держится и смеется. Помирать буду — тот смех из головы не выйдет.
Двое немцев к Демьяну подскочили. Оглобли на подводе задрали. Стол из конторы вынесли. Мне, дуре, невдомек. А они уже молоток откуда-то достали, гвозди. И Демьяна на оглоблях распяли. А он все смеется. Не тронулся, девонька, не думай, в своем уме до последней минуты был. А смех такой — мороз по костям продирал. И только когда бензином с мотоциклов облили, замолк Демьян. Шугануло полымя. Задергался он, захрипел. Домну с памяти выбило. Никого из нас они больше не тронули, сели на свои мотоциклы и уехали.
Помолчав, Лукерья добавила:
— Ты не гневайся, если что, на меня. У меня тоже двое. Побольше твоих... А все равно дети. Знаю, как с ними достается.
— Спасибо тебе, тетка, на добром слове. А идти мне надо. Гонит меня, будто кто-то толкает в плечи. Крутит, вертит по белу свету, как песчинку. Где остановит, приткнет, не знаю. Знаю одно: идти, идти, идти...
Но ни в этот, ни на следующий день, даже через неделю не удалось Ульяне покинуть остров. Дня через три после разговора с Домной и Лукерьей она могла бы уже отправиться в путь. Но случилась беда.
Хотя на острове было немало и женщин и детей, Дима привязался к Домне, и та привечала его. Подкармливала чем могла, пекла для него печеники. Из-за печеников все и произошло. Домна с Димой заложили в костер картошку, пригорнули ее со всех сторон золой. Пока она доходила, женщина отлучилась. Дима ждал, ждал ее и не выдержал, полез в костер за печениками. Разгреб угли, наклонился над потрескивающим кипящим картофелем. И то ли не устояли детские слабые ноги, то ли от постоянного недоедания и жара, бьющего ему сейчас в лицо, у него закружилась голова...
Как раз в эту минуту, будто от боли, реванул в болоте невидимый бык-ревун, голос его полетел ветром по вершинам деревьев. Дима уперся в горящие угли обеими руками. Дима плакал, верещал, но голос его тонул в реве быка. Качались, стонали дубы. Переворачивалась с ног на голову земля. И перевернулась бы совсем, опоздай хоть на мгновение Домна.
Женщина успела вовремя. Выхватила мальчишку из огня, прижалась сухими губами к закрутившимся от жара светлым волосенкам на его голове. Бежала, не чувствуя под собой ног, на плач сына Ульяна.
— Не плачь, не плачь, мама, — вздрагивая всем телом, стонал в материнских руках сын. И слезы, не переставая, текли по его лицу. Он размахивал руками, будто хотел выбросить их и вместе с ними избавиться от боли. Мать дула на его руки, и глаза ее были закрыты. Ей страшно было глядеть на сына.
Руки заживали долго и трудно. Дима не спал, метался ночами от боли. И сквозь эту боль шло к нему сознание еще не взрослого человека, но уже и не ребенка. Он просыпался каждое утро с вопросом, и матери все труднее и труднее было отвечать ему: почему огонь жжет, почему мы живем в курене, есть ли у нас папа, почему он не прогонит немцев, почему огонь не жжет немцев, будут ли немцы, когда я вырасту?..
Не все могла принять и вместить в себя детская память. Почти ничего не могла она объяснить ему. Она принимала в себя и откладывала, как в архив, на долгое хранение предметы, запахи, цветы. Из них складывался свой, никому не доступный мир, в котором реальностью была война, а остальное придумывалось.
Дни для Ульяны были тягучи и медленны, для Димы же они мелькали, как страницы книги с картинками, которую листает человек, не знающий грамоты. Синее небо, зеленые деревья, черная вода, серая застиранная материнская рубашка, которой перевязывали руки. Провал от боли, цветные вспышки страха. И опять синее, зеленое и желтое и запах лука. Мерзкий запах лука и неприятные цвета, неопределенные, серые, водянистые, коричневые, рассыпающиеся и скользкие одновременно. Лук был печеным, печеным луком лечили руки. Белое, белое — яйцо, куриное ли, птичье, бог его знает. Яйцо где-то достала Домна. Прозрачный студенистый белок; светящийся, как маленькое солнце, желток. И прохлада в руках. И снова серое-серое, соленое — жеваный ржаной хлеб, жар и прохлада в руках. Повязку сняли.
Домна несет Диму по лесу, на ветвях кустов уже дрожит осенняя, в росе паутина.
— Эх, брат ты мой, — говорит Домна Ульяне, — железная же ты женщина. Стальные вы все... Счастливые... Муж, дети. А я вот, брат, одна. Не война — и жить бы не стала.
— Не надо об этом, Домна, — просит Ульяна.
— Не надо? Твоя, брат, правда, не надо... А все же чем ты живешь?
— Не живу я — они меня тянут, — Ульяна приподнимает Тому, показывает на Диму.
— То-то и оно!.. — Домна сбивается с ноги и долго подлаживается под шаг Ульяны.
— Молодая ты, — как можно ласковее говорит ей Ульяна. — Кончится война, выйдешь замуж, нарожаешь еще...
— Пока она кончится, у меня и рожалка, брат, сгорит. Уже... Не бабы мы после таких мук. Счастливые, у кого дети... Будете счастливыми...
— Если только доживем, — перебивает ее Ульяна.
— А ты живи. Тяни, тяни. Дух выпрет — тяни. Только не бегай больше с места на место, слышишь?
— Слышу, Домна. Только, может, меня судьба гонит, может, меня судьба так хочет охранить.
— Судьба настигнет везде... Что я тебя учу. Бегай, ходи по свету, авось и сбежишь от судьбы.
У железнодорожной станции женщины прощаются, целуются.
— Если что, — говорит на прощание Домна, — к нам дорогу знаешь.
Она быстро целует Диму, достает кисет, бумагу и уходит. Товарным поездом Ульяна, Дима и Тома едут к своему городу. Едут на открытой платформе. Весь поезд из платформ, забитых серым молчаливым людом. И только на одной из них пиликает губная гармошка. Дима слушает нерусскую непонятную песню, смотрит на веселящихся на соседней платформе людей. Солнечные зайчики от никеля гармошки бьют ему в глаза, и он никак не может понять, почему это на соседней платформе веселятся только пятеро, а остальные, сбившись в кучу, молчат. Взгляд Димы останавливается на одном из молчащих, еще молодом мужчине. На голове его повязка, не совсем свежая, темная, но в теплоте дня, от солнечного зайчика, бьющего в глаза, кажется белой-белой. И на белом бинте красно и ярко, опять же от света дня, проступает кровь. В руках человека с повязкой горбушка хлеба. Хлеб старый, зацветший, как пролежавшая вечность в земле медная монета, зеленый-зеленый.
Не понять Диме, почему человек с такой тоской смотрит на этот ярко-зеленый хлеб. Ему невдомек, что это наш пленный красноармеец. Через много-много лет он вспомнит его снова. А сейчас он с матерью уже далеко от поезда. Мать почти выламывает неподдающуюся калитку. Дима бежит за матерью к своему дому, к пропыленному, давно не видевшему ноги человека крыльцу.
ДОМА
Какая же она маленькая, улица, на которой я рос. Она ли это? Я помню ее длинной-длинной. Летом мне не всегда хватало дня, чтобы пройти ее из края в край, а народу на ней жило уйма, целых три враждующих мальчишеских республики. Где только помещалась вся эта ребятня?.. С одной стороны — белая громада мясокомбината, с другой — двухэтажное зеленое здание электростанции. Два-три десятка домов между мясокомбинатом и электростанцией и есть улица.
Я стою у края леса, у вырытой бомбой воронки. Когда-то она тоже была огромной, глубокой. А сейчас это просто яма. По краям ее и на дне ни травинки. Окопы, блиндажи и на Полесье, и в Брянских лесах, и в Смоленщине уже давно заросли травой. Заросли, а в ямах от бомб трава никак не может зацепиться, они заполняются водой. Вода в них желтая, и в воронках часто тонут дети.
Тропинка огибает воронку и через поле бежит на мою улицу, к моему дому. Я стою у края ямы, смотрю на тропинку, и нет сил ступить на нее. Я боюсь. Вглядываюсь в свой дом и боюсь его. Далеко-далеко от моего Полесья, от моей Белоруссии из сибирского шахтерского поселка давным-давно ушел на войну человек и пропал без вести, брат моего сибирского друга. Через двенадцать с лишним лет в дом моего друга постучался незнакомый человек. Попросился переночевать, поставил бутылку «московской». Пил молча, на расспросы отвечал: да, нет. Когда бутылка опустела, молча поднялся и ушел — как камень в воду. И друг мой который год мучается. Ему кажется — неизвестный был его братом. «Когда мы с ним пили, я смотрел на него и думал, на кого же он похож, где я видел его раньше. И только после того, как он ушел, понял, что он похож на меня...» Я убеждал его — брат не может молча уйти от родных, из родного дома. А сейчас знаю — может. Но я не уйду.
На улице ни души, но мне кажется, что она, как в праздники, полна народу. По домам я узнаю друзей, вижу знакомых. И мне не мешает даже то, что многие дома рублены уже без меня. Исчезли соломенные и гонтовые крыши — черепица, шифер, многие дома одеты в штукатурку. Но по прищуру окон, по печным трубам, по цвету наличников, по тому, как стоят на земле и смотрят на меня дома, я узнаю тех, кто в них живет. Я из одного времени с этими домами, как они ни рядятся, как ни укрываются черными телеантеннами, блестящими проводами, как ни малюются в голубые и белые тона. Это время забудется, когда забудемся мы.
Какой сверкающий белый нарядный домишко смотрит на меня. Его вплотную обступил, зажал со всех сторон сад — яблони, груши. Дом среди подпирающей его зелени кажется игрушечным, кажется, что он стоит на одной ноге. Нарядность и красочность его не обманут меня. Я знаю, ему тяжело и дышать и стоять, не хватает ему места на земле. В этом доме живет, как прозывают ее по-уличному, Украинчиха-цекалка. Живет тесно и неловко. Она строилась после войны. По бедности ставила этот маленький домик, из железнодорожных шпал складывала маленький сарайчик, покупала маленькую коровенку, чуть ли не с козу ростом. С маленьким Володькой Украинчиком мы пасли коров. Он выходил из своего маленького домика и всегда первым делом, как птица хватает мошку, взмахивал головой, хватал воздух. Я тут же смотрел на его дом, потому что мне все время казалось, будто у дома сползает крыша.
В огромном, как барак, черном вытянутом в длину доме живет со своим многочисленным потомством Улита, высокая, сухая, вечно в черной одежде женщина. Я вижу не только ее дом, но и представляю, что в нем внутри. Может быть, в нем сейчас и телевизор, и приемник, и ковры, и диван-кровать. Но я вижу длинные, от стены до стены, без надточек, тяжелые, с широкими щелями половицы. Широкие, на всю ораву, вместо кроватей, полати.
Меж домов Улиты и Украинчихи-цекалки мой, отцовский. Отец мой не весельчак, но посмеяться любит. И дом улыбается всеми тремя выходящими на улицу окнами. Для меня в его улыбке есть что-то смущенное, просящее об извинении. Щемит сердце.
Почти телячья радость срывает меня с места, несет к родному дому. И чем ближе я к нему, тем яснее различаю неведомые мне раньше черты, новые его приметы. Акация у забора. Забор не нов, но крепко подновлен. Доски, доски, а меж них нет-нет и прокидываются мшистые, зеленые у основания столбики, расщепленные из сосен трухлявые штакетины. А за ними бледно-зеленый, только-только выбросивший усики, горох. Как хочется закричать! На всю улицу скрипит, голосит калитка. Я спотыкаюсь о бетон дорожки. В глаза бьет бетон фундамента, стекло веранды. Непривычно. Но бетону и стеклу не смутить моей памяти. Катится из конуры под ноги мне громадный черно-рыжий пес.
— Прочь, скотина!
Пес поджимает хвост и задом, задом на брюхе уползает к конуре. Глаза у него испуганные, виноватые и злые. Я еще успеваю приметить прибитую дождем горку глины у забора и рассохшееся деревянное корыто возле нее. До чего же однообразен мир. Как от камня, брошенного в воду, в памяти расходятся круги. Корыто, горка глины и дом... среди старых черных бревен — новые, свежие. Дом опять пересыпали. Новые бревна желтые, проолифленные — чувствуется достаток.
Я рву на себя дверь, вхожу в дом. И нет во мне больше ни радости, ни горя. С детства знакомые запахи кружат голову. Отец в фуфайке, сидя на опрокинутой табуретке, толчет для поросенка картошку, не выпуская из рук кочерги, испуганно и виновато смотрит на меня.
— И собака пропустила, — говорит он мне срывающимся голосом.
— Пропустила, пропустила... — повторяю я.
Мне хочется броситься к нему на грудь, но я не могу сдвинуться с места.
— Она тебя не покусала, сынок?
В глазах мутная пелена, я моргаю часто-часто. Если бы он вскочил мне навстречу, обнял бы — я бы не поверил. Но я верю неподвижности и бросаюсь к нему первым.
Кочерга падает на пол. Шершавая щека обдирает мне лицо, губы.
— А он признал тебя, — тихо, но убежденно говорит мне отец. — Услышал, признал своего. Иначе бы покусал. Злая собака, всех кусает... Меня тоже... Увидела бы тебя твоя мама... Ты уже перерос ее, выше меня.
Многочисленные, родившиеся без меня и при мне братья и сестренки окружают меня. Не решаются еще подойти сводная сестра и мачеха. Я сам подхожу к ним.
Отец снимает фуфайку, вытаскивает из шкафа новые, не сбитые хромовые сапоги.
— Магазин еще открыт? — это он спрашивает у мачехи. Она мечется у печи. Выставляет чугунки, горшки, заглядывает в них и заставляет обратно.
— Открыт, открыт, — торопится мачеха. — Сидите, я сама сбегаю.
— Не надо, — останавливает ее отец. — Я пойду с сыном. Или ты устал? — это уже ко мне.
Я устал. У меня все уже припасено в чемодане, в магазин мне не надо. Но я ведь всю жизнь, все эти годы мечтал пройтись с ним по родной улице. И чтобы обязательно он был обут в хромовые сапоги, чтобы он был в своем железнодорожном синем, с зелеными кантами, кителе. К чему врать, от кого прятаться? Мечтал. У меня ведь тоже растет уже сын...
Мы выходим во двор. Отец молодо бежит к повети, туда, где стоит двухколесная тележка. Я иду за ним.
— Не то, не то, — останавливает он меня. — Сад я хочу тебе показать.
Мы идем в сад, шагаем по картошке, к яблоням, грушам, вишням.
— Помнишь?
Отец показывает мне на одну из самых старых и больших яблонь. Ветви ее, наверное, еще с прошлого года подперты палками. Интересная яблоня. Одна половина тянется вверх, а вторая опустила ветви к земле. Но я ничего не помню.
— Ну как же? — тускнеет отец.
Только в молодом яблоневом и вишневом саду я заметил, как он постарел. Сколько я его помню, он ходил легко, чуть даже подпрыгивая при каждом шаге, ходил, выпятив вперед грудь, будто разрезал ею воздух. А сейчас он выставляет вперед голову, крутые плечи опали и обмякли. Лицо в коричневых глубоких морщинах, и во многих из них виноват я...
— Как же ты ничего не помнишь? Ведь ты эту яблоньку выкопал и принес из леса. В каком это году?.. Да бог с ним. Твоя яблоня. Правда, один коворот я спилил и прищепил житницу. А второй как был, так и остался — дичка... После морозов только едим. Перемерзнет, сладкая...
Отец вздыхает, вздыхаю и я.
— Вишни вон твои, грушка... Остался бы, и дом бы был твой...
Мне приятно. Не потому, что мог бы получить в наследство дом. Хотя я знаю, на нашей улице достаток и богатство человека измеряются домом, садом, хозяйством, недвижимостью. Мне хорошо шагать по своему саду, знать, что в нем растут посаженные мной деревья. Я сейчас живу в большом городе и все время хочу посадить дерево. Я настолько врос в этот большой город, что уже забыл, что когда-то садил деревья. Забыл, что где-то на берегу Случи и Припяти растут посаженные мною березы. В этом же моем городке, в школе, в которую я начинал ходить, растут посаженные мной липы и груши. Жалко, что теперь мне их никогда и ни за что не узнать. А смогу ли я когда-нибудь собраться и посадить новые деревья в том большом городе? Здесь я их садил, не понимая, до чего же это хорошо. А когда вырос и понял — не могу. То ли времени нет, то ли не хватает слепого, все преодолевающего детского желания. Скорее всего лень. Лень, у которой на случай — отговорка, причина. И дом мой в большом и дальнем городе стоит и смотрит окнами всех пяти этажей во двор-пустырь, на жидкие и тощие кустики городских декоративных кустарников. И сын мой считает их лесом, деревьями. Он, наверное, не знает и уже не узнает и тоски по настоящему дереву... Я щупаю шершавые листки своей яблони.
— С какой же стороны дичка?
— Как раз с твоей.
— Заметно. Лист поменьше и не такой мясистый. И тени, наверное, совсем не дает...
— Я больше люблю дичку, — говорит отец. — Хотя ты и дал мне жизни... Отнял...
Я не решаюсь сорвать лист, мне кажется, что это все равно, как из живого тела вырвать кусок мяса.
— Ты спили совсем дичок, — советую я отцу. — На топорища. Яблоневые топорища знаешь какие?
Вижу по глазам — отец мне не верит.
— А вообще, пусть они растут обе вместе, — говорю я снова, — дикая и садовая яблоня на одном корню.
— Потому и оставил... житница хорошее яблоко. Но его уже и смак забудешь. А дичок, он только весной после снега и хорош. Откусишь — и помолодеешь.
Половина яблони — дикая, светлая и легкая, другая половина садовая, темная и тяжелая. А яблоки, завязь, пока еще одинаковые, с лесной орешек. Ствол до разветвления серый со стальным, но живым оттенком. Один ствол на два сорта яблок.
— Как они цветут? — спрашиваю я отца.
— Обыкновенно, как яблони...
— Вместе или порознь?
— Не упомнил... У садовой розоватый цветок, но запах слабый, у дикой — беленький, а духмяный...
Я в последний раз смотрю на сморщенные, как лица у новорожденных, яблоки. Глотаю слюну и иду к вишне, моей вишне.
Мне очень хочется вишневой смолы. Мы в детстве делали из нее клей, чернила, а чаще всего ели. Закладывали за щеку желтый янтарный комочек и сосали, как сейчас сосут леденцы. И, помнится, вишневая смола была вкуснее шоколадных конфет. Верно ли это, я сейчас хочу узнать.
Смола еще молодая, не затвердела, срывается легко, но липнет на руках. Я заталкиваю пряный комочек смолы в рот вместе с клочком приставшей к ней вишневой коры.
— Вкусно? — не выдерживает отец.
— Очень...
Но это неправда. Вкусно не очень. Приятен лишь необычайно сгущенный вишневый запах. Боясь расстаться с ним, я не достаю сигарет. Несу вишневый запах по пустынной, будто вымершей улице. Отец идет грудью вперед, легко, с подскоком, плечи его подняты и откинуты назад. Закатное солнце играет на начищенных до блеска голенищах сапог. Передки же посерели, запылились. Мне хочется нагнуться и протереть их.
— И куда весь народ подевался? — удивляется отец. — То ни проехать ни пройти. А сейчас некому ни здравствуй, ни прощай сказать.
Мне тоже хочется, чтобы кто-нибудь да вышел на улицу. И я успокаиваю отца:
— На работе, наверное, все. Улитины дети где работают?
— Поуезжали все. Выучились и уехали кто куда. Одна Улита на старости осталась.
— А Володька Украинчик?
— Здесь... Зайдем к нему.
Мы сворачиваем к калитке Володькиного дома. Дверь в избу открывает нам его мать.
— Добрый вечер, — шумно и радостно здоровается с нею отец.
— Вечер добрый, — отвечает женщина и долго и пристально всматривается в мое лицо.
— А це, кажись, твой хлопец? — обращается она к отцу.
— Зацекала, будто не похож, не в меня. Выше батьки вырос... А где Володька?
— В поездке. — Женщина не отрывает от меня глаз. — Вот-вот должен вернуться.
Мы покидаем дом, женщина идет вместе с нами. Во дворе я задерживаюсь, оглядываюсь. Ищу погребок, в котором Володька Украинчик показывал Подольской улице кино. Двадцать копеек вход. И спертый, сырой, пропахший керосином воздух. Тусклое мерцанье коптилки, заключенной в сбитый из досок ящик с прорезью. Ящик, помнится, служил проекционным фонарем. В прорезь вставлялась промасленная узкая полоска бумаги с рисунками — кинолента. Свет коптилки падал на рисунок, а на куске белого картона появлялось изображение. Это и называлось кино. Так мы впервые смотрели «Тарзана», «Сталинградскую битву» и больше всего — «Молодую гвардию». «Молодая гвардия» шла в Володькином кинотеатре-погребке каждый вечер. Он показывал нам ее даже бесплатно. Бесплатно делал нам наколки: «Не забуду мать родную», «Нет в жизни счастья»... Погребка и следа не было. На том месте, где он когда-то стоял, сейчас росла малина. Не было Володьки Украинчика — он уехал в поездку. Был в поездке Володька, на которого мы все, подольчане, бесталанные, но всегда готовые к драке, чуть ли не молились. Работал кочегаром, помощником или машинистом паровоза. Володька, которому все подольчане, несмотря на нищету и бедность воображения, прочили самое малое — художественное училище... Фезеушницкая улица. Ты прав, мой двойник.
— До свиданья, — вежливо кланяюсь я матери Володьки.
— Ты приходи вечером с сыном! — уже за калиткой кричит все еще стоящей во дворе женщине отец.
— Он рисует? — спросил я у него, когда мы немного отошли от беленького, задавленного зеленью домика.
— Кто? А... Может. Но все паровозы, паровозы... И что он в них нашел? Ты и не заметил? На стене его дома нарисован паровоз...
— Чокнулся?
— С чего? Нет, помощником машиниста работает. Уважают его. Скоро машинистом пойдет.
Вечером в доме отца было шумно. Дробно семенила от стола к печи мачеха. Застолье ломилось. Блины, оладьи, мясо, колбасы, студень. Уже ставить было некуда, а мачеха все подносила. Отец поднял чарку:
— Ну... Сын мне сто рублей привез. Подает, а я спрашиваю: «У тебя на книжке сколько лежит?» «Нет у меня, — говорит, — книжки». А у меня на книжке триста рублей, новыми, копейка в копейку. Не надо мне денег, своих девать некуда... Война б не помешала — улицы бы ими мостил. А и так добра. Як гаворать: дай божа завтра то жа.
И он опрокинул чарку. Отец не знаю когда, но уже успел хватить, до стола.
— Приехал, и на том спасибо, — гудели гости, закусывая, — не забыл дорогу — и ладно...
Ко мне подсел двоюродный по матери брат, тоже подвыпивший.
— Принял перед тем, как сюда идти, — объясняет он мне. — Я здесь гость такой — всегда нежданный.
— Я ждал тебя.
— Знаю. К тебе и шел. Долго, годов пять, считай, я за тобой ходил. А сегодня сюда, как на крыльях летел...
Он положил на стол изуродованную правую руку, сжал единственные два пальца на ней:
— Ты помнишь, как уезжал?
— Помню, — ответил я.
Но он все равно принялся рассказывать.
— Идешь ты мимо нашего дома, а я навоз накладываю в сани. Еще не зажили оторванные пальцы, кровенят, холодно. Приметил тебя. Куда? — допытываюсь. «Не ведаю...» И ушел. Я тебе: постой, постой! Куда там... Отвез навоз, пригнал волов и бросил все. Заплакал — и за тобой... До Урала проехал, а не нашел...
— Я ближе, здесь рядом, в детдоме был...
— Молодец.
— Черт его знает.
— На мачеху сильно не обижайся. Да и на батьку тоже. Хоть и говорят: матка умерла, батька ослеп, но он тебя любит. А у мачехи свои дети, свои заботы. Ты ей чужой, не легло ни у тебя к ней, ни у нее к тебе сердце. Ты молодец, что сам дошел до этого. Молодец, я тебе говорю. Слушай брата. Переломил себя, съехал, выучился, в люди вышел.
— Переломил, съехал... Убежал из дому. Учился у всех и везде. А как в люди выходят, так и не понял.
— Слушай брата, я тебя буду учить: не будь солодким — сосмокчут. Не будь горьким — выплюнут. Будь как есть, как мать родила.
— Спасибо.
— Тебе спасибо. Подался я за тобой, на Урале специальность получил. А то бы всю жизнь волам хвосты крутить. Живу с достатком. Ни горький, ни солодкий — человек. А черт мне не брат. А ты, гляжу, тоже... На войну только не кивай, не списывай на нее ничего.
— Что мне списывать на войну.
— Тебе, может, и ничего, хотя кто его ведает... Мода сейчас пошла такая — на войну все сваливать. На войну, на хваробу... на черта лысого. Если неудачливый да ленивый, не заслуженный, не обласканный, самим собой обойденный, так обиженный. А кем? Войной? Не умом же. На ум еще ни один не кивнул, не пожаловался. Всяк по-своему метит урвать от жизни. И солодким, и горьким прикидывается. А попробуй его, так он никакой: ни матки, ни батьки, а так — пришей кобыле хвост, пристебай иванович...
— Первая колам, другая соколам, — командует застольем отец. — Ну, гости дороженькие, чем богаты, тем и рады. Пробачьте, коли часом что не так.
Не успели гости закусить после нее, как на пороге появилась бабка Ничипориха. И снова показалось мне, что никуда я не уезжал, ни на один день, ни на один час не расставался со своим городом, улицей. И все, что было со мной, приснилось.
Так же, как и годы назад, любопытно и ярко блестел, касался нижней губы Ничипорихи стальной нержавеющий и не знающий износу зуб. Не прибавилось и не убавилось на лице ее ни старческих ржавых пятен, годы не выправили и не согнули ее спины. В коричневой, длинной до пят хламиде-платье, в сером застиранном платочке была она, как прошлогодняя камышина, которую не смогли переломить ни осенние хлесткие ветры, ни нудные дожди, ни снега, ни солнце. В руках Ничипорихи была чашка с медом. Она всегда ходила в гости с медом. Только поэтому, наверное, и держала пчел. Первой заявлялась она на родины и крестины, свадьбы и похороны. И всюду была желанной. Гулянка без нее была не гулянкой, праздник не праздником. Умела бабка и попеть, и поголосить, и выпить любила. И как это только я забыл о ней?
Ничипориха задержалась на пороге, привыкая к свету. И прямо с порога начала:
— Да что же вы сидите грибами? Ай не к столу пришлась, не чакали? Иде гостюхна ваш? Бери бабу под руку да наливай пополней.
Я повел Ничипориху к столу.
— Ну-ну, постой, — остановила она меня. — Подивлюсь я на тебя. Матухна вылитая, матухна...
— Пригубь, Ничипориха, — поднес отец бабке чарку.
— Не, так у людей не водится. Кто в этом доме сегодня самый дорогой, тот пусть меня и потчует.
Она, не присаживаясь, приняла из моих рук чарку, опрокинула ее и закусила своим медом.
— Ох и солодкая, отрава. С одной и не разберешь — что соложе: ти то мед, ти то гарелка. Одной, хлопча, чаркой Ничипориху не угомонишь, с ног не собьешь. Давай по другой. Да помни — в разор ты меня ввел. Последний мед принесла тебе к столу, чем теперь троицу буду сустрекать?..
Под говорок обмочила свой стальной зуб в водке, облизала его, опрокинула другую чарку и повеселела:
— Ну что, хлопча, пуп твой не развязался? — Ничипориха толкнула меня в бок и засмеялась. — Не бойся — что Ничипориха завязывала, то и могила не развяжет... Ну, кого хороним: ни гомонки, ни песняка!
Ничипориха налила всем остальным. И потекла беседа. И в отцовском доме стало мне тепло и уютно, как никогда и нигде не было хорошо, ни в один из самых долгожданных и радостных праздников. Всколыхнулось застолье, загудело, забродило. Неразговорчивых сделало болтливыми, непесенных — голосистыми, стеснительных — смелыми. И я забыл обо всем на свете — о злой и доброй своей памяти, о горьком и сладком для меня времени в этом доме. Хотелось только одного: чтобы этот вечер никогда не кончался. Век бы сидеть и слушать родную полузабытую «гаворку». Каждое слово со смыслом и к месту. Где я еще смогу услышать его, где я еще так порадуюсь ему.
Закружив, завертев людей, Ничипориха замолчала и не мигая вгляделась в меня. Глаза ее были строгими и ясными, без хмельного наплыва, без старческой блеклости.
— На могиле матери был?
— Не успел еще...
— Гарелку пить поспеваешь, — старуха покачала головой. — Все мы вот так. Пить да гулять. Памятник на могилу, я понимаю, ставить приехал?
Я замялся. Я как-то даже не думал об этом.
— Гляди, хлопча, гляди... Високосный год живем. Что ни крестины, то хлопчик, что ни отел, то бычок. Бычки не к добру. И не поспеть можешь. У суседнем селе перед весной растелилась корова бычком с двумя головами. Аден пять назад дождь с громом был. И вдарила моланка в стог с прошлогодним сеном, а под стогом стояла жанчинка[1]. Шугануло в нее полымем, и из него вышел человек. «Горе-горе вам, люди», — сказал и в огонь ушел. Все как перед той войной... Гляди, что надумал делать — делай, делай не откладывая. Бегом сейчас жить надо, особливо нам тут, у Беларуси. Все войны праз нас идут... Что глядишь так? Думаешь, напилась? Не гляди, Ничипориха розуму не пропье... Перед той войной тоже все так было. Какое счастье в руки народу шло. И земля так родила и хлебом, и сеном, и грибами, и ягодой. И все как к черту в прорву ушло... Тигра тут у нас перед войной объявилась, народу тьму погубила.
— Откуда же здесь тигру взяться?
— А вот думай, гадай. Знал бы, где упасть, соломки бы подстлал. А еще...
Бабка оседлала своего любимого конька. Для многих сидящих здесь война — любимый конек, для многих она еще не кончилась, и кто его знает, когда кончится, когда заживут ее раны, кто их может залечить, придумать такое лекарство, чтобы хоть во хмелю не пекла людей давняя боль. Я не хочу про войну. Я хочу песен белорусских, белорусской говорки с пословицами, поговорками. Но мне, наверное, сегодня не суждено больше ничего слышать, кроме как про войну.
— У меня вон сколько орденов, — подсаживается возле меня отец. — Слушай, сынок, записывай про войну. Записывай, пока мы живы. Ордена...
— И жена под крыжом на деревенском кладбище, и дочка рядом с ней малолетняя, и сын ушел из твоего дома по чужим людям куска хлеба просить. Ты про это мне хочешь рассказать?
Лицо отца темнеет, стареет, наливаются кровью, обвисают щеки. На подбородке, на шее, возле правого уха спелой брусникой рдеют, наливаются рубцы старых ожогов. Козырьком жидко и жалко свисают надо лбом выцветшие, изъеденные солнцем волосы. Мне жалко его, я ведь люблю его, перегрыз бы глотку любому другому, кто осмелился бы сказать то, что сейчас сказал я. Но я уже не могу остановиться:
— Я тоже многое видел и перенес немало. Ты ведь даже не потрудился узнать, чем и как я жил все эти годы...
Отец уже трезв. Схлынула от щек кровь, лицо его светло и задумчиво. Только возле губ наливаются, синеют желваки. Я хорошо знаю эти желваки, они всегда вздувались перед тем, как он снимал ремень, когда до беспамятства наливался гневом. Я жду ремня. Но у него слезы.
— Это было в ту зиму, может, даже в тот самый день, когда убило нашу маму... — Я делаю протестующий жест: ради бога, не надо мне истории. Но отец не обращает на меня внимания: — Я тебе ничего и никогда не рассказывал. Это в первый и последний раз... Так вот, я говорю, в тот день. Ночью я вспомнил тебя, маму, Тому. Мама пришла ко мне в моем сне и сказала: «Я ухожу, Трофим, далеко и совсем, оставляю на тебя наших детей. Но всегда буду следить за тобой, как ты будешь приглядывать за ними». На рассвете чужое горе отбило мне память. Я посчитал свой сон блажью, а настоящее горе было рядом... На рассвете наш отряд наткнулся на засаду. Командиром был твой дядька, Каринич. Постреляли. И он приказал нам готовиться отходить. Отряд уже разворачивался. Но тут вдруг с немецкого боку стрельба стихла и заговорило радио: «Партизаны! Каринич! Ты не будешь стрелять в своих детей. Складывай оружие, твои дети идут к тебе». И правда. Со взгорка по снегу, глядим, идут хлопчик и девочка. А за ними немцы. Каринич прикипел. И закрутился на месте, как граната перед тем, как взорваться, — то к нам повернется, то к детям. А потом припал к кусту и кричит нам: «Всем до единого отходить!» Не помню, кто отходил, кто не отходил. Передо мной встали ты и Тамара. И я прилег к Кариничу. А дети его миновали ложбинку и поднимаются к нам. Тихо так идут, сумрачно. И небо сумрачное, тихое, и снег как бы посерел, и немцы серые. Все будто неживое, нарисованное. Идут хлопчик и девочка по снегу, хлопчик впереди протаптывает дорожку, а девочка отстала, в след его ступает. Хлопчик подождал ее, взялись они за руки и вдвоем по целику и от куста, за которым мы с Кариничем лежали, глаз не отрывают. Каринич поднимается. А у меня ноги отнялись, катаюсь; как колода, по снегу, и звон в ушах. И тут надо мной как бомба разорвалась. Оглох, ослеп и чувствую, будто кто несет меня над землей. Это весь отряд наш побежал за Кариничем, и мои ноги бегут... Каринича схоронили на другой день, соседа нашего Ефима Рудого рядом положили. А от детей даже латки от пальто или рубашки не нашли... Вот и вся война в этих двух детях для меня. Все, что я хотел тебе рассказать. Чтоб ты помнил это, глядя на своих детей...
Мне постелили в сарае, на сеновале. Так захотел я сам. Долго не идет сон. Вздыхает корова. Сено старое, перетертое, колкое. Я отвык уже спать в сене. Сквозь щели сарая пробивался свет луны, и в ее свете тихо струилась пыль. Пыль от прошлогоднего сена, пересохшего на солнце древнего мха в пазах сарая и бог знает еще от чего. Я задыхался от этой пыли, от сухого лунного света першило горло. Наконец луна повернулась, лунная дорожка побежала теперь по моим ногам, я заснул.
Во сне я говорил Володьке Украинчику то, чего не сказал наяву, вечером. Мы с Володькой опять пасем коров. Но он для меня и пастух, и помощник машиниста паровоза. Мы лежим с ним на спинах в нашей страже, смотрим в небо, жуем по травинке.
— Ты обманул меня, — говорю я ему. — Лучше бы тебя никогда не было. Уйди. У тебя в погребке так хорошо пахло красками. А сейчас не продохнуть от мазута.
Он не обижается на мои слова, отвечает спокойно, будто говорит с самим собой:
— А кого бы ты оставил возле себя?
— Не притворяйся! — кричу я. — Ты знаешь, о чем я говорю. Я, может, и не свернул себе шею, потому что рядом со мной жил Володька Украинчик, который для меня на всю жизнь первый и самый великий художник на свете. А ты рисуешь паровозики. Только и смог добиться чего...
— Тебе не везет в жизни, — выплевывает травинку и сочувственно смотрит на меня Володька. — Да, сейчас, в наши годы, уже не скуешь саблю из обруча и на эту жизнь самодельной саблей страха не нагонишь. Судьба...
— Судьба?
— Ты боишься этого слова? Не хорохорься!
— Я не хорохорюсь. Я знаю по себе. Тратим, тратим время. Ублажаем себя: рано еще, какие наши годы. Спохватываемся, а поздно. И опять ублажаем себя, рисуем паровозики...
— Тебе здорово не везло в жизни, — убежденно говорит Володька. — Успокойся, может, повезет.
— Иди к черту.
— Никуда я не уйду.
Нет больше Володьки Украинчика. Над моей головой машет обглоданным березовым прутом, дразнит меня подросток-пастух:
— Ты должен уйти отсюда. Тебе здесь нечего делать. Отец сейчас не спит, плачет в хате из-за тебя.
— Но ведь мы с тобой давным-давно навсегда покинули эту улицу, решили вместе уйти отсюда. Ведь ты — это я. Я — ты.
— Решали вместе, но ничего не вырешили и разделились. Ты решил уйти, а я был за то, чтобы остаться. Я кричал, надрывался — останься. Ты задавил меня, не остался. А чего добился? Что из одного нас стало двое? Один скитался по свету, другой рвался и мыкался здесь. Тебе не понравилась мачеха, но ты не подумал об отце. А после твоего ухода его в этом сарае дважды вынимали из петли. Ты не подумал, что так может случиться? У тебя нет сердца.
— Неправда. — Я очень хочу проснуться и не могу. И что есть мочи кричу: — Неправда!
— Правда. В тебе есть жалость, память, но сердца нет. Ты сверх меры трезвый, ты знаешь только то, что хочется тебе.
— Есть, есть у меня сердце. Как бы все эти годы я жил без него? Память, жалость — это и есть мое сердце. Оно погнало меня из дому, привело меня в ФЗО, оно прибило меня к Сибири и опять к Белоруссии.
— Это я тебя позвал в Белоруссию. Я был рядом с тобой и в ФЗО. И все, что было с тобой в Сибири, в ФЗО, не настоящее...
— Вот я и поймал тебя. Без сердца ли, с сердцем, но все было настоящее, мое. И никому я ничего не отдал из того, что было. В Сибири я по-настоящему узнал себя. В Сибири я был и остался белорусом, как буду, видимо, сибиряком в Белоруссии. Так уж заведено в этой жизни.
ОБКАТКА СИБИРЬЮ
Пришла зима. Белыми снегами легла на желтые и черные провалы от шахтовых выработок, залепила, занесла прокопченные заборы, крыши, щербатые, искрящиеся от угольной пыли дороги. Поселок посвежел и помолодел. С первых же дней навалились морозы. Нас пугали морозами еще в Белоруссии. Но беда пришла совсем с другой стороны. Сибирский мороз не тяжел, нет пронизывающих, как в Европе, ветров, нет сырости. Воздух сух, чист и неподвижен. В морозные дни на небе появляется солнце. Раздвигается горизонт, яснеют дали. И хочется шагать и шагать в эти дали.
Хороша сибирская зима, но были мы белорусами. И как волка ни корми, он все равно в лес глядит. Леня Дрозд, Коля Казерук, Толик Беленький и я понесли на почту письмо. С недавних пор мы стали писать письма ежедневно: любимым и нелюбимым воспитателям и учителям, детдомовским парням и девчатам. Безбожно привирали насчет жестоких сибирских морозов, оптимистично, красочно описывали свою фезеушницкую, в общем-то однообразную жизнь. И ни слова не говорили, как мы скучаем по белорусской оттепели, по детдому.
Толя Беленький запнулся и упал.
— Сколько бы раз согласился упасть, чтоб хоть на денек очутиться в детдоме, в Белоруссии? — спросил я его.
— Пошел бы пешком и через каждый бы шаг падал, — ответил он без улыбки.
— Не выдержал бы.
— Я бы выдержал, — поднял правую бровь будто прикидывая расстояние, Коля Казерук. — Дополз бы.
Мы все одновременно взглянули на заходящее красно-алое солнце, на запад.
— Недолго осталось ждать. Скоро будем учиться делать пассатижи. За каждые пассатижи будут платить по тринадцать копеек.
— Двести пассатижей, и жесткий вагон до детдома обеспечен, — перебивает Дрозда Казерук, — всего лишь двести...
— Сделаю, — поджимает губы Беленький.
Но до пассатижей еще далеко. Пока я колочу березовые чурки. Почему-то принято в каждом детдоме учить ребят столярному мастерству. Обучение начинается весной, с прилетом птиц, со скворечен. Неделю все детдомовцы пилят, строгают. Неделю по детдомовскому двору ветер кружит белую витую стружку и за сотни метров от детдома разносит густой аромат смолы. Возле столовой, жилых корпусов, сараев и мастерской — повсюду обрезки досок-шалевок. Руки, ноги ребят, их штаны и рубашки в прикипевших белых кружевах смолы. За скворечнями обычно следуют табуретки. Тут уж смола на одежде чернеет, энтузиастов столярного дела становится все меньше. Все реже заходит в мастерскую директор детдома, все чаще куда-то подозрительно исчезает мастер, обычно старик из столяров-самоучек. В его отсутствие ребята спешно сбивают себе чемоданы. Страсть у детдомовцев к чемоданам такая же, как у старух к сундукам. Оно и понятно — все вокруг государственное, то есть мое, но только не совсем лично мое, а общее, или по-детдомовскому, казенное. От зубной щетки до носового платка. А так хочется, чтобы у тебя было что-нибудь по-настоящему только твое. Пусть даже это твое — никому не нужный хлам с городской свалки: книга без переплета, ржавый болт, перегоревшая лампочка. До чего же хорошо, когда опустеет комната, вытащить из-под кровати чемодан, оглядеться по сторонам и раскрыть его, посмотреть и погрустить над своим богатством. А потом спрятать чемодан от всевидящего ока воспитателя. Он каждый день утром, в полдень, перед отбоем, зимой, летом, осенью будет приказывать тебе: «Не захламляй комнату, сдай чемодан в кладовку...»
Ты клятвенно заверяешь, что непременно сегодня сдашь. И так круглый год живешь в заботах о своей личной собственности, кажущейся тебе бесценной. И каждый раз перед отбоем душу согревает маленькая радость: а чемодан-то под кроватью. И чемодан этот — первый предвестник неведомой жизни за стенами детдома.
Вот и стучат по весне дружно и весело молотки, радуют сердце директора, но недолго. Вскоре на мастерскую навешивается замок. Мастер исчезает совсем. А шалевка, сороковка и обапол гниют под забором до новой весны, прилета птиц...
Истопник заезжал в мастерскую с тележкой и грузил в нее чурки лопатой. На этих чурках мы отрабатывали удар: кистевой, локтевой и плечевой. На чурки, зажатые в тиски, ложились большой и указательный пальцы, и надо было умудриться не попасть по ним, рубануть молотком со всего плеча в малюсенький кружок между указательным и большим пальцами. Левая рука, пальцы у каждого из нас были в кровоподтеках и ссадинах. На возвышении, возле выстроившихся в два ряда тисков, как Будда, восседал мастер в своем неизменном в искорку костюме, в сатиновых блестящих нарукавниках и следил, чтобы не было халтуры:
— Пятнадцать минут на кистевой. Начали. И-раз, и-два...
Он охватывал взглядом всех и улыбался почти счастливо, когда кто-нибудь из нас вскрикивал. Наш мастер всего лишь год назад прошел ту школу, которую мы проходили сейчас, и его, наверное, радовали воспоминания.
И все же пришел и наш праздник. Мы получили металл. Синюшные, невероятной толщины заготовки для пассатижей. У мастера пропала улыбка. Он любил металл. И мы полюбили.
— Даешь двести пассатижей, — подмигнул мне Леня Дрозд.
— Я триста. Кто больше?
— Хватит с меня и двухсот, — мрачно, зажимая заготовку в тиски, буркнул Казерук.
— Никому не надо повторять, как работать с напильником? — в последний раз спросил Дмитрий Васильевич.
— Да чего там... Ясно...
Взвизгнул, закричал под напильниками металл. Посыпалась на верстак серая стружка. Все двадцать пять пар первых напильников вышли из строя, годились разве только для очистки морковки. У мастера, как месяц назад в колхозе, покраснели и воспалились глаза. Едва успев перекусить, придя из мастерской, мы заталкивали под кровати бушлаты и заваливались спать, кто потому, что стояла зима и было скучно, а кто просто за компанию, как медведь, впрок.
У наших воспитателей и учителей в Белоруссии, наверное, кончилась бумага. Отвечали нам только девчата да друзья спрашивали, как попасть в наше чудесное ФЗО. А мы делились друг с другом детдомовскими воспоминаниями. Вспоминали сад, лес, речку, каждую ее излучину. И письма домой получались особенно душевными и веселыми, а тоска становилась все глуше.
Наступили октябрьские праздники. ФЗО опустело, остались только детдомовцы. В тишине и одиночестве особенно бросалась в глаза убогость нашего жилья. Выщербленные, в подтеках воды, промасленные, протертые до штукатурки задами и спинами стены коридоров, пропитанные мазутом и машинным маслом полы. И повсюду запах мазута, машинного масла и кислого варева.
А за окном черный от копоти снег, грязный и лохматый иней на проводах.
А в детдоме на седьмое ноября нам давали подарки. И мы не ходили в школу. Днями гоняли по улицам на коньках, бросались снежками, вечерами смотрели кино, а после отбоя рассказывали жуткие истории, играли в чехарду. Я был в старшей группе, и в нашей комнате в праздники собирались девчата и ребята. Мы выкапывали в сарае запрятанные для праздника яблоки, раскладывали на столе подарки, веселились и пели за полночь. Робко, таясь друг друга, влюблялись. Ловили быстрые и смущенные взгляды девчонок, подкладывали им под подушки наборы «Мойдодыра», с перехваченным дыханием, пугаясь собственных теней, скользили по коридору в свои комнаты. А тени на белых стенах коридоров при свете единственной пятнадцатисвечовой лампочки были так угрожающе лохматы, что и сейчас сладко замирает сердце. Запах антоновок, путинок, неповторимый запах праздника и веселья, в котором и первые девичьи духи, и восторг, и подъем собственного сердца, и дымок от березовых сухих поленьев, и ожидание волшебства, чуда. Как далеко все это...
Серо и зябко покатились дни и после праздников. И единственным утешением был металл, работа. Мы набросились на нее, как собака на кость. Металл стал к нам добрее, уступчивее и податливее. Больше не визжали напильники. Они входили в металл твердо и послушно, гнали крупные опилки. И синела от злости сталь, напрягались и постанывали тиски.
Я стою рядом с Дроздом. Напротив нас за проволочной сеткой Казерук и Беленький. Мы сдаем мастеру после смены по две пары пассатижей каждый. Это рекорд. Дмитрий Васильевич с каждым днем все придирчивее и придирчивее меряет их штангенциркулем и даже микрометром. Но время брака кончилось, мы набили руку, и мастер только хмыкает. Наконец он не выдерживает:
— Что вы так гоните, ребята? — спрашивает он меня и Дрозда.
Дрозд хитрый. Улыбается и тут же отворачивается. Я отвечаю мастеру грубо и резко:
— Деньги нужны. За деньги стараемся.
Дмитрий Васильевич смотрит на меня с ехидненькой улыбочкой:
— Курить начали? Тринадцать копеек — пачка «Прибоя» и коробка спичек — так?
— Хуже, Дмитрий Васильевич. Тринадцать копеек маленькая кружка пива с верхом...
Улыбка мастера гаснет:
— А если серьезно?
— Очень серьезно, Дмитрий Васильевич, — рубит вдруг Дрозд. — Мы в Белоруссию хотим съездить, на день-два, в детдом...
— Я отпускаю вас сегодня. — Мастер не смотрит на нас. — Поспите, а лучше сходите в бор.
Вечером Дмитрий Васильевич приходит к нам в комнату. Долго рассказывает о себе, о своем доме в деревне на Украине и приглашает нас к себе в гости. Мы отправляемся вчетвером и остаемся у него ночевать. А на следующей практике мастер всей группе раздает заготовки молотков, а наша четверка получает слесарные ножницы.
— За них платят подороже, пятьдесят копеек пара, — говорит он. — Тоже не заработок. Но мы что-нибудь придумаем.
Я исхожу потом. Мы делаем ножницы. Мастер прав: это не заработок. Заготовки отштамповали специально для нас, фезеушников, чтобы мы больше потели и учились: у каждой припуск по полсантиметра. А что такое опилить полсантиметра напильником... Десять потов, кровавые мозоли, боль в пояснице. Кроме того, к новому изделию надо еще приноровиться. И мы вспоминаем, что ножницы стоят пятьдесят копеек, только тогда, когда сдаем их мастеру. Мастер принимает от нас изделия все так же с улыбкой. Больно уж часто он улыбается, а если улыбается — значит, жди пакостей. Мы все время настороже.
Но ничто в нашей жизни и в наших отношениях не меняется. Мы по-прежнему усердно опиливаем слесарные ножницы, ручные тиски, круглогубцы и плоскогубцы. А вечерами подсчитываем, кто уже сколько километров проехал до Белоруссии. Михайло Волков, открывший здесь уголь, первые русские землепроходцы двигались пешком быстрее нас. Подсчитывать заработок помогает нам и Дмитрий Васильевич. Вечерами он пропадает в нашей комнате. Поначалу было неуютно с ним. Но сейчас привыкли. Иногда нам кажется, что он из нашего детдома и так же, как мы, тоскует по ребятам, по детдому. Он с интересом слушает наши рассказы и рассказывает сам о своей деревне на Полтавщине, об отце, матери. У него тоже была несладкая жизнь. Хуже еще, чем у нас. В детдоме нам не надо было думать о завтрашнем дне, о еде: придет время — накормят, спать уложат. А ему у отца с матерью не всегда удавалось и поспать и поесть вовремя.
Мы принимаем Дмитрия Васильевича за своего, и он чувствует это. И однажды вечером, собравшись уходить, уже попрощавшись, снова садится к столу.
— Вот какое дело, — трудно и издалека начинает Дмитрий Васильевич. — В общем, спасибо вам. План по изделиям наша группа уже перевыполнила. Давно такого в нашем ФЗО не было. Но... вы только не подумайте, это правда. В ФЗО на практических занятиях никто еще не зарабатывал двадцать шесть рублей, да и то, получите ли вы их, вопрос...
Мы ничего не можем понять.
— Как же так, Дмитрий Васильевич, мы же считали вместе?
— Теоретически все верно. Но практически... Не всегда эти деньги и выплачивают. Есть что-нибудь в кассе училища — выдают по пятерке каждому. Нет...
— Будем жаловаться, Дмитрий Васильевич. Нам же на дорогу надо, — одновременно угрожает и умоляет Казерук.
— А кому жаловаться?
— Министру своему, Зеленко.
— Министр вас кормит, обувает, учит. И на том спасибо... Деньги вы заработаете в другом месте. Завтра после теории, после обеда, никуда не расходитесь, ждите меня.
На следующий день мастер заходит в нашу комнату без своей обычной хитрой улыбки.
— Переодевайтесь. Работа сельскохозяйственная. Не ахти. Но... пятьдесят копеек час. Очищать снег у парников, что-то там еще с навозом. Какая уж есть работа... — Дмитрий Васильевич разводит руками.
Но нам не до выбора. Нам все равно. Только бы на денек попасть в детдом, пройтись в форменной одежде по его двору, и... А что значит это «и», что делать в детдоме дальше, я не знаю, теряюсь. Неужели это проходит тоска по родным местам, неужели я начинаю привыкать к Сибири? Не хочу, не хочу я привыкать. Мой дом в Белоруссии. Там я голодал, замерзал, там я мечтал о богатой Сибири. Сибирь — хорошее место, распрекрасное место, край мужественных и сильных людей. Но это не мое, мое не здесь. Чтобы жить в Сибири, быть человеком, нужно ровно столько мужества, сколько нужно для того, чтобы быть им в Белоруссии. Я выбираю Белоруссию. Она меня выбирает, И чтобы оживить память, я представляю себе детдомовский двор. Два тополя у ворот, обглоданные внизу осями телег. Заросли кукурузы слева от поросшей муравой дороги, справа — длинный оштукатуренный и побеленный барак, корпус, в котором мы жили. Высокое крыльцо. На этом крыльце в последний вечер перед нашим отъездом в ФЗО девчата дарили нам платки... Узкая стежка от крыльца и через сад, в столовую. Старая полузасохшая груша-дичок возле стежки, колючая и корявая, такая же старая и прогонистая с высушенной вершиной яблоня. А за ними ухоженные садовые деревья. Но мне больше всего дороги эти заброшенные, тоскливо вскинувшие к небу сухие ветки два дерева. Здесь, возле них, ясным августовским полднем у меня в первый раз забилось сердце. Я стоял у груши, а мимо меня пробежала девчонка из нашей группы. Я хорошо знал ее, но в ту минуту будто увидел впервые. Уже чуть желтоватое, катящееся в осень солнце желтым пятном лежало на траве возле яблони и груши. Повсюду была тень, только одно светлое, чуть желтое пятно, как круг света от циркового прожектора. И в этом кругу появилась девчонка в желтую горошину коротком платьице. Мгновение, и она, с высоко поднятой головой, пронеслась мимо меня, лишь скользнул по лицу ее и платью солнечный свет и тут же снова упал на траву. Я долго смотрел ей вслед и сейчас еще вижу, как прыгают, колотят по спине две тугие косы. А еще... Круг моих воспоминаний уже не ограничивается одним только детдомом — в нем и мой город, и ребята, с которыми я пас коров, желтые сухие пески Белоруссии, заливные зеленые луга, хвойные леса, тихие реки, солнечное лето, шумная весна и задумчивая осень, отливающие голубизной яркие снега зимы. И все мы работаем, чтобы съездить в детдом.
Упрямо, изо дня в день, мы ходим на парники, отбрасываем от них снег. Переносим с места на место пропыленные и промороженные рамы. Оплата почасовая, и каждый раз мы возвращаемся в ФЗО затемно. На парниках вместе с нами работают женщины. Они не понимают нашего упрямства.
— У вас, наверное, уже дети, семья, трудитесь так изо дня в день, — говорят они нам. — Семьи-то большие?
— Огромные. По сто человек у каждого, — отвечаем мы им.
— Сопляки еще заигрывать, — обижаются женщины.
Наиболее проницательные сочувствуют:
— Кто их знает, может, у них и правда уже дети. Не глядите, что молодые. Нынче весь народ с ума сходит.
Но работой нашей они довольны. Одним, без мужиков, управляться с парниками нелегко, с нами и веселее. И когда парники наконец обихожены, мы расстаемся друзьями. На прощанье рассказываем им про свои семьи, зачем нам нужны деньги. И женщины провожают нас наказом:
— Только глядите не пропейте...
После парников мы разгружаем вагоны с шахтовым лесом, загружаем машины углем. Эта работа хотя и потруднее и погрязнее, но прибыльнее. А грязи мы не боимся и того, что трудно, — тоже. В детдоме мы не каждый день ели свой кондер бесплатно, тоже и косили, и пахали, и лес рубили.
С жадностью расспрашиваем шахтеров, какая же она, шахта, что нам предстоит в ней делать. Нас и пугают, и успокаивают:
— Яма, сырая, холодная...
— Страшная работа та, которую не делаешь... А в шахте даже хорошо — ни холода, ни жары Каждый день баня, вода газированная.
Слушаем, запоминаем и с нетерпением и опаской ждем все приближающийся день первого спуска под землю. Думаем каждый про себя: «Если действительно страшно, то как бы не испугаться, не сдрейфить, не выказать своего испуга». На шахте нас уже многие знают в лицо, и однажды снабженец, у которого мы всегда получаем работу, радостно сообщил нам:
— Калым, ребята, горит. Вагон с дустом на подходе. Кладу сто рублей. Согласны?
Какой может быть разговор? Мы, конечно, согласны. Нам хорош и дуст, пусть это даже будет чемерица. Если за нее платят сто рублей, мы перенесем ее из вагона в склад горстями. Но снабженец суетится.
— Нет, вы, ребята, не так. Вы скажите определенно, великим и могучим русским языком: мы согласны. Есть разгрузить вагон дуста.
— Мы согласны, — говорю я снабженцу.
А он все не унимается:
— Какие-то вы не такие, как все. Как цыплята инкубаторские. По виду цыплята и цыплята. Обличьем все в будущих куриц. А приглядишься — не то. Всему верите и послушны, как солдат, только что прошедший курс молодого бойца. Я давно к вам присматриваюсь, скажите вы мне, что вы за люди?
— А ты как думаешь? — спрашивает его Дрозд.
— Вот я и говорю. Бессонница уже у меня. Всю жизнь спал спокойно. А тут мучиться начал. Беспокойство одно с вами. Грузчики наши поселковые все норовят меня на кривой козе объехать, перехитрить. Это я понимаю, а вас понять никак не могу. Вечно мучаешься — обмануть вас или быть честным с вами.
— Мучайся последнюю ночь, — говорит Дрозд. — Вагон с дустом разгрузим и больше к тебе не пойдем.
— Глядите же, завтра ровно в восемь ноль-ноль быть всем как штык у склада.
Мы отпросились у мастера с занятий. И на следующий день затемно пришли на разгрузочную площадку. Снабженец был уже на месте.
— Деньги большие, — сказал он. — Чтобы порядок был, как в танковых войсках.
— Опять не выспался? — спросил я его.
— Не выспался, — согласился он. — Думал, закончите вагон — бутылку вам от себя поставлю. Разобраться мне надо...
Вагон с дустом стоял у склада. Кладовщик со снабженцем выдали нам рукавицы. Потом снабженец принес респираторы.
— Сейчас настоящими шахтерами станете, — сказал он, погромыхивая респираторами. — Ну, кто первый?
— А зачем? — спросил Казерук.
— Для порядку. В шахте без техники безопасности ни шагу. Так что оставить разговоры, орлы.
Мы облачились в респираторы. Похохотали друг над другом и принялись за работу. Десятка два тачек дались нам без труда. А дальше мы начали потеть. Противогазы не спасали от дуста. Он проникал сквозь плотно обхватившую лицо и затылок резину, скапливался, смешивался с потом и разъедал кожу. Мы задыхались в респираторах. Первым не выдержал Беленький.
— Вы, орлы, как хотите, а я разоблакаюсь.
Глядя на него, сняли респираторы Дрозд и я с Казеруком. Но мы были еще далеки от отчаянья. Мы еще не осознали, во что ввязались. В полумраке утра не было заметно облака дуста, окутавшего вагон и склад, мы заметили его, когда взошло солнце. И работать, дышать стало невыносимо. Мы кашляли, как туберкулезники, рвали легкие. А дуста в вагоне не убывало, нам предстояло перевезти в склад тридцать тонн его.
— Я теперь знаю, — говорил Коля Казерук, — почему от дуста погибают клопы. Они умирают от кашля.
— Клопы сегодня лопаются и умирают от хохота над нами. Тридцать тонн хватит, чтобы перетравить всех фезеушников в округе. Мы...
Я споткнулся и упал. Тачка слетела со сходен и опрокинулась. Густое сизое облако взметнулось до крыши склада. Мы оставили тачку лежать на боку, побросали лопаты и отошли от вагона. Хохотали и плакали одновременно. Дуст уже был в нас — в легких, в желудке, в сердце. Но он еще не заслонил, не отравил нашей памяти. В сознании каждого громыхали колеса. Уже отправлялся в Белоруссию, в наш детдом, поезд, и дуст был билетом на него.
Мы продолжали острить и пересмеиваться, когда уже стало совсем невмоготу. Но что-то переменилось в нашем смехе, был он невеселым, грустным: смех сквозь дуст. Вагон был почти полон. А силы уже иссякали. Рубашки наши пропитались потом и затвердели, все тело и мысль были пропитаны и пронизаны запахом дуста. Нам казалось, что у нас кровоточат глаза, губы, лицо. Кружилась голова, цветные мошки прыгали в глазах. И день был глухим, бесконечным и синим, как дуст, который мы разгружали. Только упрямство держало нас у вагона. В полдень к нам пришел снабженец:
— Я думал, вы уже сворачиваетесь...
— Это точно. Мы уже свернулись, — сказал я ему. — Еще час, и из наших шкур можно будет делать барабаны. Это будут хорошие барабаны, звонкие.
— Я вас понял, — сказал снабженец. — В вас нет немецкой исполнительности. Респираторы вы сняли. На технику безопасности вы плюете. Это хорошо. Это как у нас водится.
— Зачем же ты заставлял нас одевать их? — подступил к нему Коля Казерук.
— Для порядку и вашей проверки, — ответил снабженец. — Работать только с респираторами, так гласит инструкция по обращению с дустом. А теперь мочите носовые платки и завязывайте ими нос и рот. Так делают все на дусте.
— Проверки еще будут? — спросил Дрозд.
— У меня же бессонница, поймите вы, — сказал снабженец. — Я должен разобраться в каждом человеке, прояснить его для себя. А вы засекречены для меня, военная тайна. Надрываетесь за рубль, а сами не курите, не пьете и сберкнижек, как я полагаю, не имеете. Какой же у вас интерес к жизни?
— Ты обещал бутылку? — спросил Дрозд.
Снабженец обрадовался.
— Наконец-то слышу голос мужчины.
— На три рубля, принеси нам поесть.
Наш работодатель убежал. И вскоре принес котлет, хлеба и бутылку «московской».
— Это от меня, от чистой души, — сказал он, — без вычета из зарплаты.
Мы ели, не чувствуя вкуса еды. И хлеб, и котлеты казались нам приготовленными на дусте. Бутылку отложили до конца работы.
— Кладу на кон сто двадцать рублей, — сказал снабженец, — только разгрузите вагон сегодня... Не убегайте.
Беленький обдал его облаком дуста, и он ушел, не отряхнувшись. А мы продолжали свою каторжную, работу. Мы уже стали дустоустойчивыми, кроме запаха дуста, на земле для нас не существовало больше никаких других запахов.
Мы продолжали выгружать дуст. По крутым сходням возили его в склад. И когда в сусек опрокинута последняя тачка, в нас нет ни радости, ни Белоруссии, ни детдома.
Не ощущаем мы и крепости водки, которую пьем вместе со снабженцем. Пресная, без запаха и вкуса водица. Не утоляет даже жажды.
— Откройте же мне себя, — просит нас снабженец. — В чем ваш смысл, устав вашей жизни?
— Иди ты... знаешь куда, — говорит ему Дрозд. — Прицепился, как будто всю жизнь разгружал дуст.
— Вот и вся кругом такая молодежь пошла, — сетует снабженец. — Я думал, хоть вы другие. Не с кем и поговорить человеку. Куда только мир катится. А в вас я видел наличествование недоступной для меня мечты.
— Спи спокойно, — говорили мы ему на прощанье, — мечты нет. Один только дуст. Никаких других запахов.
На следующий день мы не пошли на занятия. Не могли двинуть ни рукой, ни ногой. Молча лежали на кроватях и смотрели на висящее за окном красное солнце. Ребята, уходя на занятия, принесли из столовой наши завтраки. Мы не прикоснулись к ним, нас рвало от одной только мысли о еде. Хотелось забыться, уснуть, но и сон не шел. В общежитии было пусто, и к нам никто не заходил, мы никого и не хотели видеть. Как вдруг открылась дверь. На пороге стоял Дмитрий Васильевич. Он нам меньше всего был нужен сейчас.
— У вас тут что, дезинфекцию проводили? — мастер только глубоко втянул в себя воздух, но не решался переступить порог.
— Клопов много развелось, — ответил мастеру Беленький.
— Угорели?
— Угорели...
— Будет врать-то, — перебил Беленького я. — Вроде бы маленько устали, Дмитрий Васильевич. Ну, и там же... угорели... А чо?
— Смотри ты: «маленько», «чо», — мастер заходит в комнату, плотно закрывает дверь. — Да ты, паря, гляжу, сибиряком становишься. И на занятия не ходишь, мастеру правду-матку в глаза не боишься резать...
— А чо... что, не стоило бы правду говорить? — Я сажусь на кровать.
— Иной раз, может быть, и не стоило бы, — подсаживается ко мне Дмитрий Васильевич. — Как-никак, я ведь над вами мастер. — Он поочередно оглядывает меня, Дрозда, Казерука, Беленького: — Ну и видок у вас, скажу я вам. Кто вас жевал?.. Так вот, к тому, стоило бы или не стоило. Я вас вчера с занятий отпускал, а вы и сегодня прогуливаете. Мне за вас перед замполитом отчитываться. Пойдете сами к нему, будете объяснительную писать.
Мастер пытается строжиться. Но строгости в его голосе нет. Нет и у нас боязни перед ним, перед замполитом. Мы готовы к разговору с ним. Я готов.
У меня в подушке завязанные в платок лежат тридцать рублей, заработанных вчера. Еще сто наших общих рублей хранится дома у мастера. Дорога в Белоруссию и назад обеспечена. Но я не испытываю от этого никакой радости.
Мне грустно. Я по-прежнему рвусь в Белоруссию. Не будь у меня сейчас денег, я, наверное, опять пошел бы их зарабатывать. Кидал бы снег, грузил бы уголь, взялся бы даже и за вагон с дустом, разгрузил бы его один. Но деньги лежат у меня под подушкой, и я не знаю, что мне с ними делать, как поступить. Я хочу и боюсь поездки в детдом. Кто меня там ждет? Сравнимо ли мое стремление туда с тем, как меня там встретят. Память о детдоме для меня самая светлая и радостная. Пусть уж лучше навсегда остается во мне это щемящее чувство тоски по тополю у дороги, по усыхающей груше у стежки, по девчонке с высоко поднятой головой, пронесшейся мимо меня. Может быть, я все это придумал, но я уже более полугода живу этим, и это помогает мне жить. Я верю — так было, и мне не надо другой памяти, новой грусти. Пусть во мне навсегда остается недосягаемым, навсегда потерянным островок, к которому я буду стремиться всю жизнь. И тогда, я верю, пройдет время, и эта фезеушницкая тоска озарится новой светлой памятью.
Будет в моей жизни серый и тяжелый день, но память моя взорвет его и осветит радостью уже пережитого и прожитого. И будет оно мне казаться таким прекрасным, ярким и счастливым. Я буду вспоминать парники, уголь, дуст, и Сибирь не будет казаться мне чужой. Я не мерз и не голодал в Сибири, но она меня обкатала тоской и работой. Я привился к ней. Мы, детдомовцы, прививаемся нелегко, но зато уж навсегда. И никогда ничего не забываем.
...Роится уже в солнечных лучах над моей головой застарелая пыль. И я не заметил, когда пришло утро, когда проснулся. А может быть, я еще продолжаю спать. Где я и что со мной происходит? В каком я сейчас году, идет ли война, продолжается ли мое детство или я снова учусь в ФЗО? Где бы я сейчас хотел быть?
Скрипят ворота сарая. Это отец, со света он не видит меня. Я поднимаюсь и сажусь на одеяле.
— Выспался?
— Выспался...
— Не мулко было?
— Нет...
— Что тебе снилось на новом месте?
— Ничего...
Отец обижен, он собирается уходить.
— Подожди, — прошу я его, и он добреет, говорит мне:
— Я знал, чувствовал, что ты уже не спишь.
— Как же ты это чувствовал?
— Погоди, подрастет твой сын, сам поймешь как.
Мы вместе выходим во двор. Росно, свежо. Тихо слезятся отпотевшие за ночь стекла окон. Мы заходим в палисадник, садимся на прохладную скамейку в тени вьющихся побегов фасоли. Возле самой скамейки густо растет горох, на светло-зеленых усиках его, тощих стручках прозрачные капли росы. Я срываю один из стручков, жую. Чуть сладковатая прохлада приятно освежает рот.
— Зеленый еще, — смотрит на меня отец. — Не поспел еще.
— А к полудню поспеет? — быстро спрашиваю я его.
Отец не отвечает. Неужели он помнит? Нет, едва ли...
— В позапрошлом году я копал здесь яму, картошку на зиму закапывал...
— Да... — отзываюсь я.
— В позапрошлом году... И выкопал тарелки. Деревянный ящик истлел, и тарелки почему-то разбитые. Фарфор весь побит, а алюминий весь погнил...
Мы молчим.
— Разбитая посуда — к счастью, — говорит отец. И тут же безо всякого перехода: — Ты помнишь ее?
— Кого? — чувствую, что краснею. — Не помню... Почти не помню...
Я обманываю его. Я все помню.
НЕЗАДОЛГО ДО РАССВЕТА
Ночь стала днем. Горела станция, склады, бензохранилище и пристанционные халупы. Стеклянно мутилось в дыму ночное небо. Разрывы зениток кромсали и рвали его вдоль и поперек, лучи прожекторов тут же склеивали. На станции беспрерывно рвались снаряды. Временами взрывы их заглушали рокот идущих на снижение бомбардировщиков, смешивались с ним. И тогда Ульяне казалось, что это сама земля скрежещет от боли зубами. На секунду-другую воцарялась тишина. А потом грохот и гром продолжались. Тонко посвистывая, сверля воздух, гналась за городом очередная бомба.
Земля вздрагивала, в полнеба всплескивалось зарево. Вспыхивали и качались леса. Качался, будто сорванный с якорей и брошенный штормом в море, темноликий и послушный волнам городишко. Кувыркался между небом и землей, силясь зацепиться хоть за верхушки раскрасневшихся и непрочных деревьев. И не мог зацепиться, не было для него причалов в житейском море. Он покорно съеживался, отступал. От домов, от леса на Ульяну бежали длинные лохматые тени. Гасло пламя, и тени прятались до нового взрыва бомб, всплеска огня.
Налеты на станцию с приходом новой зимы участились. Станция теперь горела почти каждую ночь. Ульяне казалось, что она привыкла уже и к бомбардировкам, и к войне. Но по городу поползли слухи: станцию бомбят потому, что наши войска стоят рядом, освобождение близко. И опять вернулся страх. Страх, как жажда, — выжить, дотянуть до прихода своих. Жажда жизни снимала людей с насиженных мест. И как весной в половодье, потекли людские ручьи. Засновали из городов в деревни, из деревень в города, в леса, болота, глушь, где потише.
Решилась уйти из города и Ульяна. Переждав бомбежку, ранним утром, еще до света, одела она ребятишек, захватила все, что было в доме из еды, на минуту, навешивая замок, припала лбом к стылой доске родного дома и пошла. Тамарка на груди, Димка за матерью своим ходом, только ручонка в руке матери, как бычок в поводу.
За три дня перед этим к Ульяне наведалась свояченица Трофима. Рассказывала, что в их деревне пока, слава богу, тихо. Немцы стоят, но вроде бы не шибко зверствуют. У свояченицы, в ее деревне, и надумала Ульяна переждать лихую беспокойную годину.
Уже километрах в пяти от города Ульяну с детишками нагнала немецкая машина. В другое время она сошла бы на обочину, еще бы и затаилась в кусте, но сейчас приметила среди солдат нескольких женщин и проголосовала. Машина остановилась. Ульяна забралась в кузов, женщины уступили ей место позатишнее, поближе к кабине. И машина тихо покатилась по спокойной и ровной, бьющей синью в глаза зимней дороге. Ехали молча, женщины не расспрашивали Ульяну, куда она держит путь, не пыталась узнать их дорог и она. Немцы всматривались в молчаливый, грузный от снега зимний лес и цепко держались за автоматы. Но беда пришла к ним не со стороны леса, а с неба.
Низко над землей, так, что с деревьев посыпался снег, а перед глазами от рева моторов запрыгали золотистые блестки, повисли два наших самолета.
— Рус Иван, рус Иван, — загалдели, припали к бортам немцы, скинули каски и припрятали автоматы. Но самолеты прильнули еще ниже к дороге.
— Погибель, бабоньки, погибель... — запричитали женщины.
— У кого есть красная косынка? Выбросьте красную косынку.
Красной косынки ни у кого не нашлось. Женщины посрывали платки и начали махать ими самолетам. Немцы не мешали им. От самолетов отделились и поплыли желтые облачка.
— Не разглядели, родимые... Стреляют, бабоньки, стреляют...
Ветви деревьев, стоящих у обочин, закачались, схватился ветерок. Белая метелица переметывала дорогу. Самолеты прошли почти над машиной. Ульяна на минуту вскинула голову, в глаза ударил красный цвет звезд на крыльях. Она ни на секунду не забывала, что это наши самолеты, что у них на крыльях красные звезды. Но никогда не могла подумать, что они такие красные, будто и не рисованные, а живые. Ульяна вскрикнула. Красный живой цвет звезд вошел ей в сердце, и ему стало и тесно, и больно в груди от радости. Она сознавала, что может погибнуть в немецкой машине вместе с немцами, но, целуя Димку с Томой, нашептывала им:
— Надо, родные, так стреляйте, метче стреляйте.
Самолеты зашли на новый круг. Немцы забарабанили автоматами по железу кабины. Машина остановилась, Ульяна бросилась следом за женщинами в лес. Снег был глубоким, и Димка все время увязал в нем и оглядывался назад, туда, где оставалась машина, над которой кружили самолеты. У матери не было сил взять сына на руки, и она тащила его за собой, схватив за воротник пальто. Лес становился все гуще и гуще. Когда за ее спиной раздался взрыв, она лишь перевела дыхание и хотела идти дальше. Но заупрямился и застонал Дима. Ульяна склонилась над ним:
— Что тебе?
— Сапог... Нет сапога...
Дима оперся о мать и вытащил из снега правую ногу. На ней не было ни сапога, ни портянки.
— Где же ты потерял?
— Не знаю, не помню...
— Не в машине оставил?
— В лесу я еще сапогом шел...
— Больно? — спросила Ульяна, прикидывая, что же ей делать.
— Нет... — простонал ободренный сочувствием матери сын. Нога его, изрезанная зернистым и крупным, как соль, снегом, кровоточила на морозе. Мать сняла с себя бушлат, усадила на него сына, положила рядом дочь и принялась искать потерянный сапог... Но каждый след в лесу не перещупаешь, а женщины уже давно перемели проложенную ими стежку. Когда она вернулась к детям, Дима плакал, стоя, как журавль, на одной ноге. На белом снегу возле него растекались красные капли крови. Голая нога была уже синей от холода. Дима смотрел, как она сочится кровью, и скулил, попискивала без матери и Тамара.
Ульяна обмотала ногу сына платком и прихрамывающего потащила за собой на дорогу, к машине. Шли медленно. Еще издали заметила, что машина горит, заметила снующих возле нее немцев и сжавшихся, стоящих отдельной кучкой женщин. И она затаилась. Немцы оттеснили автоматами женщин почти к самому огню, в черный и смрадный дым от резины, и почти в упор расстреляли их.
Ульяна крепко, в губы, поцеловала сына. Дима долго и непонимающе смотрел матери в глаза.
— Вернется наш папа, расскажешь все ему сам, мужичок ты мой, защитник, — не выдержала мать.
— Что, мама? — так ничего и не понял сын. — Про сапог, мама?
— Про сапог, про сапог, сынок...
И они по целику, таясь дороги, тронулись в путь. Быстро выбились из сил и снова ступили на торный, укатанный зимник. Заслышав людские голоса и шум машин, сворачивали в лес, таились под деревьями. Трижды сползал и раскручивался с ноги Димки платок, пока совсем не истерся и не истрепался. Тогда Ульяна приспособила кофту, а потом разорвала на себе и нижнюю сорочку. Под конец пути пришлось пустить в дело и Димкину шапку. Так с шапкой на правой ноге, с лоскутом, чуть прикрывающим голову, Димка с матерью и сестренкой ступили в деревню.
Ульяна с детьми присела передохнуть на первой же занесенной снегом деревенской завалинке. Дима припал к ней и задремал. И Ульяна не торопилась его будить. Деревенская улица была пустынной и тихой. Нигде не дымились трубы, не лаяли собаки. И тропки, ведущие от калиток домов, были еле приметны. Не пахло в деревне ни хлебом, ни жильем, ни человеком, ни скотиной. «Напрасно, напрасно, — корила себя Ульяна, — тащилась я сюда с детьми. Что уж бог послал, дождалась бы в своем селище...» Но родной дом был далеко, и надо было посветлу пока искать свояченицу и устраиваться хотя бы на ночлег.
Настаса, так звали свояченицу, не очень обрадовалась гостье из города. Жила она одиноко. Слыла в своем селе за знахарку, и в доме у нее всегда был достаток. Детей у нее не было. Уже в девках она окривела на правый глаз, подсадила корова рогом на дойке, и навсегда осталась Настаса в вековухах. Так ее и звали — Настаса-вековуха. По молодости порок свой переживала трудно, людей не больно привечала, сторонилась и родни. Жила больше лесом, полем, как божий человек, одна, сама по себе. Но лес и болота, всю дрыгву-трясину на них знала, как лесной зверь.
За это тоже не любили и побаивались ее люди.
— Случайно, проходом или специально ко мне? — нацелилась одним глазом Настаса на Ульяну, не пригласив даже сесть, отдышаться.
— Проходом к матери, — решив не навязываться, сказала Ульяна. — Да вот с сыном беда приключилась, зашла к тебе перемогнуться.
— Ой ты, горе, горе, — запричитала свояченица. — Носит же тебя нелегкая с детьми, пожалела б хоть их... И мне сегодня с тобой не к часу валандаться.
— Я ненадолго, — сказала Ульяна. — Передохну — и ноги в руки.
— Не к тому я, — обиделась свояченица. — Всякое у меня с Трофимом было, а чтоб детей его гнать из своего дома, этому не бывать. Места не проживешь. Картоха у меня есть еще, припрятала надежно. Сгниет, а злыдням не достанется. И какой-никакой обуток сладим твоему сыну...
На этих словах Настаса выскользнула из хаты, погремела, пошебуршила чем-то в сенях и вынесла ладную пару новых сапог, великоватых по Димкиной ноге. Но с портянками они сошли.
И вскоре, отогревшись, Дима довольно топал по хате. Ульяна твердо решила пробираться к матери: день, самое большое два, пока нога не отойдет у сына. А там снова в дорогу.
— Ты не гневайся на меня, донька, — непривычно ласково, будто подслушав Ульяну, заговорила Настаса. — Рада б я была тебя приветить, да некогда. Придется мне сегодня оставить тебя одну.
— На что гневаться, — сказала Ульяна. — У тебя свое. Ни к чему тебе еще мои хлопоты.
— Будешь так говорить, и на детей твоих не погляжу, выгоню с хаты на мороз, — взвилась Настаса. — Ох, гонор...
— А без гонору, тетка Настаса, я бы уже давно со свету сгинула... Им и живу.
— А ты знай, перед кем гонориться.
— Уморилась я без меры, вот и плету абы-что, — сказала Ульяна.
— Терпи, доню, терпи. Недолго осталось. Уже развидняется. Ты молодая, все твои болячки зарастут, как на собаке.
— Духу не хватает, — пожаловалась Ульяна. — Силы есть, а дух уже весь вышел. Состарилась я за эти три года на целый век.
— Не ты одна, — присела рядом с Ульяной, обхватила ее за плечи Настаса. — Оглядись. Думки дурные из головы выкинь. Всем одинаково сегодня, а все держатся. И я, Настаса-вековуха, на что уж недоделок, горе кривоглазое, а и то к людям льну. А тебе и бог велел. Ты на меня не кривдуй и из родни своей не выкидывай. Пока я с тобой, есть что на душе — выговорись. Грех в себе кривду носить.
— Смерть за мной гонится, — сказала Ульяна. — Когда иду, тяну детей на себе, еще ничего, отступает она. А приостановилась — рядом. Устала уже и бояться, и ховаться. Бывает, тетка Настаса, сама я призываю к себе смерть. За три года нагляделась такого, что жизни ни своей, ни чужой не жалко. Зачем мне розум дан? Ничего не могу ни понять, ни переменить, ни остановить. Волчице сегодня легче прожить, и я завидую ей. Дети мои меня на том свете проклянут за то, что я их родила. Вот что мне страшно.
— Такая уж у тебя доля, — сказала Настаса. — Твои дети тебя согнули, они же тебя и выпрямят. Мне б твои хлопоты, я б песенки пела. Три года такой войны, такой войны, а ты девку успела родить. Дочку и сына согреваешь, кормишь, поишь, в самом пекле живое от огня сберегаешь, а волчице завидуешь... Я тоже завидовала, пока на свет глядела не душой, а одним только своим глазом, как в щелку. Я уже тут, среди болот, засыхала, и не надо мне было ничего. Мне бог не дал ни сына, ни дочки. Ничего не оторвалось от моей пуповины и не упало на эту землю. И у меня к ней не было ни интереса, ни любви. Вот ты мать двоих детей. А мне только сейчас, когда пришла война, все родичами стали. У меня одна кровь со всеми, я это почувствовала. Я тоже мать, хотя в руки не брала дитя, ни одного не нянчила и не голубила. И все одно в этой войне я мать, так же, как и ты. Но у тебя еще будет радость, придет час, и люди тебе за твоих детей, за муки твои и богатство поклонятся в ноги. Мне твоего счастья не надо.
— Несчастья, — сказала Ульяна.
— Несчастья? — Настаса ожгла единственным горящим глазом Ульяну, сорвала с головы платок, сивые волосы колыхнулись и поплыли на сухое морщинистое лицо.
— Вот оно — несчастье, перед тобой. Гляди и запоминай. Доброго слова за жизнь вслед никто не сказал. Ведьмарка, Настаса-вековуха. Так, будто кукушка на суку, и прокуковала свой век. Одним глазом на свет божий глядела. А плачут оба, из обоих слезы катятся. И за тебя плачу, за всех нас, горемычных и счастливых. Равнять тебя со мной, так мне до тебя, как небу до земли. Но сегодня и я счастливая. И скажу тебе, донька, по секрету. Может, я на смерть сейчас иду, а счастливая. Чему быть, того не миновать. Может, кто помянет добрым словом и Настасу-вековуху. А теперь ты у меня ничего не выпытывай. Оставайся тут за хозяйку.
Настаса собрала на стол, усадила Ульяну, но сама есть не стала. Посмотрела, как ест гостья, наказала еще раз, что где лежит, клюнула ее сухими губами в лоб, в щеки, в губы, перекрестила. Стукнули двери, мелькнул за окном ее платок. И Ульяна осталась одна в чужом и непривычном ей доме. Непривычной была и тишина на улице. Тишь и покой мешали, никак не давали настроиться на что-либо одно, и Ульяна думала обо всем сразу: о войне, Настасе, детях, Трофиме и ни о чем.
В хате было прохладно. Возле печи лежали приготовленные Настасой сухие сучья. Сучья были тонкие, ломаные без топора, через колено. Ульяна представила, как Настаса ходила за ними в лес. Увязала в сугробах. Тянулась за ними к деревьям, привставала на цыпочки. Фуфайка расстегивалась, из-под нее выбивался платок, ползли на глаза волосы, застилал глаза пот. Распаренная, сухими, как сучья, руками она ломала себе топливо и еле живая, согнувшись в три погибели под вязанкой хвороста, снова тонула в сугробах. С сердцем кидала сучья посреди хаты и долго отдыхала, устало подперев тяжелую голову рукой. И Ульяне стало жалко этих одиноких бобыльных сучьев, у нее не поднялась рука сунуть их в печь.
Она собрала какое только было в доме тряпье, свалила его на деревянные нары у русской печи, запрятала в это логово детей, зарылась сама. Ждала, сама не зная чего. Дочка похныкала, похныкала и успокоилась у материнской груди, пригрелась, уснула. Спал и Димка. А к Ульяне сон не шел, и она не знала почему. Вымоталась за день без меры, а в глаза будто песку насыпали. Тело ныло и гудело. Усталость в нем была давняя, застарелая, та, при которой чувствуешь каждую косточку, и чтобы шевельнуть рукой или ногой, надо прикладывать силы, приказывать себе.
Одинокие зимние женские ночи, кто знает им цену. Боль, тоску, тишину и однообразие их. Все, ради кого день билась, уже спят. Все, что было придавлено и заглушено день, два, год назад, — перед глазами, у изголовья. Былое счастье отошло бог весть куда. А ночь тянется, как подвода, запряженная волами, скрипит на зубах песок, во рту горько от полыни, губы обметаны дорожной въедливой пылью. Мысли, как моток ненужной пряжи, рвутся, узелок на узелке. Под нарами скребется, будто по сердцу, голодная мышь.
Мысль все время возвращается к этой мыши. Ульяне становится ее жалко, как самое себя. Кажется, что это вовсе не мышь, а ее собственная потерянная душа рвется из затхлого и холодного подпола к теплу и жизни. Но постепенно мышь становится противна упрямством, страхом, бессмысленной и темной жаждой жизни, противна от тонких и подвижных усиков до голого хвоста. Усталое тело протестует и не находит себе места на жестких нарах, среди пахнущего чужим потом и духом тряпья. Молочный запах и спокойное дыхание детей проясняют помутившееся сознание. Вера и покой приходят, когда ночь уже кончается, и под глазами залегает синева, под глазами и возле губ прорезаются тонкие, как пчелиное жало, морщинки. Завтра она узнает о них без зеркала. Узнает по вздоху сына, по новому слову, пришедшему за ночь к дочери, по ее крепнущему топотку, по яснеющим осмысленным глазам детей, по тем новым, неведомым ей раньше черточкам на лице, в характере, в их поведении. Вот где она и видит, считает свои морщины. Чем румяней и здоровей щеки детей, тем впалее и морщинистее ее лицо. В этом и война, и беда.
Ульяна прислушивается. За стенами грохочет война. Война опять нагнала ее в тихой, затерянной среди лесов и болот деревушке. Нигде никому нет от нее покоя.
Война дыбила землю за деревенской околицей, разрывами снарядов, пламенем горящих сараев и пороховыми газами катилась по деревенской улице. И некому было тушить пожарища, и нельзя было понять: то ли день стоит на земле, то ли ночь.
Проснулся, поднял голову из тряпья, как галчонок из гнезда, Дима. Послушал и скривился, захныкал:
— Есть хочу...
— Что же я тебе дам? — уговаривает его Ульяна. — У нас ничего нет.
— Ага, а на печке картошка. И Тамара картошки поест...
Картошка действительно лежала на печке. Но она была сырой.
— Распали печку, — просит Дима. — И мы печеников напечем.
— В печке черти, — пугает сына мать.
— Ну и пусть... Я есть хочу, чертям картошки дам...
Димка подпрыгивал на нарах, но не мог уцепиться за скользкий, обтертый и засаленный край печи. Ульяна не выдержала, встала и подсобила ему. Димка забрался на печь, взял по картошине в руки и громко, так, что во сне вздрогнула Тамара, закричал:
— Мама, картошка! Пеки картошку!
— Ой, не кричи, сынка, ешь ее сырой. Ничего не будет. Зубы только станут здоровей.
Звякнула щеколда у двери. Кто-то шел в хату. Ульяна напряглась и затихла. Замолчал и Дима.
— Есть тут живая душа? — голос был женский, старческий.
— Проходи, бабка, есть, — ответила Ульяна.
— Ох, молодица... Вдвоем хоть веселее будет. Конец света идет. Спаса не будет никому — ни зверю, ни люду... Я в землянке таилась. Сейчас выглянула, а дом мой сгорел... На головешечки помолилась и пошла. Куда тут мои кости старые приткнуть?
— Ложись с нами, — подвинулась Ульяна. — Теплее будет.
— От меня жару не дождешься. А дом мой горел жарко. Справный был дом. Ой, лихо-лихолетье, сгореть бы и мне в нем, погреться хоть последний разок... Дед мой перед войной помер, как раз угадал. Дом мне оставил, квартирантов пустила. Все прахом, все собаке под хвост.
— Ты спи, бабка, отстроишься еще, — попыталась успокоить ее Ульяна, — дом дело наживное. О нем ли в такой войне думать. Тут люди жизни лишаются.
— Люди, молодица, что... Убило б ненароком меня. Дом бы не пропал, люди б облюбовали. А вот сгорел он, куда мне податься? В богадельню? Кто о селище сегодня не помнит, думаешь, после войны вспомнит? У хозяйского человека все должно быть в голове сразу.
— Всему свой час, — сказала Ульяна.
— Молодой хорошо говорить, — вздохнула старуха. — Старый малого разумеет скорей, чем молодой старого.
— Мама, я уже наелся, хочу к тебе, — попросился на нары Дима.
— Прыгай, тут мягко.
Дима комом свалился на ноги матери.
— Ты нездешняя, вижу? — опять подала голос старуха.
— Из города.
— Оно и видно. Розум твой городской... Как там?
— Война.
— Дом твой сгорел?
— Уходила — стоял.
— Ой, лихо-лихолетье... Спишь?
Ульяна не отозвалась. Но ей не спалось. Было и тесно, и душно. Она легла не раздеваясь, в сапогах, в бушлате. Ночь билась в окно сплошными вспышками разрывов снарядов. Уши уже привыкли к грохоту, но свет пугал. Старуха разбередила душу. Ульяне было и жалко, и не жалко покинутого дома. Но в него было вложено столько трудов, что хотелось, чтобы он уцелел, выстоял. И чего бы ему не стоять — срублен на сухом высоком месте. Штандары дубовые, крепкие, гнить им не от чего. Пол над землей высоко. Стены еще крепкие, как зуб, ни шашеля, ни червяка. Недоштукатурены, но это не беда. Трофим вернется с войны, пусть тоже не заботится, пусть отдыхает. Она сама доштукатурит стены, покрасит полы, выложит из кирпичей по двору дорожку. Кирпич к кирпичику, как деды мостили Гомель. Дорожку посыплет белым речным песком с чертовыми пальцами. Будут дети играть в песок, собирать чертовы пальцы. Она же для детей обсадит огород подсолнухами, бобом и горохом. Пусть забавляются. Под окнами разведет желтые георгины, пустит по штакетнику фиолетовый вьюнок, цепкий хмель. Дли Трофима посадит грядку табака, среди его развесистых дурманных листьев будут в полдень прятаться от жары, купаться в песке куры. А чтоб в доме совсем запахло жильем, как только разживутся, купят корову. Трофим любит молоко... Где он сейчас, Трофим? За все годы войны по пальцам можно пересчитать, сколько раз видела его. А дети и не представляют, что у них есть отец. Диме только раз довелось посмотреть на батьку, и то смотрел больше на винтовку, чем на него. Винтовка ему уже дороже, чем батька. В последний раз и детей не стала будить. Постучался Трофим в полночь в окно. Ворвался в комнату, в камешник сунул ружье, обдал запахом самосада, пороха и пота, скользнул щетиной по лицу, припал к детям:
— Береги!
И исчез. Будто приснился.
Ульяна прислушалась. Тонко посвистывала, забыв про сгоревшее селище, старуха, бесшумно и- ровно дышал сын, подтянув колени к подбородку, спала дочь. Мать склонилась над ее распаренным потным личиком, зацеловала, заласкала его губами, притянула к себе послушную и легкую, будто птичью, головенку, припала к ней губами. «Ягодка моя несчастная, лобик мой чистый, глазки ясные, долюшка твоя горькая. Все верну тебе, все отдам. И папа будет у тебя, и мама. И долго-долго мы будем с тобой жить. Молочком одним тебя поить буду. Пушинке не дам сесть на тебя». Погладила сына. Он встрепенулся, не просыпаясь, обхватил руку матери, прижал к себе.
Ульяна подождала, пока не успокоится, осторожно высвободила руку и поднялась. Вышла на крыльцо глянуть, что творится на улице.
Ночи как и не бывало. Но не было и дня. Полуразбитые дома со слепыми провалами вместо окон и дверей, сплошными провалами стен, то вырисовывались, как на картинке, то пожирались теменью. И эта промозглая молчаливая темень была страшнее слепящего света разрывов. Свет разрывов гас мгновенно, но в эти мгновения от подступившего к деревне леса бежали, все удлиняясь и удлиняясь, темные извивающиеся тени, тени бежали и от уродливых в ночи домов. И женщине чудилось, что тени эти живые существа и они в любую минуту могут дотянуться до нее, обвить и смять.
Уже закрывая дверь, у порога наступила она на что-то мягкое и хрусткое. Присмотрелась. По полу к щели в двери в сени шли мыши. Шли густо, впритык, одна к другой. Ульяна прикусила губу, чтобы не закричать. Она боялась мышей, но тут не побрезговала, наклонилась, перекрыла им дорогу руками. Мыши ползли через руки к свежей струе воздуха, попискивали, налезая одна на другую. Женщина шурнула рукой, отбросила их на середину комнаты. Но они тут же снова поползли.
— Куда же вы? — шепотом, боясь своего голоса, спросила Ульяна. — Дурные мыши, куда вас несет из тепла?
А мыши шли и шли, деловито и напористо.
— Не пущу! Не пущу! — заплакала женщина и, как мать, которая пытается удержать в доме сына, как покинутая жена, умоляющая мужа не сиротить детей, легла поперек порога на пол. Но потом поднялась и обессиленно пошла к нарам.
Хотела лечь рядом с детьми, но, побоявшись потревожить их, разбудить говорливую старуху, полезла на печь.
Первым ее желанием было немедленно бежать из этого дома. Но теперь она решила дождаться утра. Иначе все пришлось бы рассказать старухе, а говорить с ней у Ульяны не было сил и желания.
Она села на краешке печи, свесив ноги к полатям. На какое-то мгновение почувствовала себя девчонкой, сидящей на обрывистом берегу деревенской речки, улыбнулась, попробовала даже поболтать ногами. Но тяжелые яловые сапоги чиркнули подковами каблуков о кирпич. И женщине стало обидно за эти тяжелые яловые сапоги, за теплый, но нелепый и тоже тяжелый бушлат, под которым уже чешется бог знает когда мытое тело. Она застыдилась самой себя, загнанной ни за что ни про что бог знает куда, не нужной никому, кроме детей. Забилась в самый угол печи, оперлась спиной о стену и, чуть скосив глаза, принялась осматривать в прошеек между печкой и стеной избу.
Сквозь этот просвет Ульяне хорошо было видно окно. Стекла его почти все время мигали красным светом, как светофоры. За каждой вспышкой раздавался удар, и стекла позванивали, будто в ознобе. «Выдержит или нет до утра? — подумала Ульяна и вспомнила про свой дом. — Целы ли в нем сейчас стекла? Забыла, совсем из головы выпало, закрыть ставни». Свет, вспыхнувший в окне, выхватил из темени дверь, печку. Ульяна заметила открытую вьюшку и задвинула ее. Закрыла глаза и задремала.
И приснилось ей, что она вовсе не спит и будто она дома, в постели, в своей комнате. По правую руку от нее лежит сын, по левую — дочь. Дети спят. А на улице бушует гроза, в окна бьют молнии. А у нее в доме не закрыта вьюшка. И надо подняться, закрыть ее, чтобы через дымоход в дом не влетела молния. Но она не может подняться. Сын с правой стороны клонит ее голову к подушке, дочь — с левой. И оба плачут, умоляют сквозь сон: «Не уходи, мама, не уходи. Как мы без тебя жить будем?..»
Молния уже нацелена на ее дом. Большой и громадный человек не человек — черт с лысого болота — выпустил молнию на черную ладонь и потехи своей ради направил в Ульяну. Надо закрыть вьюшку, но Ульяна не может оторваться от детей, канатами привязали они ее к себе, по волоску прикрутили голову к подушке. Она смотрит в черный зев печи и видит в нем свою смерть: нагнала все же, настигла. «Погоди, не спеши радоваться, — думает Ульяна, глядя на свою смерть. — Сейчас закрою вьюшку и заслонку, и жарься в печи».
Ульяна приподнимается, но детский воздушный красный шарик уже в предпечье. Выпрыгнул из черной и густой, как собачья шерсть, сажи, подскочил, свалился на пол и покатился волчком, нечистой силой поплыл по дому к кровати. Жаром обожгло шею...
Ульяна взмахнула руками, обхватила детские головенки, чтобы не повыжгло им глаза, притянула к своей груди.
...Снаряд ударил в косяк двери. Выворотил дверь, разворотил печь. Осколок попал Ульяне в шею. Взрывная волна подняла и бросила ее на деревянные полати, на детей, словно предоставляя им в последний раз взглянуть на свою мать. Но и в этой последней прихоти судьбы не было милосердия. Волна подняла ее легко, как шалый осенний ветер поднимает с земли покоробленный последний сухой лист, сам не зная, для чего. А смерть ее была мгновенной и легкой.
Она лежала на деревянных нарах, подтянув к себе ноги в тяжелых рыжих сапогах, среди тряпья и хлама, откинув на темную рогожку бескровное спокойное лицо. Синие и красные сполохи беспокойной ночи судорожно, но безразлично ощупывали ее уже начавшее светлеть и заостряться лицо. Ребятишки ползали по телу матери, кричали и плакали. Хватали неподвижные руки, стремясь поднять ее и поставить на ноги...
Старуха соскочила с полатей еще до того, как на них рухнуло тело женщины. И сейчас она молча, со слезами на глазах, смотрела на детей. В распахнутые без стекол окна било пламя горящей на огороде копны сена, и ей были хорошо видны наливающиеся синью губы женщины, синеющие от крика и плача лица детей. Руки их были в материнской крови, они терли ими глаза. И по щекам их, казалось, катится кровь. Старуха на своем веку насмотрелась всякого, и ей не то чтобы не было жалко детей, она была безразлична к их судьбе. На ее глазах сотни раз умирали и взрослые, и дети, и свои, родные, и чужие, и она привыкла к смерти. Но такое она видела впервые и не могла остаться равнодушной, испугалась, забыла даже про свой сгоревший дом. Закрыла лицо руками, чтобы не видеть детей, и отошла к окну, пробормотала: «Пронеси и пощади», перекрестилась на пламя пожара и выбежала сквозь проем двери на улицу. Дверь была сорвана и валялась под кирпичами на полу.
Девочка положила голову на руки матери, обхватила, прижалась к ней и уснула. Мальчишка еще некоторое время всхлипывал, потом поднялся и стал поднимать сестру. Но та цепко держалась за руку матери и не давалась ему. Тогда Дима закидал сестру тряпьем, сполз с полатей и пошел к выходу. Запнулся о кирпичи, упал и пополз по ним. У порога поднялся и, держась за лушняк, в последний раз оглядел горку наваленных на полу, серых от пыли и когда-то сжигавшего их жара кирпичей, истерзанную, но все еще белую печь, за нею темные, так пугающие его сейчас полати. На всю жизнь запомнил, как сфотографировал, чужое тело матери на них. Длинную белую-белую шею, темную рану на ней. Это была уже не его мать. Его мать не могла оставаться такой спокойной, когда он с Тамарой плачет и просит подняться ее. Она бы не выпустила его сейчас из дому, а эта лежит и молчит. Чужая женщина.
Дима уже знал, что на свете есть смерть. Он уже видел, как умирали старухи, старики, женщины, дети, падала и не поднимались. Это было страшно. Но это были чужие ему люди. Детское сознание не могло вместить в себе смерть матери, этого не могло случиться никогда, никогда. Мать была его единственным посредником и единственной связью с миром. Детский эгоизм и ощущение беспомощности соединились не только жалостью к себе, сестре, матери, но и обидой на мать, обидой на ее безразличие и неподвижность. Мать была необходима, чтобы взять на руки Тому, взять за руку Диму и пойти искать отца, хлеба, тепла. И надо было сию же минуту растолкать, разбудить ее; у Димы с Тамарой не хватало для этого сил. Надо было найти людей, надо было поднять мир на ноги, чтобы он вернул им мать.
Дима шагнул за порог. Копешка в огороде уже догорела. Ветер разметывал по снегу золу. Над землей продолжалась ночь. Наконец-то перед рассветом установилась ночь, равнодушная и к нему, и к его матери, сестре. Она дала передышку только солдатам, чтобы с рассветом, а может быть, к вечеру снова начаться пожарам, и смертям, и детскому плачу, и кровавым слезам.
Мальчишке стало холодно. Он сошел с крыльца и выбежал на улицу. За углом дома, из которого он только что ушел, начиналась горка. То ли днем была оттепель, то ли от пожаров горка притаяла и сейчас была покрыта льдом. Дима попробовал съехать с нее, но поскользнулся и упал. Постоял в ложбинке, прислушиваясь к тишине, и начал подниматься. Опять раза три или четыре поскользнулся. Это и натолкнуло его на мысль покататься. Мир, улица остались привычны и неизменяемы. Снег был холоден и мокр, ночь темна, вспышки от взрывов снарядов ярки и сами взрывы громки. Все так же, как и до того, когда мать потеряла голос и перестала двигаться. Значит, будет и рассвет. А на свету все будет, как прежде. И Дима, разогнавшись, покатился вниз. Ударил в лицо ветер и высушил его глаза. Под ногами хрустко и весело постреливал лед. Диму зашатало, заподбрасывало на наледях. Он расставил руки. Но не удержался и шлепнулся. И дальше катился с горки, прижав к коленям полы пальто.
Внизу улица поворачивала, и на повороте мальчишку занесло в сугроб. Скорость пригнула его голову вниз, и, врезавшись в снег, он клюнул в него лицом. Засмеялся, стряхивая таявшие на носу, на щеках снежинки.
Он торопился накататься, пока не начался рассвет и не вышли на улицу люди. Люди бы разбудили мать, и она стала бы ругать его за то, что он протирает по льду последнее пальто и светящиеся, как сито, штанишки. Он подпрыгивал на ухабах, хватал горстями снег, толкал его в рот. Ведь это впервые он без надзора взрослых катался на горке. И хорошо, что мать с сестрой лежала в хате и не могла его увидеть. Но вот, готовясь к новому спуску, он заметил, как в ложбине мелькнули какие-то тени, и Дима что было сил побежал вниз к ним.
В ложбине было пустынно. Но Дима видел, что тени скрылись за домом, несколько раз обошел его. Никого. Постоял, прислушался. И скорее почувствовал, чем увидел, что кто-то опять идет по дороге. Он снова выбежал на улицу. Три человека в белом и четвертый — в сером, пригибаясь к обочине, уходили от него. Дима бросился бежать за ними. Люди тоже наддали. Тогда он закричал. И дорога стала пустынной. Дима испугался. Он бежал что было мочи и кричал, кричал. Падал, обивая до крови об острые храпья льда руки, и не слышал боли.
Кончилась деревня. Дальше были поле и лес. Бежать было некуда. И Дима остановился, повернулся и тяжело зашаркал сапогами, пошел в деревню.
— Стой! — настиг его мужской окрик.
— Дяденька! — завопил Дима.
— Тихо, — пригнул его к земле чей-то шепот.
Дима боязливо поднял голову, увидел перед собой троих мужчин в белых маскхалатах, с автоматами наперевес, увидел красные звездочки на их ушанках. И не выдержал, завопил снова:
— Дяденьки!..
— Тихо, кому сказано.
Но этот шепот был уже не страшен Диме.
— Что тебе, малыш? — спросил его один из красноармейцев.
— Дяденьки, — приглушенно заговорил Дима, — немцы маму мою убили. Лежит, не поднимается. И сестра с ней. Сестра живая.
Из-за спины одного из красноармейцев вышла Настаса.
— Тетка Настаса, — кинулся к ней Дима, — а где твой автомат?
Настаса молча прижала Диму к себе, к холодной и сырой фуфайке. Дима заплакал.
Красноармейцы о чем-то засовещались, потом заспорили. Уже подбирался рассвет. И Дима старался рассмотреть лица красноармейцев: добрые они или злые. Но света все же было мало. А красноармейцы были так одинаковы в своих маскхалатах и так похожи друг на друга.
— Оставайся! — приказали они Настасе.
— Родня, — глухо ответила она им. — Там еще живая душа, девочка.
Красноармейцы повернулись и пошли.
— Стойте! — крикнула им Настаса. — Впереди чертова прорва, трясина, болото! Вам одним не пройти.
Красноармейцы остановились.
— Я управлюсь до света туда и назад.
— У тебя дети! — уже на ходу отозвался один из красноармейцев.
— Всюду дети, — сказала Настаса. — Все мы дети.
— Нет, — ответил все тот же красноармеец. — Оставайся с детьми. У меня тоже двое.
— Я беру грех на себя. Пойду с вами. И надо торопиться, пока не рассвело.
Настаса оторвала от себя ручонки Димы, поставила его на землю и оттолкнула.
— За деревней стог сена, — сказала она красноармейцам. — Он будет гореть часа три. Хлопчик переждет нас там. При хорошей ходьбе управимся...
— Ну что, мужик, — сказал один из красноармейцев. — Пойдем пока до стога с нами, да не реви.
— Я не реву... А мама? Тома?
— На, поешь, — перебил Диму все тот же красноармеец.
И Дима вспомнил, что голоден, очень голоден, что больше всего на свете он хочет сейчас есть. Он протянул руку. Ему вложили в нее кусок хлеба.
Хлеб был белый, с маслом, посыпан сахаром. И он проглотил его, даже не заметив. Красноармейцы взяли Диму на руки. Он облизывал липкие в сахаре пальцы и удивлялся, почему хлеб был сладким, а пальцы соленые.
Красноармейцы остановились возле стога сена. Один из них чиркнул спичкой и поджег стог.
— Жди нас здесь, — сказал он Диме. — Жди. Утром мы будем в деревне. Грейся, мужик.
Настаса так и не подошла к нему, не раскрыла рта. Первой и тронулась по целику к лесу.
Завороженный разгорающимся сеном, теплом Дима ничего не слышал и не видел. Когда обогрелся, никого уже рядом с ним не было. И горящий стог сена и жар от него стали страшны ему, страшен был и начинающийся за деревней в поле день. Пугала уходящая вдаль, в поле, в лес ровная цепочка следов. Он бросился бежать по этим следам. Но красноармейцы шагали широко. И Дима тут же утонул в снегу, пополз, потерял шапку. Захлебываясь от обиды и слез, возвратился к огню.
Он не помнит, как долго горел стог сена. Может быть, он спал. Но когда огонь погас, Дима пошел в деревню. Деревня была все так же пустынна и горела.
Утренний бойкий ветер разметал золу, раздул пригашенные головешки и разнес огонь по домам и сараям. Дима бродил у пожарищ, пытаясь разыскать дом, в котором были его мать и сестра. Но все дома были похожи друг на друга и нисколько не похожи на тот, из которого он ушел ночью. Дима быстро устал. И вскоре уже просто так брел по притихшей и пустой деревне. И дальше он не помнит, что с ним было...
— У меня она перед глазами как живая... — говорит отец.
Я молчу. Мне надо подняться, уйти.
— И ни одной нигде ее фотокарточки, — продолжает отец. — И документов не нашел...
— У нее были рыжие яловые с длинными голенищами сапоги, — говорю я.
— Да... А ты откуда знаешь? Я сам сшил. — Отец рывком поворачивается ко мне.
— Паспорт и документы были за голенищами этих рыжих сапог. Паспорт потертый, да так, что корочка казалась байковой, зеленая, мелкие нитки во все стороны. А откуда помню, сам не знаю. Память...
— Ты что же не сказал мне сразу, где документы? — хватает меня отец за плечо.
— А ты... Почему ты меня не разыскал ни тогда, ни сейчас? — Моя рука тоже на плече отца. Отец снимает руку и отворачивается.
— Война...
— Война, — повторяю я.
— И когда только это кончится, сынок? Ты грамотный, растолкуй мне, старому дурню.
— Ты Настасу простил?
— Ее счастье, что она погибла.
— Я, наверное, к тебе больше никогда не приеду, — говорю я отцу.
Мы долго молчим. Потом отец начинает рассказ:
— Я нашел и похоронил твою мать через две недели после того, как ее убили... Две недели не дожила до нашего прихода. Мне дали всего три часа. Мама наша как спала, и красивая, и белая такая. Поджала под себя ноги, закинула голову. Живая, живая... А переодеть, обмыть не смогли. Не смогли снять сапоги... Ульянка, Ульянка...
— Хватит, — прошу я отца.
— Подожди... Томочку нашли мертвой под печью... На полу расстелен теплый клетчатый платок мамин. А Томочка под печью, и на щеках замерзли слезы...
— Ты это мне нарочно рассказываешь?
Я вскакиваю. И нет для меня теплого ясного дня. Нет надо мной синего, светлого неба. Опять разрывы снарядов, запахи гари и пороха. Я существую одновременно в разных возрастах и не знаю, в каком из них больше моего «я». Оборванный, перемазанный кровью мальчишка — во мне живет его память. Подросток-пастух с увазганным в навозе березовым прутом — это моя злость или скорее озлобленность голодного и холодного времени, настырность и совесть. Собственно, я — первый встречный, прилично одетый парень с городской улицы, внешне даже самодовольный и преуспевающий. Все это вмещается во мне. И не придумано мной. Бывают минуты, когда все вместе они берут меня в кольцо, которое неспособны прорвать все армии мира. И тогда во мне разбивается все сегодняшнее благополучие, оставляя место только правде. А самая беспощадная правда — это правда о себе. Я и сейчас в ее кольце, в кольце всех моих «я», собравшихся из разных времен.
— Ты сегодня заговоришь, Дима... Пусть твоя память объяснит меня в настоящем, — обращаюсь я к себе, к мальчишке из далекого предрассветного дня.
Мальчишка молчит отчужденно и жалко, лишь укоризненно, не мигая, смотрит красными кроличьими глазами.
— Крутишься, как гад на угольях? — поддевает меня подросток-пастух.
— Кручусь... Жжет. Не могу вспомнить, не могу понять, действительно ли в тот раз я пытался спасти сестру. Убежал из дому, чтобы позвать людей, или просто сбежал? Сбежал, спасая тебя.
Мальчишка молчит. Его красными кроличьими глазами смотрит моя беспощадная память. А тот, взрослый и самодовольный, стоит в стороне и ухмыляется всепонимающе. Ненавижу его в эту минуту. Его час уже прошел. Это он, не я спорил с отцом.
— Ты спасал и спасался, — разумно объясняет самодовольный. — Диалектика.
— Да. Диалектика. А моей сестре было два года.
И она ничего не знала о диалектике. Она замерзла под печью, как цыпленок, на полувсхлипе. А я живой. Мне иногда говорят, что все, о чем я рассказываю, вспоминаю, я придумал. В четыре, даже в пять-шесть лет я не смог бы столько запомнить. Но я сам помню все. И это нелегко. Особенно тяжело стало теперь, сейчас, когда я понял, что смог бы спасти сестру.
— И погиб бы сам! — издали, уходя, кричит тот, самодовольный, кем я чуть было не стал.
— Может быть, я попросту сбежал от мертвой матери, от замерзающей сестры? Как позднее, после войны, сбежал из отцовского и мачехиного дома?..
— Но тогда, после войны, никого не надо было спасать, — говорит пастух.
— Никого, только себя... Мать погибла из-за меня, Тамара замерзла из-за меня, отец дважды совал голову в петлю из-за меня. А я жив. Жив и почитаем. Пью вино, ем высшего сорта хлеб, балагурю. Когда же настанет мой черед расплачиваться за все? Чем? Тем, чтобы не делать никому добра и зла? Так нет, понимаешь, нет на земле подобного бездеятельного существа.
— Но отец тоже виноват в том, что ты сбежал из дому, — говорит подросток-пастух.
— Я сам так думал, пока у меня не появился на свет сын.
Часто перебираю в памяти свою жизнь. Но в ней так мало, почти нет таких минут, где от меня бы требовалось все. Все мелкое, житейское, обычное. Работа, учеба, учеба, работа... И неизвестно, как я себя поведу, когда придет этот единственный случай, который потребует меня не по частям, как сейчас, а всего сразу. Не придется ли мне снова разрываться на тысячи частей и казнить себя?
ШАХТА
Я шел по основному штреку, я знал его так, что мог бы пройти, выключив свет. Без света мог бы перебраться через все мостки и переходы у конвейеров. Я наперечет знал все поломанные доски на тротуаре, знал каждую нишу и каждый пускатель в них. Эти пускатели я устанавливал сам, вместе со своей бригадой ладил мостки и стлал конвейеры. Все мне в нем было знакомо и привычно. И шел я по нему привычным неторопливым шагом, будто в гости, как всегда ходят шахтеры на работу.
До моих монтажников оставалось еще с километр. И тут я поймал себя на том, что тороплюсь. Перебираясь через переход, у последнего конвейера, я поскользнулся, сломал поручень и едва не упал на ленту транспортера. Но не остановился, будто ничего и не было. И только за переходом, когда уже не стало слышно повизгивания роликов ленточного конвейера, я испугался и замер. Но ничего не понял. Пошел, вернее, побежал дальше. И едва снова не упал. Запутался в штанине брезентовой робы. Сел на тротуар, переобулся, заправил штанины в сапоги. А пока я был занят этим, перед глазами все плыла и плыла черная резиновая лента, груженная углем. И на этой ленте в черной массе угля, проползающей под низкими мостками, я увидел себя — лента везла меня, а я барахтался и никак не мог встать на ноги. Не знаю, что для меня было страшного в том, что я увидел себя на транспортере. Хотя это и строжайше запрещалось, но мы, монтажники и забойщики помоложе, часто въезжали на основной ленте конвейера. Что испугало меня сейчас? Откуда страх? Может, от несчастного случая, происшедшего на моих глазах несколько дней назад?
...Задавило помощника начальника участка — практиканта, студента горного института. Помощник вышел на поездку лавы. Посадчики уже подрубили стойки, и лава пошла. Я с помощником слушал, как гудит порода и стреляют, переламываясь пополам, лесины. Грохот стоял минуты три-четыре, не больше, потом наступила тишина. И посадчики, рослые и. молчаливые, в неестественно белых, не замаранных углем и угольной пылью спецовках, выставив вперед топоры на длиннющих и тоже белых топорищах, нырнули в замершую лаву. И лава снова загудела, но уже от ударов топоров. С пушечным громом лопались лесины, свет ламп жалил и крестил выработку, будто в ней сошлись и скрестили клинки два эскадрона кавалеристов.
Лава еще продолжала гудеть от ударов топоров, а посадчики в своих белых спецовках, как привидения, уже выскочили из нее. Они еще не успели отереть пот, как из лавы пахнуло свежим воздухом, и глухой звук низвергаемой породы, как эхо отдаленного боя, покатился по выработкам к самому выходу из шахты, к штольне. И опять наступила тишина. Лава не хотела садиться. Посадчики слушали ее и молчали. Помощник был молод и горяч.
— Ну, что расселись? — закричал он.
— В третий раз судьбу не пытают, — тихо, но твердо сказал бригадир посадчиков.
— Чепуха!
На него никто даже не взглянул.
— Топор мне! — закричал помощник.
— Мой тебе совет, — сказал бригадир, — позвонить и вызвать главного инженера. С тобой я отказываюсь садить лаву.
Помощник привстал на носки, выхватил топор, оттолкнул бригадира и мягко, будто в танце, шагнул в лаву.
Он успел только раз тюкнуть топором, только дотронулся до стойки... А потом долго кричал: «Мама!»
Я уговаривал себя, что с моими монтажниками ничего не может случиться. Что может случиться с Казеруком, Беленьким, Дроздом? Ведь я их знаю с детства, мы же друзья. После ФЗО даже расстаться не захотели и работаем на одной шахте, в одной детдомовской бригаде.
Но и этот самый убедительный для меня довод не мог заглушить тревоги. Я ни на минуту не забывал, что сегодня у моих монтажников за все три года работы в шахте самое опасное задание. Им надо было в старой, заброшенной, местами уже передавленной выработке разобрать и перенести в новую, только что нарезанную лаву скребковый конвейер. Я корил себя за то, что согласился на предложение начальника участка заменить ушедшего в отпуск механика. Это из-за моей новой должности я сегодня задержался с выходом в шахту, закрывал наряды. И без меня, без бригадира, погибли монтажники. Я уже почти видел, как это произошло. Все Беленький, торопливый Толик Беленький. С двухпудовым рештаком на спине он полз через передавленную выработку, торопился, ему было душно. Выработка почти не проветривалась. В нос бил запах сероводорода, гниющего дерева. Беленький задел рештаком прогнившую стойку. Стойка переломилась, на Толика рухнула огнива, и пошла порода. И он тоже, как помощник начальника участка, из последних сил привстал на колени и долго кричал: «Мама!»
— Мама... — это стонал уже я. Помнящие и не помнящие мам, мы всегда вспоминаем их, когда нам невмоготу. Я припал лбом к отпотевшей скользкой и холодной стойке.
— Нервы. Все нервы. Слышишь, все нервы! — закричал я все той же стойке и ударил по ней кулаком. Это весна. Я обхватил стойку обеими руками. Мне надо было успокоиться. Я до рези в глазах вглядывался в черную шахтовую плесень, оплевшую дерево, пока у меня не закружилась голова... В этом году была очень длинная зима. И все время морозы под пятьдесят. А когда морозы и туман, и нет долго солнца, и все зима и зима, нервы не выдерживают... И начинает казаться, что за тобою по пятам идет беда.
Все, что я говорил себе, было правильно. Более того, весна для шахтеров такая же страдная пора, как и для хлеборобов. Весной всегда горит план. И начальство объявляет выходные днями повышенной добычи. А тут еще паводковые воды. Сквозь шурфы, штольни, а то и просто трещины они врываются в шахты, и если и обходится без несчастий, то все равно работать становится опасно.
А в эту зиму снегов навалило в логах за восемь метров, и таяли они весной високосного года небывало дружно. Вот-вот должна была тронуться река. И наш шахтерский поселок еще с зимы был поделен на участки, на каждом из них были спасательные команды. Весной, кажется, и сам воздух, которым дышали шахтеры, был пропитан ожиданием тревоги, неизвестно откуда подкрадывающейся опасности. Во всем, конечно, были виноваты долгие месяцы зимы, работа под землей при скудном свете шахтерской лампочки и скрытая, запрятанная за семью печатями тоска по твердой, промороженной или мягкой, раскисшей земле под ногами.
Шахтер — это, конечно, и почетно, и гордо. Но шахтер — человек. Он зачинается и родится под небом, солнцем для жизни на земле, где поют птицы, идут дожди, падают снега, на деревьях набухают почки. И жизнь его проходит в скрытой мечте по солнцу и свету, по зелени трав.
Говорят, что в конце концов шахтер так привыкает к шахте, что будто бы срастается с ней. К шахте привыкнуть невозможно, привыкают к работе в ней — без сквозняков, дождя и ветра, и, привыкнув, некоторые становятся чудаками, разводят рыб, канареек, собак, кроликов и кактусы. Мы, монтажники, не так глухо, как забойщики или проходчики, законопачены в шахту. Болтаемся где-то между землей и подземельем. Сегодня монтируем насос на поверхности, завтра стелем конвейер под землей. Забойщики не принимают нас всерьез. Мы для них шараш-монтаж, шарашкина контора, сегодня помонтажу́, завтра полежу, нам, говорят они, абы пень колотить, только б день проводить. И это неприятно. Вечная перемена климата к весне выматывает нас и наполняет тоской и беспокойством.
Я это хорошо понимал и все-таки опять бежал. Вот и ходок. Два ряда мокрых и ржавых рельсов, распахнутый шлагбаум, раскрученные, уходящие вниз по ходку, в темень, тросы лебедок. Сюда, к лебедкам, они выносили рештаки, цепи, головки конвейера, грузили в вагонетки и спускали вниз к новой лаве. Спускали... Значит, в старой заброшенной выработке с ними ничего не случилось. И все же ощущение тревоги не покинуло меня. Все было тихо. Все было спокойно. Сильная струя воздуха била мне в лицо. Я дышал этим воздухом и с каждым вздохом ощущал все большую тревогу и не мог ни заглушить, ни понять, откуда она идет. Она была в самом воздухе, которым я дышал. В воздухе был новый, незнакомый и непонятный для меня, не шахтовый запах. И напрасно я втягивал воздух — кроме того, что запах тревожный, не шахтовый, я ничего не мог понять.
Впереди посветлело. Свет был расплывчатым и далеким. Так неярко и серебряно светится первый иней в темной осенней ночи на уже осенней земле. Это горели лампочки на касках моих монтажников. Судя по силе света, они все были в сборе. Я пошел еще тише. Круг света все увеличивался и приближался. Наконец я заметил фигуры людей. Издали пересчитал лампочки: восемь светлых и три красных точки. В бригаде у меня было восемь монтажников, а на три красных точки я в первые минуты не обратил внимания. Мало ли что это могло быть. Сигнальные фонари, которые подвешивают к последней вагонетке, тоже ведь красные. Я был рад и полуслеп, хотя тревога еще не прошла. «Но что бы ни случилось, — думал я, — все восемь живы. А остальное не страшно...»
Исковерканные, едва ли не повязанные в узлы рештаки я заметил после, когда зашипели под мокрыми каблуками сапог Казерука и Дрозда папиросы. И удивился не папиросам, не искореженным рештакам, не той силе, которая вязала их в узлы, а мертвому синему отблеску порванного металла. Это был естественный цвет железа. Но в шахте я видел рештаки, таскал их на своей спине только черными от пыли или ржавыми от сырости. А сейчас ржавчина была во многих местах содрана.
Папиросы уже были загашены. Из-под каблуков сапог Дрозда и Казерука выглядывали лишь белые их мундштуки.
Я посмотрел на Свидерникова. Он все еще курил, неторопливо и вкусно, как умеют курить только шахтеры. Беда смотрела на меня красным глазком его папиросы. Папироса — открытый огонь. А для взрыва шахтового газа метана, угольной пыли достаточно искры. Благо что шахта у нас новая, неглубокая и открывается штольней — газообильность небольшая, но пласты мы отрабатываем газоносные. Достаточно искры...
— Погаси! Немедленно погаси папиросу!..
Я кричал на Свидерникова, но еще ничего не понимал, а только соображал, как все у них произошло, откуда эти груды искореженного металла.
Значит, тормозные... Колодки сгорели, вагонетки побежали. Один... или даже двое из них открывали шлагбаум... У Дрозда с Казеруком белые, даже под угольной пылью, лица. Значит, они открывали шлагбаумы, а вагонетки бежали... Это не каждому дано выдержать. Я знаю, что это такое. Месяца два назад по уклону за мной гналась приводная головка конвейера. Она настигала меня с воем идущей на землю бомбы, плавила лед, жгла обледенелый тротуар. Я бежал от нее на полусогнутых, ноги подламывались. Головка, двести килограммов железа, шипела и выла за моей спиной. Я боялся не того, что она сшибет и перемелет меня, мне казалось, за моей спиной рушится выработка и запечатывает меня. Обвал догонял, а впереди был открыт гезенк, яма в двадцать метров. И из нее уже бил свет, и бежать было некуда. У меня погасла лампа. Я прыгнул и ударился каской об огниву, уцепился за нее руками, бросил на нее свое невесомое, чужое тело и повис. Головка прошла подо мной, как змея. Я не мог сам отцепиться от стойки, разжать руки. Я боялся и света и темноты. Мне казалось, обвал все же произошел и я запечатан в выработке, как килька в консервной банке.
Так было, наверное, и у Казерука с Дроздом. Я сейчас слышал все. Весело и громко в пустынном и тихом ходке за моей спиной переговаривались вагонетки: тук-тук, тук-тук. Три тонны металла, наклон пять градусов. Торпеда неслась по ходку. Тук-тук, тук-тук, тук-тук, как из пулемета, все ближе и ближе, кажется, по твоим плечам. Но за спиной зияющая темень, узкий и немощный круг света впереди. И ноги в литых резиновых сапогах чужие. Хочется подхватить их в руки и лететь на крыльях.
Я вытираю холодный пот, хочу броситься к Дрозду с Казеруком.
А Свидерников все еще курит.
— Погаси папиросу....
Они ползли, их спас поворот. Вагонетки шли где-то, наверное, километров под сто. Их вынесло на повороте из рельсов. Я считаю круги. Выбито шесть кругов. Двенадцать измочаленных стоек. С двух сторон по ходку раскреплено шесть с лишним метров выработки.
— ...Сука, ты погасишь папиросу? — устало талдоню я.
Свидерников приценивающе смотрит на меня. «Что ему от меня надо, — думаю я. — Да... У нас ведь с ним старые счеты. Но неужели он и в эту минуту помнит о старом... Он ведь знает, что я не скажу ему ни слова, знает, что я не обвиню его за спуск шести вагонеток сразу. По правилам техники безопасности разрешается спускать только по одной вагонетке по ходку. Хорошие, умные правила. Но ведь хочется перекрыть норму. Заработать. И ни один, самый что ни на есть осторожный монтажник не станет спускать по одной вагонетке. Я тоже. Не шесть, конечно, сразу, но и не по одной». И Свидерников знает меня. Он смотрит на топор, воткнутый в стойку над его головой.
— Слабак ты, Вася! — кричу я Свидериикову. — Разбавился, раскурился, слюнтяй...
Это самое обидное для него. Он ведь первый парень по поселку. Он самый сильный, самый смелый. Он не может терпеть меня еще с первой встречи, когда в этот поселок, в эту шахту мы приезжали из ФЗО на практику. Шахтерское общежитие — длинный и желтый барак, был вполовину окон завален снегом. В комнатах хоть собак морозь. А у шахтеров как раз была получка. Они ходили в майках по коридорам, довольные и веселые. И Свидерников вызывал всех бороться.
— Кто положит Васю? Вася ставит тому бутылку.
Бутылка, еще не початые пол-литра «московской», была у него под мышкой.
— Ну, кто? Нет смелых... Не родился еще человек, который Васю положит...
Мне было очень холодно. В ФЗО я занимался борьбой. Я заступил дорогу Свидерникову; чтобы разглядеть его лицо, мне пришлось встать на носки. Распластав крылья, на волосатой груди Свидерникова бил в глаза сизый орел, по раскрасневшемуся телу перекатывались тугие бугры мышц. И я почувствовал себя маленьким и хилым, оголодавший и охолодавший щенок, жмущийся к теплу человеческого тела. Я хотел уже отойти. Но Свидерников расхохотался.
Мы схватились в полутемном коридоре. Он хотел меня тут же придавить, смять, но я стоял на ногах крепко. Тогда он оторвал меня от пола. Высоко в воздух взлетели мои ноги, и девяносто килограммов отдающих сивухой мяса, костей и мышц обрушились на меня. Вскрикнули половицы, что-то оборвалось во мне, сердце готово было выпрыгнуть из придавленной грудной клетки. Но я выбрался из-под плотного мокрого тела, ушел на мост, уполз к дивану. Не дал подняться Свидерникову и провел прием. Самый простенький, но надежный — замок. Поймал его шею и сдавил ее, заломил к груди. Он захрипел, но не сдался. Я вложил в прием всю силу. Свидерников взвыл и лег на лопатки...
Он отдал мне бутылку, но руки его дрожали, а сощуренные глаза были злы и трезвы.
Васю положил фезеушник... Гляди, фезеушник...
Руки его дрожали и сейчас. А в глазах такая ярость, что я испугался. Он глыбой сидел на раздавленном рештаке, и я чувствовал, как в этой глыбе под неуклюжей темной шахтерской робой коченеют тугие мышцы. Нет, сейчас я бы ни за что не стал с ним бороться, не стал его раздражать. Вася Свидерников — шалый парень, об этом знают все на шахте. Знает сам начальник шахты и обходит его стороной. Вася гонял начальника в его собственном кабинете. Тот сиганул из кабинета через окно.
Но Свидерников сидел и курил.
— Сука... — вспомнил я и бога и богородицу. Подскочил и выдернул, вывернув Свидерникову губы, папироску. Я топтал ее сапогами, как топчут гадюку. Был к Свидерникову спиной, но чувствовал его, как подраненный зверь чувствует охотника. Едва-едва качнулся свет в выработке — я тут же, не разворачиваясь, присел. Над головой сверкнуло лезвие топора, врубилось в уголь, звякнуло об него, и топор упал у моих ног. Тихо и мягко осыпались комки угля.
— Хорошо, — непонятно к чему сказал Дрозд и цыркнул слюной через щербину.
— Да, ничего, — поддержали его Казерук и Беленький.
Я поднял топор и пошел с ним на Свидерникова.
— А может, не надо? — остановил меня тихий голос Дрозда.
Я видел только широко раскрытые глаза Свидерникова, не мигающие и не просящие пощады; черные густые брови дошли почти до середины лба и остановились. Я уже начал опускать топор.
— А может, не надо? — опять сказал Дрозд.
Я бросил топор в нишу.
Остаток смены мы крепим выработку. Вторую смену мы стелем конвейер и прячем в завале мятые рештаки. Уже на-гора, когда мы выходим из штольни и идем по галерее, сквозь щели которой тянет сыростью и прелью, весной, Свидерников трогает меня за плечо:
— Ты второй раз положил меня, фезеушник...
— Тебя били когда-нибудь? — спрашиваю я Свидерникова.
— Ха... — невесело улыбается он. — Меня вешали... У меня был тяжелый медный крест... С Закарпатья... Крест на медной цепочке. Хорошо, цепочка не выдержала и оборвалась...
— За что же тебя вешали?
— А так, хохма была... Смотрели, выдержит ли цепочка, пари заключили...
— А если бы ты попал в меня топором?
— Испугался?
— Испугаешься... Я еще на основном знал, что ты бросишь в меня топором. Знал, что ты куришь в шахте.
— Почему же ты не вызвал надзор? — не верит мне Свидерников. — На основном ведь есть телефон.
— Да, телефон — это всегда удобно, — соглашаюсь я, — снял трубку, крутнул диск. Тут тебе и «скорая», и милиция, и пожарная. Все, что душе угодно. А сам ты в своем доме вроде бы и ни к чему. Посторонний, как у нас говорят, пришей кобыле хвост.
— Не понимаю... Ты бы лучше дал мне в морду. И делу конец. Потом бы выпили.
— И опять набили друг другу морды. Ты мне.
— Нет, я себя знаю.
— А я себя не знаю... Но спичек в шахту ты больше, Вася, не возьмешь. Папиросы можно, а спички — нет.
— Панибратство разводишь?
Начальник участка Вениамин Михайлович Карев смотрит мне в глаза. Я тоже смотрю ему в глаза. Так уж принято у шахтеров: любой мало-мальски серьезный разговор ведется с глазу на глаз. Слова роли не играют. В шахте быстро учишься взглядом и материться, и обнимать, и проклинать. Под землей на выражение этих чувств не всегда есть время. Язык часто оказывается совсем ни к чему. Он нужен только новичку.
— Почему панибратство?
Нас разделяет стол. И на его потерявшем цвет, прожженном во многих местах дерматине мы словно скрестили руки и пробуем силу. Кто победит, чья рука дрогнет первой и поползет вниз. Карев смотрит на меня вприщур, шея его напряжена, плечи поданы чуть вперед, локти сползают со стола, а кулаки на весу, глаза его давят меня. Если это игра, то он сейчас дожимает мою руку. Она вот-вот ляжет на стол. По правилам мне надо склонить и голову, спрятать глаза и начать каяться. Каяться я не хочу. Упрямство побежденного бросает меня в последнюю атаку. Атаку, в которой бьют тебя же. Я знаю это, у меня есть опыт, потому что упрямства у меня излишек.
— Иди ты, Карев, знаешь куда... — говорю я.
— Ага, все же стыдно, — торжествует Карев. Он уверен, что выиграл. Убирает руки со стола, выхватывает из нагрудного карманчика костюма расческу и причесывается. Волосы у него русые и мягкие. Мягкие волосы у многих шахтеров, от ежедневного мытья. Но у Карева они прямо-таки пушистые. Наэлектризованные расческой, они летят за ней, обвивают ее и тянутся, как паутина, за рукой. Их сухое потрескивание доставляет Кареву удовольствие — маленькие фанфары победы.
Я слежу за полетом его рук, за выражением его лица, будто вижу Карева впервые. В общем, так оно, наверное, и есть. До этого я особенно не замечал его. Замечал ровно столько, сколько надо по работе. А сейчас он для меня словно сошел с картинки. Карев картинно причесывается, картинно пострижен и розовощек. На его щеках легкий воробьиный пушок. И эта его картинная обыденность и безликость успокаивают и отрезвляют меня.
Что, собственно, произошло? Только что закончилось участковое собрание. Я смещен со всех своих должностей — и механика и бригадира — за плохую воспитательную работу в бригаде. После аварии мы закрепили выработку, поставили все стойки, перетянули затяжками. Попрятали, побросали в завал все негодные рештаки и лесины. Но кто-то все же поставил Карева в известность о происшествии в ходке. И Карев бурно зареагировал. О том, что монтажники курили в шахте, он не знает, но в курсе, что Свидерников бросил в меня топором.
— Механик, — говорит мне сейчас Карев, брезгливо растягивая губы. — На него с топором, а он панибратство разводит. И пить бы с ним пошел?
— Пошел бы и пить. Не с той стороны ты меня пугаешь.
Карев подается вперед, наваливается грудью на стол. Я почти чувствую на себе его дыхание. Мы смотрим в упор друг на друга. Взгляд у него твердый, немигающий, выражение глаз жесткое и одновременно чуть грустное. Он жалеет меня.
— Неглупый парень, а никак не поймешь, что пришло время дать Свидерникову острастку. В этом заинтересован весь коллектив нашей шахты. Свидерникову не место в нашем коллективе. У него это уже второй случай. Начальнику было неудобно обращаться в суд. — Карев делает паузу, доверительно улыбается мне и продолжает: — Да и что тебе растолковывать?.. Повел наш старик себя со Свидерниковым совсем не по-геройски... Вот по этому самому ему неудобно в суд обращаться. Но это должен сделать ты.
— Ну почему мне на Свидерникова необходимо подавать в суд? Стань ты на мое место...
— А ты стань на мое, — перебивает меня Карев. — Побудь в моей шкуре. Начальник шахты на каждой планерке у меня спрашивает, работает ли еще на участке Свидерников.
— Слушай, Карев, ты помнишь хотя бы один суд между шахтерами одной шахты? Я тоже не помню. Не думай, я ничего не идеализирую. Но мне просто интересно это. В нашей бригаде работал монтажником парень, ты его знаешь. Был народным заседателем. И вот судили одного нашего шахтера. К заседателю делегации ходили. Не грозили, не уговаривали, а говорили, чтобы думал, когда приговор будут выносить, потому что работать и жить заседателю не в суде, а на шахте, среди шахтеров...
— Ты что же, трусишь? — обрывает меня Карев.
— Нет. Трусишь ты. На чужом горбу хочешь в рай въехать. Но я не к этому вел. Понимаешь, сегодня шахта с ее опасностями, особенностями, может быть, единственное место, где крепче всего сказывается солидарность и каждый человек должен себе отдавать отчет в своих отношениях с другими, быть порядочным. Со Свидерниковым я разберусь сам, без суда. Это как раз тот случай, когда суд не поможет. Там с ним будут говорить языком закона. Я ведь со Свидерниковым сколько уже лет рядом работаю, и он хороший работник. Для тебя же он просто шахматная фигура в твоей, как я понимаю, крупной игре.
Карев молчит и пристально и долго изучает мое лицо. Не знаю, что он находит в нем, но говорит подкупающе прямо и искренне:
— Ты разводишь сантименты. А сегодня время сильных людей. Сегодня на жизнь надо смотреть шире. Ты страшно категоричен. А кого сегодня интересует эта твоя категоричность? Ты утверждаешь прямо: Свидерников хороший работник. Нельзя так. Я, например, начальнику шахты никогда не скажу — сегодня холодно. Я скажу по-другому: сегодня холоднее, чем вчера. А холодно ли? Это уже решать ему... Начальство считает, что Свидерникову не место в нашем коллективе. Вот так сейчас обстоят наши дела.
Я больше не в силах выдержать принятый мной тон, креплюсь из последних сил. Разговор наш с Каревым не первый, третий день ведем мы его. И сегодня, когда он предельно откровенен, мне надо сказать ему все.
Мне не жалко Свидерникова, пусть он идет под суд. Он бросил топором в меня. Пусть отдают его под суд Карев и начальник шахты, но не я. Не я...
Я ловлю буквально за хвост этот обрывок мысли, это жалкое «не я». Я готов вывернуть себя наизнанку. «Господи, — ужасаюсь я самому себе, — сколько подлости в тебе, хорошем, не похожем на Карева, праведном, правдивом, честном. А в чем же, в таком случае, заключается предательство? Ты ведь уже предал, предал Свидерникова».
— Карев, — я все еще уговариваю его, — остановись, хватит. Будем считать, что не было этого разговора. Оставь в покое Свидерникова. Да, он виноват. Да, его посадят, если я обращусь в суд. Но я никогда этого не сделаю, слышишь? Никогда. Я тоже, как и ты, хочу быть сильным. Но больше всего я хочу здороваться по утрам со Свидерниковым, со своими ребятами, с тобой за руку и не прятать глаза. Разве ты не знал в жизни минуты, когда тебе хотелось схватиться за топор? Ты и сейчас идешь на Свидерникова с топором. Остановись. У Свидерникова были и гнев и растерянность. Ты же идешь на убийство хладнокровно. А ведь Свидерников не шахматная фигура.
— Ты мне тут гнилой либерализм не разводи, — осаживает меня Карев. И в голосе его больше нет подкупающих, задушевных ноток. — Я здесь поставлен уголь добывать. Да будет ясно тебе.
Его неистовость и напор клонят мою голову книзу. Но в последнюю минуту я с неожиданной для себя радостью кричу ему:
— А я ведь тебя знаю. Знаю, ты понимаешь?
— Еще бы, — оторопело бормочет Карев. — Три года вместе работаем.
— Нет, когда-то в детстве, я с такою же, как у тебя, непреклонной готовностью и одержимостью стрелял по воробьям и ласточкам из рогатки. Я был похож на тебя. Первую птаху мне было жалко, жалко до слез. Как я хотел спрятаться от ее смерти, белой пленки на глазах, понуро раскрытого жалкого клюва. А потом в толпе подобных себе подростков бил по птицам, как охотник-профессионал. То, что это гадко, что это убийство, я понял позднее. Но непосредственно в минуты убийства, перед тем как послать камень, на меня будто снисходило вдохновение.
— С воспоминаниями детства покончено? — спрашивает Карев и, не выдержав тона, срывается на крик: — Балаган мне здесь устраивать! Я могу и по-другому поставить вопрос.
— Нет, рук ты заламывать не умеешь, нервы шалят у тебя. Тебе не кажется, что когда мы бьем других, даже справедливо, мы уподобляемся тем, кого бьем?
— Ну что ж, торопись подставить под топор еще раз голову. И стой, не шевелись, чтобы свидерниковы не промахнулись.
— Не обобщай и не передергивай, Карев... А ведь и Свидерников похож на тебя. Оба вы тоже в детстве начинали с рогатки. А теперь за топоры ухватились. Только ты похитрее его и покорнее. Свидерников идет с топором на того, кто ему насолил. А для тебя ничего не стоит занести его над головой любого, если есть выгода.
— Вон, — аккуратно выговаривает Карев.
— Зачем же так грубо, — увещеваю я его. — У тебя просто короткая память, девичья. Понимаю, Вениамин Михалыч, длинная память тебе обуза... Ты думаешь, тебе двадцать пять лет? Нет, ты живешь на свете всего лишь один день. Проживешь еще пятьдесят лет, и эти пятьдесят также будут одним днем, как у ворона, который живет триста лет, а знает только ночь-день, белое-черное.
— А тебе при твоей ограниченности не дано понять, что такое настоящий день. Да, я тебя не понимаю. Но это меня не интересует. Мне интересно, почему ты меня не понимаешь. Ведь в моих силах сделать тебе день ночью. Ты у меня будешь вкалывать и вкалывать как проклятый.
— Опять, Вениамин Михалыч, ты меня не с той стороны пугаешь. Это ведь для тебя, как я понимаю, работа — проклятье.
— Мыслитель, — раздраженно бросает мне в лицо Карев. — Свидерников да ты — два сапога пара. В паре коренниками и пойдете. Объездим, не надейся. Не таких обуздывали. А о чем ты там размышляешь, меня не интересует.
— Мне Свидерников гораздо приятнее тебя. Псих, но со всеми псих. А в таком тоне мне с тобой, Вениамин Михалыч, даже приятно разговаривать, — улыбаюсь я Кареву. — Проще, понятнее.
— Ты еще меня не знаешь, — мило улыбнулся мне на прощанье Карев.
И я ушел в шахту. В паре со Свидерниковым. Карев был человек действия. Он позаботился обо мне со Свидерниковым лично. Дал нам индивидуальное задание. В заброшенном отработанном штреке догнивал забытый всеми став ленточного конвейера. Ржавело железо — ролики, «стаканы», «стулья», по которым около года назад двигалась прорезиненная лента. Этого добра в шахте хватало, старье никому не было нужно. Но разговор с Каревым был уже закончен, я не хотел давать ему лишнего повода для торжества. Кроме этого, мне было жаль оборудования. Детдом, в котором я рос, находился в деревне, и мы видели в каждой железке, гвозде, обрывке проволоки смысл и цену. И над этим железам в штреке люди потели, теряли здоровье. Об этом я и сказал Свидерникову, когда тот заворчал и отказался выполнять «глупую лошадиную работу».
Другому монтажнику я, может быть, и постеснялся это говорить. В шахте с оборудованием, железом обращались вольно, размашисто.
— Сознательный какой, — продолжал ворчать Свидерников. — Хотел бы я посмотреть на твою сознательность после месяца такой работы. В получку.
Мы уже таскали ролики, «стаканы» и «стулья». Работа была не тяжелой, но нудной: больше ходишь, чем работаешь. Весу в этом металле немного, но много его и не захватишь. Мы особенно и не старались. К чему стараться, если и так ясно: задание издевательское. Ждали конца смены. В заброшенной выработке было сыро, железо и дерево почернели и ослизли. Растревоженные нами лужи воды исходили зловонием. И мой спор с Каревым представал сейчас совсем в ином свете. В самом начале я еще придумывал хлесткие ответы. Но уже после пятой или шестой ходки я остыл. Вся моя бравада казалась мне жалкой, а моя победа и моя правда маленькими. Я мгновенно был поставлен на место, ничто в мире не изменилось. Я ворочаю железо, отрабатываю свой тариф. И так будет продолжаться изо дня в день. Стоит ли из-за этого портить нервы, когда можно жить спокойно и быть в почете?
Каждая новая ходка, каждый новый довод в пользу почета и покоя, здравого смысла и простой житейской мудрости копили во мне ярость. И этой ярости необходимо было выплеснуться, чтобы она не овладела мыслью, чтобы не потерять рассудок.
— Хватит, — сказал я Свидерникову после очередной ходки с металлом.
— Хватит, — тут же согласился он со мной.
— Мы перетащим все эти «стулья», ролики, «стаканы» на основной штрек, — сказал я, — перетащим назло тем, кто послал нас сюда.
— Давай один, — сказал Свидерников. — Ты попытайся, а я посмотрю на тебя.
Свидерников сел на конвейерный став, я полез в завал за проволокой. У меня уже было все обдумано. Из трех «стульев» я сделал какое-то подобие салазок. Это было нетрудно. «Стулья» напоминали полозья санок, только полозья эти загибались с двух сторон. Пару «стульев» я положил поперек своих санок. И стал нагружать их роликами и «стаканами». Сани получились что надо. Столько металла я, пожалуй бы, не унес на себе вместе со Свидерниковым и за три раза.
Я впрягся и заскрипел по скользкой сырой почве выработки. И с таким возом я обернулся уже три раза. Свидерников продолжал сидеть.
— Скотина, — сказал я ему безо всякого напора, спокойно и тихо. — Я тебя сейчас прибью, ты уйдешь отсюда на бюллетень, если сейчас же не встанешь.
— Напугал, — сказал Свидерников и поднялся. — Бегу. И в душу ты ко мне не лезь. Не лезь. Ты добрый. А я добрых не люблю. Не верю. Я их на ноготь...
Свидерников зашелестел брезентовой робой, зашатался по выработке. Свел вместе кулаки, пытаясь показать мне, как он берет на ноготь добрых. Набрякший брезент ломался и стучал, как крылья рассерженной птицы. По проросшей грибками и серой плесенью почве и бортам штрека шарахались тени.
— Индюк, — сказал я. — Форменный индюк, но я люблю злых. Иди за проволокой и охолонь маленько, герой...
— Слушай, — бубнил, налаживая салазки, Свидерников, — если ты думаешь, что, из благодарности за то, что я не попал в тебя топором, тебе можно говорить мне всякие гадости, что я за это буду обязан тебе по гроб жизни, то ты не знаешь Васю Свидерникова.
Мы со Свидерниковым упирались, как бурлаки на Волге. Срывали свою злость на железе. Каждый из нас старался нагрузить свои сани как можно больше. Проволока врезалась в тело, пот прошиб рубахи — куртки и телогрейки мы сняли — и тонкой струйкой сочился по хребту и ягодицам. Губы засолонели и разбухли. Разбухли и отяжелели от напряжения и ноги. Распарился и разбух старый заброшенный штрек. Мы ходили по его кремнистой почве, как трактор-колесник по булыжной мостовой. И от этих шагов срывалась и глухо шлепалась в грязь капель. Мы волочили за собой мертвое ржавое железо, сваливали его в кучу, связывали проволоку и бежали за новой порцией.
Так мне приходилось работать только в колхозе, на уборке урожая. Там я шел на пшеничную солому с вилами, как на врага, потому что мне надо было накормить хлебом весь мир, потому что голоден был я сам. Сейчас же я таскал железо, чтобы отстоять свою маленькую правду и маленькую победу над Каревым, чтобы победить его второй раз — отработать свой тариф. Меня стремились поставить на место, ткнули мордой в эту вонючую выработку. Карев уже торжествует свою победу в полной уверенности, что мы со Свидерниковым не выполним наряд и ничего не заработаем. Переноска «стульев», «стаканов» и роликов стоит копейки. Но мы ткнем мордой его. Пусть идет проверяет нашу работу. И то, как я прожил сегодня день, что сделал — это уже не так мало. Когда два человека так впрягаются в работу и их дыхание сливается, рвется от натуги, они могут еще оставаться врагами, но руку друг на друга едва ли поднимут. И железо, над которым они потеют, становится их союзником и посредником.
— Куда ты так торопишься? — хрипит Свидерников. — Рвешь, будто твоя жизнь в этом железе.
— Я читал, — отвечаю я ему, — что самый прекрасный день — это день, в котором человек живет.
— Ты хочешь сказать, что сегодня у тебя очень счастливый день?
— Нет, не то, я хочу сказать, что в каждом дне, хорошем и плохом, человек должен оставаться человеком.
— А по мне, лишь бы выпить да поспать.
— Зачем же ты тогда таскаешь со мной железо?
— А в самом деле, зачем.? — удивляется Свидерников. — Видимо, все дело в том, что мне неудобно сидеть, когда другие работают. Мне только одно непонятно. Ты детдомовец, сладкого нахлебался, как соплей, должен знать, что такое люди. Почему же такой жалостливый, только о добре и говоришь?
Мы собираем последние ролики и «стаканы». Идет последний час смены.
— Не будь ты таким добрым, — продолжает Свидерников. — В жизнь, если ты не хочешь быть размазней, хочешь чего-нибудь достичь в нее надо вгрызаться всеми зубами.
— У каждого свой стиль, — говорю я. — Мы, детдомовцы, ко всему идем с добрым. Наверно, как раз именно потому, что зла насмотрелись, наглотались до соплей. И поняли — злом ничего не добьешься. Кто несет зло — тот уже не человек, это только половина человека. А мы во всем хотим остаться людьми, отвоевать, взять обратно то, что у нас отняли — детство. В детстве ведь нет плохих, там все хорошие. Я не знаю, но чувствую — у тебя тоже не было детства. Но не это еще самое страшное. У тебя не было и друзей. А у меня их очень много. Случись со мной беда — и все сто детдомовцев, с которыми я вместе жил, придут мне на помощь, потому что я им тоже помогал в трудную минуту. Был хотя бы просто рядом с ними. Такая у нас была семья. Мы учились быть друзьями и братьями, учились даже в набегах на чужие сады и огороды, учились верить друг другу, потому что семьи без веры нет. Вместе плакали, вместе смеялись. Со всем этим и пошли кто куда — на шахты, на заводы, в ФЗО. Тебя, Свидерников, я тоже знаю по детдому, потому что я тоже был таким, как ты. Первые дни в детдоме. От всех и каждого ждал пакости и первым лез в драку. И меня приручили добром, а не злом. Вот поэтому я и ценю добро. Добро в людях. И добро, сделанное руками людей, — это железо, которое сейчас таскаю: ролики, «стаканы», «стулья»...
— Мне уже поздно в детдом, — сказал Свидерников. — Поздно меня приручать.
— Если ты говоришь об этом, то не поздно.
— Я уже ненавижу железо, — Свидерников пнул ролик. — Карев сволочь, хочет стравить тебя со мной, хочет, чтобы я снова взялся за топор. Но ты не бойся.
— За себя я не боюсь, — сказал я. — Я боюсь за Карева. Ты можешь пойти с топором на него.
— Пойду, — пообещал Свидерников. — Еще один такой наряд, и он у меня, как начальник шахты, выскочит в окно. Там ведь почти такая же история была. Я и еще один парень почти двое суток без перерыва работали. Начальник шахты обещал аккордный наряд, а закрыл, как обычно...
Мы бросили в общую кучу на основном последние ролики и «стулья», присели на них передохнуть. Наряд мы выполнили, но на-гора было еще рано. Смена еще не закончилась, и в ламповой все равно не приняли бы ни лампы, ни самоспасатели. В основном со стороны ствола замаячил свет. Кто-то шел по штреку.
— Спорим, Карев, — сказал Свидерников.
— Пусть, — отозвался я.
Это был действительно Карев. Завидев, что мы сидим, он обрадовался.
— Работнички, — не скрывая улыбки, сказал он, — я так и знал — прохлаждаетесь.
Он еще не видел, какую гору металла перетаскали мы, и не смотрел на него. Главным для Карева было то, что мы прохлаждались.
— Наряд выполнен, — так же с улыбкой ответил Кареву Свидерников.
— Издеваться, — повысил тон начальник участка, но тут же осекся. Свет его лампы заметался по железу, по нашим лицам. Отражатель у нее был посильнее наших, аккумулятор еще не успел подсесть, и мы не могли видеть выражение его лица. Мы сидели себе и ждали, что скажет Карев. А Карев, не говоря ни слова, сорвался с места и побежал в заброшенную выработку.
ПОСЛЕДНИЙ НЕМЕЦ
— Матка есть?
— Матку немцы убили...
— Фатер, отец?
— Батька в партизанах. Ему винтовку дали, немцев бье...
— Ох, немчики добрые, та яки ж з дитяти спрос. Что за гамонка у них? Хто-то навучив, вот и ляпеча... — Василиса оставляет в печи чугунок с готовой картошкой и бросается к Диме. — Хватит, мой неразумны, хватит...
Она пытается увести Диму от стола, за которым едят немцы. Но один из них кричит женщине:
— Цурюк! — и поднимается над столом.
Василиса знает, что такое «цурюк», и отходит к печи. Гореликами пошла уже сверху в чугуне картошка. В чугуне, наверное, нет и воды, выкипела вся. Жар от печи бьет женщине в лицо. Она не чувствует жара, сложила на груди руки, будто молится. Перебирает губами:
— Пронеси, господи, не дай пропасть Трофимову корню.
— Парты́зан, — тычут пальцами в сторону Димы немцы и хохочут.
— Партыза́н, — повторяет Дима.
Партизаны, русские, немцы, стрельба, бомбежки, дороги, трупы — ему кажется, все так и должно быть. Он не может представить ничего другого. Он родился перед войной, растет в войне. Не знает, что кроме гильз и пуль можно играть еще погремушками, надувными зайцами, заводными машинками, что кроме землянок и сырых промозглых щелей от бомбежек есть детские грибки и желтый песок возле них. Не знает, что кроме сырой картошки есть конфеты, печенье, пряники и даже шоколад.
Сегодня утром в него метили снарядом. Умело навели пушку и с легким сердцем послали ему смерть. Но чуть ошиблись. И все обернулось игрой. Теплый синий осколок упал возле его ног — интересная игрушка с неба. А взрослые никак не хотят поверить, что его папа партизан и что у него есть винтовка.
— Сам видел, — убеждает Дима немцев. — Папа пришел и винтовку в камешник, к венику поставил...
— Не верьте ему, — у Василисы упало сердце.
Дима топает ногой...
Верьте ему, люди. Верьте им, трех-четырехлетним. Они лежат под крестами и без крестов по всей Белоруссии, по всему миру. Но их не убило, потому что они не знают, что такое смерть, и никогда не узнают. Замерзая, заходясь плачем у трупов закоченевших матерей, горя живьем в хатах, угасая от голода, задыхаясь в обвалившихся щелях и землянках, захлебываясь в воде, они прокляли этот мир, в котором взрослые заставляют играть их в такие игры. Они никогда не захотят вновь появиться на этот свет. В земле покойнее и тише, нет огня, войн, боли.
Немцы хохочут над мальчишкой. У них хорошее настроение. Они благополучно пережили ночь, в которую убило Димину мать. Консервы и суп сытные. Малолетний партизанский ублюдок им не страшен. А что у него убило мать, это их не касается. После завтрака на сытый желудок им тоже приятно вспомнить жену и детей.
И тот, который кричал Василисе «цурюк!», встает и подталкивает мальчишку к женщине.
— Зонне, сын, партызан зонне...
— Зонне, — бормочет женщина, подхватывает Диму и несет его, сажает на печь. Словно на печи он недоступен немцам. У женщины за сараем, в землянке, своих восьмеро. Они сегодня останутся голодными, их картошка пошла гореликами, сгорела. Женщина растерялась и не догадывается, что самое лучшее — увести Диму к восьмерым в землянку. И будет у нее девять. А может, и догадывается, но не решается принять девятого. Ведь его надо кормить.
— Партызан эссен?
Дима не знает, что такое эссен, но кивает головой. Немец берет ложку, недоеденный в котелке суп и несет к печи. Дима смотрит в глаза немцу. Он уже не верит в доброту, он уже знает, что в этом мире, кроме матери, никому верить нельзя. И немец не выдерживает, моргает припухшими в коричневых веснушках веками.
Дима ест. До чего же вкусен горячий суп, овсяный, с мясом. Немец смотрит, хлопает веками, выцветшие глаза его оживают, голубеют. Он, не одеваясь, уходит из хаты и появляется, когда уже Дима облизывает котелок.
— Матка! — кричит он Василисе. — Зонне, сыну!.. Бросает на лавку мерзлую лошадиную ляжку.
Ляжка сваливается на пол, звенит, ударившись о чугунок, полуоторванная подкова.
Рыжий немец каждый день ходит в землянку к Василисе, проверяет, как матка кормит зонне. Василиса валит детям картошку в одну большую оловянную чашку. И они, как поросята, окружают чашку. Немец морщится, бьет по затылку Василисиного старшего сына. Вываливает из чашки половину картошки на стол, другую половину подвигает Диме:
— Эссен!
С вечера закрутила метелица. Ночью прошел снег, завалил все вокруг. Василиса почти ползет по снегу в землянку к детям. И в это время появляется немец.
— Фауле руссише швайн! — кричит он женщине. Уходит и появляется с лопатой. Расчищает снег.
Василиса боится рыжего немца. Его нерусской доброты. Он помогает женщине. С появлением Димы намного сытнее стало в ее доме. Но как понять, что на уме у этого рыжего. Вдруг ему покажется, что обделяет она Диму. И убьет ее рыжий добродей, и пропадут все ее восьмеро, а вместе с ними приблудный Дима. Василиса подкладывает Диме лучшие куски. Валит ему навалом картошки. И давится картошкой и кониной Дима, поперек горла встает ему еда. Он прячется под Василисину юбку от заботливых глаз немца. Лучше бы немец не ходил и не жалел его. Горек хлеб из чужих, не материнских рук. И растет Дима волчонком. Подолгу смотрит он, выйдя из землянки, на лес. Может, оттуда покажется отец, может, из-за домов выйдет мать. Но тих лес и пустынна дорога. Каждую ночь снится ему мать. Каждую ночь он поднимает и будит ее и сам просыпается с плачем. И чужая женщина носит его на руках, успокаивает и жалеет. С каждой ночью он для нее все роднее. Стал бы совсем родным, если бы не жалостливый рыжий немец. «Нет на тебя пули, — каждый раз думала женщина, принимая от него то кусок конины, то крупу. — Неправда, найдется и на тебя пуля, настигнет. Отольются коту мышкины слезы...»
И нашлась-таки, наверное, на немца пуля. Три дня не появлялся он во дворе Василисы. Два дня Василиса радовалась, а на третий заскучала:
— Что-то не видно твоего немца? — сказала Диме, — Не иначе убили.
— Я знаю. Его батька мой убил из винтовки, — серьезно сказал Дима.
— Нет, дитя мое, — вздохнула Василиса. — Не твой батька.
— Мой...
— Зачем же твоему батьку бить его, он же добрый немец, жалостливый до тебя.
Дима задумался:
— Но он же немец?
— Немец...
— Вот мой батька его и убил. Он много немцев перебил. Много, тетка Василиса?
— Много...
— И скоро придет домой и заберет к себе меня. Ты не знаешь, тетка Василиса, когда он придет за мной?
— А вот последнего немца убьет и придет.
— А что, сразу кончится война?
— Сразу, Димитр, сразу.
Дима опять задумался. Внимательно посмотрел на Василису, не обманывает ли, и спросил:
— А где он, последний немец?
— Да тут где-то рядом...
— Я сам убью последнего немца, — серьезно сказал Дима. — Убью, найду батьку и матку, кончу войну...
Василиса только горько вздохнула, но ничего не ответила Диме. Прижала его к себе. Поползли, набежали на Василису ее дети, полезли к ней на руки, но Димы она не выпустила. Когда, месяца через два, с другой дальней деревни, проведав про смерть Ульяны, пришла ее сестра, горько было Василисе отдавать мальчишку.
— Гляди, Степанида, — говорила она Диминой тетке, — у тебя своих одиннадцать.
— Одно к одному... Где одиннадцать, там и двенадцать. Не объест.
Дима долго оглядывался на Василису. Степанида шла ходко, он запинался, падал, но не плакал.
Коля, Степанидин младший сын, был ровесник Димы, но игры их не ладились. Дима мог в середине игры забыть обо всем, все бросить и убежать в колхозный заброшенный сад, уйти к разбитому льнозаводу и спрятаться там. И весь Степанидин выводок вместе с матерью выходил искать его. Иногда находили быстро, приводили домой. Степанида дорогой на чем свет кляла и сестру, которая оставила ей сына, и самого этого сына, которого сколько ни корми, а он все в лес глядит.
Дима молча сносил теткины попреки, проклятья и оставался равнодушным к ним. Продолжал убегать из дому. Крепко врезались ему в память слова Василисы о последнем немце. И сейчас он искал этого последнего немца, смертью которого закончится война, и тогда придут родители и заберут Диму к себе. Все было просто и ясно. Непонятно, как это взрослые сами не додумались до этого. Видимо, уже привыкли к войне, вот они и не торопились убивать последнего немца.
И на льнозаводе, в темном полуобрушенном подвале, у Димы был тайник, в который он сносил и прятал неразорвавшиеся мины, стреляные и целые патроны, прикатил даже небольшой снаряд. Все для последнего немца, который был где-то рядом и которого давно уже пришла пора убить. Убить, пока тепло, не начались холода, зима, чтобы снова рвать горох и ходить с отцом в лес.
А война шла своим чередом. Она уже выкатывалась из Белоруссии и полыхала и косила напоследок всех подряд, без разбору. Немцы в последние дни залютовали без меры. Казалось, на этой земле все, что может гореть, выжжено, все под метелку выметено из сундуков и с полок. Но немцы в свой последний час хватились и нашли, чему гореть еще.
Немцы начали поджигать дома сразу с двух сторон. Обстоятельно поливали каждый дом керосином, обкладывали соломой сарай. Степанидин дом стоял в центре. Она с детьми из колхозного сада наблюдала, как огонь близится к ее хате. Надеялась на чудо. Но чуда не случилось. Хата занялась в один момент. А к вечеру ветер уже разносил по осиротевшей и ставшей ненужной деревенской улице золу. Переночевали в землянке. А утром лишились и этого единственного прибежища. Всем жителям было приказано оставить деревню. Степанида прошлась по пожарищу, нашла, завернула в платок серую пропеченную огнем дверную ручку, спрятала ее. Собрала все, что было в землянке, нагрузила детей, нагрузилась сама и пошла со своим выводком на станцию. На путях стояла ручная дрезина. Степанида побросала на нее свой немудрящий скарб, впряглась вместе с детьми, и дрезина покатилась в палящий полдень. Дима вместе с другими детьми Степаниды шел по шпалам.
Полотно железной дороги было желтым от солнца. Желтыми были от ржавчины рельсы. Сухим жаром несло от железа, от просмоленных шпал. И лес, обступивший железную дорогу, тоже будто посох, не нес ни ветерка, ни прохлады. И Диме казалось, что он уже много-много лет шагает по обжигающей пятки дороге. Жар высушил в нем все, спеклись лицо, глаза, руки. Тетка взмокла, распарилась на солнце. А он был сухим, как лесной гриб-пыхалка. И Дима передвигал ноги, пока они слушались, его. А как перестали слушаться, упал на горячий рельс. Изо рта у него хлынула пена. Он удивился ей, удивился, что в нем еще есть вода, забил ногами. Ему привиделась мать, давясь пеной, он улыбнулся ей и больше ничего не видел и не хотел видеть.
Он не помнил, как Степанида сгребла его на руки, сдернула с себя платок, смочила водой и приложила к голове племянника. Никогда не знал и не узнает, как обрадовалась Степанида, что одним нахлебником стало меньше, что умер он тихо и спокойно, не раздирая ее сердце плачем и криком. Но Дима не умер. Он пришел в себя уже на другой день. И сразу же встал на ноги и вышел из сарая, в котором лежал. Не удивился тетке, увидев ее во дворе. И она ему не удивилась и не высказала никаких чувств. Коля обрадовался и потащил его в траншею, которая начиналась неподалеку от сарая. Дима не пошел за ним, он не хотел играть. Коля заплакал от обиды. Дима посмотрел на него с удивлением, но без сочувствия.
Утром Дима поднялся, быстро съел картошку в мундире, которую положила перед ним тетка, и выскользнул из сарая. За день и ночь на улице ничего не изменилось. Все было вчерашнего желтого цвета. Неподалеку от сарая дымила немецкая полевая кухня, вчера ее не было. Немцы завтракали. Дима не хотел подходить к ним, но ему не хотелось и в сарай. Он стоял и смотрел, как немцы едят, потом смотрел, как они мыли котелки. Один из немцев не пошел, как все, мыть котелок: поел, пнул его ногой от себя и завалился на живот. Поманил Диму пальцем.
Живот у немца был большой, и казалось, что он лежит на кочке. Это было смешно. Но Дима не смеялся. Немец, как лягушка, подпрыгнул на своем мягком животе и заболтал ногами. Дима не улыбнулся и не сдвинулся с места. Тогда немец достал губную гармошку и заиграл. «Это он, — подумал Дима. — Это и есть последний немец. И его надо убить, и сразу кончится война. Из леса выйдет с винтовкой за спиной батька-партизан. Проснется мать, начнет искать своего сына и отыщет его. И исчезнет желтый цвет. Настанет настоящее зеленое лето. Надо только убить этого последнего немца».
А немец играл себе на губной гармошке и не смотрел на Диму. Он даже прикрыл глаза. И Дима подошел к нему.
Немец тут же открыл глаза.
— Гитлер капут? — спросил он. Глаза его смеялись. Отвисли, смеялись толстые щеки.
— Капут, — сказал Дима.
— Гут! Гут! — обрадовался немец и просвистел какой-то веселый мотив. — Гитлер швайн, Карл — гут, — ткнул он себе гармошкой в грудь и подмигнул Диме.
— Мой батька партизан, — сказал Дима.
— Партызан нихт гут, — забеспокоился немец. — Цукер зюсс. Надо цукер?
— Я тебя убью, — сказал Дима.
Немец посмотрел на него с удивлением:
— Нихт зюсс цукер?
— Я тебя убью! — закричал Дима.
— Цукер зюсс, — зачмокал языком немец.
— Убью! Убью! Убью! — кричал и топал ногами Дима. — Сегодня убью. Тебя не будет! А мама придет!
Немец вытащил из кармана желтый, в табачных крошках кусок сахара. Дима замолчал. Немец держал сахар на раскрытой ладони. Свободной рукой подтягивал к себе Диму. Дима оглянулся, схватил сахар и вырвался, убежал.
— Я тебя все равно убью! — крикнул он немцу издали.
Немец, довольный, расхохотался. Дима, всхлипывая, скрылся в сарае. Сахаром он поделился с Колей. Вместе с Колей он целый день собирал осколки от снарядов, гильзы и целые патроны. И прятал все это себе за пазуху. Вскоре у него за пазухой было столько железа, что рубашка вот-вот могла порваться. Рваные осколки снарядов царапали живот, но Дима терпел.
Он и уснул с осколками, стреляными гильзами и патронами за пазухой. Ему приснились отец, мать, Тома и бабушка. Взрослые кормили его и Тому желтым жженым сахаром. Дима ел и ел его, но сахар не убывал. И тогда Дима набил сахаром пазуху. Это была после смерти матери его первая спокойная ночь. Он спал, улыбался и проснулся с улыбкой. Сегодня должна была кончиться война. Он верил в это. Димино богатство было при нем, за пазухой. Дима знал, что с ним делать. Только бы не убежал, никуда не спрятался вчерашний немец.
Немец был на прежнем месте, будто и не было дня и ночи. Он лежал на животе, болтал ногами и жмурился на солнце. Увидел Диму, обрадовался, широко заулыбался и помахал рукой. Дима осторожно, чтобы не звякнуло железо, направился к нему.
— Цукер зюсс? — закричал немец и полез в карман.
«Сейчас... Вот сейчас у него рука занята, и я брошу в него осколками и патронами, — решил Дима. — И все кончится...» Немец вытащил руку из кармана и раскрыл ладонь. На ней лежал кусок жженого сахара, гораздо больше вчерашнего. Дима стоял и размышлял. «Сахар мне надо взять, — решился наконец он. — Батька никогда не приносил из леса сахара. Соль приносил, сахар нет. И опять принесет соли, а сахара не догадается взять...»
Дима схватил сахар, опустил его за пазуху и нащупал осколки. В это время раздался гул самолетов. Немец сразу же уменьшился в размерах, подобрал живот и закрутил головой.
Самолеты, их было три, появились над деревней неожиданно. И шли почти над самой землей, прямо на Диму и немца, немецкие траншеи, кухню и блиндажи. Немец вскочил и бросился бежать. Обернулся и закричал что-то Диме. Фонтанчиками запрыгала у Диминых ног сухая земля, словно это была и не земля, а вода. И сейчас по этой воде крупными, но невидимыми каплями сек дождь. На земле, словно на воде, вскипали и лопались, рассыпались серые султанчики пыли. Самолеты исчезли. Дима принялся разыскивать, куда спрятался его немец. Над головой снова послышался гул самолетов, они шли на второй круг. И Дима увидел немца.
Тот не успел далеко убежать. Был он метрах в двадцати от Димы. Метрах в двадцати от Димы стояла печь. Голая, на голом месте, ни головешек, ни бревен вокруг, русская огромная печь, будто вчера сложенная и побеленная. Под печь, где в деревенских хатах обычно ночуют куры, пытался забиться немец, голова его и плечи были там. Сейчас он бил ногами землю и воздух, пытаясь втянуть под печь живот. И в это время опять сыпанул по земле крупный невидимый дождь. Дима поднял голову, мелькнула и исчезла красная звездочка на крыльях самолета. Но за этим уходящим самолетом приближался второй.
— Я сам его убью! — закричал Дима этому второму самолету и бросился к печи. Немец уже втянул под печь живот, но зад его застрял.
Дима выхватил из-за пазухи осколок и бросил его в извивающуюся спину немца.
Вздымалась серыми фонтанчиками и сухо шелестела, оседая у Диминых ног, земля. Уходили и снова возвращались самолеты. И снова вздымалась, теперь уже огромными фонтанами, и рушилась, будто падала с неба, земля. Дымила, лежа на боку, немецкая кухня. А Дима стоял в трех шагах от немца. На открытом, голом месте. С почерневшим от страха и усердия лицом. Он бросал и бросал в немца осколки, стреляные и целые немецкие и русские патроны. Он хотел убить немца, чтобы снова быть вместе с сестрой и матерью, бабушкой и отцом. А немец кричал. Кончились осколки и гильзы. Дима сжимал в руке кусочек сахара, который дал ему немец. В небе был всего один самолет. Два других ушли и не появлялись. Дима поднял руку и прицелился. У его ног закурилась земля. Вытянутой руке стало горячо, он не понял, почему, не успел понять. Ему показалось, что немца ударили палкой по заднице. И немец задергался так, что вот-вот мог развалить печь. Дима бросил сахар. Немец стал опадать и начал вылезать из-под печи. Дима слышал, как он хрипит и плюется. Взметнулась и тут же начала темнеть одежда на спине у немца. Он выбрался из печи и перевернулся навзничь.
Дима стоял с поднятой рукой. Из рукава сочилась и капала на землю кровь. Но он не замечал этого. Немец был жив, и Дима нагнулся, схватил комок земли и ударил лежащего на спине перед ним немца в грудь. Глаза у немца стали закатываться, белеть и вскоре стали совсем белыми, белее печи.
Мать тоже лежала на спине, поджав под себя ноги и откинув голову. Мать...
И тут Дима понял, что мать его мертва и никогда уже не вернется к нему. Он закричал и упал. Мелькнула перед глазами белая-белая печь. Это было последнее, что осталось в памяти Димы от войны...
ВСТРЕЧА
— Хватит. Ночь на носу. Пойдем.
— Одну только минутку, — прошу я.
— Идем, хлопча, идем... Их уже ничем не поднимешь.
— Все так, тетка Василиса...
Василиса давно уже не тетка. Василиса старуха. Она уже одной, а может, и двумя ногами в могиле. И я давно уже не хлопча. Так давно, что мне кажется, никогда и не был маленьким. Нет и никогда не было деревенского замурзанного хлапчука, не бегал он по этому кладбищу, не собирал вместе с другими деревенскими детьми с крестов на летний праздник спаса яблоки и коржики, что приносили на помин души умерших их родственники. Не мог он этого делать, потому что брать у мертвых — великий грех. Потому что здесь, на этом кладбище, лежат его мать и сестра. Под зелеными подопревшими крестами лежит очень много знакомых когда-то ему, но потом забытых людей.
Тихо. Так тихо, как только может быть на кладбищах. Я стою у края уже почти сравнявшихся с землей двух могильных холмиков. Их венчают два зеленых креста. Один маленький, будто игрушечный, второй большой, высокий, но тонкий, спехом тесаный, спехом ставленный. Военного времени могильные кресты. Я отличу их от сотен других. Те, другие, обстоятельны, в них и мастерство, и неторопливость вечности. Они угрюмы, кряжисты, страшны. Я всегда спешу от них прочь. Мне кажется, что не люди их ставят, а кресты сами вырастают из могил. Зацветают от моха, седеют от моха. Все они безлики и похожи друг на друга.
На крестах, перед которыми мы остановились, я вижу обопревшие со всех сторон сучки, вижу следы затесов топора, вижу огромные поперечные трещины. Все так и должно быть, их делали из сырой и корявой сосенки. И это чудо, что кресты еще не совсем сопрели. Стоять им уже недолго. Оба они уже подгнили и клонятся друг к другу, будто хотят обняться. Я не знаю, где я стою: у ног или головы сестры и матери. Я не знаю, как хоронят людей. Не знать бы мне этого век.
— Спасибо, тетка Василиса, что привела, показала, — говорю я. — Теперь иди до дому. Иди.
— У тебя крепкое сердце, хлопча?
— Крепкое, тетка Василиса.
— Ой, гляди, хлопча, ой, гляди... Недобрые наши могилки.
— А бывают кладбища добрые?
— Так-то оно так.... Да наше особливое. Вон там немцы положили, знаешь, сколько народу. Живых еще землей закидали и танком прошлись. Кровь сквозь землю проступила. Сама не видела, але ж люди верные говорать: на нашем кладбище у полночь загораюцца сами сабой агеньчики и стогн вырываецца из земли. И ходят по могилам люди незрячие усю ночь да света божага, шукаюць хто сына, хто дачку, хто... Можа, а матка твоя сярод их...
Я слушаю рассказ Василисы, будто пью какое-то приворотное горькое зелье. И во мне вместе со скорбью и печалью оживает то, что казалось уже утраченным навсегда. Ее «агеньчики» и «стогн» будят мою память. Память эта особая, в ней нет ни картин, ни слов, ни действия. Это что-то зыбкое и неуловимое. Сердце каждое мгновение замирает, останавливается и пульсирует снова. Я не в силах противостоять этой памяти. Здесь, на кладбище, переполненный своим и чужим горем и болью, я наконец чувствую себя дома, на родине, как не чувствовал этого в родном доме. Все, что лежат здесь, под крестами, и те, чьи кресты давно уже сгнили, — мои родичи. Я не попираю их прах, я сам из этого праха. Опирающаяся на суковатую палку Василиса, лес над моей головой, земля под ногами, воздух, которым дышу, — все это я. Без этого нет и меня. Пока я жив, никуда мне не уйти от этого кладбища. Мертвому все это будет уже безразлично. Но пока жив, «стогн» и «агеньчики» будут во мне.
— Спасибо тебе, тетка Василиса, за все, — говорю я и, замирая, повторяю на родном языке: — Дзякуй. А теперь иди посвету, пока не стемнело, себе домой.
— Я не буду закрываться, буду тебя ждать, — говорит Василиса и уходит.
Быстро смеркается. На кладбище уже нет тени. «Добрый вечер, — тихо шепчу я, обращаясь ко всем, и еще тише: — Добрый вечер, мама, добрый вечер, Тома», — и падаю на землю. Но могут ли быть добрые вечера на земле, если на кладбищах стоят такие маленькие, игрушечные кресты? «Мама, мама, я буду здесь целую ночь. Я верю, что из могил по ночам вырывается стогн. Я верю, что ты меня ищешь в полночь. Я тебя тоже искал. Долго, долго по всему свету. И не перестал искать еще и сейчас. И так по всей нашей Белой Руси. За войну здесь потерялся, погиб каждый четвертый, ты слышишь, мама? Каждый четвертый... А нас было только четверо, и осталось двое. Батька нашел мне другую матку. Может, она была и неплохой, но она была мне мачехой. А мне нужна была только ты. Я не мог забыть тебя. Не мог назвать эту женщину мамой. Не могу назвать мамой свою тещу. Язык не поворачивается. Мама — это только ты одна.
Я бросил батьку и новую матку. Я пошел искать тебя по всему свету среди людей. Ты все время была рядом со мной. Я знаю это. Ты не дала мне пропасть одному на белом свете. Не дала мне замерзнуть, помереть с голоду. Ты отвела от меня беду, но не захотела показаться мне, и я все время шел и шел за тобой. Я пришел к тебе. Я уже забыл, какие у тебя руки, какое лицо... Почему ты перестала мне сниться?»
Было уже где-то около полуночи, а агеньчики, про которые говорила Василиса, не загорались, и стогн не вырывался из земли. Мертвые молчали. А если бы они вышли из своих могил и заговорили, я бы сказал им... Что я им мог сказать?
«Я не знаю, что тебе сказать, мама, потому что никогда не было у меня тебя и нет к тебе слов. Я часто смотрю, как мой сын ластится к своей матери. И мне всегда больно. Я не знаю, что такое обнять мать. Я обнимаю землю, под которой ты лежишь. Мама, поднимись, встань. Мы возьмем Тому и пойдем. Снаряд больше не ударит в дом, осколок минует тебя. Я подставлю ему свою шею. Я знаю, как уберечь тебя от осколков и пуль. Я не дам Томе замерзнуть под печью. Мама, Тома, сестра, я виноват, что слезы примерзли к твоим щекам. Виноват, что выжил, а вы... Встаньте же...»
Беззвездная ночь тихо слушала меня. Черная темь растворила меня в себе. Я уснул и во сне разрывал серую землю. Мне снилось, что меня похоронили, чтобы я мог разыскать мать и сестру.
Я вырвался из земли, освободился от тяжести сырого песка и огляделся. Больше я не был один. Шесть-семь человек стояли на каждой могиле, держались за кресты, подпирали сосны. А народу все прибывало. Женщины, старики, дети, разодетые, как на праздник, и в рубищах. И вот уже на могилках яблоку негде упасть.
— Пора, — сказал кто-то толстый, стоящий ко мне спиной. — Путь далек...
Тихо, над самым моим ухом, раздался знакомый женский голос. Толстый обернулся на этот голос, и я узнал в нем моего немца Карла, который играл на губной гармошке и угощал меня жженым сахаром. Карл двинулся ко мне. Испугаться я не успел. Стогн и ветер прошлись по кладбищу. Взметнулись вверх ветви на соснах. Заплакали дети. А из молодых сосенок, на которые мне указывала Василиса, пошли люди.
— Люди, — снова услышал я знакомый мне голос.
— Мы не люди, — ответили ему из сосняка. — Люди спят спокойно на том свете. А нам нет сна. Рассуди нас, если сможешь.
— Бог рассудит...
— Подать сюда бога! — снова взметнулись от крика ветви у сосен.
— Бога! Бога!
И появился бог. Сел на крест возле меня. Посмотрел на простертые к нему руки и заплакал.
— Я тоже страдал, люди, — сказал он.
— Твоего сына только раз распинали.
— Его тело не крошили танки.
— На его глазах не мордовали его детей.
— Его не закапывали живьем в землю.
— Ангелы оживили его и унесли на небо.
Я знал, что я единственный живой человек среди мертвых, но мне казалось, что я один мертвый среди живых. В одноглазой старухе с простреленной грудью я узнал Настасу. Она была такой же и в той же одежде, в какой я видел ее у горящего стога. Только на голове не было платка, а сивые, без блеска волосы раскосматились и скрутились в колечки, будто от жары.
— Ульяна, — постучала Настаса палкой по кресту. — Выходи. Сын пришел.
Земля ушла из-под моих ног. Появилась мать. Сотни рук подтолкнули меня к матери.
— Ты зачем пришел ко мне сюда? — спросила меня мать. — Разве у тебя нет других дел?
— Я знаю, почему он пришел, — вырвался вперед Карл. — Он убил меня. И теперь ему нет покоя.
Настаса оттолкнула Карла. Мать взяла ее за руку.
— Я не кривдую на тебя, — сказала она Настасе. — Я кривдую на него. — И мать кивнула на Карла. — Он на этом свете ищет справедливости. А на том, у живых, подкармливал сына сахаром, хотел быть добрым. Вот она, твоя доброта, — и мать показала рукой на толпу, — захлебывается слезами, умывается кровью. И слезы, и кровь, и кривда людская будут на тебе до скончания мира. Нет тебе места ни среди мертвых, ни среди живых. И мучиться тебе до скончания двух светов.
Мать повернулась ко мне.
— Уходи! — сказала она.
— Я тебе еще ничего не рассказал...
— Тебе еще не о чем говорить, — перебила она. — Придет час, мы еще встретимся, и я тебя сама обо всем спрошу. Наговоримся.
— Я хочу, чтобы ты хоть изредка снилась мне, — попросил я.
— Я тебе уже приснилась...
И все мгновенно пропало. Я проснулся.
У-у-у-хо-о-д-и-и, у-у-у-хо-о-д-и-и — шумел в верхушках сосен северный холодный ветер. Было еще темно. Я поднялся и побрел, вышел на дорогу, но пересек ее и пошел по лесной целине. Ветер разметывал тучи. На небе появились окна. И из этих окон холодно светились звезды. Небо быстро серело. Звезды размывались и гасли. Ветер утих. Я снова вышел на дорогу и пересек ее. Солнце еще не встало, но край неба на востоке уже алел. В лесу под деревьями стоял полумрак и холодная тишина. Пахнул в лицо свежестью легкий ветер. И лес вспыхнул одновременно со всех сторон. Солнце поднялось до уровня деревьев. Я заторопился и вскоре снова был у родных мне могил, на кладбище. Маленький крест, будто игрушечный, и большой, высокий, но тонкий, спехом поставленный. Клонятся кресты друг к другу, словно хотят обняться. Я хотел поправить их, но раздумал. Тишина наполняет меня покоем и уверенностью. Я покидаю кладбище и никак не могу понять, что со мной. То мне кажется, что под моими ногами проваливается земля, то я будто невесом. Я иду, шагаю по солнечному лучу, и он даже не прогибается подо мною.
ПОВЕСТЬ О БЕСПРИЗОРНОЙ ЛЮБВИ
1
В тот год не уродились лесные орехи, может быть, не только орехи, но запомнилось именно это. Деды говорили: маланка побила. Маланку, которая бьет по орехам, представить себе было трудно. Орехи ведь такие маленькие, отыскать их на кусте непросто, а вот молния-маланка отыскала. Правда, лето было грозовое, но желуди на дубах уцелели, а орехи нет. Они, как и в хорошие годы, были развешаны по кустам, да толку с них мало. На зуб — и во рту горькота, ни намека на ядрышко, сплошная чернь, зола.
Ловка эта маланка: если шарахнет вполнеба — разламывает небо и орешки успевает тоненьким таким шильцем ширнуть. Р-раз! — и ваших нет. На всю жизнь отметина. А если она не орешек, если она пацана вот так ширнет? В сердце, допустим. Что с ним будет! Останется ли пацан прежним или все у него внутри тоже выгорит? И почему горит внутри, а снаружи все вроде бы и нормально?..
Андрей поперхнулся паровозным дымом и закашлялся. Он лежал на куче солнечно-желтого, но холодного песка, нарытого где-то в теплой стороне, а товарняк мчал его навстречу зиме. Мимо проносились благостно тихий безлистый лес, пустынные разъезды и полустанки. Отринуто спешили в сумеречную, припорошенную снегом тень берез и сосен одинокие и, казалось, печальные будчонки путевых сторожей и обходчиков, полуразрушенные, с зияющими провалами дверей землянки, оставшиеся еще с войны. Горло обложил страх. Он ждал этой встречи. Узнал, что она наступила, по сосне, которая росла при дороге. Ветви ее с одной стороны были обрублены начисто. Давно обрублены, и новые никак не росли, не хотели или не могли расти. Эта сосна была как бы вставший из земли сам по себе крест, и звалась она Разоркиной сосной. Потому что под нею погибли отец и мать Андрея.
А в землянках жили немцы, охранники. Охраняли железную дорогу и большак, который пересекал ее. Здесь и приготовили партизаны немцам гостинец. Взорвали мосток на железной дороге, заминировали лесную дорогу. Немцы бросились на взрыв, и первая машина села на партизанскую мину. На рожон не поперли, в лес не сунулись. Развернули машину и бросились в городок, искать там партизан.
Нашли. Всех, кто жил у леса, признали партизанами. А из этих всех уже выбрали самых-самых... Донес кто-то, шепнул немцам: самые-самые Разорки... Брат Адама Разорки в партизанах. Сделали обыск. Из оружия нашли топор, косу да борону. Погрузили борону на машину, погрузили отца и мать Андрея. Посадили черного пса стеречь их. Подошла еще машина, затолкали в нее жителей окраины.
И только пыль закурилась. Неподалеку от места взрыва людей построили в колонну и погнали вперед, туда, где скучились машины.
Отец Андрея нес борону, мать — веревку. Пес держался сапог офицера. У разбитой машины колонну остановили.
Вышел вперед офицер.
— Этот человек есть партизан, — сказал офицер. — Глядеть, как умирает партизан. Так будет каждому.
Офицер вырвал из рук Андреевой матери веревку. Люди притихли, сжались, поглядывая на сосны, прикидывая, на какой из них будет уготовано висеть Разорке. Но не то было на уме у офицера. Он приказал привязать веревку к бороне, взял за ошейник собаку и толкнул Адама Разорку в спину. И Разорка впрягся и, тужась, пошагал по лесной, обметанной ржавыми сосновыми иглами дороге. Земля была мягка, переплетена корнями, и тащить борону одному было не под силу. Офицер нетерпеливо крикнул:
— Айн, цвай человек помогать ему!
И вышла вперед мать Андрея и встала рядом с мужем. Они посмотрели друг на друга, посмотрели на небо над головой.
— Форвертс, век! — снова нетерпеливо прокричал офицер. Собака вырвала из его руки ошейник и побежала к тем, кому грозился ее хозяин.
— Вольф, назад!
Но собака не послушалась: может, она решила, что обязана стеречь этих двоих, чтобы они никуда не убежали, а может, хотела подогнать их? Разорки тронулись. И собака пошла следом за ними, чутко стрижа ушами, осторожно ставя лапы на свежевзрыхленную дорогу.
— Век, век! — то ли псу, то ли людям кричал офицер. — Век, век!..
И кончился их век, всех троих.
Ничего из этого Андрей не помнит. Но живут в его памяти гром и молния. Гром и молния и... черный пес. Пес — потому, что Андрей встретился с ним еще раз. О том, что произошло здесь, у сосны, ему рассказывали люди. Люди рассказывали о гибели пса больше, чем о гибели его родителей: «Чорны-чорны такі собака. 3 цялё вялізны і спраўны. І так яму хацелася жыць. А ў яко ўжо кішкі паўзуць і па пяску, па пяску. А ён зямлю грабе, грабе — і ў пашчу. I скуголіць, скуголіць, нібыта дзіця плача. Набі ў бруха зямлёю і здох. Ахвіцэр так плакаў над ім. Спраўны быў сабака, вялізны, як воўк, і чорны-чорны...»
Черный-черный, как сажа, пес темной, как сажа, ночью вышел однажды у этих землянок навстречу Андрею. Немецкая сторожевая овчарка. Настоящая или призрак? Скорее всего призрак, потому что собака шла за ним и не лаяла, хотя пасть была раскрыта, не выказывала ни радости, ни злости — не била хвостом. Будто неживая, перебирала она ногами рядом с Андреем. А у того оживали волосы на голове. Он вспомнил не отца с матерью, а то, что именно здесь долго лежали неприбранными трупы немецких солдат. Как положили их в снежную зиму освобождения, так и остались они лежать.
Уже обдутые ветром их черепа видел и он, Андрей. Его все время тянуло в эти места, хотя он и не любил их, боялся, но ничего с собой поделать не мог. И той памятной ночью он пришел к землянкам будто чужими ногами.
...Черная собака, не отставая, тенью скользила следом. Андрей заскочил в землянку, запер за собой дверь и, неумело крестясь, бормотал: отче наш, иже еси на небеси... И снова от отче до еси, потому что дальше не знал, дальше шло: хлеба нам даси? Но это было не из молитвы. Просидел в землянке до рассвета. А на рассвете нигде не смог обнаружить даже следов пса.
Что же надо было этому псу? Может быть, искал своего мертвого хозяина? Или партизана, солдата, который поймал его хозяина на мушку ружья? А может быть, он пришел к нему, к Андрею, чувствуя свою вину перед ним? Или же послан был с того света хозяином погубить последнего из Разорок? Или явился он просто потому, что Андрей был один, совсем один?..
Он и сейчас один, совсем один на белом свете. Уносящий его из родных мест товарняк — тоже призрак. И он, Андрей, должен стать на нем призраком, чтобы, никем не замеченным, проскочить сотни и сотни километров, добраться туда, где он уже раз был, где его ждет, должна ждать Тамара-грузинка. И потеряться навсегда для черного пса, забыть эти землянки, гром и молнию, дядьку с теткой, племянников и их дом. Забыть, потому что дядькин дом не дом для него.
Нет, Андрей не держит зла на дядьку. На месте дядьки мог быть и его отец. И тогда бы боронил уже он, дядька, эту дорогу. Все так... Так до тех пор, пока Андрей не узнал, как погиб его отец, не узнал, что дядька был минером в партизанском отряде. Донесли, вбили в уши. Жив был, выжил шептун, который и немцам шептал и сейчас, без немцев, улице шепчет. И дошел этот шепот до Андрея, и будто снова из той далекой поры грянул над ним гром, ослепила его молния. Андрей понял, что никогда больше не позволит дядьке поднять на него руку, никогда не простит ему даже самой маленькой обиды.
Внешне, правда, вроде бы ничего не изменилось. Андрей, как и раньше, рубил дрова, носил воду, топил печь, нянчил племянников, пас корову. Но это уже была не жизнь, не работа, а заведенка. Андрей навалился на книги. И что бы ни читал, все ему нравилось, потому что там, в книгах, тоже воевали, но не было ничего похожего на то, что произошло здесь, у землянок, под Разоркиной сосной. Мины взрывали только немцев, гибли только немцы...
Из книг он узнал, что свет большой и не всюду, не на всей земле, оказывается, была война. И его потянуло в этот свет, не ведавший войны. Но нельзя, видимо, все же сразу отказаться раз и навсегда от всего, чем ты жил до этого. И он играл с ребятами в войну и продолжал читать книжки про войну.
Однажды июльским медвяным полднем в лесу под березовым кустом до того зачитался, что забыл и о корове, за которой нужен был глаз да глаз, и о том, что уже темнеет. Спохватился, когда на него легла тихая вечерняя роса. Надо было возвращаться домой, а коровы нет.
И он подходил к своему двору так, будто ступал на вражескую территорию, крадучись, с оглядкой. Тетка отхлестала его кофтой с медными солдатскими пуговицами. Она хлестала его с остервенением и радостью. Она била лишний рот, который навязала ей кормить ее же собственная совесть. Андрей не увертывался. Боль его радовала, радовала кровь, тепло капающая с разбитой, стриженной наголо головы на растресканные, в цыпках босые ноги.
Боль и кровь говорили ему, что теперь он может, не задумываясь, покинуть этот дом и стать сам по себе. Он уже сам по себе, потому что в тягость и тетке и дядьке. Только никто еще не знает этого. Он как бы невидим для всех: вроде бы ты есть и вроде бы нету.
В этом Андрей окончательно убедился через несколько дней, когда пошел в библиотеку за три километра от школы. Три километра — это очень много, это почти край света, если тебя ждут дома ровно в два часа дня. А его ждали в два, в третьем он должен был выгнать на пастбище корову. Андрей вышел со школьного двора и с тоской посмотрел на корявые, в коричневых стручках акации. Там, за акациями, высились осокори, темнела водонапорная башня. А уж за мостком, возле башни, стояла не видимая отсюда библиотека.
Если бы у него были крылья... Но крыльев у него не было. Они были у воробьев, ворон, грачей, бестолково галдящих на тополях у пожарного депо. Нелепо, несправедливо устроен этот мир. Все время тебе надо что-то такое, чего у тебя нет, а есть у того, кому это совсем ни к чему. Пожарники щелкали птиц из малокалиберок. Наверное, птицы мешали им нести службу. А птицы словно забыли, что у них такие легкие крылья.
Андрей пристроился за огромным плетеным кошем колхозницы, штурмующей подкативший к остановке автобус. Но кондукторша, когда он был почти у цели и примерился поднырнуть под кош, вытолкнула его на улицу и засмеялась еще. Как только эти кондукторши различают на глаз, у кого есть деньги, а у кого их нет? Андрей пожалел, что у него нет шапки-невидимки, но особо не расстроился. Он уже привык, что у него ничего нет и отовсюду его выталкивают. И это даже хорошо, что его вытолкали сразу, а не где-нибудь на полдороге, потому что тут же подрулила и замерла на песчаной обочине легковушка.
Сзади у нее солидно и никелированно-нахально выпирал гнутый дугой бампер. А над бампером спасательным кругом гнездилось запасное колесо.
Андрей все рассчитал и сейчас выжидал, когда легковушка тронется. И вот она тронулась. В два-три прыжка он нагнал машину, прижал к боку холщовую сумку с учебниками и уцепился обеими руками за колесо. Вот и все, и шапка-невидимка невидимой рукой была нахлобучена ему на голову. Невзрачная, правда, такая шапчонка, хлябающая на ветру, с чужой головы, прожженная уже им, Андреем: на спор он нес в ней из дому в поле угли, чтобы разжечь костер.
Он подпрыгивал на колесе, мчась по брусчатке в таинственный, заселенный лохматыми, зачитанными страницами мир библиотеки, и никто не мог увидеть его и снять. На всякий случай, конечно, он не рискнул поднимать голову, чтобы не засек шофер. Но прохожих Андрей мог рассматривать сколько ему влезет. Они даже рта не успевали раскрыть — с такой скоростью и с таким шиком он проносился мимо.
Но на повороте шапка-невидимка чуть не отказала. Попался бдительный милиционер. Сначала он слегка опупел, увидев его, Андрея, на бампере легковушки, выпучил глаза и широко раскрыл рот.
— Закрой пасть! — крикнул ему Андрей.
Но милиционер не смог этого сделать, скорее всего не расслышал, хотя служебный долг оказался сильнее растерянности.
Милиционер нашарил висящий на груди свисток и понес его ко рту.
— Свисти, свисти... — крикнул он снова милиционеру. И тот исчез за поворотом, будто провалился. Только кольнул глаза красный верх его фуражки. Ничто и никто не мог уже остановить Андрея, пока он сам того не пожелает. Пятиминутная прогулка на легковушке убедила его в этом. Он выпал из жизни города, умчался из нее в страну, ведомую только ему, прекрасную и геройскую, без сопливых племянников, без все время норовящей ускользнуть шкодливой коровы.
И заселена была эта страна совсем иными людьми, чем здесь. Жили там те хорошие люди, которые в книгах уже умерли или были убиты, замучены. Андрей среди них был своим человеком и попадал к ним запросто в любое время дня и ночи. Это было совсем нетрудно. Вечером, правда, легче, но и днем стоило только чуть сойти в сторону с набитой коровами тропы, и ты уже у своих. У него там было свое законное место. Такой удобный обомшелый пенек под вековым разлапистым дубом на берегу усеянного белыми и желтыми кувшинками озера.
Он садился на этот пенек, если была охота, командовал боем.
Звучала музыка, радужно переливалось озеро. Светило солнце, шел дождь. В небе звенел жаворонок. Андрей смеялся и плакал. Он смеялся и плакал и сейчас, потому что не знал, в ту ли прекрасную и геройскую страну или из нее увозил его товарняк. Андрею было жаль мелькающего по обе стороны пути леса: ольхи, кленов, ясеней, притихших дорожных домиков. Все это словно выкорчевывали из него, отбирали у него навсегда, а он сросся с ними, как со своими, не ведающими износа, из чертовой кожи, штанами. Если бы он только мог, он бы сейчас соскочил с платформы, скрутил бы все в одну огромную вязанку, забросил за спину и увез с собой. Прихватил бы и корову, и сопливых племянников. Разобраться, они не такие уж и плохие. Не мог он, не мог без них. Но и оставаться с ними тоже не мог.
Как это устроено все на земле. Все одно из другого: смех — из плача, радость — из горя, и, чтобы стать счастливым, надо вначале быть несчастным. Так вот всегда. Поплачешь, поплачешь, пока не выплачешься и вместе со слезами не выкипит боль. И тогда в пустоте облегчения, в предчувствии радости сладко сожмется сердце. Ты заметишь и небо, и солнце, и скорость на всех парах рвущего вперед паровоза.
Андрей подполз к краю платформы и свесил голову вниз, где серо струилось железнодорожное полотно и по центру непрерывной черной змейкой вилял маслянистый след стекающей с паровозов смазки. В глазах зарябило. И это его обрадовало: товарняк шел быстро. А ему и надо быстро, как можно быстрее. Он перевел взгляд на дышащие, хищно отполированные буфера, нервно подрагивающие крючья сцепки.
Закружилась голова. Он знал: этими буферами была раскатана в блин не одна такая же, как и у него, мальчишеская жизнь. Попасть меж буферов — это было страшнее, чем попасть под колеса- Быть раскатанным — в этом и заключался ужас: голова еще живет, дышит, а вместо ног уже блины. Но Андрей поднялся и начал перебираться со своей платформы в другую, с высокими бортами. Надо было прятаться — приближалась станция.
2
Грузинка Тамара появилась в детприемнике во второй половине дня. Это Андрей запомнил хорошо. И вовсе не потому, что грузинок ему раньше не приходилось видеть и она пришла в его закупоренную порядком и дисциплиной жизнь словно с другой планеты. Грузинка она там или цыганка, этого тогда еще Андрей не знал. Скорее всего она походила на знаменитую, знающую себе цену воровку, которых Андрей пока еще тоже не видел, но, взглянув на Тамару, уверился, что если воровки есть, то они в точности такие, как эта новенькая.
Что Тамара ступила на порог во второй половине дня, он запомнил крепко. Во-первых, потому, что он только что сытно пообедал, во-вторых, размягченный обедом, Васька Кастрюк пообещал все же уступить ему атлас железнодорожных путей Советского Союза. Атлас Андрею был нужен позарез: он не собирался долго задерживаться в этом захолустном детприемнике. В-третьих, в погожие дни детприемник жил не по часам-ходикам, которые висели на стене у порога и шли как им бог на душу положит, а по солнцу. Ворвалось в первое зарешеченное окно солнце — обед. Солнце ушло с дивана и стало темно читать — три часа.
В три часа Андрей перебрался с кожаного дивана за стол. Только расчистил себе место среди гремящих костями доминошников и щелкающих шашками «чапаевцев», как затряслась дверь, проснулась дремавшая на стуле возле нее бабка Наста.
Дверь в любое время дня и ночи была заперта, а так ретиво ее трясли вообще редко. И все моментально насторожились: а вдруг да случится что-нибудь стоящее? Бабка Наста подозрительно осмотрела притихших ребят, отвернулась к стене и начала извлекать неизвестно откуда ключи. Прятала она их всегда так мастерски и с такой потаенностью извлекала, что при первом взгляде на нее было ясно: уйти через дверь с помощью бабкиных ключей — полная безнадега.
Наста открыла дверь, и на пороге нарисовалась Тамара-грузинка. Но это уже потом знали, что она Тамара-грузинка. А в то время все увидели просто очень смуглую девчонку, хмурую и неприветливую, с мокрыми волосами, выбивавшимися из-под бледно-голубой, застиранной казенной косынки.
— Новенькая!..
Новенькая застыла на пороге, но не от нерешительности и не от рисовки. Здесь Андрей мог поклясться, уже пригляделся, кто, с чем и как сюда входит. Переступали этот порог там всякие белые, рыжие и полурыжие девчонки-дешевки. Черные входили совсем по-особому, едва ли не хозяйками. По-хозяйски осматривалась и как бы даже принюхивалась по-собачьи вздрагивающим носиком и новенькая. Спертый воздух большой, но перенаселенной комнаты ей явно не нравился. А на тех, кто дышал этим воздухом, она, как ни странно, даже не смотрела — оглядывала потолки, решетки, шторы, скользила неприязненным взглядом больших черных глаз по столам.
На нее тоже уже почти не смотрели, первое визуальное знакомство, можно сказать, состоялось. Дальше все зависело от ее поведения: как она войдет, куда сядет, заговорит ли сама или будет ждать, пока с ней заговорят. Но это должно произойти еще не скоро. Здесь свято придерживаются правил хорошего тона. Меньше вопросов, меньше шагов навстречу, по крайней мере в первые дни. Не суетись, или, другими словами, не возникай — это первая заповедь. Для верности и прочности вколачивают ее зачастую кулаками.
И уже снова невозмутимо и сочно впечатывались в дерево столов костяшки домино, подпрыгивая, раскатывались по щербатому полу шашки самозабвенно сражающихся «чапаевцев». А Андрей неотрывно смотрел на Тамару-грузинку. Конечно, совсем не потому, что она ему понравилась, скорее наоборот — очень не понравилась. Приземистая, в черном казенном платье и сама грачино-черная и так же по-птичьи недоверчивая, она не могла понравиться. И ей все здесь не нравилось. Это было ясно. «Шухерная пташка, — так без обиняков в первую минуту и подумал он о ней. — Убить она, конечно, еще никого не убила. Шурует скорей всего по вокзалам, в поездах, магазинах, а то и «малину» держит». Что такое «малина», он представлял себе по книгам. Непременно, казалось ему, должен быть стол на козлах, облитый вином и усеянный селедочными головами и костями. Две крест-накрест воткнутые в грубые неструганые доски финки. Гитара, пьяный хор и шалый похабный смех девок. Последнее конкретно связывалось со все еще продолжавшей стоять на пороге новенькой.
Андрей уткнулся глазами в книгу и, наверное, не оторвался бы больше, если бы все шло как положено. Но с первых шагов новенькая начала «возникать». Он понял это по тому, как особенно яростно, захлебываясь, застучали костяшки домино, загремели шашки.
Андрей поднял голову. На пороге уже никого не было. Бабка Наста запирала дверь. Начало он упустил, но и то, что услышал, было сверх всякой меры.
— Убирайся, — услышал он хрипловатый, но отчетливый и властный голос новенькой. Андрей догадался, что она за печкой. Еще отметил: «Сипатая — курит или пьет».
— А мне здесь нравится. — Это говорил Робя Жуков, захвативший теплое место возле печки. Андрей с ним уже сталкивался, нос разбит до сих пор.
— Мне здесь тоже нравится, но не нравишься ты.
— На фингал тянешь, девочка.
— Мальчик уберется или его вытянуть за ручку?
И все это тихо, но с выражением. Тон здесь повышать тоже никто не любил — ни беспризорники, ни начальник детприемника старший лейтенант Гмыря-Павелецкий. Не терпели здесь, на глазах, в зале, ни беспризорники, ни воспитатели ссор и драк. И Робя вылетел из-за печки, будто получил пендаля. Гневно и многоцветно сияли шрамы на его черной, стриженной под ноль голове. Излучая это калейдоскопическое сияние, он, ни на кого не глядя, проследовал через всю комнату к Андрею.
— Подумаешь, фифа. На фингал тянет. Возьму глаз на анализ.
— Девчонка ведь, — не удержался, буркнул в книгу Андрей.
— И ты тоже хлопочешь?
Андрей не хотел хлопотать. Он выключил себя из болтовни Роби, уплыл в «малину», где повелевала эта возмутительно уверенная новенькая.
И день стремительно покатился к ужину. День, в котором ничего больше не происходило и не могло произойти, потому что бабка Наста и во сне цепко сторожила беспризорничный уют и свое законное, насиженное место у дверей. Без боя она не уступила бы его даже Гмыре-Павелецкому.
На ужин дали винегрет и чай с хлебом. Чая и хлеба всем досталось от пуза. И это было здорово. Потому что пузо всегда, особенно к вечеру, просило есть. А чем его набивать — безразлично, только б набить. Пузо урчало и злобилось на кроваво-красную сладкую свеклу в винегрете, умильно взвизгивало, принимая солено-прохладный огурец. Но Андрей воли ему не давал. Огурец он умеренно сдабривал хлебом. И было просто объедение. Беда только — хороша бражка, да мала чашка. Вошел во вкус, а в тарелке уже дно. Но впереди был чай, хотя Андрей к нему все еще никак не мог привыкнуть.
В теткином доме чай не принято было пить. Куда лучше холодная вода и капелька сахарина, а если еще хлеба — такая получалась тюря. Но сахарина в детприемнике не водилось, не додумались до сахарина, чего-то не учли, и вот приходится хлебать полусладкий чай. Разливала его бабка Наста собственноручно, по-честному. Ну совсем как дома, такая домашне-румяная эта бабка Наста, и добрая и хлопотливая. И не хочешь чая, да надузишься.
И надузился. Еле дождался своей очереди в туалет. Его оттерли, и получился он последним в очереди. Но тут ему повезло. Андрей, правда, немного перебрал лишку в туалете, застоялся, выискивая в крыше дыру, чтобы посмотреть на голое небо. Наста, наверное, промерзла, стоя у дверей, поторопила его. Он вышел нехотя и остолбенел. Дверь на улицу была распахнута. Бабка Наста стояла на пороге и тоже смотрела на небо.
— Молодик, — сказала она не стражничьим, а старушечьим голосом, — погода будет.
— А сейчас нужен дождь.
— Это к чему дождь, пошто он тебе нужен? — покосилась, не поверила Андрею.
— На урожай. — Это он говорил, чтобы задобрить Насту, а сам смотрел, смотрел на вызвездившееся небо. Жадно пил его чуть горьковатую прохладную синеву, смаковал дразнящий свет луны, цветасто опоясанный радужной косынкой-короной.
И так ему захотелось на улицу, под этот бледный, снулый, осенний свет, что Андрей не выдержал.
— Можно, я побегаю? — просительно-слезливо заглянул он в глаза бабке. Та испугалась и заступила проем двери.
— Господь с тобой, да как же это ты побегаешь?
— А просто. Ногами, ногами, как все люди. Чтобы песок поскрипел. Я не убегу, бабка Наста, мне некуда убегать.
— Да господь с тобой, да что ж ты такое говоришь? Чудной ты какой-то: песок поскрипел...
— Ну да, порипел. Он к вечеру скрипит, рипит...
— Дети вы, дети, — вздохнула Наста. — Носит вас нелегкая по свету... Выйди уж, порипи, только бегать я тебе не дозволю. Не молодуха уже догонять тебя.
И Андрей вышел во двор. Слева кирпично-нездорово краснела, мерцала, уходя под железную крышу, тюремная стена. Но он не смотрел на стену. Не смотрел Андрей и на выпрыгнувшие из ничего и зависшие серебряными шарами мягко покатые купола церквушки, вставшей за забором справа. Он замер и слушал. Слушал ночь, песок, небо, себя. И бежать ему не хотелось, потому что знал: побежит — не остановится. Не то что бабка Наста, никакая на свете милиция не сможет его догнать. Белым лунным светом пройдет он сквозь тюремные стены, росой растечется, осядет на песках и травах. Обовьет эту землю смехом и грустью, что одинаково неистово рвутся сейчас на волю.
— Ну хватит, хватит, — ворвалась в него бабка Наста. — Бегать не надо было от матери с отцом. На волюшке бы жил. Хорошо ведь, ой как хорошо, по себе знаю. Ждет, милок, ждет и меня уже моя тюрьма... Выпустила бы я тебя, да не могу, подневольная сама... Добровольно тут подневольная...
Васька Кастрюк зажал атлас, жадоба. Не доел на ужине. Но Андрей на него не обиделся, что ему было сейчас до атласа. Пусть Бещев — министр всех этих железных дорог — изучает его перед сном. Андрей забился в угол с гидемопассановской «Жизнью» и застрадал вместе с Жанной. И до того застрадался, что его чуть не припутали. Дело в том, что книга была совсем не по его возрасту. Так сказала ему воспитательница, и он решил во что бы то ни стало прочесть эту книгу. Кто его знает, может, в этом «не по возрасту» как раз и скрыто то, чего ему не хватает. Оно вполне могло быть во взрослой книге. Взрослые поэтому и не допускают его к ней.
А надо, надо найти, разыскать среди множества книг ту, которая написана специально для него. Ну пусть не вся книга для него, но хоть страница в ней обязательно есть для него. Иначе зачем вообще писать книги. Иначе всякий дурак сможет сесть и накатать ни о чем и ни для кого. А книга должна быть для кого. И книга и человек обязательно должны встретиться, иначе опять черт знает что может получиться. Вся жизнь у человека не в ту сторону может пойти.
И Андрей искал эту свою книгу, поэтому и «тиснул» из шкафа «Жизнь» Ги де Мопассана. Но ошибся. Не пахло там им и его жизнью. И читал он сейчас ее, чтобы понять взрослых, хоть немножко разобраться, кто они такие и почему так трудно с ними живется ему, Андрею, почему они всегда мешают ему жить.
Кое-что в потемках в своем углу он начал понимать. Но тут на него легла тень. Андрей перепугался: все, влип, и, готовый ко всему, поднял голову. Перед ним стояла новенькая.
— Ты что читаешь? Страшное что-то читаешь — хмуришься и дергаешься.
«Чего это ей надо?» — неприязненно подумал Андрей. Но неприязни этой его хватило только на минуту-другую. Ему тут же стало не то чтобы хорошо, но приятно оттого, что она заговорила с ним. Во-первых, опять же потому, что с ним разговаривала девчонка, и не какая-нибудь, а почти взрослая. А во-вторых, она хорошо разговаривала. Совсем не так, как с Робей Жуковым. А в-третьих... В-третьих, он все же гордился собой: читает взрослую книгу, про взрослую жизнь и все понимает. И Андрей показал, правда, не без замирания сердца, книгу.
— Меня зовут Тамарой, — сказала новенькая. Он не догадался, не знал, что здесь и ему надо назвать свое имя. Ждал, как ей поглянется, что он читает такие книги. И Тамара сама спросила:
— А у тебя имя есть? Как тебя зовут?
— Андрей... — Тут он хотел назвать еще и свою фамилию. Настоящую. Но хорошо, вовремя спохватился: — Андрей меня зовут.
— А ты больше на Леньку похож. — Тамара понимающе прищурилась. — «Дед Архип и Ленька» — не про тебя?
— И совсем не про меня. Это Максима Горького книга, который «В людях», «Мои университеты» написал...
Андрей почти возненавидел новенькую. Вот как, оказывается, глупо можно сесть на крючок. Только рот раскрыл, поверил... А все с хитростью подъезжают к нему. Плешь переели уже этим Горьким. Чуть что: «Дед Архип и Ленька»...
— Я знал деда Архипа, — сказал Андрей, — и Леньку знал. Они жили на нашей улице, рыжие были оба.
— Ты что? Они уже давно умерли, может быть, их и не было даже.
— Ну, даешь ты! Да я этого Леньку по три раза в день бил. А дед Архип и сейчас машинистом на железной дороге ездит.
— И все же не ту ты книгу читаешь. Есть еще про тебя. «Педагогическая поэма» называется.
— А, это Макаренко. «Флаги на башнях» еще. Хороший мужик был. Я бы к нему в колонию пошел, где вот только она... Я уж тут думал...
— И я думала... Только нету, Андрей, такой колонии.
— А ты в колонии была?
— Была...
— Ну и как?
— Плохо.
— В макаренской плохо? — Андрей ей не поверил. Не поверил не тому, что она была в колонии. Вполне со своим характером, ухватками и видом она могла быть в колонии. Но в то, что там плохо, верилось с трудом. Тетки у нее не было, вот главное, будь на нее тетка, пела бы по-другому. Но он не сказал ей этого. Зачем говорить людям то, чего они не понимают и понять не смогут.
— Не соглашайся в колонию, — еще сказала ему новенькая. — Ни за что не соглашайся. Поверь мне...
Вот это она уже сказала зря.
Подумаешь, бояться колонии. Живут же ведь люди, кормят их там, одевают и учат, к тому же книги есть. Ну и что из того, что иногда бросают в тумбочках пацанов со второго этажа (про тумбочки Андрей слышал от Жукова). Не всех же бросают, сексотов только там всяких. А он, Андрей, не сексот. И лучше уж раз пролететь со второго этажа в тумбочке, чем возвращаться назад, к тому, от чего ушел. Нельзя людям возвращаться к тому, от чего они уходят. Лучше не уходить. А если уж ушел, то хорошо ли, плохо ли, а надо уже до конца. Иначе все станут насмехаться над тобой, и сам ты будешь вечно нараскоряку.
Назад возврата не было. Незачем туда, где тебя не хотят, где тебя не любят, где ты всегда будешь лишним. Но разве поймет кто это. Это же какое надо сердце, чтобы понять.
Худо, худо жить на белом свете. На окнах решетки, у дверей бабка Наста, а во дворе тюрьма. Может, там и неплохо, может, и надо туда. Если уж не в колонию, так в тюрьму. Куда же еще? Нету больше дорог. Расспросить надо, как там в тюрьме. Новенькая должна знать. Хорошо, что рядом есть человек, который все знает. И маленькая беспризорная радость теснит грудь. Конечно, эта черная Тамара не бог весть что. Но хорошо, что она с ним заговорила, завтра и он с ней может заговорить. Конечно, надо от нее подальше, подальше. Но хорошо, что она есть и можно о ней думать, уходя в длинный и жуткий сон, уносясь в прошлое, цепляться за близкое, настоящее.
А цепляться-то не за что. Что там у тебя, мальчишечка, в близком настоящем? Дорога? Хороша дорога, вольница дорога. Но это летом, когда живот нараспашку, когда каждый кустик ночевать пустит. И зимой терпимо, если руки у тебя исправно работают: и карман ты можешь вырезать, и в сумочке у дамочки пошуровать, и магазин обчистить. Не умеешь? Обучат. Медведя спички зажигать учат. Боишься? А жрать не боишься? Или домой захотел?.. Лучше в тумбочку, про которую Робя говорил? Давай, давай, полезай в тумбочку, калекам ведь тоже подают... На жалости, на слезе прожить хочешь? Ах, ты от жалости ушел?.. Вором лучше... Огороды чистить, огурчики, помидорчики... Странником ходить по земле. Не вор, а бродяга, скиталец... Скитайся, скитайся... В колонию...
И вот уже летит, летит на фиолетово-промасленный асфальт голубая казенная тумбочка. Срывается с места земля.
Черный пес, немецкая сторожевая овчарка выходит из черного небытия и, не касаясь земли, скользит над ней. Громадная темная тень лохматится над голубым и зеленым шаром.
— А-а-а-а...
Что это — то ли гудок паровоза, то ли крик пацана, раздавленного этим же паровозом? Рыжий машинист дед Архип радостно бросает тяжело груженный состав с уклона навстречу огням надвигающегося города. Доверенная ему машина полна жизни. И церковь с встающими из ничего маковками и ажурной тенью парящего над ними креста смотрит в глаза беспризорников. Всю ночь они борются с прошлым, настоящим и будущим.
3
Андрей перебрался с платформы в вагон без крыши, затаился. Но, видимо, его никто не засек, и можно было продолжать путь. Маршрут свой он определил давно, и дорога эта тоже была знакома ему давно. Он раз уже проделал ее в точно таком же вагоне, правда, тогда было немного теплее, но очень хотелось есть. А у него не было ни крошки хлеба, ни копейки денег. И он сошел на этой станции, которая сейчас так стремительно несется на него, грозно грохочет стыками рельсов на стрелочных переводах, вопит, отзываясь паровозному гудку, чужим незнакомым эхом.
Но украсть ничего не смог. Нечего было красть на этой станции: то ли все уже покрали до него, то ли хорошо припрятали. Это очень трудно — красть в незнакомом городе. Все вокруг уже догадываются, что вор рядом, заранее знают, что у тебя на уме, и смотрят только на тебя. Да и красть как надо он еще не мог. Ночные походы по чужим садам не в счет. Промышлять на базаре яблоки там разные, груши в его городе тоже вроде за воровство не считалось. Можно было тащить всякую мелочь и при выгрузке из вагонов на разгрузочной площадке — рамке. Грузчики, старьевщики, колхозные дядьки, ночные сторожа садов не особо гоняли их, потому что у них тоже были дети, которых надо было как-то кормить.
А как-то раз Андрею пофартило поесть от пуза и конфет-подушечек.
С ребятами, возвращаясь из школы, он присел на пустые ящики возле закрытого на замок ларька. Возле ящиков кружились осы. Решили проверить, что это здесь понравилось осам. Развалили ящики и увидели в одном из них громадный слипшийся ком подушечек. Хватило всем — наелись от души. Три дня болел живот...
Но это было, конечно, не воровство. А вот книги Андрей воровал уже по-настоящему. В основном в киосках. Заранее облюбовывал и киоск, и старушку киоскершу, которая не сможет его догнать. По-взрослому подходил к окошечку и просил посмотреть загодя намеченную книжку. Улучал момент и сигал с этой книжкой в толпу. Так он увел «Сильные духом» Медведева, «На правом фланге» — автора этой книги он уже забыл. Но сама книга была интересной до невозможности, И он очень жалел, что она не закончена и ни в одном из киосков не было ее продолжения. Тогда Андрей в уме, во сне и наяву, сам написал продолжение этой книги. Хорошее продолжение, нашел в нем место и для себя...
Но лучше бы он учился воровать хлеб, чем книги. Это было бы нужнее для него в дороге. Есть хотелось до тошноты. Но научиться воровать хлеб в то время просто было невозможно. Его не было, хлеба. За хлеб умирали без денег и с деньгами. Умирали от ножа и под колесами поездов бородатые мужики и безбородые, с иссохшими и обмороженными синими лицами женщины — мешочники. Андрей не раз видел, как их деревянные тела снимали с буферов и тормозных площадок. Он сам не раз, зажав в руке деньги, пробивался сквозь толпу к прилавку с хлебом.
Именно за это его и ценили дядька с теткой. Он мог и любил добывать хлеб в этой толпе. Мог идти в ней и низом — меж ног, и верхом — по головам. И всегда приносил домой килограмм или два, сколько давали глевкого, хоть коники лепи, хлеба. Хлеб в руках был уже хлебом и для него.
Любили этот промысел все пацаны их улицы. Они были необычайно живучи, эти послевоенные, жаждущие хлеба пацаны. Выплюнутые толпой, за час они отлеживались, оклемывались в холодке на травке, распрямлялись их молодые и неломкие кости. И они снова кидались в толпу.
В толчее иной раз Андрею выпадало набить карманы грецкими орехами. Рогожные мешки с ними лежали вдоль стен в магазине. И когда толпа осаждала хлебные прилавки, можно было в мешке как бы невзначай сделать дырочку. Случалось, что эта дырочка была уже сделана. И тогда все просто.
Но в чужом городе Андрей не отваживался и взглянуть на такие же мешки в пристанционном магазине, в который случайно забрел. Чего доброго, еще окажется, что дырочка там уже готова. И тогда его сразу же схватят за руку, угадают по нему, что он уже таскал грецкие орехи.
Вообще, воровать на глазах у незнакомых людей казалось необычайно постыдным, мерзким делом. В его городе все знали и догадывались, что он хочет есть. А тут могли бы подумать, что он просто вор. А он не хотел быть вором. Это было непонятно и необъяснимо, потому что Андрей, уезжая из родного города, знал: ему придется в пути воровать. Иначе и невозможно было. Ведь должен человек в пути что-то есть, а если у него нет денег и он не умеет и не хочет просить милостыню, что ему остается делать?
Бродить и смотреть, как едят другие? А другие ели. Так уж ему везло в тот день. Ели в заплеванном, замусоренном ошкурками семечек зале ожидания вокзала, ели на холоде, на ходу ловкие, как обезьяны, смазчики и сцепщики вагонов, ели в домах за оконными стеклами, в тепле, взрослые и такие же, как он, пацаны. Грызли яблоки женщины на тротуарах, жевали овес лошади, на подворьях переборчиво бодали мордами сено коровы, клевали лошадиные парящие катыши воробьи.
И вкралась, заскворчела в воспаленной голове трусливая жалкая мысль: а не плюнуть ли на всю эту затею с побегом и не вернуться ли назад? Как-никак, а хоть сыт-то он будет. Будет тюря с сахарином. Стоит только сесть на обратный поезд — и через день, самое большое через два, возьмет в руки оловянную ложку и припадет к оловянной чашке, и наступит сытость. И никаких тебе забот. Будет, конечно, коситься тетка, но какое ее дело, когда он хочет есть сейчас, теперь, всегда.
Он представил себе тетку, красную лицом, но не от сытости, а просто по природе, как она следит за ним, Андреем, когда он тянется к выложенным на стол ложкам, спотыкаясь рукой, выбирает ложку; спотыкаясь взглядом, несет ее к тарелке — скребет тарелку; потом торопливо, спотыкаясь сердцем на каждой капле, падающей с ложки на стол, несет ко рту. Нет, он еще не настолько голоден, чтобы вернуться к этому.
Из-за чего он бежал? Зачем? Не потому, что ему было голодно. Не для того, чтобы нажраться. Он и представить себе не мог, что где-то люди едят вволю. Еда не занимала его. Все вокруг, весь город, выходит, и весь мир были сыты одинаково. В его доме, конечно, картошка была больше с та́ком, но перепадала и с маком. А вот полярники (так прозвали тех, кто жил в землянках на северной окраине их городка) кормились святым духом. И ничего. Не бегали. Пухли с голоду, покрывались коростой, но не бегали. А он убежал.
Так почему? Натура у него такая шалавая? Шалавая! Это он знает. Но не в натуре дело. Из-за своей натуры он не сбегал, а сходил из дому, как сходят дичающий пес или кот. Шел в деревню к бабушке. Шел каждый раз с твердым намерением поселиться у бабушки навсегда. Но не выходило навсегда.
— Внучек, — говорила обычно бабушка, — да не прокормлю я тебя в деревне. Не здолею уже.
— Почему же не здолеешь? Почему ты меня не прокормишь? — все никак не мог понять Андрей. — Я шел к тебе, по дороге столько хлебов растет: и жито, и яровина, и просо, и картошка.
— Растет... Да мы тут в деревне хлеб раз в году видим, когда убираем. — И бабушка поджимала бесцветные губы, как делает это бабка Наста, когда прячет свои ключи: все бабушки походят друг на друга.
— В городе говорят: хлеб ест деревня, а ты говоришь — нету хлеба, — стоял на своем Андрей.
— В городе хоть гроши есть. А у меня всей пензии за сына пятьдесят рубликов...
Тут бабка плакала, а он утешал ее, говорил, что, может стать, сын ее и не сгорел в танке, а жив, обгорел только. И из-за обгорелости своей не хочет, боится показаться на глаза бабке. Ведь о таком случае писали даже в книге. Вот Андрей вырастет и найдет ее сына. А не найдет сына, так и без него тогда проживут. У него, у Андрея, будут деньги и хлеб будет... Кончались бабкины слезы. Бабка и внук то ли шли на колхозное поле собирать мерзлую картошку, то ли на луг за щавелем или опять же на поле, но уже за колосками. А однажды так и своровали полторбочки пшеницы. Бабушка привела его к амбару на сваях, дала торбочку и сказала:
— Лезь под амбар. Я в сусеке, куда пшеницу ссыпали по осени, дирочку разглядела, авось и натекло мне на зуб...
Натекло. Но не хватило этого хлеба для продолжения бабкиной жизни. Некуда сходить больше Андрею из дома от своей горькой жизни. И ушел от него сон.
И долгими ночами дошло до него, что он лишний, чужой в дядькином доме. Ночами он слушал, как дядька спорит с теткой.
— Дурень ты, дурень, — выговаривала тетка дядьке, — что ты только вбил себе в голову. Да ему же в детдоме будет лучше, чем у нас.
— Так-то оно так, — отвечал дядька, — да не могу я это дитё сдать в детдом.
— А хлеба ему вволю ты можешь дать?
— Что своим, то и ему. Голову ему могу погладить, приласкать, а кто его в детдоме приласкает?.. Не будь моей вины перед его батьками, не доведись мне минировать ту проклятую дорогу, может, и отвел бы в детдом, а так не могу...
— В чем же твоя вина — что в партизаны, а не в полицаи пошел? Война все, война.
— Так-то оно все так... Але ж... снится ночами брат, ничего не говорит, только пальцем вроде грозит.
— А может, он тебе указывает, чтоб ты отвел его сына в детдом?
— Опять же — мы в его хате живем...
— Жилы уже все вытянула эта хата из меня. Сколько можно глаза ею колоть, гори она огнем... Одеть его не напасешься.
— Люди пальцем тыкать будут...
— И так тыкают. Приглядываются, во что одет, какой кусок ему я подаю, не оставляю ли лучший своим детям. И дрожишь за него, чтоб, дали бог, ничего с ним не случилось. А он еще шалавый уродился. Не заступил же мне никто дорогу, когда я за ним в лагерь пошла. Несчастье, несчастье, а не дитя это в доме. Как распятая перед ним живу. И нет вины, а виновачусь. И ты тоже. Не нужен ни мне, ни тебе такой напоминок перед глазами.
— Так-то оно так...
— Вот, дошло. А люди поговорят и успокоятся. А так всю жизнь мука смертная.
— Мука смертная... Буду мучиться. Одна мука — что он рядом, что не будет его. Все равно муку свою никому не сбудешь.
— А если бы не было его, если б не было ничего?
— Если б да кабы...
Что может быть горше, горючее, когда понимаешь: тебя держат только из милости, тебя не кормят, а оказывают тебе милость, подают милостыню... Постель — милостыня, одежда, и солнце, и воздух... Все чужое, и ты всем чужой.
А дядька вскорости слег — сухотка. И было совсем неясно — встанет или нет. Тогда-то и случилось, что Андрей оказался чужим и улице. Соседка продала корову. Деньги спрятала в матрац. Через день-два кинулась искать, а денег нет. Кто взял? Конечно, тот, за кого заступиться некому.
Припомнила соседка один Андреев грешок. Занимал Андрей у нее как-то червонец. Прибежал: дядька с теткой послали за червонцем. А оказалось — никто его не посылал. Денежки ему понадобились на книгу «Люди особого склада». Что же тут гадать, кто мог деньги за корову спереть.
Соседка с теткой охаживали его в две руки, как в каком-нибудь там застенке катовали. Конечно, понять их можно: тетке позор, а соседка без коровы — значит, безо всего. Но Андрей денег не брал, додуматься не мог, чтобы взять их, хотя под веревками и пожалел, что не додумался, не спер деньги. Тому, кто сейчас с такими деньгами, хорошо. И ему было бы хорошо. Били бы, да за дело, а так за что страдает?
Отступились от него только дня через два. Пропажа обнаружилась в том же соломенном матраце соседки. Но что уже было до того Андрею? Он не мог простить ни улице, ни городу, что о нем так думают. Он должен был уйти из этого города, чтобы вернуться обратно через много-много лет знаменитым, шикарным, чтобы не только у теток и дядек, но и у коров глаза от зависти повылазили.
В тот первый свой побег в дороге он мог бы не думать о куске хлеба. Деньги дома лежали в двухэтажном застекленном буфете, там же хранился сахар и еще кое-что недозволенное Андрею. Ключи тетка прятала, по он знал ее хованку и в любую минуту мог бы открыть буфет и взять деньги. Он не сделал этого. Ему хотелось уйти по-честному. Он ведь не просто уходил из города и чужой ему семьи. Уходил из жизни, которая не захотела принять его, в которой ему не нашлось места, уходил в иную страну. Какую — это было ему еще неизвестно. Ему еще предстояло разыскать ее и определить. Андрей не сомневался лишь в одном — что она есть. Раз он родился на этот свет, ходит, видит, думает, значит, должен и найти свое место. Оно обязательно есть на земле и уже давно ждет его. Быть может, это солнечный юг, где все время лето, и чтобы прожить там, не нужны ни одежда, ни обувь. Может быть, это где-то у папуасов, куда добирался Миклухо-Маклай, там вообще рай. Голый, босый, а тряхнул пальму — ешь, пей, не хочу.
И он ехал тогда в эту свою шикарную и изобильную страну, правда, так до конца и не определив, где она может находиться. Для начала, конечно, Москва. Не потому, что там рай земной. Просто нельзя было вступать в новую жизнь, не посмотрев Москву. Вокруг нее вращалась фантазия всех ребят его улицы. Там, в Москве, находился Мавзолей. Там, в Москве, жил человек, имя которого называть попусту просто не стоит, но который все знает и ведает, — лучший друг всех детей. И в глубине души Андрей надеялся на нечаянную встречу с ним. Быть может, не совсем нечаянную, но дело не в этом. Тот человек определит его в детдом или ФЗО. Ну, а не выйдет встречи, ничего не поделаешь. У Андрея на этот случай было два запасных варианта. Первый — повернуть из Москвы на юг, где бьется о берег теплое синее море, которое только и ждет его. Второй — податься до Владивостока. Там можно устроиться юнгой на корабль. Принимают, есть ведь счастливцы.
Но чтобы добраться до Москвы, надо было достать хлеба, хоть краюшку. Андрей рискнул попробовать удачи на второй день пути к вечеру. Это было уже почти отчаянье, но что поделаешь. Он слез и подался на вокзал. В зале ожидания было сумеречно и от недостатка освещения, и от плюшевых женских, жакетов, мужицких фуфаек, и рогожных, бережно хранимых этими жакетами и фуфайками мешков.
Андрей долго не мог найти себе места. Желтые эмпээсовские диваны были заняты. А ложиться на пол не хотелось. Выбирать, где прилечь, не пришлось. На него уже косились. Возле печки он приметил молодую краснощекую деваху, по виду добрую, по-деревенски любопытную и ротозейную. Пристроился возле ее мешка и притворился спящим. Но маневр оказался явно неудачным. Деваха словно учуяла что-то неладное, придвинула ближе к себе мешок, посмотрела на Андрея, как бы сказала: и не думай и не гадай, милок, знаю я тебя, знаю, тут не пообедаешь.
Андрея заела эта ее сверхбдительность. Нащупав в кармане ножик-складник, заранее раскрытый, чтобы вспороть мешок, он сквозь прикрытые веки начал следить, когда деваха клюнет носом. И чем больше он на нее смотрел, тем больше убеждался, что деваха добрая только с виду. А на самом деле она походила на одну знакомую ему торговку из его города. То была несчастная и ожесточенная нуждой женщина, прирабатывающая торговлей у проходящих поездов. Сначала она тоже показалась Андрею доброй, до того момента, пока он не увидел, как торговка расправляется с таким же, как он сейчас, беспризорником.
Беспризорник, видимо, тиснул у нее всю выручку. Но женщина не дала ему бежать. И вор и обворованная вопили как оглашенные.
— Не брал я, в натуре, ничего не брал! На вот, режь меня на части, посыпай солью! Нет у меня твоих денег. На... — Пацан картинно тряс лохмами чудом державшейся на грязном посинелом теле одежды, обращался за сочувствием к толпе: — Граждане прохожие, что же это делается? В натуре, что? Честному человеку гады-барыги проходу не дают.
Торговка умоляла:
— Отдай, добром прошу, последние кровные! Отдай, ничего не будет!
— Где же я тебе их возьму, нарисую, что ли? Нет, нету, не брал я у. тебя ни копья... Спекулянтка несчастная...
И тогда женщина взъярилась. Это страшно — ярость безнадежно ограбленной женщины, женщины, уже распределившей каждый рубль, каждую копейку. Сами собой выползли на распаренное и ужасное в ярости лицо немытые и спутанные космы. Глаза застыли, и в них уже можно было прочесть приговор беспризорнику. Она схватила его хлипкое синее тело в охапку, с невероятной для женщины силой и сноровкой оторвала от земли...
Толпа заволновалась. Миг назад она была на стороне женщины, теперь же все жалели мальчишку. Но вмешиваться никто не торопился.
— Тетенька, дорогая, миленькая, — тянулись к женщине, небу и толпе, молили о милосердии изъеденные цыпками и коростой бессильные руки
— А что я сегодня есть буду, чем я буду кормить свои рты?
Андрей сжался, втянул голову в плечи, словно это его голова сию минуту должна была расколоться об асфальт.
Но беспризорный уберег голову, только с ног послетали рваные, без шнурков ботинки. Сыпанули веером из них радужные и масляные рублевки, лишь красный червонец приклеился к потной пятке...
Прилипший к желтой мальчишечьей пятке червонец все отчетливее — по мере того как шло время — маячил перед Андреем. В доброй деревенской девахе он видел и свой приговор. И уснул голодный. И утром, ежась от ознобистого, безвременно холодного тумана, вышел на привокзальную площадь и встретился с мальчишкой примерно своих лет. Тот или уже сбежал с уроков, или только еще шел в школу. За плечами у него был ранец, но шел он сонно, не торопясь.
Как ни жаль было расставаться с единственной своей драгоценностью — ножиком, Андрей решил все же продать его мальчишке.
— Нравится? — шагнул он навстречу ему и крутнул перед глазами перламутровой рукояткой.
— Покажь!
— Червонец или... хлебом, — сказал Андрей и протянул ножик. Пацан потрогал остро отточенное лезвие и проснулся, сонная одурь слетела с его лица. Андрей не успел еще пожалеть, что продешевил, как мальчишка сорвался с места и понесся мимо пристанционных строений в город.
— Ах ты гад! — Голодные слезы брызнули из глаз. И сквозь их серую муть перед Андреем замелькали заборы и дома. Он был готов ко всему, он сам готовился стать вором, но такого коварства в людях не предполагал. «Жирная, сытая сволочь», — лихорадочно думал он, грохоча с курьерской скоростью по дощатым тротуарам. И злоба и отчаянье знакомой поездной торговки подсказывали одну страшнее другой мести и казни. Хлеб, еда уходили от него. Черный, посыпанный тающей уже крупной солью ломоть хлеба уплывал прямо изо рта. И отчаянье было сильнее злобы. Голодная слюна переполняла рот.
От голодного человека невозможно убежать — это Андрей понял позже. И тогда еще немного — и он бы догнал мальчишку. Но тот забежал в дом. В чистенький аккуратный домик, обсаженный вишнями, с узорчатой калиткой в заборе, с любовно самокованной на этой калитке щеколдой. Андрей, не раздумывая, пошел следом за мальчишкой в дом. Мальчишка укрылся в глуби комнаты за столом. Андрея встретил мужчина в пижаме, видимо, отец обидчика.
— Тебе чего? — грозно распахнул он на волосатой груди пижаму.
— Он бандит! — вынырнул из-под стола мальчишка и за спиной отца показал Андрею язык. — От станции до дома гнался, «убью» кричал, в школу не пустил.
— Это я-то тебя? А ножики чужие красть не бандит, да? — Андрей задохнулся от обиды.
— Ага, ножичком мне грозил и сейчас грозится...
— Я тебе покажу ножичек. — Мужчина привычным жестом, словно на нем был китель, одернул пижаму. — Я тебе не милиция...
— Я сам пойду в милицию.
— Не дойдешь. — И мужчина, высоко вскидывая ноги в домашних красных шлепанцах, двинулся на Андрея.
Андрей выметнулся за дверь.
Он шел по незнакомому городу, куда ведут ноги. Ноги вели на пустырь. Удивительно знакомый ему пустырь. Рос на нем, как и в его городе, потерянный лесом одинокий дуб. На дубу раскачивались качели, неподалеку горел костер, возле костра маячили мальчишки. Но Андрей не обратил на них внимания, он бросился к качелям: они его, эти качели. Вернее, трос его. Андрей сам тиснул этот трос из кузова машины, которая остановилась у деповской столовой. Едва-едва доволок до дуба. Но зато качели получились что надо, сорвешься — покойник.
Андрей забрался в корыто, привязанное к тросу, и заколыхался в нем, зажмурился даже от удовольствия.
— Ты чего это на наших качелях качаешься? — Голос был грозный и незнакомый. Пацана с таким голосом Андрей на своей улице не знал. Он чуть-чуть приоткрыл правый глаз и увидел не одного, а сразу троих пацанов. — Киря, заходи справа. Шкет, окружай его слева.
Его стащили с качелей, но так как сил у него было немного, то и досталось ему немного: всего-то пару раз по соплям. Пацаны прижали Андрея к дубу и повели допрос. Верховодил среди них голосистый. Андрей к нему и обратился.
— Свой я, — сказал он. — Точно, свой. Только качели мои в другом городе. — И как веский аргумент: — Сам трос упер...
— Псих, — похоже, обиделся Шкет, — ненормальный. Трос упер я. Врежь ему, Петька, может, вспомнит.
— В морду! — пробасил Кирюха.
Петька голосистый — не торопился врезать.
— Тут наша земля, — сказал он. — А ты что тут делаешь?
— Я тут... — Андрей растерялся. Не было у него никакого дела на этой их земле.
— Он подослан, подослан первомайскими. Шпионом. Я его опознал, — вынырнул из-под Петькиной руки Шкет.
Андрей струхнул. Он знал, шпионов с миром не отпускают.
— С поезда я, — заторопился Андрей. — Я голодный, а не шпион.
— Ну вот с этого бы и начинал, — поверил все же Андрею, а не Шкету голосистый. — А то...
— Не верь ему, Петь, не верь. Шпион он первомайский. Я его среди них видел. А у меня глаз сам знаешь, — опять вмешался Шкет.
— Закрой поддувало и не сифонь, — оборвал его Петька. — Не видишь, не русский он, но не шпион. Нашенский, хотя и не по-нашенскому говорит. Пошёл картошку смотреть. Пошёл, пошёл...
Андрей засмеялся, уж очень ему понравилось, как Петька говорит это свое «пошёл»: мягко, с присвистом и с точечками над «е».
Шкет уже выгребал из костра картошку. Андрей бросился помогать ему, но загреб палкой не картошку, а что-то несъедобное и неподъемное. Оно было еще скрыто золой, это несъедобное и неподъемное, но Андрей уже точно знал, что сейчас увидит: бронзовый вкладыш-подшипник. Точно такой он утащил из депо перед побегом. Выплавил и сдал Перцу-старьевщику баббит. А подшипник сдать не успел.
Подшипник надо было еще калить на огне до нежно-розового свечения, до цвета смаленого поросенка — того цвета, до какого он был доведен сейчас. Потом кувалдой разбить на четыре части: вроде бы он сам разбился. Целые подшипники Перец не принимал. Начальство запрещало принимать.
Андрей выкатил из костра подшипник и закрутился в поисках кувалды. Ее услужливо подал ему Шкет. Кувалда была тяжеловата, но Андрей порадовался ее увесистости: такой сподручнее работать. И он с радостью и знакомой ему давным-давно дрожью страха и нетерпения загахал кувалдой. И в работе, знакомой и привычной ему издавна, впервые забыл, что он сейчас далеко-далеко от родного города и дома, пустыря за ним, что он навсегда ушел от этих подшипников и костров. Уже гораздо позднее он понял: от этого, от самого себя, уйти невозможно. Костры, зажженные в детстве, будут гореть всю жизнь, во сне ли, наяву, будут гореть и жечь память и сердце.
А в ту минуту он, забыв о голоде, махал кувалдой и радовался, что снова у себя дома, среди своих. Ведь все вокруг было его. И дело было его, начатое, но не доведенное им до конца. И это хорошо, что он сможет довести его до конца сейчас: негоже бросать дело на полпути. Знакомы были ему и эти пацаны, и костер знаком. И никогда не гаснущий, вечный костер на пустыре за его домом.
Без этого костра нельзя было представить его улицу и его город. Сначала взрослые на пустыре под дубом устроили свалку-сметник. Обойти этот сметник стороной ребятам было, конечно, никак нельзя. Там густо рос быльняк, и, укрывшись в нем, всегда можно было курнуть разок-другой, спрятать, что не должно попасться на глаза родителям, обсудить, куда рвануть нынешним вечером. А кроме того, порывшись в сметнике, всегда можно было найти что-нибудь стоящее. Ну хотя бы железный обруч от бочки. И стоило только приложить руки, из этого обруча получалась такая сабля! Правда, чтобы выковать саблю, нужен костер. И сметник запылал. И вкалывали пацаны возле своего костра, как вкалывают кузнецы. Познавали там литейное дело и жизнь: плавили олово, свинец, баббит, рвали патроны и мины, наблюдали, как горит дюраль от найденных в лесу самолетов, мастерили поджиги. И дрались, и мирились там же, и оттуда же уходили в жизнь, кто в работу, кто в воры, как кому на роду написано.
Ах, этот далекий костер на пустыре. И дуб и качели... Костер и качели сушили слезы и стишали любую боль.
Однажды, когда на огороды, на картошку напал рак, к костру пришли и взрослые. Участки возле домов бело выстлали, как холстами, толстой бумагой, люди в противогазах закачали под эту бумагу гибельный для рака газ. Жителей выселили на ночь из домов. Куда им было идти — пошли к костру. И костер пылал, как никогда, весело было, и больно было... На пустыре многие матери обнаружили в свое время неожиданно пропавшие и кастрюльки, и глечики, и дерюжки, отцы — молотки, кувалды, наковальни и кое-что дефицитное для шоферов и машинистов паровозов, слесарей-ремонтников: автомобильные аккумуляторы, конечно, без свинца, те же подшипники... Сеча была страшная. Но не высечь уже было вольного духа из прокопченных дымом тел.
Шкет, Кирюха и Петька наблюдали, как Андрей расправляется с подшипником. И Андрей старался не посрамить свою улицу, белорусскую, полесскую выучку. Опозориться ему было нельзя: больнее, когда над тобой смеются, чем когда тебя бьют. И в подшипнике, чтобы его раскокать, надо прежде найти больное место, надо знать его. Андрей знал — середка, где, кажется, менее всего уязвимо. В середку и целил кувалдой.
Подшипник сыпал желтыми искрами и не поддавался, уходил в землю. Андрей выковыривал его, ставил на твердое место и лупил, лупил без передыху. А без передыху, с подведенным животом махать кувалдой — работка не из легких. Он уже выдохся, сдыхал и сдох бы, сдался, если бы не знал, что бронза — никудышный металл, куда слабее его упорства. Его, Андрея, чем больше бьют, тем он крепче и злей, силы у него уходят потихоньку. А бронза сдается враз. Один только хороший удар. И он сделал этот удар, и лопнул подшипник, раскололся пополам, и выпала кувалда из рук.
— Не шпион? — удивился Шкет.
— Куда едешь? — спросил Петька, когда он отдышался.
— В Москву, — и не подумал запираться Андрей.
— Хороший город, большой, — одобрил Петька. — А деньги есть?
— Не, у меня как у камыша...
Шкет засмеялся, Кирюха сделал ему смазь, и он умолк.
— Дурик, — сказал Петька. И Андрей не понял, кому это он говорит. Но потом стало ясно — ему. — Бестолковый город Москва, — продолжал Петька. — Большой, а толку... Паровозов много, вокзалов много, а тибрить нечего. Костра негде разжечь. Город же кругом.
— Но живут же там такие же, как мы, с чего-то? — отказывался ему верить Андрей.
— Живут, кто на ходу подметки резать может. Ты можешь?
Андрей не мог, но горевал он недолго.
— Мне там только одного человека повидать...
— Знаю я этого человека. Пять раз ездил. Не за себя, за отца просить хотел...
— А отец у него знаешь кто? — округлил глаза Шкет.
— Ну пошёл, пошёл. Прикуси язык.
Петька замолчал, молчал и Андрей, смотрел, как красно и сине тлеют на костре картофельные шкурки.
— У тебя отец жив или где? — снова заговорил Петька.
— Нет у меня отца, на мине подорвался...
— Тоже плохо... Ну что, братва, двинем к реможнику?
— А может, все же тот ларек?.. Вот он как раз в окошко пролезет, — Кирюха кивнул на Андрея. — И ты вместе с ним еще разок в Москву? А?..
Но Петька не ответил ему, лишь погрозил кулаком, Шкет вытащил из быльняка мешок с какими-то железяками. В этот мешок бросили и разбитый подшипник. Петька взвалил его на спину, и ребята отправились в город.
Город, центр его был каменным... Каменным и мертвым. В закопченные камни мертво и глухо въедался низкорослый чертополох с бурыми листьями и такого же цвета колючками, вонзал свои корни-когти печальный и надменный в своей печали краснорожий и неприступно колючий татарник. Среди этого татарника и репейника сновали люди с носилками и кайлами, в основном женщины.
— Зачем они там? — спросил Андрей у Петьки.
— Работают, разбирают развалины...
— И можно их разобрать? — тщась охватить взглядом каменную пустошь, подивился людской настырности Андрей.
Петька лишь пожал плечами.
— А они не немки? — не отставал от него Андрей.
— С чего это они должны быть немками?
Андрей уже и сам понял, что сморозил глупость: женщины, работающие здесь, не могли быть немками. Будь на их месте мужики, они могли бы оказаться немцами. Пленные немцы разбирали развалины, отстраивали заново депо и вокзал в его городе. И ему почему-то казалось, что только немцам под силу разобрать этот каменный пустырь: смогли сделать землю кладбищем, смогут и из кладбища снова сделать землю.
— Подойдем к ним, — предложил Андрей.
— Подойдем, Петь, — поддержал его Шкет, — пошаримся. А вдруг там медь или алюминий есть... А вдруг там... что-то есть...
Вблизи развалины были еще страшнее, чем издали. Издали у них все же были границы, а вблизи...
— Ну, чего зенки раззявили! Глядеть на нас неча. А помогать, так вот они, камни, бери и неси. — Женщина с разбитыми до крови руками отложила кайло и заправила под серый от пыли платок припорошенную каменной пылью седую прядь.
Отказаться было нельзя. Андрей наметил добрый, со следами былого цветастого наката обломок стены.
— Под силу, под силу бери, килу схватишь! — прикрикнула на него женщина. Но ему хотелось именно не под силу, он уже знал: будешь выбирать под силу, можешь не выбрать ничего. Дело только тогда дело, когда не под силу, когда глаза на лоб и рвутся жилы — это значит так, как эти женщины, как всю жизнь мужики в его Клинске. Потому эти мужики топорами, но били немца и побили. И он отнес, одолел свой камень, растягивая жилы, теряя землю и глаза, бросил в общую кучу, чтобы потом много лет спустя, с чистой совестью бросить в курган Славы свою жменьку — горсть земли. По обломку отнесли Шкет, Кирюха и Петька. Отнесли и пошли по новой.
— Ну спасибо, хватит, — сказала им женщина. — С камнем мы уж как-нибудь без вас. Если охота, так уничтожьте эту татарву и чертополох, фашистовцев этих.
Тут уж они отвели душу. От татарника только головы летели — так работали палками. А чертополох дергали руками. И ладони у них скоро стали зелеными и дурманно-запашистыми. Неся в себе дурманный запах первого боя, они двинулись вскоре к реможнику.
Оказалось, что реможник — такой же еврей, как тот, которому сдавал медь, бронзу и дюраль и Андрей в своем городе. Более того, рядом с перекосившейся халупой старьевщика Андрей приметил и сарайчик с неплотно подогнанной, щелястой дверью. В Клинске из этого сарайчика Андрей вместе с ребятами в бессезонье, когда негде было достать меди или дюральки, заранее приготовленным крючком таскал тряпки и нес опять сдавать старьевщику. Тот иной раз вроде бы и признавал эти тряпки, косился, но принимал, потому что знал и Андрея, и других пацанов его улицы. И между ними был вроде бы как негласный сговор: старьевщик надувал их на меди, алюминии — недовешивал, сбрасывал на сор. Они же платили ему тем, что, случалось, одну и ту же тряпку сдавали трижды.
С детьми Перец не конфликтовал, хотя они вовсю и горланили о нем:
Если завтра война, Мы забьем кабана, Сало сами съедим, Перцу шкуру сдадим...А вот со взрослыми у Перца не ладилось. Не понимали, наверное, взрослые, что для их детей единственный праздник был в этом Перце. Наступал праздник, как только на их улицу заворачивал он свою телегу с цветным и, считай, волшебным сундуком, в котором чего только не было. Петушки, которые можно сосать, леденцы, петушки-свистульки, глиняные, с дырочкой у хвостика, мячики разные, переводные картинки... Может быть, за эту детскую радость, заключенную в его сундуке, и любили Перца дети, помогали ему выполнять план и зарабатывать приварок.
Богат был Перец-реможник и в этом городе и прижимист так же. Недобросил все-таки пару гирек на весы, когда взвешивали медь. Придавил чашку с медью пальцем, буркнул:
— Недовес — на землю.
На землю так на землю. С ним не спорили. Забрали свои денежки и подались дальше.
— Подушечек купим? — поинтересовался уже на улице Шкет. Но Петька зажал в кулаке грошики и, не отвечая ему, вел свою притихшую и ждущую событий банду вперед. Остановились они опять же на пустыре среди развалин.
— Вот здесь я и живу, — заговорил наконец Петька и ногами затопал. Андрей огляделся. Жильем тут не пахло. Нора была какая-то, под землю вела, как в волчью или медвежью берлогу, а жильем не пахло. В эту пору и нырнул Петька, а за ним Кирюха.
— Мировая у него хата, — подталкивая Андрея в спину, жарко нашептывал Шкет. — Первый класс, люкс!..
И действительно оказался люкс, когда Петька зажег вставленный в снарядную гильзу фитиль. Тесновато было, правда, в этом люксе вчетвером, зато как чисто и красиво. И надписи какие на беленых, местами прихваченных гарью и поклеванных чем-то бетонных стенках: «Умрем, но не сдадимся», «Раздавим фашистскую суку», «Я Верховодка из Гомеля...»
— Слушайте, Гомель — это же наш город, сто двадцать километров от нас! — закричал Андрей и прильнул к надписи.
— Это дот, — сказал Петька. — Бывший, но действует и сейчас. Молчать умеешь? — Петька скользнул под заваленный тряпьем топчан и, покопавшись там, вытащил сверкающий никелем и перламутром пистолет.
— Патроны есть? — спросил Андрей.
— Будь спок. В полной боевой... — И Петька поспешно затолкал пистолет под топчан. Похоже, он уже раскаивался, что показал Андрею пистолет. Подошел и снял с колченогого стула офицерский, без петлиц и погон, но с красными кантами на рукаве и множеством дырочек на груди китель. Надел — и утонул в нем. Велик был китель Петьке, до колен, но не безобразил его. Петька в том кителе, казалось Андрею, ну впрямь командир: и суровый, и строгий, и складки командирские на лбу, и глаза командирские. До этого огромные, а тут в меру, ну тюка в тюку, как у командира, который прикидывает, как раздавить эту «фашистскую суку». И ребята присмирели, не мешали думать своему командиру. Шкет закрылся наглухо. Кирюха опасливо прикрывал разорванную на груди рубашку, Андрей боялся даже пошевелиться в углу у входа.
— Забудь Москву, — сказал Петька Андрею. — Будешь жить у меня, я все равно один. И я уже... устал один. Будем вдвоем.
У Андрея дух перехватило: да это же здорово — жить при таком парне и с пистолетом. Он окинул взглядом стены дота, вобрал в себя надписи, гарь, круглые выбоины — теперь он уже не сомневался, что это следы пуль и осколков, — и почувствовал: жить здесь он не сможет. Кроме Петьки, в этом доте живет, обязательно должен жить и черный немецкий пес. Петька не знает его, не знает ничего о нем, вот пес и не показывается ему. А его, Андрея, этот пес обязательно загрызет ночью.
— Нет, нет! — закричал Андрей. — Не могу!
Петька словно ждал этого крика, нырнул во внутренний карман кителя, вытащил небольшую, красного бархата тряпицу и начал разворачивать ее. Андрей подвинулся к нему. В глаза полыхнула эмаль и яркие краски никогда не виданного ордена. Андрей успел ухватить полтора слова: Александр Невск... Орден Александра Невского, догадался он. Но Петька тут же цепко зажал этот орден в руке, а из тряпицы вывалилось на пол несколько радужных бумажек. Петька присоединил их к деньгам, полученным у реможника, протянул Андрею.
— Держи, — сказал он. — Маловато, но добудем еще. Мой отец всегда отдавал своим солдатам последнее. Пошли, ребята, в трехэтажку.
Андрей настроился увидеть большой каменный, в три этажа, дом. Но никакого такого дома, собственно, не было. Была груда развалин, несколько опаленных колонн и чудом держащийся на этих колоннах потолок. На этот потолок и подались все четверо. Андрей забрался последним. Забрался и сел, пораженный. Пес, черный немецкий пес опередил его. Наследил, псина, и здесь.
Дом прошила бомба. Это видно было по проему в потолке, безголосо разверстому в небо. Камень расплавился, стены рухнули, похоронив, верно, под собою людей, крыша сметена. Людям здесь делать нечего.
Но была, была тут людям работа. Под осыпавшейся штукатуркой были доски. Эти доски и взрывали мальчишки. Вязали в вязанки и тащили на базар. На базаре ребята заработали тридцать пять рублей. И отправились снова к трехэтажке.
Но едва они забрались на потолок, как Кирюха громыхнул:
— Атанда, ребя, сматываемся. Сторож!
Сторож шел по развалинам с дробовиком. Путь к безопасному спуску был отрезан. Рванули к аварийному, к голо висящим над выступом второго этажа водопроводным трубам.
Водопроводная труба метра три не дотягивала до выступа. А выступ — как свиной пятачок над бездной. На пятачке — передышка, и снова метров шесть до подвальных развалин. Никто даже не ушибся. Андрей от трехэтажки подался прямиком на вокзал и уехал первым же попутным товарняком, увозя с собою горькую, но добрую память об этом городе, о Петьке, Шкете, Кирюхе...
Петька, Шкет, Кирюха... Встреча с ними не пропала даром, они многому научили его, научили предусмотрительности. И сейчас при нем булка черного хлеба, и радужненькая хрустящая бумажка в кармане, и коробка спичек, и щепоть соли. Не густо, но все-таки лучше, чем ничего. Сейчас он богач, подготовился заранее. Спасибо Перцу. Не будь его — хана. А так, сдал медь — получил деньги. И на этой станции ему сегодня сходить совсем ни к чему. Он проскочит ее в своем товарняке королем, по-королевски сделает ей ручкой. Страшная это станция, но, надо сказать, не из худших. Здесь за ним не гонялась милиция. Если бы его поймали тогда здесь, на полдороге, все, пиши пропало: и Тамара-грузинка, и детприемник, в котором он прижился. А не остановись он тогда на этой станции, не встреться с Петькой и его друзьями — все могло бы обернуться по-другому. Другой бы поезд подхватил его и увез в другую сторону, в другой детприемник.
А так сейчас он держит путь в свой детприемник. И сейчас ему надо быть вдвое зорче, чтобы не попасться на глаза милиционеру, паровозной бригаде, не попасть под колеса. Беги быстрее, паровоз!
Паровоз бежал быстро и без его просьб. Так быстро, что ветер свистел в ушах и насквозь просвистывал его ветхое пальтецо. Надо было искать затишек. Центр вагона занимала громадная металлическая ферма. Андрей, обходя ее, на крашенном серой краской металле обнаружил надпись: мелом: «Не кантовать, с горок не спускать» и чуть пониже — «Владивосток». «Ого, — подумал он, — везуха. А может, плюнуть на детприемник и махнуть в юнги?» Он тут же раскаялся в этой своей мимолетной измене, вспомнив грузинку Тамару. И стало теплее на душе. И — будто в награду за свою верность — увидел сбоку фермы яйцеобразное отверстие, как раз пролезть ему. Он пролез в это отверстие и совсем обрадовался. Внутри фермы спокойно можно было разместиться лежа, что он и сделал. Металл, конечно, выхолодило, но зато здесь было тихо и безветренно.
И еще раз ему повезло. Поезд не остановился на его доброй и горькой станции, пошел напроход. Потрогав хрустящую радужную бумажку, убедившись, что она на месте, Андрей принялся уплетать хлеб, готовясь встретить ночь.
4
И пришла ночь. Крепче всяких решеток забрала теменью окна, встала у порога детприемника, как надзиратель. Тамара откинула тяжелую портьеру, и перед ней, сверкая белизной, пугая белизной, завораживая белизной, раскрылась спальня.
Кровать с никелированной спинкой, с нормальным матрацем, и лебедино застывшая подушка под легким батистовым покрывалом, и пузатенькая тумбочка у изголовья с белой узорчатой салфеткой, и электрическая лампочка над головой, и дышащая не растраченным еще теплом подкопченная печурка. Господи, бывает же на свете такое блаженство. И тысячи тысяч людей воспринимают все это как должное.
— Ботинки всегда будешь оставлять в коридоре. Одежду — на тумбочку. Ведро за печкой. Для девочек за печкой, а для мальчиков там, в коридоре. Такой уж у нас порядок. Тумбочку не захламлять, хлеб в нее не прятать, — кратко и толково объясняла дежурная воспитательница. Но Тамара уже не слушала ее. А воспитательница продолжала: — Я сплю вместе с вами в этой же комнате. Если что, моя кровать первая у входа...
Заученность и обыденность произносимых воспитательницей наставлений не могли помешать Тамариной радости. Радостью было переполнено тело. Оно заранее предвкушало чуть жесткую и влажноватую свежесть простыней. Оно так истосковалось по чистой постели. Где только не приходилось ей спать до этого: на соломе, в телеге под открытым небом... И это еще неплохо, роскошно, считай, если не принимать во внимание звереющих на холоде вшей. На холоде долго не идет сон. Терушится, ползет и липнет к телу солома, и трудно различить, где грызет вошь, а где впивается соломинка.
Со вшами она боролась постоянно. Но они ни на минуту не отставали от нее с того дня, когда Тамара стала помощником киномеханика у Проньки Стругайло. Это был безобидный и добрый, но ленивый, избалованный бабами парень, всегда чуть-чуть под хмельком, всегда готовый принять в себя дополнительные сто граммов безразлично чего — сучка, самогона, денатурата, политуры или атомной энергии: абы с ног валило. И Стругайло дружески уговаривал Тамару:
— Охота тебе на них время тратить. Ползают, ну и пусть себе ползают. Подумаешь, невидаль. Не то погань, что нас ест, то погань, что мы едим. Вот приедем в город, в пережарке освободимся, если охота будет. Мне так и скучно без них. И в деревне мы без вшей — чужие.
Так и ездили они с движком, банками с пленкой, немудрящей аппаратурой и своими вшами от села к селу на пегой кривоглазой кобыленке Миндже. В этом ее прозвище Тамаре чудилось что-то грозное и злое. Но кобыленка была смирная, характером под стать киномеханику, только и отличия, что не принимала хмельного. А так были у нее, наверное, и вши, свои, конские, и очень любила она сладкое. Тамара постоянно из скудного своего заработка, а больше из приработка, которым честно делился с ней Стругайло, подкармливала кобыленку сахаром. Ей было приятно, как та по-стариковски бережно, боясь уронить, осторожно двигая губами, хрумкала рафинадом. В этом было что-то домашнее и до невозможности человечье.
Крестьянских изб Тамара побаивалась и стеснялась. Ей неудобно было тащиться туда со своими вшами, хотя Проня успокаивал:
— Вошь ко вше — в избу прибыток. А хозяину и тебе облегчение. Пока они обнюхаются, ты уже и спишь. — И сам же хохотал так, что она краснела и просила у хозяев дерюжку, устраивалась в пуньке или в клубе.
А здесь роскошная, почти царская кровать. И до головокружения пахло от нее знакомым по детдому и колонии мыльцем. И было радостно сознавать, что это уже знакомые, родные, как отец с матерью, запахи.
Трогал до слез привычный треугольник полотенца, покоящийся поверх простыней. И от этого привычного до мелочей быта тревожно сжималось сердце, заходилось в тоске: а что дальше? Среди парней в детприемнике были и постарше ее, но девчонки все моложе. И само собой, воспитательницы и начальство детприемника начнут коситься, уже косятся. При оформлении документов сюда она не таилась. Таиться нечего: все равно через день-два, месяц все станет известно, докопаются до всего. Это она уже знала по прежним своим скитаниям по России. В милиции, правда, поднаврала. Да там и необходимо было врать, потому что безо всякого детприемника, подержав сутки для сговорчивости в предварилке, могли под конвоем спровадить откуда прибыла, к начальнику райотдела культуры — понимай, к киномеханику Проне Стругайло.
А ей надоел Стругайло, его добродушная пьяная харя. Теперь уже с выбитым передним зубом. Нет, она не в обиде на Стругайло. Рано или поздно это все равно должно было случиться. Ведь и так никто не верил, что между ними все чисто. Такая уж заведенка: если помощник киномеханика — девушка, то киномеханик — ее парень. Но ей было противно, что от него пахло сивухой, что он полез к ней напролом. А еще было стыдно своего расчесанного до крови тела. Кстати подвернулась ручка для перемотки киноленты. Проня беззлобно выплюнул передний зуб и с тоской сказал:
— А я по-честному хотел, первый раз, ей-бо. Жениться, ей-бо, думал. А сейчас как быть? Беззубому-то мне как быть? Во, любуйся, — показал оскаленные зубы. — Как быть-то мне?
— А как хочешь, — сказала Тамара. Собрала в фибровый чемоданчик все свое богатство и ушла, дождавшись зари, на станцию. И поехала куда глаза глядят, села в первый же проходящий пассажирский поезд.
В милиции, как ни допытывались, она ничего об этом не сказала. Не привыкла ждать от милиции снисхождения и милосердия. Наплела с три короба о несуществующей тетке: ехали вместе, да тетка отстала. Билеты? Ну, конечно, у тетки. Ей, как и положено, не поверили. Она и не ждала, что поверят.
— Не надоело? — отверг ее легенду молоденький лейтенант, видать, только что из училища.
— Что — не надоело? — прикинулась непонимающей Тамара.
— Врать! Воровать! — выпалил лейтенант и покраснел.
Тамара посмотрела на него с интересом. Лейтенант перехлестывал, но непонятно, то ли по молодости, то ли от усердия. Он еще не спрашивал ни имени, ни фамилии, ни кто она и откуда. А по установившейся традиции кричать до этих вопросов на беспризорника еще рано. Они пока еще друзья, и должна соблюдаться хотя бы видимость дружелюбия и доверия. Выручил лейтенанта пожилой и более понаторевший старшина:
— Трудно тебе, девочка, нерусской среди чужих? Каких кровей ты будешь?
— Королевских, — сказала Тамара, моментально настраиваясь на обычную волну. — Княжеских.
— Ой-ей-ей. Чувствуется косточка. Значит, прихожусь я тебе кумом. Так?..
— Выходит, так.
— А ведь руки-то у тебя рабочие... — опять некстати ворвался лейтенант.
— А мы, цыгане, народ рабочий. Пора бы и знать, — осекла она проницательного лейтенанта. — Дай, дорогой, и твою трудовую руку, погадаю. Всю правду скажу, что было, что будет... По тебе вижу, дальняя дорога тебе предстоит и казенный дом, писаный ты мой, рисованный...
— И впрямь цыганка, — расплылся старшина. — Чего делать будем? Может, отпустим, что с цыганки за спрос?
Тамара струсила. Она не ожидала такого поворота. Она не хотела, чтобы ее отпускали. Ну куда ей податься, куда идти? Дернул же черт за язык. Тамара заторопилась:
— Какая же я цыганка? Разуй глаза, старшина. Грузинка я, а то и армянка. А скорее всего русская. Русская я, граждане-товарищи милиционеры. — Ее опять бы понесло и бог знает куда бы вынесло, но остановил лейтенант.
— Хватит представления! — сказал он и взялся за ручку.
— Давно бы так, — обрадовалась Тамара. — Пиши, дорогой, пиши. А за дальнюю дорогу и казенный дом извини. Это я о себе говорила...
В детприемнике она уже не паясничала. Тошно было, да и понимала: оседает здесь надолго. И не от юного милицейского, а вот от этого, белявого, без возраста лейтенанта зависит, что с ней дальше будет.
Гмыря-Павелецкий в подробности не вдавался: фамилия, имя, год рождения, место жительства.
— Нету места жительства, — сказала Тамара.
— Как понимать: в законе или просто бродячая?
— А как хотите, так и понимайте, — не утерпела. — Кобыла, масти пегой, по кличке Минджа, особые приметы — любит сахар, имеет местожительство: улица Первомайская, конюшня райотдела. А у меня нету...
Лейтенант не клюнул, не завелся. Стрельнул лишь из-под несуществующих белых бровей нестерпимо синими глазами и промолчал. Тамаре это понравилось, хотя она терпеть не могла доверчиво-синих глаз. Синие глаза были и у Стругайло.
— Помыть и вместе со всеми! — приказал лейтенант дежурной воспитательнице.
— Завтра у всех будет баня. А пока в карцер до утра? — попыталась та протестовать. Но лейтенант еще раз повторил:
— Помыть и вместе со всеми!
Тамара, бесконечно благодарная ему, с наслаждением битых три часа плюхалась в детприемниковской, завалившейся набок баньке. И усиленное внимание банщицы, подслеповатой низкорослой женщины, выискивающей на ее теле особые приметы, не оскорбляло. За роскошную, с полком, с пышущей жаром каменкой баню можно было согласиться на что угодно. Грязь сползала с ее тела пластами. Хотелось верить, что это уходит не только грязь, благоприобретенная на трудовом поприще.
Казенная, полумонашеского покроя и тона одежда показалась ей великолепной. Тамара уже привыкла к этой одежде, потому что носила ее всю жизнь: в детдоме, а позднее в колонии. И желтоватая от бесконечных стирок рубашка, и фиолетовое с темными разводами платье, и тяжелые мальчишечьи ботинки сразу, без примерок, подошли ей. Будто все время лежали и ждали ее здесь.
Она одевалась, как будто рождалась заново на свет. И не могла представить себе, что в скором времени со всей этой одеждой вновь придется расстаться. Казенные, ничего не говорящие привыкшему к дому, к семье человеку, почти неразличимые для него запахи были запахами ее детства, ее теперь уже вымытого тела, жесткого, полуармейского распорядка всей ее жизни. Нельзя было даже представить себя вне этих запахов и установок. А надо было думать, думать и дышать по-другому... Казенным домам она уже очужела.
Пока Тамара примеривалась, любовалась своей постелью да раздумывала, девчонки уже улеглись. Легла и воспитательница. Легла не раздеваясь, и Тамаре это не понравилось, она оскорбилась за белизну кровати, пожалела смятые простыни. Но тут на нее шумнули:
— Чего телишься, не у мамки...
Она не обиделась, понимала: не у мамки. Хотя, как там у мамки, не могла себе представить, потому что никогда мамки у нее не было. А может, и была? Мерещилось иной раз... Женским приветливым ликом вставало над головой солнце. Утренне ясное, каким его рисуют на красивых картинках. Под этим солнцем оживало в памяти смуглое смешливое лицо женщины. Расплывчатое красочное пятно в солнечной далекой небыли детства. И такое же цветное улыбчивое пятно-цыпленок, пятно-гном — она сама, Тамара. Может быть, это все придумано. И матросский синий костюмчик, и розовый бант на голове, и смех. Но есть фотокарточка, правда, без солнца, без смеющейся женщины — мамы.
Стоит среди виноградников девочка. Чистая, добрая, ласковая. Стоит и хохочет. Смеется, заливается... Грустно от таких фотографий, и расстаться с ними нет сил. Может, еще станет девочка веселой...
— Ох, да разгребешься ли ты сегодня? — ворчит соседка — толстушка Симочка.
С Симочкой Тамара познакомилась, как только вытурила из-за печки Робю Жукова. Тамара уже досадовала на себя, что связалась с ним. Но он сам ее задел: привет, маруха... Признал. И она признала его, шустрого петушка, только без гребешка. Сколько она перевидала таких в колонии. Потому сразу и поставила на место. Ко всему ей так хотелось тепла, а он расселся у печки — и ни в какую, Симочка подошла, вернее, подкралась и одобрила:
— Молодец, мы с тобой дадим им тут шороху. А то уж больно они... — Не досказала, что они, многозначительно ввинтила палец в струящийся от печки теплый воздух над головой. А сейчас Симочка задирает ее. Неспроста тоже. Хочет показать, что не такая уж она и простушка, верхушку держит тут, и пересаливает. Бог с ней, курочки всегда нетерпеливы. По Симочке видать, она только начинает, а ей, Тамаре, пора заканчивать, не нужна ей верхушка.
Тамара оглядывает своих новых подруг. Их немного. Спальня гораздо меньше мальчишечьей, через которую она проходила. Кровати стоят редко, есть и не занятые. Ясно, девчонки бегают реже мальчишек. Девчонкам некогда бегать. Девчонкам зимой и летом в любом доме есть работа. Работать надо девчонкам, а она...
Тамара ныряет под одеяло.
— Наконец-то! — под скрежет досок облегченно вздыхает Симочка и к воспитательнице: — Нина Петровна, а мы здесь каждый вечер рассказываем перед сном истории всякие. Нам разрешали. А вы нам не будете запрещать?
— Разрешали? — с недоверием спрашивает Нина Петровна. Она работает в детприемнике эвакуатором: развозит детей по домам, колониям, детдомам — кого куда определят. Пока работы ей нет, и она вышла в ночь подменной.
— Вот крест вам, разрешали, — приподымается на кровати, прижимает пухлые руки к груди Симочка. — Вот вам зуб, разрешали.
— Ну и я не запрещаю, — говорит Нина Петровна, но на всякий случай просит: — Только, девочки, тихо. И зайдет кто, вы сразу спите.
— Чья сегодня очередь? — свистящим шепотом справляется Симочка.
— Маруськи Кастрючихи...
— Гони, Кастрючиха, историю. Заливай, — распоряжается Симочка.
— А чего гнать, чего заливать? — жмет на «о», зябко и сонно кутаясь в одеяло, сестра Васьки Кастрюка, Маруська. У нее откровенно деревенское, с деревенским кирпичным румянцем, плоское, некрасивое рябое лицо. И волосы деревенские бесцветными неотмываемыми кудельками разбросаны по подушке. И руки по-старушечьи поверх одеяла, под, стать лицу красные, привычные к морозу и воде.
— Чего, чего... Заладила, — передразнивает Симочка. — Как жизня-то у дерёвни?
— У дерёвни-то? Плохо, — не обижается Маруська.
— А чего плохо?.. Ты курская или вятская?
— Деревенские мы, — недовольно сопит Маруська.
Симочка похохатывает:
— И корова есть?
— Корова-то есть.
— Ну вот, а говоришь — плохо. Молоко, значит, есть, сметана, масло. Чего же ты побежала из дому, из деревни?
— Молоко-то есть, а масла и по праздникам не видим. На масленку вот разве... блин какой-никакой соевый испекут...
— У вас и эта, соя, растет?
— Эта соя у нас не растет. Toe сои мы достаем... Так сковородку подмазать нечем. На подмазку масла нет. А масленицу правят у нас гарно. Парни свитки достают, девки — мониста. Бабу лепимо соломенную... Зима это... А потом, как водится, зиму палим. Горит она враз и жарко, соломенная. Снег кругом горит. Мы пляшем. Хорошо... А есть у нас еще колядки. Ряженые ходят. Овчину мехом наружу вывернут и гайда-драла по дворам:
Колядую, колядую, Колбасу чую...Иной мужик, смотришь, и вынесет колбасы или блинов, а иной собак спустит. Тут уж знать надо, у кого колядовать... А все одно хорошо. Снег синий-синий лежит, как вода, море. И месяц посинелый, с рожками. И у нас рожи-то синие, размалеванные угольем. И рожки на голове приделаны, прямо настоящие, хоть и бумажные. Ловкие у нас в деревне хлопцы и девки и на работу, и на игрища — первые. И красивые. Только я вот не удалась рожею, но на работу спорая.
— Что-то ты больно скучно рассказываешь, — зевает Симочка. — А воруют-то хоть у вас в деревне?
— Да как живем, так и рассказываю... А воровать... Отчего же не воруют? Воруют. Только сейчас меньше, нечего стало воровать. А вот магазин наш, так его три раза обирали, — обрадованно выпаливает Маруська. И понесло ее тут, разошлась Маруська, не остановить: — В третий раз обчистили наш магазин, и закрыли его насовсем. Цыгане опять же появились, гадают, голову дурят и подворовывают. К нам, когда мать еще была жива, приходила цыганка. На руке гадала, а потом на зеркале, а потом на сале начала. Порча, говорит, порча на ваш дом наслана, и ты, красавица, порченая. Где сало-то стоит, неси дежу. А мы аккурат перед тем днем кабанчика закололи, околел бы, кормить нечем стало. Мать принесла дежу. Цыганка говорит: в глаза мне, красавица, смотри и на сало смотри, врага своего увидишь. И точно. Побежала, побежала по салу желтая змейка, по кругу все, по кругу. «Сгинь!» — крикнула цыганка. Сгинула змейка.
«Видела? — спрашивает у матери. — Давай мне платок или мех какой негодящий, унесу я от твоего дома беду, закопаю в поле у дуба. Не то высушит, высосет всю кровь твою, все соки змея подколодная. Это не простая змея. Мужик твой любовницу завел, зачаровала она его, а тебя со свету сводит. Мужик твой придет — молчи, тебе же лучше. А мне хочешь верь, хочешь не верь. Но хорошо, что ты на меня напала. Я цыганка честная. И не цыганка я, а молдаванка».
В мешок — и понесла сало. А тут отец. Мать в слезы: любовницу завел. Рассказала ему все. Отец догнал цыганку, отобрал сало, а мать через месяц померла. Вот и все...
— Темная ты, — сказала Симочка.
— А ты светлая. Только почему мы лежим рядом? — огрызнулась Маруська.
— Дура. Вот скажите ей, Нина Петровна, дура? Деревенская притом.
— Не трогай ты ее и не обзывайся. Некрасиво! — прикрикнула на Симочку Нина Петровна.
— В Туле все умные, — вздохнула Маруська, ободренная сочувствием.
— А ты Тулу-то не трожь, не лапай, слышь?.. Вы что, ей верите, да? Тому, что она дурочкой прикидывается? И в гадание верите?
— Не верю я, но гадала. В молодости, когда тоже дурой была. — Нина Петровна оторвалась от подушек, села в кровати. — О-о-о-ох, девочки, — качнула заплетенной на вдовий манер в корону тяжелой русой косой. И Тамара подивилась перемене, происшедшей в этой женщине. В зале, когда надо было приглядывать за всеми, она со своей нелепой в этом заведении короной, в сереньком самошитом костюмчике была мымра мымрой. Серо, как мышь, поглядывала на ребят, будто все время ждала от них пакостей. В спальне превратилась в знающую дело, но уже вздохнувшую с облегчением воспитательницу. А сейчас на кровати сидела тоскующая и возбужденная, очень красивая женщина. Исхудалое, чуть скуластое лицо загорелось лихорадочным румянцем. Подсвеченные им, ожили, засверкали добрые серые глаза. И нелепая корона оживила и одухотворила белый неуют казенной детприемниковской спальни.
— О-о-о-ох, девочки, признаюсь, гадала, — еще раз тряхнула головой женщина. — В старой своей квартире, в домике, где живу и сейчас, на старый Новый год. На блюдечке с кольцом и на зеркале. В полночь разложила я перед собой кольцо, блюдечко и зеркало. Побежало кольцо по блюдечку. Катится золотое, дребезжит о блюдечко, не падает. Лампа-семилинейка над головой красненько коптит, фитилек прикручен. И месяц в окно, как ты говоришь, Маруся, синий с рожками смотрится. И вижу я в зеркале глубоко так своего будущего мужа. А до этого я его знать не знала, в глаза не видела. Но стоит он там как живой, красивый, пшеничный. А сердце колотится, того и гляди ребра просадит. Страх, но смотреть-то суженого надо. Я зеркало к себе. А там шашка сверкнула. Белая, по глазам мне ударила. И покатилась пшеничная голова, покатилась... Передержала я зеркало. Знаю, закрыть мне его надо, перевернуть на стол, а не могу. Все отнялось у меня. Все. Под утро только на полу опомнилась, осколки зеркала в ведерко выбросила...
— А дальше? — тихо спросила Тамара.
— Дальше? Дальше все как в зеркале. Добрый хлопец с чубом пшеничным посватал меня. Родила двух девочек-двойняшек, уже без него. Ему уже шашкой немцы голову снесли. И шашка, как в зеркале, белая, взлетела и красной стала...
— А дальше?
— А дальше я вот тут работаю, у вас, с вами. И спать пора уже нам, а я вам на сон такие страсти рассказываю.
— Так есть все же на свете такие страсти? — снова шепотом спросила Симочка. — Есть что-то такое, чего люди не знают?
— Есть, Симочка, есть. Иначе не было бы тебя здесь. Страсти злее всех страстей. А гадание вы мое выкиньте, насочиняла я вам тут. — И чувствовалось в ее словах сожаление, что все так было, и страстное желание, чтобы поверили, что так было, и просьба звучала в них, чтобы верили ей, и гордость проскальзывала: вот, мол, и у меня кое-что есть, что ночью рассказать можно, чем других напугать можно. И верила она каждому своему слову, и боялась каждого своего слова, насмешки над ним. Нина Петровна вздохнула, и сверкающая ее корона погасла, устало и виновато потухли и глаза. Женщина как бы вмиг отцвела, постарела и подурнела.
— Вы только меня не выдавайте, — попросила она. — Не выдавайте.
Тамара никак не могла понять, чего она просит. То ли не выдавать того, что эта женщина в рождественскую новолунную ночь увидела свою, а может, и ее, Тамарину, судьбу, счастье и беду, чего не дано видеть человеку. И не испугалась, пошла навстречу ей. То ли молчать, не выказывать, что в одну из ночей — ту ли рождественскую предвоенную, когда явился муж, или же другую, военную, когда налилась его кровью шашка, — смешались в голове этой женщины быль и небыль. Молчать, не выказывать никому суеверности ее, ее доброты и сочувствия к Марусе Кастрюк — ко всем, чьи судьбы исковерканы тем давним рождественским видением, так мрачно и неотвратимо исполнившимся.
А еще ей успелось подумать: куда это она попала — по деже с салом бегают змейки, из зеркала в человеческом облике выходят любовь и смерть, а давно умершие дед Архип и Ленька — живы. Живут в каком-то неведомом городе. Дед Архип водит поезда, а сопливого рыжего Леньку можно колотить по три раза на день. И тело объяла дремотная радость.
Но только решила она, что уже спит, и улыбнулась себе, как сна не стало, будто рукой сняло его. Тоскливо сжалось сердце. Сделалось не по себе от мягкой нормальной кровати, белых простыней. Отвыкла она уже от этого казенного уюта. Хлебнула воли. И как ни горька она была, все же в ее прежнем житье ощущалась самостоятельность. Сама себе хозяйка, ни на кого не полагалась, никому не кланялась и не жаловалась никому. А здесь надо привыкать к присмотру, привыкать снова жить на глазах. И все — от кроватей до бесплатной еды — будто ворованное, будто милостыня. Захотят — будут держать, кормить, поить, укладывать спать, а не захотят — и снова сама по себе...
И будешь сама по себе, дай только время. В детдомах, детприемниках, колониях да и в тюрьмах все лишь гости. И в свой срок все из них уходят. Без возврата. Каждый в какой-то определенный день становится чужим. И никого не касается, что ты уже приросла к этим стенам, к этой пронумерованной мебели, проштемпелеванной одежде. Тебя списали отсюда, как списывают мебель.
Ты одинока среди людей. Людей много, и свет велик, и добр этот свет, но как трудно взрослеть бездомным и безродным девочкам и мальчикам в этом добром мире. Он сочувствует тебе, сочувствует тебе в нем лейтенант милиции, солдатская вдова Нина Петровна, кобыла Минджа и Стругайло. Только ткется, ткется, да никак не выткется из этого сочувствия твое счастье.
«А может быть, подойти сейчас к Нине Петровне? Погладить ее вдовью корону и припасть к ней и поплакаться...» Захолодило ноги от крашеного стылого пола, но Тамара осталась в кровати. Не о чем ей говорить с Ниной Петровной. Горе на горе — лишь ненужные слезы. А она уже не девочка, чтобы плакаться в мамин подол.
А может быть, зря она так со Стругайло — ручкой, костяным набалдашником по зубам? Надо было принять его, и, может быть, игралась бы сейчас ее свадьба?.. Нет, не нужен ей Стругайло, и замужество не нужно, противно. А что же тебе надо, девочка? Что ты дурью маешься, девочка? Иди работай. Одевайся — и пошла. Посмотри, сколько твоих сверстниц вокруг вкалывают, и как вкалывают... «Но я же ничего не могу», — отвечает сама себе Тамара. «Рожай детей и не хнычь». — «А я не хнычу». — «Воруй». — «Не хочу, хотя и умею». — «Работай». — «Не умею, хотя и хочу. Не знаю, на что способна, что мне надо. Я даже не знаю, кто я». — «Ишь, чего захотела. Спи. Завтра Гмыря-Павелецкий скажет, что тебе надо. Он знает. «С вещами на выход. Детприемник не дом призрения. А ты уже с паспортом».
И она уснула, так ничего и не решив, будто провалилась в глубокую-глубокую черную яму, полетела по небу к звездам. К своей маленькой, тускло мерцающей, как глаз больного человека, звездочке.
5
— Па-а-дъем!
Кто это там так бодро орет? Онеметь бы ему, приткнуть бы глотку ему. Никуда не уйти, не спрятаться от этого голоса. И в постели невозможно затеряться. Андрей старательно кутается в одеяло.
— Па-а-дъем! — гремит, бродит в теле чужой голос. И одеяло летит на пол. Смеющаяся рожа Роби Жукова нависает над Андреем: — На завтрак оладьи. Слышишь, как снизу несет?
Ну, если оладьи, значит, надо вставать. Быстренько-быстренько в коридор к одежде, ботинкам. Раз-два — и сонное тело втиснуто в штаны. Ботинки можно не зашнуровывать. Черта с два их тут зашнуруешь. Нету шнурков, тиснули, прошляпил, проспал. Это же надо, вот гады. Такие были шнурки, черные с искоркой, длинные, на двое ботинок хватило бы, с запасом. А теперь, без шнурков, что за ботинки? Некомплект получается. И хоть чужие это ботинки, временные, пока ты здесь — они на тебе, а потом снимут, отберут, но некрасиво получается. Не смотрятся ботинки без шнурков, вроде как осиротели они, раньше времени стали чужими.
— На зарядку по порядку становись!
Стать-то можно и без шнурков. А вот как быть, когда начнется проверка казенного имущества? Шнурки ведь имущество, а насчет имущества здесь строго, Гмыря-Павелецкий хозяйственный мужик.
Гмыря, конечно, в карцер может. Но для раздолбона не годится. Ухватка у него и повадка не те. Голосишком, что ли, не вышел. Тихой сапой все. Но... недаром говорят — в тихом омуте черти водятся. На глаза ему все равно попадаться не стоит, не стоит мозолить начальству глаза.
Не стоит еще и потому, что Андрей не знает: Гмыря ли, Павелецкий ли перед ним, или другой. Видел он этого человека, встречался с ним прежде. Только тот, прежний, вроде бы помер... Хороший был человек. Андрей прибился к нему в лагере. Скорее даже не прибился, а как бы прилетел, спустился с неба.
Там, в немецком лагере, Андрей выучился летать. Он не помнит, сколько этому учился: может, день, а может, и годы. Но дело не в этом: в конце концов выучился, полетел. Далеко внизу осталось промороженное желтым льдом болото, окрученное колючей проволокой, — Андрей скользил над ним, он был в тот день не то бабочкой, не то шмелем — ведь и шмелю и бабочке совсем почти не надо никакой еды, так, маковую росинку. И он сверху приметил, где можно слизнуть эту маковую росинку. Перед ним была поленница дров, маленьких таких чурбачков с ручками и ножками и даже глазками. Андрей дважды обошел эту поленницу. У одного из поленцев в руке он увидел губную гармошку. С трудом, оскальзываясь, выдрал гармошку из сучьев-рук, дважды дунул в нее. И тут в поленницу, а может быть, из поленницы ударил гром и выскочили красные молнии. А из молний и грома выскочил черный пес. Огромный черный пес набегал на бабочку или шмеля. Глупый же, где ему поймать бабочку или шмеля. Андрей прижал к груди гармошку, взмыл вверх и полетел. И, летя и смеясь над глупым псом, который, конечно же, вскоре отстал, он вдруг провалился в яму... Не должен был провалиться, на небе ведь ям не бывает, но провалился.
В яме лежал человек. То был Гмыря-Павелецкий. Андрей признал его в первый же раз, как попал в детприемник. Увидел — и сразу признал. Те же голубые глаза, то же без возраста и почти без бровей белесое лицо. Только там, в лагере, Гмыря-Павелецкий был пухлый-пухлый, будто воды опился, а здесь тощий-тощий. Пухлой-пухлой рукой он придавил Андрея к земле и укрыл шинелью. Андрей, пытаясь откупиться, протянул ему губную гармошку. И человек взял гармошку, а в обмен на нее дал ему ломтик хлеба. Маленький такой ломтик, ему, Андрею, и на зуб не хватило, но для бабочки он, пожалуй, был даже огромен.
Человек заботливо укутал его шинелью и прижал к своему теплому боку. Андрей пытался улететь от него, но не смог, видимо, отяжелел от хлеба. И он уснул, согретый хлебом и теплом человеческого тела. Но вскоре это тело стало холодным, совсем как те маленькие поленца дров в поленнице. Андрей пытался согреть его, но бесполезно. Тело было неподвижно, оно вросло в шинель и соединилось с землею. Чего Андрею удалось добиться — так это вырвать тело из шинели, а шинель — из земли.
Шинель ему потом очень пригодилась. Она укрывала его от снега и ветра. А гармошку, хотя она была и чужой, принадлежала мертвому, Андрей еще раз обменял на хлеб, как позже обменял и шинель. Обокрал мертвого.
Вот почему он боялся теперь этого, так непохожего на того, мертвого, Гмырю-Павелецкого. Что ему надо от него, Андрея, зачем они опять встретились, зачем?..
И подальше ему надо, подальше ото всего, что может вновь воскресить ту серебристо-розовую поленницу с ручками, ножками и глазками. Не было, не было ничего этого с ним. В сторонке надо, мальчик, тебе жить, незаметно, тихенько, будто тебя и нет на свете. Разобраться, так тебя действительно нет. Всезнающий милицейский розыск ищет совсем другого мальчишку. Пусть ищет, черта лысого найдет. Тихо только надо. Матузки надо какие-то вместо шнурков приспособить и угольками замазать. А где их возьмешь тут, эти матузки. Не родишь же.
— Робя, у тебя нет лишних шнурков? Отработаю...
— А как отработаешь?
— Может, в город за чем-нибудь возьмут, охнариков добуду.
Робя соображает. Туго так соображает. Морщинит лоб и ушами прядет с натуги. Во дает, способный. Сладко жмурится, будто взатяжку хватил. Хочется охнариков.
— Не возьмут тебя, Монах, в город, — сообразил.
— Это почему же, Робя, меня не возьмут в город?
— Непроверенный ты еще, темный. Я-то знаю, я-то взял бы, лопух ты, Монах. Больше как охнарики собирать, ни на что и не годен. А они не знают. Вдруг ты вор в натуре. Вдруг побежишь? Не, не возьмут тебя в город, пока все бумаги на тебя не придут и не прояснишься ты полностью.
— А шнурки-то у тебя есть?
Робя плотоядно втягивает в себя воздух. Свежий морозный воздух. Уличный. Форточка открыта. И льется в нее, льется улица. Но комната не избавилась еще от запахов ночного ведра. А снизу так сладко тянет подгорающими оладьями.
— Шнурки добудем. Отдашь завтрак?
— Один оладь.
— А шнурка два надо?
— Сравнил. Оладьи и шнурки.
— Как хочешь, Монах. Твое дело. Сейчас проверка у нас будет...
— Ах, гад, так это ты и притырил мои шнурки?
— Ты чего спел? — Робя оглядывается: — Лиса, подь-ка сюда!
К Андрею с Жуковым подходит одноглазый, с обгорелым лицом, безбровый Ванька Лисицын.
— У меня слух плохой, — говорит Жуков. — Послушай ты, Лиса. На фингал тянет. Чего не видел, поет.
— Да я ничего, — оправдывается Андрей. — Да мы ведь с тобой уже почти столковались, Робя. Шнурок — оладь, шнурок — оладь. Лады, Робя?
— Лады, — машет Лисицыну Жуков. — На этот раз почудилось мне. Монах наш человек. Знаешь, Монах, что в московском Даниловском детприемнике за шнурки?..
— А не врешь? — зашнуровывает ботинки подозрительно знакомыми черненькими с искоркой шнурками Андрей, жалеет оладьи.
— Что-то ты не нравишься мне сегодня, Монах в синих штанах.
— Да я ничего, Робя. Это я любя тебя.
Робя озадачен:
— Лиса, пощупай у меня лоб, у меня нету с утра температуры?
Лиса хитрый, Лиса щупает лоб Андрея.
— Я правду слышу пальцами, — говорит он Жукову с Андреем. — Они у меня ведь тоже обгорели. Мясо до кости прогорело, общественное имущество спасал... Теперь новое наросло, гроб и молния, и пальцами я стал видеть все, как вы глазами. Только еще больше и лучше — изнутри. Пощупаю человека — и все знаю о нем. Где у него деньги лежат, сколько. У тебя, Монах, денег нет. Правда ведь?
— Правда, — машет головой Андрей. Ему немного жутковато от прикосновения обгорелых бумажно-прозрачных пальцев Лисицына. Бог его знает, а вдруг он в самом деле видит пальцами; Бывает же ведь. Слепые вон как насобачились читать пальцами. И тогда фингал обеспечен. А с утра фингала не хочется. Ни к чему он с утра. Особая примета. А с Лисой ухо надо держать востро.
— Слышу, слышу, Монах...
Андрей так и обмер: ну, все. Но Лисицын поворачивается к Жукову и говорит:
— Робя, никто так тебя по утрам не любил, как любит сегодня Монах. Смотри на мои пальцы, смотри. Денег у него нету, не дрожат пальцы. А любит он тебя за справедливость.
Робя растерянно вытирает нос кулаком. Никто никогда в жизни не любил его, тем более за справедливость.
— Ладно, — говорит он. — Один оладь скощаю...
— Отдашь его мне, — перебивает Жукова Лисицын, а единственный глаз его маслится и смеется.
«Во гады, — думает Андрей, переживая приобретение и утерю последнего оладья. — Ну и бог с ними, пусть подавятся. Зато пронесло. Нет фингала».
Но беда не приходит в одиночку. Только он настроился сыгрануть перед завтраком с Кастрюком в шашки, как шумнули от дверей:
— Поляшук! На выход! На ковер!
Уж лучше бы ходить ему с подбитым глазом или сидеть в карцере за шнурки, чем отправляться на ковер. Опять душеспасительные разговоры, когда не хочется врать, да ничего другого не остается, потому что нельзя говорить правду. Правда — это эвакуатор Нина Петровна, поезд и — здравствуйте, дядя с тетей, это я, ваш блудный племянник. Маленько попутешествовал, порезвился и прибыл снова к вам на постоянное местожительство. У вас найдется для меня закуток? Нет, я не голодный, но если есть хлеб да сахарину немножко, то можно и водички. Водичка в ведре, я знаю. Я забуду про дорогу, про мину, забуду про гром и молнию, про отца и мать, только примите меня назад.
И стоишь ты в кабинете на мягком ворсистом ковре — для усыпления твоей бдительности он, наверное, специально, мягкий и ворсистый, постелен здесь, — как божья коровка, невинно перебираешь ногами. А тебя улещивают, бьют на совесть, сознание. Прихватывают на арапа, раскалывают сочувствием, загоняют в угол угрозами, заманивают лаской. И тебе очень хочется верить заботливому материнскому голосу воспитателя, и ты не должен ему верить, не должен раскисать.
— Чей ты, мальчишечка, будешь? Какого роду-племени?
— А сирота я, сирота. — И тут надо слезу выдавить, скупую, казанскую, и носом шмыгнуть пожалостливее. А для этого настроиться соответственно надо, в роль свою войти. И Андрей шел по коридору следом за бабкой Настой и настраивался.
Старый купеческий особняк уже гудел и полнился хлопотливой жизнью. Его деревянное нутро содрогалось от беспрерывного хлопанья мощных, уже не по нему дверей. Он готов был прямо-таки взорваться от запахов, наплывающих из кухни. Этими запахами и травил себя Андрей, и слезы у него были уже совсем близко.
Но надобность в них отпала тут же, как только он открыл дверь кабинета и увидел новую, заступившую на смену воспитательницу. Дежурила Мария Петровна. А с Марией Петровной надо было держать себя мужественно. Говорили, что она сама росла без отца и матери, но не беспризорничала, жила все время в этом городе, работала в детприемнике. Сначала уборщицей по вечерам, потому что днем где-то там училась: то ли на воспитательницу, то ли в школе еще. И тут, в детприемнике, что-то с ней случилось. Андрей не знал, что именно: об этом больше шептались здесь, а не говорили вслух. Но что-то нехорошее. И беспризорники в этом виноваты. И Мария Петровна дала какую-то страшную клятву: вроде как бы даже истребить всех беспризорников.
Лучше бы с ней ничего не случалось и не давала бы она никаких страшных клятв. Андрей никак не мог приноровиться к Марии Петровне. Суровая, в неизменном платье с глухим воротом, она временами словно бы уходила в себя, одновременно она здесь и ее нету. И тогда верилось: такая может истребить всех беспризорников, не задумываясь, такую слезой не возьмешь, тут надо играть другую роль. А какую, Андрей не знал. Была она сдержанна, немногословна. Больше говорила глазами, чем словами. Отыщет тебя взглядом среди ребят и смотрит, смотрит, пока ты не заерзаешь и не начнешь понимать: что-то делаешь не так. И врать ее глазам было невыносимо трудно.
Сейчас Мария Петровна стояла вполоборота к Андрею и смотрела в окно на улицу. Там вдоль тротуаров прыгали вороны, добывая себе воронье пропитание. На них и смотрела Мария Петровна, вроде бы к ним и обратилась:
— Так как твоя фамилия, Андрей?
— Поляшук! — бодро выпалил Андрей, залился краской и поблагодарил ворон, что они прыгают за окном, и Марию Петровну, что она не смотрит на него.
— Это твоя настоящая фамилия? — Воспитательница все еще обращается скорее к воронам, чем к нему.
— А какая еще у человека может быть фамилия? — перешел в наступление Андрей. — Я вот давно наблюдаю, что все фамилии у людей настоящие. И как она есть, так точно его. Лисицын вот, к примеру, или Ги де Мопассан, который «Жизнь» написал...
Ги де Мопассана и его «Жизнь» Андрей подбросил Марии Петровне специально, чтобы переключить разговор на француза, дать воспитательнице возможность осуществить воспитательный момент. И не ошибся.
— Ты что же, читал «Жизнь» Ги де Мопассана? — повернулась она к нему.
— От корки до корки, — с замиранием сердца, но и не без тайной гордости, радуясь в душе удачному ходу, выпалил Андрей.
— И что же ты понял в «Жизни»?
— Абсолютно все. Деловая книга...
Мария Петровна совсем не осуждающе, скорее весело хмыкнула и сбила Андрея:
— Если ты читаешь такие книги, с тобой можно откровенно говорить обо всем.
— Можно, конечно, — не моргнув глазом, подтвердил Андрей и с опаской заглянул в глаза воспитательнице.
Нет, она не смеялась и вроде бы не готовилась истребить его. Но это Андрея не обрадовало. Он почувствовал, что разговор действительно будет серьезный. Воспитательнице известно что-то такое о нем, чего он не знает.
— Так вот, Андрей. Нету в городе Клинске фамилии Поляшук. Ни одного человека там с такой фамилией. Можешь представить себе? Где же ты живешь, мальчик? Откуда ты и чей родом будешь?
Андрей молчал: все ясно. Пришел ответ на запрос. Рано или поздно должен был прийти, и именно, такой, какой пришел: нет на этом свете Андрея Поляшука. Нет и не должно быть. Он придумал его, чтоб эвакуатор Нина Петровна не отвезла его к дядьке с теткой. «И только три месяца прошло, а им уже все известно», — подумал Андрей. Ничего не скажешь, не даром хлеб едят. Придется снимать казенные ботинки. Зря только оладьи уплыли.
И он заплакал. Заплакал по-настоящему.
— Чего же ты плачешь, Андрей? Имя-то хоть у тебя настоящее, свое?
Он кивнул.
— Настоящее... — И немножко потеплело на душе и от слез, и от того, что имя у него действительно настоящее, и от того, что Мария Петровна не кричит на него и не топает ногами. А он ждал, что будет топать и кричать будет. Может, она и не давала клятвы истреблять беспризорников, врут про нее. И стало стыдно, что он все равно не может сказать Марии Петровне своей настоящей фамилии. Бог с ними, пусть пишут бумаги, пусть ищут по всему Союзу мальчишку Андрея Поляшука. А он отсидится здесь до весны. А весной по первой зеленой траве уйдет. Не удержать весной мальчишку взаперти. На юг, где всегда солнце, или на Дальний Восток — в юнги. А Марии Петровне напишет письмо. Так и так, мол, добрая воспитательница Мария Петровна, обиды я на вас не таю, и вы на меня зла не имейте. Но нельзя мне, нельзя снова в Клинск...
— Так какие же у тебя планы? — пугает Андрея добротой и сочувствием Мария Петровна.
— Позавтракать бы, — пугает воспитательницу Андрей.
— Я предупредила, на кухне оставят на тебя завтрак... А в школу тебе не хочется?
И Мария Петровна снова посмотрела в окно. Те же или уже другие вороны на проезжей части улицы потрошили парящие конские кучи. И чумазые воробьи бойко воровали прямо-таки изо рта у них распаренные овсяные зерна. И люди шли по улице, неторопливые, свободные, попадались среди них и запоздалые, полусонные еще школьники. Гады, разозлился Андрей, родители их в школу отправили, а они прогуливают. И только тут он заметил, что в кабинете нет решетки. Кабинет похож на небольшую учительскую.
— Нет, неохота мне в школу, Мария Петровна, — почти искренне сказал он. — Вырос я уже для школы. Вы не смотрите, что я маленький. Маленькая собачка до смерти щенок. Лет мне уже много, и я сильный. В ФЗО или в колонию меня надо. Отправьте меня в колонию.
— В колонию? Зачем же, Андрей, в колонию? Не вор же ведь ты и не хулиган. Не могу я тебя представить вором и хулиганом. Или я ошибаюсь? Ну скажи, чего же ты молчишь?
Андрей мучительно раздумывал: с одной стороны, чтобы попасть в колонию, можно и наговорить на себя. А с другой, ну как ей соврать, а может, и в самом деле он уже давно и вор и хулиган.
— Нет! — сказал Андрей, сам не зная, что заключено в этом «нет»: то ли не вор и не хулиган он еще, то ли, наоборот, ошибается Мария Петровна, давно он уже вор и хулиган. Но воспитательница поняла его по-своему:
— Ну вот видишь, видишь. Человек о себе лучше других знает все. Ты веришь мне?
Господи, о чем разговор. Он, конечно, верит ей. Что ей еще надо?.. Ах, ей хочется, чтобы он смотрел ей в глаза. Пожалуйста... Трудно смотреть в глаза, тоскливо, в окно лучше. А вдруг она его неспроста в глаза заставляет себе смотреть? А вдруг она по глазам читать умеет? Бывают же такие. А в глазах у человека все написано. Он даже знает случай — в их городе случился. Убили мужика то ли бандиты, то ли друзья. Убили и в лесу бросили. И уехали на машине — концы в воду. Да не в воду вышло. Нашли концы. По глазам. Аппарат, говорили, какой-то такой есть, особый. Глаза им у мертвого сфотографировали и увидели, что не сам он помер, а друзья его убили. Так уж если у мертвого можно разобраться, что там у него в глазах, то у живого куда легче. Может, их, воспеток, специально учат даже по глазам читать?
Ну и бог с ней, пусть читает, пусть знает, что он о ней думает. А о фамилии своей он думать не будет, не будет. Не выпишется у него в глазах его фамилия Нет, нет... А о чем же думать, как не о фамилии? Какая у него фамилия. Нету, нету у него фамилии, на-кась, выкуси. Нету фамилии... О чем думать, о чем думать?.. В другую страну воспеток всех надо загнать. Ага. В другую страну всех воспеток. И обнести эту страну колючей проволокой. Ага. Пусть они там друг у друга читают правду о себе. Воспеток туда, учителей, милиционеров. А он их будет перевоспитывать. И будет стоять перед ним и плакать эта Мария Петровна. А он ее будет заставлять в глаза смотреть. Ей больно, ей на свободу из-за колючей проволоки хочется. А он: ты мне веришь? Смотри мне в глаза... А как твоя фамилия? А как твоя фамилия?
Ее фамилия ему до фонаря. А его зачем ей? Чтобы упечь его домой, сделать несчастным... Да ну ее к богу, эту Марию Петровну. Пусть будет она счастливой. Пусть живет где ей вздумается. Пусть берет фамилию, какая ей нравится. И пусть у нее будут вечно живы отец и мать. Пусть она никогда не увидит, как из мины выскакивает молния, как из ночи выходит черный пес. Будь счастлива, Мария Петровна. Будь доброй, красивой и умной. А он... А как же он?
— Устройте меня, Мария Петровна, на работу, — неожиданно взмолился Андрей. — Я грузчиком могу. Не верите — точно, я уже был грузчиком, тетради у нас на станции, книги из вагонов выгружал, свеклу, грузил соль. А соль знаете как трудно грузить, она ведь ест все хуже пота. Я пастухом могу.
— Андрей, что ты говоришь? У тебя ведь мать есть.
— Была бы у меня мать...
— А где же твоя мать?
— Вы не верите мне? Хотите, я перед вами на колени стану?
О господи, только этого ей не хватало. Кретин, уже стоит на коленях. А что же тебе от него надо было? Поставить, поставить на колени. Сломать. А как же иначе, если не сломать?.. Мальчик мой, да не хочу я тебя ломать. Не хочу, не хочу. Не я тебя ломаю... А кто же? Открой ему двери, и пусть идет на все четыре стороны. Куда? Куда он пойдет: в колонию, в тюрьму, под колеса вагонов? Дожать, дожать его надо. Сейчас он не помнит себя. Где у него самое больное место, туда и бить. Заплакать вместе с ним, и он размякнет. Он мягкий, мягких добивают слезами. А тебе хочется плакать. Так плачь. Нет, она не заплачет. Дешево все, дешево. А она дорого ценит свои и чужие слезы. Гмыря поймет, почему она не узнала его фамилию, Гмыря простит. Ей сейчас важнее понять, кто перед нею, почему он ушел с беспризорниками, что ему надо.
А сможет ли она дать то, что ему надо? Нет, нет, никогда. Ему только кажется, что она всесильна и всевластна над ним. А на самом деле она слабее его. Она ничего не может ни переиначить, ни изменить в его судьбе. Вся ее сила лишь в том, что она уже вдоволь насмотрелась на эти слезы и может только верить. Только верить, что не вечно им литься...
Гадкий лживый мальчишка. Все они одинаковые. Все легки на слезы здесь, в кабинете. А попадись она им, когда они вместе, одна в темном углу... Ах, как кричит растерзанное тело. Дожать его. Пусть дешево и жестоко. Так и должно быть. Он будет расти при родителях и никогда не изнасилует и не убьет. А если... Милый ты мой, да с тобой, наверное, обошлись не мягче, чем со мною. И зачем, зачем я только связалась с вами? Горе, горе. Никогда бы мне не знать и не видеть вас. Не вымогать у вас ваших фамилий. Но что поделаешь, что поделаешь.... Обязана. Пока вы есть, пока скрываете свои фамилии. Приговорена, может быть, пожизненно. И не люблю я этой своей обязанности, ненавижу. Но иначе я ничем не могу вам помочь. Клин клином... Она дожмет его. Она добьется от него правды...
Воспитательница за руку отвела его на кухню. И сама поставила перед ним остывшие почерневшие оладьи, еле теплый чай и торопливо ушла. Желанные с самого подъема оладьи были больше не желанными. Он ненавидел и оладьи, и чай из рук Марии Петровны. Он не жлоб, не крохобор какой, за кусок хлеба не продается. Все они еще услышат о нем и пожалеют. Андрей сунул оладьи за пазуху, и повариха отвела его в зал к ребятам, сдала с рук на руки той же дежурной воспитательнице — Марии Петровне.
Андрей сразу же пошел к Робке Жукову и Ваньке Лисицыну, которые о чем-то перешептывались, уединившись на диване. Мария Петровна следила за ним, он чувствовал это и, не таясь, чтобы позлить ее, сильнее задеть, протянул Жукову с Лисицыным по оладье. Дождался, пока они съели их у него на глазах, и напрямик спросил Робку:
— Ты когда надумал бежать?
Робка вздрогнул и сжал кулаки. Но Андрей не испугался его кулаков.
— Я хочу бежать вместе с тобой, — сказал он, — и чем быстрей, тем лучше.
— Ах ты шпингалет... — Не перехвати его руку Лиса, фингал получился бы что надо.
— Робя, — сказал Лисицын. — Неужели ты можешь ударить друга? Робя, он же тебе оладь принес. Он же любит тебя, Робя. Утром же признался тебе. Забыл, что ли, Робя?
Робя так и пристыл с занесенной рукой. Начал соображать, по-утреннему пошевеливая ушами. Напряженную работу мысли можно было проследить по разноцветному сиянию шрамов на его голове. Это была трудная работа, на помощь ему снова пришел Лиса:
— Ну, как ты не поймешь, Робя? Наш общий с тобой друг попал в беду. Ты видишь, он только что от воспетки. Засекли, Монах?
— Засекли! — признался Андрей.
— Что на тебе, Монашек, висит?
— Дядька с теткой.
— Да, сложное дело. А что ты с ними сделал?
— Сбежал, — сказал Андрей.
— Вот оно как. Ничего, не отчаивайся, Монах. Выручим. Человек человеку всегда друг и товарищ. Подай руку, Робя, человеку. Человек в беде, и он любит тебя.
Робя сообразил и торжественно протянул Андрею руку.
— Робя Жуков, — сказал он, — сделает из тебя человека. Можешь на него положиться.
Жуков с Лисицыным потеснились, и Андрей облегченно вздохнув, подсел к ним.
6
— Ту-ту-у-ут-ты? — ревет паровоз. Мощный надежный, прочно поставленный на рельсы, чтобы никогда не сбиться с пути. Тут, тут я. Вперед, паровоз, лети, паровоз, веселее стучите, колесики. Без остановок стучите до тихого российского городка, где стоит рядом с тюрьмой и церковью родной мальчишкин дом, детприемник, в котором сегодня временно проживают почти его братья — Кастрюк, Жуков, Лисицын, где спит сейчас почти его мать — Мария Петровна и... Тамара.
Ты ждешь мальчишку, детприемник, вы ждете его, Кастрюк, Жуков, Лисицын, Мария Петровна и... Тамара? Скоро он грохнет кулаком в промороженные двери, и они откроются. Откроются, чтобы снова закрыться за его спиной. Но они укроют его от города Клинска, спрячут от прошлого. И кончится морозная стынь; день расцветится солнцем, и засияет, заплавится от него снег. Вперед, паровоз, судьбе и мальчишечьему счастью навстречу! Ехай, ехай, мальчик, не боись!
Холодно, адски холодно в стальной норе индустриальной фермы. Вселенский холод кошмарами пережитого, подслушанного и придуманного входит в беспризорное тело. Этот холод еще долго будет настигать его всюду. Он живет и долго будет еще жить не только в нем, будет колотить послевоенными хинно-желтыми лихорадками его тело. Холод одиночества, обреченности и цепкой его памяти.
Сверлят пространство и темень дышла паровозов. И в такт им спешит-спешит черный фашистский пес-призрак. Он и во сне ни на минуту не отстает от Андрея, не отстает от товарняка. Черной бесплотной тенью скользит над землей, лесом, горами, равнинами и мальчишескими снами. И вот-вот настигнет мальчишку, оскалит заросшую злой черной шерстью пасть и слизнет его. Холод и ужас сковывают тело в немом крике: быстрее разматывайтесь, шпалы, наддай, паровозик! Дед Архип, шурни уголька в топку, не выдай своего Леньку.
Андрей вываливается из своей стальной норы. Но ни руки, ни ноги не держат тело. Подламываются, как лапы истощенного зимней спячкой зверя. Надо разогревать тело, выгонять из него цепенящее безразличие. Бегом по вагону. Тридцать шагов по ребристому железному полу вперед, тридцать назад. До бесконечности, до тепла. Розовый рассвет встает над головой. В самом ли деле это рассвет или приближается большой огненный город, из железной ямы не понять.
По скобам, приваренным к высоким стенкам вагона, Андрей поднимается вверх: «Энск-I» — мелькает горящее зеленым и красным название города. Паровоз притормаживает. Это еще не конец пути — всего лишь остановка. Назад, назад в вагон, сиди и нишкни, мальчишечка. В этом городе тебя уже ждут не спящие ни днем ни ночью дяди-милиционеры. Где-нибудь в закутке привокзального КПЗ они отогреют твое тело, отогреют, спасут от холодной смерти в приливе милосердия, служебного и человеческого участия к тебе. Но нужно ли тебе такое спасение, и его ли ты ищешь, мальчишечка?.. Он бежит от того, от чего никому еще не удавалось убежать, — только он пока не знает этого, и в этом его счастье, и дай ему бог никогда не узнать этого. Он бежит от жизни, из этого чадного дымного дня. Дня израненного, насквозь прошитого пулями, иссеченного осколками бомб и снарядов; дня на костылях, одетого во все еще солдатское, но уже подпоясавшегося конопляной веревкой, веревкой, зажавшей его крик и стон. Бежит из дня, живущего больше в землянках, чем в домах, жующего чаще отруби, чем хлеб, дышащего больше порохом, чем воздухом. Нет на всей его большой земле воздуха без пороха. Все отравлено порохом, не только хлеб, не только земля, но и желания, и возможности людские.
В дне, из которого ты бежишь, за твоей спиной, струпатые землянки «полярников», покрытые коростой руки и изъеденные трахомой глаза твоих сверстников, живые кресты-сосны на могилах твоих родителей. И бродят у этих сосен, землянок и могил, возле живых и мертвых, детей и взрослых фашистские призраки-псы, не дают покоя мертвым, вгоняют в холодный пот живых. И живые сегодня встают с кирками, топорами и боронами, чтобы навсегда заступить дорогу черным псам, вытравить о них память.
Там, куда ты рвешься, такой же день, и живим он таким же воздухом, И черный пес-призрак ходит теми же стежками, дышит таким же пороховым гаром. Его гаром-дыханием отравлены и Робя, и Лиса, и Тамара, и... взрослые. Потому взрослые и не могут тебе сегодня ничем помочь. День один, и солнце для них и для тебя стоит над землей одно. И все одинаково рвутся из этого дня. Взваливают на плечи порой непосильное. Ты тоже на их плечах. На их плечах детприемники, развалины, мертвые и живые, голод и стон. Все в одной торбе — и соль и пшеница... Разве посильно это человеку? Но только так и надо в этой жизни. Так и надо, если хочешь дождаться следующего дня, если хочешь, чтобы он был не на костылях, сбросил и сжег иссеченную шинель, загои́л струпатую землю, накормил ее, дал вдохнуть ей вместо пороха запах колосящихся хлебов.
«С горок не спускать», «Не кантовать», — выбивала дробь Андреева ферма. «С горок не спускать», «Не кантовать», — бормотал, предупреждал сцепщиков, милиционеров, приближающуюся станцию Андрей.
Энск-I — опасная станция. Это знают все беспризорники от Клинска до Москвы. Знает и Андрей, В первый раз на этой станции он чудом ушел от красноголовиков. Тогда из вагона товарняка его выгнало любопытство, потому что в мире нет более любознательных людей, чем беспризорники. Беспризорник и становится настоящим беспризорником, лишь когда познает все о станциях, вокзалах, милиции города, когда его память может служить путеводителем для его товарищей.
С целью расширения кругозора и вышел тогда на перрон Энска-I Андрей. Вышел потому, что это был первый областной огромный город на его пути. И в этом городе находился второй по величине и красоте вокзал в мире (первым считался новосибирский, пока на его фасаде не появилась трещина). Так что миновать Энск-I, не посмотрев вокзала, было просто невозможно. И Андрей, разинув рот, смотрел на бородатых и приземистых партизан, нарисованных прямо на каменной стене. Они словно пытались уйти с этой стены, и вели их алые ленты на косматых шапках, до того здорово были нарисованы эти ленты. И мир для Андрея распахнулся, стал понятнее и ближе ему, потому что этот Энск-I, оказывается, точно такой же, как и его родной Клинск. Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать. А Андрей даже потрогал руками нарисованных на стене бородачей.
Потрогал и затрепетал от радости, что свет хоть, оказывается, и велик, но и за Клинском есть добрые, настоящие люди. Значит, не пропадет он в этом мире, не затеряется. И пошел он уже по перрону от вокзала с любовью к незнакомому городу и его людям, с любовью к этому миру, с тайной надеждой, что он отыщет, встретит на своем пути не нарисованную масляными красками по каменной стене доброту и силу, а настоящую.
И встретил. Полупустынный осенний перрон, привокзальный, уже лишенный красок сквер вдруг вспыхнули, расцвели голубым, как может только в одно утро расцветать лен. Перрон, сквер — все вокруг заполнили летчики, голубые фуражки, голубые петлицы. Ну просто невероятно, сколько у нас летчиков. Они расцветили и согрели Энск-I и его, Андрея, согрели, с летчиками на войне ничего не случилось, значит, и с ним ничего не случится. И Андрей налился их смехом и весельем, впитал их смех, и улыбки, и веру.
Он долго, пока не онемели руки, махал поезду, увозящему летчиков, бежал за ним следом. И, возвращаясь, беспечный, всесильный, едва не попался. Навстречу Андрею шел милиционер. Андрей заметил его издали, но и в голову не пришло, что милиционер примет его за чужого, за беспризорника. А кроме того, надо было еще выяснить, правда это или враки, что у энских милиционеров в кобуре вместо наганов тряпки. Так говорили ему: в Энске столько милиционеров, что на всех не хватает наганов. Вот и ходят они с тряпками в кобуре.
У этого же милиционера наган всамделишный, потому что из кобуры торчало железное колечко, в которое был продет болтающийся сыромятный ремешок. И Андрей и милиционер, как только встретились их глаза, поняли друг друга.
— Попался, — просигналил взглядом милиционер. — Отбегался жуланчик.
— Это мы еще будем посмотреть, — так же взглядом ответил ему Андрей и в ту же минуту лаской юркнул под вагон пассажирского поезда.
— Стой! Стрелять буду! — крикнул милиционер.
— Гуляй мимо! — отозвался уже из-под вагона Андрей.
Толстому, упитанному милиционеру никак было не подлезть под низко сидящий пассажирский вагон. Но и Андрей оказался в ловушке. Путь вперед, в спасительную глубь железнодорожных путей, отрезал набиравший ход товарняк.
— Мальчик, — выставил под вагон красную фуражку милиционер, — все равно ты у меня в руках. Давай не будем. Иди сюда.
— Конфетку дашь? — чтобы выиграть время, спросил Андрей.
— Дам, — пообещал милиционер.
— Покажи.
— Сейчас, сейчас. — Милиционер все же решился, пополз на карачках под вагоном в сторону Андрея.
— Шутишь, дядя, — крикнул Андрей, изловчился, ухватился за поручни проплывающего мимо вагона с тормозной площадкой.
— Стрелять буду!
— В белый свет, как в копеечку! Привет славной милиции Энска-I от беспризорника Андрея!
— И от Крюка с Костылем пламенный с кисточкой, — услышал Андрей за своей спиной и оглянулся. Он был не один. На площадке стояли и лыбились двое подростков примерно одинакового с ним роста. Возбужденный счастливым избавлением, Андрей до слез обрадовался им. А прозвучавшее только что над его ухом «пламенный с кисточкой» убедительно свидетельствовало о солидарности и братстве. И это здорово, когда человек, пустившийся в путь, не одинок, находит попутчиков. Одному и одичать можно.
В этом вопросе все его многочисленные любимые и нелюбимые учителя правы. Иной раз они говорят стоящие вещи. А вообще, если разобраться, что они должны говорить? Только стоящее. Иначе их тут же попрут с работы или сядут им на шею чмуры всякие: Костыли, Крюки или даже такие, как он, Андрей. Сядут... И что тогда получится? Да то же, что получилось с директором школы, в которой он учился.
Поначалу ничего был директор, добрый, мягкий, хоть ты его к ране прикладывай. Пришел с войны — глаз стеклянный, нога хромая и весь как есть, говорили, насквозь контуженный. И еще говорили, что это его в неметчине так изуродовали, разведчиком он был и попался немцам, и, когда они уродовали его, поклялся: выживет — в учителя пойдет, будет детей доброте учить, будет сеять разумное, доброе, вечное. Но, наверно, неподходящее время выбрал он для своей посевной. На каждом слове садил: по-хорошему надо, детки, вы же ребятки хорошие. А эти детки-ребятки дали ему прозвище «жеребятки» и ржали над ним, какой он дурак, как его легко обманывать, на слезу брать. Не пошел ты, допустим, в школу, «сорвался» с урока, двойку схватил или еще что-нибудь утворил, привели тебя в директорский кабинет, первым делом, знали все, слезу надо было пустить, разжалобить директора до слез. А уж как реванешь ты с ним в три глаза да наплетешь ему с три короба — можешь считать, дело твое в шляпе. Директор потом будет выделять тебя среди всех прочих. Можешь вить из него веревки, тяжело, мол, тяжело живется, всей душой ты в науке, да не получается, — карасину дома нема, а при лучине какие уроки, осенью корову надо пасти, зимой — дрова, весной — огород.
Директор слушал, кивал и — допивался. В глаза его уже стали по кличке звать не только ученики, но и учителя. И озлился он, очугунел его стеклянный глаз. «Я за вас кровь на фронте проливал...» — по-другому, круто заговорил он на линейке. «Мешками», — шикали ему задние ряды. «Я к вам с добром шел...» — «Жеребятки», — подсказывали ему те же задние ряды, не вслушиваясь в его слова и не принимая их всерьез. «Я думал, кончилась война...» — «На...» — торжествовали задние ряды. «Не вышло добром, не доросли, не понимаете добра — будем силой». — «Ой...»
На свою голову ойкали. Высохли директорские слезы, исчезли из его речи «детки», «ребятки». «Дубина» да еще «стоеросовая» — вот что появилось, да еще появился в его дыхании запах самогона, и «пятый угол» вдруг обнаружился в его кабинете. И ученикам, которые теперь попадали к нему, надо было отыскать этот «пятый угол». Андрей искал...
На пасху выпал дивный солнечный день. Враз ожили травы, проснулись бабочки, и сдобно, весенне запахло в домах пасхальными куличами, живот и глаза смутили и возмутили коричневенько крашенные кожурой от лука яички... Ну разве можно после всенощной от этих яичек и куличей идти в школу? И не пошли. Побродили по городу «жеребятки» с улицы Деповской. А к концу уроков пришли на школьный двор, чтобы, размахивая торбочками, вместе со всеми учениками бежать домой. А навстречу им физрук с фотоаппаратом: «Не желаете сняться?» Как это они не желают, еще как желают. Первый раз фотоаппарат живьем видят. Построились по росту, рожи покрасивше сделали. А того не знали, что физрука послал фотографировать их директор — увидел из окна своего кабинета. И все они как миленькие, веселые-развеселые, на одной карточке. А на следующий день загремели к директору, по одному. Андрей первым.
— Почему вчера не был в школе?
— Бульбу садил.
— Как ты садил бульбу?
— Как? В огородчике за плугом шел. Дядька с теткой плуг тянули. В поле на корове пахали. В поле земля травянистая, целичок.
— Целичок? — И директор шух через стол карточку, Андрей в центре, рот — как ворота. — Ищи пятый угол...
А где он, этот пятый угол, черт те его с ходу сообразишь.
— Шелковым у меня станешь... Так, только так сегодня вас учить надо, если слов не понимаете, по-человечески не понимаете... — И у самого слезы из глаза здорового и из глаза стеклянного. И у Андрея на глазах слезы, но не от боли, а от досады, что так опростоволосились...
И директор — как он их купил. А еще добреньким прикидывался...
Вырвавшись из директорского кабинета, Андрей тут же нашел существо слабее себя, выместил на нем свое бессилие и боль. Изранил, изрезал складником под окном директорского кабинета молоденький тополь. Он пришел к этому тополю много лет спустя. Пришел не к директору, не к школе, а к дереву. Тополь был огромный, мощный, он скрыл уже школу, но там, где Андрей прошелся по его стволу ножом, — нарост со всех четырех сторон, метина. Эта метина в жаркую летнюю пору и по сей день слезится белыми слезами. И вьются над слезами осы и мухи, слетаются на боль тополиную.
— Вырастешь, доживешь до моих лет, мне спасибо скажешь... — напутствовал тогда Андрея, открывая дверь, директор.
А он не хотел расти. Стоит ли расти, чтобы быть похожим на директора. Уж лучше остаться таким, как есть, как его попутчики Крюк с Костылем.
Они взломали шкаф в одном из домов того самого города, в котором Андрей лишился ножика. И это хорошо, что Крюк с Костылем именно в том городе поживились тысячей рублей, было бы даже здорово, если б эта тысяча исчезла из дома, в котором живет его обидчик.
А ехали Крюк с Костылем так же, как и он: сначала Москва, потом Владивосток, бухта Золотой Рог и океанский лайнер, на котором им уже были почти обеспечены места юнг. Дурили мальчики, ясно, с жиру бесились.
— Батьки есть? — спросил у своих попутчиков уже после того, как они накормили его хлебом с салом и освоились с ним.
— А ну их, — махнули руками Крюк с Костылем.
— Плохие? — догадался Андрей. — Бьют?
— Да не, — сказал более понятливый и подвижный Крюк. — Бить не бьют, морально воздействуют.
— Ага, — понимающе протянул Андрей. — Когда морально, это плохо. А как морально?
— Да так... «Мы все для вас. На других детей посмотрите — вшей нечем кормить. А у вас...» А чо у нас? Скука... — Крюк зевнул, видимо, изображая эту скуку. — Другие мины рвут, оружие имеют, костры жгут, дерутся, воруют. А мы?.. «Учитесь, учитесь, на шпану не равняйтесь, людьми будете...» А мы моряками хотим быть.
Костыль одобрительно закивал головой и дал Андрею пощупать свою тельняшку. Тельняшка была грязная, но зато теплая. Это Андрей оценил. Оценил и своих друзей, и их родителей. Знал он их как облупленных. Пускал он юшку уже таким крюкам и костылям, с радостью пускал. Нахальные они были, когда трое на одного, и тихонькие, как мыши под веником, когда один на один. С радостью меняли свои булки с маслом на тошнотики, таскали у родителей для Андреевых друзей папиросы и деньги на папиросы. Да напрасно старались, не принимала их Андреева улица в свои, брала у них, что можно взять, и тут же поколачивала, когда поколотить надо кого-то, а некого.
Ненавидела молча и смертно их родителей. Обычно в их домах было полно кошек и собак. Андрей помнит, как мать одного из таких крюков или костылей у деповского магазина на его глазах, на глазах огромной очереди, ждущей, когда привезут хлеб, кормила хлебом своих зажравшихся собачек... Сытые крюки и костыли все же завидовали таким, как Андрей, понимали, что хоть и все у них есть, а чего-то не хватает, такого-этакого, чего в избытке у того же Андрея, и подлизывались к нему, выпендривались, корчили из себя великих путешественников, храбрых генералов. Звала их вечно дорога, звали лес и река. И вечно их что-то не пускало. Боялись плюнуть на все и рвануть без оглядки. Только за ворота — и тут же назад.
А у него, у Андрея, все впереди. Там, впереди паровоза, впереди темной рощицы, деревеньки, мелькающей по обе стороны железнодорожного полотна, спаленного домика на отшибе, белого облачка на горизонте, солнца, косо зависшего над землей ястреба, рвущегося к этому солнцу. Понимают ли это Крюк с Костылем? Черта с два, их счастье там, позади, в тихой комнате с ручными собачками. Нет, не по пути ему с Крюком и Костылем. Может, они и ничего хлопцы, но только не для такой трудной дороги. Кишка тонковата для нее у Костыля с Крюком. Не успели отъехать от дома, а уже пупки развязали: конфеты-шметы, пряники какие-то, свистки — разной дребедени понакупали. Профукают они ворованные денежки, обязательно профукают, потому что цены им не знают, да и все ворованное недолговечно, и захнычут, запросятся к папе с мамой.
Так что совсем не по пути было Андрею с ними. Кроме всего, за что он начал их было уважать, в конце концов, раздумавшись, за это и разуважал. Негоже сытому человеку воровать вот так, как они, со взломом, по-крупному: сразу тысячу. Другое дело — будь они настоящие воры. Тут уж ничего не попишешь, профессия обязывает. А так, с жиру... Да они запросто и убить и продать могут. Как пить дать могут. Абы только им хорошо было.
И Андрей решил держаться подальше от своих новых друзей. А когда Крюк с Костылем, подозрительно косясь на него, таясь и прикрывая друг друга, начали шептаться и бесконечно перепрятывать завязанные в носовой платок ворованные деньги, Андрею окончательно стало ясно: трусоваты и подловаты ребятишки. Может быть, они бы сами сбежали от него ночью, но Андрей опередил их. Выспросил только, как вернее добраться до Москвы, и смылся на первой же остановке.
А до Москвы дорога была еще дальняя. Надо было прорваться через Малоярославец и Можайск. Ибо именно на этих станциях, по словам Костыля и Крюка, на путях к белокаменной был выставлен наиболее мощный заградительный милицейский кордон. Тут попутчики не врали, в этом он сам убедился позднее. На малоярославском и можайском железнодорожных узлах милиция работала хватко. Не то что заяц-беспризорник, даже настоящий заяц не всегда смог бы проскочить.
Шмон шел будь здоров. Не одна беспризорничья карьера оборвалась, когда уже было рукой подать до столицы. Словно знала милиция, что Москва — это не только столица огромной страны, но и стольный город мальчишечьей мечты, будто ее медом помазали. До того она была желанна, до того верилось, что там, на древних улицах этой матери всех городов, ждет их любовь и счастливая доля.
Наивная и глупенькая мечта... А может быть, и не наивная, и не такая уж глупая. Если отчий дом не мог дать ни тепла, ни хлеба, если они были в нем не желанны и не нужны, то надо было что-то придумывать самому. Искать по свету такой город, который бы обогрел, и накормил. А свет исходил из Москвы.
Но встречала беспризорников, тех, кому удавалось прорваться, столица их надежд не очень приветливо. В ее детприемниках кормили хуже, чем в каких-либо других, потому что московские детприемники были переполнены и не хватало на всех хлеба. Не в силах была Москва насытить одинаково голодные и любопытные жадные рты. Не могла и не всегда хотела насыщать их, в предостережение и для острастки тех, кто еще не доехал туда, но пытался, стремился доехать, чтобы они и десятому заказывали стремиться. Худо в отцовском доме, худо в селе и городе: недород, голодовка, разруха? Ну так смотрите, какой здесь, в Москве, для вас сахар.
«Мамка говорила, будто в Москве люди только и делают, что все едут куда-то и едят. Едят на улицах, в трамваях, автобусах, столовых, аж неудобно — когда они только работают?..» Так вот, смотри, как они едят. На завтрак — дубовка, на обед — шрапнель, а на ужин можно уже и перловку. Перловка, дубовка, шрапнель. Вот какие яства можно приготовить из одной только перловки.
Ели, набивали рахитичные животы и налегали на камбалу. Да так налегали, что та, бедная, навсегда стала плоской. Была она еще все время невероятно соленой: говорят, скорее потому, что камбала — морская рыба, а море тоже соленое, и слезы соленые... Вот какая эта медом помазанная Москва.
Но Андрею сейчас не надо в Москву. И Малоярославец с Можайском ему ничем не грозят. Ему надо прорваться через Энск-I. Хорошо было бы сейчас пробежаться по его перрону, разогреться, но лучше не искушать судьбу. Лучше всего приступить к приседаниям. Это тоже здорово согревает. Только кряхтеть и сопеть не надо. В вагоне ведь едет на Дальний Восток стальная ферма, а фермы не сопят, они не боятся холода. И беспризорники должны быть тоже железными, иначе не стоит и пускаться в путь.
— Раз-два. Начали... Сто два... Двести два... — Побежали, побежали тепленькие живчики по телу. Задвигались, задвигались. От коленей и дальше, выше, выше по спине, будто костерок за спиной кто-то разложил. Ничего, жить можно. Надо жить, и он будет жить. Будет. Эй, милиция! Где ты? Знала бы ты, милиция, что за ферма тут держит путь на Дальний Восток... Тихо, тихо, глаза повылазили, что ли, читать не умеете: «С горок не спускать», «Не кантовать». Для кого писано? Ничего: ехай-ехай, мальчик, не боись. Будут тебя кантовать, будут с горок спускать — не боись. А как ты хотел? Как ты себе представляешь иначе жизнь? И с горок, и с боку на бок, и с ног долой! Только так и только так. Вроде бы даже песня такая есть, веселая песня. Не верь веселым песням. Вот когда тебя с боку на бок и с ног долой, а ты снова на ноги, а ты зубами — выйдет толк, бестолочь останется. Останется там, за твоей спиной. Тонкие сита у жизни, нелегко ими отсеять правду от неправды. Нелегко разобраться и в уже отсеянном. Только на зуб, только зубами. И поймешь, найдешь свое. Так быстрее, быстрее мелькайте, километровые столбы. Зеленый ему, зеленый. Ну, что же ты стоишь, паровоз, вперед, паровоз! Надо поспешать. Ну, поехали! — прямиком в тот день, когда эти же слова были сказаны небу...
А какое дивное небо над головой. Лупятся на мальчишку фонари. Дуроломы вы бетонные, фонари, так вам и ослепнуть недолго. Что, зайца не видели? Все вы видели и все вы знаете, станционные фонари, потому и молчите. Ну и молчите, безъязыкие, так уж вам на роду написано — молчать. Играет холодными зимними сполохами станционное куцее, с овчинку, небо: красное, зеленое, голубое. И через это искусственное голубое, зеленое, красное размывчато светятся звезды. Непонятно, живет там кто-нибудь на небе или нет. Вообще, столько простору, конечно, не должно пустошью лежать. На земле кучновато стало, бедновато с землей: семь-восемь соток огорода, и кранты. Больше — как сумеешь. Посадить картошку можешь и в поле, а выкопаешь ты ее или нет, бабушка надвое гадала... Бабушка говорила: на небе рай. Там Андреевы и отец с матерью, жизнь там вечная. Но чепуха это на постном масле. Из книг узнал, что чепуха, и из опыта, наблюдений. Сколько он за этим небом наблюдал, никакой жизни не увидел, отца с матерью не увидел. Видел змея, дракона, видел человека на лошади, пароход-парусник, а отца с матерью нет. Хотя молил их, молил показаться ему. Заклинал и проклинал. И ничего. Ни с неба ничего, ни ему ничего. А за проклены, что он слал небу, ой-е-ей должно быть чего. И если живет там кто-нибудь на небе, то только не люди.
Спрятано там что-то от людей. А что? Вполне может быть, в той же звезде, например, или луне. Сундук лежит какой-нибудь, скрыня огромная. Открыть ее, а оттуда счастье и полезло, вечная жизнь человеческая. И мертвых поднять можно будет. Лежат, молчат мертвые, ждут своего часа, пока он, Андрей, на небо не заберется и не освободит их. Радости будет... Трудно только, толпа огромная получится, и как в такой толпе отца с матерью отыскать. Ну да ничего, изловчится, отыщет. Найдет тех, кто тоже ищет. Пойдет к живым и мертвым. Он сам, Андрей, приглядывается не только к живым.
И в первую очередь он постарается, чтобы жили вечно матери и отцы, ну а потом пусть живут вечно бабушки, они добрые. А уж за ними — дядьки с тетками, милиционеры и воспитатели с учителями.
Бессмертие скрыто от человека где-то не так уж и далеко. Может быть, и не на небе, в земле, в диковинном камешке или корешке обычной травы-пустозелья, того же пырея. У пырея такие белые и цепкие, длинные-длинные корешки. Там, где они кончаются, вполне может и быть бессмертие. Но корешки пырея, если их тянуть, обрываются, а если докапываться до конца, то трудно различить, то ли уже кончились корешки, то ли истончились и паутинками ушли в землю. И сколько ни выкапывай, ни рви пырей, каждую весну он появляется заново. Вполне допустимо, что бессмертен пырей. Но ничего, Андрей разберется, дайте только срок, дайте ему только выжить, прибиться к желанному берегу.
Но что-то там не торопится в путь паровоз. Надежный, самый мощный, ИС называется, а застопорил — и ни с места. Так и замерзнуть можно. Безобразие, непорядочки у вас, товарищ Бещев, на железнодорожном транспорте, не чувствуется хозяйской руки. Вот раньше хозяин был, ого-го. Дед Архип рассказывал, он ведь тоже железнодорожник, — чуть что не так — га-а-ах кулаком по столу, мать твою перемать. И пошло дело, закрутились колесики. В любой конец земли беспризорники доставлялись без промедления.
А сейчас надо самому о себе заботиться. Перекусить надо. Когда человек сыт, холод ему нипочем. Хлеб промерз до своего хлебного нутра. Хоть и сила в нем, в этой серой буханке, огромная, но все же нутро у беспризорника сильнее, чем у хлеба. Не поддается оно так морозу, как хлеб. Есть просит. Вот потому он и поедает этот хлеб. Грызет его по-мышиному крепкими, мышино-белыми и острыми зубами. Таким зубам только подавай хлеб. Хлеборезка исправная.
— Ту-ут ты-ы? — наконец подает голос паровоз.
— Тут-тут, кормилец, — машет головой, радостно отвечает ему Андрей. — Двигай, родимый.
— Дерг-лязг, дерг-лязг, — переговариваются закоченевшие сцепки вагонов.
— Тут-тут-тут, — шумно радуются, пробуксовывают на месте паровозные колеса. Тяжелый состав, ясное дело, без раскачки не взять, понимать надо. Ну да ИС — паровоз надежный, мощный.
— Ну, Давай, давай, родимый!
— Да-ю-у, — послушно отзывается паровое.
В морозном воздухе слышно, как напружиниваются настылые железные тела вагонов и платформ и на комариной ноте начинают заводить дорожную песню. Паровозные колеса уже схватили рельсы, все уже пошло-поехало, пошло-поехало. Сейчас можно и послушать, о чем переговариваются меж собой вагоны, что там выводят паровозные дышла. Андрей слушает.
— Хлеб-пшеничка, — без труда разгадывает он радостное бормотание товарняка. И это кажется ему невероятным. То ли перепутал что-то поезд, то ли специально бодрит его, а может, и правду говорит, знает, что ждет впереди Андрея, пророчит. Все равно давай, Андрей, держи нос бодрей. Хуже, чем есть, не будет. Где наша не пропадала. Вытянешь ты эту ночь, потом день. День-ночь — сутки прочь. И будешь ты у своих. Куда интереснее думать, как тебя там встретят, как помчишься ты по шатким деревянным ступеням купеческого особняка на второй этаж и как бросится тебе навстречу Тамара.
С этим Андрей и забылся в своей застуженной намертво стальной норе дремотным тяжким сном.
Он подхватился, учуяв беду, унюхав ее коченеющим курносым носом. И долго лежал, улыбаясь, идиотиком, не в силах понять, откуда идет эта беда.
Вроде бы Андрею было и неплохо. Благостно и уютно. Невиданной красоты птички из той самой страны райских птичек порхали перед его глазами, ослепляли. Орехами — больше его головы — раскачивали длинноногие пальмы, гроздьями, как летучие мыши, зрели на других диковинных деревьях бананы. А он лежал голый среди этого великолепия и тянул из расколотых орехов густой, как козье молоко, сок и грыз бананы.
Он хорошо помнил, как попал в эту райскую жизнь прямо с бабушкиной печки, с теплой лежанки-черени, шум — и темень, темень, темень. Немой полет-прыжок сквозь бездну, сквозь зольное кирпично-закопченное нутро бабушкиной русской печки — и в темный колодец неба. Подальше, подальше от кривобоких хат, крытых гнилой соломой, испуганно присевших во тьме колодезных журавлей, тупо жующих соломенную сечку сонных коров в запертых хлевах. В сытую сказочную неведомость. В бессмертие.
Бессмертие родилось в нем на черени бабушкиной печки. Бабушка умирала среди дерюжек на узких полатях, в простенке между печкой и окном. Он видел ее Смерть. Она вошла в дом сквозь стену, в том месте, где лежали бабушкины прозрачные ноги. Вошла без косы, в деревенской кортовой юбке, незрячая, с изможденным восковым лицом покойника. Держась за стенку руками, пошла, пошла по полатям к голове бабушки. Наклонилась и ласково тронула высохшее лицо.
— Ну, наконец-то, обрадовалась бабушка. — Заждалась я тебя, родненькая.
— Работа, — прошелестела Смерть. — Сколько тут вас. С ума вы посходили, что ли? Мрете и мрете. Только и слышно: Смерть туда, Смерть сюда. А Смерть-то одна.
— Я понимаю, — вздохнула бабушка. — Ты уж, девонька, не гневайся на меня. Бегала я от тебя, глупая была... Сколько раз я тебя обманула...
— Что же в этом хорошего? — недовольно спросила Смерть. — Не меня ты обманывала, себя.
— Так, родимая, так. Да, пока живешь, все надеешься. Куда ты меня там у себя пропишешь? Тут-то я верующая, но беспашпортная...
— Ох, горе мне с вами, беспашпортными, — посетовала Смерть, — шибко много вас у меня. Пусть господь-бог решает.
— Вот оно как, — вроде бы возмутилась бабушка. — Погодю помирать.
Тут и Смерть возмутилась:
— Гляжу я на тебя, вроде бы и не женщина ты. Должна ведать — нельзя годить с тремя делами — рожать, помирать и с... Так чего же ты хочешь сейчас?
— Срамница, — сказала бабушка. — Справляй уж свою работу, окаянная...
— Обзываться будешь...
— Не буду, родимая, не буду... Я начальство паважаю. Прости язык мой, милостивица... Помстилось мне, будто перед смертью мы все равны. Не гневайся, панночка.
— То-то, ну давай... — И вновь Смерть ласково коснулась бабушкиного лица.
— Стой, стой, окаянная! — как на корову, опять прикрикнула бабушка. — Хочу я, чтобы на том свете я была вместе со своим хозяином горепашным.
— Это уж как решат.
— Ну и раздумала я тогда помирать. — Бабушка зашуршала дерюжками, попыталась подняться.
— Добро, добро, — испугалась Смерть.
— Я еще не все сказала. — Бабушкин голос окреп, и слова у нее пошли чистые, хотя и редкие: — Внучок... горепашец... Жизни теперь мало веры. Тебе... Смерти... его доверяю... Пригляди... В обиду не дай...
— Да ты никак со мною торгуешься? — Смерть поджала губы.
— Все, панночка... Все, милостивица... Не столковались... Не судьба мне умереть...
— Хорошо, хорошо, — сдалась Смерть. — У-у, семя крапивное... По старой памяти, так и быть, замолвлю словечко.
— Хорошо... Хорошо... Хороша як... Хо-ораша-а... — Морщины на лице бабушки разгладились, темный лик ее осветился улыбкой, будто бабушка и не умирала, не уходила навсегда из жизни, будто не она лежала в последний раз на истерзанном ее телом, сбитом в ком сеннике, а молоденькая и легкая девчушка вытянулась после счастливого сенокосного дня на мягкой кровати, замерла в ожидании мужа или солнечного луча, который погладит ее лицо и откроет веки. Андрей испугался, до чего же красива его бабушка. Что ей открылось уже там, по другую от него сторону, за чертой, за стеной? Что она увидела в последнее свое мгновение?.. Боже, если бы удалось это узнать, если бы можно было возвратиться оттуда и рассказать. Может, все вокруг стали бы счастливы и добры.
Андрей боялся пошевелиться, захваченный великой тайной смерти, быть может, большей тайной, чем рождение. И Смерть сама была захвачена этой тайной, стояла не шелохнувшись. Вдруг бабкины губы вновь ожили и зашевелились:
— Передаю... передаю... — комарино прошелестело от полатей.
— Что, что?.. От кого? Кому? Кого?
Но ни на один из этих вопросов ответа уже не было и не могло быть. Их унесла с собою бабушка. Их надо искать и найти самому. И он будет искать и найдет. Найдет!..
Смерть посмотрела на Андрея и склонилась над бабушкой. Что она там с ней делала, он не видел. Но бабушка задышала, задышала и смолкла, вытянулась на полатях. А Смерть прежним путем, ощупью, по стенке, пошла к ногам. Исчезла, растворилась ее кортовая деревенская юбка, восковое лицо. А Андрей всколыхнулся и полетел в райскую страну.
Прекрасно, солнечно и сытно было в этой стране. Но что-то Андрею не нравилось: очень уж, видимо, тепло и сытно. А он не привык ни к тому, ни к другому. Более того, он не верил, что такое одновременно может быть. Если все хорошо, значит — неправдоподобно, нечисто. Завлекают его. И все в нем возмутилось против райской благостной изобильной и непонятной доброты. Он не привык, не мог верить доброте, доброта убаюкивает и расслабляет. Ее специально изобрели для беспризорников, но его бананами не купишь.
Андрей попытался подняться, и в ту же минуту райские кущи исчезли. Он почувствовал, что находится в гробу. Добротном стальном гробу. В нем было холодно, как в могиле, и темно, как в могиле, и тихо, как в могиле. И скован он был по рукам и ногам, спеленат, как в могиле или в детской зыбке. И выхода из могилы не было.
Он не испугался. Растерялся. Не мог понять, есть ли у него руки, есть ли ноги, или только голова, бесполезная и беспомощная без рук и ног. Начал припоминать, куда же все это девалось. Припомнить не смог, но голова сама по себе поднялась и безбольно, но со звуком ударилась о крышку гроба, как он решил. В воздухе родился сверлящий уши звон, сладостно торкающей болью вонзился в позвоночник. Андрей обрадовался: появились позвоночник и уши. Он начал множить звук и звон, биться головой о свой гудящий гроб. И постепенно начали расти руки, ноги, стала оживать память.
Голова уже соображала, но не могла объяснить тишины. Ведь должен был покачиваться вагон, должны были стучать колеса, звякать сцепки. А стояла тишина, только гудела ферма. А тишина ему ни к чему, он должен торопиться в другую жизнь. Нет, не в райские кущи, а к Кастрюку, Жукову, Тамаре.
Андрей вывалился из своего гробика на гармошечный, не холодный и не теплый пол вагона. Но двигаться еще не мог, хотя уже знал, что у него, как и у всякого исправного беспризорника, есть и руки и ноги. Ноги, чтобы убегать от милиционеров, руки, годные на все.
Но Андрей еще не мог подняться и одолеть самопехом те жалкие десять — пятнадцать шагов до стенки вагона, к которой были приварены скобы. Он пополз. Опять же не по-солдатски, не по-пластунски, как принято ползти, а так, как это проделывают обычно дождевые черви, засмыкал телом по железу, в кровь расшибая лицо и руки. И бросил себя на вагонную стенку, к скобам.
Бросился и не удержался, тут же тестом оплыл вниз. Не скобы, не железо ухватили его руки, а... что-то мягкое, что нельзя удержать в руках... Шерсть?..
А, это ты... Опять ты. Фашистская черная псина. Нагнал, настиг. Радуйся, псина... И я тебя зубами. Еще неизвестно, кто кого на тот свет спровадит... Нет тебе покоя на том свете? И на этом не будет тебе жизни.
— Я мертвый. А мертвые сильнее живых.
— Это среди собак. А среди людей — живые сильнее мертвых.
— Много помогли тебе твои живые? Дядька, тетка, директор, Гмыря, воспитательницы? Им нет до тебя дела. Они гонят тебя, они отсылают тебя ко мне...
— Врешь, врешь, псина. Собака лает, ветер носит... Ты их покусал, но заживут их раны.
— Заживут, но появятся другие. Не один я на свете. У меня множество лиц, много зубов...
— Выбиты зубы...
— Это только тебе кажется...
— Мертв ты уже.
— Мертв? Что же ты меня боишься? И мертвые силы имут, и призраки...
— Нет! — И Андрей снова бросился на пса. И снова оплыл вниз. Множество раз, пока в мозгу, в сердце — во всем теле ничего не осталось, кроме ненависти, пока из этой ненависти не вызрела уверенность, что он вырвется из вагона, грозящего стать его могилой, он рвался из своего гроба, как рвутся птицы сквозь оконное стекло. Но не упал бездыханно замертво, подобно этим птицам, а вырвался, вылетел. Кульнулся из вагона на грязно-серый снег и принялся лизать его непослушным языком.
Снег был соленым и алым — это сочилась из Андреевых изодранных губ и десен кровь. Но боль все еще не приходила к нему, хотя рубашка на спине уже взмокла от пота. Боль пришла потом, когда он насытился — наелся снега. Она взорвалась в нем с такой же силой, как рвется угодившая в брюхо лошади мина, разнесла всю его требуху, разметала руки. Андрею показалось, что это снег внутри его отвердел, превратился в динамит и рванул.
Он и раскинулся на этом снегу, как солдат, оглушенный взрывом, уронил голову на мертвенно-синюшный в ночи рельс, правой рукой коснувшись колеса вагона. Видимо, близился рассвет, потому что звезд на небе не было, ни единого проблеска света, свинцово смежающаяся над головой серость. С головы поезда доносилось ленивое пыхтенье паровоза. И все, ничего больше.
Андрей ничего и не ждал, он обманывал боль другой, более страшной опасностью. Страшной, но одновременно и лечащей, избавительной. Не уйдет боль подобру-поздорову — двинутся колеса и раздавят ее. Не ему надо бояться боли, а она пусть боится его, он сильнее ее.
И боль испугалась, ослабела и поплелась прочь. Поднялся и Андрей, заковылял вдоль состава туда, где темнели нахохленные, будто испуганные собственной тенью, дома, к людям.
7
Робя Жуков и Ванька Лисицын — друзья что надо. С такими не пропадешь, не заскучаешь. На облезлом детприемниковском диване Андрей вместе с ними обсудил примерный план побега. Правда, планов было несколько, нужно было только выбрать лучший из них, учитывая опыт своих знакомых и незнакомых предшественников.
А опыт был богатым, хотя и несколько однообразным. Летом — подкоп. Подкоп под каптерку с одеждой, под забор. И ищи-свищи ветра в поле. Этот классический способ в данном случае не годился, так как стояла уже зима. А беспризорник, он хотя и все может, но копать голыми руками мерзлую землю еще не приспособился.
Классическим был побег и из туалета во время массового посещения его. Через очко — в яму. И выждать там, пока пройдут все. Таким способом свобода тоже достигалась, и не раз, хотя от свободного человека долго потом попахивало детприемником. Но это опять не годилось: яма была заполнена едва ли не до краев.
Лиса с Андреем могли уйти через форточку. Они могли, но Жуков не мог, головастым был этот Жуков, он уже примеривался. Хитрые в детприемнике форточки. К тому же через форточку можно уйти только ночью. А это — дополнительные трудности. Надо умудриться с вечера сунуть одежду не в шкаф, под замок, а, допустим, под диван. А попробуй сунь ее, когда вокруг столько церберов.
— Все предусмотрели, гады, — сказал Жуков. — Думай не думай, хитростью не возьмешь. Силой надо.
— Это как же — силой? — спросил Лисицын.
— Очень просто, — сказал Робя. — Отобрать у того духа в будке возле ворот винтовку. И с винтом уйти, как все честные люди.
— А как подойдешь к духу-то, Робя?
— Очень даже запросто. «Дядя, дайте закурить».
— Ага, — подхватил Лисицын. — Он в карман за махоркой, а ты за винт, и руки вверх.
— Точно, — сказал Робя. — Тут смелость и натиск нужны.
— Молодец, Робя. Я всегда это тебе прямо говорил, силен ты. Хочешь анекдот?
— Валяй, — напыжившись, кивнул Лисицыну Жуков.
— В одном КПЗ беспризорника одного приручили. Надо было заставить его съесть ложку горчицы. Беспризорник голодный, зараза, а горчицу не жрет. Один старшина пасть ему расщеперил и ложку силой туда. Съел.
— Во-во, видишь, — обрадовался Жуков.
— А второй старшина по шерстке этого беспризорника, по шерстке. Добровольно съел горчицу беспризорник.
— Это, наверно, ты был старшиной, — осклабился Жуков. — Значит, ты и пойдешь у духа просить закурить.
— Не пойду, Робя... Я карцера боюсь. Я там ой сколь раз был и клятву дал: больше не попадать в карцер.
— Так мы же на воле будем, мы ж гулять будем, — заволновался Жуков. — А какие на воле карцеры? Не встречал я на воле карцеров... Я в карцер тоже не хочу.
— Вот и молодец ты, Жуков. Я всегда тебе прямо говорил: голова ты. Это же надо придумать, ты слышишь, Монах? Во дает! Сам, Робя, придумал?
— Сам, а что?.. Что я придумал?
— Не, Монах, ты погляди на него. Сам говорит: будем примерными. Будем со всеми дружить, никого не будем обижать. Всюду первые — и на подъеме, и на зарядке, и на уроках...
— Про уроки я вроде не говорил, — остановил Жуков Лисицына. — Чтобы я, Робя Жуков, да на уроки! Я шестерку с девяткой путаю. На картах разбираюсь, где что, а чтобы в тетрадях... Не, не говорил я про уроки.
— Говорил, говорил, Робя, вот и Монах слышал. Слышал, Монах?
— Ага, — кивнул Андрей, хотя и не понял, куда клонит и чего от него хочет Лисицын. Но он уже верил ему, хотел верить, потому что больше верить тут было некому.
— Вот и договорились, — совсем развеселился Лисицын. — На уроке ты, Робя, садишься рядом с Монахом. Он хоть и Монах, но шестерку с девяткой не путает. А ты, Робя, копируй у него, хорошо только копируй, ответственно. И порядочек будет, тип-топ. Монах любит тебя, я люблю Монаха. А вы оба любите меня. А все трое мы — одна шайка-лейка. И вместе надо быть. Клянемся!
И на этом слове Лисицын зубами до крови рванул свою правую руку.
До крови прокусили себе руки и Жуков с Андреем. Лисицын промокнул их и свою кровь белым платочком и спрятал его за пазуху. И если до этого у Андрея были кое-какие сомнения, правильно ли он выбрал друзей, там ли он их ищет, то тут эти сомнения окончательно отпали. Все трое накрепко были связаны клятвой и кровью.
И сразу вроде бы посветлело в зале, задышалось легче, выше стали потолки. Не так уже манило за окно, на улицу. Хорошие парни Лисицын с Жуковым. Да разве может быть плохим Жуков, когда у него такие кулаки, деловые кулаки. Раз-два и фингал обеспечен. И глаза у Жукова добрые-добрые. Как у пастуха с их улицы, Дзынгаля, которого всю жизнь мучил и мучает вопрос: почему это коровы едят траву, а люди не могут? А хорошо было бы, когда бы люди ели траву. Травы ведь так много. Но люди не научились есть траву, потому что зимой она под снегом. И Дзынгаль все время жалел, что зимой трава под снегом. И обида на зиму все время была у него в глазах.
Доброта и обида и в глазах Жукова. Это ничего, что они у него маленькие. Вот Лисицыну нужен большой глаз, потому что он у него один, и там гораздо больше есть всего, чем у Жукова. И людям трудно схватить в нем все сразу. А ко всему лицо у него маленькое-маленькое и обгорелое, и на нем трудно что-либо прочесть. Трудно увидеть, что за этим обгорелым лицом такое хорошее сердце.
Трудно сердце у человека разглядеть. Все у него на виду: злость минутная, как в зеркале, и слеза минутная — налицо, и раны открыты. А сердце — в броне. У хороших людей, говорят, иной раз сердце, как панцирем, известкой покрывается. Хорошее сердце. Но попробуй расковыряй эту известку, доберись до него. Найти там место, в котором любовь к тебе окаменела, к таким, как ты, бездомным и безродным. И промашки не дай. Не обманись, не перепутай любовь и боль с сочувствием и болькой, что только на миг, пока ты на глазах.
Надо искать, надо стучаться в каждое сердце — где-нибудь да откроют. Не может быть, чтобы не открыли. Тыщи увечных и сирых выплюнула из своей пасти война. Но живут они, чьим-то сердцем живы. Тянет оно их, из последнего, а бьется. И за его, за Андреево, сердце бьется. Прислушиваться только надо, приглядываться.
Неспокойно на душе у Андрея, он знает: если уж пришел ответ на запрос и выяснилась его ложь с адресом, фамилией и всем прочим, от него не отстанут, пока он не скажет правду или не сплетет правдоподобную историю — почему врал, кто он и откуда есть. Правды Андрей говорить не хотел: сейчас надо переждать, выиграть время, чтобы при первой же возможности сбежать. Но и врать уже было трудно. Первый раз легко, лихо даже было врать, а сейчас...
Перед ним тогда были незнакомые настороженные люди, загодя не верящие ни единому его слову. И он скорее защищался, а не врал, его хотели раздеть до правды, а он не давался. Но вот прошло три месяца. Незнакомые люди уже стали почти своими и добились-таки того, чего не могли добиться сразу, с наскока. Тихо, незаметно вошли в его жизнь. Таким людям врать больно, больно обманывать их. А надо, надо.
Вон Мария Петровна и сама плачет в кружечку. И жалко ее. Сложная штука жизнь, и все сложности идут от взрослых. С Жуковым и Лисицыным он столковался запросто. А вот с Марией Петровной не может. Кого тут винить? Себя?
А в чем он виноват? Он что, ворует, грабит, убивает? Нет, он ведь тоже хочет, чтобы все по-честному, и даже больше воспитателей хочет. В сто тысяч раз больше.
От боли и обиды за взрослых он и бежал из дому. Бежал не от нужды, от нее некуда бежать, убедился, проехал землю. Дрожит его душа по правде, единой и целой для взрослых и детей. Хочет правды — пусть от нее глаза на лоб лезут, пусть от нее кровь проступает из-под ногтей, покрывается коростой и струпьями тело. Хочет так, как могут хотеть только в детстве и только дети.
А что он видел от этих взрослых, от дядьки, тетки, директора, от своей бедной, издерганной нуждой улицы? Что слышал? Дрожит в душе слеза. Его бы воля, его бы власть... Не обмани, говорил ему дядька. А сам? Приходили обмерять огород, переписывать живность. Он ставил на стол бутылку самогона, клялся, что, кроме коровы да кур, ничего не держит, а поросюк визжал в сарае под сеном... Не укради, говорила тетка и месила его чем попадя, недосчитавшись куска сахару. А сама? Брала постилку и шла к колхозному стогу «скубать» сено. Он, Андрей, как-то накрал на разгрузочной рамке мешочек соли. Нес ее домой, дрожал. Оказывается, зря дрожал: если в дом, себе, — можно. Будь честным и справедливым, требовал от него директор школы, а сам заставлял его искать «пятый угол»... Так разве этим самым они не дали и ему, Андрею, право быть жестоким и нечестным?
Дали, благословили даже, только он, Андрей, не принял этого права. Сейчас он вынужден быть нечестным, чтобы позднее, когда вырастет, не походить ни на директора, ни на кого из взрослых.
Кто познал ложь и несправедливость и остался честен, остался ребенком, тот всегда будет честен и справедлив. Так протяните ему руку. Вы, такие добрые и сильные, всепонимающие, всезнающие, протяните ему руку, чтобы он не хватал пустоту. Он признается вам, кается в своих самых страшных грехах. Слушайте его грехи. У бабки, старой своей бабки, он украл червонец от ее пенсии за убитого на войне сына. Он не знал, что это червонец, большой рубль. Хотел отдать его Дзынгалю, чтобы тот сделал ему коньки: прибил к деревяшкам проволоку. Но он не попользовался своим большим рублем: закопал его в снегу возле уборной, а соседка подсмотрела...
Ему стыдно. И всю жизнь будет стыдно, потому что у нищих и любящих тебя людей грех воровать. Есть святые вещи, есть святые деньги. Он протянул руку за святым червонцем.
Ему стыдно... Он собирал грибы на луговине неподалеку от той сосны, у которой погибли его отец и мать. Луговые поздние опенки, чистые, как слезы. Пожадничал, нарезал полный мешок. И знал, что грех собирать тут грибы, а собирал. Но, слышите, слышите, он уже наказан за это. На всю жизнь. Годы и годы прошли с того времени, но стоит ему увидеть во сне ли, наяву ли луговой опенок, как у него начинают зудеть руки, красная сыпь выступает на них. Он острекался о крапиву и телом и душой, собирая те поздние горькие опенки...
Ему стыдно... А за что еще стыдно? Он обманывал вас, слышите, обманывал. Совсем недавно, переверните страницу, найдите, где он осуждает дядьку, тетку, директора... Не восставал он против них, против их «не обмани», «не укради», «не обидь». Не мог он осуждать их. А слеза в душе дрожала... Дрожала... Дрожит и сейчас, потому что он не знает, я тоже не знаю, хватит ли сил, голоса, чтобы сказать, не кривя, не прикрывая, не виляя, и дадут ли сказать, как было. Но он и я с ним знаем, как было. Было как было! И боль за вчерашнее — боль сегодняшняя. За свой, его обман, вольный и невольный, палит ему сердце.
Ему стыдно: он украл у мертвого шинель и гармошку. Умирающий поделился с ним последним куском хлеба. И может быть, именно этого куска ему не хватило, чтобы выжить...
Всю жизнь он будет помнить большой ворованный «рубль», хотя и расквитался за него сполна. Не получив денег, Дзынгаль заставил его пробежать зимой пару километров от дома до школы босиком. И была болезнь, почти двухнедельное небытие. Всю жизнь за ним будет ходить, как ходит черный пес, будет мерещиться в каждом живом тот мертвый, отдавший ему свой последний кусок хлеба и последнее тепло своего умирающего тела. Всю жизнь болью и сыпью будут напоминать ему о себе крапивные луговые опенки.
Что вы можете добавить, люди, к этим мукам? Знаете ли вы, как, охваченная стыдом и раскаянием, горит душа, когда хочется провалиться сквозь землю, жжет огонь, палит голову и грудь и раскаленный металл плещется в горле? Вот поэтому он и решился на дорогу. Сел в поезд и поехал. Он едет к вам, люди. Пробивается к вам с надеждой и любовью. Пробивается голодными и холодными ночами и клянется в этих ночах никогда не ударить своего сына. Потому что очень мерзко, худшее, что может быть на свете, — бить человека, который не может вам ответить тем же. Так рождается преступление в нем — от бессилия перед несправедливостью и обидой. Человек, маленький, большой, встречая обиду, живя обидой, передает эту обиду другим, как передают грипп. И самое страшное, когда обида и несправедливость в детстве, когда ты не можешь еще понять и объяснить ее. Там, в детстве, и рождается преступление, вспыхивает тот злой огонек, который губит тебя и других.
Так судите его, но помните: он сам пришел на суд, сам потребовал суда, потому что не мог больше носить в себе то, что носил долгие годы. Убегая из дому, уходя из родного города, он не скрывался от суда, а шел на суд, на суд людской, суровый, но правый. Он верил: когда-нибудь такой суд свершится. С правдой, неправдой, обидой и болью он пробивался к нему. Нес свою правду, искал свою маленькую правду в руинах, развалинах и пепелищах, в сердцах окаменевших, расстрелянных войной, в сердцах, прозревших на войне.
Знайте, что те опенки под сосной, где погибли его мать и отец, он резал, надеясь, поев их, услышать отцовское и материнское благословение, услышать их голос во сне, обрести их мудрость и правду. Обрел чесотку.
Знайте, нося в дом ворованные на разгрузочной площадке соль и сахар, макуху и свеклу, скубая с теткой ночами колхозное сено, воруя с дядькой в притемках в государственном лесу сосенки и дубки, он надеялся, что за это его будут больше ценить, неродной дом станет его родным домом, зажиточным и богатым. А стал он чужим, и не только дядьке с теткой, но и всей улице, всем людям, всему свету. Обманывая чужих, он обманывал всех, себя в первую очередь.
В завирушную вьюжную ночь, когда он скубал с теткой сено, их подловил сторож. Подкрался тайком, когда они уже отходили от стога с постилками, набитыми сеном, и тихонько чиркнул спичкой, поджег теткину постилку. И малиновый огонь побежал по малиновому снегу, осветились ночь, и лес, и злодеи. И тетка с перепугу горящей постилкой метелила его, Андрея, будто он и есть главный злодей и поджигатель. И он почувствовал себя главным злодеем, которого карают даже свои. Выла вьюга, догорало сено, снова стелилась над снегами ночь. И, вдыхая заскорузлый дым тлеющей старенькой постилки, он уже в ту ночь понял, что нет у него дома. Сгорел дом. И суждена ему дорога.
Знайте, что он сам заключил себя в тюрьму. Нет, не в ту, с запорами и решетками, — куда более страшную, в которой нет сторожей, нет ключей и запоров, но из которой потому и нет выхода: в одной камере стенку прошибешь, в другую камеру попадешь и в такую же стену упрешься. Стену, выстроенную тобой же, из лжи, обмана, обиды, из твоего же страха...
Судите его. Судите, потому что у него нет ни отца, ни матери. У него есть только Лисицын и Жуков, и черный немецкий пес-призрак во сне и наяву витает над ним. Так решайте сами, стоит ли подать ему руку. Только знайте, ему не надо милостыни, он уже напринимался кусков.
Кто ел лебеду, крапиву, тошнотики, а временами и ничего не ел, кроме воды и воздуха, тот умеет быть благодарным. Кто умирал и воскресал, тот уже научился ценить доброе слово.
А все это было, было с ним, и не только на беспризорничьих верстах, на свалках и под заборами его улиц, но и в лагере. Нет, его не забирали и не запирали туда. Он пошел в концлагерь сам. А куда идти, если никого у тебя родного нет, а неродных, но живых тоже уводят от тебя? И он пошел за живыми. Живые его гнали от себя, объясняя немцам, что это ничей, приблудный, чужой. А он был людским, он был всех их и шел вместе со всеми. Люди шли, и он шел, крался, как волчонок, полз на брюхе, только бы не отстать от всех. И, наверное, это было хорошо, это было самым правильным, что шел, иначе замерз бы, загинул. А так выжил возле самых живучих. Только потом с год ходил с протянутой рукой и закрытыми глазами. Но что-то все же перепадало иногда в эту протянутую руку. Потому, наверное, и дрогнуло теткино сердце, когда он и ей навстречу протянул руку, ладошка — лодочкой.
Он сейчас протягивает, люди, эту руку к вам, только ладошка сейчас уже не лодочкой. Не надо милостыни, уберите, спрячьте куски. Ладошка его уже разомкнулась. Она уже немного огрубела и просит сегодня большего. Так неужели, если вы давали ему хлеб в самое голодное для вас время, не дадите сегодня и этого большего?..
— Монах, на выход, на ковер!
И он пошел на выход, на ковер.
8
Андрей минул затаенно пыхающий в ночи, но готовый в любую минуту рвануть вперед паровоз и поравнялся с каким-то домом. Нет, это был не вокзал. Вокзал должен был стоять где-то справа, за составом. И до него надо было еще добираться, недалеко, но все равно шагать. Андрей уставился на разрисованные морозом темные глазницы окон. Окошки были маленькие, и в них таился холод и немой окрик: проходи мимо. Мольбой такие окошки не возьмешь, хотя за их двойными рамами, за синими стеклами, наверное, и тепло. По-ночному беспорядочно на стульях и полу обвисло отдыхает лишенная человеческого тела одежда. Беспричинно звенит у порога оцинкованное ведро с водой. Оцинкованное ведро с водой всегда в полночь или после полуночи само по себе начинает звенеть. Тоненько так и хрипло. То ли расходятся швы на нем, то ли горячечное дыхание спящих коснется железных его боков, но ведро неожиданно просыпается ночью. И долго-долго слышится из угла от дверей доверительное: тс-с-с-с. Убаюкивающее и ласковое.
Но сейчас ведро за дверями, за железными запорами. Никто не подпустит его к ведру. Может, оттого и звенит оно в зимнюю полночь, что кому-то из людей на улице холодно и беспризорно. Вещи в этом мире добрее своих хозяев. Вот и дом смотрится добродушно и по-стариковски приветливо. В голубое окрашены ошалеванные досками стены, по-вороньи черно-бело громоздится на крыше труба, и в красных ставенках любопытно рассматривает сверху пацана чердачное маленькое окошко.
И Андрей решает забраться на чердак. В домах на чердаках у печных дымоходов живут воробьи. Неплохо живут, потеснятся, дадут место и ему. А он им ничего плохого не сделает. На чердаках у теплых и дымных дымоходов обычно устраиваются и домовые. Несладкая жизнь у домовых, но и сами они — оторви да брось. Да ничего не попишешь, надо ладить и с домовыми.
Домовые, конечно, страшны, за рупь двадцать их не купишь. Но случается иногда, если им поглянется человек, лучшего друга и не сыщешь, голову за тебя положат. В теткином доме тоже жил домовой, ничего был малый, толковый и покладистый, самый лучший человек в теткином доме. Поначалу он душил Андрея во сне. Топ-топ-топ — пробирался от печки к нему на нары и наваливался на него овчинным тяжелым страхом, перехватывая дыхание. Но однажды Андрей его упредил. Притворился, будто спит. Домовой только топал по полу к его лежке, а он ему:
— Здравствуй, дядя домовой. Ложись рядом, я подвинусь. А под подушкой у меня для вас сухарь...
И домовой поласковел. Отошел. Доброе слово для него тоже ого-го что значит. И подружился Андрей с домовым. Сам уже почти домовым стал. Ночами летал вместе со своим товарищем далеко-далеко — на луну, и поближе, в деревню, к бабушке, в годы назад, когда Андрей только что родился и был счастливым, и в годы вперед, когда Андрей вырос и опять уже был счастливым. Воевал вместе с домовым с немцами. Домовой был, конечно, за партизан, за наших и неплохо стрелял из автомата. Вдвоем с ним Андрей такой шурум-бурум в немецких гарнизонах наводил, что будь здоров.
И вполне может оказаться, что домовой, который живет вот в этом доме, — друг-приятель того домового. Они прекрасно поладят.
На чердак вело вкопанное в землю бревно с прибитыми к нему поперечинами. По бревну-лестнице и подался наверх Андрей.
Черный провал чердака сразу же набросился на него, пытаясь проглотить. Но Андрей не дался. Минуту-другую он постоял у входа, вдыхая запах чужой, непонятной ему жизни, вернее, смерти, потому что вещи на чердаке не жили, а умирали. Их отправляли туда умирать во всех деревенских и городских домах весной и осенью: ненужную обувь, ненужную одежду — хламье. Хламья здесь хватало. Это Андрей почувствовал по запаху человеческого пота, застарелой резины и догнивающей свиной кожи — обуви.
Но во всем присутствовал еще один запах — живой, непонятный, неведомый ему. Он был, тут Андрей мог поклясться. Кто-то или что-то жило еще на чердаке и шибало в ноздри животной кислятиной. Шибало, и пугало, и манило к себе Андрея. Он нащупал в кармане спички, целый, непочатый коробок, но чиркнуть не решился.
— Кто тут? — приглушенно спросил Андрей.
— Ут-ут-ут, — так же приглушенно отозвался ему чердак.
Андрей упал на колени на чуть припорошенный у края тающим снегом песок и на коленях пополз в темное таинственное чрево чердака, и не к хламью, а к тому непонятному, живому, чтобы сразу и окончательно все выяснить.
Полз он на коленях не от страха, а чтобы не разбудить спящих под ним в избе хозяев. В таких маленьких, ошалеванных досками домиках очень чуткие и болтливые потолки. Могут выдать не только человека, но и курицу, если она вздумает туда залететь.
Но вот рука Андрея добралась до того непонятного, пугающе живого. Это живое было волосатое, пахло козлом и еще почему-то мазутом.
— Домовой, — простонал Андрей и отпрянул. Но домовой страшен, пока ты его не видишь, не чувствуешь, а как понял, что он рядом, тут уж нечего бояться. Это как в драке — страшно только до тех пор, пока ты не ударил или тебя не ударили.
— Здравствуй, дядя домовой, — сказал Андрей.
Домовой молчал. Андрей опять ухватился за его густую козлиную шерсть и приподнял. Легко приподнял, без натуги. Не было в этой шерсти домового. Исчез он, испарился, оставил только свою шкуру. Андрей зажег спичку и в мерцающем красном свете увидел перед собой огромный кондукторский тулуп.
Андрей загасил спичку, заплевал ее, воткнул в песок, влез в тулуп и пополз в нем к тянущему дымным теплом и сухой глиной дымоходу.
Когда Андрей открыл глаза, стоял день, тот же или следующий, он не знал и не хотел знать. Время для него ничего не значило. Главное — жив и свободен, волен. Тело ныло, и распирало его от тепла, как распирает в деже опару. И щекоталось, чесалось тело, как у поросенка, просилось, чтобы его почесали. Это было уже приятно, хотя двигаться не хотелось.
И Андрей первым делом прислушался, что происходит там, внизу, у хозяев его кондукторского теплого тулупа. У хозяев ничего не происходило, словно они вымерли и им тоже не хотелось шевелиться. Тогда он еще полежал с закрытыми глазами, потом еще раз огляделся, уже при полном свете дня. Света этого, правда, на чердак проникало немного, но ему хватило.
Так и есть: тихо пригорнутое к застрешью дотлевало всякое тряпье, на балках, развешанный неведомо когда, сох табак, а прямо перед носом притаилось целое богатство — две стопы истрепанных, со следами мазутных пальцев, старых книг и журналов и горка железнодорожных, с цепочками и без цепочек, кондукторских костяных свистков.
Андрей потянулся одновременно и к книгам и к свисткам. Но свистки пересилили. Он взял один из них и легонько дунул в него. Чердак щемяще и тоненько повторил его свист расщепленными, очерневшими на ветру и солнце драночками, вздохнул, скрипнул тихонько.
— Годится, — сказал Андрей и спрятал свисток за пазуху. — А ты, дурак, выбросил. — Это он уже адресовал хозяину дома.
Из общей кучи он отобрал еще четыре свистка: для Жукова, Лисицына, Тамары и Марии Петровны. На всякий случай прихватил еще горсть без предварительной проверки: Кастрюку там и другим и на случай мена в пути, когда жрать станет нечего. Свистки были из коровьего крепкого рога, с горошинами внутри. А которые и не свистели, так это только потому, что или повыпадали язычки, или повылетали горошины — от недосмотра, нехозяйского подхода.
И, занимаясь книгами, Андрей еще некоторое время сетовал на этот нехозяйский подход: это же сколько пацанов можно было осчастливить! Но вскоре он забыл о свистках. Книги тоже были что надо. «Чайку» Бирюкова он, правда, уже читал. А вот это что-то незнакомое ему. Без обложки, и по тому, как извазгали ее, истрепали, книга деловая. Тут у него глаз наметанный. Новенькую, с самыми распрекрасными рисунками, сияющую восторгом коленкорового переплета книгу ему и на дух не надо. Все хорошее — старое и древнее, разбухшее от прикосновения множества человеческих рук, потому что оно нужно этим человекам. А плохое — и сам не гам и людям не дам. Не все золото, что блестит. А может, это и есть та книга, которую он ищет? Вполне может быть. Где же ей быть сегодня, как не в таком вот укромном месте.
Андрей осторожно перевернул хрупкую, словно табачный пересохший лист, страницу и оторопел: «...Сашка оглянулся... нырнул под вагон... забрался в собачий ящик...» Лихорадочно побежал глазами по строкам. Вот она! Нашел наконец-таки. Отыскал ту самую-самую книгу. И подумать только, где?! На чердаке загнанного на эту глухую станцию хилого железнодорожного дома. Значит, уже жил до него такой парень, как он, и какой-то писатель уже написал о нем. Ну и гад этот писатель, не мог крикнуть на весь свет: где ты там, беспризорник Андрей? Я для тебя книгу написал!
И, спрятав книгу за пазухой, не боясь, что его засекут, Андрей кубарем скатился с чердака. Надо было бежать, бежать подальше, пока не хватились и не отняли. Бежать туда, где никогда и никто не стал бы его искать. Но, как назло, на станции не было ни одного поезда, пустынны были пути, с обеих сторон закрыты семафоры. Срочно требовалось укромное место. Андрей постоял в раздумье и двинулся вперед, куда ноги вынесут. Ноги сами несли Андрея к вокзалу.
Но вокзал ему не поглянулся. Халупа, а не вокзал.
Внутри таких вокзалов обычно бывает холодно и непривычно чисто, а людей там, каждого нового, незнакомого человека, рассматривают с раздевающим донага деревенским любопытством, потому что для каждой деревенской, коротающей там час до поезда бабки новый человек словно пришелец из другого мира. И лупится она на тебя, и лупится от скуки, любопытства и своей деревенской невоспитанности, пока ты не взопреешь под ее взглядом. Она словно примеряет тебя к своему селу, своей хате и, кажется, даже приговаривает: нет, мил человек, у нас таких, как ты, не водится. И сапожки-то у тебя худые, и пальтецо не лучше. Околел бы ты у нас. Ну, заговори со мной, заговори, вишь — не решаюсь. Спроси, откуда я да кто, я тебе все обскажу. Смотришь, и поездок подойдет. Дурак ты городской, неотесанный. Ишь ты, как рыло-то воротит. Да у нас в деревне почище тебя водятся.
Нет, не хотелось Андрею в вокзал, беспризорничья гордость не позволяла. И он только прочел название станции, косо повисшее на зеленовыкрашенной фанере над дверью. Нехорошо называлась станция: Злунька. Андрей огляделся. Но ничего злого, грозящего ему бедой не приметил. Все было мирно и чуть сонно на станции Злунька. На платформе под ногами нагло прыгали воробьи, склевывали подсолнечные семечки и шелуху, наводили порядок. Сам вокзальчик с трех сторон цепко опутали голыми ветвями, как цепями, простуженные, с пробивающимся на корне инеем деревья. Ветвями деревьев была опутана и башенка поодаль, мирная какая-то, церковная, не вокзальная. Сквозь жидкий штакетник было видно, как мочилась посреди мостовой каурая лохматая кобыла. И мужик-возчик терпеливо ждал, намотав вожжи на кулак.
Андрей принялся высматривать зеленый или желтый домик. Но там, куда он смотрел, такого домика не видно было. Тогда он зашел за вокзал и понял, что попал куда надо. Отыскал нетронутый кусочек снега и желто расписался на нем, хватило еще немного и на кирпичную серую стену. Полил и ее, чтобы не рассыхалась, потому что камень и бетон от воды только крепче, да если уж и отмечаться в Злуньке, так отмечаться надо по всем правилам. Пусть помнит его станция Злунька. Она его чуть не угробила, а он... на нее.
Осквернив вокзал, Андрей вроде как бы даже породнился с этой станцией. Почувствовал и уверовал: она добрая. Это только имя у нее такое... Так ведь бывает и с людьми: внутри человек — хоть к ране его прикладывай, а вот физия досталась ему злодейская. Увидишь в темном углу — понос прошибет. Тут понимать надо, а не караул вопить. Чаще надо караул вопить, когда улыбаются тебе. А здесь...
Вот взять, к примеру, его станцию, на которой родился и рос Андрей. И хмурая, и грязная, и дома все в землю, а не в небо растут. И народ чумазый, хмурый, торопливый. А вот живет среди этого народа Миша-дурачок. Бог его знает, сколько живет, жизней десять человеческих. И все время улыбается. По улице идет — улыбается, на народе улыбается, и в лесу улыбается, и на морозе и на солнце. Лапы у него такие, что не полезет никакая обувка, кажется, не ноги идут, а два кирпича пустились в путь. По всему, не жизнь человеку среди таких хмурых людей, а погибель, а он только год от году, от зимы к зиме добреет, все больше зубов кажет людям. А все почему? Дурак, дурак, но понимает: хороший город Клинск, хорошие тут люди живут. И пока они живут, будет жив и он. Пока они торгуют на базаре сметаной и молоком, до тех пор кое-что, пусть самая малость, будет перепадать и ему. Милосердный город Клинск, понимающий, что и дураки на этом свете есть хотят, и пока есть дураки, есть и все остальное.
Бабки и дедки угощают на базаре Мишку-дурачка сметанкой. Не всех, конечно, но прижимистых Мишка учит. Подойдет к скупердяю или скупердяйке и как увидит, что они нос воротят, так палец — в их сметану. И все. А попробуй тронь кто Мишку-дурачка, да весь город за него поднимется. Вот потому и прижился в нем и улыбается каждому, большому и малому, Мишка-дурачок.
И Злунька уже не казалась теперь Андрею злой. Недалеко ушла она от Клинска и по одежке и по людям. Так же как и в Клинске, врастали в землю дома. Вот только Мишки-дурачка нигде не было заметно.
Андрей обошел все прилегающие к вокзалу улицы и решил заглянуть в магазин. Надо было что-то перехватить на зуб, а в кармане у него похрустывала неразмененная зелененькая. Дверь в магазин открывалась по-деревенски — обвисшим книзу кованым железным язычком. Он привычно открыл ее, но не успел приладить клямку и полностью развернуться навстречу прилавку, толстой тетке-продавцу в сером халате поверх фуфайки, всяким там хомутам, сковородникам, лампам, развешанным по стене, как эта самая тетка-продавец легла на прилавок и закудахтала:
— А откуда ты такой? Не иначе тобой комины чистили!
— Мной комины не чистили, — обиделся Андрей.
— Ой, умру, ой, держите меня! — кудахтала продавщица. — Им комины не чистили, да вы поглядите на него!
Андрей уже думал повернуть назад, но краем глаза засек ноздреватые серые пряники в стакане. И голод оказался сильнее гордости. «Пусть ее кудахчет, глупая курица. Это хорошо, что глупая, глупые — они не злые». В Москве, на Белорусском вокзале, когда он, Андрей, только что вынырнул из собачьего ящика и рожа, видимо, у него была еще почище, чем сейчас, так тогда милиционер не хохотал, не кудахтал. Уцепился за рукав и сразу же: ты откуда такой, мальчик?
— Тутэйшы, — ответил тогда Андрей. Попался сразу со своим дурацким языком, не грязной мордой выдал себя, а языком, говором.
— А где ты живешь, мальчик, на какой улице? — помнится, еще ласково так спросил милиционер, будто и впрямь поверил ему.
— Да тут, недалечка, каля Крэмля... Там, ведаеце, ля самага Маузалея, у завулку. — Где он еще в Москве мог жить, как не возле Кремля? Там, где и тот человек жил, к которому он ехал. — Каля Крэмля.
Вот тогда милиционер захохотал, закорчился от хохота. И это был уже по-настоящему оскорбительный смех. А продавщица хохочет совсем по-другому. Он ее действительно уморил своим видом. Это их, клинская, продавщица, и ее нечего бояться.
— Подумаешь, — сказал Андрей, немного все же с опаской приближаясь к прилавку. — Ну, раз не помылся. Мог человек и забыть утром умыться.
— Ой, держите меня, не могу! Артист. — Тетка смеялась по-свойски, по-клинскому, и от души. Хлипкий магазинчик ходил ходуном от ее смеха, того и гляди развалится.
— Валится! — крикнул Андрей.
— Что валится? — перестала кудахтать продавщица и пошла юлой вокруг себя.
— Это я пошутил, — сказал Андрей.
Смех у продавщицы пропал, она погрозила Андрею пальцем.
— Ну-ну, ты, шутник, — не выдержала, раскатилась по новой. — Артист! На вот зеркало, поглядись.
Андрей взял у нее из рук круглое зеркальце и сам прыснул.
— Переборщили, гады, — сказал он, — перегримировали. Я тут в школе в драмкружке беспризорника Сашку играю. Слышали про беспризорника Сашку?
— Не-е, — протянула женщина.
— Так вот знайте.
— Ага. А как вашу учительницу зовут? — ласковым голосом московского милиционера, того самого, с Белорусского вокзала, пропела женщина и уставилась влажными, промороженно-белыми глазами в Андрея. «Вот стерва, — без ненависти, впрочем, подумал Андрей. — Все же купила». Но тут же без запинки выдал:
— Мария Петровна.
— Это какая же Мария Петровна? Низенькая такая и с кудряшками?
— Во-во, — подхватил Андрей, — с завитушками.
— И бородавка у нее еще прямо на переносице.
— Точно, когда я в магазин побежал, там она у нее и сидела.
— Ага. Так я и знала. Вот что, хлопец, ты наших учителок не хай, лицом они все чистые и без бородавок.
— Она новенькая, — сказал Андрей, — и перед учениками с бородавкой, а перед родителями — без.
При этом подумал: «Чтобы и у тебя там меж глаз, а лучше вместо глаз бородавка выросла».
— И-и, милый...
Андрей подался было к двери, от греха подальше.
— Куда же ты? — настигла его продавщица. — Что приходил-то?
Было в ее голосе все же что-то хорошее, дрожаще-смешливое и располагающее. Он вернулся.
— Сто грамм пряников. Вот этих, — показал на стакан.
Продавщица снова кудахтнула, но коротко, так, будто снеслась. Отвесила ему пряников. Андрей три из них опустил в карман пальто, а довесочек — в зубы и опять уже был возле двери.
— Стой! — снова настигла его продавщица. Он замер, положив руку на клямку.
— Да не бойся ты, не бойся, черт ты болотный! — Продавщица нырнула под прилавок и вынырнула оттуда с белой пузатой сайкой в руках. — Вот, возьми уж. Да помойся, снегом хоть морду пролысь, артист погорелого театра. Когда только вас накормят да отмоют.
— Спасибо, — сказал Андрей и пошел снова на выход.
— Не стоит, горе луковое...
Он оглянулся. Лицо у продавщицы было таким же серым, как и ее халат, и глаза круглились жалостью, такой же самой, как у базарных бабок Клинска, когда они совали Мишке-дурачку лазурные глечики с молоком и домашние серые крендельки. Потому, наверное, Андрей и решил податься на базар.
Базар гадал, надрывно и разгульно, с беспризорничьим лихим отчаяньем: эх, пропади, моя телега, все четыре колеса. Гадало село, гадал город, бабы и мужики, гадала Россия. Заросший щетиной дядька в красноармейской, без погон, прожженной шинели, обложенный толстенными желтыми книгами, незрячими глазами смотрел на молодую еще женщину перед ним и распевно наговаривал:
— Эх, молодайка, не зря ты ходишь, не зря ты ждешь. Жив он, жив. И рвется его сердце к тебе. Ждешь ты его? Скоро, скоро, как сойдет снег, встретиться вам суждено. Придет он, придет он к тебе... без руки и без ноги. Готова ты таким его принять?
— Готова, готова, — кивала молодайка и крутила в пальцах махры цветастого праздничного платка.
— А что, всю правду говорит, без утайки, — вертелся тут же перед собравшейся толпой сивый подпитый дедок. — Так оно у нас в деревне и было. И похоронка пришла, и мужики все возвернулись с фронту, сватали эту бабу не раз. А она ни в какую: картам верю, карты легли, что жив. И правда, жив, вернулся. Только ноги по самое это дело нет. Так это карты сказали, а тут ученая книга...
— Брешет он и по своей ученой книге.
— Кто брешет? — перестал напевать, вызверился слепой, вывернув навстречу толпе, ее верящим и неверящим глазам свои страшные, изъеденные красными горошинами веки.
— А вон милиционер идет...
— Пусть идет хоть сам начальник милиции. Милиция меня уже десять тысяч раз забирала. Но там тоже люди, я им гадал. Всю правду сказал. Против нее и милиция не устояла. Выпустили. А с тебя, женщина, десять рублей. Кто следующий? Эй, налетай! За десять рублей все скажу, что было, что будет, любую печаль-тоску развею...
И тут же появился следующий, и слепой привычно забегал обжелтенными махрой пальцами по своей ученой книге. Андрей еще немного постоял здесь, посмотрел на развешанные за спиной слепого на деревянном заплоте цветные яркие картинки: оленей, лебедей и влюбленных, плывущих на лодке по мертвому от ярких красок озеру, и пошел дальше, к цыганкам.
Цыганки гадали хотя более напористо, но неинтересно, однообразно как-то: казенный дом, червонный или крестовый король и дальняя дорога. Он прибился и надолго застрял возле старичка с попугаем в клетке. Сначала поразился, как старичок и попугай похожи друг на друга. Оба согнутые, потертые и унылые, только та и разница между ними, что птица разноцветная, пестрая, а старичок одноцветный, серый. Попугай сноровисто таскал задубелым крючкастым клювом грязненькие конвертики, в которых уже заранее была пронумерована человеческая судьба. Старику оставалось только отыскать ее уже в другом ящичке и прочитать, коли кто-то из гадающих попадался неграмотный.
Видать по всему, насобачилась заморская птица на человеческих судьбах ловко, потому что все отходили от старичка с попугаем довольные. И Андрею захотелось погадать, что там выпадет ему впереди. Но стоило это удовольствие недешево, а денежек у него уже, считай, не было. Пришлось отойти в сторонку и тешить себя, что враки все это гадание, хотя в глубине души думалось по-другому. Цыганки, те, конечно, врут, оно так уж издавна водится: цыган люльку курит, а цыганка людей дурит. А с заморской птицей — тут без обмана. И заморская она, не русская, врать ей, значит, ни к чему. Попугай-то ведь работает без подсказки. И слепой со своими книгами без обмана. Книга ведь у него; не что-нибудь, не хухры-мухры. Да и милиции он не боится.
Но все эти гадания, причитания, слезы, охи-ахи уже были знакомы Андрею до тошноты по Клинску. Ему и показалось, как только зашел он на базар, что снова попал в Клинск. Показалось, что никуда не уезжал он из него. А потом стало немного не по себе: свет велик, а от Клинска уйти некуда. Всюду клином свет на Клинске сходится.
Хотя были и отличия. Не было на этом базаре Мишки-дурачка. Не было, и все тут. Невероятно, но факт. Андрей обошел жидкие, на глазах редеющие торговые ряды, собрался уже уходить. И вдруг будто столбняк его хватил. Мерно покачиваясь, меж рядами навстречу ему шел Мишка-дурачок. Неизменный, неразменный, в неизменной, своей косоворотке без пуговиц, как водится, и с неизменной улыбкой на губах.
— Мишка! — позвал его Андрей. Но дурачок не отреагировал.
— Гришка, соколик, — остановила дурачка бабка, — выпей вот молочка. Все равно уж не продам, а везти далеконько. Выпей, пока не сквасилось, Гришка.
«Гришка, — подумал Андрей. — Тут ты Гришка, там ты Мишка...»
А Гришка пил молоко. Пил не жадно и не торопливо. Но оно все равно проливалось, текло из его рта по подбородку. Густое деревенское молоко копилось на подбородке и капало на босые красные ноги-кирпичи.
«Везет дуракам, хорошо живется на этом свете дуракам», — подумал Андрей. И тут же ему стало стыдно: пожалел дурачку молока. Он направился к выходу. Но пришлось немного задержаться, посмотреть еще одну картинку из жизни его родного Клинска. Бузотерил пьяный, по всему — бывший матрос. Сейчас от матроса осталась только половина — обрубок-колода с хмельной головой и тельняшка. Колода была встроена в деревянную тележку на роликах и размахивала кожаными подушечками-толкачиками.
— Я моряк! — кричало то, что осталось от моряка. — Вся ж... в ракушках! Я по всем морям плавал. В Америке был. Там все дома двухэтажные. Подайте бывшему матросу копеечку!..
Да, Андрей знал этого матроса и слова его пьяные слышал в своем городе Клинске. Только было это летом, ушедшим летом. И матрос там не просил копеечки. Андрей вытащил гривенник и, стараясь не смотреть матросу в глаза, опустил, звякнул монетой о медь и серебро, разбредшиеся по дну пропотелой солдатской шапки-ушанки.
— Благодарствую, благодарствую, — забилось, застучало в спину Андрею, и он побежал. Но ветер настиг его, ударил в лицо промороженными и жесткими: благодарствую, благодарствую, благодарствую... Свирепел, подбираясь к ночи, мороз.
9
В «ковровой» комнатушке с тех пор, как Андрей покинул ее, ничего не изменилось. Изменился лишь вид за окном. Исчезли вороны, лошадиные яблоки уже втоптали в дорогу, сровняли со снегом, и там, где они лежали, светилась на солнце огромная желтая заплата. И у окна стояла другая воспитательница, не Мария Петровна, а Вия Алексеевна. Значит, надо было снова менять линию.
Вия Алексеевна была не злой, но и доброй не была. Непонятная. То добрая-добрая — и посмеется, и пошутит, и побеседует с тобой, а то вдруг взбрыкнет ни с того, ни с сего и понесла, да так, что успевай поворачиваться. Одним словом, жена начальника милиции.
И ребята побаивались Вии, но и сочувствовали ей. Легко ли быть женой начальника милиции. От такого родства у кого хочешь шарики за ролики начнут заходить. Иной раз, глядя на Вию, Андрей по ней пытался представить ее мужа и не мог. Не получалось начальника милиции. Вия была тонкая и звонкая, к начальнику милиции это явно не подходило. Частенько мучили ее и ячмени (именно в пору высыпания ячменей и не стоило попадаться ей под руку), с красной же гулей на глазах начальника милиции тоже невозможно было себе представить. В общем, что это был за человек, что нашла в нем Вия, непонятно.
— Садись, — пригласила Вия Андрея к себе, поближе к столу. «Гундосит. Значит, простыла, — определил он. — Значит, ячмень зреет». И не знал, что же лучше — сесть или стоять и выбрал середину — присел на самый краешек стула, готовый в любую минуту вскочить.
— Рассказывай.
«Так и есть, — совсем уж уверился Андрей, — вот-вот ячмень выскочит. Ничего себе начало».
— Шнурки вот у меня стибрили, — сказал Андрей не без расчета: пусть она сначала выскажется, о чем ей рассказывать. Пусть взовьется, затопает ногами. Со злым человеком легче говорить. Когда злой, он дурноватый немного и не помнит себя, и обдурить его легче.
— Шнурки?
— Ага, почти новые, с железками еще... — И замолчал, не зная, о чем дальше говорить и о чем рассказывать. Воспитательница не взорвалась и навстречу идти не торопилась. Тонкая и звонкая, стояла и смотрела на него, только цвет глаз у нее беспрерывно менялся. «За глаза он ее и полюбил», — решил Андрей, имея в виду начальника милиции. И еще подумал со злостью: «Его-то залыгала, а меня дудки». И стал прикидывать, с какими глазами он возьмет себе жену, чуть попозже, когда вырастет. Гадание это было вялым — неуклюжая попытка уйти в себя, спрятаться от глаз воспитательницы. Придумать бы что-нибудь поинтереснее...
Интересного же ничего не выпадало. До женитьбы было еще далековато: тут бы сегодня уйти подобру-поздорову из этого кабинета. Тоскливо было, кисло. Ничего хорошего не светило впереди.
— Ты давно беспризорничаешь? — настигла его Вия.
— В смысле стажа?
— Да, в смысле.
— Главное не стаж, а опыт.
— Нет у тебя опыта.
«Раскусила, — подумал Андрей. — Ну и радуйся. Я от бабки ушел, я от дедки ушел, от дядьки с теткой ушел, а от жены начальника милиции и подавно уйду». И философски, будто приглашая к серьезному разговору, выдал:
— Опыт — дело наживное.
Выдал и почувствовал, что иссяк окончательно. Не о чем больше было говорить, и нечего больше придумывать. Не стоило больше тянуть кота за хвост. Он прямо и вылепил:
— Не хочу я, Вия Алексеевна, домой!
И удивился, услышав ее ответные слова:
— Я тоже не хочу домой, Андрей. Но что же нам делать?
Он посмотрел воспитательнице в глаза, сейчас они замерли на зеленом цвете. И Андрей поверил Вии. Когда кошка в тоске и растерянности, у нее тоже глава зеленые. У спокойной — серые, сытой — желтые, а когда беда — зеленые.
Ответ Вии Алексеевны уже вертелся на языке у Андрея. Но он удержал его, он хоть и верил ей, но еще не до конца. А было бы, наверное, здорово — убежать, уйти из этого мира вместе с воспитательницей, отыскать среди взрослых хотя бы одного по гроб верного друга. И это ничего, что у нее все время глаза разные. К этому можно притерпеться, привыкнуть. И ничего, может, даже к лучшему, что она жена начальника милиции.
— Что же нам делать с тобой, Андрей?
— Разойтись, — сказал Андрей, — как в море корабли.
Вия вздрогнула, и теперь уже она смотрела на него с удивлением.
— Шпаненок ты, — сказала она совсем без злости. — Если люди любят друг друга, зачем же им расходиться?
— Так то когда любят, а когда только хотят показать, что любят?
— Откуда ты можешь судить, как на самом деле?
— А у нас корова была, — сказал Андрей. — Я могу судить. Ей всякие слова хорошие говорили и меж рог ее гладили. И вкусное всякий раз что-то припасали.
— Хорошая была корова?
— Не-е, куды там. Такая шалавая, такая уж шалавая, что дальше и некуда. А вот... любили ее.
— Так уж ведется на этом свете, — сказала Вия Алексеевна.
И они надолго замолчали, думая каждый о своем. И свое это, его и воспитательницы, лежало в разных плоскостях, и нигде эти плоскости не сходились. Хотя... кто его знает.
Вия ушла сегодня на работу со слезами, перебила все тарелки, крикнула с порога:
— И ноги моей больше в этом доме не будет! — Хлопнула дверью и ушла. Нос распух от слез на морозе. Ужас просто — любой догадается: плакала. Плакала и будет плакать еще. Уж лучше бы он ее бил. Она бы все снесла, только бы он замечал ее. А так она для него вроде пустого места. На все слова — чмок в щечку и мимо, мимо. Чужой, недоступный, далекий. У него дела. А у нее?
А она ради него устроилась даже на работу. Нужна ей эта работа, как телеге пятое колесо. Денег хватает, всего хватает. Пошла воспитательницей в детприемник, чтобы хоть вечером, хоть в кровати можно было парой слов с ним переброситься. А он, а он...
— Я устал, я измотан, Виечка...
А она не устала, она не измотана. У нее есть даже силы перебить посуду... Смотри, смотри, может, ты хоть так меня заметишь: тр-рах — и нет тарелки, тр-рах — и нет второй.
— Ноги моей не будет в этом доме...
О господи, да куда же она пойдет? К нему, опять к нему. Хоть и есть, есть у него кто-то помимо нее. «Вымотался на работе»? Она тоже работает, но не выматывается. Город на нем? А на ней?..
Да пропади пропадом все эти беспризорники. Пусть Гмыря, пусть Мария с ними возятся. А у нее к ним даже любопытства нету. Что ей платят за это — гроши. И за гроши она добросовестно сторожит их. А что еще от нее надо? Чтобы за эти гроши ее еще и изнасиловали, как Марию, или прибили сына, как у Гмыри? Так она не дура. Нет, не дура. Хватит, она отдрожала свое в войну. Что делать с этими? Жалеть, перевоспитывать? Она их жалеет. Достаточно с вас? А перевоспитываться они сами не желают. А жалеет она их до слез, почти так же, как и себя. Но как, как их перевоспитывать? Сколько волка ни корми, он все равно в лес глядит. Облавы на них нужны, как на волков, и — за глухой забор, за проволоку, чтобы никому не мешали, не выматывали душу ей. У нее свое горе, свои заботы. Разваливается семья, разваливается на глазах. Она мужа удержать в доме не может, а где же ей удержать вот этого? Как привязать его к дому?
«И не привяжешь ты меня, — думал Андрей. — Не упечешь ты меня туда...» «Туда» — это где маланка и пес, где лежат отец и мать и растет крапива. Ему нельзя туда. Как этого не может понять милиция, которая так денно и нощно печется о нем, не спит ночей из-за него, ругается со своей женой, воспитательницей? Что им надо от него? Пристали, как репьи к собачьему хвосту. Огонь там для него, огонь на пустыре, в теткином и дядькином доме. Как они не могут понять этого? Да лучше... куда угодно лучше: в тюрьму, в колонию, в лагерь, чем туда...
— Я не хочу туда... — сказал Андрей.
— Куда туда? — встрепенулась воспитательница.
— Куда?.. А, дудки! Не скажу...
И они снова замолчали, до конца так и не поняв друг друга, ощутив только сердцем, что оба несчастны, по-разному, по-своему. А боль пекла их одинаково нестерпимая: и женская, взрослая, и мальчишечья, мужская. Но не было от одной боли к другой никакой кладочки. А может, и была?.. Нет, наверное, не было. Боль на боль — только сильнее боль. А потому Вия Алексеевна вскоре снова почувствовала себя воспитательницей, несчастной воспитательницей, а Андрей — беспризорником, несчастным беспризорником. Они были все же в неравном положении. Она все же являлась властью, могла распоряжаться Андреевой судьбой. А он — нет. Он был заперт в четырех стенах и скован ее властью, и ее несчастьем, и ее прихотями тоже.
И Вия Алексеевна, воспитательница, спросила у Андрея, как и Мария Петровна:
— Как же хоть твоя фамилия?
— А вот этого я вам и не скажу. — Это в Андрее уже говорил беспризорник.
— А куда ты денешься?
— Пойду подрастать, беспризорничать.
— Ты думаешь, это выход?
— Я не думаю. Пусть конь думает. У него голова большая. — И, чуть смягчившись: — За меня есть кому думать.
— Так мы с тобой ни о чем и не договоримся, Андрей?
— А что вы прикидываетесь добренькой, жалостливой? Вы корову и то не смогли бы пожалеть.
— Я? Прикидываюсь? Андрей...
— А то я-то? Коли вы добрые, откройте двери, и я пойду отсюда, пойду и пойду...
— И куда же ты пойдешь?
— А куда глаза глядят. Проживу и без вас, не волнуйтесь. Меня, если вы хотите знать, уже здесь усыновить хотели. Добрая одна такая тетя.
— Что ты говоришь, Андрей!
— А правду, правду я говорю...
Это была правда. Только случилось все не здесь, не в этом городе. Города он уже не помнил, не помнил уже и того, как оказался сиреневым вечером у двухэтажного белого здания. По запаху ли, по унылому, какому-то болезненному виду здания Андрей определил, что это больница. И не ошибся. Когда-то он уже был знаком с таким зданием. Познакомился с ним в Гомеле, когда дядька возил его с непонятной болезнью к областным врачам. Это была первая длинная дорога Андрея. Как он радовался ей, как радовался, что у него есть непостижимая для местных врачей болезнь. Болезнь так и осталась нераспознанной. Областные врачи тоже не могли сказать, почему это вдруг на землю среди лета выпадает холод и замораживает его, Андрея, синит и чернит его тело. И вот Андрей увидел копию той гомельской больницы.
Из любопытства и желания рассмотреть, как там, внутри, он припал к синим стеклам окон. И тут же с другой стороны в это больничное стекло уперлось женское лицо. Не будь между ними стекла, они здорово треснулись бы лбами. А так только испугались. Женщина засмеялась, как могут смеяться захваченные врасплох и только добрые люди. Хотя лицо женщины было страшненькое, синюшное, как и у Андрея, когда в него входил холод. Андрей понял, что они болеют одной болезнью, и обрадовался: они же почти родственники, а может, даже и больше чем родственники.
— Откуда ты? — спросила его через стекло женщина. Голос ее Андрей не слышал, но видел, как раскрываются губы, и понял вопрос. И тут уж неизвестно почему он решил открыться ей, рассказать этой женщине за стеклом все, хотя до этого не открывался никому из людей, сторонился их, не верил, боялся и врал напропалую.
— Издалеку, — сказал он, — беспризорник я...
Сказал, а может, и не сказал, подумал только сказать, прошептал про себя, потому что и собственного голоса он не услышал. И женщина поняла его, и не заохала, и не заахала, и не убралась на кровать. Наоборот, еще крепче прильнула к стеклу, пытаясь рассмотреть его всего разом. Но пожалела она его или рассердилась — вот этого не уследил.
— А мать, отец где у тебя?
— Нету, — сказал Андрей. — В земле.
— Как же так? Как же так?.. Я тоже одна. Все мои тоже в земле. Отец, мать, муж, сын...
Андрей молчал, боялся раскрыть рот, у него захолодел язык, сделался деревянным, раздирал ему рот. На какую-то долю секунды он поверил, что эта женщина и есть его мать.
— Я сейчас, сейчас... — заторопилась женщина. — Я быстренько, ты только не уходи. Я напишу тебе адрес, пойдешь ко мне. Понял, понял?
Он понял. Эта женщина не могла быть его матерью. И не думал он никуда идти, ни по какому адресу, но остался, хотя его так и подмывало убежать. Женщина выбросила ему в форточку линованный в клетку листок бумаги.
— Пойдешь ведь, пойдешь?
— Нет! — покрутил головой Андрей, но свернул листок с адресом и спрятал в карман.
— Куда же ты пойдешь, несчастная твоя голова? Давно по тебе ремень не гулял. Скитаться да шалаться по свету... Ты слышишь меня, слышишь?.. — Женщина перешла на шепот, может, таилась, чтобы не подслушали соседки по палате. — Ты пойдешь жить ко мне. Понравится у меня — будешь за сына.
Андрей зажмурился, хотя вернее было бы закрыть уши.
— Ты слышишь, слышишь? — продолжал биться в нем женский голос.
Между ними было только стекло, уже совсем, правда, слившееся с теменью, неразличимое в темени, и он хорошо ее слышал. Женщина бело расплывалась лицом по вечернему стеклу. И когда она прислонялась к нему, кровь и синюшность отливали от ее лица, оно оживало, хотя плющились губы и нос. И было чуть-чуть страшно, что они расплющатся совсем и не станут больше на место.
— Ты хочешь быть моим сыном?
— Нет! — сказал Андрей, хотя он с самого начала был не против стать ее сыном.
— Ну почему, почему ты такой упрямый?.. Иди! — оттолкнулась от рамных переплетов женщина и полурастворилась в синеве. — Иди же!
И он пошел, как поплыл. Оглянулся. Женское лицо бело таяло в вечернем окне, бело стыли на стекле поднятые руки. И чудилось ему, что это не женщина там, а крест выставлен в окне.
— Так не забудь, береги адрес, — еще прокричала ему вслед женщина. Андрей почувствовал: женщина знает, что он никогда не придет к ней.
Сейчас он вспомнил эту женщину и пожалел, что в милиции съел линованный в клеточку листок с полустертыми карандашными строками адреса.
— Это правда! — мстительно сказал Андрей Вии Алексеевне. И вот тут-то она и проявила свой характер, характер жены начальника милиции.
— Шантрапа несчастная, голова твоя дубовая. Ремня тебе надо, ремня. Видеть тебя не могу, не переношу. Уходи, уходи совсем, убирайся, чтобы ноги твоей в этом доме не было. И ничего между нами не было. Не подходи, не подходи ко мне... — И затопала ногами, хотя Андрей и не подумал даже подойти к ней. Попробуй тут подойти, когда так орут. Тут дай бог ноги в руки, голову бы унести... И в то же время было в крике и угрозах Вии Алексеевны что-то от угроз той женщины в больнице, за стеклом. Чем-то они были похожи в эту минуту друг на друга. Но чем, времени на выяснение у Андрея не было, да и обстановка не располагала к раздумьям и выяснению.
— Вы чего на меня орете? — наглея и распаляясь от робости и незаслуженной обиды, спросил он воспитательницу. — Да я же казенный человек! Орать на меня и топать ногами никому не позволено.
— Позволено, позволено. Сейчас мне все позволено. Я, к твоему сведению, тоже мать!
Но Вия Алексеевна уже вытаптывалась, выдыхалась. Было похоже, что она сама напугана своим же топотом к криком. Еще минута-другая — и она сорвется и протопочет мимо него, закрыв руками от стыда свои зеленые глаза. Андрей пожалел ее, хотя воспеток вообще-то жалеть не положено. Не по-мужски это — жалеть воспеток, пусть ее лучше начальник милиции жалеет, а ему гордиться надо, что он так допек эту... Так уж заведено в том мире, в какой он попал. Правильно заведено. И все же Андрей жалел Вию Алексеевну.
— Вы побейте, — сказал он, — начальника милиции побейте. По себе знаю: хорошо помогает, когда побьешь кого-нибудь, кто сильнее тебя.
— Как же я побью его, Андрей? Я и тебя побить не могу.
— А меня за что? — возмутился Андрей.
— Ах ты шантрапа несчастная, — снова взвилась Вия Алексеевна, — он еще спрашивает за что. Отец-мать с ума сходят. А он в сыновья всяким тут набивается.
— Не сходят... — начал было Андрей. Но Вия Алексеевна заставила его замолчать, почти заткнула рот.
— Выдрали тебя раз, так кого из нас не драли? А ты сразу на весь белый свет разобиделся. Сразу от отца с матерью отказываешься. Вот Кастрюк, у него жизнь хуже твоей, а к отцу с матерью стремится, не бросает их, не забывает. А ты? Хочешь ты или не хочешь, мы доставим тебя домой. Каков ни есть отцовский дом, но это отцовский дом, твой... Что ты там натворил?
— Ничего я не натворил, — ушел в глухую оборону Андрей.
— Своровал что-то, и теперь стыдно признаваться.
— Ничего я не воровал.
— Спалил что-нибудь нечаянно?
— Ничего я не палил.
— Били тебя дома?
— Меня некому бить, — сказал Андрей. — То есть есть кому бить, много, но на законных основаниях — некому. Нету у меня ни отца, ни матери.
— Почему же ты не в детдоме? Где и с кем жил до сих пор?
— С дядькой и теткой...
Вия Алексеевна не отрывала от него своих зеленых глаз. Но Андрей видел: она не верит ему. Черт те что, подумал он, та через стекло только глянула и поверила. Видно, очень долго обманывали тебя или никто никогда не обманывал. Так поверь, поверь мне, начал он мысленно заклинать ее.
Вия Алексеевна не отважилась поверить ему и перестала для него существовать.
— Почему же ты скрываешь свою фамилию? — завела она опять свое.
— А что вам до моей фамилии, когда вам наплевать на меня?
Вия Алексеевна смешалась. Может быть, сейчас она и сказала бы что-нибудь человеческое. Но Андрей не хотел уже щадить ее.
— Разорка моя фамилия! — выпалил он. — Записывайте: город Клинск, улица Деповская. Пишите, только знайте: домой вы меня живым не доставите. Не сбегу по дороге — брошусь в Клинске под поезд... Не хочу я со своей фамилией в Клинск.
— Разорка... Разор... Разорили...
Вии Алексеевне было стыдно. Она сама не знала отчего, но ей было нестерпимо стыдно. Она не хотела уже знать его фамилию, не захотела записывать и запоминать. Она хотела забыть ее и потому твердила: разорили, разорили, разорили. Привязалось словцо, и не отвязаться. Ну зачем, зачем ей нужна его фамилия? Мерзко все.
Как может доброе дело оборачиваться мерзостью? Как может доброта оборачиваться жестокостью? И правое становиться неправым? Ведь она права. Может радоваться: добилась, чего не могла добиться Мария, назвал он ей свою фамилию, она не сомневается — настоящую, и город назвал. Но нет радости, и нет покоя. Этот Разорка открылся, доверился ей. А чем она может ответить, помочь ему? Она сломала его. Все правильно: ради его же блага, ради его будущего. Она понимает это, но поймет ли он? Ту ли цену платит он за это будущее. Она выполнила свой долг и кончилась для него как человек, стала предательницей. Его ждет то, чего он больше всего боится на свете, его отправят «туда»... И нет тарелки, чтобы тр-рах и вдребезги...
— Андрей...
Но он уже уходил из кабинета, потому что делать ему там больше было нечего и нечего было слушать, что еще станет говорить эта жена начальника милиции. Он не заплакал и не хотел плакать. Плакать больше было не о чем. Не стоил его слез этот день, детприемник, город, Вия Алексеевна. День надо было гасить, детприемник взрывать. Начинать жизнь не с надежд на кого-то и на что-то, а... А черт его знает с чего.
И в зале ему не захотелось ни к кому подсаживаться, не хотелось ни с кем разговаривать. Подраться хотелось, пустить сразу всем добрую юшку и чтобы ему пустили тоже, потому что он чувствовал в себе лишнюю кровь. Он стоял на пороге и выбирал, с кого начать. Ближе других к нему, возле вытертой до кирпичей печки, сидела новенькая. С девчонкой заводиться было негоже. Но новенькая сама поднялась с теплого насиженного места и шагнула к нему. Он уже занес руку. Качнулась перед глазами рыжая печка. А новенькая спокойно перехватила эту его налитую лишней кровью руку и мягко потащила за собой. И он пошел за ней и сел рядом с ней за печкой, видимо, с таким же ощущением безысходности и тоски, с каким садятся на многие и многие лета...
10
Ночь упала на Злуньку. Холодная, с крупными, до синего сияния промытыми звездами по всему бескрайнему небу. В радужном венчике в редких белесых тучках плавал такой же сияющий месяц. Андрей шел под этими звездами и месяцем пустынными улицами и переулками, и никто не обгонял его, никто не попадался ему навстречу. Ночь выморозила, загнала под крыши все живое, людей и собак. Андрей запросто мог сейчас спалить дотла всю эту Злуньку, и спички у него были, шебуршали в кармане, напоминали о себе.
Но месяц и звезды все же, видимо, охраняли городок, стерегли Андрея, мешали ему чиркнуть спичкой. Уютно и радостно было месяцу и звездам высвечивать эти растущие в землю дома, одиноко бредущего пацана меж ними. Не поднималась рука порушить этот покой, казалось, что все здесь сотворено человеком и на радость человеку. И займись сейчас в ночи зарево, сгорит не только Злунька, запылают земля и небо, сгорит весь мир вместе со звездами и месяцем. И он, Андрей, будет вот так всю жизнь шагать по опустелой и обугленной земле и никогда не встретит живого человека.
А он любил этот мир людей. Любил, несмотря на свое одиночество, ненужность и потерянность в нем. Именно на беспризорничьих своих дорогах познал то, чего никогда не смог бы познать десятки раз выдранный в дядькином доме, не познал бы, тихо голодая на теплой печи родного дома.
Не выйди Андрей из своего родного Клинска, он, пожалуй, бы смог поджечь мир, испепелить в нем ненавистью и злобой, по крайней мере, хотя бы одного человека, одну душу — свою. А здесь этого нельзя было сделать, как нельзя плевать в колодец, нельзя обозляться на всех сразу. Если на всех сразу, это значит и на себя. А что или кто в таком случае сможет тебя обогреть? От кого самому ждать сочувствия и любви, к кому обращаться, на кого надеяться? Мир тогда и без пожара пустыня.
А так и на морозе тепло. Шебуршат в кармане спички, согревают. Тепло знать, что ты никогда не чиркнешь ими понапрасну. И пусть на небе сияют звезды и раскачивается в тучах сияющий месяц. Пусть греются под их светом бестолковые и глупые, красные и белые, и закопченные черные трубы на крышах. Вместе с ними греется и он. Ему много тепла не надо, вполне достаточно того, что дает месяц. Он в дороге, а в дороге, в движении тепло само идет к нему, потому что оно всегда есть в нем, скрыто в нем. Он греет книжку за пазухой, книжка — его, и все приятнее сознавать, что он не один в этой морозной ночи.
И ревут в ней гудки паровозов. Сердцу мил их настылый хриплый голос. Хорошо, что в мире, кроме зверей и людей, есть еще и паровозы. Они всегда чумазы, а это значит, к ним всегда можно подходить без опаски. А еще они похожи на своих мудрых машинистов, на деда Архипа. Это которые тяжелые, для дальних рейсов, а «овечки» и «кукушки» — маневровые, те больше напоминают детей. Не беспризорников, а настоящих, у которых и отец и мать. Вот они день-деньской для них и стараются, есть для кого стараться. Он, Андрей, на всю жизнь останется верен паровозам. Он клянется всегда помнить их голос, а когда станет взрослым, не сидеть на одном месте, а все время ездить, быть в дороге, по билету, конечно, ездить, не задаром.
И сейчас паровоз, подцепленный к длиннющему составу на запасном пути, уже ждал его. Резал прожектором темень и поревывал, просил зеленого. Андрей огляделся — никого поблизости не было. Ободряюще подмаргивал, давал ему добро на посадку добрый, смешанный с угольной пылью цветной снег под ногами. И Андрей не стал медлить. Вагон был точно таким же, как и тот, в котором он приехал в Злуньку. Только на этот раз он вез не ферму, а бетонные блоки.
— Прощай, Злунька, — тихо проговорил Андрей. — Я не злюсь на тебя.
Паровоз впереди уже и просил, и умолял, и поругивался, а ходу ему не давали. Андрей уже замерз, закоченели пальцы ног. Побегать, подвигаться было нельзя: а вдруг кто-нибудь проходит или стоит у вагона. И он шевелил, перебирал в воздухе ногами, шевелил пальцами. Но это помогало слабо, вскоре пальцы онемели и отказались шевелиться. Тогда Андрей решил выбраться, размяться и разведать обстановку.
Обстановка была беспросветно дымная, надымил, видимо, с досады паровоз. А впереди сквозь белое и черное сплетение дыма все так же предостерегающе багровел красным семафор.
— Не дают нам зеленого, — вслух пожаловался, посочувствовал себе и паровозу Андрей и бегом устремился к приютившему его вчера домику. По знакомой уже лесенке ожившими ногами взобрался на чердак, ухватил тулуп и поволок его вниз. Это было воровство, но стыда Андрей не чувствовал. Какой стыд, какое воровство, если лежит этот тулуп, преет на чердаке никому не нужный. А ему он пригодится. Да с таким тулупом он теперь хоть на Крайний Север, утеплен, как белый медведь.
Возле паровоза суетилась бригада, жгли факел, чертили им искристый морозный воздух. Андрей было остановился, но потом решил, что черта с два они там от паровоза увидят его. Бросил в вагон тулуп, оглянулся. Тройка все еще колдовала с факелом, высвечивала им громадный черный тендер, подставляла факел к самому его лоснящемуся боку, словно тендер так же, как и Андрей, мог замерзнуть и бригада сейчас отогревала его.
Этот факел и навел Андрея на мысль соорудить в вагоне и самому небольшой такой костерчик. Отменная была мысль. И в самом деле, что вагону сделается, он железный ведь, бетон тоже не горит. И из паровоза бригаде или из хвоста товарняка кондуктору абсолютно ничего не будет заметно. И он всю ночь будет мчаться вперед, кум королю, с собственным костром. Да никто в жизни еще так не ездил. И спички бьются в кармане, зря пропадают, ну, прямо-таки прожгли уже и карман и тело.
Андрей, пригнувшись по-заячьи, взметывая снег, помчался к примеченным еще днем дровам все у того же железнодорожного домика. Но у поленницы действовал осторожно, грузился без стука. Дрова — это было уже настоящее воровство. Если тулуп никому не нужен, то дрова всегда нужны.
А дрова были отменные, запашистые и смоляные, и сухо, каляно постукивали на морозе, когда Андрей шел с ними на рысях к вагону. Одно за другим он перекидал поленья в вагон и помчался опять к поленнице, но уже не за дровами, а за щепочками для растопки. И у поленницы его настиг радостный гудок паровоза. От неожиданности Андрей присел, закрыв голову руками, ожидая, что сейчас, за гудком, ему врежут меж ушей за воровство. А паровоз уже тронул вагоны.
Андрей успел бы, не так уж и далеко было от домика до товарняка, и тот еще не набрал скорости. Он уже прицелился к поручням проплывающей мимо тормозной площадки, как наперерез ему кинулось что-то черное, обезьяноподобное, обхватило как клещами.
— Пусти! — не соображая, где он и кто, заорал Андрей. Ведь это уходил от него не поезд — уплывала с деликатным и все более частым перестуком на стыках рельсов жизнь. Надежда на жизнь и тепло. Обволакивала вагонной тенью и обжигала, словно варом, мгновенными вспышками лунного света, ломящегося в промежутки между вагонами.
— Куда ты? — увещевало обезьяноподобное, вставшее у него на пути в облике смазчика вагонов, в промасленной до кожаной твердости робе, ласковое, с чумазыми и смеющимися и от этого еще более ненавистными ослепительно белыми зубами. Андрей хотел было укусить смазчика за руку, но глянул на его зубы и сник. Пропало желание кусаться. Смазчик разжал руки:
— Ну куда ты торопился? Вот попал бы под колесо, и все. В прошлом году как раз на этом месте и было...
— Что было? — спросил Андрей.
— С исходом было, смертельным. Иди, иди домой да не гуляй ночами по путям. — Смазчик подхватил свою лейку с утиным черным носиком и направился к дому, который в эту ночь дважды так неудачно обворовал Андрей. А товарняк мигнул на повороте красным глазом последнего вагона и скрылся от него вместе с шубой и дровами навсегда.
— Жадность фраера сгубила, — только и сказал Андрей.
Делать на путях больше было нечего, а на обворованный чердак лезть было страшновато. Он с тоской посмотрел на все такое же чистое и звездное, и месячное небо, погрозил домику, в котором скрылся смазчик, кулаком и отправился на вокзал ждать следующего товарняка.
В зале было полутемно и почти пусто. Но теплые вакантные места возле печки оказались занятыми. Андрей пристроился на грязно-желтом диване с резными буквами на боковой стенке: «МПС». Диван стоял у окна, и из щелей его поддувало, но Андрей был безразличен к холоду, словно окаменел. Грезил, дремал, был неподвижен, обманывал себя неподвижностью. И все в нем дрожало, преисполненное нетерпения. Здесь, на этой глухой станции, он поверил, что все у него будет хорошо, прекрасно будет. Не может же вечно продолжаться плохо, плохо, плохо.
И он встанет и пойдет, только чуть-чуть, самую малость полежит на этом жестком диване. Полежит, потому что у него длинная дорога, не на один день и даже не на один год — на всю жизнь, светлую и радостную. А сейчас, на этих глухих станциях и полустанках, он не только мерзнет и голодает, он набирается сил. Сил прибывает в нем с каждым ударом промороженной вокзальной двери. И эти удары двери — как удары кузнечного молота по разогретой до красного каления заготовке. И с каждым ударом молота судьбы все яснее проступает форма. И, быть может, следующий удар уже прозвучит как гонг. Тогда он встанет и пойдет.
11
Так и сидели Андрей с Тамарой за печкой, пока у печки не выросла тень и не перекрыла весь закуток до стены. Тамара читала. Читала себе и читала, будто и не было рядом с ней живого человека. Андрей же сначала думал обо всем на свете разом: о дорогах, паровозах, детприемниках, хлебе, о дядьке с теткой. И о Тамаре немного. Потом прискучило. Начал думать о себе. Тоже не то. Когда думаешь о себе, очень близко слезы.
Надо было встать и уйти, но он не знал, как по-хорошему уйти от Тамары. А уйти надо было по-хорошему. Андрей разозлился на Тамару. Сказала бы хоть что-нибудь, не видит разве, человек страдает, уткнулась носом в свою книгу и ни бум-бум, губами только шевелит, будто молится.
И тут Тамара спросила его:
— Ты петь любишь?
— Чего? — У Андрея глаза на лоб полезли.
— Петь!
— Хором?
— Зачем же хором. Сам по себе.
— А-а-а, — протянул Андрей. Петь он не любил ни сам по себе, ни хором. Иногда, правда, сам по себе пел, но пел так, чтобы никто не слышал, в особые такие минуты. А сейчас ему только песен и не хватало. И Андрей гадал: чего это она о песнях заговорила, дура, что ли? Вроде бы непохоже, книжки читает.
— А ты «Гоп со смыком» знаешь? — с подковыркой обратился он к Тамаре.
— Знаю, — вроде бы не заметила подковырки Тамара.
— И «Семеновну»?
— И «Семеновну».
— И «Письмо внуку»?
— И «Письмо» знаю.
— А не брешешь? — отказался ей верить Андрей.
— А зачем мне тебе брехать? — Тамара засмеялась, грустно так засмеялась. И Андрей поверил ей: знает, все она знает.
— Слушай, — сказал он, — ты перепиши мне их.
— Еще чего, — наконец-то возмутилась Тамара. — И не подумаю.
Тамара снова заперебирала губами, уткнулась в книгу. Ну вот... Сам виноват. Чего доброго, еще подумает, что ему действительно нужны эти блатные песни... Оно, конечно, и нелишне было бы, но чтобы очень уж нужны, этого нельзя сказать. Дурь на него накатила с тоски. С тоски дурь всегда накатывает, хочется, чтобы не тебе одному плохо было. До фонаря ему эти блатные песни. Что человеку надо, когда у него ничего нет, когда у него последнее отняли? Да ничего ему и не надо. Вот когда все есть, тогда другое дело, просто жуть, сколько тогда человеку надо. А так... Влюбиться вот, что ли, с тоски?
Мысль была стоящая. Влюбиться и в самом деле не мешало. И не так, как это бывает у взрослых, с поцелуями и всякими другими фиглями-миглями. А по-деловому влюбиться, как это называлось у них в школе: подружиться с девчонкой. В общем, то же самое, видно, что и у взрослых, но только чтобы девчонка была как парень, чтобы обо всем с ней можно было поговорить, рассказать все, в случае чего и оттаскать за волосы. И чтобы она тут же не побежала кому-то фискалить-доносить. Жить с ней душа в душу, заступаться за нее, и она чтобы за тебя заступалась, знать, что есть у тебя человек, ну, совсем, как другой ты. Где только найти такого человека, где сыскать такую девчонку?
Кастрюк, Жуков, Ванька Лисицын — ничего. Но они и без этого его друзья. А надо, чтобы и сердце еще билось. Ко всему Кастрюк, Жуков, Лисицын хороши, пока он к ним хорош. А вот с девчонкой все будет по-другому, потому что они устроены как-то по-другому, немножко не так, как ребята. И вовсе не потому, что в юбках. Не в юбках дело. В голове у них немножко по-другому и в глазах, что ли. Посмотрит она на тебя — и ты уже другой.
Нужна, нужна девчонка, чтобы она посмотрела на него и увидела, какой он есть настоящий. Поверила бы ему, потому что дальше так жить нельзя. У него же у самого шарики за ролики начинают заходить. Нет, кажется ему, вокруг людей, которым можно было бы довериться, открыться. А девчонок — тем более.
Андрей оглядел все, что можно было оглядеть из его закутка. Увидел, что Робя Жуков с Лисицыным наблюдают за ним. Вроде бы играют в шашки, а на самом деле... Пусть их наблюдают. Третий раз с атласом железных дорог под мышкой проходит мимо печки Кастрюк. Пусть походит, жила, все равно не отдаст атласа. У окна пристыли Симочка с Марусей Кастрючихой. Ну, на Симочку он ни за что не клюнет, хотя и ничего она. Хорошего ничего. Заливает, как сивый мерин, на каждом шагу. То она из «Черной ленты», то еще из какой-нибудь банды. А сама мокруха. По утрам волокет матрац в прожарку на сушку. Но это еще полбеды. Врет. А когда человек врет, то друга из него не получится. Только и забот будет, как бы переврать ее. А кто Симочку переврет, тот и трех дней не проживет.
Маруська Кастрючиха. Эта посерьезнее. Только не была бы она такая рябая. Вот уж удовольствие видеть все время эту конопатую рожу. Да перед ней молоко через два часа сквасится. И знает он ее как облупленную. Вот стоит она у окна, прижав руки к груди, как бабка. За окном мельтешит снег. Она и думает о снеге: хорошо, что снег. Не промерзнет картошка в буртах, под снегом хорошо перезимуют озимые. А придет весна, опять же земле будет вода. Идет снег — не надо лишний раз протапливать хату: тепло на улице. В снегопад можно съездить и за дровами в лес, свалить сосенку, а то и дуб. И никаких следов. Можно подобраться к колхозному стогу и надергать вязаночку сена корове — опять же следы заметет к утру. Младших можно вытурить на улицу, чтобы не докучали, не лезли под руки, не просили есть. А ударит мороз, Кастрючиха будет думать о морозе, радоваться: Васька и другие кастрючата не полезут на улицу, целее будет одежка и обувка, и хату не выстудят, шастая взад-вперед... Все он знает об этой Кастрючихе. Своя она в доску. А разве можно своих любить, тех, кого знаешь вот так, как облупленных? Нет, не было тут никого стоящего, кого можно было бы полюбить, с кем можно было бы подружиться.
...Какая тут дружба и любовь? Вот, через десять — двадцать дней соберут его и повезут к дядьке с теткой, домой. Бросится он в родном Клинске под колеса поезда. Поезд перережет его надвое. А он еще никого не любил... Нет, он любил уже, его никто не любил. В школе, в Андреевом классе, было немало хороших девчонок. Но все они были очень уж хорошие, очень примерные. Одна такая хорошая таскала домой его дядьке записки от учительницы. Зойка Абибокова.
Андрей со своим другом Витькой Гаращуком подстерег ее как-то в переулке. Она еще не успела и дойти до них, но сразу смикитила, чем тут пахнет. Отличница, понятливая. Только увидела — и драла. Андрею даже стало жалко ее, так старательно она бежала переулком и размахивала красным портфелем. Бить бы он ее не стал, факт, и гнаться бы за нею не стал. Но рядом был Гаращук. И Гаращук защищал друга. А Андрею было стыдно, что Зойка, отличница, от них убегает. Он гонится за ней, как за собакой.
Зойка убежала. Хорошо получилось. И записку не передала, и учительнице на следующий день ничего не сказала. И то ли из-за этого, то ли потому, что Андрей чувствовал вину перед нею, Зойка стала ему казаться почти красивой. Хотя красивой Зойка никогда не была.
Он бы, может, и полюбил ее. Но тут нагрянула уже настоящая любовь, как снег на голову свалилась. Приехала из какой-то другой школы, из другого города Вера Орлина. Вот это была девчонка. С такой можно было все по-мужски. О том, что она красивая, пожалуй, и говорить не стоит. По-настоящему красивая.
Тоненькая, голосок что колокольчик — дилинь-дилинь-дилинь. Но глупостей не говорила. А смелая, с ножиком ходила. И ножик такой красивый, ловкий. Все в нем светилось и играло. И острый. Андрей видел, держал его в руках. Неожиданно все получилось.
Шла весна, и на дворе уже стаял снег и лед. Только в копанке неподалеку от школы плавали синие ноздреватые льдины-крыги. И Андрей на переменке плавал на этих крыгах. И шухнул в воду по пояс. Прибежал мокрый в класс, а надо было идти на физкультуру. На физкультуру он не пошел, и Орлина не пошла. Они остались вдвоем. Но чтобы заговорить с Орлиной — об этом Андрей, конечно, не помышлял. Куда там. Она такая вся из себя. А он в бахилах из красной резины — бурки сушились в печке. И самокрашеные штаны плакали на крашеный школьный пол фиолетовыми чернильными слезами. Андрей стыдился и одежды, и лица, и рук, сидел за своей партой, как примерный ученик, и прикидывал уже: а не пойти ли лучше на физкультуру? Но тут Орлина сама подошла к нему, подошла с булкой в руках, намазанной маслом и посыпанной сахаром. Протянула половину ему и вытащила из кармашка ножик.
— Острый, посмотри.
Как он был благодарен ей! О ножике можно было говорить, можно было молчать и не выглядеть идиотом.
— Я его все время ношу при себе, — сказала Орлина. — А то знаешь, тут много по улицам всяких ходит. Если что...
— Неужели ударишь? — даже отодвинулся от нее Андрей.
— Запросто.
— А вдруг убьешь?
— А пусть не лезет.
«Вот это девчонка, — подумал Андрей, — такую не погоняешь». Орлина села рядом с ним за его парту. И он почувствовал, что и запах от нее исходит совсем не такой, как от всех других девчонок в классе. Те пахли луком, землей, коровой и карболовым мылом, а Орлина — даже чуть-чуть духами. И волосы у нее не были заплетены в косу, а все время свободно волновались на плечах, и струилось от них все время тепло, и возникало желание погладить их.
Но он не решился. Куда там дотронуться до такой девчонки. Неровня она ему была. Совсем неровня. Из школы она, конечно же, бежала к таким же чистым и пахнущим духами родителям. И дилинь-дилинь-дилинь — звенела им обо всем как равная. А у него были другие заботы, от которых тело навсегда пропахло луком, мазутом и коровьим навозом. Нет, до Орлиной ему было как до луны. Но эта-то как раз недосягаемость и притягивала его.
— У меня «Всадник без головы» есть, — сказала Орлина.
— А почему он без головы? — не понял Андрей.
— Не знаешь? А мне говорили, что ты много читаешь. Книга такая.
Такой книги Андрей еще не читал, и ему стало неловко перед Орлиной.
— А до этого я училась в другой школе, -— снова начала Орлина. — И у нас в классе были только девочки.
— Как это только девочки? — опять стал в тупик Андрей.
— Ну так, одни только девочки, во всей школе ни одного мальчика.
— Кто же вас бил?
— Никто. Друг дружку...
— Скучно, — сказал Андрей.
— Конечно, скучно. Но на праздники мы ходили в школу к мальчикам. И я с одним мальчиком танцевала уже вальс.
Андрей надулся. Не потому, что она танцевала уже с одним мальчиком вальс. Он не мог танцевать. И во всей школе, видимо, никто не мог танцевать. Тут ударил звонок, и разговор их кончился и больше никогда не продолжался, хотя Орлина все-таки принесла ему «Всадника без головы».
Где ты сейчас, дилинь-дилинь-дилинь Орлина? Чистенькая, у чистых родителей. Из тебя, наверное, со временем получится настоящая дама. А вот из Симочки уже ничего не получится, и из Кастрючихи не получится, и из него, Андрея, ничего не получится. Зря ты приносила ему Майн Рида, зря хвасталась ножиком. Он никогда не станцует с тобой вальс. А хотелось бы, хотелось.
Но не с кем не то что вальс танцевать, а даже перекинуться словом. «Ты петь любишь?» Какие к черту песни? Тут волком выть надо. А эта новенькая ничего. Нерусская, черная как ворона, но понимающая: «Ты песни петь любишь?» Любит он петь песни. «Гоп со смыком» в пастухах еще освоил. Только не спеться тебе с ним.
А вообще хорошо родиться девочкой. Им проще ездить, беспризорничать. Ну вот на нее кто подумает, что она бездомная? А он не успеет людям на глаза показаться, как уже все шарахаются от него или волокут за руку в милицию. А там не церемонятся. А девочку если уж и поймают, то сочувствуют, жалеют: ах, несчастная, ах, бедная, ах, горемычная.
Андрей осторожно принялся рассматривать Тамару. Нет, совсем не нравилась она ему, ничего схожего с Орлиной в ней не было. Если та дилинь-дилинь-дилинь, то эта бум-бум-бум, хотя, может быть, и добрее. Отвела от него беду. Затеял бы он драку, в конечном счете досталось бы ему. А она как чувствовала, вмешалась. Спасибо... Но сердцу не прикажешь.
Некого любить в этом мире. Кому хорош ты — те тебе нехороши, а кто хорош тебе — те далеко, нет их. Вот и попробуй разберись. Но Тамара ему не нравится определенно, пугает и взрослостью и нерусскостью. И не быть им друзьями, никогда так не дружить, как дружат мальчик с девочкой.
— Ты в какой колонии была?
— Что-то много говоришь о колонии.
— Да так, интересно.
— Неинтересно.
— Это тебе неинтересно. Потому что ты... Ну, сама понимаешь...
— Девочка?
— Ага.
— А здесь тебе нравится?
— Нравится.
— А что нравится?
— Все нравится. Ребята, еда и воспитатели даже, когда молчат.
— Мне тоже нравится все, — вздохнула Тамара. — Но лучше бы этого никогда не было. Ни детприемников, ни колоний, ни детдомов.
— Даешь! — присвистнул Андрей. — А куда тогда таким, как я? Таким, как ты, куда?
— К отцу, к матери.
— Хорошо. А если их нет, отца с матерью?
— Куда же они девались?
— Ну, мало ли...
— С кем же ты живешь?
— С дядькой и теткой.
Тут уже присвистнула Тамара. И он почувствовал, что она верит ему, не сомневается в его словах. И на душе стало легко. Хотя Тамара не нравилась ему, совсем не нравилась, но было радостно сознавать, что вот нашелся человек, нерусский, сам прошел огни и воды, Крым и Рим, чертовы зубы и медные трубы, а верит ему, может, и понимает. И тут же стало грустно, что скоро-скоро и с этим человеком придется расстаться. Все, все отнимут у него. И расхотелось в кого бы то ни было влюбляться, и лишняя кровь опять забродила в нем, прилила к голове. Стало трудно дышать и думать. Жарко, душно стало в давно не проветриваемом зале, захотелось на воздух, на улицу, где ты волен, как птица.
Но он не стронулся с места. Остался сидеть рядом с Тамарой, хотя уже можно было и уйти от нее по-хорошему. Обо всем поговорили, даже о песнях. Все обсудили. Надо было уходить. Но возле Тамары было покойно, она уже прошла через все то, через что ему только предстояло пройти.
А Тамара сидела и недоумевала: ну зачем она позвала этого пацана? Зачем ей эти разговоры и вроде бы даже какие-то обязательства перед ним, когда своих хлопот полон рот? Того и гляди свистнут и ее туда, откуда он только что вышел.
Но ему-то что, он парень... Как хочется стать парнем! Парням плевать на все. И, самое главное, они не знают девчоночьего стыда, им никто не бросит: «А еще девочка», что бы они ни сделали, какую бы пакость ни сотворили. А на нее только посмотрят и сразу: а еще девочка.
Плохо родиться в этом мире девочкой. Сразу несчастная, сразу на нее вешают всех собак. А она, Тамара, больше других, благополучных, ухоженных, хочет быть хорошей и чтобы все вокруг были хорошие. Потому и бросилась навстречу этому Деду Архипу, который сейчас сидит с нею за печкой, что он напоминал ей о хорошем, о малыше из ее детдома, Карле-ключнике. Потому и спросила, любит ли он петь.
Карло-ключник любил петь и еще ключи всякие любил, потому и получил свое прозвище. А Карло — это его настоящее имя. Немчик был Карло, полунемчик. Мать русская, а отец — немец. Вот потому и имя у него такое было, потому и не стало у него ни отца, ни матери. Отца скорей всего убили наши, а мать отказалась от сына: выметнулась война из ее деревни, начали в деревню возвращаться фронтовики, мать сына за руку — и в детдом.
В детдоме его никто не любил. Да и как любить сына немца, когда из-за этих немцев все детдомовцы и стали детдомовцами. Но Карло-ключник не унывал. Голопузый, бодро шлепал по детдомовской, обсаженной русскими, дворянскими еще вековечными липами аллее и распевал русские, детдомовские песни:
Как родная меня мать рожала, Вся милиция дрожала...И живот его лоснился от счастья и довольства жизнью.
— Карло, — просили его, — давай «Катюшу».
И Карло пел «Катюшу».
— Карло, давай «Ты меня ждешь».
И Карло давал:
Ты меня ждешь, а сама с лейтенантом живешь...Тамара попыталась вмешаться и изменить его репертуар. Кто его знает, может быть, действительно в этом Карле-ключнике таился великий певец. Пел он хорошо и все одинаково задушевно, с недетской отрешенностью и упоением. Но воспитательницы из Тамары не получилось. Про милицию Карло-ключник перестал петь, но запел «Гоп со смыком». Тамара не отступилась. Полурусский, полунемец Карло-ключник был невероятно, по-деревенски соплив. И она ходила за ним, подтирала ему нос. А Карло-ключник пел ей и прятался по вечерам в ее кровати от воспитателей и нелюбви своей мальчишеской комнаты.
И Тамаре было приятно прятать его, отогревать от всеобщей непонятной ему ненависти ребят. А следом за Карлом потянулись к ней и другие полузаброшенные дошколята.
Карло привел к ней Степку-Степаниду — глазастого мальчишечку родом из глухого лесного русского села, в котором поубивали всех мужиков и мальцов, остались только бабы, да Степка каким-то чудом возле них уцелел. Жил Степка-Степанида среди баб, до детдома и не знал, что есть на свете мужики, что он сам мужик. Считал себя тоже бабой и говорил о себе, как они же: «я пошла», «я поела», «я уморилась»...
И в детдоме никак не мог прибиться к мужикам. А Карло подружился с ним. И ходили они в обнимку — голопузый веселый немчик, не подозревавший о своем несчастье уродиться от немца, и тихий глазастый русачок, недоумевающий, как и откуда взялись на свете мужики, не понимающий, что он тоже мужик.
Тамара жалела их обоих. Потому же пошла она навстречу этому страдающему Деду Архипу. Потому и завела с ним разговор.
Судьба? Она, наверное, уже состоялась. И у нее, и у этого Деда Архипа. Она уже была в колонии. Быть там и Деду Архипу. Быть, потому что другого выхода в этот мир, приобретения прав гражданства у беспризорника нет. В колонию она попала, считай, по собственному желанию. Из детдома ее, как маломощную, определили в вязальщицы в художественную мастерскую райпромкомбината. Купилась на названии: художественная мастерская. А работали в той мастерской все кривенькие, слепенькие и слегка чокнутые. Это была не художественная мастерская, а целая выставка людского, девичьего уродства и убогости. И она ушла из этой мастерской, испугалась: если сама не окривеет, то чокнется.
Подалась на родину, в Грузию. Хотя с этой Грузией связывали ее только грузинская фамилия Никошвили, да какие-то цветные пятна солнца, виноградников, людского смеха и лошадиного ржания роились в голове. Она не ждала ничего от родины и не потребовала бы от нее ничего. Хотелось только на каменистый берег горного ручья. Сесть на берегу и омыть в ручье ноги. И тогда, казалось, она сразу станет счастливой. Все время в ней жила вера в чудо, в животворящую силу воды. Видимо, там, в далеком детстве, в Грузии, было что-то связано с этой водой. Но она не помнила что, надеялась вспомнить у ручья.
Взяли Тамару на полдороге к Грузии. Над ручьем посмеялись. Предложили серьезно задуматься о жизни: выбирать, то ли снова в художественную мастерскую, то ли в колонию. Тамара выбрала колонию. Потом уже были кобыла по имени Минджа и киномеханик Стругайло. Вот и вся ее жизнь — очень короткая и до невозможности длинная. Раз десять она уже рождалась в этой жизни и столько же умирала. А теперь предстояло новое рождение, но в качестве кого?
Кем бы она хотела появиться на свет? Этого она не знала. Но не девочкой, не грузинкой, не маломощной, не вязальщицей и не помощником киномеханика. Жеребенком! И на всю жизнь остаться жеребенком, потому что он может войти в любой ручей, убежать в поле.
И жеребенка она полюбила, увидев его в поле. Огненный, в белых яблоках, рожденный от цыганской мышиного цвета детдомовской кобылы, он несся по синецветущему бескрайнему люпину. Люпин голубился, и дрожал полуденный воздух над ним. И жеребенок, казалось, плыл в лето, так плавно выносил он нескладные длинные ноги, так самозабвенно отдал он свое, не знающее еще кнута тело движению, так стелилось под ним поле и покачивалось над ним удивленное небо.
— Ты не хотел бы стать жеребенком? — спросила Тамара Андрея.
— Нет. Уж лучше песни петь.
— А все же подумай, — настаивала Тамара.
— Это когда уже выхода нет, — подумав, сказал Андрей. — Когда тебе или свиньей стать, или жеребенком. Тогда лучше жеребенком. Свинья всякую гадость жрет. А конь не, и конское мясо самое чистое, недаром его татары едят.
— Так хотел бы ты все же стать жеребенком?
Андрей отодвинулся подальше от Тамары, будто она могла превратить его в жеребенка — а кто его знает, может, и могла, и доказывай потом, что ты не лошадь.
— Не хочу жеребенком, — сказал Андрей. — Он, когда маленький, еще ничего, а когда большой, ты знаешь, что с ним делают... Лучше уж беспризорником. Как они потом плачут, что родились жеребенками, когда их конями делают. Слезы как яблоки. И вот что, ты мне не задавай глупых таких вопросов больше, давай по-хорошему.
— Давай.
— Ага, — сказал Андрей. — И если тоже станет туго, ты не стесняйся, зови меня. Я буду рад.
— Чему же ты будешь рад, если мне станет туго? — Андрей заметил, что у Тамары смеются глаза и губы. Губы смеялись меньше, губы были умнее, серьезнее глаз.
— Ты эти коники свои брось, — сказал Андрей.
— Все же ты жеребенок. Хороший жеребенок.
— Один конец. Сначала под нож, а потом на салотопку.
— Куда-куда?
— Туда-туда. На мыло. Салотопка у нас в Клинске стоит рядом со смолокуркой. На смолокурку везут пни. Из них делают деготь и скипидар. А на салотопку везут лошадей и всякую там дохлятину, бывших жеребят. Из бывших топят сало и делают мыло, гуталин, потому и салотопка называется. И ты меня сватаешь на салотопку. Да если хочешь знать, я был знаком с одним жеребцом. Его звали, как и меня, Андреем. И была у него такая же собачья жизнь, как у меня, а может, еще хуже...
Андрей замолчал, потому что действительно знал жеребца по имени Андрей. Это была выбракованная лошадь, оставленная колхозу проходящей воинской частью, горячая и, наверное, породистая. Но жеребца мучили припадки. Вдруг ни с того ни с сего падал он среди дороги, шея его заваливалась набок, как мокрый мешок, глаза закатывались, и желтая пена изо рта. Свою лошадиную припадочную болезнь он подхватил еще, видимо, на фронте и сейчас не годился ни на что — ни для работы, ни для выезда. Мука была сплошная с этим жеребцом, нельзя было без слез смотреть, как он, такой большой, резвый и сильный, бьется в припадке. Но пристрелить его ни у кого не поднималась рука.
Однажды деревенские мальчишки, наверное, решили подшутить над Андреем: прокатись, говорят, на своем тезке. Жеребец, распластываясь, легко оторвался от табуна, вылетел за околицу и, не слушаясь уздечки, понес его через поле, по полевой дороге. Андрей дал ему поводья, пусть несет куда знает. А в это время наехавшие в село солдаты-минеры готовились взорвать собранные по полям снаряды и мины. Андрей не знал об этом, а жеребец... Кто его знает, может, он и чуял запах тола и горящего бикфордова шнура. Когда запели над головой осколки, Андрей окаменел и прильнул к гриве, а жеребец словно услышал родные звуки военной трубы. Что-то произошло у него там, в теле, он напрягся, вытянулся стрелой, теперь уже в самом деле полетел туда, где рвались не понадобившиеся на войне снаряды и мины. И грохнулся, не долетев десяток шагов, упал посреди поля, не в силах поднять отяжелевшую голову. А копыта двигались, двигались, гребли песок, будто жеребец пытался ползти туда, в бой. Но над деревней стояла уже тишина, по полю к всаднику и лошади спешили с красными флажками солдаты. Лошади они ничем уже не могли помочь, Жеребец в последний раз встрепенулся, завидев людей в военной форме, и затих. Возле него Андрей и подхватил свою болезнь, которую не могли распознать никакие врачи. С тех пор Андрей боится и не любит лошадей, не понимает их. Ну зачем было Тамаре заводить этот разговор? Он поднялся и побежал к Робе Жукову и Ваньке Лисицыну, все еще играющим в шашки.
А Тамара осталась за печкой. И было ей там одиноко и тоскливо. Она тоже ждала вызова на ковер. Ждала и боялась, потому что сколько же раз можно человеку рождаться в этой жизни, и все время не по своей воле. А жеребенком родиться никто не сможет, и к ручью ее никто никогда не пустит. И где тот ручей, в каком краю, и не пересох ли он давно? И был ли он, был ли?..
12
Робя Жуков с Ванькой Лисицыным не хотят замечать Андрея. Он перед ними и так и этак, чуть не служит, как собачка на задних лапках. То одному подышит в ухо, то другому. А они ни гугу, делают вид, будто им страшно интересно в шашки играть. Но Андрей видит, что Робе Жукову уже давно надо бить, почти все шашки Лисы под боем. А Робя не бьет. И Андрей понимает, в чем дело, прикидывает, с кем выгоднее вперед заговорить: пожалуй, с Жуковым. И он говорит:
— Робя, тебе бить надо.
— Бить будем потом, — отвечает Жуков. — Долго и больно.
Андрей не обижается, старается задобрить и Лису.
— Вань, — говорит он Лисицыну, — а ты у него за фук, за фук бери.
И Лисицын отрывается от доски.
— Робя, — обращается он к Жукову, — ты знаешь, кто это мельтешит перед нами?
— Знаю, — буркает Робя.
— Перед нами, Робя, подлый фискал, гроб и молния. Что, продался цыганке?
— А она не цыганка вовсе, — торопится Андрей. — Она грузинка. А это не одно и то же...
— Чего она тебе еще заливала? — так, между прочим, спрашивает Жуков.
— Да ничего... про книги там всякие. — Не такой уж он дурак, чтобы все выкладывать, о чем они говорили с Тамарой.
— А ты и раскололся, рассказал все про друзей, что бежать с ними задумал?
— Робя, ну ты скажешь, ну даешь ты. Что я, дурак, что ли? Ни слова никому. Могила. Клятву же ведь давал. А вы меня не оставите, не бросите, правда, поможете?
— О чем речь, Монах. — Робя смахивает шашки, его уже, видимо, мутит от этих шашек. — Мы друзей не продаем. А ты гляди, гляди, Монах. А то ночью велосипед устроим.
Велосипед Андрею уже устраивали: бумажки такие между пальцами на ногах закладываются и поджигаются. А ты спросонку потом наяриваешь, как тот мастер спорта. Хотя в жизни на велосипед не садился, а со сна крутишь исправно... Но это еще надвое бабушка гадала, будет ему велосипед или нет. Вот если бы не подошел, откололся сразу, велосипед был бы. А так...
Тут что главное? Не переть на рожон. Не даваться, чтобы тебя побили за дело. Без дела-то все равно и так побьют. И велосипед устроят, и скрипочку сварганят (тот же велосипед, только бумажки уже между пальцами рук). Но без дела не обидно. Тебя побили, ты побил, велика беда. А вот когда можно уйти, а ты не ушел, это уж непростительно. Почувствуют слабину — заклюют.
Хитрая это наука, тонкая, но ведь Андрей из Клинска. А в Клинске, на его улице Деповской, все ею владеют в совершенстве.
Вот, к примеру, тебе нужен лес. А он в хозяйстве нужен постоянно: то забор покосился, падает, то крыша прохудилась, да и печь не растопишь без палки дров, никакого тебе горячего — ни первого, ни второго. Дурной хозяин, необученный, сразу же чешет в лесничество или еще куда-нибудь, где лесом ведают. Его только там и ждали. Там копейка нужна, и добрая, и замочка — за каждую бумажку по бутылке, за каждую закорючку по стопочке. И получишь ты еще потом лес, такой лес, глядеть тошно. Кто похитрее, а может, и подурнее, тот прямиком, без разбору, топор за пояс и туда, где лес этот растет. А там уже лесник ждет-поджидает его. А дождется, прихватит на месте — всю жизнь веревки будет вить. Так дураку и надо.
Совсем по-другому поступает умный. Не лесник его ловит, а он лесника, всей семьей. Жену и детей на улицу вышлет, не провороньте, когда мимо пойдет. Устерегли, показался лесник на улице, под белы ручки его и в красный угол. Чарку добрую из последнего, но нальет, с горкой, потому что себе потом дороже обойдется в случае чего: все под богом ходим. Выпил лесник, закусил, обтер лысину и пошел. Но в сенцах обязательно шепнет этому хозяину:
— Ты меня не видел, а я тебя в глаза не видал.
Вот и все. Упредил лесника. После этого он и заметит у тебя во дворе какую-нибудь палку лишнюю, а глаза закроет.
Так уж заведено на этом свете. Так заведено в дядькином и теткином доме. Главное — подъехать вовремя: хочешь жить, умей вертеться, потому что в этой жизни, кроме лесника, еще ой-ой сколько разных людей есть, от которых эта твоя жизнь зависит: и объездчик, и финагент, и сторож колхозной травы, и возчик с конем, и продавщица в магазине, и шофер полуторки, и... бог его знает, кто еще. И всех их не только надо помнить, надо уметь и уважить.
Клинск город серьезный, оплошности и лишнего гонору никому не прощает. Могли бы жить там и Робя Жуков, и Ванька Лисицын. Один в должности объездчика, другой — лесника, потому Андрею совсем не с руки воевать с ними.
— Что вы, Робя, Ванька, — говорит он Жукову с Лисицыным, — я же не маленький. Я же все понимаю. У меня же на вас только и надежды. Домой меня отправлять собираются...
— Радуйся, — одобряет Лисицын. Андрей не понимает, чему тут особо радоваться, и Лиса растолковывает: — Делай вид, будто радуешься. И тогда тебя прогулок не лишат. А на прогулке мы чего-нибудь сообразим. Мы тут уж с Робей прикидывали, как тебе помочь. Будем уходить через сарай. Ты берешь на себя воспитательницу. Зубы ей заговаривать будешь, отведешь от сарая и заговоришь.
— А вы тем временем смоетесь? — понимает Андрей.
— Точно, молоток.
— Но я-то останусь? Вы без меня убежите...
— Будь спок, Монах. Мы тебя на вокзале отобьем от эвакуаторши...
«Ага, — прикидывает Андрей, — бросят ведь, гады». И начхать им на него. И гаденько так, тоскливо у него на душе. И отказаться уже нельзя. Изведут. Вот связался на свою голову.
— Нет уж, — говорит он, — я только с вами, до гроба.
— Монах, — улещивает и пугает одновременно его Лиса, — ты забыл? Ты кровью клялся. Закон должен знать: сам погибай, а товарища выручай. Мы и пощекотать можем. Можем, Робя?
Робя способный, Робя все может. Особенно когда рядом с ним Лиса. А пощекотать — это пострашнее велосипеда и скрипки. Пострашнее лесника с объездчиком. Хотя... кто его знает. Все они друг друга стоят. Надо мозговать. Но что тут можно придумать, что взять из клинской жизни? Подстеречь их самому где-нибудь в темном углу? В Клинске бывало, когда и милиционера подстерегали и следователя. Клинский мужик тихий, но не робкий. Но здесь не Клинск. Каждый твой шаг на виду, и темных углов мало. Да и один он, один. А Клинск силен общностью, спайкой. Сейчас скорее не он, не Андрей, а Робя с Ванькой — вот Клинск. И он против него. Весь город против него одного. Влип так влип. С Клинском бороться невозможно, еще не родился такой человек, который бы мог победить его. Из Клинска или надо бежать, или подчиняться ему, по крайней мере прикидываться, что подчиняешься.
— Ладно, Робя, ладно, Ванька, — соглашается Андрей, — договор дороже денег.
На клинском языке это означает: поживем, увидим, кто кого, куда нам торопиться.
— Будешь отдавать нам свою пайку, Монах. — приказывает Жуков.
— Не надо, Робя, — не соглашается с ним Лисицын. — Мы же честные, мы же хорошие, мы же друзья. Вот если бы можно было сухарей тут насушить, тогда другое дело. А так, Монаху тоже нужны силы. Иди, Монах, иди гуляй. Не надо, чтобы нас все время видели вместе. Но помни, мы тебя увидим всюду. Сучить не вздумай.
Андрей бредет по залу. Огромен зал, столов в нем много, игр всяких много, чтобы не скучали беспризорники, домино, лото, бильярд — и настольный и такой, шашки, шахматы, даже мандолины и балалайки. Но вяло развлекаются беспризорники. Как будто заболели все враз или отбывают какую-то тяжкую повинность: обязанность играть, развлекаться. Онемели мандолины, онемели балалайки, заброшены ноты и самоучители, тускло высвечивают раскатившиеся по зеленому сукну бильярдные шары. А ведь утром была очередь, не пробиться. После ужина тоже будет очередь. Это Андрей знает: утром и вечером, как температура у туберкулезника. А сейчас кто дремлет на диване, кто шатается по залу, кто торчит у окна, считает, сколько за час пройдет женщин, сколько мужчин, сколько пробежит кошек, собак, проедет телег... Это самое интересное сейчас, пока еще не стемнело, загадать и поспорить: баб будет тринадцать, мужиков — пять. Вот когда выспоришь, тогда уже можно будет врезать и на балалайке «Светит месяц, светит ясный...». Но и окно сегодня не приманивает Андрея. На Деповскую бы сейчас. А что там? Там тоже ничего. Зимой на улице ничем не поживишься. В лето бы сейчас, и...
Тут к Андрею подкатывается Васька Кастрюк, заступает дорогу, застит летнее солнце, гасит солнце. Гулял бы ты себе, Васька, мимо, думает Андрей и молчит, ждет, что от него Ваське надо.
Васька кацап и просто так никогда не подойдет. Вообще-то он не кацап. Но в детприемнике все не так, как у людей. Хохлов зовут кацапами. Белорусы — тоже кацапы. Все кацапы, кто непохож на Робю Жукова и Ваньку Лисицына. Все, кто не умеет воровать, кто по нужде здесь, в детприемнике. Много кацапов. Но Андрей больше кацап по происхождению, по хотенью Роби и Ваньки, а Кастрюк так и по обличью еще кацап.
Кацапье у Кастрюка обличье. Лицо всегда сонное. Но сон этот только на лице, а так Кастрюк ушлый, хитрый. Он хоть и деревенский, но вполне мог бы жить в Клинске. Тело его вытесано из клинского доброго дубка и клинским мастером, а потому — кое-как. Добротно, крепко вытесано, но второпях, без отделки фасада. Нос прилепили почти к самой губе или губу уж к носу пристраивали. И нос, и губа отделывались двумя-тремя взмахами топора, и кто ни глянет на них, каждому хочется подправить. Нос квадратненький, только на самой верхушке кругленькая пипка. Тело же его не только вытесали, но и успели как бы обмотать веревками, и руки обмотали, и выкрасили кулаки и запястья в коричневом дубовом отваре. Кастрюк ловко играет в шашки. Откуда только что и берется. Опять же вроде бы спит за доской, а попробуй сопри у него шашку. И за фук у него еще никто ни разу не снял ни одной шашки. Андрею не хочется сейчас играть с ним и в шашки. И Кастрюк, по всему, не настроен на игру.
— Хочешь атлас? — спрашивает Кастрюк у Андрея.
— Все равно ведь не отдашь, жила.
— Не отдам, верно, — не обижается на «жилу» Кастрюк.
— Так чего же ты с ним все время носишься, как дурень с писаной торбой? Всем предлагаешь, заманиваешь...
— А приятно, — отвечает Кастрюк. — Есть у меня что-то такое, что всем надо, чего у других нет. Приятно. Дома у меня ничего нету такого.
— А где ты живешь? — спрашивает у Кастрюка Андрей.
— Хе-хе, — поскрипывает Кастрюк. — У хате... Я атлас в деревню к себе привезу. Все лягут. Смотри, сколько городов, станций на земле. Вот Касторная называется. Хе-хе, Касторная. А то еще почище есть — Яя.
— Врешь, — не верит Андрей. — Нету такой станции.
— Читай, — подсовывает Кастрюк Андрею атлас.
— Яя, — читает Андрей и смеется. — А живут там...
— Точно. Во дают!
— Ну и бог с ними, пусть живут, — Андрей теряет интерес к атласу. И Кастрюк говорит:
— Бог с ними, пусть живут эти, как их... Ты зря, зря с Жуковым и Лисицыным связался. Облапошат они тебя как пить дать. Подведут под монастырь. Нам, кацапам, надо вместе держаться...
Всегда этот Кастрюк открывает Америки. Андрей сам знает, что зря связался и вместе с кацапами ему надо. Но вот попробуй вместе. А может... А почему бы нет, Кастрюк вон какой, здоров как бык. И Андрей решается.
— Слушай, — наклоняется теперь он к уху Кастрюка. — Слушай, давай поколотим Жукова с Лисицыным, отберем у них верхушку.
— Обоих сразу будем колотить?
Андрей обрадован:
— А чего там! Бить, так всех. Обоих разом.
— Нет, — отодвигается от него Кастрюк.
— Ну поодиночке.
— Не-е-е-е, — еще дальше отодвигается Кастрюк. — Ну, посуди сам, зачем нам с тобой сдалась эта верхушка. Не...
— Эх ты...
— А чего я, чего? Думаешь, что — мне ножа охота получить. У меня атлас есть.
— Трус! — приговаривает Кастрюка Андрей.
— Ну и пусть, зато цел. У нас был один такой храбрый, рыпался все. Дорыпался. И куда девался, никто не знает, и спрашивать боятся. Ишь чего, верхушки захотел. Ты за цыганку уж лучше держись. Она баба битая и добрая, видать.
— Грузинка она...
— Да ну? Живая грузинка? В жизни живой грузинки не видел. И вообще я еще ни разу за границей не был.
— Грузия — это не заграница, — сказал Андрей. — Это мы, потому и грузинка с нами.
— Понятно... Слушай, Андрей, ты только не раскалывайся. Не говори им там свою фамилию. Проживем, уже недолго осталось. Перезимуем. А весной, когда пахать время придет, сеять, весной можно сказать. Жратва будет. А до весны и во сне забудь, кто ты.
— Я уже сказал Вии свою фамилию, — поник Андрей.
— Дурак. Вот уж кругом дурак.
— А что мне делать было, когда со всех сторон и по-хорошему, и по-плохому?
— Кацап ты несчастный, что тебе их хорошее и плохое? У них работа такая. Головы нету на плечах. От добра сам отказываешься. Тут и кормят тебя три раза на день. И одежка твоя лежит на складе, не рвется. Третью зиму в детприемниках зимую, а такого дурака не видел.
— Как третью?
— А так. Хлеб убрали, лег снег, я за сестру и в город какой-нибудь на казенный кошт. Пожирую тут, выгуляюсь, а весной снова за работу.
— Так это ты кацап, — сказал Андрей. — Ох и кацап ты...
Кастрюк засмеялся.
— Давай, давай, я привычный, потому и живой, и в теле. И тут половина таких, как я, из деревень, приглядись только. А вот ты... Что же ты делать будешь? Может, я чем помогу?
— Отдай атлас.
— Отдам, Андрей... Только позже чуть, позже. Когда тебя домой повезут. Вот тебе крест, отдам, сука буду, отдам.
Андрей слушал Кастрюка и чувствовал: атласа ему не видать ни сейчас, ни позже. Да и не нужен он ему, что в нем толку: бумага. Гораздо приятнее было сознавать, что Кастрюк сочувствует ему искренне. И если бы он мог чем-нибудь помочь, не жертвуя при этом, конечно, атласом, он бы помог. Но ему, Андрею, достаточно и доброго слова. Он так и сказал Кастрюку.
— Я знаю, Васька, ты добрый и не жадный, и не трус ты, Васька. Только мне уж в самом деле не поможешь...
— Хочешь, я тебе проиграю в шашки?
— Не хочу. Ничего не хочу, ничего, понял?..
Тут-то Кастрюк уже рассердился.
— Понял. Дурак ты, — сказал он Андрею. — Да мало ли чего в жизни не бывает... А ты знаешь, где хоронят этих самых... ну, которые сами? Да их отдельно от людей кладут и без гробов. И правильно. Ты это брось и бери... бери атлас.
— Не надо, — отказался Андрей. И словно ушел, задумался. Какая разница — в гробу ли, без гроба. Дело в том, что его не будет. А для чего же тогда он рождается? Чтобы стать Кастрюком, девять месяцев в году работать, а три жить за казенный кошт и всего бояться? Или Жуковым с Лисицыным лучше стать, чтобы боялись другие? Ну а зачем, чего бояться? Откуда повелось это, кто так придумал? Почему раньше человека на свете рождается страх? И умирает ли он вместе с человеком?..
Время в детприемнике мчалось курьерским. Ночь страшила всех их, заключенных в этот дом по своей и не по своей воле, как страшит она, пожалуй, только стариков, мучающихся бессонницей. Происходило это, видимо, потому, что ночью каждый из них оставался наедине с самим собой. Странно, конечно. Ведь многие из них уже давно изведали одиночество и многие полюбили его. Навсегда оценили одиночество и безопасность собачьих ящиков, отчаянно стремились в одиночество пустующих тамбуров вагонов, заброшенных чердаков, безмолвных пустырей, стремились туда, где не мог их достать человеческий глаз.
Но вот дисциплина и порядок предоставляли им возможность хоть на несколько часов стать самими собой, обрести себя в чинной тишине детприемниковской спальни, и они терялись и молча бунтовали. Боязнь исходила не из ночи, а таилась в неотвратимости приближающегося утра. Утро несло неизвестность. Изредка радость, а чаще всего беду. День в четырех стенах для каждого из них был веком, столетием. И всякий раз их мучили взрослые муки: как сложится это грядущее столетие?
И кошмары их душили по ночам. Это были жуткие казенные кошмары на белых простынях удобных кроватей. А ко всему рассказывали, многие рассказывали: по ночам вдруг ни с того ни с сего в церкви через дорогу сами по себе начинали звонить колокола. Медные их голоса били морозную стынь, вспарывали казенную тишь, и старый купеческий особняк кряхтел и шатался, тяжело вздыхал всем своим деревянным прогнивающим нутром. Распахивались двери (почему-то всегда не те, которые вели на волю), скрипели половицы, и начинали возню то ли мыши, то ли крысы, то ли еще какие-то непонятные существа, обитающие под печкой.
И все жуткое, слышанное и виденное, явью и бредом оживало в ребячьих снах. И всю ночь они убегали, убегали, прятались, десятки раз умирали и просыпались в изнеможении, в холодном поту, с пересохшими губами.
Потому и был короток промежуток от ужина до отбоя. И столько вдруг обнаруживалось дел, и воспитатели к вечеру становились добрее. Вот и сейчас Вия Алексеевна подсела к ребятам сыграть в лото. И они были почти счастливы, что взрослый человек играет с ними в лото, не гнушается ими, и особенно азартно вопили:
— Хавира!..
Вия грозила им бледным наманикюренным пальцем:
— Жаргончик, ребятки...
И тогда «хавиру» меняли на «малину» и «кончил» на «засыпались». Против «малины» и «засыпались» Вия ничего не имела. И сама азартно выкрикивала: «барабанные палочки», «бочки», «дед».
Заразилась, попыталась заглушить предвечернюю неуютную тоску и Тамара. Подсела к лотошникам, вытребовала пару карт. Но сыграть не успела, не успела даже обеспечить себя «квартирой», как подошла бабка Наста и поманила за собой. Ласково так поманила:
— Вставай, девонька, вставай, пойдем, — будто любимую дочку поднимала поутру с постели и уговаривала ее не бояться росы и свежести.
— Куда? — спросила Тамара, еще надеясь, что это ее не туда, куда всех, не для главного разговора, к которому она готовилась все эти дни, да так и не подготовилась, а на кухню — почистить картошки на завтрак или помыть полы. Но Наста миновала кухню и тяжело начала подниматься на второй этаж, как знающий службу солдат, пропустила вперед себя Тамару. И Тамара второй раз, все еще надеясь, спросила:
— Куда?
— Иди, милая, иди... — уговаривала, брала на ласку. — Все вожу я вас, вожу. Хоть бы раз кто спасибочки бабке Насте сказал. А сколько я уже вас переводила, о-о-ох, девонька, головы не хватает. Всю жизнь вожу, и ни один из вас от меня не ушел. А какие были... От воспитателек, от самого Гмыри уходили, а от меня — дудки. Знаю я, знаю, как вас водить надо... А ты никак цыганка, девка?
— Цыганка, бабка Наста...
— Вот этого я уже в голову взять не могу: зачем же тебя сюда, зачем харчи на тебя казенные тратить, одежду?
— А что, цыганкам есть не положено?
— Придуряешься, девка... Сселять, сселять вас надо, и правильно делают, что сселяют. Хлеб ваш дурной...
— Да какой уж уродится...
— Знаем, знаем, какой он, ваш хлеб... Иди, иди, милая, не упрямься. Да не бойся ты этого Гмыри. Он вами всеми — и цыганками и прочими — зараженный. С виду только крепкий, неприступный. Но это потому, что белявый напускает на себя строгость. И несчастье у него...
— Какое же у него несчастье?
— А про то нам с тобой ведать ни к чему. Его, не наше несчастье. Поинтересуйся сама.
Гмыря-Павелецкий сидел один в своей маленькой комнатушке. Перед ним в желтой папке лежало ее «дело». «Дело № 278. Тамара Никошвили», — успела прочесть она, и начальник детприемника отправил ее «дело» в стол.
— Садись, — кивнул он на стул и устало потер переносицу.
«Фигура, — подумала Тамара о себе, — сам начальник детприемника изучает по ночам твое «дело». Дня ему мало...»
— С чего начнем? — заговорил снова Гмыря-Павелецкий. Она пожала плечами: вам, мол, виднее, и зачем эти церемонии? И Гмыря-Павелецкий, видимо, согласился с нею. Ему действительно виднее, с чего начинать. И начал, как обычно, как заведено и освящено:
— Как жить дальше думаем, Тамара Николаевна Никошвили?
Но на этот раз обычный вопросик для наведения мостов заставил ее вздрогнуть. Трудный, оказывается, вопросик. Думала она уже над ним, ночей не спала, да так ничего и не придумала. Уж лучше бы спросил он что-нибудь позаковыристей, попытался поймать ее на каких-нибудь грехах, все бы легче было, спокойнее. А то сразу: как жить дальше думаешь?
Тамара почувствовала, что в кабинете начальника жарковато, перетоплено в кабинете. Постарался кто-то, чтобы Гмыре-Павелецкому тепло здесь было. И глаза у Гмыри-Павелецкого, кажется, расплавляться от этого тепла стали. Погоны на нем сероватые, звездочки с сероватым отливом и рубашка, а лицо так и вправду белявое, будто закалено на морозе. Глаза же тают, синенько так, словно лед перед половодьем.
Надо было уже и отвечать. Нельзя было больше тянуть, рассматривать Гмырю-Павелецкого, неприлично даже. Но отвечать Тамаре было нечего. И горло, горло охватило жаром, сдавило горло, того и гляди слезу еще выдавит.
— Трудно честно отвечать?
— Трудно, — призналась Тамара. — Не знаю я, как жить дальше. Если бы знала, перед вами не сидела бы.
— Рассказывай, — почти приказал Гмыря-Павелецкий и щелкнул под столом каблуками сапог, словно это не он, а ему только что приказали рассказывать, докладывать приказали. Щелкнул и спохватился, добавил чуть менее официально:
— Все рассказывай, с самого начала, не стесняйся. Не ты первая.
Тамару передернуло от этого его «не ты первая». Она вскинулась, готовая выдать ему сполна, как выдавала до этого не раз, но глянула на начальника детприемника и осела. Нет, он не чинился перед ней, не рядился в добренького, сидел и ждал, когда она заговорит, и на лице его не было ни осуждения, ни гадливости, ни превосходства. Все в нем было исполнено терпеливого и ободряющего ожидания, так же как и у человека, помещенного в полный рост в богатую багетовую рамку на стене за спиной Гмыри-Павелецкого. Тот человек тоже ждал, сощурив всепонимающие добрые глаза. И Тамаре захотелось выговориться перед этими людьми, рассказать все, а там будь что будет.
Пусть же слушают. Но легко сказать, пусть слушают, а как рассказать о том, что не рассказывается, что всегда остается за словами, не поддается словам, что только в тебе, а не в словах?
— Я родилась не знаю где, — начала Тамара, — а жила всю жизнь в детдоме...
Она больше не стеснялась Гмыри-Павелецкого и не задумывалась над тем, что говорит. Боялась задумываться, чтобы не сбиться и не замолчать. Когда откровенно все рассказываешь о себе, главное — не сбиться, не начать выбирать, о чем рассказывать, потому что, когда выбираешь, уже врешь. Хочешь или не хочешь, а врешь, рисуешь. Здесь же нужна была правда. Она нужна была и Тамаре, чтобы выжечь в себе все, что было. Выжечь — и, хорошо или плохо, начать сначала.
— И как упал на пол этот его зуб, так он стал мне противен. С зубами я еще могла его терпеть, могла работать с ним. А беззубый, да еще вечно пьяный... — говорить Тамаре больше было не о чем. Она уже и стыдилась того, что наговорила. Гмыря-Павелецкий укрылся дымом папиросы. И она мысленно благодарила его, и самой захотелось закурить, хотя до этого никогда не пробовала. А начальник детприемника курил яростно. И сизое облако дыма окутывало его лицо.
— Что ты умеешь делать?
— Ничего.
Гмыря-Павелецкий придавил папиросу, тщательно размял ее в пепельнице, изодрал почти в клочья всю. И, загашенную, все продолжал давить и давить в пепельнице, будто мозжил голову змее.
— Да, дорогой ты человек, Тамара Николаевна Никошвили. Столько лет ты на гособеспечении, ела наш честный хлеб, не можем мы себе позволить, чтобы ты теперь ела дурной хлеб. Вот потому я здесь и сижу. Ясно, Тамара Николаевна Никошвили?
— Ясно, — сказала Тамара, хотя ей не все было ясно. — У вас, я слышала, несчастье?..
— От кого же ты это слышала? — Лед в его глазах перестал плавиться. Мороз там был и ясность, как в полуденном небе в мороз.
— Так, слышала... — смешалась Тамара.
— Нет у меня несчастья, Тамара Николаевна Никошвили... Несчастные трое пацанов попытались сделать несчастным четвертого. Но он будет счастливым. Будет. У него есть отец и мать. И те трое тоже будут счастливыми, хотя у них никого нет. — И неожиданно для Тамары Гмыря-Павелецкий вдруг доверительно спросил у нее:
— Много горя в детдоме, в колонии?
— Как везде, — подумав с минуту, но так и не решив, где этого горя сейчас больше — в детдомах, в колониях или в домах, городах и селах.
— Трое колонистов... — устало сказал Гмыря, — трое колонистов напали на моего сына, выбили ему глаз. Я сам когда-то отправил их в колонию... Для детдома они уже были переростки, для работы — недоростки... Они сбежали из колонии... Ты тоже будешь мстить своим воспитателям?
— Не всем, но некоторым стоит. Тем... Тем... — И замолчала, припоминая тех, кого не могла простить и назвать не могла, боясь обидеть Гмырю, боясь, чтобы он не усмотрел в себе сходства с ними.
— Тем стоит, — сказал Гмыря. Убежденно сказал, без подыгрыша, без втирания в доверие. Поверил ей, что не всем людям надо прощать на этой земле обиды. — Вот потому я и сижу здесь, на этом месте, и буду сидеть.
— И бабка Наста сидит...
— ...и бабка Наста сидит. И мы пока тоже такие же. Но станем другими вместе с вами.
— Кто станет, а кто и нет. Я вот уже от дороги не могу отвыкнуть.
— Мы разбили фашистов. Победили фашизм. А в своем доме легче навести порядок. Не можем мы не навести в своем доме порядок. Ты в своем доме, Тамара... Уже пора отдыхать. Иди, — сказал он, — иди, Тамара Николаевна Никошвили. Не знаю, почему, но я тебе верю. Я буду думать. А с завтрашнего дня печи здесь, в канцелярии, будешь топить ты. Только в мою не бросай много дров. Я не люблю, когда жарко... Если что, на завод пойдешь работать, к станку?
— Пойду.
— Нету пока еще в нашем городе, Тамара, заводов. Отпадает пока, но будут, будут. Топи пока печи. А я распоряжусь, чтобы тебя свободно выпускали. Не убежишь ведь?
— Не убегу, — ответила Тамара. И подумала: не удержался все-таки, спросил. Но Гмыря-Павелецкий тут же спохватился:
— Это я так, по привычке. А убежишь, горько будет, только и беды.
И Тамара пошла. Она успела как раз к отбою, к тому времени, которое обозначено в режиме дня детприемника отдыхом. И ребята и девчата тяжело и неохотно готовились к этому отдыху, к ночи.
13
Андрей чутко прислушивался к тому, что происходит в зале и на улице, слушал шаги входящих. На лица их не смотрел, следил за их ногами. Бурки, катанки, сапоги и лапти выплывали и прорисовывались во взвихренных спиралях морозного воздуха. И от пристального вглядывания в них слегка кружилась голова, и казалось, что он лежит не на диване, а движется, едет в поезде.
Несмотря на этот обман и оцепенение, Андрей еще до гудка паровоза, еще до различимого стука колес уловил приближение к станции поезда и тут же снялся с дивана. Товарняк был не из тех, которым можно радоваться: на весь состав, не считая кондукторской, запретной, лишь одна подходящая тормозная площадка, да и та у теплушки с солдатами. Но Андрей решил во что бы то ни стало уехать именно этим товарняком и поверил, что уедет, переполнился радостью дороги. Той особой радостью, которая приходила вместе с яростью, бешенством и верой. И все невозможное становилось возможным. Неудача оборачивалась удачей. А частые неудачи лишь приучали его крепче держаться на ногах. Становиться всегда на ноги, как кошка, с какой бы высоты ее ни сбросили.
Прежде Андрей только и знал прятаться и уходить от людей, уходить не из недоверия к ним, а просто чтобы не мельтешить перед глазами, не напоминать им о себе, когда уже больше невмоготу. Но он уже не раз изменял этому правилу. И сейчас приспел тот самый момент. Андрей решил обратиться к людям, солдатам. Солдатам, не сознавая почему, он доверял.
Сейчас надо было только выбрать удачный момент и попроситься в теплушку. Он выжидал этот момент долго, прячась за стволами обескоренного и усохшего тополя, издали, из темени, наблюдая за всем происходящим. Вот молодцевато прошагал офицер. Прозвучали слова команды. И теплушка вытолкнула из своего красно мерцающего чрева двоих солдат. Солдаты побежали к голове состава и сгинули во тьме. Но скоро появились вновь, сгибаясь под тяжестью двух закрытых бачков.
— Оживайте, принимайте, — весело шумнули в полураскрытую дверь вагона.
— Что? — не торопились в вагоне.
— Щи да каша — пища наша. Украинский борщ и шрапнель с салом.
И бачки уплыли в теплушку, и солдаты исчезли в ней. Тут Андрей и затосковал и обрадовался одновременно. Затосковал, потому что сам почувствовал голод. Давно, очень давно не ел шрапнели — перловки с салом, а горячего борща не хлебал еще дольше. И если солдаты голодны так же, как он, они не скоро насытятся. Поезд может и уйти. А обрадовался он, потому что сытый человек сговорчивее голодного. Это давно известно. И Андрей закружил вокруг тополя. Отвязался от него, когда там, в теплушке, по его расчетам, обязаны были уже насытиться. И не ошибся, солдаты, видать, не только насытились, но и пересытились. Трое из них, смеясь и толкаясь, вывалились из вагона и пристроились к колесу.
Тут и подрулил к ним Андрей. Его приметили:
— Дуй к нам за компанию, мужик! Места хватит. Пристраивайся, чтобы колеса лучше крутились...
Начало было ничего, подходящее начало, обещающее.
— Мне до Малоярославца надо, — сказал Андрей, хотя надо было ему совсем не до Малоярославца, чуть поближе.
— Хватит и на Малоярославец, — не поняли его занятые делом солдаты.
— Мне надо в Малоярославец, — повторил Андрей, — бабушка померла...
— Померла? Родная или троюродная?
— Родная. — Андрея не испугало, что солдаты разгадали его ложь. Тут не во лжи дело, а в простоте. Чем проще, обычнее и очевиднее ложь, тем легче с людьми договориться. Начни врать сложно, все равно ведь не поверят и примут бог знает за кого, побоятся помочь. А так он весь для них как на ладони, свой, свойский парень.
— Сложная, брат, штука. Вторые сутки едем, а уже третья бабушка помирает. Останется Россия без бабушек.
— А ты, случаем, не сам ей помог отбросить копыта?
Вот этого Андрей не ждал от солдат. Не ждал, что с каши и борща можно так долго изгаляться над человеком. Что издеваются, это неплохо, но, когда без единого проблеска интереса и сочувствия к тебе, тут уж дело пахнет керосином. Тут уж шутки в сторону.
— Ну так возьмите меня сыном полка, — в отчаянье выдал самое затаенное Андрей. Выдал и замер. И солдаты разом иссякли, и юмор у них пропал. А Андрей, зажмурившись, ждал, как ждет бездомный пес пинка или куска хлеба.
— Эй, сержант, нарисуйся на минутку! — заставил его открыть глаза негромкий и вроде бы сочувствующий голос одного из троих.
— Молодые борзеют, — услышал он ответное из теплушки и приготовился бежать. Но надежда все еще теплилась в нем. Сержант спрыгнул на землю и набросился на солдат.
— Ну чего, салаги, старичка тревожите? Верешня, сколько мне осталось до дома?
— Месяц и пять суток, — вытянулся и щелкнул каблуками солдат, вызвавший сержанта. — Сделай еще одно доброе дело перед демобилизацией. Доставь внука к усопшей бабушке.
— Опять? — резко повернулся сержант к Андрею. — Надоели мне уже, Верешня, эти внуки. Гони их в шею. Жлобинский внук что у нас спер?
— Так точно, банку сгущенки, — щелкнул каблуками Верешня. — Не спер, а догадался, что я ему хочу ее подарить.
— Гомельский с чем ушел?
— Так точно, с сухим пайком, с булкой хлеба...
— А что тебе надо, малоярославский внук?.. Иди ты не к бабушке, а к маме... Знаешь, к какой маме?
— Знаю, — сказал Андрей. — Я на площадке тогда поеду. Вы уж меня не гоните. — Он был все же доволен: едет, едет. Не выгорело, правда, с теплушкой. Но теплушка — это роскошь. С солдатами у него перемирие, не прогонят они его с площадки, пожалеют. Мучить будет их совесть, что не взяли в вагон.
— Бабка окочурилась, и внук может дуба врезать, — донесся до Андрея неуместно веселый голос все того же Верешни, вроде как бы подначивающий кого-то.
— Разговорчики, рядовой Верешня... Мы же не на Малоярославец идем, на Орел. Не попутно внуку... — Это уже сочувствовал Андрею сержант. И чуть погодя опять его же голос: — Эй, рядовая шпана, поворачивай взад, похлебай хоть нашего честного солдатского борща.
Андрей уже был на тормозной площадке, и очень ему хотелось честного солдатского борща. Но он не поддался голосу и сочувствию сурового сержанта. Бог его знает, достанется борща или нет, а вот по шее схлопотать запросто можно. Это точно. С ним уже было однажды так. В том же Малоярославце. Поэтому не поддался он голоду и сейчас. Ко всему и обидно было: солдаты даже не приняли всерьез его просьбу, а как было бы здорово стать сыном полка. В гимнастерке и галифе он был бы недоступен ни милиции, ни Клинску.
Андрей уже забрался на площадку, уже скорчился там, привалившись к заиндевелому тормозному колесу, как к спасательному кругу, когда его вновь позвали:
— Выходи, рядовой, необученный, хлебать борщ. — На поручнях висел и нетерпеливо раскачивался, словно на качелях, Верешня. Весело щерил щербатый рот. Щербатые люди обычно всегда некрасивые, но добрые. Это Андрей приметил уже давно. Есть в них большая и непритворная человечность и понимание есть. Удивительно, что у таких людей нескладно не только со ртом, но и все остальное нескладное, как их только в солдаты берут. Вот на этого Верешню посмотреть: шея длинная, ноги длинные, и грудь огурчиком кверху заостряется. Хоть и в гимнастерке, а видно, что добрый, веселый и жалостливый. И Андрею захотелось, чтобы Верешня еще раз позвал его. И Верешня позвал:
— Ну, сколько мне ждать, жданки простынут!
Борщ был обжигающе горяч. Настоящий солдатский борщ — с мясом, с жаркими сладкими кусочками свеклы, с рыжими проплешинами жира. Андрей видел эти проплешины, хотя «буржуйка», пристроенная посреди теплушки, и фонарь, подвешенный к потолку, давали не так уж много света.
— Добавки надо? — спросил сержант.
— А как же! — ответил Верешня. — Со дна пожиже.
Андрей уплел и добавку. Управился и с двумя порциями шрапнели. А поезд все не трогался. И он сказал себе: тресну, но буду есть, дождусь, пока ты не тронешься, окаянный. И дождался на четвертой порции перловки, что было уже, оказывается, совершенно излишне. Никто и не думал гнать его из теплушки. Солдатам пришелся по душе его волчий аппетит. Они, наверное, до своей солдатчины тоже не сладко жили.
И когда Андрей отвалился от тарелки с кашей, Верешня необидно спросил у него:
— Вошики есть? — И сам же ответил: — А как же. Так точно, есть. — И подмигнул ему: не робей, мол, воробей, живы будем — не пропадем. Теперь Андрей по сытому молчанию своего живота понял: не пропадет. Теперь уже не пропадет. Он захмелел от горячего. Ему захотелось сделать этим солдатам и в первую очередь Верешне что-нибудь приятное. Осчастливить их на всю жизнь. Потому что не было и нет на свете лучше людей, чем солдаты. Он готов был за них в огонь и в воду. Но солдатам, по всему, ничего от него не надо было. Они и так были счастливы. Развешанные по стенам теплушки, молчаливо покоились, предостерегающе отсвечивая чернью, их автоматы, весело трещала березовыми сухими поленьями чугунная «буржуйка», и колеса вагонов выстукивали что-то разудалое, веселое. Эх, жизнь-малина у солдат! Везет же людям.
Верешня взял веник и принялся обметать железный лист подле «буржуйки». Андрей кинулся к нему, завладел веником и подмел весь пол, даже под нарами. И все, больше он ничем не мог отблагодарить солдат.
— Почему убежал из дому? — спросил его сержант, когда он управился с этой нехитрой работой.
Андрей открыл рот и ничего не смог ответить. Заморгал, заморгал, глядя на солдат, и заплакал. Заплакал от большого желания сказать им всю правду и оттого, что нельзя было сказать ее коротко. Надо было начинать с самого начала, а где это начало, он и сам не знал. Но Верешня понял его.
— Не скули, малец, — сказал он. — Вот приедем мы домой, наведем порядок. Не плачь о том, что было, а радуйся тому, что будет.
— А что будет? — спросил сержант.
— Демобилизация будет, — засмеялся Верешня. — Всем. И ему тоже...
— Ну, ему-то еще рано, — опять вмешался сержант.
— Всяка бывает рана, колота и рвана....
— Я не ворую, — сказал Андрей. — Вот только...
— Будет еще. Научишься, — буркнул сержант. — Дело такое, стоит только раз руку протянуть.
За Андрея вступился Верешня:
— А я не знаю человека, который бы в жизни хоть что-нибудь да не украл. И ты, сержант...
— Но-но... — остановил его сержант. — Хочешь, паря, хорошо служить, умей уважать начальство.
— Я из уважения к тебе и напоминаю, чтобы ты, когда генералом станешь, помнил, что из пацанов вышел. Я, когда пацаном был, похлестче этого вытворял. Но завязал, сразу завязал. И мне все вот такие сегодня пацаны — родственники.
— Выставляешься много, Верешня. На дешевый авторитет работаешь.
— Твое счастье, что ты сержант, — обозлился Верешня. — Может, и правда, в жизни ты ничего и не своровал... Хреновый тогда из тебя пацан был.
— У нас деревня хороша была, — никак не среагировал на этот выпад Верешни сержант. — Честная деревня, все родственники в ней друг другу были. И замков испокон веку не ведали, и ничего не пропадало. Без замков мы жили, запомни, Верешня.
— Где же вы так жили?
— В Сибири, в Сибири, в деревне Перехляй. И не думай, что на свете один ты только добрый. Я в своей деревне тоже выучился в каждом человеке родственника видеть. Но жалеть всех подряд не кидаюсь. Жалеть человека надо. У нас в Сибири среди людей только человека жалеют.
— Вот за это, за то, что ты сибиряк, я и уважаю тебя, сержант, — сказал Верешня.
И Андрей тоже зауважал сержанта. Не такой уж он и сердитый, как пытается выглядеть. Гордый. И ему самому захотелось быть похожим на сержанта, стать сержантом, стать гордым и поехать жить в Сибирь, в деревню Перехляй, в которой нет замков. Он бы тоже тогда был человеком. Ведь вот сейчас и в Перехляе не был, послушал только сержанта из этой деревни, Верешню, и сам вроде бы уже становится человеком. Любит он сержанта, и не только потому, что он сибиряк: Верешня неизвестно откуда, но он его тоже любит. Солдаты они — вот в чем дело. И он, Андрей, для них также человек, чувствует это, видит и слышит. И в самом деле, он человек, факт. И Андрей зауважал и себя. Но что-то мешало ему заявить об этом, сказать, что он тоже человек и есть в нем гордость. Вырвалось совершенно неожиданное.
— Я не буду, не буду воровать, честное слово, — ни с того ни с сего вдруг поклялся Андрей. И сам поверил своей клятве и обрадовался: пусть ему нечем отблагодарить их за приют, тепло и еду, но он не обманет их. Он на всю жизнь запомнит эту ночь, Верешню, раскалившуюся докрасна «буржуйку». Можно обманывать, когда тебя ругают, когда тебя тянут за язык, вынуждают каяться, вяжут тебя по рукам и ногам, скручивают душу в бараний рог не силой, а невидимой, данной как бы свыше властью над тобой.
Совсем по-другому, когда ты сам, без понуканий и принуждения. Тогда ты рвешься, рвешься из последних. И невыразимо хорошо, когда тебе в такую минуту протягивают руку. И твои слезы падают на эту руку и жгут ее. Они жгут и тебя.
От жара «буржуйки» лицо Андрея пошло горячечными пятнами и запылало тем огнем, про который обычно говорят: кто-то вспоминает тебя, клянет. Клясть его было за что, он насолил уже многим, насолил Клинску, милиции. Но верил, что когда-нибудь оправдается перед ними. Надо будет оправдываться, потому что на свете немало и таких, как Верешня, он в долгу перед ними.
— Сидеть тебе, Верешня, на губе не пересидеть, — между тем внушал сержант. — Дисциплины в тебе нету. Не о службе думаешь, а бог знает о чем.
— А, чепуха, отобьемся, — махнул руками, как крыльями, Верешня. — Пацан, что поделаешь.
— Вот-вот, и тебе ясно сказано, что делать. Определено уставом и приказом: через плечо и — шагом арш!
— Артиллеристы, Сталин дал приказ... — затянул Верешня и оборвал песню, повернулся к Андрею: — Туго, пташечка, на свете жить?
— Туго, — сказал Андрей. — Еще как туго!
— Видишь, сержант, а по приказу должно быть легко.
— Разговорчики, — оборвал его сержант.
— Есть отставить разговорчики, — и снова затянул: — Артиллерист, зовет Отчизна нас... Петь можно? Не робей, воробей, живы будем — не помрем. Сержант у нас мужик что надо, хоть и отбудет скоро домой. Докладываю: сержанту Недбайло до дома осталось ровно тридцать пять суток... Так кто тебя ждет в Малоярославце?
— Я не в Малоярославец еду, — признался Андрей и назвал свою станцию.
— Что, бабушка уже переменила место жительства?
— Померла бабушка. Один я. — И Андрей рассказал все, что мог, о себе, куда и зачем едет.
— Видишь, сержант, какого замечательного пацана мы прихватили. А ты отказывался помочь ему. Губой мне грозил.
— На губу ты и без меня попадешь, — сердито ответил сержант.
— Это уж точно, как пить дать попаду, — вздохнул Верешня. — Со мной это не впервые. Аналогичный случай был в Бресте...
— Да я уж знаю, можешь не рассказывать.
— Я не к тому, чтобы рассказывать. Я к тому, что хорошо, когда под рукой всегда есть кто-то, кого можно на губу. Иначе ведь не меня, так тебя посадят. Губа для того и создана, чтобы не пустовать. А такие вот пацаны — чтобы всегда был аналогичный случай. Подрастай, парень, губа ждет тебя.
— Я готов, — сказал Андрей.
— Вот сейчас как врежу, — внезапно обозлился Верешня. — На анализ ничего не останется. Мы, детдомовские, и жалеть и бить — все можем. Шпарь, кореш, на нары. Утром, когда повернем на Орел, подниму.
Утром, лишь едва-едва забрезжило, Андрея поднял не Верешня, а сержант Недбайло. Солдаты еще спали. Андрей выпрыгнул из теплушки и на здании вокзала прочел название станции. Обрадовался: он был уже рядом с детприемником, езды до него оставалось совсем ничего. Махнул рукой стоящему в дверях теплушки Недбайло, поклонился ему и затрусил к вокзалу.
Уже возле вокзала он услышал, что кто-то гонится за ним, и, не раздумывая, рванул к товарняку (когда за тобой бегут, некогда раздумывать), намереваясь уйти под вагонами.
— Стой! Стой!..
Андрей оглянулся. Его настигал Верешня.
— Ну что же ты, дубина, не толкнул меня? — выговаривал, поравнявшись с ним, Верешня. — Вот, возьми... — и совал в руки и в карманы Андрею кусочки сахара-рафинада и конфеты «Барбарис» в замусоленных фантиках.
— Вот и все. Иди теперь, иди и не попадайся мне больше на глаза. — Повернулся и, косолапя совсем не по-солдатски, пошагал к теплушке.
Эшелон с солдатами отбыл. И только он скрылся в наступающем утре, как рассветную тишь оглушили два долгих встречных гудка и два встречных прожектора ударили друг в друга. Два ИСа поравнялись, ревнули еще по разу, приветствуя один другого, и начали тормозить, стишать бег несущихся за ними вагонов. Но паровозы, хотя и мощные, не могли сами сдержать вагоны. И тогда сухо щелкнули, прилипая к колесам вагонов, тормозные колодки. Задымили, загорелись сталь и чугун. Из-под колес потянуло дымком, забились в рельсы и шпалы, в изъеденный смазкою рыхлый снег красные искорки. Составы, идущий на запад и идущий на восток, остановились.
Андрей стоял между ними, продутый двумя встречными потоками воздуха, осыпанный непрогоревшими кусочками угля, придерживал готовую вот-вот взлететь шапку. Ему надо было на восток. И он примерялся к восточному товарняку. Но все тормозные площадки в нем оказались уже заняты. И не просто заняты... На каждой стояли люди с винтовками, в бараньих тулупах.
Андрей понял, что тут ему не проханже — ни вперед, ни назад, ни вбок, ни в сторону. И он не пытался уйти. Он понял, что попался, теперь уже попался.
— Ну, чего стал, дорогой? Ходи мимо, дорогой, не маячь...
Андрей растерялся, кто бы это мог говорить, кто его отпускает. Говорил солдат с ближней тормозной площадки. Андрей уже готов был юркнуть под вагон западного товарняка, но тут в этом вагоне распахнулись двери и в уши ударила гармоника. Из распахнутых дверей этого и других вагонов посыпались на землю люди. Душа у Андрея ушла в пятки. Он узнал этих людей. Узнал, хотя многие из них обросли щетиной, многие оборвались и порастеряли свою одежду. Но цвет лиц и цвет одежки был тот же, тот же. И выправка у людей была та же, прежняя, несмотря на запавшие щеки и отсутствие погон на плечах. И речь прежняя: гер-гер-гер.
«Мама, немцы гергечуть, надо утекать...» Кто это говорит, из какого это времени голос? Да это же его собственный голос, его слова, вернувшиеся к нему через годы. Он тогда сидел с матерью и родственниками на болотном острове. Он тогда первым приметил немцев, увидел, как они с собаками вышли на остров, услышал их речь и предупредил взрослых. Прибежал и радостно так выпалил:
— Мама, немцы гергечуть, надо утекать.
Для него тогда это была забава, не было страха, страх настиг его здесь, быть может, мать его передала ему с того света.
— Малшик... кнабе... киндер... — и огрубевшие ладони как током пронзают плечо. А раньше, тогда...
«Партызан, ублюдок...» — И свист пуль над головой. Пуль, несущих не смерть, а потеху. А сейчас...
— Малшик любит музык?.. «Камаринского», «Льявониху», «Бульбу».
Пляши, мальчик, пляши. Хочешь «Бульбу», хочешь «Камаринского». Ну, пляши! Ты же ведь уже плясал. Это неправда, что ты никогда в жизни не танцевал. Вспомни, вот так же зудели губные гармошки. Так же улыбались эти люди. И скулили у их ног псы. А может, это ты скулил? Нет, ты не скулил. Ты был бабочкой, ты взмахивал крылышками и притопывал ножками. И рука твоя была протянута к ним. И иногда бабочке что-то перепадало в эту руку... Вспомнил. Вот видишь, какой ты молодец. Так пляши же сейчас, пляши. Играют гармошки. Никогда в жизни не будешь плясать?
Никогда, никогда, никогда!
А тебе ведь сахар дают. Сахар суют в карман, к сахару Верешни — их сахар... Тебе гармошку дают: играй сам и веселись сам. Ту самую гармошку, которую ты выдрал у поленца с ручками и ножками и глазками. Бери, бери. Отвезешь ее Гмыре-Павелецкому и рассчитаешься с ним. И не будешь больше никому ничего должен.
— Пять дней — и я дома. А дома мой малшик иметь свой гармошка...
Ему втиснули в руку гармошку и зажали пальцы. И рука его будто закостенела. С вытянутой вперед рукой он пошел вдоль составов. Овчарки с восточного не удостаивали его даже взглядом. Но из запломбированных вагонов на него смотрели люди. Множество глаз. И эти глаза ненавидели его. Он чувствовал, потому что не мог сам посмотреть им в глаза, они давили его к земле, они сжигали его. За что? Может, они разозлились на него, что он взял у тех гармошку?..
И тут ему резанула уши тишина. Тишина стояла над землей. Два огромных состава, битком набитые людьми, замерли. И люди с винтовками, и одноглазые прожекторы сторожили тишину. И вымерла земля между двумя составами — один на запад, другой на восток. Белые лица в распахнутых вагонах, которые на запад, белые испуганные глаза.
Белые, закостеневшие, как на спусковых крючках, пальцы на решетках вагонов, которые на восток, и меж решеток, как меж прорези прицельных планок, замершие глаза. Глаза в глаза. И между этих глаз он, Андрей. И куда ему метнуться, к каким глазам, к каким вагонам?
Сердито в полной тишине вякнули паровозы. И составы разошлись. Один на запад, второй на восток.
— ...Ты что, примерз тут или прикипел? Я на тебя уже битый час гляжу, а ты как статуй...
Перед Андреем стоял невысокий мужичонка, небритый, щетинистый, одетый наполовину по-немецки, наполовину по-русски. Русскими были фуфайка, буденовка, обмотки и ботинки, немецкими — френч, выглядывающий из-под расстегнутой фуфайки, брюки. Андрей испугался. Этот человек вполне мог быть из того или другого только что ушедших товарняков.
— Чего дрожишь, будто кур воруешь, — мужичонка засмеялся. И по смеху Андрей понял, что он не мог быть в товарняке, который — на запад. Свой был этот мужичонка в смехе. Русский. Нос бульбочкой, глазки пуговичками, а на щеках ямочки.
— Я не злодей, — сказал мужичонка, — не убивец. Я вербованный. И бояться меня не следует, потому как я сам всех боюсь. И жить боюсь, и помереть боюсь, не знаю, что лучше. А ты чего боишься?
— Я ничего не боюсь, — сказал Андрей.
— Ну, тогда ты меня, наверное, и покормишь. Богатый, наверно. Хлеб есть и гроши?
Хлеба и грошей у Андрея не было, но были сахар и конфеты «Барбарис». И он протянул мужику дробок сахара и конфету, не потому, что этот человек понравился или он уже так сильно пожалел его: оказывается, есть на свете люди еще более нищие, чем он, оказывается, хорошо не только, когда тебе дают, но и когда ты можешь что-то дать.
— Забава, — сказал мужик, — не еда это. Но возьму, возьму. Отвезу детям гостинец. Пусть дети видят, что их батька не пустым ворочается с лесоразработок... И ничего у тебя больше нет?
Андрей вспомнил про гармонику и обрадовался. Выбросить ее просто так было жалко, вещь все-таки, но и держать при себе он не мог.
— Хорошая вещь, — одобрил гармонику мужик, — дорогая. Будем сыты. Украл?
— Украл, — кивнул головой Андрей.
— Молодец, — опять одобрил мужик. И с сожалением: — А я вот не могу. И никто не видит, а не могу. Протяну руку — и в карман ее, на привязь. Неделю уже бегу, а кормлюсь вот при таких, как ты, пацанах. У взрослых просить язык не поворачивается. Был бы слепой или безрукий. А то здоровый, только пыльным мешком из-за угла стукнутый... Ну, так чего с твоей музыкой делать будем? Играть умеешь? Я тоже не умею. А то б вывернули веки, подкурчили ноги и пошли с шапкой... Айда торговать. Авось, может, кому и нужна музыка.
И Андрей с мужиком отправились торговать гармоникой. Но на базарчике, шумевшем тут же через дорогу, у вокзала, никому их музыка не приглянулась. Все больше продавали, чем покупали: бумажные напарафиненные цветы, бумажные и полотняные ковры с лебедями и другими заморскими птицами и зверями, глечики и тарелки из глины, котов и собачки-копилки тоже из глины, молоко, простоквашу, блины.
— Зажрались, — сказал мужичонка, — гармонь за мясо не считают. Что делать будем?
Они стояли на крылечке деревянного домика с голубенькой дощечкой «Почта» и чуть пониже и помельче — «Сберегательная касса». Из дверей этого домика вышла бабка с киечком[2] в руках и красным кирпичиком на веревочке за спиной. Кирпичик бабка, наверное, подвесила, чтобы меньше гнуться, но мало он ей помогал. Гнулась бабка. Второй кирпичик нужен ей был еще за спину. Но, видимо, второй кирпичик бабка уже не могла понести. А вот глаза у бабки были молодые и цепкие. Глазами и клюкастым носом она так и вцепилась в гармонику.
— Новая, — сказал мужик, — ни разу не лицованная.
— А грае? — сказала бабка.
— Кто умеет, у того грае.
— Пограй, — приказала бабка. — Да не ты, тебе я не верю, язык у тебя шустрый, без гармошки скачет. Вот ты пограй мне, — кивнула Андрею. — Грае, гляди ты. А с другой стороны?
— Грае и с другой стороны. Плохими не торгуем. Что поплоше — самим нужно, — оскорбился бабкиным недоверием мужичонка.
— Стой, стой, стой, — сказала бабка. — А не ты ли это, пройдисвет, моему человеку сапоги сторговал?
— Какие сапоги? — опешил мужичонка. — Когда?
— Яловые. Еще перед той ерманской войной, на Великдень... Добрые чоботы. Да мужик в них с базара так до дому и не дошел. Пока в руках нес, добрые были чоботы. А как дождик заморосил, одел их, десять шажков по мокрой земельке прошел, и душа из сапог вон — пальцы наружу. Вместо кожи на подошву ты хлебную корку приладил. Признавайся, пройдисвет.
— Побойся бога, бабка. Да в ту ерманскую я еще без штанов-то ходил.
— Не прикидывайся мне, не прикидывайся. Ране-то без штанов до свадьбы ходили. Сыну я своему первые порты на свадьбу сшила. Так он, сердечный, до того не привык их носить, что за гумно сбегал и оставил их там, за стол без портков заявился... Без штоников, в рубашке до пят, сердечный, заявился... — И бабка заплакала. — Погиб он у меня, родимый. Убили ироды, в танке живьем спалили. А я вот жить должна, сына его, внука мне, растить.
Андрей готов был отдать бабке гармонику задаром. Его это была бабка, он был ее внуком. Его бабки сын тоже живьем сгорел в танке. Под Сталинградом.
— Под Сталинградом, — сказала бабка. — Под Сталинградом лежат мои детки. А мне грошики за них, грошики. Пензийка на внука... Гармоника-то ваша, чать, всю мою пензийку и потянет? Вы по-божески, по-христиански со мной.
— По-хрестьянски, бабушка, по-хрестьянски. Дай нам что ни то на кусок хлеба. И пусть грае твой внук, — сказал мужичонка.
— А скажите мне, деточки, на гармонике лучше, чем на гребенке, или, может, все-таки гребенка лучше, дешевле?
— Если заводить музыку, то уж лучше гармонику.
— Вот и он говорит. Батька у него гармонист был, да я, пустая голова... проели мы его гармонику... — Бабка совсем согнулась в три погибели и полезла за пазуху. Достала из-за пазухи узелок, развязала его. В узелке оказался еще один узелок, а в нем — белая хусточка, а в хусточке — исписанный каракулями тетрадный листок. В нем и были деньги. Пять красненьких потертых бумажек. Бабка посмотрела на мужика и отделила две, посмотрела на Андрея и добавила еще одну. Посмотрела на него еще раз и нерешительно потянулась еще за одной красненькой.
— Хватит, — сказал мужичонка. — Хватит. Спасибо тебе, добрая душа... А чоботы я твоему человеку не подсовывал. Не было у меня в жизни яловых сапог.
— Я знаю, — ответила бабка, — по ногам вижу. Я знаю ноги, которые привыкли к чоботам... Может, свечечку за сына поставите. Иваном наречен был... А коль неверующие, выпейте за Ивана, сына Иванова и внука Иванова.
— Выпьем? — это мужичонка уже спрашивал у Андрея. Андрей промолчал. — Выпьем, — сказал мужик, — грех не выпить.
И направился к молодухе в пуховом полушалке и трех фуфайках, надетых одна на другую.
— Вот эти два огурчика и два куска хлеба, — сказал мужичонка и бросил на доски перед молодухой три бумажки. Молодуха протянула хлеб и огурцы, но мужик не уходил.
— Чего тебе еще? — спросила женщина.
— Как будто первый раз замужем. Лей... сыпь, сыпь, себе еще намолотишь.
— Так мало у вас, не хватает, — сказала молодуха.
— Давай, давай. Прокурор добавит. Он еще не пробовал твоих огурчиков?
— Ну народ, ну народ пошел. Хуже вчерашнего. — И молодуха в сердцах сунула мужичонке зеленую бутылку с бумажной размокшей пробкой. Мужичонка потянул Андрея за будочку, перед которой были развешаны цветастые ковры с лебедями и пальмами. Лежало там, за будочкой, на грязном, загаженном снегу два ящика и стаканчик стоял на одном из ящиков.
— Меня обзывают Иваном, а тебя как величают?.. Ну, давай, Андрей, помолясь, за Иванов сначала.
Иван налил себе до краев и опрокинул стакан в рот, выцедил до капли.
— Отгон, вода, а не самогонка. Но и на том спасибо. Наливай себе сам...
И Андрей налил. Не мог не налить. Страшно было думать, как будет играть этот бабкин внук, сын Иванов, на губной гармонике. Как она будет играть, какие песни? Чьи? Выучится ли немецкая гармоника русским песням?
Выпил и совсем не почувствовал силы водки. Не было в ней силы. Или, может, она легла на огонь, который жег его изнутри.
— Так откуда ты и куда путь держишь? — Иван уже допил остатки самогона, и глаза его осоловели, речь стала медленнее и голос тише, будто он прислушивался, вспоминал что-то не очень радостное, не очень веселое.
— Не ждут меня дома, не ждут. Я по весне приехать должен с деньгами. Хата завалилась, пересыпать надо. А я вот гол как сокол. Не идут ко мне деньги. Поехал за деньгами, да чуть там богу душу не отдал. Сыро, голодно, лихорадки, чирьи. Оделся ночью и ноги в руки. Что будет, что будет? Подъемные брал... То ли посадят, то ли корову сведут. Куда ни кинь — всюду клин!
— Всюду клин, — поддержал его Андрей. — Вот и у нас в Клинске... — Его потянуло выговориться перед этим незнакомым человеком, рассказать ему. И он рассказал о дядьке с теткой, об отце и матери, о детприемнике и Тамаре.
— Любишь ты эту грузинку, — выслушав его, сделал неожиданный вывод мужичонка, хотя Андрей ему ничего и не говорил о любви. — Это хорошо, когда человек на земле что-то или кого-то любит. Без этого нельзя, нельзя. В наше время девка все. Да, хорошая девка все. Ты держись своей девки, держись. Бабы, они мудрее нас, мужиков. Вот и моя, только я стал собираться на эти лесоразработки, говорит: «Ну, куда ты съезжаешь, куда? От Москвы до Ракова житка одинакова, там хорошо, где нас нету... А мы всюду». — И мужичонка замолчал, нахлобучил поглубже буденовку и затих, будто задремал. Андрей поднялся и попытался потихоньку уйти, но оказалось, что мужичонка не дремал.
— Посиди, посиди еще со мной, — попросил он Андрея. — У меня у самого такой же, как ты. И не один. И не знаю, увижу ли их. Хватит ли совести заявиться домой. А то похожу, похожу возле хаты, погляжу на них издали и — куда глаза глядят...
Андрей присел. Мужичонка продолжал:
— Дуй прямиком до своего детприюта. И не оглядывайся. И не спокусайся на чужое. Будешь человеком. Если государство к тебе жалость имеет, оно выведет тебя в люди. Иди теперь, иди, и я скоро подамся. Разные у нас с тобой дороги. И не пей, не пей. Вырастешь, вот тогда за Ивана и выпьешь...
И Андрей дунул прямиком, не стал обходить будочки, перепрыгнул через забор и побрел к дороге по целику, утопая по колено в нетронутом чистом снегу. Выбравшись на дорогу, оглянулся. Мужик стоял у забора и смотрел ему вслед, махал руками и кричал в спину:
— Иди, иди прямиком, не оглядывайся! Прямиком...
Смешно и жутко было смотреть издали, с дороги, на мужика. Будто не человек там, у забора, а ворона на заборе. Старая, облезлая, растрепанная ворона. На почерневшем дряхлом заплоте и черными, грязными казались лебеди на коврах, развешанных на этом же заплоте по обе стороны от мужика, иззябшими, черными были пальмы. И как чудо некое, между ним, Андреем, и мужиком белый, незамаранный снег и цепочка следов на нем, его, Андреевых, следов.
Андрей было махнул мужику, разжал губы, хотел что-то крикнуть ему ободряющее, обнадеживающее. Но таких слов у него не нашлось. И он повернулся и побежал к станции, потрусил рысцой, чтобы не дать морозу прихватить ноги, чтобы быстрее забыть эту случайную встречу. Туманила голову, вязала язык капля самогона, принятая им на базаре. В голове и в ногах были одновременно легкость и тяжесть. А ни легкости, ни тяжести нельзя было ему поддаваться, нельзя было расслабляться. Не закончилась еще его дорога. Близок и далек был еще его дом. И корил он себя за тот глоток вонючего зелья, которым хотел его успокоить и согреть мужик. Знал ведь: выбираясь в дорогу, нельзя не то что водки, воды в рот брать. Выбираясь в дорогу, не пили и воды клинские мужики. Вода, она водой и выходит, слабит ноги и тело. Ступать на дорогу надо свежим и сухим, как гриб. И чтобы стать свежим и сухим грибом, немало ему сегодня придется побегать, погонять себя.
И Андрей минул вокзал, где бегом, трусцой, а где шагом еще раз обошел город, пока не выспела в нем решимость и отвага, пока не почувствовал: все, он готов для дороги. Ничто не своротит его с пути, ни добрые руки, ни добрые глаза, и не остановит его.
14
Под утро Тамаре приснился Стругайло. Почему-то он был вместе с ней в детприемнике, и трезвый, и все зубы у него были целы. Последнему Тамара подивилась, она хорошо помнила, что выбила ему зуб. А тут красавчик красавчиком и уже облапил ее. Тамара прицелилась ему голой ногой в зубы, звезданула что было силы и тут же пробудилась от вскрика бабки Насты.
— Ну и здорова же ты лягаться, — незлобиво причитала бабка. — Чуток бы еще так, и жевать нечем мне, как телка необдоенная. Вставай, затапливать пора.
Тамара все поняла. Поняла, что Стругайло только сон, а бабка настоящая. И разом прошлое исчезло, а Наста осталась, чуть заспанная, добродушно ворчливая. Тамаре нравилось ее ворчание, и она попросила, потягиваясь в кровати:
— Ну, еще раз, бабка Наста!
— Ах ты кобылица, — притворно взъярилась бабка. — Ты меня еще раз норовишь лягнуть!
Тамара засмеялась и выскользнула из-под одеяла, обняла Насту, припала к ее натруженному, пахнущему морозом (видимо, бабка зашла в спальню только что с улицы) и молоком старушечьему бушлату.
— Ну-ну, не балуй, — отстранилась бабка. — Когда девка со сна ластится, по себе знаю, не к добру. Марш работать, нечего лынды бить, казенные харчи зазря переводить.
— Бегу, бегу, бабка, — сказала Тамара и скоренько оделась. Бабка Наста ждала ее у коридорных дверей, и двери были уже настежь. Под мышкой Наста держала новенькую синюю фуфайку.
— Не убежишь? — спросила она, протягивая Тамаре фуфайку.
Тамара не обиделась на нее. Только отметила про себя, как по-разному могут звучать одни и те же слова, один и тот же вопрос. Вопрос, заданный бабкой, был служебным, официальным. Но когда его задают тебе в милиции, получается, что тебя заранее уже в чем-то обвинили, раскусили тебя и предупреждают и угрожают: не сметь. А бабка спрашивала, выдержит ли она волю, не охмелеет ли от нее. И Тамара ответила ей:
— Выдержу.
Они вышли во двор. Было морозно и зябко, и Тамара, сгоняя с себя остатки сна, вздрогнула. Вздрогнула и бабка Наста, бросив взгляд на красно стынущую в синих сумерках заднюю стену двора.
Тамара заметила это, но молчала, не решаясь ни о чем расспрашивать. Наста заговорила сама:
— Вот уж ведется на свете. Не зря говорят, горбатого могила исправит. И с домами так. Как станет он на горе людям, так только горе от него и идет. Вот эта тюрьма, сколько себя помню, — тюрьма и есть. А детприемник в войну немецкой комендатурой был. Может, и не в домах дело, а в месте таком поганом, хотя церковка через дорогу... И опять же нечистой стала после войны, балует в ней кто-то по ночам. Звонят, звонят колокола...
— Ветер, — сказала Тамара.
— Может, и так... А сына моего вон у той стенки и положили немцы. Молоденького такого. А я живу...
— Зачем же вы пошли сюда работать?
— А куда же еще ходьбы моей, на могилки да туда, где он лег. Спасибо Гмыре, уважил, принял и не гонит... Днем вы на прогулку выйдете, посмотрю я на вас, бегаете, ну ровно и мой сынок меж вами. Он тоже бедовый был.
— Бабушка, бабушка, — сказала Тамара. И потянулась, потянулась к ней, к ее запеченным губам. Бабка Наста обвила ее руками и трижды клюнула сухим ртом, обдала младенческим чистым дыханием: — Дай тебе бог доли и за меня...
— Спасибо, — сказала Тамара. — Спасибо. — И на какой-то миг поверила в несуществующего далекого бога. Наста прошла вместе с ней до стены, оглядела ее, припала к ней щекой и, согнувшись, зашаркала к дому. Когда она скрылась в дверях, к стене подошла и Тамара. Ничего примечательного там не было. Слепая кирпичная стена, без окошек, без дверей. Кирпичи местами чуть выщерблены и заглажены, может быть, ветром, а может быть, руками бабки Насты. Тамара тоже провела по ним рукой. Рука спотыкалась на неровностях в швах, и каждый раз при этом сжималось сердце. Тамара подошла к поленнице, упиравшейся в тюремную стену, и по макушку нагрузилась дровами. И, растапливая многочисленные печи в купеческом особняке, не переставала думать о бабке. А дрова, хотя были и сухими, никак не хотели разгораться. Она вымазалась, как заправский кочегар, и все же заставила их запылать. Но горькое чувство еще долго не оставляло ее...
«Бьется в тесной печурке огонь», — приходит на ум Тамаре. И она радуется: действительно бьется, толчется, как беспризорник, запертый в четыре стены. Обжигает всех, кто попадется на его пути, и выгорает сам до золы. И зачем, для чего? Огонь запирают в печи для тепла, а по чьей воле, по какой надобности оказывается взаперти человек? Она вот, к примеру. Хотя с нею другой случай, она пришла сюда почти что добровольно. Добровольно из нужды.
Тамара спохватывается. Уже давно утро, хотя за окном еще темно. Купеческий особняк разваливается от топота ног и голосов пробудившихся его обитателей. Скоро-скоро заполнятся натопленные ею кабинеты, а она еще не умывалась. И отмыть сажу и смолу холодной водой будет не так-то легко. Тамара выходит во двор и видит, что топится баня, дверь ее распахнута. И она направляется в баню. Банщица и прачка тетя Зина бурно радуется ей. Это та же пожилая женщина, которая выискивала ее особые приметы, когда Тамара поступила в детприемник. Тогда Тамара ее не рассмотрела, потому что немного злилась на нее. А сейчас она видит, что банщица — пожилая женщина, даже утром лицо у нее бесконечно усталое. У некоторых людей усталость на лице от рождения, как правило, это прачки и банщицы.
Лицо у тети Зины сырое, золотушное и маленькое, на нем глубокие морщины и большие скорбные глаза с навсегда закраснелыми веками.
— Знаю, знаю, — ласкает Тамару своими скорбными глазами тетя Зина, — знаю я все про тебя. Вольная ты, как бы истопник у нас. Не тяжело с непривычки-то, девочка?
— Не тяжело, — отвечает Тамара. Ей приятно и немного ознобисто, что даже тетя Зина все знает о ней. Знает, значит, дружно живут здесь, думают о них, не только стерегут. Но Тамаре не хочется, чтобы тете Зине было известно и о Стругайло. Похоже — неизвестно.
— Вадим! — кричит тетя Зина куда-то в парной полумрак бани. — Выгляни. Невеста пришла. — И осекается, испытующе смотрит на Тамару, белыми до синевы руками трогает Тамару за телогрейку с необидным домашним смехом: — А правда ведь невеста. Видела я тебя во сне. Не знаю, что ты так запала мне в душу: будто и впрямь свадьбу твою правила, сына за тебя отдавала. Вот ведь как бывает. Только ты не обижайся, не обессудь меня, это я так, по-бабски. Бабе всегда приятно, во сне ли, наяву, свою или чужую — все одно свадьбу посмотреть. — И тетя Зина вздохнула и стыдливо спрятала руки под уже мокрый передник. Морщины на лице распрямились и стали меньше и не так пугающе глубоки. «А она еще не такая и старая, — подумала Тамара. — Старая, конечно, но не совсем». И Тамара тоже застеснялась своих грязных рук, оробела перед скорбью устремленных на нее женских глаз.
— Я помыться зашла, — сказала она. — В умывальнике вода холодная.
— Что ж мы стоим, — засуетилась тетя Зина. — Вадим, иди слей Тамаре.
Из кисленького тумана, от булькающих чанов и цинковых корыт выплыл парень, очень похожий на тетю Зину, с таким же, как и у нее, дробным лицом, только усталости на нем было чуть меньше и белее оно было, именно белее, а не свежее, чем у матери.
«Малокровие у него, — почему-то решила Тамара, — рыбий жир он пьет». И пожалела парня. Она всех жалела, кто пьет рыбий жир. В детдоме многих пичкали им, но никто от него не поправлялся. И все пьющие рыбий жир были похожи друг на друга, как похожи одна на другую сами рыбы. И руки у них всегда были холодными, и нос отсвечивал синевой. На вид Вадиму было лет двадцать, но могло быть и меньше и больше. Все малокровные словно перешагивают какую-то черту, за которой их возраст не поддается определению, ускользает от человеческого глаза.
Вадим зачерпнул горячей воды деревянным ковшом, окованным сверху и снизу медными обручиками. Этим ковшом обычно поддавали пару, и достался он детприемнику, видимо, еще от купцов. Тетя Зина не трогалась с места, стояла и смотрела, как Вадим сливает, как Тамара моется, только шевелила спрятанными под передником руками, и умываться под ее неотрывным взглядом было неловко.
— Вадим-то у меня уже самостоятельный, — промолвила наконец тетя Зина. — Какую-никакую копейку в дом приносит. — И проясненно посмотрела на сына. Тамара представила, как эта женщина ждала, упаривалась в этом кислом чаду казенных линяющих одежд, пока сын дорастет до этой копейки, как она билась из последнего тут и дома, бесконечно воевала с одолевающими их золотухами, и ей захотелось поскорее на улицу, где здоровый мороз и уже, должно быть, румянится солнце. А тетя Зина перенесла свой осиянный гордостью взгляд на нее.
— Киномеханик он у меня. Это же надо, каждый день кино бесплатное. И за погляд с него ничего не вычитают.
Тамара вздрогнула: господи, и тут настиг ее Стругайло. Так куда же ей бежать, где остановиться, будь проклят ты, человек, придумавший кино. У нее не осталось ни капли жалости ни к этому парню, пьющему рыбий жир, ни к его матери.
— Какую кинокартину сегодня крутишь? — спросила тетя Зина у Вадима. И Тамара поняла, что этот вопрос она задает ему ежедневно.
— «Тарзана», четвертую серию, — ответил Вадим. — У меня выходной сегодня, но я сам попросился. Такой уж там человек, в жизни никогда не видел. И вообще в кино все сильные и счастливые, я без кино не могу.
«Как и без рыбьего жира», — хотела сказать Тамара, но не сказала. Совсем недавно она и сама не могла без кино.
После завтрака всех, кроме Тамары, засадили писать изложение. Вела занятия Вия Алексеевна. Она все время ведала русским языком, а математикой — Мария Петровна. Других уроков беспризорники не знали и радовались этому: все-таки не школа. Поскреб каких-нибудь сорок минут, как курица лапой, ручкой в тетради и свободен. То есть не совсем чтобы свободен, но почти. Классов тут почти не признавали, да и как их признавать, когда многие и ведать не ведали, в каком они классе в кою-то пору учились. Но грамоту в детприемнике давали всем за четвертый класс — кончил ты их там шесть или один — безразлично. Освобождались только те, у кого за плечами уже была семилетка, как у Тамары.
Поначалу Робя Жуков пытался увильнуть от занятий.
— Сука буду, — бил он себя в грудь, — семь классов прошел!
Пришлось вмешаться Гмыре-Павелецкому. Подкинул ему какую-то мудреную задачку на «икс» и «игрек».
Робя возмутился:
— Ты че мне матерную задачку даешь?
— Три группы и четвертый коридор, — сказал ему начальник детприемника, — вот и вся твоя, Робя, грамота.
— Три группы и четыре года с учителкой дружил — семь классов! — не сдавался Жуков.
Но приговор ему уже был вынесен. Сейчас он сидел по левую руку от Андрея, чтобы сподручнее было списывать, и толкал его в бок:
— Как писать: щекотур или щикатур?
Андрей растерялся. Простенькое слово, знал он его, а тут, как на грех, не мог вспомнить, как его писать.
— Пиши: щекотур, — посоветовал Лисицын. — От щекотки оно идет, стену гладят, и ей щекотно.
— Когда меня гладят, мне щикотно, — возразил Робя.
— Тебе, Робя, может, и щикотно, а русскому языку щекотно, — поправила его воспитательница.
И они вновь склонились над листками. Когда Андрей справился с изложением и приготовился подписать свой листок, Робя вновь обратился к нему:
— Пиши, своей рукой пиши: «ученика Роби Жукова».
И Андрей написал бы, но на Жукова зашипел Лисицын:
— Давай без булды, Робя, чище работай. Почерки сравни, от твоего же листка за версту Робей Жуковым несет.
— Подчерки, — разозлился Робя, — плевать я хотел на подчерки. Я хорошистом хочу стать.
— Проверь у него, — приказал Андрею Лисицын. Андрей взял у Жукова изложение, и в глазах у него зарябило. Через руку к нему заглянул Лисицын и прыснул в кулак.
— Робя, — сказал Лисицын. — Будем неграмотными, но будем честными. Ты классик, Робя, и плюй в глаза, кто скажет тебе, что надо писать штукатур, а не щекотур.
До обеда было еще далеко. И ничего интересного впереди не предвиделось. Андрей уже становился чужим детприемнику и чувствовал это. Уже вновь оживал в нем Клинск. Маячил и маячил перед глазами Мишка-дурачок. Грезились наяву хромоногий директор школы с единственным очугуневшим глазом, и лесник с объездчиком, и Витька Гаращук. И все они злобно щерились и указывали на него, Андрея, пальцем, словно безмолвно вопрошали: «Ну как, ушел? Шалишь, братец, от нас тебе не уйти. Наш ты, наш, и останешься ты нашим. И будем мы тебя учить по-нашему, по-клински». И Андрею казалось, что он, как бывало, никогда не сможет выйти на улицу, никогда не сможет стать прежним, потому что изменил Клинску, попытался уйти от него, перехитрить его. А этого его город не прощал никому.
Клинск многие пытались перехитрить, объегорить, смыться куда-нибудь на более легкие хлеба. Бежали в большие города, в дальние края, где рубли длиннее, где солнце жарче, земля плодовитее: в Прибалтику, Карелию, Сибирь, Среднюю Азию и даже на Дальний Восток. Но неизменно какими-то неисповедимыми путями вновь оказывались на улице Деповской, на улице Наливной, на улице Трудовой и прочих улицах Клинска. Жалкие и загнанные, изъеденные жарким солнцем, измотанные длинным рублем, робко вымаливали глазами у земляков прощения. И их на глазах вроде бы прощали, а за глаза... За глаза смеялись над ними, как над выродками и недоумками, так, как не смеялись над Мишкой-дурачком. И на всю жизнь они оставались будто меченые и способны были только вздыхать.
Правда, на Наливной жил такой Левон Агриппинчик, который и кулаком мог по столу грохнуть. Но это ведь был Агриппинчик, что с него возьмешь. Он, слышал Андрей, и с войны вернулся с одним капитанским погоном. «А где второй?» — спросил у него, уже будучи в подпитии, лесник Бондарчик. «А второго не дали, мать их за ногу, — ответил Агриппинчик, — сказали — в мирное время заработаешь, полным капитаном будешь». В общем, чучело чучелом. И, подвыпив уже сам, Агриппинчик темным солдатским кулаком бил по столу: «Капитан я, капитан... Смирно, подтянуть животы... Лыбитесь, гады, вот погодите, дадут второй погон, узнаете Левона Агриппинчика».
Но он так и не получил второго погона. Хотя, как никто из клинских, мотал за ним по всему белу свету, чего только не строил, чего только не рушил и даже, говорят, подворовывал. А погон оставался один, и звездочки на нем уже потемнели.
— Ну что? — встречали его люди после Карелии. — Полный капитан?
— Пока еще только половина, — отвечал неунывающий Агриппинчик.
— Ну как, — спрашивали его после лесозаготовок в Сибири, — произвели уж тебя в капитаны, полный ты теперь уже капитан?
— Почти. Только по всей Сибири ни одного погона по моему плечу не нашлось. Посоветовали тут присмотреть.
Из Средней Азии он возвратился без руки по плечо. Вроде бы уже и ни к чему был ему второй погон, но Агриппинчик все еще домогался его на потеху своим землякам. И потешались над ним зло, за то, что не похож ни на кого, за то, что и одноруким все рвался и рвался куда-то, а больше всего скорее за то, что не смог вырваться. Кто вырывался, тех уважали, ломали шапки перед ними, скребли затылок, провожая взглядом: гляди ты, дурак дураком, а человеком стал...
Андрей, как и Агриппинчик, не стал человеком. Ему предстояло позорное возвращение в Клинск. И он торопился сейчас с книгой под мышкой, как старшеклассник, к Тамаре за печку. Там, за печкой, было тепло и тесно, неоткуда было прихлынуть к нему страхам, не хватало для него простора, света и времени.
Не он, а она отбила эту печку у Роби Жукова. Взяла ее с боем. Сначала к ней за печкой прилепилась Симочка. Андрей возненавидел ее. Но Тамара вскоре выжила Симочку. Может, и не выживала, может, Симочка добровольно ушла от нее, скучно ей стало за печкой. И ее место занял Андрей.
Чудное место. Стояла печка недалеко от двери. Между печкой и стенкой был проем, как раз поставить стол и два стула. И никто тебя не видит, не видит лица твоего — сумрачно, лампочка в стороне, по центру, но света хватает, чтобы читать, а ты видишь дверь, всех, кто входит в нее, бабку Насту, дремлющую на стуле, окно и горку вдали, на которой катаются дети.
Детприемник у тебя за спиной, за кирпичными стенками печки. Ты отделен от него теплом, мраком и камнем, ну как будто в другом мире находишься. Для бабки Насты бы еще кота под стул, пушистого, ленивого — хоть сам ложись, — да клубок ниток под ноги... Но и так хорошо, нитки и кота можно додумать. И до чего угодно можно додуматься, сидя за печкой.
Вот уже старенький ты. Ну не старенький, а взрослый. И печка твоя стоит не здесь, не в купеческом особняке, не в детприемнике, а в простой деревенской хате. В трубе воет, злобится на тепло ветер. Возятся под печкой куры, вскрикивают спросонья, потревоженный ими, цвирчит сверчок-цвиркун, шашель-точильщик точит сухое дерево. А ты с Тамарой слушаешь все это и смотришь, как вползает в комнату ночь. Прислушиваешься, не промычит ли в сарае корова, тем особым взмыком радости и боли извещая землю, что одним живым существом на земле стало больше. И тогда они с Тамарой бросятся в сарай и принесут в хату рыжего, вылизанного материнским языком теленка. Теленок будет беспокойный. Беспамятный, он будет помнить о матери и рваться туда, в сарай, скрести пол копытцем. Попробует встать на ноги, но они у него еще слабые, подламываются. Тогда он поднимет на вялой шее лобастую голову и попробует голос. А корова будет трубно мычать в сарае и, может быть, всплакнет там крупными коровьими слезами. Тамара захватит горячей воды и пойдет к ней, укутает корову в пальто и дерюжки. Принесет первое молоко-молозиво.
А потом они покормят теленка из соски. И сами поедят молозива. Что может быть вкуснее этого первого молока-молозива! В доме установится тишина. Только будет посапывать теленок. И они будут слушать это сопение и ни о чем не думать...
Вот до чего можно додуматься за печкой. Потому и стремится туда Андрей. Правда, вчера он не пошел за печку. Тамара взяла в каптерке свои вещи — ей разрешили. В белом в горошек сатиновом платочке — бумаги, фотографии, камешки какие-то, метрика и паспорт. Весь детприемник целый день разглядывал эти бумаги, фотографии. И Робя Жуков и Лиса побывали вчера за печкой. И не раз. А он не пошел. Не пошел, и все тут. Обиделся? Может, и обиделся, что не ему первому она показала свои фотографии. А после чужих рук и глаз он не хотел на них смотреть.
Кое-что, правда, он разглядел. Издали. Увидел на желтой фотографической карточке веселую девочку в веселом матросском костюмчике. Увидел — и будто его ударили по зубам. Что-то там, в ее давней жизни, было такое, чего не было у него, чего он не знал... И теперь уже знать не хотел, потому что все эти красивые фотокарточки разделяли их, отдаляли его от нее.
Пусть эта ее давняя, прежняя жизнь остается для него неведомой. Пусть она даже умрет, эта ее давняя жизнь, для него. Так будет лучше. Так они, Тамара и Андрей, останутся открытыми друг для друга, потому что сегодня, сейчас нет между ними никаких заслонок, а там были. Сегодня же они в одном детприемнике, сидят за печкой, одинаковые в счастье и несчастье. И все им ведомо друг о дружке, дыханье даже слышно. Они друзья. И все у них заедино.
Он рад Тамаре, Тамара — ему. Андрей видит это по ее глазам. Хотя глаза у Тамары не такие, в которых всякий может что-то увидеть. Особые у нее глаза, гипнотические — это значит, черные. И они всегда, стоит только попасться на них Андрею, распахиваются, дробятся множеством светлых и теплых крапинок. В дробных крапинках и живет у человека радость, это Андрей знал еще и до Тамары, а испуг и печаль неделимы, глаза тогда застывают и становятся как бы стеклянными.
Дробятся крапинками глаза у Тамары. Андрей уже увидел это и теперь смотрит на Тамарины руки. Они смуглые и узкие, как дубовые осенние листья меж листов раскрытой книги — маленькие такие дубовые листочки.
— Какой же ты еще маленький, — неожиданно говорит ему Тамара. — Ну почему ты такой маленький? — говорит, будто сама бог уж весть какая большая.
— Давай померяемся! — Уж лучше бы она его ударила, чем напоминать о том, чего он сам никогда не мог забыть и простить себе не мог. — Какая-то ты сегодня не такая, — отодвинулся от нее Андрей.
— Какая же я?
— Другая. Я не к такой тебе шел... — Теперь он что-то сказал лишнее. Тамара часто заморгала, будто старалась сморгнуть это лишнее, но, видимо, у нее ничего не получилось. И обоим им стало не по себе. Вроде бы уж очень понесло жаром от печки и не хватало воздуха. Они сидели теперь на расстоянии друг от друга и хотели придвинуться, но не могли, будто между ними появился третий.
И это было чудно Тамаре. Очень чудно. Ведь этот беспризорник Андрей был для нее как Карло-ключник и походил на него. А вот вести себя с ним, как с Карлом-ключником, не получалось.
— Хочешь, я покажу тебе свои фотокарточки? Я специально их взяла, чтобы тебе показать.
Все в нем вздрогнуло: вот уж до чего дошло у него дело — до фотокарточек. А какой лопух в Клинске не знает: если девчонка дарит тебе фотокарточку, то это значит... Ничего это не значит. И не дарит она тебе фотокарточку, а показать только хочет. Робя Жуков и Ванька Лисицын на них уже до тебя смотрели.
— Не надо мне твоих фотокарточек, — мстительно сказал Андрей. Поелозил стулом, сделал вид, что отодвинулся от нее еще дальше. А на самом деле поставил свой стул чуточку ближе к ее стулу.
— Я вот все смотрю на тебя, — начала Тамара, неудобно ей, видимо, все же было за фотокарточки, — смотрю на тебя и думаю: кем ты станешь, когда вырастешь?
«Подлизывается», — подумал Андрей и бухнул первое, что пришло на ум:
— Летчиком.
Бухнул и испугался. И Тамара вздрогнула. В детдоме был мальчишка, с которым она дружила. Как раз в то время летчики взяли шефство над детдомом. И она полюбила летчиков. Они приезжали по воскресеньям к ребятам, привозили подарки. А когда у Тамары был день рождения, она у одного из летчиков сидела на коленях... Ничего, конечно, необычного. Но она только раз сидела на коленях у взрослого. Он мог быть ее отцом.
А мальчик, с которым она дружила, — звали его Валерий... Валерий Павлович, — вскоре уехал из детдома. Оказалось, он никакой не Валерий Павлович — у него нашлась мать. Уехал мальчик из детдома. Обещал писать ей, прилететь за ней, когда станет летчиком. Но не написал и не прилетел.
— Ну почему все мальчики хотят стать летчиками? — спросила Тамара у Андрея. — Ну почему?
Но Андрей уже раздумал быть летчиком. Хотя это и здорово: голубая фуражка, голубые петлицы. Но он, Андрей, уже летал, он был уже бабочкой. И больше ему летать не хотелось.
Тамара и Андрей отчужденно молчали. Дышала теплом печка. Потрескивали, отдавая жар и сжимаясь, кирпичики. Из щелей меж ними чуть-чуть тянуло угаром.
— Хватит, — первой подвинулась к Андрею Тамара. — Скажи мне лучше, какую ты книгу читаешь?
— «Великий Моурави», — сказал Андрей.
— Ну и как, нравится тебе? — Она засмеялась.
— Очень, — заверил ее Андрей. И покраснел, покосился на проходящего мимо Кастрюка. Отыскал Лисицына с Жуковым. Они стояли у окна и убивали его взглядом. «Ну и пусть», — подумал Андрей.
— Слушай, — обратился он к Тамаре. — Слушай, а у вас же в Грузии все время лето, и даже виноград растет.
— Растет. Виноград у нас растет, — сказала Тамара и не захотела больше говорить о Грузии.
— Хочешь, я тебя по-белорусски научу?
И они занялись белорусским. И Тамарина грусть вскоре прошла, разве можно грустить за печкой. Они хохотали и веселились, как только могут хохотать и веселиться люди к слезам. Проходившая мимо Вия Алексеевна покосилась на них, видимо, позавидовала их веселью. Торопливо скрылась с глаз. Покосился и смолчал и появившийся в зале Гмыря-Павелецкий. А Тамара ни с того ни с сего зарделась и перестала смеяться. Разговаривать даже с ним перестала. С чего бы это вдруг? Какая это муха ее укусила?..
15
Наконец-то они дорвались до улицы. Вернее, не улицы, а бывшего купеческого, а теперь детприемниковского двора. Их вывели на прогулку. И узкий дворик показался огромным-огромным. Понимали купцы толк в просторе, будто заранее знали, кому доведется бегать по их двору.
А бегать разрешалось, разрешалось играть в снежки и даже в чехарду, только в прятки нельзя было. Боялась воспитательница, как бы кое-кого потом не пришлось искать ей самой.
А двор для пряток очень подходил: длинные ряды дров, сани с кошевой из лозовых прутьев, телега с присыпанным снежком, завалявшимся еще с осени сенцом, сарай для лошади и второй сарай неведомо для чего, заброшенный, и черненькая банька, неплотно подогнанная к затянутому колючей проволокой забору, — всюду можно было спрятаться. Но нельзя.
Добро еще, Мария Петровна согласилась вывести их на прогулку. Вон Вию Алексеевну сколько ни уговаривали, ни в какую. А Марию Петровну уломали. Молодец Мария Петровна. Она сейчас ходила под руку с Тамарой и о чем-то беседовала с ней, и Андрей слегка завидовал воспитательнице. Не тому, что та держала Тамару под руку, еще чего не хватало, да ни в жизнь он не возьмет девчонку, пусть и хорошую, под руку. Он завидовал, что Мария Петровна рядом с Тамарой, а ему теперь, значит, нельзя к Тамаре.
А Тамаре скучно, ясно, скучно. Вон она как по двору глазами бегает, ищет кого-то глазами. Не забывает, что с воспитательницей ходит. Да будь он сейчас с Тамарой!..
Такой огромный двор, так горит на солнце чистый снег, что того и гляди чудо какое случится, как случилось уже с ним. В такой же вот день он, захватив саночки, отправился с ребятами в лес за дровами. И там попутал их леший. Оставили на минуту саночки, отошли в сторону. Вернулись — нет саночек. Стали искать — сами ребята порастерялись все. Голос слышен, следы видны, а ребят нигде нет. И туда и сюда — пустой лес, только хохот в нем. И по деревьям кто-то бродит, снег роняет. Леший. Леший водил их за собой до вечера. Путал голоса, смеялся. И только вечером, на закате, свел всех вместе возле саночек.
Хохотали на радостях, даже страшно стало, дурным хохотом. Бегом бежали из лесу.
Ну наконец-то отклеилась воспитательница от Тамары. Бегом сейчас к ней. Вот невезуха так невезуха. То вроде бы она, Тамара, искала его, Андрея, по всему двору. И увидела — обрадовалась, улыбнулась. Но тут же поворот на сто восемьдесят градусов. Бегом от него. Воспетку за локоток. Ну, бабы, ну, бабы. Вот и пойми их после этого. Что в нем страшного, что она бегает от него? Хочется же ей, хочется с ним походить. Гад буду, Тамара, ты дура. Гляди, за такие переборы получишь лапти да оборы. Я бегать за тобой не буду. А что делать? Скучно, тоскливо... Выдумали тоже: прогулка. Сидели бы себе в тепле, а тут мерзни.
А беспризорники с улюлюканьем носились по двору. Впопыхах, накороткую сводили друг с другом счеты. Но никто не ревел и не орал. Понимали: заори — и тут же очутишься в четырех стенах. К Андрею подобрались Робя Жуков с Ванькой Лисицыным.
— Ну как, Монах, не раздумал еще? — кивнули на подпиравшие крышу сарая беспорядочно сваленные бревна. Да, по ним действительно нетрудно было уйти. Три метра бревен, метра три крыши, и по другую ее сторону уже свобода.
— Не сыпь маком, — сказал Лиса. — Только тебя сейчас возле воспетки и не хватает. Твое дело простое. Развернуть ее от сарая, пусть на борнягу смотрит. Как?
Андрей промолчал. Не с руки ему было сейчас помогать Робе с Лисой. Гордость не позволяла ему сейчас подходить к воспитательнице, теперь уже Тамара держала ее под локоток... Да и теплилась еще в нем надежда, что все обойдется по-хорошему, не отправят его в Клинск. Молчал Клинск, не отзывался на запросы, не больно нужен он был там. Может, и отречется от него Клинск, проклянет и забудет, что жил в нем когда-то Андрей Разорка. Клинск проклянет и забудет, Робя с Лисой не забудут и поколотят, но это можно стерпеть. Это лучше, чем гнев Гмыри-Павелецкого и обратная дорога в Клинск.
— Никак, — сказал Андрей. — Никак, Робя. Никак, Лиса...
— Под дых? — спросил Лису Робя.
— Под дых, — ответил Лиса. — Сексот, сука, все равно ты от нас не уйдешь.
И Андрей схлопотал бы под дых. Он уже приготовился получить свое и больше не бояться. Но в самую последнюю минуту между ним и Жуковым встала Тамара, как из-под земли выросла.
— Что, майский жучок, — сказала Жукову, — крылышки чего распускаешь? До весны-то еще далеко. Оперился уже, отросли волосики? Не рано ли?
— Сука, фискалка, — прошипел Робя, и Лиса утащил его.
— После, Робя, после рассчитываться будем... Темную вы оба уже напросили себе, — пригрозил он, уходя, Тамаре с Андреем. — Мы долгов не любим.
— Что у тебя с ним? — спросила Тамара Андрея, когда они остались вдвоем.
— Ничего... А почему ты его майским жуком назвала? — перевел разговор на другое Андрей.
Она непонятно посмотрела на него и смутилась:
— Потому что ты камса. А я... Я тоже майская жучиха. — И больше он не вытянул из нее ни слова. И смысл их Андрей узнал гораздо позже и уже не в детприемнике. Что такое «камса», он, правда, понял сразу, а майскими жуками в детдомах называли таких, как Робя Жуков, парней, которые уже вышли из возраста, чтобы жить в детдоме, и бегали из детдомов весной и летом. Улетали из них по первой зелени, подобно майским жукам, а к зиме прилетали обратно, подбривали где нужно волосы и таким способом омолаживались, готовясь к экспертизе, определяющей годы, и становились подростками-детдомовцами до новой зелени.
Прогулка продолжалась. Детприемниковский конюх принес топоры и пилы, наладил ребят на распиловку и колку дров. Андрей уже отвык от звона пилы, от белого шороха опилок, и узнавать все это снова, открывать заново было просто наслаждением. Он будто после долгой голодовки дорвался до еды, И хотя детприемниковская пила была лядащенькой, а колун елозил, неплотно держась за топорище, было все равно приятно разваливать им звонко лопающиеся на морозе березовые чурбаки.
Андрей распарился, сбросил фуфайку, сбросил бы и шапку, да бабка Наста не дала, она складывала дрова вместе с ребятами.
— Хозяином будешь хорошим, — сказала бабка Наста. — Поверь мне, я чую, в ком хозяин сидит. Чего ты только в бега ударился, непонятно.
Приятно, конечно, слышать такое. Но он старался вовсе не ради того, чтобы заслужить бабкину похвалу. Он готовил дрова для Тамары. Завтра она бросит их в печь. Чтобы они горели как надо, он приготовит их полешко к полешку, хоть на выставку. Не тонкие — от тонких что, ни жару, ни пару, не толстые — от толстых тоже проку мало, печка выстудится, пока они прогорят. Такие, чтобы в самый раз. Только у них в Клинске, может быть, и умеют такие дрова рубить. Вон Маруська Кастрюк понимает, что к чему. Рот от удовольствия раскрыла, того и гляди полено проглотит.
И каждая жилка в нем дрожала и пела. И схватившиеся с отвычки мозоли были тоже в радость. Он гордо и бережно носил их на затяжелевших от работы руках. Дал пощупать их Кастрюку. Но Кастрюк не оценил.
— Лентяй за дело, мозоль за тело, — сказал он.
Врезать ему Андрей не успел. А врезал бы, честное слово, врезал бы. Но тут его позвали к Гмыре-Павелецкому.
— Завтра домой, — не пустил его дальше порога Гмыря-Павелецкий. Купеческий особняк закачался и, показалось, рухнул. Придавленный им, Андрей все же устоял, удержался на ногах. И не уходил, ждал. Нет, не начальник детприемника, не Гмыря-Павелецкий был перед ним в эту минуту. А тот другой, давний, умерший, ожил вдруг. И Андрей ждал, что он сейчас поднимется и вложит в его протянутую руку ломоть хлеба. Спасительный, живительный для него ломоть.
И тот, давно уже умерший, посочувствовал ему:
— Мы не против были определить тебя в детдом. Но получили письмо от дядьки. Требует немедленно тебя назад. Иди, готовься к отъезду.
Короткий переход от кабинета Гмыри-Павелецкого до общего зала растянулся в вечность. Целую вечность распахивалась одна только дверь из кабинета. Скрипели, будто по живому сдирая кожу с его тела, петли, их скрипу тоненько подыгрывало стекло в оконной раме, от которого сразу зазвенело в ушах. И уши заложило, странно так заложило. А тело словно обкрутили ватой. Звуки для него остались, но они жили своей, не зависящей от его движений жизнью. Они рождались где-то в одном мире, а он был в другом. И не было между этими двумя мирами никакой кладочки.
Он ставил на ступеньку ногу. Но и нога его была из другого мира, не принадлежала ему. Непонятно было, чья она и откуда взялась и кто ею управляет. Сам же Андрей, казалось ему, не идет, а плывет в сером слезном тумане.
Коридорчик от одной до другой лестницы, в котором сталкивались две борющиеся струи воздуха, одна — из уборной, вторая — из кухни, никак не отложился в его памяти. И дальше идти было некуда. Путь кончился. Перед ним была дверь мощная, тяжелая, но покрашенная в обманчиво-легкий голубой цвет. Ее заботливо распахнули перед Андреем, но он не поверил, что вошел через дверь, он словно бы перелился через замочную скважину, так невесомо и воздушно стало его тело. Сквозняк, тянущий от распахнутой форточки и двери, клонил его во все стороны, будто он не стоял на ногах на коричнево крашенном полу, а отражался в воде, и ветер ломал его отражение, как ему вздумается.
— Проходи, не маячь, — сказала бабка Наста.
Он ступил в зал, и перед ним перекошенно-карикатурно нарисовалась черно ухмыляющаяся рожа Роби Жукова.
— Должок когда будешь платить? — желто прошевелились сучки Робкиных зубов.
— Сейчас, — пообещал Андрей и сжал кулаки.
— Ты чего, стукнулся? — И Робя Жуков стаял с его пути. Андрей не удивился, а продолжал шагать вперед. Там, впереди, среди однотонного черно-беспризорничьего одеяния раздражающе зеленел влекущий к себе цвет. Андрей знал, кому он принадлежит. Зеленое в детприемнике носила лишь Вия Алексеевна, под цвет глаз. Багрилось переспевающим ячменем правое ее веко. И Андрей шел к ней, как на светофор. Поравнялся и в ярости стал попеременно выбрасывать ей в лицо кукиши.
— Вот тебе! Вот тебе!
— Спасибо, — сказала Вия Алексеевна, — спасибо. Только моим ячменям это не помогает. — И неожиданно прижала его голову к своему зеленому платью. И он лбом ощутил, как сквозь тонкую и, наверно, дорогую материю стучится ее сердце. Запах поздних ландышей и набирающей солнце лесной земляники и еще один запах — то ли ее волнения, то ли женского тела — оглушил его.
— Не надо отчаиваться, — говорила Вия Алексеевна. — Вот увидишь, все само собой наладится.
— Что наладится? — гневно оторвался от ее платья Андрей. Вия Алексеевна смешалась, приложила к его разгоряченному лицу ладонь.
Ладонь у воспитательницы оказалась мягкой и освежающе-прохладной. И Андрей не удержался, сам того не желая, поцеловал ее. Вия Алексеевна вздрогнула, но руки не отняла. А ему уже хотелось укусить ее, сделать ей больно, так же, как больно сейчас было ему. Она предала его, обещала помочь и не помогла, загоняет его опять в Клинск.
Но даже предавшая, изменившая ему, Вия Алексеевна была дорога Андрею, потому что она была детприемниковская. А лучше и светлее жизни, чем в детприемнике, он до сих пор не знал.
— Я приеду сюда снова, Вия Алексеевна. Вот посмотрите, снова приеду.
— Пойдем лучше присядем, — потянула его за рукав воспитательница. Андрей огляделся. Действительно, стоять у всех на виду было нелепо. И они присели на диван.
— Подумай, — будто самой себе сказала Вия Алексеевна, — ты прежде подумай, чем что-то делать.
— А чего думать? Я уже все передумал. Силком никому мил не будешь. Приеду, поздравствуюсь — и до свиданья. Аллюр три креста. Снова сюда.
— Может быть, ты и прав.
— Так вы не против? — обрадовался Андрей.
— Я всегда буду против. Я против. Я воспитательница... — Она хотела еще что-то сказать, но не решалась, поежилась, хотя было тепло.
— Вы непохожи на воспитательницу, — заверил ее Андрей.
— Спасибо тебе, но не вздумай сказать этого при Гмыре-Павелецком.
— Если вы просите, никому не скажу...
— А убегать из дому тяжело? — внимательно посмотрела на него Вия Алексеевна.
— Да, нелегко, — признался Андрей. — Первые километры трудные. Пока свое, знакомое тебе мелькает. В уши тебе, кажется, все кричит: куда ты? куда ты? А вот уже чужое пошло — тут легче.
— М-да, — качнула головой воспитательница. — Тяжело, и все равно убегаешь.
— Да, вам хорошо сидеть тут и говорить... Вы выросли уже, о чем вам теперь беспокоиться? — Андрей всхлипнул сначала немного искусственно, но потом представил себя в Клинске и зашмыгал носом по-всамделишному. Горе и обида вновь забились, застучали в виски. Пожалели его... Но разве от этого он стал счастливее. Пусть они сейчас всем скопом прибегут жалеть его, он будет не менее несчастлив. Все равно впереди дорога как будто на тот свет. Нет, не жалость ему нужна. Он сыт жалостью уже по горло.
В том же Клинске его жалели не раз. И не так по-интеллигентски, как Вия Алексеевна, а более умеючи. И со слезой в голосе и на глазах, с присказками и подговоркой. Жалели бабы, жалели дедки, тетки и дядьки, собаки и даже коровы. Зализывали шершавым языком его вихры. А что переменилось? Пожалуй, от этой жалости ему стало еще хуже, он еще острее чувствовал себя в чем-то обойденным, обиженным, непохожим на других.
Так чего же ему надо, чтобы стать таким, как все? Чего ему не хватает? Хлеба? Его не хватает, считай, всем. Сахара? Молока? И этого мало кому достается вволю. Воды, воздуха и ему от пуза. Пей — не хочу, дыши— не желаю. А руки-ноги у него целы, не калека, и голова на плечах, и припадочная его не колотит.
Отца-матери нет? Ну так и что? Разве большая разница между ним и Кастрюком, хотя у того все есть, даже атлас железных дорог? Но что же?..
Выходит, он сам во всем виноват. А в чем — во всем? Голова или брюхо, что ли, у него не так устроены? Голова сейчас у него горит, охвачена огнем голова. А брюхо молчит, затихло брюхо, испугалось, подлое. Чего испугалось, признавайся, чье сало съело? Он ведь хочет, очень хочет быть добрым...
— Не горюй, — сказала Вия Алексеевна и поднялась. — Не горюй, мы с тобой еще побеседуем. — «Нужна мне твоя беседа, как жабе морковка», — подумал Андрей. И не сказал он воспитательнице этого или еще что-нибудь пообиднее только потому, что боялся расплакаться. А плачь не плачь, слезами не поможешь. И дальше будет еще горше. Еще горше будет, когда паровоз спросит его, проголосит над ним: куда ты? куда ты?..
Воспитательница ушла по своим воспитательским делам. И Андрей не смог усидеть один на диване (а к нему никто не присаживался, будто его уже не было здесь). Он поднялся и двинулся по залу, далекий от мысли о прощании со всеми, но мысленно уже прощаясь с каждым.
За еще не зашторенным окном темнело. И темень уже вползала в сырые и ослизлые углы общей комнаты. Таилась и подглядывала за ним влажными бельмами облупившихся стен. Андрей добрел до одного угла, поколупал краску ногтем и отправился в другой. И все, как призраку, уступали ему дорогу, не задевали его глупым сочувствием и жалостью. Тогда он сам решил подойти к Кастрюку.
— Хочешь, я сыграю тебе на балалайке «Светит месяц»? — потупившись, предложил Андрею Кастрюк.
— Валяй, — согласился Андрей. Но едва Кастрюк ударил по струнам, остановил его:
— Не надо.
— Сегодня? — отважился, посмотрел ему в глаза Кастрюк.
— Завтра.
— Завтра еще хуже, чем сегодня. Когда всё, так уж лучше сразу. Давай тогда в шашки. — И они устроились за столом в шашки. Играли долго. Кастрюк, молодец, не поддавался. А Андрей во что бы то ни стало хотел выиграть. Но по-честному. Он загадал: выиграет по-честному, значит, вернется еще сюда. И был осторожен и не шел на размен.
А голова разламывалась от боли, и шашки он видел с трудом, мешали слезы, и он не пытался сдерживать их и не особенно приглядывался к доске. Шашки, белые — свои, черные — Кастрюка, видел не глазами, а держал в памяти и, прежде чем походить, перемещал их сначала не на доске, а там, в голове, и мгновенно понимал, куда метит Кастрюк и чем ему надо отвечать.
Прошло минут двадцать, а на доске уменьшилось всего лишь на две шашки. Андрей ринулся в атаку. Кастрюк пытался навязать ему размен, но он не дался. Андрей обкладывал его со всех сторон, запирал все ходы и выходы. Кастрюк тужился, пучил глаза, вздувал жилы на руках, и по ним Андрей судил, что игра идет честная, без дураков. Глаза его уже высохли, и щеки, омытые слезами, пылали. Он верил, Кастрюку не уйти, верил, что разгромит его наголову и победа будет такой, какая и не снилась ему.
Кастрюк беспорядочно метался по доске, стремясь уйти от поражения. Андрей настигал его и не щадил. И наконец Кастрюк поднял руки:
— Сдаюсь.
— Нет, до конца!
— Так и так ясно же!
— Одиннадцать вонючих признаешь?
— Да ты что, какие вонючие?
— Ходи!
И Кастрюк сделал свой последний ход. Андрей запер его намертво, и у него еще оставалось два запасных хода.
— Одиннадцать сортиров, — победно откинулся на спинку стула Андрей.
— А еще придурялся, что играть не умеешь, — с тоской посмотрел на доску Кастрюк. — Еще раз.
— Хватит, — сказал Андрей. Он уже потерял интерес к шашкам, лихорадочное напряжение спало, и на душе стало опять пусто, будто вместе с этой победой все сгорело в нем.
— Вася, иди сюда, — позвала Кастрюка Кастрючиха. Она стояла у окна, неподалеку от стола с шашками. Андрею было безразлично, зачем Кастрючиха позвала брата. Но в тот вечер для него в детприемнике не существовало тайн. В тот вечер в детприемнике не было произнесено ни слова, о котором он бы не знал. Потому что он, Андрей, был всюду и с каждым. Оставаясь в зале, он слышал, о чем там, в кабинете Гмыри-Павелецкого, говорят воспитатели. Вия с Марией настаивали, чтобы его, Андрея, не отправляли домой.
— Не можем не отправить, — отвечал им Гмыря. — Есть письмо от его дядьки и тетки.
— Есть ребенок...
— Есть. Но никто нам не давал права забывать и о его родных. Никто нам не мешает позаботиться о нем и там, в его Клинске. Я приготовил письмо для райисполкома. Они обследуют эту семью. Не надо думать, что мы последняя инстанция, иначе мы потонем, окажемся в одиночестве...
— Отдай, Вася, коли ты брат мне, отдай ему атлас, — говорила сестра Кастрюку. — В деревне мы дорогу в поле и в лес без атласа найдем.
И только Тамары не слышал Андрей. Молчала она для него. Не знал он даже, о чем она думает. Подошли Кастрюк с Марусей.
— Держи, — сказал Кастрюк, вытащил из-за пазухи и подал Андрею теплую синенькую книжицу. — Тебе еще сгодится, а мне уже нет. На следующий год побегу — и посадить могут.
— Держи, держи, — сказала Кастрючиха. — Нам в селе книги ни к чему. А тебе по ней сподручнее будет дорогу выбирать. Не заблудишься.
— На все четыре стороны, — сказал Андрей, — и всюду моя дорога. Не заблужусь.
— Ой, не, Андрейка, не. Твоя дорога прямая, вот сюда. — И Маруся Кастрюк постучала ногтем по столу. — Ждут тебя здесь. — И оглянулась на печку, за которой сидела Тамара.
Андрей полистал книжицу, подержал ее в руках и вернул Кастрюку.
— Дорога у меня вот здесь, — постучал по лбу, — в голове. Вся ветка: Белжэдэ, Мскжэдэ. Другой мне не надо.
— Правильно, — поддержал Кастрюк. — Вот это да. А то заладил бог весть что. Я буду тебя ждать до весны, до пахоты.
— Лады, — откликнулся Андрей, и они разошлись.
К Андрею подобрался Робя Жуков.
— Едешь? — спросил Жуков.
— Еду, — ответил Андрей.
— Хорошо, — сказал Робя.
— А чего ж хорошего?
— Домой едешь.
— Можешь и ты поехать.
— Хи, мог бы — поехал.
— К отцу с матерью должен поехать.
— Я своей матери должен только два литра молока, Монах. Больше ничего никому не должен. Два литра, когда ма-а-а-ленький был...
— Жива у тебя мать?
— Жива, только контуженная, ранетая войной, говорит... И не молоком мне надо отдавать ей теперь, а водкой.
Посидели, помолчали. Далек был Андрей сейчас от Жукова, и тот как бы чувствовал это.
— Завидую я тебе, — сказал он Андрею. — Тебя можно куда-то везти, а меня некуда везти. Это правильно, что тебя от нас с Лисой везут. Не попадайся больше нам. — И ушел.
К Тамаре Андрей подсел только после ужина. Он подошел бы и раньше, но не знал, о чем с ней говорить. Каждый раз, когда он приближался к ее столу за печкой, на глаза наворачивались слезы и горло обкладывало жаром, давкий комок запирал все слова.
Да и о чем говорить, разве и так не все ясно. Его увозят, ее оставляют. Кому хуже — неизвестно. Все же, видимо, ему, у него есть дядька с теткой, а у нее — никого, ее не к кому и некуда везти. А его — в Клинск. Зачем в Клинск? Ему так хорошо здесь, за печкой...
Тамара же в это время думала несколько по-другому. Она не знала Андреевых страхов, но доходила до них сердцем, хотя так до конца и не понимала их. Ну и что из того, что везут его к дядьке с теткой? Все равно ведь — домой. Какой-никакой дом и родственники. Есть у него на земле свой уголок. Есть на земле среди бескрайности полей и лесов островок. И в самую трудную минуту он может прибиться, причалить к нему. Откинет железную щеколду, откроет калитку и узким двориком, обсаженным георгинами и вьюнками, направится к родному порогу. Исклеванному топором порогу, на который когда-то ступали его отец и мать. Пусть их нет, но дерево еще хранит тепло их ног.
А ее не помнит и не знает ни один дом на земле. У нее сейчас только вот эта детприемниковская печка. Печка приняла и укрыла двоих, окутала теплом, спрятала от чужих глаз. И теперь она остается одна за печкой, как старуха, отдавшая войне всех своих детей.
По утрам она будет затапливать печку, но не потому, что это ей надо, а чтобы шел из трубы дым, чтобы видели люди: жива еще старуха, не померла. Коптит небо. Пережила своих детей, пережила радость, переживет и горе. В одиночестве схватится тоской и чесоткой тело. Она поскребется ногтем под сердцем, вздохнет и сидя задремлет чутким, всеслышащим сном.
Может, это и к лучшему, что его увозят. Так, значит, надо. Такая уж у всех казенных людей судьба. Но сердце ее не согласилось с этой очевидной и простой до жестокости мыслью. Трепыхнулось в груди, как ребенок, и заметалось, заметалось, не в силах ничего изменить. Беспомощность была сладкой и тут же пролилась двумя слезинками. Ей захотелось, чтобы этот мальчишка-запечник обнял ее, хотя она и знала — это невозможно. Оба они сейчас сидят на детприемниковском инвентаризованном стуле. На ней тоже уже когда-то зависла инвентаризационная алюминиевая блямбочка. Это и есть ее клеймо, ее отметина на всю жизнь. И потому чистый человек, незнакомый с этим, никогда не приблизится к ней. И этот мальчишка тоже...
Вот теперь Андрей слышал Тамару и понимал. Да, в своей жизни он не дружил еще, не любил ни одну девчонку. Но у него была бабушка, он любил бабушку, и бабушка его любила. И не только его. За свою долгую-долгую, с детьми и без детей, жизнь она прошла через все — и через любовь, и через ненависть, через горе и радость, и через понимание и непонимание людей. И все это завещала ему — внуку. Черный немецкий пес стерег его, чтобы не допустить к нему бабушкину память. Не устерег. Умри, пес, сгинь, животина. Отныне ты не властен над ним. Ты можешь еще напугать его, но не своротить с пути. Сегодня в нем уже пробуждается мужчина, хотя он этого и сам еще не знает. К тем, кому довелось хлебнуть горя, зрелость приходит гораздо раньше, чем к тем, которые живут без мук и слез. И Андрей взглядом обнял Тамару, а может быть, не Тамару, а совсем другую девчонку, придуманную им, которую ему еще доведется встретить. И из дальнего далека она сошла к нему в нелепой казенной блузе с металлическими пуговицами, в старушечьей с лиловыми разводами косынке.
— Я приду к тебе, я найду тебя, — сказал он, обращаясь одновременно к этой, настоящей, сидящей перед ним, и той, будущей, еще неведомой ему.
— Не надо, — отвергли будущая и настоящая, одна с грустью, другая с радостью.
— Надо, — настаивал он с покоряющей твердостью. — Я сбегу здесь же, сегодня, со станции.
— Со станции не надо. Эта станция только начало. От начала не убегают...
«Начало — это ты и я. И нету других начал. Ты и я, как когда-то были наши отцы и бабушки. А сегодня мы. Мы уже встретились. И встретимся еще раз. Встретимся, как ни ходят за нами немецкие псы, как ни стерегут нас случай и запоры, как ни обкладывает нас судьба, как ни кружат наши дороги.
Мы начинались в детприемниках, среди дорог, вшей и развалин. И никогда не должны забывать об этом. Иначе же нас проклянут наши дети. А они должны знать, что среди вшей и развалин, в детприемниках, в детдомах и колониях жила и любовь. Жила. Любили друг друга беспризорник-белорус Андрей и беспризорница-грузинка Тамара. Не плачь, я тоже уже не плачу. Все это было, было. И прошло. И пусть дети наши никогда не увидят наших слез».
— Я приеду домой, поживу недельку, — сказал Андрей, — и снова в дорогу, потому что у меня все равно нету дома. Не вышло с первого раза найти дом, буду пробовать еще.
— Ты найдешь его, я верю.
— Конечно, — ни на минуту не усомнился Андрей. — Я приеду снова сюда.
— Конечно, сюда, — согласилась Тамара, хотя и не поверила.
И тут Вия Алексеевна объявила отбой. Тамара забрала свою книгу и покорно отправилась в спальню. Андрей попросил воспитательницу, чтоб разрешила хоть немного посидеть здесь, за печкой. Подумав, Вия Алексеевна согласилась:
— Сейчас у нас будет репетиция. Концерта ты все равно не увидишь. Посиди, пока репетиция не кончится, и считай, что мы выступаем для тебя... С Новым годом тебя, Андрей!
И он остался в зале. Он и еще пять девчонок, среди которых были Симочка и Маруся Кастрюк. Вскоре пришла сестра Вии — Ия. Она работала здесь же, в детприемнике, бухгалтером, невысокая, толстенькая и совсем непохожая на Вию.
Девчонки сдвинули к стене столы, построились. Ия уселась за пианино. И ударилась о зарешеченные окна с прилипшей к ним с уличной стороны луной музыка.
— И-и раз! — скомандовала Вия. Ия ударила по клавишам. Девчонки взмахнули руками и дрыгнули ногами.
— Стоп! Стоп! — захлопала в ладоши Вия. — Не так, не так, девочки! Начинаем сначала. И-и раз! — И все повторилось сначала. Отпрянула от окна луна, взметнулись девичьи руки. И снова захлопала в ладоши Вия Алексеевна:
— Не так, еще раз!
Потом было еще раз, и Вия Алексеевна взорвалась.
— Ты что, деревянная? — закричала она на Марусю Кастрюк. — Ты смотри, руки должны идти, как крылья птицы. — И воспитательница показала, как идут крылья птицы. Но у Маруси крыльев не получалось, у нее были грабли, а не крылья, красные ясеневые грабли, вот сено бы грести ими, это было бы загляденье.
— О господи, — простонала Вия Алексеевна. — Да сколько же мне биться с тобой? Понимаешь ли ты, ты лебедя изображаешь! Утро, солнце всходит, понимаешь? Ему радостно, рядом мать, и он играет. Начинаем еще раз. И-и-и...
Еще раз Андрей не стал смотреть, ему было жалко Кастрючиху. Подгоняемый танцем маленьких лебедей, он устремился в спальню...
А вечером следующего дня Андрей уезжал. Эвакуатор Нина Петровна везла его домой. Банщице тете Зине Андрей сдал казенную одежду, а в обмен получил свою, домашнюю. Но за время лежания в каптерке она тоже превратилась для него в казенную. В прожарке вместе со вшами уничтожились и все привычные запахи. И он не признавал себя в этой своей старой одежде и немного стыдился ее, потому и не пошел ни с кем прощаться, хотя Нина Петровна и предложила ему подняться в общую комнату.
Нина Петровна вообще была с ним излишне предупредительна и обходительна. Андрей чувствовал — она боится, как бы он не убежал, потому и старается задобрить. Она не отпускала его от себя всю долгую дорогу от детприемника до вокзала. А когда потянулись овраги с матово отсвечивающим при свете фонарей слежалым зернистым снегом на склонах, попыталась взять его под руку.
— Я не побегу, — заверял он ее.
— Все вы так говорите, — разбитно похохатывала Нина Петровна. — Но я мужикам давно уже не верю. — И сама все же подхватила его под руку. Андрей вырвался:
— Будете приставать — как пить дать смоюсь.
Эвакуатор успокоилась, купила ему на вокзале сто граммов подушечек. Конфеты попались замоченные и с солью. А может, это ему только казалось, что с солью, но ел их Андрей нехотя, лишь бы успокоить Нину Петровну.
— У вас что там, в городе, есть? — спросила она его уже в вагоне.
— Паровозы есть, школы есть, улицы, дома... — не понял Андрей.
— Да я не про то. Из товаров чем вы богаты?
— А подушечками же, грецкими орехами...
— Во-во... А кру́пы у вас есть?
— Ни-ни, за крупой клинские в Москву да Ленинград катают.
— Ближний свет.
— А чего? — подивился Андрей и похвалился своим Клинском: — У нас ведь все железнодорожники. Им раз в год бесплатный билет выписывают. Хоть на Дальний Восток можно. — И тут вскрикнул паровоз, проголосил во всю мощь своих стальных легких. Андрея шатнуло в угол.
— Ну чего ты? — склонилась над ним Нина Петровна, боднула его своей тяжелой короной. Он почувствовал, что от этой короны несет чем-то знакомым ему, то ли карболкой, то ли дегтем. Так несло в Клинске, карболкой и дегтем одновременно, почти от всех женских и девичьих голов, их кос. А колеса уже напевали: «Клинск, Клинск, Клинск». Андрей отвернулся к стенке и затаился, желая одного — уснуть сейчас и никогда не просыпаться.
— Не горюнься, — попыталась ободрить его эвакуатор. — А то и мне страшно. Сколько уж вас перевозила, и хороших и плохих — всяких. Хуже нет тех, которые или очень уж убиваются, или очень уж веселятся. Из этих чаще всего и бегают. А я своей работой дорожу...
Андрей молчал, хотя и слышал ее. Он думал, не рвануть ли ему и в самом деле. Ну куда и зачем он едет? Да к не едет, везут под конвоем, как арестанта. И там, в Клинске, он тоже будет арестантом, добровольным только, так не лучше ли с самого начала выбрать волю, чтобы не мучить страхами и переживаниями эвакуатора, не разорять ее больше на подушечки?.. А куда ему деваться? Где его воля? Темная ночь и вот эти снега, мелькающие за окном вагона. Но придет день, а снег останется. И куда ему по снегу...
— Ты слышишь меня? — не дождавшись ответа, снова заговорила Нина Петровна.
— Слышу.
— Не надо, Андрей, не надо. Ты уж лучше, когда я тебя сдам, когда мне расписочку на тебя дадут, тогда уж и беги. Договорились? Ну договорились?
— Договорились, — сказал Андрей.
— Ну вот, я так и знала. Давай сейчас спи и ни о чем не думай. Я ведь человек тоже подневольный. А приедем, я тебе пятерочку дам.
И поезд мчал его к родному дому.
А пятерочку эвакуатор так ему и не дала. И Андрей не напомнил ей о пятерочке, не до этого было. Хотя пятерочка ему ой как бы пригодилась.
16
Поезд был тот же. Не пассажирский, не скорый — почтовый. Теперь только уже обратный. А почему его обозвали почтовым, Андрей так и не додумался. Где у него там помещалась почта, не мог понять. Нормальные вагоны, нормальные люди в них, нормальный паровоз. И Андрей ехал на нем нормально, как и положено ему, на подножке.
Правда, ехать на подножке было не совсем удобно, но и не то чтобы уж очень неудобно. Рук от поручня до поручня хватало. Вот только ноги некуда девать, поджимать их все время приходилось. Додумались выпускать такие вагоны, что порядочному человеку одни неприятности. Тем, которые внутри, небось приятно.
Время от времени Андрей слышал над собой их голоса, когда они переходили из вагона в вагон или выходили в тамбур перекурить. Чувствовал на себе их взгляды. Искоса заглядывал сам в тамбур. Народ был равнодушный, привыкший. Иные, стоя, привалившись к двери, стряхивали о стекло пепел своих папирос и сигарет.
Он не боялся этих людей, отделенных от него стеклом и железом, и тому было множество причин. Во-первых, до детприемника, до нужной ему станции оставалось совсем немного, а всегда, когда что-то близится к концу, появляется бесшабашность. И Андрей уже верил, что на этих последних перегонах никто не сможет остановить его. Верил в снисходительность тех, за стеклом и металлом, и знал, что им немного стыдно перед ним, стыдно за свои удобства, потому что они были все же в очень неравном положении, а к зайцам всегда и все снисходительны. Но в то же время из вагона, он видел это, все смотрели на него свысока, как будто он на некоторое время перестал быть человеком. Что ж, Андрей не обижался. Они для него тоже были не совсем людьми. То есть, конечно же, людьми, но на время посаженными в клетку, будто все это происходило не на железной дороге, среди простора лесов и равнин, а в зоопарке. И это вполне устраивало Андрея.
Поезд пер не хуже скорого, только вихрился по сторонам снег да угольная паровозная пыль секла лицо. И это было не так уж и плохо, живо было еще его лицо, не смерзлось, отзывалось на боль. А вот по дороге домой, с билетом, на матраце на второй полке он не чувствовал своего лица, боль сидела внутри его. Всю дорогу сидела. Не отпустила ни дома, ни позже, в милиции. В милиции эвакуатор Нина Петровна по акту передала Андрея его дядьке. Дядька явился туда пришибленным и жалким, соглашался на все слова капитана и эвакуаторши и покорно тряс головой, тяготясь позором, который свалил на него Андрей. Андрей понимал его и жалел. Понимал Нину Петровну, откровенно довольную, что все обошлось благополучно. Несколько далек от него был милицейский капитан, но тоже в общем понятен: служба есть служба.
А вот что непонятного было, так его собственное, Андрея, состояние и положение: зачем, ради чего все эти процедуры и обязательные равнодушные или униженные бормотания! Глупо ведь, глупо все и ненужно. Глупо закреплять его на этой земле, в этом городе клочком бумаги. Его оскорбляло совсем не то, что он властью этой бумаги как бы превращался в вещь, заносился навечно в некие казенные реестры. Положено — значит положено. Против закона не попрешь. Было стыдно, как оголяли и выворачивали наизнанку в этом милицейском кабинете его душу. И он подписывал все требуемые бумаги, как арестант подписывает свой собственный приговор. И каждое слово воспринималось приговором, гвоздило и распинало его. Он был в полной и безраздельной власти капитана, эвакуаторши и дядьки. Каждый словно дергал его в определенное время за веревочку, и он должен был говорить само собой разумеющиеся слова, только само собой разумеющиеся, потому что иных от него не требовалось, потому что такой уж здесь был ритуал.
— Больше не побежишь? — когда управился с бумажками, спросил его капитан.
Андрей оторвал глаза от пола. И впервые за все свои скитания увидел в милиционере человека. Свой это был человек, клинский, всепонимающий. И капитанская фуражка была ему великовата, все время сползала на глаза, и он беспрестанно вскидывал ее вверх двумя пальцами. «То ли навырост брал, — подумал Андрей, — то ли чуб до этого носил, а сейчас вот постригся».
— Больше не побежишь? — подбросил вверх фуражку, открыл глаза и повторил свой вопрос капитан.
— Больше не побегу... — Эта последняя на сегодня в милиции ложь далась Андрею с трудом.
— Побежит, — качнул головой капитан. И Андрей взглядом поблагодарил его, потому что это не было уже предусмотрено ритуалом. Он посмотрел на серый снег за окном, темные, заключенные в ограду молодые клены и подумал, что рванет немедленно, как только выйдет из этой дурно оштукатуренной и халтурно побеленной комнаты. Рванет, чтобы не видеть постного лица дядьки, нигде больше не встретиться с этим всепонимающим милиционером. И тут же почувствовал, что не рванет. За каких-то полчаса в этой комнате его уже опутали со всех сторон, отуманили, загнали в угол, по рукам и ногам заковали в кандалы, невидимые, но оттого не менее прочные.
Он до головокружения надышался сырой штукатурки, прелого мела — запахов, источаемых стенами кабинета. И надо время, чтобы выхаркать, выветрить из себя эти запахи. Здесь, стремясь к добру и скорее всего свято веря в то, что творят добро, всеми силами пытались сломить его наверняка. А до его логики и до его страданий им в общем-то и не было дела: сыт, обут, так какого же рожна еще надо?
А какого-то рожна ему еще надо было.
— Андрейка, Андрейка, Андрейка... — Андрею показалось, что дядька выкрикнул эти три слова на весь Клинск. Выкрикнул, как только они сошли с крыльца и полной грудью хватили минского, приправленного паровозным дымком воздуха. А он выговорил их лишь губами, и губы его жалобно дрожали и красно и сине ломались.
Колыхалась и чертила небо обындевелая ветка клена. Они ступили на мощенную булыжником, но сейчас укрытую рыжим истоптанным снегом площадь. И пошли рядом по прямой, будто кто направлял их, велел никуда не сворачивать. Пошли, не оглядываясь, прямо глядя перед собой на выдирающиеся из снега, черно круглящиеся избушки, на встающие за ними красные стены и белые перегородки разбитой школы. Справа от них лениво гудел базар, всхрапывали лошади, повизгивали поросята. Пахло сеном и навозом. Поравнялись с будкой старьевщика. Двери ее с шумом захлопнулись.
— А хочешь, я куплю тебе свисток?.. Не, не свисток, купим гарбузиков, — И они поворотили к базарным рядам. Дядька попытался заглянуть Андрею в глаза. Но Андрей боялся его глаз и отвернулся.
— Ты живой, — сказал он дядьке, чтобы не молчать.
— А какая меня холера возьмет, — обрадовался дядька и тут же сник. — И ты живой. Живой. Остальное ерунда, образуется. Было б здоровье. — Дядька приценился и купил два стакана тыквенных семечек — стакан себе, стакан Андрею. И они, луща семечки и выплевывая под ноги белую шелуху, двинулись дальше, опять же по прямой, по прямой, ведущей совсем в обратную от дома сторону.
Вышли к рядам, где торговали скотом. Мужик в треухе с обтертым до кожи мехом продавал худую рыжую корову. Мужик был хмурый, и корова хмурая, она посмотрела на дядьку с Андреем, будто попросилась купить ее,
— Что просишь? — тронул за рукав дядька мужика.
Мужик назвал свою цену.
— А почем отдашь?
— Сотню спущу.
— А две?
— Две не могу. Если две, я ее на бойню отведу, себе дешевле будет. Бери, не прогадаешь, восемнадцать литров в день, да вот кормить нечем. Было б сено, ни за какие гроши такой бы коровы не продал.
— Так уж получилось... так уж получилось, — едва они отошли от мужика, затянул дядька. — Ты не гневайся, не гневайся на меня... С милицией вот доставляют домой. — Голос его сломался, и губы снова задрожали. Он взмахнул головой, хватил воздуха, как птица хватает на лету мошку. Спина его согнулась, жалко и немощно обмякли плечи. — Ты на меня не гневайся. И на женку мою не гневайся. Война, война проклятущая... А может, останешься, Андрей? Скажи, скажи мне правду, не тяни... Я тебе денег дам, продуктов дам... А хочешь, хочешь... я корову продам. Отведу тебя сам в детдом и корову на сберкнижку на твое имя положу. — И дядька оглянулся на мужика, торгующего коровой.
— Не надо мне коровы, — сказал Андрей и почувствовал, что не может он и никогда не сможет принять от дядьки жалости. О главном умолчал дядька, о смерти его отца и матери, о мине, заложенной им на лесной дороге. Он, Андрей, прощает его, не винит его, не судья он ему. Но нельзя, нельзя откупиться за смерть деньгами. Он прощает его без денег. Ему даже жалко его. Но лучше ему и дядьке жить порознь и далеко-далеко друг от друга, чтобы никогда не встретиться на этом свете, чтобы никогда ненароком даже не напомнить друг другу, что было здесь, в городе Клинске. А ему, Андрею, надо опять в детприемник. Там его родные, там у него все. Он детприемниковский, казенный, а не дядькин и теткин. Нечего ему быть довеском в дядькином доме. Дядьке прокормить бы семью да корову да самому до весны дожить. Андрей чужой и лишний в его доме.
— Ну так живи как знаешь, живи как знаешь, — сказал дядька. — Перед тобой я виноват, а перед твоими батьками — нет. Нет, запомни ж это... Батька твой тоже был партизаном. В одном отряде мы с ним были, только ему было приказано в городе пока сидеть...
И они закоулками и улочками отправились домой.
В школе Андрея приняли, будто ничего не случилось. Но именно в школе, а не дома он особенно остро почувствовал, что стал уже всем чужой, хотя в классе его посадили на прежнее место и все с тем же Витькой Гаращуком. А он был чужой и Гаращуку. Класс ушел от него, ушел согласно программе уже в третью четверть, а Андрей так и остался в первой и был уже обречен на второгодничество. Все это понимали, но делали вид, что не понимают. Одного они и вправду не могли понять: Андрей хотя и отстал по всем этим школьным программам, но за три месяца на три года перерос своих сверстников. И он каждый день готовился к побегу и не смел убежать. Решила все минута.
Произошло это на уроке математики. Вел ее седой и тихий старик, которому дозволялось курить в классе перед учениками, потому что жизнь его и силы кончились в Освенциме. Он, собственно, из этого своего Освенцима так и не вернулся в школу. Сам ли он выключил себя из жизни или в нем что-то выключили — неизвестно, и никогда и никто этого уже не узнает. Математик объяснял новый материал, из глубин непонятно как уцелевшей памяти извлекал иксы, игреки, математические формулы и знаки, в которых едва ли уже разбирался и сам. Поначалу Андрей пытался что-то понять из его объяснений, но не смог. Плюнул и принялся рисовать обломком мела на парте разные фигурки. В одном из них математику померещилась гитлеровская свастика. Закашлялся, сгреб Андрея в охапку и, синея от удушья, потащил к двери.
Андрей не успел и опомниться, как оказался в коридоре. Он не протестовал и не возмущался. Он радовался, что наконец-то во всем Клинске нашелся умный человек. В коридоре он дождался звонка с урока, подкараулил математика и заступил ему дорогу.
— Я не хотел, — сказал Андрей, благоговея перед старым учителем и смущаясь его. — Я не хотел рисовать того, что вы подумали, я не люблю... Но это все равно... Спасибо вам.
— О чем вы и кто вы? — удивился математик.
— Ваш ученик, — не менее математика удивился Андрей. — Теперь уже бывший ученик.
— Конечно, конечно, — сконфузился и заторопился математик. — Разорка ваша фамилия.
— Разорка, — подтвердил Андрей. — Но это неважно...
Старый учитель не дал ему договорить.
— Что вы мне сказали насчет бывшего ученика? — заторопился он. — Что за чушь? Почему бывший? Разорка ведь?
— Разорка, — сказал Андрей, уже полнясь неизъяснимой жалостью к этому чудаковатому математику.
— Вот и прекрасно, что вы Разорка...
— Ни сегодня, ни завтра — никогда вы меня больше не увидите.
— Как же так, как же так? — быть может, впервые после освобождения из лагеря старик увидел перед собой мальчишку. Но сил прислушаться к нему и рассмотреть его у него не было. Он испугался этого мальчишки. А может быть, не этого, может быть, другого, жившего до него, похожего на него. Уходят, уходят ученики. Гибнут дети. В печах, в печах...
— Я не в обиде на вас. И все это не из-за вас! — крикнул ему в обсыпанную перхотью спину Андрей. Математик тихо притворил за собой дверь учительской.
Весь следующий урок и короткую перемену до звонка Андрей писал записку дядьке с теткой: «...Вам будет тяжко, — писал он, — я это знаю. Но ничего сделать с собой не могу. Так будет лучше мне и вам. Не ищите меня, не тратьтесь на розыск. Был бы я вам родной, я бы остался. Но я не родной и уезжаю в...» Тут Андрей подумал и написал городок совсем в другой стороне. И еще сделал приписку для математика: «А Семен Захарович очень хороший человек. И я не в обиде на него, что он меня взял за шкирку. Это очень правильно. И пусть никто на меня не обижается».
Он положил записку в книгу, книгу — в парту, захлопнул крышку. И вышел из класса навсегда. А техничка уже сыпала медным колокольчиком по коридору. «Дилинь-дилинь-дилинь» звенело у него в ушах до самой станции.
И сейчас тоже задилинькало вдруг, но гораздо мелодичнее, чем тогда в школе. Ощущение было знакомое, и Андрей понял, что, если сейчас поезд не остановится, он не доберется до детприемника. Он вообще никуда не приедет. И успел еще подумать, где его могут разыскать дядька с теткой, бросятся по ложному следу или догадаются. Тогда в детприемнике ему делать нечего.
И тут почтовый начал тормозить. Остановка была короткой, но Андрей вспомнил, что в кармане у него сохранились еще два кусочка сахару и две конфеты. Кусочек сахару сейчас бы очень подкрепил его силы. Но Андрей не решился притронуться к нему, и вовсе не потому, что боялся оторваться от поручней вагона (хотя это тоже было страшно). Нарушился бы ровный счет сахара и конфет. А все это он приберег для Тамары. И пусть уж лучше, закоченев, он сорвется, чем притронется к сахару и конфетам.
Нехорошо, конечно, покупать девчонок сахаром и конфетами, стыдно ему будет вручать их Тамаре. Но вот хочется, и все тут. Вообще, в отношениях ребят и девушек очень много стыдного. Не того, запретного (об этом он и не думал), а так, уже в самом том, что вот есть парень, а есть девушка, и парень тянется к девушке. И все вокруг видят это и могут что-то подумать. Может, в том-то все и заключается, что могут подумать, и тебе стыдно. А не будь стыдно, ничего не было бы.
А так приходится переживать, и сладко переживать. И каждый раз у тебя захватывает дух, будто ты становишься птицей, отрываешься от земли и летишь, летишь над землей и не знаешь, опустишься вновь на землю или нет. Может, человек и был задуман птицей, и потому превращается в нее всякий раз, когда ему хорошо. Ведь когда человеку плохо, ему хочется провалиться сквозь землю и тело у него тяжелеет.
Но сейчас Андрею хорошо. Паровоз тоже птица, и почтовый — птица. Они парят над полями, и Андрей парит в синем сумраке надвигающегося вечера. И чепуха, будто ему плохо или холодно. Хорошо ему, тепло. Вот он сейчас может отпустить поручни и полететь на крыльях. Но этого делать, видимо, не стоит, потому что он легкий, ветер от почтового снесет его в сторону. Ему труднее будет лететь, чем паровозу, паровоз тяжелый, его ветер не снесет. А ему надо крепче держаться за поручни.
Хотя зачем держаться? Можно и разжать руки. Андрей хохочет, захлебывается снежным вихрем и паровозным дымом, потому что у него не руки сейчас, а крюки. Они припаялись к поручням, и никто уже не сможет оторвать их. Вагон словно магнитом держит его. Он распят на вагоне, прикован к нему, как к кресту. А может быть, он и есть крест, тот самый, которого так испугался школьный математик. И чего он боялся, чудак, ведь это совсем не страшно. Не страшно... Пошел к черту этот математик. Человек не крест, а птица. Доказать... Кому доказать? Вон той бледной харе, вперившейся в него сквозь замутнелое окно тамбура? Это не окно замутнелое, а харя серая. Ну, чего тебе надо? Не видел, как беспризорники ездят?.. Не обманешь меня, не обманешь, я не беспризорник, я птица. Только ты этого не знаешь, а я знаю. Но не скажу...
Дверь тамбура распахивается.
Дудки, дудки... Так просто вы меня не возьмете. Я птица. Я лечу, лечу. Две пары мужских рук хватают Андрея за шкирку. Он не смог улететь, не смог разжать рук, он все же, наверно, не птица. Его волокут в тамбур, как совсем недавно старик математик выволакивал из класса. Вот кто птица, догадывается Андрей, — математик. В Освенциме люди становятся птицами.
Двое парней проводят Андрея по сдавленному вагонному коридорчику. Бабка Наста с ключами в руках заступает им дорогу.
— Не пущу, — читает по движению ее губ Андрей. — Ревизор в соседнем вагоне.
— Человек замерзает, не видишь, что ли?
Это голоса откуда-то сверху.
— Ревизор в соседнем вагоне... — уступает бабка Наста проход.
«Ага, значит, я уже в детприемнике, — ликует Андрей, — приехал». Ему хочется обнять бабку Насту, но сил хватает только на улыбку. Губы у него расползаются, и он уже не властен сомкнуть их, ну как дурачок на свадьбе-веселье.
— И он еще улыбается. Ах ты пропастина!
Андрей долго оттаивает в вагонном тепле, над ним вьются, гудят осенними мухами людские голоса.
— Распуста все, потачка...
Это которая же из мух заговорила? Та жирная, как куколка, в пуховой шали, и голос у нее идет из брюха.
— Разопсел народ, я вам точно говорю!.. — А это овод. Овод в белых фетровых бурках, и он не горлом говорит, а ногами, бурками.
— От добра не бегут... — А это мушка-старушка гудит. Неужели и она его кусает?
— А у нас вот какой был случай... Да, жизнь-то прожил, а на старости сбесился. Свел со двора корову и сошел сам... За триста километров известие пришло, в больницу лег. Вот и судите, рядите...
— К полюбовнице, поди, бросился, — бубнит куколка, вертит брюхом.
«Да это же люди, — доходит наконец до Андрея, — это они обо мне говорят».
— Не, милая, за триста километров ушел. А отродясь нигде дальше села не был. И детей осьмеро без жены поднимал. А чего бзыкнул, и не поймешь. Старый да малый — к ним не достучишься. А свет дурнеть начал, дурнеть.
— Ну, вот мерзотник наш и очухался. — Это проводница, бабка Наста, голос подала. И впрямь бабка Наста, даже с ключами. И бушлатик на ней так же по-домашнему сидит, хотя форменный, синий, с белыми металлическими пуговицами. Но глаза — ее, и морщины на лице — ее, во всю щеку такие удобные дорожки для слез. И платочек старушечий клетчатый.
— Куда тебя только нечистик несет? Куда едешь?
— Мне недалеко. Я на следующей сойду.
— Не скажешь правду — не сойдешь. В милицию сдам. Сейчас же на станцию сообщу.
— Мать у тебя есть? — спросила мушка-старушка.
— Померла мать, — не соврал Андрей и от этой своей правды, тепла и страха, что проводница и в самом деле может вызвать к поезду милицию, заплакал.
— На вот, поешь, — достала мушка-старушка из стоящей у ее ног клеенчатой, потрепанной до потери цвета сумки яички и домашние коржики. — Я в дорогу напаковала себе, а на людях поесть не могу. Стыжусь, не лезет кусок в горло на людях, и все. А ты ешь, ешь, ты молодой...
— Ешь, ешь, а милицию все равно вызову. Сейчас вот только ревизору сообщу.
— Ну, уж сразу и ревизор и милиция, — подал голос до того молчавший один из парней, который затащил Андрея в вагон. Бабка Наста взъярилась, будто ждала этих слов.
— А вона как без чемодана тебя оставят, что ты мне запоешь? Опять же мне неприятности. Я эту публику насквозь вижу. Ты их пожалеешь, тебе же хуже. Развелось их нынче видимо-невидимо... — Ворча, проводница ушла из купе.
Андрей затосковал. Уж лучше бы замерзнуть, чем у самой цели попасть в милицию. И подняться, перейти в другой вагон на глазах у всех этих людей невозможно. Бурки и куколки уже стерегли его.
— Ешь, ешь, — опять заговорил спасавший его с подножки, — к себе, в служебный ушла.
— Молодой человек, не потворствуйте, — и в самом деле возмутились бурки. Возмутились до того, что притопнули, и в воздухе поплыли белые облачка не то мела, не то зубного порошка.
— Тот, который украсть хочет, уже в вагоне, а это ж дитё, с мороза. А тот уже и украл, поди.
— Как украл? — всполошилась куколка. — А ну, поднимитесь с сиденья!
Мушка-старушка вскочила. Бодро поднялись и бурки, снова испустив белые облачка. Парень остался сидеть.
— Особое приглашение требуется или ты тоже из тех?
— Из тех, — сказал парень и нехотя встал.
Куколка приподняла сиденье, опустилась на корточки, оглянувшись на Андрея, проверила сложенные там чемоданы и удовлетворенно угнездилась на прежнем месте у окна.
Розовым свечением еще невидимых огней наплывала станция. Андрей врастал в стук колес на стрелочных переводах и старался не упустить ни единого звука, ни единого шороха в вагоне. «Все равно живым не дамся, — обреченно размышлял про себя. — Как бы там ни было, уйду». Но стронуться с места не решался, боясь, как бы в него не вцепились бурки с куколкой.
Но вот уже и станция, песенный напев колес приглох. Он поднялся и нерешительно направился к выходу.
— Коржики, — протянула бабка.
«Дались тебе эти коржики», — чертыхнулся Андрей и почти выбежал из купе. Никто его и не думал задерживать. Но проводница уже стояла в тамбуре, прикрыв собою дверь. «Пойду напролом», — решил Андрей, высматривая на перроне красные фуражки линейной милиции. Но милиции не было. Проводница открыла дверь, и железная пластина с лязгом ударила по выкрашенной стенке вагона. Андрей взял разгон, надеясь прошмыгнуть под локтем у проводницы. Но та очень ловко, почти профессионально зажала его голову под мышкой.
— Куда раньше меня!
Он не смог разобраться в интонациях ее голоса, но рассмотрел, что милиционера на перроне ни одного нет. И все-таки Андрей еще не верил в удачу и не поспешил за проводницей на перрон, затаился в глуби тамбура.
— Ну, чего, гнедой, никак задремал? — позвала его проводница. «Влип», — стукнуло и обмерло сердце Андрея.
— Кому это ты там, Борисовна? — осведомился мужской голос.
— Да внук тут у меня, — знакомо ворчливо отозвалась проводница. — Ну, выходи, кому говорю, выходи, дальше не повезу, дорога в убыток.
Андрей прыгнул на перрон и без оглядки понесся прочь от вагона. Отбежав метров пятьдесят, остановился и оглянулся. Перрон был пуст, никто на этой станции, кроме него, и не сошел. И проводники попрятались в вагоны. И лишь там, откуда он только что принял старт, мотался из стороны в сторону красный фонарь. Андрей тоже помахал ему рукой и подался к детприемнику.
Дорога была ему знакома, хотя он шел по ней лишь однажды, и то вечером. Но и сейчас был вечер, и все оставалось таким же, как и тогда, пожалуй, чуть не таким. Повеселела дорога, повеселели хмурые столбы и ограды, и заборы повеселели. И снег, наверное, освежился с тех пор. Все поддабривался, подлизывался к нему, терся, мурлыкал, мурло, под ногами.
А сам Андрей хотя и радовался, но и трусил одновременно изрядно. А ну как не примут его в детприемнике, дадут от ворот поворот? С одной стороны, вроде бы не должны, а с другой — кто их разберет, что у них там на уме. Больно он им сдался, самотеком ведь прет, а в детприемнике принимают только с милиционером. Может быть, оно и к лучшему, конечно, было сдаться милиции?
Андрей тут же восстал против такой мысли: еще чего не хватало, с милицией он всегда успеет. Наличие запасного варианта придало ему уверенности и легкости. Вообще непонятная легкость пришла к нему, как только он оторвался от станции. Сомнения словно бы вымерзли на том последнем перегоне, что он ехал на подножке. И сейчас он уже шел к детприемнику другим человеком.
Во-первых, ему все время чудилось, что он идет домой. Немножко загулялся на улице и теперь возвращается. Отсюда и невольное ощущение вины, и немного страха. Но дом есть дом, а домой обязательно надо возвратиться. Не без того, поругают, конечно, но ведь за дело. Приятно, когда ругают за дело, когда есть кому строжиться на тебя.
А во-вторых, ему казалось, что он за последнее время подрос. Подрос, и все тут. Рос, когда его за шкирку выволакивал из класса математик, тянулся вверх, когда бродил по незнакомому и такому знакомому базару, раздавался в плечах, когда ехал в теплушке с солдатами и ел их солдатский борщ, рос неизвестно отчего, когда голодал и мерз. И вот сейчас его телу сделалось тесновато в прежней одежде, и стежечка, петлявшая по оврагу, вроде бы сузилась, и сами овраги, их крутые склоны как бы присели, и дорога до детприемника укоротилась. Вот он уже перед ним, детприемник. Слева церковь, справа тюрьма. Он дома.
И Андрей властно и требовательно забарабанил в двери. Распахивайтесь, двери, принимайте сына. Он прошел тысячи дорог, он устал в дорогах, готовьте ему чистую постель. Здравствуй, Кастрюк... Здравствуй, Тамара... Здравствуй, Тамара...
И выбежала навстречу Тамара. Выбежала в общую комнату, хотя и ворчала бабка Наста, сердито отворачивалась, пинала попадавшие под ноги ботинки.
А он ничего, ничего не мог сказать Тамаре. Выложил в ее белые сонные руки два кусочка сахара-рафинада, замызганные и темные от дороги и нечистых карманов, две потемневшие конфетки-барбариски в фантиках и... отошел в сторону. Хорошо, что лампочка была маломощной и желто светила на него.
— Спать! — тут же погнала бабка Наста Тамару. И лицо Тамары, когда она повернулась к свету, было не смуглым, а желтым, а своего лица он не видел.
— Спать! — приказала бабка Наста и Андрею.
— Куда мне?
— В чистилище, в чистилище, милок.
Андрей понял, что в карцер, но не запротестовал и не оробел, направился к выходу. И бабка Наста раздобрилась, сказала, что у нее нету ключей от карцера и придется ему бедовать тут, в зале, на диване. В зале на диване Андрей не против был бедовать. А ночью, выйдя по нужде, к нему на диван подсел Кастрюк. Но о чем они говорили, Андрей не запомнил — спал. Видимо, о чем-то хорошем, потому что снилась ему в ту ночь весна. И по мокрой траве шелестел весенний теплый дождь.
17
Приняли Андрея в детприемнике так, будто он не расставался с ним, будто он приболел слегка, полежал в больнице и возвратился назад. И обращались с ним, как с больным. Только бабка Наста поворчала: явился, не запылился. А Гмыря-Павелецкий с неделю и вовсе не примечал его. Лишь мимоходом обмолвился:
— Самостоятельно жить хочешь?
— Хочу, — сказал Андрей.
И потекли детприемниковские дни, внешне пустые, похожие один на другой, но внутренне напряженные, наполненные ожиданием. Андрей чувствовал, что именно в эти пустые и молчаливые дни решается его судьба, и потому не мог жить, как раньше, играть, как раньше, в шашки, с такой же нетерпеливостью бежать в столовую.
За время, проведенное дома и в дороге, он не только подрос, но и стал видеть все и оценивать по-другому. Как это произошло, Андрей не знал, ведь уши и глаза у него остались прежними. Может быть, здесь изменилось что-то, что-то случилось, пока он отсутствовал. Он выискивал и не находил в детприемниковской жизни никаких заметных перемен.
Кастрюк похвалил его:
— Ох и хитрый ты, — жмурился он, — не иначе кацап. Мы, кацапы, все такие: нас в двери, мы — в окно...
— Почему хитрые?
— Потому что кто нас обманет, три дня не проживет.
— А зачем обманывать?
— А чтобы жить. Не обманешь — не проживешь. Вот бы нам придумать еще конские детприемники, чтобы коней на зиму сдавать куда-нибудь, а весной, на пахоту, получать их откормленными.
— Подумай, может, и придумаешь.
— И придумаю. Кацапы, они такие, оборотистые, потому и живучие...
Нет, не изменился Кастрюк. Кастрюк остался Кастрюком. Не переменились и Лиса с Робей.
— Чинарики принес? — первым делом, как только Андрей появился в детприемнике, осведомился Жуков.
— Да ты что, Робя? — От неожиданности Андрей даже не возмутился. — Я же не на работу в город выходил.
— Ну и что? Что, там, куда ты ездил, курева нету, нету курящих мужиков?
— Курящие есть, да не до чинариков мне было...
— Они все такие, жлобы, — вмешался Лиса. — О себе только думают. А ты для них ноль без палочки. Они тебя вспомнят, когда ты богатым станешь. Шакалы.
— Я не шакал, — сказал Андрей. — Это ты, Робя, и ты, Лиса, шакалы, крохоборы...
— Монах, — сказал Робя, — Монах! Я же тебя предупреждал: не попадайся нам больше. Ну зачем ты, Монах?
Странно, но Андрей не испугался. Он стоял перед Лисицыным и Жуковым и ждал. Ждал, когда его ударят, чтобы ударить самому,ответить.
— Тихо, Робя, не психуй, — сказал Лисицын. — У петушка гребешок растет, зубки режутся. Режутся, Монах, зубки?
— А что тебе до моих зубок?
— Ничего мне, Монашек, ничего... Только я знал фраера, у него тоже резались зубки, а сейчас уже не режутся... Жевать ему больше нечем.
— Второй глаз, Лиса, потеряешь. Первый-то уже ушел на анализ.
— Эх, Монах, — Лисицын присвистнул. — Первый глаз у меня немец на анализ взял. Ты знаешь, где тот немец теперь? На нем теперь черти воду возят. Я его сам дымком на небо пустил. Жарко горел, вместе с моей мамочкой, Монах.
— Это и ты тогда обгорел? — спросил Андрей Лисицына.
— Тогда и я обгорел, Монах...
— Но я же не немец, Лиса. Я же не немец... Гляди на меня, Лиса, не немец я.
— А мне все равно, Монах, кто ты. Мне нравится жечь... Сука ты, потрох вонючий, понял? Жечь, жечь... Спички мне, спички... — И пена пузырьками вскипела на уголках его губ.
— Исчезни, Монах, — сказал Робя и смял Лисицына, усадил его на диван.
Нет, не переменились Робя с Лисой. И воспитательницы остались прежними. По-прежнему Вия была тонкой-звонкой и разноцветной, обещала привести как-нибудь к себе в гости Андрея, но, видимо, все некогда было приготовить угощение. А Мария Петровна все так же всех любила и всех жалела, и со всеми была одинаково ровна. А беспризорники днями все так же шатались из угла в угол, вставали бодро и мрачнели к ночи.
И все же что-то в беспризорничьей жизни изменилось, сломалось, как ни старался Андрей, не отлаживалось. А ему очень хотелось быть прежним, жить прежними заботами, легко обманывать воспитателей, дружить с Лисой и Робей, Кастрюком и Тамарой и с воспитателями одновременно. Но одновременно не получалось. Они словно бы однажды распахнулись перед ним, разделись донага, да так и остались для Андрея голыми и неинтересными. Голый человек редко у кого вызывает любопытство, потому что все в нем немедленно становится раскрытым и известным, достаточно только одного взгляда.
И Андрей тосковал, злился и не знал, почему. Не знал, что это от него уходит детство. И даже начиненная ключами бабка Наста не могла устеречь его и водворить на место. Андрей метался в четырех стенах и не знал, где и к кому приткнуться. Потянулся к воспитательницам, к ласковой Марии Петровне. Особенно любил тереться возле нее, когда она с кем-нибудь разговаривала. С тем же Гмырей, например, или Вией Алексеевной. И однажды Мария Петровна спросила его, почему ему так нравится быть возле взрослых. Андрей подумал и честно признался:
— Не знаю.
— Взрослые или их разговоры нравятся? — попыталась помочь ему воспитательница. Но и на этот вопрос у Андрея не было ответа. Его просто привлекали и сами взрослые, и их разговоры. Андрей схитрил, знал, что вслушиваться во взрослые разговоры неприлично, и сказал:
— ...Скорее взрослые.
Мария Петровна не разобралась в его хитрости. Сама она была бесхитростная, в ней не было той проницательности, которой отличалась Вия Алексеевна, и в детприемнике ей работалось тяжело. Может быть, особенно тяжело, потому что она искренне любила всех. А любить всех, даже не взрослых, в этой жизни невозможно. За ее любовь ей же и доставалось. Но она наивно, а может, и не так уж наивно верила, что когда-нибудь эта любовь уже во взрослом человеке, давно не беспризорнике, окажет себя. И пропадала на работе дни и ночи. Позже Андрей еще встретится с такими воспитателями, в борьбе за него и ему подобных похоронившими и свою молодость, и бабское свое счастье.
Но тогда он обидел Марию Петровну, он был жесток и сентиментален одновременно, хотя и не догадывался об этом. Негодуя за свою ложь, он спросил воспитательницу:
— А что это вам приспичило знать, кого я люблю больше, взрослых или их разговоры?
— Чтобы знать тебя, — просто ответила Мария Петровна.
— Так ведь никогда не узнаете. Я все время разный.
— Это тебе кажется. Ты все время разный по-своему. И каждый так.
— А воспитательницы все одинаковы по-одинаковому.
— Нельзя по-одинаковому. Это только тебе кажется.
— Можно. И вы, и Вия Алексеевна разговоры говорите со мной, чтобы выспросить и прибрать меня к рукам. Вы уже раз сделали это.
И Андрей убежал, забился в самый темный угол. Он понимал, что несправедлив к Марии Петровне, и радовался, что несправедлив. Быть несправедливым тоже сладко. Хорошо, когда есть человек, на которого можно излить злость. Мучается он, пусть помучается и она.
Тамара единственная, кто не изменился в детприемнике, пока он отсутствовал, и ему все время хотелось быть с нею рядом. А где же им быть рядом, как не в обжитом углу за печкой.
— Я скоро уйду, — не отрываясь от книги, говорит Тамара.
— Куда уйдешь? — не хочет возвращаться из пятнадцатого века, от славного идальго ламанчского Андрей.
— Совсем уйду из детприемника...
— Как совсем? А я?
— Не знаю. — Тамара почти уткнулась в книгу.
— Кто тебе сказал, что ты уйдешь?
— Никто. Я чувствую...
— Ты хочешь уйти сама?
— Хочу... Я уйду. Ты уйдешь. Все мы отсюда должны уйти, понимаешь?
— Не понимаю, не хочу... Зачем ты мне об этом говоришь?
— Ты должен знать...
— Не должен. Никому я ничего не должен. Всегда так. Как чуть тебе хорошо, так уже обязательно должен...
— Это что за жених с невестой тут объясняются? — Гмыря-Павелецкий, откуда только его черт принес, гулял бы себе мимо. — Пойдем со мной, — приказывает Гмыря-Павелецкий Андрею. Начальник детприемника уводит его к себе в кабинет, и Андрей идет за ним, будто привязанный, ему даже не хочется думать, зачем он понадобился.
Тамара остается за печкой одна. Ей хочется броситься следом за ними, отнять у Гмыри-Павелецкого Андрея, как мать отнимает у разъяренного отца сына. Но она не двигается с места. Это очень трудно — не двигаться, когда все в тебе ходит ходуном и крик рвется из сжатых губ. Но губы ее сжимаются еще плотнее.
Никто не слышит, о чем она здесь кричит и молит? Нет, кажется, никто. А она кричит с той ночи, как Андрей снова появился в детприемнике. Шепнула ей той ночью Маруся Кастрюк:
— Тамара, а ведь это он к тебе приехал.
И все в ней закричало. Пробудился неслышимый до той поры хор и грянул на разные голоса: к тебе, к тебе приехали... И Симочкин голос вплетался в этот хор:
— Ой, как интересно, Тамара. Умереть можно... Что будет, что будет?..
Никто никогда в жизни к ней не приезжал. И она никого не ждала. Нет! Врет она себе, ждала. Ждала всю жизнь: в детдоме, в мастерской, в колонии, на полевых дорогах, погоняя кобылу Минджу, ждала. А вдруг да кто-нибудь у нее объявится. А вдруг да тот летчик, который посадил ее когда-то к себе на колени, окажется ей братом или отцом.
Но летчик тот как сгинул. Побывал в детдоме разок, подержал на коленях, погладил по волосам и больше не появился. Не появился, сколько она ни молила его по ночам, сколько ни приезжали потом шефы. Напрасно, напрасно ждала она воскресений, вплетала голубой бантик в косы и смотрела, смотрела на дорогу. Он не появился. И она больше не подходила к шефам...
И тот мальчишка, Валерий Павлович... В детдоме было половина мальчишек — Валериев Павловичей, но она только одному на прощанье подарила вышитый ею платок. Он принял платок и обещал приехать. А не написал даже письма. А этот не только приехал, но и привез сахар и конфеты. Соленый сахар и измусоленные — не прочесть даже какие — конфеты. Какие вкусные конфеты, какой вкусный сахар. Ни один еще мальчишка не дарил ей ни сахара, ни конфет. Да она бы и не взяла. Как-то в детдоме Васька — Василий Иванович, так звали в детдоме другую половину мальчишек, — вздумал ей яблоко под подушку положить. Так летел с этим яблоком, будто солью подстреленный. Летел, свистел и радовался, что дешево отделался.
А в колонии они, девчонки, одного такого ухажера в комнате заперли. Собрались все вместе, двери на ключ и ключ в карман:
«Что тебе от Тамары надо? Ты чего ей проходу не даешь?»
И сыграли темную. В одеяло и ботинками. Били не только за Тамару, но и за других и впрок. Только так и надо было, только так и можно было. Грозился, матерился, а потом проситься начал. И никому ни слова не сказал: упал с дерева — и все. А кому он мог признаться, что девчонки избили, да ему бы житья не стало от своего брата...
А теперь Тамаре жалко тех мальчишек — и который из детдома, и который из колонии. А вдруг бы Андрей с нею повел себя так, как она тогда...
Соленый, соленый сахар. Вкус его она запомнит на всю жизнь. Соль во рту от первых подаренных конфет и сахара.
Нравится ей этот мальчишка? Вот еще глупости. Но что его так долго нет? Уже пора бы ему появиться на пороге и сюда, за печку. Что его мучает там этот Гмыря-Павелецкий? «Жених и невеста»... Вот еще глупости... Хорошо краснеть, когда тебя никто не видит. И вовсе она не краснеет. Это от печки веет жаром. У нее, у Тамары, когда кончится детприемник, кончится казенная жизнь, обязательно будет печка. Она уже научилась топить печку. Единственное дело, которому она научилась за свою жизнь и которое полюбилось ей, — топить печку. А Андрей может колоть дрова. Каких он дров наготовил для нее перед отъездом! Она не будет их жечь. Пусть они остаются там, в сарайчике.
Но что так долго держит Андрея Гмыря-Павелецкий...
— Тебе нравится Тамара? — спрашивает его Гмыря-Павелецкий, усевшись за стол. Андрей молчит. Он не стыдится признаться, что Тамара ему действительно нравится, но стоит ли об этом говорить вслух?
— Да, — барабанит пальцами по столу начальник детприемника. — Рано начинаешь. Я в твои годы...
— Что вы в мои годы?
— Да то же самое. Женихался. Смешно вспомнить. Смешно и горько. Ворота девке дегтем мазал. А девке тоже, как и мне, и тебе сейчас, годков двенадцать-тринадцать было. Крапивой меня остужали на ее глазах. Обесштанили и... Пришлось от позора из села убегать.
— Ну и как? — Андрея в этой истории интересует только одно: — Женились вы потом на ней?
— Ты что, рябая была девка, некрасивая, а я парень, как видишь, видный. — Начальник детприемника подмигивает Андрею. Но Андрей не принимает этого подмигивания. Ему грустно. Чем виновата та деревенская девка, что уродилась рябой? Ну почему он ее бросил? За это его, наверно, и начальником детприемника посадили.
— Пришел ответ на запрос о тебе из загса, — врывается в сладкие и горькие мысли Андрея начальник детприемника. — В архиве не сохранилось копии твоей метрики. Как ты думаешь, сколько тебе лет?
— Много.
— Как много?
— А со сколька на работу принимают?
— По-всякому бывает.
— Вот и мне столько.
— Ясно. Завтра медицинская экспертиза определит. А мне ты скажи, били тебя дома?
— А надо, чтоб били?
— Надо, как есть.
— Ну тогда били, били... За дело, конечно.
— А материальное положение твоей семьи какое?
— Как у всех.
— Хлеба вволю?
— От пуза, даже свинью одним белым кормили.
— Смотри ты, и не подавилась?
— Что она, не русская, что ли, белым хлебом давиться?
— А свинья-то была?
Андрей оторвал глаза от пола и посмотрел на начальника детприемника. Тот не насмехался над ним.
— Была свинья, — сказал Андрей, — подсвинок. Корове на сено перед моим приездом продали... Корова хлеба не ест, ей сена надо. — И неожиданно для себя: — А вы не злитесь на меня?
— За что же мне на тебя злиться?
Андрей смешался. Не мог он начальнику детприемника рассказать, что встречался с ним до этого в лагере. Не мог сказать, что он, Гмыря-Павелецкий, умер там, в лагере, из-за него. Умер, потому что отдал ему последний кусок хлеба, укрыл его своей шинелью от черного пса. И под испытующим взглядом Гмыри-Павелецкого он почувствовал вкус того давнего лагерного хлеба. Почувствовал, что и на этот раз Гмыря-Павелецкий спасет его, уже спас.
— Я видел, как вы уже раз умерли, — сказал Андрей. — Ведь вы уже раз умирали?
Гмыря засмеялся:
— Не раз, Андрей, и не два...
— Значит, долго будете жить... У нас так говорят: кто уже раз умирал и не умер, тот долго будет жить.
— Ясно, долго... Иди, гуляй до завтра. Завтра скажут. Но запомни, я вызывал тебя предупредить, чтобы на экспертизе ты не прибавлял себе годы. Ни к чему это тебе, Андрей. Иди без провожатых.
И Андрей, как на крыльях, помчался в зал. Впервые его пустили без «конвоя». Значит, действительно в его жизни за последнее время произошли и происходят перемены. Куда они только приведут его? И что за экспертиза такая ему предстоит, как это чужие, не знающие ни его отца, ни матери люди могут узнать его годы? И можно ли их обвести вокруг пальца: прибавить или отнять себе годов?
— Васька, — обратился он к Кастрюку, возвратись от начальника детприемника. — Экспертизу обмануть можно?
— Можно. А почему нельзя? — даже удивился Кастрюк.
— Потому что медицинская, ученая.
— Делов-то, что она ученая.
— Слушай, Васька, а как лучше, когда тебе годов меньше или больше?
— Вот это задача... Тут треба помозговать... С одной стороны, когда больше, пенсию раньше получать будешь.
— Иди ты со своей пенсией.
— А ты грошима не кидайся. Ты мозгами шевели.
— Значит, лучше, когда годов больше?
— С одной стороны. А с другой — в армию быстрей призовут.
— В армию — это хорошо, — обрадовался Андрей.
— Хорошо... Чему тебя, дурень, только учили. Раньше заберут, ты и жениться до армии не успеешь...
Это был сильный аргумент. Кастрюк знал, на что бить.
— Что же мне делать, Васька?
— А куда ты хочешь попасть из детприемника?
— Да в ФЗО хотя б...
Кастрюк примерился к Андрею, осмотрел его со всех сторон.
— Ты тужься там, на комиссии, чтоб распирало тебя, только в уборную перед этим сходи. И прибавляй годы, авось и пролезет.
Не пролезло. Сколько ни тужился на экспертизе Андрей, ничего у него не получилось. Холодновато было в экспертизе, и холод сжимал его. Кожа на теле вмиг ссинела, и козе было ясно, не то что комиссии: рано ему еще в ФЗО!
Врачей было трое. Старший доктор в очках и уже староватый. В годах были и две женщины без очков, и Андрей не очень стыдился их, больше боялся.
— Так сколько тебе лет? — спросил очкастый, глядя не на Андрея, а куда-то в живот ему и ниже, как будто там были написаны его годы.
— Много, — как и начальнику детприемника, ответил Андрей. — В ФЗО запросто можно.
— Ясно, что можно. А все же, с какого ты года?
— С одна тысяча девятьсот тридцать... — Он назвал год, в котором родилась Тамара. Женщины прыснули и спрятали от Андрея глаза.
— Ты и войну, поди, хорошо помнишь? — призвал их к порядку, притопнул под столом ногой очкарик.
— А кто ее не помнит? Плохо было... Только я в лагере сидел...
— В лагере? — заинтересовались женщины. — Всю войну?
— Ну да. Как немцы пришли, так и посадили...
— За что же тебя посадили?
Вот этого Андрей не знал. Почувствовал, что и лагеря уже не помнит. Так, черное пятно: зимой и летом одним цветом люди, деревья, земля, солнце и небо, охранники и заключенные. И сейчас серость наплыла на глаза. Дернул же черт его с этим лагерем. Надо было срочно что-то придумывать, выкручиваться.
— А за диверсии и посадили, — сказал Андрей и победно посмотрел на экспертизу. Съели, мол, еще чего вам надо?
— Так когда же ты родился? — спросил снова очкастый.
— А когда бульбу начали копать, тогда я и родился.
— В сентябре, — догадались женщины. Мужчина подозвал Андрея к себе и ощупал, как ощупывают коновалы жеребят перед тем, как сделать их уже не жеребятами. Зачем-то заглянул ему и в рот.
— Пишите, год тысяча девятьсот... — приказал он женщинам. — А месяц ставьте этот, и день сегодняшний. Вырастешь, мужик, будет у тебя два дня рождения: один весной, а второй, когда бульбу начнут копать.
Тем и закончилась для Андрея экспертиза. И кто кого обдурил, он врачей или врачи его, он не понял, потону что врачи год его рождения не угадали.
И снова тягуче и неторопливо потянулись дни. И снова ничего в них не происходило, хотя текли эти дни под музыку солдатских и гражданских песен, в которых играли на тальяночке, обламывали черемуху, плыли на лодочке и комбайнерка с комбайнером убирали рожь. В детприемнике появился патефон и захватил Андрея.
Патефонов Андрею раньше не приходилось видеть, хотя он и знал о них. И музыку и слова, льющиеся из ничего, из черной, под вид слоновьего уха тарелки в Клинске, он слышал только однажды в доме Витьки Гаращука. И очень удивился, откуда что бралось, а сейчас мог сам накручивать пружину и ставить любую по выбору музыку. И любая музыка, и любая пластинка нравились ему и трогали до слез.
— Видно, будешь музыкантом, — подтрунивала над ним Вия Алексеевна. А он только краснел и прятался за патефонной крышкой, слушая, как кто-то счастливый и недоступный ему катался на коньках, и кто-то кого-то догонял, и этот кто-то ликовал: «Догоню, догоню, ты теперь не уйдешь от меня...»
Андрей тогда искал глазами Тамару, хотя искать ее не надо было. Она обычно сидела рядом с ним и молчала. Как сжала губы в тот день, когда его водил к себе в кабинет Гмыря-Павелецкий, так с тех пор и не разжимает. Будто заговорили ее. В тот вечер Андрей после Кастрюка подсел к Тамаре.
— Меня на экспертизу вызывают, — гордо сказал он Тамаре. И, видя недоумение в ее глазах, добавил: — Ну, годы определять будут.
— Зачем? — спросила его Тамара. Спросила, а сама уже знала — зачем. И сжалась, будто ждала удара.
— На работу определять будут или в ФЗО. Так что я скоро работать пойду, деньги зарабатывать. Какую мне работу просить, чтобы поденежнее?
— В банке, — сказала Тамара, — в банк просись. — И почувствовала, что глупость сказала, напрасно смеется над ним. Почувствовала, что все уже у нее с ним хорошее кончилось. Кончилась печка. Уходит он от нее. Уходит, чтобы занять оставленное ею, освободившееся ее место в колонии или детдоме. Хорошо бы в детдоме.
— Только не в колонию. Только не в колонию, Андрей...
— Уж лучше в колонию, чем в банк. Из банка я попаду в тюрьму. А из колонии еще могу попасть в банк. Нас, клинских, сразу в банк нельзя. Лучше сначала в колонию... Ты не думай, я там тебя не забуду... — сказал Андрей, переполненный радостью, что уйдет в колонию или ФЗО и не забудет Тамару. И еще хотел сказать очень многое, то, что не выговаривается в иные нерадостные минуты, то, о чем он молчал в Клинске, в дороге, что копилось в нем здесь, за печкой. Но вот тут-то как раз Тамара и поджала губы... Ну бабы, ну бабы. У него такая радость, и как они могут испортить все на свете.
А мимо печки сновал народ, веселый, любопытный. Рисовались и рисовались рожи Маруськи и Васьки Кастрюков, и Роби, и Лисицына, косились, косились на Тамару с Андреем. И Мария Петровна дважды прошлась и тоже покосилась.
Чувствовали они себя так, будто им устроили смотрины, отчужденно и неуютно, словно это не беспризорники шастали перед ними, а родственники. Родственники разглядывали невесту, во что она одета, не косоглазая ли, не рябая, вслушивались, не шепелявит ли она, есть ли сила в руках, сможет ли она справлять домашнюю работу, рожать детей, будет ли уважать родственников, слушаться их. Смотрели, не попадет ли под ее каблук жених, сумеет поставить ее на место или всю жизнь будет плясать под ее дудку — ноги ей мыть и воду из тазика пить. И торжеством, и знанием будущего, будущей жизни Тамары и Андрея, светились их лица, лица беспризорников и воспитателей. А Тамара и Андрей бежали друг от друга в разные стороны, в разные земли, в Белоруссию и Грузию, от этих добрых и недобрых глаз.
— Это хорошо... Хорошо, что и в детприемнике... — сказала Андрею в тот вечер Мария Петровна. Андрей сразу понял, что она говорит о нем и Тамаре. И в первую минуту ему хотелось провалиться сквозь землю. Но желание услышать от нее, взрослой женщины, что-то такое, до чего он сам не мог додуматься, что могло бы как по волшебству освободить его от мук неопределенности, в один миг сделать его всесильным и счастливым, победило. Он не запротестовал и не провалился. Остался ждать этих слов. Он верил, у воспитательницы и других людей есть такие слова, они уже дошли до них. Ему и в голову не могло тогда прийти, что нет и не может быть таких слов и что у каждого человека свое. Рождается по-своему и умирает по-своему. У каждого единожды, но по-своему. И не может ему тут ничем помочь не только воспитательница, но и сам господь бог.
— Все к лучшему, — сказала Мария Петровна. — Все к лучшему и к лучшему. И плохое, и хорошее — ничто так просто не кончается. Ты будешь уже взрослым и будешь всегда вспоминать об этих днях, и они никогда для тебя не кончатся. Ты забудешь все остальное, но вот этот патефон, книги, Тамара для тебя останутся навсегда. Иной раз они будут даже сниться тебе, и ты будешь плакать во сне. Так будет, я знаю... Я завидую вам.
Она не обманула его. Так было.
Вия Алексеевна обошлась с ним жестче.
— Тебе надо меньше патефон слушать, — сказала она ему. — И быстрее надо из детприемника. Тебе или Тамаре.
— Но почему?
— По кочану. Тамаре замуж надо. Ей свою судьбу устраивать надо. А тебе — в школу. Быстрее, чтобы потом не было слез, чтобы не довелось вам проклинать весь свет.
И Вия Алексеевна отвернулась от него, спрятала покрасневшие глаза. Она тоже сказала правду. В этом Андрей убедился позже. Но кто удивил его, так это Робя Жуков. От него он не ждал ничего, кроме подкусывания и похабщины, а Робя возьми да и заговори нормально.
— Ничего у тебя не выйдет с Тамарой, — сказал он, когда рядом не было Лисы.
— А ты откуда, Робя, знаешь? — не удержался Андрей, хотя ему и не очень хотелось разговаривать с Жуковым.
— Что касается баб, Робя все знает. Она же куда старше тебя. А девкам в ее годах уже надо. Ты понимаешь... Надо, а ты еще сопля.
Даже в таком месте Робя обошелся без похабщины. И Андрей поверил ему и попытался выяснить, как он должен себя вести в подобной ситуации.
— Я понимаю, — сказал он. — Я не против, раз надо. Пусть она... А я подрасту...
— Дурак ты, — сказал Робя. — Дурак, хотя и шибко грамотный.
— Что же мне делать, Робя?
— Сморкаться в платочек... Мне бы такую девку. — И сразу переменил тон: — Тебя, по всему, скоро выпустят в город, гони чинарики, уши уже опухли...
Его действительно скоро выпустили в город. Правда, сначала доверили колоть дрова в детприемниковском дворе. И он их колол и радовался, что колет для Тамары. А потом с эвакуаторшей Ниной Петровной Андрей отправился в магазин за продуктами. Вот там-то, в магазине, он опозорился на всю Россию и толком не понял сам, как все произошло.
А все началось, видимо, с этих проклятых чинариков для Роби с Лисой. На улице только что выпал снег, и чинарики не попадались. А в магазине, в укромном месте, в самом уголочке, безлюдном и темном, Андрей приметил на прилавке пустую бесхозную бутылку. Она была так соблазнительно одинока, что было просто грех не прихватить ее. Она ждала, когда ее прихватят, стояла на самом краешке прилавка, зелененькая, с завлекающей, косо наклеенной этикеткой. И край этикетки подозрительно топырился, словно приговаривал: ну, чего ты раздумываешь, за горлышко и в карман. И пачка «Прибоя», не сходя с места.
Андрей оглянулся на Нину Петровну, та толкалась среди женщин и вроде бы забыла о нем. А женщины галдели и рвались за чем-то к весам. Андрей заходил возле бутылки кругами, не решаясь пережать ей горлышко и спрятать под телогрейку. Она уже была ненавистна ему, зеленая подлюка-искусительница. Ее надо было немедленно схватить и грохнуть об пол, чтобы только зеленые молнии в разные стороны. Андрей оглянулся на продавщицу — может, догадается, уберет. Ну что ей стоит, ведь он сейчас ограбит магазин на рупь двадцать. Но продавщица не оглядывалась.
Зато Андрей почувствовал, что из очереди чья-то бдительная пара глаз уже засекла его и только и ждет, чтобы перехватить его руку в запястье, когда она потянется за бутылкой. Ждет с наслаждением и радостью. Он прошелся взглядом, стараясь определить, которая из женщин перехватит его руку. А в том, что перехватит, он уже не сомневался, как не сомневался в том, что, несмотря на опасность, потянется за бутылкой, потянется и попадется. Откуда шла такая уверенность, Андрей не знал, он только знал, как все будет. Но определить женщину, которая поймает его, не смог. В очереди, в жадном устремлении к весам они все были так одинаковы и так безразличны к нему. И все же среди них была одна, притворяющаяся безразличной. Которая только? Вот та, квадратная, с мужской, впаянной в мужскую шинель спиной, или та, с испитым лицом, поворотившаяся сейчас к нему, а может, это будет девчонка, выставившая далеко вперед кулак с зажатыми в нем монетами?
А, будь что будет. Гори оно все огнем. Андрей ринулся к бутылке, протянул за нею руку. «Остановись», — услышал он голос, только не понял, в себе или над собой. И еще было время остановиться, пять сантиметров, ничтожная доля секунды. Он успел представить себе женщину, которая уже в следующую долю секунды торжествующе возвестит всему миру, что пойман вор. И это сделает та, медлительная на вид, с литой мужской спиной. Он увидел ее торжествующее лицо, безбровые глаза, маленький ротик и удовлетворенно отвисшую на подбородке складку жира. Представил его себе, потому что она ему своего лица не показала.
И Андрей схватил бутылку. Но прятать ее под телогрейку не стал, знал — бесполезно. Впрочем, он бы и не успел этого сделать. Он не успел даже ощутить холодка настылого стекла, а женщина уже заслонила от него только что прыгавших по свежему снегу за окном воробьев. Женщина держала его руку, а он держал не бутылку, он схватил за горло самого себя, свой стыд и свой позор. И горло у этого стыда и позора было отвратительно липкое, захватанное потными руками. И липкость эта переливалась в него, обволакивала его тело, словно он голый запутался в густой и мокрой паутине. Андрей хотел разжать пальцы и выпустить бутылку, но передумал: к чему, зачем. Все равно уж попался. Хотел крикнуть, и внутри у него все кричало: «Я не вор! Не нужна мне бутылка, и «Прибой» не нужен, я не курю», — но слова так и не вышли у него горлом.
— Вот злодюга! — торжествовала женщина. — Сюда, люди, сюда!
И очередь ринулась посмотреть на злодюгу. Всегда любопытно посмотреть на злодюгу, когда его показывают, как в цирке, безразлично, что он упер, паровоз или пустую бутылку. А бутылка была с изъяном, у нее было сколото горлышко.
— И не краснеет, — нараспев выговаривала женщина. А Андрей действительно даже не покраснел, и это, видимо, больше всего возмутило женщин.
— В милицию его...
— Это со мной, это из детприемника. — К Андрею пробилась Нина Петровна. И столько на ее лице было краски, что ее хватило бы, наверное, на всех стыдливых воров. Кольцо вокруг Андрея распалось, видимо, женщины считали, что детприемниковским сам бог велел красть, и ничего удивительного в этом нет. Нина Петровна схватила его за рукав телогрейки и поволокла к выходу. Всю обратную дорогу до детприемника она так и не обмолвилась с ним ни словом. Ничего не сказала и сдавая бабке Насте.
Андрей влип в диван и до вечера не поднимался, ожидая, когда его поволокут к Гмыре-Павелецкому. Но его так никуда и не поволокли ни в тот, ни в следующий день. И воспитатели молчали, как будто ничего и не произошло. Андрей не знал уже, что и подумать, к чему готовиться, как к нему в первый раз сама подошла Тамара.
— Я знаю, — сказала она. — Я слышала сегодня разговор в канцелярии.
Андрей не отозвался. Ему, конечно, интересно было знать, что там говорили в канцелярии. Но он больше волновался, гадая: презирает его Тамара или нет? Будет с ним так же и дальше или все теперь переменится.
— Они знают, что ты не куришь, — сказала Тамара и прикоснулась своей теплой ладонью к его руке.
— Тебя подослали ко мне? — презирая себя, спросил Андрей.
— Я знаю, ты очень хороший. И честный... Самый честный.
И тут у него потерялось сердце. Там, где оно только что было, сначала появился холод, а потом прихлынула боль. И она все густела. Диван, на котором он сидел, ушел из-под него, все исчезло, растворилось, как сахар в кипятке. И Андрей никак не мог понять, где он находится, то ли на небе, то ли на земле, и есть ли он вообще. Но вскоре сердце отпустило. А Андрей уже хотел, чтобы сердце болело беспрерывно. И сердце будто услышало его и заболело снова.
18
Да еще как заболело. И поверить нельзя, что сердце может так болеть. И Андрей в первую минуту не поверил, потому что надо было бежать на ужин. Он сорвался с дивана, живот просил еды. А когда живот просит еды, значит, ты здоров. Но ноги отказались служить, будто ему их подменили, подсунули немощные, старушечьи. Они подогнулись в коленках, и Андрей оплыл на диван.
Над ним склонилась Вия Алексеевна, пощупала холодной рукой лоб. И ему понравилась ее рука, хотелось, чтобы Вия Алексеевна подольше не отнимала ее. Он чувствовал, как сквозь ее тонкую кожу стучится к нему ее сердце. Представлял его себе — маленькое и аккуратное, как и сама Вия Алексеевна, когда без ячменей. В руке у воспитательницы, как в шерсти котенка, было электричество, и оно передавалось Андрею. Красно пощипывало тело, красно, потому что Вия Алексеевна на этот раз была в красном платье.
— Я умираю? — шевельнул Андрей противно холодными губами.
— Что ты, Андрей?..
— Я умру, — настаивал Андрей. — Я знаю...
— Мы не дадим тебе умереть.
— А я все равно умру.
— Брось чепуху молоть. — Вия Алексеевна рассердилась.
— Если вы будете на меня сердиться, я обязательно умру. — Андрею хотелось, чтобы Вия Алексеевна жалела его и испугалась за него. И похоже, что она испугалась. Тогда он пообещал: — Ладно, не буду помирать. Только вы мне руку на лоб положите. — И опять по лбу застучали мягкие молоточки, такие же, как в пианино, только поменьше, крохотные совсем, но очень резвые.
— Сейчас придет медсестра, сделает укол, и ты сразу станешь здоровым. Я уже послала за ней. Где у тебя болит?
— Это у меня от любви, — доверчиво прошептал Андрей. Сердце уже немного отпустило, и страшно хотелось говорить. Просто невероятно, до чего хотелось говорить. Признаваться во всем, что было и чего не было.
— Раньше, когда я до этого умирал, у меня ничего не болело.
— А ты уже умирал?
— Сколько угодно. И даже не за себя. За бабушку, за поросенка, когда его шилом кололи, за петуха, за яблони — их наш сосед топором вырубал, чтобы налог не платить. Тогда я умирал на время. И будто не умирал даже, а проваливался или улетал... А теперь я умирать буду часто. Пока на самом деле, наверно, не помру.
— Перестань околесицу нести!
— Правда, правда. Кто уже попробовал помирать, уже не утихомирится, пока не добьется.
— Ты будешь жить долго и счастливо, поверь мне.
В комнату ввалились ребята с ужина, вместе с ними пришла и медсестра, румянощекая с мороза и немного кислая, что ее вытащили из дома. А Андрей был доволен, потому что к нему подошла и Тамара, и в ее глазах он прочел тревогу и испуг. Он загордился собой, что ни говори, а приятно, когда из-за тебя такой переполох. И хотя у него сейчас уже ничего не болело, он говорил тихо и больным голосом. Нравилось так говорить, ждал, когда ему дадут обещанный укол, только не в задницу, конечно, а куда-нибудь в руку или под лопатку. И прямо здесь, на глазах у Тамары. А он не ойкнет, только скрипнет зубами, чтобы до всех дошло, как это больно.
Но медсестра не торопилась с уколом и повела его к себе в изолятор. «Все же укол в задницу будет», — подумал Андрей, и ему стало тоскливо и страшно.
— Уже не болит, — попробовал он увильнуть от укола. А укола ему никто и не собирался делать. Медсестра сначала послушала его в трубку, потом достала черную коробочку, заковала руку в черную повязку с железной застежкой. Андрей немного струхнул, но виду не подал. Медсестра взяла резиновую грушу, красную, как клизма, и стала быстро накачивать воздух неизвестно во что, потому что повязка была матерчатой и она почти не надувалась, не увеличивалась, а руку словно взяли в клещи. И вместе с холодом по всему телу пополз страх. Сердце подпрыгнуло, перекувыркнулось и помчалось куда-то так, что вмиг заломило в ушах.
Медсестра снова прильнула к нему трубкой, но ненадолго. Вскоре она собрала и спрятала все свои причиндалы в шкаф, а сама пошла к умывальнику мыть руки. «Заразное что-то», — испугался Андрей и обрадовался. Для разнообразия ему не помешало бы что-нибудь заразное. Болеть не так уж и плохо, больных все жалеют. И Тамара будет его жалеть.
— Ничего серьезного, — вымыв руки, сказала медсестра.
— Как? — опешил Андрей.
— Поболеть охота?
— Да оно б нелишне...
— Проживешь сто лет. Сердце у тебя здоровое. Невроз у тебя. — Андрею почудилось, что сестра сказала «неврост».
— А это что такое, заразное что-нибудь?
— Нет, — засмеялась медсестра. — Псих ты немного.
Тому, что он псих, Андрей не поверил. Он видел психов. Им даже справки давали, и они трясли этими справками: вот, мол, могут отметелить любого и их не посадят. Ему же такой справки никто не даст, да и кого ему метелить. Тут смотреть да смотреть надо, как бы самого не отмутызкали. Но название болезни Андрею все же понравилось. Неврост — это, видимо, и не от нервов идет, нервост было бы тогда. Тогда бы уж точно он был психом. А так — нет. Скорее всего сердце у него большое, а сам он маленький. Не в рост оно его телу, не помещается в теле, тесно ему там. Вот оно и болит. А может, у него даже два сердца. Ничего удивительного, все может быть. В Клинске еще до войны жил мужик с двумя сердцами. Его немцы еще расстреливали. Расстреляли одно сердце, а второе осталось. Он сначала упал, притворился, а немцы ушли, он и поднялся. Разве немцы могли догадаться, что у мужика два сердца?
— А у меня не два сердца? — спросил медсестру Андрей.
— С чего ты взял?
— Как с чего, если ему там, в груди, тесно, так, может, оно не одно?
— Одно у тебя сердце, и нормальное.
«Так я тебе и поверил», — подумал Андрей, но спорить с медсестрой не стал, потому что ему очень хотелось, чтобы у него было два сердца. Тогда и жить он будет два человеческих века. И он уже верил, что будет жить два века. А эта медсестра еще хватится, что не рассмотрела его второго сердца. Много они понимают, медсестры, в сердцах. Халат надела и уже — неврост. Нет чтобы послушать как надо.
— Поболеешь, если хочешь, — сказала медсестра. — Хочешь ведь?
— Если можно...
— Можно. Будешь ночевать в изоляторе. С недельку полежишь, и все пройдет. А сейчас вот, держи. — Медсестра протянула ему таблетку. — Под язык, — сказала она. — И не бойся, она сладкая.
Медсестра проводила его в общую комнату. Там к нему сразу же подошла Тамара.
— Неврост, — сказал Андрей. — Но это не психическое и не заразное. Я подозреваю, что у меня два сердца. И они что-то там схватились внутри, чего-то не поделили. Но ты не волнуйся. Два сердца все равно лучше, чем одно. Разберутся.
Глаза у Тамары стали круглыми. И это Андрею очень понравилось. Он решил, пользуясь случаем, выпросить у нее «Декамерона», давно уж подбирался к этой книге, но безуспешно. И сейчас Тамара не дала ему «Декамерона».
— Мне стыдно, — сказала она. — Хоть ты и большой. Вот лучше «Кюхлю» возьми...
— А рохли у тебя нету?
Рохли у нее не было. И Андрей ушел в изолятор обиженный. Медсестра закрыла его на замок, а сама отправилась домой нагуливать румянец на щеки. Андрей разобрал постель и завалился в нее с книгами — что ни говори, а болеть приятно. Таблетку он не дососал, выбросил в форточку, чтобы не выздороветь слишком быстро. Кроме того, ему надо было не одну, а две таблетки, чтобы ублажить оба сердца. Одно сердце было с ленцой, но, видно, смелое и говорило ему: хорошо, все хорошо. Ты лежишь тут один и можешь читать сейчас хоть всю ночь. И ни воспитательница, ни бабка Наста не заставят тебя спать.
А в спальне? Одиннадцать часов и — чтобы в танковых частях был порядок, всем на боковую. «Но я все равно не спал», — это уже подключался к довольному сердцу сам Андрей. Он действительно не спал. Сбрасывал одеяло, будто ему жарко, и с головой укрывался простыней. А под простыней у него была книга. И света сквозь простыню попадало достаточно, чтобы читать за полночь.
А какое же его второе сердце? Вдруг оно трусливое и предательское?
«А точно, — подумал Андрей, — вдруг одно из них предательское?» В одиночестве среди едкого запаха лекарств и больничной тишины вместе с ним поселился и страх. Большой, бесплотный, он юлил возле умывальника в затененном ширмой углу, стоял у зарешеченного с той стороны, с улицы, окна и таращился на него синим глазом. Только и ждал, чтобы он уснул. И тогда страх навалится на него и задушит.
И Андрей боялся прикрыть глаза, потому что в ту же минуту страхи подступали к нему. Правда, нападать не решались, но щекотали, проверяли, спит он или притворяется. Страхи были холодные, не мокрые, но холодные, как ужи. А ужей он боялся больше гадюк, потому что в гадюке была заключена злость, в уже — страх. Это Андрей испытал на собственной шкуре. Укус гадюки померещился ему, когда он драл лыко на болоте у себя в Клинске. Ходил по лозняку разутый и вдруг почувствовал, будто кто-то ударил его по голой пятке. Подпрыгнул, потому что перед глазами, показалось, промелькнуло шашечное тело змеи. Но не побежал, поднял ногу и осмотрел пятку. Кожа на ней была сорвана, и продолговатым треугольником в ямочке копилась кровь. Андрей рассвирепел от вида этой крови, схватил палку и измочалил на нет пятачок травы, на котором перед этим стоял, измолол в труху скрытый травой небольшой пенек — столько в нем было злости.
И хотя с Андреем ничего не случилось и он позднее догадался, что никакой гадюки там не было, это ровным счетом ничего не меняло: в гадюке только злость и недоумение. А в уже страх, потому что к тому времени он слышал от дядьки, как разъяренный уж отбил одному мужику печенку. Мужик дразнил его хворостиной. Дразнил, но не убивал. И уж взъярился. Он свернулся в кольцо, встал на хвост, оттолкнулся от земли и стебанул мужика сначала в грудь. А когда мужик бросился убегать, лупил ему в спину, в печенки. Полз, нагонял, становился на хвост — и в печенки, в печенки. Вот это страх, когда холодная веревка лупит тебя в печенки.
Страх вызрел в нем и сейчас. В каждом из двух его сердец был только страх, не тот беспризорничий страх сознания, что он может погибнуть под колесами вагонов, что жизнь его может истаять в голоде и холоде, а деревенский страх, ужиный страх уснуть и никогда больше не проснуться. Видимо, так люди и умирают.
А так уж хотелось жить. Но как обмануть все эти страхи, затаившиеся в ночи, пробравшиеся в беспризорничий изолятор. Андрей был уверен, что если он сейчас уснет, то больше не проснется, боль тихо скрутит его во сне и кончит, он боялся своего неверного предательского сердца: оно обязательно остановится, когда он перестанет помнить себя. Оно ведь останавливалось уже, он ведь уже умирал, губы даже похолодели. Хорошо, что кругом были люди, та же Вия Алексеевна.
А здесь он совсем один, и, чтобы победить страх, остается только лежать и думать о чем-нибудь приятном, О том, как тебя повезут из этого детприемника. А повезут в детдом, это Андрей уже знал. В какой вот только, неизвестно, наверное, в хороший, потому что плохих детдомов не бывает.
Его увезут, а Тамара?.. Снова колотится сердце, торкает в белую простыню. А простыни в изоляторе получше, чем в спальне, с синим глянцем. Это потому, что на них никто не лежал. Никто не болел до него в детприемнике, никто не любил в детприемнике. А вот он влюбился и заболел. Не надо было влюбляться.
Легко сказать, не надо. Жить-то надо. А что бы у него была за жизнь, не встреть он Тамару. Сидел бы сейчас в Клинске и сморкался в тряпочку или таскал бы Лисе с Робей чинарики. А теперь за него и Мария, и Гмыря-Павелецкий. А скоро появится и дом: детдом. Хорошо как звучит.
И что это Тамара сделала с ним? Как и когда? Красивая ли хоть она? Видимо, красивая, если так болит у него сердце... Дурак он дурак, ну чему радуется: попадет в детдом? Ведь один: Тамару ведь не возьмут в детдом. Сердце у него умное, оно почувствовало и поняло беду раньше его, потому и заболело. Не от любви оно болит, а от разлуки, а он, дурак, радуется.
Как же ему быть, что придумать? А ничего не придумаешь. И счастье горем оборачивается. Оборотень счастье. Будь проклято счастье, лучше уж за печкой вместе с Тамарой горевать, чем быть счастливым одному. В одиночку. Какое же это счастье в одиночку. Лихолетье, лихолетье...
Чудо какое-то должно свершиться, чтобы он и Тамара одновременно стали счастливы. Почему не может произойти с ним никакого даже самого завалящего чуда? Происходят же они где-то. Да не где-то, а повсюду. Почему он не может за одну ночь вырасти и назавтра жениться на Тамаре?
У них в Клинске, вернее, в деревне под Клинском, было ведь что-то похожее с внуком того паровозного машиниста деда Архипа. Только не с сопливым Ленькой, а с другим, Мишкой. Сам дед Архип хвастался. Забирали его внука Мишку в армию, еле-еле положенных армейских его сорок девять или сколько там сантиметров наскребли. А в армии он за полгода на тридцать сантиметров вымахал. Вот бы ему так! Полгода, правда, долгонько ждать, но он терпеливый, только бы знать наверняка, что подрастет за полгода на тридцать сантиметров.
Или чтобы война, что ли. Для войны он сгодится и таким. И некогда будет сердцу болеть, некогда будет о Тамаре думать. Пусть тогда она о нем думает. И ждет. А за четыре года он-то уж как-нибудь умудрится подрасти. И не только подрасти. Там он себя покажет...
Андрей начал придумывать себе подвиги на этой войне (он каждую ночь их придумывал с тех пор, как попал в детприемник) и незаметно уснул уже на половине придуманного подвига. А ночью ему снилось продолжение «Повести о настоящем человеке», которую он начал читать еще до изолятора. И когда он наутро снова принялся за нее, оказалось, что сон его был верный. Он все уже знал про Алексея Маресьева. Ну как будто сам был Алексеем Маресьевым.
Это его удивило. Он попробовал проделать такой же фокус с «Кюхлей» Тынянова. Нарочно добрался до самого интересного места и остановился, спрятал книгу под подушку. Сон его не брал долго. Но он все же уснул, но уснул уже не Андреем, а Кюхельбекером. И в книге, открытой поутру, нашлись целые страницы, известные ему от точки до точки. Это было чудо. Впрочем, ему нашлось объяснение. Андрей решил, что уже однажды прожил на свете. Давно, так давно, что теперь никто и не помнит, когда это было, и он сам не помнит.
А в изоляторе появилась мышь. Он приметил ее днем, мышь воровала оброненные им на пол хлебные крошки. Мышь пришла за крошками, не догадываясь, что в комнате есть живой человек. Она почуяла Андрея, едва он посмотрел на нее. Повернулась к нему острой мордочкой и немигающе уставилась ему в глаза. Так они смотрели друг на друга минуту-две. Голод, видимо, пересилил в мыши страх, а может, она поняла, что он не сделает ей зла. Мышь снова поворотилась к хлебу, облюбовала корочку побольше, взяла ее на буксир, и Андрей пронаблюдал, как она пятится с нею под кровать.
С того дня Андрей всегда ждал свою мышь и готовил для нее хлеб. И она появлялась каждый день аккуратно. А вскоре приучилась вставать на задние лапки, заглядывая, на своем ли он месте.
— Вот кончится у меня неврост, — говорил он мыши, — я выздоровею и уеду в детдом. Айда со мною в детдом. Там, говорят, четыре раза в день кормят. — Шевелился на кровати, протягивал к мыши руку. Она удирала, видимо, не хотела в детдом. Хорошо ей было в своей норе, и лучшей она не желала.
В изоляторе он пролежал, как и обещала сестра, ровно неделю. За эту неделю к нему несколько раз приходил Кастрюк, наведывала его и Тамара. Но долго не задерживалась. И Андрей понимал почему: она стыдилась. Там, в общей комнате, они могли хоть век сидеть рядом, все было на виду. А здесь уже получалось как бы свидание, как у взрослых. Ей надо было помнить, о чем могут подумать взрослые. А о чем они могли подумать?..
И Андрей каждый раз после ее ухода готов был побить все стекла в окне, и не от обиды на взрослых и Тамару, а от злости на себя. За то, что ему так хорошо, когда Тамара рядом, за то, что он такой теленок и не осмеливается ее поцеловать. Может быть, она за тем и приходила.
Но она приходила не за тем, и Андрей это понимал, когда улетучивались злость и обида. Болезнь и одиночество на многое раскрывали ему глаза. Мышь — вот и все, что было у него, да и то потому, что мышь была безъязыкой и он ее кормил.
Андрею было радостно, что он может кого-то накормить. И уходя из изолятора, он положил у щели под кроватью, из которой появлялась мышь, две пайки хлеба. Мог бы положить и больше, но побоялся, что приметит медсестра и мыши не достанется ничего. А так, если экономно будет расходовать, с неделю протянет. Поголодайте немного, а там придет и весна, с прикормом станет получше.
А весна уже приближалась. Сиреневый куст под окном изолятора менял цвет. Темнел от скрытых в нем, готовых прорваться зеленью листьев. К концу дня вроде бы даже оживал совсем, и зима боролась с ним, леденила к утру обрызганные капелью ветви, словно бы покрывала броней. Но солнце, смеясь, уже в первые утренние часы растапливало эту броню, и к полудню куст снова был весь в искристых брызгах капели, как будто в нем уже смеялись и плакали потревоженные солнцем, чующие весну цветы.
19
— Мне говорят, что у нас в детприемнике объявилась любовь? — Гмыря-Павелецкий смотрит в стол. А она стоит перед ним, будто школьница, и чувствует, как жмет ей казенная одежда. Раздобрела, выгулялась к весне. Ломится, рвется тело из казенного платья. Лицо бы сейчас в воду холодную, в снег. И тело в воду холодную, в снег, чтоб ужалось оно.
— Так верно говорят: объявилась у нас в детприемнике любовь?
— Это плохо?
Гмыря-Павелецкий вскидывает голову, смотрит ей в глаза, она смотрит ему в глаза: выдержать его взгляд и не дрогнуть, тогда можно говорить без недомолвок и стыда. Тогда будет разговор. Серьезно это он с ней или шутит, объявилась у нее любовь или нет? Ответь себе, Тамара Николаевна Никошвили, ответь себе. Ему тринадцать, ей семнадцатый... Смех и горе. Его горе, ее горе. А могла ли она прогнать его от себя, если ему пришла пора любить. Все равно кого. Она прошла через это, она знает: в колониях, в детдомах, в дорогах вдруг наступает время любви, зреет необходимость любви. Беспризорные девчонки, лишенные отцов и матерей, вдруг влюбляются в своих воспитателей и учителей. Влюбляются в воспитательниц, учительниц беспризорные мальчишки. Потому что без любви жить становится невыносимо. Потому что пришло время, когда решается самое главное: любовь или ненависть. Что она должна была выбрать, не знающая любви, но познавшая до конца ненависть?
Она не могла оттолкнуть его, не могла, потому что сама тосковала по любви. Всю жизнь ей не хватало любви. Все эти шестнадцать лет ей хотелось кого-нибудь полюбить: Карло-ключника, Валерия Павловича, офицера-летчика, — весь этот мир с лошадьми и жеребятами, колониями и детдомами, воспитателями и Стругайлами.
Да, ей открылась любовь. И открыл эту любовь в ней пацан тринадцати неполных лет. Прекрасен мир. По берегам еще скованных льдом ручьев украшают себя пушистыми котиками вербы. В ручьи и речушки спешит на нерест рыба. А ручьи и речушки рвут по ночам лед, будто из пушек стреляют. И катится по безлистью лесов и равнинам снегов перебористое эхо. И она слышит этот дальний голос близкой весны. Так хорошо это или плохо?
— Я не говорю, что это плохо. Просто мне говорят... — смешался Гмыря. — Вот что, Тамара Николаевна, давай напрямую. И садись, садись. Я не против... Извини меня. Ну, любопытен я, как воробей, право дело. Знаешь, конопляниками мы их в детстве звали... Сколько я здесь, в этом вот кресле, сижу, — Гмыря трижды подпрыгнул на стуле, — все мне приходилось разбирать какие-то свары, драки. А тут... — Начальник детприемника развел руками. — С драчунами я знаю, как обходиться, с уголовниками, рецидивистами, домушниками, карманниками и даже кацапами. А как тут?.. Хороший парень?
— Хороший, — сказала Тамара.
— Угораздило же вас... На фронте тоже не ко времени бывало. Но там хоть народ взрослый. Сегодня любовь, завтра смерть... Ну, а у вас что завтра?
— Картофельное пюре с селедкой...
— И я так думаю... А что, сыграем в детприемнике свадьбу? Не сыграем, в том-то вся и беда. А хорошо бы! Бабка Наста за мать, я за отца. Робя, Лиса, Серафима, Мария — дружки. Годится?
— Вы меня только за этим и вызывали? — почувствовала вдруг усталость Тамара. И потеряла интерес к разговору, потому что главное, на ее взгляд, было сказано, и речь сейчас должна пойти только о ней. Но Гмыря-Павелецкий не торопился говорить о ней.
— Хорошо, что ты меня понимаешь, — сказал он. — За парту его надо усаживать, расти ему надо, учиться. И хорошо, что о нем думаю не один я.
— Только не в колонию его.
— Не беспокойся. В детдом он пойдет. В самый лучший — спецдетдом, где дети погибших фронтовиков, где до десяти классов держат... Ты не в обиде на нас, что мы его на такой срок упекаем?
— Чего там обижаться, — сказала Тамара, — я бы тоже хотела на такой срок.
— Ты?.. — Гмыря-Павелецкий помрачнел. — С тобой я буду жестким, Тамара Николаевна... Ох, дети вы, дети. Малые детки — малые бедки. Ему еще тринадцати нет, а у него уже невроз от...
— Не от... — сказала Тамара.
— Да знаю я. Не перебивай ты меня. Начальник, думаешь, так и дуб при погонах. Случается, что и он китель снимает. В кого-то все же удаются наши детки, у кого-то учатся... Ты должна поговорить с ним, открыть ему глаза: ребенок он еще...
Тамара отрицательно крутнула головой. Нет, не годилась она для такого разговора. Не годилось и то, что предлагал Гмыря-Павелецкий.
— Как это я могу открыть ему глаза?
— А я откуда знаю. Ты женщина. А женщине в таких случаях виднее...
— Да взрослый же он, взрослый, не ребенок. Как вы этого не поймете. Вы в метрики смотрите, по наружному виду, медэкспертизой годы определяете. А тут ни метрики, ни наружный вид не годятся. Тут, как на войне, день за три считать надо... Как вам на войне считали. Мы же ваши дети, сами говорите. Учились и мучились вместе с вами, через одно и то же шли... А кроме всего...
А кроме всего, Тамару обидело и возмутило, что он, Гмыря-Павелецкий, не спросил ее, хочет ли она открывать Андрею глаза. Получалось, будто Андрей всего лишь игрушка для нее, забава на то время, пока она под замком в детприемнике.
— Вы бы хоть любопытства ради спросили, хочу ли я расставаться с ним.
— Об этом я не хочу тебя спрашивать и не буду. Его да и твоей судьбой пока распоряжаюсь я.
— Нет...
— Да!
И тихо стало в кабинете. Гулко лишь стучал будильник, стоящий на столе между Гмырей и Тамарой. Тамаре хотелось посмотреть, который там уже час идет на начальническом будильнике. Но циферблат находился со стороны Гмыри.
— Я уже говорила с ним. Я уже простилась с ним. Потому у него сейчас и невроз. И у меня.
— Не говори мне больше ни о чем, — сказал Гмыря-Павелецкий. — Мне все ясно... Подыскали мы тебе, Тамара Николаевна, работу. В художественной мастерской. Вот за этим я тебя и вызывал...
Тамара дернулась, толкнула стол, и будильник упал. Она увидела наконец время. Было еще рано. Всего лишь одиннадцать часов, начало дня.
— Ну что ж, иди. Будем думать еще, — сказал Гмыря-Павелецкий. И Тамара, сгорбившись, вышла.
В зале, на Андреевой месте, за печкой сидела Маруська Кастрючиха, сидела, ковыряла в носу.
— Резьбу сорвешь, — мимоходом, опускаясь на стул, бросила Тамара.
— А вот и не, Тамарка, — засмеялась Кастрючиха и стыдливо спрятала руки. — У меня он без резьбы. У нас в деревне резьбы не признают... Кончается, сходит твое счастье.
— Какое счастье?.. А ты откуда знаешь?
— Так мы ж, деревенские, без секретов живем. Знает ветер, знаем и мы. Хотела я на счастье посмотреть. А смотрю на несчастье...
— Иди, Маруся, иди в свою деревню.
— Пойду, Тамарка, пойду, дай срок. Не приспело мое еще время. Ты послушай меня, послушай меня, дурищу, Тамарка. Может, я что и толковое скажу. Жил в нашей деревне хлопец-сирота. Вроде бы дурачок. Мужиков-то в деревне и разуваться не надо, по пальцам пересчитать можно, все бабы. Так вот, женился он года два-три назад. Ну, как женился, сельсовет, конечно, его не расписывал — годов не хватает. Прибился к одной солдатке, прилепился к ней. А через сколько там положено, в деревне заговорили: «Сына недоросток наш выстругал...» Так я к чему это. Солдатка при нем счастливая, куда счастливей многих наших деревенских баб, которые сами при себе. Справная такая стала. Вот, значит, и какой-никакой мужик, зеленуха, может бабе счастье дать.
— Есть, значит, в вашей деревне, кроме него, и другие справные мужики.
— Не, Тамарка, не... Мужики-то есть, да та баба не вертлявая, за своего обеими руками держится. Каждый год по дитенку, да еще по сыну при нонешних временах — это любить надо. Без любви, взаимности — не получится.
— И откуда ты все это знаешь, Маруся, как будто сама рожала?
— Так мы ж в деревне живем, Тамарка. Дурная ж ты, дурная, никак тебе ничего в голову не вбить. А я рожать буду еще, буду. Одно прошу, чтобы дети не в меня пошли, не рябыми удавались. Ну, да я знаю, как это делается: темной, без звезд, ночью зачинать надо.
— А к чему ты мне это говоришь?
— А ни к чему, Тамарка. Вот так сидела тут на вашем месте и пригадалась мне наша деревня... Я даже место придумала, где вам хату поставить. На бугре, за озером. Фундамент уже есть. Брат наш старший перед войной строиться взялся. Убили полицаи, а фундамент стоит, быльняком только схватился... А хотите, можете в наш дом. Батька рад будет. Он боится в хате один сейчас... Нас ведь когда-то много было. В один год трое померли: два брата и сестра. И нам с Васькой веселее будет. Это ж, считай, детприемник в нашей деревне объявлять можно. И мне с Васькой никуда ехать больше не надо. И вы с Андреем каждый год по сыну. — Кастрючиха засмеялась.
— Ладно, Маруся, — сказала Тамара, чтобы не обидеть Кастрючиху. — Я подумаю. Иди гуляй, я подумаю...
Тамаре хотелось остаться одной, но только ушла Кастрючиха, как подкралась Симочка, обняла за плечи и зашептала в ухо:
— А я знаю, Тамара, а я знаю, что вам с Андреем делать. В банду вам подаваться надо... Я название уже придумала: «Черная кошка». Хорошее название.
— Хорошее. Только была уже банда с таким названием: все в кожаном — портфели кожаные, ридикюли кожаные, перчатки кожаные...
— А ты откуда знаешь про эту банду? Это же наша банда, в нашем городе орудовала...
— Карманы вырезала у людей в автобусах и магазинах...
— Точно...
— А кто приметит да укажет, что карман режут, тому тут же бритвой по глазам...
— Точно...
— Детей воровали, кровь их пили...
— Точно... Так и ты была в этой банде?
— Не была я, Сима, ни в какой банде.
— А откуда знаешь все?
— Оттуда и знаю, что не было такой банды. Выдумывали люди. В каждом городе одно и то же.
— Выдумывали. Выдумать можно страшней, интереснее... У нас будет своя «Черная кошка». Ты будешь черной кошкой. Ты ведь черная! Из жизни будет, а не от выдумки. И ты, как черная кошка, атаманша, можешь заиметь любовника.. Ты думаешь, они, — Симочка кивнула в сторону бабы Насты и Вии Алексеевны, — они тебе разрешат иметь любовника? А в банде ты сама себе хозяйка. Одного любовника мало — двух можешь завести. Неправду я говорю?
— Правду, Симочка, правду.
— По рукам, значит?
— Значит, по рукам, Симочка. Только сначала сходи во-он туда, знаешь? Сходи, хоть до ночи еще и далеко.
— Дура, — взвизгнула Симочка. — Дура ты, а не черная кошка.
На визг этот ее подошла Вия Алексеевна.
— Что это вы не поделили, девочки?
— Да она вот, дура, — Симочка ткнула пухлым пальцем в Тамару, — в туалет меня отправляет.
— Тебе хороший совет дают, а ты на стенку лезешь, — засмеялась воспитательница, — так визжать — до греха недалеко. Баба Наста, проводите Симочку.
— И пойду, и пойду... на вас всех... — И Симочка ринулась к двери, которую уже отпирала баба Наста.
— Была у Гмыри-Павелецкого? — подсаживаясь к Тамаре, спросила воспитательница. — Что он сказал?
— Да то же, что и вы...
Не хотелось ей в эту минуту говорить с воспитательницей. Не хотелось говорить об Андрее. Все, что было связано с ним, уже кончилось для нее, ушло в прошлое, в сон. Дивный, дивный и немного глупый сон. И радостный, потому что не сбывшийся. Сон, как ее веселое детство, сотканное из полупридуманных цветных пятен: солнца, брызг воды, женского смеха и лошадиного ржания. К этим пятнам сейчас добавятся тень печки, пестрядь печатных буковок, нереальность живущих до сих пор на земле деда Архипа и его рыжего Леньки, чад полесских салотопок.
Кончился для нее детприемник. Сколько можно есть бесплатно казенный хлеб. Нет, никто ее не упрекает, что она висит на шее у государства. Но она сама знает: висит и объедает. Потому что так не раз говорили ей в детдоме и колонии. А здесь ничего не говорили, здесь приискали для нее работу.
Тень художественной мастерской нависла над ней. Той самой мастерской, из-за которой она попала в свое время в колонию. Той самой мастерской, где вышивали гладью, бисером и крестом подушечки и салфетки. Цветастые, нарядные подушечки и салфетки. Вышивали кривенькие и полуслепенькие, и полусошедшие с ума девочки — отходы отгремевшей войны. Но кто об этом знает? Кто здесь, в детприемнике, может представить ее ужас перед такой художественной мастерской. Знает ли эта красивая женщина, любящая красивые наряды, кто вышивал ее платье...
— А что он мог тебе еще сказать, — задумчиво роняет Вия Алексеевна. — То же самое говорит мне и мой муж...
— О чем вы?
— Как это о чем? О тебе и Андрее...
— А при чем здесь Андрей?.. — Что это они все стали такие заботливые, обуяла людей забота.
— Ребенок он, — сказала Вия Алексеевна. — А к детям все привязываются, у кого сердце есть... В каждом мужике — большом и маленьком — ребенок. Ребячеством и берут нас мужики, переворачивают души... Хотела бы я на тебя и Андрея... и на себя лет так через десять взглянуть. Как бы вы встретились. Неужели все так и кончится?..
— Все так и кончится, — сказала Тамара.
И они замолчали и взгрустнули. Младшая, потому что знала: действительно, все так и кончится. Кончилось уже детство. Старшая, потому что не хотела еще верить, что ее детство прошло уже давным-давно. Старшая верила в свое счастье, поверила в него, ежедневно заглядывая за печку, где сидели двое. Младшая в эту минуту не верила в свое счастье, потому что не знала и не могла знать, когда и почему эта старшая стала вдруг счастливой и обрела веру.
Теперь уже Тамару не надо было будить по утрам. Она просыпалась сама. Только солнце падало ей на лицо, она открывала глаза. Щурилась, припоминая всякий раз давнее, до конца не припоминающееся, но связанное с солнцем и пробуждением. Может быть, это уходили остатки сна или бродили в ней, не даваясь памяти, обрывки снов. А может, солнце знало о ней что-то такое, что она давно уже забыла, хотя не должна была забывать.
Тамара смотрела на солнце, пока глазам не становилось больно от его промытой ясности, утренней теплой свежести. Солнце быстренько-быстренько напитывало ее тело бодростью. Она вскакивала с кровати с ощущением, что сегодня обязательно все вспомнит, солнце скажет ей, наберет к полудню сил, приостановится в зените — и память ее оживет. Но день уходил, истаивал щемяще-алой полоской, будто открывая в ночи дверь невидимого дома. И как в детстве, хотелось рвануться на крыльях туда, к горизонту, пока там не закрыли дверь в завтрашний день, и посмотреть, что же так будоражит сердце, какие там бродят тени, чем бьет тебе в глаза солнце, прошлым или будущим?
Сегодня же солнце пробудило Тамару и укрылось тучкой, не показывая ей своего лика. Тучка вроде бы набежала и на лицо Тамары. Она припомнила вчерашний разговор с Гмырей-Павелецким, показалось даже, услышала и не высказанное им. И это невысказанное было горше высказанного. Недаром казенная бесплатная пайка встала вчера поперек горла. А ведь она честно старалась отработать эту пайку. Старалась, чтобы было тепло и воспитателям, и беспризорникам, чтобы было тепло за печкой и ей с Андреем.
А получается, будто она дармоедка на этом свете, приживалка. Пригрелась за печкой и не желает работать, боится работы в художественной мастерской... Что же, скоро истопник детприемнику станет не нужен, уже подступила весна, не за горами лето. И сегодня она, может быть, в последний раз протопит печь. Сегодня она даст огню отборные дрова. Заготовленные Андреем. Приспела пора. Пусть уходит все жаром и дымом, рассеивается по земле золою.
Тамара не спеша оделась и пошла за дровами. Начала с кабинета Гмыри-Павелецкого. Нажарила, будто баню топила. Последней была их печка. И тут Тамара не поскупилась. И чего скупиться? Надо было сжечь все, все до последнего полешка. Нельзя было допустить, чтобы его полешко попало в чужие руки или завалялось в сарае.
Печь уже изнемогала от жара. Старчески кряхтела и охала, не осиливая ее щедрости. Раскалились, зароняли белые искорки колосники. Кирпичики сначала счастливо разрумянились, потом из них проступила, как иней, бель, а потом они посинели и заплакали синими каменными слезами. И Тамаре сладостно было смотреть на эти каменные слезы. Бушевал и бесился огонь и у нее в груди. Только наружу она его не выпускала. А печка не выдерживала. Бока ее пошли трещинами, и из трещин тянуло сухим теплом и дымом. «Чтоб ты развалилась, — подумала Тамара, — стояла, стояла, да и рухнула, какая это была бы радость». Подумала так и почувствовала, что обманывает себя. Жизни она желает печке. Долгой и беспечальной жизни. Пусть для нее всегда будут отборные дрова. Пусть у нее всегда будет заботливый и любящий хозяин. Пусть никогда не гаснет ее огонь. А она всегда будет поминать эту печку добрым словом. Может, солнце как раз и пыталось сказать ей, что у нее в этой жизни есть печка. Печка, от которой она может танцевать дальше.
— Ну и нажварила ты, девонька. Допрежь надо было так. А к весне-то пошто дрова транжирить? — Бабка Наста отдувается, жарко бабке.
Отдувались и беспризорники, отдувались воспитатели. Но проклинали не истопника, а весну, солнце. Может, и правильно проклинали... А Тамаре было зябко. Сырое было тепло в зале, удушающее. Она оделась и пошла на улицу. И обрадовалась, увидав во дворе возле баньки Вадима. И Вадим обрадовался ей и смутился. До того как увидеть ее, он вырезал что-то ножиком на сухом и отполированном до костяного блеска столбике. И сейчас Вадим прикрывал спиной этот столбик. Но Тамара успела схватить две буковки «Т+В»...
— Я тебя тут жду, — сказал, потупившись, Вадим. — У меня два билета в театр есть, артисты к нам приехали. Мать говорит, я кликну ее. А я ей: не надо, сама выйдет. И ты вышла... Пойдем на постановку?
— Пойдем, — легко согласилась Тамара, будто всю жизнь знала Вадима и ходила с ним на постановки. — Я только воспитательнице скажу.
И у воспитательницы, Вии Алексеевны, она не отпрашивалась, не брала разрешение на выход в город, а поставила воспитательницу в известность, что идет в театр с Вадимом. Довела это до ее сведения, будто каждый день ходила с Вадимом в театр. Вия Алексеевна чуть-чуть помедлила с ответом, словно хотела и могла ее удержать.
— Тамара... — начала она. Но за Тамарой уже захлопнулась дверь.
Андрей вышел из изолятора после полудня и первым делом заторопился увидеть Тамару. Но Тамары в общей комнате не было. Не могло ее быть и в спальне, спальня была на замке. Но зато на глаза ему попались сразу две воспитательницы: и Мария Петровна, и Вия Алексеевна. Встретили они его по-разному. Мария Петровна жалостно следила за тем, как он мечется по залу, и молчала. А Вия Алексеевна насмешливо сказала:
— Нету ее, дорогой Андрей, и не будет...
— Ты уже обедал? — неловко перебила Вию Алексеевну Мария Петровна.
— Он уже взрослый, и ему надо все сказать, — как бы продолжая какой-то неизвестный Андрею разговор, сказала Вия Алексеевна. — Это будет им только на пользу. Неужели ты не поняла меня?
— Нет, — сказала Мария Петровна, — не поняла и не хочу понимать...
— Ты воспитательница, а я баба...
Вия Алексеевна с утра еще знала, что сегодня Андрей выйдет из изолятора. Потому она и пыталась удержать Тамару. И только что у нее о Тамаре и Андрее закончился длинный разговор с Марией Петровной. Вия Алексеевна по-женски осуждала Тамару за то, что она ушла с Вадимом в театр, как бы предала Андрея. Она, Вия Алексеевна, когда-то тоже предала его. И предав, обнажив и вывернув его душу до правды, потеряла покой. И сейчас стремилась оправдаться перед ним и не могла оправдать Тамару. То, что происходило между Андреем и Тамарой, было для нее ново, незнакомо, и в то же время это было нечто обжигающее ее, личное. И ей нужен был обязательно счастливый конец, казалось, что от этого зависит и ее счастье. Невозможность счастливого конца она исключала, хотя умом и понимала всю несообразность этого желания. Она привыкла, что повсюду, во всех историях, всех книгах все заканчивается счастливо. И требовала от этих двоих своего, привычного, того, что всегда получала, забыв не только о времени и их возрасте, но и о решетках на окнах.
Мария Петровна страшилась конца — и счастливого и несчастливого. Оба они казались ей одинаково несчастливыми и неправдоподбными. И уединение Тамары за печкой, той самой печкой, за которой все и случилось с ней, временами просто пугало ее. Временами пугало, а временами и радовало. Для нее за этой печкой все кончилось, а они, Тамара и Андрей, от печки только начинают. И не надо, не надо взрослым ни во что вмешиваться. Пусть будет все как будет, как суждено тому быть. Как было уже до них, не с ней, не с Марией, а со многими, многими другими. И пусть будут слезы и горе, только бы не молчала душа. Вия не соглашалась с ней.
— Мы должны освободить их от мук, — настаивала она. — Мы обязаны сделать все, чтобы дети наши не знали тех мук, через которые прошли мы.
— А почему, собственно, они не должны знать наших мук? — спрашивала ее Мария.
— Потому что это ужасно.
— Ужасно не знать мук, Вия. Ужасно мерить их жизнь нашими мерками...
— Ты воспитательница, а я баба, — отвечала ей Вия Алексеевна и повторила это еще раз при Андрее. — ...Тамара ушла с Вадимом в театр...
— Как ушла с Вадимом?.. В какой театр?
— В город приехали артисты и привезли спектакль...
— И вы пустили, вы согласились... — И ожесточаясь: — Вы продаете, продаете Тамару! Я вижу, вижу.
— У меня есть билет в театр, — сказала Вия Алексеевна. — Целых даже два. Я могу отдать тебе их оба. Пойдешь?
— А если я не вернусь?
— Вия! — вмешалась Мария Петровна.
— Помолчи. Я знаю, что делаю.
— Ты творишь, а не делаешь.
— Так пойдешь ты в театр или нет?
— Пойду, — сказал Андрей. — Дайте мне оба билета, и я, может быть, вернусь.
— Я не пущу тебя! — заступила дорогу Андрею Мария Петровна.
— Я вернусь! — пообещал ей Андрей. — Я обязательно постараюсь вернуться.
— Это будет на твоей совести, — не в силах удержать его, сказала Мария Петровна Вии Алексеевне.
И Андрей ушел в театр на постановку «Тамара и Вадим».
Постановка была про любовь. Любовь безмерно красивую и безмерно счастливую. Артисты, старые и молодые, — все были красивые и одеты были все красиво. Нравились они Тамаре. Но ей все время было больно почему-то. Больно за счастливую любовь на сцене, больно за печку в детприемнике, которую она перетопила и которая теперь пошла трещинками. Больно за Андрея, который лежал в изоляторе и не видел, и не сможет теперь увидеть такую красивую постановку.
И покидала она зал с сожалением, что так скоро все кончилось. И за этим своим сожалением не смогла рассмотреть шедшего некоторое время почти рядом с нею Андрея. Он так и не решился показаться ей, хотя бежал в театр, торопился взглянуть ей в глаза и закатить спектакль, выдать все, что она заслужила. И гордо уйти. Но не выдал, не посмел показаться на глаза и не ушел.
Он сидел от нее через четыре головы, один на двух местах, смотрел на ее волосы, розовеющие из-под них маленькие уши и изредка на сцену. Постановка про любовь ему не понравилась и не могла понравиться. Какая там любовь. Это, которая в конце становилась на цыпочки, целовала своего жениха в губы и визжала: хорошо, хорошо, хорошо, — была малость малахольной. Будто не знала в самом начале, что целоваться хорошо, и придурялась, а потом плакала — страдала, значит, от придури. И жених сначала выкаблучивался, а потом тоже страдал — хватал своего друга за грудки и вызверял зенки. А вот песни в постановке были душевные. Одна душевней другой. Если бы они пелись еще не такими сытыми голосами...
На улице Андрей немного прошел следом за Тамарой и Вадимом, надеясь и боясь подсмотреть, как они станут целоваться. Но они целоваться не стали, вроде бы даже поссорились: дернулись вдруг в разные стороны и пошли так по улице, на расстоянии...
Это случилось, когда Вадим сказал Тамаре, что у него в клубе открывается свободное место помощника киномеханика. Слов его Андрей, конечно, не слышал, но видел, как откачнулась от Вадима Тамара. И обозлился на Вадима. Он и до этого злился на него и ненавидел его. Но теперь злость и ненависть были иными. Дурак был Вадим, лопух золотушный. Не понимает, что за девчонка идет рядом с ним. Да он ей должен ноги мыть и воду пить. Все, все должны любить ее. А он рыло воротит, лопух золотушный. И обиженный за Тамару, кипя ненавистью к Вадиму, Андрей нырнул в переулок и бегом прибежал в детприемник в страхе остановиться и поворотить к вокзалу, так и не решив за всю дорогу, что же для него лучше — вокзал или детприемник, но в твердой убежденности, что только он один по-настоящему любит Тамару и будет любить ее всю жизнь. Всю жизнь, молча, не напоминая о себе.
Очутившись в общей комнате, он первым делом направился к Марии Петровне и попросил ее не говорить Тамаре, что он тоже ходил на постановку. Мария Петровна пообещала и сдержала обещание. И у него был очень хороший вечер с Тамарой. Они так славно молчали в углу за печкой.
Но на следующий день Вия Алексеевна выдала его.
— Видели вы друг друга в театре? — радостно спросила она Тамару.
— Кто кого должен был видеть? — сначала не поняла Тамара, но тут же припомнила вчерашнюю боль, догадалась.
— Я отдала ему свой и мужа билеты, — сказала Вия Алексеевна, — и рада, что отдала. Ведь вы сидели вместе?
— Вместе, — солгала Тамара. Но ни Вия Алексеевна, ни Андрей никогда не узнали об этом. Андрей никогда не узнал и того, что Тамара знает, что он вместе с ней ходил на постановку о любви. Может быть, это и к лучшему. Может быть...
20
Вот и пришла настоящая весна, пришла не только в город, но и в детприемник. На улице она ощущалась в небе и земле. И немного в людях. Небо из окна казалось мягким и глубоким, хотя в нем все время колыхалась синяя дымка. То парила земля. И весенние ветры вздымали это земное тепло, и на небе было так же хорошо, как на земле. Люди смотрели себе под ноги, где освобожденная солнцем вода разливалась ручьями, вслушивались в разливанное море птичьих голосов, предвещающих тепло и зелень, и лица их светлели, хмелели.
А беспризорники день ото дня мрачнели. Весенний воздух вливался все же и в них. И хотя он был форточным, разжиженным запахами давно не проветриваемого дома, в нем жила воля и пробуждалась живимая им беспризорничья память. Воздух, льющийся с воли, был подобен бикфордову шнуру. Шнур был подожжен, и взрыв мог грянуть в любую минуту.
Но, как ни странно, первыми взбунтовались не беспризорники, а воспитатели. Им тоже прискучило долгое зимнее сидение в старых серых каменных стенах, они поспешили на улицу. Дважды в день пошли обязательные прогулки. И только одного человека они не обрадовали — Андрея. Улица была доступна ему и без прогулок. Только что ему там делать? И вообще, где ему сейчас было бы лучше, он и сам не знал.
Андрей завидовал Кастрюку, его отправляли домой: приспело время сева. У Кастрюка была перед землей обязанность, у него же такой обязанности не было. Жизнь стала пустой и никчемной. Чтобы как-то заполнить ее, он решил соорудить в детприемниковском дворе качели. Сделать это было просто. У тюремной стены неизвестно зачем и к чему стояло сооружение, которое обычно украшает школьные дворы: деревянная высокая перекладина и шест, прикрепленный к ней стальным ржавым кольцом. Качели были почти готовы, оставалось прибить только к шесту планку для ног, что Андрей и сделал.
Событие не ахти какое, конечно, если есть события. А если их нет? Если ворота все время на запоре, и даже больше того... если прямо пойдешь — в тюремную стену упрешься, воротишься назад — уборная, возьмешь в сторону — сарай с баней, поленница дров и посреди двора все те же сани с плетеной кошевой, но уже, правда, без снега, и не на снегу, на доске. И лица, лица одни и те же, одни и те же разговоры, одни и те же занятия.
Первыми опробовали качели Тамара с Андреем. Ржаво заскрипело кольцо над головой, и пошла, пошла кувыркаться земля, поплыли и смазались, вдруг стали незнакомыми лица воспитателей и ребят. И вот уже Тамара и Андрей взмывают под крашеную тюремную крышу. Андрей при каждом взлете любопытно косит глазом на эту крышу: интересно, какая все же она, тюремная, бывает. Обыкновенная, только очень уж ухоженная. А в глаза бьет синь неба. И сердце все время проваливается, уходит в пятки и не очень-то спешит возвращаться назад.
— Выше! Выше! — непонятно, то ли сам себе командует Андрей, то ли командуют ребята внизу, то ли скрипит шест. И голова уже идет кругом, кругом и по кругу. Невероятно, но вся земля, весь белый свет помещается сейчас в его глазах. Белый свет пришел в движение и закружился перед ним. И никакой он не белый. Это просто словцо такое — белый, и лицо у него, у Андрея, сейчас белое, потому что отхлынула от него кровь, потому что жутко, когда белый свет срывается с места и идет, как снежный ком, под гору и разноцветные брызги бьют в глаза. Голубое, красное, зеленое, белое и размывчато-неопределенное и просяще-ласковое — небо, тюремная стена, земля, остатки снега на ней, лица ребят и Тамара рядом.
В последнюю минуту глаза Андрея ухватили хилый тальниково-красный кустик березы, припавшей, уцепившейся за ничто в полуразрушенном выступе тюремной стены. Но на удивление и вопрос к кустику и к себе у него уже не хватило времени. Сошедшая с оси, обезумевшая от полета и вращения земля опомнилась и притихла. Хрястнула планка под ногами, оторвались от шеста руки, будто и не было его, и пошел полет обыкновенный, человеческий, по горизонтали, и не полет, а скольжение или парение над размягченной, оттаявшей землей.
— Куда это мы? — хватая горстями воздух, еще успел спросить себя Андрей и грохнулся отяжелевшим, спрессованным полетом телом в кошеву на сани. И Тамара грохнулась туда же, на него.
Боли не было ни тогда, ни после. Только удивление: как же это так? Почему их кинуло вниз, а не вверх? А ведь могло закинуть и на тюремную крышу. Вот было бы переполоху. Лестницы-то с тюремной крыши нет. Вот бы и куковали там. А детприемниковский двор грохотал, ржал, выл, будто Андрей с Тамарой специально устроили это представление.
Качели тут же починили. Тут же к шесту прибили новую планку, березовое крепкое полено. И шест с прилипшими к нему двумя беспризорниками, как маятник гигантских часов, снова пришел в движение, и черные тени, отброшенные им, заскользили по кирпичной красной стене. Шли часы, скользили тени, билось сердце. Стучалась в него весна.
А Жуков смотрел на него маслеными глазами. Андрей знал почему и пошел на его масленые глаза с кулаком. Он достал-таки до них, припечатал по ним кулаком. Коснулся костяшками пальцев и носа.
Нос у Роби оказался слабым. Тут же хлынула на него красная юшка, разбрызгиваясь по новенькой, синего цвета фуфайке. Оба они на миг оторопели от вида крови. «Так просто, — подумал Андрей. — Раз — и юшка». А чего он всю зиму дрожал, боялся, ведь кулаки всегда были при нем. И он почувствовал гордость за свои кулаки и облегчение, сладостно-невесомую легкость во всем теле и такую яростно-сладостную жажду крошить и ломать все, что и второй раз бросился на Робю Жукова.
Робя легко, одним взмахом руки обрушил его на землю. Но это не отрезвило и не испугало Андрея. Кровь все еще капала из разбитого носа Жукова, он видел это. Он вновь был на качелях, на них послал его второй удар Роби. И вновь белый снег завертелся у него в глазах, но сейчас он был одного, кроваво-красного цвета. В глазах звездчато заголубело. Это Жуков навалился на него, схватил его за волосы и бил головой о землю. Андрей вырвался и, уползая, — подняться не было сил — лягнул Жукова ботинком в лицо.
— Убью! — взвыл Робя.
— Убью! — одновременно с ним взвыл и Андрей, подхватив выпавший из тюремной стены кирпич. В руках у Роби Жукова был топор, детприемниковский колун. Они медленно сходились: Жуков с колуном, Андрей с кирпичом. Андрей смотрел в глаза Жукову, видел, что тот боится, и знал, что не Жуков его, а он Жукова сейчас убьет, потому что он не боялся, знал даже место, куда в следующее мгновение он обрушит кирпич. Он пережил смерть Жукова, вплоть до того мгновения, когда тот беспощадно и вяло начнет подгребать под себя мокрую землю. А опустить кирпич на голову Жукову ему не дали. Вырвали у него из рук кирпич.
Прогулка продолжалась. Все произошло настолько стремительно, что воспитатели толком ничего и не разглядели. Да и что за невидаль — двое беспризорников подрались. Подрались — помирятся. Но Андрей ни с кем не хотел мириться. Он хотел рассчитываться, отдавать должки. Хотелось, и все, чесались кулаки. И он, неся их перед собой, подошел к Ваньке Лисицыну.
— Заплатить хочу, — сказал Андрей. — Жукову отдал, теперь — тебе.
— Ты что, Монах?..
— Кишка тонка? На шестерках все метишь обделывать?
— Монах, ты же хороший парень...
— Так нестребованным должок и оставишь, гнида?
— У меня сегодня неприемный день, Монах. Сегодня понедельник, а я по четвергам принимаю.
— Ах ты, гнида, — снова изготовился Андрей.
— Скощаю, скощаю должок, — заторопился Лиса. Но когда Андрей, расстроенный, что не вышло драки, отходил от него, прошипел: — После дождичка в четверг готовь, Монах, свой должок...
В те дни Андрей понял, что значат слова «живет, как в тумане». Он жил в тумане. Но отъезд Кастрюка запомнился ему. Все, что с ним связано, как бы вбито в Андрееву память. Кастрюк отдал все-таки ему Атлас железнодорожных путей СССР.
— Ни к чему он мне. Через пару дней я уже стану за плуг. Выйду пахать.
— На лошади? — спросил Андрей, хотя ему это было безразлично.
— На лошади! — радостно откликнулся Кастрюк.
Надо было спросить еще что-то, сказать что-то хорошее Кастрюку. А что сказать? Андрей представил его и лошадь в поле. Лошадь была гнедая и взмокшая, и Кастрюк был тоже взмокшим, лицо его краснело от натуги, когда Кастрюк выворачивал из земли плуг и расплывался в улыбке и вздохе. Кастрюк налегал грудью на ручки плуга и босыми ногами споро шагал по новорожденной борозде за упревшей гнедой лошадью.
— Добра тебе! — сказал Кастрюк и не вразвалочку, как обычно, а стремительно пошел на выход.
— И тебе добра! Много добра! — тихо ответил Андрей. Может, Кастрюк и не услышал его, но что с того, услышал или нет. Кастрюк был счастлив и торопился домой. Его ждали земля, гнедая лошадь, отец. А Андрей неизвестно зачем и для чего оставался в детприемнике. То есть, конечно же, он знал, зачем и для чего: чтобы дождаться бумаг, уехать в детдом и начать новую жизнь. Совершенно иную, ничем не связанную с прежней, как бы родиться заново. Он сам родил себя, рождал себя. И муки его были ничуть не меньше тех мук, которые предваряют каждый раз появление нового человека на этой грешной земле. А радости — миг. Ослепило глаза счастье и умчалось проходящим в ночи курьерским, по крайней мере, ему так казалось, еще гуще стали потемки. Счастье ослепило и умчалось, а он ослеп.
Прихлынуло все отринутое им и от него отрекшееся. Прихлынуло, будто он готовился не к новой жизни, а к смерти, и он страдал сейчас невозможностью повторения того, что сам проклял. Невозможностью снова очутиться в Клинске, снова мчаться на колесе «Москвича» в библиотеку, гонять по переулку с Витькой Гаращуком примерную ученицу с красным портфельчиком в руках.
О чем думал он в ожидании избавительных детдомовских бумаг? Обо всем и ни о чем. Мысли были беспорядочны и не подчинялись ему, рождались, как каждый раз, повинуясь весне, рождается трава, и умирали, как трава, не успев оформиться и обрести силу. Но тоска в нем была клинская, прощальная. А прощался он с детством и своей первой счастливой и несчастной любовью. Но понять это в то время ему было не дано. Он ведь только еще учился ходить, учился смотреть и понимать. Двигался ощупью, отыскивая нужную, свою дорогу. Прежняя ведь кончилась. Честно или нечестно — он прошел ее до конца. И рассчитался за нее голодом и страхом, драками и сердцем. Сейчас обвивал ее тоской и печалью.
Единственное, о чем он старался не думать, — это о Тамаре. Страдал, потому что думал о ней ежеминутно. О ней и плакал, когда Вия Алексеевна сказала ему, что наконец-то прибыли на него бумаги. Воспитательница не поняла его, подумала, что он плачет от радости.
— Поздравляю тебя! — сказала Вия Алексеевна. А он подхватился и побежал прочь от нее. Выскочил на крыльцо и, замирая при каждом шаге, тихо побрел по уже высохшему, продутому ветрами до осенней сырости песку к саням с кошевой, все еще стоявшим посреди детприемниковского двора. На этих санях за всю зиму, насколько он помнит, так никто и не выехал за ворота. Они стояли здесь скорее как украшение, как недоступный человеческому понятию символ или как предостережение беспризорникам. Полозья уже растрескались и вросли в землю, и земля обметала их своей летучей пылью. Не той, которая всегда ложится на машину, телегу, сани, когда они в ходу, а стронутой с места ручьями, дождями, ветрами. И казалось, что сани уже прикипели к земле, сдвинуть их с места невозможно.
Андрей лег в кошеву и прикрыл глаза. Стоял теплый солнечный день. Слегка припаривало, и в омертвелых прутьях кошевы оживала память тех далеких дней, когда они были тальниками, привольно росли на желтых сыпучих песках по берегам реки. И Андрею казалось, что он слышит струение этой реки, слышит перешептывание дубовых листов, наплывающее из прибрежной рощи. Ожидалось, что вот-вот из этого перешептывания выткется песня или сложится сказка. И поведет ее кот ученый. И выплывет из речной глуби золотая рыбка и заговорит человеческим голосом. И выплыла, и заговорила его, Андреевым, голосом:
— Чего тебе надобно, старче?
И Андрей ответил сам себе:
— Чтобы так было всегда!
И только он этого пожелал, как все, кроме запаха тальников, исчезло. Его охватывало словно отлакированное синью весеннее небо. И в этом небе за детприемником невесомо плавали, как облачка, маковки церковки, а над его головой в выступе красной тюремной стены выбрасывала клейкие листья уцепившаяся за ничто, за камень, кирпич, березка. И вдруг из ничего, из чистого неба, громыхнул гром. Из ничего сыпанул крупный, но не частый, слепой цыганский дождь, под который он обычно выбегал на улицу. Потому что под слепым цыганским дождем очень быстро можно вырасти, особенно когда при этом еще напеваешь:
Дождик, дождик, сыпани, Бабу с поля прогони...Шел дождь, светило солнце, гремел гром, в синем небе пел жаворонок. А Андрей в кошеве на санях, которые так, наверное, никогда и не стронутся с места, смеялся, и плакал, и молил небо, солнце и жаворонка, чтобы они дозволили ему уйти с Тамарой из детприемника в один день.
Не дозволили. Тамара ушла раньше его. Серым весенним днем. Во всем синем — Гмыря-Павелецкий распорядился отдать ей детприемниковскую одежду, — казалось, уплыла на серой лодочке по серо и желто опутавшим весенние улицы потокам воды. Распахнула детприемниковскую синюю дверь и, подхваченная сквозняком, будто попутным ветром, скрылась из глаз. И выпала из его жизни, как выпадает из памяти сорванный по осени с дерева и первый и последний лист.
Перед тем как уйти, Тамара подходила к Андрею, говорила ему какие-то слова. Он не запомнил их. И не потому, что не хотел, а потому, что не смог. Но зато запомнил, как она медленно истаивала в уходящей в серый туман улице. Сначала истаяли ноги, потому что она шагала по лужам и махала ему и детприемнику рукой. Потом руки не стало видно — она была такая маленькая. Дольше всего продержались фуфайка и платье, хотя вскоре и они слились в одно синее теплое пятно в туманной зябкой дали. И пятно это долго уменьшалось, плыло по не существующим уже земле и небу. И кончилось.
Вот и все.
СУДНЫЙ ДЕНЬ
1
Небо плавилось. Небо горело и пылало. Рушилось солнце. Ломалось пластами и текуче подминало уже ломкие от жара просини, белесую дорожку от промчавшегося над городом еще затемно самолета. Огонь и жар плыли на землю. И вот огонь и жар коснулись земли, солнце алой лавой обрушилось на дальнюю кромку леса и помчалось по земле, затопляя все на своем пути нестерпимой яркостью.
— Что же это такое? Что это? — не слыша своего голоса, закричал Колька, закрыв глаза и выбросив перед собой руки.
Тишина была ему ответом. Город еще спал. По-хорошему спать бы сейчас и Кольке Летечке, воспитаннику старшей группы Слободского детдома. Но не спится ему в эти утренние рассветные часы. Вторую неделю изо дня в день встречает он на крыльце своего корпуса восход. Дней десять назад детдомовский сторож Захарья Сучок остановил вдруг Летечку на дорожке сада. Остановил не словом, не взглядом, приказом неким неслышным. Шли они, Летечка и Захарья, одной дорожкой, но из разных концов сада навстречу друг другу, поравнялись и разминулись вроде. Разминулись — и оба, словно в стену уперлись, словно для обоих кончилась дорога, подняли, занесли и вернули назад ноги, поворотились оба враз лицом друг к другу. И жадно, с испугом и любопытством вперились в лицо друг другу, выискивая каждый в другом что-то ведомое только ему. Но Летечка не смог долго выдержать взгляда Захарьи, а тот смотрел, смотрел, а потом сказал почти весело:
— Э-э, Летечка...
И Летечка бегом от Захарьи, откуда силы взялись. Забежал в изолятор, на крючок закрыл за собой дверь. Минуту-другую вслушивался, не стукнет ли палкой по крыльцу Захарья, не заколотит ли в дверь своей суковатой смертной клюкой. Но Захарья за Колькой не пошел.
И все же избавиться от его взгляда, от его голоса, забыть ту встречу в саду Летечка уже не мог. И не знал он сейчас, то ли показалось ему, придумалось или приснилось, только вроде в тот же день и на той же дорожке сада встретился он еще раз с Захарьей. Все было сейчас, как и в первую встречу, и как во сне, и отчетливо в то же время... Хотя, похоже, и перепутаны в последние дни у Летечки сон и явь — врачиха это сказала на недавнем медосмотре. Она еще сказала, что ненормально это: что видит он и слышит больше, чем надо, не то, что надо. Видит невидимое, слышит несказанное. Так вот и с Захарьей получилось. Ясно, да не совсем. С ним ли говорил Захарья или с кем-то еще третьим, а он, Летечка, подслушал и придумал тот разговор. Нет, с ним, с ним. Захарья еще обошел его со всех сторон, заглянул в глаза и сказал почти весело:
— Э, Летечка, да нам с тобой скоро...
— Почему ж это скоро нам, Захарья?
— А я чую, Летечка, как земля нас зовет.
— Это она тебя зовет, Захарья. Тебя. Ты голоса путаешь... Вот как врежу сейчас, так и дух из тебя вон, кишки на телефон.
Захарья посмеялся, серьезно, обстоятельно подвигал огромными, как лопухи, забуревшими ушами.
— И меня она зовет, Летечка, правда твоя. Только мне помирать в спасов день. А ты до того дня не доходишь. После Ивана Купальника срок твой.
— Это когда же? — спросил Летечка старика. — Когда этот Иван Купальник будет?
— А скоро и будет, — охотливо отвечал Захарья. — Когда первая земляничка выспеет, грибки-колосовики пойдут...
— Утром или вечером? — перебил Захарью Летечка. Он вдруг поверил, поверил тому спокойствию, с каким Захарья говорил о смерти. Так спокойно не шутят. Так спокойно люди говорят только правду. Об этом он мог судить по себе: когда все правда, тогда незачем кричать и волноваться. И страшно стало Кольке. Сорвался с ветки усохшей груши ястребок, испуганно вскрикнул, взмыл в небо. Был, и нету, растворился в небе. Нет и Кольки. Нет его. И голос Захарьи вроде с того света слышится ему:
— Деды, как правило, помирают ночью, чтобы детей малых не тревожить, не пужать их. А дети... Дети — те на восходе солнца...
И вот Летечка сторожит солнце. А солнца на небе уже нет. Не хочется ему помирать, жутко помирать, знать, что ты умрешь на восходе солнца. Оно взойдет, а тебя нет. И страшно и любопытно ему, как может солнце появиться без него, если оно для всех... Значит-таки, не для всех? Частит, убегает от него сердце. И самому Кольке хочется бежать, но любопытство берет верх над страхом: к а к, как он будет помирать? Как смерть будет брать его к себе? Увидит ли он, как его живые руки и ноги станут неживыми, как могут умереть глаза, не видеть света? А мозг, говорят, еще после смерти живет три дня. Это значит, он будет уже в гробу, уже повезут его хоронить, а он будет еще все чувствовать, слышать, понимать. Все, все. Только никогда не сможет подняться и рассказать об этом другим... Не верится в это, нет, не верится. А может быть, ему все же удастся умереть и ожить. Есть ведь, бывают чудеса на свете. Свет ведь велик, все ведь случается. А хорошо бы умереть и ожить. Посмотреть, как по тебе плачут, убиваются, как убивается по тебе Лена, что о тебе говорят Козел, Дзыбатый. И только они отговорили, только приготовились гроб забить, а ты возьми и встань. Что тут будет...
Колька ощупью, не раскрывая глаз, спускается с крыльца, чтобы в последний раз взглянуть на землю, на детдом и то глазастое, за белой занавеской окошко, проститься со всем этим навсегда, навсегда...
Это короткое приглушенное «навсегда» будто палкой ударило его меж лопаток.
— Врешь ты, Захарья, слышишь, врешь все! — крикнул он и открыл глаза. Но еще до того, как Летечка открыл их, он успел вздохнуть, хватить всем телом утреннего беззапашного воздуха и в этом беззапашном, снулом еще воздухе ощутить запахи земли и воды: гуляющей в пруду рыбы, набирающихся рассвета и солнца яблок, запах далеких ягод на пригорке и таких же далеких, поднимающихся навстречу утру грибов-колосовиков. Запах жизни и свое собственное присутствие в этой жизни. Первое, что он увидел, это радостно выглядывающие из раскаленной листвы, закраснелые уже от избытка сока и света яблоки.
А солнце лежало в пруду у ног Летечки. Солнце купалось, омывалось водой. И пруд был весь розовым и огненно-золотистым, нагим. Солнце раздело его, высветлило до песчинки. На дне пруда ошалело метались мальки, щипали солнце за розовые бока, рыбы посолиднее сосали солнце старушечьими беззубыми ртами и пошевеливали плавниками, пялили на Летечку осоловелые выпуклые глаза.
Большая рыбина уже взяла солнце на буксир, подцепила его, как крюком, горбатым плавником и тащила в пруд, в глубину.
Летечка посмотрел на небо, там тоже было уже солнце. Такое, как и у его ног. Не порушенное, отгородившееся от неба голубым обручем. Обруч этот стремительно разрастался, голубизна поглощала розовость. И по голубому уже носились в вышине ласточки, радостно постреливали усиками хвостов, словно подталкивали в путь-дорогу день.
— Ты чего это меня звал, Летечка-лихолетечка?
Перед Летечкой, опираясь на палку, стоял Захарья, стоял крепко, будто его отлили из бронзы, так неподвижно было все в нем, так крепок был он, защитно коричнев, защитно зелен в армейских комсоставских порыжелых яловых сапогах, армейских солдатских галифе, в солдатском бушлате и солдатской гимнастерке, в гражданской, но тоже солдатского кроя ушанке. Лицо, руки, успокоившиеся на палке, тело, выглядывающее из-под застегнутой на полторы пуговицы гимнастерки, были того же защитного цвета. И все прочно, костисто, без старческих морщин. Солнце в пруду, будто увидев что-то нежелательное в неожиданном появлении Захарьи, начало стремительно дробиться и тускнеть.
— Так чего ты меня звал, Летечка-лихолетечка? — повторил Захарья.
— А я тебя не звал, ты сам приперся, — сказал Летечка.
— Как же не звал — в будане только пристроился сон посмотреть, голосит кто-то: «Захарья, Захарья».
— То земля голосила, — сказал Летечка с подковыркой, вскинул глаза на Захарью: как тот отнесется к этим его словам, встречались они второй раз на дорожке в саду, был между ними разговор или все это он, Летечка, как и всегда, придумал? Многое зависело от того, что ответит сейчас Захарья. А Захарья пожевал губами, оглянулся, словно рядом кто-то еще с ними, третий, кивнул головой.
— Может, и земля, может, и твоя правда. А ты чего в такую рань подхватился?
Летечка промолчал, не хотелось ему в это утро говорить с Захарьей. Страх, который исчез с восходом солнца, с приходом дня нахлынул снова. Захарья, будто поняв это,заговорил ласково:
— Не серчай на меня, хлопец. Такой уж я уродился сглазливый и на язык открытый. Промолчать бы мне давеча, малец ты еще, а я бухнул как есть... Оно, понимаешь, к смерти надо заране готовиться. От тюрьмы да от сумы, говорят, не отрекайся, а от смерти не бежи. Все равно из-под земли она тебя достанет, сыщет всюду. Так встретить ее надо по-людски.
— Как же это по-людски смерть встречать? — спросил Колька. Он по-прежнему не хотел разговаривать с Захарьей. Но и уйти от него уже не мог. Было что-то в словах Захарьи страшное, обнаженно-непристойное, но одновременно этой наготой и непристойностью притягивало. — Как гостью ее, что ли, встречать? — допытывался Колька, не смея поднять глаз на Захарью, словно это не старик, а сама смерть была перед ним. — Одежду готовить лучшую?
— И одежу, а ты как думал? Я вот уже себе перкалю набрал белого, тапочки уже есть...
Колька взглянул на огромные, пятидесятого размера сапоги Захарьи и не удержался, криво усмехнулся — хорош будет Захарья на том свете в тапочках.
— До спасова дня и на костюм себе зароблю... Может, и на сено что останется.
— А зачем же сено? — удивился Колька. — На том свете что, тоже коровы есть?
— На том нет, да на этом есть, — необидчиво продолжал Захарья. — Потому и говорю, готовиться надо. Дела срочные переделать и душу очистить, чтобы смело в глаза ей взглянуть. Дорога ведь дальняя, и сборы долгие...
— А обратная дорога оттуда есть?
— Может, и есть, да только никто еще пока назад не ворочался.
— Так я и не пойду туда. Не пойду! — Колька топнул ногой, прикусил губу и почувствовал, как по всему телу разливается слабость. Запотели пальцы на руках и ногах, стали мягкими, ватными, будто из них вынули кости — утро из розового превратилось в синее, — и зашатался, словно погруженный в воду и качаемый водой.
Колька куснул губу до крови — пусть будет больно, да только бы не увидел, не понял Захарья его слабости, накатившей неожиданно. И Захарья постарался не увидеть. Отвел взгляд в сторону от проступившего землею Колькиного лица, от прилипших ко лбу волос.
— Пойдем, хлопча, на крылечко, посидим побалакаем, морочно мне что-то от воды. — И повел Кольку на крыльцо. Тот шел, не упирался, но отбивался словами:
— Падла ты старая, Захарья, падла...
— Падла старая, — соглашался Захарья, таща за собой Летечку. — Старое все падло, падалью от него уже несет.
— От добрых молоком несет.
— Это коли баба, так от нее молоком, да и то если у нее дети были. Бездетна и баба сукой воняет.
— Брешь ты, а вот от бабы Зоей...
— Во-во, в самую точку! — Захарья словно увидел эту точку перед собой, указал на нее пальцем и притопнул сапогом. — Сукой от нее прет.
— Брешешь ты, Захарья, наговариваешь все. Молоком пахнет от бабы Зоей. А от тебя... У тебя дети были?
— Наверно, были... — Захарья вздохнул. — Нету у меня детей, Летечка. Один я на свете, сучок и есть сучок.
— Вот потому ты и падла, — сказал Колька. — Детей у тебя не было. Зачем мне про смерть говоришь? Я и без тебя знаю, что скоро помру. Знаю, а знать не хочу. А ты мне... Не было у тебя детей, Сучок, — сказал, как ударил, и, будто от удара, пригнулся при этих словах Захарья.
— Были у меня дети, полна хата, — укоризненно отозвался после недолгого молчания Захарья. Они уже сидели на крыльце, и Кольке уже дышалось вольней. — Полна хата. Белявые — под тебя, ушастые — в меня и молоком пахнущие — в бабу...
— Куда же они подевались, дети твои?
— А вот в ту ночь все и кончилось... В ту... Тоже на Ивана Купальника ночь была. Погорели Сучки. Деревня наша Сучки сгорела, и люди в ней тоже все Сучками прозывались и все сгорели. Выполз из того огня один я да соседка. Я сучок, она сучок, у меня дети сгорели, у нее дети сгорели, у меня баба сгорела, у нее мужик сгорел. А жить надо. Вот и живем с нею с той поры. А детей нету. И не спал я сегодня, Летечка, головы не прикладывал. — Сучок замолчал, встал и подался в сторону сада. В его опущенных плечах, в склоненной на грудь голове, во всей как-то сразу поникшей, согбенной фигуре не было больше той броской, бесящей Летечку силы. И Летечка еще больше укрепился в мысли, что нет, не врет Сучок, когда говорит о голосах. Зовет, зовет Сучка земля. Из того еще, давнего, огня должен слышать он голоса. И его, Кольки Летечки, голос. Но помирать Летечка не собирается. Не дастся смерти он без боя. Надо, и день будет, и ночь будет сидеть на крыльце и сторожить солнце, чтобы смерть на восходе не захватила сонным. Жить он хочет, жить. Только что закончил десять классов, только собрался жить, и жить долго. Не за одного себя, а за всех. За отца, за мать, за детей Сучка, за самого Сучка.
Между тем город уже проснулся. Колька понял это, хотя кругом по-прежнему было тихо, люди еще не покинули хат, понял по запахам. Он уже давно научился распознавать жизнь и живое по запахам и цвету, потому что еще до памятного разговора с Захарьей частенько сиживал здесь, на крыльце, и встречал рассвет. Жила в нем, постоянно жила боязнь, что рассвет этот может не наступить. И Колька всегда ждал его, ждал завтра и чувствовал приближение этого завтра. Вот и сейчас он уловил мгновение, когда начали раскрываться по улице хлевы. Еще не взмыкнули коровы, а понесло, понесло настоем непроцеженного теплого молока, отворенного с ночи жилища человека и скотины. И тут же в это человеческое и живое впутался сладковатый дух охолодавшего за ночь железа, которого уже коснулось солнце, едучий и жирный запах солярки, скользящий по ветерку, все отшибающий летучий дух бензина — началась работа и жизнь, в гараже, стоящем недалеко от детдома.
А вот уже затрубил в рог пастух, как промкомбинатовский гудок взвыл спросонья. И по этому рогу-гудку лениво, развалисто замаячили по улице коровы. Дружно, словно сговорившись, забрехали собаки. Защелкал пастуший бич, то ли подзадоривая, то ли успокаивая их. Заклацали калитки, загудели голоса. И стронулись, казалось, с места цветы в палисадниках. Недвижный ранее воздух поплыл, пошагал вместе с коровами, людьми на простор, на волю, чтобы сшибиться там, перемешаться с лесом и полем, с цветущей уже, выкидывающей колос рожью. Это было долгожданное Летечкино завтра.
Просыпался и детдом. И опять просыпание это Колька улавливал не по звукам, а тем особым, старческим, обращенным в себя зрением и слухом. Зрением и слухом, добытым им за годы жизни в детдоме. А в детдоме он жил всегда, всегда был детдомовским. И знал все, что происходит сейчас в его стенах. Первыми просыпались в детдоме недоделки. Недоделкой был и сам Колька Летечка. Кто дал ему такое прозвище, он не знал. Вслух произносилось оно редко. Но тем не менее он, Колька Летечка, недоделок, потому что живет больше не в палате, в корпусе вместе со всеми ребятами, а в изоляторе. В изоляторе живет и горбатенький Васька Козел и Дзыбатый, — метр девяносто пять ростом, — Стась Марусевич. Это постоянные недоделки, недоделки на всю жизнь, приписанные к изолятору. И сейчас, вперив глаза в потолок, они лежат в кроватях, не шелохнувшись, скрестив руки на груди и ровно дыша. Провести только неизвестно кого хотят, будто у них прекрасный сон, будто не они метались ночью и стонали.
Так затаенно, ровно они будут лежать еще долго, пока не загремит в боковушке бидончиками и кастрюлями баба Зося. Тогда они враз, как по команде, повернутся друг к другу и, встретившись уже давно не сонными глазами, испугаются неведомо кого или чего и одновременно произнесут:
— А куда это снова девался наш Летечка-лунатик?
Скажут так, хотя знают, что он, Летечка, сидит на крыльце, и начнут одеваться, неторопливо и обстоятельно начнут заправлять кровати. А за стеной, в общей палате, ребята будут еще спать чутким и сладким, самым дорогим сном, когда уже понимается, что подъем близок, а вставать не хочется. И они будут изо всех сил цепляться за подушки, за сон до тех пор, пока не придет воспитательница и вместе со старостой палаты не начнет срывать с них сбитые, скомканные простыни. Они будут отбиваться, лягаться, а кто-нибудь и запустит в старосту ботинком или подушкой.
Все это знает, представляет себе Колька, только вот не может представить, как поднимаются и что происходит в этот ранний час у девочек. Спят ли они так же крепко, как мальчишки, укрывшись простынями или сбросив их, раскинувшись в кровати, или сжавшись в комок. Девочки, их спальня — другой свет для Кольки.
Хлопнула дверь, нет, не в изоляторе, а в том, нормальном, здоровом крыле корпуса. Колька поднял голову. По дорожке по направлению к скворечнику, поставленному у кукурузы, шла Лена Лоза, шла, оглядывалась, спешила. «Вот тебе и другой свет, — подумал Колька. — Все, как у всех, и...» Тут мысль его была спугнута. Снова, но гораздо громче хлопнула дверь, и на дорожку, ведущую к тому же скворечнику, вылетел Ванька Бурак. Этих Бураков в детдоме трое. Ванька, Манька и Андрей, и все они... Бураки. Ванька — самый младший. И сейчас он резво чесал по дорожке, на ходу одной рукой подтягивая сползающие трусишки, другой утирая нос. И намерения у него были вполне определенные — обойти Лену Лозу.
И он обогнал ее, влетел в скворечник и перед ее носом захлопнул за собой дверь. И сразу же грянул дикий хохот. Хохотали ребята старшей группы, скорее всего они и натравили Бурачка на Лену. Вместе с ними хохотал и Летечка, разом растеряв все свои предрассветные страхи и ужасы. Уж очень здоровым и чистым было утро, и хотелось самому, взбрыкивая, пуститься по осиянному ровным утренним солнцем саду, спутать паутину, раскиданную за ночь в траве пауком, сбить с трав росу, разогнать застоявшуюся у забора упругую прохладу и свежесть, забраться на яблоню, поесть еще незрелых, оскомистых путинок. Но ничего этого не мог себе позволить Летечка, он мог только наблюдать. И Летечка наблюдал прилежно и пристрастно, вроде бы сам участвовал в несущейся мимо него жизни.
Начинался долгий летний день, день-год. И Летечка был доволен, что и для него он начинается так же, как и для всех. Он снова видит солнце, детдомовцев, Лену. Он не киснет, как Стась Дзыбатый и Васька Козел, в палате, не считает мух на потолке, вроде бы и не недоделок он. Вот возьмет сейчас и встанет вместе со всеми в строй и начнет делать физзарядку.
Но Летечка только подумал так, а с места не тронулся, потому что думать ему можно было все, а делать... Он и сам не знал, что ему дозволяется делать.
2
Сколько себя помнит Летечка-лихолетечка, он никогда не жил, а все время умирал. Умирал летом, когда его сверстники дотемна носились по улицам, разбивали в кровь головы и ноги. Умирал, когда они спали, осенью и зимой. И в жизни этой он объявился из смерти, так ему говорили взрослые. Но он об этом ничего не знал и не помнил. Расспрашивать же, как и рассказывать, в детдоме было не принято. Жили настоящим, тем, что есть, будущим, для которого росли. На болезни и хвори внимания не обращали: подумаешь, невидаль, до свадьбы пройдет все, заживет, как на собаке. Ныть, болеть детдомовцам было не к лицу, это больше с руки городским, кто с отцом и матерью, а детдомовцу лучше скрыть свою болезнь, потому что она откуда-то оттуда, из прошлого, которого они, не признаваясь себе, боятся, о котором думают про себя. Думают Вася Козел, Стась Дзыбатый, Ваня, Маня и Андрей Бурачки — временные недоделки, время от времени из-за той или иной болезни загоняемые в изолятор. Думают и таятся своих дум, потому что гордые, есть и у них свой гонор, и еще надеются они, надеются и сглаза побаиваются, побаиваются спугнуть разговорами эту надежду, хотят быть не такими, какие есть, а как все. Вот потому и не жужжат никому в уши, что они не такие, умный и сам поймет, а дурак не догадается. Не всем надо знать, откуда они.
Первая память Летечки о себе — это он лежит на топчане. Где, в каком месте, в каком году, неизвестно. Топчан деревянный, из неструганых досок, щелястый и темный, в темном углу, поставлен у печи. Застелен дерюжкой, под дерюжкой сено или солома или то, что было когда-то сеном, соломой, теперь же истерто, измелено в муку, сбито в комья и прикрыто дерюжкой. Дерюжкой прикрыт и Колька Летечка. Над ним рой мух и полчища блох. Потолок засижен мухами до черного крапяного блеска. Мухи лезут к Летечке нахрапом. Он давит их и матерится, потому что ничего больше ему не остается. Ноги у него мертвые, не двигаются. Время от времени Летечка откидывает дерюжку и разглядывает свои ноги. Не из любопытства и жалости к ним, а от скуки. Под дерюжкой он голый, и ноги у него цветные — синие, голубые и желтые. Может, от грязи, может, от болезни, а может, они такими и должны быть, ноги у человека. А он человек, это Летечка знает.
Людей вокруг себя не помнит, ни одного человеческого лица. Были какие-то фигуры, кто-то ходил, двигался. Но Колька с ними не разговаривал, материл их, ему отвечали тем же. Не помнит он смены дня и ночи. Вроде бы и не спал он в то время, по крайней мере, глаза всегда открыты были, как все равно ждалось чего-то, а чего, неизвестно. Но от вечного этого ожидания глаза сделались большими и выпуклыми. Может, и не от ожидания, может, от голода. Хотя голода он тоже особо не помнит. Не помнит вообще, что бы ему хотелось есть. Когда спит человек, разве ему нужна еда? И сколько сон тот длился, трудно сказать: год, два, век? Для него, Летечки, наверное, век, а для других... пусть другие сами и считают, вели им надо.
Пролежал он один век, туманный и черный, на топчане. Не сотлел, не спарахнел, не распался. Потом начался век другой, серебряный и светлый, но, пожалуй, более тяжелый и длинный, чем тот, черный век, потому что был он уже с памятью. Началась эта память весенним светлым днем с боли, страха и ужаса. Ворвались люди в серых длинных шинелях, вместе с дерюжками сгребли его в охапку и вынесли из избы на воздух. И что Летечка пережил в эту минуту, ударившись в первый раз взглядом о снег, хлебнув свежего воздуха, и как возмутился этим вторжением в его жизнь воздуха, снега, передать невозможно. Он и царапался, и выл, и несколько раз мочился с перепугу, а уж как матерился, так вряд ли этим людям в шинелях, пропахших порохом, приходилось слышать такое. Его корчило и выворачивало болью и матюками. Больше тогда в нем ничего и не было: кожа, кости, глаза, боль и матюки. Матюки на двух языках, на русском и немецком.
Но страдания Летечки только начинались. Его долго куда-то доставляли на белой лошади по белой, режущей болью дороге. Потом опять несли на руках. И принесли в белую, рвущую глаза комнату. А перед этим снова был страх господний. С него сдернули дерюжки и, как в море, бросили в ванну с водой. Две медсестры и солдат насилу кое-как обмыли его. Медсестры сулили ему сахар, солдат грозил автоматом. Но какой там сахар, какой автомат, если вас поджаривают заживо, варят в кипятке, если вы не знаете, что такое вода, а тем более вода теплая.
— Здоров, ефрейтор, — сказал солдат, неся его в палату. — Женить тебя надо, а не в госпиталь.
Что ему ответил Летечка, написать здесь нельзя, бумага едва ли такое может выдержать. И с этих слов и начался новый Летечкин век, ужасающе длинный и сегодня преследующий его кошмарами.
Десятки раз он убегал, а вернее, уползал из госпиталя в надежде разыскать тот топчан и ту хатку, из которой его выволокли красноармейцы. Его ловили сначала в коридоре, а потом на лестнице — Летечка лежал в палате на втором этаже, — потом на улице, тут же, неподалеку от госпиталя. Умилялись: до чего упрям пацанище, как старается быстрее встать на ноги. А он вовсе и не хотел стать на ноги. На четвереньках ему уже было привычнее, сподручнее. Но Летечка молчал, на похвалы и лесть не покупался. Припоминал дорогу, по которой его везли, отрешенно смотрел в окно, за которым уже цвела сирень и в сирени любились соловьи, а по ночам на четвереньках налаживался в путь. Ящерицей уползал из палаты, и чуткие няни, и сестры, и не спящие по ночам раненые не могли уследить за ним.
Заветной мечтой Летечки было выбраться из расположения госпиталя, а там уж он живьем никому в руки не дастся. Он выполз уже на исходе лета, выбрался за ограду. И от радости, что свершилось, не заметил того и сам, придерживаясь за столбик, встал на ноги. Так и не осознав свершившегося, но чувствуя не столько в себе, как во всем окружающем, некую странную необычность, громко и длинно выматерился. Все стало вокруг далеким и маленьким, недвижным. Когда он полз, на глаза ему попадались всякие букашки, козявки, червячки, паучки, лист лопуха вставал стеной, застилал белый свет, стебелек курослепа, ржаная соломинка казались бревном, а сейчас... Вся живность вымерла, все предметы исчезли, деревьев же, зданий из-за их громадности он не принимал в расчет и раньше.
И вот, матерясь за оградой госпиталя — надо сказать, в последний раз, — с удивлением разглядывая этот мир, вдруг утративший свою четкость, Летечка понял, что никуда он больше не уйдет от этих пригревших его людей. Более того, он никогда и не пытался убежать от них. Просто учился ходить. И пошел. Летечка подавился матюком, отпустил столбик и тут же грохнулся оземь. И привычный мир, мир козявок, букашек, червяков, пауков, стеблинок и листиков, вновь знакомо открылся ему. Но Летечка теперь уже не принял его. Он отринул от себя все это ползающее и сосущее. Он хотел ходить.
И в детдом Летечка пришел своими ногами. Без фамилии, без имени, но своими ногами. Никто, правда, там этого не оценил. И Колька расстроился, ему столько напели про этот детдом: и вольнее там, и горячее поесть три раза сготовлено, и в четвертый раз дают — полдник называется, и воспитательницы добрые. Наслушавшись этих песен, он шел в тот детдом, как в рай, своими ногами. А у него потребовали фамилию, имя и отчество и год рождения. Колька растерялся и затосковал. Выручила его сопровождавшая из госпиталя няня:
— Летечком этим он на ноги встал. Пусть уж и будет Летечка. А имя напишите по моему сыну, Миколай. Миколай Миколаевич, царство ему небесное. Оно хотя и негоже, что погибшего прозвище берет, да можете спокойненьки быть, род наш крепкий...
— Согласен ты быть Летечкой Николаем Николаевичем? — перебила няню директорша детского дома, молодая женщина в белых кудряшках. — А не согласен, можешь и другую фамилию подобрать: Непомнящих, Русских, Солдатов...
— А Маршалов нельзя? — спросил Летечка с подковыркой.
Директорша поняла сразу его подковырку и улыбнулась.
— Нельзя, — сказала она. — Маршалов у нас мало, а вот генералов много. У нас уже есть Генералов один, хочешь, можешь записаться и ты Генераловым.
Кольке понравилась улыбчивость, и голос директорши понравился. Но стать Генераловым он не пожелал. Если уже есть один Генералов, зачем второй. Да, может, еще тот, первый Генералов, сопливый какой.
— Так как тебя писать? — Директорша подняла от бумаг голову и положила ручку, словно раздумала писать, хотела оставить его без фамилии. — Может, ты свою фамилию вспомнишь? Рука у меня уже не поднимается эти выдуманные фамилии писать.
И Летечка по глазам ее видел, что действительно не поднимается у нее рука писать, очень даже просто может он остаться без фамилии. А без фамилии ему в детдом не хотелось входить.
— Пишите, чего уж там, — сказал Колька. — Летечка, пишите.
— Вот и хорошо, вот и хорошо, — улыбнулась директорша. — А то сразу Маршалов. Вырастешь, станешь маршалом. Маршал Советского Союза Летечка! А то что за маршал Непомнящих, Солдатов. Маршал Летечка — другое дело, звучит.
И Колька примерил фамилию к себе и почувствовал, что и в самом деле звучит. И тут же сросся, слился со своей фамилией. Родился он с такой фамилией, рос с ней. И была она уже ему дорога, своя, родная фамилия, теплая, как раз по нему, как платье, как ботинки, что в самую пору — не жмут, не хлябают и для любой погоды годны, годны и в будни, и на выход, и в праздник. Вот что значит хорошая фамилия. И материться не хочется, и обиды нет, что не заметили, как прочно он стоит на ногах. Записали, нарекли Кольку Николаем Николаевичем Летечкой, руку пожали и отправили в изолятор, вроде бы карантин пройти, а оказалось — навек. На новый, третий век. И век этот стал самым длинным, и самым коротким, и самым счастливым в жизни Летечки. Самым счастливым и... самым несчастным.
Самым длинным потому, что вобрал в себя целых десять лет. И эти лета промелькнули для Летечки, словно миг. Успел только войти в изолятор, подраться разок со Стасем Дзыбатым, а уже года нет. Сел за парту — и все десять проскочили. А вышел на детдомовский двор, единожды разогнулся, пнул набитый опилками кожаный мяч и, охнув, свалился под вековую липу. День стал веком, столетием. И все это бесконечно тянущееся столетие ребята пинали мяч, купались в пруду, лазали в сад, кому-то из городских били морду, а он, Летечка, лежал под липой. Оказывается, для детдома, чтобы прожить в нем день, ничего не значит, что у тебя есть ноги, чтобы прожить детство, мало только ног, надо еще и сердце, а сердце у него было никудышным. Даже Мани, Вани и Андреи Бураки-бурачки были счастливее его.
Но это собственное несчастье, свою недоделанность, Летечка не выпячивал, не носился с ними, как с писаной торбой, как, впрочем, не носились и Стась Дзыбатый и Васька Козел. Более того, они зубами, кулаками выбивали себе у ребят полноценность. Выбивали, синея, порой теряя сознание от непомерности возложенного. И выбили, отстояли себя и в изоляторе. Их называли в детдоме психами, но с оглядкой, шепотом, называли недоделками — и никогда в глаза: с психов что возьмешь. А им было плевать, они гордились, что это о них так говорят. Они отгородились от всех стойкой волной больничного запаха и в изоляторе и в изолированности обрели такую волюшку вольную, о которой детдомовцы только мечтали. И, мечтая, вздыхали — недостижимо.
Недостижимо в детдоме, чтобы ты не был подчинен режиму. Недостижимо, чтобы на троих было полкрыла огромного здания, куда не очень-то любят заглядывать воспитательницы, чтобы на каждого радионаушники. И ты можешь слушать это радио, пока там, на станции, не выключат его. Тумбочка на одного человека. И множество, множество других мелких благ, поблажек и послаблений, из которых складывается счастливый неказенный быт.
Этот свой неказенный быт Васька, Стась и Колька ежедневно, ежечасно выставляли напоказ, щеголяли им и, не признаваясь, скрывая даже друг от друга, томились под его гнетом, как томится скрытая зимой подо льдом от стороннего глаза свободная речка. И не для красного словца сказано, что десять лет, прожитых ими в детдоме, стали для каждого из них веком. За десять лет Васька Козел в детдоме не только успел нарастить горб, но и состарился. Это был маленький сухонький старичок-сморчок с морщинами на гладкой детской коже, с усохшими стариковско-детскими костями под этой кожей, тонким и писклявым голосом, скрытный и хитрый. Когда Васька шел по детдомовскому саду, со стороны казалось, что он вынырнул из-под дерева или упал с ветки, как падает недозрелое червивое яблоко. Гном из какой-то страшной сказки. И хотелось подбежать к нему, пошарить в траве, разыскать и дать в руки оброненную им палку.
Гном Козел был в детдоме первым математиком и чемпионом по шашкам. Но никто не знал, как ненавидел он эти шашки, как, таясь, ночами выдирал из рамы стекло и, обдирая горб, забирался через окно в ленинскую комнату, собирал шашки, шахматы и жег их в печке. И не было для него в те минуты большего наслаждения, чем наблюдать, как схватывается огнем черная и белая краска на фигурках. Особую же радость доставляло ему сожжение шахматных коней. И была радость потом, когда хватались этих коней и шашек. Так мстил он в первую очередь, видимо, самому себе, своему горбу за свою обделенность детством, за то, что каждый год в школе за хорошую учебу, в детдоме за победу в шашечном чемпионате его премировали доской и шашками. Но эти собственные доски и шашки Козел берег пуще глаза, и никто толком не мог сказать, сколько их уже скопилось у него.
Стась Дзыбатый был открыт для всех. Но на эту его открытость никто не мог смотреть без содрогания. Никто не мог похвастаться, что до конца выдержал, рассмотрел лицо Дзыбатого. Это было не лицо, а открытая кричащая рана, так перемешались на нем шишки — рубцы давних ожогов, а на не изуродованной огнем коже злились и зрели струпья. И такому лицу были даны удивительной силы и доброты глаза, глаза изработавшейся, заезженной лошади, знающей свою участь и покорно, но с животной тоской взирающей на этот уходящий от нее мир. Лошадиная заезженность сквозила во всем у него, начиная от серого цвета нового, но уже как бы изношенного коверкотового костюма до плоскостной раскатанности рук, ног, груди — все тонко, прозрачно. Но не так, как это бывает обычно у здоровых худых людей — тронь, зазвенит, а со всхлипами — коснись, рассыплется. Ему, видимо, было тяжело носить не только сто девяносто пять сантиметров, но и костюм. И костюм для него был не просто одеждой, а и обручем, скрепкой, соединяющей воедино расшатанное, отъединенное тело. И при всем этом Стась Дзыбатый любил футбол, любил исступленно.
Колька Летечка... Что любил он, что представлял из себя, каким был... В общем-то, самым обычным. Горба у него не было, ожогов и, упаси бог, струпьев тоже. Но и красавцем он себя не считал и немного уже страдал от этого, тайком разглядывая в зеркале свое лицо. Хотелось ему щек нежных и румяных, носа точеного римского, а не бульбочкой, как у каждого здесь встречного-поперечного. Римский нос, казалось Летечке, мог бы здорово украсить его. Но где достанешь римский нос, когда и глаз-то поменять нельзя. К римскому носу, конечно, нужны коричневые глаза, а у него... полещукские. К коричневым глазам нужны, конечно, и кудри черные, с блестинкой, цыганские, а у него... Хату или хлев крыли, крыли, осталось немного от крыши, недолго ломали голову, куда девать, определили остаток ему на волосы. Недоделок, в общем...
Но эту свою внешнюю недоделанность Летечка решил восполнить стойкостью духа, характером. Он вырабатывал в себе волю, говорил всем только правду. И стойко выносил обиды, какие из-за этой правды падали на него, не плакал. Мужчины не плачут — был его девиз. Но надо сказать, что плакать он не плакал, а слезы иной раз шли... Текли слезы. Никто ведь не знал, что он вырабатывает в себе волю, что он не понарошке говорит правду, не со зла, а принцип у него такой.
С этим принципом ему особенно трудно стало жить в последнее время. В последнее время в детдоме появилось много новичков, и некоторые пришли в детдом из колоний. Стонет город, стонет детдом от этих ребят. В городе уже не осталось, наверно, ни одного ларька, не взломанного ими. В городе, как в войну, не стало уже спичек, потому что ребята берут из ларьков только спички. Для поджиг, самодельных пистолетов, которые заряжают головками от спичек. Считай, у каждого пацана есть сегодня поджига. Стреляют вечерами, ночами, стреляют днем. Спорят и испытания даже проводят, чья поджига мощнее. Днюют и ночуют в детдоме директорша и воспитатели. Сменилась воспитательница в Летечкиной старшей группе. Не успела шагу ступить здесь, построила группу, объявила:
— Я сама попросила группу самых отъявленных, и я их сделаю людьми. Я пришла навести порядок. И я наведу его. Это я вам твердо заявляю, так же точно, как то, что зовут меня Вера Константиновна.
— Нет, — сказал Летечка. — Нет.
— Что значит твое «нет»? — спросила новая воспитательница.
— Не верю я вам, — сказал Летечка. — Я тут давно уже, давно, Летечка я. И кто с мечом к нам входил, тот от меча и погибал. Так будет и с вами; это я вам точно говорю, потому что всегда говорю правду.
— Вот я с тебя и начну, — сказала Вера Константиновна и недобро посмотрела на него коричневым глазом и золотым зубом, вроде бы даже как принюхалась к нему римским точеным носом. И пошла у Летечки с новой воспитательницей самая настоящая война. Изо дня в день неизвестно за что его таскает Вера Константиновна в кабинет директорши. Пала империя изолятора. Нарушена его неприкосновенность. И проклинают Летечку Козел с Дзыбатым. Они, по правде говоря, и воюют с Верой Константиновной. Козел воюет, а он, Летечка, страдает от этой войны. В тот же день после своего заявления Вера Константиновна оставила на столе в комнате у ребят старшей группы горку мелочи, серебряных монет. Вроде забыла. Забывчивость ее, конечно, мигом раскусили. Все ребята старшей группы собрались в той комнате, позвали Летечку с Козелом и Марусевичем. Козел, лишь обсказали им, в чем дело, подошел к столу и смачно плюнул на серебро, на десять, а может, и больше коробков спичек, на полсотни, а то и сотню зарядов для поджиги. Следом за ним начали подходить и плевать остальные. Все, каждый по разу — таков был уговор.
И, когда плюнул последний, в комнату проведать свои деньги пришла Вера Константиновна. И загремел Летечка, как, наверное, самый отъявленный, как человек, который уже говорил что-то наперекор, а потому и запомнился, в кабинет директорши.
— Нехорошо, Летечка, — скучно сказала директорша.
— Фашист! — крикнула Вера Константиновна.
— Сама фашистка! — крикнул ей Летечка.
— Кто плевал? — встряла между ним и воспитательницей директорша.
— Я плевал, — и не подумал отпираться Летечка. — И надо, еще раз плюну на те деньги.
— Вот видите? — обернулась к директорше Вера Константиновна.
— Кто еще плевал, Летечка? Я знаю, ты говоришь правду и скажешь нам, кто еще плевал на монеты, — директорша опять обращалась к Летечке.
— Я говорю правду, — подтвердил Летечка. — Я плевал, а кто еще, спрашивайте у других. Я больше вам ничего не скажу.
— Вот видите, до чего дошли... — начала было Вера Константиновна.
— Иди, Летечка, иди, — перебила ее директорша.
— Я заставлю тебя говорить! — крикнула в спину ему воспитательница. И сквозь зубы, но Летечка услышал: — Маугли несчастный.
Что такое или кто этот Маугли, Летечка не знал, но догадался: нехороший какой-то человек, ругательство какое-то. И улыбнулся про себя, пусть ругается, пусть грызет ногти, так ей и надо. Брань новой воспитательницы его не трогала. Его лишь немного расстроило то, что она уже что-то знает о нем, знает, что он недоделок, а ему хотелось выглядеть перед ней сильным и здоровым.
Но он подумал, что у него с воспитательницей все на этом и кончится. А все только начиналось. Конца не видать было. Зашел Летечка со своей правдой в такие дебри, из каких не выбраться. Получалось, что сколько людей, столько и правд: у него одна, у Веры Константиновны другая, а у ребят третья. И свести их в одну, удобную для него, для Летечки, правду не получалось. Сказал все как было — предал, смолчал — трус. И жарко и холодно. Каждый день по три раза таскают его в кабинет директорши. Не только Стась с Козелом, но и ребята уже косятся: что он там делает, в этом кабинете? Вот каким боком выходила Летечке его правда...
Вырабатывая волю, мечтал еще Летечка открыть тайну. И не какую-нибудь простенькую, об открытии простеньких тайн мечтали все детдомовцы, а ему надо было самую важную, самую большую тайну открыть. Правда, в чем она заключалась, эта большая тайна, Летечка еще не знал. Но зато хорошо знал, что она есть, есть. Доберешься ты до нее, и распахнется все перед тобой, и станешь ты всемогущим, откроется земля, раскроется небо. И ты сможешь стать птицей, летать по небу, сможешь стать рыбой, плавать в море.
Вот о какой тайне мечтал Летечка. И не только мечтал, он постоянно чувствовал ее рядом с собой. Но всякий раз тайна ускользала, была рядом и далеко. Тайна далеко — это там, на самом краю земли, где земля кончается, обрывается уступом, на который не ступала еще нога человека. Ступит он туда, и откроется новый, неведомый мир. Но как, как до него добраться? До этого края земли? Что для этого надо делать? Желать? Так он и так желает, страстно, страстней нельзя, можно умереть. Летечка прислушивался к себе и чувствовал: можно, вполне можно умереть от желания. Просить кого-то? Но кого? Копать землю? Но где? Не спать ночами? Пробовал. Искать в камнях, в самой середке, как ищут в орехе ядрышко? Бил. И ничего не выбил. Быть может, эта тайна в сердце какой-то птицы, в сердце зверя или в его сердце, а может, в старом замшелой пне, в корнях или на верхушке вековечной сосны. Как угадать?
Когда Сучок сказал ему о смерти, Летечка сначала представил себе детдом, все три корпуса, конюшню, пруд, Лену Лозу, ребят на детдомовском дворе, солнце и небо. И отдельно, чуть в сторонке от всего, тайну. Тайна представлялась ему на этот раз в виде обычного лесного ореха. Была тайна, все было, а его, Летечки, уже не было. Все есть, а его уже нет. И тут Летечка подумал: как же это так, все есть, а его уже нет? И еще Летечка подумал, что у него с Леной Лозой когда-нибудь там, в будущем, должны быть дети. А откуда могут взяться дети, если его уже не будет? Вот взять, к примеру, его самого...
И тут у него застопорило. Ну и что — взять его самого? А откуда ты сам взялся? В общем-то, понятно, откуда, не маленький. Конечно, не из капусты, конечно, не аист его принес. А все же откуда и, само собой, зачем? Родила его мать. А что такое мать? Пустота была за этим словом для Кольки. Какой-то туман — мать, отец...
По ботанике проходили, помнит еще до сих пор каверзный вопросик Васьки Козела о тычинке, пестике, пыльце и рыльце в пушку. Помнит пунцовую растерянность молодой ботанички. Стыд и срам. И из этого стыда и срама, выходит, он и объявился. Почему же ему не стыдно было объявляться, почему не стыдно было отцу с матерью?
Но именно так появляются все. В конце концов, это можно понять, не привыкнуть, но притерпеться. Дело тогда в другом. Все на земле появляется и живет, произрастает с определенной целью: корова, чтобы давать молоко, мясо; бык... чтобы были коровы; рожь, чтобы была подстилка этим коровам, корм им и людям... Ничего бесполезного, ничего ненужного. И заранее известно: что, отчего, зачем и для чего. А он, Летечка, не знает о себе ничего: ни кто, ни откуда, ни зачем. Что думали мать с отцом, и были ли они, может, он от топчана в той черной избе родился? Кто ему ответит на это?
И стало Летечке ужасно неуютно и грустно жить на свете. Потускнели обиды, нанесенные воспитательницей, мелкими и глупыми показались они ему. Другое было гораздо обиднее. Вроде бы не успел он родиться, а уж проклят кем-то за какую-то вину, за грехи какие. Не успел родиться, не успел ничего узнать о себе, а уже помирать, говорят, пора. Здравствуй, дерево, я дед-мороз... Воспитательница окрестила его Маугли, и кличка уже приживается, а он и не знает, что за зверь этот Маугли. Телеграфному столбу и то легче, стой себе, чашечки вниз, держи провода, гуди. Но он, Летечка, не столб ведь, не столбом ему стоять при дороге, а идти по ней надо. Как же идти? В чей след ступать? Где и у кого искать ответ? Почему он помнит себя только на топчане? Вздор ведь, от топчана еще никто не родился. До прихода солдат в темную курную избу память его — белый лист бумаги, потому она так и обширна, как явствует из выданной ему в школе характеристики. Нет в ней прошлого. Нет Кольки Летечки. И такой же он Летечка, как из того телеграфного столба сосна. Нет и никогда не было на свете никакого Николая Николаевича Летечки. И какой насмешкой звучат из той же школьной характеристики слова о богатой памяти. С чем можно тогда сравнить память бедную?
«Кто же я есть?» — спросил себя Летечка с напором и болью и замер, прислушался к себе, ожидая ответа, будоража богатую память и успокаивая нетерпеливое никудышное сердце. Но ответа на этот вопрос ни в сердце, ни в памяти не было. Тогда он обратился к земле, которая, по словам Сучка, звала его к себе и которой он уже боялся.
— Откуда же я? Кто я? — крикнул он и топнул ногой, ударил землю ботинком, потому что она молчала, не желала отвечать. — Фиг же с два ты меня тогда дождешься, земля! — сказал Колька. — Пока все не узнаю, фиг с два я к тебе приду. Кричи теперь, зови, пока килу не накричишь. — И Летечка отправился в изолятор к пробудившимся уже свеженьким и умытым Козелу и Дзыбатому. И сам он был свеж и бодр. Рано еще ему было думать о смерти, хотя Иван Купальник уже наступил, и поспела земляника, и выторкнулись из земли первые грибы-колосовики.
3
— Доброе утро, Летечка-овечечка, — ласково пропела, встретив Кольку в коридоре, баба Зося. Колька запутался в собственных ногах от неожиданности — это что еще за телячьи нежности с утра, какой он бабе Зосе «овечечка». То слова от нее доброго не дождешься, ходит бубнит себе под нос, словно они, Летечка, Козел, Дзыбатый, в наказанье ей даны, или воровато копается в своем сундуке, перебирает пожелтевшие бумажки, обиженно штопает старше ее блузки, оборчатые юбки, чулки. И видит ли еще что-нибудь, кроме этого тряпья, не поймешь.
Не поймешь, на какую должность принята она в детдоме: няни, медсестры, надзирателя, тетушки, бабушки или ей отведена роль детдомовского инвентаря, вроде тумбочки, кровати. Сколько помнит Летечка, всегда жила она в детдоме. И была в ней какая-то тайна. Может быть, эту тайну придумали ей недоделки. Они в своем изоляторском затворничестве очень многое придумывали, потому что не признавали обычности и обыкновенности, бежали обыкновенности. И вся и всех, кто встречался на их пути, наделяли тайной.
Баба Зося была для Летечки не просто бабой Зосей, сухонькой румяненькой старушкой с проворными глазками и семенящей походкой. Она была коласовской шляхетной пани Ядвисей из его трилогии «На росстанях». Было ведь ей сейчас примерно столько же, сколько могло быть пани Ядвисе. Видимо, когда-то была она, баба Зося, и красивой. Что стало с пани Ядвисей после ее любви к Лобановичу, неизвестно, неизвестно, что было и с бабой Зосей до этого времени, скорее всего то и было, что есть сейчас. Разве она могла полюбить кого-нибудь после Лобановича? На такой пустяк, что бабу Зосю зовут все же Зосей, а не Ядвисей, Летечка не обращал внимания, как, впрочем, и другие детдомовцы. Сменила имя, и все. Не захотела открыться, побоялась людских упреков за то, что отвергла любовь Лобановича, считай, любовь самого Коласа отвергла, потому что всем известно: Лобанович — это и есть Колас. И баба Зося-Ядвися ходила, скиталась по свету, переживала, какой она была дурой. А потом прибилась к детдому и детдомовцам. И молчит о себе, доживает свой век, вся в том времени. По ночам читает писанные ей Коласом записки, потерянно ходит по коридору и ворчит на Летечку, на Дзыбатого, заметив выбивающийся из-под их двери свет, брезгливо поджимает тонкие губы.
За знакомство с Коласом, за любовь к ней Коласа — а все это было уже бесспорно для них, стало бесспорно, как только они додумались до этого, — Летечка, Дзыбатый и Козел прощали бабе Зосе все: и поджатые губы, и ворчание, а иногда и прорывающуюся прямую неприязнь. Более того, быть может, именно за это они и любили ее, по-мужски оберегали от насмешек тех, кто не жил в изоляторе.
А надо сказать, что за стенами его баба Зося особыми симпатиями не пользовалась. Был за ней грешок — любила при случае выставить себя, будто она в детдоме и есть главный человек, на ней порядок весь держится. И по этой причине многое из того, что ребята старались скрыть, через бабы Зоей язык доходило до ушей воспитателей и директорши. Но ни Летечка, ни Козел, ни Дзыбатый не хотели ничего знать об этом. Долгими днями и еще более долгими вечерами они создали, слепили свою бабу Зосю, ни в чем не похожую на ту, какой она была на самом деле и какой представлялась другим. В подростковом коричневом платьице, в мальчишечьем и тоже казенном пиджачке и в мальчишечьих казенных ботинках она была своей, в доску детдомовской. И они обходились с ней, как со своей. Но стоило бабе Зосе сбросить с себя кургузый детдомовский пиджачок и надеть голубую теплую кофту, беленькую вязаную пуховую косынку, как эта свойскость тут же пропадала, они искали и находили в ней следы былой красоты, шляхетной надменности и сдержанности. Благоговели перед этой ее надменностью, сдержанностью и строгостью. Такой и должна была быть коласовская Ядвися. Такой баба Зося бывала по утрам. А в это утро с ней приключилось что-то непонятное. В косынке, в кофте своей, и вдруг на тебе — «овечечка».
— С чего это ты вдруг такая стала, хоть к ране тебя прикладывай, ласковая? — осмелился наконец, спросил бабу Зосю Колька, все еще топчась от нерешительности в коридоре, замирая от неприличной дерзости. Баба Зося почувствовала эту дерзость, изумленно раскрыла глаза. И на миг в этих блекло-коричневых выцветших глазах Колька увидел что-то давнее, шляхетное, гордое. Но баба Зося тут же притушила их блеск.
— Иди заправляй кровать, дитятко, — приказала она Летечке опять неестественно ласково, и Колька пошел, сраженный наповал неестественно опростившейся бабой Зосей, гадая про себя, что же такое могло с ней случиться.
Козел и Дзыбатый встретили его сдержанно. Им давно уже не нравились эти ранние бдения Летечки. То жили они мирно, дружно, вместе ложились, вместе засыпали, вместе вставали, а то вдруг Летечка стал что-то выпендриваться, отделяться от них. Ни Козел, ни Дзыбатый ему, конечно, вслух об этом ничего не сказали. Но он понял по их молчанию, однако заговорил о другом, о том, что мучило его:
— Баба Зося заходила в комнату?
— Заходила, — отвечал Козел. — И очень злилась, что ты опять куда-то пропал.
— Не очень уж, не преувеличивай, — сказал Дзыбатый. — Спрашивала только, где ты.
— Спрашивала только! — сорвался со стула и побежал по комнатушке Козел, побежал мимо кроватей, вокруг уже прибранного, застеленного свежей скатеркой стола, на котором сиротливо голубели принесенные бабой Зосей еще вчера незабудки, и остановился подле Кольки. Но Колька нарочно не заметил Козела. Он не отрывал взгляда от незабудок, которые будто шальным ветром сюда занесены, в их белое жилище. Тревогой веяло от их остекленело распрямленных за ночь голубых лепестков. Летечка не выдержал и, обойдя Козела, взял со спинки своей кровати и бросил к стакану с незабудками черные, с блестящей стальной дужкой наушники. От цветов повеяло жизнью. На столе вроде бы установилось равновесие. Но не хватало еще чего-то для естественности. Летечка огляделся, ища этого чего-то. Но Козел опередил его, навел порядок, брезглива, одним пальцем поддел наушники за стальную дужку и повесил их на прежнее место. Колька улыбнулся этой его аккуратности: значит, и Козел видит цветы. Видит, как он, Летечка, только притворяется. — А теперь будем говорить откровенно, — сказал Козел, обращаясь к Летечке. Но откровенно говорить Козелу помешала баба Зося. Она вошла в комнату и поставила на стол к незабудкам двухлитровый глазурованный кувшин с молоком. Кувшин был полон, с шапочкой белой пены. Колька обрадовался, но не молоку, а появлению бабы Зоей, избавившей его от разговора с Козелом. Еще день назад он бы обрадовался и молоку, но в сегодняшнее утро что-то уж много благостей сваливается на него. Парное молоко, и в таком количестве, доставалось бабой Зосей обычно по праздникам. А никакого праздника вроде не было.
— Сегодня, дети, завтракать будем в изоляторе, — объявила баба Зося, смахивая со скатерти невидимый сор. Баба Зося произносила простые, привычные слова, но как бы не своим голосом, строжилась, подлаживалась под голос Веры Константиновны. И Летечке эта песня с чужих слов пришлась не по душе, приказной, ненавистный ему тон сорвал Кольку с места, закружил по комнате. Сколько можно им командовать, сколько можно: того нельзя, этого нельзя, того не возьми, туда не ступи. А человек ведь уже прожил свою жизнь, считанные дни остались человеку жить на земле. Так имеет он право быть самим собой, делать, что ему хочется, в эти последние дни? Имеет. Хватит. В эти последние дни он будет жить, как должен жить мужчина в свои последние дни.
Но как должен жить мужчина в свои последние дни, Летечка не знал. Скорей всего не так, как он жил до этого. А как? Летечка с ненавистью и отвращением смотрел на принесенное бабой Зосей, выставленное на стол молоко. И его слегка поташнивало от вида этого молока. Ему претила забота бабы Зоей о нем, ему были противны и Козел, и Стась, и стойкий запах лекарств и нездоровья, въевшегося в эти белые с желтинкой стены. Больше всего в эту минуту он не хотел находиться в изоляторе. Если уж ему суждено умирать, так упав на ходу, на бегу, под открытым небом, чтобы можно было по-звериному взреветь без риска разрушить что-то, без риска обвалить на себя потолок, чтобы хватило легким воздуха на последний вздох.
— Кто как, а я лично завтракаю вместе со всеми в столовой, — твердо объявил Летечка.
— Нет, Летечка, нет, дитятко...
Но Летечку уже было не остановить, на него накатило, понесло. Он, хлопнув дверью, вместе с устремившимся к столовой людом помчался по садовой дорожке, куда его влекли запахи, куда его не хотели пускать. Хотя «помчался» — это, пожалуй, громко для него сказано. Летечка скорее трусил, старательно сдерживая себя на спусках, не давая себе разгону, обходил стороной корни и пеньки. Хочешь не хочешь, а приходилось вот так искусственно сдерживать себя, Сердце жило в это утро как-то отслоенно от его тела, и при каждом шаге эта отслоенность и непритертостъ отдавала болью, словно сердце потеряло свое законное место и не могло сейчас отыскать его. Летечка старался не прислушиваться к этим сердечным метаниям, думать о постороннем, приятном. Но невольно все мысли сходились на одном, какими бы окольными путями они ни шли.
А прорвавшаяся вдруг строптивость и этот бег-трусца радовали его. Как ни ропщет сердце, а бежать, оказывается, прекрасно. Когда ты бежишь, и жизнь бежит. Тебя, будто камышину, стрелой выпустили из лука, и ты звенишь радостью ее свободного полета, пронзаешь воздух, тень и солнце, сдираешь с себя все, что отмерло, но прилипло, держится и держит тебя, и не болезнь, а прохлада, жесткое и быстрое струение солнца, света и воздуха охватывают твое тело.
Но были в Летечке этим утром и пугающие его самого зоркость и нетерпение. От изолятора до столовой семьдесят, от силы сто метров. И на каждом из этой сотни метров ему открывалось новое, не примеченное ранее. Так, по белым каплям на комле старой кривобокой груши он на бегу приметил на самой ее верхушке, в сухих ветвях гнездо ястребков. Опустил глаза на землю и рядом с детдомовской дорожкой углядел еще одну, муравьиную, узенькую, как нитка, но глубокую. Муравьи были черные, махонькие и тоже, видимо, бежали в свою муравьиную столовку. Шли они накатисто, валом в глубь сада, где в траве лежали паданки. Колька остановился, придержал муравьев, перекрыл дорожку пальцем. Муравьи заметались. Задние напирали на передних. А передние, как слепые котята, тыкались в его палец, обнюхивали это неожиданно выросшее на их пути дерево. Волнение среди них нарастало. Они не могли сами себя успокоить, подумать, были настроены на движение, на некую свою исходную цель впереди. И двигались, двигались, наползали один на другого, злобно стряхивали с себя наиболее нетерпеливых и проворных сородичей, сердито, как пчела, когда готовится ужалить, вскидывали вверх лаковые брюшки. Смыкались и размыкались их отлакированные клещики-челюсти. И вот уже с пяток самых умных или самых глупых муравьишек вцепились Летечке в палец. Лобастенькие, непреклонные, они были готовы перегрызть его и тем проложить себе дорогу. Они повисли на пальце и рвали его, раздергивали во все стороны. Палец был уже черен от муравьиных тел. Летечке даже стало боязно. Но тут что-то произошло в муравьином царстве, объявились новые вожаки и пошли в обход вокруг пальца. Пошли, куда звала жизнь, не обращая внимания на своих товарищей, намертво сомкнувших клещики-челюсти на преграде, перекрывавшей им извечную дорогу, будто поручили им жизнью и смертью удержать, охранить их путь от новых посягательств извне. Поручили и забыли, отреклись от них, обрекли на смерть, потому что у тех, у идущих, отныне была своя, иная цель, была дорога, свободная дорога.
— Ишь вы, соображаете, — сказал Колька и осторожно стряхнул с пальца муравьишек, с сожалением убрал палец с муравьиной тропы, словно распрощался с ними навсегда, затрусил дальше, размышляя о разумной и жестокой жизни муравьев, о том, есть ли у них сердце. И, если есть, какое оно. Наверное, не больше волоска, с таким сердцем удобно жить. Под ноги Кольке бросился детдомовский пес Остолоп и заковылял рядом, игриво помахивая мохнатым хвостом. «Без ноги, — подумал Колька, — а сердце здоровое, собачье сердце». — Давай махнемся сердцами, — сказал Колька ласково Остолопу, хотя и недолюбливал его за редкую остолопливость. Пес нерасчетливо бросился Летечке на грудь, лизнул его в нос и не удержался, упал навзничь, взвизгнул и засучил, засучил обрубком ноги. Колька остановился, склонился над псом, чтобы помочь ему, но Остолоп и без его помощи был уже на трех лапах, тянул, звал его вперед. «А мне уже так быстро и не встать», — подумал Колька и пошел шагом, сожалея, что обидел Козела и Дзыбатого, не поговорил с ними откровенно. Ведь вполне может случиться, что больше откровенного разговора не выйдет. А он часто был так несправедлив к Козелу и так грубо только что обошелся с бабой Зосей. А Козел любил его, разговаривал с ним ночами, учил играть в шашки. А баба Зося купила молока у тетки, жившей напротив детдома, за собственные деньги, за гроши, что выплачивали ей за какую-то невероятную должность в детдоме.
Нежность, некая даже слезливость охватила Кольку. Он словно впервые увидел все, что окружало его, мимо чего проходил не замечая. Сейчас в нем словно прорезался некий третий глаз. Был он слегка затянут слезой, и все, что виделось сквозь нее, вроде как преломлялось, виделось, выхватывалось не только зрением, но и душой, сердцем, освещенное светом души и сердца, казалось гораздо большим, чем было на самом деле, было некой частицей его самого, Кольки Летечки. Частицей его жизни, его тела, его неясных мыслей о себе и о жизни, тянулось, двигалось не от него, а к нему. А он до этого дня все это летающее, ползающее отталкивал, не замечал, как огромен мир, его мир, был равнодушно жесток к нему. В того же Остолопа мог спокойненько запустить палкой, чтобы выхвалиться, доказать свою меткость. Мог раздавить муравья просто так, любопытства ради, по детдомовской привычке пробовать все на прочность, крепко ли то, что создано природой, слабее или сильнее его, Кольки Летечки, человека. А оказывается, муравьи, птицы, собаки и прочая живность созданы совсем не для того, чтобы он, Летечка, возносил себя над ними, а был вместе с ними, заодно, чтобы не дурел от собственной всесильности, жил, смотрел и радовался, был справедлив ко всем.
Стремление к справедливости таким тяжким грузом обрушилось на Кольку, что он остановился, бросился к Остолопу и обнял его. Пес ошалел от непривычной ласки, заскулил, завыл и, поджав хвост, стрельнул в кусты, испуганно вскидывая зад. Колька умиленным взглядом проводил этот мячиком подпрыгивающий в траве песий обиженный зад и хотел уже направиться обратно, к изолятору, чтобы и там восстановить попранную им справедливость в отношении Козела и бабы Зоей, но передумал. Что-то непонятное творилось у столовой, будто в детдом нагрянуло племя индейцев, не было только костров, но вовсю били тамтамы, звучали воинственные кличи, с воздетыми кверху руками носились голопузые краснокожие. И Колька решил, что восстановлению справедливости совсем не помешает, если он выяснит, что же это сегодня происходит в столовой.
У входа его остановил Андрей Бурачок-старший.
— Ты голодный или любопытный? — заметно важничая и кривляясь, спросил он Летечку. Колька был и голодный, и любопытный, поэтому ответил Бурачку неопределенно, кивком головы, понимай, мол, как хочешь. Поначалу он вообще не хотел ему отвечать, но, памятуя о только что принятом решении быть справедливым ко всем, снизошел до кивка, хотя дался он ему нелегко. На первом же шагу начались противоречия, на первом же шагу надо было вступать в противоборство с самим собой: справедливость в отношении к Козелу, бабе Зосе, Остолопу была необходима и обоснованна, а как быть с этим остолопом Бурачком?
Не любил он Бурачка и одновременно чувствовал себя виноватым перед ним. Нелюбовь эта Летечкина однажды прорвалась некрасиво, как гнойник, дикой яростью. Летечка побил Бурачка-старшего. И, в общем-то, справедливо побил. Но, и зная, что справедливо, вспоминал об этом с выворачивающим душу стыдом и омерзением к себе, своим рукам, которые поднялись на человека...
В школьной библиотеке Бурачок взял книгу Гектора Мало «Без семьи». Взял и то ли потерял, то ли продал кому. Библиотекарша попросила Летечку воздействовать на Бурачка. Летечка еще раньше прочел эту книгу, она ему очень понравилась, он вознегодовал на Бурачка и с охотой согласился воздействовать. Прихватил Бурачка одного в саду.
— Где книга? Кому загнал?
Бурачок топтался на месте, с тоской и обреченностью посматривал на сжатые просто так, для вящей убедительности Летечкины кулаки и молчал.
— Скажешь, гад, куда девал книгу?
Бурачок все так же не отрывал глаз от Летечкиных кулаков. И молчал. И в молчании его прочитывалось: чего тянешь резину, давай учи, бей. И Летечка ударил — покорного, беззащитного, готового к удару. Его возмутила эта оцепенелая покорность. Летечка первый раз в жизни ударил человека, и ничего не произошло. Рука почувствовала силу, ей нравилось бить. Летечка ударил еще и еще раз, ударил со сладострастием и радостью и заглянул в глаза Бурачку. Они были наполнены страданием, покорностью и слезами. И тут Летечка почувствовал омерзение и ненависть к своей руке. Тем не менее он осыпал Бурачка градом новых ударов. Теперь уже он бил его не за книгу, а за покорность, за то, что он довел его до удара, необходимости ударить. Бурачок ему так и не ответил. И с тех пор в Летечке жили нелюбовь, и стыд, и страх перед Бурачком. И как к нему относиться, он не знал. Кивок получился у Летечки пренебрежительный, скорее говорящий — отстань от меня. Бурачок-Бурачок, он понял, что к чему, заступил дорогу Кольке.
— Я приставлен к посту, — сказал он. — Велено никого не пускать.
На Бурачка шумнули стоящие в сторонке, вроде бы не причастные ни к чему, но зорко следящие за всем ребята из старшей группы. Шумнули в том смысле, видимо, что недоделкам вход свободен, но об этом Колька догадался уже позже. А в ту минуту он отстранил, отжал плечом Андрея Бурачка и вошел в столовую, что еще вчера называлась столовой. Сегодня же все здесь было перевернуто вверх дном. Столы сдвинуты, стулья свалены в кучу у входа. Баррикада из столов и стульев. И на вершине этой баррикады восседали с десяток пацанов младшей, дошкольной группы. Дошколята самозабвенно наяривали ложками в металлические тарелки и во всю мочь орали:
— Хлеба, хлеба, хлеба, от пуза, от пуза... Хлеба, хлеба...
— А зрелищ не надо? — рявкнул Колька в надежде перешибить эту какофонию. Но в ответ на его крик грянуло такое мощное и слаженное: «Хлеба, хлеба, от пуза», — так грохнуло металлом, что Колька, полуоглушенный, пулей выскочил на улицу.
Разгулялась детдомовская вольница. Детдомовцы отказались от завтрака. Так вот почему баба Зося не хотела, чтобы он, Колька, Васька Козел и Стась Дзыбатый, шли завтракать в столовую. Вот почему, как в праздники, она сбегала утречком за молоком.
Летечкина война с новой воспитательницей стала войной всего детдома. Вера Константиновна твердой рукой наводила порядок. То, что происходило сегодня, готовилось уже давно. С приходом Веры Константиновны поджиг в детдоме не убавилось, а прибавилось. Уже двоих ребят с оторванными пальцами увезли в городскую больницу, уже побаивались дежурные воспитательницы после отбоя заходить в палаты к старшим ребятам, а некоторые из этих ребят появлялись в детдоме лишь с наступлением дня, а с наступлением ночи исчезали неведомо куда. Неведомое, глухое и грозное брожение исходило от детдома и детдомовцев. Что-то поворачивалось в это лето в детдоме и в детдомовцах неведомо в какую сторону. В детдом влилось множество новых воспитанников, и, как никогда, много старых воспитанников готовилось покинуть его.
Пришли новички не только из колоний, но и из окружающих деревень. Что-то случилось этой весной в деревнях, там вдруг обнаружилось множество сирот, которые жили до этого при бабках или с матерями, но без отцов. И вот эти бабки, дедки и вдовы, не дождавшиеся с войны мужей, тянувшие столько лет после войны на своих плечах внуков, сыновей и дочерей, несгибаемые, вдруг в одночасье начали клониться и падать... Начали умирать в самое неподходящее время, когда все уже выравнивалось, когда в магазинах уже начал появляться белый хлеб, когда уже были обрублены хвосты очередей к прилавкам. И снова стали быстро-быстро пополняться детдома сиротами. И это новое сиротство было пострашнее военного. Те, безбатьковичи военного времени, хоть знали, отчего бедуют, а этим и объяснить было невозможно ничего. Война давно ведь кончилась, откуда же, почему снова смерть?.. Все они знали, что такое родной дом, а большинство знали и что такое мать, которая совсем недавно умерла на их глазах. Придя только что из глухих и дальних деревень, они знали и нечто большее о жизни и знали больше, чем те, кто всю сознательную жизнь прожил в детдоме. Но они еще не узнали, что детдом — это тоже семья и все вокруг — их братья и сестры. Старшие воспитанники, сейчас почти бывшие, уже наменивали себе на свои износившиеся вещи новые для самостоятельной жизни, мыслями они были уже в дороге. И тоска в них была прощальная, и озорство и непослушание — разлучальные.
И вот это буйство, этот разгул летнего паводка взялась ввести в берега Вера Константиновна. Еще вчера на вечерней линейке она объявила детдомовцам, что с завтрашнего дня у них в Слободе не спецдетдом, а детдом обычный.
— Наш детдом был специальным детским домом потому, — говорила она, посверкивая в полумраке вороненой гривой черных с блеском волос, — потому что жили, воспитывались в нем дети фронтовиков, погибших на войне. Сегодня мы их выпустили уже, почти все они уже стали на прямую солнечную дорогу самостоятельности. Государство сделало для них все. Государству сегодня, как никогда, нужны рабочие руки. Вы — смена своих отцов — должны помочь. Фабрики и заводы ждут вас. Страна в лесах новостроек. И если мы держали вас в детдоме до семнадцати лет, то сегодня мы не можем позволить этого себе. Семь классов — и перед вами открыты все дороги. Государство — не дойная корова, и вы должны это понять. Государству тоже трудно. Трудно и с хлебом, и с мясом. Трудности эти временные, дети. И вы, дети, должны это понять. — Вера Константиновна закончила и посмотрела на директоршу, которая тоже была на линейке.
— Да, дети, так... — сказала она. — Поймите меня правильно, дети. Можете расходиться...
И дети разошлись. Вчера после обычного спецдетдомовского ужина они вроде бы понимали все. Понимал все и Колька Летечка. Он вместе со всеми стоял на линейке. Он любил эти вечерние линейки, когда от сада и пруда веет свежестью и беспокойством, когда луна уже медно ложится на притихшие яблони и воду, а с дороги несет и теплом и покоем, полыхает жаром от выставленной на целый день на солнце деревянной, крашенной в голубенькое трибуны, когда трибуна и дорога таят в себе еще летний день и дышат сейчас теплом этого дня. Трибуна потрескивает в объятиях вечера, а дорога расползается квашней, приманчиво белеет выдранным за день колесами машин белым песком, когда хорошо стоится в тиши и прохладе вечера и верится во все лучшее под тихий скрип ползущего по мачте, уставшего за день флага. Нелегкий флагу выпал день. Его пекло солнце, трепал ветер. И дождик вроде лил на него, скоротечный летний дождик, не из туч, а из-под косо летящих на землю солнечных лучей. Замутилось на минуту солнышко, тревожно прикрылось козырьком-ладошкой, приметив на своем пути детдом. И пролились солнечные лучи дождиком. Промок слегка флаг, замешкался дежурный по линейке, зазевался или придремнул, не успел его спустить. Бросился к мачте, а дождика уже нет. Уже убрало солнце со лба ладонь и жаром обрушилось на землю, на флаг, на спины детдомовцев, которые в этот горячий час вышли на колхозное поле — на прополку кукурузы, которые в этот час, сбросив рубашки, обливаясь потом, кололи дрова на дровосеке. И вот сейчас натруженная, горящая от работы рука детдомовца тянет за собой пружинящий шнур, спускает усталый флаг с мачты. Спускает не спеша, впитывая вместе с вечером торжественность минуты. И флаг не торопится. Все ребячьи глаза следят за ним, и он вздрагивает, но не от ветра, от затаенного ребячьего дыханья, ребячий, детдомовский флаг. Не очень яркий, потому что встает он с зарей, уже слегка посеченный неожиданным дождиком и колючим ветерком, как тот, боевой, флаг. Смотрит флаг в глаза ребятам, как смотрел тот, боевой, в глаза их отцов. И души ребят сейчас вместе с флагом. И детдомовец, который сейчас спускает флаг, сегодня лучший детдомовец. Это там, на дровосеке или на колхозном поле, он добился сегодня права стать под флаг, опустить его. Минуту назад все стоящие на линейке, все, даже самые отпетые, с замиранием сердца ждали: а вдруг для торжественного спуска выкликнут его фамилию. Замирая, ждал услышать свою фамилию и Летечка, хотя и знал: его не выкликнут. Хотел бы, да негде ему отличиться. Он освобожден от труда, а потому не спускать и не поднимать ему флага. Только смотреть, смотреть и завидовать.
И все равно в этих вечерних минутах, в этой торжественной тиши, когда земля отдает ночи накопленное за день тепло, нет ничего лучше, чем слушать, как под стрекот кузнечиков полощется на ветерке флаг. Уже одно то, что все они сейчас вместе на линейке, слиты в одном строю, один на всех вечер, один на всех флаг, одна на всех трибуна, успокаивает сердце, заставляет его биться ровнее, четче. И верится, что за вечером, за ночью опять будет утро, будет новый большой день. А новый, не прожитый еще, не размененный на печали и обиды, значит, лучший. Лучшее ведь всегда там, впереди, лучшее ведь — это то, чего еще не было. Детдомовцы отнеслись вчера к вести, оглашенной Верой Константиновной, как к своему прошлому, как относятся к дню прожитому, конченому.
Но вот пришло сегодня, пришли они в столовую: хлеб строго по пайке на брата, на первое голубая затируха, а второе, как говорится, тю-тю, гав-гав. И полетели в раздаточное окно тарелки с затирухой, повара исчезли, заперлись, спрятались в кухне. Дежурный воспитатель помчался за директором. Все, что было сказано воспитательницей и директором вчера на линейке, забыто напрочь. Забыл о вчерашнем и Колька. Несправедливость творилась на свете. Кто же это там посмел пожалеть ему хлеба, кто посмел посягнуть на его законную пайку? Вчера была, а сегодня нет? Нет, что положено ему, вынь да положь... Колька не заметил и сам, как кричал уже вместе со всеми, вместе со всеми угрюмо молчал. Молчал и кричал не потому, что ему позарез была нужна эта дополнительная пайка хлеба, он никогда не съедал и того, что давали. Он как бы нашел себя в этом крике и гаме. Это было как раз то, что надо ему в это утро: жить последние дни так, чтоб всем чертям было тошно. Ему необходимо было событие, могущее заставить его забыть о себе, о своих хворобах, чтобы сразу из штиля в девятый вал. Только так он и обретал способность жить в эти дни — за счет посторонней, чужой веселой и шумной жизни, а его жизнь уже заканчивалась. Летечка догадывался об этом, он почти уговорил себя умереть. Но уговор и согласие это были притворными. В глубине души он надеялся, что все это понарошке, что все это игра. Жуткая, затягивающая, но игра. И Летечка безропотно и радостно принял жуткие условия игры в собственную смерть, а сейчас играл и в голодовку, как играл бы в любую другую игру, какая ни подвернулась бы ему.
А начиналась новая игра весело. Всем вдруг обнаружилось дело. Все были необходимы друг другу. И Колька почувствовал свою необходимость всем. И его голос был нелишним среди прочих голосов. И он орал едва ли не громче других, воспринимая это не просто как бессвязный ор, а как жизнь, и радуясь жизни, тому, что в ней и ему нашлось место.
Пришла директриса, прикатилась, квадратная, запыханная, с траченными уже временем и перекисью водорода белыми кудряшками. Примчалась Вера Константиновна, зло и часто посверкивая золотым зубом. Вонзилась этим зубом в паузу:
— Это что? Как на «Потемкине», есть отказываетесь?
— Как на «Потемкине»! — взвизгнула толпа. Можно ли было сказать лучше того, как она сказала.
— Хле-ба, хле-ба, от пу-за, от пу-за... Жрите сами затируху! — это самые младшие, еще дошколята. И полетели в Веру Константиновну и директрису тарелки с голубенькой затирухой. И лапша из этой затирухи обвисло легла на тщательно, годами травленные кудряшки директрисы. Озверело ударили в свои железные тамтамы дошколята. Директриса, облепленная лапшой, но сохраняя достоинство и квадратность спины, пошла в канцелярию. А Вера Константиновна успела исчезнуть еще раньше.
— Плакать пошла! — кивнул вслед директрисе Андрей Бурачок. Колька посмотрел на его лицо и столько прочитал там злорадства, увидел такую ослепляющую радость, что ему невольно захотелось зажмуриться. Над его ухом, свистя, пролетела тарелка с лапшой и влепилась ей в спину. Но она даже не оглянулась. Шла, как шла, и лапша падала со спины ее белыми беспомощными червячками. Кольке стало жалко директрису, он почувствовал, что происходит что-то мерзкое и постыдное и свидетельством тому самодовольна расплывшаяся харя Бурачка-старшего, из-за которого директриса сейчас действительно будет плакать. На сей раз Бурачок угадал. И, как ни виноват Колька перед Бурачком, директриса ему дороже, она больше, чем Бурачок, детдомовская, своя. А это для Кольки все. Плохое, хорошее — свое. А свое — значит, хорошее. Бурачок же был еще не вполне своим, он появился в детдоме сравнительно недавно. И не мог Колька спокойно смотреть на Бурачка, хотя и стыдно ему было перед ним, но всякий раз чесались руки.
— Ты... ты-то почему радуешься? Чего орешь? — крикнул Колька. — Ты, сын фронтовика... Полицейского ты сын, вот ты кто.
— Я... полицейского? Недоделок!
За «недоделка» Колька мазанул Бурачка по харе затирухой. А драться им не дали. Летечке же захотелось вдруг подраться с ним, испытать свои силы, отомстить за лапшу на спине директорши. Он почувствовал, что в это утро в честном бою наобшивал бы Бурачку-старшему, навешал бы ему. Такая ожила вдруг в нем сила и уверенность. В это утро он мог все. И опять же он не понимал, что это все не в нем, а вот в этих горланящих, орущих, на все способных ребятах, что сила его и уверенность заемные. Он оказался на волне, а на этой волне надо было быть сильным. Он был детдомовцем. А никто из детдомовцев не думал о смерти. Они требовали жизни, жратвы, соков у земли. И этими соками, волей ребят жил Летечка, как, наверное, жил, сам того не подозревая, и до этого. Потому что уже давно должен был умереть. Должны были умереть Стась Марусевич, Васька Козел и он, Летечка.
И Марусевичи, Козелы, Летечки умирали в то лето и в другие лета в других детдомах. В других детдомах по всей Белоруссии были свои Летечки, свои Стаси, свои Козелы, повязанные единой судьбой, единым страшным детством, которого многие из них, подобно Летечке, и не помнили, а те, которые помнили, не хотели помнить, хотели избавиться от этой памяти, потому что страшнее этой их детской памяти ничего на земле не было и не могло уже быть. Здесь, на земле, при жизни, только вступив в нее, только открывая глаза, они прошли через то, чему нет названия. И те, кто выжил из них, как выжили Летечка, Марусевич, Козел, в шестнадцать-семнадцать лет должны были умереть. Врачи объясняли это пороками сердца, истощением нервной системы. Но причина была не только в этом, а и в том, что с грузом своей памяти они не могли больше идти по земле. Земле было бы стыдно и тяжело нести их на себе такими. И Летечка, забыв о драке с Бурачком, вместе со всеми яростно выкрикивал вдруг объявившийся, призвавший его к сплоченности лозунг «Даешь спецдетдом!», словно вопил о жизни: «Даешь жизнь!» И в этой приставке «спец» для него действительно заключалась жизнь.
Но в душе у него чем дальше, тем больше росла неловкость. Он во все глаза рассматривал ребят, но ни в ком не видел этой неловкости. Не видел он среди присутствующих и ребят, отцы которых были полицейскими. А такие ребята были в детдоме, но сейчас они как сквозь землю провалились. И это их исчезновение помогло Кольке избавиться от чувства неловкости. И убедило, что дело, за которое он тут выступает, правое и надо стоять за него. Вот ведь какие молодцы ребята в его детдоме. Не побоялись, прогнали директрису. И, охваченный восторгом и общим ликованием, Колька снова орал вместе со всеми:
— Даешь спецдетдом!
Выкричавшись, толпа повалила от столовой в сад. Детдомовцы, как гусеницы, облепили яблони, забрались на самые верхушки и, не переставая орать, выкрикивать теперь уже не «Даешь спецдетдом», а все, что придет в голову, набросились на еще зеленые яблоки. Колька тоже сидел на яблоне, ему теперь ни в чем не хотелось отставать от других, но яблок он не ел. Вместе со всеми были на яблонях и Козел, и Стась. И только часть девчонок ушла и заперлась в палатах. Но многие остались с ребятами. На дереве сидела и Лена Лоза, старательно откусывала яблоко и огрызком метилась в Кольку. Колька хотел перебраться к ней. Но все ветви на Лениной яблоне были заняты. И Кольке было тоскливо без Лены. Он чувствовал, что именно сейчас наступил тот миг, когда можно сказать все, что больше не будет такой удобной минуты. Сегодня упустит он ее и больше не осмелится подойти к Лене. Надо решаться. А Лена, словно чувствуя его раздумье и нерешительность, поддразнивала его. Была она сейчас, на дереве, необыкновенно красива в легком светлом платье, поставив на коричневую, загоревшую на солнце ветку коричневые, тоже загорелые босые ноги, обняв коричневый ствол яблони загорелыми, но чуть светлее ствола руками. И светлое платье ее, и зеленые горошины на нем сливались с листьями и солнечным светом, падающим на яблоню. Сладко обмирало сердце, будто он не смотрел на Лену, не Лена ела незрелое оскомистое яблоко, а он сам ел это яблоко, так катилась прохладная оскома по всему телу, хотелось оторваться от яблони и на крыльях перелететь к Лене. И уже легкий ветерок полета прохладой обдувал его тело. Но Летечка только вытирал испарину со лба и крепче вдавливался в сук, на котором сидел. А Лена улыбалась ему светло и тускло одновременно. Светло потому, что она улыбалась ему, а тусклость ее улыбке придавала черная полоска еще в детстве порченных зубов. С этим маленьким изъяном она казалась ему доступнее и роднее. И он бы перебрался к ней, пусть бы ломались ветви, сел с ней рядом. Но тут во двор въехала милицейская машина.
Вызвали ли ее Вера Константиновна с директоршей или милиция пожаловала сама, услышав гвалт в детдоме, неизвестно. Но появление ее было совсем некстати. Скорей всего детдомовцы, объев яблони, высидев и выкричавшись на деревьях, в конце концов тихо и мирно пошли бы кто в столовую, кто по своим делам. А милиция, желая того или нет, придала своим появлением значительность происходящему.
Милиционеры еще не, успели высадиться из машины, а уже с пяток детдомовцев спешили прочь из сада и, как выяснилось позже, бежали отнюдь не из страха. Но именно так расценили это милиционеры и бросились стряхивать детдомовцев с деревьев. В милиционеров полетели огрызки яблок, палки. Детдомовцы, лягаясь голыми пятками, сбивая с милиционеров фуражки, забирались на самые верхушки.
— Ребята, ребятушки, — отдав приказ не трогать детдомовцев, заговорил старшина. — Давайте по-хорошему, ребятушки.
Ответом ему было улюлюканье и свист. Милиционеры убрались восвояси. Но, когда они уже отъезжали, в синее небо грохнули самопалы и поджиги, с которыми успели возвратиться из спален и тайников только что убегавшие из сада детдомовцы.
Следом за милицией пожаловали пожарники. Этих встретили прямо-таки с радостью. Зазывали к себе на деревья, предлагали угоститься яблоками или поспать под яблонями, посторожить их. Пожарники охотно отзывались, отшучивались. Но они споро делали и дело. Вытащили из машины лестницу, пожарный рукав, раскатали его на земле.
— Атанда, ребята, сейчас будут поливать! — раздались крики из глубины сада. Предостерегали тех, кто сидел на ближних к машине яблонях. А на этих яблонях сидели и Колька Летечка, и Лена Лоза. Они притихли и с опаской посматривали на обвислый пока пожарный рукав. И в глубине души хотели, чтобы их немного полили, чтобы было потом о чем рассказать, что вспомнить. Но пожарники мешкали, и в их продвижении по саду больше не было сноровистой деловитости, а сквозила бестолковость. Не решались, видимо, пожарники поливать детдомовцев, ждали неведомо от кого команды. А ее все не было.
— Жарко! — кричали дошколята, выпячивали голые животы и писали с яблонь на землю, норовя угодить в пожарников. А из глубины сада ребята постарше палили в небо из самопалов и поджиг. У детдомовских ворот собралась толпа зевак. Там тоже шел какой-то митинг, но, о чем толковали зеваки, Колька Летечка не слышал. Он не замечал уже и того, что происходит в саду, смотрел на Лену, но и ее не видел. Объявленная детдомовцами голодовка уже казалась бессмысленной и ненужной. Слишком много крика и суеты.
Перед глазами стояла директорша: спина и волосы в лапше, глаза заплаканные. В глазах обида и боль, и вопрос в глазах: за что, разве это я заслужила? И Летечке стало не только жалко ее, но и стыдно за себя, за то, что он видел, как несправедливо обошлись с директоршей, видел и не вступился за нее, а она всегда и всюду защищает его, защищает от Веры Константиновны даже... Нет у него человека ближе и дороже, чем директорша, хотя этот человек вроде бы всегда и на расстоянии от него. Но, может, в том все и дело, что и на расстоянии она видит его, помнит о нем. Она сама на складе выбирает для него лучшую одежду, лучшие костюмы, лучшую обувь, для всех трех — для него, Козела, Дзыбатого, — знает их размеры, знает, какие цвета они любят. При нем было — в области на складе директорша отобрала и отложила три бобриковых пальто. Кладовщик запротестовал:
— В детдом на периферию такие пальто... Вы превышаете...
— Тихо, тихо, — сказала директорша. — Летечка, забирай пальто.
Летечка взял отобранные директоршей пальто, но не ушел со склада, притаился за дверью. Как директорша отчитывала кладовщика, откуда и голос взялся. В детдоме он ни разу не слышал, чтоб директорша так кричала на кого-нибудь.
— Тыловая крыса! — орала она. — Не попался ты мне на фронте, я бы тебе показала периферию. Залил глаза... Их батьки жизни не жалели, сами они в жизни, может, бобрика этого себе не справят... Раздеру, как жабу...
Так воевала директорша за него, а он... И Летечка хотел теперь только одного — покоя, чтобы его не трогали. Пусть бы всегда была тишина, и Лена рядом, и никогда не заходило солнце. Можно прожить без дополнительной пайки хлеба, можно прожить на затирухе. Но как прожить без солнца? «Неужели оно будет так же катиться, радовать и греть всех, когда меня уже не станет? — подумал Колька. — Зачем солнце, когда меня нет?» Человек, он, Колька Летечка, должен быть вечным, а не солнце, не небо. Ее, вечности, надо добиваться, а не дополнительной пайки хлеба. Вот умрет он, и нужна ему будет эта пайка... «Тебе будет не нужна, Лене, Козелу, Дзыбатому, Бурачкам нужна», — вроде кто-то подошел к Летечке и заговорил с ним, или это солнце разговаривало с ним.
— Ты что меня уговариваешь, — сказал Летечка солнцу и скривился. Заплакал сначала легкими, сами собой набегающими от пристального вглядывания в солнце, а потом и настоящими, горькими слезами. — Ты на смерть меня уговариваешь...
— Хлеба, хлеба! — рявкнули детдомовцы. В сад спешила директриса.
— Уезжайте, уезжайте немедленно отсюда! — набросилась она еще издали на пожарников. — А вы слезайте с деревьев. Вопрос, каким быть нашему детдому, рассматривается дополнительно. Летечка, Лоза, на землю! — выделила директорша Кольку и Лену, будто только они двое и были на яблонях. И Летечка с Лозой послушно спустились и пошли из сада вдвоем по дорожке, будто действительно больше здесь никого и не было.
— А мне уже готовиться надо... — Все еще не слыша себя, все еще крича там, на дереве, вместе с другими детдомовцами и полнясь их силой, но уже с грустью в голосе сказал Летечка Лене, когда они вышли на детдомовскую, усаженную лиственницами и вековыми липами аллею.
— А я уже готовлюсь! — весело подхватила его слова Лена. Летечка запнулся. А Лена, посмотрев на него, как будто сомневаясь, но не высказав этого сомнения, сказала: — И в какой же ты институт, Летечка, готовишься?
— Да в тот, в тот... — безразлично махнул рукой Летечка с горечью от той далекости, в которую вдруг отплыла для него Лена. Они все так же шли по аллее рука об руку. Лена была рядом, но в то же время вроде бы вдруг исчезла, некое облако, принявшее ее фигуру, созданное его, Летечкиным, воображением, плыло возле. Летечка смирился и с этим облаком. Ему все равно в ту минуту надо было кого-то любить. Любить все, что окружало его. Но больше всего в этом замкнутом, огороженном со всех сторон пространстве он хотел любить Лену. А Лена хотела, чтобы все любили ее. Летечка угадывал это по тому, как она ненароком прижималась к нему плечом, не больно он нравился ей, а прижималась. И с вызовом смотрела по сторонам: вот, мол, какая я добрая, здоровая и красивая, щедрая, меня так ласково греет солнце, любит меня, любит тень, падающая с деревьев, дорога, по которой я иду. И этот чудной парень. Я ему тоже разрешаю любить меня. У меня впереди такая долгая жизнь, и меня так много будут любить. И как это хорошо — быть счастливой и знать, что тебя любят. И Лена щедро развлекала и завлекала Летечку беседой, приближала его к себе.
— А я, знаешь, институт еще не выбрала, — признавалась она Летечке. — А ведь самое главное — выбрать такой, чтобы можно было потом жить безбедно. Какой это институт, по-твоему, Летечка?
— По-моему, экономический...
— Ну, Летечка, ты и скажешь, экономический... Что же, по-твоему, я счеты есть буду? Нет, Летечка, не знаешь ты ничего о жизни. Отличники, они все такие.
— Ты вот что, вот что, Лена... — Колька остановился и схватил ее за руку. — Ты помни меня, Лена, помни. Ладно?
Лена удивленно посмотрела на Летечку и улыбнулась такой дорогой, такой родной тусклой улыбкой, что у него приросли ноги к земле. Лена тоже взяла Летечку за руку. И в то же мгновение, когда она это сделала, хмурь, тусклость, исходящие от улыбки, набежали ей на лицо. Черная прядка волос упала на прорезанный поперечной складкой лоб, глаза, в которых только что искрилось веселье, потемнели и обратились не на Летечку, а куда-то вглубь, на себя. И в мгновение Летечка сумел увидеть и прочесть такое в этих глазах, что ему не надо было больше слов. Нет, Лена в эту минуту была не просто далека от него, а страшно далека. И расстояние это измерялось не километрами, даже не временем, не тем даже, сможет ли она полюбить его. Другая мера лежала между ними. Перед ним была женщина, женщина, уже оставившая детдом, детство, уже забывшая всех, кто жил до этого рядом с ней. Женственно и недоступно вздымалась под легкой материей ее грудь, словно она уже дышала воздухом будущих восторгов, радостей и болей.
И Кольке так хотелось припасть к груди этой вдруг ставшей совсем-совсем незнакомой ему девушки, так хотелось поцеловать ее далекие, призывно раскрытые, но не его зовущие губы. И пусть не меня, и пусть, думал он, это даже лучше, что не меня. Могу я поцеловать ее? Она сейчас и не заметит, что я поцеловал ее. Не в губы. В губы целовать, наверно, стыдно, в губы будут другие, а я в этот бело-голубой выем груди и шеи.
— Колька, что же ты, Колька, — шепнула Лена,
И Летечка обнял Лену, неподвижную, закаменевшую, и понял, что не ему она только что приказывала целовать себя, не его она видит подле себя, а кого-то другого, который уже идет к ней. И он невольно оглянулся и, не видя никого, не видя даже Лены, припал на этот раз к ее раскрытым беззащитным губам. И, оказывается, целовать в губы было совсем не стыдно. И Летечка целовал, постепенно забывая, что он вор, берет не принадлежащее ему, и успокаиваясь, не видя уже прока в поцелуях, плача в душе. Прощаясь в душе с Леной и жизнью, ненавидя и любя Лену. Зная, что это у него в первый и в последний раз в жизни.
Взявшись за руки и с недоумением вглядываясь, они ли это, Летечка и Лена стояли посреди пустынной детдомовской аллеи. Липы от времени и неухоженности уже облысели, проредились ветвями, местами обшелушилась и кора. Но сквозь эти поредевшие ветви беспрепятственно достигало земли солнце, пригревало старичков — отмершие ветки, проплешины стволов, лишенные коры. От этих проплешин многие липы казались седыми, как бы сбросившими с себя шапки, и в их седине и старости, в их молчании проступала укоризна. Аллея была длинной, уходила далеко в сторону бывшего дворянского, а теперь городского парка. Заканчивалась тупиком, упиралась в кирпичную, отделившую детдом от парка стену. Стена с того места, где стояли Летечка с Лозой, не просматривалась. Там, впереди, аллея густо поросла травой. А возле самой стены выметнулась крапива. И оттуда, где стояли Лена с Летечкой, казалось, что там не тупик, а увитая зеленью красная беседка. Стояли же они подле самой могучей и самой старой липы — обхвата в три толщиной, с вершиной, одиноко возвышающейся не только над детдомом, но и надо всем городом. Одиноко прорвавшись к небу, вершина эта, самая ее верхушечка, молодым зеленым шаром разлеглась над другими деревьями, словно на плечи старой липы было поставлено другое молодое дерево. И взгляд с верхушки невольно бежал вниз в поисках второго дерева, но, не добежав до корней, вздрогнув, натыкался на огромную, в половину человеческого роста, выбоину-дупло. Выболело это дупло-выбоина у липы уже давно, не менее, наверно, полувека назад. От той давней полувековой боли, видно, так и взметнулось это дерево ввысь, обманчиво омолодившись второй вершиной. Тогда же, около полувека назад, человек пытался помочь дереву. Бетоном, как пластырем, закрыл выбоину и эту заделанную камнем рану, уже, видимо, для услаждения своего глаза огородил витой железной решеткой с вензелями. Липа безразлично приняла решетку, но от бетона отслонилась, бетон пошел трещинами, позеленел, порос мхом, а по краям между липой и бетоном образовались щели, в которые можно было втиснуть руку. Липа росла, росла с камнем в груди, выставила сейчас этот камень всем на обозрение, как каменное сердце. Боялась коснуться этого сердца своим живым телом, не приняла его, когда-то, наверное, плакала. И там, где давным-давно вытекали эти слезы, сейчас вышелушивалась желтая изболевшая труха. Летечка смотрел на дерево, на бетон, на замысловатую решетку, и эта затея с врачеванием дерева казалась ему лишней, ненужной. Он чувствовал давнюю боль дерева и сегодняшнюю придавленность его. Пусть бы уж липа, хоть и раненая, жила без этого затейливого милосердия человека, дышала всем стволом и раной тоже. Лишними и ненужными казались ему и эти поцелуи на аллее, без радости, а главное, без надежды на что-то в будущем. Вроде бы он молил Лену о жалости и вымолил милостыню. Как подаяние, она бросила навстречу его раскрытым губам свои губы, потому что нет в ней сейчас ни смущения, ни робости перед ним. И в то же время он был рад, что все было, как было. Он торопился жить, дышать, чувствовать, был жадным, сейчас ему все надо было: и поцелуи, и человек рядом, живой, здоровый, именно вот такой, всем естеством стремящийся жить. Родной, близкий человек. Он хотел считать его родным и близким. И чтобы этот человек, когда его уже не будет, вспомнил и пусть беззаботно, мимолетно всплакнул о нем и тем самым как бы продлил его.
— Помни меня, Лена, — снова повторил Летечка, выжал из себя немеющим языком, как выжимают признание. По сути, это и было признание. И, говоря вслух «помни меня», он твердил про себя: «Я люблю тебя, Лена, люблю тебя. Но никогда, никогда не скажу об этом». И одновременно отчетливо сознавал, что уже сказал, выдал себя и теперь ему на самом деле ничего не остается, как только умереть. И умирать уже было не страшно, а необходимо. В ветвях липы потусторонне жужжали пчелы, оранжево вспыхивали на солнце и сгорали, скрываясь в листьях, летающие, слепящие глаза крохотные факельчики.
Лена и Колька, не сговариваясь, вдруг согласно тронулись с места и зашагали по аллее. Но шли, сторонясь друг друга, чужие, неразговорчивые. Прошли всю аллею и уперлись в стену, повернули назад. Сделали несколько шагов. Лена остановилась и, не глядя на Кольку, покрывшись красными пятнами, зло сказала:
— Ну чего ты таскаешься за мной, Летечка?
«И в самом деле, чего я таскаюсь?» — подумал Летечка и свернул с аллеи, уже заполненной детдомовцами, в сад и пошел туда, где на бугорке, на солнцепеке, стоял шалаш сторожа, где, он знал, никого сейчас не было. Раскинулся, лег на ржаной соломе у входа в шалаш, чувствуя себя уже умершим. Так, как сегодня, он согласен был умирать каждый день.
Приковылял к шалашу Остолоп. Увидел Летечку, взвизгнул, лег на брюхо и пополз к Летечке, помахивая свалявшимся хвостом, здоровыми лапами царапал землю, скользя култышкой по соломе.
— Ну и остолоп же ты, Остолоп. Ну и остолоп же ты, брат, — сказал Летечка чуть раздраженно. — Ты ведь не Бурачок, Остолоп, а я тебе не Вера Константиновна... А я знаешь кто? Я брат тебе, я Маугли. — Вера Константиновна объяснила все же ему, кто такой был Маугли. — Почти собака, а больше волк. Не люди, не мать, а волчица вырастила меня, потому я такой и дикий. Большой, взрослый, а ум детский. Я все равно как ты: старый уже, а все равно остолоп. Хочешь, я тебе расскажу о себе. Жил на свете хлопчик, еще не жил даже, только родился, а мать умерла. Подобрала его волчица, выкормила своим молоком, вырос он среди волчат. Вот так, Остолоп, ты остолоп, я недоделок, а оба мы...
Пес поднял голову, прислушиваясь к его словам, решая, наверное, что за ними последует. Завалился на спину. Голова набок и язык набок. И глаза заведены и скошены в сторону Летечки. И смех и озорство в глазах и готовность вскочить, мчаться на трех ногах по первому же приказу.
— Э, Остолоп, да не такой уж ты и остолоп, — сказал Летечка. — Придуряешься, как хозяин твой Захарья.
Остолоп сморгнул, лизнул Летечке руку и прижался к нему теплым, нагретым солнцем черным боком. Летечка взял пса за култышку.
— Где ногу потерял, брат? Чего молчишь, стыдно признаться? Под поезд, что ли, попал, или стрельнул кто в тебя?
Колька, не замечая сам того, сдавил собаке лапу. В горле у Остолопа сдавленно забулькало. Он изловчился и ухватил руку Летечки зубами. Но не укусил, подержал зубами и выпустил. И Колька отпустил култышку, чуть задержав руку, услышав, как тукает в обрубленной ноге сердце Остолопа, бьется, приливая упругими разгонистыми токами, кровь, стремящаяся дальше, за култышку, к продолжению ноги, ищет этого продолжения и не находит.
— Больно, Остолоп, знаю, — сказал Летечка. — Мне тоже больно. На вот послушай, как кувалдой бьет. — Летечка распахнул рубашку и подставил к мокрому носу Остолопа оголенную грудь. Остолоп ткнулся ему в грудь шершавым языком, жарко вылизал его вспотевшее тело. Вслед за жаром тут же побежала по груди прохлада. Летечка прижался к Остолопу, обнял его, и они сладко вздремнули. И увидели сон. Летечка свой, который часто снился ему. Хороший сон увидел, наверно, и Остолоп, потому что, поднявшись, долго облизывался, словно только что схрумкал сахарную косточку. — Ты любил уже кого-нибудь? — на прощание спросил у пса Летечка. Тот только покосился на него и продолжал облизываться. — Любил, значит, — сказал Летечка. — Я вот тоже люблю.
И они разошлись, довольные друг другом и освеженные сном в холодке шалаша.
А к вечеру Летечка узнал, что детдомовцы не зря бузили. За их Слободским детдомом осталась приставка «спец». Об этом объявила на вечерней линейке директорша. Веры Константиновны на линейке не было. И засыпал он в тот вечер впервые без сновидений и страха, что завтра может не наступить. И, хотя ему не удалось увидеть Лену, он надеялся, что увидит завтра. Надо только избыть эту ночь...
4
Избыть ночь, и не только эту, звездами устлавшую небо, грибными туманами укутавшую землю, мирную, в которой зябко били боталами выгнанные в ночное лошади и светили кострами пастухи, но и ночь давнюю, вдовьими и детскими слезами обливающую землю, торопился не один Летечка, но и многие другие взрослые люди, живущие в его городе. То было лето забывания, лето прощания, лето расставания с прошлым. Забывание, расставание, прощание шло непрерывно с весны сорок пятого, даже не с сорок пятого, а с июля сорок четвертого года, с того дня, когда этот небольшой городок был очищен от фашистов. Но до лета нынешнего года процесс этот был вроде как бы незаметен: латались дырки в одном месте, зияла прореха в другом. На базарной площади, служащей издревле границей между Слободой и небольшой пригородной деревенькой, мужики притыкали лошадей, привязывали их к стабилизатору невзорвавшейся, наполовину ушедшей в землю бомбы. В небазарные дни у нее любили отмечаться городские и деревенские псы. У этой бомбы вечерами можно было встретить и влюбленную парочку. На бомбу можно было присесть, она ушла в землю под углом градусов в тридцать, к ней можно было и прислониться на долгую беседу и приостановиться на короткую вынужденную остановку деревенской бабке, чтобы завязать шнурок. И бока у бомбы блестели, как бока у сытой гнедой лошади. Детдомовцы обсуждали вечерами, что будет, если разжечь под этой бомбой костер: ахнет или не ахнет, и если ахнет, куда достанет. И, наверное, они бы таки разрешили практически этот свой спор. Но как-то на базарной площади появились саперы, оцепили площадь, отрыли бомбу, погрузили на машину и осторожно, тихо, как покойника, увезли неведомо куда и неведомо где схоронили. И без этой бомбы площадь, а вместе с ней город словно что-то утратили. Эта невзорвавшаяся бомба была привычной, как памятник, тоже стоящий на площади и тоже исчезнувший. С этих событий началось бурное преображение города. Оно было особенно заметно детдомовцам потому, что основные события развернулись у них почти под боком.
От детдома до базарной площади ровным счетом сто пятьдесят метров. Вышел из детдома, минуя два огромных осокоря, и в их тени разложисто выметнулась перед тобой главная улица города, отдельные участки которой вымощены красным булыжником. В одну сторону булыжник красно упирается в окраину и там, у подступившего к городу хвойного подроста, обрывается, переходит в шлях, который связывает Слободу с большими городами. И вдоль этой дороги, возвышаясь над хвойным подростом, бегут, бегут телеграфные столбы. Другим же концом улица упирается в базарную площадь и на подступах к ней дробится на множество улочек, проулочков и просто тропинок, разобраться в которых не так-то легко. Базарная площадь — это тоже начало дорог, истоки, устья множества стежек-речушек, по которым ходят машины и подводы, прибывает и убывает деревенский люд. Легкие на ногу дедки в рубашках навыпуск, подпоясанные ремешками, с сапогами и ботинками, перекинутыми через плечо; смешливые молодайки, с легким презрением и немного с испугом рассматривающие все городское; шустроглазые пацаны в суконных пропыленных костюмах, широкие штанины которых бережно заправлены в носки; свадебного возраста парни, подчеркнуто небрежные, в расхристанных, обнажающих мощную загорелую грудь рубашках, со взглядом, как бы приценивающимся ко всему, примеривающим к себе город. Но базарная площадь — это и начало огромного пустыря, которому нет ни конца, ни края, на котором слободские новоселы имеют свои личные карьеры и черпают из них кто отменно жирную слободскую глину, кто отборный, зернышко к зернышку, белый песок. Само собой, здесь раздолье детдомовцам.
На краю пустыря громадный, белого песка курган. По детдомовским преданиям, со временем ставшим и городскими преданиями, курган этот необычный, не только пристанище ворон, не только скопище мышей, но и приют, стан бандитов и разбойников. По одним сведениям, здесь уже проводила облаву милиция. Поймана масса бандитов, вывезена масса добра. На десяти подводах везли. По другим, до кургана у городских властей еще не дошли руки, в нем схоронены то ли сокровища древних князей, то ли драгоценности и имущество, награбленные фашистами у мирных граждан. И ясными летними днями курган с вечно сидящей на вершине его черной вороной, желто облитый солнцем, манит к себе детдомовцев, а вечерами наводит страх. Дело в том, что возле этого кургана пролегла дорога на станцию, а детдомовцы любят провожать отъезжающих в иные города, в иную жизнь. И каждый раз, проходя мимо кургана, вступая в его тень, они затихают и все ждут, что вот-вот кто-то выйдет из этой тени. Но курган молчалив и сонен. И вот в один прекрасный день или, совсем наоборот, не в такой уж и прекрасный день курган исчез. Пустырь забили кирпичом, тесом, бревнами, бетонными плитами, техникой. Кончилось тихое время тихого небольшого городка.
Началась стройка. Заложили одновременно фундаменты здания Дворца культуры, гостиницы и ресторана. И еще одного необходимого городу заведения, на двенадцать очков, по шесть с каждой стороны. Первым в строй вступил ресторан, а потом подоспела гостиница, и вот уже работает Дворец культуры. Только заведение на двенадцать очков все в той же первоначальной стадии: очки готовы, перегородка между ними есть, а о стенах, наверное, забыли. Но это, впрочем, не мешает тому, чтобы заведение использовалось по назначению.
Привычная, милая сердцу Слобода с кривыми пыльными улочками, деревянными домами, покосившимися заборами была вытеснена куда-то к черту на кулички. Слободчане, а более того детдомовцы были поражены в самое сердце, запоздало, но и для них начиналась эра камня, бетона и асфальта. И самое потрясающее в этой эре пришло не с невиданными двух-трехэтажными домами, в которых все есть — вода, ванна и туалет, а с асфальтом. Желтые черепахоподобные машины взяли город штурмом, вкатились в него по песку и булыжнику, как скоморохи, кривляясь и заваливаясь на слободянских бродах, гатях и ямах, а в самой Слободе пошли уже как по маслу, сами для себя прокладывая и дороги, и мосты, и переезды, извергая все это из своего горячего чрева, таща за собой черные масляные ленты, как паук тянет паутину.
И детдомовцы ходили по пятам за этими машинами, сначала ждали, когда они выдохнутся, сдадутся на милость необоримым слободянским пескам и глинам, а потом ждали, когда все же город будет заасфальтирован. Жизнь из детдома, его палат и сада переместилась на пустырь, который теперь уже совсем не был пустырем, а стал центром. В центр, на асфальт, к столбу с черной сковородой — рупором и повел Захарья Сучок на следующее утро Летечку. Тот пришел к Захарье в шалаш, чтобы поговорить о жизни и смерти. Захарья сидел на соломке и переобувался, старательно наворачивал на огромную желтую ногу почти целую детдомовскую простыню с черным квадратным клеймом.
— А, ты еще жив, Летечка-лихолетечка. Здоров, здоров! — рассеянно приветствовал он Летечку, не отрываясь от дела.
— И ты еще жив. Здоров, здоров! — сказал Летечка.
— И я еще жив, жив... — И Захарья вогнал ногу в широкий раструб ялового сапога, достал еще одну простыню, расстелил ее на соломке, расправил складки, примерился и на край простыни поставил ногу.
— Ты что же это, как на тот свет собираешься?
— На тот свет мне еще рано, до спасова дня еще далеко. На этом еще не все дела поделаны... — И вторая нога с шумом и всхлипом вошла в сапог. Захарья подхватился с соломки и опробовал сапоги, поворотился к Летечке, положил на его непокрытую голову ладонь, как кирпич бросил. Была эта рука и прохладна и тепла, но и жестка, будто не кожа на ней, а наждачная бумага. Голова Кольки полностью утонула в ладони Захарьи, даже не видно стало солнце. Но Кольке было приятно стоять под этой живой крышей.
— Ох, и здоров же ты был, наверно, Захарья, в молодости.
— А быка побивал, — сказал Захарья. — От пана на спор золотую десятку получил.
— Как же ты побивал этого быка?
— Потом, потом, Летечка... Я и сейчас еще здоров. А у тебя сила есть? — И Захарья чуть надавил ладонью на Колькину голову. — Есть, есть сила... Нужен ты мне сегодня, Летечка...
Захарья оставил Летечку, нырнул в шалаш и появился из него с половинкой кирпича, старательно обтер его от земли. Достал из-под бушлата свежую, сегодняшнюю, успел приметить Колька, районную газету, аккуратно принялся заворачивать половинку кирпича в газету.
— Зачем тебе кирпич? — спросил Колька.
— Раз взял, значит, нужен. Я зря давно уже ничего не беру.
— Воруешь, что ли, золотой у тебя кирпич?
— Дурень ты, Летечка, с чего это кирпичи золотыми стали? — резонно заметил Захарья. — Я кирпич уже лет пять не ворую, как в детдом пришел, так ни одной кирпичины не украл.
— А было время, крал?
— А было время, крал... Ровно полторы тысячи кирпичей, штука в штуку, я украл на своем веку. Пять годов работал сторожем на кирпичном заводе. И каждый день по кирпичику. Печь вышла. Думал на дом каменный натягать, да выгнали — хичник, расхититель, — и Захарья засмеялся. Колька смотрел на него и не мог понять, всерьез это или шутит Сучок. — Было, было, — сказал Захарья. — Сейчас на площади кирпичи валом лежат, ешь — не хочу. Я половинку поднял для дела, Летечка, для дела.
— Какое же дело у тебя? — не отставал от Захарьи Летечка.
— Много будешь знать, скоро состаришься, — и Захарья, воровато оглянувшись, сунул упакованную в газету половинку кирпича за пазуху и застегнулся, впервые, наверно, застегнул бушлат на все пуговицы. Все так же воровато оглядываясь, держа Летечку за руку, он повел его из детдома. На крыльце изолятора их встретила, будто специально и ждала, баба Зося.
— День добры табе, Захарья!
— Добрдень, — буркнул Захарья и хотел шагать дальше, но баба Зося сошла с крыльца и перекрыла дорогу.
— Может, хватить, Захарьюшка, сердце на меня иметь?
— Посторонись с дороги, — сказал Захарья.
— Не, Захарьюшка, не... Знаю, куда твоя дорога. Нет моей вины перед тобой, Захарья. Нет, вот дитятком этим клянусь...
— На нет и суда нет, — сказал Захарья. — Не заминай мне. — И Захарья стал обходить бабу Зосю, цепко держась за плечо Летечки. Летечка и хотел вырваться из его рук, но не мог. Было ему чуть жутковато от этой непонятной беседы стариков, не видел он раньше, чтобы сходились они вместе, и думать не мог, что знают друг друга, что может быть у них что-то общее. Оказывается, есть, есть, и что-то непростое. Баба Зося почернела вся вдруг, стоит перед Захарьей и дрожит каждой жилкой, каждой морщиной, молит, кричит. А Захарья — как камень, зубилом его сейчас не возьмешь.
— Ох-ох, — тянет руки то ли вслед им, то ли к небу баба Зося, причитает: — Камень, камень ты, Захарья. За какие грехи страдаю я? Кому еще так страдать выпало, люди...
— О чем это она? — боязливо спрашивает Захарью Летечка.
— Не твоего ума дело. Повоет — перестанет...
— Давно ты ее знаешь?
— Как ложку научился в руках держать.
— Кто она?
— Не назоляй мне, хлопча... Красивая была в девках, вот за красоту и страдает... За все платить в этом мире надо — и за красоту, и за уродство, за болезнь и здоровье... Не знаю ее и знать не хочу, Летечка. И нишкни. Рот на замок, — сказал, как замкнул, будто в самом деле повесил себе и Летечке замок на рот. Они уже вышли из детдома и подходили к площади.
А на улице происходило что-то непонятное. Уж очень она была оживленной для этого раннего будничного дня. К площади, нахлестывая лошадей, гнали подводы мужики, торопились смазливые молодайки, буслами-аистами вышагивали легконогие деды. И гремела, гремела окрест бодрым маршем сковорода-рупор. Но походка у людей была не под этот марш. Марш вроде бы даже сбивал их с шагу, и лица и глаза у людей были хмурые, не задетые музыкой.
На самой же площади творилось вообще что-то невообразимое. Только престольный праздник, ярмарка, приуроченная к этому празднику, собирали здесь столько народу. Но торговли сегодня на базаре не было. Не было ни звонких высоченных гор из макитр и горшков, не хрюкали в рогожных мешках поросята, не кудахтали, не теряли перо связанные веревочкой, с чернильными метками по белым и пестрым бокам куры, не бил в глаза желтый блеск деревенского крупитчатого с капельками росы масла — ничего этого не было здесь сегодня. Были хмурые, растревоженные мужики, всем кагалом, даже с грудными детьми приехавшие из дома в город. Жены этих мужиков, успокаивая заходящихся в крике детей, беспрерывно толкали им в рот тощие обвислые груди. И все чего-то ждали, удобно и обстоятельно умащиваясь на подводах, стоящих впритык одна к другой. Ждали лошади, лениво перебирая в подвешенных на головы торбах овес. Томились, ждали, слонялись по базару безлошадные мужики, пешедралом прибывшие в город, ждали чего-то горожане, пожаловавшие на площадь.
Захарья чинно здоровался с мужиками, приостанавливался почти у каждой подводы, упорно продираясь к крыльцу, к служебному входу Дворца культуры. Остановки эти и здравствования: «Жив?» — «Жив». — «А Кузьма-примак уже помер». — «Помер», — видимо, бесили его. Он пыхтел, отводил в сторону глаза, старался смотреть только себе под ноги, но его, высокого, громоздкого, все равно углядывали, затягивали в беседу.
— Сколько-то годков, Захарья, уж миновало, как мы тут с тобой последний раз балакали?
— Много уже...
— А баба твоя еще жива?
— Жива, жива, холера ее возьми...
— И-и, что ты, Захарья, родню не привечаешь, бежишь...
— Привечаю, Маланья, привечаю...
— И-и, вдовая я стала, бедная, собаки и те мою хату обминают. Завалилась моя хата, наказывала, с людьми передавала, пришел бы, пособил бы перебрать...
— Приду, Маланья, приду.
— И слезка божья у меня выдавлена, стоит-ждет первачок...
Летечка удивлялся, сколько знакомых у Захарьи, во все глаза рассматривал мужиков и баб. Раньше, когда он один, без Захарьи, ходил по базару, все они казались на одно лицо, неприступные, злые, пекущиеся только о своем добре, о том, чтобы он у них ничего не спер. А сейчас... И ему приятны были эти частые остановки и беседы Захарьи. А тот не таил довольства перед Летечкой, говорил ему:
— На меня, Летечка, уже и собаки не брешут, все уже меня знают. — Резал толпу плечом, как масло, и щедро раздавал «добрдень».
— Тю, Захарья, да не твой ли это, часом, хлопец?
— Мой, мой, кума, до другого разу...
— А скоро уже тут начнется?
— Скоро, скоро...
— Я ж их, Захарья, гадов, как тебя, видел. В нашу деревню их привозили. Я от имени мира всего христом-богом на минутку майора молил отвернуться. Понимаю, говорит, отец, служба, отец. Ах ты, мать твою... Жизнь у нас, Захарья, нечего бога гневить. Жить можно сегодня. Сегодня дают жить. А что было, что было... Две коровы сейчас держу, а раньше от одной был готов отказаться. А сейчас нечего бога гневить, можно жить. Злость только берет, что еще не перевелись на земле гады ползучие... Скоро их повезут?
— Кого повезут? Что тут будет? — спросил Захарью Летечка.
— Расплата будет. Живые мертвых судить будут. И не лезь! — отрезал Захарья. — Навязался на мою голову...
Они уже выбились из толпы и были у крыльца, на задах Дворца культуры, в прохладной тени его. Но здесь, в прохладе, Захарью неожиданно прошиб пот.
— Ох, брат, — сказал Захарья, вздымая голову к бетонному козырьку, нависшему над крыльцом. — Промашку дал, надо было не тебя, а кого-нибудь покрепче... Слушай, а может, я тебя туда подсажу, а?
— Я те подсажу, я те подсажу, — дедок с сивой козлиной бородкой свесил вниз голову. — Занята плацкарта, и местов больше нет.
— Здоров, Ничипор, — сказал Захарья, заметно повеселев. — Да как же ты, старый хрен, не рассыпался, туда ускараскался?
— Ускараскайся ты сюда, молодой хрен, тут я тебе и обскажу, — засмеялась, запрыгала бороденка.
— А ты хоть с подарочком? — льстиво спросил Захарья.
— А как же, мы припасливые, — и дедок старческой трясущейся рукой выставил на обозренье Летечке и Захарье увесистый булыжник. — Это за батьку моего им, деда Гуляя. Помнишь Гуляя?
— Помню, — сказал Захарья. — А ты Сучков моих всех помнишь?
— Э, Захарья, где ж тут всех упомнить? Шестьдесят дворов, почитай, было, и все Сучки. Тут бы годков своих не забыть да батьку.
— Ну так принимай и от моих, — и Захарья подал Ничипору свою половинку кирпича, завернутую в газету.
— Батьку моего они уже после изловили, зимой, — принимая половинку, говорил Ничипор. — Похвалялись: отправили деда Гуляя рыбу ловить — из огня ушел, а из пельки, из-подо льда не уйдет... А ему в ту пору сотый годок миновал... Сироты мы с тобой, Захарья, сироты. Давай ко мне, потеснюсь, так и быть, вместе нам, сиротам, держаться. Гуртом и батьку родного бить легче.
— А не прогадаем ли мы, Ничипор, сидючи на этом верблюде? А что, если вдруг их через красный ход поведут?
— Ты что, ты что, — забеспокоился, заелозил на своем насесте дед. — Это кого же через красный? Не может быть того, Захарьюшка. Суди сам, партизанской головой суди: можно ли гадов через красный вход пускать? Это одно. Другое — уши развяжи, послухай. Чуешь, как море там бьется, по шматку их поганые души раздерут. Люду-то, люду. Я хитро сужу. Тихо их будут запускать. Лезь, не сумлевайся. Захарьина Гора...
— Ты и прозвище мое помнишь. Была гора, да сносилась. — Захарья, и впрямь гора, полез на козырек. Воловьими ногами обжал тоненький красный прутик. Летечка подставил под эти ноги сцепленные ладошкой руки. Но Сучок велел ему отойти и не мешаться, чтобы не было греха, если вдруг сорвется.
— Не тряси, не тряси, Гора, обвалишь, — попискивал сверху дедок. — Хватайся за выступ!
Захарья бросил клешневатую руку на выступ, вспарывая себе грудь острым краем козырька, начал подтягиваться, пособляя ногами, отталкиваясь ногами от прута. С такой бы сноровкой, наверно, взбиралась на этот козырек и лошадь. Но и у Захарьи было лошадиное упорство. Он втаскивал себя наверх сантиметр за сантиметром, грубыми и толстыми, но быстрыми пальцами, будто играл на гармонике, отыскивал на скате козырька малейшие неровности, бугорки и уцепистой мужицкой хваткой держался за эти неровности, за воздух, бугрился, вздымался все выше и выше. И вот зеленой глыбой обрушился на козырек, отдышался и заполз весь, лег там горой, подняв вверх непомещавшиеся ноги.
— Демаскируешь, слазь обратно! — взвизгнул дедок.
— Нишкни, дед! — прикрикнул Захарья. — Ляг и умри. Главное — тихо.
— Тихо, тихо, — вопил дед сквозь сжатые зубы. — Да корова была б тут незаметнее тебя. Хлопца б вот подсадил вместо себя...
— Я сам должон, — сказал Захарья. — Я сколько ждал этого часа, может, тем и жил, своими руками должон. Кирпич, камень не возьмет, руками буду, зубами. Прыгну сверху, хребет себе поломаю, а на тот свет вместе с собой одного гада прихвачу. Сколько злость моя выспевала, Ничипор. Косу возьму, а в травах головки белявые детей моих встают. Ложку в руки, а из тарелки на меня глаза их. Не, Ничипор, меня отсюда краном надо здымать. Умри, Ничипор, молчи до часу... А ты, Летечка, иди, иди. Негоже тебе еще видеть, как люди гинут.
Летечка замотал головой. В нем сейчас жили и любопытство, и испуг. Что же здесь должно произойти, каких гадов должны выпустить? И как этих гадов будут отправлять на тот свет Ничипор с Захарьей? И страшно было, но не потому, что может случиться, а от той ненависти, которая звучала в словах Захарьи, которая подняла его и взгромоздила на бетонный козырек, слила его лицо с бетоном, оставила на нем лишь глаза.
— Поглядывай на дорогу, — сказал Захарья Летечке. — И как покажется «воронок», такая крытая черная машина, гадов полицейских в той машине повезут, свистни и смывайся тогда.
И Летечка присел на бетонный приступок крыльца и начал всматриваться в дорогу, в баб, с пустыми ведрами спешащих не столько за водой, а чтобы поскорей включиться в беседу с другими женщинами. Были забыты и прогорающие уже печи, и визжащие, просящие есть поросята, и некормленые дети. И Летечку брала досада на этих болтливых сорок — баб. То ли дело он, никто и не догадывается, что приставлен тут смотреть и наблюдать, и он молчит, смотрит и молчит, как партизан в засаде, дело свое крепко знает, не проворонит «воронка», уследит. И Летечке было хорошо. Он и впрямь чувствовал себя партизаном. Вот выкатит из-за поворота машина, даст он команду, и по его команде... такое начнется...
А людское море на площади продолжало бушевать. Правда, отдельных голосов не было слышно, но время от времени словно волна там набегала и ворочала гальку. Утро же было спокойное и тихое, ни тучки на небе, ни залетного приблудного ветерка в деревьях. Тишь да гладь. Чего бы этим людям, подумал о тех, на площади, Летечка, не сидеть сейчас по домам. Сенокос ведь на носу, под прохладными поветями клепали бы косы, бабы пололи б, так нет, надо куда-то тянуться. Дурной народ, глупый. Полицейские им нужны, «воронки». Разберутся без них. Сейчас так хорошо полежать с книгой в саду, почитать про тех же немцев, полицейских, партизан. Из книги ведь больше узнаешь, чем тут увидишь. Там где-то в саду уже ждет его, наверное, Лена, а он тратит время бог весть на что. А у него, если верить Сучку, мало осталось дней. Надо готовиться. И Кольке стало грустно, потому что он не представлял себе, как надо туда готовиться. Одежку готовить? Так это не его забота, пусть об этом болит голова у директорши. Написать последние письма? А кому их писать? Проститься с Козелом, с Дзыбатым, с бабой Зосей? Что ему с ними прощаться, если они у него всегда под рукой. Да возьмешь еще простишься и не умрешь, стыда не оберешься. Тогда хоть руки на себя накладывай. А что же ему еще делать, не в смысле близкой смерти, а в смысле жизни...
— Едут, едут, везут! — завопили у колонки бабы.
— Едут! Везут! — завопил Летечка.
— Не демаскируй голосом и присутствием. Сгинь! — пискнул дед.
Летечка отбежал от крыльца. «Воронок» подкатил к Дворцу культуры, шофер притормозил и стал разворачиваться, сдавая машину к крылечку. Из нее, открыв дверцу, выпрыгнули солдаты, выбрался из кабины майор. И солдаты, и майор еще на подъезде, видимо, заметили Ничипора и Захарью на козырьке, и сейчас солдаты пересмеивались, отворачиваясь от майора. А майор, подняв голову, пристально смотрел в глаза старикам. Не смаргивая, так же пристально, держа уже на весу булыжник и половинку кирпича, смотрели в глаза майору и старики.
— Ну что мне с вами делать прикажете? — сердито сказал майор.
— Выводите? — пискнул, вроде бы отдал команду майору дед. — Нас тут нет, вы нас не видите.
А к крыльцу уже подваливала разъяренная толпа, смяла, подбила и прижала к машине Летечку. Солдаты выстроились живым коридором от дверей «воронка» к дверям Дворца культуры, вплотную к ним придвинулись люди. И только возле майора был свободный, ничейный островок земли. Майор все так же с тоской, словно не замечая людей, смотрел на стариков.
— Как мне снимать вас с этой верхотуры? Сами слезете?
— Нет! — в один голос заявили старики. Из толпы уже приметили их.
— Здорово, Ничипор! День добры, Захарья!
— Тихо! — взмолился, приложил скрюченный палец к губам Ничипор. — Нас тут нет. — И грохнул хохот. Улыбнулся и майор.
— Помогите отцам спуститься на землю, — приказал он солдатам. Но отцы добровольно спускаться не желали.
— На руках меня отсюда снимайте, — сказал Ничипор, сел на козырек, скрючился и заплакал, прикрываясь широкими рукавами черной фуфайки. — Души у тебя нету, товарищ командир... Нету души. Они батьку моего, они все село, а ты их в машине раскатываешь. Нету правды, нету души.
Майор махнул рукой и пошел в кабину, громко хлопнув дверкой. Двое солдат были на козырьке. Они бережно подхватили деда под мышки. Ничипор успел, пригреб к себе булыжник, и солдаты, как ребенка, передали деда вместе с булыжником другим солдатам, стоящим внизу. Эти, внизу, хотели его поставить на ноги, но Ничипор поджал их под себя, и его посадили на землю у крыльца, как куль картошки, маленький черный куль с седой бородкой. Ничипор тряс этой бородкой, поднимал кверху булыжник и выкрикивал сквозь слезы:
— Глядите, люди, глядите, вот сердце мое, вот что с ним стало!
И заревели первыми бабы, засморкались в платки и хусточки, заотворачивались, кривя губы, мужики. И тут, как по-живому, резанул толпу пронзительный детский крик. Кричал и плакал, уткнувшись лбом в колесо, Колька Летечка. Толпа отхлынула от Летечки, так безутешен и надрывен был этот его крик и плач. В воздух взметнулось истошное: «А-а-а, ребенка задавили!»
— И ничего меня не задавили, — обернулся к устремленным на него глазам и лицам Летечка. — Я совсем не потому.
Действительно, он плакал совсем не потому, он сам не понимал, отчего заревел. Не мог смотреть на Ничипора, сжимавшего в руках сердце-булыжник. Его, его это было сердце в руках у деда.
— Люди! Мир! — бухнул сверху голос Захарьи. — Не допустите, не выдайте! Пуля милосердная. Огонь нужен и камень. Мучить их, как мучились мои дети в огне... Сучки мои, Колька Летечка, сынок... — Захарьина Гора во весь свой громадный рост стоял на козырьке. В схватке с солдатами он потерял шапку. Седые волосы сбились комом, их раздувал ветер. Захарья был страшен, простоволосый, седой и ужасающе сильный, с простертыми к небу закостеневшими клешнями пальцев, с окаменелым, почти безумным лицом. — Как они горели, как они молили: таточка, лёду...
Захарья не устоял, пошатнулся и шагнул с козырька на «воронок». Загремел по жести сапогом.
— Чуете, гады, чуете, смерть ваша к вам стучит.
— Наведите порядок! Быстро! — Снова в толпе появился майор. Он был так же сед и простоволос, как и Захарья. Фуражку оставил, видимо, в кабине, там же у шофера, наверно, остался и его пистолет, потому что кобура была расстегнута и пуста.
— Человече, христом-богом тебя заклинаю, отвернись на минутку! — кричал, отбиваясь от наседавших солдат, протягивал руки к майору Захарья. Но майор молчал, только тугие желваки перекатывались по монгольскому скуластому лицу. И скуластенькие, хлипенькие рядом с Захарьей солдаты спустили его на землю. Раскрылись задние дверцы «воронка», машина еще подалась назад, стала почти вплотную к стене Дворца культуры. Шофер газанул вхолостую, заглушил мотор, и в полной тишине, в некотором даже онемении и людей, и утра торопливо, испуганно, эхом отзываясь внутри здания, загудели шаги. И все окончательно стихло, только дыхание людей и мигание их глаз. Майор подошел к кабине, взял с сиденья фуражку, принял из рук водителя пистолет и сунул его в кобуру.
— Процесс, граждане, открытый, вход свободный, через фойе.
И толпа шарахнулась от него, как от чумного. Мгновение-другое, и только солдаты и майор, два старика и Летечка остались у машины.
— Отцы, я вас могу провести через служебный вход, — подошел, помог подняться с земли Ничипору майор.
Ни Захарья, ни Ничипор не ответили ему, взялись за руки, как дети, и побрели к площади. Летечка на расстоянии двинулся следом. Беспричинные слезы все еще душили его.
5
Внутрь Дворца культуры Летечка не смог пробиться. Народ валил туда, не разбирая ни своих, ни чужих. В первую же минуту были сорваны массивные дубовые или искусно подделанные под дуб, но все равно крепкие двери. Мужики перли молчаливо и напористо, прижав к груди, бокам руки, сжав зубы, будто исполняли тяжелую, неприятную работу. Бабы, те больше работали руками, простоволосые, в руках сползшие, сдернутые с головы платки; они хлестали этими платками по лицам и глазам мужиков и что-то выкрикивали злое и нехорошее. Но в общем гаме и шуме никто их не слышал и не понимал, будто бабы говорили на каком-то чужом языке. Пацаны, как сквозь лес, продирались меж ног взрослых. Сковорода-рупор надрывалась, призывала к порядку, но только усиливала шум и гам.
Летечка не рискнул вклиниться в этот бурлящий, все сметающий на своем пути поток. В общем-то, ему не очень и хотелось туда: если не сомнут, не раздавят по пути в зал, замордуют и задавят уже в самом зале, припрессуют к какой-нибудь тетке или бабке, до вечера не выпустят на волю. Летечка стоял в стороне, уцепившись руками за столб, на котором гремел рупор, и, оглушенный этим рупором, вбирал в себя все глазами. Ему было жутко от этого прорвавшегося вдруг в людях неистового, звериного. Что же должны были представлять собой эти гады полицейские, если спустя столько лет пробудили такое в людях, человеки ли они, на человеков так не ходят смотреть. Что же они натворили тут, какой знак, какую незажившую рану оставили в сердцах людей?
И Летечке трудно было поверить, что перед ним сейчас те самые люди, которых он знал всю жизнь. Вот по этим улицам они изо дня в день ходили на работу, возили на базар и во дворы сено на подводах и в санях. Летечка, ухватившись иной раз за рубель или веревку, подкатывался, укрывшись за сеном. Случалось, мужики беззлобно стегали его кнутом. Он плакал от боли и грозил им кулаками. Мужики добродушно смеялись, щерили в утреннем или предзакатном розовом солнце желтые зубы. А бывало, и подсаживали на бастрык, угощали деревенским желтым салом. Салом, маслом, огурцами и помидорами торговали они на базаре, напропалую рядились из-за копейки. Выгодно или даже в ущерб себе продав свой товар, бережно закручивали измятые рубли и трешки в желтые тряпицы, хитроумно прятали у сердца, а червончик или пятерочку в зубы и в забегаловку, чайную, сто-двести граммов, а то и нераспечатанную белоголовую. Наспех зажевав, дрались, куролесили на потеху людям тут же, у чайной, а их жены, наглухо укрывшись черными платками от осудительных взоров горожан, совершали набеги на магазины. И выходили из магазинов, шатаясь, увешавшись клунками с хлебом, связками баранок, горами белых городских булок — это в хлебное время, недавнее. А до того как не было хлеба, хватали все подряд, что подешевле, попрактичнее: мыло и иголки, соль и гвозди, камбалу и кильку-хамсу, дешевые консервы, треску и красную соленую рыбу-горбушу и на зубок детям сто-двести граммов липких подушечек. Не помня ног, мчались к проселкам, на попутные машины, а если их не было, шли, не робея, на ночь глядя и пешком, будь им дороги три или все тридцать километров.
Так те ли это хозяйственные, рассудительные люди сейчас на площади, бьющиеся за копейку горожане и мужики, куда девался их рассудок, куда девалась их хозяйственность? Толпа уже схлынула в основном с площади. Страсти, шум, безобразие, творимое ею, вобралось внутрь здания из стекла и камня. На асфальте остались лишь вырванные с мясом пуговицы, галоши, оброненные или вырванные из рук у баб платки. Просторный, с запасом, с перспективой строенный Дворец культуры не вместил всех, не мог принять в себя вдруг пробудившееся городское и сельское горе и ненависть. Люди гроздьями висели на перекошенных дверях, стояли группками у крыльца, у вдруг онемевшего хриплого репродуктора. В молчании то тянули головы вверх, то, казалось Кольке, смотрели на него. И он, прижавшись к столбу, чувствовал себя голым под их молчаливыми взглядами, словно какая-то часть вины за то давнее, прошедшее, но не забытое лежала и на нем, и поглядывал на людей волчонком, исподлобья. Боль, тревога и крик были на разрумянившихся скулах его, на тоненькой морщинке у подбородка. Сам Колька едва ли понимал это, едва ли он понимал, сколько укора сейчас в нем самом, казенном, детдомовском. Едва ли понимали это и люди. Им было совсем не до того. Но они, люди, чувствовали и понимали другое, потому что помнили, помнили все, что было, и винили сейчас себя за то, что такое могло быть.
Никто не задерживался на нем взором, а ему казалось, что все только и смотрят на него, будто не репродуктор, а он, Колька Летечка, должен был сейчас говорить перед ними, от него ждали громовых слов и объяснений того, зачем пришли они сюда сегодня.
Летечка хотел уже уйти, уже оторвался от столба — нечего ему было больше здесь делать. Захарья с Ничипором, наверное, прорвались в зал, а детдомовцы, наверно, в это время уже завтракали. Его не держали ноги, хотелось присесть, прилечь у столба или хотя бы закрыть глаза. Но в это время в репродукторе и, казалось, в самом Кольке что-то громко щелкнуло. Уши, кожу на голове полоснуло пронзительным, взволнованным голосом, как ножом:
— Встать! Суд идет!
— Су-у-у-д... ет-ет-ет, — заперекатывалось над площадью, гонтовыми стрехами хат, загуляло в листьях деревьев, над притихшей Слободой.
Летечка и все, кто был рядом с ним, выпрямились, разогнули спины, опустили руки, шаркнули подошвами сапог и ботинок, застыли.
И долгая горестная тишина установилась окрест, только там, внутри, за камнем стен, отчетливые и все нараставшие, как удары метронома, отсчитывающего время, но не секунды, а годы, шаги. Обвальный грохот отодвигаемых стульев. И вздох. Вздох там, в зале, и тут, на площади. Вздох, волной промчавшийся по площади, по городу, улетел в поля, за Слободу. У Летечки под ногами качнулась земля, земля, казалось, тоже вздохнула.
Летечка оттолкнулся от столба и пошел по колеблющемуся расплавленному асфальту, но не по направлению к детдому, а в поле, где вздымалась и бурела стеблями рожь.
Небо, чудилось ему, приблизилось к земле, и было это больше не небо, а голубой прозрачный шар. И он шел под этим шаром, трогал его руками. Шар был теплый, родной. И сквозь него просматривалось все: и рожь, и далекие, крытые соломой хатки, и сараюшки пригородной деревеньки, и стоящие на пригорке лошадь с жеребенком, и дергающая сурепку на картофельной полосе бабка, и буслиное гнездо на коньке прогнувшейся, поросшей зеленым мхом крыши, и сам бусел, на одной ноге неподвижно выстаивающий у своего гнезда, бело-розовый в румяном утре. Колька перевел глаза туда, где выгибалась среди поросших тальниками холмов и белых островков песка дорога, где стояли притихшие хвойники, и побежал-побежал глазом по горизонту, по пескам, лесам, выжарам. Все это было знакомо, привычно и дорого ему. Все это было его. Он сам был всем этим, вышел из этих песков, лесов, выжаров. И ему хотелось туда, к обжигающему ноги песку, в сумрачную прохладу хвойников. Но Летечка знал, что он туда уже не дойдет. И он смотрел вдаль без грусти и тоски, боясь глупой слезой порушить этот близкий и далекий мир.
Но мир был порушен гулом мотора экскаватора, расстрелян, как автоматной очередью. Экскаватор рыл траншею. Полуторка волочила на проволоке к траншее десятка два ржавых труб. Рабочие прокладывали в деревню водопровод. Колька подошел к траншее и лег на только что вынутый из нее свежий прохладный грунт. Траншея была глубокой, под два с лишним метра. Но странно — и у поверхности ее, и посредине, и в глубине песок и глина. И больше ничего. Ни корней отмерших деревьев, ни черепка какого-нибудь, ни каменного топорика, ни осколка, ни мины, ни косточки. Словно никогда по этой земле не ступал ни зверь, ни человек, не падал тут никто, ничего не ронял. А Летечке казалось, что земля так густо заполнена жизнью, заселена людьми и она так же густо должна быть начинена и памятью далекой и близкой жизни. Стоит только копнуть ее, и земля оживет, заговорит. Но тут лишь глина и песок. Хотя все равно и по этим глинам и пескам тысячи и тысячи, миллионы людей прошли до него и не оставили после себя и следа. Как же они шли, по воздуху, что ли, летали? Как же они жили, что ели, не святым же духом питались? Почему нет в этой разрытой земле и намека на человеческую жизнь и на смерть человеческую нет намека в земле! Неужели все происходит только на земле? Но куда все потом девается?
Неудачное, что ли, пустое место попалось? Не может быть, чтобы всюду так. Открывают ведь люди и стоянки древнего человека, и клады, открывают целые города, а ему не везет, ему не дано даже посмотреть на разбитый древний глиняный горшок.
Он подошел к экскаватору и принялся следить за его работой. И был поражен мощью и безжалостной силой ковша, как он без раздумий вгрызается в землю, рвет ее, слежалую и немую. Какая же после этого может быть тайна, что может уцелеть после этого чудища? То ли дело лопаткой, осторожно. Но трудно смириться, что все вокруг только глина и песок. Глина и песок от людей, зверей и от промчавшейся над этой землей войны. Ничего не переменила, ничего не посеяла и не взрастила своего.
А где же золото, где нефть, где подземные реки и озера? Неужели так бесплодна его земля? Неужели ему ничего не удастся открыть на ней? Ведь он хочет открывать, находить, хотя никому в этом и не признается. Поэтому сейчас так пристально и следит за ковшом экскаватора. Но только глина, только песок... И никаких голосов. Как ни вслушивайся, а не слышно, чтобы звала тебя земля. Гудит лишь экскаватор, дремлет на горке просохшей глины старая ворона, пробудившимся оводом звенит, тает уже утро. Пригретый солнцем песок обсыхает и осыпается, из желтого превращается в белый. Сухо скатываются с отвала песчинки, шуршат, потрескивают, будто возок катится с горки, много-много маленьких белых возков, только что от кузницы — ив путь. Если положить голову на землю, кажется, вроде бы песня какая-то катится над землей. Монотонная, глухая. Значит, есть все-таки голос, слышно, отпевает вроде бы кого-то земля. Не пуста земля, есть жизнь, а живет в ней извечная скорбь. О ком она: о тех, кто лежит сейчас в ней, или о тех, кто еще ляжет?
Катится над землею песня. И не только скорбь в ней, но и радость. Радость в том, что ты слышишь ее, что эта песня и в тебе, надо только вслушаться в себя. Положить горячую ладонь на горячий песок. И войдет в тебя песня, грустная или веселая. Ведь это же не земля поет, а ты сам поешь. Земля только подслушивает тебя, множит тебя.
— Летечка, а тебя весь детдом ищет. — Перед Колькой стояла баба Зося.
— Что я, иголка? — сказал Колька угрюмо. — Сам найдусь...
— Нельзя тебе из детдома выходить, дитятко...
— Мне теперь уже все можно. Врать-то зачем, баба Зося?
Экскаватор мешал им говорить, и они отошли от него.
— Что можно, что будет, знает один только бог, — сказала баба Зося, и глаза ее повлажнели и покраснели.
— А есть бог? Ты веришь в бога?
— Тебе я могу сказать, что есть, верю...
— Вот видишь, вот видишь, мне все теперь можно...
— Нету бога,.Летечка, не верю я.
— А Лобанович был?
— Это какой Лобанович? Ты, наверное, путаешь, у нас до войны в сельпо работал...
— Так ты, оказывается, совсем не та Зося, не пани Ядвися?
— Та, Летечка, та, какая уж есть. Только Лобановича я не знаю. Ну вот, ты на меня и рассердился, а волноваться тебе нельзя. Может, я еще вспомню.
— Я не сержусь, — соврал Летечка. Соврал потому, что так сердился он впервые за десять лет жизни в детдоме. Не только в траншее пусто, но и баба Зося — не Зося. Пусть бы он уж лучше молчал, и оставалась пани Зося пани Зосей. А так что? Обыкновенная старуха с красными, заплаканными глазами, усохшая, вместо ног стеблинки, изработанные сухие руки и лицо, уже утратившее возраст и пол. Сколько таких старух в точно таких же мальчишечьих ботинках ходит с протянутой рукой по городу, сколько их доживает свой век по деревням в выгороженных ситчиком закутках у дымных печей. И вот одна из них прибилась к детдому, к сиротству, к изолятору. Тоже недоделок или недожиток. Летечка почти ненавидел бабу Зосю, потому что она вовсе не та баба Зося, потому что она помешала ему, испортила все на свете. Не существует более для него того света, того мира, который он создал для себя. — Я знаю, кто ты, — сказал Летечка. — Знаю, баба Зося.
— Что ж тут знать, Летечка...
— Ты женка Захарьи. Вот кто ты, баба Зося.
Баба Зося улыбнулась и помолодела, похорошела.
— Господь с тобой, господь с тобой, дитятко, о чем ты говоришь. Не могу я быть ему женкой.
— А откуда тогда ты знаешь, что за вина у тебя перед ним?
— Не надо об этом, Летечка, не надо. Пожалей хоть ты меня. Невиноватая я перед ним. Нет моей вины перед людьми, как на духу, как богу, тебе говорю... А он тебе обо мне ничего не говорил?
— А что он мог о тебе говорить?
— Ничего, дитятко, ничего... И не будем больше об этом. Давай о чем-нибудь другом поговорим, не обо мне и не о нем...
— Кто же ты, Зося? — спросил он, как мог бы спросить Лену или Стася.
— А старая я баба ужо, Летечка.
— Не всю же ты жизнь была старой.
— Не, не всю, Летечка, была и такой, как ты. Двадцать душ жило в нашем доме. — Голос у бабы Зоей помолодел, зазвенел и тут же обломился. — Двадцать душ, и самой не верится... А неужели ты меня не помнишь, Летечка?
— Откуда же я тебя помнить должен, баба Зося, ты такая старая, а я...
— Ох, Летечка, Летечка, да я ж за тобой в госпитале ходила. Не помнишь?
— Не, баба Зося.
— А я вот все помню. Я тебя знаю еще с госпиталя, кто ж там за тобой ходил, сповивал, доглядал. Привезли тебя щепочка щепочкой, и пригорнулась я сердцем к тебе. А ты меня все ругал, все ругал. А я терпела. Встал ты на ноги, тут же летом расформировали и наш госпиталь. Куда мне подаваться? Родни у меня нету, выбила, покосила всех война. Я за тобой в детдом и пошла. Думаю, подбирают малых, возьмут и старую. Так оно и вышло, Летечка, как нагадала я себе.
— А я думал... — сказал Летечка и замолчал. Не хотелось ему говорить, что он думал. Он все еще не принимал эту вдруг объявившуюся перед ним бабу Зосю. Та, придуманная, была дороже. За той была тайна, а за этой ничего. И еще день назад Колька ей все это и высказал бы, тем более что ему и вчера уже все было можно. Но сегодня, сейчас не мог. И не потому, что баба Зося когда-то сповивала и доглядала его. В детдоме их вон сто с лишним человек, и за каждым ходят, каждого доглядают. Обязаны, должны. Но баба Зося ждала от него каких-то других, непривычных слов. А их у Летечки не было, и он ничего не стал говорить. Пусть уж баба Зося не знает, что о ней напридумывали детдомовцы. Пусть она лишь для него будет бабой Зосей, а для всех останется пани Ядвисей. Так будет лучше и ей, и им. Он никому ничего не скажет.
— И я думала... — сказала баба Зося, так ничего и не дождавшись от Летечки.
— О чем, баба Зося? О ком? — Летечка все еще надеялся, одним своим словом баба Зося могла все еще перевернуть, переиначить.
— Обрадовать я тебя хотела, — вздохнула баба Зося. — Да вот и в голову не возьму, что бы тебе рассказать веселое. Выпускники наши детдомовские приехали. Студенты...
Приезду студентов Летечка не очень обрадовался. Но его тронуло желание бабы Зоей доставить ему радость. И Летечка лихорадочно прикидывал, чем же отплатить ей, чем же порадовать ее.
— А помнишь, баба Зося, курган, — неожиданно для себя начал он.
— Там немцы евреев стреляли, у этого кургана и схоронили их...
— Нет, нет, — сказал Летечка. Рушилась еще одна тайна, разбивался обжитой и добрый мир, который он и другие детдомовцы создали и приспособили для себя. Допустить такого Летечка не мог, и он бросился на защиту этого мира, отстаивая его, принялся убежденно, откровенно врать: — Ничего ты не знаешь, баба Зося. Курган тот древний, и я раскапывал его. Когда ты спала, мы с Козелом и Стасем взяли пожарные лопаты и пошли к кургану...
Это была совсем уже беспардонная ложь. Колька сам себя поймал на этой лжи. Пожарный инструмент всегда был под замком, и лопата там была всего лишь одна. Но остановиться Летечка уже не мог, продолжал нагромождать одну нелепицу на другую.
— На дровосеке разыскали топор и сбили замок, взяли лопаты и пошли.
Баба Зося помалкивала.
— Ты что, не веришь мне, баба Зося?
— Верю, рассказывай, Летечка, рассказывай.
— За ночь мы срыли курган. На нем песок только сверху, а под ним изба, и бревна, и печка внутри.
— И печка? — всплеснула руками баба Зося.
Летечка лихорадочно раздумывал, как остановиться, выбраться из этой лжи, и не мог ничего придумать, как только продолжать врать.
— И печка, и кровати, и сундуки. Мы бы столько могли вынести добра, но тут нагрянула милиция... Ты мне не веришь?
— Ты добрый, я знаю, напускаешь только на себя, как ежик... Да это тоже надо, без серьезности ведь что за человек, — и баба Зося сухой легкой рукой пригладила вихры на его голове, легко и осторожно, будто и впрямь гладила ежика. И, как ежик, почувствовав безопасность и доверие, Летечка отмяк от этих ее слов и неожиданной ласки, остреньким носиком нюхнул несуетную добрую ладонь бабы Зоей и совсем простил ей, что она не та, не коласовская баба Зося, никогда не жила, не знала панских покоев, живет рядом с ним в детдоме, где когда-то жила панская челядь. И ради такой бабы Зоей он был готов на все. Он за нее сейчас в огонь и в воду. Он любил сейчас всех сжигающей, испепеляющей его хрупкое тело любовью. И ему хотелось крикнуть во весь голос, чтобы все услышали, чтобы все увидели, сколько в нем любви, какой прекрасный день стоит над землей.
Летечка и баба Зося уже были у детдомовских ворот, в тени двух огромных, ободранных осями телег осокорей. Рядом с этими осокорями и деревянными воротами, на которых тихо полоскался красный флажок, были другие ворота, два каменных столба со свернутыми набок крючьями, на которых когда-то крепилась калитка. Эта калитка когда-то открывалась в парк, и от нее сейчас туда, к замку, увенчанному резной башенкой с белыми шпилями, бежала асфальтовая дорожка. На каменных столбах сохранилась еще трудночитаемая, иссеченная временем и, наверное, мужицкими топорами, прикладами и пулями фамилия пана. И от осокорей, замка, каменных столбов веяло стариной, покоем и умиротворенностью, чистотой и свежестью. Так же чисто и свежо было и на душе у Кольки. Он уже забыл про площадь, про Ничипора с Захарьей, забыл о «воронке» и майоре и о гадах полицейских.
Он входил в свой родной дом. Там его ожидал завтрак, Лена, выпускники и Козел с Дзыбатым. Он любил свой дом. Утром, правда, сбежал из него, немного пошкодил, но сейчас подходил к нему очищенным, стайным трепетом в груди, как все мы подходим к родительскому дому, воротясь из дальних далей. И его дом, как и положено, был отгорожен от мира, его суетности и тревог высокой каменной оградой, заботами бабы Зоси, заботами многих людей, которых он и не знал. Но эти люди тоже были дороги ему. Были дороги и пес Остолоп, и детдомовская лошадь. И Летечка сейчас удивлялся, как это он жил раньше и не видел ничего этого, не носил в себе всего этого. Ведь все это настоящее, не временное, родное навек, никогда не забываемое. И директорша, обиженная вчера детдомовцами, преданная им, облитая затирухой, увешанная лапшой, — родной, близкий ему человек. Она бессменно вот уже десять лет печется, чтобы в этом доме были достаток и благополучие, чтобы всем им — Колькам, Стасям, Ленам и Бурачкам — всего доставалось поровну, было хорошо в этом доме, были еда и дрова, одежда и учебники. Это ведь и ее дом. Когда Колька в первый раз переступил его порог, она была еще молодой, все зубы на месте, и волосы свои, кудри белые, потом они стали седеть, она стала их красить и завивать. Отправляясь по делам в областной центр, она брала с собой и его. Водила там по поликлиникам, профессорам, поила квасом, покупала конфеты. А сладко есть конфеты на виду у всех, как едят их все другие дети, которые с родителями, при достатке. И он ел их, всякие — и подушечки, и в золотой обертке, — в чужом большом городе и здесь, в изоляторе. Нет на свете лучше его дома, и он не хочет другого. Он хочет быть здесь всегда. Ведь неправда, что его тянуло быстрее покинуть этот дом, как можно быстрее вырасти и уйти из него. Никуда он не хочет уходить.
И Колька устремился к родному крылечку, которое облепили сейчас детдомовцы, где на почетных местах сидели выпускники, студенты. Но баба Зося не дала ему задержаться, погнала завтракать. Наспех проглотив чуть теплую еду, он снова был на улице, хотя баба Зося укладывала его отдохнуть, полежать после завтрака. Он не мог оставаться в четырех стенах. Стены пугали его. Ему нужен был простор, нужны были люди. Он хотел жить, как все. Никогда не быть больше недоделкой.
Приехавшие на лето в детдом бывшие его воспитанники не были никакими студентами. Баба Зося по доброте или по недомыслию подольстила им. Самые что ни на есть ремесленники-фезеушники, только в парадной отглаженной форме: черные с блеском сатиновые рубахи навыпуск, поверх которых ремни с блестящими пряжками и двумя буквами на них — РУ, суконные брюки с широченными штанинами, шире матросского клеша, и складками — обрезаться можно. На голове, несмотря на жару, черные фуражки с зелеными кантами и маленькими, по моде обрезанными козырьками. Такие же, как и детдомовцы, ребята. Тем не менее держались они с гонором, и к ним относились тоже с почтением: такие же, но уже и не такие были это ребята, уже хлебнувшие самостоятельности, поднахватавшиеся иных, не детдомовских, не слободских словечек и выражений, отрезанные ломти.
Ремесленников было двое, и обоих Летечка хорошо знал. Федя Халява иногда попадал в изолятор, Колька и дал ему это прозвище — Халява. Вообще его фамилия была Генералов, Федя Генералов. Как-то, возвратясь из одной своей поездки в область, Колька привез кусочек халвы. Федя проглотил лакомство, спросил, как это называется, и попросил еще «халявы». И с того времени сам стал Халявой. В детдоме он был не последним парнем, председатель детсовета. И, может быть, из-за этой своей должности, опортфеленности представлялся Кольке и более сильным, более рослым. Но за год то ли Летечка сам подрос, то ли Халява изменился. Ремесленная форма исчернила и состарила его. Раньше из-за щек носа не видно было, а теперь впали щеки в налете опилок и машинной смазки, ужался, сморщился и носик-кнопка, словно на эту кнопку там, в ремесленном, нажали и выключили Федю Халяву.
А Сене Грибу ремесленная форма к лицу. Сатиновая черная рубашка сидит как влитая на нем, под этой рубашкой угадывалось крепкое тело, мощные литые плечи и руки. И лицо у него было мощное, набравшее за год на фезеушных харчах мяса, хватившее уже и летнего солнца. Солнце выгнало на его губу черненькие усики, которыми, видимо, Сеня гордился, беспрестанно трогал и поглаживал их. Но с носом и у Гриба за этот год что-то случилось непонятное. Он приобрел вдруг горбинку и смотрел чуть в сторону.
Гриб повествовал детдомовцам какую-то городскую, начатую еще без Кольки историю.
— Загнал он меня в угол и, как гирей, охаживает у канатов. Все, думаю, кранты. И уже круги в глазах розовые. А, думаю, пропадать, так с музыкой, и апперкотом ему снизу под дых. Он и лапки кверху. Нокаут чистейшей воды. Тридцать минут откачивали. — Гриб выразительно посмотрел на Лену и поиграл мускулами под рубашкой. Колька съежился, будто Гриб отправил в нокаут не того, незнакомого ему парня, а его самого. Тошнота подкатила к горлу, сердце вырвалось из груди и, охваченное воздухом и жарким солнцем, затрепыхалось, обмякло, обливаясь липким потом. А Сеня добивал его апперкотом — достал из широченной штанины пачку «Бокса», ловко выщелкнул из нее папиросу-гвоздик, прикурил, пустил на Лену одно за другим три колечка дыма и подмигнул ей. Ткнул пальцем со сбитым черным ногтем в коричневенькие буковки на пачке. — Боевой орган комсомольской сатиры.
И снова пустил три колечка дыма, утопил пачку в штанине. «Чего он выдрючивается? — подумал Колька. — Он же знает про меня и Лену. Я же рассказывал ему обо всем еще три года назад». И Летечке стало стыдно, что он, когда Гриб был еще в детдоме, доверился ему. Нашел кому доверяться, боксеру. И стыд его был липкий, мучительный. Он проклинал себя за откровенность, за этот некий даже страх, вдруг нахлынувший на него, хотел сказать что-то резкое Грибу и не мог открыть рта. Почувствовал себя беспомощным и хилым по сравнению с Грибом. У него не было никогда и не будет таких шикарных штанов, и он не может курить, не может выпускать такие красивые кольца дыма. Он никогда не сможет стать боксером. И Лена, конечно же, совершенно права, что смотрит сейчас только на Сеню, как он курит, пускает дым из носа и изо рта. А его место в изоляторе. Надо встать и уйти, отступиться от Лены незаметно, с достоинством, пока не наделал глупостей, пока не раскрылся еще, завязан, зашит рот. Но Летечка уже опоздал отступить с достоинством. Рот расшился сам, раньше, чем он осознал это.
— Чего это ты ревешь? — краснея, чувствуя, что несет несусветную чушь, и упрямясь; полнясь злобой от невозможности загнать эти слова обратно, сказал он Грибу, ткнув пальцем в нахально выпирающие с пряжки ремня РУ. Раньше, чем нашелся что-то ответить Гриб, вспыхнула, поняла Летечкин выпад и Лена. Только Халява сидел дурачком, улыбался и топил в щечках красненькую пуговку носа. Лена уже горела, ерзала на ровной дощечке крыльца, будто ей сыпанули под подол горячих угольков, ненавидящим взглядом обжигала Кольку. И под этим ее взглядом Колька понял: сделанного не поправишь. И махнул на все рукой, перестал жалеть себя, а муки Лены ему доставляли уже радость. «Ага, змея подколодная, — думал он. — Так тебе и надо, еще больней надо, чтобы ты поняла, что такое любовь, и не крутила перед каждым боксером задом». — А что это у тебя, боксер, нос не в ту степь смотрит?
Гриб снисходительно улыбнулся и как маленькому объяснил:
— Боксерский нос, Летечка. У всех настоящих боксеров носы поломаны. У борцов уши, а у боксеров носы.
Лена заиграла глазами, двумя пальчиками на городской манер оттянула платье на груди — жарко ей вдруг стало. Летечка почувствовал, что раздавлен окончательно, и не столько Грибом, сколько этими двумя интеллигентно оттопыренными ее пальчиками. Он посмотрел на ребят: поняли они это, догадываются, что его уже больше не существует? Ребята смеялись, все поняли, все догадывались.
— А вчера утром, а вчера утром, — сказал Летечка дрожащим голосом и крутнул головой, — Иван Бурачок не пустил Лозу в уборную...
И, как вчера утром, когда все это происходило, грохнул смех. Первыми засмеялись Лена с Грибом, их поддержали ребята. И такой вдруг всех одолел хохот, что выбежала на крыльцо баба Зося, замахала руками.
— Марш, марш от изолятора, нашли место ржать!
Ребята снялись с крыльца и пошли от изолятора, все так же хохоча, в лицах изображая вчерашнее. Глядя на них, усмехнулась и баба Зося. И только Колька буркнул вслед:
— Смех, переходящий в дизентерию. — Сидел на крыльце посиневший, надутый, ему казалось, что все, и даже баба Зося, смеются над ним. Все знают, что он любил Лену, а она ему сделала козу. Так Летечка невольно даже сочинил стих. И он с горечью повторял про себя: «Я любил Лозу, она мне сделала козу...» Стих не утешил Летечку. Лене надо было отомстить по-настоящему, чтобы запомнилось на всю жизнь и чтоб в другой раз неповадно было изменять. А лучшего совета касательно мести, кроме Козела, никто Летечке дать не мог. И он отправился искать Козела.
Козел со Стасем Дзыбатым играли в футбол, вернее, «болели», наблюдали, как играют другие. Но в этом «играли» и «болели» не было никакой разницы. «Болели» они даже более азартно, чем детдомовцы играли. Стась так размахивал руками над головой, так разбрасывал костыли, что было страшно за него. И казалось, не голова болтается у него на хлипкой синюшной шее, а летает, подпрыгивает красно-черный мяч.
— Давай, давай, мазила! — тоненько повизгивал Козел, дергался и пинал Стася. — Кто же так бьет! На мыло! В пустые ворота...
— На мыло, всех на мыло! — вторил ему Стась и тут же: — Молодцы, молодцы спартаковцы... Корнер, корнер... Офсайт...
Футболисты не обращали внимания на выкрики Стася и Козела, а корнеры и офсайты в детдоме были отменены уже давно. Маловат был стадион — двор, чтобы играть по правилам. С одной стороны на него наступали огороды, с другой поджимали конюшня, административный и жилой корпуса. Так что не до офсайтов было и корнеров. И Стась с Козелом вскоре успокоились, хорошо понимая, что им не обучить детдомовцев правилам игры. Умаянно отошли, стали под тень лип, так как уже припекало солнце, близился полдень, а они были при полном параде. Оба в выглаженных, без единой складки, без единого пятнышка коверкотовых серых костюмах, в сверкающих и в тени, нагуталиненных ботинках, в кепочках-шестиклинках, только один маленький, скрюченный, а второй распрямленный, вытянутый. Один смотрел на футболистов сверху, видел их головы и лица, а второй больше приглядывался к их ногам. Но оба одинаково прицокивали языками, одинаково крутили головами, одинаково, хотя и с разной амплитудой, покачивали плечами.
А страсти на футбольном поле разгорались нешуточные. Уже вратарь проигрывающей команды напяливал на распаренные руки кожаные перчатки, экипировался не для игры, а для драки, потому что в детдомовском футболе не было не только корнеров и офсайтов, но и побежденных. Ни один из детдомовских футболистов не знал горечи поражений, впрочем, как и каждый слободской футболист. Слободская футбольная команда на своем поле всегда выигрывала, и к этому уже были почти приучены все другие окрестные команды, которые приезжали в Слободу. Если же случалось иногда, что другие забывались и слободчанам светило поражение, трое слободских нападающих, три русских богатыря, как их окрестили детдомовцы, Изя, Леля и Моля, парни и в самом деле под стать богатырям, кудрявые, рослые, мощные, засучивали рукава. Уезжали гости не только с проигрышем, но и с синяками, под свист и улюлюканье довольных слободчан, за полуторкой же гостей тащился, подпрыгивал на ухабах привязанный веревочкой веник-голик.
По такой схеме строили свою игру и детдомовцы. У них в команде были три своих русских богатыря. Богатыри непостоянные, выраставшие, как правило, уже в ходе матча из игроков проигрывающей команды. И вот сейчас вратарь недвусмысленно натянул перчатки, а два других футболиста сбросили драные майки...
Дальше футбол Колька не стал смотреть. Неинтересно было. Он знал, чем все кончится. Стась будет раскачиваться, как каланча, потом его отправят на мыло, привяжут к хлястику пиджака веник-голик, и Дзыбатый поковыляет в изолятор, вычистит пропыленные брюки, наведет глянец на ботинки, обессиленно завалится на кровать, будет надоедать вопросами, возьмет или не возьмет бронзу минский «Спартак», будет демонстрировать финты, обводы и ножницы, удары в девятку, пока не вымотается окончательно или не рассердится на тупоголовых Летечку и Козела.
И Летечка увел Козела с футбола в изолятор. И там, в изоляторной прохладе, в соответствующей моменту больничной грусти начал разговор о любви. Подошел он к этому вопросу издалека, с тургеневских героев, с любви Ленина и Крупской, и только после этого заговорил об измене, о том, что волновало его.
— Что бы ты сделал, Васька, если бы вчера целовался с девушкой, а сегодня она пошла с другим? — спросил он Козела.
— Лена Лоза? — прижмурился Козел и подсел к Летечке на кровать, не усидел, забрался на кровать с ногами, на восточный манер поджав их под себя. Ни дать ни взять божок, маленький, горбатенький божок, и улыбка хитренькая, и лицо словно маслом помазали.
— При чем тут Лоза? — сказал Летечка, поразившись и испугавшись, что Козелу все известно, не иначе в горбу у горбатых еще одна голова, все этому Козелу всегда известно, все он вынюхает, узнает. Кого это он обмануть задумал, горбатого, да его сам черт не обманет. Но открываться до конца не стал и хотел замять уже весь этот разговор. — Лена тут ни при чем, — и притворно зевнул. — Было бы кого целовать, Лозу... Я так, в смысле теории.
Козел помалкивал, давал Летечке выговориться, улыбнулся, как божок, и, как божок, раскачивался, кивал головой, а по глазам видно было — ни одному слову не верит. И Летечка осекся под его взглядом и замолчал, с тоской и обреченностью ожидая, какой еще каверзный вопросик подбросит ему Козел. И Козел подбросил:
— А поцелуи — это теория или уже практика? Ты что, в самом деле целовался с Леной?
— Иди ты, знаешь, куда со своими Ленами и своими поцелуями, — сказал Колька и ударил Козела запрещенным приемом: — Влюбился в Лозу, влюбился, так прямо и скажи, а то пристал: поцелуи, Лоза. Больно мне надо целоваться со всякими.
— А с кем она ушла, с Халявой или с Грибом?.. — и, не дождавшись ответа, доверительно, будто сам с собой, принялся рассуждать: — Если с Халявой, то это ничего, Халява — он и есть Халява. Тут можно не бояться. Гриб... Гриб — другое дело. Гриб — боксер второго юношеского разряда.
— Второго юношеского? — не выдержал Летечка инквизиторской рассудительности Козела.
— Второй, Летечка, второй юношеский, третий взрослый, как и у меня по шашкам. Но бокс — это не шашки-пешки, не хухры-мухры... Так ты правда целовался с Лозой?
— Отстань, — буркнул Летечка. — А то не посмотрю, что кровати рядом стоят, как зафитилю сейчас...
На Козела эта Летечкина угроза совсем не подействовала. Правда, он изменил свою позу божка, но не от испуга, а чтобы ближе быть к Летечке. Козел подполз к Кольке, лег рядом с ним, прижался, задышал в ухо.
— Ты скажи мне, Летечка, скажи, я никому, я могила, крест на пузе. Она тебя тоже целовала или только ты ее?
— Никто меня не целовал, Васька, — сказал Летечка. — И я никого не целовал. Так, время подходит... Пора о любви думать...
— Чего ты мне голову морочишь! Целовался или не целовался с Лозой?
— А если и целовался, что из того? Целовался, не целовался...
— А ничего... Дурак... — Козел подхватил и щелкнул себя кулачком по колену. — Дураки мы с тобой, Летечка. Тебя-то с чего на красивую потянуло? Всем красивых подавай. А кто некрасивых любить будет? Кто Маню Бурачок полюбит, спрашиваю тебя?
— Люби ее сам, — сказал Летечка. — Трепетно и нежно.
— И буду любить, буду. Трепетно и нежно... Сымона горбатого знал?
Летечка знал одного горбатого — Козела. С него было достаточно. И он промолчал. Козел продолжал:
— Так вот, тот Сымон тоже, как я, горбатый. Горбатый не всегда, а с войны. А женка у него красивая была, с соседом спуталась. И знаешь, что Сымон горбатый сделал? Подглядел, гроза когда началась, женка его по дождику шусь к соседу в дом. А Сымон в хлев, раскидал сено, выкатил пушку-сорокапятку. Гром грохнул, а он прямой наводкой в дом соседа...
— Убил? — спросил Колька.
— В том-то и дело, что не... — Козел вздохнул. — Стену разворотил. Дали Сымону три года.
— Так мало, всего три года?
— А за эти дела больше не дают... Сымон в тюрьму, а на пороге говорит: «Ничего, отсижу три года, а в болоте у меня танк спрятан». Скоро уж должен освободиться Сымон.
Они помолчали, размышляя, что же будет, когда вернется этот Сымон. Потом Колька сказал:
— А у нас с тобой, Васька, ни пушки, ни танка.
— А пушки не надо. И танка не надо. Топориком, Колька, топориком можно...
И, бормоча про себя «топориком», «топориком», Козел вновь подхватился и забегал по комнате: пять шагов назад, пять шагов вперед, от двери к столу, от стола к двери. А на столе тихонько позвякивал стакан с уже увядшими позавчерашними незабудками. Листочки на них были еще свежими, зелеными, а синие резные лепестки цветов словно припорошили пылью.
Даже от негромких шагов Козела лепестки осыпались, падали на стол. И Летечка, прислушиваясь к звону стакана, наблюдал, как с незабудок облетают лепестки, раскаивался и корил себя, что затеял этот разговор с Козелом. Расколол его Козел, как грецкий орех, и посмеялся над ним от души. И сейчас понесет по всему детдому, как он, Летечка, целовал Лозу и как она ему сделала козу. Пес Остолоп и тот узнает все про Летечку. Всем нашепчет Козел. И Летечка смирился, приготовился к насмешкам. Но Козел, видимо, впервые в жизни изменил своим привычкам, ничего и никому не нашептал. А после обеда в «мертвый час» незаметно исчез из изолятора.
Вообще-то сегодня они все трое — Козел, Стась и Летечка — должны были в «мертвый час» смыться из изолятора. Сегодня по распорядку был день медицинского осмотра, к ним придет врачиха посмотреть, послушать, назначить кому пилюли, кому микстуры, а кому и уколы.
Каждый такой медицинский осмотр был для Летечки тяжелым испытанием. Тревожны часы ожидания врачихи. А когда она, вымотав ожиданием, появлялась, с ним творилось и вовсе что-то непонятное. Его бросало в дрожь от одного лишь вида белого медицинского халата, а прикосновение к голому телу холодного сверкающего стетоскопа ввергало в некое оцепенение. И потом надо было пройти времени, дню или даже двум, чтобы он снова пришел в себя. После медицинских осмотров он иной раз не ходил и в школу. Спал. Спал сутками, безразличный к еде, книгам, к людям. Вот почему больше всего любил Летечка лето. С его приходом они все трое избегали медицинских осмотров, сговорившись, уходили из изолятора на целый день. А сегодня разбрелись по одному, Стась не появлялся с обеда. Козел показался и исчез. Летечка остался один. И это одиночество мучило его. Выходило, что в один день его предала не только Лена, но и верные друзья.
Летечка потомился в комнате в ожидании врачихи и тоже сбежал.
Не было Стася с Козелом и в комнате у ребят в здоровой половине корпуса. А вот ребята все в сборе, все восемнадцать. Сидели на кроватях, на стульях, на подоконнике, держали совет. Вера Константиновна «забыла» в спальне у них две буханки хлеба. Положила на стол на газетку, ножик только не догадалась принести вместе с хлебом, конфеток или маслица припасти к хлебу.
Ребята после обеда были сытые, потому и совет был долгим. С одной стороны, надо проучить ее, а с другой... Хлеб был забыт на столе откровенно, как и серебро. Это продолжение войны, открытый вызов: попробуйте, посмейте и узнаете, что будет. Ребята приняли вызов, но ни у кого не было аппетита на хлеб всухомятку, а может, и решимости не хватало, не находилось того, первого, кто бы подал пример.
— Бурачка надо, разыщите Бурачка-старшего, — посоветовал Летечка. — Ему умять буханку, что плюнуть...
Ребята сбегали за Бурачком, привели его, принесли ему графин воды, посадили Бурачка-старшего за стол, повязали даже салфетку с тумбочки на грудь. И Бурачок-старший без лишних слов, выпучив только от жадности или от тяжкой работы глаза, в десять минут молотнул буханку и почти полностью выдул трехлитровый графин воды. Но на вторую буханку духу не хватило, от пресыщения у него даже посоловели глаза. И решено было эту вторую буханку поделить по кусочку на всех. И все съели по кусочку, кроме Летечки. За него и тут потрудился, пересилив себя, Бурачок. Смели со стола крошки, договорились: раз все ели, все будут и молчать. Никто хлеба не видел, никто о нем ничего не знает, что бы ни случилось.
Ужинал Летечка один, когда в столовой оставались только повара да дежурные. Здесь встретился ему Захарья. Был он слегка, а может, и крепко на взводе. Не обнесли его все же мужики на площади «слезками». И «слезки» эти он не за воротник себе вылил. Глядя на молча крадущегося к раздаточному столу Захарью, Колька понял, чего ему не хватало целый день и почему он томился сегодня, — должен был быть вместе с Захарьей на суде, в зале. А он испугался, убежал. Убегал и здесь, в детдоме, от ребят, как только те заводили разговор про суд во Дворце культуры. Боялся остаться один, все мерещились ему какая-то чертовщина, люди в черном, выстрелы, пожары, брех собак. Все время казалось, что кто-то гонится за ним и вот-вот догонит, ухватит и не отпустит.
Захарья постучал клюкой в раздаточное окно.
— Зина, ведро супу...
Повариха Зина высунула голову в окно и недовольно заворчала. Она любила кормить только детдомовцев. А конюхам, уборщице и даже дежурному воспитателю еду всегда подавала с ворчанием.
— Не бурчи, не бурчи, — сказал Захарья. — Мне, что свиньям, остатки.
Дежурные уже несли эти остатки, заранее предвкушая потеху. Ребячье тщеславие тешило и то, что самый обжористый человек на земле работает в их детдоме. Захарья отличался отменным аппетитом. Живота и мяса у него не было, кожа да кости, а спокойно мог умять пару двухкилограммовых буханок хлеба всухомятку или под ведро супа, сверху еще принять полуведерную кастрюлю каши и запить все это чайником компота. Тягаться с ним в детдоме мог только Андрей Бурак, у него тоже, как и у Захарьи, кожа да кости. Но поглощал он все, что ни подавали, не с голодухи, не из потребности есть, а скорее всего из жадности, давясь, соря и разбрасывая. И не держалась в нем эта лишняя еда. Захарья же ел красиво, вставал из-за стола как ни в чем не бывало. Любопытствующим свой неуемный аппетит объяснял тем, что в молодости съел гадюку. А случилось это, когда Захарья был в батраках у пана. Пан был злющ и тощ, кащей кащеем и обличьем и повадками. Батраки решили извести пана. Поймали, сварили и подали гада лесного. Проглотил пан того гада, и холера его не взяла, жив, толстеть только начал, появилось пузо, а вместе с пузом пришла и доброта. Захарье тоже захотелось иметь пузо, как у пана. И он тоже поймал для себя гада, сварил и слопал его. Но пуза так и не нажил, прожорливость только объявилась. Вечно не хватало ему еды — и тогда, при пане, и потом, без пана, в войну и в мирное время. И сейчас, когда пришло уже время помирать, живот все ненасытен, еды просит, прорва, а не живот, подавай ему и подавай, живет там гадюка, в животе, сосет и сосет.
— Сбег ты, значит, кинул меня одного, — Захарья подсел к Летечке и достал из-за голенища деревянную ложку, подул на нее, старательно обтер рукавом бушлата. — Сбег оттеда, Летечка-лихолетечка.
— Ты же сам меня кинул, — сказал Летечка. — Самогон с Ничипором пошел пить.
— Пил и самогон, Летечка, в жизни так не пекло мне душу... Прогул я сегодня совершил, Летечка... Душа болит. Первый раз в будний день — и без работы.
— Ты же на работе, — сказал Летечка. — Какой у сторожа прогул. Пришел, поел и в шалаш на боковую.
— Э, Летечка, в детдоме у меня не работа — служба. Работа в поле, в хате. Я плотник, Летечка, хаты людям рублю. И вот сегодня прогулял. А это правильно, что ты сбег. Не надо это тебе, Летечка, не ходи больше туда. — И Захарья замолчал, забыл про суп и про кашу. Как палочку какую-то ненужную, крутил в коричневых пальцах деревянную, но уже доживающую свой век, иссосанную, излизанную ложку. Края ее истончились, по всему за свой век хлебнула и она полной мерой и горячего и холодного. Ложка, похоже было, превратилась из деревянной уже в костяную. И хозяин ее из живого человека, из плоти изрос в одну громадную кость. Такой и в земле, и в песке, и в глине ляжет на века. И через века его отроют, как отрывают мамонтов, и будут изучать, как изучают мамонтов. А его, Летечкино, тело враз обратится в прах, смешается с землей, и не останется намека, что он был. Пыль, так ценимая слободскими новоселами слободская глина. Ее замочат пополам с песком в корыте, измесят босыми ногами мальчишки и бабы и бросят на стенку срубленного Захарьей дома. Пригладят мастерками, чтобы не выпирали его, Летечкины, вихры. Но будут жить в этой стене его глаза. И будет он видеть все, что происходит в доме, этими глазами, только сказать ничего не сможет. И хорошо, если достанется хороший дом, хорошая семья, чтобы никто друг друга не обижал и не обижали его, ведь он не сможет ни заплакать, ни попросить чего. Пусть это будет детдом, только не изолятор, упаси бог и после смерти попасть в изолятор...
Тут Летечка испугался по-настоящему, будто все, что ему представлялось, о чем он только что думал, уже случилось. На него дохнуло запахом лекарств, пахнуло горячечным дыханием Козела и Стася, их нездоровьем, страхом, нездоровьем и страхом и его самого. И Летечка почувствовал, что ему не хватает воздуха. Нечем, нечем и после смерти ему дышать. Он через силу поднялся со стула, вцепился обеими руками в спинку его и запрокинул голову, чтобы не видеть никого, дышать не этим, издышанным уже, жмущимся книзу воздухом, а тем, льющимся сверху, чистым и свежим, которого не касался даже Захарья. Потому что Захарья, казалось ему, давно уже в земле, в глине. Не было рядом с ним больше Захарьи, не видел он его. Но голос Захарьи достигал его, мешал дышать:
— Ну вот, Летечка, вот, сынок. А что я тебе говорил? Постой, постой, не садись. Сейчас легче будет. Кровь бы тебе надо пустить. Я завтра пиявок принесу...
Слова Захарьи о крови, о пиявках еще больше испугали Летечку. Они напомнили ему о чем-то далеком, что было с ним, да уже забылось. Он вдруг отчетливо увидел перед собой сверкающий никелем и стеклом медицинский шприц, мужские крупные и крепкие, добела, до глянца вымытые руки, пахнущие лекарством и свежим полотенцем. Шприц гонялся за его рукой, целился ему в вену.
— Не дамся, не дамся. У меня уже и так нету крови! — Летечке казалось, что он кричит, но губы его выкатывали только хрип. Он уже приходил в себя, и все восстанавливалось, прояснялось. Не было больше шприца, не было запаха лекарств. На прежнем месте с ложкой в руке сидел Захарья и с любопытством, страхом и болью смотрел на него.
— Это она к тебе приходила, — шепотом сказал Захарья. — Видел ты ее?
— Это была не она... Это был ОН... — И лицо мужчины со шприцем проблеском снова мелькнуло в памяти. Летечка успел приметить только очки, выпуклые их стекла, желтые паутинки дужек. И снова все смазалось.
— Кто это Он? — шепотом спросил Захарья. — Она это была, Летечка. Я ее сегодня тоже видел, как тебя сейчас, когда там, на козырьке, я стоял. Погрозила она мне пальцем: «Жди, не обойду». А после меня к тебе пошла. Не ходи, не ходи ты, Летечка, борони боже, туда, на площадь, в суд. Не дразни ее, там она сейчас обретается.
— О ком ты? — удивился Летечка. Он уже почти ничего не помнил. — А что делает сейчас Зося, Захарья, что делает баба Зося? — вроде бы не к месту и совсем невпопад спросил Летечка. Захарью всего перекорежило, он даже подпрыгнул.
— Слухай, хлопча, молчи...
— Нет, нет, — заторопился Летечка. — Захарья, не ври себе, не ври, вон она, вон она, в окне стоит, на тебя смотрит, смотрит на тебя баба Зося. Сестра твоя... Сестра ведь она тебе? Сестра родная, а ты...
Захарья сгорбился, поник, но к окну так и не поднял глаз.
— Знаю, что стоит она в окне. И даже не в окне. Вот тут она, меж нами стоит... Что она делает, Летечка?
— Плачет, Захарья. Руки к тебе тянет... — ответил Летечка, хотя никакой бабы Зоей ни в окне, ни подле них не было.
— Оттуда ты ее видишь, — помолчав, снова заговорил Захарья. — Не к добру это, а что сделаешь. Ничего уж тут не попишешь... Помирюсь, помирюсь я с ней, Летечка, чтобы не ходить тебе оттуда ко мне, не трудить ноги. Раз ты мне велишь, значит, так и надо. Сестра она мне, родная... Из-за нее, Летечка, наш род и полег весь, вырублен под корень. Красивая она в девках была. Сватался к ней один, да отказала ему. «Попомнишь меня, — пригрозил. — Родня твоя тебя проклянет». И сдержал слово, прокляли мы ее. Немцы пришли, тот жених — в полицаи. Первым делом детей ее меньших — мальчика и девочку — в бочку засмолил и живьем закопал. Ее пальцем не тронул, а она как бы умом тронулась. А жениху ее, полицаю, все мало. Человеку на все решиться надо, только начать надо, а там уже не остановить. Давай всю нашу родню под корень за Зосю, за гордыню ее... И меня, и моих детей. Вот так, Летечка, вот какое горе по белу свету ходит. И понимаю я, Летечка, понимаю, что ни на вот столько не виновата она ни перед кем, что нет несчастнее ее человека на земле, а все ж... Раздумаешься, все по-другому могло пойти, только б не случай. Не в случае дело, понимаю умом, а сердце... В сердце у меня рана — дети, а раненый человек, как зверь, он не разумом, он болью живет. Подрубленное дерево не выбирает, куда упасть, на другие деревья, на кусточки валится...
— А эти, в бочке, хлопчик и девочка, умерли? — шепотом спросил Летечка, забыв уже о бабе Зосе, не слушая, что говорит Захарья...
— Задохнулись, задохнулись уже в яме, — так же шепотом ответил ему Захарья. — Сначала, как мыши, люди рассказывали, скреблись, а потом затихли... И хватит, Летечка, не для твоего сердца это, не для детского понятия. Обходи ты эти наши болячки, не кранай наших ран. Только вспомнить, послушать это, и жить не хочется. Не ходи ты завтра туда.
Летечка молчал. Он твердо решил пойти завтра т у д а. Он и так уже потерял день. День, прожитый им сегодня, и в самом деле показался ему пустым, какие-то детские обиды, детские разговоры с Козелом.
А день еще тек, продолжался. Еще была линейка. И на линейке битый час обсуждалось ЧП в старшей группе. Доложила о ЧП сама Вера Константиновна, и, кажется, сожалеюще. А директорша говорила зло и резко:
— Сутки вам всем подумать о случившемся. И на следующей вечерней линейке доложить, кто виноват, кто украл хлеб. В нашем детдоме не должно быть воров. Многое можно простить, но когда крадут друг у друга, значит, уже нет коллектива. А нет коллектива — нет семьи, нет детдомовцев, нет детдома...
Летечка слышал и не слышал, о чем говорила она. Насилу дождался конца линейки, вернулся с нее отяжелевший, усталый. Потом долго не приходил сон. Козел опять донимал его намеками о Лене. Стась изводил футболом. А потом ребята за стенкой подняли такой тарарам, что вздрагивала кровать и осыпалась с потолка штукатурка. Зося не единожды бегала на здоровую половину успокаивать ребят. Наконец уже где-то около полуночи, когда Колька совсем изнемог, установилась тишина, сухие и жаркие простыни немного отошли. Умялась подушка, и можно было заснуть. Но сон не шел из-за тревожных мыслей: что же будет завтра? Перед глазами все вставали Захарья с Ничипором, все спешили куда-то, бежали люди, и лаяли почему-то собаки, скулил, выл под окном Остолоп. И опять выпуклые стекла очков и желтые паутинки дужек...
6
На площади за ночь многое переменилось. Но все так же густо стояли подводы, как будто здесь и ночевали, и плотно было от народу. Хотя, приглядевшись, Летечка заметил, что народ этот несколько иной. С возов вяло, но уже шла торговля. На лесах универмага, на втором этаже, вяло, замедленно двигались люди, а вчера их не было там. И беседы кругом текли вялые, и утро стояло вялое, словно все устало от вчерашнего бурного дня.
Но так было недолго, стоило только распахнуться починенным вечером или ночью половинкам дверей Дворца культуры, как сонная одурь утра исчезла. Вновь забушевало людское море. Летечка стоял возле дверей, давал схлынуть его первым волнам. И, как только ему показалось, что толчея стала меньше, влился в людской поток. Но, наверное, поторопился. Не давая ни охнуть, ни вздохнуть, раздирая на части, его повлекли в зал, как влечет за собой паводковая весенняя вода все, что встает на ее пути: кору, палки, щепки. И Летечка чувствовал себя такой щепкой, попавшей в паводковый водоворот, так швыряло его от одного человека к другому. И он лепился к каждому, к кому только не прибивало, но ненадолго. Житейская волна была так же безжалостна и непостоянна, как и речная, и невозможно было причалить ни к одному из берегов, ни один берег, ни один человек не принимали его. Передние уже видели перед собой зал и ждущие их пустые кресла, на передних нажимали задние, в них было еще больше нетерпения, потому что они видели только спины. А Летечка ничего перед собой не видел. Ему приходилось бороться и с теми, кто позади, чтобы не смяли, не растоптали, и с теми, кто впереди, чтобы они не влекли его так быстро, не оторвали рук и ног, и надо было бороться с самим собой, успевать передвигать ноги, выкидывать вперед руки, быть на плаву в этом житейском море. Не с его силами бросаться в него. Еще одно-два таких плавания, и все кончится. Поток выхлестнет его на берег, обдаст пеной и помчится дальше, а он останется на песке.
Но, сознавая все это, Летечка не сожалел, что бросился в поток. Как ни тяжело, а двигаться вместе с людьми, быть среди людей, ощущать себя живым человеком даже в этой обезличенной, устремленной неведомо куда массе было радостно. И эта радость не меркла ни от тычков, получаемых им, ни от острых людских локтей, впившихся в его ребра, ни от пинков под зад и по ногам. Он сам впивался в кого-то не менее острыми локтями, щедро возвращал тычки и пинки — жил. И больше всего боялся, как бы его не лишили этой жизни, не выдворили из зала. Поэтому Летечка и не особо огорчился, когда заметил, что кресла все уже заняты, сесть негде. Он устроился на подоконнике у пыльной портьеры, для страховки укрылся за портьерой, оставив себе маленькую щелку для обзора. Очень даже неплохо устроился: видел всех, а его никто. Никто и не догадывался, что он есть в зале. И не так жарко было на подоконнике, спину обдавало струящейся из щелей прохладой, можно было охладить и распаренное лицо, прижавшись им к стеклу, что он незамедлительно и сделал. Вот только, когда раздалась знакомая вчерашняя команда «Встать! Суд идет!», он не встал. Единственный среди сотен людей остался сидеть. С любопытством и страхом рассматривал людей, которым дано вершить суд. Полицейских ему уже приходилось видеть, а вот живого судью не довелось. Не представлял он, как это один человек может судить другого, лишить его даже жизни, не в темном переулке, не один на один, а принародно. И Летечка жадно впился глазами в его лицо, ища некую отметину, некий особый знак, дозволяющий судье судить других. Но ничего отметного не нашел. Человек более чем обычный. Снять с него форму, и можно запускать в толпу. И не распознаешь, что это такой человек, можно, не стесняясь, наступить ему на ногу, ткнуть локтем в ребро и не задуматься, кого толкнешь. И лицо у судьи неброское. Уже возвратясь из суда вечером в изолятор, Колька пытался представить, вызвать из прожитого дня это лицо и не мог. Прокурор, Захарья, дед Ничипор, даже полицаи вставали перед ним мгновенно, а судья не слушался, так он был одновременно похож на всех виденных Летечкой людей, на тех, кто жил рядом с ним. И Колька в первую же минуту решил, что такому судье можно доверять, он лично доверяет.
Судьи расселись, а Колька принялся рассматривать полицейских. И почувствовал — нечем дышать. Полицейских словно только что вытащили из какой-то ямы, сырого погреба, так несло от них гнилью и плесенью. Мертвецы, живые мертвецы сидели перед ним. Колька понял слова Захарьи, говорившего ему, что смерть сейчас обретается на площади. Здесь она была, здесь, теперь Колька видел это и сам. Может, эти люди, рассаженные сейчас на скамье подсудимых, были когда-то страшны, жестоки, не знали жалости, сеяли по земле смерть, теперь же смерть стояла за спиной каждого из них. На мгновение они были вырваны из ее лап, привезены на суд не из благоустроенных квартир и деревенских хат, а с того света, отрыты из земли. Смерть дала им командировку на этот свет, чтобы они могли взглянуть в глаза тем, кого не смогли добить, кого не успели уничтожить. Летечку даже слегка подташнивало, когда он смотрел на полицейских, на их склоненные головы, когда встречался с их влажными глазами, время от времени перехватывал взгляды, которые они бросали на зал, и на мгновение пробуждались к жизни, взрывались тоской, мольбой и страхом, обжигались о зал глазами, столько было там огня и ненависти к ним. Они укрывались от нее за барьер, за солдат, за спины друг друга. И не могли укрыться. Не было сейчас на земле такой стены, которая могла их прикрыть.
Полицейских было человек десять. Летечка побоялся считать, сколько точно, страшно считать мертвецов, всех их уже породнила, побратала смерть. Печать ее четко проступала на их лицах. Она была в черных сузившихся зрачках уже потусторонних глаз, в костяно-желтом блеске залысин. И они были страшны Летечке не здесь, а т а м. Они будут и т а м, будут лежать с ним в одной земле. А если в этой земле что-то есть, будут бродить там. Не живые или временно оживленные, они были страшны ему сейчас, а мертвые. Он ненароком может там повстречаться с ними, и найдется ли там защита, будет ли суд, будут ли эти отгораживающие сейчас, отсекающие его от них людские глаза, будут ли стоять меж ними и им эти неразговорчивые скуластенькие солдаты, сумеют ли уберечь его от них? Едва ли... На земле человеку с человеком разминуться легче, чем там. Там ведь будет уже не человек, а некий его дух, а дух проникает всюду. Значит, не суждено ему и на том свете избавиться от них. Зачем он только пошел на этот суд, сидел бы себе тихо в изоляторе, ничего об этом не зная, и все было бы хорошо, спокойно. А так отравлены последние дни. Как может земля спокойно принимать всех?!
Еще можно было спрыгнуть с подоконника и уйти, попытаться выветрить из себя, из своей памяти дух мертвечины, запах гнили, убедить себя, что все такое присуще только этому свету. А на том все иначе, все устроено по уму. Не видел ты на этом свете плохих людей, ничего не будешь знать о них и там. Земелька добрая, земелька мягкая, умная. Она не держит и не принимает зла, нет у нее зла на него, он ей ничего плохого не сделал. Ему будет хорошо там, только спрыгнуть с подоконника и пробиться к выходу. Там свежий воздух, там солнце, там чистое небо и ласточки в небе, и ласковый пес Остолоп, и безобидные муравьи.
Но Летечка понимал, что он зря убеждает, уговаривает себя, он уже не сможет добровольно уйти отсюда. Была над ним в ту минуту высшая сила, и звучал в нем ее голос: остаться, высидеть, пройти через все до конца, потрогать своими руками, услышать своими ушами. Для чего, зачем, если ты уже одной ногой там? Летечка не знал этого, не было у него ответа на этот вопрос. Тут опять же над ним было нечто высшее, выше его собственного разумения. И он до последней минуты был подчинен не себе, а этому высшему в нем, которое, как ни странно, спокойно отнеслось к словам Захарьи о смерти, подчинилось смерти, но никак не хотело повиноваться жизни, вступало с ней в спор, диктовало противоположное здравому смыслу, разуму.
— Подсудимый Калягин...
— Так точно... — поднялся невидимый до того Летечке закрытый солдатом охраны полицейский. Скобка жестких прямых волос, от кадыка до подбородка синяя жила-канат, громадные залысины, восково-бледное лицо скопца, широкое, плоское. Но все на этом плоском лице резко: нос, скулы, кость челюсти.
Судья откинулся на высоком судейском кресле, склонил чуть набок голову, успокоил на подлокотниках руки.
— Расскажите суду о себе.
— Слушаюсь. — Калягин согнулся, кивнул спиной, выражая послушность и желание рассказать о себе. Но прежде достал из кармана хлопчатобумажной, порядком заношенной куртки платок, коснулся им вмиг, как от трахомы, воспалившихся глаз, будто предстояло ему рассказать о себе нечто донельзя жалобное и скорбное.
— Рассказывайте, — поторопил судья.
— Слушаюсь! — снова с готовностью кивнул спиной Калягин. — Родился я в 1927 году.
При этих словах Колька вторично едва не свалился с подоконника. Человеку, сейчас отделенному от него барьером, уже в войну исполнилось семнадцать лет, но сегодня ему можно было дать все пятьдесят. Когда война была в Белоруссии, ему было семнадцать — столько, сколько сейчас Летечке. И он вторично оскорбился, что тому человеку тоже было когда-то семнадцать лет... А Калягин продолжал открываться Летечке, рассказывал то, что мог рассказать о себе каждый деревенский дядька. И это было страшно.
— До войны учился в школе, окончил четыре класса. Были брат и сестра, мать работала в колхозе, отец гончар... Пришли немцы...
— Из родственников Советской властью никто не привлекался к суду, никто не был репрессированным? — чуть слышно постучал по подлокотнику кресла судья.
— Никто... До войны лучше было, все было...
— А кто виноват, что ничего не стало?
— Война...
— Вы понимали, что несет вам и людям фашизм?
— Сейчас да, а в то время... Такой я был... Второго августа сорок третьего года немцы в нашем селе забрали всю молодежь, объявили, что повезут в Германию...
— Партизанские отряды в вашем районе были?
— Полицейский гарнизон они в нашей деревне разогнали.
— Вы не пытались бежать, согласились ехать в Германию?
— А куда денешься, куда убежишь, страшно, расстреляют... Привезли в город, объявили, что будем служить для борьбы с партизанами...
— Вас же в Германию везли на работу, почему вдруг для борьбы?
Ответа на этот вопрос не последовало. Да он и не нужен был Летечке. В нем уже появилась раздражение на полицейских, на всех сидящих здесь. Поторопился, видимо, он и с доверием к судье, слишком по-домашнему, слишком благодушно задавал тот вопросы, спокойно слушал ответы, словно в чем-то сочувствовал этому Калягину, уговаривал его не бояться. Зачем? Слова судьи должны были стрелять, раскаленным металлом выплескиваться, обрушиваться на Калягина. Так представлял себе Летечка суд и судью. Что тут судить, и так все ясно. В ста метрах от этого здания детдом, и там более сотни судей, и ни у кого не дрогнет рука. Ни у одного из сотен людей, сидящих здесь, тоже не дрогнет рука. Все они стреляют, стреляют глазами. За себя, за своих детей, за детей Сучка, за седого сироту деда Ничипора. Так нечего тянуть кота за хвост. А судья тянул.
— Продолжайте, продолжайте, что остановились...
— Поместили нас в сарае, — будничным и тусклым голосом потянул свой рассказ Калягин. — Деревянные койки фабричной работы, двухъярусные. На второй-третий день дали форму, тонкую, как рабочую. Начали обучать строевой, обращаться с винтовкой русской, тактике ведения боя в полевых, лесных условиях, специфику противника изучали, смекалке учили и матом ругали.
— Понимали, к чему вас готовят?
— Не могу знать...
— Как не можете знать? Дали винтовку, учили ходить по лесу. Как это — не могу знать?
Нет, вроде ничего, ничего был судья. Впился в подлокотники маленькими покрасневшими руками, голову прижал к спинке кресла, и глаза его маленькие стреляют, стреляют.
— Не могу ответить, — метнулся взглядом за помощью к своим Калягин, нарвался на злобу и ударил ответом не по себе, по ним, по своим: — Чтобы вести бой с партизанами. Занятия еще проводили против Советской власти, политически готовили.
— Вы верили, что Советская Армия разбита?
— Не могу ответить. — И платок к глазам.
— Вам говорили, что земля будет ваша, как только бандитов разобьете?
— Да! Но как я относился к этому, не могу ответить.
— Вы слышали фронт?
— Нет, нас никуда не выпускали. Нас в Борисов...
— Вы знали, что Советская Армия уже наступает?
— Нет... Нам показывали подростка в военной форме: у коммунистов некому воевать.
— О чем же вы думали, глядя на этого подростка?
— Думалось о доме.
— Почему не бежали?
— Не мог, нельзя, страшно.
— Чего вам страшно, у вас винтовка, а у коммунистов некому воевать... Чем еще занимались?
— Песни пели...
— Какие?
— Я не пел. — И опять платок к глазам и руки к груди: верьте, я не пел, есть и мне что в заслугу поставить. — Потом нам выдали суконное обмундирование, погоны черные, петлицы черные, на одной петлице стрелы и буквы кривульками...
— Эсэс?
— Эсэс... На пилотке, череп с двумя костями, как на столбах: смертельно, не подходи. Винтовку немецкую дали, штык в ножнах, подсумок. Построили, подали команду: «Смирно!» Немец начал зачитывать присягу, переводчик переводил: рейху и фюреру...
— Гражданином какого государства вы себя тогда считали?
— Советского Союза.
Летечке показалось, Калягин дотянулся-таки до него через барьер, ударил его. Но судья тут же отвел этот удар.
— Гражданином какого, какого государства вы стали, приняв присягу?
— Фашистским бандитом стал. Об этом я тогда не думал... Вещевое довольствие получили, платили нам по двадцать четыре оккупационных марки. Потом нас перевезли в Борисов. Две недели там жили в палатках. Из Борисова привезли в Минск, в Пушкинские казармы. Изучали немецкие гранаты, наш пулемет «максим», водили на охрану минской тюрьмы. Я один только раз на охране тюрьмы был. В коридоре стоял, открыли при мне одну камеру, там человек двадцать...
— Кто содержался в камерах?
— Нам не говорили...
— А вы не догадывались?
— Русские... Потом уже, где-то в октябре сорок третьего года, нас построили с оружием в руках. Немец, командир отделения, объявил, что поедем в гетто. Вывозили еврейское население на машинах-душегубках: будка такая черная, дверь широкая, металлическая, железные крючки снизу и сверху. Двери герметически закрывались. Пять было таких душегубок и четыре грузовые машины. Нас разбили на группы по восемь-десять человек, скомандовали идти по домам, выводить жителей и грузить в машины.
— Кого грузили? Сами люди шли?
— Какое тут сами, гражданин судья... Силу, понятно, применяли. Женщины, старики, дети, по тридцать-сорок человек в машине. Везли километров десять по Могилевскому шоссе, поворачивали влево, к Тростенцу. Становились задним бортом к яме... Размеры? Как вам сказать...
Летечку передернуло от этого «как вам сказать», от хозяйского прищура глаз Калягина. Калягин впервые осмелился взглянуть в зал, словно эта яма была сейчас перед ним и он должен был определить ее размеры и сколько людей войдет в нее из сидящих тут, в зале. Калягин говорил буднично и спокойно, по-хозяйски, все прикидывал, расчетливо выбирал каждое словцо, и эта его неторопливость и обстоятельность пробуждали к жизни полицейских, а люди затаились, притихли. Процесс шел и в них. Некоторые ведь ломились сюда только из любопытства, посмотреть захватывающее дух зрелище, прикоснуться к обжигающей тайне человеческого падения, но большинство спешили в этот зал, чтобы вынести свой человеческий приговор, чтобы еще раз сказать, что они ничего не простили и никогда не простят, что они памятливые, пусть знают об этом все, у кого есть основания бояться их памяти, кто рассчитывает на время, на забвение. Каждому человеку, каждому его поступку есть, будет судный день и судный час.
Да, они шли с ненавистью, быть может, ожидали увидеть что-то невероятное, чудо-юдо нечеловеческое, чего нельзя никогда охватить ни разумом, ни сердцем. А перед ними было что-то донельзя обыденное, жалкое, серое, загнанное... И все же человеческое. Но такое человеческое, какого им никогда не постигнуть. И зал был сейчас в раздумье. И люди раздумывали, наверное, не только о сегодняшнем дне, но и о дне завтрашнем, грядущем. Откуда же это берется в человеке обычном, о двух руках, о двух ногах, устроенном так же, как они? Этот ведь красноглазый скопец был одним из них, вышел из них. Отец гончар, мать колхозница, он был ровесником многих, ходил или мог ходить с ними в одну школу, пахал с ними одну землю. И стрелял в их отцов и матерей, жег сестер и братьев.
Было это всеобщее недоумение и в Летечке, соседствовало в нем со страхом, любопытством и брезгливостью. Правда, недоумение несколько иного рода: зачем тратить на этого Калягина время? Ему вполне хватит девяти граммов свинца. Девять граммов — и справедливость восторжествует. И он уже слышал жалящий посвист этих девяти граммов справедливости. А полицейские за барьером ожили. Первоначальный их страх сменился равнодушием, потом интересом к тому, что и как рассказывает Калягин. И лица их уже не были на одну колодку, в каждом проступало свое. И уже бровастый сосед Калягина, с тоской и растерянностью неотрывно смотрящий в окно, из которого было видно недостроенное, в лесах здание универмага, кран, подающий кирпичи, казалось, случайно попал сюда, за барьер. Ожил и непонятно почему более других пугающий Летечку человек в черном, в черной рубашке с короткими рукавами, с массой черных наколок на руках, с темными цепкими и жестокими глазами. Отвечая судье, Калягин все время поглядывал на него, будто он тоже боялся его или испрашивал разрешения говорить.
— Метра два шириной была она, метров двадцать длиной, а глубину не знаю, не заглядывал. Появился немец, укормленный, в черном пальто, приказал раздеть людей, поставили их к яме и начали стрелять. Мы и пулеметчики стреляли, и я стрелял.
— Они смотрели вам в лицо, лицом к вам стояли?
— А какая разница?
— До этого приходилось людей убивать?
— Что вы, гражданин судья, нет, и сейчас бы не убивал...
— Сейчас вам не дадут убивать! — Что-то случилось с лицом судьи, оно покрылось краской, дернулось, перекосилось. Летечка не знал и никогда уже не узнает, что перед судьей в ту минуту стоял его земляк, что этот Калягин жил когда-то в соседней с ним деревне, что судья семнадцати лет ушел в партизаны.
— Я не сознательно, а подневольно... — впервые голос Калягина сорвался и задрожал.
— Какая же сила заставила вас стрелять в людей?
— Я два раза только... Все стреляли, и я стрелял. Немцы рядом, давай стреляй, и все. Мы бы не стреляли, нас бы постреляли. Кто не падал в яму, сталкивали, нам рукавицы давали. В рукавицах разгружали и душегубки. Открывали двери, а там уже трупы, отработанным газом удавленные. Рукавицы — и нагружали в траншеи.
— Сколько же дней вы так работали?
— Девять-десять дней беспрерывно. Последний день, правда, мало было работы. Собирали на чердаках, в сараях, в подвалах, тридцать-сорок человек набралось. Но мне ни один не попался. Сказать по правде, я боялся по чердакам лазить.
— Чего вы боялись?
— Лестницы не было...
Судья хотел что-то сказать, но только открыл рот, хватил воздуха, потянулся к лежащим на столе перед ним папкам. Калягин перегнулся через барьер, замер, плотно прижав руки к бокам.
— Актом Государственной комиссии установлено, что в районе Тростенца были уничтожены десять тысяч советских граждан еврейской национальности. Подсудимый Калягин, сколько людей было уничтожено в районе Тростенца с вашим лично участием?
— Гражданин судья, по правде я вам говорю...
— Говорите не мне, говорите суду.
— Я три дня только... Я выстрелил...
— Отвечайте по существу.
— С моим лично участием было уничтожено шестьсот тридцать человек. Я только...
— Хотели выжить?
— Хотел выжить...
— Не слишком ли дорого вы оценили свою жизнь — шестьсот тридцать человек?
— Я не дорожил...
— Что вы чувствовали, стреляя в людей? Вас эта работа удовлетворяла?
— Что я чувствовал... Скажу по правде, приходили в казарму, есть не могли.
— Водку давали?
— Нет, только двадцать четыре зеленые марки... Нехорошо я чувствовал.
— Что вы нехорошо чувствовали?
— Плохо поступаю... — И при замершем зале, казалось, одному только Летечке прямо в уши: — Я боялся...
Страх и сейчас звучал в его голосе. Но только непонятно, был ли это давний его страх, или он родился сейчас, или этот человек родился вместе со своим страхом.
— Боясь, чтобы вас не расстреляли, вы спешили стрелять других. Так это надо понимать?
— Так. Как иначе понимать. Всяко было. Трое из Пушкинских казарм бежали. Их поймали, привязали к столбу, вывели всю нашу роту, и рота их расстреляла.
— Следующая ваша акция, подсудимый Калягин, после уничтожения еврейского населения в Тростенце?
— После гетто также ходили в караул. Охраняли тюрьму, брали людей и возили туда...
— Каких людей брали и куда туда возили?
Калягин забыл про платок, замер, уставившись на судью, непонимающе и невинно заморгал, захлопал глазами.
— Каких людей брали? — устало спросил судья. — Каких людей и куда возили? Вам ясен вопрос, подсудимый Калягин?
— Так точно, гражданин судья. Заключенных брали и возили в Тростенец. И эти люди, заключенные, железными крючьями доставали трупы из траншей, штабелевали их: ряд трупов, ряд бревен. Бочка железная с соляркой. Обливали соляркой и поджигали. А мы охраняли...
— Кого охраняли?
— Заключенных. И чтобы никто не подходил, так сказано было.
— Где вы питались?
— Сухой паек давали, с места не выходили.
— Заключенные как питались?
— А я вот не видел, чтобы их кормили. Приезжал немец, укормленный, в черном кожаном пальто. Строили заключенных, вроде бы везти домой, в тюрьму, мы строились напротив. Команда «направо». Они лицом к траншее, и мы расстреливали их... Я тоже стрелял...
— Прицельно?
— В людей, конечно.
— Что это были за люди?
— Заключенные... Русские, белорусы. На второй день эти трупы сжигались другими заключенными. С моим личным участием уничтожены восемьдесят-сто заключенных минской тюрьмы.
Восемьдесят-сто... Они предстали перед Летечкой, как живые. Как живые или мертвые, то ли еще тут, то ли уже там? Он и сам не мог понять, где он. В глазах был туман, синий, мертвенный, клочковато пришпиленный к кустам, сине обнимающий босые синие обескровленные ноги. Одежда — синий туман, лица — синий туман, наплывающий на Летечку туман лиц и глаз. Этот туманный поток, подобно людскому потоку, бушевавшему на площади и прибившему его к подоконнику, бесплотно обхватил Летечку и закружил, понес к траншеям, ямам, рвам, наполненным трупами стариков, женщин, детей, — в туман. И он, Летечка, был уже сам синим туманом, был одним из этих людей в тумане. Железными крючьями выхватывал из ямы трупы, складывал в штабели. Огромные, уходящие в небо штабели синих тел. Железным крюком он цеплял сам себя за подбородок и вскидывал на штабель, чтобы взглянуть оттуда на землю и увидеть себя живым и невредимым в зале суда на подоконнике. Но видел только откормленного немца в черном пальто, видел черные машины с крестами, видел Калягина в черном и с кривульками стрелами букв на черных петлицах, с двумя скрещенными костями на пилотке: не подходи, смертельно. И Летечка там, наверху, смеялся над этим глупым предостережением. Все он знал про эту укутанную синим туманом землю. И, зная, ужасался.
Летечке сейчас было семнадцать. И Калягину в октябре сорок третьего года было тоже почти семнадцать. Путь Калягина, как и его собственный путь на земле, только начинался. Только начинался, но сколько тому, чтобы выжить, пришлось уже убить. И сколько еще, чтобы выжить, завтра...
— ...на клубе в деревне Сучки висел красный флаг...
«Батька! Батька! Таточку!..»
— Деревня Сучки была сожжена еще раньше. Осталось одно здание — клуб, на нем красный флаг... Мы пошли по лесам... Шестьдесят человек. Одной веревкой связали руки. Переднему флаг. Запрягли шестьдесят человек в подводу... За Родину, за Сталина, вперед... Нагайками... Дед упал, старый, сто лет... Гуляй... Отправили гулять в речку, под лед... Помылись в бане. Здоровых отобрали, старых, малых, негодных — в баню. Все в ту баню не поместились. Недалеко скотобойня была. Загнали тех, кто не поместился в бане, в эту скотобойню, подожгли... Кричали сначала, потом перестали...
«...Старых, малых, негодных — в баню... в скотобойню... Кричали сначала, потом перестали...» Не перестали, кричат. Вздымается расписанный красками горящий потолок Дворца культуры. Горит, хотя снаружи, наверно, и не видно. Там, снаружи, свободно полощется красный флаг, пронесенный шестьюдесятью под свист нагаек от деревенского клуба в Сучках к этому Дворцу культуры в Слободе. Ожили старые, малые, негодные. Негодный вопит на подоконнике Летечка. Негодного деда Ничипора с половинкой кирпича у груди под руки, бережно выводят из зала солдаты. И нет больше в этом зале Кольки Летечки.
Пылает над землей пожар, а Летечка в оттаявшей речке уже рыбиной гуляет под водой. Большая, старая, но сильная рыба живет в огромном омуте, над которым молодой дубок и кусты орешника. Сквозь их листву редко достает до дна солнце, но зато там, на дне, всегда звезды и луна. А к солнцу рыбина днем поднимается сама, выплывает, наверно, не замутив его, и, притаившись под береговой кручей, часами стоит неподвижно. Слушает разговор мальчишек-удильщиков. Они сидят на берегу, свесив голые пятки в воду. Рыбина подчас озорует, щекочет мальчишкам пятки стариковскими мягкими губами. Мальчишки хохочут.
— То, мо, сом тебя, а не вода.
— А мо, и сом, тут сомы — на подводу не уложишь.
— Поймать бы такого, — вздыхают.
— Поймать можно, а как до дому доставить?..
Фантазеры деревенские мальчишки. Не поймать им эту рыбину. Она кормится не как глупые плотвицы и окушки. Темным вечером, ночью. Вот придет вечер, рыбина еще потешит их. Выйдет из омута на перекат и, как колом, ударит по воде хвостом. И присядут от неожиданности мальчишки.
— Чули?
— Чули.
— Бачили?
— Бачили. Пудов на пять, а мо, и болей. Он?
Конечно, он, глупые мальчишки, кто же другой. Хорошо рыбине в парной вечерней воде, как в молоке. Мальчишки за день набросали в воду не созревших еще молочных орехов, надкусанных яблок. Парит речка, струится вода, как челн, скользит по лунной дорожке утка.
Луна к вечеру оторвалась ото дна, всплыла наверх и легла на воду. Рыбина подцепляет луну на воде горбатой спиной и катает на себе по речке. Это тяжелая, но приятная работа — возить луну, купать ее в речке. Удовольствие рыбе, удовольствие луне. И польза обеим. Кто, если не она, рыба, досмотрит за луной, кто вычистит ее медные бока песком и осоками до утреннего серебряного блеска, где еще можно найти столько звонкой чистой воды, как в речке, где есть еще, кроме Белоруссии, такие укромные реки с нависшим над водой орешником и лозняком, с подступившими к берегу дубками, с таким белым и желтым песком? Песок этот потому ведь белый и желтый, что о него еженощно чистится луна. Забавляется с луной рыбина, играют с ней орешники, лозы, арканят ее тенями своей листвы и ветвей. Луна смеется взахлеб, так что колышется, дробится в воде и над водой серебряная в ночи листва кустарников. И немо вздыхают над речкой от восторга дубы-ведуны. И растут, растут. Возит всю ночь на себе по реке рыбина луну. И сама эта рыбина серебряная и золотая, лунная. Катится, катится над речкой и надо всей землей ее лунная серебряная радость, и эту радость жадно вдыхают травы на заливных пойменных лугах, пьют росы, ею напитываются ночью птицы, и спящие мальчишки радостно летают во сне, растут. Маленькая речка несет свою маленькую радость большой реке, а та морю. С берега, с насиженных днем мальчишками мест тянет человеком. И рыбина, устав, вплывает в свой омут, играет там с дубовым листом, притапливает его, выталкивает наверх, чистит свой дом от наплывших за день листьев, сучков. Потом выставляет из воды плоскую голову, дышит, хватает воздух. Воздух нужен и рыбине, как ей без воздуха, она процеживает его вместе с водой и, чуть опьянев от запахов, оставленных людьми, от запахов лесных, снова озорно лупит по воде мощным хвостом. Мальчишки визжат от восторга и чуть-чуть от испуга и фантазируют, потому что все деревенские мальчишки, живущие у рек, фантазеры. Только для них и водятся в этих реках такие большие и добрые рыбы...
— За что стрелял? Приказ такой был.
— Приказ убивать?
— Убивать...
— Что это за люди были, знали, откуда?
— Русские люди, из хат... Нам приказ убивать, не жалеть ни старых, ни малых. Над нами стояли немцы, гражданин судья...
Гражданина судью выворачивает наизнанку от смиренного тона человека, отвечавшего на его вопросы. Этот тон выворачивает наизнанку и зал и Летечку. Зал и Летечка могут выражать свои эмоции, могут негодовать, вздымать кверху кулаки, закрывать глаза и уши, а судья должен быть бесстрастен. Но ведь он тоже человек, что чувствует сейчас он? Нет, Летечка неспособен поставить себя на его место. Одна ненависть в нем. Зал скорбно, выцветшими глазами сидящей в кресле подле Летечки седой женщины смотрит на Калягина. Смотрит и едва ли сейчас видит его. Женщина, тогда она была девочкой, выбралась из-под трупов в сарае. Ее прикрыл своим телом какой-то старик: «Молчи, живи, детка». Детка выползла из сарая и залезла в пожарную бочку с водой, предусмотрительно поставленную хозяином у сарая. Эта бочка с водой спасла ее от огня, но не спасла от преждевременной старости, от седины в двадцать с небольшим лет. Она стыдится этой своей седины, как будто в том, что произошло с ней, есть и ее вина. Словно она виновата в том, что на земле есть такие люди, как Калягин, что она вынуждена жить рядом с ними, словно она сама делала и делает что-то не так. Без вины винит она себя, но... старик, который прикрыл ее своим телом, погиб... Женщина сейчас и здесь, в зале, рядом с Летечкой, и там, в сорок четвертом, у горящего сарая. И в глазах ее раздумье и вопрос: как могло случиться, что вот эти смирные за перегородкой столько пустили по миру сирот, столько пролили крови? Не сон ли все, что пережила она? Не наваждение, что она воочию видит этих людей перед собой? Она пытается взглянуть им в глаза, всматривается в их лица, руки, хочет понять, но не понять ей ничего, никогда. И эта ее непонятливость живет в Летечке. И он ненавидит эту свою несмышленость. Ненавидит судью, потому что тот знает то, чего не может знать Летечка. Ненавидит полицейских, в них уже проснулся жгучий интерес к тому, что происходит в зале, к тому, что рассказывает Калягин. Они буквально срывают с его губ, впитывают в себя каждое его слово, будто никогда не были с ним рядом, будто они никогда не жгли, не стреляли, не убивали. А у Калягина дело давно уже пошло на лад. Калягин — понятливый и сметливый мужик. Судье уже больше не надо задавать ему наводящие вопросы. Ему вообще уже не надо задавать вопросы, он смотрит судье в рот и угадывает их. Он готов служить или уже служит за барьером. Он почувствовал власть и подчинился силе, которая над ним. Руки за спиной, ноги полусогнуты, голова вперед, он готов рвануться выполнять любой приказ. Все в нем уже настороже, на взводе, в сладком ожидании приказа. Сейчас, сейчас, только прозвучит этот приказ, и тело, язык его выстрелят подчинением.
— Азаричи... Март сорок четвертого года. Грязь, слякоть. Шел мокрый снег. — Память Калягина четко работает на воспоминание. Таков ему сегодня приказ: вспомнить все до деталей. И Калягин рисует по памяти март сорок четвертого. Небольшой хвойный лесок взят им в колючую проволоку. Выгорожено слякотное болото. В болоте серые скрюченные люди. Тридцать семь тысяч человек. Но Калягин рассказывает о двух из них. Замерзает повязанный материнским платком мальчишка. Мать идет к сосне, чтобы наломать веток, разжечь костер. Двое в черном, Калягин и укормленный немец, спорят, попасть ли немцу из винтовки в женщину — от них до женщины семьдесят метров. Немец берет винтовку у Калягина, целится и попадает... — Они больные все были. Тифом все больные были. Женщины, дети, старики.
Летечка отчетливо видит эту лежащую на талом снегу женщину. Неизвестно откуда, но ему знакома картина, нарисованная Калягиным. Мелкий лесок, колючая проволока, две фигуры в черном, треск выстрела, как треск обломанной ветки, желтая, проступающая из подтаявшей земли вода, мальчишка в материнском платке. Летечка приникает затылком к прохладному стеклу. Это он, он в платке. Отсюда, с подоконника, рассмотрел он лицо мальчишки...
— Немцы на станцию Рудобелка привезли больных тифом людей и направили под Азаричи, в болото. Цель одна — свезти как можно больше тифозников и задержать наступление нашей армии...
— Какая она ваша армия!
— Советской Армии, — покорно поправляется Калягин. — Дезорганизовать транспорт. Ночью уже видны были советские ракеты над лесом. От поезда, от Рудобелки, везли людей на машинах. Больные, обмороженные, страшное зрелище. На машины грузили больных, старых, малых, сами не могли забраться. Машин на всех не хватало. Гнали пешком. Падали — пристреливали. Дорога — страшное зрелище. Грязь, слякоть. Несколько километров — трупы, трупы. Никто их не убирал... Стреляли по дороге... Дед один не мог идти. «Сынки, сынки, — просил, — не стреляйте меня на дороге. По ней же людям ходить. Положите каля леса...»
— Уважили деда?
— Некогда было... Пристрелили на дороге. Всех стреляли на дороге. Дорога в трупах, по ним машины...
Летечка сползает с подоконника на пол. По нему прошлась колесами машина. Седая женщина усаживает его в кресло, сама садится на подоконник. Но Летечка бежит из зала. Он не может быть больше в этом зале. Он бежит в март сорок четвертого, в тифозный лагерь под Азаричи или из лагеря. Бежит по дороге Рудобелка — Азаричи. А может, по какой-нибудь другой, подобной ей дороге. Была, была у него такая дорога. В марте сорок четвертого или в августе сорок третьего, этого он не знает. Времен года для него тогда не существовало. Время было поделено на свет и темень. А дорога была одновременно в свету и темени...
7
Человек ли, волк — что-то непонятное пробиралось лесом. Катился по лесу мохнатый живой ком. Под черными елями с низко пригнувшимися к земле ветвями этот ком полз. Спина его, голова, будто вылепленные из торфяной коричневой грязи, были густо усыпаны иголками и листьями, и издали при неверном, переменчивом в лесу свете казалось, что это катится в нору осенний запасливый еж. Но когда на пути встречалась полянка или дурманные заросли багульника, ползущий вставал во весь рост, на ноги, и тогда было видно, что это не волк и не еж, а мальчишка, хотя мальчишка, поднимаясь на ноги, по-волчоночьи подвывал.
Он уже не помнил, сколько часов или дней пробирается лесом. Не помнил себя, человек он или зверь. Таких, как он, в ту пору немало было по лесам, отбившихся от матери или отбитых от нее облавой. Мальчишка помнил, что совсем недавно с ним был кто-то живой, видимо, мать. Она то ли упала сама и больше не поднялась, то ли на них густой черной цепью вышли люди в черном, с черными палками, обложили со всех сторон и с криками «Ату их, ату!», сея из палок огонь, загнали в болото и оставили там его уже одного. Оставшись один, мальчишка не испугался. Ведь он с матерью всегда жил в лесу. Первый проблеск сознания нашел его в лесу. И он уже считал, что на земле один только лес. Люди всегда жили и живут в лесу. В лесу, под елями и под соснами, их дом, постель, очаг. Но пришло время есть, начал подступать вечер, мальчишка выполз из болота и побрел по лесу. Инстинкт гнал его к людям. Он хотел до темени прибиться к какому-нибудь жилью и боялся этого. Раз или два за деревьями примечал людей, но не открылся им, затаился в кустах, переждал, когда исчезнут. А потом бросился искать их и не нашел.
И вот теперь, подвывая, шел и полз, слепо толкался в кочки головой, размазывая по лицу болотную грязь, ягоды брусники, дурницы, и звери и птицы обходили, облетали его стороной, не признавая своим. А ему бы сейчас встретить на пути хоть ужа, хоть гадюку — что-то живое, чтобы не так одиноко было, выползти хоть на стежку, на звериную тропу. Но лес был нежилой, пустой. Сосны, ели, изредка дубняки. Мальчишка всматривался в деревья, в обметанные лишайниками стволы, трогал эти стволы руками и не различал в них теплого, живого. Холодное молчаливое дерево. Оно могло бы ожить, будь у него огонь: железка, камень-кремень и желтый сухой гриб — трут. Железкой по камню, а из железки или камня искры на трут. Вот и огонь. Но нет у него ни трута, ни камня — ничего нет.
Лишь на исходе дня, когда уже начало садиться солнце и земля, по которой он шел, стала красной, мальчишке стали попадаться стежки. Он обрадовался им и вскоре выбился на дорогу. Остановился в кустах, замер, рассматривая ее, принюхиваясь и прислушиваясь. Уже почти стемнело, но ему, только что вышедшему из лесного страха, удалось кое-что рассмотреть. Дорога, горбясь, одинаково тянула что вправо, что влево и терялась в соснах. Широкий горемычный деревенский шлях. Люди, машины, телеги разбили его до мертвого белого песка. Но кое-где и на том мертвом белом песке темным влажным глазом взблескивали лапинки твердой живой земли, не перемешанной, не оторванной от живого материнского тела. Плакала земля, плакала, оставшись в одиночестве, дорога скрытыми от людского глаза слезами. Но слезы эти не трогали мальчишку.
Шлях, хоть он и стремился к нему, был чужим, несло от него человеком и животиной, запахами, которых мальчишка боялся. Но лес пугал еще больше. Он вышел из кустов, шагнул к дороге и остановился на границе леска и травы. Осторожно тронул дорогу, сыпучий ее песок ногой. Никто его не ударил, ничто не взорвалось — ничего не случилось. Мальчишка прыгнул в песок, зарылся в него обеими ногами. Песок был теплый, ласковый. Можно было зарыться, засыпаться им, согреться и переждать, пока красная полоса, стоящая над лесом, разгорится в солнце и прогонит темень, и тогда по свету снова утянуться в лес. Можно, если бы в мальчишке не жил голод. Он сидел в нем сильнее страха, заставляя рыскать по земле, искать не только тепла, но и пищи. И мальчишка побрел шляхом туда, где горел закат, где было что-то живое.
Из кустов, из разбитых гнилых пней на него звериными, жадными глазами смотрели светляки. Но он не боялся их. Дважды в ночи зыркнуло красным глазом что-то живое, над ним детскими голосами кричали совы, но с ним уже была дорога, шлях, и, шагая по нему, он ничего не боялся. Он доверился шляху, словно вступил в некий магический круг, в котором ему ничто не могло угрожать. Было совсем темно, луна еще не взошла, и лес смотрелся единой темной грядой, как оторвавшийся от неба и обвалившийся на землю мрак.
Но дорога не терялась и в этом мраке, белела, как присыпанная солью, щедрой рукой отрезанная скибка хлеба. И мальчишка шагал, смотрел не под ноги себе, а туда, вперед, на убегающую дорогу.
Так шагать ему пришлось недолго. Начали попадаться какие-то бревна, цепляться за ноги, будто он ступил на греблю. Он заспотыкался, голодно заворчал, ему надо было торопиться, хотя и неизвестно куда. Надо было быстрее одолеть дорогу и пробираться к селению, огню, хлебу. И сил у него было только на дорогу, дорогу без бревен. А бревна попадались уже непрерывно, гребля-гать. Мальчишка запутался в них и упал. И тут же из-за леса выскользнула луна, яркая, щербатая, словно была до этого на привязи, моталась, терлась, косо перерезала себя об эту привязь, меньшей своей частью оторвалась, ускользнула в небо и светила сейчас с утроенной силой. И при этом свете мальчишка увидел, что никакие не бревна свалили его, а люди. Люди густо выстелили своими телами дорогу. И мальчишка лежал на человеке, на старике. Тело старика покоилось на бугре, а голова в ямке и задрана в небо. В небо упиралось яблоко острого кадыка, острый, покрытый, как белым сухим мхом, подбородок... На мальчишку смотрели остекленевшие глаза. И эти глаза больше всего испугали мальчишку. Он прянул от них, рванулся встать. Но сучки — руки старика — будто ожили вдруг и не пустили его. Мальчишка снова упал, лег лицом на лицо. Своим грязным, но живым на бело-мертвое, холодное, лбом коснулся стеклянных умерших глаз, почувствовал их упругий холодок и закричал. И больше не было у него ни сил, ни желания подняться. Страшно было оторвать глаза от одного мертвеца, чтобы увидеть перед собой десятки других. Рассмотренный им уже в подробностях мертвый старик казался добрым, опасности от него никакой не исходило. Те, другие, были страшнее, они были еще незнакомы ему. Этот лежал и молчал, не шевелился, а те могли ожить, закричать, что это он тут мешает им, уложить рядом с собой.
Мальчишка прижался к старику, заклиная его, прося у него защиты. И, подними сейчас старик руку, заговори, мальчишка бы не удивился, так страстны были его заклинания, так горячи мольбы. Но старик молчал. Молчали и другие мертвецы, только лес скорбно гудел, лунный тоскливый ветер гулял в соснах. И казалось, это мертвые отпевают самих себя. На земле, кроме ветра, луны, нет других плакальщиц, ни одного живого человека. Вымерла земля. Вымерла, если люди вышли помирать на дорогу, не нашли другого места, легли здесь, чтобы напугать его, единственного оставшегося в живых. И старик стал еще дороже мальчишке — уже не как защитник от мертвых, а как единственная связь с живыми, уцелевшая, необорванная ниточка. Было страшно выпустить, оборвать эту ниточку, оторваться от старика, остаться совсем-совсем одному.
Но долго оставаться среди них мальчишка все же не мог. Детским криком прокричала в лесу сова. Он вскочил и побежал. Но бежал он теперь, закрыв глаза, надеясь, что, когда откроет их, дорога освободится от успокоившихся в ее песке. Он бежал и сам теперь кричал совой, пока был еще голос, пока был еще крик. А когда его не стало, когда не стало сил бежать, открыл глаза и свернул к обочине передохнуть во мраке, ничего не видя перед собой. Но и там были мертвые, они не пустили его в лес. Мертвые взяли его в кольцо, обложили со всех сторон, как обкладывали некогда живые. И, хотя эти мертвые были безобиднее тех, живых, которые могли его убить, которые стреляли в него, в его мать, он желал, чтобы из мрака вышли те, сеющие огонь. Если уж им так надо убить его, он не будет больше убегать, не будет прятаться в болото. Пусть убивают, пусть стреляют. Он готов. Лечь на дороге рядом с другими легче, чем шагать и спотыкаться о них, непрестанно чувствовать их присутствие.
Но и этой малости не даровала ночь. Мальчишка не мог оторваться от дороги, потому что дорога все же куда-то вела, к жизни или смерти, что-то было в ее конце. Ее светлая, прикрытая лесом ниточка тянулась из света, вела к свету.
Пора бы, пора бы уже или кончиться дороге или наступить утру. Или уже навсегда останется на земле ночь? Как это так случилось, что все погибли, а он жив? Он бы легко, сразу погиб и не пискнул...
Бежит по земле мальчишка, уже не бежит, ползет. Ползет сквозь ночь по дороге, как по минному полю. И взрываются, взрываются в мозгу мины, но не все, некоторые остаются, не срабатывают, они будут срабатывать потом, когда проснется убитая этой дорогой память. А такая память просыпается, чтобы взорваться в последний раз, окончательно.
Над лесом, над дорогой вспыхивает и гаснет, рассыпается зелеными брызгами ракета — есть, есть что-то впереди у дороги, куда-то она ведет. Еще одна зеленая ракета нависает над лесом. Но мальчишка уже не рад ее свету, она высвечивает не конец пути, а лишь новые трупы. Быть может, их уже и нет впереди, быть может, они мерещатся только мальчишке. Но как они могут не мерещиться, если он прошел через них. Они теперь никогда не отпустят его. Там, впереди, как ни светло, как ни счастливо там, у дороги, по которой он прошел, нет и не может быть счастливого конца.
Там, впереди, ракеты уже плавятся пачками. Там, впереди, грохочут пушки. Нет, не умерла земля, не кончилась в эту ночь. Это идет освобождение. За него там падают, умирают люди. И мальчишка ползет — не жить, умирать. В его теле уже нет жизни. Но он все же двигается. К людям, навстречу залпам, к живым.
Уже тускнеет, просвечивает темень. Небо еще стеклянное, но вздымается уже солнце, рушит небесную остекленелость, застилает рассветным низким туманом дорогу. Солнцу не к чему смотреть на мертвых. Оно не хочет смотреть на обезображенную снарядами землю. И деревья, как по струнке, уцепившись за солнечный луч, вытягиваются перед солнцем. Они, деревья, солдаты солнца, его вечные рядовые, им оно посылает свой утренний мягкий свет, им улыбается с небес. А все остальные, кто не может без солнца, пусть растут до деревьев, пусть учатся без спешки ждать рассветов. Тогда солнце будет отмечать по утрам и их, не обнесет лаской и красками. На всех хватит, всем достанется.
8
Улица плыла и покачивалась. Кривлялись в изломанной ряби заборов темноликие домишки, ушедшие в зелень цветов и садов, как в воду. Особенно непрочными в этой сиреневой и зеленой воде выглядели ветхие, латаные-перелатаные сараюшки. Они бежали от домов в пучину, в глубь огородов, в картошку, в раздолье садов; и глаз с улицы уже не мог полностью выхватить их оттуда. И сараи, казалось, то рассыпались на части створками распахнутых ветром дверей, заплатами крыш, то каким-то чудом восстанавливались вновь, стягивались по бревнышку, по драночке, ненадолго привязывались к торчащим подле них, как к причальным тумбам, каменно-серым скворечникам и опять рушились.
Летечка шел середкой улицы, по асфальту, и асфальт уплывал у него из-под ног. Был он расплавлен полднем до сиреневой глубинной сини, и сиреневая легкая дымка подрагивала и вилась на нем змейкой, будто не лежал асфальт на земле, а тек речкой. Коровы, вышагивающие обочь, жались к заборам, береглись ступить на асфальт, пылили песком, своей привычной коровьей дорогой, с тоской взирая на деготную, сотворенную человеком реку. С появлением этой реки зыбко и недолговечно и их привычное существование в Слободе. Они поревывали, косясь на асфальт, угинали головы, будто старались сделаться незаметней, мельче. Не так, не так ходили они раньше этой улицей. Были они ее хозяйками, кормилицами, несли в себе не прощальную, а колыбельную песню. Отголоски этой песни порой слышались и Летечке. Но принять ее, забыться в ней он не мог, все время исчезала из-под ног земля, пропадала дорога, ко всему же пелось в той песне о песках, о старом деревенском шляхе. Потому он и лип сейчас ботинками к асфальту, жарился на солнцепеке. Асфальт был чужд его душе, но не будил его память. Не было асфальта в той страшной ночи. И по асфальту можно было шагать, не боясь, что тебя снова возьмут в кольцо и погонят в ночь. Новая это была дорога, проложенная на его глазах. Асфальт надежно укрыл прошлое, прошлому не пробиться сквозь него, не пробиться дереву, не прижиться траве, не прижиться корове, но и прошлому, как ни корчится от него земля, не возродиться вновь на асфальте. От него тут, на асфальте, только пар, сиреневая замять. Но и она вскоре исчезнет, лишь только приспустится ниже солнце, станет прохладнее, закрутит низовой ветер, просветлит, оживит дали.
В ожидании этой свежести и прохлады Летечка брел неведомо куда. Неведомость и потерянность настигали его, когда вдруг пропадал воздух, и он ловил его не только ртом, но и руками, с кашлем вгонял в себя. И тогда Летечке казалось все незнакомым и чужим, что-то рвалось там, в груди. Он забывал себя, где он и что он, словно сон некий смотрел наяву, так все кругом было призрачно и нереально. Но ноги привычно несли его к детдому. Ноги жили отдельно от него и вроде бы стали больше, толще. И за ногами теперь надо было следить, чтобы они не наделали беды, не проломили асфальт, не убежали от него, оставив тело на асфальте.
Он несказанно обрадовался, когда увидел себя на детдомовском крыльце. Как он туда попал, Летечка уже не помнил и в первую минуту подумал, что все увиденное и услышанное им на суде во Дворце культуры — сон, что он еще продолжает спать, на минуту только открыл глаза. Надо снова их закрыть и попытаться уснуть, тогда прежний сон забудется и приснится что-то другое, хорошее. Ведь может ему присниться что-то хорошее, крупная рыба, например, она ведь ему часто снится. Баба Зося, правда, говорит, что рыба — это не к добру. Но какое зло может быть от рыбы? А еще часто во сне видит он какую-то дверь. Стена живой зелени, то ли хмеля, плюща, а может быть, даже винограда, и в этой облитой солнцем стене незаметная дверь, голубенькое пятно. На эту стену, на эту дверь он каждый раз выходил после долгих блужданий в каком-то мраке и тумане, когда его одолевала уже усталость, он не мог двинуть ни рукой, ни ногой, проваливался куда-то. В это мгновение как раз и освещалось все солнечным режущим светом и являлась голубая дверка. Он даже знал, куда она ведет. За стеной мир светлый и радостный, который он так тщетно разыскивал. Ему надо лишь подняться и толкнуть дверь. Он поднимался, подходил к двери, и тут обычно наступало пробуждение.
Сон этот всегда был сладок и желанен, Летечка пристрастился к нему, уже научился вызывать его, показывать себе по заказу. И сейчас он заказал его. Но напрасно жмурился и закрывал глаза — не было зеленой живой стены, не было приворотной голубой двери. Не спал он, явью были суд и дорога. И Летечка проклинал себя за то, что пошел на этот суд, и, проклиная, знал, что отправится снова туда, пойдет и завтра, и послезавтра. Будет ходить каждый день, пока суд не кончится, пока не вызнает все о себе и о полицейских. Там, на площади, та стена и та дверь, за которую он раньше, во сне, не мог попасть и которую не мог во сне открыть. Оказывается, стоило пройти лишь сотню-другую метров до этой площади. Здесь он узнает все. Кроме топчана, дороги, он еще кое-что припомнил из своей давней жизни. До того как он попал на топчан, были у него мать и отец, и дом у него был. Он ползал по этому дому, а потом уже и ходил своими ногами по желтым смолистым половицам. Первого своего шага не помнил, не помнил родителей, их вроде как и не было вначале, только желтый пол, на нем капельки смолы и липкие черные ладошки от этой смолы. Два окошка высоко над головой. Его все время притягивали к себе эти окошки. Кто-то постоянно подсматривал за ним из этих окошек, тянулся к нему, гладил, слепил глаза. И как-то он решил посмотреть, кто там, невидимый, все время задирает его. Приполз или притопал к окошку, вскарабкался на скамейку, залез на подоконник и встал, приложил глаза и губы к стеклу. Никого в окне не было, и за окном пусто: зеленый дворик, трава-мурава, курица на ней. Но курица смотрела себе под ноги, а вскоре исчезла. И все же чей-то глаз лежал на нем, чья-то теплая ладонь лежала на его голове. Он крутил головой, щурился, прятался за подоконник, пытаясь поймать этого невидимого. Но все было по-прежнему: теплая ладонь на его голове, чей-то взгляд на лице — и никого. Тогда он занялся тем, что стояло на подоконнике. А стояла там пузатая бутылка, заткнутая бумажной пробочкой. Ему никто не помешал откупорить эту бутылку, родителей не было. Они появились в следующую минуту, выросли, словно из-под земли, когда он хлебнул что-то жгучее, полоснувшее горло огнем. И он выронил бутылку, заорал благим матом и сразу же оказался на руках у черноволосой, тоже орущей благим матом женщины. А возле них бегал, суетился огромного роста мужчина, выше Захарьи, выше всех, кого ему приходилось видеть когда-либо. И, странно, мужчина тоже плакал. Все время приговаривал: «Больно, больно, больно... Потерпи. Мужчины не плачут, мужчины не плачут...» — и слезы текли по его лицу. Летечка тянулся к нему измазанной в смоле, мокрой от слез рукой, другой рукой, тоже мокрой и грязной, обнимал за шею женщину и уговаривал обоих: «Не плачь, мама, не плачь, папа...» — и плакал за них двоих и за себя, потому что не мог терпеть боли. Женщина и мужчина были его отцом и матерью. Он был их сыном. И хватил на окне из бутылки уксуса. Уксуса, потому что, кроме отца и матери, был еще кто-то третий, всплескивавший руками, повторявший: «Ой, пьяница буде, ой, горький, запойный, ой, горький, с малых годов, а уже за бутылку, что погорчей, за уксус, за уксус».
И все трое появились и пропали, растаяли, словно в тумане, растворились. Мать исчезла, словно вихрем смело. Была и нет, ни следа, ни памяти, черный провал. А мужчина еще мельтешил где-то в молочном, клочковатом, стелющемся полосами тумане. И он, Летечка, бежал куда-то рядом с мужчиной, и под ногами у него были и песок и трава, и спотыкался он о корни каких-то деревьев. Видел себя высвеченного на песке в белой полосатенькой рубашке, в черных штанишках с лямками крест-накрест, видел свое потное лицо с дорожками слез, сбитые о корни деревьев ноги. А вот ног отца, во что тот был обут, во что одет до пояса, не видел, не помнил. А выше пояса защитная гимнастерка и винтовка на сером ремне через плечо. Лица нет, загорелая медная шея, выгоревшие светлые волосы на затылке. Гимнастерка, винтовка, шея тоже временами пропадали. Рвано накатывал туман, клубился, и все тонуло в этом тумане. Только острый штык был не по зубам туману. Он пронзал его своим острием, резал гранями, будто не прилепленный ремнем к его спине, а сам по себе вырвался из земли, из тумана и сам нес себя над землей и туманом. Он остался в глазах Летечки, когда отца уже простыл и след. Иногда звенит, оживает в памяти, слышится и голос того третьего человека: «Ой, пьяница буде, ой, горький, запойный...» Старуха это, бабушка, и вроде как баба Зося, ее голос...
— Баба Зося! Ты была всегда? Сколько тебе лет, баба Зося?
Баба Зося сидит на стуле возле белой, застланной белой салфеткой казенной тумбочки. В комнатке ее полутемно, окошко смотрит на север. Южная комната отдана им — Летечке, Козелу, Марусевичу.
— Всегда я была, Летечка, всегда. Я старше земли, зажилась...
Летечка пропускает ее слова мимо ушей. Не это, не это он хочет услышать от нее: была ли она при том, когда он обжегся уксусом? Не мать ли она, не бабушка ли? Не сын ли он ее, тот самый, которого в бочку? А он из бочки выбрался все же. Вышиб дно и вышел...
— Чего же это тебя на уксус потянуло, Летечка? Пьяница к бутылке тянется. Ой, пьяница будешь, ой, горький...
Была, была... Так чего же она скрывается от него, почему не признается, что его бабушка, а может, мать. Тронулась умом и забыла. И сейчас не помнит, а может, и помнит, но боится, что их обоих выгонят из детдома и она не сможет прокормить его. Так ему много не надо. И ей много уже не надо. Пойдут в деревню, купят корову, корова их прокормит, проживут, не пропадут. Мужики ведь не зря на базаре говорят, жизнь теперь другая пошла, легкая. Дают сегодня жить всем. Но если она не признается ему, и он не признается ей в родстве. Он только вызнает, незаметно выспросит, что было с ним потом.
— А что стало потом? — охотно ввязывается в беседу баба Зося. — Всем известно, война...
— А дальше, дальше, бабушка? — Летечка уже пристально всматривается в лицо бабы Зоей, ища сходство с собой. И находит его. Вспоминает, что знал бабу Зосю раньше. Знал давно эти сухие успокоившиеся руки, этот добрый тихий голос, смотрел в эти добрые блеклые глаза.
— И дальше известно, унучак. Немец пришел...
— А дальше?
— И дальше, унучак, известно... Все из той бутылочки уксуса хлебнули. Кто больше, кто меньше, кому сколько суждено. И я приложилась. Человека своего схоронила, сынов выправила воевать, батька твой пошел на войну. Хата сгорела. А меньших моих... — Баба Зося умолкает, смотрит в окно, смотрит на Летечку и качает головой. А голова у нее белая-белая, седая-седая, и глаза белые, незрячие. Вряд ли она видит его сейчас.
— Мать моя тоже сгорела? — пугается ее незрячих глаз, ее седины и тишины Летечка.
— Все на войне сгорели, кто душой, кто телом, кому как суждено.
— А где я был до госпиталя, до топчана, баба Зося? Как я попал в ту избу на топчан? Ты что, меня бросила?
— Что ты, Летечка, что ты? Что напраслину узводишь? Как это я могла тебя кинуть. Прибился ко мне в войну один хлопчик годков восьми, так я за ним доглядала, по хатам ходила, просила куска хлеба до последних его ден. Сама б для себя не стала просить. А как погляжу на его, что ему еще жить надо... А ты мне такое говоришь, попрекаешь меня. Как мне такое от тебя слухать, Летечка... — и баба Зося заплакала. — Я из госпиталя сюда пришла, чтобы глядеть тебя, пригорнулась я сердцем к тебе, ты мне уже как свой. Были у меня и сыны, и внук твоих годков. Может, ты это и есть...
— Так ты не знала меня раньше, до госпиталя, и отца и мать мою не знала, — Летечка сказал это бабе Зосе, зная уже ответ, понимая, что говорить не стоило, пусть бы оставалась обманчивая, но тешащая душу надежда не только для него, но и для бабы Зоей, вроде бы и она не одинока на этом свете, вроде и у нее есть кто-то родной, не все потерялись на войне, остался и у нее внук. Но он не хотел этой обманчивой надежды. Ему нужна была правда, голая, страшная, некрасивая, какая уж есть правда. К правде он стремился всю жизнь, всем говорил ее в лицо. Сначала было стыдно, трудно говорить правду, если касается она не тебя. Но мужчины не только не плачут, но и не врут. Но в ту минуту ему очень хотелось соврать, слукавить не ради себя, а ради бабы Зоей. Нужно бабе Зосе, чтобы он был ее внуком, пусть, его не убудет. Баба Зося сидела перед ним, маленькая, затаенная, молчала и молчанием взывала к пощаде. К молчанию. И он не стал требовать от нее ответа, лишь, уходя, сердитым хлопком двери выразил свое несогласие с этой обоюдной убаюкивающей, ничего не проясняющей ложью. А зачем, кому это надо? Зачем на свете ложь, даже добрая? Ему от нее нет добра, лишний груз сердцу.
И этот груз помешал Летечкиной радости, когда он увидел во дворе у колодца Лену Лозу. Лена пила воду из ведра, поставив его на край колодца, и заходящее солнце, уже на треть спрятавшись за верхушки лип, красным глазом поглядывало, как она пьет. Вода проливалась из ведра, попадала за вырез платья, на босые, окрашенные солнцем голые ноги. Лена перебирала ногами, будто обжигалась водой, поднимала голову, встряхивала волосами и снова припадала к ведру. И Летечка удивлялся, сколько можно пить. Вот уже солнце смущенно уползло до половины за деревья. И ему уже самому захотелось припасть к ведру, чтобы заломило зубы от студености. А вода в детдомовском колодце была всегда неимоверно студеной, в глубине на стенках колодца еще об эту пору держался лед. Летечка заторопился к Лене, чтобы попить вместе с ней из одного ведра той зуболомной воды. Но тут к колодцу на велосипеде подкатил Гриб, что-то сказал, что именно, Летечка не слышал. Но Лена засмеялась и протянула Грибу ведро. И Гриб пил так же жадно, как только что Лена. Потом они, выплеснув остатки воды на землю, бросили ведро в колодец. Набирая скорость, закрутился ворот, и обиженное ведро пошло гулять по стенкам. Цепь еще продолжала раскручиваться, а Лена прыгнула к Грибу на раму велосипеда. Гриб обнял Лену, уцепился обеими руками за руль, прижался к ее боку грудью, оттолкнулся правой ногой от земли, закрутил педали и покатил, выворачивая на липовую аллею, на которой день или два назад Летечка целовал Лозу. И то, что они выбрали именно эту аллею, больнее всего задело Летечку. Он не выдержал, побежал за ними, чтобы высказать все Лене, кто она есть. Но высказать ему ничего не пришлось.
Не доезжая десяток-другой метров до стены тупика, Гриб и Лоза упали с велосипедом в траву и не поднимались. Уползли от велосипеда. Летечка еще минуту наблюдал, как, затухая постепенно, крутится заднее колесо, красно сверкает в закатном солнце никелированными спицами. И было в этом затухающем сверкании что-то обнаженно стыдное, больно жалящее глаза. Летечка торопливо побрел прочь, размышляя, как он мог подумать всего лишь пару дней назад, что у него с Леной будут дети. Никогда у него с Леной не будет детей. «А вот у тебя будут, будут дети, очень скоро даже, — сказал он мстительно, адресуя эти слова Лене. — Вот будут у тебя дети, тогда узнаешь...» Но что должна узнать Лена тогда, он не знал и не хотел думать об этом дальше. На душе было тоскливо. И некуда было идти, не с кем поделиться, некому показать свои раны. А они уже кровоточили в груди и кашлем рвались наружу. И он зажимал этот кашель, давил его, чтобы не услышали Лена с Грибом. Незачем им там, в траве, слышать, как кто-то кашляет. Незачем Лозе знать, что это кашляет он, Летечка, тот самый Летечка, который когда-то целовал ее, целовал теми самыми губами, на которые сейчас набегает кровь. Пусть она об этом не узнает никогда. Пусть ей будет хорошо с Грибом, как ему, Летечке, было хорошо целовать ее. Он не заставит Лозу раскаяться, что она позволила ему целовать себя. А он будет помнить, что и у него на этой аллее...
Тут кого-то прорвало тем самым пронзительным, его, Летечкиным, криком, который он давил в себе вместе с кашлем и уже было подавил. Летечка от неожиданности даже присел: кто это так ревет за него? Ревела машина, сигналила на всю Слободу, новенький зеленый «газик». Детдомовский шофер, молодой заполошный парень, уехал за ним еще на той неделе и вот приехал. И теперь сходил с ума от радости, звал разделить его радость детдомовцев. И детдомовцы ощупывали и охаживали «газик» со всех сторон, как только цыгане могут охаживать приглянувшуюся им лошадь. «Газик» был хорош по всем статьям и близко не родня бывшей до него в детдоме полуторке. Полуторка была как бы живым существом, еще одним, таким же, как они, детдомовцем, по кличке, считай, или по имени Полундра. И именно поэтому «газик» не понравился Летечке. Летечке жалко было сведенную на той неделе со двора Полундру. А ее сводили в буквальном смысле, как сводят на живодерню отслужившую свое клячу. Шофер выдирал из ее чрева трубки и патрубки, откручивал зеркало, выкручивал приборы.
— Ничего, новая будет. Все равно хана, отходила свое старушка.
А Летечка уже породнился с той старушкой. Она появилась в детдоме даже раньше его. Нечасто, но Полундpa возила его на себе. Возила в город и тут, по Слободе. Возила не только Летечку, но и гостинцы детдомовцам из большого города. Когда Летечка, уезжая в большой город, спрашивал у Козела или Стася, что им привезти, те обычно отвечали: батончик. И все другие детдомовцы давали ему наказ: батончик. И давали денежку. На конфеты не хватало, а белая городская булка-батон была не меньшим лакомством и дивом, нежели конфета. Сколько этих батончиков на старушке Полундре перевозил Летечка. Как умна была эта Полундра, как послушна. Сколько с ней связано и у него, и у других детдомовцев радостного и горького.
Как-то милиция оштрафовала за что-то шофера, отобрала у него права, забрала Полундру. Детдомовцы частично по своей инициативе, частично подстрекаемые шофером пробрались во двор милиции. Выкатили оттуда свою Полундру и побарабанили ее по улице к детдому. Шофер возле детдома завел машину. Детдомовцы только забрались кто в кузов, кто в кабину, и тут засвистели милицейские свистки, из переулка вынырнул милиционер на мотоцикле.
— Прыгай! — закричал шофер тем, кто был в кузове, и поддал газу. — Ну, не подкачай, старушка!
Колька сидел в кабине рядом с шофером и поначалу не очень-то верил, что старушка может поспорить с мотоциклом. Но она поспорила, с грехом пополам вытянула за город. А там вдруг рванула, запылила, зверьком прошла по проселкам, нырнула по полевой дороге в жито и кружным путем в детдом, в сарай, где стояли лошади. В детдоме ее уже ждали, вышли все, как один, и перекричали милиционеров, отстояли свою старушку.
Она ведь столько сделала им добра, присадистая, неуклюжая, не очень ходкая, столько перевозила и продуктов, и одежды, и дров. Хрипела и кашляла, надрывалась, но тянула, все тянула. Она прошла фронт, самое пекло, видела войну не вприглядку, а воевала, как рядовой пехотинец, только что ползать не умела по-пластунски, а может, и умела; видела убитых и раненых и сама не раз была раненой, искалеченной возвратилась с войны и сразу же, без передыху, стала работать на детдомовцев, видела еще самых первых, голодных и оборванных, их слезы, раны и вши. Она победила слободянские необоримые пески, болота, гати и броды, бездорожье. Она была солдатом, колхозником, рабочим. И вот сейчас, когда нет ни войны, ни голода, когда и в Слободу пришел асфальт, нет Полундры. Вместо нее нахальный, сытый, крепкоголовый «газик». И Летечка кривился, разглядывая его, чувствовал, как зреет в нем неожиданное, необъяснимое ощущение вины. Хорошая, ничего не скажешь, хорошая новая машина. Но что из того, что она хорошая, новая и сердце-мотор у нее не простужено, не сорвано, что ей не составит никакого труда обогнать Полундру. А если спросить ее, где ты была, когда Полундра воевала, что услышишь в ответ на это, где ты была, когда Полундра тонула в болотах? Нет, не заменить ей в Летечкином сердце Полундру. Вместе с ней его тоже словно бы предали, отправили на свалку. За то, что он недоделок. А справедливо ли это?..
Все вокруг словно с ума посходили вместе с шофером. А о том не задумываются, что никогда не будет у них такого родства с этой новой машиной. Не будет потому, что она н о в а я, новая не машина, а существо новое, что она этой своей новизной и мощью уже отделена от них, существует самостоятельно. Не думают об этом. Стоило лишь поманить новой красивой игрушкой, забыли обо всем на свете. Вот так же забудут и его...
— Атанда, хлопцы, шухер, шухер... — по хозяйственному двору петлями, прыгая через рытвины, глаза на вылупку, мчал Ванька Бурачок-младший. — Андрея моего бьют... В канцелярии... Вера Константиновна... Палкой... За хлеб, за хлеб... Это ты, Летечка, ты виноват...
И Летечка с Козелом, а за ними и остальные ребята ринулись в канцелярию.
Вряд ли била Вера Константиновна Бурачка-старшего, наверно, только грозилась, брала его на испуг. В ту минуту, когда Летечка ворвался в канцелярию, Бурачок, закрыв лицо, глаза ладонями, жался в угол, а воспитательница, опершись одной рукой о стол, взмахивала другой и при этом сердито что-то выговаривала. На полу у ее ног лежала линейка, магазинный метр, каким продавцы меряют материю. Приметив Летечку, Вера Константиновна оторвала руку от стола и потянулась за счетами, которые лежали там. Зачем понадобились ей вдруг бухгалтерские счеты, тянулась она за ними инстинктивно, с испугу или запустить с пылу хотела, Летечка не рассуждал, что к чему. Он вырвал из рук Веры Константиновны счеты, скорее она сама выпустила их, как только Летечка протянул к ней руку. Он схватил счеты и ударил. Второй раз ударил, на этот раз взрослого человека, и ошеломленно застыл. Но это внутреннее ошеломление никак не передалось его рукам. Был испуг, страх, но не было стыдно за свои руки, которые ударили человека. Будь в том нужда, будь необходимость, Летечка чувствовал — ударил бы еще. Но ни нужды, ни необходимости не было. Вера Константиновна не защищалась и не нападала. Она смотрела на него испуганными коричневыми глазами и молчала. И испуг вызревал в ее глазах в ужас, потому что там, за спиной Летечки, уже стоял почти в полном составе весь детдом. Ребята и девчата стояли молча, но молчание это было угрожающим. Летечка испугался, он почувствовал, понял, что может последовать за этим молчанием. Поняла это и воспитательница. Закрыв лицо и глаза руками, словно стараясь спрятаться и спрятать от Бурачка, Летечки, от всех детдомовцев свой испуг, Вера Константиновна бросилась к двери. И убежала. Убежала из канцелярии. Из детдома. Навсегда. И что с ней стало дальше, Летечка не знал и не хотел знать. Не стал он и другом Бурачку-старшему, хотя тот ходил за ним буквально по пятам, готов был лизать ему, как Остолоп, руки. Но Летечка бежал от этой дружбы. Другое сейчас волновало его, другим он был занят. И слишком мало на это другое было у него дней. И едва ли в эти дни он был уже детдомовцем. Детдом начал отходить для него в прошлое в ту минуту, когда он встал на защиту детдомовца Бурачка-старшего. И меньше всего была нужна ему за это сейчас чья бы то ни было благодарность. Летечке было даже неприятно, что его благодарили. Он стыдился той минуты, его бросало в пот от воспоминания о том, что могло произойти...
Глаза в глаза, покорность, загнанность одного и страх и ужас в глазах другого. Что может быть ужаснее этого? Что?..
9
Постепенно Летечка становился в суде своим человеком. У него определилось уже постоянное место, свое кресло в последнем ряду, откуда его не могли разглядеть ни судьи, ни полицейские, а он мог видеть всех. Толпа для него не была уже одноликой, он научился различать людей в этой толпе. Завсегдатаев, для которых суд был театром, любопытных, случайно попавших в зал, и тех, кто шел сюда со своим судом, своим приговором, деревенских теток и бабок, которые спешили в этот зал в надежде, что среди множества имен погибших и замученных назовут имя их сына или дочери, которые сгинули, пропали без вести и которых они по сей день ждут и будут ждать до самой смерти. Таких, правда, набиралось в зале немного и с каждым днем все меньше. Стояло лето, страдная пора, и надо было смотреть в осень, в зиму, заботиться о хлебе насущном, о дне грядущем. А полицейские были из дня минулого. Они стерли их ненавистью еще в первые дни суда. И не было им места ни в людских делах, ни в людских думах, потому, наверное, не появлялся больше на суде и Захарья.
— А что на мертвецов смотреть, — ответил он Кольке, когда тот спросил, почему Захарья не ходит больше на суд. — Еще ненароком жалко станет. А жалеть мне их не с руки. Собакам собачья смерть.
Летечка задумался. Вроде бы прав был Захарья, но что-то мешало ему согласиться с этой правотой.
— Почему же вначале ты с кирпичом даже на суд пришел? Ты что, уже простил все им? А что бы сказали твои сыны, дед Гуляй, дети бабы Зоей?
— А что бы они сказали, Летечка?.. Нельзя жить чем-то одним. Жизнь широкая, все надо в себе, в памяти своей иметь. Сыны, дети, дед Гуляй — как ни крути, как ни верти, а их уже не поднимешь. А я живой, живу, человек я, страшно мне жить и виноватиться, держать в памяти только смерть, все время помнить, что их нет. Все время думать, почему их, а не меня. Почему я пережил детей своих? Может, это мне в наказание, может, я недосмотрел чего-то? Боль на сердце моем, потому и не хожу больше, чтобы не бередить...
— Чего же это ты мог недосмотреть, война же ведь?
— Так, Летечка, так, но ведь воевали люди, люди. А я ведь тоже из людей.
— Выходит, ты забыл их, Захарья, закрыл глаза и уши: ничего не ведаю, ничего не знаю, ничего не было... Я не я и хата не моя? А с бабой Зосей так до сих пор и не помирился?
— Грешно человеку, Летечка, на смерть смотреть. Смерть тоже уважать надо. Не надо ее дразнить, лишний раз на глаза ей попадаться. И тебе мой совет, Летечка, не ходи больше туда.
— Это почему же и мне не ходить? Сам говоришь, уже скоро... Да и ты только до спаса...
— Вот потому сам не хожу и тебе не советую. Гляди на сонейко в последние дни, там его не будет, не будет, Летечка. Гляди, как птички летают, как люди ходят, живут. Вот что нам с тобой надо. Хорошо ведь жить, Летечка, пройтись утречком по земельке. Взять еще в руки топор. И по холодку, пока не припекло, помахивать им. Гонишь ты стружку, и другие думки в голове, веселые, о житье-бытье. Как ляжет это бревно в дом, заиграет на сонейке, обольется смолкой живой, зазвенит, запоет...
— Ты ведь уже не себе ставишь дом.
— А какая разница, Летечка. Все мы живем, гребем, все к себе, все к себе. А там ведь никому ничего не надо, там ведь одинаково всех принимают, и кто успел, и кто не успел нагрести, и бедных, и богатых...
— И полицейских?
— Тут не скажи. Тут уже от человека все идет, от того, как он сам определил себя на земле, при жизни. Вот как оно получается. Боится человек помереть человеком, помирает собакой. А я человеком хочу помереть. Жил — смерти не цурался, помираю — смерти не ищу. На ходу, в работе приму ее. А в зале том она меня нечаянно может придушить. Пойдем со мной, поглядишь, как я живу.
— А дальше, Захарья?
— Что дальше?
— А там, — Летечка указал пальцем на землю и махнул рукой. — А там? Не знаю я про себя ничего: откуда пришел и куда уйду?
— Из земли, Летечка, из земли. Все из земли.
— А я не верю, что я из земли, не верю, может, я из огня, из полымя и хочу в огонь, обратно в полымя. Я хочу знать, хочу все узнать о себе.
— Вот чего человеку не дано, того уж не дано...
— Почему не дано? Кто не дал, Захарья, кто не дает, кто держит?
— Жизнь, — сказал Захарья. — Жизнь, Летечка, держит нас и не пускает, куда не след пускать живого.
— Тебя же она пустила, ты же заглянул за Ивана Купальника и в спас. Или наврал мне?
— Бывает у человека минута, выпадает ему минута. Казнит он потом себя за эту минуту, и я казню, Летечка, себя, что сказал тебе. Не все надо говорить, что знаешь, не все видеть, что видится. Все бы порассказать кому, Летечка, что я видел, что я знаю, что в эту минуту чувствую, так и не поверит никто, и слов у меня таких не хватит. И про себя надо что-то оставлять. И забывать надо. Не к добру все о себе помнить и знать. Не ходи, Летечка, больше туда...
Летечка не послушался Захарьи. Его теперь, пожалуй, никто уже не смог бы остановить. Летечка был там, далеко, где сгинула его память и надорвалось сердце, где гремела война и гибли его мать с отцом. Бегал, прятался по лесам, попадал в лагеря, его трижды расстреливали, трижды сжигали живым. Но не могли ни расстрелять, ни убить, он выползал из-под трупов, выходил из огня и снова жил, чтобы дождаться завтра. И завтра снова умирать и снова оживать.
И постепенно, как это ни странно, между ним, сидящим в зале, умирающим, страдающим, и полицейскими за барьером, охотящимися за ним, установилось даже некоторое понимание. Нечто сродни пониманию между охотником и дичью. Слишком долго они, видимо, гонялись за ним. Очень уж хорошо он узнал их характер и повадки. И, видя лица полицейских, испытывал даже радость. От сознания, что видит, а значит, живет. Не убить, не убить его им, не поможет им и тактика выжженной земли, тотального истребления. Не его они жгут, не в него они стреляют, а в себя. А он, Летечка, не горит, он заговорен от пуль, пусть стреляют, пусть жгут, он все возвратит им — их огонь, их пули, — за все воздаст. Вместе с теми, загубленными, разыщет их и на том свете. Соберет всех. Отыщет деда Гуляя, белобрысых, пахнущих молоком Сучков. Он придет под Азаричи в мелкий хвойник, в болото, обтянутое колючей проволокой, и поднимет тридцать семь тысяч тифозных стариков, женщин, детей, пройдет вновь деревенским ночным шляхом и соберет всех, кто лежит там, кликнет десять тысяч евреев, сотни заключенных минской тюрьмы, обойдет все деревни, все пепелища и кликнет сгоревших. И все они, тысячи тысяч, пойдут на тех, кто жег, убивал их. Ни один не убежит от них. Ни один не спрячется и на том свете. На том, на этом свете нет никакого уголка, где они могли бы затаиться. Грядет суд вечный и беспощадный. Пусть дрожат они. Грядет расплата. Грядет, потому он, Летечка, сейчас и впитывает в себя чужие боли и больки, ходит каждый день на суд, на площадь, на лобное место, хотя ноги его уже отекли, налились водой и отказываются служить. Не длинна дорога от детдома до этого места, но для него уже почти непосильна. А он все равно торит ее дважды в день, потому что эта дорога живит его. Не будь ее, он, может, уже и сам бы... Но рано пока ему, рано... Большое дело ему поручено. Кем? А он и сам не знает кем: отцом, матерью или теми убитыми русскими, белорусами, евреями, его сверстниками, детьми, сожженными, расстрелянными, закопанными живыми в землю. Им он должен понести с этого света правду о живых, как живые платят за их муки и смерть.
С этой площади и поведет он увечных, растерзанных, расстрелянных, сожженных, не доживших до этого светлого дня земного суда. Поведет по асфальту. Это для них стелется асфальт, для них прокладываются ровные дороги, чтобы не сбились с пути, чтобы легче им было шагать, потому что длинен их путь, бесконечна их дорога. Пусть быстрее, быстрее тянут асфальт, пусть быстрее рубит на земле новые хаты Захарья, чтобы было им где передохнуть, переночевать и чтобы они, как и Летечка, могли сами все увидеть. Не беспокоиться о земле, не думать, что там только пепелища да ветер. Вечна земля. Ее не убить, не сжечь, как ни профессионален, как ни мастеровит убийца. На земле есть другие мастера, и они до смертного своего часа не расстаются с топором и косой, до последнего вздоха смотрят на сонейко, сколько его отпущено до конца их работы. Вечна жизнь. Не знает она ни остановки, ни передышки. Звенят над землей топоры.
Летечка, несмотря на свою занятость и немощность, все же выбрал часок, погостил у Захарьи. Не в доме его, не в том доме, в котором он жил, а в том, который строил на пепелище бывшей деревни Сучки. От шестидесяти дворов деревни Сучки уцелела только кузница — прокопченный сарайчик с двумя крошечными, в одну шибку, закопченными окошками-бойницами. Они, окошечки, будто бойницы, постоянно подрагивали от гулких ударов молота, постоянно метался в них огонь от горна. И сам сарайчик, как дот, окружен был со всех сторон обгоревшим черным металлом, стянутым сюда скорее всего с полей и пепелищ. Отдельно, в сторонке, лежали, судя по свежей ржавчине, бывшие в работе нынешней весной плуги и бороны. Повсюду кучи золы, горелого древесного угля, а у двери добрая гора угля свежего. Видать, немало работы было у кузнецов в прошлом, немало предстояло и в будущем. У горна в самой кузнице правили эту работу двое: мужик Захарьиного роста с грудью, как кузнечные мехи, которая ушла даже немного в спину, так одинаково покаты и необъемны были его спина и грудь. Помогал мужику мальчишка-подросток его, Летечкиных, статей. Длинными кузнечными клещами мужик поигрывал в красно бушующем горне, как змейкой, раскаленной, сыплющей белые искры полоской металла. И тяжелые клещи в его черных руках казались обыкновенной палочкой крушины, вырезанной и узорчато прокопченной над костром мальчишками, или продолжением руки самого кузнеца, с такой легкостью повиновались они его хотению, с такой легкостью вздымались и опадали над горном, кружили в его всхлипчатом пламени.
Было в этих клещах человеческое, живое нетерпение, азарт живой был. Кузнец в одно летящее движение выхватывал из полымя клещами, как рукой, полоску металла и нес ее от горна по прямой к лицу. И смотрел в это время не на металл, а куда-то в сторону. Но, не глядя, видел, а может, чувствовал лицом по силе жара, готова она лечь под молот или нет. Кивал мальчишке головой, хватался свободной рукой за рукоятку мехов и снова отправлял металл в огонь. Помогал мальчишке раздувать мехи. Они уже были старые-престарые, латаные, с покоробленной от жара кожей, но работали исправно. Там, за стенкой, вдыхали чистый воздух, хватали с глухим скорбным «ха», будто рвали, отламывали его, и, ужимаясь, пряча заплаты, весело вливали этот воздух в неистовствующее, сине подпрыгивающее пламя горна.
Полоска металла, словно выброшенная из горна огнем, описав полудугу, коснулась наковальни. В руки кузнецу впрыгнул молоток на длинной ручке, он тюкнул им по металлу, гахнула кувалда, опущенная подростком-помощником, и веселый перезвон заметался по темным углам кузницы, заиграли в догоняшки молот и кувалда: тюк-перетюк-матюк. Закорчился, заизгибался раскаленный металл. И опять, словно повинуясь не молотам, не силе их ударов, а воле, приказу, исходящему от клещей в руках кузнеца, на глазах у Летечки бесполезная полоска железа превращалась в серп. Кузнец положил плашмя на наковальню молот и бросил заготовку в воду. Отер пот с лица, посмотрел на Захарью с Летечкой.
— Кто к нам пришел, Миша?
«Он что, слепой? — подумал Летечка. — Слепой кузнец, да как же он...»
— Захарья пришел, — ответил мальчишка. — А с ним хлопец чужой.
— Топор, — сказал Захарья. — Топор ты мне оттянул, Ульян?
— Говорите громче, он не слышит, — снова подал голос мальчишка и отцу: — За сакерой, батька, Захарья пришел.
«Да он и глухой еще, слепой и глухой кузнец...» Летечка смотрел на кузнеца во все глаза.
— Некогда мне, Захарья, с топорами, — сказал кузнец. — Серпы сейчас делаю. Скоро жать надо.
Сел на еще теплую наковальню, достал из кармана мешочек с самосадом, гармошкой сложенную газету и принялся крутить самокрутку.
— Обезручил ты меня, Ульян, — сказал Захарья, приготовясь уходить.
Кузнец засмеялся.
— Оттянул я топор твой, и направили с сыном. Не хотел, по правде говоря, а взял в руки и чувствую — железо, сталь...
— Еще довоенной твоей, Ульян, работы.
— Вот я и чувствую. — Кузнец прикурил, сладко затянулся. — Железа много и нету железа, Захарья. Горит. Как палка, железо стало. Ни топора из него, ни ножа, ни серпа...
— Захарья, он что, совсем-совсем слепой? — спросил Летечка, когда они ушли из кузницы.
— Видит... Видит день-ночь, светло и темень...
— А как же, как же он... — у Летечки перехватило дыхание.
— Стучит, стучит, — сказал Захарья. — Руками видит... Глаза пугливые, глаза боятся, а руки делают.
— Да как же руки могут делать, когда глаза не видят?
— А не знаю, Летечка. Но вот по себе сужу. Возьму я в руки топор, и не нужны мне глаза. Топор лучше меня видит дерево. Вижу и я, но я только еще думаю: тут бы притишить его, тут бы сплеча, дерево крученое, дерево верченое... А топор уже управился. Я еще додумать не успел, а он уже — тюк-перетюк-матюк — и обогнул порченое место, выбрал его. Вот так, Летечка, посмотришь сам.
И Летечка посмотрел. Сначала на Захарью. Захарья еще на подходе к плотникам сбросил с плеч свой вечный бушлат, снял и гимнастерку и предстал перед Летечкой сам как дерево. Ничего в его теле не было лишнего, оно в меру солнцем просмолено и, как топорище, звонкое, вгоняй его в работу, не давай покоя. И Захарья вогнал. Ввинтил ноги в землю, застолбил с двух сторон бревно, чтобы не сбежало от него ненароком, сплюнул на руки, скорее по привычке, отсекая все, что было до этого, все лишнее в себе. Дзинькнул, оскользнувшись о сучок на первом пробном взмахе, топор. Удивленно — кто это посмел с ним баловать — взмыл вверх, развалил надвое утро, одну сверкающую его половину отбросил Летечке, другую — в холодок выше человеческого роста поднявшегося над землей сруба и пошел гулять, пошел писать по бревну, повел человека и его руки в дерево, в его жизнь, отсекая, изымая из него то лишнее, ненужное, что было еще вчера помечено, обречено на отсечение черным, мазанным в угле шнурком. И просохшая, ошкуренная заранее лесина начала обретать форму, чтобы лечь рядом с другими лесинами в сруб и обернуться домом. Работы прорва, но он не унывал. Посверкивал на солнце, знал свое дело. Поднимался, опускался, брал сноровкой, испугом, осторожностью и силой, остротой и сталью. С лету определял, где надрубить, где подрубить, где подтесать, где не торопиться, с двух сторон обжать верченое осмолье, незаметно подкрадывался к сучку и незаметно скрадывал сучок, пластал плахами, по-чистому отваливал выстоенное, ровное, но бесполезное дому, годное только в печь.
Даже удивительно было, сколько в дереве, таком совершенном на вид, взращенном под солнцем и ветром, не принимавшем в себя ничего лишнего, отходов, сколько в нем для огня, для ветра, для земли. Сколько работы топору, чтобы обтесать и положить в сруб бревно. Сколько работы потом, когда оно уже обтесано. Потом, оказывается, только и начинается работа — прогонка пазов, подгонка углов. И топор стал и вовсе виртуозом. Он то поклевывал носиком, верхним, нижним своим краем, то вонзался в дерево всем острием — и вдоль по бревну, и поперек, и наискось. Щепал, выстукивал, прослушивал бревно. Говорил с ним, выспрашивал, где больно, а где терпимо, и наговаривал все услышанное хозяину то торопливой веселой скороговоркой, то басом, то звенящим дискантом, выговаривал что-то хозяину и дереву одновременно. И бежал, бежал вперед, рвался из рук, вел за собой хозяина, понимал и хозяина, и дерево, повинуясь хозяину и помня, что тот слеп и беспомощен без него. Он познал уже дерево, знал уже его явные и тайные изъяны и радовался, что об этом знает и хозяин. Радовался светлому утру, тому, что ему в это утро есть работа, что он так легко, играючи справляется с ней, был доволен, что его направляют умелые и сильные руки, а это ведь всегда хорошо, когда ты в хороших руках. Был он доволен и тем, что Летечка все это видит и любуется им. В скороговорке работы не забывал, что на него смотрят, его слушают, и призывал к вниманию, требовал внимания, был задорен, смешлив, баловал и озоровал с лесиной, хозяином, с Летечкой и утром, сыпал смехом, щепой и светом. Задирал даже солнце. Рубил нити лучей, слепил ими Летечку, Захарью, лесину. Исторгал смех из дерева. И в шумной своей веселости не знал устали, не знал предела, пока не вогнал хозяина в пот.
И как давеча кузнец в кузнице, Захарья присел на бревно и сладко затянулся махрой. Спустились со сруба, подсели деды и тоже задымили.
— Ну как, хлопец, наша работа, как ты ее оцениваешь?
— Ничего работа, топоры хорошие... — Летечка не знал, что говорить, но, оказывается, сказал то, что надо.
— Разбираешься. Мы уже никуды не гожи, а топоры еще внукам передадим. А у тебя, Захарья, сакера, так и украсти такую не грех. Где ты ее на ночь хоронишь?
— Где ночью лежит, там днем нема. Ночью он за мной следом, как собака, ходит. Не взять чужому человеку моего топора. Был один. Сижу я так раненьким-раненько за столом, снедаю. Гляжу в окно крадком. Шух кто-то по двору и к повети. Снедаю. Думаю, что же ты, голуб, украдешь у меня? Самого интерес разбирает. Но снедаю.
— Знаем уже, что снедаешь, — сказал дед, сидящий по правую руку Захарьи. — Пока чугун картошки не утопчешь, с места не поднимешься.
— Чугун не чугун, но ведро доброе... Снедаю. Поснедал, выхожу во двор, топор мой вот этот у голуба в руках. Стоит он с ним, колотится. «Ты чего, — говорю ему, — украл, так бежи...» — «Ох, дядя, ох, родненьки, отпусти ты меня, отпусти, век чужого не возьму». Я ему: «Не держу я тебя, голуб ты мой, откуль пришел, туда и иди». — «Не могу, не могу, — молит, — сакера твоя держит меня, шагу не могу ступить. Возьми, избавь, век на чужое не гляну». Я его и не бил, так, тресочкой только по заду, для науки. Топор у него взял, как дунул он на улицу, самолетом не догонишь. Вот мой топор какой...
— И сбрешешь, недорого возьмешь, — сказал дед, сидящий от Захарьи по левую руку.
— Не скажи, не скажи, — поддержал его напарник. — Старые люди слово ведали. Вот мой дед пчел разводил. Двадцать колод у него в лесу, у других то зверь, то человек соблазнится, разорит. А деда мойго пчел никто не мог взять. На спор, знаю, лазили. И сам я был пацаном, лазил, признаюсь вам сейчас. До половины хвои или дуба еще так-сяк, узлезу, а далей вот как все равно не пускает кто-то, держит кто-то. Я вверх, меня вниз, я вверх, меня вниз. И в вачах тёмна...
Захарья посмеивался, дымил самокруткой, подмигивал Летечке. А Летечка слушал во все уши и не хотел замечать его подмигивания. Он верил тому, что рассказывает дед о пчелах, верил рассказу Захарьи о своем топоре. Он сам видел этот топор. Топор этот мог все, мог и не такую штукенцию выкинуть. А старики разговорились, плели бывальщины и небывальщины, и ни слова, ни слова о суде, о войне. Все о пчелах, о топоре, о дереве и о том, как стоять этому дому, который они рубили, будет ли в нем сырость, заведется ли в нем шашель, как ставили раньше дома, заводили в них цвиркунов и о чем пели по вечерам эти цвиркуны. Добрым словом поминали землю, на которой живут. Кругом недороды, засухи, суховеи, а то еще хуже — дожди, вымокает, гибнет, случается, все на черноземе, на земле теплой, богом благословенной. А на их земле, гибельной, малярийной, проклятой богом, будь то засушливо, будь то потопно, а зернятко и бульбочка выстаивают. Рожает их земля, кормит, и на прожитье, и на семена отложить есть что и в самые страшные годы. Добрая земля, добрая. Белая Русь, Белая Русь. Одна она, одна такая во всем белом свете. Видели деды, знали Сибирь, Урал, Крым и Рим, Пруссию, Венгрию, Болгарию — не то, не то. Пастух там и пугу не так держит. И солнце там другое, и ветер не тот. Гарбузы не растут. А хаты так, прабачайте, люди добрые, из этого самого, из дерьма коровьего лепят...
Дети, а не старики. Будто и не было войны, будто они всю жизнь вот так, мирно-тихо просидели на бревнах, на бревнах родились и в бревна должны уйти, лечь бревнами в срубы, в дома, которые они сами же и ставили.
И Летечке уже не хотелось уходить от них, век бы сидел вот так, вдыхая горький дым самосада, и слушал про то, что было и чего не было. Но не мог сидеть. Чувствовал, что уже отравлен судом. Затянул его суд, закружил, и не мог он вырваться из этого кружения. Словно попал в омут и теперь должен был идти по току воды до дна, обрести дно, коснуться его ногами и только тогда, оттолкнувшись от твердого, всплыть, вынырнуть на воздух.
Разговоры стариков, посещение кузницы только мешали ему теперь, отвлекали от того, главного, что происходило в нем. А с ним, с Летечкой, творилось что-то непонятное. Он уже наяву сам ловил себя на том, что вдруг исчезает из сегодняшнего дня, куда-то пропадает, уходит в некую иную жизнь и долго-долго не возвращается. Впервые он поймал себя на этом, когда допрашивали бровастого соседа Калягина. Летечка к тому времени вроде пообвык на суде, привык, что все полицейские говорят правду о себе, страшную, нечеловеческую, на которую вряд ли способен нормальный человек, ужасался этой правде, той бездне, которая разверзалась перед ним. Рассказывали, как старики о пчелах, о том, чем они жили, что видели. А жизнь, впечатления их были однообразны: огонь, огонь, огонь. Огонь по команде, огонь без команды, в часы досуга. И огонь этот уже завораживал, усыплял, и казалось, ничего страшного в нем нет. Но бровастый вдруг отверг все свои показания на предварительном следствии.
— Есть там немножко, есть. Но это не важно, не важно, — так он ответил судье на вопрос о своих показаниях на предварительном следствии, с этих слов начал свои показания на суде. И его острое сабельное лицо источало негодование и нетерпение, сверкали, словно раскаленные угли, глубоко ушедшие в глазницы красные глаза. Летечка из всех его слов ухватил только «не важно, не важно» — так беспечно и весело, с неким даже вызовом судье, залу и ему, Летечке, были брошены они. Не важно, что он там делал, в сорок третьем, в сорок четвертом, что он до этого говорил, что говорили о нем, все не важно. Важно, что он скажет сейчас. Слушайте, что он скажет сейчас. И он сказал, пригнувшись вперед, вынеся голову за барьер: — Это ж война!.. Это ж немцы!.. А я... Я отрицаю... Отрицаю я.
И это слетевшее с уст полицейского «я отрицаю» настигло Летечку, перекликнулось со звучавшим и в нем «я отрицаю». Он, Летечка, давно уже отрицал все, о чем говорили полицейские. Он знал, что полицейские говорили правду, но не хотел верить правде, не хотел верить своей памяти. Он жил и сам в сорок третьем, в сорок четвертом, он не хотел верить и той жизни. Он отрицал ее, отрицал. Стремление познать до конца ту жизнь и отрицание ее реальности удивительно соседствовали в нем. Так двояко человек может воспринимать только сон, его нереальную реальность. И Летечка словно заснул наяву, заснул на суде, одновременно находясь здесь, в зале, и далеко от него, в доме, срубленном стариками и Захарьей, веря, воспринимая все, что происходило здесь, и так же веря и воспринимая все, что происходило в доме.
Человечек с острым сабельным лицом и неимоверно тяжелой, будто украденной с другого лица челюстью рвался из-за барьера, рвались, тянулись к автомату из-за барьера его руки. Он изворачивался, ползал, выторговывал себе жизнь. И недорого вроде просил за эту жизнь, молил только одного, чтобы он, Летечка, спал, продолжал спать, чтобы закрыл он двери и ставни в новом доме. И тогда они оба будут жить, полицейский и Летечка, не зная ничего друг о друге, не подозревая о существовании друг друга. И Летечка принял его условия. Закрыл двери, закрыл ставни, перекрыл дорогу солнцу и свету, шуму выспевающих в поле хлебов, запаху цветов в палисаднике. И стало ему раздольно и легко в прохладном уютном полумраке. И забили, запели у печки цвиркуны, тайком пронесенные в фуфайках дедами в этот дом. Хороший дом построили ему деды. Все в нем было для житья — и тепло, и вода, и столик для хозяйки у окошка заботливо выстелен клееночкой, и кровать поставлена, мягкая, с панцирной сеткой, городская, и радио не забыто, проведено. Мастера из слободчанской глины и кирпичей, наворованных Захарьей в пору его службы на кирпичном заводе, сложили печку. Из Слободы протянули к нему в дом на бывшее пепелище водопровод, и в трубах пружинила вода — кап-кап-кап, — подпевала цвиркунам, капала из краника. И свет электрический пришел к нему из Слободы. И в подполе стояла дежечка с сальцем, и картошечка прошлогодняя, но крепкая еще, сохранилась в этом подполе. И чугунок картошечки с сальцем упревал за заслонкой в печке. И каравай свежего хлеба на капустном листе томился там же. Летечка открыл заслонку, вынул из печи хлеб, постучал по нижней корочке ногтем: хорош, дошел, поспел. Плеснул на хлеб водицей и бросил каравай на стол, прикрыл полотенцем, чтобы не отошла корочка. Открыл подпол, открыл дежу, жмурясь от чесночного и тминного духа, пластанул себе добрый кус сала, вытащил из печи чугунок с картошкой и принялся за еду. И, как Захарья или скорее как Бурачок-старший, не отвалился от стола, пока не опростал чугунок, не выскреб его до дна, пока не умял каравай хлеба и сала. Крутнул пуговку радио. И пришло веселье. Дом наполнился грохотом и громом. Живи — не хочу, ешь, пей, гуляй, а хочешь, и на боковую, на кровать с панцирной сеткой. И Летечка выкрутил радио, забрался на кровать. Хорошо ему было полеживать на боку в новом доме на мягкой кровати. Там, за окном, жарило солнце, высушивало землю. Тут прохладно, кап-кап-кап, но не над головой, а в железную раковину. И тюк-перетюк-матюк слепого кузнеца забивался песней цвиркунов, пригревшихся у теплой печи. Истомная дрема нежила не больное, не недоделанное, а вполне-вполне пригодное для жизни и для лежания на кровати тело. Какие-то тени бродили в полумраке на стене, полетывали полусонные в темноте мухи, но они не раздражали Летечку. И во сне, подремывая на кровати в новом доме, переваривая сало и картошку, увидел Летечка еще один, новый сон. Дом ушел, раздвинулись, растаяли, растворились стены. И светло-светло стало вокруг. Бетонным многолюдным тротуаром по знакомой улице спешили навстречу друг другу два незнакомых и знакомых человека. Была это вроде Слобода, в то же время и не Слобода. Дома как картинки, и все каменные, высокие, тротуар опять же бетонный и каштаны обочь. Но печать Слободы, желтый отсвет ее лежал на каштанах, бетоне и домах. Этот отсвет и на лицах тех двух, что спешили навстречу друг другу. Только один был недоступен и важен, а второй... Летечка не сразу признал во втором себя. Ни во сне, ни наяву не мог он представить себе такого красивого города. Не мог представить, что ему делать в этом городе. Ведь он знал только Слободу, сросся с ней. И крик, нескрываемый, непридавленный, метался в его глазах, в глазах того Летечки, который шел по городу. А тот, взрослый, важный, смотрел на Летечку-подростка недоступно и строго. И Летечка тоже признал в нем себя. Встретились два Летечки, два Кольки. И Колька Летечка, лежащий на кровати и наблюдавший эту встречу, испугался: нет ничего хуже увидеть себя взрослым во сне, это все равно что себя голым увидеть во сне. А два Летечки, два Кольки на тротуаре знакомого и незнакомого города поравнялись друг с другом и разошлись, не признав друг друга.
— Стойте, стойте, гады! — закричал им Летечка с кровати. Подросток и парень недоуменно остановились, оглянулись, посмотрели один на одного и не увидели друг друга. — Возьмитесь за руки, гады, сволочи! Вы же родные, родные...
Парень пожал плечами, шагнул к подростку, прошел сквозь него и пошагал дальше, туда, где за высокими каменными домами стояли каменные дома еще выше, где бегали какие-то диковинные разноцветные машины, где площадь и били на ней разноцветными брызгами фонтаны, где стояли в тени каштанов цветные скамейки, а на скамейках сидели нарядные веселые женщины, вроде бы даже Лена Лоза поднималась навстречу парню, поднималась, отводила рукой от глаз цветную водяную радугу-дугу. А мальчишка соступил с бетонного тротуара, тротуар перед ним кончился, как оборвался, как будто его утащили из-под ног, и он песком пошел к маячившему вдали городу, одноэтажному, деревянному и естественно желтому. И Летечка заплакал, наблюдая, как в разные стороны разошлись два Кольки. И, плача в этом своем сне, знал, что мужчины не плачут, и приказывал себе не плакать. А слезы текли...
И вновь сдвинулись стены, и вновь наступил полумрак, Летечка был опять один в новой избе, построенной дедами. Были цвиркуны за печкой, кап-кап-кап — капала из крана вода. Надо было соскочить с кровати, топнуть ногой об пол, и цвиркуны бы замолчали, и перестала бы капать вода. Пропал бы, рассыпался дом, построенный дедами. Он опять был бы в зале суда. Но Летечка уже не мог и не хотел двигаться. Ему пришлось заставить себя силой шевельнуть ногой, топнуть об пол. Так пригрелся он в доме, так не хотелось ему вновь на суд. И все же Летечка победил себя, топнул. И открыл глаза. Возле него сидела старуха. Сидели люди сзади, сидели впереди, и с другого, правого, бока кто-то сидел. Но Летечка видел только старуху. Недобрая, страшная была эта старуха. Черным было ее лицо. Черные щеки, ввалившиеся, черные, хотя и неожиданно полные для старухи запекшиеся губы, старческие мышцы уже не могли удерживать этих губ, не светили уже на морщинистом лице, хотя еще едва приметно подрагивали два глаза, как два погасших, присыпанных золой угля.
— Отрицаю, отрицаю! — кричал за барьером эсэсовец-полицейский, сеча сабельным лицом воздух перед собой.
— Отрекаюсь, отрекаюсь, проклинаю... — шелестела спекшимися губами старуха. А тот, за барьером, все тянулся, тянулся к старухе. Продолжал тянуться, когда ему уже приказали садиться и его место занял другой, самый ненавистный Летечке из подсудимых человек в черном: в черной рубашке с короткими рукавами, с массой черных наколок на руках, с темными цепкими и жестокими глазами. О чем он начал говорить, Летечка не слышал, потому что прятался от старухи. Не старуха это была для него, а сама смерть. Смерть, о которой говорил Захарья, смерть, которую он думал увидеть там, за спинами тех, что за барьером. А она, оказывается, сидела рядом, и давно, наверное, сидела. Летечка уже видел за спиной у нее ржавую косу и дрожал весь, ожидая взмаха этой косы. Но старуха смерть то ли пожалела его на этот раз, то ли побоялась принародно взмахнуть косой. Поднялась и, тихо перестукивая ярко начищенными ботинками, путаясь в длинной, до полу, черной юбке, потащилась к выходу. И все, кто был в зале — и суд, и те, за барьером, — проводили ее до самых дверей молчаливым взглядом. В немоте зала только сорочьи постукивали неразношенные мальчиковые ботинки. Потом стук перешел в топоток. У самых дверей старуха не выдержала провожавшей ее тишины, побежала, полетела, попав в проем света, бьющего из отворенных дверей, словно черная птица, расставив руки. Тишина стояла еще с минуту после того, как затих топоток ее быстрых шагов. Молчал зал, молчал, опустив глаза, человек в черном, молчал судья тяжелым каменным молчанием. И он, судья, так и не отважился нарушить тишину. Это сделал человек в черном. Судья лишь едва заметно кивнул ему головой, и тот заговорил неожиданно для Летечки приятным, звонким голосом:
— Мне было шестнадцать лет, когда пришли немцы. Мечтал стать агрономом, потому что мой отец был агрономом, его убили кулаки. Увлекался сельским хозяйством и музыкой, любил собак и пчел. Старший брат был призван в Красную Армию. Я с приходом немцев работал дома, по хозяйству. Состоял в подпольной группе, собирал оружие, три ящика патронов собрал, три винтовки, гранаты, наган. В 1943 году меня арестовали.
— Одного вас арестовали?
— Нет, вместе со мной была арестована еще одна семья, отец и сын. Содержались вместе, в одной тюрьме. Били...
— Чем объясняете, что вас разделили с той, арестованной вместе с вами семьей?
— Не могу знать.
— Не можете знать... Отец и сын показывают, что в то время, когда их пытали, вы уже разгуливали по двору без охраны.
— Да, было такое, встретились...
— Чем объясняете?
— Не могу знать, СД выпустило меня.
— Почему? Угодили чем-то, услужили?
— Не могу знать.
— Не можете знать, как превратились из арестованного в гестаповца? — устал, явно уже устал судья. Вроде и не пыльная у него работа, сиди задавай вопросы и слушай. А уже не сидится ему на высоком судейском кресле. Все время нагибается судья, нагибается, как будто кто-то давит на него, и дергается у судьи уже веко при каждом вопросе. Летечке не осилить, не понять ему, как человек из подпольщика превращается в гестаповца. Судья расставляет вехи этого пути, вбивает колышки. Летечка это уже понимает, он научился понимать судью, он видит вехи, вбитые им. Но эти указатели ничего не объясняют ему. Быть может, они понятны взрослым, а ему нет. Нет и нет. Нет и не может быть указателей на пути к предательству. Но как же все-таки оно свершается и какая загогулистая дорога ведет к нему?
Вот он, Колька Летечка, ему семнадцать лет, он любит пчел, собак и музыку. Но пришли немцы, у него ящик патронов, три винтовки, гранаты и наган. Он подпольщик, разносит листовки. Немцы приходят арестовывать его. Он отстреливается до последнего. Но его все же раненого забирают. Его бьют и пытают... Нет, нет, лучше смерть, чем на следующий день нечаянно встретить во дворе тех, отца и сына. Лучше смерть... Но почему он, Летечка, выбрал смерть, а этот, в черном, жизнь? Почему? Есть ли на это «почему» ответ?
— Как вы представляли себе свою дальнейшую жизнь? — вот он его, Летечкин, вопрос.
— В душе я был один, а форма представляла меня другим. Я был уже в форме.
Не тот ответ, не тот. Это уже потом форма, а до формы?
— Что вы испытывали, идя на предательство? Что переживали?
— Я хотел выжить, любой ценой выжить.
— Ради чего?
— Физическая потребность жить.
Вот оно — физическая потребность жить, предельно четко формулирует свои ощущения человек в черном. Физическая потребность жить, то есть так же, как он, Летечка, несколько минут жил во сне, в доме, срубленном дедами: поел, попил, поспал, поел, попил, поспал. В доме с закрытыми ставнями, в норе, в берлоге, в волчьей, в собачьей шкуре, в ужиной, гадючьей коже, в одиночестве, страхе — все равно жить. «Боится человек помереть человеком, помирает собакой...»
— А задумывались вы: брат в Красной Армии, отец убит кулаками...
— Думал, но действовал по-другому, так получалось...
— Ваша любовь к животным, ваши музыкальные наклонности?
— Это все было забыто.
— Ваша духовная жизнь, чем она наполнялась?
— Кровью. Мне страшно. Мне страшно... Ужас какой...
— Сейчас вам страшно?
— Сейчас и тогда, всегда.
— Чего вам страшно, страшно лишиться жизни?
— Всего, всего мне страшно. Ужас какой... Мне не верится, что это я...
— Не бойтесь, не бойтесь себя, унтер-капрал зондеркоманды 7 «А». Вы не боялись ведь, расстреливая и сжигая живьем детей, стариков, женщин. За это вам и присвоили звание унтер-капрала... За что вы расстреливали, убивали, жгли советских людей?
— За то, что они советские люди.
— Это как понимать: вы мстили им за свое предательство?
— Да, так это надо понимать...
— У вас была еще возможность бежать из СД, когда вас освободили, когда ваши руки не были еще в крови. Советская Армия уже была на подступах к городу. Почему вы не бежали?
— Не сориентировался...
Видавшего виды судью передернуло от этого откровенного, неприкрытого «не сориентировался». Дернулся и Летечка, но от радости. От радости, что тот, за барьером, не сориентировался. Сориентируйся он, кто его знает, мог бы пережить Летечку. Пережил бы, имея такую зоологическую потребность жить. Вот он — ухожен, до синевы выбрит, без единой морщинки на лице, тренированное, литое тело спортсмена. Жил бы, ходил по земле, как бомба, начиненная взрывчаткой, и потихоньку выколупывал бы из себя эту взрывчатку, ждал бы своего часа, когда можно рвануть, не таясь, полным зарядом. А так уже не рванет. Старуха ждет его за этими стенами, не упустит...
— Том дела пятнадцатый, страница двести четырнадцатая. Здесь с ваших слов записано, что в Марьиной горке содержались дети, у которых немцы брали кровь для раненых немецких офицеров и солдат. Актом Государственной комиссии установлено, что таких детей-доноров в специальном лагере, расположенном в Марьиной горке, было восемьдесят... Восемьдесят детей от восьми до двенадцати лет, синих, едва держащихся на ногах, было освобождено и госпитализировано наступающими частями Советской Армии. Поясните суду, что вы знаете об этих детях?
Дрогнули и взмыли вверх, заплясали над барьером орлы, змеи и кинжалы на руках у человека в черном.
— Суд ждет!
Ждал не только суд, подались вперед и замерли, как один человек, все, кто был в зале.
— Я знаю, что в сорок третьем к нам в Бобруйск приходили транспорты с женщинами и детьми. Мы брали у матерей детей, грузили их на машины.
— Брали у матерей детей... Они что, добровольно вам отдавали их?
— Какое добровольно! Но женщины — не мужчины. Вырывали...
— Говорите за себя. Что делали вы?
— Я вырывал детей из рук матерей. Матери царапались и плакали. Их загоняли за колючую проволоку, расстреливали, отправляли в Германию. Детей грузили на машины и увозили. Куда, я не знаю. Их дальнейшая судьба мне неизвестна.
— Кто, кроме вас, из находящихся на скамье подсудимых участвовал в этой акции?
— Все... Я, Калягин, Тягук, — человек в черном кивнул в сторону своего бровастого соседа с острым сабельным лицом.
— Подсудимый Калягин, признаете показания?..
— Ничего не могу сказать. Не помню.
— Подсудимый Тягук...
— Не было такого, не было!
— Было, было! — это кричал, и плакал, и прятался за барьер человек в черном.
— Было! — это кричал, захлебывался в плаче Летечка. Он все вспомнил, откуда он есть и откуда пошел. — Мама, спаси меня! — закричал он на весь зал, как кричал на всю землю в том далеком сорок третьем, как кричали тысячи и тысячи его сверстников.
10
— Мама, спаси меня! — пяти-шести-семи лет пацан, подпоясанный веревочкой, в зеленой материнской кофте, в зеленом материнском платке недозрелым зеленым плодом висел на материнской шее. Он обхватил мать за шею ручонками, уткнулся в шею лицом и плакал ей в шею, и кричал в шею, обмывая ее слезами. А трое в черном с молниеобразными буковками на погонах, с костями и черепом на пилотках — не подходи, смертельно — трясли его мать, как грушу. Двое клонили ее книзу, выламывали ей руки, а третий рвал на себя мальчишку, рвал, откручивал, как откручивают с ветки, взяв за бока, яблоко.
Эти зеленые орущие яблоки рвали не только трое. В огороженном колючей проволокой живом человеческом саду была масса сборщиков в черном, как листья, летели на осеннюю серую землю платки, свитки и кофты. Стон и крик стояли над землей, породившей все это. Как подрубленные деревья, корчились на земле уже не способные на крик женщины, рвали на себе волосы, забивали рот песком. За колючей проволокой, прижавшись к земле резиновыми лапами, как звери, застигнутые врасплох, стыли тупорылые машины. Они уже давно были изготовлены к прыжку, к стремительному бегу подальше, подальше отсюда, уже давно были заведены железные сердца-моторы, но только дрожь, бежавшая по капотам, выдавала их работу. Машины оглохли от стона и крика, онемели от всего, что здесь происходило. Потеряли голос и сборщики в черном, осатанели от нечеловеческой работы. Разверстыми ртами немо матерились и с нечеловеческим усердием и силой рвали тела, материю, живое и мертвое.
— Мама, спаси меня! Мама, спаси меня!..
Не было спасения. Дрожала взятая в колючую проволоку земля под коваными солдатскими сапогами. Не было спасения в этот день и земле. Все, на что она была способна, это отторгнуть от себя, отречься, выгородить колючей проволокой тот малый пятачок-коридорчик своей прокаженной плоти и закрыть глаза и уши на то, что на нем происходит. Не пускать сюда ни живого, ни мертвого. И птицы облетали то место стороной, муравьи и козявки обегали его, трава и та бежала оттуда прочь. Солнце стыдилось взглянуть на землю. Оно тоже закрыло глаза и уши, чтобы не ранить себя памятью, чтобы, не дай бог, не проговориться, не напугать других людей и другие народы страхом и ужасом свершившегося здесь.
Мальчонку оторвали от матери и поволокли на руках по воздуху, будто боялись, что он уползет червяком в землю. И он извивался в мужских сильных руках червяком, скользил из рук, словно стал вдруг голым, скользила за ним, как пуповина, царапала землю веревочка. Его ухватили за эту веревочку, оторвали от земли и бросили в кузов машины. И та, приняв детское тело, глухо брякнувшее в ее нутре, сорвалась с места...
«Киндерхайм, киндерхайм», — осенней мухой бьется сейчас в голове у подростка чужое страшное слово. Он знает, вспомнил, что это слово означает. «Детский дом, детский дом...» Был, оказывается, детдом и у немцев. И недоумение и дрожь охватывают его: немцы, фашисты и — детский дом. И вновь перед ним оживает сверкающий никелем и стеклом медицинский шприц, мужские крупные, крепкие, добела вымытые, пахнущие лекарством и чистым полотенцем руки. Вместо пальцев на этих руках пять черных змеек. Змейки, извиваясь, нацеливают на его тело огромную змею — шприц. Шприц-змея гоняется за ним, жалом целится в его синее тело. И туман. И из тумана два цвета — синий и красный.
Мир окрашен в два цвета: синий и красный. Есть еще и третий в нем цвет — цвет тумана, белесо-молочный. Но это не цвет жизни. Это провал, это бездна, поглотившая его, начавшая пожирать с той минуты, когда он ударился о кузов машины. День погас, забелился молоком. Молочный туман наплыл на него, растворил в нем его руки, ноги, тело. Остались лишь глаза да то, что живило их, малая толика неосязаемого, но неумирающего нечто. Остались глаза и нечто, чтобы видеть это молочное, плывущее на него вязко и неотвратимо.
Когда же это молочное отступало, все вокруг заполнялось синим и красным киндерхаймом. Киндерхайм был для него не словом, не звуком, а тоже цветом, красным и синим. Эти цвета сплелись между собой, и невозможно сейчас вспомнить, различить, какой был первым, словно они возникли друг из друга, вылились один из одного. Вроде бы сначала главенствовал синий. Синий был день, синей была дорожка, по которой его вместе с другими и тоже синего цвета детьми вели к синему двухэтажному дому. А одновременно что-то вроде было и красным. Красными шлаковыми шариками перекатывалась под его ногами дорожка или тропинка, по которой он шел к двухэтажному киндерхайму. Возле двери обвалена штукатурка, и в глаза заглядывают красные кирпичи.
Это все снаружи, на подходе. А в самом киндерхайме, тут, отчетливо помнится, господствовал синий цвет. Он лежал и на кирпичах, и на полу, и на лицах тех, кто жил в нем. А красный пришел потом, потом. Вонзился в глаза, заслонил, застлал их, затопил собой все...
Мальчишка пяти-шести-семи лет плыл по белесо-молочному туману. И постепенно выплывал из него. Выплывали сначала ноги, а потом руки, одна, вторая, а потом он заметил, что вокруг люди, такие же, как он, мальчишки, девчонки. Но не обрадовался им. Все они были страшного серо-землистого цвета. И все чего-то ждали, поглядывая на дверь. Их выкликали по одному за эту дверь, и оттуда неслись стоны и крики. И мальчишка ждал своей очереди, копил в себе стон и крик. И настала его очередь. Открылась и закрылась за ним дверь. Но он не закричал. Крик застрял у него в горле. То, что он увидел на белом-белом столе, было страшнее страха. На застеленном простынею столе в стеклянных палочках была живая кровь.
И отпрянул синий цвет, все надолго окрасилось кровью. Из красного выплыли пальцы-змейки со змеей-шприцем и указали ему на стол. Он забился под стол, его вытащили оттуда за ногу. Он укусил кого-то, его ударили по лицу. Удара он не почувствовал, его было бесполезно сейчас бить, боль ушла из тела. Тело было деревянным. И от удара лишь деревянно вздулись губы и на губах появился вкус дерева, будто он грыз дерево, и в губы впились занозы. Его бросили на стол. Прикрутили руки и ноги к столу. И тут он закричал, но не горлом, а прикрученными к столу ногами и руками, которые все видели, но не могли защитить его. Видели красные стеклянные трубки с кровью, нацеленную на него иглу — жало шприца. Глаза понимали, что шприц рвется к нему, чтобы взять его живую кровь. Всю до капли. Он останется без крови, и его выбросят на помойку. Весь земной ужас сосредоточился для него на черной, косовато срезанной дырочке шприца. Вся земная боль смотрела на него из этой дырочки. Жало шприца настигло его и впилось, всосалось в его руку. И он снова провалился в бездну, в белесо-молочный, сосущий из него соки туман. Выжатой тряпкой лежал он на чем-то жестком и рубчатом. Быть может, он был даже мертв. Но это его не испугало. Чего бояться, если в тебе нет больше крови, если змея пила ее из твоего тела долго-долго, пока сыто не отвалилась, роняя кровавые капли, уползла из твоего тела.
Но, оказывается, кровь в нем еще осталась. Даже удивительно, сколько в его маленьком теле горячей красной крови. Ею можно было затопить весь мир, ею можно было захлебнуться. Но шприц справлялся, не захлебывался. И ему уже не жалко было крови, хотя он по-прежнему сине дрожал, ожидая своей очереди вместе с другими мальчишками и девчонками. Дрожал, пока шприц целился в него, но стоило шприцу проклюнуть его тело, как страх уходил из него, уходил вместе с кровью. И вместе с кровью уходила память, что жила в нем. Он превращался в нечто без чувств и памяти, равнодушно лежащее то ли на топчане, то ли на нарах. И вот эту память через много-много лет, через небытие в нем пробудили вновь. Не прорвавшийся в нем тогда криком страх, крик и страх, который он, Летечка, сам того не зная, носил в себе все эти годы, выспел, выплеснулся из него. И, хотя ему теперь уже никто и ничто не угрожало, он понял, что не переживет этого страха и крика, не сможет ни остановить, ни забыть ничего, не сможет больше жить на земле с этой своей памятью. Беспамятным мог, а с памятью нет. Он тоже оставшаяся с войны, не взорвавшаяся бомба. И сейчас, вот-вот он должен взорваться. И пусть никто не мешает ему взорваться. Прочь от людей, прочь — в поле, в лес, чтобы ненароком не задеть кого-нибудь, не поранить. Нельзя ему больше жить, нельзя, потому что в каждом человеке ему будет мерещиться та черная образина. В медицинском шприце, ныне вливающем в него жизнь, будет мерещиться жало змеи. Он больше не будет ждать восхода солнца, завтра. Завтра для него уже наступило. Мужчины не плачут...
А слезы шли...
11
И умер Колька Летечка на следующее утро. На своем любимом крылечке. На восходе солнца. Когда детдом еще спал. Когда спал еще город. Умер легко и внезапно. Неожиданно для себя умер. Готовился, ждал, а все свершилось в минуту. Минута эта, правда, была разбросана мгновениями в последних часах, которые были ему отпущены в тот день, разбита на секунды. И, живя последние часы, он секундами в них чувствовал собственное умирание, некую мощную вспышку, голос-зов, которому нельзя было не подчиниться. Но самое главное мгновение, первые, самые главные секунды он пропустил.
Пропустил, быть может, потому, что время вдруг пошло для него как бы вспять. Он был в своем привычном вечернем сне-тумане. Но неожиданно все как бы вспыхнуло в нем и перед ним. Он увидел свои ноги, увидел новым, непривычным взглядом, не своим, теперешним, а давним-давним, полным недоумения и вопроса к самому обычному, к тому, что человек ходит, что эти два кривых сучка могут нести тело. И ему, как бывает в детстве, захотелось вдруг попробовать языком, вчера прорезавшимся зубом эти так неожиданно обнаружившиеся крепкие ноги. А ноги у него теперь и в самом деле были крепкими. Жить бы да жить с такими ногами. Не было больше ни в них, ни на них ни воды, ни опухоли. Просторно и легко вдруг стало его ногам в ботинках, и сами они просились с шага на трусцу.
Не успел Летечка привыкнуть к вновь обретенным здоровым ногам, не успел свыкнуться со светом и солнцем, с цветами на земле и в стекле, как обрел и новые сильные руки. Прихлынули к рукам кровь и сила, и зачесались они, запружинили, затосковали по работе, по топору, молоту кузнеца. Летечка чувствовал, у него теперь хватило бы дыхания махать топором, качать кузнечные мехи. Обновилось у него и сердце, не было в нем больше ни болей, ни хрипов. Вроде бы воздуха вокруг стало больше. И ликующая радость охватила его. Но... длилась она недолго.
Уже в следующее мгновение Летечка задумался: с чего это ему так хорошо? Крутнулся на месте, пробежался глазами по медно пылающему листвой осеннему саду, заспотыкался о красно высматривающие из этой листвы, вроде бы перезрелые, но на самом деле совсем-совсем зеленые яблоки, нырнул глазами в обманную при закатном солнце глубину пруда и словно ударился головой о песок. Заныло, застонало сердце, но не тем, прежним, ноющим и стихающим стоном, а непреходяще, не от боли, а от тоски. От прощальной разлучальной тоски. Хитрили то ли земля с ним и его телом, то ли он и его тело с землей шли на взаимный обман и немилосердный сговор. Земля убаюкивала его, даровала ему на час-другой здоровье и силу, чтобы заглушить страх и взять его навсегда, расслабленного, тепленького, изготовившегося жить, чтобы он уснул сегодня счастливый и радостный, уснул и не проснулся. Потому так и милостива, добра к нему в последний раз. А может, наоборот. Может, это тело, чувствуя свой последний час, так взывает о жизни, сжавшись от страха, глушит боль, уговаривает землю, просит поверить, что оно здорово, что ничего ему не надо, что ему всего хватает — и света и воздуха. Но и тело и земля знают, что будет дальше. Земля своего не упустит.
Знает об этом и Летечка. Знает и не боится. Чего бояться? Бояться ведь надо того, о чем не знаешь. А он уже столько раз умирал за свои семнадцать лет. Пальцев на руках и ногах не хватит посчитать, сколько раз он умирал. Его убивали в Тростенце под Минском, его живьем сжигали в деревенской хате в деревне Сучки, его сжигали на скотобойне в безымянной деревне, закапывали живым в землю, мозжили голову о кузов машины, убивали по капле в немецком киндерхайме. Он уже устал умирать. Надо ведь когда-то и по-настоящему умереть. Пришел час. Пробил. Он дождался его, суд идет, идет по земле Но пусть не думают те, кто убивал его, что отделаются легкой смертью. Он последует за ними и в землю. Будет суд и там. Грядет суд. Не для всех строятся новые дома, не для всех прокладывается асфальт. Кого-то по этому асфальту и вывезут, вывезут из этой идущей на лад новой жизни быстренько, пугливо, чтобы ни вони, ни скорби... А он двинется в свой последний путь по новой нетряской дороге неторопливо. Завтра ему, Летечке, уже некуда будет спешить. А пока надо поспешать. Надо поспешать.
И защемило, защемило сердце, на душе стало тоскливо, словно и он чем-то очень и очень провинился, виноват в чем-то перед всем белым светом. Перед изолятором, Зосей, Козелом, перед людьми и вещами. Изменил, предал и людей и вещи и сейчас убегает от людей и вещей. Виноват в том, что столько знает не очень хорошего о людях, виноват и в том... в том... Он не мог высказать, в чем. Ему неожиданно припомнилась седая женщина, с которой он сидел в зале суда, которая испытала столько горя и стыдилась смотреть людям в глаза, словно во всем, что произошло с ней. была виновата она сама. И Летечка, как и та женщина, винил себя за все то окружающее зло, что творилось на свете, за то, что ему выпало изведать его, за людей, к которым принадлежал и он сам, что дорогим ему будет больно его и с ч е з н о в е н и е. Ведь впереди его ждало светлое и радостное. Он сам должен был нести это светлое и радостное другим. Но он так и не осветит никого и ничто, его свет и с ч е з н е т вместе с ним, ничего не случится, не произойдет из того, чему суждено случиться с ним. И ничего он не сделал из того, что должен был, обязан был сделать, ради чего он приходил, появился на белом свете, что должен, обязан сделать, оставить после себя на земле каждый человек. И он тосковал и винился в ту минуту перед всем белым светом за несделанное, несвершенное, что перебирает в памяти человек один на один в свой последний судный день и судный час. Щемило от тоски и стыда сердце. И Летечка заторопился, заспешил, чтоб хоть что-нибудь да успеть, чтобы хоть как-нибудь отблагодарить белый свет за то, что он видел солнце и небо, землю, за то, что он хоть и недолго, трудно, но все же жил на земле. И любил. Любил и любит...
Летечка тихонько открыл дверь изолятора и так тихонько, бережно закрыл ее, что Козел со Стасем. только переглянулись и пожали плечами. А Летечка бегом рванулся от двери к своей кровати.
— Сейчас, сейчас, ребята... — Летечка дернул из-под кровати деревянный, перешедший по наследству к нему от Халявы, а тому еще от кого-то по наследству чемодан.. Был он неокрашен, плохо оструган, но таил в себе целую эпоху нескладной детдомовской жизни. Летечка склонился над ним, втянул в себя его запах давно изжитых клопов, яблок, хранившихся когда-то в нем, а теперь давно уже съеденных, конфет, запах его, Летечкиной, жизни — лекарств, дезинфекций, металла и резины. Вздохнул и рывком открыл крышку. Высыпал все, что было в чемодане, на стол. А было там: магнит, катушка медной тонкой проволоки, лента резины от противогаза, увеличительное зажигательное стекло, маялка из кроличьего пушистого хвостика со свинцовой пломбой посередине, зубной порошок, щетка, банка черного гуталина, коротенькая металлическая трубка для поджиги и загогулистый корень — заготовка рукоятки для той же поджиги, хромовый язычок от ботинка для рогатки. Шкатулка, сшитая розовыми нитками из шести ярких открыток — видов Москвы, и «Три мушкетера» Дюма. — Вот, — сказал Колька. — Вот сколько добра нажито. — Выхватил из общей кучи магнит и катушку проволоки, спрятал руки за спину. И катушка и магнит жгли ему руки. Надо было скорей избавляться от них. Летечка вспомнил, как ему достались эти катушка и магнит, как выдирал он их из испорченного динамика. И как трусливо с месяц ждал наказания. Никто так и не узнал, что он раскулачил динамик. И с этими двумя первыми из своих вещей Летечка расставался почти радостно. — Кому в какой руке? — весело выкрикнул он.
— Мое в левой, — сказал Козел.
— Мое в правой, — сказал Стась.
И Колька передал Козелу магнит, а Стасю катушку. Передал и улыбнулся тому, как мудро поделил все случай: Козел давно уже ищет проволоку для рогатки, а досталась ему бесполезная вещь — магнит. Летечка подмигнул Стасю, решил и дальше делить, сообразуясь с этим случаем.
— Ты что, уезжаешь куда? — спросил его Козел. — Что-то страшно мне, мороз по коже...
— Да так, холодно просто, — заторопился Летечка и снова сунул в обвисшие руки Козела рукоятку для поджиги, гуталин, нитки, иголки, пуговицы и совсем уж смеха ради коробку зубного порошка и щетку. Порошка этого в детдоме было хоть забор городи, каждые две недели выдавали по набору: щетка, порошок. И хранил их Летечка так, чтобы чемодан не гулял. Козела даже передернуло от этого внеочередного набора. Вполне он мог и зафитилить этим порошком в Летечку. Но Летечка успел умиротворить его, сверху на коробку зубного порошка положил маялку.
И дрогнула Летечкина рука, кладя ее. Больно стало, что не понадобится ему больше она. Появилась маялка у Летечки недавно, а мечтал он о ней давно, как мечтал до этого дня Козел. Как мечтает об этой игрушке-забаве каждый детдомовский и городской пацан. Обошлась Летечке она в пять полных ужинов плюс еще пять пряников от завтраков за свинец. Вроде бы собаке под хвост выбросил ужины и пряники. Не пригодилась ему маялка. Не дождался. Пусть теперь лежит в чемодане у Козела. Стасю Летечка оставлял резину и язычок кожаный от ботинка для рогатки, увеличительное стекло, трубку для поджиги. Бесполезные, в общем, для него вещи. Но кто его знает, какие вещи дольше хранятся и дольше живут, полезные или бесполезные...
На столе на белой чистой скатерке остались «Три мушкетера» да шкатулка. Книжку Летечка положил на подоконник, пусть она будет общей, а со шкатулкой не знал, что и делать. Не должны были касаться этой шкатулки чужие глаза. Досталась она Летечке так же, как и проволока и магнит, нечестным путем. Но, глядя на нее, Летечка испытывал не страх, а радость. Он вспоминал, как утащил эту шкатулку у Лены Лозы из тумбочки. Совсем недавно украл и готов был еще раз украсть.
И, глядя на шкатулку, радуясь ей, Летечка готов был заплакать, словно раздетый донага стоял он перед Козелом и Стасем. Освободился стол от вещей, и только колола глаза вызывающе яркими красками шкатулка. Будто это не шкатулка, а сама Лена была здесь, в комнате, беззащитная, сидела перед ними. И стыдно было смотреть на нее и нельзя было отвести глаз.
Неуютно и неловко почувствовал себя не только Летечка, но и Козел со Стасем. Будто они подсматривали друг за другом и все трое знали, что подсматривают, и от этого страдали. Страдали, что знают друг о друге такое, чего нельзя знать Стасю и Козелу, Летечка ощущал это, уже жгли руки его вещи. Неуютно было в эту минуту в изоляторе, как никогда не бывало. Все трое молчали, и в этом их молчании было отчетливо слышно, как скулит и подвывает в саду Остолоп, как бесятся за стеной в здоровом крыле корпуса детдомовцы. Разошлись, будто хотят развалить в этот вечер весь корпус или, по крайней мере, сломать стену, отъединившую их, поделившую их на больных и здоровых...
— Ах ты гад, гад! — ни с того ни с сего закричал вдруг Козел и бросил на кровать то, что минуту назад с такой радостью принял от Летечки. И сам упал на кровать, забился в плаче.
— Летечка, Летечка, — сказал Стась, прислушиваясь к плачу Козела, к тому, что творится за стенкой, к вою Остолопа за окном и вздрагивая. — Не надо мне ничего, Летечка. Забери назад. Тебе еще самому все это пригодится, Летечка...
— Забирай, забирай и мое! — закричал Козел. — Падла ты, сука, Летечка! Ты что... ты что придумал! — Козел совал Летечке в карманы, за пазуху магнит, баночку с гуталином, маялку, рукоятку от поджиги, ронял все это на пол, подбирал и трясся, будто его била припадочная. Стась отодвигал, отсовывал от себя Летечкины дары и сам отодвигался от них. В его всепонимающих глазах влажно копился испуг. А Летечке было обидно, что Стась и Козел так легко обходятся с тем, что он собирал всю жизнь. — Бей, бей его, гада! — подскочил внезапно к Летечке Козел, вздернул вверх подбородок, так что на нем глянцево заблестела бумажная старческо-детская кожица и синенько проявились все жилы и жилки. Козел занес уже руку, уже пахнуло на Летечку холодком от его детского маленького кулака. Но в последнее мгновение он сдержался, только царапнул по лицу воробьиным острым и синим коготком. А Стась Дзыбатый, тот самый Стась Дзыбатый, который и муху обминал, ударил-таки его, мазнул по лицу ладонью, как мокрой половой тряпкой.
— Вот и подрались, — сказал Летечка. — Столько лет вместе жили, а подраться не смогли... Вот и подрались. Вот и подрались...
И все опять неожиданно вспыхнуло в нем и перед ним, озарилось ярким, нахлынувшим ниоткуда светом, кто-то позвал его. Летечка мгновенно ослеп и оглох от этого голоса и от этого света. Но как прозвучал мгновенно этот голос, так мгновенно и пропал, только музыка проигрывалась в ушах, незнакомая, никогда не слышанная. Сквозь эту музыку он различал сейчас и голоса Козела и Стася, сквозь нее видел их лица.
— Добренький какой... Добренький какой... Убивать надо за такое. — Стась завалился на кровать и отвернулся к стенке; забился в угол, устроился в углу на корточках и Козел, смотрел на Летечку, ненавидел из угла. И Летечка почувствовал свою вину перед Козелом и Дзыбатым. Действительно, все не так он сделал, как надо было бы. По-человечески даже не распростился с ними, ни с кем не простился, даже с Захарьей, бабой Зосей. Он помнил, до последней минуты помнил о Захарье и бабе Зосе, но память эта была зыбкой и расплывчатой, вроде бы как не о живых людях, а о тенях, некогда окружавших его. Милых, дорогих тенях. Одна из них вроде была когда-то его отцом. а вторая то ли бабушкой, то ли матерью.
Музыка звала его из изолятора, уводила из комнаты, пропахшей лекарствами, хотя ни запаха лекарств, ни какого-нибудь другого запаха он уже не ощущал, вела на простор, на воздух, где квашней вправо и влево растекалась дорога, где потрескивала в холодке прожаренная за день зноем линейка, где стеклянно опрокинулся в ночи пруд и плавала, беспокойно плавала его, Летечкина, рыба. И Летечка хотел, поскорее к линейке, к дороге, к пруду, к рыбе, хотел поскорее расстаться: со своими вещами. Избавиться от их гнета. Он все время помнил и о магните с катушкой, и о несобранной поджиге с заготовками для рогатки, и о маялке со шкатулкой. Ему не хотелось, чтобы кто-то после него дотрагивался до них, дотрагивался с брезгливостью, опаской. Он хотел подарить, разделить их между Козелом и Стасем. Ведь это совсем другое дело, если он определит их своими руками в руки Стася и Козела. На них ведь не останется тогда печали смерти, которая неизбежно ляжет на его вещи и будет преследовать Стася и Козела, если эти вещи достанутся им уже не из его рук. Из его рук — это значит, в них будет жить только память о нем. Добровольно — это значит, он не вернется за своими вещами оттуда, не напугает никого. Сам ведь отдал, не пожалел. Хотел уйти на эту ночь из изолятора, чтобы не напугать Стася с Козелом, а оказывается, уже напугал. Надо оставаться до конца в изоляторе, чтобы еще больше не напугать их. И нельзя оставаться. И станет изолятор для детдома, для Стася с Козелом проклятием. Вечерами будут они пугливо оглядываться по сторонам. И что делать, что делать? А ведь изолятор дорог ему, хоть он и не любил его. Но ведь это его дом, он провел здесь больше, чем полжизни. И как уговорить себя остаться в нем до конца, как объяснить все Козелу со Стасем, куда их переселить хотя бы на эту ночь, где найти самому место на эту последнюю ночь? А ночь, ночь уже на дворе, уже угомонились за стенкой ребята, уже не затихают, поют то ли за окном, то ли под полом в изоляторе сверчки. А Стась с Козелом еще не спят, и все меньше остается у него времени. А может быть, так и не кончится, так и останутся на небе звезды и луна, будут бить в темноте сверчки. Не кончалась бы никогда ночь.
Летечка медленно поднялся с кровати, медленно передвигая ноги, направился к выходу.
— Куда? Куда? — вскинулись Стась с Козелом. Дурачки, они решили стеречь его, думают, что его можно устеречь.
— Я сейчас... Я сейчас вернусь, — сказал Летечка. Но они не поверили ему, крадучись, пошли за ним следом, надеялись помочь, а только мешали...
— Летечка, Летечка! — в последний раз услышал он голоса Стася и Козела.
— Спокойной ночи, хлопцы. — И сам поверил, что ночь у них действительно будет спокойная, он постарается, чтобы она была спокойной. В свою последнюю ночь он не уснет. И в первый раз в нем не было испуга перед ночью. Ежедневно приходящего с наступлением вечера испуга, боязни, что вот он ляжет и не проснется. Сегодня был страх, но другой: ненароком не забыть, не продремать, не проспать собственную смерть, ту минуту, когда коснется он порога другой жизни, нового бытия или небытия. Не хотел он смерти в изоляторе, смерти во сне.
Но Летечка таки придремал, на минуту смежил глаза, но тут чья-то рука коснулась его плеча и кто-то ласково шепнул ему в ухо: пора, пора. Он подхватился с кровати. Приморились, спали Козел со Стасем. В окно уже красно заглядывал рассвет. Но Летечка не видел рассвета, в глаза ему уже светило другое солнце, он задыхался от его яркости, не хватало воздуха. Летечка, как птица, готовящаяся к полету, вытянулся всем телом в струнку, замахал руками, ловя ускользающий меж пальцев воздух. Но не было его уже в изоляторе. У него еще хватило сил отворить дверь и выйти на крыльцо и там, на крыльце, увидеть, как плавится, горит, пылает небо, рушится солнце, ломается пластами и текуче подминает уже парящие от жара просини.
— Люди! Люди! — безголосо завопил он, выкинув перед собой руки, загребая воздух.
Успел, вспомнил, что такое уже было. Улыбнулся, испугавшись, что солнце останется, а его уже не будет. Но этот испуг не успел уже коснуться его лица, сохранил на лице улыбку и слезу. Мужчины не плачут, а слезы — что поделаешь со слезами... Падая, удивился, неужели это все, и понял, что это все. Улыбку, недоумение и слезу, не просушенную еще солнцем, увидел пришедший с рассветом на крыльцо Захарья. Он утер свою и Летечкину слезу, закрыл Летечке глаза.
— Ну вот и отмучился... — достал из кармана кисет с табаком, свернул самокрутку, закурил. — А главного я тебе так и не успел сказать. Помирились мы с сестрой. Так что ты не ходи ко мне, не труди ноги... А можешь и прийти. Приди, посмотри, все нам веселей будет. Забираю я ее к себе, в свой дом, не обижу, куском хлеба не обделю. Хватит ей по чужим людям мыкаться, казенным хлебом давиться... Вот так, Летечка, так... По-людски, теперь уже все, по-людски, жалко, не увидишь этого. Но подожди уж, подожди, приду я к тебе, сам все расскажу... Отмучилось, отмучилось ты, дитя мое, отгоревало... Что ж поделаешь, что ж поделаешь, житка наша такая...
Хоронили Летечку спокойным и чистым летним полднем. Хоронили всем детдомом, всем городом. Вышло так, что похороны эти совпали с большим для города праздником — днем освобождения города от немецкой оккупации. И поначалу было решено отложить похороны, чтобы не портить праздник. Улицам для праздничного шествия были нужны детдомовцы в парадной форме, детдомовский оркестр. На утренней линейке было объявлено только об этом шествии. Но, когда настало время радостно трубить горнам и бить барабанам, ни один из детдомовских барабанщиков, ни один из детдомовских горнистов не вышел на улицу. Детдомовские оркестранты собрались у ленинской комнаты, куда еще утром привезли из больницы Летечку. Под окнами плакал трехногий Остолоп, и оркестранты, не зная, что играть, не решаясь на траурную музыку, играли марш «Прощанье славянки». И в медных звуках начищенных до ослепления труб слышались печальные раскаты грозы. И вскоре было переобъявлено, что сразу после праздничного шествия отправится в последний путь и Летечка.
Это было яростное шествие. Ни до, ни после город не помнил такого. Впереди, возглавляя строй барабанщиков и горнистов, взявшись за руки, шли Козел с Дзыбатым. Барабаны и горны припечатывали их шаг. В сторонке, не мешаясь, держались взрослые. Детдом следовал за оркестром. Под команду оркестра им тоже был взят единый шаг. Этого единого шага придерживались и взрослые, воспитатели и работники детдома, пристроившиеся жители и набежавшие городские мальчишки. Лица у всех были отрешенные и строгие, но единый шаг держался твердо. И вздрагивал асфальт от этого шага, будто один огромный человек бил в огромный барабан и дул в огромную трубу и не слышал ни звука барабана, ни звука трубы — все глушил его шаг. Человеку надо было побыть одному. И он был один. Ни утро, ни суета улиц не мешали ему, не лезли в глаза пестрота и краски одежд. Тревожные звуки горнов и барабанов оборачивались прохладой и прохладой струились за воротник, обжимали сердце. А из палисадников и раскрытых калиток летели под ноги горнистам и трубачам цветы.
Колонна обогнула площадь и потекла к воротам детдома. И полным составом все под ту же прохладу горнов и барабанов пронесла по улицам города Летечку. И вновь дорогу, теперь уже траурному шествию, устилали цветы — старые, оставшиеся от праздника, и новые, их вроде бы теперь никто не бросал, внимание всех было сосредоточено на красном гробе, плывущем впереди колонны. Но цветы как бы сами собой взлетали над улицей и падали к ногам идущих. И гроб, в котором покоился Летечка, тонул в цветах и венках.
Гроб с Летечкой несли, постоянно сменяясь, шесть воспитанников детского дома. Несменяемы были только Стась Марусевич и Васька Козел. Они шли, Козел по правой стороне гроба, Марусевич по левой, держались за гроб руками, за красное полотнище его, будто хотели удостовериться, что все это наяву, что тут, рядом с ними их Летечка. И Стась Марусевич смотрел вперед, будто указывал глазами дорогу, куда надо идти, а Васька Козел, почти невидимый Марусевичу из-за гроба, смотрел все время под ноги, словно выбирал дорогу, следил, чтобы она была ровной и гладкой, чтобы не потревожила того, кто лежал в гробу.
Возле площади траурной процессии преградил дорогу черный милицейский «воронок». Он вырвался неожиданно из-за поворота улицы. Требовательно бибикнул, не разобравшись, наверно, вначале, что здесь происходит. Бибикнул и замолчал, будто сорвав голос, начал пятиться к обочине. Детдомовцы не обратили на него внимания. «Воронок» затаился, заглушил мотор, притих на обочине. Майор, сидевший в кабине рядом с шофером, молодым парнем, когда гроб поравнялся с машиной, торопливо сдернул фуражку, обнажил седую голову. Царапнули железную будку «воронка» траурные суровые звуки похоронного марша. Гроб и машина разминулись. «Воронок» тихо тронулся, и Летечка из гроба невидящими глазами, чуть покачиваясь на плечах детдомовцев, долго следил за ним, пока он не скрылся, не оторвался от процессии. И на асфальте остался один лишь Захарья. Похоронная процессия уже давно ушла вперед, уже давно не видно было «воронка», а Захарья все грозил ему вслед огромным черным кулаком.
Захарья сам вчера выбрал на кладбище место для Летечки на взгорке, обдуваемом ветрами.
— Мое место, — сказал он Грибу и Халяве, которые вместе с ним копали могилу. — Тут лежат все мои Сучки. Тут хотел и я пристроиться. Теперь пусть ложится он. С детьми ему веселей будет. Все не одному. Дай нам бог только никого не потревожить из них.
Но все же стронули что-то. Стронули, когда могила была уже почти выкопана. Оставалось только подчистить. Гриб задел что-то на дне ямы. Задел и застыл. Захарья вытурил его из ямы, присел в углу, закурил. И только после этого руками огреб то место, где споткнулся заступ Гриба.
— Грешен ты, Летечка, грешен... Грешен я, Летечка, грешная у меня рука, потревожил... Ты не гневайся, детка, не гневайся. Хотел как лучше... И вдвоем вам будет тут не тесно... Оно как лучше и получилось. А вот положили бы тут меня...
И Захарья замолчал. На обдуваемом ветром взгорке, где тесно было от маленьких детских крестов, положили и Летечку. И поставили ему не крест, а, как солдату, обелиск с пятиконечной красной звездочкой. А через несколько недель неподалеку от обелиска был поставлен и дубовый крест Захарье.
Умер он, как и обещался, на праздник святого спаса.
Васька Козел умер осенью того же года.
Стасю Марусевичу, Дзыбатому, в Москве одному из первых в стране была сделана операция на сердце. Он прожил после этого еще десять лет.
СЛЕЗИНКА ПАЛАЧА
— ...Я видел, как ягненка
Ужалил гад: он извивался в муках,
А подле матка жалобно блеяла;
Тогда отец нарвал и положил
Каких-то трав на рану, и ягненок.
До этого беспомощный и жалкий,
Стал возвращаться к жизни понемногу...
Смотри, мой сын, сказал Адам, как зло
Родит добро...
— Что ж ты ему ответил?
БАЙРОН.Мысленно свожу воедино столь далекие, на мой взгляд, художественные полюса прозы Виктора Козько — не сводятся. Ну, добро бы еще, н а ч а л с сибирской экзотики, а потом в е р н у л с я бы к родным белорусским истокам. Или, наоборот, от родных корней ушел бы в сибирскую даль... И в том, и в другом случае можно было бы сочинить что-то вроде эволюции. Так нет, шесть повестей, появившиеся за семь лет[3] и составившие Виктору Козько литературное имя, — вышли с такой плотностью, что как-то и негде уместить тут эволюцию. Все вперемежку, параллельно, встык. Первой же повестью — «Високосным годом», — попав в нерв литературного процесса, мгновенно войдя в центр внимания, от самого Виталия Семина получив напутствие в большую прозу, — тотчас же повернул Козько совсем «не в ту степь», вернее, не в тот лес, — в «темный лес — тайгу густую» ударился, туда, где цветут камни, где средь топких согр, хмурых куромников и золотоносных песков бродит зверь р о с о м а х, ища свою поедь, а следом за зверем гуляют таежные люди, бродяги, первооткрыватели и первопроходцы, и сплетают были и небылицы, и парятся в баньках, и говорят о душе, и сетуют, что много развелось в тайге нестоящего пришлого люду, всякой «интеллигенции». А тайга — она сильным покоряется. Могучие плечи, неторные тропы, водка в эмалированных кружках, трещиноватый окраец свежеиспеченного хлеба, голос крови, кипящие страсти, крепко сбитое тело мужика, сдобное тело молодки, сохнущей без мужской ласки, и все такое большое, сибирское: пауты, верхонки, пу́чки, кутний зуб, пружинящий шаг, бесшабашная рисковость, шалое счастье и согра, согра, согра... Как кто-то из критиков сказал про «настоящую сибирскую прозу»: все вокруг звероватые и все кругом закуржавело.
Полно, Козько ли это? Это Шукшин, Горышин, Осипов, Полухин... Это целый континент нашей прозы, имеющий свои хребты и вершины, но... у Козько-то — не там вершины! И корни не там. Однако, углубляясь в эту согру, в эту тайгу, в эту золотоносную жилу, он пишет в подобном стиле немалое количество страниц. Притом его главная сибирская повесть носит какое-то неуловимо «гостевое» название: «Здравствуй и прощай», а чуть не параллельно создается пронзительная «Повесть о беспризорной любви», где в нищем белорусском детприемнике послевоенных лет открывается совсем иная бездна: и потрясшая литературу правда «Високосного года» в ту же пору переживается все глубже и глубже, выходя к «Судному дню».
Но уже написав «Судный день», вещь уникальную, составившую неповторимый вклад в наш общий опыт, вдруг разворачивается Козько обратно в кущи и пущи, — правда, на сей раз не на сибирском, а на полесском ботаническом фоне, и пускается в погоню за рыбой, и создает рыболовно-охотничью симфонию под пышным названием «Цветет на Полесье груша»... И это цветение — после того, как прозрачный от боли детдомовец уже умер, изошел кровью, тоской, памятью... Казалось: какие там охоты, какая там рыба после Судного дня? Однако цветет груша посреди болота, как цвели камни посреди тайги...
Нет, я хочу связать это. Я не могу рубить прозу Виктора Козько на две половинки, хотя по чисто читательскому импульсу (нравится — не нравится, близко — не близко) сделать это легко. Но не тот случай. Не тот писатель. Слишком большая боль. Надо искать связь, развязку. Во внутреннем состоянии маленького смертника, шкета, детдомовца, сироты, отлетевшего в небытие из пламени большой войны, — искать разгадку вламывающихся в тайгу рыцарей удачи. у которых на устах магическое слово: ф а р т.
Я не верю в этот фарт, хотя оным словом пестрит сибирская проза Козько. При всем эмоциональном и стилевом напоре — меня останавливает в этой прозе какая-то тайная неуверенность. Она чувствуется и в ткани, и в сюжете повести «Здравствуй и прощай» — при всей внешней ясности. Приехали геологи в тайгу золото искать, а там — Тихон Играшин, местный рудознатец; он им не хочет открыть, где золото, — себе бережет, жлоб, куркуль, кулак. В центре же, меж «полюсами» — вчерашний студент, городской житель, сбежавший в тайгу доказать себе и всем, что он не хлюпик, — еще одна вариация из Горышина — Полухина, «еще один, значит, покоритель Сибири». Вот этот-то студентик, как стрелка, и крутится между куркулем Играшиным, который хочет «фарта» для себя, и геологами, которые тоже фартовые люди, но стараются для общества. Уравнение ясное и, можно сказать, без неизвестных. Правы геологи, конечно, но... повествователь, как заколдованный, ходит кругами около хитрого хозяина, словно не решаясь на окончательный приговор: есть в хозяине какая-то тайная правда, какое-то естественное сродство с тайгой. Во всяком случае, хозяин тоже разрешает какое-то мучающее автора сомнение.
«Открытый финал» повести — вот знак этих сомнений. Виктор Козько не тот писатель, чтобы балансировать из чистого искусства, из любви к художественной тонкописи, как балансируют «открытыми финалами» так называемые мастера акварельного письма. Тут не акварель. Козько пишет — как режет; напор гравера — бумага горит и рвется. Здесь «открытый финал» не прием мастера, а выброс энергии за пределы сюжетного условия.
От этого — ощущение какой-то эмоциональной избыточности в сибирской прозе Козько. Впрочем, не только сибирской. Недостатки его прозы (я имею в виду не те недостатки, которые идут от небрежности и легко выправляются; не то, что у Козько герой идет, «помахивая... головой», не фразы вроде «эвакуатор утихомирилась», — я имею в виду те недостатки, которые суть продолжение достоинств) прежде всего — это вибрирующий напор, тяжелая скрученность текста, загадочность на «ясном месте». Эту прозу, столь «ясную» по идеям и выводам, изнутри рвет и гнет что-то, — словно не з д е с ь решается для него вопрос, — не здесь, где геологи спорят с таежным куркулем..
Не здесь решается. Не в тайге — сердце автора. Достаточно вспомнить прекрасную сцену косьбы (Играшин состязается с одним из геологов), чтобы понять, где оставил Козько свое сердце. Таежные повести — попытка решить проблемы, завязавшиеся далеко от этих мест. В контексте «сибирской прозы» Виктор Козько воспринимается как средний последователь не только Шукшина или Горышина, но чуть ли не раннего Юлиана Семенова и еще целого сонма романтиков и контрромантиков 50—60-х годов. Чтобы понять, что такое Козько, нужен другой контекст.
Иными словами. Я плохо понимаю то смутное полуотталкивание-полулюбование, с каким смотрит на крепкого мужика вчерашний студент, явившийся в тайгу опрощаться, но я хорошо ощущаю в этом интересе взгляд детдомовца, который всю жизнь ходит в казенном, спит на казенном и прячет под кровать сундучок или чемоданчик, где заперт какой-нибудь ненужный хлам с городской свалки, — хоть на мгновенье вырваться из бесконечного «казенного кошмара».
От ф а р т а, которым клянутся те и эти «сильные» герои Козько, от их «звериной мощи» я мысленно восстанавливаю пунктир души к шатающемуся от голода шкету, который спрятался под лавкой вагона, к посиневшему «доходяге» из детприемника 1944 года, к трехлетнему мальчику, которого в 1941 году каратели рвут из рук обезумевшей матери.
Мне мало что дают «первобытно-необузданные» страсти дяди Коли из повести «Темный лес — тайга густая» и его презрение к европейской культуре за то, что в ней «души нет», но мне очень многое говорит та неприязнь к «чистеньким» и «ухоженным», которой саднит осиротелая душа детдомовца-«фезеушника» в «Високосном годе». Мне кажется достаточно декоративным то пренебрежение к «интеллигентам», которое выставляют друг перед другом таежные герои Козько. Но я нахожу в высшей степени реальным то остервенение, в какое впадает герой «Повести о беспризорной любви» Андрей Разорка, этот волчонок, знающий одно: зуб за зуб! Самое опасное — это когда тебе улыбаются, когда тебя расслабляют. Нет, нас такими бананами не купишь; мир, может, и добр для кого-то, но не для нас! Не верь руке, которая тебя гладит, кусай ее — не ошибешься. Из всех положений умей падать, как кошка, на все четыре лапы. Хочешь жить — умей вертеться!
Любопытно, что эта последняя фраза Андрея Разорки почти дословно совпадает с одним из принципов таежного куркуля Играшина. Но то, что в декорациях сибирской романтики-антиромантики красовалось искусственностью, — в реальной истории белорусского детдомовца послевоенных лет оборачивается страшной правдой. В этом-то контексте и становится понятной та изначальная боль, которую пытается скомпенсировать человек «силы и фарта». Та изначальная беззащитность, что низвергнута в злобу. Виктор Козько далеко не единственный в нашей прозе писатель б е з о т ц о в щ и н ы, но ни у кого еще. кажется, эта драма не обнажала с такой жестокостью свою неотвратимую логику.
«Из книг он узнал, что свет большой и не всюду, не на всей земле, оказывается, была война...»
Мир, разорвавшийся и разоренный, стал точкой отсчета для этой души, запредельно, с младенчества ввергнутой в войну: Андрей Разорка не имел ни выбора, ни свободы; он получил свою беду как данность; его не спрашивали, хочет ли он и чего хочет. Его душа, как в узком коридоре: или вперед, или назад... Есть в «Повести о беспризорной любви» пронзительная сцена, которая кажется мне символичной для художественного склада прозы Козько. На одной из станций сбежавший из детприемника пацан оказывается между двумя составами. Две железные стены: один состав — на восток, другой — на запад; и ни в один не войдешь: с одной стороны все замкнуто: часовые с овчарками; с другой — все раскрыто: там немцы, военнопленные, но эти дружелюбные, подобревшие немцы, от своих щедрот сующие «дем руссише кнабе» губную гармошку, — страшней его душе, чем часовые с овчарками. Но о подобревших немцах и о «беззлобных» карателях речь впереди, а пока — прочувствуйте само ощущение от этой сцены, этот узкий, железный, лязгающий коридор, по которому, сжавшись, бежит шкетенок...
И вся его повесть, вся его лучшая проза такова: встречное движение, из которого не вывернешься: в детприемнике мечтает о воле; на воле, на грязных вокзалах, мечтает о детприемнике, и все не решит, где дом и где душа: здесь ли, на случайном полустанке, или там, где кормят, жалеют и учат. А может быть, там, на окруженном карателями болоте, где осталась мать, пытавшаяся прикрыть собою ребенка?
Это вот «встречное движение» чувств и объясняет для меня нервную, прыгающую, мечущуюся и замирающую, неожиданно взрывающуюся и так же неожиданно обрывающуюся ритмику текста в белорусских повестях Козько. То самое, что в сибирских его повестях оборачивалось прихотливостью и «узорочьем» стиля, случайностью сюжетных связок. Здесь же подо всем — стержень. Твердый и неотступный нравственный вопрос, проходящий через рвущуюся ткань.
Этот вопрос — искупление.
Когда партизаны заминировали лесную дорогу, немцы схватили Разорку-старшего и его жену (хотя улик не было), впрягли в борону и погнали вперед. Так Андрей стал сиротой. Дядька его, брат отца, был минером в партизанском отряде. И вот оба приняли на душу тяжкую мысль: Андрей — что из-за дядьки погиб отец; дядька — что это действительно он, лично, виноват в смерти брата и в сиротстве племянника.
Вы скажете: что за безумный счет? Минер в отряде! Да ведь на месте дядьки мог оказаться отец Андрея, кто угодно. Кто ж так судит — ведь война же, война!
Умом понимают и герои Козько, и сам он, что не найдешь таким образом персонально виновных: война есть война. И все же... помните Твардовского? — «и все же, все же, все же...» Без вины, без спросу, без воли толкает судьба в хаос войны двухлетнее дитя — кто ответит за его слезы? А что, Достоевский был более «юридичен», когда за единственную слезинку устами Ивана Карамазова возвращал богу билет в рай? Все мы стоим на этом камне, на почве русской классической традиции, когда «юридически» все может быть и уравновешено, и рассуждено, и воздано, а боль все не проходит, и есть только один путь разрешить эту боль — встречная боль. Искупление. Да, партизан, поставивший мины на дороге, не думал, что немцы погонят на эти мины его брата, — он б е р е т на себя вину и страдание за его смерть. В этом нет юридической логики.
А скажите, много ли логики в том, как дети горят в запертом карателями сарае? Они, дети, могут объяснить себе хоть что-нибудь? Им — можно объяснить что-нибудь?
Где «логика», когда от шального снаряда гибнет женщина, спрятавшаяся с двумя детьми в доме, и трехлетний мальчишка бежит звать людей, а двухлетняя девочка не понимает, что с мамой? Когда-то потрясла Виталия Семина подробность: раскатанная ледяная дорожка на пути мальчика — как он, только что потерявший мать, забыв все, стал кататься... Если хотите, так только и есть тут «логика» — безумное, бессильное, инстинктивное стремление детской души сохранить равновесие, «не заметить» смерть. Только и есть тут «логика» — когда двухлетняя девочка, застывая у трупа матери, снимает с нее теплый платок и подстилает под себя: пол холодный... Двухлетний ребенок борется за свое существование, хоть смерть его на много ходов вперед, статистически посчитана; партизаны, две недели спустя найдя трупик, увидят на щеках ребенка з а м е р з ш и е с л е з ы, — посреди сожженной деревни, и он — боролся, и он звал на помощь, и он рассчитывал на какую-то «логику»...
Нет, не знает эта война балансов, которые достались нам от «юридических» эпох. Надо пройти по дорогам Белоруссии, чтобы почувствовать, что это такое. И не только через звон колоколов Хатыни, на весь мир звонящих, а безвестными пройти деревнями, где иной раз только дощечка на стене сельсовета говорит прохожему, сколько тут сожжено домов и сколько душ обоего пола. Война с детишками — не рыцарский турнир. Это что-то, для чего еще надо придумать название. Пережить такое, заживить в душе такой опыт, сделать так, чтобы этот ужас стал опытом, — вот ноша, какую взяла на себя белорусская литература. Вряд ли найдешь другую, — разве, кроме польской? — в которой слезинка ребенка жгла бы сегодня так страшно.
Не рискую на широкие литературные параллели, да и формулировки тут нужны основательные, но думается мне, что лишь в контексте белорусской прозы повести Виктора Козько открывают свой подлинный духовный план, свою тему: ответственность безвинных и искупление их боли. Говоря о белорусской прозе, дающей проблематике Козько истинный масштаб, я имею в виду не только те книги, что прямо проводят нынешнего читателя через горечь и тоску оккупации, не только те тематические узлы, где Козько впрямую перекликается с Адамовичем или Чигриновым, — но именно общий нравственный план, который составляет суть белорусского духовного опыта.
Вспомните Василя Быкова. Виноват или не виноват лейтенант Ивановский в том, что немецкий склад, который ему приказано уничтожить, оказался передислоцирован? А мальчишка, который погибает на Круглянском мосту? С мальчишкой ведь не советовался ни его отец, когда шел в полицаи, ни Бритвин, когда планировал операцию. А дети в «Обелиске»? Это ж тот самый вопрос, который мучит Козько: без них решилось, без них завязалось, — а им развязывать, им расплачиваться. Война не спрашивает — она наваливает ответственность «не глядя», и бессмысленно взвешивать эту ношу: тут или без всякой «логики» берешь на себя и вину, и ответственность, или... Или рассуждаешь, что «тебя не спрашивали», что «это война»... Того пожилого немца, что конвоировал колонну детей и женщин до деревни-схованки, конечно же, «не спрашивали». Тот бедный немец, наверное, не хотел бы загонять их в сарай, облитый бензином. Тот добрый немец плакал, когда вталкивал в сарай Ульяну с детьми.
Это — последняя черта, за которой начинается то, что не измеришь никакой юрисдикцией. Слезинка палача... вот где мы стоим теперь, сто лет спустя после смерти автора «Карамазовых». Вы думаете, тот немец плакал не искренне? Что он не страдал? Нет, страдал. Страдал.
Теперь решайте...
Знаете, мне стало по-настоящему страшно не тогда, когда автор «Високосного года» описывал зверей-карателей. Страшно стало от пролитой палачом слезинки. Страшно, когда оккупант улыбнулся и протянул голодному белорусскому мальчику кусок сахару. Слишком тяжкое испытание для души означает этот протянутый кусок. Над всеми нами простерлась завещанная русскими классиками добрая власть милосердия; все мы, в конце концов, воспитаны на Достоевском и Толстом. На том ощущении, что и преступник — человек, и прежде всего — н е с ч а с т н ы й человек. На том убеждении, что с неизбежностью чувство оскорбления и мести заменяется в народе презрением и ж а л о с т ь ю. Мне стало страшно — от подступающей жалости. Я почти с облегчением принял в «Високосном годе» развязку той сцены, когда мальчишка, схватив сахар, кричит: «Я тебя убью!» Но слишком ясно было, что вопрос, поставленный Виктором Козько, не решается в одно действие. Что это только первый круг хождения его души по мукам.
Да, человечность и милосердие — закон; это всеобщее и последнее оправдание жизни. Но путь к этой в с е о б щ е й и п о с л е д н е й санкции добра лежит через страдания, которые люди берут на себя в реальной жизни и в реальной истории. Да, преступник — несчастный человек, которого надо пожалеть, — так считал Достоевский, но путь к жалости лежит только через искупление и возмездие. Слезинка дитяти оплачивается не символическим возвратом абстрактного билета в рай — она оплачивается тяжким, конкретным, реальным бытием, которое полно нравственной боли. Без этого все наше «добро», все «милосердие» и вся «человечность» становятся легкими и необязательными. Добро не подарок судьбы, оно оплачивается полной ценой. Сгорает душа в страданиях, но еще страшнее сгорает она, когда перед ней — протянутая с сахаром рука. Надо судить. Хотя тот добрый немец, может быть, лично и не сгубил в твоей деревне ни одной живой души. Или ему приказали. Дас ист дер криг. Что делать, война.
Немой вопрос пронизывает белорусские повести Козько: чем утолится горечь без вины виноватых? Из любой складочки текста вдруг проступает эта кровь, эта боль. За красивой вышитой тканью — слезы. Кто вышивает салфеточки в художественных мастерских, разбросанных по безвестным белорусским послевоенным поселкам? Вышивают — «кривенькие и полуслепенькие, и полусошедшие с ума девочки — отходы отгремевшей войны». Ни крестика нет без этой боли. Ни шагу без ощущения того, что человек не виноват в том, как искалечен. Чем виновата некрасивая девушка, что уродилась некрасивой? — думает Андрей Разорка. Легко почувствовать исток такой рефлексии: а виноват ли он сам, что отец и мать подорвались на мине, что мечется между вокзалом и детприемником, что изначально перекошена жизнь?
Это-то вот непрерывное ощущение личной безвинности и опрокидывается в сознании героя постоянным, смутным, невольным «ощущением вины». Это чувство так же «нелогично» и труднообъяснимо, но оно есть; Виктор Козько ощущает его поразительным духовным зрением. Это было уже в «Високосном годе», едва намечено, едва слышно. Но недаром же после «Високосного года» написана «Повесть о беспризорной любви», и гордого «фезеушника», самоотверженным трудом и положительным характером скомпенсировавшего страшное детство, сменил Разорка, волчонок, возненавидевший весь мир за свою беду, или, как там сказано, «на весь белый свет разобидевшийся». До крайнего предела ответной жестокости доводит эту несчастную душу Виктор Козько, чтобы вплотную подвести к «категорическому императиву» личностного решения. Да, ты не виноват в своих несчастьях, но есть только один путь переломить эту карусельную власть судьбы — поставить наперекор ей «нелогичное», волевое решение; акт личности: «я отвечаю».
В этом усилии личности, кругом стиснутой, зажатой, отрезанной, только на себя полагающейся, заключен для меня какой-то звенящий трагический звук, продиктованный опытом именно белорусской прозы. Вспомним еще раз: Рыбак у Василя Быкова был «не виноват», что полицай его перехитрил, «не виноват», что их взяли, «не виноват», что Сотников не вовремя закашлялся. Никто не х о т е л быть предателем, ни тот, ни другой, — обоих несло потоком, и только от внутреннего решения зависело, что Рыбака понесло дальше, а Сотников уперся и встал. Встал, чтобы умереть.
Андрей Разорка, озлобленный, истерзанный, не верящий в добро и жалость, поставлен перед вопросом: есть только один шанс вырваться из заколдованного круга несчастий, в которых не повинен, из зла, которого не хотел, — в з я т ь на себя горечь ответственности. На какой-то крайней точке упереться: жизнь делает меня волком, а я буду человеком. Я встаю поперек. Никто не даст личности извне силу, чтоб сказать так и так поставить себя. Только изнутри. Из «ничего». Из одного духа. Добро не «рождается из зла», как утверждает Байрон устами праотца Адама, — добро надо восстановить как безусловную ценность, как принцип, как своеобразное упрямство духа. Иначе конца не будет карусели: что делать, «всех несет...»
Сила духа для этого нужна — бесконечная. И оттаивает душа — болью, только болью. Гладит тебя жалостливая рука детдомовской воспитательницы, и ты кусаешь руку, пока добряки не срываются, и не начинаешь искать в директорском кабинете «пятый угол», — тогда кричишь торжествующе: видите, вы п р и к и д ы в а л и с ь добренькими! — и, вырвавшись на волю, вымещаешь злобу на всем, что слабее тебя: на доходяге из младшей группы, на щенке, на молоденьком деревце. Изобьешь, изрежешь... а потом все-таки оттаешь, потому что все это — еще не самое страшное испытание, и детдом все-таки дом, и другого нет. Оттаивает душа беспризорника, волчонка, откинутого войной в «отходы», и он уже способен принять протянутую ему руку. И тогда судьба готовит ему последний искус: рука с сахаром. Там, в узком проходе между двумя составами, один — на восток, другой — на запад...
Вот они, немцы, безвредные, обросшие, радостные, без погон. И суют тебе в карманы сахар, и гармошку протягивают губную: играй, мальчик, веселись, не помни зла! Втиснули в руку гармошку, зажали пальцы. И рука будто закостенела. С вытянутой вперед рукой пошел вдоль составов. Овчарки с восточного не удостаивали даже взглядом. Но из запломбированных вагонов смотрели люди. Множество глаз. И эти глаза ненавидели... давили к земле... сжигали...
Это уже голос «Судного дня».
«— Люди! Мир! — бухнул сверху голос Захарьи. — Пуля милосердная. Огонь нужен и камень. Мучить их, как мучились дети мои в огне... Как они горели, как они молили: таточка, лёду...»
Да, знаю, «это война». Палач заплакал, раскаялся, протянул сахар. А можно ли — вернуть то мгновение, когда горели дети? И х вернуть, чтобы о н и простили, а не от их имени — другие, оставшиеся в живых? О т т у д а пусть придет прощение. Двухлетняя девочка должна простить, которая перед смертью мамин платок подстелила, чтобы согреться. Та, у которой слезы замерзли на мертвом лице. Вот ей, ей объясните, что «это война» и что никто персонально «не виноват». Ей, двухлетней. Знаю, потом придут, найдут. Спасут оставшихся. Как ягненка ужаленного спас и выходил байроновский Адам: «Смотри, мой сын, как зло родит добро...» Помните? Вопрос Люцифера: «Что ж ты ему ответил?» — и страшное место дальше:
...Я промолчал, — ведь он отец мой, — только Тогда ж подумал: лучше бы ягненку Совсем не быть ужаленным змеею, Чем возвратиться к жизни, столь короткой, Ценою мук...Так вы в е р н и т е к жизни ту сгоревшую, ту застывшую, ту окаменевшую девочку, — о н а пусть простит. «Добро» не украшение и не выигрышный билет. Под ним жизнь, под ним кровь. Не повернешь камень, который называется: то было. Для дальнейшей справедливости есть юрисдикция: степени вины, нормы наказания. Так, но кроме юрисдикции есть право памяти, есть достоинство и чувство необратимости. Литература думает не просто о том, кому сколько причитается, — более всего ее мучает вопрос: как простить? Это не измеришь — это можно только выстрадать. Тяжко оплачивается милосердие. Есть только один путь духовного искупления: крестный. Вместе с той замерзшей девочкой, с теми детьми, что горели и просили: «Лёду!»
Здесь переламывается проза Виктора Козько; от волчонка, ненавистью возмещающего свою боль, — к той бесплотной тени, что чудом вышла из нацистского застенка, из-под шприца герра-доктора, из пепла и холода небытия. От «Повести о беспризорной любви» к «Судному дню» — самой сильной и самой страшной повести Козько.
Андрей Разорка из первой повести знал: добренькими — прикидываются, он боялся жалости и срывал зло на слабых. Герой «Судного дня» в этом смысле беззащитен: он жалеет всех — от воспитательницы, которая пытается отогреть души детдомовцев, до колченогого и покалеченного пса. Само имя у этого бесплотного, словно из-за смертной черты вернувшегося ребенка, — прозрачностью звучит, словно тает в воздухе: Колька Летечка. Дух, тень, доходяга, «недоделок». Не жилец.
В последних строчках повести — документально-жесткая справка: они все умерли, все ослабленные, что были в том детском доме. Даже тот, кому сделали операцию на сердце, еще десять лет протянул-промучился и все равно умер. Не вернешь свершившегося. Необратимо. Не рождается «добро из зла», и не для того восстает из праха душа, во младенчестве загубленная, чтобы задним числом сводить счеты или искать справедливость, а чтобы до конца измерить страданием эту бездну — своей мукой искупить слабодушие людское. Своей болью.
Все знал старик Захарья, сторож детдома, когда говорил Летечке: не ходи на суд. И сам Летечка знал, что его убьет этот судный день: процесс над полицаями и карателями. Он шел на смерть своею волею. Умереть вторично. Первый раз, когда шприцем немецким сосали из него донорскую кровь для госпиталей райха, — умирал он телом, умирал оттого, что так сложилось: безвыходна ситуация, только случаем, чудом, ошибкой уполз живым тогда со смертного стола, — теперь же, десять лет спустя, он умирает от памяти, от сознания, от невозможности жить с мыслью о том, что полицаи и каратели, убившие его в сорок первом, вовсе не чувствуют себя виноватыми: «им приказали».
Стояли бы под судом тупые изверги, — какими и были они в страшные дни войны, — хоть ненавистью можно бы восстановить душу, но эти «обыкновенные люди», эти заурядно «незлые», сожалеющие исполнители: а что нам было делать!.. Мы не хотели. Это война...
Кто разорвет защитный круг? Как пробиться памяти сквозь эту животную заурядность? Какою болью вернуть человеку мысль о трагедии, когда дух среднего человека не выдерживает, не хочет трагедии? Какою ценой приходит катарсис?
В сцене суда, составляющей центр повести Козько и одну из лучших страниц современной белорусской прозы, ощущаешь то дыхание трагизма, когда словно проваливаешься в боль: с какой-то неожиданной точки, с обыденного поворота, чуть ли не с хохота. Странное соседство боли и смеха вообще поражает у Козько, но в декоративных сибирских повестях комический элемент цеплялся к сюжету искусственными, чисто словесными «крючками»; я видел, что меня хотят насмешить, но ощущал только странную тревогу от неожиданности этих вставных анекдотов. И только здесь, в «Судном дне», обнажилось дно души и наступило то потрясение, при котором в повседневности слышишь трубный глас.
Толпа, подвалившая к дверям Дворца культуры в ожидании, когда привезут в «воронке» подсудимых. Азарт массы, увлеченной подступающим зрелищем. Дед Захарья, принесший с собой завернутый в газету кирпич и забравшийся на козырек крыльца, откуда его под х о х о т толпы вежливо снимают милиционеры. Хохотом сотрясается душа, но это та самая грань, за которой хохот переходит в рыданье.
«— Люди! Мир!.. — бухнул сверху голос Захарьи. — Не допустите, не выдайте!.. Огонь нужен и камень...»
Но ни огнем, ни камнем не измерить эту боль. Принимает ее на себя истаивающая от памяти детская душа. Полную цену платит.
Коля Летечка умер, вернувшись с процесса. Перед смертью он достал из-под кровати свой чемоданчик и роздал другим детям вещи, И другие дети, такие же, как он, «недоделки», «доходяги», обреченные, все поняв, пытались бить его. Чтобы не смел.
Потом его хоронил весь город. Горькая была процессия. В тот же день незаметно свез «воронок» из города осужденных карателей. Разрешилась боль. Ни у кого не повернется язык применить к этой ситуации слово «прощение». Есть точные слова: возмездие и искупление.
Кант говорил: преступника карают не затем, чтобы сделать ему зло в ответ на то зло, которое он сделал другим, — а затем, что действие нравственного закона должно быть неотвратимо. И преступник, принимая неизбежную кару, может принять ее по-разному. Он может быть добит, как озлобленный зверь. И может принять смерть как избавление от мук совести. Если она проснется. Или — или. Искупление не всепрощение, и нравственный закон не тепловатая водица приятной доброты. Неизбежна мука. «Боится человек помереть человеком, помирает собакой». Пронзительная истина «Судного дня»: чтобы собачья смерть была осознана действительно как собачья, чтобы она вышла из тумана кругового «объективного» безличия, — кто-то должен прорвать это ровное кольцо — кто-то должен умереть человеком. И идет на это душа поистине неповинная. Ценою муки удерживает человек лицо и образ. Умирает Летечка, но горит в людях, собравшихся на площади, вера: «Каждому человеку, каждому его поступку есть, будет судный день и судный час».
Теперь несколько слов о последней повести Виктора Козько, — той самой, что носит пышное название: «Цветет на Полесье груша». Я уже говорил, что читал ее со сложным чувством. Холодным умом отдавал должное мастеровитости письма, холодным же умом сознавал все модные поветрия последних лет, под которыми расцвела эта груша: здесь и широкая душа человека из народа, и удаль охотника, живущего воедино с природой, и густая сочность «изнутри» описанной самой этой природы, и пантеизм, и язычество: своеобразный союз рыбака Евмена Ярыги и карпа, за которым он гонится, а потом, поймав, из доброты и жалости — отпускает. Словом, мне многое мешало в этом празднике природной силы и рыцарского великодушия, изливаемого на «братьев наших меньших». Мешал Бим Троепольского и целая стая его подражательных собратьев. Мешал Хемингуэй, чей Старик четверть века назад гнался за своей Рыбой, да так и засел в наших читательских умах. Мешал, наконец, дядя Коля, который за пять лет до того уже проделал в повести В. Козько «Темный лес — тайга густая» аналогичный фокус: три дня бежал за соболем, поймал и — отпустил. Более же всего мешала мне та декоративная, «природная» широта-доброта души, которая переселилась в новую повесть Козько из его сибирских историй, а туда попала, надо думать, из литературного потока, где широта-доброта и «природная» мощь человека идут чуть не первым товаром.
Но вдумавшись в писательский путь Виктора Козько, связав столь далекие для меня полюса его художественного мира, подумал я о том, что есть во всем этом, наверное, своя необходимость. Как есть необходимость, скажем, в судьбе того же Игоря Шкляревского, лирический герой которого — безотцовщина, «дитя войны и Могилева» — лечится лесом: берет ружье и снасть, чтобы там, в лесах, бить живое и жалеть его. Может быть, не случайна эта лесная страсть в душе белоруса, которого лес спас в страшную годину войны?
Я бесконечно далек от охотничьих и рыболовецких эмоций, но я, кажется, начинаю понимать Виктора Козько, когда его герой преследует карпа. Так и вижу эту крепкую кряжистую фигуру этого добрейшего человека, который в самый критический момент охоты не умеет и не хочет совладать со своей жалостью. Ему жалко и покореженную взрывом грушу, и пойманного на крючок карпа, и чуть не всякого человека, встреченного на тропе. Отходчива эта душа, на весь живой мир, на братьев меньших готова излить свою жалость — не потому ли, что среди братьев больших эта жалость опасна? И прожигает ветви цветущей груши непроходящий — оттуда — зов: «Таточка, лёду!»...
Пытаюсь определить место Виктора Козько в движении нашей сегодняшней прозы. Это место прочно. Я имею в виду, естественно, не тот таежный декор, которым он — в слабостях своего письма — связан с соответствующими тенденциями прежде всего русской, «сибирской», «нутряной» и т. д. прозы. Я имею в виду тот уникальный опыт, которым Козько в сущности взрывает эту декоративную широту-доброту.
«Добро» и «доброта» сейчас — первая опора беллетристических кулис. Все клянутся «милосердием», все взывают к «прощению», к «любви», к «пониманию». Как легко все это дается, как податливы гибкие души к таким поветриям: вчера несло их потоком к «твердости» и «жесткости», сегодня так же простодушно они разносят по литературе всепонимание и всеотзывчивость. Гуляет по рукам «билет в рай», и «слезинка ребенка» уже почти ничего не весит в этих обменных операциях.
А она весит. И надо платить за нее полную цену.
Вот это Виктор Козько знает очень хорошо.
Л. АННИНСКИЙ
1
Жанчинка — женщина.
(обратно)2
Кий — палочка.
(обратно)3
1972: Високосный год; 1973: Темный лес — тайга густая; 1974: Здравствуй и прощай; 1975: Повесть о беспризорной любви: 1977: Судный день; 1979: Цветет на Полесье груша.
(обратно)
![Будем кроткими как дети [сборник]](https://www.4italka.su/images/articles/507957/primary-medium.jpg)

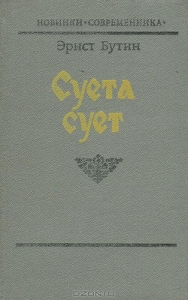
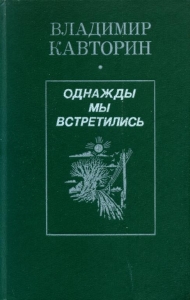
Комментарии к книге «Судный день», Виктор Афанасьевич Козько
Всего 0 комментариев