Михаил Леонович Стрельцов ЖУРАВЛИНОЕ НЕБО Авторский сборник
ТРИПТИХ (Перевод Эд. Корпачева)
КРИЧИТ ПТИЦА
В июле зачастили теплые дожди, и женщины, ходившие в лес по чернику, принесли в фартуках сыроежки и лисички.
Была суббота. В лощине за улицей ленивый дымок цеплялся за стены баньки, стлался над землей и оседал на мокрую парную траву, а в теплом, затянутом мглой небе неясно проступало солнце.
Постоял я на дворе в раздумье, послушал околицу, такую настороженно тихую, и неожиданно повеселел от желания взять да сходить в лес по грибы.
Всего неделю назад приехал я из города в свою деревушку. Было приятно теперь скинуть тесные туфли, обмотать ногу сухой закаленевшей портянкой, надеть широкий, весь в заплатках резиновый сапог; они стояли в сенцах, сапоги, холодноватые, терпко-пахучие, с побелевшими пятнами присохшей земли на них и прилипнувшими травинками. Взял корзинку, горбушку хлеба и желтоватый кусок сала, взял у брата выщербленный складной нож на шнурке и пошел со двора, немного побаиваясь попасться кому-нибудь на глаза: в деревне не любят гнаться за журавлем в небе, когда синица в руке, — вся деревня ходила теперь по ягоды, а на грибы набросится она позднее, когда боровики пойдут щедро — хоть косою коси. Тогда будет рано, очень рано засыпать деревня, будет рано всходить медная холодная луна, будет приглушенно и тревожно шелестеть тополь, тускло освещенный ею, а на улице — не по-летнему глухая тишина и теплый, не очень сильный ветер. И будут гореть за рекою ночлежные костры.
Так будет потом. А теперь — какие же теперь грибы?
И все-таки я пошел в лес.
Огородами вышел я на стежку, а по ней на узкую дорогу, по одну сторону которой угадывались ржавые кукурузные махры, а по другую густо стояло влажное жито. Под ноги то тут, то там попадали вылущенные кукурузные початки, и я вспомнил, как мама говорила недавно, что дети едят их незрелыми, а потом болеют животами… Ну и пусть едят, и я ел — ничего не случилось.
Так и шел я, шел зеленой колеистой дорогой и совсем не думал, что вспугну зайца. А он, большой, толстоватый и с рыжими боками, сидел на дороге и спокойно смотрел на меня — хоть возьми ты да и стань. Может быть, я и остановился бы, если б он вдруг не шевельнул ушами и не поскакал неторопливо и как бы нахрамывая. Я не выдержал — свистнул. И тогда он уже сиганул по дороге и сразу стал как-то длиннее, и были видны у него, когда бежал, одни только ноги да уши…
Зачем я спугнул его? Я не знал… И подумал, что зимою этот заяц, может, приведет меня в лес, и хоть мне не очень нужен будет этот заяц, как теперь грибы, я все же приду в лес снова.
А лес, теперешний лес, был и знакомый и незнакомый какой-то. Он начинался с небольшого болотца, поросшего кустарником, а потом уже был молодой сосняк. И запетляла в нем, то спадая в низины, в заросли, то взмывая на вересковые поляны, уже не такая зеленая, как в поле, дорога. И молчал лес. Только откуда-то сверху, с сероватого и теплого неба, плыл приглушенный, мягкий шорох, и это напоминало раннюю весну, когда снег тает в тумане. Дорожная колея хорошо пахла влажными корнями сосны, а из кустов веяло свежей листвой, и потом как-то неожиданно и сладковато-густо дохнуло от сломанного куста крушины.
Дорога вела на делянку. Стройно и высоко стояли на ней одинокие сосны, цвирикали где-то на молодых березках, садились на заросший травой валежник разомлевшие птицы. То припадая к земле, то взмывая вверх, пролетела черная желна. Был тут какой-то сиротский простор, как на старом забытом дворище, и все тут было, как бывает в человеческой жизни.
Миновав делянку, я пошел торной дорогой — волоком, свернул там на потаенный, свой тут, в лесу, пригорочек, залубенелый, мшистый, с родней маленьких сосенок и кривой березкой. Пригнувшись, обошел и сосенки, и березку, и рыжие бороды редкого вереска, — не однажды брал я тут тугие, смуглые, почти черные боровики. Но каждой удаче — свой срок; нашел я лишь сыроежку — усохшую, с белыми пятнышками, но без червоточины…
Ну и пусть. А я и дальше в лес, вон на тот пологий пригорок под высокими соснами, с поваленной ветром березой — там должны, обязательно должны быть лисички! И я пошел, и хорошо мне было идти по лесу и все узнавать. Да, ведь вон там, куда повела от волока дорога, — печище: когда-то гнали деготь; за ним — урочище с ольхой, осинами да елками, а ближе ко мне, под пригорком, — впадинка с ягодником, и вон уже какая-то женщина, разогнувшись, смотрит на меня, и взгляд у нее затуманенный, нездешний какой-то, и сама она кажется нездешней — откуда-то оттуда, из времен кривичей или радимичей.
И так дошел я до полуобвалившегося какого-то блиндажа и неожиданно для себя увидел в углублении семейство желтых, как цветы, и приземистых лисичек. Но я не торопился их брать. Глазу было на чем остановиться: густо и ровно порос провал в блиндажном перекрытии блестящим ситником, а на нем, возле семейства лисичек, лежал берестовый туесок, прошитый лозовым прутиком. И еще поднималась из провала маленькая сосенка…
Я было ступил к блиндажу, как вдруг в провале что-то зашуршало, а потом тревожно пискнула, испуганно затенькала, забилась какая-то птица. И словно бы толкнули меня в грудь — я подался назад, лес качнулся, я слышал теперь одно только небо: оно кружилось, и оттуда плыл и плыл на меня тревожный бесконечный шорох. И вот уже будто лежу я на земле; и не было уже ни взрыва, ни меня, и смеркалось, и тарахтела по дороге подвода, и голосила в лесу моя мать… Еще раз тенькнула какая-то птица — ага, синичка! — и я очнулся: испуганно взметнувшееся воображение оставило меня. Было тихо в лесу, и слышно было, как там, в провале, еще что-то шуршало, но это, наверное, с потревоженного дерева срывались капли и выпрямлялись ветки. И как бы заново глянул я на пригорок, чистый, светлый, осыпанный иглицей, сквозь которую просвечивала земля. И может, оттого пригорок был не то фиолетовый, не то какой-то сиреневый. И мне было уже неловко за недавний испуг, и уже где-то далеко было воспоминание о том, как семь лет назад подорвался в этом лесу на мине мой ровесник, из нашей деревни парень…
Я срезал лисички и пошел от блиндажа по рыжей иглице; глаз мой был остер и по пути примечал многое, и все вокруг было какое-то притихшее и светлое и как бы звало меня к себе и просило себя потрогать. И снова попались лисички — раз, другой, потом в болотистом березняке я нашел подберезовик и широкополые красные сыроежки, а потом были опять лисички.
Неожиданно выблеснуло солнце, косо бросило мягкие лучи на стволы, на вереск, и закурился пар, а в небе, видно было, проплывали, редея, как туман, войлочные тучки. Снова открылась дорога и повела в урочище, и я перешел ручей по залитым водою жердочкам и вышел на сухое высокое место с редкими кряжистыми соснами. И был тут пень, потемневший, широкий, как стол, — на нем кто-то, должно быть, тесал сосновый кол, потому что около пня валялись куски коры, уже подсохшей, рыжей. Очень хотелось посидеть на нем, я так и сделал, и уже после, оглядевшись, увидел неподалеку еще один блиндаж, а может быть и землянку: виден был лишь ровик, поросший травой. А может, это и не землянка была, может, просто норка: когда-то раскопали ее дети, а потом она обвалилась, заросла травой, а мне теперь показалась землянкой.
Как там на самом деле было, мне почему-то не хотелось думать.
Розово и ровно светило солнце, было тепло и парно, а за орешником журчал и булькал ручей. И вдруг оттуда, от ручья, послышалась птичья песенка, юркая, как солнечный лучик, и звонкая, веселая, как ручей. И казалось, все: и лес, и тишина, и дымка — все было для него и все словно ему помогало.
И я сидел на потемневшем, похожем на круглый стол пне и слушал журчание ручья и эту песенку, такую юркую, как солнечный лучик, и звонкую, веселую, как ручей.
ЖУРАВЛИНАЯ ПЕСНЯ
У радости своя пора весны, и когда станет весенней душа — народится радость.
И не обязательно ей приходить к человеку весной: есть еще лето и зима, есть осень, и есть еще день и ночь, восход и заход солнца. Зимою трещит по ночам на реках лед, и гул идет высоко, под самое небо, а утром лежат снега, розовые и чистые, как радость. А в августе висит над землею яблоко, переспелое и светлое, как давняя печаль; оно упадет — и настанет осень, а осенью мальчишки пекут в поле бульбу, и осенью приходят к человеку воспоминания о детстве.
Но только весною высоко в небе кличут радость журавли, и если она запоздала к тебе зимой или летом, днем или ночью, то обязательно придет с этой песней, и ты, возможно, познаешь тогда и тревогу, и сожаление, и печаль, но все равно это уже будет радостью.
В марте, случается, ночью идет дождь, и в водосточных трубах гремит, как гром, обваливается намерзший лед.
В марте первым дождем и влажным упругим ветром стучит в окно ранняя весна. И потом уже будут трубить журавли, а еще потом пашня в поле станет пепельной, как журавлиное крыло.
Как-то ночью мне почудилось, что трубят, пролетая над городом, журавли.
Молодой месяц в окружении тоненьких облачков затаился, как рыбина в траве. Была ночь, была подмерзшая и гулкая земля, и где-то далеко и высоко гудел самолет, и казалось, что от этого далекого мерного гула мерцает месячный свет и что вместе с этим мерцанием слетает на землю журавлиная песня.
Стояла ночь.
Ехали в одиноких и редких трамваях и троллейбусах запоздалые пассажиры. В городском парке возились в соснах галки, — стояла ночь. Шел по улице парень с подругой, и нежно играл в его руке карманный транзистор. Стояла ночь. И кто-то стоял под фонарем у троллейбусной остановки и читал газету. И где-то спал в какой-то квартире мальчуган, и ему снилось, что он большой, потому что стояла ночь. И не спал на стройке сторож. Он был старый, одетый в кожух, топтался у штабеля уже ненужных досок и тихо жалел, что их нужно отдавать на дрова; а из досок добрые вышли б забор или крыльцо. Стояла ночь, — и сторожу вспоминалась деревня его детства.
Летели ночью над городом журавли.
Стояла ночь, и я стоял под высокой ночью на весенней земле.
О, летите, журавли, летите своим Млечным Путем, веселым и шумным, как ледоход! И весеннюю радость трубите над темной весенней землей. Не спрашиваю, в каком краю оставили вы мои годы, знаю, сколько их было, и не спрашиваю, сколько их будет.
Стоит ночь, и я стою под высокой ночью на весенней земле.
Текут реки в моря, и растут в небо деревья. Текут, как реки, дороги по земле, и на синих лугах детства вырастают надежды. И вырастает радость, и Млечный Путь уплывает в вечность, и летят, летят своей млечной дорогой над темной весенней землей журавли.
ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА ГОРОД
Весна давно пришла в город. Но в городе весна желаннее всего в том несмелом, молодом начале, когда к ночи замерзают на тротуарах лужи, когда долго розовеет вечером небо и когда стоит над улицами синий туман, а стоп-сигналы автомашин рдеют ярко, будто грозди калины.
Было начало мая, и я пошел посмотреть на весну за город.
Дул свежий ветер, на подсохшем асфальте уже курилась пыль, и гулко хлопали в подъездах двери.
Весною всегда просторно в городе: и шум машин, и веселое погромыхивание поезда, и перезвон трамваев слышны далеко, потому что весною бывает, наверное, самое молодое эхо.
Весною громко стучит на пруду валек, и от этого тоже бывает эхо, и тот, кто жил когда-нибудь в деревне, услышит его, не выдержит и пойдет за город. Так случилось и со мной. Но в этом не было ничего обидного для города, как нет ничего обидного в том, если степенный, далекий от деревенской жизни человек в какой-то ласковый и мудрый для него день неожиданно обрадуется, скинет туфли и пойдет босиком луговой стежкой. Потому что, наверное, вся большая или вовсе незначительная мудрость в том, чтобы вовремя почувствовать, когда к тебе будет ласков и щедр тот день, и ждать его, и верить, что такой день тебе где-то отпущен.
И вот выпала теперь и мне луговая стежка, да только рано было еще идти по ней босиком.
Кончилась улица, и дальше вела через луговину стежка, еще не отвердевшая, размытая весенней водой, с подсохшей уже кое-где и потрескавшейся грязью. А за луговиной видны были маленькие домики рабочего поселка, и оттуда ветер доносил игривую прерывистую музыку.
Но что за славное местечко было тут летом! Были и вытоптанная, гулкая стежка, и трава, как на лугу, и низинки, и пасся на кочковатом клеверище, там, чуть повыше к огородам, кем-то пущенный на волю конь. Сколько раз я приходил сюда с книжкой в ту пору, когда уже время было косить, когда и вправду на луговине появлялся косарь — не на рассвете и не перед закатом, как в деревне, а в полдень, — высокий, с загорелой дочерна шеей, в порыжелых яловых сапогах и в кепке, но без рубашки. Я лежал, курил, читал, уткнувшись в слепящую от солнца страницу, а он все шуршал и шуршал косой до тех пор, пока не начинала подсыхать и невыразимо хорошо пахнуть трава. А назавтра я уже перебирался ближе к прокосу, сгребал себе сколько нужно травы и снова ложился и читал, а потом приходила какая-то женщина с граблями, тоже загорелая до смуглости. Еще через день вырастал на луговине стожок, а у женщины на смуглых руках видны были белые царапины от сухого колючего сена.
И сколько раз потом брал я зимой в руки книжку и невзначай находил меж страниц сухую травинку, и тогда вспоминались и звон косы, и запах привядшей на солнце травы, и белые царапины на руках у женщины, и то, как, читая на луговине, нашел я однажды у Мопассана совсем неожиданную для себя новеллу. В той новелле была лодочка, славная лодочка, вся белая, с синей каймой вдоль борта, и она тихо-тихо плыла по спокойному дремотному морю, глубокому и синему. С берега смотрели на море красивые виллы, такие белые и все в садах, в которых росли пальмы, алоэ в вечном согласия с солнцем. А лодка все плыла и плыла, и некто Поль сказал своему приятелю:
— А в Париже все время идет снег. Ночью шесть градусов мороза.
А тот, другой, ничего не ответил ему, лишь вдохнул всей грудью теплый голубой воздух, глянул на виллы, которые были уже далеко, и увидел высоко над ними огромные белые горы, что все росли и росли, и казалось, никогда не было под ними ни виноградников, ни пальм, ни алоэ.
А лодочка все плыла и плыла, и те, что сидели в ней, вспоминали зимний Париж, какого-то Жюля, который в один вечер покорил сердце богемной красавицы Сильвии Рамон и ночью, когда уже расходились от нее гости, босиком кружил по заснеженному двору — мыл ноги. Большой чудак и большой ребенок был тот Жюль.
А лодочка все плыла и плыла, синело чистое и знойное небо, все росли и росли на горизонте белые горы, и некто Поль вычитывал в газете про снежные обвалы в горных селениях с удивительными названиями: Пироле, Дамонте, Кьябрано, Вольпрато.
А потом лодочка повернула назад, и берег все приближался и приближался, и не стало уже видно высоких белых гор, и вскоре не было уже ничего, кроме города и синего моря, и все плыла, плыла по дремотной воде лодочка, славная лодочка с синей каймой по борту.
Удивительные вещи бывают у классиков, а еще, может, удивительнее всего то, что ты вот никогда не был ни на Средиземном море, ни в Париже, по почему-то знаешь их, будто там когда-то жил.
А жаркий день на луговине, сено в прокосах, книга Мопассана — все это было со мной и, возможно, было еще с кем-то, но тому, другому, не обязательно читать эти страницы. Важно, чтоб с ним было, а свои страницы он сам напишет. И может быть, он, как и я, однажды весною возьмет да и пойдет на свою давнюю луговину, потому что нет ничего плохого в том, если человек ступает на одну и ту же стежку дважды и если к нему по этой причине приходят воспоминания.
Да ведь еще и так человек находит себе друга в путешествии за город.
ДОБРОЕ НЕБО (Перевод Эд. Корпачева)
— Ну, гляди теперь сам, Максимка, а я пойду, — сказала сестра. — Я думала, не приедешь. Старый Ничипор говорил, они отбудут очередь только за корову. Телку на пашу не пускают — хромает… Так что завтра как раз твоя дворовка — хорошо, что ты приехал…
— Я знал. Председатель на луг заезжал, говорил насчет Ничипора. Я потому и приехал… А мы сегодня постарались с утра и к озерку вышли: туда, где прошлым летом молния секанула Авдея, помнишь?
— Так ты гляди, Максимка, сам. Я тебе хлеба испекла. Масло вчера сбила. Что это я еще хотела сказать?.. Ага, кабану не замешивай густо — лето же. Он и ботву вон как ест — аж уши трясутся. Так что муки поменьше ему давай. Квоктуха твоя какая-то дурная, из хаты не выгнать, а цыплята большие — зачем их держать в хате?
— Иди, Настя, иди, управлюсь. Спасибо, что эти дни побыла.
— Варвара вчера заходила. Увидела, что я у тебя во дворе. Поговорили. Женился бы ты на ней…
Она вздохнула, поправила под платком слежавшиеся волосы, глянула на свои босые ноги и, снова вздохнув, пошла в огород. Он молчал. Смотрел, как в огороде она подвязала фартук, стала подбирать с обмежка траву — трава, нагретая солнцем, за день упрела и теперь пахла молодым сеном — сладко и духовито. Настя пошла межою возле гряд, снова зачем-то наклонилась, зашелестела огуречником. «Семенные огурцы прикрывает, — подумал он, — чтоб куры не поклевали». Так огородом она и вышла в поле, ни разу не оглянувшись, — худенькая, в выцветшей ситцевой кофте, в широкой длинной юбке, и пошла, освещенная скупыми уже лучами невысокого солнца. Столько отрешенной печали было в ее маленькой фигурке, что и его охватила необъяснимая тоска.
Во дворе было тихо, тихо было и у соседей, у старого Ничипора: лишь чирикали там, над окном, молоденькие воробьи, — все окрест было таким привычным, устоявшимся, обыденным, что не хотелось всего этого видеть.
Он пошел в конец двора, к погребу, по старинке крытому соломой, Тут было прохладно, пахло картошкой, пахло сырой землей. Картошка проросла в погребе — из-под нижних бревен пробились к свету бледно-розовые ломкие ростки. Максим открыл дверь в погреб, пригнувшись, ступил в прохладную полутьму, постоял, привыкая к мраку, затем нашарил возле стены холодный тяжелый ковш, сделанный из снарядной гильзы, принялся мешать им в бочке с березовым квасом. Глаза привыкли к темноте, стали видны закопченные стены, железная тренога для углей, — зимой он обогревал погреб, чтоб не померзла бульба.
Максим пил кисловатый, резкий березовый квас и думал, что надо сказать Насте, чтобы взяла несколько ведер себе — куда ему одному столько кваса; зачерпнул еще и понес в хату.
Он медленно поднялся на крыльцо, постоял у двери, смутно сознавая, что гнетущая его тоска вызвана боязнью пустой хаты, что эта боязнь и есть его тоска, и он уже знал, что в хате ему станет еще горше, что опять нахлынут воспоминания о жене. Что ж, пускай нахлынут. И он рывком отворил дверь, так, что задрожали стены; в лицо пахнуло застарелым теплым духом жилья, а на окнах, потревоженные стуком двери, забились и зажужжали мухи. Невеселым было его возвращение.
Он прошел к столу, стараясь не наступать на хлебные крошки, — сестра накрошила цыплятам, — бросил на сундук шапку, поставил на стол ковш с квасом. Постоял, вернулся в сени, взял из торбы горбушку хлеба; о том хлебе, что испекла Настя, он забыл.
Он сидел за столом и нехотя пил квас, заедая его хлебом и вялой тепловатой луковицей, которую нашел на подоконнике. Ему казалось, что он ни о чем не думает, но ощущение боли и жалости к себе все время жило в нем.
Перекусив, он незаметно задремал за столом. Что ж, это стало привычкой, и вот он задремал, но все слышал: и как кто-то с кем-то разговаривал на улице, и как попискивали под наседкой цыплята, и как где-то прогромыхала телега. Но сон все же одолел эту дремоту…
Снилась ему жена: стояла над ним и будила, и такая нежность к ней переполняла его, что он нарочно не подавал голоса, думал, что это ему всегда только казалось, будто жена умерла, а вот сейчас он, если захочет, откроет глаза и коснется ее…
Громко запищали цыплята, закудахтала курица, и он проснулся. Окна заливал багровый свет, шумел возле хаты ильм, и раньше, чем он о чем-нибудь подумал, сердце опять сжала тоска. О этот багровый, холодный закат! Ничего не менялось, всегда был все тот же предвечерний час, как и пять лет назад, когда умирала жена, и он зачем-то выбежал тогда из хаты во двор. Багровое садилось тогда солнце, холодный ветер мел песок по улице, и на нем лежала эта багровость, такая холодная…
Некоторое время он обреченно сидел за столом, пока не вспомнил, что, когда собирался уходить с луга, мужчины передавали через него разные поручения своим домашним. «Надо сходить, сказать, — подумал он, — завтра, может быть, на луг пойдет подвода». Вылезая из-за стола, повел взглядом на старое зеркало, что висело на стене: с фиолетово-затуманенного стекла глянуло на него заросшее щетиной лицо с усталыми белесо-синими глазами. Подумав, он достал из сундука ножницы. Морщась, стал подстригать усы, потом добрался до клочковатой щетины на щеках. Состриг кустики волос, взял из сундука шапку и, будто припоминая что-то, остановился посреди хаты.
Зачем, зачем он тут один, зачем ему эта хата, если нету жены, если повыходили замуж, разъехались по городам дочери, если скитается где-то по свету сын, про которого думал, что вот приедет в деревню, женится и станет обживать отцовскую хату…
Дочери звали к себе, но он не хотел и думать про город. Каждое лето ждал домой сына: тот приезжал всегда неожиданно, плотный, лобастый, в темном костюме и в черной флотской фуражке, которую вот уж сколько лет носил после службы. И то, что приезжал он всегда неожиданно, что всегда был в одной и той же фуражке, не с чемоданом, а с вещевым мешком, беспокоило и пугало Максима: он боялся, как бы не закрутила сына жизнь, как бы не приохотился он к чарке, не связался с худыми людьми.
Вечером, поставив на стол бутылку самогона и кое-какую закуску, он осторожно намекал сыну на женитьбу, но тот почему-то больше отмалчивался, выпив, закусывал одними огурцами, не ел ничего другого, и тогда, сжавшись от обиды, Максим думал, что сын окончательно отбился от него, от дома, что никакими упреками тут не поможешь. Молча они вылезали из-за стола, молча ложились спать, а назавтра, поднявшись, Максим сразу же поручал сыну какую-либо работу. Каждый день он заставлял его работать — и дома и в колхозе. Не жалел, не хотел жалеть его — зачем жалеть, если сын не жалеет отца. Они почти не разговаривали, им становилось не по себе, когда они оставались вдвоем; сын, Максим видел это, тосковал, худел и, когда кончался отпуск, охотно уезжал из деревни.
Но он не приезжал уже второй год…
Зачем, зачем ему эта хата, где живут только тоска по жене и обида на сына?
Он постоял посреди хаты, увидел на полу хлебные крошки, пошел в закуток, взял веник и подмел пол. Налил цыплятам в тарелку свежей воды и вышел во двор.
За огородами по меже шли с поля женщины; чей-то голос звучал громче всех, не то кого-то ругал, не то про что-то рассказывал. Была пора недолгого покоя, вечерней благодати, пора закатного луча и печально-звонкой девичьей песни. Но никто не пел. Стучал на пруду валек — эхо дремотно катилось по деревне, оно напоминало что-то давнее, полузабытое, грустно умиротворяло, и думалось, что и через год и через два будет катиться оно по деревне, это эхо, а он будет вот так же стоять во дворе и слушать его.
И на душе у него стало спокойнее.
Он намешал кабану в пойло толченого картофеля, вылил пойло в корыто, переждал, пока тот съест, и вышел на улицу. Надо было бы зайти к старому Ничипору, сказать, что приехал с луга и будет завтра отбывать дворовку. «После зайду, — подумал он, — сперва развяжусь с лугом». И медленно побрел по улице.
Возле колодца он увидел мальчишек; подбрасывая вверх какую-то птицу, они с криком гонялись за ней, а когда она начинала ковылять по земле, накрывали ее шапкой. Он остановился и позвал их к себе. Мальчишки притихли, сбились в кучку. Потом, сказав что-то дружкам, к Максиму подбежал сын бригадира Стась — самый смелый из всех, рослый, в замусоленной шапке, надетой козырьком назад.
— Это вы нам кричали, дядька Максим?
— Носитесь тут, — сказал он, — птицу мучите…
— Это кароза, — сказал Стась, — а по-научному — сойка.
— Кароза, сойка — все равно, — сказал он. — Вы мне лучше одно дело сделайте…
Стась поправил на голове шапку и, переступив с ноги на ногу, шмыгнул носом.
— Какое дело?
— Оббежите дворы и скажите, что я приехал с луга, что мужчины просили, чтобы…
— Ого, дядька Максим, хитрые вы, — сказал Стась. — Что у нас — ноги купленные?
— Глянь, разумник какой!.. Я вам топтуху дам, сходите на рыбу.
— Правда, дадите? Не обманываете, дядька Максим?
— Ты лучше слушай. Я тебе сейчас все расскажу по порядку. Только смотри не забудь…
Он объяснял, кому и что необходимо передать, а Стась все кивал головой и шмыгал носом…
— Так не забудешь? Смотри мне…
— Правда, топтуху дадите, дядька Максим?
Он не ответил — из кустов за колодцем вышла Варвара. Она, наверное, тоже заметила его, хотела было остановиться, может, спрятаться, но, посмотрев на улицу, смело пошла к нему. Он стоял и ждал. Она поравнялась с ним и, не здороваясь, тихо сказала:
— Щавеля во немного нарвала… Мало его селето…
— На лугу такого добра хватает, — тоже не здороваясь, сказал он. — Да мне не до щавеля там…
Она остановилась и посмотрела куда-то в сторону.
— Ты один приехал или покосили уже все?
— Дворовка у меня, — сказал он. — Мужчины еще остались.
— Забор у меня, лихо на него, повалился, — пожаловалась она. — Ходила утром к Иванчиковому хлопцу, чтоб помог, а он говорит: времени нет. Камни собирать во вторую бригаду поехал.
— Камни в сенокос… Выдумал же кто-то.
— Не от колхоза это… Из района приезжали… За деньги…
— Давно завалился твой забор?
— Да вчера! Чей-то кабан подрыл. Я хотела выровнять, а столб гнилой — надломился… Подперла лопатой…
— Пойдем, гляну на твой забор…
— У тебя свое дело…
Он молча пошел по улице впереди нее, не оглядываясь, поднял на дороге какой-то прутик, повертел его в руках, потом, примерившись, швырнул в пыльную канаву.
— У тебя свое дело, — снова сказала она, догоняя. — Приедет вот Иванчиков хлопец… А там и у моего Толика каникулы.
— Много ему дают гулять?
— Месяц, писал… А твой не собирается приехать?
— Нельзя ему, — солгал он. — Не пускают. Работа у него такая.
— И то! Это ж во Маринин хлопец со службы пришел, а где служил, не говорит. Не позволяют им говорить…
— Твоему много еще учиться?
— Две зимы.
«Выучится, — подумал он, — и жди его тогда в деревне… Как моего…» Он не хотел плохо думать о ее сыне и не мог иначе — два года таил на него обиду. В деревне давно уже знали, что Максим ходит к Варваре: он без жены, она без мужа — почему б и не сойтись! Знал про это, наверное, и Толик, потому что как-то летом, подвыпив на выпускном школьном вечере, пристал на улице к Максиму, лез с кулаками, грозился и близко не подпускать его к материному порогу… Прибежала Варвара и, плача, увела сына домой. И с того самого дня между ней и Максимом встало что-то, обоих угнетала какая-то недосказанность, неопределенность их отношений.
Они и сейчас словно боялись нарушить что-то, переступить через эту неопределенность и потому говорили о том, что было не так уж и важно.
— Во, видишь, — сказала она, остановившись возле подгнившего столбика, — ветер поднимется — снова завалится…
— Завалится, — потрогав столб, озабоченно согласился он. — Все переставить надо. Может, пока хоть новый столб вкопаю…
— То гляди уж, Максимка, гляди, — как-то растерянно и заискивающе сказала она и отошла в сторонку, пропуская его в калитку, бочком вошла следом.
Максим что-то высматривал под поветью, что-то бормотал себе под нос, откатил от стены суковатое сосновое полено, заскорузлое внизу от смолы, пнул его ногой, позвал:
— Иди сюда, глянь… На смоляки берегла? Закопаю этим концом в землю — гнить не будет.
— То гляди, Максимка, сам гляди, — снова как-то растерянно сказала она, — тебе виднее.
— Неси пилу и топор…
Вдвоем они перепилили столб, сделали зарубки для жердей, остальное он делал сам: обтесывал столб, копал ямку, прибивал жерди. Варвара ушла в хату. «Не хочет, видно, чтобы видели нас вместе, — думал он. — Да все равно будут молоть языками: ставлю ж вот забор… Все видят… Ну и пусть…»
Двое односельчан прошли мимо, поздоровались, но не заговорили. «Ишь ты, деликатные!» — подумал он, и ему почему-то стало приятно. Было приятно думать, что рядом, в хате, Варвара, что сегодняшний день, быть может, что-то изменит в их отношениях. Когда он кончал работу, заходило солнце — красное, холодноватое, но на улице было тихо, тепло, и прежняя боль, шевельнувшись было в душе, тут же прошла. «Про это сегодня не надо думать, — сказал он себе. — На сегодня хватит».
На крыльцо вышла Варвара и позвала его в хату.
Еще с порога услышал он запах яичницы, увидел застланный свежей скатертью стол: в хате было уютно, чисто, и на него, как только он вошел, сразу повеяло чем-то ласковым, таким непохожим на его хату, что он сперва растерялся, затоптался на пороге.
— Сядь, перекуси, — просто сказала она.
У порога он вымыл над ведром руки, вытер их чистым полотенцем, которое подала Варвара, хотел было повесить его на гвоздь, но она сказала:
— Постелешь на колени…
Он сел за стол, положив полотенце не на колени, а на лавку, возле себя. Варвара достала из сундука графинчик подкрашенной водки, налила ему полный стакан и себе немножко капнула, улыбнулась:
— Разнесут сейчас по деревне, скажут: Максим в примаки пошел.
— Черт с ними, — думая о своем, ответил он и тоже улыбнулся. — Настя все спрашивает меня, почему не женюсь…
— Выпей, Максимка, выпей, — засуетилась Варвара. — Устал ты…
«Хитрит, — обидевшись, подумал он. — Эх, бабы!» Он быстро выпил.
— Ешь, — она придвинула к нему сковородку с яичницей. — Сыра попробуй. Давно не делала… Толик мой любит…
— Когда он приедет?
— Да, писал, недели через две…
— Особо не бегай за ним. Пусть хоть сена назапасить поможет. С сеном теперь людям больше всего забот… Это ж приезжал на луг учитель наш, с колхозниками за десять процентов косить. Так кто-никто кривится… А разве ему не нужно корову кормить? Он же твоих детей учит, в одной деревне живет.
— Есть люди — только под себя гребут… Может, еще, Максимка, выпьешь? Я налью…
— Нет, хватит. Корова с поля придет — надо подоить. Да и завтра вставать рано — опять же коров пасти.
Она не упрашивала, отщипнула себе кусочек сыра, пожевала, потом, сложив руки на груди, тихо сидела, думала о чем-то, а он смотрел на ее еще не старое лицо, на загоревший чистый лоб, на гладко зачесанные темные волосы, задумчиво смотрел, — она, видно, заметила это, шевельнулась, глянула в окно.
— Темнеет… Это ж надо, господи, такое, чтоб мужчина женскую работу делал… Как не повезет, так не повезет…
— Не жалей, — хмуро сказал он. — Лучше б замуж за меня шла…
— А я и пошла б, — спокойно и серьезно сказала она, — если б не Толик. Если б не Толичек мой… А что ж с ним будет? Батька нас тогда бросил, пошел собакам сено косить… На заработки уехал. Так как это я теперь брошу его?..
— Не вечно ж ему при тебе жить… Женится — чужой станешь.
— Может, и женится… Может, и чужой стану, да он же мне не чужой!.. Что мы! Пусть зато наши дети поживут…
Он начинал немного хмелеть, ему стало жаль себя, Варвару. «Как хорошо, — подумал он, — что не сказал ей ничего такого про сына. Она б думала, что у меня плохой сын, и жалела б меня. Она добрая… Не то что я… Она жалеет Толика, вот он каждый год и приезжает домой… Но он же студент, куда ему еще ехать?» Максим прогнал эту мысль от себя, ему показалось, что он думает так от обиды на Толика, от зависти к Варваре.
— Пойду я, — сказал он и встал. — Крепкая у тебя водка.
— Не обижайся, Максимка. Поживем — увидим… Не обижайся…
— Хорошо тут у тебя, и не шел бы в свою хату… Пойду. Темно совсем… Вроде бы и коров пригнали.
— Возьми вот сыру с собой, — опять засуетилась Варвара. — У меня еще есть… Возьми. Сам ведь не сделаешь!
— Дак как же я его через всю деревню понесу?
— А я заверну тебе, Максимка. Межой пойдешь.
Она сходила в сени, принесла завернутый в чистую тряпицу сыр. Он, помявшись, взял. Варвара вышла за ним на крыльцо.
— Может, еще зайду, шуляк на воротах поменяю, — сказал он. — Кто-то подтесал, чтобы только калитка закрывалась, — разве это дело…
Огородами он вышел на межу. Уже совсем стемнело, ложилась роса, брался на обмежке редкий туман, и, оглянувшись на деревню, он увидел во дворах костры: варили бульбу. За межой, в густой ржи, уже начала свое «жать-полоть» перепелка. Он шел, присматриваясь ко всему вокруг, чутко прислушиваясь.
Надвигалась ночь, прятала в густой полумрак землю, будто хотела, чтобы человек, забыв об этой земле, поглядел на небо. Прорезались, замерцали первые звезды. И снова, как днем, когда приехал с луга, в душу закрадывалось непонятное, странное настроение, подступала печаль, но была она какая-то легкая, без боли, светлая. Максим подумал о сыне, подумал, что пока он идет тут один среди поля, дома, может, сын ждет его; сидит на крыльце, тихо, сосредоточенно курит. Подумав о Варваре и Толике, он укорил себя в том, что, может, сам виноват, что так долго не едет домой сын. Зачем так упорно прятал в себе всегдашнюю обиду на него, зачем, надо или не надо, заставлял его потеть на работе — если б сын не хотел помочь отцу, разве приезжал бы он домой?
Он глянул на небо: оно было широкое, тихое, доброе, и звезды, казалось, подмигивали ему, Максиму, видели его и разговаривали с ним. Волнуясь, подошел он к своей хате, осторожно зашел во двор: на крыльце возле двери было темно. Он нащупал рукой косяк, щеколду — на пробое висел замок. «Не приехал, — подумал он, — не приехал». Корова, услышав его, замычала у ворот на улице. Он впустил ее во двор, сел на крыльце и закурил. Курил, вздыхал, и крепла в нем уверенность в том, что сын, наверное, приедет завтра; Максим пригонит вечером с выпаса коров, придет домой, откроет калитку, а во дворе будет стоять сын.
Открыл дверь, взял в сенцах доенку и пошел к корове…
Ужинал он сыродоем и оставшейся от обеда зачерствелой горбушкой. Надо было рано вставать завтра, и он сразу лег. Заснул быстро и спал спокойно, умиротворенно: ему снилось, что приехал сын.
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ (Перевод Эд. Корпачева)
1
Шел четвертый год войны. Бабка — усохшая, с почерствевшим от старости и работы лицом — отхлестала маленького внука за то, что общипал, не дождавшись поры, горбушку вязкого, испеченного из бульбы и ячменных отрубей хлеба.
Мальчик не заплакал, только не своим голосом вскрикнул, убегая от бабки и норовя шмыгнуть под кровать, но передумал на бегу, растерялся, и здесь догнала его, последний раз больно хлестнула завязками от фартука старуха.
Мать же толкла, толкла просо; она все видела, и когда сын, растерявшись, дико осматривался испуганными глазами, ей показалось, что на нее смотрит он и молит о сострадании, о пощаде, молит заступиться, и у нее тогда все перевернулось внутри, и она подумала, что и сама нередко так же заносила руку над мальцом, а теперь раскаивалась в этом.
Сын метнулся от кровати к дверям, изо всей силы давил руками на щеколду, бил по двери ногами, и мать видела, как дрожал у него побелевший подбородок, как уже захлебывался он от слез.
А во дворе заплакал громко, в голос.
И тогда ей, как только услышала она этот плач, почему-то легче стало, словно сама она заплакала, в слезах находя облегчение.
Она оглядела хату, старуху, мельтешившую по хате, и более всего поразило ее лицо свекрови — опустошенное и страдальчески немое. И поняла она, что и старуха жалеет теперь внука и что мельтешит, наверное, потому что не знает, куда ей теперь девать фартук и что делать с этими руками своими.
И она, мать, перестала глядеть на старуху и нарочито громко застучала толкачом в ступе.
А старухе и вправду было не по себе, и не хотела она, чтоб видела это невестка, и побыстрее вышла вон.
Худой, как доска, поросенок, томившийся у крыльца, сразу же бросился к ней, она крикнула на него, оттолкнула ногой — поросенок озлобленно захрюкал, потрусил снова к крыльцу и начал поддевать сизым своим пятачком двери сенцев. «И этот хочет есть, — подумалось ей, — а где наберешься на всех? Пропади ты все пропадом…» Она сердилась и в досаде своей поняла вдруг, что ей нечего делать на дворе. А в хату возвращаться не хотелось, и она побрела в огород.
Была весна, пустовато было на грядках, не знавших первой прополки, поделенных ровными, еще не истоптанными бороздами. Старуха глянула на свежераскопанную завалинку, заметила, что подгнивает нижнее звено хаты, подошла ближе и, наклонившись, начала перебирать на земле бурый, подсохший сверху боровой мох, которым на зиму утепляли завалинку; перебирала мох и бросала его в борозду, ближе к плетню, где кустились уже кислец, пырей, серебристо-нежная лебеда, где лежали изломанные прошлогодние будылья. Потом смотрела она, как принялись расти помидоры, кочан капусты, посаженный на семена, и думала, добрым ли будет этот год. Старый Тимох, у которого на дубе селятся аисты, говорил, что, наверное, будет добрым этот год. А знает Тимох много, ой, много: еще в самом начале войны сказал, что немец не задержится у нас, потому что и в библии так написано, — и вот же оправдались его слова, и гонят немцев наши.
И работала и думала она теперь спокойно, хотя и ненастоящим было спокойствие ее, потому что знала, чувствовала, какая тревога живет внутри, похожая на застарелый грудной кашель, и страшной представлялась ей вот эта неуверенность в своем прежде таком неоспоримом праве наказывать.
Она снова побрела во двор, протопала в хлев и по лестнице забралась наверх. Было душно и темно, не то что во дворе, и она ползала по всем углам на коленях, собирала в подол куриные яйца. Уже слезая вниз, оступилась на лестнице, испугалась, как бы не обронить яйца, и, растерявшись, упала. Ударилась не очень больно, потому что не с высоты упала, целехоньки были и яйца, высыпавшиеся на припорошенный сеном сухой навоз, но ей отчего-то до того обидно стало, до того напряглось все внутри, что она не поднималась, не собирала яйца, сидела и незряче смотрела перед собою.
Уже после она услышала, как во дворе звала малыша невестка — сначала строго, по имени, а потом неуверенно и с испугом:
— Сынок, где ты? Иди в хату, не бойся…
Мальчик не отзывался, — наверное, сбежал, и старуха, лишь теперь понимая это, подумала, что невестка, разыскивая малыша, может зайти в хлев, и хотела встать, но боль остро кольнула в бок: старуха зажмурила глаза, и что-то стремительное отдалось в ушах, заняло дыхание. Она не шевелилась, и шум в голове унялся, словно бы пришли откуда-то, приблизились серые стены хлева, и она, осмотревшись, увидела яростный свет в дырявой соломенной крыше и услышала, как щебетали над крышей ласточки. Стукнули двери сенцев — вернулась в хату невестка, и старуха встрепенулась, перед глазами возник малыш и как метался он по хате, беспомощно вобрав в плечи русую, стриженную ножницами голову. Она видела все это ясно, и ничего уже на свете не было для нее, кроме этой беззащитной, бедной, неумело остриженной головы. И она жалела внука, жалела, что когда-то, давным-давно, отхлестала вот так же сына, убитого теперь на войне; собираясь в поле, забыла в погребе ключ, а потом не могла открыть сенцы и винила во всем сына — он не признавался, и она отлупила его. Пришлось вынимать пробой, чтобы влезть в хату, а через день, заглянув опять в погреб, она обнаружила ключ, и вот теперь ей больно было оттого, что никогда уже не признается сыну, как напрасно побила его тогда, в детстве, — и ей уже казалось, что в сыновней смерти виновата и она и что неутешной и горькой будет с этих пор ее старость. И еще хотелось ей, чтобы кто-нибудь пожалел ее, чтобы спохватилась, начала ее искать невестка.
2
А невестка тем временем была в хате, молола ячмень на самодельных дубовых жерновах. Ей хотелось забыться в работе, и она, не разгибаясь, вращала тяжелый скрежещущий круг, пока не заметила, что делает это слишком быстро, — с лотка текла не мука, а вместе с отрубями выстреливали, широко ложились на разостланный на полу платок серые бубочки. Тогда она успокоилась, принялась меньше засыпать ячменя в ступку и крутить жернова размеренней.
Со двора она пошла потому, что знала: сын прячется где-то поблизости, но теперь, когда она звала его, не выйдет — немного погодя выйдет. Она лишь опасалась, как бы он, измученный обидою и плачем, не утих где-нибудь, не заснул, и подумала, что скоро надо выйти снова и позвать его. Беспокоило ее и то, что во дворе не было старухи. «Да и старуха как маленькая!» — неожиданно разозлившись, подумала она и ступила в хату.
Монотонно скрежетали жернова, и под этот жесткий шорох приходили к ней невеселые мысли — о муже, убитом муже, с которым жила всего три года, о сыне, который не помнит отца: забрали отца на кадровую службу перед самой войной, и кто же знал тогда, что сюда придут немцы, что столько мужчин сложат головы в этой напасти. Когда в финскую войну убило Крутикового Тимоха, горевала вся деревня, а теперь в каждой хате свое горе. А может, к лучшему, что сын не помнит отца: так будет легче ему, — но сколько же ей надо выдержки, сколько жестокости к себе и к людям, чтобы утвердить себя в жизни, не дать в обиду себя и сына. Было бы легче, если б свекор был иным — не таким добрым к людям. А так — мужчина в доме, но не хозяин. Когда распускали колхоз, брали люди себе и коров, и коней, и кто пронырливей был — тащил и вел во двор лучшее. Свекор только и успел взять Оборванчика. Какой это конь — Оборванчик, прозванный так потому, что вырвали у него однажды волки сбоку… А вот сосед, гундосый Митька, — тот постарался! Когда отступали наши, приплелся домой; отсиживался, пока не поставили старостой, а как только погнали немцев — подался в партизаны. И теперь говорит, что старостой был по заданию, и проверяй, если хочешь… Скорей бы кончилась война, тогда бы все виднее стало…
Она перестала вращать жернова, вышла снова окликнуть мальчика. Но сын, как и в первый раз, не отзывался. «Погоди же, — подумала она, — припомню тебе, когда прибежишь домой». Вспомнила о старухе и тихо, несмело позвала:
— Мама! Ты здесь? Мама!..
И, прислушавшись, позвала еще раз.
Скрипнули ворота и, сутулясь, вышла из хлева старуха, молча и недобро глядя на невестку, протопала к сенцам. У крыльца остановилась, поправила на голове платок и пробубнила что-то о яйцах.
«Что с ней? — подумала невестка. — И ей, видать, муторно, и сыну плохо. А мне разве лучше?»
Она вышла за ворота и стала пристально смотреть вдаль, выискивая взглядом мальчика. Но нигде его не было.
3
Мальчик затаился в ольшанике, окружавшем небольшой овражек в конце улицы; он слышал, как звала его мать, но не выходил: с каким-то мстительным наслаждением отсиживался в кустах. Он уже не плакал, и за это время, как покинул двор, сколько раз принимался думать о своем побеге из деревни, надолго, навсегда, — вот раздобыть бы только хлеба и стащить суконную свитку, а там айда в местечко, и пускай тогда ищут, пускай поплачут и бабка и мамка.
Правда, жалко деда, жалко, что не привелось подраться с «полицаем», Митькиным Василем. В последний раз одолел его все-таки, даже рассек этому гаденышу губу, но потом, когда примчалась мать «полицая» и стала кричать и ругаться, расплакался, а «полицай», наверное, радовался, поддакивал матери и не уходил с улицы. Ну, ладно, поплачет еще. Сегодня вот он переночует в кустах, а завтра подстережет «полицая» и отомстит за все.
Он почувствовал себя сильным и одиноким, и это было приятно ему. Вспомнил, что сегодня утром дед не взял его в лес, и ему теперь совсем не жалко было покидать дом. Он подумал, что надо готовиться к ночлегу — принялся ломать ветви ольшаника и строить шалаш.
Здесь, в шалаше, он и заснул — не слышал уже, как нашла его мама и перенесла в хату.
Проснулся лишь тогда, когда укладывали на чистой половине хаты в кровать и накрывали рядном. Проснулся и не сразу догадался, что же это с ним. Еще не видел он ни бабки, ни мамки, чувствовал лишь, что они здесь, и испугался, и потому неожиданно для себя закричал: «Дед! Дед!» — и заплакал. И сразу же тишина в хате подсказала ему, что деда нет, что никто не заступится за него.
— Сынок, сынок, ну что ты? Не бойся, — испуганно говорила над ним мама, и укрывала его, и трогала рукой его лоб. Была нестрашною, большою и доброю эта рука, и он закрыл глаза и, затихнув, так лежал, успокоившийся и бездумный.
Ему стало несказанно легко, и он не замечал, как смотрела на него мама, только удивился, когда почувствовал, как затряслось ее тело, как припала она к нему, и тогда что-то страшно и сильно заколотилось у нее в груди, судорожно забилось в горле.
— А сыночек ты мой, а сиротка ты моя, — жаловалась мама, — никто тебя не пожалеет, никто тебя не защитит. А не виноват же ты, что татка сложил голову, что никто не знает, где его могилка… И этот Митькин гаденыш бьет тебя — чего же ты, сыночек, поддался ему?
Она забыла уже, что недавно думала о жестокости к себе и к людям, чувствовала, что это нехорошо — такие слова говорить сыну и плакать, но не могла сдержаться и захлебывалась слезами. И не видела, как подошла к приоткрытой двери, уводившей в чистую половину хаты, старуха, тихо стояла там, горбясь, — лишь встрепенулась, когда услышала ее тихий, тревожный голос:
— Марусь, а Марусь?! Ходи-ка сюды…
Она отстранилась от мальчика, встала, поспешно утирая слезы, и пошла к дверям, не понимая, чего же хочет от нее старуха, но уже заранее равнодушная ко всему. И снова в который раз поразило ее лицо свекрови — страдальчески незрячие, словно бы застойные глаза. Не успела она о чем-нибудь подумать, как старуха, казалось, пошатнулась перед ней, сцепила перед лицом руки, и лишь тогда она поняла: старуха плачет теми же слезами, какими плачет и она.
— Марусечка моя милая, — не говорила, а шептала, словно допытываясь у кого-то, старуха, — что ж нам теперь без нашего Андрейки? За какие ж грехи осиротил нас бог?
— Не надо, мама, не надо… Испугаем хлопчика.
Они стояли, как никогда близкие, поддерживали одна другую за плечи и тихо плакали — родные и еще породненные горем, слезами.
А мальчик, почувствовав что-то недоброе, когда отошла от него мама, соскочил с кровати и теперь стоял в дверях и растерянно, испуганно глядел на обеих. Сколько раз он плакал сам и чаще всего от обиды на старших, но ведь это было и не так уж страшно: потом те же старшие уговаривали его и все прощали ему. А сейчас, когда перед ним плакали бабка и мамка, ему показалось, что нарушилось, покачнулось, как вода, что-то понятное, привычное, и ему почему-то подумалось, что он один виноват во всем, и впервые, наверное, не столько понял, сколько почувствовал он, какая зыбкая межа отделяет его от взрослых и что, осознав это, надо брать на свои плечи недетскую тяжесть.
И тогда он бросился к бабке и мамке, уговаривая их, упрашивая:
— Не плачьте!.. Я больше не буду брать хлеба… Не плачьте!.. Я не боюсь Митькиного «полицая»… Мама, это я так тогда плакал, а ты не плачь, не плачь…
4
Шел четвертый год войны.
ЖДЕТ НА ВОКЗАЛЕ АВТОБУС (Перевод Эд. Корпачева)
Все было, как прежде, как вчера, и все же начиналось все сызнова…
В коридоре Юновича едва не сбил с ног заведующий отделом информации. Небритый, странно сутулый при небольшом своем росте, он отскочил в сторону и осоловело захлопал круглыми глазами.
— Ты? Налетел, как этот… Здоров! Слушай, а что, если из стола находок информацию дать? Было, говоришь? Ну, придумаю новую рубрику, рубрика вывезет… Знаешь новый анекдот? Муж во сне бормочет, а жена берет его за руку и говорит… — Он наклонился к Юновичу, нашептал на ухо конец анекдота и отвалился — затрясся весь, рассмеявшись. — Сатира, юмор — колоссально, а? — и ткнул Юновича в бок. И, не ожидая, пока рассмеется коллега, побежал в машинное бюро.
Анекдот был как анекдот. Смешной. Юнович же не смеялся. Все было, как прежде, как вчера, и все же начиналось сызнова…
Распахнув в кабинете форточку, Юнович, не раздеваясь, сел за стол. Не хотелось ему сегодня ни анекдотов, ни пустопорожних разговоров. По дороге в редакцию он видел опять на вокзале автобус, — хотелось помолчать, побыть одному, пока не соберутся сотрудники и не завертится вовсю редакционная машина.
И Юнович сидел и молчал.
Папироска медленно тлела, и так же медленно, но с удивительной ясностью текли его мысли. Через распахнутую форточку доносилось шарканье подошв, — Юнович слышал все это, и представлялось ему, какой там серый, с влажной темной прозеленью снег на тротуаре. Затихали шаги, и тогда в неуверенную тишину врывался стремительный шорох автомобильных шин, а то и сдавленный скрежет тормозов. Вдоль улицы стояли липы в чугунных квадратах решеток — ветвистые, широкие, гладко, как ватою, укрытые утренним снегом, — а за липами видна была школа, и в окнах ее горел желтый и ровный свет. Пасмурно было на улице — была оттепель.
А здесь, в кабинете, было сухо, тепло, и пахло краской от радиатора, и в ведро, подвешенное к крану в радиаторе, скупо падали капли горячей воды: вчера звонили водопроводчику, — значит, не приходил еще. Юнович встал, прошелся по кабинету, постоял, вспоминая: зачем он встал из-за стола? что хотел сделать? — да, ведь он хотел усесться на старом, привычном диване, привалиться спиною и закрыть глаза… Дивана не было в кабинете: накануне редактор распорядился вынести диван, чтоб не засиживались на нем ни сотрудники, ни чужие люди. «Зануда, — подумал Юнович, — самый обыкновенный зануда», — но подумал бесстрастно, потому что давно знал редактора и не любил, как не любили и все остальные в редакции. У редактора было узкое, постное и, как говорили коллеги, холодной штамповки лицо. В газету он пришел недавно, и только пришел — сразу стало суетно в редакции, стало много летучек, планерок, «накачек» и еще больше — перешептываний в коридоре. Газета оставалась неинтересной, и всем хотелось, чтобы редактора поскорее перевели куда-нибудь, хотя бы даже на повышение.
В конце концов Юновичу сегодня было все равно: о редакторе он думал не много…
Есть в городе вокзал, и если пойти туда, купить билет и сесть в автобус, будет сначала ожидание, тихие, сдержанные разговоры, потом — толчок: на мгновение прервется трепетная нить времени и — поехали, поехали… Будут остановки на далеких километрах, будет безладный гомон в автобусе, дым, хоть вешай топор, будут привычно браниться, спорить женщины, а дядьки в суконных поддевках скалиться и по-прежнему курить, курить, будет подсаживаться к взгрустнувшей девушке солдатик, а глуховатый дедок с пеньковой бородкой показывать соседу сапоги, которые везет от сына. А потом впереди выплывут маленькие домики районного центра — Юнович выйдет из автобуса и не успеет осмотреться, как на него навалится медведем высокая, широкая, такая нереальная, словно бы выдуманная тишина… И если приедет он вечером, в деревянной гостинице будет топиться печурка и у дежурной тетки будет сидеть ее какая-нибудь знакомая — за одну только добрую душу, за шумный огонь в печурке будет делиться с ней всеми местными новостями. Он увидит в номере аккуратно застланные постели, еще раз прислушается к тишине, и ему покажется тогда: все, что происходило с ним и при нем раньше, до этого дня, теперь где-то далеко-далеко, и жизнь можно начинать заново.
Так он часто обманывал себя, Юнович, так было и в последнюю поездку.
Сначала, вечером в гостинице, все потекло как обычно: и несмелое ожидание неведомого, и тихая радость одиночества, и такая же тихая надежда на обновление. А утром, выходя на улицу, Юнович уже пожалел, что район хотя и незнаком ему, однако… Вчерашнее настроение уходило. Маленький город не сулил ему ничего нового: надо было что-то искать для газеты — время торопило Юновича, — у него не было времени поискать, подумать, постараться найти. Он пошел в местную редакцию, и там собрат по перу, краснолицый, в галифе, в сером пиджаке и зимней шапке, отложив в сторону подшивку газет, откуда старательно переписывал что-то, подсказал Юновичу человека, о котором, по его мнению, «можно смело написать подвальный очерк». Юнович пожал ему руку и поехал в колхоз.
…Стоял зимний солнечный день, но не из тех спокойных ясных и как бы оглохших от тишины, какие бывают в январе. Дул ветер, и уже синел, подтаивал гладкий санный след. У крыльца сельмага чирикали воробьи, дрожала на ветру и золотилась на солнце рассыпанная на улице солома. Вдруг зазвенел звонок, и Юнович, спохватившись, увидел, что направляется к школе, откуда уже чередою выскочили на улицу дети. Чужого человека заметили сразу, и младшеклассники заинтересованно, охотно здоровались с ним. Шла навстречу девушка, щурилась, глядя на солнце, и поправляла свободной рукою папку под мышкой.
Юнович остановил ее и спросил, где колхозная контора.
У девушки был чистый и приятный голос и что-то нежное во всем облике. Объясняя, она по-детски морщила лоб, сняла зачем-то рукавичку и мяла ее в пальцах.
— Так вы найдете теперь? — спросила она.
— Контору? Найду как-нибудь… Спасибо.
— Нет, идемте, я вам лучше сама покажу…
И они пошли. Разговорились, и вскоре Юнович уже знал, что девушка эта учительница, что зовут ее Валя, работает здесь второй год, а сама из города. Скучно ли ей одной в деревне? Молодежи здесь, правда, маловато. Фильмы в клубе крутят старые, но можно и второй раз посмотреть. Только вот много работы в школе, да еще лекции, доклады. Она классный руководитель, и часто приходится ходить в соседние деревеньки — к родителям своих учеников. Будет ли перебираться в город? Еще не думала об этом. В городе устроиться трудно, надо, чтобы кто-то помог, а просить она не умеет, да и не хочет. Там, в городе, у нее сестра, мама… Мама зарабатывает мало, потому что работает уборщицей, а сестра учится в институте. Если и устроится в городе, вряд ли ей дадут много часов, а ведь помогать надо матери и сестре. У колхозной конторы они распрощались. К человеку, о котором «смело можно написать подвальный очерк», Юнович опоздал: очерки о нем уже писали. Разложив перед собой газетные вырезки, человек заученно пересказывал их, а Юнович не останавливал его, записывал, хотя записывать и не стоило бы: что должны делать и даже думать герои плохих очерков, Юнович знал и сам. И вот теперь этот совсем незнакомый и, может, даже интересный человек рассказывал о себе словами, чужими и блеклыми, придуманными в минуту бескрылого вдохновения каким-то незадачливым журналистом. Юнович, однако, записывал. «Газете нужен очерк, — утешал он себя, — написанный лучше или хуже, но написанный в срок». Юнович торопился, записывая, потому что время подгоняло — надо было возвращаться в редакцию.
А через неделю, когда напечатали очерк, Юнович простить себе не мог, что написал его. Писать надо было о ком-то другом. Может, даже о Вале. Или не писать совсем.
…Серое пасмурное утро было за окном, и Юнович расхаживал по редакционному кабинету.
А на вокзале стоял автобус — он был далеко, но Юнович видел этот автобус, словно бы смотрел на него. Автобус был пуст, безмолвен, и о холодные бока его бились паровозные гудки, перезвон трамваев, рокот моторов. Под его колесами лежали пространство и время. Вот зайдут в него люди, автобус тронется, и ему станут подвластны дальние поля, дороги, тихие гостиницы в глубинных городах и новые люди, а более всего — его, Юновича, надежда забыть о недавней досаде, живущей в нем со дня последней поездки, взять да и начать все заново…
Безлюдный, безмолвный, автобус стоял на вокзале.
На столе зазвонил телефон, Юнович подошел, снял трубку. Голос редактора скупо и с нажимом предложил:
— Зайди.
Трубка смолкла, потом что-то щелкнуло в ней. Надо было идти. Юнович снял пальто. На вокзале стоял автобус — он ожидал, — и защемило сожаление, что сегодня Юнович больше не будет раздумывать об автобусе…
В приемной он медленно тушил папиросу. Секретарша усмехалась, а потом с притворной серьезностью погрозила редакторской двери кулаком. Но было не смешно. Юнович вошел…
Откинувшись на спинку кресла, редактор смотрел в окно. И не пошевелился, не повернул головы, когда Юнович вошел, — сцепленные руки лежали на коленях. Ничего нового — все Юновичу было знакомо. Нудным и ровным голосом редактор произнес:
— Наде организовать выступление директора льнокомбината. У них там хорошая самодеятельность… Садись.
— В какой номер?
— В очередной.
Редактор все еще смотрел в окно.
— Выступление директора давали уже другие газеты, — сказал Юнович.
— Наша газета тоже «другая». Что еще?
Редактор по-прежнему смотрел в окно.
— А если директор, — почему-то начал волноваться Юнович, — не умеет писать. Делать за него?.. И вообще…
— Можешь нанять кого-нибудь — дело твое.
Редактор любил юмор. И вот обычная человеческая слабость становилась силой, выстоять перед которой никто в редакции не мог. Но сегодня Юновичу почему-то не хотелось отступать. Он сказал:
— Мне кажется, лучше дать выступление кого-нибудь из самодеятельности. Или репортаж. Будет интереснее, и не повторим… другие газеты.
— Будет интереснее, если тебе перестанет казаться… Делай.
Редактор смотрел в окно. Продолжать разговор не было смысла. Юнович встал. «Чудак, — подумал он, глядя на редактора, — не хочет даже усмехнуться. Сидит как Будда… Напускает на себя суровость… Нет, старик, дело у нас так не пойдет». Юновичу отчего-то было жаль редактора.
В приемной снова улыбалась секретарша — он молча прошел мимо нее. В конце коридора показался заведующий отделом информации — Юнович поспешил в свой кабинет. Закурил, набрал номер телефона: неестественно плавный женский голос объяснил, что директора на комбинате нет, но, возможно, скоро будет. В телефонной трубке было слышно, как стучала машинка. Сказать, чтобы ждали корреспондента? Еще решат, что приедет по критическому сигналу, и тогда вовсе директора не найдешь.
— Кто это у телефона? — спрашивала женщина.
Юнович положил трубку.
Ничего еще он не решил, когда вышел на улицу. Было пасмурно — туман не рассеялся, — спешили пешеходы, автобусы ехали с запотевшими стеклами. По одну сторону улицы горели фонари, у пивного ларька неподалеку от редакции толпились мужчины. Юнович не спешил. Некоторое время стоял на мосту, глядел на реку — лед у берега был серый, с налипшим снегом, а посредине реки темнела вода, и галки ходили по льду у самого края воды. Юнович пошел дальше; многолюднее стало на улице, у магазина продавали пирожки и яблоки — от пирожков шел парок, а на яблоках был иней. У кинотеатра захлебывался давнишней песенкой репродуктор. Юнович направился к кассе и купил билет…
Фильм был старый, заграничный, зал помалкивал; со спокойной заинтересованностью Юнович наблюдал чужую, далекую, ограниченную полутора часами жизнь. И было море — красивое в утренней дымке и томительное, разомлевшее в полуденный зной. И бронзовые лица рыбаков были, и улыбки на лицах — скупые, сдержанные; и были еще он и она, счастливые, но он собирался в большой город за еще большим счастьем, и с надеждой и тревогой смотрела на него она… И был город — была суета машин, были рекламы, бары, встречи с женщинами, мимолетные, как брошенное на ходу «хелло!», — и вот однажды на рассвете после веселой ночи он возвращался домой, а на углу улицы стояла она, и взгляды их встретились, но он не узнал ее: ему хотелось спать, а говорить с незнакомой женщиной не было охоты. Он пошел, а она смотрела ему вслед, и в глазах ее, как прежде, снова были и тревога и надежда… Фильм заканчивался, и звучала мелодия, робкая и грустная, как воспоминание о несбывшейся надежде… Вспыхнул свет, заскрипели стулья, открылись на улицу двери — жизнь, чужая, далекая, ограниченная полутора часами, кончилась. Люди выходили из кинотеатра. Юнович закурил. На другой стороне улицы он сел в автобус.
В автобусе было тесно, кондукторша откуда-то с передней площадки предлагала билеты. Плотно сжатый со всех сторон, Юнович стоял лицом к окнам, держался рукой за металлическую спинку сиденья. Перед ним женщина с девочкой на коленях листала детскую книжку, показывала рисунки.
— А это что? — спрашивала девочка. — Это птички? Мама, какие это птички?
— Снегири.
— Снежири?
— Нет. Надо говорить: сне-ги-ри!
— Ну, мама, я и говорю: снежири!
И Юнович смотрел в книжку… Ах, какие звонкие, красногрудые, желтобокие, словно яблоки, были там снегири! Какая далекая и уже полузабытая сказка детства. И зачем девочка спрашивала о снегирях у мамы, лучше бы спросила у него. Он бы… Он рассказал бы про дрова, которые трещат в печи, про окно, розовое от утреннего солнца; окно заиндевело, сделалось как картина от морозных узоров, и на одном стекле едва светится синяя впадинка — там, где вчера он дышал на стекло. Вчера. А сегодня утро, узоры в окне розовые, и он обувается на низкой лавочке, обкручивает ногу теплой, подсохшей портянкой, сует ее в теплый, тоже согретый на печи, бурочек — ему приятно, радостно, и он посматривает на полотняную торбочку, висящую на стене, а в торбочке той книжка, самодельная тетрадь и карандаш цветной, круглый, с толстым сердечком, от него такой красный след на бумаге! Карандаш купила вчера мама: получила за отца первую пенсию. Мама плакала вечером, а дед напился, проклинал соседа, который в первый же год войны притащился с фронта домой, будто по ранению, да так и остался дома, даже в партизаны не пошел. Бабка же всхлипывала, поглаживала рукой по едва отросшим на голове внука волосам, но он вырвался из рук бабки, забился в угол на печи и тихо, чтобы не слышали, плакал там. Это было вчера, а сегодня сквозь розовые узоры глядело в избу солнце. И радостно было: мама велела сбегать во двор по дрова, как только он обуется. И он побежал… Ах, какое стояло утро! Красное, спокойное, повисло в небе солнце, прямой дым шел из трубы, на снегу лежали розовый от солнца отблеск и синие от дыма тени.
За огородами тянул санки, груженные дровами, дядька Апанас, и сани сухо поскрипывали, и слышно было, как проваливался снег под ногами дядьки: шух! шух! шух! А возле хаты на кусте смородины сидели снегири, такие звонкие, красногрудые, как яблоки, снегири. С веток на кусте осыпался иней, моросил на птичек, но они оставались красногрудыми и звенели…
Ах, как счастлив он был, что было такое утро и что у него был цветной карандаш, — мог нарисовать этим карандашом все, что видел!..
— Мама, а это что? — спрашивала девочка. — Мама, расскажи…
Юнович смотрел в окно автобуса, вспомнил, что через одну остановку ему выходить.
И ничего еще не решил он даже тогда, когда оказался уже в приемной директора. И не торопил себя: почувствовал, что с ним вновь происходит то, что случалось уж сколько раз, — теперь не спешил повториться. Время словно бы остановилось — неизбежное и так надоевшее вновь жило рядом.
— Вы к кому? — спросила секретарша.
— Я из газеты, — сказал Юнович, — передайте там…
И кивнул на двери.
Секретарша почему-то растерялась:
— К директору? Сейчас посмотрю… Кажется, был… Не знаю…
И секретарша вышла.
Юнович сидел в приемной и ждал. «Смешно! — думал он. — Директор возьмет вдруг и скажет: корреспондента не пускать, меня нет на комбинате».
И вот секретарша выбежала:
— Директор приглашает зайти.
Юнович зашел…
Откинувшись на спинку кресла, директор смотрел в окно. Он живо повернулся, как только Юнович вошел, и встал из-за стола.
— Из газеты? Тогда с критическими намерениями… Вам, газетчикам, палец в рот не клади… Садитесь, пожалуйста.
Директор был невысок, в черном пиджаке щедрого, широкого покроя. Незавидную, в серую полоску рубаху на груди почти закрывал бордовый, завязанный фабричным узлом галстук. Лицо у директора было курносое, а на лысеющей голове торчал клочок свалявшихся светлых волос.
— Так под кого же подкоп решили вести? По секрету, а?
Директор был в хорошем настроении, шутил. Казалось, давненько у него не случалось такого приятного для него визита, как нынешний. «Притворяется, — подумал Юнович, — потому что не знает, чего я хочу».
Он сел и почти официально стал объяснять, ради чего пришел.
Директор перестал шутить — ему сделалось скучно. Писать статью у него не было времени, и к тому же он не хочет отнимать у газетчиков их законный хлеб. У директора есть богатый материал, он его полностью даст в распоряжение Юновича. (Директор встал, открыл двери и сказал секретарше, чтобы она подобрала все «по вопросу самодеятельности».) Вырезки своих прежних выступлений директор даст сам.
Юнович не перечил, молчал: неизбежное, то, что случалось уж столько раз, жило рядом, могло повториться, Юнович может и сам написать статью за директора, но может и не писать… Он еще не решил, будет или не будет писать.
Секретарша принесла бумаги. Юнович начал перелистывать их.
Директору было скучно, и он расхаживал по кабинету. Подходил к вешалке, зачем-то пристально приглядывался к своему пальто, щелкал по нему пальцем, надевал галоши на туфли и сразу снимал их. Директору было скучно. На столе зазвонил телефон. Директор поднял трубку с охотой.
Юнович перелистывал.
Директор говорил по телефону:
— Иван Петрович? Наконец-то позвонили! Спасибо… Живем — хлеб жуем… Да я хоть сейчас… Почему же — машину можно взять. Это вы правду сказали… Голову просвежить не помешает. Ну хорошо, хорошо… Договорились.
Директор положил трубку и вопрошающе посмотрел на Юновича. «Сейчас надо что-то сказать, — подумал Юнович. — Чего я молчу?» — и он отодвинул бумаги.
— Все, — сказал он, — достаточно.
— Ну вот и хорошо, — обрадовался директор, — вот и хорошо… Вы, газетчики, на лету улавливаете — такая ваша профессия. Вам и перо в руки. Только вот что… телефон мой запишите: может, уточнить что-нибудь надо или подписать…
— Телефон? — переспросил Юнович. — А зачем уточнять? Вы сами напишете и подпишетесь в конце статьи — так у нас по форме…
— Так вы же… — сказал директор.
— …Статью писать я не буду, — сказал Юнович. — Ничего не понимаю в этих бумагах. Специфики не знаю. А вам, как говорится, и перо в руки…
Директор уставился на Юновича и молчал. «Немая сцена, — думал Юнович, — надо идти». Неинтересно ему было следить за директором. Неинтересно.
— Всего доброго, — поднялся с кресла Юнович. — Неплохо, если бы вы статью подготовили к завтрашнему.
И он вышел…
На улице не сразу заметил, что распогоживалось. Дул слабый ветер, тумана уже не было, влажно-белые тучи плыли над городом, синими заплатами на юго-западе, за городом, небо просвечивалось между тучами. Порхал редкий и скудный снежок, появлялось и вновь пряталось солнце.
Юнович сел в автобус. Было тесно. Какой-то парень стоял с лыжами на площадке, намерзший на лыжах ледок таял, и в автобусе по-весеннему было свежо и сильно пахло водою — была середина февраля. И Юновичу вспоминалась недавняя поездка в колхоз, учительница Валя, и он пожалел теперь, что не условился тогда, в селе, встретиться с нею в городе.
«Но я еще встречу ее», — думал он. Вспоминались ему редактор, разговор с редактором, поездка в село и снова Валя — и все это вставало перед ним в спокойной ясности, и появилось в нем чувство человека, удачно завершившего очень долгий и очень хлопотный день: круг замкнулся, на завтра оставались непочатое утро и надежда.
У кинотеатра Юнович вышел из автобуса.
Из телефонной будки он позвонил в редакцию — редактора на работе уже не было, сказали, что он, наверное, дома. Юнович позвонил ему домой. Женский голос спросил, кто звонит и зачем. Юнович объяснил, что звонят из редакции, а редактор нужен срочно.
— Погодите, — сказала женщина.
Юнович ждал. «Сейчас начнется, — думал он, — но — ничего»…
— Я слушаю, — донесся голос редактора. — В чем дело? Юнович? Не будешь писать выступления? Ты понимаешь, что ты сказал? Ну, знаешь… Разберемся завтра!
«Вот и все, — подумал Юнович, выходя из телефонной будки. — Завтра у меня трудный день. Но я скажу. Не может быть, чтобы не понял… А что, если ему сказать: „Нам, дорогой коллега, еще учиться надо… или переучиваться. И тебе и мне. Иначе у нас дело не пойдет“. А потом попрошусь в командировку… Напишу очерк. Хороший очерк».
Юнович брел по улице и снова представлял себе автобус и дальнюю дорогу. И думалось ему о тихих гостиницах в глубинных городах — о маленьких, чистых, с широкими половицами гостиницах. И еще ему хотелось забыть о прежнем, досадном, взять да и начать все заново…
Юнович брел по улице и видел автобус, который стоял на вокзале.
ПЕРЕД ДОРОГОЮ (Перевод Эд. Корпачева)
С утра приехали они в село — шофер Семен Захарович с женой и совсем еще молодой парень, бухгалтер автобазы Савченко.
А теперь по времени был поздний обед. Они и верно лишь сейчас пообедали и не успели еще встать из-за стола, как внезапно смерклось на улице, зашелестел, полился неспешный предвечерний дождь — уже второй за нынешний нескончаемый, как показалось всем, день.
Все теперь сидели на кухне за столом, тихо разговаривая, и всем было хорошо. Начался дождь? — ну что ж, пошелестит и перестанет. А грибов они набрали и даже от первого того, большого дождя убереглись счастливо, найдя спасенье кто в кабине, а кто под машиной. Потом, уже возвращаясь из лесу к знакомым в селе, дружно удивлялись недавнему ливню, замечали, как повсюду в низинах стоит мутноватая вода, которая везде на пути своем прибила взбалмошными ручейками к кочкам или к сушняку порыжевшую траву, будылья, пожелтевшие стебельки цветов. В лужах плавал обитый дождем ржавый цвет подорожника. А потом солнце выблеснуло из-за туч — и трава, и земля, и лужи закурились паром; и побежали с галдежом за машиной, достигшей села, босоногие дети, а у чьего-то двора навалом лежали тесаные бревна…
И вот же, смотри, опять собрался дождь.
Пахло из кухни грибами, пылали в печи дрова, а за окнами так внятно шелестел в саду дождь, потому что распахнутым оставалось окно. И сидели все они в сумерках за столом, смотрели на огонь, на дождь, и уютно было всем, тепло, и у всех немного блестели глаза — может, оттого, что смотрели на огонь? — и слегка кружилась голова, и плыли, плыли перед глазами, едва забудешься, грибы…
Заглянула на кухню хозяйка, потопталась у печи, сказала:
— А может, в чистую комнатку пойдете?.. Я вам и лампу зажгу. — И, прищурившись, смотрела на гостей, а гости не соглашались.
Нет, зачем та чистая комнатка, если и здесь хорошо, а может, и лучше, чем там. В комнатке той на полу сушится просо, стоят длинные лавки вдоль стен, в углу — высокое, помутневшее от времени зеркало. А здесь… Нет, никто туда не пойдет.
— И здесь хорошо, мать, — сказал Семен Захарович, — ну совсем как в деревне…
— Ну, пусть так…
— Тоже сказал: как в деревне, — не выдержала жена Семена Захаровича, засмеялась. — А мы где? Говоришь лишь бы что.
— Вот уж какая, — слегка смутился Семен Захарович и полез в карман за папиросой. — Та-та-та! Та-та-та! Слова не дашь сказать.
Но не рассердился он на жену.
У него была густая седина на гладко подстриженных висках, и за долгие годы, прожитые с женою, он хорошо познал цену и себе и ей, научился держаться дальше той черты, за которой коса, как говорится, находит на камень — и люди становятся на дыбы и нередко обидное и злое бросают друг другу. Еще он знал, что жена и в споре находчивей его, и привычку имела вставить, где не надо, свои три копейки, и что волосы у нее, как и у него, побиты сединой, — хотела перекрасить их однажды, да он не позволил. А на фотографии в их городской квартире они оба черноволосые и молодые: она — в легком, с застенчивым вырезом платье, он — в военной форме.
Не рассердился Семен Захарович на жену. «Каждому свое, — подумал он, — не захотела понять, ну и пускай не понимает». Может, потому, что он так быстро старел, часто думалось теперь о деревне — далекой, прежней: она лежала в сорока годах от него. Там были выщербленная колода, на которой секли дрова, тепло овчинного полушубка и глазурованный сучок в потолке, морозный дымок над утренним колодцем и корова подле него — понурая, с запавшими боками и грязной шерстью. Там, в деревне, были и отец и мать, еще живая в ту пору, и они, дети — восемь ртов. Так быстро идет время: разлетелись все по белу свету, а старший брат где-то в Свердловске главным архитектором города.
Так быстро идет время! И вспомнились ему дети, бежавшие сегодня за их машиной; когда-то и сам он за пять километров мчался с пацанами на шоссе, чтобы глянуть на дымный хвост моторного чуда. Сегодня от того чуда припахивало бы музеем, а эти дети — просто озорные чертенята — увидели незнакомого шофера.
В чем-то его жизнь совпадала с чужою. Было много схожего, но было и такое, чего, он знал, не будет никогда. Он помнил, как нелегко жилось в деревне ему, как соблазняла всегда горбушка хлеба, завернутая мамою в рушник, и что была весною такая пора, когда зацветают бобы: ни ягод, ни грибов и далеко до первой бульбы. А потом он работал в городе и харчи получал по карточкам, потом легче стало, а потом война была и снова карточки… Он знал, что давно переменилось все в его деревне, и что живет там его батька — упрямый такой старик, не думающий переезжать к сыну в город, — и что жить старику осталось недолго. А он, сын, все не может выбраться к нему — и на душе от этого часто бывало неспокойно.
Теперь он задумчиво мял папиросу в пальцах, пока не лопнула она на конце, и оторвал размочаленный кончик, прикурил. А когда сунул в карман пиджака спички, встретил там чью-то руку, и это была рука жены. Смущенно засмеялась жена и попросила:
— Дай…
— Чего тебе? Ну, не вяжись ко мне!
И увидел удивление и любопытство в глазах бухгалтера Савченко.
— Привыкла… Курит, как мужик, прямо стыд… Недавно захожу дома на кухню, а она сидит и дымит: из моих бычков сделала папироску… Давно курит, пряталась только.
— Вот скажи! Ай-я-яй! — удивился Савченко и дернул худой шеей, и его маленькие, с длинными ресницами голубые глазки заблестели живо, а на лбу прорезались морщинки.
А жена Семена Захаровича тем временем раскуривала папиросу. Раскуривала совсем по-мужски — разве только спичку держала деликатно, за самый кончик, далеко отставив локоть. Потом вышла из-за стола и, усевшись у окна на лавке, рукой опершись на подоконник, курила, высматривая что-то в саду, и переговаривалась с хозяйкой.
Семен Захарович серьезно, с затаенной улыбкой поглядывал на жену, потом не выдержал, усмехнулся и весело подмигнул бухгалтеру Савченко.
— Гром-баба, а? Ах, чтоб тебя… Пыхтит, как паровоз!
— Ну, Захарович! Скажете такое… — снова удивился Савченко, и смеялся, и дергал тонкой шеей.
А хозяйка сказала:
— Значит, можно это в городе, если женщина курит. Это у нас только непривычно…
И виновато смотрела на гостей, смущенно улыбалась: а вдруг не так сказала?
— Нет, здесь иное, мать, — помрачнел сразу Семен Захарович, — во время войны она у меня много пережила… Чуть не попала с детьми на чужбину, да вот спаслась, на счастье. Бродила потом по деревням… Детей она мне, спасибо ей, сберегла. А пришел с войны — какою она была! Страшная, худая — хоть плачь…
— Ой, не дай бог войны, — вздохнула хозяйка. — Мой сынок где-то землю парит, может, уже и косточек не осталось. Как вспомню… — И лицо ее покривилось, и казалось, еще немного — и заплачет она. Прикрыла лицо рукой, отвернулась, побрела к печи.
Молчали гости. Молчала в хате тишина.
За окном неторопливо шелестел дождь, и все в саду было видно: влажные яблони, опавшие желтые яблоки в примятой траве, картофельная ботва в бороздках и совсем близко, у окна, рябина, — крупные зеленоватые капли дождя повисали на ее ветвях, отрывались, падали вниз. В соседней хате, за садом, наверное, тоже топилась печь; по мокрой крыше стлался дым.
Все молчали, каждый, возможно, думал о своем, а жена Семена Захаровича вспоминала войну, как бежала от войны с детьми. Много их было тогда на пыльных дорогах — горожан, которые шли да шли на восток. Немцы перехватили их где-то на дороге, согнали в незнакомое село, — оно было опустевшим и наполовину уже испепеленным.
Жена Семена Захаровича вспоминала…
Она не знала теперь, как удалось ей выжить тогда и не умереть от страха, от голода, от тоски. Лишь помнила, что думала об одном и жила этим одним: как бы накормить детей, как бы уберечь их… Потом за людьми прибыли машины. Никто не знал, куда повезут их; говорили, что в Германию… Ей повезло: когда в лагере осталось совсем мало людей, ее с детьми и еще нескольких отпустили — немцам не хватило транспорта.
А что было потом? Деревни, через которые она шла, сельцо, где попросилась в хату — к какой-то бабусе и ее дочке… И тогда она перестала быть горожанкой и стала деревенской: носила воду, ездила в лес по дрова, полола, жала, ходила за сорок пять километров в местечко за солью, плела детям лапти — и этому научилась, — жила и в хате и в землянке, пряталась от немцев и полицаев в лесу, знала, что жива сама, и не знала, что с мужем, где он…
Страшное пекло было — война, и чтоб не знать его никогда…
Весело горели в печи дрова, и что-то закипало в горшке. Пахло на кухне грибами, где-то томительно звенела муха, а гости сидели, молчали, как бы позабыв, что была еще впереди дорога, был город, где наутро ждали всех заботы и служба.
Семен Захарович поднялся, подошел к печи, кочергою выкатил уголек и опять закурил. Да так и остался там, подле печи, и смотрел на огонь, а в глазах его то ли задумчивость легкая таилась, то ли печаль. Хозяйка стояла рядом, сложив руки на груди, и по лицу ее видно было, что нравился ей Семен Захарович, и, может быть, больше всего за то, что он прикуривал вот так, от уголька.
— Все хочу спросить, Захарович, — тихо сказала она, — что там в газетах про войну пишут… Будет она?
— Не будет, мать, не будет… Нам с тобою она не нужна.
— И я же так думаю, и сын соседкин, майор, который был летошним годом в гостях, тоже говорил: не должна. А если что-нибудь такое, говорил, так долго они не повоюют…
— Правда, мать, правда…
— Только у нас вот недавно слух прошел… Люди забегали, начали все в магазине покупать… И я себе соли купила. — Она мягко посмеялась: вот какая, видите, дуреха. — А теперь пускай лежит себе: на заморозки кабанчика заколем, как находка будет.
— Вот-вот! Хорошо… И меня на свежатину позовешь, мать, верно? Ты, если колоть надумаешь, мне обязательно скажи. У меня ружье двуствольное есть, в рейхстаге взял… Я мигом с твоим кабанчиком справлюсь…
— Нет, правда, Захарович, у вас ружье есть?.. Немецкое? — отозвался из-за стола Савченко. — Как это вам взять его удалось? Расскажите!
— А так… В рейхстаге в подвале взял.
— Ну, так просто и взяли, — словно бы обиделся Савченко, — наверное, интересно было…
Семен Захарович смолк. Он не любил рассказывать про войну: о ней говорить можно было или долго и много, или не говорить совсем. О ней говорить хорошо с теми, кто сам сидел в окопах, лежал в госпиталях, ходил в атаку, — с теми, кто ощущал каждодневно на своих висках островатый холодок смерти. Этому желторотому Савченко война была, наверное, чем-то и необычным и занимательным — взрослая игра. А для него, для Семена Захаровича, война была войной — страшной штукой, замешенной на человеческой жизни и смерти. И еще он знал: если бы не надо было обязательно победить, война для него и его товарищей не имела бы никакого смысла. Война, думал он, — это люди, которые почему-то считались генералами, лейтенантами, рядовыми, а на самом деле были просто солдатами, он сам видел, как за два шага от него упал генерал — было это в первые месяцы войны, — упал, чтобы не встать никогда…
Ему, Семену Захаровичу, временами казалось, что прожил он на свете словно бы две жизни — другой жизнью была война. Она отсчитывала минуты — долгие, как ожидание смерти, она считала мгновения — короткие, как свист пули. Под Севастополем в редкие затишья после боя, когда касалась души мучительная какая-то ясность, открывался ему кусочек той, обычной и почти недоступной жизни. Он видел море: оно лежало спокойное, синее, светлое, подернутое вдали ласковой дымкой, дельфины кувыркались в редких волнах, и казалось, не было вокруг ни войны, ни смерти, ни знойного неба, белесого, точно выцветший брезент, ни свежей крови, темно блестевшей на солнце.
И странно: многое страшное и тяжкое забылось со временем, а вот те спокойные минуты и теперь живы в памяти…
— Сеня! Смотри: дождь перестал!
Его вывел из задумчивости голос жены.
Семен Захарович посмотрел в окно. Туманная прозрачность легким дымком висела в саду. Где-то в селе скрипнули ворота, кто-то заговорил — село полнилось звуками, как бы дремотными после дождя. И начинало уже темнеть.
— Пора ехать, — сказал Семен Захарович.
— А может, останетесь еще? Вечереет, дорога темная, — заговорила хозяйка. — Переночевали бы, а завтра поехали б… Успеете в город.
— Поедем, Захарович, правда? — вмешался Савченко.
— Вы же молодой, куда вам спешить. И они бы, может, остались, — кивнула хозяйка на Семена Захаровича и его жену.
— Он у нас молодожен, мать, к жене торопится. Ничего не сделаешь: молодежь, — вступился за Савченко Семен Захарович. — И мне завтра на работу рано…
Они собрались, перенесли из кухни грибы в машину. Хозяйка вышла их проводить.
— Так вы же глядите, приезжайте, — говорила она. — Теперь грибы хорошо пойдут… Хоть в субботу приезжайте…
— Спасибо, мать, приедем, — ласково смотрел на хозяйку Семен Захарович, — в гости всегда ездить приятно… Ну, бывайте! — и он полез в кабину. Жена уже сидела там, придерживая рукою дверцу, и ждала. А Савченко устраивался в кузове, кутался в брезент…
Машина тронулась со двора.
Они ехали улицей села, мокрой после дождя. Быстро темнело. Где-то наигрывала радиола, и музыка далеко разносилась по селу. Выходили с крылечек на улицу девчата, празднично одетые, молодые — и все в одну дорогу, все торопились, наверное, в клуб. А машина обгоняла их, машина покидала село.
Семен Захарович включил фары. И сразу почернело все вокруг, прижалось к узкой полосе света. Семен Захарович пристально всматривался в дорогу, зная, как ненадежна она после дождя, как может занести машину на спуске или на повороте. Проехали мостик через небольшую речку, поднялись на пригорок, спустились затем в лесок. Потом была деревня, а за нею начались огороды — сплошное поле капусты и брюквы, — и Семену Захаровичу вспомнилось, как однажды впотьмах попали полковые машины на бахчу: лопались арбузы, ревели моторы, пробуксовывали колеса… А на рассвете колонну обстреляли немцы…
Семен Захарович крутил баранку, и снова думалось про войну…
Машина шла в ночи в город.
В кузове под брезентом сидел, скорчившись, бухгалтер Савченко, и было ему холодно, и хотелось ему скорее домой, в теплую квартиру, к молодой жене. А жена Семена Захаровича дремала в кабине, склонившись головой на плечо, и в забытьи всплывали перед нею грибы, грибы, грибы…
ТАМ, ГДЕ ПОКОЙ И ЗАТИШЬЕ (Перевод Эд. Корпачева)
Сергей Марусов, инженер-плановик, внезапно почувствовал, что ему не хватает чего-то в городе, сразу показавшемся скучным, неинтересным и пыльным. И почему-то само собою происходило так, что каждый раз с работы домой возвращался он мимо вокзала. И вот когда слышал он, как там объявляли отправление, когда вдыхал сладковато-терпкий паровозный дым, что-то щемящее подкрадывалось к сердцу, и припоминалось тогда разное, и чаще всего мелочь какая-нибудь: вечер в деревне, костер на улице — варят картошку, стук валька на берегу пруда ранней весной, а за ним — крик петуха, томительное квакание лягушек. А в залетном ветре, неожиданно остром и волнующем, как воспоминание, представлялся ему то запах горелой картофельной ботвы, то молодого инея на еще зеленой траве. Словом, чего-нибудь и одного было достаточно, чтобы затем показалась долгою ночь и чтобы назавтра болела голова да начиналось все вновь.
Сергей понял, что это была тоска по деревне. Через несколько дней он не выдержал, взял отпуск и поехал к родителям в далекую Смолку.
Он выехал в полдень; сидел у окна в вагоне, глядел на хаты, на поля, на дороги, и хорошо ему думалось о своей деревне, где все родное, знакомое с детства, где затишье, покой, где он по-настоящему отдохнет и успокоится душевно. Спать он лег рано и сразу же уснул. Проснулся ночью: спохватился, увидев в открытое окно станционное здание, асфальт перрона — влажный, с желтыми отсветами фонаря в лужах; обрадовался чему-то, услышав игривый, звонкий женский голос вблизи вагона, а потом — густой мужской голос, но тоже веселый.
— Смотри-ка, какая ты шустрая, еще по мне сохнуть станешь! Не очень задавайся!
«Дежурный, наверное», — подумал Сергей и ощутил, как веет из окна свежестью: прошел дождь. Поезд тронулся. Сергей вскоре снова уснул.
А потом его разбудили голоса. Было, видно, к утру, за окном мутноватая серость, а по стеклу сползал дрожащими струйками дождь.
— Так это я к дочке ездил — во-о! — гундосил за перегородкой купе медлительный мужской голос. — Хату она себе купила, так написала, чтоб помог ей по столярке… Во-о! — И слышно было, как человек хватал ртом воздух.
— Дитя же родное — а как же! Кто же, если не батька, поможет… — сочувственно поддакнула какая-то женщина.
— Ну, так поехал я — во-о! Погода не дай бог, дождь висит и висит… В колхозе — ни жать, ни на сенокос идти. Так это я и поехал как раз — во-о!
— И у вас дождь? Боже ты мой! А я думала — эта зараза у нас только. Льет и льет. Без хлеба и без бульбы останешься. Не приведи господь.
— В аккурат. Ага! Это же в огороде косу вбил, так оно и осталось. Почернело все в покосах… Сено, слышишь, лежит, — почему-то громче сказал мужчина. — Во-о!
«О чем они говорят? — подумал Сергей. — Сено какое-то, дождь… Когда они сели? Здешние, наверное…»
Мужчина там, за перегородкой, закашлял. Он кашлял долго, с присвистом, а когда перестал, какая-то беспомощная, но как бы живая тишина установилась в вагоне.
— Не к добру все это, ой, господи, не к добру, — быстро заговорила женщина. — Все из-за них — бонбы все рвут, радио недавно передавало. Потому и погода испортилась. Зацепили что-то в небе…
— В аккурат зацепили, а то как же, — не торопясь и серьезно сказал мужчина. — Во-о!
«О чем они говорят? — снова подумал Марусов. — Чепуха какая-то. Каждый меряет на свой аршин».
Ему совсем не хотелось думать о дожде, а хотелось лишь думать, что завтра он приедет домой, где затишье, покой, где нет никакого дождя, — он верил, что так будет, потому что ему так хотелось, — и где утихнет та необъяснимая и ровная тревога, которая гнала его в деревню.
Но он ошибался.
Когда он, сойдя с поезда, сидел в сквере и ожидал автобус, было ощущение, что лицо его облепила паутина — до того непривычно душно. День стоял серый, неопределенно-тихий и неприятно-влажный. Дождь начался уже потом, когда Сергей в автобусе подъезжал к своему районному городу.
Автобус остановился у маленького вокзала. Врассыпную бросились пассажиры — дождь еще не перестал. Здесь, за шестьдесят километров от железной дороги, за десять — от дома, он казался Марусову особенно непрошеным. Марусов взял чемодан и, спокойно-безразличный от досадного ощущения, что все испорчено, что поездка шла не так, как хотелось, побрел к столовой.
Городок притих, шелестела, пропуская дождь, листва тополей; по асфальту кружились и лопались пузыри, — Марусов припомнил, что так всегда бывает перед обложным дождем. Проехала женщина на велосипеде; платье липло к ее ногам, она выглядела нескладной — ехала, наклонившись над рулем, в длинном, пошитом в талию и все равно широком жакете.
«Скорей бы домой», — тоскливо подумал Сергей, заходя в столовую.
Здесь было сумрачно, пахло жареным; у самого порога обступили буфет мужчины, ожидая свежего пива: бочку лишь только открыли — буфетчица суетилась у помпы. Марусов сел за стол; подошла официантка — он заказал гуляш; он всегда заказывал в таких столовых гуляш — популярное местное блюдо. Попросил принести бутылку воды — сидел, пил; забрали со стола уже пустые тарелки, не уменьшалась очередь у буфета, а он все сидел, ожидая, перестанет ли дождь. Дождь вскоре перестал. Сергей вышел из столовой и, завернув в узкую улочку, поспешил ею вниз, к парому через реку. Ему надо было перейти овражек: здесь улочка кончалась, а дальше вела тропка. Марусов спустился по ней туда, где было холодновато и сыро, где на широких листьях лопухов лежал намытый ручьями песок, рос конский щавель, где буйствовали черемуха, крушина, а выше, на склонах — шиповник. Бренчала где-то цепью спутанная лошадь.
Он тропкой вышел к церкви — кругом все поросло полынью, жесткой травой, всюду валялся битый кирпич. Марусову стало грустно, вспомнилось, как давно, еще в седьмом классе, водила их пионервожатая сюда, в райцентр, поступать в комсомол. Сколько было страха, волнения, сколько раз перечитывали в райкомовском коридоре устав! Наконец их вызвали: всех приняли, а Марусову отказали — не хватило нескольких месяцев. Ему было обидно, и он заплакал — навзрыд, не стыдясь, чувствуя, что то, к чему он так готовился, чего он так боялся и желал, не будет после уже таким праздничным, радостным, каким могло бы теперь быть.
Потом они, одноклассники, взобрались по узкой лесенке на звонницу церкви, смотрели на город, ахали, вскрикивали, а Сергей молчал, и не радовало его такое острое чувство высоты.
Теперь же Марусову было просто грустно. Он смотрел на церковь, запущенную, древнюю, — увидел хилую березку на ее карнизе, кривую, с мелкими листьями, черные потеки и пятна на стенах и куполе церкви — следы давнишней воздушной маскировки, — и удивился, почему не замечал всего этого прежде.
Он спустился к реке, ждал там, пока подойдет перевозчик; его почему-то не было видно. Опять стал накрапывать дождь: за рекою, над лугом, повисла сизая печальная завеса. Кто-то плыл в лодке по реке, оказалось — перевозчик. Подогнал лодку, востро глянул на Марусова из-под козырька мокрого картуза:
— Залазь…
Греб он молча, только у самого берега спросил:
— Тебе куда? В Городецкие?
— Нет, в Смолку.
— Не пройдешь через греблю… Дожди… Надо на Ивановичи. Крюка дашь, а все же…
Больше он ничего не сказал. Марусов остался один. До Ивановичей по лугу было четыре километра. Марусов осмотрелся. Впереди за мутной завесой темнел лес, смутно проступали крыши хат. Он пошел по лугу; лил дождь, но Марусову уже было все равно: пиджак намок, похолодела спина, чавкала вода в туфлях. Дорога шла вдоль старицы с берегами, поросшими кустарником, высокой травою. Холодным сизым блеском отсвечивала вода, дождь лил, всюду была вода — и трава и воздух пропахли водою. Начинало смеркаться: гляди, не гляди вперед, а можно лишь догадываться, что были там деревня и лес. Марусов почувствовал одиночество, как-то не по себе стало и даже страшно. Нудно шуршала у берегов старого русла трава под дождем, и Марусову подумалось вдруг, что дождь не перестанет никогда, что это, наверное, начинается какой-то новый потоп, что он, Марусов, попал в какие-то далекие-далекие века, — и ему показалось тогда, что он слышит, как за кустами в высокой траве похрюкивают, барахтаются, сопят неуклюжие страшилища. «Зацепили что-то в небе», — неожиданно всплыли слова, произнесенные женщиной в поезде, и стало еще страшнее, а потом показалось, что вместе с дождем оседает ему на лицо, разъедает легкие ядовитая радиоактивная пыль. «Зацепили что-то в небе», — не выходило из головы, и нельзя было отвязаться от слов этих. Лил дождь, а он все шел и шел, обходя заводи, терял дорогу, вновь находил, а кругом темнело и темнело, кругом пахло да пахло водою. Наконец стала тверже дорога, впереди обозначилось что-то: ага, песчаная дорога и сосна вдоль нее. Марусов передохнул. Сосняк вскоре кончился: Марусов входил в Ивановичи.
Но и здесь ему не стало легче. Ни звука, ни души вокруг, везде безмолвные окна. Одиноко и темно реяли над хатами скворечни, шелестел дождь, мутно-серая завеса стояла над деревней. Марусову вновь почему-то подумалось, что дождь, наверное, не прекратится никогда, что кругом него какая-то далекая-далекая, совсем нереальная жизнь. «Зацепили что-то в небе», — припоминалось с каким-то мстительным чувством, и он все спешил, спешил…
Успокоился он уже в лесу. Здесь было тихо, пахло сырой землей, небо вверху, над дорогой, казалось светлее. Слышно было, как осыпались капли дождя с берез и осин. Сергей шел не спеша, хорошо зная дорогу, каждый ее поворот, и узнавать знакомые места было радостно, было приятно ступать в теплые лужи: он уже привык к воде и словно бы доволен был, что не надо беречься дождя, потому что давно промок, и что хуже, чем есть, уже не будет. У дороги, в низинах, бледно-зеленым горели светлячки, он брал их в руки, они стыло тлели, пока не отогревались в ладони.
Сергей незаметно миновал лес. И был уже почти дома: надо было лишь пройти через Корму — соседнюю с его деревню. А Смолка — сразу же за Кормой, за логом.
Корма спала. Здесь, совсем неподалеку от дома, он вдруг почувствовал усталость, захотелось пить. Дошел до первого колодца и жадно напился из тяжелой бадьи студеной, ломящей зубы воды. Ему полегчало, а потом и вовсе стало хорошо, когда увидел, как из окна концевой хаты падала на улицу дымная полоса света: его радовало близкое присутствие человека, который тоже не спал.
Подойдя, Марусов глянул на хату, узнал в окне хозяина Платона Кривошеева — тот, задумавшись, стоял у стола, высокий, белобрысый, в клубах махорочного дыма. Все было так ясно видно, что Марусов рассмотрел даже мотылька, порхавшего над лампой. «Не спится отчего-то, — подумал он. — Стоит, как столб. Как знать, какие мысли беспокоят человека по ночам».
И еще подумалось, что дома, наверное, тоже не спят, двери в сенцах не закрыты; он тихо войдет в хату, мокрый, обрадованный, что-нибудь веселое скажет, и кинутся к нему младшие сестры, мама, начнут упрекать, почему не прислал перед приездом ни письма, ни телеграммы.
Но все было иначе.
…Он стоял перед сенцами, на крыльце под крышею, где было сухо и почему-то пахло мылом. Подергал дверь — она была закрыта; несмело постучал, побарывая волнение, начал стучать сильней и сильней. Прислушавшись, различил, как по хате кто-то протопал, а потом голос батьки уже из сенцев спросил:
— Хто там?
Сергей внутренне стаился и дрожащим от волнения, звонким, торопливым голосом произнес:
— Вот моя деревня, вот мой дом родной…
— Ах, чтоб тебя комар забодал! — обрадованно, удивленно вскрикнул батька — стукнул крючок, Сергей рванулся в сенцы, почувствовал на себе отцовские руки, а на щеке — жесткую, небритую щеку его… Батька открыл дверь, подтолкнул его в хату…
На чистой половине уже вставала мать, шуршала одеждой. Батька зажег лампу, мать вышла, шагнула к Сергею — стыдливо, точно спутанная, беспомощно выставив перед собою руку и так же беспомощно улыбаясь. Марусов руку не взял; обнял, молча целовал мать в теплую мягкую щеку, а мать заплакала.
— А дети спят? — спросил он.
Мать отошла от него и, вытирая слезы, шагнула к печи.
— Спят. А что им… Набегались за день… Дождь… Из хаты не выгнать.
— А ты мокрый совсем, — сказал отец. — Ты на Ивановичи шел или, может, через плотину?
— На Ивановичи.
— Вот хорошо, что так. Снимай ботинки, я тебе принесу переодеться.
Сергей сбросил туфли. Мать уже суетилась у припечка, разжигала щепки под треногой.
— Сыночек, чего же письма не написал? Батька в город подъехал бы… Или хоть сам зашел бы на молочную. Наши там бывают с машиной.
— Ничего, мама. Так, может, и лучше. Ведь идешь домой, и когда бы ни пришел, все равно хорошо.
— Оно так, сыночек, так…
— Иди переоденься, — позвал с чистой половины батька.
Он переоделся, а когда вышел на кухню, на столе уже стояли яичница, творог, кислое молоко, лежали сырые яйца, хлеб.
— Давай садись, — сказал батька.
Он сходил в сенцы, принес запыленную темную бутылку, из горлышка торчала тряпичная затычка.
— Ну, так, может, выпьем? — сказал батька. — Тебе, сын, не помешает с дороги. Такую дорогу идти ночью…
Он разлил по стаканам. Выпили.
— Все хорошо бы, — сказал Сергей, — если бы не дождь. Висит и висит. Шел через Ивановичи — пустынно, страшно. В Корме только у Платона Кривошеева лампа горит.
— А, сыночек, — встрепенулась мать, — это же горе у него. Сын, двенадцать лет хлопцу, нечаянно выстрелил себе из обреза в живот… И где он его нашел?
— Выжил?
— Помер… Никого дома не было. Платон с женкой коров пасли… Пока завезли в больницу, помер.
— У Платона этого, — сказал батька, — обрез был схован еще с войны. А сын нашел.
— Так, говоришь, у них огонь горит? Люди правду сказали, что теперь Платон темноты боится, спит при лампе… Ох-хо-хо! — вздохнула мать.
Сергей начал хмелеть. Стало горячо щекам, и было туманно и бездумно в голове. Он старался представить себе Платона Кривошеева, его жену — и никак не мог. Он лишь помнил, что в Платоновой хате, когда шел мимо нее, горел огонь, что стоял хозяин у стола и что (он помнил это особенно ярко) над лампой порхал, кружил мотылек. Мотылек и свет — это виделось хорошо и сейчас.
— Сынок, ты, может, спать хочешь? — спросила мать.
— Нехай выпьет еще, — сказал батька. — Будет крепче спать. Не помешает с дороги…
Сергею спать не хотелось. Выпили еще немного, и в голове у него прояснилось. Он почувствовал себя вовсе не пьяным, зато заметил, как захмелел отец. И удивился, что тот говорит, наверное, давно уже говорит. Говорит про войну.
— …Выдали нам белье теплое, шапки, кожухи, а на ноги ботинки с обмотками. Сверху печет, а снизу студит. А мороз… Хлеб пилой резали — такой был мороз.
— Топором же лучше, — сказала мать.
— Топором нельзя — крошится…
Потом они поспорили. Мать гнала батьку спать.
— Завел — все про войну да про войну… Ложись спать… Будто нема о чем поговорить.
— Что ты знаешь… — огрызнулся батька.
— А то знаю, что и здесь, у нас, тоже война была.
«Война была и в деревне, — думал Сергей. — Да, была». Он помнил, как его, сонного, таскала в землянку мама, когда налетали ночью самолеты, как однажды на улице послышалась стрельба, и они с матерью бежали все в ту же землянку, а у него едва не разрывалось сердце: казалось, вот-вот настигнет пуля — а может, уже настигла? Как страшно было! И запомнилось это навсегда.
— Идите спать, — гнала теперь их обоих мать. Они вылезли из-за стола.
Мать постелила постель, и Сергей лег. Все еще шелестел за окном дождь, было темно; Марусов слышал, как ходила в кухне мать убирала со стола, как сначала ворочался за шторкою батька, а потом как-то сразу уснул — ровно и сильно задышал. Потом легла спать и мать, а Сергей все еще никак не мог уснуть. Под окном шелестел тополь, — Сергей вспомнил, как однажды летом буря сорвала крышу с соседней, Куличковой хаты: крыша упала на их огород, на тополь. Если бы не тополь, высадило бы окна. У тополя обломало ветви, содрало кору, но тополь выжил — и вот шумит, шумит.
Сосед, Куличок, перебрался потом на другое место, где было выше. А здесь, рядом с ними, построился он сразу после войны, когда взял из соседней деревни молодицу, курносую, маленькую, очень ласковую. Тогда, сразу после войны, было голодно, и Куличок шастал по лесу, скидывал гнезда птиц. Никто не попрекал его этим: был он худой, длинный, с большим носом, с запавшими щеками, заросшими белым мхом. И почему-то жалко было смотреть на его маленькую, всегда ласковую молодицу.
А Сергей собирал весною в поле гнилую картошку, сушил ее, толок в ступе — вкусные получались оладьи!
Шелестел за окном тополь, стучал по стеклу дождь, и слышно было, как шуршал о стену хаты ветер. Сергей не спал, не спал.
— Может, тебе плохо постелено, сынок? — спросила из-за шторки мать.
— Нет… Ничего. На новом месте, всегда так… Спи, мама.
Хорошо грело плотное рядно, и теперь Марусову было страшно подумать, как шел он из города под дождем один всю дорогу, и знобило его, когда он вспоминал дорогу.
А за окном все лил и лил дождь, шуршал по стене ветер, и Сергей думал: «Затишье, покой… Какой я был наивный… Затишье, покой!» В голову снова лезло всякое, он гнал беспокойство и хотел уснуть.
Лил дождь.
СНОВА В ГОРОД (Перевод Эд. Корпачева)
Затравенелое, жесткое, стылое от ноябрьских низких ветров поле-аэродром. Над ним сизое, как мерзлая дорога, холодное небо. Пасмурно. Двенадцать часов дня. Самолет улетает в тринадцать десять…
Напрасно спешил он и тревожился: доктор, как и пообещал, позвонил уже из местечка в кассу и заказал себе и ему билеты. Только самолета еще не было: опаздывал. Да и доктор почему-то не ехал.
Доктора этого он вообще не знал до нынешнего дня.
Отшагав по дороге километров десять, он проголосовал грузовику с будкой. Остановится, не остановится, ему было все равно: до местечка оставалось километра четыре. Машина остановилась. Щуплая девчушка, сидевшая рядом с шофером, показала рукой за спину. Кто-то приоткрыл дверцу; он, не примерившись, бросил в кузов старую свою спортивную сумку, которую мать натолкла чем-то весомым, наверное, салом, — переметнулся сам и устроился там на жестком настиле. Впереди сразу же закрыли дверцу, поехали. Он не успел и разглядеть тех, кто прятался от холодного ветра в будке, как какая-то женщина узнала его, словно бы по тому, что он весь в батьку, и все удивлялась и все повторяла свое «весь в батьку», а ему неловко было, стыдно, что не знал эту женщину, лишь догадывался, что она, возможно, из соседней деревни. Заговорил мужчина, который также знал как будто его отца, мать, даже младшую сестру, — это и был доктор.
Он присмотрелся к доктору лишь в местечке, когда машина остановилась у районной больницы. Доктор был почти ровесник ему, чернявый, большеголовый, худой, в очках с широкой строгой оправой; подергивал высокими плечами, поминутно поправлял на носу очки и, щурясь, потирал подбородок ладонью.
— На самолет? Я закажу билеты, — просто сказал он. — Шибеко, да? А как зовут?
— Петро.
— Мне тоже в город. Хочешь, подожди меня. Я зайду в больницу, а потом нас подбросят на машине.
— Нет, я лучше пойду.
Хорошо, что доктор не стал упрашивать. Было горько, погано во рту от «Памира», едва не тошнило. Слезились глаза, а к щекам временами остро приливал нездоровый жар. От денег на самолет должен был остаться рубль с мелочью. Из них надо оставить на троллейбус и еще копеек двадцать на сигареты. Он не хотел признаться себе, что напрасно выбрался в эту дорогу.
В столовой он выпил стакан красного вина и закусил холодными твердыми битками. На гарнир была вермишель, которую он не любил.
Дорогу на аэродром ему показал какой-то дедок.
Петро долго шел по наезженной улице мимо обшитых шелевкой присадистых домов, почти каждый из которых был с голубыми ставнями, потом оставил позади мост через незамерзшую речку со стремительной ржавой водою, бубнящей, булькающей у берега под узорчатым слоистым льдом. Начались огороды, а потом странно неожиданными показались здесь, на краю местечка, стога сена. Наконец слева, вдали от дороги, увидел он деревянное здание, подле которого не было ни кола, ни двора, только на высоком шесту ветер полоскал полосатую «кишку». Туда и направился Петро.
В аэровокзале сильно и сухо пахло застарелым махорочным дымом, валялись окурки у печки. Возле окна стояли выкрашенные в белый цвет весы, сидела на скамье и держала перед глазами книжку полная, но еще моложавая с лица женщина — скорее всего сельская учительница, а рядом с ней, ссутулясь, не моргая глазами, страдальчески-мягко улыбался каким-то своим думкам носатый дядька в неглубокой, на самой макушке, зимней ушанке. И было что-то растерянное и вместе с тем наивно определенное в этой улыбке, так что Петро сочувственно поглядел на дядьку и удивился самому себе, этому неожиданно острому сочувствию своему, догадываясь, что за несколько дней в деревне, у родителей, он устал, изнервничался и теперь неизвестно отчего навернулись на глаза слезы.
Сел рядом с дядькой на скамье, откинувшись плечами к перегородке, и старался ни о чем не думать. За перегородкой что-то сипело, потрескивало, взрывалось шуршанием и писком, а потом всплывал, крепчая, не очень выразительный голос. Там, за перегородкой, была операторская рубка.
Петро достал сигарету и долго похлопывал себя по карманам, ища и не находя спичек. Что-то заставило его повернуть голову: в лицо его спокойно, не моргая, заглянули немного поблекшие, улыбчиво мягкие знакомые глаза. Он не выдержал и тоже улыбнулся этим глазам неожиданно спокойно и добро и лишь потом заметил, что дядька держит в руках коробок.
— Сигарету дать? — спросил, беря спички, Петро.
— Накурился, аж язык засох, — тихо, как бы похваляясь, сказал дядька да тут же отвернулся и снова замолк, забыл, наверное, о нем. Петро усмехнулся, прикурил и не вернул коробок, а положил осторожно на скамью. «Везет сегодня на добрых людей», — подумал он.
Время шло, а доктор все не ехал. Часто звонил телефон, и через окошко в перегородке было видно, как высокий, с тонким носом, с запавшими щеками мужчина снимал трубку, терпеливо и пространно объяснял, что самолет опаздывает, еще даже не вылетел из областного центра. Бросал трубку и садился за стол, уставленный аппаратурой, подкручивал, переключал там что-то, — опять начинало щелкать, потрескивать, как в приемнике перед грозою; разбивались, сталкиваясь, голоса и звуки, потом стихало, и мужчина в рубке монотонно запрашивал:
— Я центр-77. Центр-77. Прием, прием! — И под конец наигранно закруглял голос, и получалось непривычно: «При-йо-омм!»
Никто не отвечал, и мужчина начинал снова.
Вообще было бы хорошо, если бы самолет сегодня и не прилетел. Не хотелось думать о городе, о том, как по приезде надо будет проситься у хлопцев переночевать в интернате, еще недавно своем, думать, у кого бы одолжить денег: две недели назад, поспорив с начальством, он уволился с работы, поленился искать новую и поехал к родителям в деревню, где у него наверняка могло быть время, чтобы пораздумать обо всем, отдохнуть, а после, может быть, устроиться на работу в колхоз или в местечке — на какой-нибудь овощесушильный заводик. Теперь же он не знал, почему так случилось, что вновь он возвращался в город.
Было уже «четырнадцать часов», но людей в аэровокзале не прибывало. Так же часто, как и прежде, звонил телефон. Женщина все читала книжку, дядька помалкивал, а Петро рассматривал зал: выбеленные стены с аэрофлотовскими плакатами, оклеенную обоями перегородку, фанерную дверь в какую-то другую комнату, откуда слышались изредка смех детей, плач, стук. Дверь открывалась, и выбегала на порог стриженая девочка в линялом длинном платьице, в валенках, нянчила в руках самодельную куклу — поленце, обернутое платком. Через минуту показывался рыжий, тоже стриженый мальчик, толкал девочку в плечо и закрывался в комнате. Девочка дергала дверь, но открыть не могла: не пускал мальчик. Девочка начинала плакать, выходил из-за перегородки высокий, с тонким носом мужчина в форменной фуражке и молча стучал в дверь: за дверью тотчас становилось тихо. Девочка заходила в комнату, а мужчина все так же молча — за перегородку.
Интересно, вылетел уже самолет или нет? Но зачем ему знать это, разве это сможет изменить что-нибудь? Лучше было бы пойти и вернуть билет, плюнуть на все и направиться домой. А дома можно сказать, что рейс отменен, да и мало ли что можно сказать дома.
Ах, как было бы хорошо, если бы не прилетел самолет!
А потом что-то случилось с ним, Петром, или даже с бегом времени — время остановилось, осталась лишь власть тишины, звуков, и все в зале и за окном стало жить ощущением чего-то загадочного, того, что никогда не исполнится вот сейчас, сразу, и чему не будет конца и сегодня и, наверное, завтра — и это не пугало, а немного удивляло, что вот над Петром, над молчаливым дядькой, сидевшим рядом, над теткой с книгой, мужчиной за перегородкой властвовало что-то и объединяло улыбкою, словом, молчанием рук и глаз, и всему этому не дано проявиться целиком в одном коротком мгновении или даже человеческом веке. И уже не хотелось думать о самолете: какое это имело значение, прилетит он или не прилетит?
Мужчина за перегородкой теперь уже, подобно тетке, читал, — и, наверное, так и надо было, чтобы читал, и когда открылась наружная дверь и вошел парень в форменной, как и у этого мужчины за перегородкой, фуражке, стало как бы сразу понятно, что прийти мог не кто иной, а только он.
Все жило неизбежностью, и все имело таинственный и в это время, наверное, лишь ему, Петру, понятный смысл.
Мужчина прошел за перегородку: послышались голоса, они звучали раздумчиво — тихо и ровно, как всегда, когда говорят о чем-то ясном, простом, и так же ясно, ровно и просто долетели вдруг из-за перегородки щемящие строки:
Я покинул родимый дом, Голубую оставил Русь. В три звезды березняк над прудом Теплит матери старой грусть.За перегородкой говорили:
— Черт знает, как складно, а? Меня хоть поленом бей, ни за что бы так не придумал. Талант надо иметь, или как?
— А ты как думал? Конечно, талант, да и подучиться надо. Ты Вальку Хромченко знаешь? Он в районной газете был, а теперь в Доме культуры; встретишь на улице, так он не скажет просто — «здоров», а слово, другое и третьим свяжет. Хоть бери и записывай. Я спрашиваю у него: может, для вас, поэтов, школы особые есть? Нет, говорит, мы больше друг у друга учимся… Смеется, холера! Если бы его, скажем, в большой город, где такие, как он, далеко бы хлопец пошел…
— Но все равно так, как Есенин, не напишет. Читал я в газете твоего Вальки стишки: все про кукурузу да про молоко. А тут, брат, за душу берет, не отпускает.
— Ты подожди: Вальке, может, еще рано такие стихи писать. Сначала и про кукурузу надо, чтобы начальство заметило, похвалило, или как там у них. А потом, брат, еще так напишет — ого!
— Слушай, Костя, а ты сам когда-нибудь стихи писал?
— Один раз написал заметку в газету. Не сам надумал — корреспондент попросил. Про итоги соревнования и те де и те пе. И что ты думаешь, напечатали. Конец. Начало заменили, чтобы красивее и глаже было, — это им лучше видать. Слушай дальше. Деньгу прислали: семь рублей, копеек — целых двадцать. Если по-нашему, так две «блондинки» да еще закусон. Только я с хлопцами пить не стал. Похвалюсь, думаю, женке, все до копейки отдам. И что, ты думаешь, она сказала? Пожалела, что с хлопцами не пропил. Дармовыми деньгами, говорит, не наешься… А ты спрашиваешь, писал я стихи…
— Вот напомнил. Нам же сегодня зарплату с этим рейсом привезут.
— А, не вспоминай лучше: мне рублей двадцать за кредит отдавать.
— Чудак человек, деньги ему с неба падают, а он задирает нос.
— Хочешь, разгуляюсь на чекушку — была не была!
— Давай ко мне, а? Я и женку уже подбил. Только сказала, чтобы с работы ждал.
— Хорошая баба у тебя.
— А у тебя хуже?
— Ну что ты! Лучше. Только обидно, что и у других неплохие жены есть.
Засмеялись, и так хорошо вышло у них, что и позавидовать было не грешно, и Петро подумал, что они, возможно, поняли бы его, если бы он, такой-сякой, летун, батькин сын, пожаловался, что черт знает как запутался в этой житухе: одна нога в городе, а другая тут, что годков ему, хлопчику, под тридцать — почитайте, братцы, в книжечке про мою печаль! Эх, Ту-104 — самый лучший в мире самолет! Хотел я остаться дома, да, наверное, решил не вовремя. Ах, дом, дом! Повзрослели мои невесты, на голубых экспрессах разъехались по свету.
Эх, Ту-104, кукурузничек — твой брат родной!
Только не прилетал пока, не прилетал самолет, да и доктор почему-то не ехал.
«Ну и черт с ним, с самолетом, — подумал он. — Буду сидеть и докуривать „Памир“. Буду вспоминать».
Ну давай вспоминай, старик, только с чего начинать? Может, с того, как ехал домой, охотно и легко веря, что все уладится, и много, много полузабытого встало в памяти, и уже, кажется, не понимал, как мог жить, обходиться без того родного, своего, памятного с детских лет.
Нет, все будет хорошо впереди — ошибиться он не мог. («Ах ты, добродетель со слезою крученой, ах ты, пижон! Шалтай-болтай, вот я — ваш! Надоело мне, молодчику, асфальты топтать. О, дайте, дайте мне озона, я свой позор… Пижон!»)
А сначала все было так, как представлял в пути: радовался, удивлялся, расспрашивал, вспоминал, и у каждого для него было доброе слово и доброе воспоминание. И он почти по-мальчишески утешался этим, пока не заметил, что и для других он был как ребенок: мол, если тебе нравятся наши игрушки, ну что ж — забавляйся. Тогда понял он, что с самого начала все считали его лишь гостем. Мать по два раза на дню заставляла его пить парное молоко, и это потому, что он был гость. Приходила бабуля, вздыхала, жаловалась на хворобы и старость: «Гляди же, береги себя, детка, мы отжили свое, а ты вот выбился на копейку, так живи, живи. Брат подрастает, и его возле себя пристрой. Мы всего навидались, пускай хоть наши дети поживут. Все теперь едут в город: а что тут, в деревне, делать?»
И снова, в который уже раз, видел он, что все посматривают на него не иначе как на гостя.
Он шел на вечеринку, и все там было не так, как тогда, когда он, мальчишка, впервые отважился выйти в круг, более всего опасаясь, чтобы ему не сказала чего-нибудь Матренина Лидка — старая девка, которая всегда командовала на танцах и строго следила, чтобы младшие без времени не лезли в круг: тогда еще хватало на танцах взрослых кавалеров и невест. Тогда еще не было клуба, и вечеринки налаживали по очереди, и уже за неделю начинали говорить о том, в какой хате будут танцы, и кто будет играть, и какую плату дать гармонисту, чтобы не уснул со своей гармошкой. Если гармонист был нездешний, то к вечеру приводил с собою целую армию своих хлопцев; они шли по улице, как завоеватели, — лихо наяривала гармонь, захлебывался бубен, с присвистом, с частушками топтало уличную пыль развеселое войско. («Поплачь в платочек с каемочкой, пижон. Это тебе поможет, обязательно поможет…»)
Тогда играли страдание, краковяк, семеновну, падеспань, а для более смелых девчат заказывали сербиянку — и они выходили; и сначала одна, высоко, застенчиво, твердо неся голову, дробно выстукивая каблуками и размахивая перед собою косынкой. Наставало время петь частушки, и она пела; гармонист начинал играть тише, а потом сразу рвал гармонь на весь ее вздох, и та, в кругу, шла все быстрее, стремительней и, дойдя до подружки, скрывавшейся где-то в девичьем стане, особенно сильно притопывала перед нею и платочком махала на нее — приглашала в танец…
Теперь же сидел с гармошкой в углу какой-то малец, лениво наигрывал фокстроты да вальсы, а юные девчушки — наверное, школьницы — танцевали друг с дружкой, не надеясь на зеленых кавалеров, которые, сгрудившись в углу, по-мужски дымили папиросами, но в танец почему-то не шли. Мужчины здесь же, за столом, не замечая танцев, музыки, заядло забивали козла.
Заказывали даже дамский вальс, и одна, вторая девчушка подходила к тем кавалерам: кто шел, кто стеснялся — деланно смеялся и, отказываясь, растерянно отводил глаза. И тогда поднимался из-за стола какой-нибудь женатик, в ватнике, в сапогах, острил над кавалерами и выручал девчушку: сам приглашал на вальс.
Петро не танцевал, подсаживался к мужчинам, играл с ними в домино, курил лютую махорку, дядьки посмеивались над ним: мол, это тебе не город, телевизоров да джазов у нас нет — забивай вот козла и радуйся. Спрашивали, надолго ли приехал домой, и он всерьез отвечал, что, может, насовсем, но все почему-то усмехались этому, как шутке. Петро смолкал.
Через неделю он решился: попросил мать, чтобы пораньше разбудила завтра — надо ехать. Он так и не сказал дома, что уволился с работы.
«На первый случай мне надо сорок рублей, — подумал он. — Два дня назад у хлопцев была получка. Может, наскребут… В интернате переночую день, второй. Пока не узнает комендант… Надо будет искать квартиру».
Он почувствовал вдруг, каким нетерпимым было для него ожидание. Скорей бы уже прилетал самолет. Ему бы только попасть в город, добраться до интерната и — спать. Все решится само собой. Ничего страшного. Просто он устал и потому преувеличивает.
В поле за низкими окнами аэровокзальчика томился мутно-серый холодноватый ноябрьский день. Никак не распогоживалось: не было солнца. «И не распогодится, — подумал он. — День теперь короткий. Если бы даже пошел домой, то притащился бы к вечеру. Скорей бы прилетал самолет».
Не слышал он, как подъехала машина: там, за окнами, заговорили, и в зал один за другим вошло несколько человек. Доктор усмехался с порога.
— Порядок на борту? — спросил он. — Ты билет взял? Я все время звонил сюда. Для меня к лучшему, что самолет опоздал: все свои дела закончил. Теперь два месяца буду как у бога за пазухой. Только на курсах и отдохнешь! Ух! Сейчас узнаю, что с самолетом.
И все словно бы ждало, чтобы приехал доктор: самолет, как по заказу, вот-вот должен был показаться.
Людно и шумно стало в аэровокзале. Тетка перестала читать книжку — копалась в своей сетке. Встрепенулся рядом с Петром носатый дядька, закурил, а спички не осмелился забрать в карман, положил, как и Петро, на скамье. Ни о чем не спрашивал и улыбчиво-мягко заглядывал всем в глаза.
Наконец объявили посадку. Все поднялись и направились с аэровокзала в поле, к желто-серому, незавидному, похожему на стрекозу самолетику. «Вот и все, — подумал Петро. — Наверное, так и должно было быть. Аминь».
Через аэродром в поле пролегала дорога: шустрый конек, запряженный в телегу, трусил по ней. Понукал его, помахивая кнутом над головой, возница — худощавый дядька. Завернувшись в большой платок, сидела на телеге женщина. На велосипеде догонял телегу какой-то парень.
Ровное, в редких заплатах снега, лежало во всю ширь, обозначившись мерзлою болотистой водой, кустиками, облетевшими деревьями у дальних деревенек, стылое ноябрьское поле. Петро обернулся и снова увидел стога — порыжевшие, осунувшиеся под ветром и дождями стога, такие непривычные здесь, на краю местечка…
А потом бежал, подскакивая по мерзлому полю, самолет. Поднялся. Кренился на одно крыло, облетая местечко. На дыбы встала земля: дома, деревья, овощесушильный заводик с приземистой кирпичной башенкой, поле. И опять Петро увидел стога. И он смотрел на них, пока не исчезли они в печально-дымчатой дали.
ГОЛУБОЙ ВЕТЕР (Перевод Эд. Корпачева)
Логацкий проснулся словно бы от внутреннего толчка: все произошло естественно и легко. Некоторое время он лежал, не раскрывая глаз. То неуловимое и зыбкое, что еще владело им, было, наверное, воспоминанием о сне. Сон уходил в просветленности, в запахах, в порывистости ветра. Будто стояло над неподвижным озером в духмяном зное солнце. Пахло смолистыми соснами, поднимался над водою голубой ветер, и такой звонкий и чистый слышался на озере смех. Как хорошо, как легко! И словно бы Логацкий бежит к воде — как щекотно холодит песок босые ноги, как застилает глаза голубой ветер!
В комнате тихо. Ночь. Два часа ночи — Логацкий знает это. Вот сейчас пройдут, если не прошли, работницы с фабрики; они всегда проходят в это время, и очень ясны тогда шаги в ночи. И еще разговоры: «Ой, девочки, а он мне говорит: „Я тебе часы куплю“. Ой, держите меня, а то упаду!» И смех — заливистый, несдержанный… Смех всегда будит Логацкого, как и этот ветер, что снится все последние дни.
Ночь. Тишь. Наверное, прошли уже работницы, наверное, потому и примерещился ему этот смех.
Какая светлая, какая чуткая тишина в комнате! Тонкий луч переломился в зеркале — таинственные глубины открылись в стекле. Паутиной легли на стену тени: невидный отсюда фонарь у дерева отразил, как на экране, ветви и прутики. И хорошо от мысли, что можно никем не замеченным подойти к окну и так стоять в ночном безмолвии…
Логацкий пошарил рукой, выискивая на спинке стула одежду.
Вставать легко, и нет той утренней расслабленности, которая тянет ко сну, смыкает глаза. Все было необычно, немного загадочно, было приятно и хорошо. Логацкий встал у окна, посмотрел на улицу. Фонарь светил меркло, из-под заснеженного отражателя свисала сосулька — застывшая неподвижная жилка воды. Позавчера была оттепель, потом подморозило, потом выпал снег. Недостроенный дом на той стороне улицы, башенный кран, у стрелы которого остро мерцает звезда. Крыши и тишина. Цепочки фонарей обнаруживают улицы города. Поздний ночной час.
Думалось о том, что все равно не уснешь. Логацкий обулся, накинул в коридоре пальто и вышел на лестницу. Сразу же окутал его запах краски, стылой штукатурки и пыли — всегдашний запах подъездов, скупо приправленный теплым духом людского жилья. Сплюснутые каблуками, валялись на площадке окурки. Логацкий вспомнил: вчера в соседней квартире провожали в армию Толика — то ли токаря, то ли строителя. Вечером в подъезде стало шумно. Потом за ним, Логацким, приходил этот самый Толик: «Собрались… Леонид Иванович… Давайте с нами…» Чудак, ведь они были почти незнакомы. Логацкий не пошел. Как раз проверял студенческие работы. Не забыть бы дать этим лентяям завтра хороший нагоняй. Работы сдавали с опозданием — ясно, что писали в один вечер. Кто-нибудь из факультетских гениев будет потом хвастать: буря и натиск, немного вдохновения и немного времени. Чепуха! И вообще студенты уж не те. Многие с производства. Думают, что познали жизнь. Читают Ремарка. Чепуха! Нынешние студенты не нравились Логацкому. Он и не заметил, как испортилось у него настроение. Вновь увидел на лестнице окурки, и вновь припомнился ему Толик. Как раз кстати: не хотелось думать о студентах. «Напрасно обидел парня, не побывал на этих проводах. Сочтет, что обошелся с ним по-свински, и будет прав. Ведь не из-за тех студенческих работ отказался… А может, и не сочтет: я для него, наверное, слишком занятая, ученая персона. Как-то смешно стеснялся, приглашая к себе, и почему-то вытер о половик ноги, когда уходил». Логацкому стало стыдно: «Ученая персона! Ничего себе оправдание… Какая досада!»
Выбито стекло в двери, на фанерке мелом написано: «Здесь живет Зоя». И стоят три восклицательных знака. «Какая-нибудь знакомая Толика, и тоже была на проводах. Хорошо, что не пошел туда, а то пришлось бы прикинуться другом молодежи. Так сказать, старший товарищ и юная смена… Роль явно не моя. Хватит с меня студентов».
Он подумал вдруг, что все это чепуха, и разозлился на себя: «Ну, не пошел, и хорошо… А тут какие-то сомнения, какой-то мальчишеский самоанализ. Смешно. И вообще…»
Он вышел на улицу, остановился. Нечто непонятное творится с ним в последнее время: вот хотя бы этот сон, ночное бдение. Логацкий постоял в раздумье, осмотрелся. Безмолвно было на улице, пустынно, и стоял крепкий морозец, такой островатый, жесткий, но и приятно трезвящий. Неопределенно и нудно начало покалывать в висках: наверное, от свежего воздуха. «Зачем я вышел?» — спросил себя Логацкий.
Как раз перед ним лежал, точно в руинах, недостроенный дом, тот самый, который он всегда видел из окна квартиры. Первые кирпичи здесь заложили еще весной, летом строительство почему-то приостановили, а теперь начали опять. Логацкий свыкся с домом, и он стал для него живым свидетелем. И как человек, дом обрастал понемногу воспоминаниями.
Старый знакомец, он делился ими теперь с Логацким. А тот понимал все и видел, как земля, выброшенная когда-то экскаватором, присыпанная затем снегом, превращалась в большой холм. Как приходили на этот холм дети, и — кто на санках, кто на ногах, а кто и на том самом месте, которому издавна надлежит отвечать за безудержную фантазию хозяина, — пробовали здесь и крутизну горы, и разбег с нее.
«Старый знакомец, без обличья и номера дом, — думал Логацкий, — и я рассказал бы тебе, чем было для меня это невзначай подсмотренное детство. Да ты не знаешь, чем пахнет озорное это детство, не понимаешь, почему чернильное пятно, случайно замеченное на снегу, может взволновать сильнее, чем любое взрослое диво».
Да он, Логацкий, и не хотел такого. Он знал: настоящее диво было или простым, как эта детская горка, или наивным, как выцветший ситчик. А ветер вправду был голубым, словно во сне. В нем было все: тревожная дымка горизонта и незабываемый свет детства; дожди густые, точно ветер, и запах земляники, щемящая радость в душе и непотаенное, веселое удивление перед миром. Как раз все то, чего не хватало сейчас Логацкому.
Он чувствовал, что очень устал. Лекции в институте утомляли его и, может быть, еще больше — разговоры в преподавательской. Звонил телефон, выходили и заходили люди, секретарша бегала с расписанием, преподаватели жаловались на студентов, точно все это было так важно и точно студенты были когда-нибудь прежде ангелами. Лучше бы, если бы не беспокоили его, Логацкого. И тогда можно было сидеть, не слушая никого, сосредоточившись в себе, — и это было ожиданием дива. И оно приходило и грустно закрадывалось в сердце чьим-то голосом, донесшимся из коридора, или сквозняком, струящимся через форточку, или щедрым запахом воды, расплесканной кем-то на паркете. Это бродил где-то и тревожил Логацкого голубой ветер.
И вот словно спадали с плеч и такими ненужными становились его взрослые годы, и казалось, все прожитое и пережитое раньше, собранное со временем по капельке, не стоило и самой маленькой крохи ожидаемого дива. Почему казалось так, Логацкий не знал. Возможно возвращалась жизнь на полузабытый круг детства или тосковала душа по чему-то ушедшему, растерянному с годами, а может, все шло от неудовлетворенности собою, — Логацкий и это наверняка не знал. Непонятное что-то творилось с ним и искало себе выхода.
Только он, Логацкий, теперь не думал об этом. Спал город, непривычная загадочность властвовала повсюду, и такой доступный и недоступный теперь одиночеству был этот город. Логацкий глядел и слушал — и тишина и ночь текли мимо него. Слетались на фонарь снежинки, бесшумные и легкие, как ночные мотыльки. Сипло вздыхал где-то в серых потемках паровоз. Трепетный и тонкий лучик спускался с неба: мерцала над городом звезда. И многое, многое открывалось и сердцу и глазу; и казалось Логацкому, что он различает, как островато и скупо пахнут и снег у дороги и ледок на ней, и какой особый, густой холодок идет от кирпичей, разбросанных у дома, и какой совсем иной, сквозной ветер дует из проемов пустых окон. Сосновой свежестью веяло от штабеля заиндевевших досок. И было чувство, что вот еще немного, стоит лишь захотеть, и придет недоступная раньше и никогда еще не изведанная проницательность мысли, придут небывалое спокойствие и ясность. И он тогда как-то по-новому взглянет на себя и на людей.
Но ничего не пришло, и на сердце осталась горечь. С таким сожалением вспомнился сон, светлая тишина в комнате, прежнее настроение, и он подумал: «Куда же ушло все это?» Вставал в памяти вчерашний вечер, проводы Толика, и теперь уже определенной, неотступной стала неудовлетворенность собой. «Я черствый, равнодушный человек, — сказал себе Логацкий, — но не хочу сознаться в этом и потому играю в жмурки с собою. Три года жил рядом с этим Толиком и почти не знаю его, обидел его и хочу оправдаться. Я не пошел потому, что попросту боюсь людей, боюсь, как бы не заметили они, что я утратил нечто, — и все мне не интересно. И этих новых студентов я не люблю потому, что они не похожи на меня, что живут они по-своему, интереснее, чем я».
Так он думал, и ему казалось, что мысли его искренни. И странно: в этом разговоре с собою, в этих неприятных признаниях была для него какая-то мстительная сладость. Он опять осмотрелся: подумать только, простоял здесь целую вечность, увлекшись, как дитя, какими-то напрасными мечтаниями. Брало зло на себя, и Логацкий внезапно почувствовал, что весь захолодел. Он поднял воротник и пошел по улице. Это даже не улица пока была, а просто дорога: дома здесь стояли лишь по одну сторону. Справа, зажатый какими-то мастерскими, тянулся неширокий пустырь, пока не вставал на его пути одинокий деревенский домик. Дорога за ним сворачивала на еще одну, просторную улицу. Где-то там поднимались стеною тополя, и Логацкому видно было, как трепетал яркий свет фонаря в серых ветвях. На открытом месте еще более ощутим был холодок. Маня зеленым огоньком, из-за одинокого домика вышмыгнуло такси, пронеслось мимо Логацкого. Из машины послышалась музыка, потрескивание радиоволн в приемнике. Стало грустно. «А может быть, и надо было так», — всплыло воспоминание… Геннадий Паруков — преподаватель английского языка, институтский знакомый, черноволосый, стриженный коротко, ровесник Логацкого, — всегда приезжал в институт на мотороллере. До поздней осени ходил без шапки. Втайне Логацкий завидовал ему: вообще он завидовал людям, которые умели наладить свое душевное хозяйство. Паруков, казалось ему, был из таких. Наверное, для него в жизни не существовало нерешенных вопросов и не было ничего запретного. И в осанке его и в речи чувствовались какие-то непонятные Логацкому уверенность, сила.
Так вот, это самое воспоминание. Однажды не выдержал Логацкий — что-то острое сказал относительно мотороллера. Как он теперь понимал, была в этом неосознанная и смешная попытка словно бы заранее оправдаться перед кем-то в своей неспособности жить так, как коллега.
— Послушай, приятель, — сказал ему Паруков, — ты рассуждаешь непростительно для взрослого человека. Спроси у любого школьника, он тебе скажет, что мы живем в атомный век. Мотороллер хотя и не возносит меня к вершинам цивилизации, но, заметь себе, свидетельствует о психологических сдвигах в моем характере. Я становлюсь современным человеком. — Он засмеялся, переводя все на шутку. — Пожертвуй своим сельским идеализмом, не надо быть пошехонцем. Ясно?
Он умел мыслить логически, этот Паруков. Шутки шутками, но Логацкий почувствовал себя неловко: точно взял человек да и щелкнул ему походя по носу. «Ну, старик, отстал ты от жизни, куда тебе — не понимаешь простых вещей» — вот что послышалось Логацкому за теми шутливыми словами Парукова.
«И правда, как пошехонец», — думал теперь Логацкий, но уже спокойно, будто было покончено с тем неприятным воспоминанием и будто отныне все будет иначе. Ходьба успокаивала его. Незаметно для себя он стал присматриваться к улице, и опять, как недавно, когда он стоял перед домом, все, что виделось, западало в память. Он видел, как затаенно застыли в потемках за деревянными заборами сады, как мягко лился запоздалый свет из окна деревянного домика, отнесенного в глубь двора, и как, спрятавшись от холода, дремал в телефонной будке у магазина сторож. Так, осматриваясь вокруг, дошел Логацкий до железнодорожного переезда и остановился. Серебряный луч скользнул по рельсу и побежал туда, где нежно млели рубиновые огоньки на стрелках и где уже иные, высокие и яркие, поднимались навстречу огни. И словно бы дождавшись человека, пронзительно и тонко отозвался где-то поблизости паровоз. «Надо обязательно съездить в деревню, к матери, — подсказал себе Логацкий. — Сто лет не был там». И ему стало приятно, что он подумал о матери, и вслед за этим пришло умиротворенное чувство: «Я спокоен — это хорошо. Но спокоен не так, как недавно, когда проснулся». Как будто в какую-то новую и большую дорогу собирался он теперь, и было легко оттого, что дорога впереди.
Уже не хотелось стоять на переезде, он повернулся и зашагал домой. И радостным и значительным было для него это возвращение.
На пустыре, миновав улицу, он остановился. Белая снежная равнина бросилась ему в глаза, и он ступил на нее, медленно пошел, замечая, как кружатся снежинки, какие темные они, эти белые снежинки. Он наклонился и, взяв рукою и сжав в ладони комок снега, приложил его к лицу. Приятная и свежая прохлада тронула щеку. Логацкий выпрямился. «Надо жить, — подумал он, — надо смелее и веселее жить: избавиться от равнодушия, черствости, замкнутости в себе. И тогда уже не покинет меня голубой ветер».
Он повернулся и, воодушевленный, повеселевший, стал пробираться к дороге.
ОСЕННЕЕ ВОСПОМИНАНИЕ (Перевод Эд. Корпачева)
В ту осень я жил в деревне. Был сентябрь, стояли теплые, тихие, прозрачные дни. Казалось, осенняя усталость была разлита в воздухе, и чувствовалась она во всем: в слабом дрожании уже холодноватого марева, в печальной стерне, которая сиротела на солнце.
Весь день скрипели на улице телеги — с полей свозили овес и гречку. У колхозного гумна гудел комбайн, и в передышках меж работой девчата пели:
Ой, наступает Осень холодная, Ой, у березы Листок опадает.Почти каждый день слушал я эту песню, нагружая вместе с хлопцами на машины высохший с лета торф; мы приехали сюда из города заготавливать топливо.
Ночевали и обедали мы в деревне. Хозяйка моя была сноровистая, ловкая женщина, хотя и стукнуло ей пять десятков лет. По утрам я просыпался от ее голоса: топая по хате, она будила сына, чудаковатого хлопца.
— Микита, а-а, Микита! — надрывалась она. — Гляди, дождешься, лежень, за ноги стяну…
Микита отворачивался к стене и что-то бормотал.
— Вылеживаешься ты у меня, — бубнила тетка Авгинья, — а потом снова к голубям… Выкину забаву твою — дождешься…
— Не выкинешь. Не ты принесла… — огрызался Ми-кита сонным голосом.
— Ах, чтоб тебя, — злилась женщина, — двадцать годков миновало, а как дитя…
С голубями возился Микита все время, если случалось быть дома. Он выпускал их из самодельного ящика на крышу, ложился под плетень на траву и, не отрываясь, следил за птицами. Его маленькое лицо делалось мягким, губы нежнели улыбкой, а внимательные глаза смотрели пристально из-под длинных ресниц. Если в это время был неподалеку я, Микита, не поворачивая головы, звал меня:
— Иди погляди, как голуби целуются. Не видел же!
Я ложился на траву рядом с ним и смотрел на игру птиц. Белая голубка тихо и печально ворковала, возле нее крутились два голубя. Один, сизый, крупный, солидно похаживал, надувая грудку, второй — помельче, то и дело наскакивал на него и сразу же отбегал.
Каждая новая атака щупленького голубя по-детски радовала Микиту.
— Ату его! Так его! — выкрикивал он и хлопал по земле ладонями. — Гляди, красавчик, холера, как городской пижон. А скажи ты мне, — спрашивал он вдруг у меня, — почему это ваши девчата красивые, а наши неуклюжие какие-то, а?
— Ну что ты! — удивлялся я. — Потому что привык ты к своим.
— А может, и так, — подумав, соглашался Микита. — Вот Ганка… Она даже красивее городских.
— А кто она, Ганка? Здешняя?
— А ты и не видел? Она же к нам приходит, матери помогает.
— Родственница, что ли?
Микита, прежде чем ответить, взглянул на меня и неизвестно почему засмеялся. Я догадался, что никакая не родственница ему Ганка, а об остальном и не думал догадываться. Но Микита сам заговорил:
— Мать хочет женить меня, говорит: чего ты, дурной, к ней подступиться боишься. А я и правда боюсь Ганки, стыдно как-то. Только когда выпью, то провожаю…
— Ну и что же?
— А, не знаю… За ней сколько бегало уже, да все так. «Два-семь» ноги себе отбил, бегая…
— Какой «Два-семь»?
— Не знаешь? Ну, шофер наш. Девчата его так прозвали. Говорит: с одной женкой два месяца жил, с другой — семь… Потом еще Женька Бохан бегал, тот, который на лесничего учится. Этот неприятный какой-то: как девка, кремом мажется да волосы подсчитывает, сколько упадет…
Ганку я увидел назавтра, под вечер, когда пришел с работы. Хозяев не было дома. Я вспомнил, что Микита еще вчера собирался в соседнюю деревню за махоркой, а мать его повезла в город яблоки.
В хате, замученные теплом, сладковатым запахом помидоров, навалом лежавших на подоконнике, сонно гудели мухи. У печи стояли недосмотренные чугунки с бульбой, у порога валялся среди сора веник. У тетки Авгиньи было теперь много работы, и она не обращала внимания на беспорядок в хате. «Сытому да здоровому все хорошо», — говорила она. Дома тетка Авгинья ходила в засаленной юбке, босиком.
В тот день мы нагрузили много машин, и я чувствовал себя немного усталым. Сел за стол, закурил мятую, наполовину просыпанную папиросу и посмотрел в окно. За плетнем стоял молчаливый задумчивый сад. Тронутые желтизною листья холодно блистали в лучах низкого солнца, и крупные гроздья плодов были залиты ровным восковым светом. Сад словно бы догорал в торжественной обремененности своей.
Во дворе стукнула калитка, я подался к окну. Девушка, невысокая, без косынки, направлялась к крыльцу, склонив голову то ли в задумчивости, то ли по привычке. Я не успел еще ни о чем подумать, как она появилась неожиданно на пороге и, заметив меня, задержала ладонь на дверной ручке:
— А я… мне показалось, что Микита дома.
Я сразу почувствовал себя неловко, словно был виноват, что парня не было в хате, и зачем-то переспросил:
— Вы к Миките? Он…
— Я просто зашла.
Удивил меня ее голос и то, как сказала она это «я просто зашла». Голос был ровный, тихий и глубокий — с какими-то густыми, дремотными нотками. Я глядел на нее, не зная, то ли попросить остаться, то ли снова сказать о Миките. Она же заметила у порога сор, взяла заслонку от печи и засуетилась с веником. Я с любопытством посмотрел на нее.
Бросались в глаза черные ее волосы, спадавшие на лоб, на щеки. Нос был прямой, красивый. Щеки раскраснелись: то ли от застенчивости, то ли от волнения.
Я не выдержал и сказал:
— Конечно, вы Ганка, и я знаю вас.
Она выпрямилась и без удивления глянула на меня.
— И я вас знаю…
— Откуда?
— Видела, мы же соседи…
Я промолчал. Ганка взяла заслонку и вышла из хаты.
— Мне еще надо бульбы накопать, — сказала она, вернувшись. — А может, вы есть хотите, так я поищу чего…
Ее искренняя простота поразила меня, неловкость сразу исчезла, и я шутливо заговорил:
— Нет, не надо, я лучше пойду с вами на огород. Помогу и заодно погляжу, на что вы способны. Может, тетка Авгинья поторопилась выбирать невесту.
Ганка посмотрела на меня спокойными глазами, а мне вдруг больно стало от их ясной, доверчивой чистоты.
— Почему? — выдохнула Ганка. — Я помогаю тетке Авгинье. Она просит. Зачем же вы так?
— Ну, не буду, не буду, — поспешил оправдаться я. — Пойдем. Возьмем лопату и пойдем.
Мы вышли из хаты, перелезли через невысокий плетень и оказались в огороде. Промеж яблонями торчали почерневшие кусты картофеля; в бороздах попадались яблоки. Пахло прелыми листьями, пресным холодком земли — осень не скупилась на запахи.
— Как свежо, — сказал я, — и запах какой…
— Ага, — отозвалась Ганка, — не очень… не очень духмяный, — и повела в воздухе рукой.
Мы взялись за работу: я лопатой выкапывал бульбу, а Ганка подбирала ее. Корзинка быстро наполнялась. Неудачно отряхая картофельный куст, я обсыпал землей Ганкины ноги. Ганка засмеялась и, подпрыгивая на одной ноге, стала снимать тапочку, но не удержалась и пошатнулась. Я выставил руки, чтобы поддержать ее, и случайно коснулся девичьей груди. Это случилось так неожиданно, что я растерялся, а когда поднял глаза, то как раз перед собой увидел ее губы, и мне на мгновение показалось, что ощутил их трепетное тепло… Ганка отошла и медленно стала вытряхивать землю из тапочки. Я подбирал рассыпанную булъбу. Молчали.
— А вон и тетка Авгинья, — заговорила первою Ганка.
Женщина шла не с улицы, а напрямик через поле.
Она увидела нас, подошла ближе, поправила волосы под косынкой и, озабоченная, пожаловалась:
— Ах, чтоб тебя… Притомились ноженьки… А тебе Николай помогал… — и она вынужденно засмеялась. — Так пойдем, Ганночка, в хату: я тут селедки купила, может, своим занесешь.
— Ой, что вы, тетка Авгинья! Не надо нам. Я пойду.
— Скажи ты, не надо ей… — заговорила вслед ей Авгинья. — У тетки, где она живет, шесть душ… Не повезло девчине: батька помер, как и мой хозяин, а потом и мать… Так я и думаю: вот если бы они с Микитой сошлись. И мне подмога, и хлопца в руки взяла бы. Добрая девчина, ой, добрая!
— Да, — односложно сказал я.
— Ну вот и ты говоришь… Нравится, вижу…
Мне и вправду понравилась Ганка, и почему-то казалось тогда, что лишь со мной была она так искренна, ласкова, что лишь на меня так доверчиво смотрели ее глаза.
— Охо-хо! — вздыхала женщина. — Такую девчину хоть кому — несчастья не знал бы… А где это сегодня мой Микита?
Микита пришел, когда уже совсем стемнело. Пьяноватый, голодный, набросился на селедку и все ворчал, что не сварили бульбу. Я тоже проголодался и ел, не отставая от Микиты.
— Пошли гулять, — наконец встал из-за стола Микита. — У Федорихи девчата уже давно собрались… Пойдешь?
— Куда ты? — забеспокоилась тетка Авгинья. — В саду побыл бы, а то залезет обормот какой — все ветки поломает…
— Цел будет твой сад, — отмахнулся Микита и потащил меня из хаты…
— Видел твою соседку, — сказал я ему на улице.
— Ну и как?
— Ничего себе. Будешь сегодня провожать?
— Почему ты спрашиваешь? — усмехнулся Микита.
— Да ты же выпил, вижу…
— Какое там…
Мы зашли в чью-то хату, где и вправду было много девчат. Никого из них я не знал, одну лишь Ганку, которая приветливо улыбнулась нам и зашептала что-то своей подруге. Та же, увидев незнакомца, поспешно поправила косынку, незаметно выпустив на лоб вьющуюся прядку. Мы прошли к столу, за которым курили цигарки хлопцы, и устроились там на лавке. Закурили. В сизых полосах дыма потревоженная лампа покачивалась, как на волнах.
— Микита! Николай! — окликнула Ганка. — Идите сюда! И вы, хлопцы, тоже: будем играть в фанты.
Предложение всем понравилось, курильщики поднялись из-за стола, ожили девчата. И сразу стало шумно. Хозяев не было тут, лишь кто-то спал на печи. Я подошел к Ганке и сел рядом.
Началась настороженная и шумная игра. Ганку вызывали чаще других, а я, отчего-то грустный, ни разу не назвал ее имени.
— Почему вы невеселый? — спросила у меня Ганка. — Смотрите, проиграете — потом не откупитесь.
Но и сама она была невнимательна. У нее уже забрали брошь, а потом, посмеиваясь, она достала из волос гребешок. У меня забрали портсигар.
— Хватит! — крикнул кто-то. — Давайте судить!
Двое хлопцев тотчас забрали фанты, ступили к порогу и долго о чем-то шептались там. Потом один из них вышел на середину хаты и, пряча руки за спиною, спросил:
— Что этому фанту?
— Привезти из леса дрова! — послышались голоса. Кто-то засмеялся.
Хлопец выставил перед собой мой портсигар. Я растерялся, не зная, что надо делать в таком случае, но мне подсказали. Я вышел во двор и постучал в стену найденным во дворе поленом.
Дошла очередь и до Ганки: ее заставили танцевать «Лявониху», и, стесняясь, она прошлась в танце по хате. Потом судили два фанта вместе, и Ганке выпало целоваться с каким-то хлопцем. Тот подступался к ней, уговаривал, поглядывал на всех: смотрите, мол, я делаю свое дело, все зависит не от меня. Но Ганка отворачивалась и отталкивала назойливого хлопца.
Все закричали, начали настаивать, Ганка рассердилась, села на лавку и, притихшая, безучастно смотрела на игру.
Время было идти домой. Я сказал об этом Миките, но он хотел остаться: никто еще и не думал расходиться. Я незаметно вышел.
Над селом распростерлась тихо лунная ночь. Густые тени лежали на улице. Где-то, наверное на колхозном дворе, громко разговаривали. Заливисто лаяла собака. Я услышал, как меня кто-то легко нагонял. Я обернулся и увидел Ганку.
— Домой?
— Ага…
Мы пошли рядом — медленно и молча. Изредка наши плечи прикасались, и тогда Ганка стыдливо и тихо смеялась. Я взял ее руку в свою и стал перебирать покорные теплые Ганкины пальцы. В эту минуту она казалась мне такой понятной, такой близкой…
Мы остановились у какой-то хаты… На дорогу ложилась черная тень от плетня. Я легко притянул Ганку за руки и, склонившись, стал целовать ее в теплые, чуточку шершавые губы. Ганка притулилась ко мне и молчала…
И я молчал тоже.
Есть минуты доброй близости между людьми, тихой возбужденности и ласки, светлой, как осенний день. Это хорошие минуты и хорошая близость, которой не нужны слова. А мне ведь нравилась Ганка, мне было славно с ней, не думал я тогда и про Микиту.
Но он сам напомнил о себе. Он шел по улице и был уже неподалеку от нас. И я и Ганка видели это. «Не высидел, — с какой-то злостью подумал я, — Ганка сбежала…» Не сговариваясь, мы тихо отступили к плетню, пошли во двор и замерли там возле сенцев. Вскоре прошел и Микита; наверное, он видел нас и все понял…
Я недолго оставался после него. И лишь тогда, когда Ганки уже не было со мной, мне вдруг стыдно стало за себя и досадно. Я вспомнил вчерашний разговор с Микитой и как доверчиво рассказывал он про Ганку, вспомнил нынешние слова тетки Авгиньи и никак не мог ни понять, ни простить себе недавнего поступка.
Осторожно зашел я в хату и, пока раздевался, хотелось, чтобы позвал меня Микита, чтобы заговорил. И он отозвался:
— У тебя есть курево? У меня все забрали хлопцы, да и не жалеть же…
Я знал, что Микита лгал, что сегодня принес он достаточно и табака и папирос. И мне стало еще более досадно.
— Давно пришел? — с трудом произнес я, протягивая Миките папиросу.
— Я? Вслед за тобой… Как ты от Федорихи вышел — и я сразу…
— А-а… Ты же еще остался…
И не знал я больше, что ему сказать. Я плюхнулся на кровать, чтобы долго не уснуть в ту ночь…
А назавтра вечером ко мне подсела тетка Авгинья и, вздыхая и поправляя на голове косынку, жалобно заговорила:
— Есть у тебя, хлопчик, батька, а? Ну и хорошо, если есть: матке подмога. А без батьки тяжко, ой, тяжко. Мой человек помер, крепкий был мужчина, а помер. И болезнь холерная навязалась: простудил голову, похворал год — и нет человека… А сын с войны головы не принес. Красивый был хлопец, не то что Микита, — девчата гуртом бегали вслед… Ах, что ж это я: молоко надо в печь ставить, за ночь, может, и скиснется.
Тетка Авгинья суетилась у печи и все говорила, говорила. «Дозналась о чем-то, — подумал я, — как неудобно…» А она снова подошла ко мне, встала сбоку, печально склонив голову и опустив руки.
— Девчата теперь слишком разумные стали, — говорила она, — глядят, чтоб и красивый хлопец был и городской к тому же. А того не знают, что с человеком век вековать: надо, чтобы мужик добрый был… Вот мой Микита. И дома помогает и в колхоз день в день ходит… А другая все ищет покрасивей. Ого!.. А ты женатый, хлопец, или нет? Годков тебе, наверное, много… — Она вдруг засмеялась — негромко, сдержанно, словно стыдясь своего смеха. — Это я слышала, что ты к нашей девчине ходишь, — не глядя на меня, сказала она и почему-то утерла лицо фартуком. — Ну что ж… — И опять пожаловалась тихо: — Ну что ж… Молодому погулять хочется, а другая думает, что человек весь к ней…
Мне хотелось солгать, сказать, что я женат, чтобы тетка Авгинья разнесла это по деревне и чтобы Ганка сторонилась меня. Но, смущенный, я промолчал.
В тот вечер я не пошел на улицу и решил не видеться с Ганкой. Микита уже не звал меня на гулянку и каждый вечер куда-то исчезал один…
Пришло время возвращаться в город. Я не изменил своему решению и не встречался с Ганкой. Однажды она зашла к нам в хату и говорила о чем-то с теткой Авгиньей. Я все это время пробыл за перегородкой и не показался на кухне. Когда Ганка вышла, не удержался, выглянул в окно и увидел, как она, склонив голову, задумчиво ступала к своему крыльцу. Вспомнился первый ее приход, стало больно и грустно…
И вот прошел с той поры год, и опять наступила осень, которая в городе не имеет особенных примет. В скверах шуршит под ногами листва, а запах земли, развороченной экскаватором, будит в памяти другую осень и другие дни. И вспоминаю Ганку, ее голос — ровный, глубокий, с густыми дремотными нотками…
Зачем я так обошелся с ней, ради чего?
Мне хочется снова поехать в деревню, увидеть Ганку, подойти к ней и сказать: «Прости меня, я обманул тебя и себя обманул тоже».
И мне не дает покоя осеннее воспоминание.
ДВОЕ В ЛЕСУ (Перевод Эд. Корпачева)
В. Громову
Перекусив, они молча решили, что можно и отдохнуть.
Место им попалось хорошее — сухое, светлое. За несколько шагов от него сосны отступали в низину, а там кустился ягодник у трухлявых пней, чернела истлевшая листва. Еще дальше темная стена елей была прошита тонкими стволами редких березок, — низина переходила незаметно в тихое сумрачное урочище.
Но здесь, на свету, было сухо, тепло от земли, прогретой солнцем, густо усыпанной жесткими хвоинками и нежными чешуйками молодой сосновой коры. Усевшись на землю, можно было долго смотреть на небо, которое просвечивало меж ветвей, смотреть потом на ласковое золото высоких мачтовых стволов: снизу казалось, что они сходились вверху.
Утомившись на рубке леса, Василь приятно чувствовал горячую разморенность в руках, в плечах — во всем теле. Приятно было и то, что вот они, двое во всем лесу, теперь молчат, под тихий шум сосен думая каждый о своем. Василь даже рад был этому, зная, каким нелегким временами бывает разговор с человеком, если у тебя с ним произошло что-то неладное, еще и теперь не прояснившееся до конца, — и потому неизвестно, как тебе смотреть на этого человека и как ему смотреть на тебя…
А может, он, Микола Клыбик, нынешний напарник Василя, и ни о чем не думал. Вытянувшись во весь свой завидный рост, он лежал на земле недвижно, с закрытыми глазами, одну руку положив под голову, другую на грудь, на выцветшую рубаху — просторную, с длинными рукавами, перехваченными резинкой повыше локтя, и без воротника. Воротнички когда-то надевались под галстук, — у Клыбика, школьного делопроизводителя, лишь у одного во всей деревне были такие рубашки.
Наверное, Клыбик заснул, и Василь глядел на него, на его лицо с крупным носом, на высокие залысины над выпуклым лбом и не мог понять, то ли устал человек, то ли у него такая привычка — засыпать сразу и крепко. И еще он думал, что Клыбик и не должен был уставать сегодня: работничек был так себе, вполсилы тянул пилу, да и любил, когда подрезали дерево, заходить с правой руки — и легче, и удобнее было с правой руки.
Движения у Клыбика вялые и неуверенные какие-то, и, глядя, как он стучал топором по сучьям или перекатывал готовый кругляш, вспоминался почему-то его отец, такой же высокий и медлительный, как и сын. Про отца в деревне говорили, что по лености своей он жил в недосмотренной хате, что по утрам, когда не было чем растапливать печь, ходил во двор тесать стены старого сарая.
Старый Клыбик очень гордился сыном, который в армии был как будто писарем, а заодно научился наигрывать на гармошке.
— Э-э, скажу тебе, скажу тебе, — доказывал он любому встречному, — Миколка в меня пошел. Скажу тебе, я в охоте толк знаю, а он на гармошке… Э-э… пуговки, скажу тебе, как черт перебирает. Он у меня и строгий. Как пришел со службы, старуха моя утром высыпала бульбу на рушник, так он, скажу тебе, как крикнет! Некультурно, говорит, не буду есть. Строгий он у меня, ого…
И еще больше загордился старик, когда сын, на удивление всем, сыграл свадьбу со здешней учительницей.
Удивляться удивлялись, но выпили сельчане на той свадьбе не одно ведро водки, а он, Василь, и близко не подошел, потому что и без чарки было на душе горько… И все никак не мог понять, как же случилось так, что Марина, которую считал почти своей, будет при людях целоваться с Клыбиком и сидеть с ним рядом за столом. А может, ничего странного в том и не было, потому что сам ведь знал Марину всего с неделю… И все же горько было на душе, очень горько. Со временем та горечь развеялась, и вот уже забыто все, казалось, да где там: разбередил прежнее сегодняшний день, долговязый Клыбик, от которого никуда теперь не денешься, потому что надо вместе работать. И он уже злился на себя, недовольно думал: «Зачем я согласился на эту работу?»
Вчера вечером пришел домой отец, сказал, что в школе получили билет на дрова и директор распорядился ему и Клыбику собираться завтра в лес. Они ведь с матерью сторожат школу, отказываться нельзя, да и какая-нибудь копейка за работу будет. Он бы и сам пошел с Клыбиком, но завтра мужчины будут ставить хату Тимоху Бричикову, просили и его, потому пускай в лес вдвоем с Клыбиком идет Василь.
Василь отнекивался сначала, но отец неожиданно рассердился. И тогда он подумал, что, может, не надо портить настроение старику, потому что у Бричиковых будет завтра шумное сборище, будет веселая работа, а потом мужчины сядут за стол, выпьют немного, и для всех словно праздник придет.
И Василь согласился.
Он не пошел гулять, а взял рядно и раньше обычного полез на чердак. Спать не хотелось, лежал и думал о многом, боясь думать об одном лишь Клыбике. С опозданием привезли из местечка в магазин хлеб, и вот на улице ходили люди, переговариваясь тихо, а потом кто-то громко спросил, куда погнали конюхи лошадей в ночное. Там, на улице, был теплый вечер, и Василь припоминал, как вчера они с хлопцами ходили на танцы в соседнюю деревню и какая густая, теплая и без росы была вдоль дороги трава, — говорили, к перемене погоды. И вот ему вспоминался уже другой вечер, такая далекая теперь и все же по-прежнему славная Марина…
В ту пору по деревне разнеслось, что приехала новая учительница. Говорили, что она молодая, красивая. Через несколько дней после этого Василь и сам увидел ее. Он белил в школе стены, когда туда совсем неожиданно зашла она, вся такая загорелая, светловолосая и тонкая — совсем не похожая на учительницу. Особенно красивы у нее были доверчивые, теплые, искренние глаза: казалось, что там непрестанно плавились голубоватые льдинки — так светились ее глаза чистым светом. Льдинки — это он выдумал, потому что взгляд был теплый, ласковый и беспричинно добрый.
Девушка сразу выспросила у Василя его имя и, словно только и было у нее забот, что открыться незнакомому человеку, заговорила:
— Скажите, вам нравится в деревне, правда? Вы все время здесь живете? А я сама напросилась сюда, хотя деревню знаю лишь по газетам. Вы только не смейтесь, ладно? Да вот и в книжках, если где природа описана, я все читаю, читаю… А вы, смотри-ка, большой какой, сильный… Потому что физическим трудом занимаетесь, правда?
Он отвечал что-то, улыбался искренне и вовсе не чувствовал себя застенчивым с нею или неловким, потому что говорить с девушкой было легко, и ничего еще не было в сердце Василя.
А потом был вечер, тот их первый вечер, памятный ему и теперь и не забытый, наверное, и ею… Тогда была вечеринка, самая веселая, песенная вечеринка. А ему как раз легло на душу хорошее настроение. И все началось с того, что Андрейчиков Федор, тракторист, шалопутный хлопец, выпросил у Василя флотскую фуражку с козырьком — давнишний подарок моряка, двоюродного брата. Федор так обрадовался неожиданному приобретению, так забавно клялся Василю в дружбе, перечисляя заодно козыри, которые будет иметь теперь перед другими хлопцами, что Василь развеселился, подобрел, будто не он сам, а Федор сделал ему желанный подарок. Они и на вечеринку пришли вместе, и, как этого требует давний обычай, постояли сначала у порога, осмотрелись… Играли «Сербиянку», старый неведомо кем и когда занесенный сюда танец. Танцевали женщины, с припевками, отчаянно выбивая ногами. Глядя на них, можно было подумать, что в селе праздник. Наверное, женщины шли домой, а на пути стоял клуб с большими светлыми окнами, с переливчатой гармошкой, с веселым плеском бубенцов, и они не смогли удержаться, чтобы не зайти…
Играл Клыбик, очень серьезный и озабоченный, как всегда, когда склонялся над гармонью. Под ногами у него был кругляш, на коленях — разостланный платочек: опасался молодой Клыбик протереть гармонью штаны. И еще любил он, когда наигрывал, чтобы стояла рядом девушка и время от времени вытирала своим платочком его вспотевший лоб.
Наплясавшись, пошли, наконец, домой женщины, и начались настоящие танцы. И тогда подошла к Василю Марина — то ли случайно, то ли поговорить ей хотелось. Он пригласил ее и потом почти весь вечер танцевал с нею, и ему было хорошо. А Марина все боялась, что танцует не так, не по-деревенски, что это заметят и будут смеяться…
И вот сиди теперь с Клыбиком рядом, в одиночестве, и думай. И как же случилось, зачем — все необъяснимо так и скоро, — зачем и почему? Марина, Марина… Пускай бы уж нашла себе счастье с этим Клыбиком, а то ведь нет. Ходит всегда грустная, лучше бы не видеть ее такой. Да и женщины говорят: «Не ладится у нашей учительницы жизнь» — и упрекают в этом Клыбика. Женщины знают, зря не станут говорить…
Тихо шумит лес. Знойная сухость стоит в лесу, и лишь неуловимо тонко, но остро пахнет потрескавшимися шишками, подсохшими ветками и прошлогодними листьями. Видна дорога неподалеку отсюда и по ту сторону ее — молодой сосняк. Еще ближе, среди леса, впадина; целое стадо серебристых осинок пасется там, и оттуда вместе с солнечными сквозняками, струящимися меж сосновых стволов, приплывает непривычно горчащий запах осины, а то и пресноватый дух затененной земли…
Шумит лес, и монотонный шум его успокаивает Василя. Можно долго смотреть вокруг, и взгляд становится бездумным, как это бывает, например, если не отрываясь глядишь в огонь. И тогда что-то щемящее и грустное трогает сердце, и опять хочется думать, думать — ну хотя бы о том их первом с Мариною вечере…
Само собою случилось так, что когда кончилась вечерника, они отстали от всех и пошли по улице рядом. И сразу навалилось на них широкое безмолвие теплой ночи. Светила луна, маленькие облачка застыли в небе, точно утиный пух на воде. Тишина была кругом, и даже то, что впереди говорили, смеялись хлопцы и девчата, не могло нарушить ночной тишины, — деревня спала.
Не торопясь шли они по улице. Большая тесаная колода попалась на пути, и они сели на нее под трепетную тень тополя, освещенного луной. Василь молчал, а Марина говорила для него, говорила, как раз так же, как тогда, когда заходила в школу, только еще задумчивей, — и все заглядывала ему в глаза.
— Знали бы вы, как мне интересно у вас: и вечеринка эта, и люди, и все. — Она тихо засмеялась. — Слушайте. Когда сегодня женщины вышли со своими частушками, мне было как-то неспокойно, боязно. Ну, как бы вам сказать… Словно бы я сама вышла на круг и пела, а люди смотрели бы на меня, и вы стояли бы где-нибудь в стороне и тревожились за меня, за мой голос… Вы понимаете?
И Василь согласно кивал головой, улыбаясь Марине, ее словам, своим мыслям. Будто легкая и чистая волна подхватила его и понесла; и эта ночь, и луна, и росистый выгон за деревней в таком свежем ядреном блеске — все казалось Василю новым, точно увиденным впервые. Ему хотелось сказать Марине, как он понимает ее и как правильно поступила она, приехав к ним в деревню, но он молчал, прислушиваясь к чему-то широкому и доброму, что рождалось и росло в нем. Было легко и отрадно думать, и так же легко облекались мысли в слова, и он разговаривал с Мариной: «Ты хорошая, Марина, ты добрая. Подожди, я тебе расскажу про нашу деревню, про тихие утра и духмяные ночи, про закат солнца, когда такая тишина стоит вокруг и лениво стелется по земле первый дымок от раннего костра. Я расскажу тебе, как приходит сюда весна, как слабо пахнут на деревьях почки, как черен сад в вечерней розовости неба. Ты услышишь, как хрустит тонкий ледок под ногами, а вот, гляди, прошла машина, но еще долго будет держаться терпкий запах бензина. Слышишь, хлопнули где-то двери, и отзвук весело затихает. Слушай, и ты различишь, как в темную ночь гудит в поле трактор, как поют на обмолоте девушки — в ту пору, когда падают в саду яблоки и падают с неба звезды. Слушай, и ты поймешь, что зимою здесь так же хорошо, как летом, а в морозную ночь Млечный Путь блестит, как торная дорога под луной… Слушай свое сердце, Марина, оно у тебя доброе, — слушай, и оно тебя не подведет…»
Так говорил он мысленно с Мариной, и очень может быть, что она слышала его, потому что потом, когда Василь взял осторожно и мягко сжал ее руку, Марина приклонилась к его плечу и молчала.
— Какая особенная, светлая ночь сегодня, — сказала она потом, и Василь уже не сомневался, что Марина догадалась обо всем, о чем он молчал.
Была ночь, и луна светила для него и для нее…
Ах, если бы всегда вспоминать эту ночь и если бы не было того необъяснимого и отзывающегося болью, что внезапно встало меж ними!
Сколько раз он думал потом: как же так случилось, кто виноват, и каждый раз боялся обвинить себя, потому что тогда уменьшилась бы обида в сердце, по прибавилась бы грусть. Проще всего обвинять Клыбика и сожалеть Марине.
И успокоился бы, наверное, на этом, если бы не последняя встреча с Мариной, если бы не память о ней, которую не заглушить, если бы не прощальный Маринин взгляд — за далью времени не забылся он: и упрек, и жалость были в нем, я даже, кажется, презрение. Почему она так смотрела, почему?
И уж если не бояться вспоминать, так вот как было все. Он стоял под Савкиной крышей, спрятавшись от дождя; не очень густой, ленивый пошел дождь, потому что с самого утра было пасмурно и весь день стояла на улице мягкая теплынь. И как же хорошо повеяло потом дождевой прохладой, освеженной землею! Почему-то сразу расхотелось стоять под крышей, подмывало выскочить на улицу и подставить лицо, распахнутую грудь неспешным струйкам дождя. Василь, наверное, так и сделал бы, но заговорили во дворе, скрипнули ворота, и он увидел Марину с большим мешком за плечами, а рядом — ее хозяйку, старую Сымониху, в мокром фартуке и с серпом на руке. За Савкиным огородом начиналось поле, и часто женщины ходили туда по траву.
Василь первый увидел Марину, и тут же кольнуло в сердце, едва он подумал о себе и о ней, о Клыбике, который уже тогда стал меж ними. И еще запомнил Василь, какая задумчивость была на лице Марины и как, глядя себе под ноги, шла она к воротам, и как мотался и бил по загоревшей ноге с прилипшей к ней травинкой порванный ремешок от туфельки… И вдруг Марина увидела его. Словно кто-то толкнул ее в грудь, и она выпрямилась и, казалось, всю себя вложила в тот взгляд, в котором жалость была, и боль, и, может быть, даже презрение…
Случилось это после того, как Василь впервые после их знакомства не провожал Марину домой…
Так же, как и прежде, шумел лес, но уже не было успокоения Василю в его монотонном шуме. За полдень клонилось солнце, спускаясь на сосны. Спокойнее его свет там, где шире расступаются деревья, открывая дорогу. И вот начинает веять оттуда пылью, и вот слышно уже, как поскрипывают колеса и как кто-то однообразно понукает коня. И можно догадаться уже, что везет кто-то с пилорамы в соседнюю деревню доски, и можно видеть, как впереди воза бежит собака, шныряя в густом сосняке по ту сторону дороги, — может, птицу почуяла там, а может, насторожила непуганая лесная тишина, потому что собака останавливается и то и дело заливисто и гулко лает…
Тогда-то и просыпается Клыбик.
Он смотрит недоуменно вокруг себя, зевает и потом уже, заметив Василя, начинает удивляться:
— Думал, полежу немного, отдохну, а оно вон что… А ты все сидишь, ого! Наверное, не так утомился, как я. А я даже сон видел. Будто приходит ко мне в хату Ахремчик этот, председатель. Говорит: «Штраф тебе принес: выгон с колхозниками огораживать не хотел, а корову в общее стадо пускаешь?..» — «Вот Ахремчик! А телку, — спрашиваю, — я в колхоз сдал? Сдал. Почему же сена за нее не даешь?» А он, Ахремчик, так и выпендривается. «Пойдем в гумно, — говорит, — я покажу тебе сено. А телку твою мы за пастьбу возьмем». Видал такого? Чтоб тебя самого не знаю куда взяли!
— Может, думал про это, вот и приснилось…
— Думал!.. Ничего удивительного. Ахремчик этот мне душу переел. Очень быстрый: всех бы в колхоз загнал. Но подожди… Все они так сначала. Евменов, тот, который раньше, тоже брался, а теперь что? Одними фельетонами на него можно печь вытопить.
И он все говорил, Клыбик, говорил, а Василь удивлялся, с какой простотой раскрывался перед ним этот человек, словно хотел доказать: смотрите, вот я какой, Микола Клыбик, тот самый, которого в деревне прозвали «портфелем». Он то вспоминал, как отец его едва не первый отвел в колхоз коня («А конь, конь был — зверь, не то что у других!»), то говорил, что мог бы остаться в городе после армии, а вот как приехал домой, так и косятся все, завидуя его деньгам.
Понемногу раскрывался перед ним этот загадочный Клыбик, и Василь видел его то военным писарем, то продавцом здесь, в деревне, то физруком в школе, а потом делопроизводителем, и, наконец, нетрудно было догадаться, куда заведет дальше Клыбика странная эта портфельная логика: еще ждало его где-то место лесника ли, грибовара ли. И было ясно, что, женившись на Марине, как бы прихватил себе Клыбик очередной портфельчик.
И сызнова возникало перед Василем все отобранное памятью, передуманное неоднократно.
Самое необъяснимое начиналось с одного вечера, с одной вечеринки — такой же, как и та, когда впервые он танцевал с Мариной. И опять же было весело в тот вечер: как-то сразу приехало на побывку в деревню трое, и среди них — Надя, та самая, с которой Василь учился прежде в школе. Кажется, в то лето была у нее практика, и она ненадолго перед самыми занятиями заглянула в деревню. Они виделись с Василем почти каждый год, но, наверное, потому, что бывших одноклассников в деревне осталось мало, эти встречи для обоих были всегда радостными, — им вдвоем хорошо было перебирать в памяти нить самых давних и веселых воспоминаний. Вот и спрашивали друг у друга: как, что, когда и почему? — вспоминали, как ходили в школу за шесть километров в соседнюю деревню, как однажды весной искали в лесу сон-траву и опоздали на уроки.
А Василь думал про Марину, думал даже тогда, когда Андрейчиков Федор, тот самый, что выпросил у Василя флотскую фуражку, приказал гармонисту играть фокстрот (мол, есть тут люди из города — понимать надо!) и когда Надя взялась учить Василя этому танцу. А потом они еще стояли и говорили, и Василь снова думал о Марине, о том, что при людях он стесняется говорить с ней так, как с Надей.
И тогда же неожиданно подошел к ним Клыбик и отозвал Василя в сторону. Не кольнуло его в сердце тогда, не вздрогнул он от недоброго предчувствия, а невольно пришла догадка: вот сейчас попросит постучать в бубен, потому что Василь был в этом деле не последний мастер.
— Слушай, — сказал Клыбик, и Василь заранее усмехнулся. — Слушай, ты будешь… провожать сегодня Марину?
Он переспросил: «А что?» — и ему сразу стало неловко, он подумал, что все уже знают про него и про Марину.
— Видишь, если ты надумал, то я…
— А что?
— Да у меня, знаешь, дело есть по школе, поговорить надо…
О, был он хитер, этот Клыбик! И почему он не осек тогда Клыбика, не заперечил: нашел время говорить о школьных делах, поговорил бы днем! А он растерялся почему-то, застеснялся чего-то — и потому желанен был Клыбику его ответ. И как простить себе это, и как забыться? Но ведь и Марина… Неужели не понимала она ничего и неужели не любила его!
О, был он хитер, этот Клыбик, потому что назавтра же пришел на вечеринку с Мариной, завернув по пути к ней. Об этом сказал Василю Андрейчиков Федор. И уже тогда, как бы в отместку Марине, Василь провожал Надю домой и раз и второй…
И вот сиди теперь и слушай, как бубнит о своем Клыбик:
— Эха-ха! В такую жару под навесом лежать, а тут дрова… Нашел директор дураков. Пускай попробует нанять колхозников, но кто ему за такие гроши станет работать.
Он разомлел после сна и, наверное, говорил так долго лишь потому, что не хотелось ему снова браться за, пилу, стоять на коленях, подрезая дерево, носить на плечах готовые кругляши.
— А ты, значит, все молчишь да думаешь. А ты не думай, возьми и женись, — как бы шутит Клыбик. — У Ганны вон какая девка растет — здоровая, крепкая. И батька у нее как дуб здоров; женишься — поставит хату зятю. А самое главное, чтобы женка была здоровая да работать умела. Моя вон сроду серпа в руках не держала, так, думаешь, хорошо? Одна польза, что деньги зарабатывает…
— Так ты, может, и хотел этого…
— Может, я хотел, а может, люди, — загадочно усмехнулся Клыбик и поглядел на Василя. — Здесь и ты мне немного помог…
— Как же это? — пересиливая любопытство, словно безразлично, спросил Василь.
— А вот так, что хитрость всюду нужна, даже когда к девчине ходишь… Гляжу я на тебя, чудак ты какой-то… А что: от зимы сало у вас или еще после кабанчика придавили? К сенокосу берегли, говоришь? А по-моему, лучше, если каждый день шкварка.
— Так как же я тебе помог, и… к чему здесь сало?
— А все к тому. Если хочешь, слушай. Помнишь тот вечер, когда я хотел поговорить с Мариной? Я, конечно, выдумал тогда, но, правду сказать, думал, что ты откажешь. А потом вижу… Ты же что-то долго с Надей говорил тогда, помнишь? Ну, я и сказал после Марине, что это ты меня попросил ее проводить, выручить как бы… И все такое.
— Ты… ты сказал так? И она поверила?
— Ну, не сразу, понятно, — помялся Клыбик. — Ты же, говорю, сам помог мне в этом. Надю же провожал…
Значит, все было так глупо и просто…
«Что же, говори, Клыбик, говори… А может, ты думаешь, что мне больно это, и жалеешь меня? Просто я никогда не думал, что может такая страшная пустота быть в сердце и такое болезненное бездумье может заполнить голову… А вот почему-то растет, утоньшается стволами и медленно поднимается вверх стена безмолвного леса… Нет, это лишь показалось. Шумят, как обычно, сосны… А вот теперь я нахожу свои руки. Может, забыл ты об этом, может, думаешь ты, что они ради того лишь, чтобы тягать пилу?»
И он поднялся.
— Подлец! Портфельная твоя душа!.. И ты… такое!
Подобрал под себя ноги и весь подался назад Клыбик, — растерянное, побелевшее лицо; рука невольно сгребает хвоинки…
Словно упал на гладкую воду камень и сильно и шумно взлетели кверху брызги. Пошли круги по воде, слабея, достигли берега… И вот медленно всплывал в памяти посеребренный луною тополь, а вот как будто склонилась Марина к Василю, и такой яркий за улицей выгон в молодом и ядреном блеске. И словно бы Василь говорит: «Слушай свое сердце, Марина, оно у тебя доброе, слушай, и оно тебя не подведет!» И затем: «А я! Почему же, если верил себе, не верил Марине и почему отступил? Отдал Марину гаду этому, Клыбику».
И захотелось бежать — от себя, от Клыбика, от всего. Бежать, как однажды в детстве, когда заблудился в лесу и, подгоняемый недетской какой-то тоской, все бежал и бежал по незнакомой дороге, глотая слезы…
— Пошли, — сказал он глухо и поднял пилу. — Работник!
Береза стояла на краю поляны, высокая, ровная, и когда впился в нее топор, вздрогнул сразу звонкий ствол от шершавого комля до зеленых листьев — и вся береза стала как шумная тучка трепетных зеленых мотыльков. А потом медленно клонилась она и, пока падала в невеселом своем кружении, привела с собою серый летний день с леностным дождиком, запах влажной земли и огуречника. Шла Марина от Савкиных ворот — и болтался и бил по загорелой ноге с налипшей к ней травинкой порванный ремешок туфельки… И почему не остановил он ее тогда, почему не объяснил?
Они подрезали деревья еще и еще, и то, с каким упорством они водили пилу, напоминало трудный, но затаенный поединок. И когда Василь, склонившись, встречал время от времени взгляд Клыбика, он знал, что теперь ненавидит этого человека с брезгливостью, ненавидит за двоих: и за себя, и за нее, Марину.
И теперь не опасался он уже, что между ними стоял Клыбик.
ЧТО БУДЕТ СНИТЬСЯ (Перевод Эд. Корпачева)
Однажды ночью ему приснилась она. Проснувшись, он все удивлялся странному этому сну, потому что никогда не думал о ней, да и не было повода думать. Когда-то, лет десять тому, была случайная дорожная встреча, и он уже не помнил имени ее, а может, даже и в те годы не знал имени. Застенчив он был и неловок, деревенский парень, впервые выбравшийся в большой свет из своей глуши. Лишь только кончил десятилетку, завербовался с двумя парнями постарше на лесоразработки, и было ему восемнадцать годков.
И вот, еще словно бы во сне, вспоминал он теперь все прежнее, давнее: и свою застенчивость, и как страдал от этой застенчивости всегда, и поверхностные, несправедливые мысли о людях, смешную свою задиристость вспоминал, жажду твердых и мужественных поступков, романтику одиночества и — сладкое, тревожное замирание сердца в ожидании неизведанной жизни. Ах, молодость, молодость, наивная, смешная, невозвратная молодость!
Поднявшись и стараясь ступать неслышно, чтобы не разбудить жену и дочь, он пошел в коридор, но все же зацепился ногой за тумбочку и, стаившись, зажмурившись, некоторое время стоял в тугой напряженной тишине.
Ни жена, ни дочь не проснулись, и он с облегчением достал в коридоре из кармана пальто сигареты, пробрался на кухню и сел в неприятно нахолодавшее, как ему показалось после сна, кресло. Подобрал под себя ноги, закурил, и сигаретный дым показался ему таким вкусным, приятно-острым, и он с какой-то радостью ждал того мгновения, когда у него слегка закружится голова, как бывало всегда, если долго не курил.
А за окном была мутноватая зимняя ночь, и неожиданно он подумал, что скоро, пожалуй, шесть часов, то время, в которое он всегда поднимался еще три года назад, когда ходил на завод и учился в институте, и вот теперь, вспомнив об этом, пожалел, что прошла та пора, что теперь он ходит в конструкторское бюро и потому встает позже и не видит утренней толпы у трамвайных остановок, у заводских ворот, не слышит, как сиплыми со сна голосами переговариваются люди, не видит, как в сутеми раздувает ветер искристые цигарки, не чувствует той особой слитности с городом, с людьми, которую всегда чувствовал в толпе рабочего люда.
Но вот странно: откуда приснилась она, отчего этот сон?
И опять вернулись мысли к тому времени, когда он был совсем юн, восемнадцать годков ему стукнуло. Но он уже считал себя взрослым, не таился курить при отце, стал ходить на вечеринки, где, сидя рядом с гармонистом и лихо колотя по бубну, мог командовать девчатам и парням в круг, заслуженно ожидая веселого смеха:
— Вальс впритирочку!
И на девчат он сам уже заглядывался и, как только кончался танец, бежал в сенцы и, став при дверях вместе с другими хлопцами, кричал девчатам задиристые, острые, как ему казалось тогда, слова, и приятно было ему, если девчата задевали его, отбивались от него руками и притворно пищали.
Приезжали с шахт на побывку парни, одетые по-городскому, заносчивые, и он завидовал им, той жизни, к которой они, наведавшись в деревню, возвращались. Особенно нравился ему среди других Тимошихин Ленька, смуглый, гладкий с лица, с длинными волосами, в которых всегда торчал отобранный у какой-нибудь девушки гребешок. Танцевал он как-то безразлично, с леностью, щуря один глаз и не глядя на ту, чья рука лежала на его плече. Хлопцев он угощал папиросами, с каким-то изяществом цыркал слюной сквозь зубы и напевал для себя немного жалобную, немного отчаянную песню:
Не плачь, не плачь ты, мать моя родная, Что без путя скитается твой сын…«А так ли давно это было? — думал он теперь. — Десять — двенадцать лет — много ли это? Но… если оглянуться и просмотреть все… много. За это время кончил институт, женился…»
Ему захотелось попить, он встал и напился, не разыскивая стакана, просто из-под крана, и подумал, что опять бы пожурила жена, если бы увидела. Она пыталась отучить от этой неблагородной, как она говорила, привычки, такой же неблагородной, как и та, когда он после чая пил сырую воду. Что ж, плохих привычек у него было много, и жена настойчиво и не без успеха искореняла их.
Он закрутил кран и поморщился: вода была тепловатой, — надо было спустить ее и дождаться холодной, но он боялся наделать шуму и, подумав об этом опасении своем, разозлился на себя, на то, что, направляясь сюда, на кухню, зацепил ногой тумбочку. А все из-за жены, потому что навезла в квартиру разных подставок, тумбочек, сервантов и подсервантников, вазочек, розеток и кувшинов — негде повернуться, не то что ступить. Он вспомнил, как собирал деньги на мотоцикл, как договаривались с женой, что на мотоцикле, если купят его, отвезут дочь летом в деревню к его родным, а сами поедут назад каким-нибудь интересным маршрутом, и чтобы ехать не более пятидесяти километров в день, чтобы ночевать в деревеньках и в тихих районных гостиницах, в стогу сена и в палатке на берегу какой-нибудь безымянной речки. Так заманчиво думалось тогда, а потом жена присмотрела где-то «абсолютно современную» мебель, стала уговаривать купить, потому что, если упустить такой случай, будешь после кусать себе локти, и он согласился наконец, — и вот пропади она пропадом теперь, эта великолепная мебель, — плакали его денежки, а вместе с ними и тихие районные гостиницы, и ночлеги в стогу сена, в палатке…
«Десять лет, — думал он, — в большой и маленький срок».
Десять лет назад, впервые покинув деревню, он увидел ее. Как он понимал теперь, ничего особенного в ней не было: обыкновенная зеленая девчушка с наивно торчащим тонким носиком, с такими же наивными припухшими губами. Правда, была удивительная мягкость во взгляде молодых открытых очей. Но как же он стеснялся ее, каким неуклюжим, грубым чувствовал себя рядом с ней! Наверное, была она городская, умела себя держать: и разговаривала, и расхаживала, и смеялась уверенно, легко, словно на всем свете была лишь она одна и никто во всем свете не мог ее упрекнуть в чем-то.
Ехали они в одном купе; он занял верхнюю полку, забросив туда свой чемодан, она же была на нижней, и когда настало время укладываться спать, он стеснялся при ней лезть на свою высокую лежанку. Еще он размышлял, что надо бы снять с полки, поставить куда-нибудь чемодан, чтоб не мешал спать, но был не в силах сделать этого, пока она сама не заставила его достать чемодан и поставить рядом со своим в удобный отсек. «Нижнюю полку, — сказала она, — можно поднять, вот так, смотрите, все делается просто».
Он боялся заговорить с нею первый, и его сердило, что те, кто ехал с ними, не замечали и не понимали, что она была она, — смело вступали с нею в разговор, шутили, а она (тоже нашла кому!) охотно отзывалась — то всерьез, то в шутку. Наутро, когда остановился поезд, они бегали перекусить в станционный буфет, и он снова стеснялся ее, стеснялся есть при ней, — и так уже было все время, пока ехали в большой северный город. В том городе их посадили на теплоходик и повезли по реке, и он почти всю ночь не спал, думал, как бы поскорей заработать большие деньги, купить себе костюм, вставить золотой зуб, такой, как у Тимошихиного Леньки, и, может быть, жениться на ней. А утром, когда их высаживали на берег, он искал ее в толпе, но все напрасно: она со своей группой, наверное, сошла на берег раньше…
За окном была все та же мутноватая зимняя ночь, а он сидел впотьмах, курил, думал о том, что бы такое ответил он, если бы вдруг на кухню пришла жена и спросила, чего ради сидит он здесь полуночником?..
СВЕТ ИВАНОВИЧ, БЫВШИЙ ДОНЖУАН (Перевод Эд. Корпачева)
В телефонной будке их было двое, и я ненавидел обоих. Я стоял и ждал. Они не обращали на меня ровно никакого внимания. В этот вечер я ненавидел всех, кому было семнадцать — двадцать лет, не больше. Должно быть, это была все-таки пустая затея — звонить. И то, что я стоял возле будки, за дверью которой орали в трубку какие-то желторотые сопляки в неестественно белых сорочках с расстегнутым воротом, в наутюженных узких брюках, с аккуратно подстриженными, такими самоуверенными затылками, — еще больше бесило меня.
— Эй вы, — сказал наконец я, грохнув в стекло будки кулаком, — давай закругляться! Дошло?
Ноль внимания. Чернявому, щуплому, с таким завидным рубильником, что хоть одолжи, вообще не было до меня дела. Второй — белобрысый, длинный, что стоял ближе ко мне, прислонившись плечом к стеклу будки, — лишь неохотно повел взглядом, вынул изо рта сигарету и, цыркнув слюной себе под ноги, напустил на лицо притворно-внимательное, дурашливое выражение. Белобрысый удивлялся и недоумевал. До него явно не доходило. Он даже не поглядел на меня. Очень хотелось заехать ему по юной морде, но я решил стерпеть. Зачем ты злоупотребляешь терпением моим, о Катилина?
— Слушай, Люсь! Обеспечь, чтобы маман не поднимала шухер. У меня пластиночки — класс!.. Ну да — законно. Гуд бай! Леньке трубку не давать? Бу-сделано!.. Салют! Когда я смогу принести свои бренные останки?
Теперь уже я решился: раз! два! три! — три, с оттяжкой, удара в стекло будки. И взгляд — нет, человеку такого взгляда не выдержать.
Они что-то поняли. Белобрысый дернул плечами и глянул на чернявого. Тот вешал трубку. Они сматывались. Распрямляли спины в будке, и оба, как по команде, принимали независимый вид. Я, не отрывая взгляда, смотрел на них. Уже на тротуаре белобрысый оглянулся и пропел:
…А пока наоборот: только черному коту и не везет.Эх, сопляки, сопляки, — право же, я таким не был в свои семнадцать лет. Где-то только на третьем курсе я отпустил длинные волосы — тогда это входило в моду. И поднял воротник куртки, — тоже, кажется, считалось хорошим тоном.
Тогда катастрофически, на глазах, сужались у парней брюки, зато так просторно было плечам под широченными пиджаками. Правда, это уже меня не касалось. Длинные волосы — ладно. И поднятый воротник — шут с ним. А вообще-то я читал тогда французские романы. Эмиль Блонде, Люсьен Рюбампре… Галантный век, остроумие! И скепсис. «Утраченные иллюзии». Портрет «отца всех народов» пылился в комендантском шкафу — кладовке. «Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок». Не было более сладостного искушения, чем печаль. Многострадальные герои романов к эпилогу сходились на ласковый огонь камина. За опущенными шторами выл холодный осенний ветер. Камин был наградой за долготерпение. Платой за минувшую неустроенность и невзгоды. И кто-то должен был первым сказать: «А помнишь?..» И больше — ничего. Огонь в камине горел ласково и ровно, над ним не властен был осенний ветер, злобно шаставший за окном…
Ах, я заблуждался, как я тогда заблуждался, но, честное слово, я не был самоуверенным, пошлым пижоном!
Наверное, больше всего меня злило, что такие вот желторотики как эти, могли позвонить ей. «Слушай, Лорик, мы сейчас завалимся к тебе с Эдиком. Тосты, конечно, наши, твой выпивон. Поздравляем — это законно. Ты теперь уже старуха — девятнадцать, как пить дать. Держи, старуха, хвост пистолетом». И хуже всего было то, что тут я ничего не мог поделать. Я чувствовал себя беспомощным, как слепой котенок. Нищий у чужого порога. Мои тридцать лет тяжкой ношей легли на плечи. Нищенская сума — лишние десять лет. Я мог бы сидеть у нее вместе со всеми, но вот должен почему-то звонить. Зачем? Меня пригласят снова. И снова я откажусь. И она обидится, особенно сейчас, когда гости уже в сборе. И назло мне будет танцевать весь вечер с каким-нибудь Эдиком. «Ты просто дурак, — сказал я себе, — тебе нужно быть там. И сидеть за столом. Этаким мудрым богом среди легкомысленных сатиров. И оберегать юную нимфу. Ты лучше их. На целых десять лет».
В телефонной будке удушливо пахло нагретой за день краской. Автомат глухо огрызнулся, проглатывая монетку. Трубка, аляповато прикованная к аппарату стальной цепью, была безразлично тепла. Я нажал кнопку — автомат подключился сам. С гулом разбилась тишина, и потом страшная, неумолимо безголосая распахнулась пустота. Еще немного погодя шорох и голос:
— Вера Федоровна у телефона. Кто говорит?
Какой молодой, высокий голос; неужто мать?
— Мне нужна Лариса. Позовите, пожалуйста, Ларису.
Я слышал какой-то шорох, голоса, обрывки музыки. Радиола или телевизор? Мне почему-то хотелось, чтобы телевизор.
— Вы должны были прийти к нам на вечер? Вы опоздали?
Какой молодой, уверенный, твердый голос! Лариса говорила, что мать курит. Выходит, враки, что у женщин от курения грубеет голос.
— Нет, я не опоздал. Я не знал, что у вас вечер… Лариса дома?
— Она пошла с девочками в магазин. За мороженым. Послали ребят, а их почему-то долго нет. Они скоро вернутся… Что ей передать?
— Ничего. Я, может быть, позвоню попозже.
Я лгал. У нее хватило догадливости не расспрашивать, кто звонит. Хотя она все равно не знала меня. Я видел ее как-то случайно в городе. Она была с Ларисой. Высокая, круглый подбородок, поджатые губы и, кажется, строгий взгляд. И вместе с тем какая-то детская растерянность, что-то такое, что почти вызывало жалость. Отец, говорила Лариса, ее ревновал. «Лариса, скажи матери, чтоб смотрела в свою тарелку». Это однажды в гостях.
— Всего хорошего, — сказал я и неожиданно добавил: — Вера Федоровна. — Получилось как-то игриво и даже не без нежности. Нет, нужно вешать трубку. Все.
— А может, я все же передам Ларисе, что…
Я повесил трубку.
Я вышел на тротуар. У меня почему-то слегка кружилась голова. Я будто всплывал на поверхность из-под воды. Меня, покачиваясь, встречала улица: дома, люди, деревья становились на свои места, обретая неизбежную, строгую определенность. Я стоял, раздумывая, что делать дальше. В голове лениво ворочалось что-то вроде: «Эх, Женька, Женька, свет Иванович! Морально устойчивого холостяка из тебя не вышло — придется снова переквалифицироваться в донжуана».
Ничего не оставалось, как идти домой.
Начинало темнеть, и улица становилась переменчивой — от света фонарей, от зыбких теней, от странной молчаливости троллейбусов, за синими стеклами которых как-то замедленно, бездумно двигались люди, беззвучно смеялись, смотрели незряче. До слуха долетали отголоски разговоров, шелест листвы, повевало прохладой, а потом до дурноты томно и сладко пахло еще не остывшим асфальтом, духами, пылью, оброненным кем-то под ноги мороженым. Фонари горели обреченно-ровно, будто сами не верили в свой свет, и листва лип под ними была неприятно зеленой, холодно-яркой, и так же холодно переливалось на западе над городом настороженно-желтое, фиолетовое, сиреневое небо.
Было сиротливо и холодно на душе. Я перешел на ту сторону, где было меньше людей и магазинных витрин, и огни фонарей под невеселой полуаркой темных лип повели меня домой, к пустой квартире, которая не сулила ничего, кроме одиночества, и дважды я задерживался у людных троллейбусных остановок, просто чтобы покурить, и снова брел, и где-то возле «Гастронома» догнал двоих желторотиков, кативших перед собой банку из-под консервов, как футбольный мяч. И снова все во мне содрогнулось от холодной злости. Я знал, что это глупая, пустая злость, что никто не виноват и никто не поможет мне, и все равно злился, и дерзко смотрел встречным в глаза, словно знал за каждым самый тяжкий из тяжких грехов.
Две пары шли впереди меня. Один — долговязый, сутулый, с высоко подстриженной, вытянутой головой, заложив руки за спину, скучал рядом с бойкой девчушкой; второй — цыгановатый, кудрявый, с сухой загорелой шеей, на которой темным пятном выделялась впадинка, без устали острил, глупо хохотал и время от времени, словно невзначай, клал руку на талию своей рослой рыжеватой подружки, на переливчатое платье из тафты, а та лениво поворачивалась через плечо и била его по руке, а он смеялся и клал руку уже на плечо и спрашивал: «А так можно?» — и снова хохотал. Ах, какая это была идиллия, черт возьми, — я видел все насквозь, я видел их, когда они останутся вдвоем, и, право, я отдал бы им мою пустую квартиру — этой девушке и этому нахальному парню, только пусть бы он был нахальным до конца.
На углу улицы я свернул налево — они пошли дальше. Моя улица сбегала вниз, к парку, и тут было укромнее, темнее — бледно светились неоновые лампы. Я был дома. Шагнул в тень арки ворот и под ее высокими сводами протопал во двор, зашел в подъезд и поднялся к лифту. Какое-то безразличие овладело мною. Злость улетучилась. Я ничего не хотел. Корабль причалил к берегу, и теперь его борта лениво окатывали волны. Меня убаюкивало одиночество. Я вошел в лифт-и вяло нажал кнопку. Погас и снова вспыхнул свет. Лифт плыл вверх, и я был один. Я закурил. Я не знал, часто ли бывает с человеком такое. Особенно если он очень старательно воспитывал себя в детстве. Если стремился все понять. И очень мало действовал. И потому не достиг в жизни ничего. Да в конце концов это ерунда — достигнуть. Меня это никогда и не прельщало. Я хотел другого. На одной речонке я видел однажды рыболова. Казалось, он делал то же, что и я: томился с удочкой на берегу в ожидании поклевки. Разница была только в том, что у него ловилась рыба, а у меня нет. Это трудно было понять. Рыба сама шла к нему. На нем был старый выцветший плащ, на голове — невзрачная кепчонка, на ногах брезентовые туфли. Палило солнце, а ему вовсе не было жарко. Я подвернул брюки, чтобы не намочить, а для него словно бы и не существовало воды, словно река была не река, а зеркальный паркет. Брезентовые туфли совсем сухие. Из плетеной корзинки, обернутой тряпкой, он доставал вареную картошку, осторожно разрезал ее, заслонив ладонью, на маленькие кусочки и, будто благословляя реку, таинственным жестом рассыпал эти кусочки у берега. Потом, поджав под себя ноги, замирал на камне, выступавшем возле берега из воды, и ждал. Как я ни следил за ним, не мог устеречь того момента, когда у него начинался клев, — я видел только рыбу, трепещущую уже у него в руке.
Я ничего не понимал. А когда понял, мне стало ясно, что главное не в том, чтобы достигнуть, не в результате, который просто-напросто результат, если рассматривать его отвлеченно. Все дело в соответствии этому результату нас самих. В соответствии цели и результата. Обыкновенный подлещик для того рыболова был обыкновенным подлещиком, но, затрепетав на ладони, он мог стать и золотой рыбкой. Однако прежде всего он был подлещиком. Удачи не было — была награда за терпеливость. И эта терпеливость не принижала человека, как не принижали ни старый порыжелый плащ, ни потертая кепчонка, ни брезентовые туфли. Главным был вначале не результат, а полнота предчувствия его. Я торопился, нервничал, я думал про событие, про результат и не замечал, как мой внутренний голос глох, как удача начинала казаться чудом, а подлещик — недосягаемой золотой рыбкой. Но не было ни подлещика, ни золотой рыбки.
Мне нужно, очень нужно учиться терпению.
Новую сигарету я закурил уже в квартире. На кухне. Я любил эту кухню, потому что здесь хозяйничала Мила. Чужая жена, мужняя жена, которая всегда старалась сделать так, чтоб я чувствовал себя в этой квартире своим, а не просто чужаком-квартирантом. Кухня была тем местом, где разворачивались во всю ширь недюжинные Милины способности. Кухня была эмблемой квартиры, даже, если хотите, ее душой. И Мила была идеальной женой. Мужу с такой женой никогда не знать проблемы кухни — в прямом и переносном смысле. Он может привести в дом хоть сотню приятелей, и все они будут накормлены, и у него — если только он не тупица и не бурбон — никогда не повернется язык сказать, что у жены мал образовательный ценз, и что между высокими интеллектуальными сферами и кухней лежит бездонная пропасть, и что ему в итоге, как воздуха, не хватает высокоинтеллектуальных бесед. Впрочем, обсуждать с Милой цены на продукты мне было куда интереснее, чем говорить о кибернетике с ее кандидатом-мужем.
Я сидел за столом на кухне, и взгляд мой невзначай упал на развернутую полоску телеграммы, полученной третьего дня, — я взял ее и еще раз прочел: «Почему не пишешь что случилось. Станислав Мила». Помню, в тот день меня покоробило от этого фамильярного «Станислав» — мы никогда не называли друг друга по имени, без отчества. Мила — другое дело: с нею мы были на «вы», но зато, слава богу, не пошли на эту комедию с «Людмилой Петровной» и «Евгением Ивановичем». И еще мне показалось, будто телеграмму нужно читать иначе, скажем, так: «Как поживают рыбы в аквариуме? Исполняешь ли ты мой наказ?» «Черта с два! — подумал я. — У меня еще сварит котелок, чтобы не кормить рыб сырым, мелко покрошенным мясом, как наказывала ваша милость. Ты бы там, под южным солнцем, отощал на шесть лишних кило, если бы узнал, что я не замедлил найти дорогу в магазин „Природа“ и перевел твоих рыбок на разгрузочную государственную диету. Салют, Станислав Батькович, утешьтесь приятными новостями».
Я держал листок в руках, пытаясь представить себе, как была послана телеграмма. Глупец, почему мне сразу не пришло в голову, что телеграмму послала Мила? Ну, разумеется, она, и нарочно поставила имя Станислава Батьковича первым, и показала телеграмму ему, и убедила, как она это умеет, что им никак нельзя без такой телеграммы и что это будет приятно мне, одинокому, бедному, несчастному холостяку, и, может быть, Станислав Батькович расчувствовался и даже счел всю историю с телеграммой величайшим актом человеколюбия.
Эх, Мила, Мила, славная Мила, мужняя жена! Только сейчас я по-настоящему почувствовал, как не хватает мне ее, в сущности, может быть, единственной женщины, которая была нужна мне и которой нужен я, но об этом уже мы, верно, не скажем друг другу. Хватит и того, что мы это знаем. Пусть это остается с нами как возможность, которая не может осуществиться.
Я любил Милу в эту минуту, я даже слышал, как билось мое сердце, мне захотелось, чтобы где-то там, в доме отдыха, она думала сейчас обо мне, и я верил, что могу сквозь ночь, расстояние заставить ее думать обо мне. Я проверю это, когда она вернется, как-нибудь осторожно спрошу. А может, бросить все музейные дела без предупреждения инстанции, раздобыть деньжат да махнуть на юг на денек-другой? А потом писать директору музеума объяснительную записку, каяться в легкомыслии — потерять свои восемьдесят рублей и место младшего научного сотрудника! — доказывать, что у меня не было намерения оскорбить дружный музейный коллектив и что прилежной работой в будущем я постараюсь вернуть прежнее уважение этого коллектива. Эх!..
Кажется, звонит телефон.
Я встал из-за стола, неторопливо направился в прихожую и, когда уже снимал трубку, догадался, что это, возможно, звонит Лариса, но почему-то не обрадовался, и это было что-то новое, и я мысленно похвалил себя: даже приятно от уверенности, что сейчас, разговаривая с Ларисой, я обязательно найду нужные слова, чтобы, не оскорбляя ее, сказать то, что могу и должен сказать я, мужчина, девятнадцатилетней девчонке в такую вот минуту. Но трубка была безмолвна, я слышал только, как в ней тяжело колыхалась тишина. Ожидать дольше было бессмысленно, и я сказал:
— Алло! Алло!
И снова молчала трубка, и я услыхал, как на другом конце провода кто-то часто, неприятно коротко дышал, — черт знает какой дурак смеялся надо мной!
— Это ты, Лариса? Отдышись. Я слушаю…
Кто-то поспешно, очень поспешно положил трубку.
Мистика, чистой воды мистика — не может быть, чтобы это Лариса. В конце концов почему она должна звонить? Очевидно, я преувеличиваю, думая, что что-то значу для нее. Десять лет — довольно высокая стена, и ей, Ларисе, нужно тянуться на цыпочках, чтобы подать мне через нее руку. А зачем ей тянуться на цыпочках? Чтобы показать меня своей компании и своим старикам? Но ведь я решил уже, что мне там нечего делать. А может, это ошибка, может, нужно было иначе? Заявиться, как подобает научному сотруднику, даже если он и младший (эту мелочь в разговоре осторожно обойти), — энергично пожать Ларисиному отцу руку и, твердо поглядев в глаза, назвать себя. Потом обаятельно улыбнуться и пошутить:
— Предупреждаю, Ферапонт Дормидонтович, следующий тост после вас — за мной. Я даже могу взять на себя роль тамады, если, конечно, вы не возражаете.
Ферапонт Дормидонтович — фи! Как бы он посмотрел на меня, назови я его так? Он подумал бы, что я спятил. Но погодите!.. По праву взрослого мужчины я целую у Ларисиной мамы руку (почему бы не поцеловать!). Вера Федоровна приятно удивлена и украдкой вытирает слезу. Ага! Ба, какие незнакомые все лица! «Ну что ты, — приходит на помощь Лариса, — вот это Валик, помнишь, я тебе говорила, что он… А это вот Валерка; он умеет шевелить ушами… Валерка, покажи!..» Идиллия! Юноши обступают меня и спрашивают, какие я курю сигареты.
Признаться, страшило меня не это. Может быть, больше всего боялся я убедиться, что Лариса — всего-навсего моя выдумка, мираж. Чего я хотел от Ларисы? Быть может, я даже думал, что в ней мое спасение. Молодость, искренность, непосредственность, чистота. Что с ее помощью все это верну себе и я. И я обновлюсь рядом с нею. (Какой холодновато-чистый, строгий у нее взгляд и какие чуткие, изящные руки — когда идет, она держит их немного перед собой, — чуткие руки с небрежно закатанными рукавами летнего плаща.) Я отряхну со своего опыта всю горечь, а лучший мой опыт передастся ей, и она станет такой, каким хотел, но не стал когда-то я. И может быть, я сумею сделать так, что она поймет меня. И тогда…
Кажется, снова звонит телефон… Я решил, что подожду, пока тот, кто на проводе, даст третий звонок. И если будет четвертый — сниму трубку. Вот и четвертый…
— Алё! Если вы хотите что-то сказать, торопитесь — я слушаю.
И снова отчетливо услыхал чье-то дыхание, и хотел уже разозлиться и выругаться в трубку, но что-то подсказало мне, что нужно повременить.
— Спешите, в вашем распоряжении десять секунд.
— Это я, Леня, — проговорил вдруг кто-то в трубку, — а вы… дядя?
Черт знает что! Да еще какой-то детский голос.
— Леня? Какой Леня?.. Скажи мне, пожалуйста, Леня, что тебе нужно и где ты взял мой телефон?
— А вы хороший дядя и ругаться не будете? Не будете, а?
Отличная возможность похвалить самого себя.
— Хороший я дядя или плохой, не знаю, но ругаться не буду. Ну давай…
— Мне, дядя, скучно, и я сам выдумал ваш телефон. Сидел, сидел и выдумал. И еще телефоны выдумал, да они не хотели говорить, только пипикали, и я их забыл. А ваш я самый первый выдумал…
— Ты хороший мальчик, Леня. Сколько тебе лет?
— Я уже большой, дядя, осенью в школу пойду. Мне только не хватает двух месяцев. Но папа и мама говорят, что все равно в школу возьмут. Правда, дядя, возьмут?
— Как тебе сказать, Леня… По-моему, должны взять… А ты что — один дома?
— Папа с мамой на даче. И я там был и наша Лилька. Я, дядя, там ногу занозил. Ух как больно было!
— Ты хороший мальчик, Леня. Я знаю, ты терпел…
— Я даже не плакал, дядя. Нога у меня ночью болела знаете как: дерг! дерг! дерг! И горячая была. Я ночью встал и на другой ноге поскакал на кухню напиться. А мама проснулась и на руках отнесла меня в постель. Мама все думает, что я маленький…
— Нет, ты взрослый, раз умеешь терпеть.
— А Лилька наша еще больше взрослая, дядя. Она в техникуме учится. Только она девчонка, и мама говорит, что ей рано взрослой быть Лилька хотела идти в водный поход, а мама не пустила. Лилька плакала и хотела с дачи убежать.
— Ну, брат, плохи ее дела… А где она сейчас?
— Вам я могу сказать, дядя. Мне с ней прямо беда. К нам завтра дядя Вася приезжает, ну, папин брат. А мы с Лилькой пойдем его встречать. Дядя Вася не знает, где наша дача… А Лилька хитрая: оставила меня дома одного, а сама с Толиком Сотниковым удрала в кино. Мама говорит, что этот Толик плохой мальчик. Когда его мама в больнице лежала, так он к себе плохих мальчишек водил, и они пили вино и курили. А потом Толик ключ от квартиры потерял и через окно домой лазил. Мама говорит, чтоб Лилька не водилась с ним. А Лилька вот не слушается. Буду терпеть, терпеть, а потом маме все и расскажу…
— Оно-то правильно, дружище, да ведь ты, верно, те конфеты, что тебе купила Лилька, чтоб молчал про кино, давно съел. Съел, а?
— И совсем не конфеты, дядя, а зефир. Она только обещала, что конфеты купит, а купила зефир. Нужен он мне. Лилька его сама съела.
— Ну, брат, тут нужно подумать, как быть. По-моему, раз ты взрослый мальчик, так можешь и без Лильки время провести. Плакать ты не умеешь, а конфеты… Да что конфеты! Я их вот уже десять лет не ем. Есть конфеты — только зубы портить. Главное, брат, не скучать. По-моему, так.
— Я не буду, дядя, — сказал он. — Как Лилька придет, я вам позвоню. Позвонить, дядя?
— Знаешь что, — сказал я, — ложись-ка ты лучше спать. Я сам вот посижу немного, подумаю и тоже лягу. Я тоже, брат, один дома. Куда нам с тобой угнаться за Лильками…
Наверное, мне не нужно было так говорить. Я вдруг почувствовал, как он там, в далекой пустой квартире, не по-детски посерьезнел, притих. Зачем мне было так говорить? Меня выдал голос. Уж такая это отрава — взрослая тоска.
— Будем спать, Леня, — сказал я как можно веселее. — Спать, спать всем ребятам, спать, спать по палатам… Знаешь эту песенку? А то еще есть… Плакса, вакса, гуталин, ел, не съел горячий блин… Смешно, правда?
— Ага, — сказал он обрадованно. — Я буду спать, дядя. Спокойной ночи.
— Спокойной ночи.
Я положил трубку.
Разумеется, я и не думал спать, хотя и не знал, что бы сообразить такое, чтоб убить время. Пойти в кино? Купить два билета, продать один какой-нибудь любительнице поздних сеансов, если найдется такая, а то и просто пригласить с собой. Я когда-то так делал, в те времена, когда принципиально не хотел иметь девушки, которую на улице нужно было бы брать под руку, знакомить со своими друзьями, встречаться с нею чуть не каждый день, которой пришлось бы покупать цветы и мороженое и обязательно провожать домой, чтобы отстоять с нею свои полчаса в подъезде. Я не хотел тогда, чтобы кто-нибудь имел на меня права. Мне нужно было, чтобы я мог прийти к ней когда захочу и чтоб она не брала с меня слова, что я обязательно приду к ней еще и завтра. Тогда у меня все разладилось с Эммой, хотя она никогда и не спрашивала, приду ли я завтра. Я покупал ей мороженое и цветы, хотя мне вовсе не было необходимости простаивать с нею в подъезде, потому что мы тогда уже окончили институт и она работала и жила на частной квартире, в комнатушке с отдельным ходом. И я тогда уже работал, и случалось, мы утром шли на работу вместе, но все равно она никогда не просила, чтобы завтра мы тоже пошли на работу вместе.
Нет, сегодня в кино идти мне было не с руки: я давно чувствовал, что перерос все это. Оставался ресторан, и я представил себе на минуту широкий зал, залитый густо-золотистым, зыбким светом, сизые полосы дыма, стук ножей о металлические подносы, напряженную, темную отчужденность людей, занятых, по сути, одним и тем же, томно-долгие взгляды женщин, взмахи рук, гомон, дурманящий аромат кухни. Я шел по залу, выглядывая свободное место, подсознательно сторонясь компаний, в которых были женщины, и вот уже какие-то подвыпившие работяги махали мне руками, и это значило, что они недавно пришли сюда, уже изрядно где-то поддав перед этим, успев надоесть друг дружке, — иначе чего бы они так обрадовались свежему человеку? Я садился за стол, они наливали мне, и я пил, потому что отказываться было бессмысленно, а потом заказывал я, и начиналась обычная пьяная бестолковщина: жаркие рукопожатия, опрокинутый на скатерть фужер с пивом, настойчивые попытки установить контакты с соседним столом, обида на официантку, которая не хотела выпить с нами. Я все предвидел заранее, — ничего оригинального, самый банальный способ угробить вечер и завтра чувствовать себя как в воду опущенным.
Нет, и это сегодня не подходило мне.
Я закурил сигарету: она была туго набита и горела плохо. Мял ее в пальцах, пока не сплющилась и не стала ватной, но все равно курилась скверно, и во рту была от нее этакая сладко-противная горечь. Я раздавил сигарету в пепельнице и достал с полочки над столом пачку махорки, купленной на случай, если выйдут сигареты и поздно будет бежать в магазин. Сухой, горячий махорочный дым остро защекотал в носу, и как-то сразу прояснилось в голове, и неожиданно вспомнилась далекая осень, когда мы — еще первокурсники — ездили в колхоз копать картошку. Однажды был дождь, и мы промокли на поле, прибежали к хозяйке в хату и растопили печурку. Под окном ветер трепал грушу, унимался и снова начинался дождь, сидели на сложенных у стены хлева досках куры, а потом хозяйка вышла во двор и вылила в корыто ведро пойла и отворила ворота хлева. Закудахтали, послетали с досок и побежали, забавно переваливаясь, к корыту куры, выскочили из хлева двое поросят, и тот, что побольше, начал сразу шумно чавкать из корыта, время от времени грозно задирая лыч, а меньший все визжал, бегал вокруг и не знал, как подступиться к корыту. Собака вылезла из конуры и ходила по двору, бренча цепью и к чему-то прислушиваясь. А мы, сидя в хате, курили махорку, и, помню, так хорошо было у меня на душе, и такое четко очерченное было все во дворе, в огороде, и так необычно, по-взрослому веселил душу размашистый косой бег ветра за окном, в поле, над которым туманно, затейливо сновали разлохмаченные тучки, сбивались гуртом, темнели, распахивая вдруг в небе оконце необыкновенной густой синевы. Мне было семнадцать в ту осень, и был теперь здесь, в городе, пожалуй, один-единственный человек, с которым, захотев, я мог бы об этом поговорить. Эмма. Эмма тогда тоже была с нами в деревне, и я уже знал, что пойду сегодня к ней.
Я не противился себе, я даже подумал, что Эмме мог бы рассказать про Ларису, и она поняла бы меня легко, безбольно. Между нами было уже все, что только могло быть, и ничего больше не будет. Я знаю это. Мы разошлись без взаимных обид — между мужчиной и женщиной не часто бывает такое. Эмма — хорошая: я с радостью стал бы другом ее мужа, выйди она замуж, и мужа бы не тяготило наше знакомство. За меня она замуж никогда бы не вышла: есть много такого, в чем мы очень уж похожи друг на друга. И у Эммы хватает чутья, чтобы понять это.
На улице я взглянул на часы: было без пятнадцати одиннадцать. Вообще-то поздно. И у Эммы нет теперь комнатушки с отдельным ходом, она квартировала у каких-то пенсионеров, с которыми жили еще бездетные сын с женой. Это была оригинальная пара. Жена не признавала за собой никакого греха. Бездетным считался муж. Давний спор между заинтересованными лицами решался обычно остро: кто от кого уйдет? Уходила жена — был виноват муж, уходил муж — считалась побежденной жена. Словом, веселенькая история. Меня в этом тревожило одно: что Эмма, налюбовавшись на такую семейную идиллию, еще на несколько лет отложит замужество. Вообще меня начинает пугать ее безразличие к собственной судьбе, и не понимаю я, что держит ее на той квартире. Привычка? Пренебрежение к мелочам быта? Нечего сказать, счастье — чувствовать себя загнанной в угол. В буквальном смысле. Небольшая комнатенка с застекленной дверью в коридор, да еще обставленная по пенсионерскому вкусу. Сплавили туда все ненужные вещи. И выбросить ничего нельзя, чтобы купить свое. И теперь Эмма — сторож при складе домашнего музея. Заложница среди пропыленных, побитых молью диванчиков, гардин и пуфов с патриархальными помпончиками…
Шло такси, и я поднял руку.
Мы ехали окутанной сумраком улицей — на огни реклам, на карминовое мигание стоп-сигналов, и я видел, как машины впереди гнали перед собой в дрожащем полумраке синие, пугливые тени, и, несмотря на поздний час, еще время от времени было слышно, как в широкой судороге шума сжимался и снова расправлял плечи город. Я заметил какую-то женщину, которая шла наперерез нашей машине, нисколько не прибавляя шагу, и когда до нее оставалось всего с десяток метров, я догадался, что она ничего не видит-перед собой. Таксист затормозил, и женщина подняла голову, неестественно резко выпрямилась, а потом в растерянности приложила руку ко лбу. И силилась улыбнуться.
— Эй ты, графиня, — крикнул таксист, приоткрыв дверцу, — глаза твои где? Какой себя доставишь мужу?
И шумно захлопнул дверцу и почему-то повеселел. Нащупал рукой на щитке кнопку приемника — и полилась музыка, такие знакомые аккорды: будто над водой колыхался туман, а сквозь него все силилось и силилось пробиться солнце, и пробивалось наконец, медленно прогоняя сумерки, разливаясь печальным в своей неторопливой уверенности светом.
— «Полонез» Огинского, — сказал таксист. — Классная музыка.
Ах, Михал Клеофас, какая завидная у тебя судьба! Тебе придумали красоту, безукоризненные манеры, сладкую, хотя и несчастливую, любовь к какой-то изнеженной панночке, и вечера за клавесином, и еще один, последний вечер с нею, уже чужою женой накануне прощания с родиной. Вот и этот таксист, круглолицый мужчина, не старше сорока, с густыми светлыми волосами, с низко напущенным на щеку уголком бакенбард, — вот и этот таксист расхваливает и твой «Полонез», и «Танец маленьких лебедей», и еще что-то, ну, где поют: «Ах, зачем мы, горемычные, родились на этот свет?» Вот-вот, «Аскольдова могила». Он говорит, что теперь не пишут ни музыки, ни книг, как когда-то писали, что тогда писали для души, сидели себе в имениях и писали, и потому музыка была первый класс, а теперь он знает одного писателя, которому помогал доставать новые скаты, так тот писатель признался ему, что нужно ремонтировать «Москвич», а денег нет, и потому нужно поскорее садиться за новую книжку. И еще будто бы тот писатель подарил ему одну свою книжку, но он, таксист, читать ее не стал.
Он снисходителен, простоват и в то же время самоуверен, этот таксист.
Я понимаю: у него свой новенький дом где-то на окраине, и холодильник, и телевизор, и во дворе собака на цепи, и школьник-сын играет на каком-то инструменте, и жена, привезенная в свое время в город откуда-то из-под Плещениц, уже не спит ночами, думая, как бы устроить дочь в школу с английским языком обучения. А у меня нет пока ни собственного дома, ни «Москвича», — так почему бы мне не заступиться за современность? И я говорю ему, что нет, он ошибается, что и книжку того писателя нужно прочесть, и что искусство вообще принадлежит народу, и что, имея телевизор, можно не ходить в кино, и что теперь каждый знает, что Шекспир — это голова, и Аркадий Райкин — тоже голова. И что он, этот недовольный таксист, может потребовать, если захочет, от любого композитора песенку про зеленый огонек своего такси да и вообще поинтересоваться, когда тот композитор последний раз был в командировке.
Он не согласен со мной, злится, и ему вдруг начинает мешать дым сигареты, которую я курю, и он говорит, что много нас таких оборачивается у него за день, и если каждый станет… Словом, я гашу сигарету и молчу, а он выключает приемник. На прощание я протягиваю ему рубль, и он ворчит, что у него нет мелочи на сдачу, но я молчу и не собираюсь вылезать из машины: у меня теперь уже вовсе нет охоты собственными руками положить пару кирпичей в стену того погребка в саду, которого, должно быть, ему только и не хватает, чтобы полностью переключиться на жизнь для души.
Я ждал, и он начал отсчитывать сдачу, всем своим видом выказывая презрение ко мне, нарочно выискивая — я видел — одни медяки. Он широким жестом швырнул их мне на ладонь и тут же выключил в такси верхний свет (это тоже был знак пренебрежения), и тогда я сказал, что деньги вообще любят счет, и попросил, чтобы он все-таки включил свет. Он, верно, не ждал от меня такой настырности, потому что сразу поспешил включить свет: теперь уже я неторопливо — нарочито неторопливо — пересчитывал медяки, решая про себя, дать один из них ему на чай или не давать. Потом я подумал, что достаточно проучил его, и только позволил себе подчеркнуто вежливо проститься и с той же неторопливостью закрыть дверцу. Он газанул так, что едва не заглох мотор: машина рванула с места, сухо выстрелив в меня дымом. Теперь я не завидовал пассажиру, который сядет к нему после меня.
Неожиданное приключение немного меня развеселило, и только у двери Эмминой квартиры я вспомнил, что уже довольно поздно и что, видно, это нехорошо так внезапно нарушать честно заслуженный пенсионерский покой да еще поднимать с постели ту самую пару, особенно если они как раз пребывают в мире и не пеняют в эту минуту друг на дружку, а разве только на судьбу или на господа бога. Позвонив, я долго вслушивался в тишину за дверью и был обрадован, когда в коридоре кто-то громко зашлепал: дверь внезапно распахнулась, в лицо мне ударил свет, и я невольно отступил в сторону. На пороге стояла высокая, как мне показалось, женщина (может, ее делали такой длинный, с талией чуть ли не под мышками, халат и маленькая голова, обвязанная на ночь платком, из-под которого как-то беспомощно-наивно торчали вяло-розовые, приплюснутые уши?). Женщина ойкнула, запахнула халат на груди и, переламываясь в поясе, мелко потопала в залитый светом коридор на странно прямых, негнущихся ногах, уцепилась за ручку двери, ведущей, очевидно, в зал, и, уже успокоившись, остро глядела на меня. Мне было смешно, и я молча шагнул через порог; у женщины было теперь то неприятно откровенное, оголенное выражение лица, когда человеку безразлично, что о нем думают.
— Эмма дома? — спросил я.
Женщина, словно спохватившись, повела плечом и молча скрылась за дверью. Бог весть что хотела она этим сказать: видно, снова от нее ушел муж, и она показывала, что вообще не желает иметь дела с нашим братом.
Хорошо, что как раз вышла Эмма, и мне понравилось, что она не была удивлена, заулыбалась и как-то чуть-чуть манерно подала руку.
— Ах, Женик, — сказала она, — какой ты смешной. Ты сегодня не выпил, нет?
— И вот за подвиги награда, — нарочито трагично произнес я. — Почему ты не радуешься? Почему не говоришь глубокомысленно: лучше поздно, чем никогда? Зачем хочешь разочаровать меня?
— Я тебя не видела целую вечность…
Она улыбалась той же чуть-чуть ленивой улыбкой, как и всегда, и щурила глаза, склоняя набок голову, и, ей-богу же, как-то влюбленно глядела на меня, и мне было это приятно, Правда, какая-то перемена произошла в ней, но какая? Я не мог определить сразу.
— Входи, — сказала она и отворила дверь, а я придержал створку рукой, другой взял ее за плечи и осторожно подтолкнул в комнату.
Она стояла посреди комнаты, улыбалась, щуря глаза, и все смотрела на меня: мне даже стало неловко. Я в самом деле давненько не был у нее и, наверное, отвык, отвык от ее привычки улыбаться, от этого едва приметного излишества в манерах, — а теперь вспоминал это, и почему-то впервые подумалось, что улыбается она так, вероятно, от близорукости. Странно, раньше это никогда не приходило мне в голову, да и очков я у нее никогда ни видел.
— Ты сегодня в платье?
— Ты смешной, ей-право, смешной… Хотя… Должно быть, она догадалась, почему я так сказал.
Она не любила платьев и никогда их не носила. Разве что, помнится, на первом курсе. Темное платье с кружевным воротничком, с высокими плечиками. И еще широкий пояс с блестящей фигурной пряжкой. Тогда это было модно. Или, может, наоборот: тогда ее не интересовали моды. Высокие плечи ей не шли. Они и без того были у нее высоковаты и узки, и стан немного длинноват, и бедра узковаты, а ноги маленькие и стройные.
— Садись, — сказала она и сама присела на диван. — Садись, если хочешь, к столу… Я так устала сегодня…
Я молчал. Она стала какой-то другой, в ней появилась неприятная и даже немного отталкивающая леность. Глаза не смеялись больше, она щурила их, а они не смеялись, и, может, оттого у нее собирался складками лоб. Я сел в кресло, пошарил глазами по столу — пепельницы не было. Эмма видела, что я ищу пепельницу, но молчала. Я придвинул к себе какую-то пустую крышку от помады и закурил.
— Дай и мне, — попросила Эмма.
Я бросил ей сигарету и коробок; она забавно их поймала, сложив локоть к локтю у груди.
— Я была сегодня на озере. Ну, после работы. Людей тьма-тьмущая. И какие-то артисты выступали прямо на пляже. По-моему, это смешно. Представляешь?
— Представляю. Ты была одна?
— …так банален ваш брат. Нигде не спрячешься. И считают своей обязанностью не давать скучать. Боже, но как это делается!..
— Ну зачем же так? И нам на ваш счет кое-что известно…
— Ей-богу, хоть возьми да напиши карманное пособие, как познакомиться с женщиной на улице, в троллейбусе, на пляже… Ужас!
— Организуй это лучше у себя на радио… Аудитория и все такое. И слава… Ты ведь, кажется, еще не перестала мечтать о персональных передачах…
— Не смейся… Почему ты не поступаешь в аспирантуру? Ну, не захотел тогда, а теперь?
— Знаешь, давай лучше не будем…
Что я мог ей ответить? Тогда, после института, меня в самом деле оставляли в аспирантуре. Но я выпросил свободный диплом. И книжная наука и зарубежные романы осточертели мне. Я почувствовал, что совсем не знаю жизни. Это было больно. Я боялся и сторонился людей. Я не знал, как вести себя с ними. Я был неловок, застенчив и горяч, затаенно страдал болезнью самолюбия. И я выпросил себе свободный диплом. Мне хотелось простой, обыкновенной жизни, хотелось затеряться среди людей, и я устроился на работу в коммунхоз. То, что у меня был диплом, скрыл. Образование записал: десять классов. Прописка у меня была постоянная: тогда еще у студентов была постоянная прописка. Я высаживал на улицах деревья, красил крыши, а зимой разгребал снег — хотел быть только рабочим и ничем больше. У меня не было семьи, и мне нравилось иногда вовсе не лишнюю копейку от какой-нибудь левой работенки пускать на круг. Мне хотелось во всем быть мужчиной: я не отказывался от водки после вина и от вина после водки, я выпивал подряд по две большие кружки пива; прежде меня бросало в дрожь при одной мысли о нем. Изредка ходил в библиотеку: было приятно листать журналы, без спешки читать что-нибудь — минимум духовной пищи, необходимый и приятный, как папироса после обеда. И еще меня начали интересовать женщины. Не знаю, был ли у меня талант к этому. Я просто открывал для себя маленькие истины; может, они дались мне легко, но я-то знаю, что не так они и просты. Потом мне надоело все это — и выпивки, и свидания, а может, я даже испугался за себя, — и я сменил работу. И стал бывшим студентом, бывшим донжуаном, бывшим рабочим. С удостоверением младшего научного сотрудника одного не очень посещаемого музеума.
Аспирантура… Что аспирантура? Я, может быть, и не забыл о ней. Но с некоторых пор мне очень сложными кажутся некоторые истины, да я и запамятовал, как нужно диссертабельно оформлять их. Мне теперь хотелось бы до всего дойти самому, но я не уверен, хватит ли у меня терпения, наконец, силы воли, чтобы сделать это. Я ничего пока не знаю, ничего не знаю…
— Глупости все это, — говорю я Эмме. — Я снова хочу жить. Просто жить. («Может, сказать про Ларису?») Как тогда, после института.
— В твоем возрасте люди живут уже для семьи.
— Ты хочешь сказать, что мне нужно жениться?
— Хотя бы…
— Тогда ты, может быть, скажешь, на ком? Какая у нее квартира, кто тесть и каков характер у тещи?
Я злился. Мне надоели уже эти разговоры о женитьбе. Когда тебе тридцать лет и ты не успел до сих пор сделать того, что сделали другие, каждый считает своей обязанностью опекать тебя, снисходительно шутить и вообще жалеть тебя. Но зачем, чтобы еще и Эмма? И пусть бы это в самом деле занимало ее, но я ведь знал, что не может она думать, будто женитьба — самый лучший выход для меня. И будто это сколько-нибудь важно. Над холостяком можно поиздеваться, можно снисходительно похлопать его по плечу; с женщиной, когда ей тридцать, о замужестве не говорят. И это, по-моему, еще хуже. А может, Эмма, говоря обо мне, имеет в виду себя?
— Ты сказала насчет озера? Ты была там с ним?
Я нарочно спросил об этом, потому что вдруг подумал, что, может, он — тот молодой рабочий парень, кажется, спортсмен, про которого кто-то говорил мне и которого Эмма будто бы брала с собой даже в компании с так называемыми интеллектуальными выпивками, и там он молча сидел возле нее, загадочный и спокойно настороженный, как телохранитель, — может, он и есть то главное для нее, чего я не знаю и не могу понять. И может, он для нее то же, что для меня Лариса?
— Ты поздно спохватился о нем спросить, — сказала Эмма.
— По-моему, мы давно договорились не докучать друг другу такими вопросами.
— Но ты же спросил…
— Ты хотела меня женить.
— Если так, то и он для меня не существует.
— И не существовал? Прежде — тоже?
— Я теперь вижу, — сказала она тихо, — что это была банальная история. Просто… он в тюрьме…
— Он заступился за тебя, набил кому-то морду и… — Я чувствовал, что это не так, но ведь нужно было что-то сказать.
— Нет, самые банальные махинации с автомобилями. Копеечный бизнес. Страховали старые машины, обдирали их, отвозили кузов в лес и звонили в милицию. Доставали или крали запчасти. И еще что-то там… Банально… Он оттуда даже не написал мне.
— Ерунда все это. По-моему, не стоит и переживать… Знаешь, зачем я шел к тебе? Захотелось поговорить. Вспомнить студенческие годы. Почему-то мне показалось, что это важно. Помнишь наше первое комсомольское собрание? Мы были в колхозе на картошке. А потом собирали в саду яблоки. И кто-то из ребят набрал сетку тех яблок и принес домой. Это было «чепе».
— Погоди, погоди, кто же это?
Кажется, мне удалось заинтересовать ее. Она встала с дивана, чтобы потушить сигарету, нервно скомкала ее в крышке от помады, снова села на место, поджав ноги и с каким-то удивлением глядя на меня.
— Неужели забыла? Колька-москвич. Хотя какой он москвич! Мы после узнали: откуда-то из Подмосковья. Помнишь, тогда, на картошке, он еще в копне соломы читал Есенина, и это тоже не нравилось нам. Володя Демешко, детдомовец, ну, тот, что после института подбил хлопцев поехать на Дальний Восток, — на собрании здорово его за это высек. И Васька Столин. Знаешь, что удивительно: этот Васька был на добрых десять лет старше нас, бывший партизан, а думал и чувствовал так же, как и мы.
— Васька был хороший парень. Компанейский, бескорыстный. Он где-то теперь на районе. Мне говорили.
— Угу, на районе. Да я же прошлый год видел его. Был там в командировке. Неудачно как-то все сложилось у него. Женился сразу после института. Ты знаешь, у него уже четверо детей. И все девочки. Жена в школе. Он и сам сначала преподавал. А потом заелся с директором. Не знаю, из-за чего. Вообще у него какая-то мания справедливости. Он стал вроде районного донкихота. Все кого-то разоблачает, все с кем-нибудь воюет. Ушел из школы и устроился в конторе «Союзпечати». Когда я там был, у него ремонт делали. Второй месяц. Представляешь, это в районе-то. Он со своим табором обеды варил во дворе. Палатку какую-то поставил. Я говорю: «Что ты, чудак, делаешь? Не знаешь, как сговориться с людьми?» — «Принципиально, — говорит, — не буду и не хочу. Пусть хоть до зимы ремонтируют. Тогда-то я их выведу на чистую воду». Представляешь, он там у них в чудаках ходит. А я и его понимаю и тех провинциалов. И зло непривлекательно, и добро, если его через меру, может засесть в печенках хуже, чем зло. Отчего это так бывает? Жаль мне стало Ваську. Пропил я с ним со зла все командировочные и поспешил уехать.
— А я и вообразить не могу, как он там живет, на районе. Отвыкла. Дома, в деревне, больше двух дней ни за что не высижу. Это плохо, скажи?
— Не знаю. Это, может быть, потому, что ты женщина… Послушай, я все думаю, какие мы были тогда. Идеализм, романтизм, наивность… Розовые очки… Смешно, конечно. Но мне почему-то жаль того времени. После нас все перевернулось. Мы были, кажись, предпоследним курсом, который просто пересел со школьной парты за институтский стол. Мы кончили институт, а на наше место пришли другие, с производства — бойкие, грубоватые, самоуверенные, — на кой черт им был наш идеализм? Да мы и сами не знали, что с ним делать. В непогрешимого гения всех времен и народов мы больше не верили, нам нужно было поверить в себя. Ты ведь мне не скажешь, что это так просто и легко. И я не скажу. Есть такое понятие — переломный возраст. Мне кажется, он затянулся у нас. У меня, может быть, и у тебя. Не знаю, у кого еще. Аспирантура тут не спасет. Мне нужно снова поверить в идеалы. Не в те, прежние, а в какие-то другие, которые не были бы помехой в жизни и жизнь которым не мешала бы тоже. Опять наивно? Что ты молчишь?
— Не знаю, может, это и верно. Я тоже… так же вот думала… о себе… Я только не умела или не осмеливалась обобщать… Ты умеешь думать. Я знаю. Ты всегда был таким.
Она говорила медленно, с трудом подбирая слова, но я чувствовал, что внутренне она спешила, будто старалась поскорее отбыть неприятную обязанность, и верно, из-за этой своей растерянности сказала комплимент, неудачный комплимент и некстати, думал я, — разве все говорилось ради этого? Я замолчал и уже отчужденно, как будто впервые, посмотрел на нее. И теперь мне стала понятна та перемена, смысл которой не сразу открылся для меня: она посолиднела, но какой-то робкой, сиротливой солидностью, которая накладывает на человека печать непонятной ему самому тревоги и растерянности. И вдобавок это платье — пляжного покроя, полосатое платье, расклешенное книзу, с воротником на манер жакетного. Платье было широковато и вовсе не к лучшему опрощало, огрубляло ее. Я начинал жалеть: зачем я пришел сегодня сюда? Но откуда мне было знать, что нечто переменилось, надломилось в ней, что не мне от нее, а ей от меня по-настоящему нужно было бы ждать облегчения? А что я ей сказал? Пустился в какие-то трогательные рассуждения — зачем? Ей ни к чему это. Она женщина, она привыкла чувствовать и мыслить конкретно. Сегодня я не в силах помочь ей. Сегодня я очень занят собой. Я еще приду. В конце концов хорошо и то, что я сегодня пришел. Я подумаю. Мне нужно прийти еще.
— Пойду, — сказал я. — Прости, что забрел так поздно.
Я встал из-за стола. Она не двинулась с места. Я подошел к ней, взял за плечи и попытался улыбнуться.
— Вставай, — сказал я. — На твоем месте я сменил бы квартиру. Время от времени это нужно делать. Мы даже не представляем себе, как много значит для человека перемена места. Поверь мне.
Я поднял ее с дивана за плечи и осторожно поставил перед собой. Она не сопротивлялась, покорно стояла, опустив руки. Я гладил ее волосы. Мне не нужно было делать этого, и спустя минуту я шутливо оттолкнул ее.
— Пойду.
На душе у меня была горечь.
— Погоди, — спохватилась Эмма. — Я забыла тебе предложить… Ну, хотя бы кофе. Хочешь? И еще где-то у меня есть коньяк.
— Нет, лучше пойду. Поздно. Как-нибудь в другой раз.
Честно говоря, я чувствовал, что сегодня мне не мешало бы выпить. Но только не здесь и не с Эммой. Мне теперь подошла бы мужская компания. Да вот рестораны закрываются уже, и чтобы в этот час попасть туда, придется еще помозговать, как понравиться швейцару. Нет, на сегодняшний вечер выпивка исключена. Мне нужно еще все решить насчет Ларисы. Одна идея мелькнула в голове. Но первым делом я должен был снова найти такси.
— Я пойду. Не провожай, — сказал я Эмме. — Как-нибудь загляну.
Она все-таки проводила меня через коридор до двери. Я проворно сбежал вниз по лестнице, едва не сбив с ног в подъезде какую-то влюбленную парочку, и очутился на улице. Остановился. Улица была отдаленная, и рассчитывать на такси здесь не приходилось. Я вспомнил, что неподалеку отсюда трамвайная линия, и если, дойдя до нее, выйду к перекрестку, где кафе, — там есть надежда чего-нибудь дождаться. Можно кое-что и припомнить, чтобы скоротать время. В том кафе когда-то познакомился я с официанткой и чуть было не закрутил роман. Но у той официантки были холодные, на удивление холодные руки; за весь вечер, когда мы пошли с нею в кино, я так и не сумел отогреть их. И я сбежал от нее, а потом и близко не подходил к тому кафе. Мне было и нехорошо, и досадно, и стыдно. Я почему-то жалел теперь ту официантку, остро жалел, как будто все это произошло только вчера. Волна какой-то непонятной жалостливости нахлынула на меня. Я вспомнил вдруг про того мальчугана, Леню, что звонил мне сегодня, и снова пожалел, что не позволил ему еще раз позвонить. А может, он звонил? Может, долго не приходила та Лилька, и он не ложился спать?.. Ничего, ничего, не надо расстраиваться, старик, — завтра он позвонит тебе. Все и у всех будет хорошо, вот посмотришь. Вернется Лилька, придумает что-нибудь для себя Эмма — ты поможешь ей. Только нужно до конца разобраться с Ларисой. Поставить точку — и все. Не нужно ни миражей, ни иллюзий, ни юных нимф — хватит гоняться за химерами. Надо взять себя в руки.
На улице, где проходил трамвай, стали попадаться такси, но ни одно не взяло меня. Горел зеленый огонек впереди, но машины не останавливались, и я злился, пока не сообразил, что где-то здесь близко таксопарк и что машины, вероятно, идут на пересменку. И я тогда стал голосовать всем легковым подряд, и одна остановилась — это было как раз такси, в котором на заднем сиденье, забившись в угол, ежился кто-то сухой и тщедушный, в простом плаще. Я сел рядом с таксистом, и мы поехали, и едва миновали каких-нибудь два квартала, как тот, на заднем сиденье, попросил остановиться и торопливо сунул в ладонь таксисту деньги, которые, видно, давно уже отсчитал. Таксист, не глядя, опустил их в карман, проверил за настороженным пассажиром дверцу — хорошо ли закрыта? — и мы снова поехали. Таксист достал пачку папирос и пытался закурить, но у него это не выходило, и он сказал:
— Наступи!
Я подержал в руках пачку, и он достал папиросу, прикурил от моей спички и озабоченно поскреб затылок. Он был моложе меня, лобастый, безбровый, с узким книзу лицом, которому придавали какую-то детскую неуклюжесть оттопыренная верхняя губа и короткий подбородок. — Ехать куда?
— Железнодорожная, семь, напротив аптеки. — Знаю тот дом, а как же. Живешь?
— Нет, давно не видел. Охота поглядеть.
— Ну-ну…
Он, должно быть, подумал, что я шучу. Но я больше ничего не говорил, и он умолк, и так мы молчали, пока не приехали к тому дому и я не попросил его остановиться как раз напротив балкона.
— Так, — сказал я. — Теперь нужно посигналить. Раз, два, три… Погромче.
Дверь на балкон была открыта: люстра сияла под потолком, доносились звуки музыки, но как будто не из этой комнаты, что с балконом, а из соседней. Чтобы танцевали, не слыхать.
— Мы должны здесь взять кого-то?
— Нет. Посигналь, дружище, прошу. Ничего страшного — это не проспект.
Он стал сигналить, и, надо сказать, на совесть. И вот на балконе появился желторотик, за ним другой, с круглолицей девушкой, — она все время висла у него на руке. Я приоткрыл дверцу и стал наблюдать.
— Вовка, — сказал второму первый, — машину видал когда-нибудь? Смотри! Вот это и есть машина.
— Чего, чего? — нарочито грозно двинулся на него тот, прижал грудью к перилам и, кряхтя от усилия, стал нагибать ему голову. Девушка так и покатывалась от притворного смеха и висла у своего парня на плече. Но им скоро наскучило это, и, перегнувшись через перила, они стали наблюдать за нами.
— Эй, таксист, — крикнул тот, что вышел с девушкой, — город Рио-де-Жанейро красивый, скажи?
— Какой он таксист! Он водитель колхозной кобылы.
— Мальчики, я сейчас прыгну с балкона. Кто за мной?
— Посигналь еще, — попросил я таксиста.
— Дурачки, — сказал он. — Ума на копейку, а прикидываются на рубль.
Пока он сигналил, они горланили там, на балконе, а потом разом стихли, едва мы перестали сигналить. Таксист вышел из машины и стал присматриваться к дверце, открывал ее и снова закрывал.
— Что такое? — спросил я.
— Частник один, раззява, «поцеловал». На повороте. В стояк дверцы заехал. А чуть-чуть в сторону — прошило бы насквозь… Жила несчастный!.. Выкручивался, не хотел червонец на ремонт выкладывать. Да милиции побоялся, могла наскочить…
— А у самого что?
— Фару поплющило слегка. Ерунда! Даже лампочку не разбил. Поедем, что ли?
Хоть бы эти, на балконе, убирались скорей. В конце концов не подслушивать же, не выслеживать кого-то приехал я сюда. Еще там, у Эммы, когда впервые подумал про такси, передо мной заманчиво предстала картина расставания. Банального расставания, как в старом романе, разве что с условно пролитой слезой. Пропыленный пилигрим стоит у чужого порога. И никто не узнает его. Даже она. И никто не знает, что здесь разбилось его сердце… Жаль… Романтика уходила; какая там романтика, когда вот эти висят на балконе, настраивая на вовсе не сентиментальные чувства. И она не выходит…
— Лариса! Лариса! — крикнул вдруг кто-то на балконе, и у меня екнуло сердце. — Поди сюда!
— Не кричи, — сказала девушка. — Они там со Светкой моют на кухне посуду… Пошел бы помог.
— Мерси! Я согласен, но только с тобой…
— Поедем? — снова спросил таксист.
— Поедем. А кто сказал, что не поедем? Мы уже едем, — сказал я.
Романтика разлаживалась. «Они там со Светкой моют на кухне посуду». Романтика исчезала на глазах… Ну что ж, тем хуже для нее.
— Газуй! — сказал я, и мы поехали.
— Сопляки! — заговорил таксист. — Они тебе все испортили. Если кто и хотел услышать сигнал, так подумал, что приехали к этим… Что у них, выпивка там?
— Наверно.
— У меня в этом доме знакомый был. Жил тут. Потом развелся с женой, даже квартиру ей оставил. Но в воскресенье, как подопьет, всегда приезжает ругаться. На такси его сюда возил.
— У меня другое, — сказал я. — Долго рассказывать. Как-нибудь в другой раз.
Едва поехали, как мне вдруг все стало безразлично: Лариса, эти ее желторотики, несостоявшееся прощание, — мне хотелось домой. Дело сделано, и все. Довольно. Хватит на этот день. Лариса… Что Лариса? Никто мне не поможет, если сам не помогу себе… Мне просто хотелось домой. Но не везло мне, так не везло: минут на пятнадцать нас задержал железнодорожный переезд, потом мы не могли свернуть на нужную улицу — там была разрыта мостовая, и пришлось ехать вкруговую, мимо вокзала, где, несмотря на поздний час, была еще очередь на такси и стояли на длинной площади, выстроившись в ряд, поливочные машины. Мы выехали оттуда на проспект, пустынный и какой-то особенно широкий сейчас, скупо подсвеченный желтовато-зеленым светом, и ехали почти посередине асфальтового полотна, обгоняя редкие уже автобусы и троллейбусы. А потом свернули на мою улицу, хотя мне можно было выйти и на проспекте, — я рассчитался с таксистом и пошел, не дожидаясь, пока он развернется, чтобы ехать назад.
И снова был лифт, была неприятная расслабленность во всем теле, и потом снова я сидел на кухне и перечитывал Милину телеграмму, но теперь она почему-то не трогала меня, и даже не хотелось думать, зачем послала ее Мила. Ну послала, ну и что? И поставила еще подпись Станислава Батьковича, а я вот сижу в их квартире — и что дальше? И вообще зачем я здесь? Кто я для них: друг дома, бедный родственник, квартирант на пансионе или просто квартирант? Мне всегда было приятно сознавать, что я здесь свой. Мила скорее всего и хотела, чтобы так было, но что думает на этот счет Станислав Батькович и что он вообще должен думать обо мне? Почему это всегда было мне безразлично?.. Ах, как это остроумно: советовать Эмме сменить квартиру и не видеть, что самому, может быть, давно пора уже съехать отсюда!
Я сгреб со стола телеграмму, скомкал ее и швырнул в мусорное ведро. Во рту у меня было погано, горько, и я подумал, что сегодня больше не нужно курить, а лучше поскорее лечь спать, — вот разве что не помешало бы перед этим залезть в ванну. Я напустил в ванну воды. Я лежал, зажмурив глаза, прислушиваясь, как ровно, напористо бьет из крана шумная струя, и тело мое постепенно привыкало к горячей воде, и я не хотел ни о чем думать, кроме того, что было мне приятно. Шумела вода, шло время, и все то, что еще недавно казалось значительным, заставляло тревожиться и страдать, отступило куда-то и уже не имело власти надо мной, и когда я спустя какое-то время вылез из ванны и, сидя за столом, пил горячий, круто заваренный чай, было чувство, словно я второй раз родился на свет. Затуманились, запотели от пара, будто подернулись инеем окна на кухне, и мне казалось, что на улице зима, что я не в городе, а где-то в деревне: пришел из бани по скрипящей от мороза мутновато-искристой тропке, — еще сизо, малиново горит над лесом холодное небо, — швырнул в сенях мягкий, распаренный, пахучий веник, отворил дверь в хату, где ярко полыхает на припечке огонь и кипит на тагане чугунок с водой, в который уже мама бросила щепотку сухого малинника… И вот я сижу за столом и пью чай, и отсвечивает голубизной затянутое морозом окно, и шастают по хате пугливые, веселые тени… Как хорошо, как тихо!
Но что это? Ах, звонит телефон… Телефон? «Так это же, верно, Леня!» — думаю я и, встревоженный, бегу в прихожую, снимаю трубку и сразу говорю:
— Леня? Что там такое, Леня? Еще не пришла Лилька?
И ответом мне тишина — какая-то непонятная тишина, и я чувствую: сказано что-то не так и не то, чего я ожидаю, хотят мне сказать, но я ничего не понимаю, — и мне невыносимо трудно. И потом голос, такой знакомый, чуть-чуть растерянный голос, — как ему нелегко переделать себя:
— «Это я, Красная Шапочка, — сказал Серый Волк бабушкиным голосом».
— Лариса? Откуда ты звонишь, Лариса? Ты еще не спишь?
— Я в городе… Звоню из автомата. Что это у тебя там… за Лилька?
— Лилька? Одного мальчишки сестра. Ты все равно не поймешь… Я потом расскажу…
Я не ждал этого звонка: я был растерян и по-мальчишески, по-глупому рад, — о, хоть бы она не заметила этой радости!
— Я провожала гостей… И теперь в городе. Недалеко от твоего дома… Почему ты не пришел? Я тебе звонила. Где ты был?
— Бродил по городу и оплакивал свои девятнадцать лет. Ты одна? Где мы встретимся? Я сейчас приду тебя проводить…
— Бедный мой, — сказала она, — тебе, может быть, было скучно? Хочешь, я подойду к твоему дому? Я скоро… Тут близко. А потом ты проводишь меня домой. Идет?
Она повесила трубку.
Я вдруг ощутил приятную до дурноты, до головокружения слабость. Может, это потому, что недавно из ванны. Тело мое было легким, как пушинка. И еще я чувствовал свое лицо. Чувствовал, что оно мрачно. Я радовался, а лицо было мрачно, оно словно застыло. Тогда я включил в прихожей свет, подошел к зеркалу и посмотрел на себя. С туманного стекла меня отчужденно и серьезно изучали неподвижно синие, непривычно прозрачные глаза, и светилось бледной маской лицо, худое, с какой-то болезненной расслабленностью в чертах лицо.
— Ну что, грустим? — произнес я вслух. — Нужно улыбаться. Попробуем улыбнуться, давай-ка!
И я улыбнулся: мне показалось, что задрожало стекло, в нем двинулась, колыхнулась бледная маска, а потом округло, мягко проступило лицо, и на нем ожили, заискрились, став темнее и глубже, глаза…
«Вот так, — сказал я себе, — вот так, свет Иванович, бывший донжуан».
У меня гулко бухало сердце, и я был по-мальчишески глупо растерян и счастлив.
СМАЛЕНИЕ ВЕПРЯ (Перевод В. Тараса)
Наступают холода, схватывают землю заморозки — оседают инеем сырые туманы. Черствеет земля, и лоснится, темной холодной зеленью бьет в глаза поределая у дороги трава. Уже взялась коркой зябь, поседели в огородах и высохли до звона голые стебли и стал пустым воздух. Небо днем все ниже припадает, прижимается к земле. Еще гоняют на пастбище коров — подальше от деревни, в лес. Под вечер скотина не хочет возвращаться в хлев, норовит забрести в пропахшее картофельной ботвой и студеным капустным листом поле.
И вечерами, и поутру морозно, хмельно, как первачом, пахнет дымом.
В такую пору в деревнях свежуют кабанов.
Мне давно хотелось написать один рассказ и назвать его так: «Смаление вепря». Не кабана, а именно вепря…
Теперь я знаю, что, пожалуй, не напишу: боюсь, чтобы то, о чем хотел рассказать, не приглушилось незаметно, а то и вовсе не потерялось бы там, в словесах, а оно — почти несказанное — самое важное для меня. Зачем же я тогда вспоминаю и зачем пишу? Не знаю. Мне просто подумалось, что, может, все же обретет напоследок какую-то логику эта попытка рассказать. Посмотрим…
Я жил тогда в нетронутой части города, когда задумал свой рассказ, в старом районе, застроенном неуклюжими кирпичными, а больше деревянными домишками, утопающими в садах. К тем домишкам нужно было идти от улицы узким и глубоким, как просека, двором; по двору вела тропинка, твердо протоптанная в рыжей чахлой траве, в лопушистых кустиках подорожника, в сухих и разлапистых, как деревья, ромашках. В тени вишни, сирени или жасмина там можно было увидеть наспех сколоченный стол, иногда новый, из тонкого штакетника, или темный от времени, на приземистом толстом столбике: доски стали трухлявыми, раскрошились на закругленных подзорах и повыщербились ямки возле загнутых ржавых гвоздей. Встречались и столики, подновленные свежей доской, и она была непривычной здесь и бросалась в глаза, в точности как царапина на лице человека…
Теперь почти ничего не осталось от того района — одни пятачки, островки, зажатые кварталами безликих зданий с плоскими крышами. Остались возле новых домов, рядом с детскими площадками, то кривая костлявая яблоня, то вишня, которая вымахала в дерево — пышная в кроне и толстая в комле. И еще осталась улица, хотя и старая, но довольно широкая и ровная, потому что когда-то здесь был мощеный тракт. Название его, открещиваясь от старины, поменяли, но не поменяли, забыли, видно, поменять название базара, который расположен возле этой улицы и называется по-прежнему — Конский базар.
Осенью каждое воскресное утро слышно было, как поскрипывают на моей заасфальтированной улице деревенские подводы, как цокают копытами кони и как визжат и хрюкают в телегах подсвинки. Попозже, когда встанешь, стряхнешь с себя сон, позавтракаешь, а потом отправишься за сигаретами в ближайший магазин, не протолкнуться будет к прилавку сквозь толпу негородских людей. Толчея, гомон, и нездешние дядьки у кассы окликают зачем-то теток, стоящих в очереди к прилавку, и жестами что-то объясняют им… А на пустыре за магазином уже стали табором цыгане. Женщины занимаются детьми, и горланят, орут, как в поле, по своему обыкновению лохматые парни. Распряженный конь тащит с телеги сено, раструшивает его и согласно кивает головой, словно: «Ох, браточки, так оно и есть!» — хочет сказать шумной компании подвыпивших мужчин. Как будто конь этот знает, что цыгане есть цыгане, им все можно…
Вот так оно бывало, а может, бывает и теперь на том городском пятачке, где остался Конский базар, в ту пору, когда наступают холода, когда схватывают землю заморозки — опадают инеем сырые туманы.
В ту пору, когда в деревнях свежуют вепрей…
И в рассказе должна была подступать эта пора и должна была воскресать деревня: запах мерзлых щепок в дровянике, тарахтение тракторишки возле фермы, и на шумовом фоне этом — зычные голоса людей, испуганный гогот гуся на торфянике, стылый звон колодезного ведра, и внезапно — упругий выпад налетевшего наискось ветра, а надо всем, а во всем должно было быть каменное, затаенное молчание земли, травы и холодного, шершаво-сизого неба.
Вот что я должен был увести в подтекст, а как увести, я не знал. Нужно было, чтобы чувствовалось, как выходит на крыльцо человек, как звякнет за ним, а затем дробно дребезжит щеколда; он слышит это, но и потаенное начинает уже завладевать им, и вот здесь, на самой трещинке внимания, вслед за скулящим порывом ветра сорока из-за пуни метнется ему в глаза тугою своей чернотой, испугается, взмоет вверх, остро сверкнув такою же тугой белизною, и соскользнет, подломив крылья, в огород, и на забор перелетит оттуда, и тревожно зачечекает, закланяется на заборе…
«Почуяла уже…» — вдруг подумает человек и вспомнит нынешнюю свою заботу и нарочито безразличную старательность жены — как она утром ставила в печь ведерные чугуны с водой… Обманывая себя, как будто какую-то другую нашел себе заботу, он задержится на крыльце и лицо подставит ветру, и глаза его тревожно будут вбирать в себя мир, и незримо воплотит перед ним стремительный ветер и тоску полей, и холодный обморок травы, и предзимнюю дрему деревьев…
Так он будет стоять, и у него будут шевелиться брови.
И услышит вдруг, как в пуне хрюкает он…
…Есть ему сегодня дадут попозже, чтобы он, оголодав, легче обминул догадку о том, какой ему выпал нынче день. Но это же, видно, и настораживает его. Он еще и не догадывается ни о чем, одно беспокоит его: почему хозяйка, выходя из сеней во двор, не подает на его хрюканье голос, почему с дурным кудахтаньем, с беспорядочным хлопаньем крыльев послетали с насеста и прежде времени бросились к крыльцу куры? Запах прокисшего хлеба и запарки слышен ему, слышно, как куры, не поделив чего-то, ссорятся и рассерженно квохчут и твердо скребет клювом о крыльцо петух, как надрывно, отчаянным каким-то голосом кричит на кур хозяйка… Но вот стихает все это, и снова нужно ждать и томиться. И наконец — то, что не может быть обманом: топот в сенях, знакомое постукиванье мешалки в чугуне и голоса, один растерянный, а другой глуше и спокойнее — это хозяин. И отворяются сени и бухает дверь, предрекая миг хрупкой, исполненной непонятного смысла тишины. В ней и голоса иначе слышны: торопливый и сдавленный — хозяйки и коротко-круглый, темный — хозяина. Тогда снова как бы рушится, обрывается все, проваливается в новую, еще более непонятную тишину. Хозяина не слышно (остался на крыльце?), и все ближе, ближе к пуне хозяйкины шаги…
Он начинает хлебать, судорожно и решительно, словно забегая наперерез тому смутному, что внезапно поселилось уже в нем и гнетет его. И так же решительно, как начал, в какое-то мгновение он перестает есть и, злобно хрюкнув, остро вскидывает рыло и нюхает воздух, но маленькие, слабые глазки его болезненно-тупо-тоскливо глядят в пустоту, и ему уже почему-то невозможно довериться ни осторожной ласке в голосе хозяйки, ни торопливой ее руке, которая, вздрагивая, почесывает его за ухом. Решительно и злобно он захрюкает снова, а потом неожиданно яростно колыхнется в сторону громадно-гладким своим грозным туловищем и напряжет шею, отступая назад и переставляя под собой несуразно круглые, короткие ноги. Если б умел, мог бы он поразиться тому, как это его хрюканье беспомощно и тоскливо отзовется в нем самом, не предвещая ничего, кроме беды, потому что не то что увидит, а учует он, как хозяин неотвратимо приближается к воротцам пуни и темная фигура его застит, заслоняет собою светлый проем… Не будет уже рядом хозяйки, и останется он один на один с хозяином. И будет он метаться по пуне, всхрапывать и тосковать, и неподвижно будет стоять хозяин, понимая, должно быть, что теперь не нужен и бесполезен был бы любой обман, нужно просто набраться терпения и ждать, может, выйти даже отсюда во двор — набраться терпения и ждать. Он так и поступит и уже за воротцами услышит, как враз успокоится, перестанет хрипло хрюкать бедный вепрь, как потом он будет ворочать рылом подстилку, то прислушиваясь, то вновь беспокоясь, как опрокинет он бадейку с кормом и, наконец, решившись, подойдет к порогу. Это будет самая трудная минута, когда нужно спокойно шагнуть наперерез ему, и выставить перед собою дуло ружья, и стараться не слышать, как в груди темно бухает, ширится сердце, и целиться почти в упор в воображаемое пятнышко под бровью, над короткими, белыми жесткими ресницами, и видеть тоскливую, почти по-человечески осознанную покорность в том, как, смирившись с неизбежностью, все почесывает и почесывает он о косяк свою беззащитную выю… Вот и все.
И дальше уже нетрудно будет представить продолжение. Представить справные сани, ну те, и фасон и размер которых человек сознательно и с расчетом приспосабливал к своим возможностям и к своей натуре, чтобы по случаю можно было и добрую вязанку дров по первой пороше привезти из лесу, чтобы и малец мог сладить с ними на ледяной горке, чтобы и дедуню немощного можно было притарабанить по морозцу домой из соседской баньки. Вот и опрокинут набок те самые сани, и взгромоздят на них вепря, и поволокут по реденьким лоскутам раннего снега или по бугристой осенней земле куда-нибудь за пуню в ложок, в затишье ольшаника, и сорока тотчас усмотрит какой-то непорядок в своей округе — застрекочет, зашастает по ольшанику да по заборам.
Вот и все. Вот что, кроме всего прочего, должно было ощущаться, воскресать в том рассказе.
А сам замысел мыслился так: где-то, ну, скажем, в каком-то городе, в большом мире, среди людей живет сын, возможно, женатый, а может, и холостой. В детстве, в деревенском своем детстве, это был очень впечатлительный мальчик — худенький, бледный, широкоротый, порывистый и одновременно застенчивый, упрямый и в то же время не умеющий сдерживать слезы. Можно сказать, что душа его вбирала в себя многое, и можно сказать, что она была наделена способностью желать добра и понимать добро, понимать людей, и это было бы не то хищное, самоуверенное понимание, сиюминутный инстинкт выгоды, а другое, печальное и чуточку безысходное, без выгоды для себя: оно и скверного человека заставляло жалеть так же, как хорошего, хотя бы потому, что он скверный… Но это потом, в отступлениях. Начинать же нужно было бы с той ранней юности, когда человек весь, как весенняя почка: вот только что взорвала она тугую свою оболочку — о сладостный миг освобождения, опасная ласка солнца в предчувствии далеких дождей!.. Придет и гроза, и судорожно разорвет небо молния — не раз и не два, — и снова сверкнет солнце, и теплый дым опадет над орешиной, и не скажет молния, для какой завязи губителен был ее холодный зеленый луч… Но вот — молодость, и герой наш «и жить торопится, и чувствовать спешит». «Прощайте же, родные пенаты и родная хата, — думает он, — и ты, мать, не гляди так тревожно вслед». И голову еще не жарко припекает утреннее солнце, и в кринице, что укромно живет в тени родных лип, еще так много чистой воды.
Рассказать нужно было о юноше, который безрассудно и отважно ринулся в жизнь и не обкрадывал себя, искренне беря у людей и так же искренне отдавая им свое. Да и что тут было таить или жалеть! Ему казалось, что не может быть на свете человека, который, узнав, не полюбил бы его — ну хотя бы за эту его жажду сочувствия и ласки, не для себя только — для всех!.. Лишь иногда в шумном разгаре его любви к людям и согласия с ними вдруг становился задумчивым его взгляд, и казалось тогда, что тишина, высокая и сторожкая, вырастала за ним, и ощущение было такое, будто кто-то стоит за его спиной. И грянул срок, и разрушилась за спиной тишина, и беда постучалась в дверь, и познал он то, что хоть однажды в жизни познает каждый человек, — и разочарование, и отчаяние, и пугливо-виноватые взгляды друзей, и непрочную ласку женского сердца.
И вот сидел он однажды у доброго знакомого в его квартире за накрытым на скорую руку, без женского участия, столом. Разговаривали, молчали, выпивали рюмку и молчали снова. Хозяин, лысоватый, долговязый, тертый жизнью, неглупый человек, никак не мог прикурить сигарету — ломались одна за другой спички. Наконец попалась хорошая спичка, он прикурил и неожиданно с какой-то непонятной горечью усмехнулся сам себе, а потом сказал:
— Знаешь, был я у матери… Зима. Скука. Вечером старуха поставит чугунок с бульбой на камелек… Сидим с нею, глядим на огонь, беседуем или молчим, вот как сейчас мы с тобой… И хорошо как-то, и то беззаботно на душе, то тревожно. Закурю папиросу, а она все гаснет и гаснет. И снова я спичкой чирк да чирк. А мать этак тихонько говорит мне: «Разве ж можно так портить спички, сынок… Прикурил бы от уголька, а?» И смотрит на меня тем жалеюще мудрым взглядом, какой бывает только у матерей, который видит в тебе то, о чем ты и сам позабыл или бессознательно спрятал. И, знаешь, содрогнулся я… Не то чтобы стыдно мне стало перед ней, ведь не спички же она пожалела, а показалось мне, браток… — Он легко, улыбчиво глянул на собеседника и, словно испугавшись этой своей растроганности, засмеялся: — Что скажешь, а?.. Эх, думаю, если б ты только знала, сколько мы, добры молодцы, рублевых спичек по ресторанам да пивным за один вечер расшвыриваем!..
И посмеялись, и помолчали, и взяли еще по рюмке.
Потом встали они из-за стола, и хозяин хотел проводить гостя, но тот отказался извинительно и тихо, и хозяин понял, что, видно, не нужно провожать, — так славно посидели они и помолчали, а в чем пришли к согласию, каждый догадается сам.
А затем гость наш распрощался и не спеша вышел на улицу. Вечерело, солнце низко стояло над городом и лениво, холодно било в окна, в жестяные крыши домов спокойно-багряным, равнодушным светом. Трамвай звенел где-то, и стоял запах остывающего, нагретого за день асфальта, и сильней, чем асфальтом, пахло кирпичной пылью и краской. Пуста была улица, он шел, а долговязая тень ложилась на дорогу и медленно ползла, словно подталкивая себя самое, и вдруг рядом, вроде бы за деревянным заборчиком, в палисаднике коротко и жалобно пискнул птенец. Это было как знамение какое-то, и он остановился и глянул туда. Холодный багрец заливал куст сирени, порыв сквозящего ветра колыхнул листву, и тени от нее затрепетали на желтой стене, и снова тихонько и жалобно пискнул птенец. Тогда он присмотрелся и увидел его. Он видел его совсем близко, этого грустно взъерошенного серого птенца, бесконечно, непостижимо одинокого в этой знакомой ему и, видно, не впервые облюбованной тени предвечернего куста. На стене, на листве, на огромных просторах города умирало солнце, и что чувствовал, кому и на что жаловался он, этот живой маленький комочек, измученный за день какой-то своей заботой, то ли понятной, то ли вовсе непонятной ему?.. Что это было: страх, напряженное ожидание непосильного озарения или чутко, всем существом внезапно осознанная обособленность от всего и разлад со всем? И не так ли тревожит, гнетет непонятным каким-то смыслом и самого человека печальная полоска прочерченной на западе вечерней зари?
Так подумалось ему, и он сжался от другой, нежданной острой мысли, которая пришла вместе с этой, но которая, видно, уже жила в нем, когда он сидел в гостях и слушал славного своего приятеля, и слышал в себе его слова, и себя слушал: как они, эти слова, отзываются в нем. Эта мысль была о матери, она так отчетливо вошла в него, что совсем не случайным, а единственно значительным и важным предстало перед ним то мгновение, когда тени от листвы затрепетали на стене и неожиданно пискнул за забором птенец. В печальном, странно замедленном раздумье шел он домой, и шла мысль о матери, вернее память о какой-то вине перед ней, воспоминание о растраченной понапрасну силе его любви, которая, может статься, никого не согрела. Струилась криница под шатром родных лип, и вглядывалась, вглядывалась из-под руки вдаль мать…
С того дня беспокойство и тревога поселились в нем.
Однажды ему приснился сон. Сначала это был добрый сон, это была власть сумерек на границе света, когда все обозначала и проясняла собою не четкая линия — обозначал расплывчатый контур, неуловимо зримый, как образ птицы, которая только что перелетела перед тобой дорогу. Высоким полем, березовым шляхом он ехал в этом сне на велосипеде, облачно тихой и теплой угадывалась впереди даль, и гудели в березах хрущи. И вся распахивалась навстречу неведомому душа, и так было хорошо!.. Куда же, куда, зачем он ехал? Но таким знакомым, хотя и незнакомым было все вокруг, так ласкало глаза умиротворенное небо, что невозможно было не думать: все это уже было с ним когда-то… «Ага, так ведь это же я домой еду, — неожиданно весело, радостно догадался он, — вон там кончится дорога и покажется деревня». Но дорога все не кончалась, все убегала и убегала вдаль, и то знакомое, все то мучительно знакомое, чем светился, жил и звал к себе окоем, никак не могло определиться ни догадкой, ни смыслом. Оглянуться захотелось ему, он уже и намерился было, но не смог. И тогда порыв ветра упруго ударил ему в спину, ударил и сразу обессилел, и за спиной и вокруг зашелестела, зашуршала, осыпаясь долу, возникшая неведомо откуда листва, каленые, обожженные сивером листья. Стало тихо. Холод и пустоту чувствовал он за собой. Показалось на миг, что он закрыл глаза, ощущая только одно — как изменялось, как все непостижимо менялось вокруг него, а может, и в нем; страх пронзил его сердце. И тогда он увидел… О, тогда он увидел все необыкновенно ясно — в тот краткий миг, когда кто-то, до поры притаившийся в нем, одним толчком боли распахнул ему глаза и грудь! И тогда он увидел стены, которые сразу узнал: пропахшие паутиной, не тронутые фуганком стены, и топчан в углу, и груду старой одежды на нем, и старое корыто поверх этой груды, и скамью у двери, и ведра на ней, и на полу корзины с бульбой, и чугуны, и бадью с запаркой, и узкое, в одно бревнышко прорезанное оконце в стене, и какую-то банку, и единственное замызганное (не теплое ли еще?) куриное яйцо… О, почему, почему так знакомо все вокруг, и почему стоит у скамьи мать, и зачем чугуны у ее ног, зачем она повернула голову к нему — о, какой темный, невидящий, тяжелый, словно плеск воды в ведре, у нее взгляд! Он хотел шагнуть к ней, но она, отстраняясь, повела рукой, и тогда, словно по мановению этой руки, распахнулись стены, и тревожно, глухо зашуршала, озарилась при свете фонаря солома. И это уже было в пуне. Кто-то стоял на коленях спиной к нему, и что-то хрипело, билось на соломе, заслоненное этой спиной, и тускло светилась разбросанная кругом солома, и скреблись на насесте куры… И чугуны стояли в сенях, и бадья с запаркой, и лукошки с бульбой!..
Так он проснулся ночью, а днем ему принесли телеграмму.
У всех у нас была когда-то или есть мать, и, как это ни горько, не всегда хорошие приходят к нам телеграммы…
Вот и все. И опять наступают холода, схватывают землю заморозки — опадают долу инеем сырые туманы. Еще гоняют на пастбище коров — подальше от деревни, в лес. Под вечер скотина не хочет возвращаться в хлев, норовит забрести в пропахшее картофельной ботвой и студеным капустным листом поле. И вечерами, и поутру морозно, хмельно, как первачом, пахнет вокруг дымом.
В эту пору пишу я эпитафию рассказу, который мог бы называться «Смаление вепря». О, конечно, не столь уж много в нем логики, но ведь ее не больше и в тревогах, которые приносят нам лето или весна, зима или осень. Есть, к сожалению, вещи, не совсем подвластные нам, но есть и утешение, есть и надежда. О, наш брат сочинитель ко всему бывает еще и немного суеверным. Наивный, он хочет переспорить реальность, он хочет верить: я уберегся от беды, ибо — сказал!..
Добро и надежда очертили здесь свой круг.
СОСЕДИ (Перевод Эд. Корпачева)
1
Если бы знать, что будет такое, пускай бы — Казик, шалопай этот, остался один со своим городским прибытком. Глупая да молоденькая была, вот и поверила тогда разным слухам да побасенкам: у Казика и зарплата в городе твердая, и сам он как похорошел и каким чистеньким стал — куда же только глядят девчата! Вот женится где-то на заработках, и никому из вас свадьбы не видать…
Веселись теперь в этом углу!
За фанерной перегородкой живут хозяева. Надо же, ребенок у них такой непослушный: носится все время по квартире да стучит с разбега по фанере. Ну вот, снова перегородка чуть ли не трещит, а Женик так и заходится смехом — и никто не накричит, никто его не остановит.
— Женик, — говорит через перегородку Ольга, — Женик! Да перестанешь ты?..
Женик на некоторое время унимается, наверняка затаившись и выжидая: слышно только, как осторожно шелестят по ту сторону обои. И вдруг — снова грохот, топот и радостный, взахлеб, смех.
«Разошелся, дурачок», — думает Ольга.
Да, а ведь в этой комнатке обои такие убогие! Выцветшие, стародавние, они топорщатся складками на перегородке, свисают кое-где рваными кусками. И пусть свисают, у Ольги уже и руки не берутся, чтобы привести все в порядок. Хотелось уюта сначала, когда переехали после свадьбы сюда, но вот отговорил этот ветреный Казик: «Не надо, Оленька, не надо, вот увидишь — квартиру через месяц дадут…»
А пускай теперь все остается таким — опостылевшим, убогим. Столько надежд возлагала она на свое замужество, на город — и вот… «Связалась с обормотом этим, как же — городского хлеба захотелось. А в деревне, может быть, за учителя вышла бы…»
С каким-то особенным, незнаемым ранее чувством думала она теперь о деревне, вспоминала, как хорошо ей жилось там при материнской любви да при отцовской ласке: ведь была она единственная дочь у старого Романьки. Мать, бывало, едва не дрожала над нею, над каждым ее шагом; присматривала, чтобы, боже ты мой, не уставала единственная дочь ни в школе, ни дома. Да что там дома! Никакой работы по хозяйству Ольга не знала: мать была женщиной сноровистой, все дни проводила в заботах, батька — настоящий мастер столярного дела: всяких заказов всегда было много.
Дома Ольге каждый месяц сыпались обновы, и, может, уже с седьмого класса она заневестилась. Тогда же впервые узнала она, что судьба не обделила ее и красотой. Приятно было сознавать все это, и, заканчивая десятилетку, решила Ольга, что не останется в деревне, а поступит в институт и выйдет там замуж за человека, который лучше всех ее оценит. Она будет жить в городе, и когда наведается в деревню да пройдет с мужем под руку по улице, все заговорят: «Смотрите, как повезло Романьковой Ольге!»
Потом она поступала в институт и не поступила. «Прощай надолго, город», — думала уже она, но как раз тут и обратил ее внимание на себя Казик. В ту пору и это, казалось, не так уж плохо, но еще в самом начале знакомства думала Ольга, что будет вертеть Казиком, как ей захочется, — ведь видела же она, что нравилась ему. Об институте она уже не думала.
«А какая польза теперь от этого: от его ласковости, рассудительности — от всего…»
Ольга тревожилась теперь, страдала, а Казик, будто нарочно, помалкивал о квартире: может, и знал что-нибудь, но не говорил.
— Когда же твое обещание сбудется? — едва ли не каждый день допытывалась она. — Разве сходить нельзя да узнать?
— Ну и нетерпеливая ты! Дом ведь еще не готов, говорю…
И тогда она заговорила издалека, осторожно:
— Жизнь пройдет в этом закутке — по всему видно…
— Ну что ж… Может, и так. О чем пока говорить?
2
Он пока и сам не знал, будет ли квартира для них или нет. Люди и не столько ждут, и семьи у людей большие. Но вот попробуй докажи Ольге!
Какой-нибудь год Казик согласен еще жить и здесь. «Терпят же как-то люди, — размышлял он, — и мы потерпим. Квартира плохая, но… почти тихо, спокойно — не была бы здесь окраина. Даже деревню чем-то напоминает».
Улица здесь, где они жили, и в самом деле была тихая, неприглядная, с неровным булыжником да извилистыми рядами заборов. Между камней пробивалась на ней летом тощенькая травка, а за тротуарами, на почерствевших бугорках, она росла дружнее, целыми островками, кустистая и густая. Дома, скорее похожие на деревенские, то были в глубине дворов, то окнами глядели на улицу. Росли в тесноте огородов яблони и вишни; внизу сплетался цепкими веточками крыжовник, а крупные листья сирени и даже розы торчали из щелей заборов.
Открывалась временами в этих улочках своя красота. Как-то по-особенному хорошо было здесь: и ранней весной, когда струилась первая вода в тонких ручейках и так звонко, молодо кричал петух вдруг в середине дня; и немного позднее, когда зацветали сады, а вечерами трепетная зеленоватость подолгу не покидала неба; и в теплые летние сумерки, когда так дурманяще, густо пахли огороды укропом, и к этому запаху примешивалась щекочущая ноздри горьковатая пыль, и все веяло, веяло банной духотой от нагретых за день крыш.
Хорошо было здесь. Но скажи-ка об этом Ольге.
3
Провесень уже была, март. По утрам Казик шел на завод и видел: острый ветерок держал на дворах притихших после холодной ночи воробьев, желтоватыми пятнами взялась на прежней наледи улиц вчерашняя вода. В тонких прослойках туч желтело над городом небо. Медленно, словно льдина на стрежень, выходило из-под валящего из труб дыма солнце, и розовый морозец отползал к затемненным все еще забором да стенам.
А когда возвращался — небо такое синее было, собиралась на тротуарах водица, хотя и чувствовалось еще в воздухе холодное дыхание зимы.
В такой вот день узнал Казик о квартире. Он очень обрадовался тогда; маленького роста и суетливо-верткий, с кучерявой рыжеватой шевелюрой на голове, он как будто весь сиял от дурашливой возбужденности И счастья.
— Что-то очень веселым ты стал, — сказала ему дома Ольга, — смотри, чтоб не плакал. Прибежал домой: «Оленька, Оленька!» А как там квартира, где и что — и знать не знает. Да ты оглянуться, раззява, не успеешь, как квартиру кто-нибудь другой займет, а тогда — как же! — выгони его оттуда. Давай сюда ордер! — пристала она вдруг к Казику. — Слышишь?
Она сердилась, но Казик словно не замечал этого. С шутливой торопливостью он отступил в сторону и, радостно приговаривая да посмеиваясь, полез рукой в карман пиджака. Ему почему-то хотелось подразнить Ольгу, и потому он так медлил: загадочно достав из кармана бумажник, слишком медленно снимал с него тоненькую резинку, которою был перевязан бумажник. Наконец, откашлявшись с облегчением и поплевав на пальцы, ловко выхватил из бумажника ордер — и опять стал просветленным в этот миг, когда взмахнул бумажкой перед собой.
— Пожалуйста, дорогая сударушка, в ваши собственные ручки!
— Дурень! Мальчишка! — крикнула Ольга, отнимая ордер.
Она подошла к шкафу и распахнула дверцу: широкая, отменной ручной работы скатерть вскоре выскользнула оттуда и, развернувшись, легла на пол. Через какую-нибудь минуту Ольга увязывала уже в нее старое пальто, подушку, одеяло — Казик удивленно, ничего не понимая, смотрел на жену.
— Ты… собираешься куда-то? — осторожно спросил он.
— Молчи, болтун! — осекла его Ольга. — У тебя никогда забот не будет — такой ты человек. Сам бы, если бы настоящий хозяин был, побежал бы на квартиру: и ночевал бы, и днем бы стерег…
Она сняла с полки хозяйственную сумку, подхватила с пола узлы и, изо всей силы хлопнув дверью, выбежала на улицу.
4
Потом всю дорогу, пока ехала трамваем на новую квартиру, проклинала растяпу этого, Казика…
Она сошла на незнакомой улице. Немного в сторону от трамвайной колеи — и сразу начинался не совсем еще приведенный в порядок, недавно застроенный квартал. И, как это бывает в необжитом месте, сразу бросились в глаза своими темными, глухими окнами безмолвные дома. И повсюду земля, разрытая земля, перемешанная со снегом. Смеркалось. У подъезда крайнего дома какая-то женщина, время от времени отворачивая лицо, вытряхивала на ветру одеяло. Ольга подошла и спросила номер дома.
Она стояла перед дверью своей квартиры, не совсем еще веря себе и стараясь унять сердцебиение. Нажала плечом дверь: квартира была закрыта. Прижалась щекой к притолоке, прислушалась. Было тихо: ни шороха, ни скрипа из-за двери, лишь клокотала внизу, переливаясь в радиаторе под лестничным окном, ворчливая вода. «Вот уже и греют, — подумала Ольга, и щемящая жалость закралась в сердце. — Дурочка, нужно было сразу искать коменданта и забрать ключи».
Через каких-нибудь полчаса, выйдя от коменданта, Ольга почувствовала вдруг, как хорошо было на улице. Только теперь она заметила, что и крыши домов, и крылечки подъездов, и все вокруг покрылось молодым и ясным снегом. Такою трезвящей свежестью был наполнен воздух, что Ольга не удержалась и, остановившись, посмотрела вверх. Глубокие неровные промоины открылись в высоких и, казалось, набрякших сочной синью облаках. В каком-то холодном оцепенении катилась над городом луна — спелая, слепящая и полная.
Было здесь высоко, где стояла Ольга: вечерний город лежал перед нею. Там, где все время мелькали, пропадая, красные и зеленые огоньки машин, были, наверное, мосты и площади. Где-то же совсем неподалеку, в низких затемненных улицах, звенел трамвай, и видно было, как высекает голубые искры его дуга.
Распахнув на шее вязаный платок, Ольга нащупала в кармане взятые у коменданта ключи, подумала, что здесь, в новой квартире, может быть, и начнется та жизнь, ради которой она связалась с шалопаем этим Казиком и подалась в город. Нет, теперь она не упустит свое, заставит вертеться Казика, чтобы зарабатывал больше, обставит квартиру — да и мало ли чего еще сделает она!..
5
Они переехали сюда назавтра. Заботы, эти заботы на новом месте!
А через несколько дней высмотрела Ольга, что квартира рядом с ними еще никем не занята. Странным показалось это, и сначала Ольга не поверила себе, думала, что ошиблась. Вечером того же дня стояла она перед дверью чужой квартиры, волновалась, боялась постучать и проверяла себя: «Если кто-нибудь выйдет, скажу, что ищу незнакомого человека, и назову любую фамилию».
Было что-то около одиннадцати часов вечера. На стук никто не отозвался. Сомнения рассеивались, и тишина за дверью объясняла загадку. Ольга рассуждала: «Тот, который не спешил вселиться сюда, наверняка начальник, значительная личность, а то кто бы это не побоялся держать так долго квартиру пустующей?»
Она обрадовалась, недаром интуиция подсказывала, что не зря думала она, когда ночевала здесь, что поселятся в новом доме люди значительные, определенно городские — не то, что эти заводские. Все друзья Казика такие же рабочие, как и он. Еще когда жили на старой квартире, не нравилось Ольге, что те приходили к мужу и что Казик обходился с ними, как с родней. А то, бывало, и в магазин бегал, водку покупал. Выпивали, правда, они немного, но под хмельком начинали горячий и неинтересный разговор о сдельщине и тарифе, о мастерах, нарядах да разрядах. Слушать их Ольге было в тягость, и, незаметно сидя где-то в стороне, она сердилась на Казика, думала: «Ну, погоди же, поговорю с тобою, когда дружки твои поуйдут, вспомню и водочку эту, и денежки, которые на ветер выбросил. Пускай бы нужному человеку чарку-другую поставил, а то таким же, как сам».
Нет, не подобных знакомых искала для себя Ольга и все более почему-то надеялась теперь на загадочных будущих соседей. Вот хотя бы посмотреть, какие они, узнать, почему так долго не едут.
И Ольга ждала…
А все уже — и ветры, и солнце, и закаты — говорило о весне, и с каждым днем теплело на улице. Некоторое время стояла ветреная, свежая погода. Сплывали мутными ручьями последние ошметки снега, и яростно, сильно светило над городом душное солнце. Стань в такое время да послушай: шумят вокруг в весенней круговерти ветры — гудят, вскидываются, залегают у мокрых стен домов, морщинами схватывают на тротуарах воду, набежавшую от капели, громыхают крышами и вдруг пропадают меж серых улиц.
Ольга шла из магазина. Дул ветер, и неподалеку от улицы падала на пустырь ворона, отчаянно кричала. Ольга завернула во двор, и здесь тотчас бросилась в глаза машина, груженная новой, наверное, только что из магазина, мебелью. Потом она увидела: двое дядек, одетых по-рабочему, поднимались на ступеньки крыльца с небольшой, удобной даже с вида кушеткой на руках. Для них распахивал дверь коридора среднего роста мужчина — круглолицый, в мягкой шляпе и с белым шарфом, который виднелся из-под воротника коричневого, перетянутого поясом пальто.
«Переезжают… наконец, — подумала Ольга. — И сколько мебели!»
Кушетку никак не удавалось пронести через распахнутую дверь: пришлось слегка накренить ее. Дядьки мешали Ольге зайти в дом. Она ждала. Встревоженный женский голос заставил ее повернуться.
— Как же ты не смотришь, Славик, а? Посадили на кушетку пятно, а ты… — говорила, выходя из-за машины, незнакомая Ольге женщина.
Она подошла к подъезду, красиво и со вкусом одетая, и остановилась почти рядом с Ольгою: повыше ее, Ольги, с мелкими чертами лица.
Женщина упрекала человека в шляпе. Тот почти уговаривал:
— Ну зачем так волноваться, Зиночка! Да ведь пятно не от какого-то масла, почистить можно… — И, становясь строгим, сказал рабочим: — Осторожнее, хлопцы! Смотреть надо внимательнее…
Грузчики наконец пронесли кушетку через дверь. Ольга устремилась вслед и, пока шла за ними, чувствовала на себе безразлично-веселый взгляд человека в шляпе: по лестнице он поднимался первым и, время от времени, наблюдая за кушеткой, посматривал и на Ольгу.
Может, он и заметил, какая она красивая. Она сама знала, какая ровная, совсем спокойная ясность лежала на молодом ее, мраморно-белом лице, и такой густой взлетал над высоким лбом тугой завиток темно-русых и шершавых от лака волос.
А вдобавок так шел ей вязаный платок, и такая складная, слегка полноватая фигурка под тесным, сшитым давно и уже изрядно поношенным зимним пальто…
Человек вдруг остановился. Грузчики несли кушетку осторожно, нащупывая каждую ступеньку ногами. И этот человек сказал Ольге:
— Да вы проходите, они пропустят вас… — и повел рукою на рабочих.
И случилось так, что Ольга растерялась. Незнакомец заговорил с нею, и заговорил так нежданно. Торопливым взмахом руки Ольга поправила платок, сказала:
— Ой, что вы! Да я просто так…
Голос был растерянный какой-то и тоненький — даже неприятно ей стало. «Ах, глупая, ах, какая же я глупая!» И надо было то ли пробираться вверх, то ли что-то говорить более определенное. Ольга стояла, прикрыв платком шею.
Человек наверняка тоже почувствовал себя неудобно и, может быть, подумал, какая она странная. Он пошел, не оглядываясь, и лишь на третьем этаже перед дверью своей квартиры остановился, пропуская грузчиков. В этот момент и Ольга поднялась. Словно размышляя, смотрел человек на нее, а она, чувствуя это, испуганно совала ключи в скважину, торопилась…
Наверное, он поступил бы, как невоспитанный человек, если бы не постарался хоть немного сгладить ее неловкость.
— Так мы соседи с вами — верно ведь? — сказал он тоже не совсем впопад.
— Давайте разберемся, — Ольга повернулась вдруг и, какая-то иная уже, с улыбкой взглянула на человека. Теперь она как будто не стеснялась нисколько, и хорошая, ласковая улыбка была у нее — она знала.
Человек не успел ответить ей: за Ольгой захлопнулась дверь.
Вот и стоял он теперь на площадке и не знал, как радовалась она, незнакомая ему женщина, что поселились рядом с нею люди, с которыми, казалось, придет скорее и к ней иная, такая желанная ей жизнь.
И почему не разговорились они во дворе, почему не познакомилась сразу с женою этого человека? Упустила удачный случай!
6
Ей повезло на этот раз: Зиночка совсем по-соседски зашла занять хлеба («Извините, Славик пришел рано с работы, а я еще не купила») и пригласила Ольгу к себе. Ольга так благодарила, так благодарила — и назавтра пришла.
Переступив порог чужой квартиры, она сказала:
— Добрый день! Муж еще не приходил с работы, так я думаю: зайду…
Поднялся человек с кушетки: удивленный и озадаченный, искал ногами на полу тапочки. Светлые и гладкие, длинные его волосы нависали на полные щеки. Сунув ноги в тапочки, человек неуверенно сказал:
— К тебе, Зиночка?
— Да, я приглашала, Славик, — торопливо заговорила та. — Соседка наша… Знакомьтесь — мой муж.
Ольга едва удержалась, чтобы не произнести невольно, что они знакомы. Он же, как только Зиночка отрекомендовала соседку, легко и сразу встал, пошел навстречу, подал Ольге руку:
— Вячеслав… Или Вячеслав Петрович, если хотите. Заметно было, что и здесь он не хотел терять своего права на имя-отчество.
— Ольга, — сказала она, краснея и сразу отнимая руку.
— К столу, садитесь к столу, — приглашал тем временем Вячеслав Петрович, подавая стул, — сядем у круглого стола… Вы знаете историю круглого стола? — спросил неожиданно он.
— …этого? — спросила Ольга. Она успела уже усесться на стуле и после вопроса Вячеслава Петровича словно застеснялась чего-то, испуганно убрала руки со стола.
— Нет, что вы! — Вячеслав Петрович был в радостном, игривом настроении. — Что вы! Вообще — история стола. Я вам сейчас расскажу… Люди, знаете, раньше придерживались строго субординации. Скажем, у шаха или какого-нибудь короля гости по чину садились за стол: не дай бог, если с краю! А различных чинов было, скажу я вам, как икринок в черной икре…
Зиночка засмеялась.
— Помнишь, Славик, как забавно тогда получилось, когда Арнольд Филиппович сказал про эту икру. Ты не умеешь так рассказывать…
Вячеслав Петрович слегка поморщился, но не обиделся, наверное, потому что все так же весело продолжал:
— Значит, чинов этих слишком много было, и каждый с гонором — как ни говорите, а все господа. Посади такого не там, где надо, — ого! Сразу перевороты разные, заговоры — тогда это в ходу было! Видите ли, власти каждому хотелось. Сговорятся графы да мушкетеры всякие — и король хоть король, а с кресла долой! Комичная жизнь.
Вячеслав Петрович рассмеялся, искренне так и добродушно, поглядывая при этом на Зиночку, и взгляд его, казалось, говорил: «А что? Пускай твой Арнольд Филиппович так расскажет! Пускай попробует!»
— Да продолжай же, — безо всякой злобы упрекнула Зиночка мужа. — Тянешь, как резинку.
— А конец такой, — без прежнего вдохновения сказал Вячеслав Петрович, ставя стул и для себя. — Какой-то король французский, Генрих там или Карл… Ты не помнишь, Зиночка, кто?
— Арнольд Филиппович говорил: Генрих.
— …повелел поставить в своем дворце круглый стол. Чтобы никому не было обидно: все будто посредине сидят и все равные…
— А это и теперь бывает, что смотрят, как бы поближе к начальству, — каким-то чужим и очень серьезным голосом сказала вдруг Ольга.
Вячеслав Петрович встрепенулся.
— Нет, не согласен, — живо откликнулся он. — Теперь не то, теперь каждый свое место знает. Арнольд Филиппович, допустим, начальник мой, в тресте инженер. Что я скажу? Человек умный, нашего брата бухгалтера ценить умеет, за что и я его…
— Если бы не он, неизвестно, когда бы еще дали такую квартиру… — вмешалась в разговор Зиночка. И к Ольге: — У вас сколько комнат? Одна? Вот видите… Нам бы тоже на двоих одну дали. Эту квартиру нашу предлагали Арнольду Филипповичу, да он не захотел: маловато, говорит. Ну, и переписал на Славика… Арнольд Филиппович потом у нас на новоселье был.
«Так вот почему пустовала квартира», — догадалась Ольга.
А Вячеславу Петровичу, пока говорила Зиночка, не сиделось на месте, и, как только она смолкла, он усмехнулся и со скрытым удовлетворением подсказал:
— Ты покажи квартиру, Зиночка. Какой она покажется новому человеку, а?
— Ой, да я ведь забыла! Все из-за тебя, Славик, из-за твоих разговоров…
Наверняка с этой поры и начиналось то, что еще не раз приводило Ольгу к новым соседям: Зиночка умела показывать, она будто и старалась ради того, чтобы побольше посеять в чужой душе вредных зерен зависти.
Однажды произошло так, что Ольге не пришлось стесняться своего любопытства, и вовсе не безразлично смотрела она на новехонький мебельный гарнитур, говорила что-то о кресле, на котором только что сидела, — об этом приземистом, обитом голубым плюшем кресле, и уже с какой-то грустью узнавала она ту самую, знакомую с первого дня приезда соседей кушетку.
— Нравится? Вам нравится? — допытывалась Зиночка. — Видите, вот только шторы менять придется: они не в тон.
И долго любовались потом в спальне диваном.
— Нет, вы все же пощупайте, — подогревала Зиночка интерес Ольги. — В городе такой не купишь: и не дорого, и какой славный. Муж за ним специально в район выезжал.
Нет, она не ошиблась, Зиночка; может быть, уже сразу, как только загорелись глаза у Ольги при осмотре самых свежих ее обнов, она затаенно радовалась, заодно читая при этом совсем нехитрую повесть чужих и желаний, и надежд…
А в довершение всего — туфельки, замшевые, закрытые, такие чудные. Зиночка даже примерить их позволила Ольге, а та была так угнетена впечатлением от всего увиденного и услышанного, что могла лишь сказать:
— Ах, какой у вас золотой муж, Зиночка! Счастье иметь такого… Что и говорить!
7
Вячеслав Петрович нравился Ольге.
Не по-особенному как-нибудь там, а так же, как нравилась ей и Зиночка, как нравились и тихие вечерние застолья в их квартире, когда втроем садились за стол, под дремотно-ровную сень торшера, и осторожно кто-то начинал затасканный список первых разговоров.
— Вы знаете, а может, слышали: покрасили в соседнем доме балконы, а колер перепутали…
— Да ведь так всегда, когда дом сдают, а потом за них доделывай…
И оказывалось, что приходил уже в чью-то квартиру милиционер и что не миновать виновным штрафа. А то рассказывали, как человек какой-то (утром в очереди говорили) разделил квартиру для двоих жен — вот комедия! — и угождает обеим. Женщины как-то по-особенному смеялись, Вячеслав Петрович тоже с ними…
Возвращалась Ольга от соседей умиротворенная, в необычном для Казика ровном настроении. Она рассказывала:
— Ты знаешь, Зиночка так боится, если бы ты только знал, как боится.
— Что ж это она? — придавая голосу едва уловимую иронию, словно любопытствовал Казик.
— Это ведь подумать, чтобы мнительной такой быть: еще когда тот ребенок родится, а она: «А что, если неживой будет или уродец — господи!»
— Пусть почаще выходит проветриваться, — по-своему понимал Казик.
— Да и я говорю. И Вячеслав Петрович. Он ласковый такой, внимательный — вот за чьей спиной хорошо живется жене!
— Ты все горюешь, бедная, покоя тебе нет. Только и сидишь у соседей…
— А тебе не нравится, да? Потому что они люди не такие, как ты!
— А какие же они? Что ты в них особенного нашла, скажи!
— Они жить умеют, а ты…
— Давай разберемся, — сердился Казик. — Что ты говоришь! Какой же твой Вячеслав Петрович особенный, если он даже здороваться с человеком не хочет, ходит, будто в руках вожжи от всей земли держит… Встретился я вчера на лестнице с ним… Потом… ты сама говорила, как он квартиру получал…
— Умный, вот и получил, а ты два года в закутке сидел… Каждый живет, как умеет.
— У тебя совести нет — что ты несешь? Лучше бы работать шла — меньше времени для глупостей было бы.
— Надоели твои глупости, слышишь? Я только с этой весны и жить начала…
Да, а меж тем и весна проходила, наступало лето. Летом поехал Вячеслав Петрович с Зиночкою к своим родителям. Вернулись они через месяц; Зиночка еще более располнела, и теперь какое-то испуганное и неопределенное выражение застыло в ее глазах и отразилось на маленьком, заметно загоревшем личике. Вячеслав Петрович выглядел озабоченным.
Прошло еще некоторое время. Ольга однажды сказала Казику:
— Зиночку отвезли в больницу. Сама видела…
— Пускай бы все хорошо обошлось, — отвечал на это Казик.
— Как ей там будет? Страшно, наверное? — тревожилась Ольга.
Она так привыкла к Вячеславу Петровичу, к Зиночке — всегда и думала, и говорила о них, как о своих. Теперь ее беспокоило: как там Зиночка? Не выдержала и зашла к Вячеславу Петровичу спросить, есть ли какие-нибудь новости о жене.
— А-а, это вы? — вовсе не удивившись, встретил ее тот.
Вячеслав Петрович был немного заспанный, как сразу заметила Ольга, с всклокоченными волосами и в выцветшей рубашке.
Ольга огляделась.
Сифончик с водою стоял на столе. Тут же были разбросаны по газете огрызки яблок. Вячеслав Петрович, приглаживая рукой волосы, подошел напиться.
— Я вот задремал, — наклоняя сифон, как-то вяло сказал он. — Садитесь на кушетку, не обязательно в кресло.
Взгляд его был неопределенный, мутноватый какой-то, свободной рукой он потирал висок. Ольга уселась и сразу постаралась отгадать его настроение:
— У вас теперь забот много, не удивительно, что вы устали… Что слышно о Зиночке?
Он почему-то медлил, словно размышлял, отвечать или нет. Заговорил же лишь тогда, когда сел на кушетку, совсем рядом с Ольгой. И голос его вдруг неестественно стал живее.
— Ну что вы, не успела из дома выбраться, рановато ей еще… А почему у вас детей нет, Ольга… Ольга Романовна? — неожиданно спросил он.
В растерянности Ольга отпрянула от него, посмотрела удивленно. Ребенка хотел Казик, она же не хотела. А теперь этот спрашивает… И как это Зиночка согласилась иметь ребенка?
— Видите, какой я, — засмеялся Вячеслав Петрович, — задаю неделикатные вопросы… Но ведь мы знакомы давно, Ольга Романовна. Почему вы отодвинулись от меня?
Ей было неловко сидеть вот так — один на один с Вячеславом Петровичем рядом на кушетке. Кто-то громко заговорил на лестнице, слышался торопливый топот ног. Казалось, люди бежали сюда. Где-то хлопнула дверь. И все затихло.
Она все еще не отвечала Вячеславу Петровичу.
«Надо идти домой, — беспокоилась Ольга. — Спросила о Зиночке — и хорошо. А то еще подумает бог знает что».
Но, кажется, и Вячеслав Петрович то ли обеспокоился, то ли рассердился.
— Если бы я был вашим мужем, — обратился он, — я заставил бы вас носить перстенек… на правой руке. Почему вы не носите? — Он торопливо схватил Ольгу за руку, успокоился немного, когда увидел, что она не отнимает свою руку. — Чтобы все видели, что вы замужем, и чтоб никаких… Я ревновал бы!.. Ваш муж не ревнует?
— Да зачем ему ревновать, Вячеслав Петрович! К кому?
— Ну, хотя бы ко мне, Ольга Романовна, а? — Вячеслав Петрович на всякий случай засмеялся. — Знает же он, что вы ходите к нам?
— Это не то, Вячеслав Петрович, не говорите… Мне просто хорошо у вас, может, даже лучше, чем дома…
— Вижу, что вам хорошо, — получше, чем мне…
— Чем вам? Что вы, Вячеслав Петрович!
— Знаете, Ольга Романовна… — некоторое время он раздумывал: говорить или нет, — вас хоть муж не пилит, а мне от Зиночки столько перепадает… и все из-за вас. Скоро, наверное, и царапаться полезет…
— Как это? За что?
— Ну, как сказать вам, Ольга Романовна? Могла ведь она подумать, если вы так часто заглядываете к нам?..
Он совсем осмелел уже, и рука его, привычно побегав по Ольгиной спине, замерла на ней.
Вот как все получается. И, значит, иначе все было, совсем иначе. И, значит, никогда не было тихих застолий здесь, в этой квартире, ни сердечного сочувствия, ни дружбы. Все она сама придумала, Ольга, — и все обман. Так хорошо, легко чувствовала она себя еще недавно с Вячеславом Петровичем, с Зиночкой и — надо же! — не замечала ничего, и как жаль теперь и того спокойствия в сердце и задушевности, с которыми шла всегда к соседям… Как они повернули все, как они могли подумать!..
И тогда Ольга заговорила со сдерживаемой злостью, колко:
— Так вы, может быть, меня ждали, Вячеслав Петрович? А Зиночка об этом знает? Как же ей будет там?
Возможно, теперь уже и он догадался, что определенно ошибся в Ольге. Ольга заговорила о Зиночке — значит, она знала, как его уколоть больнее…
Он не сидел уже на кушетке, а, нахмурясь, ходил по комнате.
— Зиночка, между прочим, — мягко начал он, — здоровая, да я за нее и не опасаюсь: она в надежных руках. Это даже хорошо, что ее теперь здесь нет. Мы можем поговорить с вами… Я правильно сказал, Ольга Романовна, — ну, о том, что вы так часто заглядываете к нам. Жене это неприятно… Словом, я прошу вас…
«Так вот ты какой, — дошло наконец до Ольги, — ты еще виноватой хочешь сделать, ты мстишь мне»…
Она вскочила с кушетки.
— Я… я не знала, что вы такой… Как вам не стыдно!
Она боялась, что не выдержит, разревется, потому что очень больно и обидно было ей.
Но все же дома, где никто не мог ни слышать, ни видеть, она расплакалась. Слезы принесли какое-то облегчение, и она успокоилась: сидела в своем доме, снова да снова думая о соседях, и странным казалось вот что: то, что было прежде, что утешало ее и даже восхищало, совсем, оказывается, не сохранилось в памяти; теперь, наоборот, в памяти так ясно проступало иное. Ну, хотя бы то, как готовились отмечать день рождения Вячеслава Петровича, а Ольга узнала об этом поздно и случайно: была у соседей, а Зиночка как раз заговорила о гостях: «Арнольд Филиппович сухое вино любит, так ты не забудь, Славик, обязательно купи». Ольга забеспокоилась: ведь надо от себя что-то преподнести Вячеславу Петровичу, а так поздно, так поздно узнала она об этом… Но Зиночка возразила: «Преподнести Славику? Зачем? Как-нибудь в другой раз, а то завтра, знаете, будет не совсем семейный праздник, соберутся сотрудники Вячеслава Петровича… Может быть, потом созовем гостей, и тогда»… Ольгу не пригласили.
Она не помнила теперь, обиделась на соседей тогда или нет. А может, поверила? Какая же глупая была, даже вспоминать стыдно.
А они… Этого Арнольда Филипповича на руках готовы носить, и наверняка так не поступали бы, если бы от него не имели выгоды. Вот какие соседи! Нет, она, Ольга, жалеть не будет, что рассорилась с ними!..
Она уже не плакала: встала, вышла на кухню, вымылась там под краном, вернулась опять в комнату — делать было нечего. Постояла в раздумье, увидела: подушка на диване свалялась — и поправила ее. Подобрала из вазона старый, порыжевший окурок — этот Казик, сколько ему ни говори, все равно делает по-своему. На подоконнике же стояла керамическая шкатулка: Ольга собирала в нее монетки, все опасалась, как бы не задел шкатулку неосторожный Казик. Шкатулка запылилась: Ольга нашла тряпицу, принялась вытирать. Вдруг шкатулка выскользнула из рук — и разлетелась! Монетки брызнули под диван, покатились по полу. Вот уж не везет, так не везет! Ольга принялась отодвигать диван, нервничала и вдруг вскрикнула — больно прижала палец. Так тоскливо стало, так жаль себя — и она опять заплакала… Да черт с ними — и с квартирой этой, и со шкатулкой, и с соседями! Ну, вот, имела она квартиру — и что же? Точно были у нее знакомые — и нет их. Казик не любил соседей, уговаривал, чтоб не ходила к ним. Ему что, ему легко: все время на заводе, собрания разные, лекции, а тут сиди дома, ничего ты не знаешь, не видишь. Только и знает: иди работать! А если бы настоящий хозяин был, то работу давно бы сам подыскал, не болтал бы зря…
Потом она стояла у окна: предвечерним низким солнцем был залит город. Розовыми отблесками посверкивали крыши, окна плавились от солнца. На железнодорожной линии кутался паровоз в грязновато-желтый дым. Кирпичные трубы, эти громадины, застывшие в каком-то величии, вздымались и тут, и там. Словно меч, брошенный неизвестным великаном, рванул ввысь реактивный самолет, и белые полосы, тянувшиеся за ним, были следом этого меча.
Большой город лежал перед Ольгой, но незнакомый какой-то, совсем новый. Она ведь всегда думала и еще в деревне мечтала о своем городе — был он с витринами магазинов, с бесконечными гонками троллейбусов и машин, с толпами людей на улицах. А этот, увиденный ею, поднимался вверх стрелами кранов, зычно перекликался паровозными гудками на невидимых переездах и станциях…
И, чтобы увидеть его, надо было смотреть широко открытыми ясными глазами.
ДОМА (Перевод Эд. Корпачева)
Долгим и узким двором они дошли до пуни — сенного сарая. Степан снял с пробоя щеколду, и ворота с сухим скрипом отворились. Из пуни повеяло таким знакомым Степану запахом сырой земли и свежего сена. Он достал из кармана коробок и осторожно чиркнул спичкой.
— Ну, Степа, — с укором сказала сестра и дунула на огонек. — Ты ведь знаешь: наш тата… наш отец. Он просил…
Стало темно. Степан улыбнулся: «Как же она выросла! Совсем большая. Девятиклассница!»
Вот уже два года минуло, как не наведывался он домой. Когда в последний раз уезжал из деревни, сестра была почти девчушкой, он даже помнил: часто плакала, если не получались уроки. А теперь — невеста, невеста!
Вроде еще темнее стало, едва погасили спичку. И Степан ничего не различал.
— Сюда, — шепотом сказала сестра, — неужели ты все забыл?
Степан выставил в потемках руки перед собою и пошел за ней.
По стремянке поднялись наверх. И не успел Степан и шага ступить, как сено под его ногами слегка заколыхалось, зашелестело — он не удержался и упал. Сестра засмеялась, и ему тоже стало весело, приятно.
— Как хорошо, Нина, а? — вдохнул он полной грудью запах молодого сена и еще глубже залез в это душистое тепло.
— Хорошо, хорошо, — живо отозвалась Нина. — Я еще перед экзаменами спать собиралась, да мама не позволила. Боится, что буду поздно приходить из села.
— И правильно поступает. На вечеринки, признайся, давно ходишь? И записки на уроках получаешь… Ну, разве не так?
Голос его — Степан сам понимал — был и хитроватым, и ласковым.
Нина ответила с притворным недовольством:
— Какие вы, учителя, ворчливые, придирчивые. А я прежде думала, что вы не такие люди, как все… Ну, спи, сочинитель, а я пошла.
Степан все улыбался.
Как только Нина вышла, он разделся и лег. Захотелось ему курить, вспомнил он предостережение сестры и опять усмехнулся, зажигая сигарету. Спичку он размягчил пальцами и отбросил подальше от себя: чтобы не заметил утром батька.
Он лежал и думал. Было тихо, только внизу временами вздыхала корова да над самым ухом звенел неуловимый комар. Кое-где через стреху просвечивало небо, и Степан долго смотрел на эту заплатку темноватого неба, пока совсем рядом не заиграла гармошка и не обрадовался приятный девичий голос тому, что «у растянутой трехрядки васильковые меха». Степан встрепенулся, что-то шевельнулось, защекотало внутри, и он почувствовал, как непонятная радость охватывает его.
Он уже не мог лежать спокойно, все ворочался. «Что это? — думал он. — И почему я так разволновался?» И вдруг понял: «Я дома! Чего тут долго гадать? Я дома!»
А гармонь все играла да играла, и все тот же девичий голос пел о влюбленных, которые никак не могут расстаться, о росной стежке в жите, о туманах над рекой…
И Степан вспомнил, как влюбился в восьмом классе в Катю Васильчикову, живую тоненькую девчушку со светлыми косами, и как смешно ревновал ее к своему школьному дружку Владику, рассудительному и не по годам степенному хлопцу. Владик даже о матери своей, если та говорила или делала что-нибудь не так, как ему хотелось, по-взрослому мудро говорил: «Что поделаешь — женщина». Владик рос без отца. Кроме Кати, ни с одной девочкой из своего класса он не дружил. И вот втроем они часто ходили за деревню на шлях, карабкались там на вербы и распевали песни. Степану такие прогулки приносили мало радости. Владик уже в те годы курил и, когда скручивал цигарку, доставая из кармана листок газетной бумаги, размером с игральную карту, и щепотку самосада, всегда предупреждал Катю: «Смотри, никому ни слова». И Катя всегда покорно отвечала: «Конечно, Владик», — и почему-то вздыхала. А Степан все время следил за нею, страдал, слово себе давал даже и не глядеть на нее. Но проходило время, и он принимался за записки. Катя делала вид, что ничего не понимает, рисовала на тех записках смешные мордашки и отсылала Степану.
Так и шло время. Вскоре они окончили десятилетку, Владик поступил в военное училище. Катя поехала к сестре в город, и больше Степан ее не видел.
«Как это было давно, — думал он теперь. — Да, а где же Владик, где Катя? Ах, как плохо: я даже не знаю, где они».
Он упрекал себя, и ему почему-то стало грустно. Прежнее настроение словно развеялось. Совсем иные, неприятные воспоминания заполнили его. Теперь он видел себя студентом, неловким и нерешительным, который вдобавок более всего на свете боялся выглядеть смешным. Студент Степан носил очки и чувствовал себя очень неловко. В компаниях он почти всегда молчал, видел, что положение его и незавидное, и смешное, сердился на себя, но ничего не мог изменить.
Два года после института он работал учителей в полесской деревне Ольховке. Он никогда не задумывался, нравится ли ему его профессия; готовился к урокам, читал колхозникам лекции, если просили, а вечера проводил в своей холостяцкой квартире — ему казалось, что так и надо. Он вел литературу. Уроки проходили гладко, ученики как будто уважали его, но он чувствовал: чтобы стать в деревне авторитетным человеком, ему чего-то не хватало. Но вот чего именно — Степан не знал.
Наступало лето, кончались экзамены, и как-то получилось так, что Степан оставался в Ольховке и утешал себя тем, что лучшего и не надо. Временами он вспоминал город, институт, друзей. Бывшие однокурсники давно обзавелись семьями, а он после института даже не влюбился. В такие минуты, когда он понимал это, было особенно горько.
И вот теперь далеко Ольховка, а сам он — дома.
Гармонь уже утихла, и в ночи Степан особенно отчетливо слышал, как в кустах за пуней конь скубет траву и как под его копытами хлюпает мокрая земля.
Повернувшись на другой бок и смежив глаза, старался представить себе что-нибудь белое, мягкое, как учила его в детстве мама, если он долго не мог уснуть. Но сна не было.
Так он лежал долго, пока на дворе не послышались шаги. Степан насторожился: кто бы это?
— Подожди еще немного, Нина! — упрашивал кто-то.
Голос был незнакомый, мальчишеский. Степан приподнялся и стал вслушиваться.
— Ты потише, а то брат услышит…
Зашептались торопливо, и ничего нельзя было разобрать.
— Мне пора, — сказала Нина.
Потом снова шепот, потом опять отчетливый голос сестры:
— А кто Василю сказал, что мы с тобой вчера гуляли на шляху?
— Я не говорил, он сам, наверное, догадался.
Молчание, одно молчание.
— Ты мне даже платочек дать не хочешь, — услышал Степан через минуту обиженный, невеселый голос.
— Не хочу, не хочу… А если кто увидит…
— Не увидит, я поношу немного и отдам…
«А наверное, хороший хлопчик, — подумал Степан. — Если бы я его увидел теперь, то и не узнал бы, чей. А Нина! Вот тебе и девятиклассница!»
И он снова стал вслушиваться. Нина говорила:
— Да перестань ты про платочек. Вышью узор — тогда и отдам. Пусти руку… Мне пора…
Они еще о чем-то шептались, а потом Степан услышал, как сестра взбежала на крыльцо и отворила дверь в сенцы. «Вот тебе и девятиклассница, — снова мысленно повторил он и с удивлением почувствовал, что ему стало почему-то радостно и хорошо. — Ну и дела! При чем здесь я? Возле крыльца я не стоял, в любви никому не признавался»…
Но где-то в глубине души жила уверенность, что он обманывает себя. Перед глазами опять, как с вечера, встала Катя: он полагал, что тогда, в школе, Кате было столько же лет, сколько теперь сестре. Да так ли давно это было? «Дурной ты пень, — сказал он себе, — ничего еще не потеряно, все у тебя впереди. А ты в каком-то миноре». Он весь напрягся, какой-то теплый комочек подкатился к сердцу, мягко тронул его. И грусти уже не было.
Где-то захлопал крыльями петух и чисто прокукарекал, ему отозвались еще с одного двора, и вскоре бодрое петушиное пение прокатилось по деревне.
Спать не хотелось.
СЕНО НА АСФАЛЬТЕ (Перевод Эд. Корпачева)
ПИСЬМО ПЕРВОЕ
Часто я спрашиваю у себя: как мы встретились и почему? Помню, когда мы учились в школе, мне как-то не по-детски хотелось грусти, таинственной, редкостной судьбы. Пролетели годы — и я узнала грусть и поняла, что научиться грусти невозможно, как нельзя и научиться радости. Всему свое время. Еще я знаю теперь, что с бегом времени душа становится более тихой, ласковой, успокаивается, но не дремлет: она, как и прежде, ищет радости, только знает уже, чего ей хочется. Вот почему я думаю, что повзрослевший человек более романтик, чем в ранней юности. И когда я поняла это, я и повстречала тебя. Прежде мы не могли встретиться, потому что не поняли бы друг друга.
Помнишь нашу первую встречу?
В то утро я зашла к своим знакомым взять апельсины: где-то они достают, сказали, что могут достать и мне. А я подумала, что хорошо будет занести их Лельке, сестриной дочке: ты же знаешь, малышке не очень сладко живется. Сестра давно не в ладах с мужем, все не может простить ему какие-то мужские грехи — и они без конца ссорятся, а девочка бегает от матери к отцу, не зная, к кому прильнуть. Пять лет девочке, и она такая славная.
В то утро, помню, шла я мимо кинотеатра. Помню, как под его крышей, где-то там, за серыми колоннами, рьяно чирикали воробьи, внизу, у входа, уборщица орудовала голой метлой, а на стене, на самом верху, вздрагивало, то бледнея, то делаясь ярче, трепетное солнечное пятно. И въедливо, терпко пахло пылью. Я люблю, когда пахнет пылью, а в то весеннее утро улица пахла еще и свежими булками, и душистым кофе, и трезвящим холодком молодой зеленой листвы. Я все шла да шла по тротуару и всматривалась в лица редких прохожих. Ты знаешь, ты, наверное, замечал это приглушенное грустно-мечтательное сияние, которое бывает весной на лицах у людей, на лицах, едва тронутых первым загаром? Такую же просветленность еще можно заметить, заглянув человеку в лицо внезапно во время тихого и теплого дождя. А ты не ловил себя на том, что в дождь хорошо и легко думается, а на душе бывает так светло и ясно?
В то утро ты был такой спокойный, устало-тихий какой-то, улыбчивый и кроткий. И так смешно и по-ребячески легко тогда разговаривал. Помнишь, когда я рассыпала на углу улицы апельсины и ты неизвестно откуда ринулся их подбирать?
Словно все в то утро складывалось для того, чтобы мы встретились с тобою.
А какая тогда была весна! Где только не побывали мы с тобою в ту весну! В дождь до поздней ночи просиживали мы в скверах, накрывшись твоим пиджаком, и, помнишь, сколько раз начинали думать о том, как поехать бы куда-нибудь, далеко-далеко, допустим, на маленький речной островок. Желания влюбленных не знают границ, и так и надо, чтобы была только любовь и весь мир. Мы покупали на вокзале билеты на любой поезд — и сколько незнакомых деревенек, речек, лесов и полян неожиданно открывали для себя! А кинотеатры на окраинах города — старые, со скрипучими стульями, с выщербленными и истертыми до ямок полами? А сеансы, на которых от соседа по ряду нестерпимо несло сивухой, — и как часто обрывалась кинолента и становилось темно, и тогда в зале слышались свист, крики, топот, не очень приличные шуточки. Никто не знал там ничего о нас, и это было приятно, как, наверное, приятно было какому-нибудь принцу из старой притчи, переодетому в нищего.
А потом у нас начались нелады. Ты словно мстил за что-то мне, словно бы нарочито стремился оскорбить меня — какой же ты был жестокий и в то же время растерянный в своей холодной озлобленности. Мне так тяжело было с тобою. Зачем ты так поступал?
Лишь позже я догадалась, что ты ревновал меня, что ты боялся меня потерять. И тогда, догадавшись, я простила тебе все.
Это было уже летом, после того как я уехала из нашего города, сказав напоследок, что мы надоели друг другу, что нам надо отдохнуть, побыть в одиночестве, разобраться в своих чувствах.
Я поехала тогда к тете, в тихий и зеленый городок — бывший областной центр. Мне как раз нужно было это — тишина, узкие улицы, горшочки с цветами, подвешенные к фонарным столбам, сонные женщины в газетных киосках. Все — просто, понятно и немного скучно. И никто не удивился бы, если бы однажды на улице появились козочки.
В том городе есть река, а в нее за городом, возле деревеньки, впадает, разливаясь на три ручья, неглубокая холодная речка. Песчаный берег правого ручья порос лозой, над ним — гора с шатрами темных сосен.
Каждый день я ходила туда купаться.
Лежишь на берегу — дрожит, взблескивает в широких ручьях вода, белеют на речных островках валуны, синяя томительная дымка висит над водою там, где река делает поворот, где под горой насыпанного самосвалами песка рокочет кран, грузящий баржи. Мальчики с берега ловят удочками рыбу. В полдень заходят в речку коровы, стоят в воде, помахивая хвостами, — плывет, всплескивает река, и медленно тянется время, томительное, как звон кузнечиков в ушах. О, сладкая, ленивая бездумность, о, жизнь души, дремотная, как звон воды, томительная, как синий повойник дымки. Глаза видят, слышат уши, и, затаившись, лечится душа. Млеют от жары поля, течет, сквозит в солнечных лучах река, далеко на взморье ждут свежего ветра корабли, и вот-вот вздрогнет сонная синь, повеет ветер и погонит корабли в страну добрых встреч. И тогда я тоже поставлю свой парус.
Так я вернулась к тебе.
Лена.
ДЯДЬКА ИГНАТ
Я шел на свидание с Леной и на нашем дворе увидел дядьку Игната.
Были сумерки. Одурманивающе пахли цветы, окна в доме раскрыты, и в чьей-то квартире задумчиво вела мелодию радиола. Во дворе на лавочках сидели женщины. Мужчины грустили рядом с ними: курили, втянув голову в плечи, попыхивая дымком в кулак, и кое-кто из них был без рубашки, в майке.
Дядька Игнат стоял у низкой изгороди перед домом, смотрел, как толстяк в пижаме поливал из шланга газон с цветами.
— Постой, Виктор, расскажи, где был, что видел, — не поворачивая головы, тихим и ровным голосом сказал мне дядька Игнат. Я только что поровнялся с ним и готов был поздороваться.
Я остановился, хлопнул руками по карманам, вспомнив неожиданно о своих сигаретах, а дядька Игнат снова ласково и спокойно возразил:
— Еще вздумаешь разными «фильтрами» угощать. Закури лучше моей махры.
И подал мне небольшой кисет с кармашком сбоку: в нем была аккуратно нарезанная газета.
— Кури.
Я закурил.
Лилась из шланга, сеяла брызги вода, хлестала по листьям цветов — и хорошо пахло сырою землею. Человек в пижаме не глядя водил шлангом перед собою, взгляд его был отсутствующим: может, человеку наскучила его работа, а может, было у него свое, особенное, одному ему известное настроение и он под безразличием прятал его, не хотел, чтоб догадался о его настроении кто-то посторонний.
Все казалось непонятным, неясным там, где был дядька Игнат.
— Ну, как моя махорочка — Москву увидел, а? Это, брат, совсем не то, что твоя трава. По-моему, не подходит даже курить мужчине твою траву: лучше мох из стены выщипывать. Да где тот мох в городе!
— Махорка как махорка, — с нарочитым безразличием сказал я. — Москвы не увидел, но горло дерет.
— Значит, ничего ты не понимаешь… Такой, как он, — показал на человека с шлангом. — Я говорю: зачем цветы поливать, если ночью дождь будет, а он не слушает, доволен, что занятие нашел.
— Откуда вы знаете, что ночью будет дождь?
— Я, браток, сорок с лишним в деревне прожил — почему же не знать?
— На старой квартире это было, — сказал вдруг человек в пижаме. — Сосед у меня, бывало, напьется, включит в комнате радио на всю катушку, ляжет на диван и слушает. Жена его ругается, сам бы ему, кажется, по шее надавал, а он: не ваше, говорит, дело, дайте наслаждаться жизнью — так еще кто-то великий однажды сказал… Откуда он знает про того великого? Вот и я. Тоже хочу наслаждаться жизнью.
— А этого тебе никто не запрещает, — строго сказал дядька Игнат. — Это другое дело. Я только про дождь говорю.
— Дождь так дождь… — сказал человек в пижаме. — Не помешает и дождь.
— Завтра футбол, — сказал я. — Зачем этот дождь?
— Футбол будет днем, а дождь сегодня ночью, говорю, — поправил меня дядька Игнат.
— Наши завтра выиграют, вот увидите, выиграют, — сказал человек в пижаме. — Поспорим?
— Это как сказать, — возразил я. — Команда приезжает сильная, а наши перед этим такую дурацкую ничью сделали…
— А я думаю так: с сильной командой легче играть. Наши чаще всего слабакам и проигрывают.
Дядька Игнат сказал:
— Не понимаю я болельщиков ваших. Да еще рыбаков — тех, что с удочками целые дни просиживают… Бывало, поедешь на луг, намахаешься косою за день, а вечером — за топтуху да в какое-нибудь застоявшееся озерцо. На ноги лапти обуешь. Косить и рыбу ловить лучше всего в лаптях. Ну, еще, может, коров пасти… Да я же говорю: побарахтаешься, вылезешь на берег — и рыба есть, и сам будто в святой воде выкупался. А потом разведешь костерок у шалаша да в чугунок рыбу, в чугунок… Эх, радость тебе!
— Вам, дядька Игнат, в деревне жить надо, — сказал я.
— Может, и перееду еще в деревню — откуда тебе знать, — почему-то обиделся дядька Игнат. — А ты что — можешь без деревни прожить?
— Почему же? Я знаю, что без деревни нельзя, но и без города нельзя тоже. О чем я думаю, так это — чтобы и то, и другое в человечьей душе примирить…
— Видал его — примирить! — уже разозлился дядька Игнат. — Ничего себе мир, если такие, как ты, из деревни убегают, с той земли, где их батьки горб нажили.
— Я не убегал, но если на то пошло, то в деревне может каких-нибудь пятнадцать процентов населения жить, — в хлеба, и молока всем хватать должно…
— Это по-научному или как?
— Может, и по-научному. Но разве не верно?
— А вот плохо, — расшумелся дядька Игнат, — что некоторые думают, будто батоны на вербе растут… И все потому, что к земле уважения нет. Отработает на тракторе сопляк какой-то, который десять классов окончил и стаж зарабатывает, чтобы из деревни сбежать, — отработает он смену или меньше, на чуб флакон одеколона выльет — и к девкам. Ему хоть трава не расти…
— Тебе, Степанович, председателем бы в колхозе быть, — сказал человек в пижаме. Он бросил уже свой шланг, стоял, скрестив руки на груди, и слушал. — По справедливости, Степанович, говорю.
— А ты думаешь, не был? — словно удивился дядька Игнат. — Не председателем, так бригадиром был. Сразу после войны… И вспоминать не хочется, но все равно вспомнишь: такое было время. Такую войну на плечах вынесли, столько осталось сирот, матерей безутешных и вдов. Столько пахарей, столяров на той войне полегло… А ты остался, головы своей не сложил; уцелел и домой пришел. Тебе надо новую жизнь строить, вдовами тебе командовать надо… И вот приходит к тебе вдова и просит, чтобы привезти дров, лошаденку, и случалось, пол-литра из-под полы достает… Только я за ту пол-литру не обвиняю ее. Не взятку же она приносила, не совесть твою покупать. Знала она, как нелегко было дать ей лошаденку, и твоего сочувствия просила она. А чем она отблагодарить могла? Сама огород свой пахала, корову запрягала в плуг. Дрова из леса на саночках возила, в колхоз летом каждый день шла… Про то я тебе говорю, что на взятку неспособен простой человек. Правда, были и такие — и бригадиры, и председатели, и возле председателя всякие, которые на людском горе «падчериц» растили, ту вдовью водочку в глотку лили, потому что очень широкая пасть была, — так пусть же им отзовется и на этом свете, и на том, если верить в нее, во вдовью слезу!..
Дядька Игнат нервно дернул головой, достал из кармана кисет и закурил.
— Значит, так и не удалось тебе, Степанович, до председателя дорасти? — как бы сочувствуя, сказал человек в пижаме.
— Не удалось, — грустно усмехнулся дядька Игнат. — И все из-за этих вдов… Соседка у меня была, Аринкой звали. Маленькая, курносая, вечно в ватнике ходила. Муж не вернулся с войны, хата в оккупации сгорела. Жаль было мне ее. Замуж во второй раз не вышла, а детей от разных пройдисветов аж двоих завела. Поставила хату. Что там за хата, понятно: два окошка, а там, где еще должны быть окна, — мох между бревнами…
У нас фининспектор был — пьяница. Сундуком звали. По сундукам не раз лазил, налоги требовал. Ну, бывает, нет у человека денег, так ты подожди: поросенка, может, какого-нибудь продаст, расплатится. Так нет же… А люди у нас золотые, все понимают, все могут снести. В самые трудные годы они в наше доброе дело верили… Значит, и ты, фининспектор, должен к ним относиться по-человечески.
Но вот стал этот службист Аринку доводить. До того разошелся — корову забрал. Женщина в слезы — не шуточки. Услышал я, прибежал и — теперь не жалею и жалеть не буду — набил толстую морду этому гаду. Набил, набил! Ну, после этого он и постарался, чтобы мне жилось нелегко. Чуть не дело на меня завел, под политику подводил… А тут жена у меня болеть начала. Свояк, который еще до войны из деревни поехал, в город зовет… Одним словом, поехал я, слабость душевную показал… Слушай, Виктор, — обратился вдруг он, — хочешь завтра со мной на сенокос сходить?
— Это куда, дядька Игнат, в деревню?
— Зачем в деревню? На площади, на газонах, вон какая трава выросла — навести порядок надо… Видишь, у меня и в городе служба по душе.
— А вставать надо рано, дядька Игнат?
— Рано. Хочешь, разбужу?
— Нет, я сам встану. Не надо.
— Ну вот и хорошо. А косу вторую у моего напарника возьмем. Значит, договорились?
— Конечно, дядька Игнат! — сказал я.
— Ну вот и хорошо, — сказал он. — А теперь можешь идти. Иди, гуляй… Дело молодое. Иди.
И я пошел.
ПИСЬМО ВТОРОЕ
Старик, сегодня у меня лирическое настроение: давай представим себе, что мы вместе, давай сядем рядом — погреемся у бездымного огня нашей дружбы. Пусть будет благословенная тишина — и мы одни. Да, а чего же еще недостает нам? Может, немножко, капельку грусти — ведь мы будем вспоминать…
Мы учились с тобой в одной школе. Давай забросим за плечи еще нетяжелую ношу лет и пойдем туда, к порогу своей первой науки. Мы будем идти и лесной дорогой, и полем, и тропкой вдоль берега реки, и ехать на подводе, но более всего идти пешком. Нет железной дороги, нет шоссе, и поезда нет, и автобуса — их мы не знали в ту пору.
Пойдем пешком.
Но, послушай, ты знаешь, той нашей школы теперь уже нет. Помнишь хату тетки Авгиньи — старую, без палисадника под окнами: окна прямо на улицу, и помнишь ли широкий, весь в мураве, двор и полураспахнутый дровяной сарай? Хату тетка как-то продала, сама переехала жить к замужней дочери в соседнюю деревню. Ну что ж! Та хата живет в нашей памяти: вот мы пришли к этой хате и сели на крыльце…
Так звони, звони — я слышу тебя и сегодня, школьный звонок, сделанный из шершавой снарядной головки!
В ту осень, когда мы впервые сели за парту, еще шла война. Где-то далеко были наши отцы: чей воевал, слал домой письма, а чей молчал — и тогда все куда-то писали письма наши матери. И вот из той фронтовой дали, откуда-то вдруг приходит наконец ответ — узенький листик с печатными буквами, а в нем, зачеркнутые черной чертой, какие-то слова, а то, что оставалось, читалось везде одинаково, читалось так: пропал без вести.
Над таким листом плакала в ту осень моя мама.
Она часто плакала в тот год: и утром, когда отправляла меня в школу, повесив полотняную торбочку с книжками на мое плечо и сунув в руки новенькую трехрублевку на Красный Крест, и в другое утро, когда не пускала меня в школу и я сидел весь день на печи, потому что не было чего обуть на ноги.
Над таким же письмом плакала в ту осень и твоя мама.
Но твой отец не погиб, он вернулся: помнишь, ты стыдился сказать мне, что он был в плену. Ты не мог простить ему это, и, зачем таить, не мог простить и я.
Давай же теперь, дружище, поклонимся неизвестной могиле моего отца, и камень тот, брошенный на многострадальную дорогу отца твоего, давай поднимем тоже. Ни мой, ни твой отец не виноваты перед временем и перед войной…
Много чего не понимали мы с тобою в ту пору…
Что ж, звони, звони — я слышу тебя и сегодня, школьный звонок, сделанный из шершавой снарядной головки!
В хате тетки Авгиньи, в этой первой нашей с тобою школе, окончили мы четыре класса и прошли, как говорится, пятый коридор. Коридора на самом деле не было; была обычная кухня с широкой печью, со столом, с лавкою для чугунов и для ведра воды. Коридоры были потом, в других школах — семилетках и десятилетках, но уже не в нашей деревне.
Утром, едва начинало рассветать, осенью и зимою будили нас матери: в камельке горел огонь, и закипал на треножке чугунок с бульбой…
До сих пор я так подробно помню дороги, по которым ходили мы в школу.
Как назвать нам те годы? Нелегкие были они, бедственные, но они не повторятся: там, в забытой богом деревеньке, пробуждалось наше сознание. Помнишь, как зачитывались мы Тургеневым, Чернышевским, помнишь, какими героями были для нас Рахметов, Базаров? Не знаю, каким словом можно назвать это постоянное напряжение души, этот порыв к самоотверженности, к радости и даже к печали — и все это было, и я думаю теперь: как мы были счастливы, как много было у нас впереди, какая большая, увлекательная жизнь ждала нас впереди!
Ту жизнь, что была рядом, мы не принимали в расчет. До глубины души оскорблены мы были несправедливостью, обманом, неискренностью; нет, не райская идиллия окружала нас, но ведь все обычное происходило у нас, в нашей деревне, а настоящая жизнь была где-то далеко; в том, что была прекрасная жизнь, мы не сомневались, — она ждала и нас, и никак, никак не могла она без нас обойтись! И где-то там, далеко, был человек, которому мы верили больше, чем себе.
Теперь мы уже не верим тому человеку. Да его уже и нет. Слегка да понемногу учимся мы во всем полагаться на самих себя.
Помнишь, за деревней, в березовом лесочке, за которым начиналось высокое каменистое поле, закопали мы в землю патрон, а в нем — записку со словами Николая Островского: «Самое дорогое у человека — это жизнь…» Кажется, тогда тоже была осень, порывисто шумел под ветром березовый лесок. Мы закопали ту записку и, напрягшись от волнения, от тревожной непривычности подобной тайны, выстрелили из самопала. Все было торжественно, загадочно, и все было немного похоже на клятву…
Что ж, пойдем, товарищ мой, под нашу березку, давай даже за руки возьмемся, послушаем ночь, тишину и самих себя. Что бы ни случилось с нами, как бы ни пошла дальше наша жизнь, давай договоримся с тобою, дружище, что никогда не скажем о себе словами поэта:
Что я в ту пору замышлял, Созвав товарищей-друзей, Какие клятвы им давал, — Пускай умрет в душе моей, Чтоб кто-нибудь не осмеял.Давай договоримся, дружище. Жму твою руку.
Твой Виктор.
ЗАВТРА ФУТБОЛ
Дядька Игнат оказался прав: ночью лил дождь. Гроза была!
Еще с вечера стало понятно, что хлынет дождь. Мы с Леной решили не ждать дождя. Можно было бы спрятаться от него в кино, но билеты на вечерние сеансы уже все распродали. Я посадил Лену в переполненный автобус, и она поехала. Я пошел домой пешком.
На город надвигалась темная и безмолвная пока еще туча. Было душно, ветер еще не налетел. Многие возвращались в город — на мотоциклах, мотороллерах, в легковушках. Над кинотеатром блекло помигивала реклама. У кафе на углу улицы толпились празднично одетые хлопцы и девчата. Пахло пудрой, газировкой и сигаретным дымом. Нежным желтым светом зажигались в домах окна. Какой-то дядька в соломенной шляпе нес на плече удочки, в руке у него была хозяйственная сумка: из нее торчала трава, которой, возможно, обложили свежую рыбу. Посреди улицы стояла машина милиции: репродуктор по-казенному нудно внушал, что нельзя нарушать правила уличного движения.
Ни правила движения, ни иные правила мне нарушать не хотелось.
Я шел и думал о Лене, о том, что завтра воскресенье и, значит, будет футбол. Билеты на футбол у меня есть: для меня и для Лены. Я думал, что завтра утром, перед футболом, если будет погода, мы поедем с Леной на озеро. Там всегда людно, но мы, если захотим, будем чувствовать себя в одиночестве. Мы будем часто и подолгу купаться, будем, обессилевшие, лежать на берегу, потом я схожу к лотку за напитком и бутербродами, а потом мы побредем на трамвайную остановку. В трамвае, конечно, давка, даже сумеречно от густой тесноты загорелых лиц, плечей и рук; мы будем стоять рядом, тесно прижавшись друг к другу, я взгляну в усталые, слегка затуманенные глаза Лены, увижу бледноватый шрамик у нее на лбу, ее растерянные губы близко от своих, и мне захочется, очень захочется поцеловать ее, и она догадается об этом, будет шаловливо смотреть на меня и смеяться.
Я думал о дядьке Игнате, о его странной и такой постоянной любви к деревне, и мне почему-то было немного жаль его. Я думал о том, что я вот знал и город, и деревню, спал в шалаше на лугу и в номере гостиницы, смалил кабана и знал, как секут на зиму капусту, курил ночью с уставшим шофером в такси и пил на сельской свадьбе самогонку, спорил о Хемингуэе и Врубеле, подолгу простаивал в залах музеев, учился в институте, на каникулах косил в колхозе, радовался, разочаровывался и каялся, мечтал стать поэтом, а стал аспирантом по разряду, как говорится, изящной словесности. Но дело не в этом.
Мне хотелось, давно хотелось примирить город и деревню в своей душе, и это была моя самая потаенная и самая сердечная мысль.
А может, прав дядька Игнат, и человеку в самом деле нужно что-нибудь одно: город или деревня, месяц над хатой или электрический фонарь?
Нет, наверное, все-таки не так. Я видел землю с самолета: солнце золотило перистые облака, и они отсвечивали чистым неземным огнем. Кучевые облака лежали внизу, у самой земли — земля была так далеко, и далеко все было видно вокруг, и казалось, в какой-то миг теряло над тобою власть все земное, и казалось еще, именно в этот миг ты узнавал вечность — холодную вечность, манящую и чистую, как золотистое сияние облаков. А с неба все лился и лился невыразимо чистый свет, и чудилось, вот-вот надломится что-то в душе, и ты сильнее, чем жизни, захочешь смерти, потому что там, где душу почти задевает вечность, не существует грани меж жизнью и смертью… О земля! Ты даешь нам тоску по небу, но не слабеет и наша тоска по тебе. Из дальних и близких дорог возвращаемся мы к тебе, и трель жаворонка оглушает нас не менее, чем гул реактивного самолета. Не раз случалось так и со мною, и нередко я думал: зачем выбирать — жаворонок или реактивный самолет? Разве нельзя, чтобы существовало и то и другое? И, наверное, не всегда прав дядька Игнат; правда за тем, кто более допускает ее необозримые границы.
Нет, я не упрекал дядьку Игната. Я думал, что каждый человек должен хорошо знать свое место на земле, что каждый, в конце концов, имеет право любить что-нибудь с особенной силой, — и пусть так: это все же лучше, чем не любить ничего.
Нет, я все-таки уважал дядьку Игната. Я шел и думал о том, как завтра мы пойдем косить на главную площадь, как я возьму косу, которую уже давно не брал в руки, и как это хорошо, что мы будем косить в городе. И мне казалось, что завтра со мною приключится что-то особенно значительное и важное, что завтра, может быть, окончательно разрешится мой давнишний спор с самим собою…
А ночью был дождь. Гроза была! Давненько я не видел такой грозы. Разъяренно билась в водосточных трубах вода, синие молнии полосовали небо, на улице что-то гудело, шипело, булькало, — и отзвук громыханий катился стремительно и бурно, как гул реактивного самолета.
Потом все поутихло. Слышно было, как вода капает с крыши. Я лег спать. Я засыпал, и мне все мерещилось: синие молнии, дядька Игнат, завтрашний наш сенокос. И еще: Лена, Лена, Лена. Да и футбол почему-то, футбол, футбол…
ПИСЬМО ТРЕТЬЕ
День добрый, Андрей и Кулина!
Во первых строках своего письма сообчаю вам, что мы живы и здоровы, чего и вам желаем. Письмо ваше получили, за что спасибо, а еще, что не забываете нас и зовете в вёску, чтоб приехали этим летом. На это скажу, что не знаю, потому что отпуск мне дают всегда осенью: летом у меня в городе самая работа.
Только вы как бы отгадали мои думки: старый я становлюсь и все больше и больше начинаю думать про нашу вёску, а как вспомню, что там, где стояла моя хата, теперь чужой двор и чужая хозяйка, так и говорю себе: дурень ты, дурень, зачем ты со своего гнездечка сорвался, зачем пошел в белый свет как в копейку!
И стара́я моя на то, чтоб назад вернуться, давно подбивает. А вы знаете, если сам хочешь вернуться и если женка тоже просится, дык тут и думать нечего.
Грошей мы трошки собрали: чтоб купить халупу, хватит, а там, как наши говорят, бог батька; руки есть, горб тоже, можно и новую хату поставить.
Был тут Пилипкин хлопчик у нас — такой смешной, гроши, еще когда студентом одалживал, принес. Давно это было, а не забыл. Я не про гроши говорю, грошей тех, если на старые считать, каких-нибудь полсотни, а только приятно, если человек хороший, да еще из твоих мест. Я и не знал, что он после института у нас в районе лесничим работает. Вот это хорошо, что вернулся домой.
У меня к тебе, Андрей, мужская просьба. Когда тот Пилипкин хлопец был, побоялся я слова сказать, чтоб он меня, если что такое, лесником где-нибудь пристроил. Скажи теперь ему. Скажи, что я человек тихий, сам из лесу: в лесу, можно сказать, рос — и лес люблю. А то вот и вы пишете, что как только пилораму в лес поставили, дык много лесу не в то время и бестолку и насмарку идет… Он человек, я думаю, хоть молодой, но с душою и должен понять.
Новостей у нас особенных нет. Хлопец наш младший служит в армии, осталось ему служить еще один год. А больше новостей у нас никаких нет.
Отпишите нам, а мы, как от вас письмо получим, сразу отпишем.
Бывайте здоровы,
Игнат.
ПОРА СЕНОКОСА
Еще не ходили трамваи, троллейбусы, улица была пустынная и мокрая от дождя. Где-то за городом всходило солнце. Его еще не было в городе, но я знал: солнце всходило. Кое-чему, как и дядька Игнат, я научился в деревне. Было всего четыре часа утра.
Далеко-далеко, в той деревне, где жили когда-то мы с Игнатом, пастух выгонял на рассвете коров.
А мы шли с дядькой Игнатом по мокрому от дождя тротуару, и на плече я нес косу. Косу мы взяли у дядькиного напарника, достали из-под застрехи дощатой низенькой пуньки, крытой толем и ржавой горбатой жестью. Дядькин напарник спал тут же, в пуньке: нам не понадобилось заходить в дом.
Улица была пустынною и мокрою от дождя. Было тихо. По дороге на площадь мы увидели только сторожа у гастронома да какого-то чудака у автоматов с газированной водой. Чудак все тыкал да тыкал пальцем в кнопку автомата, стучал по нему кулаком, но вода не шла. Чудаку было лет девятнадцать: какой-нибудь усохший от любви студент. Салют тебе, брат, и самые душевные пожелания удачи! Не забудь передать привет и моей студенческой молодости.
Мы пришли на площадь.
Далеко-далеко, в той деревне, где жили когда-то мы с Игнатом, кто-то снимал с плеча косу. Всходило солнце. Стояла высокая, поседевшая от туманов и густой росы трава. Звенела под оселком коса…
— Подожди, — сказал дядька Игнат, остановившись возле широкого газона, обсаженного ровным кустарником. — Давай пока перекурим. — И осторожно положил косу на сизую, набрякшую холодом елочку. — Начинать буду первый я…
Он говорил тихо. К чему утром громкий разговор? Я помалкивал.
— Погляди, как там у тебя на косовище выступ, чтоб не очень высоко был.
— Нет, в самый раз… Только это у нас зовется лучком. Лучок…
— Как заведено, так и зовется. Лучок… А как у вас называется распорка с сеткой, которую к косе прилаживают, когда косят гречку? Вот это и зовется лучок!
— Как у нас называется? Погодите, дядька Игнат… Нет, что-то не припоминаю.
— Вспомнишь — тогда и скажешь мне.
Он даже не улыбнулся. Всерьез он говорил или издевался надо мною? Но я не обижался на него, мне даже почему-то было приятно, что он так проучил меня.
— Дайте мне оселок, — сказал я, — погляжу, может, в моей косе щербинка завелась. А, дядька Игнат?
— Подожди, сначала я сам. Но давай лучше закурим. Махры моей закури!
— Давайте.
И вот мы стояли, курили крепкую, ядовитую махорку, от которой, казалось, не вздохнуть. Ну и махорка была у дядьки!
Тишина, раннее утро, сонный город, а мы собираемся в этом городе косить.
— Как держать косу — не забыл? — спросил дядька Игнат. — Эх, браток! И зачем тебе наука? Не жалеешь молодости. Пошел бы я на твоем месте в грузчики, в плотогоны, в кузнецы. Силу бы в плечах почувствовал. Аппетит бы имел волчий. Сила была бы, как у жеребца… Ты не смейся. Ты молодой еще, ничего не понимаешь… Бывало, косишь: вот как сегодня, — не так, конечно, я только для примера говорю. Косишь, а потом кто-то кричит: «Перекур!» В речке косу обмоешь да в тенек под куст. А тут девки прокосы разбрасывать пришли… Знаешь наших девок? Загорелые, розовощекие, ситцевая кофта да юбка, но девки что надо. Засмеется дык засмеется, это не то, что хи-хи да ха-ха!.. Лежишь под кустом, а они поддразнивают тебя. Не сдержишься и к ним: ну, думаешь, покажу! Бежишь, схватить хоть которую хочешь, а они — удирают… Догонишь, конечно. Но и тумаков надает… Ничего, переживем. И вот как глянешь потом ей в глаза… Только зачем это я, кавалер гороховый, тебе рассказываю, знаешь сам. Но, браток, послушай, покачай головою и — молчи. Будто ничего тебе не говорил… Только, браток, молодость, она, браток, молодость… Эх, и покосим же мы с тобою!
Он даже весь посветлел, небрежно бросил окурок, наклонился, поднял косу, прижал косовище к боку, взялся рукой за полотно косы и полоснул по нему оселком:
— Джгинь-джгинь-шах! Джгинь-джгинь-шах!
Веселая, милая сердцу, знакомая с детства музыка!
Он подошел к плотному ряду кустарника, осторожно прокосил плешину, повернулся, поднял под мокрой травой косу, наклонился и — пошел, пошел…
— Наседай на пятки, Виктор, наседай!
И тогда, волнуясь, опасаясь отстать от дядьки Игната, взмахнул косою и я…
КЛОК ПОДСОХШЕГО СЕНА
Днем уже, направляясь на футбол, я выскочил из троллейбуса на площади. Припекало солнце. Трава в прокосах увяла. По прокосам живо бегали черные, с отливом, скворцы. Пахло сеном. Большой и шумный лежал вокруг город. На площади по-луговому, по-летнему пахло сеном.
Я повернулся и потихоньку пошел тротуаром, и вот здесь, на тротуаре, вдруг тоже увидел сено — неизвестно кем растрясенный клок подсохшего сена. По-луговому, по-летнему пахло сеном.
«Сено на асфальте, — подумал я, — сено на асфальте…»
Словно очень долго я искал какое-то определение и вдруг его нашел.
«Сено на асфальте, — в радости думал я. — Вёска в городе…»
МАТЕЕВЫ ДРОВА (Перевод Эд. Корпачева)
Заметелило сразу после рождества. В один день как не бывало привычной серости окрест, после затишья взвихрился ветер и погнал по улице игривые снежные шлеи да колеса. У изгородей в одно мгновение нарастали седловатые высокие сугробы.
Матей теперь уже жалел, что не привез из лесу наготовленных дров. Уже было собрался, и коня бригадир обещал, да сбила с панталыку женка: дрова, видишь, подождать могут, сначала хлев утеплить надо — корова вот-вот отелится.
Ладно, сделал кое-что для хлева, а там и праздник: дрова так и остались в лесу. Жди теперь, пока эта белая муть кончится, потому что заметелило не на день.
Старику тревожно. Выйдет во двор, чтоб сунуть корове сенца, да снова в хату — и глядит, глядит, как пляшет метель. Ветер то ходит пружинисто, широкими валами, будто стремясь повалить что-то, а то свистит так резко и дико. И гремит где-то по штакетнику оторванная доска.
А на печи ойкает старуха, совсем занемогла:
— А божачка, что же это такое: съесть ничего нельзя. Вот горе — как огнем жжет…
Матей не слушает, упорно тянет окурок да помалкивает.
Стара́я слезла с печи и, кряхтя, протопала к шкафчику. Дзынкнула посуда, оказалась в ее руках глиняная кружка с содой, оплетенная берестяными лентами, — и вот уже стара́я морщится: не очень приятный порошок.
— Закрутило, замело, — бормочет о своем Матей, — в лес теперь ни стежки, ни следа…
— Вот уже заскулил, — сердито сказала жена. — Дрова ему жить не дают!
— А что же, — тихо защищается Матей, — вон сколько здоровья положил, пока с Савкиным хлопчиком накололи. Хорошую сухостоину найти нелегко: аж под Пугачеву гриву забрели.
— Сухостоина ему нужна, если дрова под боком. Людям березняк режут — не смотрят. Хмыль вон возами тащит, своего он нигде не упустит.
— И чего ты прицепилась ко мне! — начинает злиться Матей и мелким шажком кружит по хате.
Не отходя от шкафчика, старая наблюдает за ним. Костлявый и малорослый, Матей наверняка может показаться смешным в этот миг. Кортовый пиджачок смятым выглядит на его плечах, на затылке торчит щепотка светлых волос, словно цыплячий пух; ведь лысина у него давно перелезла через макушку. Сам он знает, каким выглядит.
— Нет, не очень разгуляется Хмыль, хапуга этот. Возьмется за него колхоз!
— Напугали вы его, ох, напугали. Это же Настя мне говорила: после того схода, где ты его со срубом этим допек, злился он ого как. Не может быть, говорит, чтоб самого на чем-нибудь не поймал, я не прощу ему этого… И не простит! — даже с каким-то удовлетворением сказала старая и снова полезла на печь.
Матей недобрым взглядом задержался на женке, будто не Хмыль, а она желала ему беды. Рука сразу нашла бороденку, раз-другой нервно дернула. Матей причмокнул — звук получился тоненьким и звонким. И сказал более спокойным голосом:
— Дурень он, если так… Я своим горбом живу, мне бояться нечего.
Старая смолчала, забубнив на печи о чем-то своем.
Смерклось. Матей принес из-под поветки охапку дров, побросал поленца в редкий пепел остывшей печи. Огня не зажигал: спать легли рано. Накрывшись кожушком, Матей все думал. Никак не шел из головы этот самый Хмыль. Черт его знает, что за человек! Сам не здешний, пришел откуда-то в деревню, прибился тут к молодице в примаки. Люди говорили — раньше он где-то продавцом работал. Выгнали, наверное. Удивительно еще, что в тюрьму не сел. В колхозе уладился упряжь выдавать: у стариков работу отнял. Все удивлялись! А он с конюхом какие-то дела завел, начал хату ставить на полянке возле Васильева лога. Лес он, конечно, не покупал. Думали, сарайчик какой или будку построит — а все же хату, звенья хаты, которую потом и продал в районе. Пока смотрели, так он и вторую ставить начал. Ах, чтоб тебе, лихоимец ты такой, бродяга приблудный! Матей не стерпел и сказал на собрании. Пришлось Хмылю уплатить деньги в колхозную кассу. Так теперь, оказывается, мстить собирается, совесть хочет проверить.
Вспоминалась недавняя встреча с Хмылем в лесу. Тот как раз набрел на них, когда они пилили с Савкиным хлопцем дрова. Прибрел он заросший, как всегда, волком глядит. За ремень заткнут топор, а на плече, перетянутом веревкой, вязанка лещинника: наверное, нарубил для обручей. Не здороваясь, все запрокидывал голову, глядел на сухую ровную ель, уже подпиленную до середины. Резиновые сапоги Хмыля в выпуклых, как мозоли, заплатах неспокойно месили снег.
— Такое дерево, а!.. На доски можно, да и планки для притолоки вышли бы, а?
— Да еще какие, — сказал обрадованно Матей. — Ого, какие! Если бы до лета подержать да пустить под пилу…
Хмыль все еще топтался возле ели и то ли любовался, то ли завидовал — все покачивал головой. Облезшая шапка съехала у него на затылок, на мокрый лоб налипли реденькие черные волосы. Хмыль вдруг ехидно сощурился, глядя на Матея, и прохрипел:
— Чего же без коня, дядька? Колхоз не дает, а?
— Даст, если нужно, — буркнул Матей и решительно ухватился за пилу. — Берись, Василек!
Поправляя вязанку лещинника, Хмыль повел плечом и молча подался на дорогу. За его сапогами потянулся ровный глубокий след: Хмыль брел, волоча ноги…
Неприятное воспоминание постепенно теряло свою первоначальную остроту: может быть, потому, что тепло кожушка все время окружало Матея. Ветер все еще стучал в стекла, шастал по стенам хаты, мягко проваливался куда-то. Матей притих и вскоре уснул.
Где-то среди ночи его разбудила старая:
— Проснись, проснись! Спит, будто пеньку продал… Корову погляди.
Матей поднялся, и, пока влезал руками в теплый кожушок и ноги искали возле кровати валенки, сон прошел. Стало приятно от какой-то особенной, глубокой и мягкой тишины, наполнявшей хату. И думалось еще о том, что вот хорошо проснуться в такое глухое и, наверное, предрассветное время, смотреть молча в темень и знать, что за окнами ночь, все еще ночь. Матей на ощупь нашел на загнетке коробок и зажег лампу. Когда же вышел на крыльцо, холодок пробрался под полы кожушка и ущипнул за колени.
Что-то изменилось на дворе — это Матей заметил сразу. Блеклый обмылок месяца догоняли тучи: месяц то выскальзывал из них, то вновь пропадал. Ветер стал потише: в мутноватом свете месяца кружились серые снежинки. «Утихает», — подумал Матей и пошел в хлев.
Корова отелилась утром. Матей принес мокрого, с зализанными боками теленка в хату и осторожно положил его на заранее растрясенную по полу охапку соломы. Старая поспешила к корове, а Матей на дворе под поветкой нашел деревянную лопату и подался за ворота разгребать снег.
Метель утихла. День начинался погожий. Светило солнце. Вверху белело небо, и только там, за деревней, где кончалось поле, дымка синевы холодно проглядывала над посвежевшим лесом. От снежного блеска сверкали искры в глазах. «Господи, теперь хоть погода наладится».
После обеда Матей покинул двор: шел посмотреть, на месте ли дрова. Даже топорика с собою не взял, лишь туже затянул на кожушке ремень и пошел.
За деревней в лес уже вел санный след. «Гляди-ка, не сидится людям, у каждого своя забота». Обледеневшую, зеркальную от полозьев дорогу запорошило лишь кое-где. Снег тут был приглажен ветром и неглубок: поземка не задерживалась в поле. Дорога поднималась на бугор. Матей миновал его и спустился в ложбину, поросшую кустарником, реденькими разлапистыми елками и молодым березняком. Впереди показалась ровная прогалина: след теперь лежал на широкой наклонной колее, проложенной некогда машинами из леспромхоза. Сквозило редколесье вдоль дороги — все, что уцелело от прежнего большого бора. Хороших деревьев осталось немного: то здесь, то там были прикрытые снегом пни, круглыми белыми шапками лежали бугорки, стройные сосенки, с высокими кронами, осиротев, теперь украшали вырубки своими легкими, пружинистыми стволами. Лес был колхозный, рубили его нещадно и без разбора. Из этих сосенок рядом с Васильевым логом ставил звенья будущих хат и Прохор Хмыль.
Дорога все более углублялась в лес, петляла под нависшими ветвями орешника, и сосны пошли вдоль дороги, большие сосны. Чувствовалось: места здесь низинные. Но вот через какой-нибудь километр начиналась Пугачева грива. Там должна быть еще одна полянка, за нею — Матеевы дрова.
Он не спеша подошел и к этому месту. Сани вдруг круто съехали в сторону, согнутая полозьями елочка зарылась в снег. «Подожди, — остановился Матей, — не за моими дровами приехал кто-то?» Он перевел дыхание и бросился по следу. Снег на поляне лежал глубокий, и сани застревали в нем. Незнакомец, верно, сидел на санях сбоку, ноги его тащили по белой равнине прерывистую борозду. Кое-где он соскакивал, а потом усаживался вновь. «Подожди, — тяжело дышал Матей — я тебя, злодюгу, поймаю».
За поляной — глушь с узкой жилкой ручья, темная от мрачной тесноты елей, коричневых ольховых стволов и пышного орешника. Матей остановился, опять перевел дыхание. Прислушался. Совсем близко зазвенел топор: резвый звук прошелся, казалось, по заснеженным комлям. Матей догадался: кто-то сбивал с дерева сухие сучья. Вверху цвиркнула птица, зашумела своими лапами ель. Матей пошел тише, глядя себе под ноги. Колотилось сердце. Ель, снова ель, высокая кочка с торчащими над нею листками брусники, трухлявый ствол осины на снегу. Спрятался он за куст и посмотрел… Конек стоял в оглоблях криво, задрав морду: поджимал горло хомут. Опершись о нагруженный воз, спиною к Матею, какой-то человек («Ага, Хмыль!») торопливо курил. Иногда отводил руку, пуская тугой полоской синий дым. Воз перехвачен веревкой, под веревкой топор…
Матей кашлянул и неторопливо вышел из-за куста. Плечи у Хмыля передернулись, и, еще не повернув головы, он сгорбился. Потом Матей увидел его побелевшее, сразу какое-то запавшее лицо цвета печеного яблока. Неуклюже повернувшись, Хмыль смотрел, как Матей идет к развороченным разбросанным дровам.
Косо взглянув на Хмыля, Матей наклонился, голой рукой сметая с комля снег: давняя наледь зашуршала под ладонью. Растерянно крякнул и сел, достал из кармана пестрый, пропахший терпкой табачной пылью кисет.
Хмыль, подпиравший воз, выпрямился и бросил окурок в снег. Кривоватая ухмылка проступила на его лице:
— Дрова хотел тебе привезти… Может, и спасибо не скажешь, а?
— Коня ты тоже для меня брал? — спросил Матей, опровергая его.
— Увидел тогда, как ты с дровами возился, — жалко стало. Дай, думаю, помогу, — все еще кривил в беспомощной ухмылке лицо Хмыль. И было непонятно: злость его подталкивает или растерянность…
— Перестанешь ты… черт тебя возьми, ну? — подхватился Матей, и голос его сорвался. Ткнул рукою, поправляя рыжеватую бородку. Хмыль все более сутулился и, опершись спиной о воз, молчал. Матей немного успокоился, закурил. По вершинам деревьев пробежал ветер. Конек встряхнул мордой, фыркнул.
— Тпру!.. — не глядя, ухватился за вожжи Хмыль.
Матей жадно курил самосад, неопределенно посматривая на одутловатое лицо Хмыля. Злости уже не было, как не было и враждебности, а вместо этого вспоминалось почему-то, как Хмыль копал у себя во дворе колодец. Неизвестно, зачем понадобилось это ему, потому что журавлей в деревне было немало. Наверное, тут правили Хмылем свои соображения, потому и привез он из района цементированные круги, вместе с женкой опускал их в сырую глубокую яму. Да вышел колодец неудачный, скособоченный. Хмыль несколько дней после этого ходил хмурый, на шуточки не отвечал, сурово чмыхал носом…
— Дядька Матей, — тихо и протяжно заговорил Хмыль. — Что же с дровами… Не гнать же коня назад… Может, тебе их сразу завезем, а? — и засуетился возле возка, поправляя седелку. В его виновато склоненных плечах, в нарочитой поспешности и все же замедленности движений рук видны были растерянность и ожидание.
Матей поднялся с комлистого пня и молча пошел в сторону дороги. Хмыль постоял с вожжами в руках, тронул коня с места. Выехали на дорогу. Конек, напрягаясь, тащил тяжелый воз, поскрипывали промороженные сани. Первым снова заговорил Хмыль:
— Гхм!.. Ты не вини меня очень, дядька Матей… По батьке тебя как?
— Максимович, — равнодушно сказал Матей.
— Пойми, Максимович… та-а-ак!.. Я, может, сам хотел, чтоб ты меня тут застал. Хочешь верь, хочешь нет. Помнишь, как встретил тебя в лесу? Старый, думаю, сколько силы у него, а все равно за сухостоиной по горло в снег лезет. И тут меня разбирает: гляди вот, какой я добрый, какой честный. Живое дерево на корню не свалю… Злость меня взяла… Ты не упрекай, дядька Матей, за то, что говорю…
— Говори!.. Не каждый о себе такое скажет…
— А сегодня, как стал эти поленья в сани кидать — руки не берут. Хоть бы, думаю, натолкнулся кто-нибудь, выругал, допустим…
«Ого, выскальзывает как, даже каяться готов», — подумал Матей и сразу почувствовал обиду. Сказал неохотно:
— Так вот — поймал я тебя — лучше тебе стало? — и, глянув на Хмыля, отвернулся.
— Я тебе так скажу, — словно и не слыша Матеевых слов, продолжал Хмыль. — Жить каждому надо… Вот ты на меня на сходе навалился, а за что? Сам знаешь, подработать надо…
— Так-так! — остановился Матей. — Красть, значит, надо? В колхозе, мол, красть можно? Подработать? А много ты в своей жизни работал, черт тебя возьми? Хомуты выдаешь, за конем первый бежишь… А Матей дурень, он пусть с косой и топором идет… Так вот! Сбрасывай дрова, хапуга чертов, не надо дальше везти…
Матей вырвал из рук Хмыля вожжи, бросился к возу. Рука поспешно искала узел веревки. Хмыль — за ним, навалился плечом на дрова, недоуменно хлопает глазами:
— Дядька Матей, чего ты?
Матей плюнул, отбежал в сторону. Все еще возбужденный, содрал с головы шапку, надел и — снова:
— Видал, какой хитрый — ого!
— Но! — прикрикнул на коня Хмыль. — Стоишь, дурной!
Конек сразу взял с места. На повороте Хмыль оглянулся: расстегнув на груди кожушок, Матей, не торопясь, шел вслед. Придержал коня и, дождавшись его, помялся, растерянно попросил:
— Ты не говори, дядька Матей, в деревне, что я хотел… дрова твои забрать. Ну, не говори…
Матей отозвался не сразу:
— Можно и помолчать, чего же… Только я тебе скажу: ты свои штучки брось. Среди людей живешь — не в лесу…
В дороге их застали сумерки. Смеркалось и на дороге, а в зарослях и вовсе была темень. И мороз опять стал пощипывать. Небо на западе было в холодных розовых разводах.
Вскоре выехали из леса и поднялись на бугор. На колдобистом его верху сани съехали в сторону: сразу начинался спуск. Внизу дорога упиралась в небольшой мостик через ручей, за мостиком начиналась улица. Возле крайней хаты стояла машина, и мотор, еще не приглушенный, тарахтел. Машину обступили люди, послышались голоса. Ветер выдул из чьей-то сигаретки яркие густые искры, а потом подхватил их и развеял.
Хмыль в который раз посмотрел вперед, остановил коня:
— Дядька Матей, что дальше делать?.. Догадаться могут…
— А, вот оно что, — с усмешкой обошел Хмыля Матей, стал у воза. — Совесть заговорила, людям в глаза стыдно глядеть? А ты по-другому… Чего стоишь? Напрямик иди, за заборами прячься, если по-человечески ходить не умеешь. Там ни одной души нет, одни следы собачьи… Давай сюда вожжи.
Хмыль сгорбился, соступил с дороги. Матей бочком подсел на дрова, повел вожжами. Конек затрусил с бугра, и опять стало заносить сани. «Ого, так и перевернуться можно!» Натянул одну вожжу, крикнул Хмылю:
— Коня сам отведу, слышишь? Конь колхозный: отнимать не придешь!
Хмыль не отозвался. Сани легко катились с горы. Перед мостками Матей оглянулся. Хмыль все стоял на бугре, наверное размышляя, идти ему улицей или вдоль заборов, прячась от чужих глаз. «Думай, думай, — усмехнулся Матей, — давно пора». И поехал на голоса, которые слышались возле машины…
РАЗДУМЬЕ (Перевод Эд. Корпачева)
Кукушки прежних лет прокуковали
бор головы моей…
Р. БородулинТревога и боязнь закрадываются в душу — почему-то все чаще вспоминается детство. Почему, зачем? И отчего именно теперь? И так хорошо, живо встают в памяти прежние дни, радостные и грустные, и так жаль, как только подумаешь о них, что не вернутся уже ни прежняя радость, ни прежняя грусть. А ведь они так нужны мне теперь: зачем мне, чтобы повзрослевшая радость стала умиротворенностью, а грусть — печалью?
Тревога и боязнь закрадываются в душу — неужели так начинается пора зрелости?
Было ведь и прежде у меня то же детство, и ведь прежде вспоминал о нем, но мне было так хорошо в моем постепенно отдаляющемся детстве, так привычно и хорошо, как привычно и хорошо реке в берегах, а ветвям — в кроне. Почему же река выходит из берегов и потом тоскует по ним? Почему же дерево высоко вверх возносит свои лиственные шатры, почему тоскует по грибным затишьям росистой земли?
Может, вот так и со мною: и жаль, жаль уже детства, и тревожно, боязно в пору молодой зрелости.
ОДИН ЛАПОТЬ, ОДИН ЧУНЬ (Перевод Эд. Корпачева) ПОВЕСТЬ
Вместо вступления
Сон. Сон. Сон. Ночью пустынной и темной Иду по земле. Высокий и легкий, Покачиваюсь от печали. Голову склоняя под небом, Я плачу. Звезды — слезы мои. Спят города и села, Я над ними ступаю. Высокий, согбенный и легкий, Покачиваюсь от печали. Ищу деревеньку серую, Деревеньку свою. Боюсь: Высокий и легкий, Не присяду там на пороге, Как самолет реактивный не сядет На грунтовом аэродроме… Я плачу. Звезды — слезы мои.…Вдруг от холода защекотало спину: над козырьком погреба мглисто взвился снег и колко лег на глаза; потом порыв ветра утих — слышно было, как сползал он с шорохом по стене и опадал книзу. Снежная пыль таяла на ресницах и на щеках, и становилось тепло.
На разрытом у погреба сугробе тоже был козырек, крахмально-белый и легкий, как облачко или гусиное перо, и нереальный, призрачный в своей белизне. Поземка стеклянно шуршала по сугробу, прозрачным дымом расползаясь за огород, в поле.
Он вобрал голову в плечи, не замечая того, что неприятно студено касался щеки обледенелый шнурок ушанки, и смотрел, смотрел…
Птицы летели на раскидистую дикую яблоню, росшую на огороде Пилипа, летели с подветренной стороны и потому снижались над погребком, но не сели, опять полетели в поле и зашли на второй круг; воробьи неслись тугой чередкой, под ними, ниже, неслась синичка; и тяжело, как бомбовоз, стремилась вслед за ними, тенькая на лету и отставая, ошалелая овсянка.
Он пожалел в ту минуту о том, что у него порвалась рогатка.
Достал ее через дырявый карман из-за подкладки домотканой свитки и разглядывал, дергая за конец оторванной резинки, оторванной уже вторично. В тот первый раз он надточил ее конец не очень податливым кусочком, вырезанным из противогаза. Надточил, пережав концы тонкой медной проволокой, а не суровой ниткой, как полагалось, и вот проволока врезалась в резинку, переела ее. Но к чему теперь жалеть об этом? Все равно нет никаких «боеприпасов» к рогатке. Летом сколько хочешь камешков можно насобирать, а теперь вот разве кирпич расколешь, да только слишком легки они, осколки кирпича, пустишь из рогатки — летят с каким-то фырканьем.
У него одеревенели руки, и он стал дышать на них, не выпуская рогатки, и остро пахла резинка, тоже остывшая, и совсем по-иному, приглушенно — сиротским; что ли, запахом — пахла истертая кожица, в которой, как в мешочке, прятал камешек, перед тем как посылать его в далекий полет, и уж вовсе иным, тонким, даже слегка сладковатым, таким понятным, добрым запахом веяло от черенка рогатки, до лакового блеска выглаженного ладонью и согретого ею.
Над селом, в поле была печальная дымка, была припрятана, казалось, и неуловимая и непонятная грусть, как настрой то притихшего и прикинувшегося белым, то бойкого, отчаянно-веселого, искристого и все равно темного, темного ветра. А этого и словами нельзя было высказать: стоя над погребом, он видел себя светло-желтой соломинкой, торчащей из стрехи, — она дрожала, поигрывала на ветру, тосковала и разбойничала вместе с ветром; ветер измотал ее, но и любил ее ветер, и она любила его и боялась и не боялась его озорства.
Птицы снова летели к дикой яблоне, снова снижались и делали круг; воробьи с лопотом крыльев вспорхнули на дерево едва ли не от самой земли, а вот овсянка отстала, тяжело полетела под стреху Пилипчикового погреба. Синички не было с ними.
Он сунул в карман рогатку, почувствовал, как у него ослаб под шапкой, сполз на затылок платочек, и туже завязал его под подбородком, глубже насунул на голову шапку. Руки он спрятал в рукава свитки: уже давненько стоял на дворе и остыл. Холодно ему было, наверное, еще и потому, что недавно поиздевались над ним, дразнили его, собравшись в Авдулиной хате, старшие хлопцы, а больше всех Авдулин Павлик. И он, Иванка, плакал.
От обиды еще и теперь было горько и сухо во рту, и когда он дышал в полную грудь, что-то хрипело там и внутри делалось неприятно-сладко, тоскливо. Он чувствовал, что тяжестью набрякли веки, что под глазами остыло, но остыло совсем не так, как на лице, и еще чувствовал он, что кожа на щеках стала натянутой и словно бы тонкой и припухли губы.
И его начинало уже знобить.
2
Сколько горя, страдания и слез принес ему криворотый Авдулин Павлик, по прозвищу Тявлик, которому в прошлом году капсюлем от гранаты порвало щеку, которого боялись не только младшие, но и однолетки, потому что Тявлик любил орать на всех, огрызался взрослым, лез на каждого, как жаба на кочку. Был он мал ростом, костистый, зеленый с лица, весь в свою мать, и так же, как мать, не выпуская изо рта, дымил цигаркой и так же кашлял. Мать его все в деревне называли солдатом, потому что и ходила и говорила она по-мужски и по-мужски управлялась с косою и топорами, — взяла да и поставила сама новую хату на пепелище.
Тявлик еще до войны ходил в четвертый класс, и опять пошел в четвертый, как только открылась в позапрошлом году школа. В пятый класс его не перевели, оставили на второй год, и, может, поэтому Тявлик стал теперь совсем несносен и, может, поэтому не рос. Где уж тут вырастешь, если все кости полны злости. Так сказал о нем дед.
И зачем было идти сегодня к этому Тявлику? Он бы и не пошел, имей он какое-нибудь занятие на улице или повстречай кого-либо из приятелей, да все дружки-приятели сидели в хатах и грелись на печи. Да и нечего делать на улице: прошлой ночью столько снегу насыпало, что и шага в сторону от дороги ступить нельзя, не то что проехать с коньком на ноге по деревне из конца в конец. Хлопцам хорошо, им и на печи можно посидеть, они и так каждый день на улице, а ему осточертела эта печь — сиди да сиди, потому что истоптались лапти, а новых нет. Если бы у деда была пенька, давно бы сплел веревочные. Он уже было начал плести, но хватило веревочек лишь на один. Дед велел потерпеть, пока он придумает что-нибудь, и не может быть, чтобы не придумал. Дед засмеялся и весело так сказал: «Один лапоть, другой — чунь, хоть ты дома не ночуй», — и даже ногой притопнул, будто в пляс пускаясь, но потом сразу стал поругивать мамку и помрачнел. А недавно приходил батин дед (он живет в другом конце деревни), узнал, что у Иванки нет обувки, и все поминал господа бога, стоя у двери. А мамкины дед и бабка и сама мамка упрашивали его хоть немного посидеть у стола на лавке, но он отказывался: не было времени, говорил, — как всегда, у него не было времени. Ему лишь у Ганны, дочери своей, есть время посидеть. И Трофимиха его оттуда не вылезает, задами огородов тайно ходит туда и в корзине что-то носит. Мамка говорит, что до воины они у этого деда жили, а как пошел отец на войну, перебрались к деду Михалке. И он, Иванка, будто бы уже тогда был, когда у того деда жили, да вот не помнит ничего. Мамка говорит, что они уже никогда не пойдут к деду Трофиму жить, потому что убили папку на войне, — кому они там нужны теперь. Трофимихе и тогда, при отце, не угодить было, а теперь она и совсем чужая. Она и деда Трофима подбивает против них. Как только дали за папку пенсию, послала деда судиться, чтобы половину пенсии себе забрал. Дед и послушался бы, наверное, если бы ихняя Ганна не заступилась за маму. Трофимиха побаивается тетки Ганны.
Дед Трофим все стоял у порога, сокрушался. Все повторял свое «ого». «Столько снегу навалило — ого! Это же пасха будет поздняя, до самой радуницы снег будет лежать. У Ганны вон сугроб вровень с хатой намело — ого! — так она, бедная, не может осилить. А в хате холод, хоть волком вой. Выдует из печки за день тепло, а на ночь поленья сырые на под покладет — где ты видел, чтоб подсохло; даже не провянет ничуть… А у вас вот тепло, гляжу, — ого! Сват вон с осени назапасил… Оно бы если б и у самого сила была… Холера на нее, нема силы… Если бы помоложе был, — ого!»
А дед Михалка заметил на то, что и у него нет силы. Сказал и смолк. А дед Трофим все говорит. Дед Михалка просто так пожаловался, чтобы не молчать. Не любит дед жаловаться, не то что дед Трофим, которому всегда кажется, будто бы у всех лучше, чем у него. Мамка говорит, что он нарочно наговаривает на себя, сглаза да чужой зависти боится. Дед, говорит мамка, лучше всех в деревне живет.
Уходя, дед подозвал его, Иванку, к себе… «Иди же, иди же сюда. Чего ты боишься? Ты же вон почти с деда вырос — ого!» И гладил Иванку по голове. А потом пожаловался, что гостинца не взял. «Так вышло, что случайно зашел. Не собирался я к вам. Ганка просила, чтоб пришел овец поглядеть: не ест овца, хоть зарежь. И придется зарезать — о-ей! Теперь с овцами одно горе. Если бы не овчина, так и не держал бы — ей-ей! Сошла на нет овца. Болеет, боже мой, как человек. Если б знал, с осени прикончил бы. А теперь с нее что? Ну, овчинка, овчинка будет, а больше что — а?»
Дед, наверное, уже позабыл о своем гостинце. «Так ты нас, коток, с бабкой проведай. Надумай и прибеги». Но он, Иванка, не такой дурной, чтобы обещать. Будто не знает дед, что у него нечего обуть на ноги, будто не говорили при нем про это. И потому он молчал, уклоняя голову от дедовой руки, и тут заговорила мамка. «Далеко же, тата, вы от нас, — сказала она, — да и он целый день дома сидит. Нехай сидит, нечего на улицу бежать. Стоптал свои лапти — нехай и сидит. Ему хоть железное дать, все протрется и прорвется: на нем — горит. Возьму вот да закину и этот чунъ!» Она так нарочно говорила, знал Иванка: не хотела, чтобы его жалели. «Ну зачем ты так на дитенка? — заступился дед. — Не осталось ли у меня — дай бог памяти, чтоб не сбрехать, — не осталось ли у меня немного пеньковых вершков? Поискать надо. Я мало коноплей, холера на них, посеял, с ними возиться — не дай бог. Старая моя и за то, что посеял, закляла, затукала — ого! Ты мне, сват Михалка, дай мерку снять с чуня, а я погляжу…»
Так вот и пообещал дед Трофим сплести тот чунь. Жди теперь, когда принесет.
Он, Иванка, ждал, ждал да и ждать перестал. Вспомнил, что видел летом на чердаке старые отцовские ботинки, усохшие и корявые, с содранными до белизны носками, раскрытыми, как пасть щуки. Летом не нужны были те ботинки, а теперь удачно вспомнил о них, достал с чердака, обернул на ночь в мокрую портянку — они стали мягче, как бы ожили. Плохо лишь, что подошва у них отваливается. Но надо же спасать ботинки, и вот он в одном месте проволочкой подшил, в другом — веревочкой подвязал и выбрался сегодня на улицу. И завтра выйдет, и послезавтра: дед может не нести тот чунь — веревочный лапоть, — обойдется и без него. И мамка не очень будет следить, порвал ты эти ботинки или не порвал: не она же подарила их тебе, ты сам их нашел.
И все хорошо было в нынешний день, пока этот гад Тявлик не стал показывать на нем свою силу и злость, не стал издеваться над ним. Гад этот криворотый! Думает, что если в карты умеет играть, так уже и цаца большая. А он, Иванка, в карты играть не хочет, потому что дед сказал, что детям в карты играть нельзя, да и взрослым никакой от них пользы. А деда он слушается, потому дед самый толковый в деревне: мамка говорила, он еще при панах, в молодости, детей по хатам учил грамоте, и ему за это давали муку и бульбу. Так разве можно бить за то, что он, Иванка, не хочет играть в карты? Да еще грозит, что, как только помрет дед, совсем не даст ему, Иванке, житья: слишком умными хотят они с дедом быть. Пристрашил, что донесет на деда за то, что он во время войны забрал домой школьную доску, чтобы учить Иванку грамоте. И чего не дает ему покоя грамота? Злится, что идти Иванке в школу только с осени, а он уже и писать и читать умеет и решает все задачи. Тявлик орет, что он грамотеев разных, ученых этих, согнал бы всех на край света, будь его право: знает он их, знает, какие они, — такие, как их бывший учитель, который в полицаях служил. Расстреляли гада печеного партизаны, он бы и сам его, если б винтовку дали, прикокал бы. А что его не переводят в пятый класс, так это не беда, да он и сам, может, не хочет: нашли придурка учить в том классе немецкий язык. Пускай у него лучше язык отсохнет, если он будет учить его и говорить, как поганые фрицы. Они убили отца и спалили хату, а он будет по-немецки говорить! Вот бросит весною школу и пойдет конюхом в колхоз.
Тоже мне, нашел, чем запугать! Ну и пускай себе идет в конюхи, там скорее скрутит себе голову. Он, Иванка, по нему не будет плакать. Было бы по ком!
3
На Пилипчиковой яблоне птиц уже не было, и не видел он, когда они полетели и куда. В поле, то крепчая, то слабея, шастал ветер, небо было сивое без туч, без просветов в них — сплошная мглистая наволочь. За полем серой узкой полосою выделялся лес, лежащий в низине. Когда ветер утихал, казалось, что там, в лесу, становилось тихо и глухо. И там, казалось, была какая-то своя, не подвластная ветру жизнь.
И само по себе было, пропадало на холоде тянущееся костлявыми, длинными сучьями кверху, высокое, усохшее на один бок Пилипчиково дерево. Какое-то мрачное, упрямое одиночество проступало в нем, какое-то терпеливое и привычное противоборство всему — и этому ветру, и этому небу, которое было светлее и выше там, где проглядывались на свету устремленные вверх и застывшие в тугой нерушимости голые ветви, и даже ветер не в силах был потревожить угрюмый покой этих ветвей и сердито шумел и шуршал внизу, в обеспокоенном темном саду, где росли вишни и сливы.
Ветер, ветер, ветер… Было холодно. Но в хату все равно не хотелось идти. Он боялся попадаться на глаза деду: тот бы сразу догадался, что он обижен чем-то, что плакал, и начал бы расспрашивать, и он, Иванка, решился бы признаться во всем, но ему не хотелось этого, не хотелось жаловаться деду, хотя и сам не мог бы объяснить почему. Может быть, даже потому, что он подсознательно чувствовал: дед понадобится ему потом, в более горькой беде, и оставлял для себя эту возможность на после, думал о деде как о самом надежном своем оплоте и как о защитнике своем.
Мамку он тоже не хотел видеть. Можно было бы незаметно прошмыгнуть на печь и затаиться там, размышляя о своем. Но он знал: это-то и будет самым подозрительным для нее, она тотчас догадается, что с ним что-то не так и что не провинился ли он где-то, и начнет заранее упрекать его и грозить не выпускать больше из хаты, а потом уже невольно начнет жалеть себя и проклинать свою долю. И это будет хуже всего. И он боялся этого.
Он подумал, что лучше всего ему спрятаться пока что в погребе.
И как он сразу не придумал! Так укромно, тепло было здесь, в темени, — как ни присматривайся, как ни напрягай зрение, все равно ничего не увидишь. Но он и без того знает, где тут мамка высыпает угли на жесть каждое утро, там и присесть на корточки можно, и руки над углями погреть. И он ступил осторожно к стене, согнувшись, выставив руки вперед, и ощутил лицом, руками, как на него щекотно-ласково повеяло теплым духом, как остро дохнуло золою и одновременно холодновато-сырой землею, прокуренными сухими стенами. Он привыкал ко всему этому, осторожно пристраиваясь у жестянки с угольками, которые еще понемногу тлели, наверное, иначе откуда бы шло это не очень щедрое тепло. Было глухо и темно, но все искупали запахи: то бульба в закроме, то капуста в бочке, то бураки — и все своим запахом и чем-то иным… подсохшей на них землей. И ему казалось даже, что он улавливает, как пахнет паутина над головой.
Запахи грезились ему отовсюду, и сначала было приятно узнавать их, приятно было от неутолимой, жадной, пронзительной ясности в голове, от естественной легкости во всем теле. Но незаметно это перешло в иную, нудную и властную жажду — хотелось есть.
Теперь ощутимее всего был дух вареной бульбы, той, оставшейся с утра и стоявшей в печи за заслонкой в чугунке, — ах, как хороша подсохшая бульба, с зарумянившейся докрасна кожурой, такая духмяная, если раздавить ее, и теплая-теплая. Пахло еще и коржиком, тоже подсохшим, в желтых искорках просяных отрубей сверху и с прилипшим к исподу пеплом, — и как же вкусно отломить одно из тех «окошек», которыми расчерчивают корж, чтобы он не вспухал, перед тем как сажать его на лопате в печь!
Он запустил руку в дырявый карман свитки и щепоткой грабал там за подкладкою, надеясь хотя бы что-нибудь найти и обмануть голод: хотя бы крошку коржа или хлеба, хотя бы пшеничное или ржаное зернышко. И он нашел хлебную крошку, сухую, с горчинкой, и два пшеничных зернышка, распробовал все это, смакуя, и захотелось еще. Самое время было придумать что-нибудь, и в памяти послушно всплыл чердак с гроздьями мерзлой рябины, подвешенной на шестке, в соседстве с вениками, с мамкиной клюквой, высыпанной на старый задубелый жакетик, и как только вспомнил обо всем этом, сидеть в погребе уже не хотелось. С опаской приоткрыл дверь: не видит ли кто? — и быстро выкатился на двор, а потом уже нарочито медленно, словно забавляясь, лязгал длинным ключом в дырке, замыкал дверь на засов. Оставалось самое страшное: никем не замеченным зайти в сенцы и по стремянке тихо, бесшумно залезть наверх.
Все обошлось удачно и на этот раз, кажется. Теперь уж пустяки доползти до трубы, и он сделает это так, что никто в хате не услышит, ни единая песчинка не просыплется сквозь потолок.
Вот и добрался, вот и можно передохнуть — ого! Ему даже смешно стало, что вдруг подумал, как дед Трофим. «Вот брехун, вот легенький Саввочка: взялся чунь сплести, а не несет». Так сказала про деда мамка. И это было смешным тоже. Иванке пригрезился, замелькал перед глазами то ли дед Трофим, то ли мамкин легенький Саввочка: тяжело дышащий, с белой бородкой, в белых портках, бежит бегом, аж ноги подгибаются, и все оглядывается, оглядывается. Может, собаки за ним гонятся? «Вот холера на них! Ого!» И вправду было смешно.
Он спохватился на мысли, что теплее стало. Все-таки отогрелся в погребе, да и здесь безветренно, а подле трубы и вовсе тепло — хорошо топят зимою. Он набрал горсть клюквы, отщипнул рябиновую гроздь, сел, привалившись спиной к дымоходу, и медлительно, щурясь, пробовал на зуб, перекатывал во рту горько-кислые студеные ягоды. Вскоре надоело ему это, да и в горле что-то сдавило и до боли щекотало. Он притих: а вдруг услышит, что делается в хате? Монотонно завывало в трубе, ударял по крыше ветер, а там, в хате, было тихо, точно повымерло все, и он забыл ждать и выслушивать, как вдруг в хате лязгнула клямка — закрылись двери, заскрипели промерзшие половицы в сенцах и кто-то вышел во двор. Он догадался: дед. Ну и пускай себе, не боялся он деда. Снег поскрипывал уже во дворе, было слышно, как дед бил ногой по мерзлой кадке, в которой запаривали для коровы сечку с мякиной; в кадку сыпалось звонкое ледяное стекло, с повизгиванием отдиралось днище от слежавшегося под ней снега. Иванке не обязательно было смотреть на то, что делал дед, ему обо всем рассказывали звуки. Скрипели ворота хлева, дед что-то говорил корове, похрюкивал и взвизгивал поросенок, снова скрипели ворота, потом слышно было, как дед перелезал через изгородь к маленькому гумну с током — пристройке к хлеву. Вот снова скрипят ворота, вот уж не слышно деда, а потом — шух! шух! шух! — дед готовил корове сечку.
Гудело и гудело в трубе, тихо было и сонно в хате. Что там делает мамка? Бабка, наверное, спит на печи, спит и не знает, что он тут, наверху, что тепло от печи согревает и его. Брала Иванку истома, тяжелели веки. Он сидел, поджав под себя ноги, глубоко спрятав руки в рукава свитки. Ногам было тепло, и он почувствовал, что левая нога как бы увеличилась, стала не своей. Наверное, занемела. Но Иванка ленился даже пошевелиться. Сон укачивал его.
А во сне был зимний день, искристое солнце и белая улица, вся в разрытых сугробах, и он, Иванка, бежал по этой улице, и ноги так легко несли его потому, что были на них новые, подшитые резиной чуни. Дед Михалка еще ничего не знает про чуни: поехал с утра в лес по дрова, и теперь Иванка бежит встречать его… Вот и позади деревня, вот и поле. А вон на дороге и лошадь помахивает головой, а рядом с лошадью идет дед. «Дед, дедушка! — закричал Иванка. — Я тебе что-то скажу!» Но что это? Только что был снег вокруг, были рослые сугробы, а тут вдруг едет дед на телеге. «Дедуля, почему такое, дедуля? — хочет спросить Иванка. — Почему ты на телеге?» Но дед еще далеко, не услышит. Обернулся назад и увидел: играет, переливается в небе солнце, пар дымными столбами стоит над стрехами хат, а внизу, над землей, колышется мглистый туман, а в том тумане молодо, чисто кричат и перекликаются петухи. И так хорошо от всего этого, так больно! Глянул он себе под ноги, а на дороге снегу нет и в помине — лежит седой песок, отмеченный следами щепок, черных прутиков, корешков — всякого сора, влекомого по этому песку исчезнувшими ручьями. «Когда же это случилось? — думает Иванка. — И почему я не заметил?» Кое-где на дороге нежными перышками поднялась трава, росла шапками, а вдоль дороги встала ровной зеленой щеткой, лоснилась под солнцем, глушила желтизну свежего, молодого песка. Обида тронула сердце Иванки, и опять он глянул себе под ноги. Чуни! Зачем ему чуни теперь, что ему делать с ними? Он так мечтал о них, так хотел похвалиться деду! Обидно стало Иванке, и он заплакал. Глухо стало вокруг, страшно стало. Безмолвие было кругом, спряталось солнце. Шух! Шух! Шух! — послышалось отовсюду, словно кто-то большой ломился напрямик по соломе или сену. Иванка сжался и закрыл глаза. А тот большой все шел и шел. Иванка слышал его и ждал, как слышат и ждут ветер, если его дыханием, его предчувствием начинает жить все вокруг. Вот уже тот, большой, был за спиной, вот он медленно, словно нарочито медля, простирал руки, остановившись на мгновение и затаив дыхание… Иванка закричал. И когда снова стало тихо, Иванка открыл глаза. Мелкий-мелкий дождичек сеялся над полем, стояла чуткая, призрачная в своей приглушенности мгла. Время как бы остановилось на миг и теперь медленно, нехотя снова продолжало свой бег. Пахло сырою землей, тоскливо гудел где-то жук. И прямо на Иванку с покрытой чем-то похожим на фартук головой шел человек. Был он вовсе не страшен и не огромен, почти как дед. Шел он грустный и притихший, Иванка пожалел его. Уже без страха ждал Иванка, когда человек подойдет к нему. Вот он и подошел, остановился, как в раздумье, и с какой-то безразличной неторопливостью снял с головы фартук, и руки его бессильно повисли вдоль тела, и фартук выпал из них. «Не надо, — сказал человек недовольно и в то же время спокойно, — не поднимай», — словно уверен был, что Иванка обязательно бросится поднимать фартук.
У человека на голове была кубанка, такая же, как у одного партизана, который постучался во время войны в дедову хату под утро, попросил молока, а когда уходил, оставил листовки и плотную, маленькую, с ладонь, книжку. И дед и мамка читали ее потом, называлась она «Солнцеворот». Иванка хорошо запомнил название.
Человек и шапку, как фартук, снял с головы — обнаружились длинные, неровно остриженные волосы. Точь-в-точь как у того уполномоченного из района, который в прошлое лето жил несколько дней у них в хате. Веселый был человек, черноволосый, белозубый, в военной форме, капитан, и фамилия у него была смешная — Маламуж. Украинец, говорил дед. Принес однажды белую муку и попросил мамку, чтобы сварила ему лапшу, и мамка сварила. Черноволосый старательно хлебал, задирая голову вверх, лапшу и все посмеивался: «Лапша — глаза на потолок!»
Кто же он такой, этот нынешний человек?
«Ты узнаешь меня?» — спросил человек у Иванки, не выпуская шапки из рук и склонив набок голову, точно прислушиваясь к чему-то. «Дяденька, я не знаю вас», — едва не заплакал Иванка. «Не надо мне говорить „дяденька“, — сказал человек. — Я — это ты, Иванка. Только я взрослый, а ты маленький. Разбогатею, наверное, если ты не узнал меня». Странно было слышать все это, и не знал Иванка, что же ему ответить. «Вот, смотри, — сказал человек, — узнаешь? — и достал из кармана самодельный наган, тот самый, который недавно отобрал у Иванки дед. — Видишь, твой наган, правда? Только почему же так неумело ты сделал его? Ствол из лопуха. Да еще автоматный патрон вогнал. Выстрелишь — разнесет… Напомни мне завтра, я тебе из железной трубки сделаю ствол…» — «Ты будешь и завтра?» — спросил Иванка. «Я теперь буду с тобой всегда». — «А почему раньше не сказал мне, где прятал дед мой наган?» — «Так меня же не было здесь, — будто бы удивился человек. — Я был на войне, воевал. Отца убили, я мстил за него. Я много фрицев перебил. Потом меня как шарахнуло в левую ногу! Еще и теперь болит, Ну, скажи, ведь и вправду болит?» Странно, почему он спрашивает об этом у Иванки. Но ведь верно: прислушался Иванка к себе — левая нога болит. Вот совпадение!
И лишь теперь заметил Иванка, что правая нога у странного этого человека обута в ботинок, а левая босая, с толстой ступней, как бы набрякшая. «Ботинок я сбросил, чтобы легче идти, — сказал человек. — Мне далеко идти. Я в госпитале лежал. Я зарок себе еще перед тем дал такой: если выживу, домой пешком пойду… Скажи-ка, — встрепенулся он вдруг, — у кого бы я мог раздобыть обрез», — и откровенно глянул на Иванку, уставился взглядом и молчал, и какая-то грусть была в его глазах и словно бы сожаление, что Иванка наверняка не знает, у кого и где взять обрез. «А вот… а вот у Володьки теткиного, — едва шевелит языком Иванка, — обрез был… Тетка сказала, что забросила куда-то, да ты ей не верь. Закопала где-то в земле, чтобы не нашли. Володька в хате из настоящего патрона выстрелил, тетку напугал. Я знаю, я был у них. Аж дзынькнули стекла, а мне уши заложило, ей-бо. А тетка вся как побелеет да как закричит. Кинулась к Володьке, думала, что он уже неживой. А он стоит, как дурной, обрез не выпускает из рук…» — «Ну хорошо, хватит, — решительно произнес человек, — веди меня к Володьке». — «Что ж это? Так сразу… теперь? — точно испугался Иванка. — А ты себе… ты лучше винтовку себе найди. Винтовка… лучше, я знаю. Винтовка…» — «Ты боишься? Боишься? — Человек взял его за руку. — Так и говори. Мне винтовка не нужна, мне нужно хотя бы поганенькое ружьецо, обрез. Я пойду убивать Тявлика. Ты мне поможешь? Ты не бойся, идем. Я там, около леса, уже и яму выкопал. Чуешь, как пахнет земля?» И тогда Иванка услышал… Верещал, кричал, заходился в плаче Тявлик. «Ой, мамочка!» — кричал. Поднялся ветер и удаленно разносил тот плач. «Не хочу! Не хочу! — крикнул тогда и Иванка. — Не трогайте его, не надо трогать! Он совсем дурной еще, ничего не понимает. Его не перевели в пятый класс, он потому злится». Человек на эти слова повернулся к Иванке и захохотал. Еще более сильный поднялся ветер, холод и страх пронимали Иванку насквозь, и едва не выскакивало из груди сердце. А Тявлик все плакал где-то, и ветер носил по полю его плач…
Иванка проснулся.
И не сразу догадался, что все то страшное, происшедшее с ним, было лишь сном. Его тело ныло. Застыли спина и шея. Когда он попробовал повернуть голову, что-то как бы хрустнуло в затылке, и глазам стало горячо. Левая нога затекла, онемела, было страшно подумать, как же ему теперь подняться.
На чердаке заметно смеркалось. Ветер гудел и гудел в трубе, не утихал. Иванка прислушался. Из маленького гумна все еще доносилось: шух! шух! шух! Сколько же он спал?
4
— Дед, — сказал Иванка, — ну отдай мне наган. Ты слышишь, деда?
В гумно со двора залетали снежинки. Было здесь безветренно, но холодно: стужей веяло от мерзлого тока, сквозняки гуляли под стрехой. Но дед разогрелся в работе. Вытертая шапка с завязанными вверху шнурками съехала ему на затылок, у деда побелел вспотевший лоб. Деда окружала, росла со всех сторон кучка приготовленной им сечки. Дед стоял на коленях, подложив под них солому.
— Дед, — сказал Иванка. — Ну, деда… Чего ты молчишь?
— Гляди-ка, вспотел весь, — глубоко вздохнув и опустив руки, сказал дед. Глядел он вокруг себя, хукал да покряхтывал. — Сначала, слушай меня, как стал на колени, так, как тот бубен был, аж гудел. Как от железяки какой холерной, несло стынью от меня. А теперь вот будто в бане побыл… Взял бы да деду помог…
Конечно, все это дед говорит не всерьез. Вот и сам усмехается этому. Дед хитрит, просто не хочет ему, Иванке, ничего говорить про наган.
— У всех и то и то есть, а у меня ничего нет. Одна рогатка, может, да и та порванная. Ну, хочешь, дед, погляди… У тебя, дед, даже дратвы нет, чтобы связать резинку.
— Ну, это ты уже шельму строишь. Ой, шельму! У бабы суровую нитку попроси. Думаешь, не даст? А что дратва? Вон смолы возьми, насмоли нитку — будет тебе дратва… Ай, шельма ты, шельма, — и дед, кивая головой, посмеивался.
— А чуни у меня есть? Скажи, дед, есть? Ну, скажи!
— Будут тебе и чуни, будут. Потерпи. Бог терпел и нам, внучек, терпеть велел. Вот поглядишь, увижу я деда Трофима и спрошу у него… Ну, может, не спрошу сразу, а так скажу: «Доброго здоровья тебе, сват. Как живешь? Внучек наш поклон передает». А дед Трофим спросит: «А как он там, внучек мой?» — «Грех что-нибудь плохое сказать на него, сват. И бабу, и деда слушается, и мамку уважает всегда. К тебе с бабкой в гости собирается. Во какой наш внучек!» — «Ай-я-яй! — скажет дед. — Такой хороший хлопчик — ого! Не зря я взялся ему чунь сплести! Ого! Ты так и передай ему, сват, что не брешу, сплету!» Вот как, Иванка, будет. Все хорошо будет, посмотришь.
— Выдумываешь, дед. Все у тебя хорошо да хорошо… хорошо да хорошо все.
— Слушай меня, расскажу тебе та-а-кую историю, брат. Прадед твой, Игнат, батька мой, покойник, любил ее часто рассказывать. Жил-был, слушай меня, один человек, не то чудаком считался, не то святым. Слова плохого никому не скажет, не накричит, не попрекнет. Плохо человек сделает, он в душе пожалеет, головой покивает, скажет только: ой-е-ей! Как на дитя глупое поглядит. И тогда человеку тому становилось совестно. Вот как было. А в жизни, внучек, всякое бывает. Бывает, что над таким человеком смеяться станут: какой же ты, такой-сякой, хороший, если не страшный? Так нет. Такой человек был добрый, что не смеялся над ним никто. И были у него три сына. Хороших детей дал ему бог. Но и они удивлялись: почему у них такой батька? Что ни сделают они, все ему ладно. Плохого не заметит, а на хорошее покажет и похвалит. Вот и надумали сыны: что бы такое сделать, чтоб на них разозлился батька. Не по злости, слушай меня, надумали они такое. Интересно им было проверить батьку. А дело на сенокосе было. Постягивали они сено в копны, до вечера время еще оставалось: что делать? Старший говорит: «Давайте копну подпалим, поглядим, что наш батька делать будет». Подожгли, стали и как бы греются. Тут и батька пришел. И что, ты бы думал, он сделал? Стал с ними, руки греет, а сам приговаривает: «На солнце тепло, а при огне еще теплей!»
И засмеялся дед, ласково так засмеялся, будто самому себе. Будто забыл, что сидел при нем Иванка. Борода у деда рыжая, ну, не совсем рыжая, а так себе. И мягкая. Знает об этом Иванка. Уж очень лохматится его борода, когда выбирает дед из нее хлебные крошки. Вот и теперь, когда смеялся, дед хватался за, бороду. Губы его побелели, трясется весь. Отвернулся зачем-то, притих дед. «А может, он плачет?» — подумал Иванка. Шапку вон снял, вытирает лысину рукавом. Голова у деда совсем голая, а шея вся иссечена бороздками.
— И ветра нет, а попало что-то в глаз. Тут смотри да смотри, — точно оправдывался дед.
Он повернулся к Иванке, моргал глазами, веки у него были красные, а глаза чуть ли не белые — помутнели у деда глаза. И жалость коснулась сердца Иванки, когда он подумал, что дед уже хвор.
— Деда, хватит тебе. Вон сколько нарезал! А то дай я тебе помогу.
— Удается, говоришь, и рачку малому словить рыбку поскорее, чем старому, — повеселело глянул дед на него. — Только не так, внучек. Старый — что малый. И малый — что старый. Хватит с меня. Нарезал много. Хорошо, что хоть солома есть. Убережем до весны коровку. Перебьемся. А вон как артельной скотинке до весны дотерпеть?.. Артельная не артельная — чем она виновата? Все равно жалко. Еще на рождество ездили по дворам, сена у людей просили. Кто давал, а кто бы и дал, да у самого нет. Вот как! Изведется скотинка вся, будут глодать волки кости… Коровник раскрыли, солому со стрехи скормили. Солома та — одно название. Зеленый мох порос на ней, в руках рассыпается — гниль. Корова лучше ест зеленые лапки, чем ту солому. Вся стреха в коровнике просвечивается. Ляжет корова — бока примерзают.
— Дед, а пускай бы взяли коров по дворам, пускай бы перезимовали…
— Э, внучек, если бы взяли да если бы дали. Взять возьмешь, а чем кормить будешь? А другой думает так: «Возьму, а что мне за это будет? Молока не дает — запустилась; какое там молоко. Сено скормлю, а кто его мне вернет?.. Трудодни запишут? А что мне будет на те трудодни? Сено? Так сена и в колхозе нет». Да и начальство не позволит, чтобы коров или коней разобрали. Побоится, как бы люди не подумали, что колхозы будут распускать. Если не побоится людей, то побоится того начальства, которое над ним, выше.
— Дед, а председатель, а бригадир — тоже начальство?
— Начальство, внучек. Наше с тобой начальство.
Иванка словно бы обрадовался чему и засмеялся.
— Дед, — сказал он, — так и ты бы начальством, если бы захотел, мог стать? Помнишь, как тебя председателем хотели поставить, как тебя на собрание вызывали и ты не хотел идти, а пошел?..
— Не могу я, внучек, начальством быть. Годы не те, да и какой я начальник… Я самому себе не начальник. И стоять над людьми я не могу. Не могу с ними ругаться.
— Мамка говорила, что ты добрый, дед, что на тебе люди, как захотят, так и поедут, виноватым сделают, и ты виноватым и будешь.
— И правда, внучек. Кто из нас не виноват перед богом и перед людьми.
— Чего ты, дед, все говоришь: бог да бог. Не хочу я, чтобы ты говорил про бога. И мамка тоже не любит, когда ты вспоминаешь его.
— Ну хорошо, внучек, не буду. Не буду, внучек, бог с тобой.
— Вот снова, дед. Все этот бог…
Дед ничего не ответил, лишь взглянул на него. Странно так, показалось Иванке, взглянул. Беспомощно, растерянно, а потом почему-то закрыл глаза; веки у деда подрагивали, точно больно было деду, только превозмогал он, затаив дыхание, эту боль.
— Дед, — сказал Иванка, — это я просто так про бога… Дед…
«Почему так жалею его? — думал дед. — У меня все нутро аж болеет по нему. Надо ли это, помогу ли я так малому? Что его ждет? Боже, надо ли мне его так жалеть?»
Уже смеркалось на дворе. Сумрачно становилось в гумне, ветер тише ходил под стрехой. И словно потеплело. Стоя на коленях, дед сгребал сечку в кучу.
— Иванка, возьми, внучек, в корзине мешок. Насыпь до половины мякину. Потом досыплем резаком, занесем в сенцы. Чтобы под руками было, чтобы не ходить.
— Давно бы так, дед. Теперь я тебе помогу.
Насыпали мешок, придавили его руками и коленями.
— Теперь мы его — гоп! — сказал дед, — и понесем.
— Дед, — сказал Иванка, — отдай мне наган. Ей-богу, стрелять из него не буду. Мне трубочку жалко. Не ту, деревянную, а ту, железную, где ходит боек… Отдай, дед.
— Не знаю, Иванка, что с тобою делать…
— А ты не делай, ты дай…
— Кто его знает, куда его сховал? Ты думаешь, помню…
— Не ври, дед. Я знаю: ты сховал.
— А что, если вон там, где снопы сложены, возле стены поглядеть?
— Ой, а я и не догадался!
Поглядел Иванка, пошарил руками: есть!
«Ох, малое — что дурное. Да и я дурной…»
— Давай сюда, я патрон выну. Дай мне эту заразу.
Что он умеет, этот дед? Туда-сюда рукою дергает, нет, смахнул все-таки резиночку с бойка. Ну, правильно, трубку железную надо теперь подать на себя, ничего, что она пережата второю резинкою. Резинку не надо трогать, трубка и так пойдет.
Странное что-то происходило с дедом, и дед не понимал себя. Старался взглянуть на все посторонним взглядом и не мог. Чувствовал, что не так поступает, не надо было давать Иванке наган, но вот раздобрился. И хотел, и не мог взглянуть он на себя посторонним взглядом, и страдал от этого.
— А, делай сам, — вовсе растерялся он. Иванка вынул зубами патрон, вытер его ладонью. — На, бери, если тебе жалко, дед.
«Ох, старый — что малый. Что голова — то и розум».
И что ты поделаешь: взял дед патрон.
5
«Боже, не оставь меня без помощи, — думал дед. — Что-то случилось со мной. У меня отбилась душа. У меня не стало души — одна лишь жалость осталась. Мне всех жалко, и мне хочется плакать. Так, наверное, нельзя. Откуда у меня это? Или, может, я жил недобро? Или это зовешь меня ты к себе, подаешь мне знак? Скажи. Нет, не думай, смерти я не боюсь. Скажи мне только — сердце надо человеку? Я долго жил, я старался беречь твой закон. Но скажи мне, какая тобою положена мера добра? Я долго жил, я видел, как добро порождало зло и как зло порождало добро. Надо ли так, боже? Почему ты не сделаешь так, чтоб только добро порождало добро? Грешников ты не отлучаешь от себя, но где ты ценишь добрые дела больше: на земле или на небе? Я долго жил, и я не знаю, как жить. Прости меня, боже…
Я ничего не прошу у тебя. Суди меня как хочешь, я все приму. Прошу тебя за внука. Он сирота, ты знаешь, и не сделай так, чтобы он был сиротою и меж людей. У него добрая душа, ты знаешь это. Пошли ему испытания по силам. Не сделай так, чтобы надломилась его душа под тяжестью добра, но не сделай так, чтобы душа его стала черствой. Положи ему ту меру, какую не дал ты мне.
Я боюсь добра, но я не виноват в этом. Не за себя я боюсь, за внука.
Успокой сердце дочки моей: она много пережила в войну, стало злым ее сердце. Пошли ей доброго человека, пошли внуку моему батьку. Дай еще пожить моей старой — не пожалеешь об этом, боже…
Аминь!»
6
Метель утихала. Ветер слабел: еще поднимался время от времени, медлительно, как бы нехотя набирая силу, но потом вдруг опадал, спокойно вея снежной пылью вдоль дороги. Призрачной белизной отсвечивали на улице островерхие сугробы. День уходил — и все-таки светло было вокруг, светло. Мгла над полем становилась прозрачнее, нежнее, — изменчивая, неуловимая мгла.
На западе же высоко в небе пробивался сквозь плотную наволочь туч и томился тревожный в своей золотистости сумрачный свет. Но глуше и увереннее собиралась чернота, залегающая над лесом.
Спокойная, умиротворенная стояла теперь яблоня на Пилипчиковом огороде.
Наступал вечер.
А тем временем, постукивая в сенцах валенком о валенок, зашел в хату к деду Михалке дед Трофим.
Вот как увиделось это Иванке.
В хате весело горел на каминке огонь, отбрасывая трепетно-горячий свет на стены, на темный стол с деревянной сольницей, на светлую и, казалось, теплую лавку, на влажные изнутри стекла, то темно-глубокие, когда тень падала на них, то червонные, когда отражалось в них пламя. Мамка позвякивала ведром, наливая воду в чугун, где прозрачно белела сверху только что очищенная бульба. Снова полнозвучно звякала дужка ведра, мамка ставила ведро на лавку, и слышно было, как на донышке всплескивала вода. Тихо было в хате. Дед лежал на кровати в боковушке, изредка сухо покашливал. Бабка спала на печи. Лишь Иванка сидел у каминка, приблизив лицо к сухому, горячему теплу. Жгло щеки, даже туманно становилось в глазах, и он отодвигался, и было приятно чувствовать, как жар еще долго щекотал, покалывал лицо, как ровно растекался по щекам, — воздух легкой пленкой обволакивал лицо, и так хорошо было, так ясно на душе.
Когда щелкнула клямка в сенцах, когда начал кто-то шаркать ногами у двери, отрясая снег, Иванка даже и не подумал, что это мог быть дед Трофим.
Прежде чем увидеть деда, Иванка увидел, как в дверь просунулась кошелка, и он бы не узнал сразу такую обыкновенную кошелку, какая и у них была, если бы не была она завязана сверху махровым темным платком: к тетке Ганне всегда ходили так и сама Трофимиха и дед Трофим.
Дед молча потоптался у порога, закрывая дверь, потом повернулся и как-то сразу выпрямился. Очень серьезно, даже торжественно выглядел дед. Провел он рукой по бороде, и заметил Иванка: хотел глядеть прямо, но глаза его бегали, — может, потому, что после темени непривычно смотреть на свет.
— Ну, так добрый вечер вам в хату, — сказал дед, отдышавшись.
Мамка выпрямилась посреди хаты, мокрой рукой поправила волосы, потом опустила руки и как-то растерянно, испуганно смотрела на деда, точно не знала, что ей делать.
— Тепло у вас тут — ого! — живо, чтобы опередить мамку, проговорил дед. — Добрый вечер тебе, Праскута, — сказал он тише и снял с головы шапку. — А где ж это сват Михалка?
Дед Трофим поставил у порога кошелку.
— Так что ж это я… Проходите сюда вот, к столу, — не спеша сказала мамка и снова поднесла руку к лицу, поправила волосы. — Тата! — позвала потом громко, на всю хату. — Вставай, погляди, кто пришел…
— А ты тут греешься — ого! Ну, здоров, коток, — словно теперь лишь увидел Иванку, подступился к каминку дед Трофим. Свою шершавую руку сунул в Иванкову вялую ладошку, а другой рукой, тоже шершавой и твердой, погладил его по голове. — Ого, большой вырос, коток. Дай же погреться и деду.
Мамка взяла от стола лавку, поставила перед каминком, сходила в порог за тряпкой и несколько раз провела ею по лавке.
— Хо! Не большая беда, — сказал дед. — Да не бегай ты, Праскута, — ласково и довольно говорил он, будто не замечая потупленного взгляда мамки.
«Сердится мамка, — подумал Иванка. — Батину пенсию не может деду простить».
Дед Трофим отодвинул немного лавку от каминка, огляделся и сел. Шапку положил себе на колени.
Интересно, принес он чунь или нет?
В боковушке закряхтела кровать: поднимался дед Михалка. Вздохнула на печи, но не отозвалась бабка. В хате стало тихо. Мамка вновь начала бренчать ведрами. Из боковушки вышел дед Михалка, крутил головою, жмурясь на свет.
— Кто тут? А, здоров был, сват. Прилег я под вечер. Погода такая, что только и лежать…
Дед Трофим приподнялся с лавки, они поздоровались. Деду Михалке было как-то не по себе: он моргал глазами, щурился, глядел почему-то себе на плечо, на грудь.
«Затужил, наверное, что дед Трофим застал его в кровати», — догадался Иванка.
— Ага, ты правду, сват, говоришь, — сразу чему-то обрадовался дед Трофим. — Крутило, холера, целый день. Хотя бы улеглось за ночь. Притихло немного. Будет мороз… Садись со мной, сват! — Сиди, сиди, а я на колодку сяду. Я привык… А ты почему не раздеваешься, сват? Иванка! Помоги деду раздеться… Раздевайся, сват, в хате тепло.
— Тепло в хате, тепло — ого! Только я недолго… Был я у Ганны. Домой бежать надо. Старая не управится без меня. Затукает, заклянет, если опоздаю… Это уже та-а-ак…
— Разденься, сват, разденься, — говорил дед Михал-ка. — Посиди… Когда мы так видимся…
— Эхе-хе-хе! Так, сват, так! — снова повеселел и даже подскочил на лавке, посмеиваясь, дед Трофим, погладил обеими руками щеки, погладил бороду.
Лицо у деда гладкое, румяное, короткие седые волосы на голове стоят торчком, зубы частые и белые, как чеснок.
— Ну так помоги, Иванка, помоги, — говорит дед Трофим. — Помоги, коток, — и встает, снимает суконную свитку, отдает Иванке вместе с шапкой. Под свиткой у деда суконная рубаха, штаны из сукна, а на ногах — валенки.
«Богатый этот дед, — думает Иванка, кладя свитку и шапку на сундук. — Потому такой красный да крепкий», — и жаль ему при этом деда Михалку. Нет у него свитки — носит дед ватник. Рубаха у деда полотняная, покрашенная в черное. Ватные штаны заплатаны на коленях. Обувает дед старые, почерневшие чуни.
Иванка кладет на сундук свитку и шапку, идет к деду Михалке, тулится головой к нему. Дед Михалка согнулся на своей низкой колодке у двери в боковушку, поглядывает на печь, где дремлет бабка. Деду Трофиму бабки не видно: он сидит на лавке с другой стороны каминка, у самого огня. Вертит головой, жмурится да тянет шею — греется.
«Принес он мне чунь или нет?» — не терпится узнать Иванке.
— Иду это я, — начинает рассказывать дед Трофим, — гляжу, из баньки Ивана Медведкова дым идет. Неужели суббота сегодня? Неужели я со счета сбился? Иваниха быстренько от баньки бежит, спешит. «Чего б это, — думаю, — она?» Гляжу, Иван из баньки выбежал: «Варвара! Варвара!» — кричит. Остановилась Варвара и потрусила назад. Стали возле баньки, как бы сговариваются о чем-то, Иван ей говорит и все руками показывает…
— Видать, из сельсовета приехал кто-то, а эти к себе затянули. В баньке смалят… Вот подколодники, вот обормоты!.. Вот чтоб им!.. — вдруг заговорила, все более распаляясь, мамка. — И как это земля на себе таких носит?
— Правду ты говоришь, правду! — обрадовался дед Трофим.
— Загонял он бабу свою, этот Иван. Надо же, чтобы женщина так мужика боялась… — как бы вслух рассуждал дед Михалка.
— Вот ирод! Вот хитрец! Как же никто не докажет на него? Люди воевали, а он отсиживался, крикун этот, горлохват… Прислуживал и нашим и вашим. И тогда ему было хорошо, и теперь. Он и староста, он и для партизан кабанчиков резал… Тех, что у людей накрал. Валенки да рукавицы для немцев собирал. Не так для немцев, как для себя. Видела я один раз. У Грищихи, матки его, свои рукавицы на руках увидела. Что ж я, не узнаю свое? «Как вам, тетка, не холодно в моих рукавицах?» — спрашиваю. Заморгала глазами, головой закивала: «Что ты выдумала, милочка, мои рукавицы это, мои». И ходу от меня. У-у, злодюги! И хорошо им, они чистые, их не тронь. Чего же наши мужчины молчат? Хотя какие это мужчины! — презрительно скривилась мамка. — Уцелели за войну и рады. К юбкам прилипли. Кто в бригадиры шьется, кто в леспромхоз: «Мы воевали, мы заслуженные!» А мы тут не воевали? Мы тут мед ели, пиво пили? Ты, Медведок проклятый, ты мед ел, ты людские слезы пил, — чтоб ты вдовьей слезой подавился!
Мамка приложила руку к глазам, заплакала.
— Мама! Мама! Не плачь! — закричал, испугавшись, Иванка.
— Всего в войну было, — то ли осуждая мамку, то ли сочувствуя ей, сказал дед Михалка.
— Ой, недобрый он человек, этот Иван, ого! — уже не радуясь, а вздыхая, заговорил дед Трофим. — Летошний год луг делили — он в комиссию полез. Делили по дворам, по порядку, чтоб справедливо было. Делили, делили — доходит очередь до него. Как раз возле Ананьиной баньки, где речка, ближе к выгону, ему полоса выпадает. Ну, конечно, там без потравы не будет. Коров на пастьбу гонят — обязательно буренка заскочит. С пастьбы гонят — снова заскочит. Сторожи не сторожи, все равно. Закрутился Иван, как уж. «Мне, — говорит, — с племянником моим, с Василем, в одном месте дайте. А тут другому. Мне все равно племяннику помогать сено косить. Косу наклепать да и сено перевезти помочь надо. Какой он еще хозяин?» Во как придумал! А за ним по очереди шел Авдулин Тявлик. Дитя горькое, как и Василь тот. Такой же хозяин. А и упрямый он. Малой, малой, да бойкий. Уперся, хоть кол на голове теши. Вот молодец хлопчик! Тут и Авдуля как раз прибежала. Как закричит, как заголосит. Мужчины стали попрекать Ивана. Отступился…
— Вот так бы раз, другой, так и приучили бы, — сказала уже как-то безразлично мамка.
Она опять возилась у порога с чугунами да ведрами, плюхала воду, потом стала вытирать тряпкой пол. Взяла на руки огромный чугун с бульбой, осторожно понесла его к каминку. Обошла деда Трофима (тот увидел, забеспокоился, отодвинулся вместе с лавкой), примерилась и посадила чугун на таганок. Подвернула к чугуну угли.
— Подбрось еще дров, Иванка, пусть горит, — сказал дед Михалка и повернулся к деду Трофиму: — Я тогда на лугу был с мужиками нашими, когда немцы Тявлика этого привезли. Чудом да с божьей помощью я спасся…
— Дед, а я видел, как немцы подожгли ихнюю хату, — поделился Иванка с дедом Михалкой.
— Лучше бы не видеть этого, коток, — сказал дед Трофим. — А все из-за детского куриного розума, из-за дурости. И как его потянуло ту немецкую винтовку взять! Хлопчика этого, Авдулиного. А те немцы и не заметили, что винтовку оставили. Вытянули грузовик из грязи и поехали. А винтовку оставили… Потом вернулись. А того Тявлика — боже мой, что голова, то и розум! — как бы подучил кто: винтовку на печь затащил, укрыл рядном. И как они, немцы, докопались, кто и у кого… Рассказывали, гергечут, едут. И машина легковая уже у них и офицер.
— Еще хорошо, что сожгли только одну Петрочкову хату, — сказала мамка. — Побаивались они тогда, в начале войны, жечь. Тимохова хата с Петрочковой почти впритык. Так немцы залезли на Тимохову стреху, поливают ее чем-то, не пускают огонь… А как Петрочиха бедная, Авдуля, бросалась, голосила. Бабы обступили ее, держат под руки… А когда Тявлика этого посадили в машину и сказали, что на луг повезут, чтоб показал, где батька и все наши мужчины, зашлось у меня сердце. Немцы все гергечут; «Партизан, партизан». Ну, думаю, будет и нам беда: там, на лугу, и тата…
— Ничего мы не знали тогда, — устроился поудобнее на колодке дед Михалка. «Может, разговорится дед, — подумал Иванка. — А то все молчит сегодня да молчит». — Как раз в обед приехали. Мужчины сели около будок. Я управился раньше и пошел к озерцу миски мыть. Сколько времени прошло, не знаю, только слышу: машина едет. Мужчины наши загомонили, слышу, а потом затихли. Поховались, думаю. Да где там поховались! Растерялись они… А я, когда машина к их табору подъехала и немцы начали гергетать, когда там крик поднялся, — кинулся я в воду, под лозовый куст забился, рукою за сук держусь, чтоб не захлебнуться, гляжу…
— Это же их всех и взяли там, — заключил дед Трофим. — А я перед этим поехал с луга. Уберег меня бог. А назавтра их взяли…
— Данила Талалюй и Тимох Кундыла спаслись, — сказал дед Михалка. — В Дубки как раз пошли за бреднем, в канаве половить хотели.
Начала закипать на таганке бульба, пенясь и заливая огонь. Иванка откатил от чугунка головни — они сипели, исходили дымом и горьким паром. Подошла мамка с ложкой, собрала с бульбы накипь. Попробовала вар из ложки, хватает ли соли, и протопала к столу.
— Засиделся я у вас — ого! — забеспокоился дед Трофим. — Надо, наверное, и мне на вечерю.
«Так и не принес чунь, — с жалостью, с гнетущим отчаянием в сердце подумал Иванка. — Чего тогда приходить?»
— Нет, сват, постой, — поднялся с колоды дед Михалка. — Поедим вместе. Так не отпущу. Ты еще не пробовал моей кислушки. Выгнал немного я. К Маланьиным поминкам.
— Так это уже шесть недель, как померла?
— В следующий четверг будет.
— Царствие ей небесное, — перекрестился дед Трофим. — Ага, забыл я совсем. Иванка, коток, погляди, что я тебе принес. Чтоб ты не думал, что дед на ветер кидает слово: взяться взялся, а не сделал…
Дед повернулся и пошел к порогу, где стояла кошелка. — Чунь! Чунь! Дед принес чунь! — закричал Иванка, глядя счастливыми, округлившимися глазами то на деда Михалку, то на мамку.
— А, боже мой, наверно, и правда! — то ли испугалась, то ли удивилась мамка.
Дед Трофим присел у порога на корточки и развязывал кошелку.
7
От высыпанной на рушник бульбы высоко, под самый потолок поднимался пар. Здесь же, на рушнике, желтым податливым холмиком лежало толченое конопляное семя, чтобы макать бульбу. В сизую алюминиевую некрасивую миску была налита простокваша. В такой же миске были и огурцы. Дед Михалка чистил луковицу. На каминке скворчали на сковороде несколько пригоревших корявых шкварок.
Зашевелилась на печи бабка, зевнула. Потом около трубы зашуршала лучина: бабка, наверное, вставала.
— Кулина! Слезай, вечерать будем, — позвал дед Михалка. Перестал чистить луковицу и прислушался.
— А вечерайте, вечерайте… Ты же знаешь, как я вечераю. Вечерайте себе. — И снова затихло на печи.
— Сватья Кулина, чего же ты? Или тебе так плохо? — подал голос дед Трофим.
— А-а, это ты, сват Трофим? А я лежу, сплю — не сплю. В голове гудит, будто звон звенит. И голос будто знакомый, а не узнаю. Старость не радость… Как же там сватья?
— Хворает. Вот как и ты. С животом у нее. Может, язва какая. Содой только и спасается. А ее нигде нельзя достать.
— Разве что язва. А то ж она моложе меня.
— Слезай, слезай, сватья. Дай на тебя хоть поглядеть.
— Далеко с печки не слезу. Посижу тут. А вы без меня вечерайте. Ничего в рот не идет.
Бабка слезла с печи и села при ней, поставив ноги на доску-подставку. Темный платок был низко надвинут на лоб, и под платком резко выделялось сухое, с тяжелым надбровьем лицо с крючковатым, тонким носом и застывшими, как бы припухшими губами.
— Вот моя дорога: от печки до порога.
— А ничего, — сказал дед Трофим. — Переживем зиму, летом будет легче. Погреем кости, ого!
— Тата, — сказала деду Иванкина мамка, — проси, чтоб садились за стол.
— Бабуля, — подошел к бабке Иванка, — погляди, что меня на ногах. Мне дед Трофим чунь сплел. И две оборки. Одну для запаса. Онучи вот немного корявые. Мамка сказала, завтра вымоет…
— Ну и хорошо, ну и нехай, — быстро ответила бабка, и обидно стало Иванке от невнимания ее.
«Недобрая моя бабуля, — подумал он. — Спала на пенсе, спала, даже не слышала, как дед Трофим пришел. А может, нарочно не отзывалась. А теперь и вечерать не хочет — упрашивай ее. Не хочет, не хочет, а ночью встанет и начнет искать себе чего-нибудь поесть. Будто ей не дают. Дед ругался на нее за это… Ничего не буду ей показывать никогда. Лучше пойду к деду Михалке».
— Дед, — сказал Иванка, — погляди, какие у меня длинные оборки. Я вот так закрутил и еще вот так. Завтра мне мамка онучи помоет… А ты мне одну свою суконку дашь? У тебя большие, как раз из одной будет две.
— Ну что с тобой поделаешь? Придется дать…
«Боже, зачем я отдал ему наган? — подумал он вдруг. — Что это со мной? Что со мной делается? Душа у меня стала мягкая, как воск. Не доведет это до добра».
— Иванка, — сказал дед, — зови деда Трофима садиться за стол… Сват, садись, а то все остынет.
Встав перед столом, они молились: дед Михалка задумчиво и покорно, слабо нашептывая что-то, дед Трофим скороговоркой, неестественно задрав голову и бессмысленно, испуганно помаргивая редкими ресницами.
Потом сели за стол.
— Сколько же это ей было… покойнице Маланье? — спросил дед Трофим.
— Было ей немного, лет пятьдесят пять, наверно… Кулина, сколько Маланье было лет?
— Вот не подумал бы… Ого… А высматривала на все шестьдесят.
— Житье холерное было, — сказала бабка. — Да еще табак этот курила, как мужик, — пересохло у нее нутро… А родилась же она, когда мне было уже десять или двенадцать годков. Я уже за тобой, Михалка, замужем была, когда несчастье то навалилось на нас, когда мама и тата грибами отравились. Перед японской войной это было…
— Ну, так оно и будет, лет ей пятьдесят пять, — сказал дед Михалка.
— Не повезло покойнице на этом свете, — встрепенулся дед Трофим, и закивал головой, и сам весь выпрямился за столом, твердо опершись руками о лавку.
В который уж раз за нынешний вечер удивляло Иванку несоответствие того, что говорил дед, всему тому, что проступало в его голосе и в чертах его лица. И точно сам радовался этому несоответствию дед, как бы любовался своим голосом, который все время оставался бойким и живым.
— А ничего от нее не видели, кроме добра, — нехай легко ей будет на том свете, — поспешно и бесстрастно заговорил дед Михалка, а Иванка догадался, что эта бесстрастность нарочита: дед как бы хотел притупить ту бойкую живость, которая неустанно проступала в голосе деда Трофима. — Сорок годков с нами прожила, слова плохого никто от нее не слышал. А сказать плохое про нее было грех. Нога хворая — с детства это у нее, потому и в девках осталась, — а она за все берется наравне со здоровыми.
— Померла неожиданно, — сказала Иванкина мамка. — Запарили мы перед тем белье, она все носила воду. Никто тогда ничего не заподозрил, да и у нее не было предчувствия. Спать, правда, в тот вечер легла раньше. Ночью мама слышала: вставала несколько раз воду пить. «Чего ты, Маланья? Болит что-нибудь?» — «Душно мне в хате. Ты спи». Под утро спохватились мы, а поздно…
— Давайте вечерать, — сказал дед Михалка. — Попробуй, сват, кислушки. Не умею я гнать ее… Это потому только, что надо… Садись ты, Праскута, а то и до ночи не управишься…
— Покойница Маланья порядок за столом любила, ой, любила, — заметила бабка. — До обеда или до вечера ничего, бывало, в рот не возьмет. Иванку приучала, чтоб не крутился без поры возле стола. Михалку уважала, ценила в доме хозяина.
— Выпей, выпей, сват. Пробу сними.
Дед Трофим поднес ко рту стакан, выпил глоток, пожевал губами, глядя в потолок.
— Хорошая кислушка, ого! Куда лучше моей, которую в последний раз выгнал.
— Ну, тогда выпивай, сват, выпивай… А ты чего глядишь на нее, Праскута?
Чокнулись все вместе, на какое-то мгновение отвели друг от друга глаза.
— Ну, то царствие небесное покойнице, — сказал дед Трофим и решительно, на загляденье, выпил все до дна, перекрестился и вытер ладонью усы. — Ох, злая, холера! Ого!
— Бери, сват, шкварку. Или макай огурец в жир… А и правда, кислушка крепкая… Если бы вся такая была, как в этом графине. Первачок сюда слил.
— Не идет ли это кто к нам? Во, послушайте, — сказала Иванкина мамка и повернула голову к двери.
В сенцах и вправду бренчала клямка, потом кто-то ногами встопывал, казалось, даже разговаривал, но слов нельзя было разобрать, как и нельзя было догадаться, говорил ли один человек или их несколько пришло.
— Наверняка Лексей Гурмак, — первой догадалась Иванкина мамка. — Помяните мое слово: он. Дурень, дурень, а чует, где сели за стол.
— Дурень не дурень — все равно человек. Есть каждому хочется, — почему-то поддержал дочкины слова дед Михалка.
Лексей Гурмак (дочка не ошиблась — это был он) зашел в хату и долго топтался у порога, придирчиво и пристально, с расчетом на одобрение хозяев, оглядывал свои латаные-перелатаные бурки — не осталось ли на них снега. Все это время дед Михалка смотрел на него, и с лица деда не сходило выражение страдальчески-тихой думы, озабоченности и обидчивой замкнутости в себе.
— Иду я с того конца в этот и думаю: куда зайти? Ты думаешь, я к плохому человеку зайду? Скажи, правду я говорю? — неизвестно к кому обращаясь, загундосил Лексей Гурмак, вскидывая руками и одичало поводя горячими глазами.
На каминке широко и светло взметнулся огонь, зашумел, затрещал и выстрелил угольком на пол.
— Ой, люди добрые, — спохватился сразу Гурмак, — хата сгорит, а они ничего не видят, — и бросился грабать по полу руками. Шапка съехала ему на глаза, он взмахом головы пытался сбить ее на затылок, но это не помогало, и он хватался за шапку руками, снова грабал по полу, но теперь ему уже мешала пола свитки. — Ой, люди добрые, хата сгорит, скорей надо тушить, скорей тушить! — И он изловчился, схватил уголек и, перебрасывая его с ладони на ладонь, ошалело глядел на всех за столом. — Скажи, хорошо, что я подскочил, хорошо, что я нашел? Если бы не я, сгорели бы вы: сидите тут, ничего не видите… Ты думаешь, я дурной? Мне твоего розума не надо, я своим розумом живу, — и он, довольный, с достоинством поднялся с пола и бросил уголек на загнеток.
— Спасибо, Лексейка, выручил нас, а то мы и правда засиделись тут, ничего не видим. Сгорели бы, если б не ты, — ласково сказал дед Михалка. — Ходи посидеть с нами. Я тебе выпить налью.
— Я что сказал? Что? Зайду я к плохому человеку? — опять оживился, стал зыркать глазами Гурмак. — Что у меня, головы нет, не знаю, кому помочь?
«Как старается человек, — подумал дед Михалка. — Бог не дал розуму, но дал добрую душу. А справедливо это? Или можно заменить одно другим? И откуда у него это беспокойство, желание доказать себе, что он такой же, как и все. Все время говорит про розум. Боже, ты не дал розума, но почему же ты не дал незнания про него? Не иметь и знать или догадываться об этом — такое страдание… Что это со мной? — подумал он после. — Зачем я так часто тревожу бога, зачем хочу видеть его несправедливым?..»
— Выпей, Лексейка, — сказал он. — Спасибо тебе, что зашел.
— Ты сказал, мне выпить? Ты думаешь, я не выпью? Я выпью, но зачем ты самогонку гонишь, скажи? Ты стал таким богатым? У тебя много жита и бульбы? Ты думаешь, я, если выпью, молчать буду про это?
— Ты выпей, пока дают, пока под локоть не толкают, — сказала Иванкина мамка. — Разумник нашелся. Без тебя знают, что делают.
— Ты слышишь, Михалка, ты слышишь, что она сказала? А я к ней пришел? Я к тебе пришел. Ты видишь, как она командует? Я за тебя, Михалка, выпью, а за нее не буду пить.
— Да пей ты скорее. Хоть помолчишь… Дурня слушать…
Гурмак при этих словах весь вздрогнул и неподвижно, зло уставился на Иванкину мамку. Веки его подрагивали, а глаза глядели непонятливо и мрачно, он хотел что-то сказать и не мог: таким глубоким было его волнение. Дед Трофим, довольный, выпячивал грудь и усмехался, поглаживая рукой бороду. Дед Михалка, опустив глаза, молчал.
— Пей уже, холера, пей, — сказала Иванкина мамка более ласково. — Скинул бы хоть свои лохмотья. За стол посадили… А глядит на меня, люди, как он на меня!..
Гурмак медленно отвел взгляд от Иванкиной мамки и так же медленно поставил стакан на стол. Он весь сгорбился, шальное напряжение покинуло его — осталось непонимание, но не такое, как перед этим, а грустное какое-то, беспомощное и покорное. На лице не было обиды, а лишь болезненная досада на себя, которая озарила его сразу, и придавила, и удручала его, и угнетала, — и всем тогда стало понятно, что Гурмаку было очень стыдно, очень больно поднять на них глаза.
И все молчали.
Потом рука его судорожно дернулась, глаза забегали, он схватил стакан и поспешно, звучно глотая, выпил. За ним сразу же, но каждый словно сам по себе, не чокаясь, выпили все остальные.
— Дайте… ему, — неожиданно глухо, тускло сказал Гурмак, и все поняли, что он сказал об Иванке.
— А пускай выпьет… Иди сюда, коток, — виновато позвал Иванку дед Трофим. — Может, станцуешь для нас в новых чунях… Эх-хе-хе! Если выпить немного, то оно как лекарство, ого!
— Налей ему, Праскута, каплю, — сказал и дед Михалка.
«Придется послушаться, — подумал Иванка, — а то вон какой он несчастный, этот Гурмак».
Мамка, примерившись, начала осторожно наливать из графина в пустой стакан, и было это очень томительное и непонятно страшное мгновение, и вот Иванка, смущаясь, спрятался за мамкиной спиной. Неведомый, острый, неистребимо-горячий стыд ударил в голову, в щеки, сердце забилось холодно, тяжко и больно: он почувствовал, что вот сейчас должно случиться что-то такое, после чего он, Иванка, будет уже не он, а кто-то другой, непонятный, незнакомый и нежеланный ему самому, нынешнему, и этого уже нельзя миновать и нельзя остановить. Было в этом что-то неожиданно-непомерное и страшное.
Он дрожащими руками принял от мамки стакан, услышал, как говорили ему что-то из-за стола, и, желая, чтобы все кончилось побыстрей, чувствуя, как дрожит у него рука, поднес ко рту стакан и неосознанно, судорожно глотнул воздух. У него сразу же заняло дыхание, и когда горло уже обожгла острая и удушающая горечь, когда горячо навернулись на глаза злые слезы, стало невыносимо от мысли, что это, наверное, не кончится никогда: в груди не хватало воздуха и подступал к горлу огненный какой-то кашель.
— Закуси, закуси быстрее! — говорила над ним мамка. — Ну что ты? Что с тобой? — и в голосе ее неприятно, обидно слышалось злое раздражение.
Он схватил огурец и торопливо, не чувствуя вкуса, ел; в ушах у него шумело, и лихорадочно билась мысль: скорей, скорей! — и он не видел, что делалось вокруг, он был во власти одной мысли и спохватился лишь тогда, когда у него нежно, томительно потеплело внутри и начал затихать шум в голове, неожиданно переходящий в какой-то далекий струнный звон. Было теперь только ощущение напряженной, непонятной пустоты и этого грустного и тонкого звона.
Он глянул на всех за столом, и ему показалось, что свет в хате стал и мягче и теплее, и утратили грубость, ласковыми стали очертания лиц у деда Михалки, у деда Трофима, у мамки, и еще он видел, как осторожно, тихо встал из-за стола Лексей Гурмак, ступил к сундуку и принялся раздеваться. Он замечал, какое ласково-внимательное, даже угодливое было выражение лица у Гурмака, когда тот, медлительно складывая рыжую свою шинельку на сундук, посматривал на всех из своего отдаления, — наверное, вновь, как обычно, ожидал похвалы себе и полнился добротой к себе, ко всему, что делал ради этого желания — понравиться другим. Иванка долго, непонимающе глядел на него, на его шинельку, залатанную черным сукном, и эта черная заплатина странно приковывала его взгляд, он хотел не глядеть на нее — и не мог не глядеть.
— Брысь, холера на тебя! Брысь! Из ведра воду лижет, — услышал он мамкин голос и то, как хлопнула она в ладони и как потом соскочил к порогу с лавки кот.
— А ты чего сидишь? Ешь, — сказала мамка уже ему.
Иванка ел.
Странное, очень странное, как ему казалось, происходило за столом. Все говорили о чем-то, замедленно, до раздражения замедленно размахивали руками, застывали на лицах усмешки, глаза у всех были круглыми, большими, неподвижными, бездонно-страшными. Все начинал говорить и никак не мог кончить говорить дед Трофим.
— …попросила наколоть терку. А я люблю драники с молоком, ого! Старая бы и натерла когда-нибудь бульбы, а терка уже плохая. Стал я накалывать новую, а ту, другую, положил на окно, ручками вверх. В окне том дырка была. Тут Сымонихин кот как прыгнет в ту дырку и прямо в терку — ого! А, боже мой, как он стал бегать в сенцах и этой теркой греметь…
— Брысь, холера на тебя! Опять лезешь!.. Апсик!
— Бери, сват, шкварку, закуси…
— Что ты ищешь, тата? Ложка вон у тебя под рукой…
— …пьяный будет… погляди-ка на меня… глаза осоловели совсем…
— …открыл бы дверь, а боюсь, что терку ту унесет и люди испугаются, скажут — кот бешеный… Я стою и не знаю, что мне делать… Только открыл дверь в хату, чтобы старую на помощь звать, так он тут же скакнул в хату возле моих ног. Чуть кот теркой не ободрал…
— Что я, дурной, чтоб пить? Нехай тот пьет, у кого нет головы… Ты чуть пожара не наделал, я пришел, гляжу — будет беда. Я тебе хорошо сделал, скажи? Ты меня угостил, я выпил. Я сказал, чтоб и малому дал. Он выпил, все выпили, — больше я не буду пить…
— …дали ей лес, так она и сама возила, и батька помогал. Ей и досок батька купил и печь сам сложил. Так она сказала, что такому батьке руки надо целовать…
……………………………….
«Зачем я отдал ему наган?» — думал дед Михалка.
……………………………….
— Что я, дурной, чтоб пить? Нехай тот пьет, у кого нет головы…
— Помолчи ты уже, помолчи!..
— …кот теркой гремит, а мы со старухой дурнями стоим, руки раскинули. Только я хотел его схватить, а он как скакнет в окно, ого! Окно разбил и сам выскочил с теркой. Я за ним догонять. Вон он как-то остановился возле куста и мяучит, аж страшно…
— Иванка, ты спишь или нет? Уморило тебя, эх, танцор! А дед Трофим еще просил, чтоб станцевал…
— Га-га! — засмеялся Лексей Гурмак. — А что я сказал? И я сказал, чтоб станцевал. Дыли-дыли-дыли-дыль! Дыли-дыли-дыли-дыль! Нехай идет танцевать. Дыли-дыли-дыль…
Еще безладнее стал гомон за столом, и все глядели на Иванку, и кто-то уже подталкивал его. Время, которое еще недавно ощущалось как бесконечность, как замедленное движение, теперь расползалось, обрывалось, осыпалось, как песок, и между ним, Иванкой, и взрослыми людьми вставала пустота, и ему радостно померещилось, что ничего страшного нет в этой пустоте, потому что из этой пустоты как бы взглянул он и на себя и на людей и как бы уверился в своей дремлющей до поры до времени силе.
— Дыли-дыли-дыли-дыль! — гундосил, выкрикивал Гурмак, и все завертелось, загудело, стало отдаляться от Иванки, и он, чтобы удержать равновесие, чтобы не отстать, притопнул ногой, простирая руки, — неизвестность надвигалась на него, и не было иного выхода, как пойти ей навстречу…
Как будто какая-то тайная пружина распрямилась в нем, как будто освобождалось, рвалось на волю неведомое до сих пор чувство: теплыми, пламенными пятнами плясал по хате свет, приближался и отдалялся хмельной стол, покачивались стены, но он, Иванка, был центром всего, что существовало лишь потому, что был он. Вольное, просторное чувство кружило и кружило его, и этому чувству тесно стало в хате, и опять, опять какая-то неизвестность надвигалась на него, по уже не страшная вовсе; щемяще звонкая, напряженная, как струна, она звала, манила к себе, завладевала полностью — и какими неважными были перед нею и эта хата, и застолье, и бабка, до жалости одиноко и заброшенно сидевшая при печи, и этот Тявлик, еще недавно такой грозный и непонятный!
О эта неизвестность, это чувство — как бы угадывание грядущих радости, и боли, и счастья, и тоски!
Но что это? Почему все стихло в хате? Почему Гурмак молчит? Почему плачет дед Трофим?
— …она же затукала, закляла, загрызла меня совсем… Она же даже есть со мной вместе не садится… Всю жизнь, всю жизнь мучался, огонь ее сожги! Ох!..
Что это, почему это, зачем это? И отчего плачет дед Трофим? Бедный, бедный дед Трофим, бедный дед Михалка, бедные бабка и мамка! Никогда, никогда ничего такого не будет в жизни с ним, Иванкой… Никогда не будет.
8
Дорогой друг!
Не ругай, что редко пишу. Это не из лености, а от боязни сказать не то и не так, как хотел бы. Чтобы написать настоящее письмо, надо много времени и надо хоть немного душевной настроенности. Писать письма в наше время можно лишь по вдохновению. А так куда проще послать телеграмму: жив, здоров. И вообще так называемый эпистолярный жанр в наше время отмирает. Жизнь ускоряет темп, все усложняется и одновременно автоматизируется. Вещи, конструкции, формы, в миллионах вариантов трансформируя содержание, в конце концов отъединяются от него. «Добрый день» звучит очень конкретно, проще сказать: «Привет!» или «Салют!» Вот и выходит, что телеграмма или телефонный звонок удобнее, чем письмо. В телеграмме несколько слов, а на телефоне не будешь сидеть полчаса, если только ты не помешанный.
Такова теория (правда, неизвестно, верна ли она), а практика вот какова: я пишу тебе письмо.
Друже, я спешил жить, я торопил свои чувства, и я устал, Добивал диссертацию, и вдруг — стоп! — ни строки в день: ужасно болит голова, буквы скачут перед глазами. И невозможно сосредоточиться.
Пишу теперь тебе из одного славного, хотя и в достаточной мере людного места, — называется оно Седое озеро. Конец августа. Людей стало меньше; я пью молоко, купаюсь (если это закалка), хожу в дом отдыха играть в домино. Пописываю любовные стишки — официанткам с «поплавка». Официантки рады, и я рад. В книги не заглядываю, ненавижу книжки, как Скалозуб.
Матери об этом ни слова! Я у нее хоть и блудный, но единственный сын. И она у меня одна. Теперь просьба к тебе. Насколько я помню, у вас там, в деревне, вот-вот начнут копать картошку. Колхозную, наверное, уже копают. Так вот: пока не выкопают колхозную, старой бригадир не даст коня на участок. Это так. В прошлом году я сам просил у него. Он подошел к этому вопросу теоретически, сказал, что мне, человеку образованному, должно быть понятно: одному дай, другие захотят, а колхозная картошка будет в земле. Как человек образованный, я вынужден был извиниться и, как ты знаешь, идти налаживать контакт с частным сектором — с последним нашим единоличником Сидором Лобком. Тебе, как директору школы, советую такой выход: сходи к нашему участковому милиционеру, попроси у него коня. Тебе это удобнее сделать, да и у Сидора, кажется, коня уже нет.
Помоги старой, помоги найти людей, чтобы поработали на огороде хотя бы день. Пусть старушка не откладывает надолго. Беда мне с нею. Погостила зиму в городе, и надоело ей тут все. И слушать не хочет, когда начинаю говорить, чтобы перебиралась ко мне насовсем.
Ах, старик! Были у меня здесь незабываемые, полные глубокого смысла минуты: как бы со стороны посмотрел я на себя, на свою жизнь и мысленно возвратился в детство. Это было напряжением душевного зрения, что ли, и открылся мне дед Михалка — через двадцать лет после его смерти. Я и не знал, что так давно и так кровно люблю его. И понял я, что нет для нас иной мудрости, кроме той, что надо быть по-человечески, по-настоящему добрым и мужественным — и в пору стремительной молодости, и на исходе дней. Поздравь меня с этим, друг.
Твой Иван.
9
Среди ночи дед Михалка проснулся.
В последнее время он часто просыпался по ночам, и пробуждение его было легким — сон покидал его мгновенно; ему казалось даже, что будила его невольная дрожь век, щекотно набрякших холодом в остывшей за ночь хате. До того чутко он спал. Обычно он тихо, подолгу лежал, не желая пошевелиться или встать, и было приятно думать, что это так просто — взять да и встать с кровати, потому что никакой усталости он не чувствовал; была лишь умиротворенность и непонятная покорность чему-то, мысли о которой он так же, как и решение свое вставать или не вставать, откладывал на после. Было еще ощущение пустоты в голове и в сердце, но это было не острое ощущение, и не тревожило оно его. Днем он догадывался, что так касалась его своим крылом прозрачно-холодная вечность, а иначе — небытие. Но и днем это не пугало его.
Теперь было иначе: он проснулся сразу, но с каким-то усилием, и вместе с мыслью о пробуждении пришли еще не осознанные, остро чувствующиеся сожаление и тревога. И он испугался. Повеяло холодом от окна, и он почувствовал, как до неприятности остро начало проясняться в голове. Его обступили запахи, и опять же нестерпимо острые, и опять его пронизала тревога. Запахи не исчезали, а за ними пришли слабость и досада на себя — и стало душно: уже не прояснялось в голове, нудно и слабо стало постукивать в виски. И он уже не мог так лежать, ему захотелось встать, и, поднимаясь, он даже обрадовался, что отважился на это: он уже знал, что ему надо сделать.
Редкие серые потемки, заполнившие боковушку, казались ему дымчатыми и душными; он глянул на окно — оно было мутновато-сине; легкие, зыбкие тени струились по стеклу и пугливо трепетали. Свет и тень как бы наступали одно на другое, только нельзя было разобрать, то ли мрак залегал и становился глуше за окном, то ли свет прогонял серую мглу. Какой час ночи был на дворе, дед Михалка не знал. Он лишь догадывался, что до утра еще далеко.
Он ступил на пол. Холодный, очень холодный был пол, как показалось ему, но так показалось лишь поначалу: ногам сразу же стало тепло, даже горячо, и заныло под коленками. Он знал, что это не от простуды, и потому не боялся стоять босиком на полу. Поискал и нашел возле припечка старые валенки, обул их на босу ногу, нашел и надел старый свой кожух, порванный под мышками, и, пораздумав, осторожно и тихо пошел на ту половину хаты, где спала дочка с Иванкой. Тут он осмотрелся. И здесь стояли серые потемки, немногим светлее, чем в боковушке; яснее трепетали на окнах тени, и было даже видно, как на дворе, мутновато поблескивая в лунном свете, грустно осыпались, порхали мелкие снежинки.
У двери на дощатой перегородке он увидел то, ради чего пришел: там висела Иванкина свитка. Он пригнулся и, присев на корточки, принялся ощупывать карманы свитки. Рука нашарила нечто продолговатое и твердое — он обрадовался: внук еще не успел сховать наган. Карман был дырявый, и рукоятка нагана проникла за подкладку. Он осторожно, придерживая свитку рукой, вынул наган. Вернулся в свою боковушку, из потайного кармана ватника достал патрон…
На крыльце его пронизал холод, на мгновение он зажмурил глаза, стараясь унять озноб, внутренне напрягаясь, сопротивляясь холоду и привыкая к нему. Тело постепенно расслаблялось, сквозняки утихали под полами кожуха, холод начинал приятно студить грудь. Острый, здоровый морозный воздух кружил голову. Плясали, сеялись, мутновато серебрились перед глазами снежинки, и внезапно так сильно, по-родному, близко и тепло пахнуло соломой. Тоньше и щекотнее попахивало мякиной, свежо и густо шел запах глины и промерзшего тока; он видел его отчетливо, темно-коричневый, отглаженный, прибитый цепами и валиками ток, весь в ямочках-оспинках, оставленных духмяным твердым зерном. Он знал, что все это лишь казалось ему: запахи неотвратимо и остро грезились ему все последнее время.
Он взглянул на небо. Лохматые серые тучки бежали над ним, из-под тучек выскальзывал, как обмылок, желтоватый месяц. По крышам, по сугробам неслышно шастали тени, залегали то прозрачным клубком, то глухим сонмом, и когда все вокруг глохло, стихало, таинственным, призрачным представлялось блистание месяца.
Была ночь, был он — один на один с ночью.
Опять выблеснул месяц и распахнулась даль. Заискрились сугробы, светлая полоса потянулась через поле в лес, над которым мглисто трепетало небо. Что-то нарождалось и не могло народиться там; казалось, оттуда брели все тени, месяц выводил их оттуда. И вновь глуше стало кругом, стало опускаться небо на землю. Из-под леса шла тень, и еще некто или нечто шло за ней. Деду Михалке стало трудно дышать. Рука вспомнила про Иванкин наган. Он поднял его над головой, размахнулся и бросил далеко в сугроб…
Он стоял и ждал. Мрак надвигался на крыши, на сугробы, заволакивал поле. В голове у деда Михалки шумело, и более всего его не так пугал, как раздражал, нестерпимо досаждал ему этот шум, мешающий сосредоточиться, собраться с мыслями или, возможно, с одной, последней мыслью, — а ведь она должна была быть, последняя мысль, и самой главной и самой нужной ему…
Неизвестно, через сколько времени начало светать, и он спохватился. На синий просвет в тучах выплыл месяц. Ровно и ясно окутывала тишина все вокруг. В голубом блистании месяца прозрачно выступали сугробы.
Страха не было. Он знал, сегодня или завтра — этого не миновать.
10
Я — рыба. Я только что выброшена из воды. Круги горячие струятся пред глазами. Травою пахнет, О, как пахнет здесь травой! Мне кажется: Я — человек И на траве лежу, Изнемогающий от солнца. Но я рыба, рыба И — Я умираю.11
Ночь. Ночь. Ночь.
Над деревенькой, над всем миром стоит ночь. Спит бабка, спит Иванкина мамка. Спит Иванка. И никто не знает, что ему снится. Под кроватью, обмотанные оборками, лежат новые чуни. Проснется завтра Иванка, и первой его мыслью будут чуни. Обрадуется Иванка. И хорошо будет завтра Иванке. Хорошо будет ему.
Пусть так!
ДЕНЬ В ШЕСТЬДЕСЯТ СУТОК (Перевод Эд. Корпачева) ПОВЕСТЬ-ПУТЕШЕСТВИЕ
ВОСПОМИНАНИЕ О СЕВЕРЕ
Живу я теперь в одном прекрасном месте наедине с лесом, осенней тишиной, с непонятным пока и мне самому прибытком моей души. Днем лес сквозит, устланный скрученной сухой листвой, холодок трезвит височки, и такое чувство у меня, что если разгадаю я эту нынешнюю таинственность леса, каждого одинокого на ветке листа, если смогу постигнуть и выразить в простом слове изящную выразительность черного ствола крушины, если схвачу воедино скупой запах холодной земли, тоску светлого неба, и далекий рокот трактора, и сорочий быстрый стрекот — вот тогда из осени загляну я в свою душу, словно в криницу, отведу рукой опавшие в воду пожелтевшие листья. «Здравствуй, человек, — скажет мне моя криница, — почему так долго не заглядывал, почему ждал именно этой осени?» А что я отвечу ей? Что, мол, не брился в ту, иную пору, не прихорашивался, и такой был и сякой. «Прости, моя криница, дай и трезвость свою, и ясность, и отблеск свой дай, и синеватую дымку!..»
Теперь же как-то неопределенно у меня на душе, будто в природе туманным утром. И лес, и осень пока не открываются мне, и я завидую приятелю, который из большого далекого города пишет мне об этих местах, где теперь я, пишет об опавших листьях, о холодной сизой ленте асфальта в лесу, о собачьих стаях, бегущих по дорожке вслед за людьми, настроенными на неторопливо-задумчивый лад, вооруженными ради легкомысленного украшения нестрогаными ореховыми киями. Я завидую приятелю, определенности его тоски, завидую той его осени, которую он далеко отсюда носит в себе. А может, все лучше видится на расстоянии? Почему-то вот и мне слепит глаза другая ясность — из того края да из того лета, где днем и ночью светит солнце, где прозрачный, почти белый, воздух, где наступает на берег и отступает море: зеленеют на камнях водоросли с острым их запахом; из подожженной свалки ящиков, досок, резины, оставленных на берегу морем, валит дым, дует свежий ветер, и все светит, светит солнце. Стоит в ушах моих непривычная та тишина над серыми сопками, каменистыми, скупо украшенными по откосам низкими, как кустарник, березами, похожими на лозу, и лозою, похожею на березки. И все так просто на той земле, что чувство соединения с природой приходит сразу, опадают ненужные покровы с души, и, один-одинешенек среди белого безмолвия, чувствуешь, мгновенно постигаешь ты, что все же не будешь здесь одинок: будешь как солнце, как вода, как трава; и надолго ли утешишься этим, пока не знаешь, но одиночества здесь не боишься. Помню, странные мысли одолевали меня на Севере: ну, хотя бы об этом одиночестве. Не знаю, сумею ли теперь передать их, как не знаю, были ли это мысли или мысли-чувства, когда воображение взлетает наивно и далеко; слово не успевает за ним, но все равно, как это ни странно, не чувствуешь досады. Помню, мне очень понятно было, почему человек может чувствовать себя и чувствует временами одиноким среди людей. Теперь мне нелегко возобновить все это, но тогда, помню, думал я о том, что мы по-разному различаем себя в природе и в жизни: человек индивидуален, природа безлична и к тому же равнодушна к нам. В жизни мы перво-наперво осознаем себя как личность, все идет от нас и все возвращается к нам: мы как бы посылаем сигналы и сами же принимаем ответы на них. Возможно, отсюда и все черные меланхолии, и всякие разочарования. Стремись тогда, человек, стремись, иди поскорее на природу: она бесконечно шлет тебе свои сигналы, как солнце лучи, но ей не нужен твой ответ. Пусть не тревожит тебя это. В ее безразличии не презрение к нам, а лишь большое спокойствие и полнота жизни. На мгновение забудь о себе, говорит нам природа, почувствуй себя одновременно и травинкой, и морем, и самим собою. Я твоя матерь, а ты мой блудный сын. Побудь со мною немного, а потом, если хочешь, возвращайся к людям.
Север в какой-то степени делает человека идеалистом, но если и отчуждает его от людей, то лишь затем, чтоб потом опять соединить с ними. Как бы ни завидовали мы существованию травинки и листа, но в конце концов мы понимаем: наш путь к великому единению с природой, со всем миром иной, чем у природы. И связь наша иная. Нам не уйти от природы, и в этом не только причина некоторых наших горестных минут, но и наше счастье — в бесчисленном множестве наших «я», связанных с природой. Представьте себе: один человек, нечто наподобие человеко-бога. Но сумел бы он понять эту связь, рассказать о ней, сумел бы он быть творцом? Наше «я», понимание человека и природы через самих себя делает нас творцами. Будем стремиться быть лучшими, но не жалеть же нам, что мы — такие, какие есть?!
Мне жаль было расставаться с Севером. В день отъезда я не смог купить билет на первый воздушный рейс и в ожидании позднего самолета бродил по Мурманску. Лето на исходе, голубоватое, с прозеленью, небо сеяло над городом беспощадно-прозрачный, холодноватый свет, просторными казались улицы, и такими выразительными, сверхреальными привидениями выглядели дома, скромно окрашенные в желтовато-бледный или зеленоватый колер. Наверное, самое трудное, с чем столкнулся бы художник, рисуя северный пейзаж, — это воздух, тамошнее небо. На Севере не различаешь воздух, как в нашей средней полосе: в нем нет той насыщенности красок, той густой золотизны, тех чередований света и теней, которые у нас так отчетливы в разную пору дня. На Севере есть просто воздух и свет, чем-то напоминающий времена нашего бабьего лета. Бестелесность и прозрачность, глубина и одновременно отсутствие глубины.
Я присматривался к городу и с какой-то радостью отмечал, что он не совсем такой, каким показался мне, когда увидел его впервые. Сначала он совсем не понравился мне: город как город, казалось, ничего своего, северного, да и дома — как во всех городах. Где здешний стиль, где здешняя архитектура? Но вот теперь отмечаю взглядом один дом, второй, начинаю видеть в них какое-то своеобразие, понимаю, почему на Севере не производят никакого впечатления, а, наоборот, раздражают все эти колонны, пилястры, карнизы. Совсем другое дело — гладкий простор стены, подчеркнутый строгой, прямой архитектурной линией, и совсем другое дело — прямоугольная башня над домом, длинный, как галерея, балкон. Еще нравятся мне деревянные дома, двухэтажные, сложенные из таких чудно-ровных бревен, окрашенных в теплый коричневый цвет: кажется, сосна, высокая, прямая, как срублена — так и складена, неошкуренная, в звено, и лежать ей здесь долго-долго, в соседстве с каменными громадинами.
Удивительное это чувство — знать, что ты вскоре надолго или насовсем уедешь откуда-то: бродишь по улицам, провожаешь взглядом незнакомых людей, которые, встречая тебя, бог весть что думают о тебе, а скорее всего ничего не думают, признавая тебя здешним. А приятно, дивно тебе потому, что у тебя от всех свой маленький секрет: ага, вы ничего не знаете, вы придете домой или на работу, будете обедать или спать, а меня уже здесь не будет, и никто, никто во всем городе не узнает об этом. Да, это так… Я запомнил и цвет вот этого неба, и кафе на углу улицы, и подвыпившего мужчину, едва не угодившего под троллейбус, и очаровательную девушку со светлыми волосами — все это останется в моей памяти таким, каким и было в ту минуту. Все останется здесь жить своей обычной непрекращающейся жизнью, не подозревая даже, что в памяти одного человека она остановилась, застыла, точно кинокадр на экране, когда обрывается лента и пропадает звук.
Медленно иду я по улице: вот автобусный вокзал, вот стадион, вот универмаг, вот большой щит на стене деревянного дома, а на щите написано:
«Газета — надежный помощник тружеников социалистических полей».
Остановись, если хочешь, и подумай, где ты: в Молодечно или в Мурманске? С какого это времени рыбаки стали тружениками социалистических полей? Вот памятник Анатолию Бредову: напряженная фигура в бронзе, рука сжимает гранату, расстегнута гимнастерка, колено упирается в громадный валун — постамент памятника. Может быть, этот валун привезен из сопок, обступающих стремительную Великую Западную Лицу — реку, долина которой во время войны была названа «Долиной смерти». Там, на горбатых, продутых ветрами сопках погиб смертью героя Анатолий Бредов — комсомолец из Мурманска. Я был там, на месте его гибели: видел каменистое извилистое русло Западной Лицы, доты на сопках, сложенные из камней, обрывки пулеметных лент, головки от снарядов, ржавые осколки и совсем не страшную теперь «Долину смерти», заметаемую песком, всю в клочках сухого белого мха, желтоватой чахлой травы. Вспоминаю, как с фотокорреспондентом газеты Северного флота ползали мы на коленках по камешкам, по мху, набирали в шкатулку землю в подарок первому Герою Советского Союза на Севере Василию Павловичу Кислякову. Нам хотелось, чтобы в шкатулке было все: и мох, и розовые лепестки иван-чая, и различной величины камешки, а мне еще, помню, хотелось найти в расщелине скалы веточку багульника, того самого, что растет у нас в Белоруссии; я искал его долго, да так и не нашел в тот раз.
Василий Павлович, недавно приехавший на Север из Москвы, рассказывал морякам, которые были здесь на экскурсии, о былых боях в «Долине смерти».
Небольшого роста, осповатый, с седыми волосами на круглой голове, он стоял на камне над кручей, говорил не очень складно, наверняка волнуясь, и все показывал да показывал короткопалой рукой за реку, на черные голые сопки, где держали оборону наши. А я сочувствовал ему, думал, что ему, впервые после войны приехавшему сюда, хорошо было бы побыть тут одному, наедине с этими сопками, этой рекой, снова пережить смерть своих товарищей и так ярко вспомнить обо всем. Он с трудом сдерживал себя. Я видел, как на какое-то мгновение он закрыл глаза, прижал руку ладонью ко лбу и покачнулся. Но его осторожно взяли под руки, помогли сойти с камня на землю… Потом он достал папиросу: сидел на камне, курил, не обращая внимания, что все глядят на него. О чем вспоминал он? О том, как остался на сопке один, прикрывая отход своего взвода? Как собрал винтовки убитых товарищей, укрепил их в разных местах меж камней — стрелял по фашистам, переползая от одного камня к другому: чтоб думали, будто наших здесь много, чтоб медлили и боялись. Сколько раз у него кончались патроны, все ближе подползали фашисты, и он, как в горячке, бросался с гранатами и винтовкой в атаку, добывал для себя оружие, вновь стрелял — и снова кончались у него патроны. Что-то около сотни фашистов уложил он на сопке, и вот уже не оставалось в руках ничего, кроме последней гранаты: он готов был повторить подвиг Анатолия Бредова — взорвать гранатой себя и фашистов. Ему повезло: подоспели на выручку из соседнего подразделения…
Вспоминаю молодого капитан-лейтенанта, вручавшего Василию Павловичу шкатулку: он говорил вдохновенно и выразительно, почему-то не забывая при этом бросить взгляд на меня; может быть, он лишний раз хотел напомнить мне, чтобы я не забыл и о нем, его фамилию не забыл, когда буду писать отчет для газеты. Фамилию его я в отчете упомянул. И вот я стоял перед памятником Бредову, и мне вдруг подумалось, что сейчас я неожиданно встречу, увижу того капитан-лейтенанта, да только он, как мне представлялось, не узнает меня.
Я постоял еще немного и пошел обедать в ресторан. Огромный зал, уставленный легкими, изящными столиками, еще пустовал. Неподалеку от меня, в одном ряду, сидели офицер и девушка, за столиком посередине зала — коротко стриженный плотный парень с тяжелым, как чугунное ядро, затылком. С высоко поднятым подбородком к этому увальню не шла, а медленно плыла проходом меж столиков какая-то девушка, загоревшая до такой невероятной густой черноты, что, показалось, в зале сразу стало темнее. Парень привалился спиной к креслу, достал сигарету. Девушка села за столик, заложив нога за ногу. Парень щелкнул пальцем по пачке сигарет — она скользнула по столу прямо девушке в руки: она взяла сигарету, достала из сумочки спички, прикурила, а коробок бросила своему дружку. Тот закурил тоже и потом все время, покуривая да пуская дым, рассчитанно строил каменно-мужественное лицо. Официантки у буфета на весь зал обсуждали чью-то покупку, смеялись над каким-то ревнивым мужиком.
Времени хватало: я сидел, наблюдал, слушал. Плотный парень с экзотической девушкой вели «на публику» подчеркнуто безразличный, продуманный до черточек разговор. Ничего в зале не существовало для них, а может быть, наоборот, для зала, по их идее, существовали только они. А я начинал думать о дороге домой, в сторону южную; представлялось сверкающее чрево самолета, сосредоточенные пассажиры в креслах, стюардесса с обязательными конфетками, от которых приторно-сладко во рту, — и тревожная какая-то, навевающая грустные размышления обстановка была в предчувствии нового своего бытия.
Подошла официантка с блокнотиком в руках, остановилась, ожидая да поглядывая в потолок.
— Что будете заказывать?
— Половину порции солянки. И еще…
— У нас половину порции нельзя.
— Почему? Пожимает плечами:
— Никто и никогда еще не заказывал.
— Но мне не надо полную!
Подумала, хотела было куда-то идти, а потом говорит:
— Не буду же я для вас маслину на две части раз-резать!..
Я смеюсь, а она почему-то удивленно смотрит на меня.
— Ну, хорошо, хорошо, давайте порцию целиком.
Успокоилась, все записала, ушла. Эх, мечтатель да путешественник липовый, думаю я, не ради того ли востришь ты, пока не поздно, лыжи на Минск, чтобы там можно было без особенных конфликтов съесть в приятной мужской компании, предварительно выпив стопку водки, эту самую половину порции солянки?
А к вечеру, уже на аэродроме, переживал я минуты неожиданно-острой тоски по всем своим шестидесяти дням, которые оставались здесь, на Севере, и такая жалость угнетала меня, и почему-то страшной оставалась неизвестность трех-четырех часов, отделявших от дома. Потом, уже в самолете, я сердился на самого себя: дался тебе этот Север, и какое это глупое чувство — любить то, что другие любят по праву своего рождения здесь, по праву больших и незначительных происшествий в своей жизни, свидетели которых — эта пустыня и это небо. А тебе, зачем тебе все это? Тебе, который не в полной мере знает даже свою Белоруссию. И ведь хорошая затея была накануне лета у тебя: собраться домой, в могилевские края, а сначала, по дороге, заехать в какой-нибудь Чериковский заказник, попроситься в лесную сторожку, вставать рано, бродить по лесу, вести дневник, а потом пешком идти домой — по той же дороге, теми же километрами, которые одолели однажды, проезжая на машине из Минска. Была тогда весна. В Славгороде, за Сожем, оставалась еще затопленной дорога через луг. За городом, ниже по реке, где было суше, недавно сняли, как оказалось, второй паром: как раз ликвидировали район, и этот паром посчитали лишним. И вот, чтобы попасть в мою деревню, вместо пятнадцати километров напрямик ехали мы кружной дорогой шестьдесят или даже больше, и все лесом, лесом, останавливаясь в каждой деревне, чтобы разузнать о дороге. В Пильне не пускал нас дальше старый высокий мост на подгнивших сваях: во многих местах провалился настил и светился, как решето, над светлым течением довольно широкой и быстрой речушки. Стоял над высоким берегом вековой бор — такой ровный, мачтовый, сосна к сосне. А тот берег был пониже, в редких ольховых кустах, за которыми проглядывали серые деревенские стрехи, и томились в солнечном свете пышные белесоватые вербы. «Жди, жди, — словно бы сказал кто-то мне, — жди незабываемой минуты». И вот из-за поворота реки, из-за кручи, поросшей кустарником, показался легкий челн: мальчик стоял на корме, отталкиваясь шестом; струилась река, пахло ольшаником, травой, смолою от бревен, сваленных на берегу; прокуковала, родив ответный вздох в груди, кукушка. И такой допотопной стариной повеяло на меня от всего — от леса, от мальчика в челне, от подгнившего серого моста, что благословил я тихо в душе и ту минуту, и близость свою к тем местам.
И как же так получается, думал я в самолете, что родное, свое мы всегда оставляем на потом, на другое время, самонадеянно уверенные в том, что не убежит наше время. Так же мы относимся и к родным местам, и к близким людям: не дарим им внимание и ласку, убежденные, что подождут, что не усомнятся же ведь, наконец, в нашем внимании да ласке, и не понимаем, сердимся, если близкие обижаются на нас и незаметно, потихоньку нас покидают.
И вот теперь, когда я пишу это, думаю: «Неужели так и надо, неужели так лучше мы узнаем свое и цену родства с этим своим?» «Ах, если любит кто кого, зачем ума искать и ездить так далеко?» А может, все-таки недаром?
Как бы там ни было, я пишу сегодня о Севере.
СОСНАМ СНЯТСЯ ПАЛЬМЫ
Тогда, в июне, в Мурманск мы тоже летели самолетом. Мы — это поэт Владимир Павлов, или просто «дед Володя», и я. Не знаю, как чувствует себя человек, когда один отправляется познавать неизвестные далекие места, где нету у него ни единой знакомой души, а мы чувствовали все же себя уверенно: был план не только незаметно и нарочито затеряться в тамошней житейской стихии, но, если надо, своей «белорусской ячейкой» даже противостоять ей. Словом, впереди у нас не было ничего, кроме дружбы. И что же, прожили мы на Севере свои шестьдесят солнечных суток на удивление дружно, и все у нас было таким же солнечным и безоблачным, каким солнечным и безоблачным бывает там летнее небо. А люди, прожившие уже немало на Севере, говорили нам, что такого лета, как это, ставшее и нашим, давно уже в Заполярье не было.
Как-то получилось так, что не виделись мы с «дедом Володей» довольно долгое время. Встретились случайно на улице, зашли в одно перенаселенное культурной публикой место и, попивая кислое винцо, вспоминали о том, о сем, сидели, бездельничали, а потом вдруг «старик» и говорит:
— Слушай, а может, а?
Посмотрел я на него с какой-то неопределенно-мудрой миной: был в этом «а» один таинственный смысл, о котором знали он да я, и я понял все так, как и понимать надо, но «старик» усмехнулся и сказал:
— А может, а?.. Поедем еще куда-нибудь… на Дальний Восток?
— Вот это мысль, старик. А если в самом деле?
Может быть, еще будет у нас с ним долгое путешествие, а пока, в июне, летом, летели мы на Север. Пожалуй, Север напомнил о себе еще в Ленинграде: здесь мы застали еще белые ночи. В Белоруссии больше месяца нестерпимо жгло солнце; вяли цветы, желтели в парках на липах листья, а в деревне выгорали ячмень, огурцы на грядах; словно в золе, томилась в земле бульба. В Ленинграде перед нашим приездом шли дожди; теперь же днем было ветрено, иногда солнечно, иногда пасмурно, и на всем лежал какой-то особенный, трепетный, неуловимый свет.
Как только вылетели из Ленинграда, приникли к иллюминаторам: казалось, до сих пор было все знакомым, привычным, а сейчас должно было начаться что-то удивительное, не похожее ни на что. Напрасно! Все тот же необъятно-широкий горизонт, застланный облаками, и облака — и внизу тоже, а меж ними видна земля: капли озер, темные островки лесов, линии шоссейных и железных дорог, кучки игрушечных домиков. Потом видели Ладогу — сизый простор воды. Как ни всматривался в надежде увидеть какую-нибудь черную или белую точку судна, ничего не увидел. Увидел другой самолет — ниже над нами и несколько впереди. Самолет исчез, исчезло озеро, и прошло еще полчаса. Пейзаж начал меняться: заметнее стали хребты гор, сизые лунки воды меж ними, и вот летишь, и вдруг замечаешь: то в одном, то в другом месте что-то белеет. Уж не облака ли так низко лежат на земле? Снег! Снег в июне!
Тогда и подумалось, что на Севере еще, наверное, весна, даже ее начало, самое лучшее — пора первой листвы. Когда же самолет, долго снижаясь над сопками, озерцами да кустарниками, сел наконец на аэродроме, поняли мы, что ошиблись: и на Севере было лето. Ровно светило белое искристое и не очень высокое небо. Вдоль дороги, подступавшей к аэродрому из-за искривленных замшелых кустарников, навалом лежали крупные камни. И так их много, камней, что деревца, поврежденные ими, усохли: немо торчат кверху тонкие костлявые стволы. Кажется, в какой-то страшный миг кустарники сожгло, иссушило таинственным, беспощадным и злым огнем. А вот между дорогой и сопкой ущельице с темной водой, окруженное кое-где ровной щетиной сочно-зеленой осоки; березка наклонилась над водой, переломилась и прямо и невысоко пошла расти вверх, густо переплетя иссеченные, искалеченные ветром сучья. А из воды выступают на поверхность серые сухие спины валунов. Едешь дальше: зеленые, пушистые, словно подушки, кочки меж лозы, рябин и берез — тоже камни, устланные ягодами и мхом. А это что? Я узнаю тебя, высокая голая сопка с одинокой лермонтовской сосной на круче: возможно, очень оголилась порода, и страшно, наверное, на круче сосне с шатром своей хвои, раскидистой и редкой, как листья папоротника. Что тебе снится, сосна, среди этой пустыни? Прекрасная зеленая пальма, которую нежит золотое, душное солнце? Голубой шум моря и белые пароходы? Бархатно-темные ночи с крупными звездами? Зеленые, белые сказочные города? И не твою ли тоску несут далеко провода — от столба до столба, обложенного внизу серым камнем?
Но зачем я пишу теперь это? Тогда, в первые минуты на Севере, я не понимал еще тоски одинокой сосны по прекрасной пальме: была это литературная ассоциация — не более. По дороге в Мурманск я жил иным. Те первые минуты переполнялись для меня особенным, несравнимым ни с чем смыслом и значением, словно нужно было мне в образе этих сопок, деревьев и неба, в образе всего простора, похожего на изначальный облик земли, впервые постигнуть жизнь земли, и, как я понимаю, мое настроение первых минут было каким-то праздничным, утренним — настроение первого дня создания света. И так хотелось скорее увидеть здешнего человека, а когда я увидел его — смотрел, как на чудо, как на разгадку тайны. Может, слишком ярок северный свет, но лица первых людей казались мне такими просветленными, необычайно одухотворенными, будто человек никогда не знал ни сомнений, ни горя, ни печали, будто лишь радовался потаенной тихой радостью…
Сопки, скалы, валуны. Глядишь, и такое впечатление у тебя, что здесь, под этим небом, прошел, поигрывая своей силой, какой-то богатырь: он никогда уже не вернется сюда, но все здесь живет по его разгульной воле, на всем печать его тяжелой, неизмеримо сильной руки. Кажется, и деревья клонятся к земле потому — до сих пор не отваживаются расти вверх, потому что сильна в них память о богатырской силе, и они все под бременем памяти этой.
Многое здесь напоминает о молодости Земли. О том, как плавилась, клокотала горячая магма, как тысячелетьями лились на землю шумные дожди, а земля все клокотала, побулькивала, опускалась немного, как тесто в дежке. Земля остывала, раскалывалась, менялись своими местами суша и море, поднимались вверх хребты, проходили мезозой и палеозой, переиначивая на свой лад мрачные ландшафты, и вот уже Земля скована льдами: может быть, тридцать, а может быть, двадцать тысячелетий назад. Где-то там, где сходятся теперь границы Финляндии, Норвегии и России, была середина ледника, холодное царство которого кончалось едва ли не у Киева. Сколько же времени понадобилось, чтобы нарушился покой холодной могилы, чтобы пришли в движение льды, уничтожая все на своем пути, выравнивая горы, образовывая озера, загребая за собою землю? Широкая спина ледника несла на себе каменные глыбы, а ледниковые воды далеко на юг смывали вязкую почву. Ледник опустошил землю в одном месте, чтобы отдать ее богатства людям в другом. Жизнь расцветала на Юге, а на Севере были холод и пустыня, мертвая земля и чахлая растительность. Так Север жертвовал собою. Вот поэтому и в человеке, наверное, веками рождалось, воспитывалось то, что мы зовем бескорыстием. Человек селился на бедной, неурожайной земле, пас оленей, ловил рыбу, корчевал, где можно было, лес и засевал клочок каменистого дола житом, — так он жил и любил этот суровый край по праву своего рождения здесь. Как нигде, на Севере человек мог радоваться нелегким плодам своего труда, тем более радостным, что труд такой тяжкий. Где-то в записках Пришвина нашел я недавно и едва не счел своими строки о том:
«почему и на Крайнем Севере люди любят свою природу порою больше, чем на великолепном Юге: в природе надо действовать, и тогда в плохую погоду не обращаешь на нее внимания — бывает ведь и плохая погода; когда же выдастся славный час, то это словно бы верх желаний, и он тогда действует необычайно благотворно».
На Севере природа не обещает человеку ничего, а дает лишь то, чего стоит он сам. Вот почему, мне кажется, Север должен воспитывать, заставлять человека чаще заглядывать в самого себя, забывать о несущественном, неважном, плохом, видеть великое в простом, а сложность измерять простотой. И ради чего бы сегодня ни ехал человек на Север: за приключениями и романтикой, за лекарством для души или за длинным рублем — он найдет здесь и то, что искал, и еще, надо полагать, нечто и сверх того: Север, я уверен, не оставляет человека равнодушным.
Но возвращаюсь в свой первый день в Заполярье. Это был необычайно длинный день: он начался в Минске, а кончился более чем за две тысячи километров отсюда, у самого Баренцева моря. И не только впечатления, умноженные на бесчисленные километры, сделали его таким длинным для меня, он и в самом деле оказался большим днем: то он вроде был на исходе, но не заходило солнце, и ночь была как день. Как передать в слове это ровное, постоянное напряжение света, льющегося с неба: от него не спрятаться, не убежать, и не избавиться от какой-то пугающей мысли, что вот ты устанешь, ляжешь спать, а твой сон, темные недра твоего забытья — всего лишь обман: солнце все равно будет стоять в небе, день будет длиться, будет покачиваться, переливаться светлой волной море, будет расти трава и будут петь птицы. Жизнь как будто продолжается уже без тебя, и никак не догнать, не вернуть того, что прошло без твоего участия. Как нелепо и непривычно спать, когда на улице день!
А тем временем ты бродишь по городу. Через полчаса он уже знаком тебе: кинотеатр, ресторан, магазины, стадион. Здесь ты будешь жить, на этих улицах тебе не миновать своего вчерашнего дня. Опасайся, чтобы он не был похож на сегодняшний: тогда на этих улицах тебе не избавиться и от тоски, которая будет ходить за тобой неотвязно, как тень. Но погоди, зачем забегать вперед, неужели ты приехал сюда, чтобы грустить?
Солнце все светит и светит, легкие облачка лежат на горизонте, небо блекло-синее; то кажутся серыми, то вдруг лучатся острым, рафинадным блеском каменистые сопки, и тебе начинает казаться, что все вокруг очаровано этим беспощадно белым солнцем, что ты идешь под ним, как сомнамбула, что даже мысль твоя зависит от солнечного света; и ты злишься на себя, стараешься переключиться на что-то иное, но через минуту что-то неосознанное, обидное, как в тот миг, когда паутина вдруг облепит твое лицо, начинает беспокоить тебя. Страдая, думаешь: что же это такое, откуда такое чувство, и вдруг спохватываешься: ах, да, ведь это все тот же белый свет, все то же солнце, нежаркое, лучистое!
А вот эти люди, живущие здесь, бродящие по улицам, неужели не чувствуют всего этого? А может, они просто заколдованы белым светом? Вон какие сосредоточенные, тихие — идут, словно прислушиваясь к самим себе. Неужели они не могут чувствовать так, как я, неужели не замечают они, что я совсем из другого мира, где люди умеют смеяться, любить, смотреть друг другу в глаза? Нет, вот те, что идут навстречу, кажется, смеются? Но почему не слышен их смех? Немая улыбка застывает на лице, а потом постепенно, словно стекая, начинает сходить с него. Лицо становится молчаливым, обычным, а вот улыбка уже порхает в воздухе, переливается на свету, лучисто лезет в глаза. Кажется это? Конечно, кажется. Не думать, не думать, не думать! К черту все!
Позже уже, когда мы жили на корабле, услышал я однажды в кают-компании, как один офицер жаловался доктору, что долго не может уснуть: не идет сон, и все.
— Солнечные ночи, — сказал доктор. — Нервы. Бывает.
— Солнечная болезнь? — рассмеялся кто-то.
— Морская есть, а почему же не быть солнечной? — строго отвечал доктор.
От нескончаемого солнечного света «болеешь» особенно в первые дни жизни на Севере. Ты еще не устал запоминать, смотреть, удивляться, у тебя еще нет спокойного инстинкта здешней жизни, есть болезненная впечатлительность — не более. Ты как дерево, пересаженное на новое место: пока корни врастут в почву, дерево должно «переболеть». И ты тоже болеешь.
Восемь, девять, десять часов вечера. Не выше, не ниже на небе солнце. Неужели это то самое солнце, которое за две тысячи километров отсюда сейчас багровым шаром низко висит над лесом, заливая все вокруг розовым мягким светом: все длиннее становятся тени, собирается над рекою туман, и сумерки выбираются из густых кустов. Стоит тишина. Щедро нагретая за день, спешит отдать свое тепло земля; пахнет в огородах укропом, цветами, подсохшей травой. Солнце зашло. Пламенеет, переливается розовым, желтым, лиловым цветом запад. Выступает на росе трава. Становится прохладно. Кричит в кустах у реки коростель. Тарахтит, переезжая через мост, телега. Темнеет. Долгожданный отдых земле, успокоение и сон человеку!
А здесь одиннадцать часов вечера. Ничего не меняется. Солнце. День. Идем на последний сеанс в кино. Показывают фильм о композиторе Штраусе. В каком-то пошловатом стрекулисте надо узнать музыкального короля Вены, поверить, что он был демократичен, прост, остроумен, талантлив, мог одновременно влюбляться, писать музыку, делать глупости, произносить революционные речи. Фильм дрянь, музыка чудесна. В зале полусумрак, на экране солнечный каскад красок. Он не утомляет. Отдыхаешь. Людей в зале — раз, два, три — и начинай считать сначала. Догадываешься: лето, все на Юге.
Фильм заканчивается. Идем в гостиницу. Город спит. На улице ни души, если не считать кошек. Их множество. На крылечках, на тротуарах, у подъездов. Вышли на ночную прогулку, А мы идем спать.
— Сколько на твоих не золотых, дед Володя?
— Без пяти час. А может, побродим еще?
— Посидим лучше в гостинице.
Пришли в номер, сели, курим. В окно виден залив, хребты сопок за ним, корабли на рейде. И солнце над заливом. Едва не у самого окна палаточный городок.
— Не думали, дед Володя, что так далеко заедем?
— Какое там далеко! Чтобы показалось далеко, надо было ехать поездом.
— Цивилизация испортила нас, дед. Заманили стюардессы конфетками.
— Точно так, дед Миша. Сколько теперь на твоих не золотых?
— Два часа. Давай спать.
Закрываем шторой солнце, залив. Кончается самый длинный для нас в этом году день.
КАЮТА И КАЮТ-КОМПАНИЯ
Жить в гостинице или на корабле? Спать в номере или в каюте? Обедать в ресторане или в кают-компании? Так мы оказались перед необходимостью выбора. Но зачем долго раздумывать? Ехать на Север только ради того, чтобы жить как обыкновенные командированные? Нет. Выбираем каюту и кают-компанию. Теперь надо по-новому запрограммировать свой быт. С этого дня сходни называются трапом, кухня — камбузом, повар — коком, свет не выключаешь, а «вырубаешь», воду не перекрываешь, а «вырубаешь» тоже. Окна нет — есть иллюминатор, его нельзя закрыть, можно только «задраить». Жизнь внезапно обновляется, ты чувствуешь себя в ней дикарем.
Форма начинается с содержания или содержание с формы? Для нас новое содержание начинается с формы — обыкновенной, морской: китель, фуражка, погоны, ботинки. Жизнь начинается с контрольно-пропускного пункта. Но это между прочим. Важно другое: начиналась новая интересная жизнь.
Миновав контрольно-пропускной пункт, пойдешь асфальтовым полотном причала с уложенными впритык и побеленными бревнами по краям, по трапу поднимешься на корабль, отдав честь флагу, и, придерживаясь правого борта, достигаешь кают-компании, по трапу спустишься вниз, где, разделенные проходом, расположены каюты одна против другой. Твоя как раз под трапом; такое размещение — лучше не надо: сразу у бойких корабельных дорог.
Открой металлическую, окрашенную в желтоватый цвет дверь, и ты дома. Прадеды наши, говорят, строили дома без единого гвоздя. Здесь все наоборот: почти полное отсутствие дерева, только металл. Металлический стол, металлические шуфлядки в нем, металлические шкафы; тяжелые, гнутые из блестящих трубок кресла легко ввинчиваются в пол. Пепельница вмонтирована в стол, для графина с водою соответственно сделано надежное гнездо. Зеленовато-темного цвета ширма заслоняет два яруса застланных суконными одеялами коек. В головах, над подушкой, продолговатый черный колпачок лампы, в стене укреплены ремни — привязываться ими во время качки. Моряк должен уметь засыпать в любую минуту дня и ночи, спать сном праведника или «сном Наполеона после Ватерлоо». Сон — тоже служба, предусмотренная войсковым уставом. Моряк спит, а служба идет.
Первую свою ночь на корабле мы спали плохо. Мешали топот ног по трапу, звонки, голоса. Часов в шесть утра снова топот, звонки, голоса: кто-то пел, кто-то играл на баяне. Ничего не поделаешь — надо вставать. Голова гудит, ты млеешь, и самочувствие такое, словно на тебе черти всю ночь молотили бобы. «Ну и влипли», — подумалось тогда. Но все оказалось не столь уж и страшным. Прошло какое-то время, и мы научились спать когда придется, успевать в редакцию газеты, где упорно осваивали войсковую специфику, и снова на корабль. Наконец дело дошло до того, что перепутали день и ночь: ложились спать в четыре — пять часов утра, а вставали в двенадцать.
Каюта постепенно становилась родным домом. Здесь писали письма, материалы в газету, здесь два раза на дню высыпали в ведро окурки из широкой, как шахматная доска, пепельницы.
Запомнились минуты, в которые почему-то вдруг догадывался, какое это особенное, не сравнимое ни с чем место — твоя каюта. Чаще всего было тогда, когда тебе срочно надо было писать в газету: писать не очень хотелось, ты все медлил, расхаживал по каюте, лежал, курил, — и вот уже времени оставалось ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы написать. И тогда ты садился за стол. И — о чудо! — слова бежали легко, строки ложились на бумагу торопливо и ровно: ты писал, а какое-то другое твое «я» следило за тобой, радовалось за тебя, видело тебя уверенным, упрямым, веселым от работы. Оно летело где-то рядом с твоей мыслью, и представлялось ему, словно ты — это не ты, а настоящий морской волк — штурман, капитан, старпом, который до мелочей знает свое корабельное дело, который продублен тысячами ветров, испытан тысячами человечьих судеб, прошедших через его руки. И вот этот морской волк упрямо, широко положив руки на стол, теперь пишет: ему не нужны ни кабинеты, ни Дом творчества, ему не надо изучать жизнь. Жизнь для него — он сам, корабль, который он знает так, что может разобрать и собрать его, как часы. Ах, какая свежая, здоровая, трезвая у этого капитана-писателя голова! Как он точно, проникновенно знает все, о чем пишет!
Теперь понимаю — это была зависть. Теперь понимаю — это было сожаление. Зависть к тем, кто все знал на этом корабле, бывшем для тебя просто кораблем — каким-то судном, не более. Сожаление же о том, что у тебя нет ни одной из тех специальностей, которых так много на корабле. Ты можешь писать о том, о сем, но ничего, ничего ты не знаешь исчерпывающе и подробно. Оставь, оставь, пока не поздно, перо, отдай его капитану! И теперь, по сей день, живут во мне то сожаление и зависть.
В каюте, чаще всего перед сном, вели мы со «стариком» задушевные, раздумчиво-тихие разговоры, но были и такие минуты, когда не хотелось ни слов, ни разговоров, когда заслонишься от всего мира ширмой и только ворочаешься на койке да вздыхаешь. И тот, второй в каюте, понимает все, тоже молчит и, наверное, думает: «Заскок у тебя, психопат несчастный! Ну, хорошо, хорошо, молчи, перетирай свои заржавевшие винтики». И перетрешь, и глядишь — назавтра по-новому бьет свое «тик-так» твой душевный механизм.
А то бывали минуты, когда «старика» потянет вдруг на «пиитический восторг», сядет он за стол и пишет, а тебя гложет по этой причине не то досада, не то тоска. Ляжешь на койку, закроешь глаза, слушаешь, как хрипит на стене радио, как сипловато-минорно выводит какую-то мелодию певица, а потом окажется, что «старик» тратил свой блестящий талант на узко местные темы, писал не стихи, а стишки, нечто в таком роде:
Службой замучен, Женой затискан В «козла» везучий Иван Фетискин.Стоило ли мне из-за этого переживать?!
— Ты думаешь, стишком отомстишь Ивану Яковлевичу за проигрыш?
— Нет. Просто хочу его всесторонне изобразить. Был он героем стихотворного репортажа, пускай теперь побудет героем пасквиля.
— На «саржи» потянуло, а? И откуда ты знаешь, что Гоголи и Щедрины нужны?
Глупый, необязательно-ленивый разговор, конечно. В последнее время замечаю за собою такую вот мрачно-безразличную интонацию. Что это — влияет Север?
— Пойдем гулять, — решительно сгребая со стола бумаги, предлагает вдруг «старик».
Что ж, золотые слова, к тому же сказанные вовремя. Выходим. Встречаем на палубе как раз Ивана Яковлевича. «Старик» читает ему свой «пасквиль». Никакого внимания. Ни обиды, ни удивления, ни поощрения, которое, говорят, необходимо таланту, как канифоль для смычка.
— Писа-а-тели! — наконец грозно и мрачно произносит Иван Яковлевич и, точно и не он говорил, смотрит куда-то в сторону, на палубу соседнего корабля, с борта которого на наш переброшен трап. От Ивана Яковлевича теперь ничего не добьешься: сколько ни стой рядом, а не улыбнется, не поведет глазом, вот разве только без причины, переждав, выругается, и если бы ты не знал его, то наверняка обиделся бы за это, подумал бы, что он, желая избавиться от тебя, дает тебе это понять. Но, полагая так, ты бы ошибся: Иван Яковлевич был необыкновенно душевный человек. Когда мы узнали об этом, когда сопоставили его мрачное настроение, ворчливость, грубоватость даже, которая была неудачной маской беззащитной доброты, — когда сопоставили это с его настоящим человеческим нутром, то стали звать Ивана Яковлевича по-своему — Максим Максимыч, в честь славного лермонтовского служаки. Для нас он был именно Максимом Максимычем, тем добродушно-ворчливым дядькой, которого мы счастливо открыли для себя.
И, пожалуй, об этом секрете знали не одни мы. При случае мы видели, как ему докладывал о чем-то матрос: докладывал голосом выразительным и энергичным, круто выгибая грудь, старательно прикладывая руку к виску, а Иван Яковлевич меж тем смотрел, по своей привычке, равнодушно куда-то в сторону, и такое страдание было написано на его лице, что даже брала злость на матроса, который, как заведенный, так и сечет словами, так и старается…
— Позвольте идти, товарищ капитан-лейтенант?
Промолчит или отвернется: мол, это видно и без того, можно идти, да иди ты, иди, братец, свое дело ты сделал, а обо мне думай как хочешь: настанет моя очередь, и я, подобно тебе, перед кем надо стоять буду. А тебе я, может быть, и не позволил бы так стоять, но порядок есть порядок: что будет, если все его станут нарушать?
Возможно, так думал Иван Яковлевич, возможно, иначе, но матрос, я убежден, понимал все именно так, и если бы на месте Ивана Яковлевича был кто-то другой, не простил бы ему подобной своеобразной манеры принимать рапорта, счел бы ее самым обыкновенным, не очень изощренным хамством. Но, надо полагать, матросы знали об Иване Яковлевиче нечто, какие-то несомненные качества, потому что незаметно было, чтобы осуждали его за такое то ли чудачество, то ли какой-то наивный розыгрыш самого себя.
Читатель может подумать, что Иван Яковлевич — человек пожилой, но самое удивительное как раз то, что ему не более тридцати пяти лет — возраст, еще далекий от окончательного подведения жизненных итогов. В такие годы некоторые только-только расстаются с холостяцкой жизнью, а Иван Яковлевич уже отец четверых детей, и если как следует рассудить, то это забота для человека, занятого службой, вовсе не маленькая. И все же не приходилось видеть, чтобы забота эта особенно угнетала Ивана Яковлевича, — наоборот, она, возможно, давала ему своеобразное чувство полноты жизни, прочности своей жизни, той прочности, которой он не замечал в других корабельных офицерах — сверстниках и офицерах помоложе. В их поведении, разговорах было, конечно, больше гусарского, разбросанного, необстоятельного в бытовых мелочах, и это, наверное, не очень нравилось Ивану Яковлевичу, и он свой житейский перевес иногда безобидно, добродушно давал понять. Хотя, что и говорить, перевес этот был очевиден и без того: к нему в каюту шли едва ли не каждую минуту кто за ниткой с иголкой, кто за щеткой и гуталином, кто за асидолом — наводить блеск на пуговицы. Бывали в той каюте и мы — не чаще и не реже других.
Но хватит о нем, потому что, кажется, Иван Яковлевич получился у меня каким-то идиллическим. Себя он, может быть, и не узнал бы в этих строках и высказался бы по поводу их, как некогда, одним словом: «Пи-са-а-тели!» Потому попытаюсь как-то уравновесить нашу идиллию несмелой попыткой шаржа — расскажу хоть немного о Петре Никитине, который в каком-то плане полная противоположность Ивану Яковлевичу, не говоря уже о том, что и моложе него, и чином ниже — лишь год как из училища. С Никитиным мы, по нескольку раз на дню встречаясь в кают-компании, обсуждали, как говорится, высокие материи. Разговор обычно начинал первым он, выбрав для «затравки» какой-нибудь курьезный факт, вычитанный им в газете или в журнале. Подобных фактов он знал немало — это стало его страстью. Вдобавок ко всему были у него, как нам казалось, довольно прочные технические знания, и он определенно козырял ими иногда, как козырял и своими мыслями об иных, вовсе не касающихся техники вопросах: был наш Петр иронично-современным, острым на слово человеком и еще немного… педантом. И, как у каждого педанта, была у него, конечно, продуманная до последнего винтика душевная конструкция. Что же касается его служебной идеи, то она заключалась в том, что матроса надо воспитывать на мелочах, что это — наилучший да и наиболее перспективный способ. Конкретно его метод выглядел примерно так. Приносит матрос Никитину на подпись какую-то бумагу. Тот берет ее, поднимает от бумаги голову и, твердо глядя матросу в глаза, говорит:
— Give me a pen, please.[1]
Матрос таращит глаза.
— Я прошу у вас ручку.
— У меня, товарищ старший лейтенант, нет.
— У меня нет тоже. Что будем делать?
— Я сбегаю, товарищ старший лейтенант, принесу.
Никитин, сделав грациозный жест рукой, достает свою ручку, подписывает бумагу.
— Вы поняли, товарищ матрос? Я не в кабинете, у меня ручки с собой может и не быть. Пока вы будете бегать, пройдут минуты. Поняли?
— Так точно, понял.
— Идите.
Матрос выходит.
— Вот видите, — говорит Никитин, — все начинается с мелочей. — И развивает свою мысль относительно наилучшего и наиболее перспективного способа воспитания матросов.
Что ж, может, и правду говорит корабельный знаток английского языка Никитин, но прекратим эту тему, оставим в покое и нашего Ивана Яковлевича, пойдем посмотрим, что делается на причале.
А на причале выстроились несколько человек из команды нашего корабля: такой же, как наш, корабль должен швартоваться к стенке с другой стороны причала. Люди из нашей команды, как только подойдет к причалу корабль, примут от другой команды концы, будут обматывать тросами тяжелые, круглые, как бочки, тумбы.
Корабль подошел и медленно продвигается вдоль стены причала, с капитанского мостика слышны команды, и матросы на баке и юте вращают лебедки, освобождая тросы. Тяжелый длинный трос не перебросишь сразу на причал: к концу троса привязывается несколько более тонких звеньев, а заканчивается все это самой обыкновенной веревкой, и она уже попадает в руки к матросам, которые будут помогать корабельной команде на причале.
Вот уже отведены, намотаны на тумбы тросы, и корабль теперь, как рыба на крючке. Корабль — большая рыба, которую надо вести к берегу, опасаясь, чтобы не порвало леску, чтоб не водило в стороны, — обессиливать ее надо осторожно и умно. Передний трос напрягается, как струна: корабль замирает на некоторое мгновение, потом начинает медленно двигаться назад, но второй трос уже далеко его не пустит. Тросы, наматываясь на лебедки, теперь подведут его к самой стенке, и тут матросы, перегнувшиеся за палубу и ожидающие с мешками в руках, набитыми веревками или войлоком, не дадут кораблю тереться о край причала. Теперь остается положить трап — и все готово.
Неделю-другую прожив на корабле, можно уже кое-как ориентироваться в окружающей жизни. Помню, в первые дни мы ничего или почти ничего не замечали здесь: все казалось неизвестным, безголосым каким-то, даже враждебным нам. По трапу на корабль ты бежал торопливо, почему-то побаиваясь заглядывать в глаза дежурного; входя в каюту, обязательно спотыкался; вышагивая вдоль борта и встречая матроса, начинал маниловско-чичиковскую комедию: старался пропустить матроса вперед, а тот отступал в сторону и давал дорогу тебе. Так и тыкаешься туда-сюда, пока тебе не скажут настойчиво: «Проходите!» — а потом уже, сердясь на самого себя, догадаешься: «Да ведь у меня погоны!..» Ты забыл об этом, ты почувствовал себя гражданским человеком, и получилась с твоей стороны не деликатность, а конфуз. Одним словом, салага!
А потом, с бегом времени, ты стал спокойнее, ты дольше задерживал взгляд на том, на другом, замечал, сравнивал, о чем-то догадывался, о чем-то расспрашивал. Замечал, как утром и среди дня стоит трап: утром — сходни вниз — прилив; в середине дня опускался корабельный борт — вода отступала, и ты, выйдя на причал, ожидал уже, когда повеет водорослями, гнилью, смотрел на берег, где на камнях сидели чайки. А выходя на причал часов в девять вечера, вспоминал о матросах — рыбаках, ловивших треску удочкой прямо с катера, у причальной стенки. Удилища не было, а только крючок, на руку намотанная леска, наживка — кусочки селедки. Рыбак стоял и все дергал леску, а где-то под водой, радужной от нефтяных пятен, засоренной щепою, сухой травой и картофельными очистками, бросалась на селедку треска, брала крючок безошибочно и сразу. Вот бы такая удача нашим озерным да речным рыбакам!
Посмотрели мы, как швартуется корабль, постояли над душой у рыбаков, надоедая неизбежными в таких случаях советами. А вот что же нам дальше делать? Идти в город за билетами в кино? Да ведь, пожалуй, в кают-компании сегодня киношный день: проще всего посмотреть кинофильм там. Но все равно придется куда-то идти. Хотя бы кормить Васюту!
Что такое Васюта? Самый обыкновенный, плебейского происхождения кот, которому не повезло слыть сибирским, зато повезло жить на Севере. Изнеженный лентяй, не знающий охоты на мышей. И какой капризный! Ел исключительно сырое мясо и сырую рыбу. Попробуй, не зная его нрава, дать ему хлеба с маслом или ломтик колбасы — чмыхнет носом, задерет хвост, выгнет спину и со спокойным пренебрежением отойдет от тебя. Будто ты человек, еще минуту назад считавший себя, по крайней мере, подпольным миллионером, а тут оказалось вдруг, что у тебя богатства, как у церковной крысы. Васюта в то время, когда мы имели честь познакомиться с ним, занимал один апартамент, состоящий из комнаты, кухни и коридора. Это — в дневное время, а ночью же он вольно бродил по двору, по улицам, имел какие-то свои дела в чужих подъездах.
Васюту мы недолюбливали, но терпели ради его хозяина Александра Акимовича — капитана третьего ранга с нашего корабля. Александр Акимович был нам другом, начальством, добровольным ходатаем по нашим более или менее важным делам — вообще был добрым гением всей нашей корабельной жизни. Единственное, чем мы могли отблагодарить его, — это взять на себя заботы о Васюте, тем более что Александр Акимович почти не показывался дома, не знал своей квартиры, а дневал и ночевал на корабле, и про Васюту спрашивали почти в каждом письме сыновья-школьники, отдыхавшие с матерью где-то в Геленджике. И Александр Акимович со спокойной совестью сообщал сыновьям, что Васюта жив, здоров, чего и вам, мол, желает, а мы иногда кормили кота, выпускали на улицу и тоже со спокойной совестью забывали о нем до следующего раза. А потом с Васютой случилось несчастье. В один, наверное, не очень хороший день Васютины апартаменты, постепенно ставшие и нашими, захватил на ночь какой-то знакомый хозяина, по аттестации Александра Акимовича, очень серьезный товарищ и душа-человек. Что и как там было, не знаю, но назавтра нам стало известно, что этот «серьезный товарищ» выпустил Васюту на улицу с перебитой ногой, а сам где-то исчез в неизвестном направлении. Коту перевязали искалеченную ногу, а наш Александр Акимович почему-то уже не называл своего знакомого «серьезным товарищем», а высказывался о нем как-то туманно, примерно так, что плохие поступки может делать только плохой человек. Мы сказали, что, конечно, это так, и покаялись перед собой, что не всегда внимательны были к Васюте.
Сыновьям о происшедшем Александр Акимович, посоветовавшись с нами, не написал. Помню, мы радовались, когда Васюта стал поправляться: мы сняли с его ноги повязку, и наш котофей вскоре опять стал появляться на улицах, у знакомых подъездов.
Как ты там живешь теперь, заносчивый Васюта?
P. S. Вечером того же дня в кают-компании, старательно закрыв занавесками окна, чтоб не просочился солнечный свет, смотрели мы фильм. Перед началом киномеханик с полчаса пускал ленту, склеенную из кинокадров бог знает каких, самых разных фильмов. Лента имела успех необычайный. Потом пошел «Пятнадцатилетний капитан». Была возможность выбора: «Баллада о солдате» или этот фильм. Мы со «стариком» голосовали за «Балладу», но потерпели позорное поражение. Победил, набрав абсолютное большинство голосов, «Пятнадцатилетний капитан». Мы покорились; ничего не попишешь — большинство!
ОПАСАЙТЕСЬ РЫБЫ-ЛОЦМАНА! Отступление литературное
Просматривая свою записную книжку, остановился мыслями на словах, начертанных карандашом:
«Было плохое настроение. Читал Хемингуэя на стадионе».
Вспомнил все, что было тогда: и какое в самом деле скверное настроение было у меня после одного не очень приятного письма, и как ходил с головной болью почти безлюдным утренним городом бесцельно — лишь бы идти, и как, перебарывая себя, подошел к книжному киоску, взял в руки журнал: равнодушно просматривал страницы, пока не различил извилистую, пружинистую, как большая рыба, фамилию — Хемингуэй, пока не прочитал под нею:
«Праздник, который всегда с тобой».
Купил журнал, с какой-то неопределенной надеждой в сердце пошел на стадион; перешагнул невысокую деревянную ограду и сел, смахнув пыль, на прогретую солнцем скамью — на самом верху, так, чтоб виден был весь стадион, и улица, на которой стоял кинотеатр, и дома на взгорье слева, и виадук, переброшенный там через улицу. Я сидел и читал о Париже далеких двадцатых лет, о маленьких кафе, булочных, о мощеной старой улочке Нотр-Дам-дэ-Шан, на которой был номер 113, а в том доме, над лесопилкой, комната, где никому не известный молодой человек с просветленно-добродушным, спокойно-внимательным лицом писал по утрам у раскрытого окна, время от времени поднимал голову, смотрел на мокрую после дождя мостовую, на пастуха, гнавшего по улице стадо коз, на собаку, трусцой бежавшую за стадом.
И все было так выразительно, просто, понятно мне на тех улицах, в тех ресторанчиках и кафе, на скачках, и живое чувство человека, который много лет спустя вспоминал обо всем этом, передавалось мне: я видел его таким, каким он был в молодости, каким был или хотел быть теперь, когда рассказывал обо всем, но я знал, что этого человека уже нет, и неосознанно остро жалел о том, что тот Париж, который он так любил, в воспоминаниях будет теперь подвластен не ему, а мне, — но это все равно был его Париж той поры, когда он был молод и учился писать настоящую прозу, когда перешел Сену, как Рубикон, сжигая за собою все мосты. Отсюда, из Парижа, не было уже для него возврата в журналистику, он должен был стать писателем во что бы то ни стало.
«Ну что же, — подумал я, — теперь я пишу рассказы, которых никто не понимает. Это совершенно ясно. И уж совершенно несомненно то, что на них нет спроса. Но их поймут — точно так, как это бывает с картинами. Нужно лишь время и вера в себя». Позже, наверное, возвращаясь мыслями к этой своей парижской поре, он напишет:
«Только романтики думают, что на свете есть „неизвестные мастера“».
Он не любил громких слов, знал, что писать «настоящую прозу» «чертовски трудно», и только это, такое простое и благородное в своей возвышенной искренности, сказал своим толкователям и читателям, но, конечно же, он мог бы подписаться и под затасканной фразой, что таланту необходим труд, упорство, хотя ему, пожалуй, ближе было бы такое высказывание Паскаля:
«Гений — это терпение мысли, сосредоточенной в одном направлении».
Кто-то сказал, что великими писатели становятся лишь после смерти. Хемингуэй был признан при жизни, но мысли о собственном величии, наверное, не очень докучали ему, писателю, который видел лучшую награду для художника не в бесконечных похвалах критиков, умеющих с необыкновенной легкостью перебегать из-под одного знамени под другое, не в милостивом внимании литературных меценатов, для которых талант существует только для того, чтобы можно было его купить. Не очень привлекала его и так называемая всеобщая любовь читателей по той простой причине, что не писал бестселлеров. Литература была для него одним из доступных человеку средств утверждать свое достоинство, и потому естественно, что о писательской совести, «абсолютно неизменной, как метр-эталон в Париже», он заботился больше, чем о лаврах юбилейных славословий. Во всем остальном он достаточно серьезно был удовлетворен славой хорошего охотника и рыбака.
Не так уж много писателей, которые научились доверять жизни, как это делал Хемингуэй. Я не хочу сказать, что он, как может показаться, принимал жизнь такой, как она есть, — нет, он просто не знал для писателя иного материала, кроме жизни. Скульптору нелепо было бы пренебрегать глиной лишь потому, что сама по себе она еще не голова Аполлона. Он не мог жертвовать правдой жизни ради кажущейся значительности идеи: для него это значило бы ни более ни менее как завивать мысль на бумажные папильотки. Мисс Стайн, о которой Хемингуэй пишет с трезвой последовательностью объективного наблюдателя, могла позволять себе быть и покровительственно рассудительной и излишне строгой. Она могла поучать Хемингуэя, какой мысли, разумеется, прогрессивной, он должен придерживаться насчет гомосексуализма, но поучать так, чтобы собеседник в то же время чувствовал, что есть разница между смелым вольнодумством салонов и тем, что здесь называется развратом и преступностью, которые, видите ли, принадлежат социальным низам.
«— Все это так, Хемингуэй, — заявила она. — Но вы жили в среде людей преступных и извращенных.
Я не стал оспаривать этого, хотя подумал, что жил я в настоящем мире, и были там разные люди, и я старался понять их, хотя некоторые из них мне не нравились, а иных я ненавижу до сих пор».
Талант, как и совесть, должен быть неподкупен, голова должна быть трезва, жизненный инстинкт — здоровый, зрение острое, слух абсолютный. Талант — инструмент, при помощи которого человек познает жизнь, он — зеркало, где отражается мир, а картина этого мира будет тем более точна, чем точнее сам инструмент. Мир, возможно, надо лечить. Но сначала надо поставить определенный диагноз болезни. Он, Хемингуэй, не всегда знал, как надо лечить. Чаще всего он любил ставить диагноз. Может быть, он ошибался, но мы теперь говорим не об этом. Более всего он боялся стать тем доктором, которому однажды счастливо удалось излечить пациента: практика растет, слава растет, и доктор как-то незаметно начинает прописывать «страждущей» половине рода человеческого вместо горьких пилюль мятные пряники. Так было со Скоттом Фицджеральдом, автором романа «Великий Гетсби», который Хемингуэй очень высоко ценил, с писателем, которому Хемингуэй посвятил, как эпитафию, проникновенно-грустные слова:
«Его талант был таким же естественным, как узор из пыльцы на крыльях бабочки. Одно время он понимал это не больше, чем бабочка, и не заметил, как узор стерся и поблек. Позднее он понял, что крылья его повреждены, и понял, как они устроены, и научился думать, но летать больше не мог, потому что любовь к полетам исчезла, а в памяти осталось только, как легко ему леталось когда-то…»
Фицджеральда погубил литературный успех. Закружилась голова. И пришла «рыба-лоцман».
«У богачей всегда есть своя рыба-лоцман, она разведывает для них дорогу — иногда она плохо слышит, иногда плохо видит, но всегда вынюхивает податливых и слишком воспитанных».
Все казалось простым: талант всемогущ, это он покорил «рыбу-лоцмана», которая так униженно просится хоть минуту поплавать в свободных глубинах его вод. Казалось, «рыба-лоцман» попала в тенета. Получилось наоборот: в них попал сам художник. Фицджеральд мог называть себя в письмах к Хемингуэю «старой шлюхой» и в то же время аккуратно записывать в специальную книжку цифры своих высоких заработков. Выхода уже не было.
И к Хемингуэю приходила «рыба-лоцман». Но пускай он лучше сам расскажет об этом:
«Поддавшись обаятельности… богачей, я стал доверчив и глуп, как пойнтер, готовый идти за любым человеком с ружьем, или как дрессированная свинья, нашедшая, наконец, кого-то, кто ее любит и ценит ради нее самой… Я даже прочитал вслух отрывок из романа, над которым работал, а ниже этого никакой писатель пасть не может…»
Хемингуэй вырвался из тенет. Может, урок Фицджеральда помог ему, а может, и даже скорее всего, помог ему человек из той страны, где Хемингуэй никогда не был, — великий русский писатель Лев Толстой. В «Празднике, который всегда с тобой» Хемингуэй, рассказывая об «ином мире, который дарили… писатели», недвусмысленно продолжает мысль:
«Сначала русские, а потом и все остальные. Но долгое время только русские».
И здесь же о Толстом:
«По сравнению с Толстым описание нашей Гражданской войны у Стивена Крейна казалось блестящей выдумкой больного мальчика, который никогда не видел войны…»
А Стивен Крейн был в числе тех настоящих и немногочисленных писателей, которые, по признанию Хемингуэя на других страницах, повлияли на него. Дальше идет сравнение Толстого со Стендалем:
«Пока я не прочитал „Chartreuse de Parme“[2] Стендаля, я ни у кого, кроме Толстого, не встречал такого изображения войны; к тому же, чудесное изображение Ватерлоо у Стендаля выглядит чужеродным в этом довольно скучном романе».
Страницы другого произведения Хемингуэя — «Зеленых холмов Африки» — свидетельствуют об исключительном впечатлении, произведенном на писателя «Казаками» и «Войной и миром» гениального русского художника слова.
Толстой закончил «Севастополь в мае» гордыми словами о том, что герой его повести, которого он любит «всеми силами души… и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда». Хемингуэй подхватывает толстовскую мысль:
«Задача писателя неизменна. Сам он изменяется, но задача его остается тою же. Она всегда в том, чтобы писать правдиво и, поняв, в чем правда, высказать ее так, чтобы она вошла в сознание читателя частицей его собственного опыта».
Несомненно, Толстой влиял на Хемингуэя. Но это была не только одна власть могучего таланта, которую легко понять и объяснить, а что-то большее: Хемингуэй видел в Толстом пример того настоящего, обладавшего здоровым жизненным инстинктом писателя, для которого органически враждебны фальшь, дешевые сантименты, самодовольство, пустая заносчивость, подмена живой жизни худосочным теоретизированием о ней. Конечно, Толстой был художником, умевшим с необычайной правдивостью писать и о войне, и о переживаниях коня Холстомера, и об охоте, и о том интимном в жизни человека, перед чем обязательно спасует писатель-ханжа, но Хемингуэй немногому научился бы у Толстого, если бы не имел в душе чего-то родственного Толстому и его необыкновенно трезвому взгляду на мир. И еще некоторыми своими чертами писателя и человека Хемингуэй напоминает Чехова. И исключительной простотой и выразительностью художественной детали, и почти суеверным отношением ко всему, что составляет святая святых писателя. Разве можно представить Хемингуэя, как и Чехова, в позе вдохновенного и красноречивого проповедника известных истин? Он знал, что истины хороши сами по себе, но они перестают быть истинами, если ими неосторожно бросаться, как мячиком. А может, как знать, не любил ли Хемингуэй рассуждать о вдохновении? Нет, он просто работал, хотя, конечно, многие блестящие страницы его произведений созданы именно в часы озарения, необыкновенного вдохновения. Чехов мог писать лишь тогда, когда его никто не видел. Невозможно тоже представить, чтобы он, допустим, только что написанное произведение читал так называемым поклонникам его таланта. Хемингуэй, как мы знаем, остерегался читать что-нибудь «заинтересованной публике» и выслушивать отзывы, наподобие таких: «Это гениально, Эрнест. Правда, гениально. Вы просто не знаете, что это такое». Сегодня та же «заинтересованная публика» им говорила бы: «Это колоссально, Антон Павлович! Это железно, Эрнест. Без дураков. Со страшной силой».
Утром в тот день, когда я читал на стадионе Хемингуэя, у меня было плохое настроение, и казалось, что ничего не существует на свете, кроме меня и этого моего настроения. Теперь же я помню все лишь потому, что читал тогда Хемингуэя: держал на коленях журнал, смотрел на стадион, такой пустынный теперь, а еще позавчера многолюдный — была встреча местных команд, — и думал, как бы описал все это он: поле без травы, посыпанное песком, густо окрашенный щит, на котором выставляли фанерки с названиями команд и очками, баскетбольную площадку за футбольным полем, летний павильончик с цветной пластиковой крышей, северное солнце и северное небо. Я думал, что ему понравилось бы здесь, в этом небольшом городе у моря, у него было бы здесь, конечно же, больше друзей, чем у меня: не потому, что знали бы, кто он, а потому, что он знал людей и умел дружить. Опять брал я в руки журнал и читал, и опять меня пленяла доведенная до самой обыкновенной реальности иллюзия запечатленной мастерским словом жизни. Казалось, на это способен не человек, а маг, сказавший мгновению: «Остановись», и оно остановилось во всей своей неповторимости и красоте.
В той же своей записной книжке нашел я такие строчки:
«14.07.64 г. Подумал, чем станут для меня эти дни на Севере. То ли просто что-то увижу, запомню, то ли всей душой почувствую, пойму что-то, открою новый край в своей душе?»
Открыл или не открыл я тот новый край, пусть мне будет позволено утаить это. А вот что здесь, на Севере, я лучше понял, по-новому открыл для себя Хемингуэя — это уж точно.
КАЮТА И КАЮТ-КОМПАНИЯ. МОРЕ. Окончание
Здесь необходимо краткое пояснение. Автор прервал свой рассказ потому, что не знал, как ему дальше обойтись с Александром Акимовичем. Можно было бы, конечно, добросовестно выложить определенные свои наблюдения над ним, и автор, вероятно, и поступил бы так если бы не вспомнил в то время одного такого человека с пером, который слывет критиком и который, хочет того автор или нет, будет делать на полях энергичные пометки, прикидывать и так и сяк, а потом выскажется насчет того, что автор, конечно, имел под руками необыкновенно интересный, благодарный материал, но почему-то не подумал, что материал — это одно, а умение обобщать, типизировать — другое. Александр Акимович, несомненно и безусловно, в жизни куда более интересный человек, чем это показалось автору, и удивительно, как это он осмелился так поспешно выдавать бытовые мелочи в качестве деталей к портрету, почему заметил какого-то кота Васюту и не заметил, что Александр Акимович на самом деле обеспокоен чем-то более значительным, нежели тем, надо или не надо писать сыновьям про искалеченную кошачью лапу.
Критик всегда дальновиден, и автор, помня хорошо об этом, стал присматриваться к своему Александру Акимовичу пристальнее, и вот тут неожиданно случилось вот что: Александр Акимович стал двоиться, даже троиться в его глазах, и автор понял, что никакого Александра Акимовича нет, а есть, представьте, и то, и другое, и третье. Есть, в самом деле, есть Александр Акимович с явной претензией на безгрешного героя. Это он весь день на ногах, на обед в кают-компанию приходит усталый, но, несмотря на это, и здесь не может легкомысленно позволить себе отделить общественное от личного: даже в этот момент находит всякие вопросы, которые можно решить и обсудить. Дверь в его каюте всегда открыта настежь: пусть знает матрос, что в любой момент может зайти сюда, не очень задумываясь о том, что не дал капитану третьего ранга отдохнуть. Еще не успев снять китель в своей городской квартире, куда приходит не чаще раза в неделю, Александр Акимович берется за телефон: не случилось ли чего в его отсутствие на корабле? В квартире, которую летом занимает Васюта один, Александр Акимович живет с женой и двумя детьми. И обставлена квартира так, чтобы в любое время можно было собрать чемодан, отдать соседу кресла и диван и переехать на другое место, а куда — это уже начальству виднее. Давали недавно новую, двухкомнатную квартиру, но узнал, что для кого-то она более нужна: квартиру отдал, а сам согласился еще неизвестно сколько времени ждать. И отпуск у нашего Александра Акимовича всегда почему-то не в июле, не в августе и даже не в сентябре, а где-то в конце года, когда уже не так зовет юг и кажется лучше всего поехать в деревню к родителям.
Таков Александр Акимович номер один. Автор на самом деле знал его и таким и мог бы, уж если на то пошло, и более привлекательным его нарисовать, но, к счастью, он немного знает и своего критика. Особенность этого критика в том, что ему обязательно надо найти недостаток в любом произведении и что ни единый герой не дотягивает до его высокой, недоступной авторскому пониманию, мерки. Ну чем плох, скажите, Александр Акимович номер один? Читатель, не испорченный нашим критиком, обязательно скажет: «Дай бог нам побольше таких людей!» А наш критик на то ответит, что, мол, Александр Акимович хороший человек, но уж слишком аскетический какой-то и нетребовательный к жизни, и мирится со многим, и не нравится ли автору эта его пассивность, потому что он наверняка сочувствует герою, а дальше этого не идет.
И что после этого делать автору? Молча проглотить пилюлю и попытаться нарисовать Александра Акимовича номер два? Что ж, вот вам Александр Акимович номер два. Он примерный семьянин. На календаре в его квартире вот уже второй месяц все тот же день, в который уехала на юг жена с детьми: время остановилось для Александра Акимовича. Жене он пишет чуть ли не каждодневно, жена, кажется, пишет ему тоже часто. Александр Акимович может и «палубу» в квартире «надраить», и посуду вымыть. В свободное время он почитывает стихи Эдуарда Асадова и в то же время, забыв, что он не на корабле, называет свадьбу «мероприятием».
«Нет, не то, — снова скажет наш критик, — это, может, и хорошо для воскресной страницы в газете, но только не для очерка. Идиллично, ограниченно, камерно. Вот если бы у Александра Акимовича был конфликт из-за квартиры, которую он так легкомысленно отдал другому, вот если бы кот Васюта выступал символическим обобщением этого… ну, сами знаете, мещанства!.. Вот если бы…» И не станет ведь после этого автор, словно утопленник за соломинку, хвататься за еще один образ Александра Акимовича, известный автору. Этот подпольный Александр Акимович побаивается жены, и если, допустим, удается выручить друга двумя червонцами, то делает все так, чтобы об этом не знала ни единая душа. Этот Александр Акимович, если заглянет к нему тот же друг, а жены не будет дома и они выпьют бутылочку «старлея», припрячет потом пустую бутылку так, что ее не найдет никакой Шерлок Холмс, пускай он даже будет и в юбке. И от современной молодежи не в восторге Александр Акимович, и любит иногда похвалить себя и свой моложавый вид, который у него потому, что живет «правильной жизнью».
Вот какое дело с Александром Акимовичем, дорогой читатель; вот и возьми его после этого в герои очерка. Пускай уж лучше будет он просто службистом, без которого автору не обойтись хотя бы потому, что в один прекрасный день услышал от него новость: корабль выходит в море! Готовься, братва!
Море!.. Лежало оно где-то за сопками, манящее и близкое, но недоступное пока. И вел к нему залив, раздваивающийся здесь, вблизи города, и было удивительным, что это, очень точно отпечатанное на карте, где-то в Белоруссии представлялось бог знает чем, а здесь оно — просто неширокое лоно воды: ищи не ищи сравнения, а сравнишь все равно с озером, которое видел где-нибудь в Мяделе или в Глубоком. И совсем уже удивительно, что невысокая сопочка с разрушенным дотом, оставшимся от войны, та сопочка, на которую каждый день поднимался, направляясь в город, сопочка, где всегда пасся буланый гладкий конь и где на откосе покосился деревянный домик, обитый фанерой, досками и листами толя, — совсем уже удивительно, что все это называется мысом и тоже обозначено на карте.
Карта скажет тебе, что ты на краю земли. Только это почувствуешь и без того, едва извилистой тропкой или по дощатым сходням поднимешься на сопку, продолговатую и напоминающую некий горб, как сугроб, всю пеструю от серых слоев гладких пород, от больших трещин, поросших ягодником, мхом и сочно-нежной травой, — почувствуешь это, когда обойдешь две-три рыжевато-зеленые луговины, все в кочках и неожиданно грязные на этой тверди и высоте, сядешь на камень и станешь смотреть на залив.
Взгляд твой устремится вдаль, туда, где небо меж сопками низко висит над водой, где, наконец, не видно никакой воды, а видны только сопки и небо, и небо течет над сопками, и кажется, что сопки — это пороги, а небо — река, которая страшно свергается там, на горизонте, в бездну.
И вот наш первый выход в море: стоим на капитанском мостике в открытой всем ветрам ячейке-боковушке, рядом с сигнальщиком, смотрим, как медленно отплывают назад сопки, как отдаляется город: словно сбиваются в один гурт дома, становится шире над ними горизонт, а корабль все идет, и малахитово-зеленая дорожка стелется за ним, долго покачиваясь на воде. С интересом наблюдаешь, как постепенно к чистому, прозрачному цвету дорожки прибавляется сиреневый тон, как вода густеет, приобретая сизый блеск и временами еще остро отсвечивая холодной свежей голубизной. Посмотришь вперед: по обе стороны лежат темные валы сопок. Чем дальше от города, тем более мрачными кажутся они, и не видать на них ни деревца, а только кое-где в ложбинах белеет снег. Потом смотришь вниз: бушует, пенится у борта вода, напряженно вздымается каким-то пологом волна и, качнув еще раз, разлетается с шумом, вся в белых пузырях, растающих в одно мгновение, и теперь там, где были они, голубой водоворот.
Кажется, совсем недавно пропал из виду город, а уже остался позади и залив. Слева темнеет, постепенно сужаясь на западе и прячась в туманной дымке, полоса земли, а справа величественно, огромный, как айсберг, выплыл остров Кильдин, напоминающий постамент памятника Петру Великому: крутой склон поднят над водой, а ниже — плавный переход могучих складок, полосующих его и вкось и вдоль. И под громадиной, освещенной с одной стороны солнцем и затененной со второй, — ровный плац желтого берега, где заметен какой-то домик, кажется, построенный ради того, чтобы было с чем сравнить каменное величие могучих скал.
На Кильдине есть озеро, названное «многоэтажным» и не похожее ни на одно из озер в мире. Образовалось оно так, словно отделилась часть от моря: суша приподнялась, зачерпнув каменной ладонью воды, и множество различных причин должно было способствовать тому, чтобы семнадцатиметровая толща воды отстоялась, разделившись на три слоя. Нижний слой мертвый, потому что в воде есть сероводород, во втором — обычная соленая, а в третьем — опресненная. Нижний и средний слои разделены пленкой розовых бактерий. Окислительные процессы, происходящие в пленке, не пропускают сероводород в верхние слои, потому что в среднем слое живут морские организмы, в частности треска, а в верхнем — пресноводные.
Остров Кильдин как бы сторожит выход из залива в море. Пришвину во время его северного путешествия лопари, коренные жители этих мест, рассказывали такую легенду про Кильдин. Будто бы злая ведьма, за что-то мстя лопарям, хотела запереть их в Кольской губе и вытащила остров из океана на веревке. Когда она уже была почти возле губы, какой-то человек, оказавшийся поблизости, догадался о намерении ведьмы и крикнул. Веревка оборвалась, ведьма испугалась и окаменела, а остров как остался в океане, так и стоит там. Интересно, что через двадцать пять лет после странствия по Кольскому полуострову что-то похожее на эту легенду записал Пришвин в другом месте, уже в Сибири, — там народная фантазия окружила поэтичным вымыслом происхождение скалы, торчащей из воды при выходе Ангары из Байкала. История, в соответствии с легендой, была такая. Ангара, жена Байкала, однажды, когда поднялся над озером туман, решила сбежать к Енисею. Байкал, спохватившись и не найдя жены, бросил вдогонку ей скалу, но не попал. О злости ревнивого Байкала и напоминает теперь людям эта скала.
Какой прекрасный материал для рассуждений о народной фантазии, сколь неисчерпаемой, столь и постоянной в любви к определенным образным решениям. Вот пишу об этом, а вспоминаю легенду про один родник в моих краях под Могилевом: воду из того родника люди считают целебной, «святой». Рассказывают, что когда-то, в стародавние времена, стали свататься к красивой девушке два хлопца — один богатый, второй бедный. Красавице нравился богатый, но, чтобы не обидеть бедного, вздумала она, чтобы оба бросали камни: кто дальше бросит, за того и замуж пойдет. Первый камень бросал богатый: бросил далеко, и упал тот камень в лесу, у речки Голубы, где лежит и теперь, — между Немильным и Крамянкою. Самый большой выбрал для себя камень бедный жених, и полетел тот камень еще дальше и упал под Клинами. Заплакала тогда красавица и превратилась в родник. Вот какую рассказывают в нашей местности легенду: в нее не все верят, но о ней знают все.
И я, зная легенду про Кильдин, смотрел на него теперь как бы глазами того человека, который испугал ведьму и которому, наверное, было одновременно и боязно, и рискованно, и весело среди этой суровой и простой природы, иначе бы он не заслужил такой наивно-страшной истории про Кильдин. Я думал о том, как он должен был чувствовать себя, сидя в маленькой своей лодчонке, которую в любой момент могла проглотить если не ведьма, то волна, так далеко от берега, среди этого моря.
Должен признаться, что волн больших мы не видели. Стояло удивительно спокойное лето, да и вообще шторма здесь бывают к осени, попозже. Был почти что штиль, и чайки беззаботно сидели на волнах, а ветер делал сухими их клювы; моряки рассказывали, что по тому, как сидят чайки, можно определить направление ветра с точностью до градуса. Мы наблюдали за чайками, смотрели на пенящийся зеленый след, оставляемый кораблем, и на другой след — от солнца, до боли в глазах всматривались в горизонт, стараясь разглядеть далекие очертания полуострова, и если надоедало стоять на мостике, спускались вниз в каюту, где заметно ощущалась качка, но, конечно, не такая, когда хватаешься за стены и боишься за свое нутро. Это была приятная качка, и, помню, я читал в каюте книгу, когда вдруг вздрогнул корабль, что-то сорвалось со стены и, разбившись на столе, брызнуло мне на руки стеклом. Барометр!..
Потом уже, вернувшись из плавания, ты чувствовал себя так, словно переступил последний рубеж, за которым открылось самое главное в этом краю. В свободные часы в каюте, перебирая несколько книг о Севере, ты мог уже без провинциального удивления читать о том, что дерево здесь вырастает по сантиметру в год, что птицы улетают здесь на зиму к северу и что теплые ветры тоже дуют оттуда (Гольфстрим!), что средняя зимняя температура здесь такая же, как в Астрахани. Попадалось и более интересное, чаще всего из того, что касалось прошлого этих мест.
В древней летописи о Севере написано как о крае неисчислимых богатств: векши (белки) и «оленцы малые» там будто падают из облаков на землю и, подрастая, разбредаются по ней. А когда в 80-х годах прошлого столетия неутомимый исследователь Печоры, земляк Ломоносова, ученый Н. К. Сидоров попытался заинтересовать судьбою Севера будущего царя Александра III и написал на его имя докладную записку с предложениями об использовании богатств края, об улучшении жизни населения, некто генерал Зиновьев ему ответил: «Потому, что на Севере постоянные льды и земледелие невозможно и никакие иные промыслы немыслимы, то, на мнение мое и моих друзей, надо народ удалить с Севера во внутренние области державы, а вы заботитесь наоборот и объясняете какой-то Гольфстрим, которого на Севере быть не может». В самом деле, зачем он должен быть: его не может быть потому, что быть не может. Как раз как у чеховского «ученого соседа»! Сколько наивной поэзии, правдивой неправды в словах летописи и сколько мрачного, педантичного невежества в канцелярских выкрутасах тупого солдафона, не говоря уж о слепом пренебрежении к судьбе населения целого края, которое можно ни более ни менее как взять да «удалить».
И что удивительного после этого, если на долю Севера выпали на долгие годы мрак и нищета. В 1867 году архангельский вице-губернатор нашел в Коле только одного чиновника, который был одновременно делопроизводителем, городничим, судьей, казначеем. И спустя более сорока лет ничего здесь не изменилось. В 1913 году на весь край был один фельдшер, проживавший в Александровске (ныне Полярном).
Сегодня в это трудно поверить. Когда в Пулозере начался тиф, тот же единственный на весь край фельдшер смог приехать туда лишь через два месяца, когда все больные умерли. Прежде на Север можно было добраться за год. В наше время самолетом долетишь туда из Ленинграда за полтора часа. Но дело, конечно, не только в этом. Дело в тех новых людях, живущих теперь на Севере, в том ритме жизни, который одинаков ныне во всех уголках нашей страны.
Север, конечно, изменился. Я мог бы написать о новых заводах, дорогах и городах, но этим никого не удивишь. К этому привыкли. Об этом можно прочитать в любом справочнике. Я старался писать только о том, что так или иначе стало моим собственным опытом, прибытком моей души за те шестьдесят суток, которые запомнились как один долгий, бесконечно богатый впечатлениями день.
КОНЕЦ И НАЧАЛО
…Понял я, мысленно возвращаясь назад, к началу очерка, почему не открывалась для меня осень, и удивился самому себе: как было не догадаться раньше? А уж после само собою определилось: ничто не приходит к человеку раньше назначенного срока. Чтобы понять начало, надо знать конец.
А сначала была осень, ее последние дни какой-то спокойно-решительной красоты, и поражало терпение одинокого листочка, трепетавшего на ветке и не желавшего или не умевшего сорваться и упасть. Днем светило солнце, и пустое поле застилала дымка, а в лесу на полянах было сухо, свежо и попадались кое-где у дорог, в местах, обласканных солнцем, белые грибы — с широкими брылями, желтовато-белые с испода и словно оцарапанные чем-то сверху: было им уже нелегко расти из-под травы, из-под опавших хвоинок. Утром на траве лежал редкий иней, слетались к лесному домику сороки и сойки, а куст сирени у крыльца стоял неестественно голый, забросанный внизу темно-зеленой, с отблеском, листвой. Грело солнце, и с сосен струйкой бежала вода, и поднимался, завиваясь в кольца, над сучьями пар: сначала над сухими, потом над теми, где пореже хвойная сень, а затем уже курились паром, блестели на солнце зеленые купы лап. Через день на крыльце в вазоне для цветов взялась льдом вода, и лед не растаял к вечеру, а еще через день в одну ночь оголился лес, и знакомая ель стояла обсыпанная от макушки до земли осиновыми листьями, и как будто пропали яблоки под знакомой лесной яблоней: забросало их листьями. Туман как лег с утра, так и держался весь день: в бору на возвышенности чуть пореже, у дороги в ложбине — густой и низкий. Две ночи не было звезд, сеялась морось, пока ветер не разогнал туман и не высыпали к вечеру звезды. Зачерствела земля, а утром появилось опять солнце. Днем наплыли тучи и пошел снег, чтобы тотчас растаять, — и снова шли дожди, и снова становилась сухой земля, но не пропадал уже ветер, зябкий и пронизывающий. И когда так было день, второй, а потом наступил и третий, кончился, подошел к итогу мой очерк. Тогда оглянулся я назад и понял, что миновала осень, и понял, почему раньше не открывалась она для меня: у меня не было ключа к ней, и Север дал его мне. И понял я, что природа открывается человеку не просто так, а тогда, когда идет он к ней со своей мыслью и своей меркой.
ЗАГАДКА БОГДАНОВИЧА (Перевод П. Кобзаревского) ПОВЕСТЬ-ИССЛЕДОВАНИЕ
МОЛОДОМУ ВОРОБЬЮ ПЛОХО
Надежды на выздоровление почти не было — он это понимал. И все же поехал. Может, даже потому, чтоб хоть немного успокоить своих друзей. Странно: за все их заботы он мог отблагодарить разве только согласием на эту поездку.
Он очень не любил, чтобы о нем заботились.
Деньги на дорогу и лечение ему собрали. Об этом он не знал до самого последнего дня. Поставили, как говорится, перед свершившимся фактом. Пришлось принять и рекомендательное письмо в Ялту.
Ну что ж! Хорошо, что хоть знакомое место. Впервые он был там в 1909 году. Молочная ферма «Шалаш», неподалеку от Аутки. Вблизи от дачи Чехова.
Чехова уже нет на свете. Все та же чахотка.
Брат Вадим умер от чахотки в 1908 году. Через год открылся процесс и у него. Ярославский врач Бернд успокаивал: мол, напрасная тревога. Ялтинский врач (как его фамилия?) сказал более определенно: необходимо серьезно лечиться. Все же не лишил надежды на поправку. Ах, эти врачи, они раздают надежды так же легко, как и выписывают рецепты.
Но тут все очень просто. Простая арифметика. Мать умерла от чахотки двадцати семи лет. Родилась она в 1869 году, умерла в 1896-м. Перетасованы две последние цифры. Согласно этой логике, он умрет в 1919 году. Два года в запасе. Что ж, было бы хорошо. Только не верится. Брату Вадиму было всего 18 лет. А ему скоро двадцать семь, столько же, сколько было матери. И все же так хочется верить этой мистике цифр. Два года в запасе — это хорошо.
О Ялте написано в чеховской «Даме с собачкой». Как это там?
«И тут отчетливо бросались в глаза две особенности нарядной ялтинской толпы: пожилые дамы были одеты как молодые, и было много генералов».
Ну, генералов, видимо, теперь стало меньше: война. Впрочем…
Жалко, что он, Богданович, ничего не написал о Чехове. Небольшая заметка об издании его писем — не в счет. Какая печальная жизнь, какое мужество и независимость во всем. И загадочное, никем не познанное мастерство.
«Над рассказами можно плакать и стонать, можно страдать вместе со своими героями, но, мне кажется, это надо делать так, чтоб читатель не заметил. Чем более объективно, тем сильнее впечатление».
Нечто подобное есть у и него, Максима Богдановича:
Что с того, что стих в душе кипит? Он через холод мысли протекает. Поэт всегда обдуманно творит.Ну, это, брат, плохая цитата. Вот здесь у тебя, вероятно, получилось лучше:
Сальери в творчестве своем стремится все понять, Все взвесить мысленно и выверить опять, Обдумать способы, материал и цели, — Он четкость ясную любил во всяком деле! В его трудах найти внезапное не тщись! Основа всех основ — размеренная мысль! (Перевод М. Шехтера)Но какая самоуверенность, брат, — состязаться с Пушкиным, с самим Александром Сергеевичем. Сказано же:
«Гений и злодейство — две вещи несовместимые…»
Ну, а если человек в отчаянье, если больше, чем бога, возлюбил свое ремесло (да, ремесло, это ведь хорошее слово!), а награды нет? Если хочет жить в келье, а не в корчме? И разве Сальери не считал Моцарта гением?.. Нет, тут было нечто иное: оскорбленность за профанацию искусства! Хоть несознательную, все же профанацию, да! И самое главное — ценой гениальности! Сальери думал, что этого нельзя простить даже Моцарту.
«Обдумать способы, материал и цели».
А если все же зависть? Низкая, позорная зависть? Творческое бессилие, бесплодное напряжение мысли?.. Нет, все это легенда, придуманная для поэтов. Буало, впрочем, такого не требовалось, не требовалось и Гете. Уравновешенный, спокойный Гете и страстный, неуравновешенный Шиллер. Где тут трагедия, драма? Для кого? Для Гете? Для Шиллера? Вероятнее всего, для последнего.
И все же зря ты связался с Сальери. С легендой тебе не справиться. И не защитить себя. Рационалист и декадент — вот что будут говорить о тебе потомки. И будут помнить, может, только потому, что ты когда-то писал неплохие рецензии на Янку Купалу, на страстного неуравновешенного Купалу. Купала — Шиллер. Где найти параллель для Гете?
Поезд все шел и шел на юг.
Была зима, крутили метели. И говорили о революции. Он ехал навстречу ей или от нее? Эх, если бы еще хоть два года жизни!
За Гомелем поезд задержали на трое суток снежные заносы. Очутились между станциями, как между небом и землею. Тьма, вьюга. Страшные апокалиптические ночи. Жгли свечи. Кончилась еда.
Он думал об отце: тот должен был выехать из Ярославля на два дня позже. Встреча была назначена в Симферополе. Отца туда переводили на службу.
После семи дней дороги наконец добрались до Симферополя. Отца здесь не оказалось. Все же он не обиделся: было неспокойное время, все могло случиться. Но скорей всего отца задержали общественные дела. Максим Адамович понимал: отец — человек несчастный, жизнь у него не получилась, хотя он никому и не признавался в этом, даже самому себе. Скрашивать все должны были «широта интересов», общественные устремления. Максим Адамович понимал отца, а потому и жалел.
Вот, наконец, и Ялта.
И в Ялте — тоже революция.
Найти квартиру было не так легко, как ему казалось вначале. Почему-то стали бояться чужих людей. Целый день он бродил по городу. Безрезультатно. Уже в сумерках пошел по адресу: Николаевская улица, дом номер восемь, Мария Цемко.
Хозяйка повела его через двор. По крутой шаткой лестнице поднялись на второй этаж. Комната была довольно просторная, но запущенная: чувствовалось, что в ней давно не живут. Ему было все равно. В изнеможении он опустился на табурет, вытянул ноги. «Больше я никуда не пойду», — сказал он. — «Ну что ж, живите на здоровье», — сказала хозяйка.
За окном виднелось море. «Близко, сыро», — подумалось Максиму. Одолевала усталость. Хозяйка вышла из комнаты. Он прислушался к ее удаляющимся шагам по лестнице. «Зато я буду здесь совсем один», — с неожиданным облегчением подумал он. И вспомнил, что не договорился с хозяйкой о питании. «Буду ходить в столовую, — успокоил себя. — Мне ничего не надо. Так будет лучше. Буду писать».
Так началась его жизнь в Ялте.
Шли дни. Петру Гапоновичу, двоюродному брату, он писал:
«Погода страшная — дождь, ветер, холодно».
И добавлял, что хозяйка плохо топила печь, «экономию нагоняла». Гапоновичу об этом можно было писать. Он был ему почти чужим: ну, брат, это правда — брат, но очень уж далекий ему человек. Всегда посмеивался над его «белорущиной»: «самостийности», мол, захотелось. Так и говорил: «самостийности», на «хохлацкий» лад — сразу двух зайцев убивал. «Ты расскажи всю правду ей, пустого сердца на жалей», — горько думал он. Может, имел в виду Анюту, родную сестру Петра? Хотел, чтобы и она все это знала? «Пускай она поплачет: ей ничего не значит…» Помедлив, он продолжал: «Отцу о болезни писал без всяких подробностей. Лечусь, мол, в Ялте — и все. И ты не расписывай».
Отец уже давно был в Симферополе.
«Широкое у него теперь поле деятельности», — словно с сожалением думал Богданович. Он всегда понимал отца. И не хотел его тревожить. Даже письмами. Несерьезное это занятие — посылать письма за какие-нибудь семьдесят верст, из Ялты в Симферополь.
Богданович пытался писать, но отчего-то плохо получалось. Тогда он принимался править старое. Долго сидел над «Слуцкими ткачихами». Работа шла вяло. Самое неприятное, не было уверенности, надо ли поправлять. Трудно было вечером. Согбенная, понурая тень Сальери маячила у двери, печально скользила по стене. А в лампе шипел керосин. Он боялся, что не выдержит и закричит. Тень Сальери затаивалась в углу. Который теперь час? Мысли разбегались, рвались, как истлевшая нитка. «Пускай же, пускай себе рвется жизнь моя, как сгнившая нить». Кто это написал? Он? Хорошо это или плохо? Если плохо, можно еще исправить, еще можно, можно… да…
Тень Сальери начинала покачиваться в углу. Он пристально смотрел в угол. Тогда тень скрывалась. Шипел керосин в лампе.
Он старался не смотреть в угол. Напрягал слух, стремясь услышать, что происходит там, снаружи. И все свои мысли старался направить туда. Ему казалось, что он слышит, как шумит море. А может, это только ветер? Надо придумать что-то спасительное. Мысленно путешествовать, что ли… Начать отсюда, с Николаевской, от дома номер восемь. Пойти сегодня к одному загадочному человеку, к писателю Антону Павловичу Чехову? Ах, его уже нет? Но зато есть его дача. Он знает, где она. Еще в свой первый приезд в Крым был там. Верхняя Аутка. Виноградники над речкой Учан-Су. Маленький домик. Садик тоже маленький. Солнце и тишина. Сухая потрескавшаяся земля во дворе. Там еще должен быть журавль, прирученный Чеховым. Он где-то читал или слышал об этом. Сколько лет может прожить журавль?
Он закрыл глаза… Так ярко, но мирно светило солнце, и от его сухого блеска словно тень лежала на земле. Из высокой, но узкой двери домика на крыльцо вышел человек. Задрав голову, смотрел куда-то вдаль и щурился от солнца. Остро поблескивало пенсне. Низко, чуть ли не до ушей, была надвинута мягкая фетровая шляпа — «пирожком». Легкое пальто застегнуто на верхнюю пуговицу. Человек ступал ровно, прямо, но какая-то скованность чувствовалась в его движениях. Человек сел на скамейку, обхватив руками острые колени. Вдруг лицо у человека посветлело, он рукою коснулся пенсне. Невдалеке во дворе стоял журавль. Поджав одну ногу, он весь словно тянулся вверх. Распрямлялись и опадали книзу крылья, касаясь сухой, шершавой земли. Помятые, уже полинявшие крылья. Журавль танцевал. Человек снял шляпу и положил ее на колени. Волосы на голове были слежавшиеся, тонкие и словно больные волосы. Журавль делал по двору круги, приближаясь к человеку. Тот усмехнулся и легко взмахнул рукой. Журавль отскочил в сторону и для равновесия замахал крыльями. Подскакивая, он побежал по двору. Оторвался от земли и сделал круг над садом. Человек наблюдал за ним, едва повернув голову, — лицо его было внимательным и одновременно беззащитным, как почти всегда у человека, когда он наедине с собой.
Над клумбой стала порхать бабочка, золотисто-рыжая, с черными обводами на крыльях. Было так тихо, что слышалось шелестенье этих крыльев. Светило солнце, и от его сухого блеска словно какая-то тень лежала на земле…
Богданович раскрыл глаза. Тихо. Горела лампа. Фиолетовым сумраком набухало окно. Он повернул голову и посмотрел в угол. Согнутой тени того человека там уже не было.
Так проходили ночи и наступали дни.
В Ялте была весна.
Он стал чаще выбираться на улицу. Долгими часами мог сидеть, не двигаясь, и греться на солнце. Ходьба утомляла его, становилось тяжело дышать. Горячо, неукротимо стучало в висках. Когда это проходило, начинал гореть лоб. И почему-то болело над бровью. «Да, жизнь, — думал он. — Что же делать? Может быть, наибольшая мудрость для безнадежно больного человека — смириться? Спокойно смотреть, думать и чувствовать? Что он должен понять, когда наступит его последняя минута?»
Богданович снова стал думать о стихах.
В Минске он перечитал «Венок». Тогда думалось так: недостатков тьма, потому что книга, что ни говори, писалась в семнадцать — двадцать лет. И все же в ней есть и творчество, и вдохновенье, и серьезный труд. Часть стихов он вычеркнул, другие при случае надо бы подправить.
Тут, в Ялте, править стихи было трудно. «И не надо, — думал он. — Это все из-за болезни. Из-за болезненного состояния души. Просто вычеркнуть — и все». Решив так, он почувствовал облегчение и удивился этому. Догадался: днем он еще больше, нежели ночью, боится того человека — Сальери.
Как бы там ни было, у него все же есть книжка. И еще стихи «белорусского склада». Может, благодаря этому его поймут и оправдают потомки. И простят то, чего не успел сделать. Сделают другие, сделает Купала. Несомненно, у того большое будущее. Такая способность к обновлению, к расширению масштаба тем и мыслей. И какие ритмы, какая лексика, какое чувство языка! Ничего не скажешь, он завидовал Купале и не боялся признаться самому себе в этом. Его же, Богдановича, песенка была спета.
На улице, случалось, он разглядывал себя в стекле витрин. Боже, так похудеть! Удивляло и другое: стал очень похожим на отца! Раньше он всегда думал, что похож на мать.
Вскоре он почувствовал себя совсем плохо. Несколько дней подряд не выходил из дому. Хозяйка пригласила больничную сестру. Сестра была при нем только днем. Ночами, страшно утомляясь, писал отцу письмо. Писал так:
«Здравствуй, старый воробей. Молодому воробью плохо… Мокроты у меня много, температуры высокие, два раза шла кровь… ослабел до предела. Скоро начнутся жары, надо будет уезжать из Ялты, а как в таком виде поедешь?..»
За день до смерти ему стало легче. Он попросил хозяйку купить ему свежей клубники. Съел две-три ягоды и больше не смог. (Он не знал, как умирал Чехов. Умирал он в Баденвейлере, в отеле. Был поздний вечер или начало ночи, когда он, проснувшись, попросил послать за доктором. Раньше никогда он этого сам не делал. Жена выбежала в пустой коридор ночного отеля попросить кого-нибудь привести доктора. Чехов лежал и ждал. Затаенная и душная тишина царила в отеле. В темных клетках этажей, в своих влажных постелях спали, обливаясь потом, пожилые семейные пары; запах винного перегара стоял в комнатах странствующих холостяков, — о, как душно было за стенами, какое безлюдье царило в коридорах. У подъезда отеля под чьими-то ногами скрипел песок. Какой ядреный и чистый хруст!
Жена принесла лед. Пришел доктор. «Шампанского!» — сказал доктор. Антон Павлович сел, взял бокал. Доктор смотрел на Чехова. Ему казалось, что больной хочет что-то сказать. Доктор наклонился к Чехову. Громко, словно рядом с ним был глухой, Чехов сказал: «Их штербе…» («Я умираю»). Выпил шампанского. Улыбнулся и добавил: «Давно я не пил шампанского…» Осторожно и тихо лег на бок…
Огромная черная бабочка впорхнула через форточку в комнату. Тень ее мелькала по стене, по потолку, падала на лицо человека, неподвижно лежавшего на кровати, — лежал, как полагается, уже перевернутый на спину. Стояла тишина. Потом словно взрыв потряс комнату — из бутылки вырвалась пробка…)
…Богданович лежал, выпрямившись: одна рука была подсунута под подушку, вторая — откинута далеко в сторону. Стояла тишина. Хозяйка, еще ни о чем не догадываясь, задержалась на пороге. Осторожно прикрыла за собой дверь. Войдя в комнату, она поняла все.
На табурете возле кровати лежал кулек с клубникой. Бумага густо набрякла и стала пунцовой. Какой-то скомканный листок валялся на полу. Хозяйка подняла его и прочитала:
«Здравствуй, старый воробей. Молодому воробью плохо…»
Конверта нигде не было. Не было, значит, и адреса. Хозяйка стала искать адрес. На одном из старых конвертов было написано:
«Ярославль… А. Е. Богданович».
Хозяйка не знала, что отец Богдановича жил в Симферополе.
От Симферополя до Ялты семьдесят верст.
СТАРЫЙ ВОРОБЕЙ
Адам Егорович писал воспоминания о сыне через шесть лет после его смерти. Просили об этом из Минска, из Инбелкульта. Похоже, что Адам Егорович был удивлен. Значит, там, в Минске, придают исключительное значение трудам сына, возможно, даже считают его классиком. Кто-кто, а он, Адам Егорович, в библиотеке которого «было все, что есть лучшего на свете, и ничего пошлого» (так он писал сам и, пожалуй, слегка преувеличил, как заметил по этому поводу академик И. Замотин), кто-кто, а он-то отлично понимает, что такое классик.
Легкая, но все же ощутимая обида пробивается в воспоминаниях Адама Егоровича. Обида на сына? На свою судьбу? Но есть ли для этого основания? Не кажется ли нам все это?
У Адама Егоровича уже давно были порваны почти все связи с Белоруссией. Конечно, он помнил, что на гродненском кладбище покоится его первая жена, мать Максима. (В год ее смерти Адам Егорович переехал с семьею в Нижний Новгород. «За могилой было поручено присматривать моим друзьям, но никого из них в Гродно уже нет». Сам Адам Егорович в Гродно, кажется, больше никогда не приезжал.)
Но он помнил не только это. Он не мог не помнить, что когда-то сам написал работу под научно-бесстрастным и одновременно обстоятельным названием «Пережитки древнего миросозерцания у белорусов». Это была хорошая книжка, оригинальная и содержательная, написанная с позиций, которые и тогда и теперь не могли не считаться прогрессивными. На книгу обратили внимание крупные польские и русские фольклористы, предсказывая автору завидную будущность, — ведь это, в сущности, был только дебют.
Что же произошло потом? Потом получилось, что А. Е. Богдановича-ученого мы открываем для себя только теперь, да и то вроде бы косвенно: каждому понятно, что одной из причин нашего интереса к нему является то, что он — отец поэта Максима Богдановича.
Самому Адаму Егоровичу не просто было разобраться в своей судьбе, по крайней мере в то время, когда он получил из Минска письмо, в котором содержалась просьба написать воспоминания о сыне.
Мы пишем не научную работу о А. Е. Богдановиче. Оговоримся сразу, что и его научные изыскания, и вся его жизнь интересуют нас сейчас только в связи с жизнью и творчеством его сына. И в этом заключается специфика взятой нами на себя задачи. Все остальное — материал для работы иного плана. Вот почему нас будут интересовать в основном те моменты, которые вряд ли нашли бы место в академически выдержанном исследовании. Эти моменты — чисто психологические. Иначе говоря, более общо и широко предмет нашего внимания следовало бы назвать проекцией судьбы человека, личной и общественной, на то, что зовется историей.
Адам Егорович пишет:
«Какая несуразность, что не он обо мне, а я о нем должен писать свои воспоминания».
Но дело тут не только в том, что отец пережил сына, хотя Адам Егорович пишет как будто об этом…
Действительно, какое трагическое несоответствие! Непризнанный ученый А. Е. Богданович должен писать воспоминания о своем сыне, выдающемся белорусском поэте, которому, когда он умер, не было и двадцати семи лет. А. Е. Богданович позже напишет воспоминания и о великом писателе Максиме Горьком, воспоминания, которые много лет спустя наиболее полно будут изданы в Белоруссии, на его родине и родине его сына.
Как бы ни отдалялся Адам Егорович от родины, насмешливая судьба возвращала его назад.
Не мы судим за что-то Адама Егоровича, судит история, судит и прощает родина — ведь тут не только его трагедия. Здесь трагедия времени. Максим Богданович опережал время, и он победил.
Судьба бросала Адама Егоровича из одного города в другой, и он нигде не мог пустить глубоко корней. Почему он вернулся в Белоруссию? Возможно, он думал, что как ученый сможет работать повсюду. Он начинал как этнограф, начинал в то время, когда эта наука именно на белорусском материале достигла, пожалуй, самых блестящих вершин. Белорусский материал вдохновлял Шпилевского, Пыпина, Карского, Романова, Никифоровского, Носовича, Довнар-Запольского. Наибольший этнографический интерес к «белорущине» падает на 70 — 90-е годы. Позже он постепенно глохнет. Это естественно. Были на это разные причины, и среди них самая обычная: белорусская проблема почти исчерпала себя средствами этнографии. Тезис Добролюбова — «посмотрим, что скажут сами белорусы» — стал властно реализовываться жизнью. Адам Егорович не смог связать себя с ним. Возможно, он просто недооценил его. Все дело тут в мировоззрении.
А. Е. Богданович как ученый все же принадлежит к дореволюционной научно-этнографической школе, которая, признавая талантливость белорусского народа, самобытность форм его жизни в прошлом, часто в то же время сомневалась в его способности к будущей самостоятельной национальной жизни. «Как ученые, как объективные, честные ученые, мы засвидетельствовали то, что было и что есть, — что будет дальше, нас не касается…» Что ж, «чистая», «объективная» наука всегда говорит так. «Чистая» наука всегда в достаточной степени космополитична — это в лучшем случае, в худшем случае она может опереться и на шовинизм. Подлинно демократическая наука исключает и то и другое. Добролюбов отметил: «Посмотрим, что скажут сами белорусы». От себя добавим, что это было сказано несколько раньше девяностых годов. Чернышевский решительно отвергал научный космополитизм. При этом он руководствовался не абстрактной идеей (в таком случае надо признать космополитизм науки и закономерным и необходимым), а конкретными историческими условиями и идеей служения науки обществу. Направление мысли Чернышевского необыкновенно интересно, и мы не можем отказать себе в удовольствии проследить за ней. Тем более, что это имеет к нашей теме самое непосредственное отношение.
Космополитизму в науке и в искусстве Чернышевский противопоставлял все то, что понимается под словом «патриотизм», замечая при этом, что это слово порою употребляется недобросовестными людьми для обозначения вещей, не имеющих ничего общего с подлинным патриотизмом — этим страстным, безграничным желанием добра родине, этим чувством, способным придать смысл и направить всю деятельность человека. В «Очерках гоголевского периода русской литературы» Чернышеский пишет: «Понимая патриотизм в этом единственном истинном смысле, мы замечаем, что судьба России в отношении к задушевным чувствам, руководившим деятельностью людей, которыми наша родина может гордиться, доселе отличалась от того, что́ представляет история многих других стран. Многие из великих людей Германии, Франции, Англии заслуживают свою славу, стремясь к целям, не имеющим прямой связи с благом их родины… Бэкон, Декарт, Галилей, Лейбниц, Ньютон, ныне Гумбольт и Либих, Кювье и Фарадей трудились и трудятся, думая о пользе науки вообще, а не о том, что именно в данное время нужно для блага известной страны, бывшей их родиною… Они, как деятели умственного мира, космополиты. То же надобно сказать и о многих великих поэтах Западной Европы». «У нас не то», — пишет Чернышевский и, называя имена Ломоносова, Державина, Карамзина, Пушкина, говорит, что эти люди считаются великими благодаря своим заслугам перед родиной, потому что «оказали великие услуги просвещению или эстетическому воспитанию своего народа». Понятно, Чернышевский далек от мысли, чтоб таким образом утверждать «приоритет» русской науки или искусства над наукой и искусством западноевропейским. Это было бы похоже на «квасной патриотизм», а в таком грехе мы, если бы и хотели, не можем обвинить Чернышевского. Патриотизм — живое требование, живое содержание определенного исторического момента, а великий революционный демократ, как никто после Белинского, понимал, что служить вечности и абсолюту можно только через служение своему времени. И для России он считает желанной ту пору, когда появятся, как и у других народов, «мыслители и художники, действующие чисто только в интересах науки или искусства». А пока… пока это привилегия наиболее развитых в общественном, художественном и политическом отношении стран, где существует, как говорит Чернышевский, «разделение труда между разными отраслями умственной деятельности, из которых у нас известна только одна — литература».
Нетрудно догадаться, что в понятие «умственной деятельности» Чернышевский включил больше, чем означают эти слова, — он говорил об отсутствии свободы высказывать свои мысли, об отсутствии демократических норм в общественной жизни; вот почему литература должна была брать на себя те функции, какие не могли взять на себя ни общественные институты (их просто не было), ни даже наука.
«Чистая» наука, которая говорила о Белоруссии (спасибо ей за то, что говорила, потому что тогда, кроме нее, у нас говорить было некому), исчерпала себя как раз к тому времени, когда заговорили сами белорусы, когда живой, действенной силой стал именно патриотизм «местный», так сказать, национальный.
Этап Адама Богдановича кончился, начинался этап Максима Богдановича. Это мы понимаем сегодня. Но понимал ли это Адам Егорович? Понимал ли он, что тут закономерное продолжение того, к чему он волею судьбы как ученый был приобщен на краткий, но самый счастливый в своей жизни миг?
Нет, наука не упразднялась, просто теперь была нужда в общественно и национально заинтересованной науке. Еще более необходимы были поэты — непосредственные выразители народных дум. Максим Богданович мог быть и ученым, и публицистом, и критиком — и все только потому, что он был поэт. Как тут не вспомнить Чернышевского!
Раннего, давнишнего Адама Богдановича мы сегодня возвращаем Белоруссии ради него самого. Адаму Богдановичу, судьба которого как ученого в более позднее время сложилась неудачно (не будем говорить, по чьей вине — его или кого-то другого), так вот, этому Адаму Богдановичу мы можем только посочувствовать.
Адам Егорович был талантливым человеком. Стоит прочитать его воспоминания, особенно те страницы, где рассказано о детстве, о тяжелом пути в науку, чтобы убедиться, что наш собеседник — личность, к которой вряд ли можно подойти со средней человеческой меркой. Мы говорим об Адаме Егоровиче не как об ученом, мы говорим о его возможностях именно как личности, о тех счастливых чертах характера, которые дают нам в итоге ощутимый образ таланта. Адама Богдановича — ученого — еще нет, есть обыкновенный, любознательный, по-деревенски сообразительный мальчик, душа которого с неутолимой жадностью впитывает в себя наблюдаемые явления жизни, поэтичные и печальные, пронизывается трепетным током народной речи, народной песни и сказки. И при всем этом — здоровая цепкая память на детали быта; при всем этом — здоровый крестьянский практицизм, не в смысле его житейской прикладной функции, а в смысле самой способности определять и познавать явления в их жизненно-логической обусловленности.
Страницы, посвященные детству, — пожалуй, лучшие в воспоминаниях и наиболее интересные для нас. Адам Егорович писал свои воспоминания по-русски, однако там, где глубоко самобытные явления и понятия белорусской жизни выходили за пределы русской словесной стихии, пользовался языком белорусским. По-белорусски, между прочим, всюду передана речь бабушки Рузали, женщины с характером сильным и деятельным, неутомимой труженицы, знахарки, сказочницы и певуньи.
А какая сочная эта речь! Сколько в ней колорита и сколько выразительной силы! И не так плохо знал родной язык Адам Егорович, если смог все это сберечь в душе, а потом передать и нам, своим читателям. Что же касается его русского языка, то он, откровенно говоря, не выделяется какими-то особенными качествами, напротив, в нем чувствуется та излишняя правильность, закругленность, обстоятельность, которые сразу выдают преимущественно книжное знание языка. Кстати, русскому языку самого Максима Богдановича свойственны почти те же недостатки — факт, лишний раз подтверждающий простую истину, что язык, кроме всего прочего, еще и явление психологическое.
У Адама Егоровича было тяжелое детство. Отец его не имел надела, и семье приходилось жить с неопределенных и непостоянных заработков, на всем покупном. Постоянная гнетущая забота — на что купить картошки, муки, растительного масла и даже… лучину. Положение семьи Богдановичей с полуместечковым бытом было довольно своеобразным: она зависела от деревни и в то же время словно бы и не зависела. Все это предопределяло судьбу Адама Егоровича — хозяином стать он не мог, и ему предстояло искать иные пути, ему надо было приобретать какую-то специальность, а это, в свою очередь, могло осуществиться только через учебу. С другой стороны (отметим и это), именно тут, в местечке, и именно из-за особого положения семьи Адам Егорович имел более чем достаточно впечатлений и наблюдений, которые в дальнейшем сложились в систему осмысленного отношения к народной жизни. Тут произошло, в сущности, рождение Богдановича-этнографа.
Много лет спустя, мысленно оглядываясь на тот день, когда он впервые переступил школьный порог, Адам Егорович пишет:
«Это был год моей обреченности на тяжкую работу, работу неустанную и бесконечную, с недостижимой целью — объять необъятное, и при том с негодными средствами».
Вы чувствуете в этих словах и сожаление, и обиду, и горькую насмешку над самим собою? Чувствуете? В таком случае слушайте дальше:
«…и если бы я знал, чем это пахнет и к каким приведет для меня последствиям, то, вероятно, не бежал бы вприпрыжку, когда вел меня отец в школу, и не трепетал бы от удовольствия и страха, обычных перед рискованной борьбой, в которой можно и победить, но и потерпеть жестокое поражение».
Какой печальный, трагичный вывод! И это говорит человек, для которого наука всю жизнь была всем. Он был обязан науке не только куском хлеба и не только местом в обществе — благодаря ей он получил возможность чувствовать себя человеком и возможность познавать мир.
Есть какая-то трагическая закономерность в судьбе Адама Егоровича. Как назвать, как объяснить ее? Чехову принадлежат слова о том, что дворяне брали даром от природы то, что разночинцы покупали ценой молодости. Дед Чехова был крепостным, Адам Егорович родился спустя несколько лет после того, как его отец перестал быть крепостным. Чехов писал о человеке, который ценою неимоверных усилий вынужден был «выдавливать из себя по капле раба». Чувствовать себя человеком помогали наука, знания. С необыкновенной жадностью тянется Адам Егорович к знаниям. Его душа и ум кипят и рвутся навстречу жизни. Он ошеломлен безграничностью возможностей, которые открывает перед ним наука. Он похож на человека, неожиданно очутившегося перед грудой золота, серебра, драгоценных камней и не знающего, что в первую очередь взять и сколько.
Вот он учится в школе, вот он устраивается учеником в железнодорожные мастерские — нет, не то; вот он учится кондитерскому делу — снова разочарование; вот он поступает к слесарю, а через некоторое время уже стоит за буфетной стойкой, потом снова возвращается к слесарному делу, и над всем этим всегда была книга. Наконец ночью, украдкой, он покидает хозяина — впереди Несвижская семинария. Адам Егорович пристает к желанному берегу. Наука! Возможность читать, спорить, быть приобщенным к настоящей жизни.
Не будем перечислять, что читал, чем интересовался в семинарии Адам Егорович, но несомненно, что та широта интересов — научных и общественных, — которая будет сопутствовать ему всю жизнь, берет начало отсюда, со счастливой поры обучения в семинарии. Тут, кстати, он познакомился с передовыми теориями своего времени, с историей революционной мысли. В год окончания семинарии Адам Егорович устанавливает отношения с представителями народничества и с этого времени начинает делить свою жизнь между службой, научными занятиями и общественной или революционной работой. Адам Егорович не щадил своих сил. Он, кажется, не жил, а горел. Позже Адам Егорович пожалеет об этом, по крайней мере, как ученый. Но иначе, видимо, он не мог. Возможно, он жил бы иначе, если бы мог немного больше взять «даром от природы». А он, что ни говорите, был все же самоучкой: официальная наука, семинарская, как бы она хорошо ни была поставлена, не могла дать ему и десятой доли того, что он знал, что взял из книг благодаря своей необыкновенной любознательности и, возможно, самолюбию.
Просветил и воспитал себя Адам Егорович сам — и только сам. Тут, несомненно, было чем гордиться, и он, вероятно, гордился, по крайней мере не упускал случая, чтобы не подчеркнуть это. Анна Куприяновна Волосович-Грязнова, двоюродная сестра Максима Богдановича, вспоминает:
«Адам Егорович знал себе цену. Он часто говорил: „Спроси у своего дяди (это значит, у него), он тебе обо всем расскажет“; „в библиотеку тебе не надо ходить, все, что тебе понадобится, ты найдешь у своего дяди“ и т. д.»
Но справедливо и другое: научным стремлениям Адама Егоровича нельзя отказать в известной энциклопедичности. По характеру своих научных и житейских интересов он, несомненно, был тем, кого называют емким и благородным словом «просветитель». Адама Егоровича интересовали социально-общественные теории, педагогические системы, литература и театр, банковское и горное дело, злободневная публицистика и возможность практической революционной работы, но только в этнографии и в смежных с нею областях он оставил нечто стоящее внимания. Подлинным его вкладом в науку был и остается труд «Пережитки древнего миросозерцания у белорусов», — «юношеский», как говорил Адам Егорович, труд.
Кстати, нам есть смысл послушать самого Адама Егоровича.
То, что он сетовал на науку, в которой обманулся, мы уже знаем. «Объять необъятное и притом с негодными средствами» — помните это? К концу жизни Адам Егорович подводил итоги. Писал воспоминания. Возможно, как никогда раньше, все его мысли обратились к родному народу. Это не догадка. Можно соответственно процитировать Адама Егоровича, и если мы не делаем этого, то только для того, чтоб не перегружать наше повествование цитатами. Были тридцатые годы. Беларусь уверенно заняла то почетное место, о котором мечтали лучшие ее сыновья, в том числе и Максим Богданович. Бурно развивалась национальная культура — на родном языке и на родной почве. Казалось нелепым, что еще совсем недавно, в начале двадцатых годов, даже такой ученый, как Карский, человек, положивший столько труда на то, чтоб доказать историческое и культурное своеобразие белорусов среди других славянских народов, мог еще считать проблематичным успешное развитие белорусской культуры в ближайшее время на национальной почве. О, эта «объективная» наука! Как трудно ей быть объективной и как трудно удержаться от предсказаний!
Адам Егорович подводил итоги. Как всякий более или менее реалистически мыслящий человек, он не мог не видеть успешного разрешения всех тех проблем, к которым приобщился еще в юности и от которых так или иначе отошел в более поздние годы. Что должен был чувствовать, что должен был думать теперь Адам Егорович? Считать, что зря прожил жизнь, что обманул себя в чем-то главном, не заметил, как разминулся со временем в самый ответственный момент? И если так, то выпала ли на его долю, пусть коротенькая, череда счастливых и прекрасных дней — и если выпала, то когда? Может, в то время, когда он и писал свой первый, свой «юношеский» труд?
Так или иначе думал Адам Егорович, сказать теперь трудно, но то, что он болезненно подытоживал собственную жизнь, не вызывает никаких сомнений — иначе откуда было бы это трагичное для ученого разочарование в самом инструменте труда — «непригодные средства!» А может быть, все ту же «объективную» науку имел при этом в виду Адам Егорович?
Да, он подводил итоги:
«Написал я, собственно, много, около ста и даже больше печатных листов, считая, что в рукописях. Это весьма много, если принять во внимание, что я никогда не занимался одним делом, а двумя, тремя параллельными (подчеркнуто мною. — М. С.), которые, как революционная работа, захватывали меня временами почти столько же, сколько служба, а трепки нервам давали еще больше. Написал я много, но толку мало: все это кануло в лету провинциальных повременных изданий, где их и завзятый библиограф не отыщет. Одни лишь „Пережитки…“ да то, что напечатано в сборниках Академии наук, могут иметь действенное значение».
Как видите, почти то же о научной деятельности Адама Егоровича говорим теперь и мы. Он видит общественный смысл своей работы в сохранении для будущих поколений частицы тех народных богатств, которые пере-дала ему, может, и не догадываясь об их подлинной ценности, белорусская деревенская женщина — бабушка Рузаля.
«Уже ее правнук Максим, унаследовавший нечто от ее духа, успел в свой короткий век позаимствовать кое-что из этой сокровищницы, облечь в стихотворные формы. А из бабиных сказок он впервые познакомился с белорусской речью.
Значит (мое) сидение на лежанке не прошло бесплодным, и бабушка Рузаля прошла через свою долгую и тяжкую жизнь с огромной ношей старины за плечами не бесследно…
Что и требовалось доказать!..»
«Что и требовалось доказать», — добавим и мы от себя и со словами благодарности оставим пока Адама Егоровича, человека, которому в его детстве посчастливилось греться у священного огня наших пращуров и который почувствовал, понял сердцем, что надо сохранить для потомства, пересказать счастливые минуты, подаренные ему. Так он, сознательно или подсознательно, верный памяти сердца, и поступил в юности. Тепло того огня передалось его сыну. Это был тот огонь, при ярких отблесках которого Максим Богданович увидел будущее.
СТРАНА ОБЕТОВАННАЯ
Адам Егорович покинул Белоруссию в год смерти жены. Максиму Богдановичу было тогда только пять лет. С этого времени он воспитывается, учится, мужает за пределами Белоруссии. Пятилетний возраст — возможно, самый впечатлительный, однако в смысле собственно белорусских впечатлений вряд ли он дал что-нибудь существенное Богдановичу. Интеллигентная среда, пусть даже демократическая, в которой он воспитывался в Минске и Гродно, надо думать, не очень уважала национальный элемент в воспитании и быте. Интеллигенция и дома, и на людях разговаривала по-русски. Семья Адама Егоровича не была исключением. Недаром же он сам пишет, что «на неблагодарной ниве писания стихов по-белорусски» в Минске пробует свои силы только один Янка Лучина (Неслуховский). Капля в море! На это почти никто не обращал серьезного внимания. В том числе и сам Адам Егорович. Он был занят иным. «Белоруссика» (его термин) могла интересовать только с этнографической стороны. Даже значительно позже, в год первой поездки сына на родину (1911), куда тот приехал уже известным белорусским поэтом, Адам Егорович был склонен считать «картину белорусского возрождения довольно безрадостной». Правда, тут же он добавляет, что «не пытался расхолаживать его (сыновьего. — М. С.) порыва». Что ж, и за это спасибо.
Самым сильным «белорусским» впечатлением Максима Богдановича была смерть матери. Если всей глубины трагедии он помнить не мог, то пережить ее мог несомненно. Недаром же у него была материнская, а это значит, очень впечатлительная натура. Так говорит сам отец. Рано лишенный материнского тепла, он всю свою жизнь тосковал о нем. Догадаться об этом мы можем и по его творчеству: идеал женщины для него — мадонна, мать. Трепетная и нежная, ласково-тревожная в своей материнской любви.
Смерть матери лишила его родины. Светлая память о матери-родине властно позвала его назад.
Когда и как научился он белорусскому языку, когда в его сознании, в его сердце возник, разрастаясь и подчиняя себе все, образ «краіны-браначкі» — образ Белоруссии? Отец свидетельствует: писать стихи по-белорусски он начал рано, в десяти-одиннадцатилетнем возрасте. Что поддерживало его в этих стремлениях? Кто был человек, ставший добрым гением талантливого мальчика? Отец? То, что он каким-то образом влиял на пробуждение в сыне интереса к родине и к родному слову, — справедливо, и этого нельзя отрицать. Влиял хотя бы тем, что сын мог пользоваться его этнографическими трудами и теми фольклорными записями, что были в его архиве. Но давайте попытаемся спокойно порассуждать.
О первых поэтических пробах Богдановича мы знаем со слов того же отца: он помнит, что мальчик показывал их своей крестной Ольге Семовой, когда та приезжала в Нижний Новгород. Запомним ее имя. Не мешает обратить внимание и на то, что свои стихи мальчик впервые показывает не отцу, что было бы вполне естественно, а крестной, которая даже не живет с ним в одном городе и о возможной реакции которой на стихи (белорусские стихи!) он мог только догадываться. Скажут: он мог показывать свои стихи отцу раньше. Допустим. Но в таком случае зачем было отцу писать, что он помнит о первых опытах своего сына в связи с тем, что тот их кому-то показывал? Зачем Адам Егорович стал бы искажать истину с явной невыгодой для себя? И вообще не послушать ли нам его самого?..
«Его (сына. — М. С.) занятия белоруссикой шли совершенно незаметно для меня и окружающих: по крайней мере, я его не толкнул на эту дорогу, но, разумеется, и не мешал».
Вот ведь как сказано, и о каком же особенном влиянии мы можем после этого говорить? «Не мешать» — было принципом Адама Егоровича в вопросе воспитания детей.
«Я не мешал своим детям быть, чем они хотят, но, в сущности, никогда не был доволен тем, что они есть».
Адам Егорович говорит, что отец — плохой судья своим детям. Не очень хочется и нам быть судьями его самого, только уж очень противоречивой, при всей своей объективности, кажется его формула. «Не мешать и не быть довольным». Не мешать — что это значит? Не принимать участия, не быть заинтересованным, разрешить человеку воспитывать самого себя. Но отчего в таком случае быть недовольным? Какое можно иметь на это право?
В том, что наше удивление небезосновательное, убеждают воспоминания Анны Волосович-Грязновой, на которые мы несколько ранее уже ссылались. И ее не удовлетворяет если не сам принцип дядиного воспитания, то результат. По крайней мере, в отношении к Максиму Богдановичу. Она пишет:
«Мне думается, что в то время и Адам Егорович должным образом не ценил таланта и значения Максима. Иначе, невзирая ни на что, он обязан был помочь Максиму поехать учиться в Петербург, где под руководством профессора Шахматова он посвятил бы себя любимому делу — изучению языка, этнографии и истории Белоруссии. Максим к этому стремился всей душой, а ему пришлось потратить пять лет на изучение юридических наук, к которым не лежала его душа. Ему пришлось жертвовать своим призванием ради брата, ибо Адам Егорович считал, что Леве надо учиться в Московском университете — у него же такие математические способности (в 1911 году Леве было только семнадцать лет)…»
Так слова Адама Егоровича: «Я не мешал своим детям быть, чем они хотят», — обернулись горестной неправдой.
Не будем преувеличивать, но должны сказать: люди, окружавшие Максима в нижегородский, а затем и в ярославский периоды его жизни, мало понимали его устремления, в лучшем случае смотрели на них, как на чудачество. На берегах Волги, за тысячу, если не больше, километров от Северо-Западного края, мечтать о какой-то «самостийной» Белоруссии? В самом деле, разве это не чудачество? Хуже всего было то, что его не понимали в родном, семейном кругу. Отец не понимал и не «мешал». Правда, крестная Ольга Епифановна, которой Максим показывал свои первые стихи, написанные по-белорусски, хотя и не понимала, не сочувствовала, возможно, в главном, но, добрая душа, не отказала в просьбе выписать для него сперва «Нашу долю», а затем и «Нашу ніву».
Как мало мы еще знаем людей, рядом с которыми жил Максим Богданович! Кто эта Ольга Семова? Каким образом она связана с семьей Богдановичей? Какова ее дальнейшая судьба? Богданович переписывался с ней — где их переписка? А знать об этом следовало хотя бы потому, что Семова, может, и не сознавая, помогла тому Богдановичу, которым теперь гордится целый народ, — и из-за этого так невыразимо нам дорог по-человечески благородный жест женщины, хорошо оправдавшей свое званье «крестная».
Ну, а те, кто все же «мешал»? Не по природной склонности злобного ума или души, а, так сказать, на принципиальной, идейной основе. Надо думать, что были и такие, и не в единственном числе.
Любителей «забіць трывогу аб той мове, якой азваўся беларус», всегда было много. Смотрели и выносили приговор с высоких «государственных» позиций. Зачем эти местнические тенденции, зачем заводить распри в доме? В доме должен быть один хозяин, один отец. И дети должны слушаться отца. Ну, а славянская, святая славянская идея? Что ж, и ее вы хотите разорвать на пестрые лоскутья, чтобы перевязывать ими свои «местные» раны? Нет, у идеи должно быть одно знамя.
Так или приблизительно так могли думать в среде, где жил Богданович.
Один из «идейных» — Петр Гапонович, брат Анюты Гапонович, двоюродной сестры поэта, той Анюты, в которую он был влюблен. Петр Гапонович. Родственник и, казалось, друг. И принципиальный, так сказать, противник. Они спорили по национальному вопросу. Гапонович, «рассудительный, холодноватый», «безупречно владел силлогизмом». «И Максим — горячий, страстный, почти одержимый». Они спорили. «Волна и камень», «лед и пламень» — все же очень различны меж собой. Гапонович считает национальную, «местную» идею фикцией, выдумкой горячих голов, принимающих мечту за реальность. Где факты? Немалое количество бесплатных корреспондентов «Нашей нівы»? Игра! На одном энтузиазме далеко не уедешь. Необходима хотя бы какая-нибудь финансовая база, не говоря уже о других проблемах и нуждах. Бесплатные корреспонденты! Это же от бедности. Филантропия, одна филантропия. Провинциальная филантропия.
Спорили — может, так, а может, и не так. Несомненно одно: Максим для Гапоновича — идеалист, идея которого ничего не стоит. Не предмет спора увлекает Гапоновича, а возможность оттачивать свои силлогизмы. Пусть радуется, пусть в конце концов верит. Дело его. На другое он не способен. Не сбил бы с толку Анюту. Она, кажется, рассудительная девушка, но все же… Такого кавалера, как Максим, своей сестре он, понятно, не желал. Он, тот «логик», по-настоящему встревожился, узнав о намерении Максима приехать из Ярославля в Нижний. Перед Богдановичем тем временем остро встала проблема устройства жизни после окончания лицея. Куда податься? Что делать? Ехать в Минск? Но идет наступление немцев, и еще неизвестно, чем оно кончится. А кроме того — Анюта… Надо было как-то прояснить отношения.
Этих отношений Петр Гапонович боится больше всего. Нет, он раскроет ей глаза на то, кто этот Богданович, и он дает Богдановичу характеристику, лучше которой вряд ли мог бы, на наш сегодняшний взгляд, кто-нибудь дать. Он уверен, что сестра, которой он пишет (не Анюта, а вторая сестра, Вера Ивановна), поймет все как следует и сделает все, чтоб помешать развитию отношений между Богдановичем и Анютой. Гапонович пишет:
«Рьяные отношения к „самостийной“ Белоруссии окончательно поглотили все его заботы и все его внимание. Он запирался в своей комнате, углублялся в эти вопросы и в такой плотной двойной оболочке, изолированной от жизни, провел все свои последние годы.
Так рисуется его теперешнее положение, и отсюда идет его решение бросить дом своего отца и Александры Афанасьевны и на стороне начать новую самостоятельную жизнь».
Это написано в 1915 году. Богданович уже автор «Венка». Венок славы, будущей великой славы, уже лежит на его голове, но «логик» Гапонович не видит этого. Ветер века шумит в лавровых листьях этого венка, но «силлогистик» не слышит этого, он бормочет что-то о «двойной оболочке», об изоляции от жизни. О человеческий практицизм, о трезвый реализм мещанства, сколько раз ты решался выносить приговор гению и сколько раз выносил приговор самому себе!
Жизнь… Изоляция от жизни. Мещанин понимает только «жизнь», но никогда не постигнет ее меры — времени. «Изолированный от жизни» Богданович носил в себе жизнь в ее наивысшем и самом широком измерении. В маленькой комнатке того, кого прозвали Максимом Книжником, жило само время. Там помещалась вся Беларусь. Далекая и близкая Беларусь, «краіна-браначка». Отец говорит: выбором жизненного пути, выбором цели сын обязан «непреодолимому влечению» к родной стихии, интуиции, «унаследованной от предков». Возможно, это и так. Но можно ли все объяснить только этим? Сам же Адам Егорович стоял еще ближе к предкам, чем сын. И ближе к сокровищам «бабки Рузали». «Остальное сделала твердая воля и упорство в труде». Ну, хорошо. Добавим еще — и талант, о котором почему-то забыл Адам Егорович. Мы объясним себе Богдановича — необычайно требовательного поэта-мастера, — но как объяснить рождение в Богдановиче именно белорусского поэта? Адам Егорович имел и талант, и интуицию, унаследованную от предков, и завидную настойчивость в труде, и твердую волю, однако не стал фигурой такого масштаба, как сын, хотя и намного пережил его. Нет, вероятно, и «зов предков», и талант, и воля имеют значение тогда, когда их приводит в движение какая-нибудь большая, общественного значения идея. Для Максима Богдановича такой идеей была идея национального и социального раскрепощения родного народа. И подсказало ее Богдановичу время.
«Слушайте время!» — говорит нам своим примером Богданович. Запомним это.
ОРИГИНАЛ И КОПИЯ
И как непросто было Богдановичу стать белорусским поэтом! Начать хотя бы с того, что родному языку он должен был учиться, как чужому: вначале он просто не знал его! И, что самое горькое для писателя, не знал его живых говоров. Не знал, понятно, не по своей вине. Просто так складывалась его жизнь. Все, словно нарочно, было против того, чтоб он почувствовал себя белорусом. Впервые он приезжает на родину в двадцать лет. Двадцать лет — это много только для Богдановича, он уже известный белорусский поэт. И вот парадокс: белорусский поэт почти не умеет говорить по-белорусски! Словно чужеземец, он просит каждого, с кем разговаривает, поправлять его произношение.
И в то же время он озабочен белорусскими проблемами, как немногие из «центристов», людей, которые занимались общественной или литературной деятельностью непосредственно «на местах». Один из тех, кто встречался с Богдановичем в его первый приезд в Белоруссию, пишет:
«М. Богданович приехал в Вильно уже как активный и сознательный деятель белорусского возрождения, глубже проникая мыслью в будущее нашего народа, чем мы, работники, сгруппированные в центре».
Знаменательное признание! Именно признание, а не снисходительный комплимент: какой смысл «центристу» сравнивать заслуги целой группы людей, к которой он и сам принадлежит, с заслугами всего лишь одного человека, к тому же в известной степени «чужака», и выставлять при этом свою группу в очевидно невыгодном свете? Но «чужак» был бескорыстным — вот что влекло к нему людей, вот что позволяло объективно оценивать его талант и его стремления. И кроме этого: сам факт появления Богдановича был еще одним, может, самым серьезным подтверждением важности и жизненности того дела, которому отдавали все свои силы лучшие из белорусских интеллигентов.
Большое видится на расстоянии, и Богданович своей жизнью блестяще подтвердил это. Вся его жизнь — подвиг. Настойчивое и ровное горенье одной страсти. И такое кратковременное… Вот почему его жизнь напоминает нам вспышку метеора. Вот почему мы часто и говорим о нем именно так. Может, это даже лучше, чем говорить «подвиг», «жертва», «самоотверженность». «В его трудах найти внезапное не тщись». То, что мы называем подвигом, — для него естественная, однажды избранная манера мыслить и жить. И, конечно, творить. Понятие «подвиг» включает в себя нечто такое, что, отдавая должное человеку, в то же время как бы и принижает его, делает сверхъестественной его деятельность. Подвиг?
Богданович не чувствует всего этого.
Изучать свой родной язык — что в этом сверхъестественного? Изучать только по словарям, по фольклорным записям, с помощью сравнительных грамматик славянских языков? Но кто же в этом виноват? Он не родился в белорусской деревне, не жил в ней, не слышал, как разговаривают крестьяне, — кого же в этом винить? Он не знает, где надо поставить ударение в том или ином слове. Он вообще не уверен, звучит ли по-белорусски та или иная его фраза. Ему стыдно, ему говорят, что в его белорусском языке много русизмов. Ему говорят, что в его русском языке много белорусизмов. Он соглашается и с теми, и с другими и в минуты отчаяния, вероятно, думает, что взялся не за свое дело.
Нет, не надо громких слов, тогда лучше поймешь, как Богдановичу было трудно.
В его белорусском языке действительно было (особенно в начальном периоде творчества) много русизмов. Субъективные причины этого явления понятны, но не забывайте, что белорусский литературный язык тогда только еще формировался и не имел прочно закрепленных ни лексических, ни стилистических, ни грамматических норм. Богдановичу в своем творчестве приходилось преодолевать как бы двойные трудности. Белорусизмы в его русском языке? Для него это должно было звучать похвалой.
Он, почти всю свою сознательную жизнь проживший в русской среде, писал и думал по-белорусски. Он писал и по-русски, и по-украински, но художником был только на родном белорусском языке. Это — не красивая метафора. Это — истина, которую нетрудно доказать. Дело облегчается тем, что мы имеем переводы стихов Богдановича на русский язык, выполненные им самим.
В 1913 году в Ярославль, где в юридическом лицее учился поэт, приехала из Нижнего Новгорода Анюта Гапонович. Этой встрече Богданович был очень рад. Настолько рад, что подарил Анюте рукописный сборничек своих стихов, переведенных им самим на русский язык. Эта тетрадь, перепечатанная в первом академическом издании произведений поэта, потом была утеряна, и только недавно она была найдена благодаря усилиям старшего библиографа Библиотеки имени В. И. Ленина Н. Б. Ватацы, энтузиазму и настойчивости которой мы и до этого были обязаны появлением многих материалов и документов о жизни и творчестве поэта. В сборничке, названном Богдановичем «Зеленя», помещено двадцать два стихотворения. И то, что сборничек имел название, и то, что ему предпослан хоть и немного озорной, но явно извинительный эпиграф («Переводы стихотворений — словно женщины: если красивы, то неверны; если верны, то некрасивы»), свидетельствует, что поэт придавал своим переводам существенное значение. Да и как же иначе: Анюта Гапонович, к которой он был неравнодушен, наверное, впервые через эту книжечку получила возможность познакомиться ближе с двоюродным братом-поэтом. Кто знает, может, Богданович и не очень полагался на вкус своей сестры, но авторское самолюбие у него было и, вероятно, немалое! (Это волнующее, почти необъяснимое чувство — оказаться свидетелем того, что не предназначалось ни тебе, ни кому-либо другому, что не терпело чужого, постороннего глаза… На титульном листе первого тома рукою Адама Егоровича написано: «Нюте на память о брате-поэте. А. Богданович. 11.4.28 г.» Старческий, дрожащий почерк. Написано карандашом…)
Наша задача — сравнить оригиналы стихов поэта с их переводами — и сравнить в пользу первых. Переводчик, как известно, сам Богданович. И не просто переводчик, но и автор и, значит, больше, чем обычный переводчик. Акцентировать это важно, потому что мы хотим выявить способности Богдановича-художника в русском языке.
Возьмем для начала стихотворение «Триолет». В оригинале оно звучит так:
Калісь глядзеў на сонца я, Мне сонца асляпіла вочы. Ды што мне цемень вечнай ночы, Калісь глядзеў на сонца я. Няхай усе з мяне рагочуць, Адповедзь вось для іх мая: Калісь глядзеў на сонца я, Мне сонца асляпіла вочы.То же стихотворение по-русски:
На солнце загляделся я, И солнце очи ослепило, Затем, что сердце свет любило, На солнце загляделся я. На ощупь я пошел, но была Не в стыд мне слепота моя: На солнце загляделся я, И солнце очи ослепило.Оговорившись сразу, что мы стремимся выяснить способности Богдановича-художника к работе на русском языке, мы этим как бы условились, что нас в первую очередь будет интересовать не то, в какой степени переводчик сохранил особенности оригинала, а то, что выше в художественном отношении, — оригинал или перевод (при этом допускается, что перевод может иметь самостоятельное значение и даже выделяться художественными качествами более высокими, чем у оригинала). Попытаемся же сделать выбор в пользу одного из текстов. Вообще, наш выбор, скажем сразу, предрешен, потому постараемся убедить в нем и читателя.
Первое, что отличает белорусское стихотворение от русского, — это интонация. «На солнце загляделся я» и «Калісь глядзеў на сонца я» — тут есть разница. Не просто формальное несовпадение во времени, а существенная разница. Человек констатирует, говорит о том, что с ним происходит, и человек снова и по-новому переживает то, что с ним произошло: легкая нота сожаления звучит в голосе («Калісь глядзеў», то есть тогда, когда был зрячим), нота сожаления, невзирая на то, что все-таки есть утешение — все же солнце, великое солнце, божье солнце, источник жизни «ослепило очи». Пусть смеются люди: глупые, они не знают, что он был приобщен к великому, хоть и пострадал из-за него. Одним словом, взгляни на Неаполь, а потом умирай. Человечность переживаний, сложная гамма чувств — вот что отличает первое стихотворение от второго. Эта человечность и уверенность интонации создаются всем ритмом и образным строем произведения, раздумчивым и выразительным, изящным по рисунку. Обратите внимание на опорные рифмы. В белорусском тексте рифмуются «вочы — ночы». Мало того, что здесь рифмовка и выразительней и энергичней, чем в случае с глагольными «ослепило — любило», она еще и контрастная «очи — свет» и «ночи — мрак». Контраст поддерживается, развивается всей образной системой:
Мне сонца асляпіла вочы. Ды што мне цемень вечнай ночы…А что в русском варианте? «Затем, что сердце свет любило, на солнце загляделся я». Тут есть новый нюанс мысли, которого нет в оригинале, но как это неточно высказано по-русски! «Затем, что сердце свет любило»! И дальше:
На ощупь я пошел, но была Не в стыд мне слепота моя.Во-первых, «б́ыла» вместо «был́а» — удивительно не по-русски, во-вторых, слепота, которая «не в стыд», — не менее неуклюже и не менее не по-русски. В черновом наброске к оригиналу тоже было такое: «Не ў сорам слепата мая», но поэт отказался от этого!
Кажется, доказательства больше не нужны. Но чтоб читатель не подумал, что мы взяли исключительный случай, остановимся еще на стихотворении «Озеро» и на его русском варианте. Для удобства анализа сравним только две первые строфы:
Стаяў калісь тут бор стары, І жыў лясун у тым бары. Зрубілі бор, — лясун загінуў, Во след яго ад той пары: Сваё люстэрка ён пакінуў.Цитируем по-русски:
Тут рос густой, суровый бор, И леший жил; когда ж топор В бору раздался — леший сгинул И, уж невиданный с тех пор, Нам зеркальце свое покинул.И опять же, как и в случае с первым стихотворением, в белорусском варианте — выразительность интонации и выразительность рисунка. Завидный лаконизм формы. Энергичные и одновременно скромные строки напоминают зачин сказки или народного рассказа. В переводе уточнение «густой, суровый бор» кажется и ненужным, и вялым, и трафаретным. «Во след яго ад той пары» — тут ясно чувствуется и сам рассказчик, и его интонационный жест — опять же энергичный и выразительный. Следует обратить внимание и еще на одно обстоятельство: в каждой из трех первых строк белорусского стихотворения — новая мысль, которая последовательно вытекает из предыдущей. Строка метрически, интонационно совпадает с мыслью. Две же последние строки — две грани одной мысли или, точнее, здесь мысль и ее отражение. Это так же, как зеркало-озеро, отпечаток следа лешего.
Радостно все-таки иметь дело с Богдановичем-поэтом! Кажется, простенькое стихотворение, а присмотришься — какое мастерство! И мысль не мешает чувству, а чувство — мысли. Даже не хочется после этого возвращаться к другому лешему, к лешему, который
…невиданный с тех пор, Нам зеркальце свое покинул, —который почему-то «невиданный», вместо того, чтоб быть «неведомым» или еще каким-нибудь.
Нет, отлично мыслил и чувствовал по-белорусски Богданович! Интуиция художника преодолевала недостаточное знание языка, Богданович мог утвердиться только в нем. Вот где загадка и вот где чудо! Так что же, начнем разгадывать ее? Но сможем ли и нужно ли это? Ведь, в конце концов, разгадать загадку или тайну — значит наполовину лишить ее привлекательности.
Лучше удивимся этой загадке и этой тайне Богдановича.
ЕЩЕ И КРИТИК
Понимание значимости своей миссии — вот то, что постоянно жило в нем. Нет, он не строил из себя пророка, не мыслил себя ни центральной фигурой, ни учителем, ни пастырем, что указывает дорогу в светлое царство тем, кто по слабости духовной доверился ему. Просто он хорошо осознал, что его знания и его способности необходимы тут, в Белоруссии, на родине, мысль о которой он выпестовал в своем сердце вдалеке от нее. Слишком дорогой ценой заплатил он за свою мечту, слишком далекими путями шел он к родине, чтобы теперь, завоевав право быть белорусом, успокоиться на этом. Я достиг своего, пусть теперь другие сделают больше меня! Нет, так он не думал. Едва лишь утвердившись как поэт («декадент» — кое-кто говорил о нем), хозяйским взглядом оглядывает он еще неширокую полосу литературной нивы. То, что полоса неширокая, — это ему с его «околицы» виднее, чем другим. Но что ему делать? Постараться не замечать этого, чтоб не расхолаживать себя и других — тех, у кого веры, может, меньше, чем у него, а сомнений больше? Потом — ему же могут сказать: а кто ты такой, чтоб критиковать порядки в нашем доме? У нас хоть все бедное, но свое. Мы люди простые, к декадентским штучкам не привыкли… Ну и что ж, пусть говорят. Он, Богданович, невзирая ни на что, белорусский поэт — и этим все сказано. Он не станет обольщаться легкими победами — и он не хочет, чтоб ими обольщались другие. Столько работы впереди! Столько нерешенных задач! Трезвая оценка и вера. Только это теперь нужно. Меньше «местной» спеси, высокомерия, надо смелее смотреть вперед и чаще оглядываться назад.
В 1911 году Богданович пишет статью «Глыбы и слои. Обзор белорусской художественной литературы за 1910 г.».
Прежде всего для него важно установить, что в действительности литература имеет на своем счету на сегодняшний день. Намного ли она продвинулась вперед по сравнению с прошлыми годами? Богданович считает девятьсот десятый в определенной степени переломным. Он думает, что количественное накопление литературных произведений и литературных имен начинает наконец переходить в качество. «Одноцветная масса» писателей, в основном последователей Богушевича, тех, что исчезали почти бесследно после одного-двух произведений, начинает отслаиваться в «глыбы» — приходят писатели ярко очерченных индивидуальностей, а «всякий определившийся писатель хотя бы только из-за одного этого стоит на шаг впереди писателей-однодневок, привлекает их своей яркостью, как огонек мотыльков, и, привлекая, группирует вокруг себя, создает литературное направление». Богданович, не употребляя термин «профессиональная литература», в сущности говорит именно о ней, говорит о смене литературного любопытства литературой с определенным идейным и художественным направлением. Создание самостоятельных литературных ценностей — вот в чем он видит цель литературы, не единственную, понятно, цель, но одну из наиболее важных, потому что тогда можно выявить как возможности самого языка (тогда это было важно), так и способность самого народа к самобытной духовной жизни. Время, когда белорусская литература «не только своему народу, но и всемирной культуре понесет свой дар», — для него самое желанное. Правда, об этом он напишет только через три года в своем очередном обзоре.
Кое-кто может подумать, что Богданович недооценивал при этом социальной, общественной роли литературы. Действительно, он не делал в своих обзорах сильного акцента на этом ее назначении, но в этом и не было особенной нужды: социальные и общественные мотивы и без того были главными, чуть ли не единственными в раннем творчестве и Купалы, и Коласа, и многих других. Богданович говорил о том, о чем не говорили или забывали говорить другие. Выделяя из новой плеяды поэтов Купалу, отдавая должное его общественным устремлениям, увлечению «образом пропадающей Белоруссии», Богданович ждет от него, однако, большего художественного разнообразия, более широкого и органического выявления всех сложностей жизни. Вот почему он с удовлетворением отмечает, что талант Купалы растет, расширяет круг своих тем и «уже не причитает (или, точнее говоря, не только причитает), в его стихах ощущается уже смелость, жизненная сила и презрение». Через три года он говорит о Купале примерно то же самое: «С радостью видим, что талант Купалы развивается, появляются новые цели, новые способы творчества, новые формы и образы. Не только недоля нашей деревни и национальные дела Белорущины интересуют его. Уже и красота природы и краса любви нашли себе место в его произведениях».
Эта мысль, очень трезвая и своевременная, кажется Богдановичу настолько важной, что он возвращается к ней и в стихотворении:
Кінь вечны плач свой аб старонцы! Няўжо жа цёмнай ноччу ты Не бачыш, што глядзіцца сонца Ў люстэрка — месяц залаты.[3]Мы не преувеличиваем, но нужна была большая убежденность в благородном назначении искусства, большая к нему любовь, чтоб сказать это, ибо во все времена для человека по-настоящему честного, самостоятельного во взглядах, существует опасность быть непонятым и всегда есть опасность, что его назовут отсталым, если он не разделит со всеми чрезмерного, а потому порою и неискреннего, модного увлечения той или иной хорошей и полезной мыслью.
Смешно было бы доказывать благородство общественных устремлений Богдановича, а вот то, как он по-настоящему дорожил ими, как боялся всякого, даже неосознанного опошления их, подчеркнуть нелишне. И у Богдановича были веские основания для таких опасений. Те, кто раньше пел и плакал под Богушевича, вскоре начали «плакать» и «призывать» под Купалу и Коласа — и как раз в то время, когда и Купала и Колас будут решать новые (и решать по-своему) общественные и художественные задачи. А вспомните, каким жизненно важным станет вскоре после Октябрьской революции преодоление традиционных «нашенивских» канонов и мотивов, тех канонов и мотивов, тех стилистических и жанровых норм, которые к тому времени уже успели стать безотносительно литературными и даже эпигонскими.
Да, Богданович был прав. Ему нельзя отказать в широте и глубине взгляда на литературу. Временное, повседневное не заслоняло главного. Литература для него значила слишком много, вот почему он связывал общественную функцию литературы с самоопределением искусства как специфического рода человеческой деятельности. Литературе, которой за десятки лет надо было пройти путь, какой другие, более развитые литературы проходили в лучшем случае за столетие, ничто не могло повредить так, как односторонность художественных или общественных увлечений и симпатий. «У нас каждое направление может иметь свою ценность» — вот что говорит Богданович. Именно так, в связи со своеобразными задачами белорусской литературы, вытекающими из ее молодости, мы можем правильно понять Богдановича. При этом нам не надо бояться, что Богданович для кого-нибудь будет выглядеть чуть ли не поборником «чистого искусства», которым он, конечно, никогда не был. Понять своеобразие позиции Богдановича — наш долг. В конце концов, это и мера нашего уважения к нему. Вот почему нам не надо «прихорашивать» Богдановича, опасаясь, что его позиции поймут не так, как следует. О. Лойка, например, анализируя оценку поэтом сборника Купалы «Гусляр», останавливается на том месте, где Богданович пишет, что сборник «не выделяется особенной глубиной и необыкновенностью», что в нем часто перепеваются «старые общественные», «горьковские мотивы», чувствуются «отзвуки так называемого модернизма», и приходит к выводу:
«Строгий критик, он требовал не перепевов уже сыгравших свою общественную роль песен, а взлета новых, еще неслыханных, а потому еще более общественно значимых и наступательных».
«Защищая» Богдановича, О. Лойка словно не хочет понять нарочитого акцента его мысли. Он хочет
«защитить» и Богдановича, и Купалу одновременно, отмечая, что «вопрос со „старыми мотивами“ был значительно сложней, чем это показал в своем обзоре Богданович».
Хорошо, допустим, что это так, но и вопрос с Богдановичем значительно сложней, чем это показал О. Лойка. Богданович на самом деле не против «новых» общественных мотивов, но одних общественных мотивов ему, критику, мало. Когда он пишет о «смелости», присущей лучшим стихам сборника, то имеет в виду не только общественную смелость, но и смелость художественную, оригинальную разработку новых тем и мотивов. «Уже и красота природы и красота любви нашли себе место в его произведениях» — вот за что, как известно, хвалит Богданович Купалу в другом своем обзоре, рассматривая следующий сборник поэта — «Шляхам жыцця» («Дорогой жизни»). Богданович, как мы видим, последователен. Не замечать этого, не замечать акцента его мысли нельзя. А к чему она, эта мысль, сводится у О. Лойки? Если внимательно прочитать его, проникнуться логикой, получится, будто Богданович требовал какого-то простого подновления старых «общественных мотивов». Устарели они — подавай новые, «еще неслыханные», «еще более общественно значимые, наступательные». А те, «сыгравшие свою общественную роль», — в архив. Может, не то хотел сказать О. Лойка, но получилось именно так, и Богданович у него стал похожим на вульгарно-социологического критика.
Мысль Богдановича — важная мысль, она не потеряла своей значимости и в наши дни. И сегодня мы еще недостаточно заботимся о действенности искусства, о его жизненной полноте; мы забываем, что для искусства нет запрещенных тем, что воспитывает оно не простой иллюстрацией тех или иных мыслей и идей, а своим человековедческим пафосом и, в конце концов, своими поисками красоты, утверждая или отрицая при этом, — все равно.
Литература, несомненно, и воспитывает и учит, но, нам кажется, только тогда, когда остается литературой в органическом значении этого слова. Назначение литературы прежде всего — исследовать жизнь, исследовать сообразно своим, заложенным в ней законам.
Богданович в самом начале творческого пути понимал это. Он хотел, чтоб это поняли и другие. Он очень близко принимал к сердцу все проблемы нашей молодой литературы, очень хотел, чтоб с наибольшей полнотой для нации, для «всемирной культуры» шла она своим ускоренным, беспримерным шагом.
Вот почему Богданович учится сам и учит других. Творит и анализирует. Анализирует и творит. И постоянно держит руку на пульсе литературного процесса.
В ЗАВОЕВАННОМ ЦАРСТВЕ
Стихи, которые впервые по-настоящему обратили внимание на Богдановича как поэта, относятся к мифологическому циклу «В зачарованном царстве». Реакция на эти ранние произведения была довольно противоречивой — от принципиального их неприятия (тогда и было впервые высказано обвинение в «декадентстве») до безоговорочного, даже апологетического признания — понятно, в самой своей направленности полемического, противопоставленного другим, тоже крайним оценкам. Как ни странно, но и сегодня, желая отвести от поэта обвинения в декадентстве, мы ломаем свои критические копья именно над этими стихами, как бы повторяя ошибку тех первых критиков Богдановича, которым застили глаза эти его стихи и которым не хватало смелости быть последовательными до конца. Ибо тот, кто упорно хотел видеть в Богдановиче символиста и декадента, мог найти для своих тенденциозных выводов достаточно материала и в позднейших его, так называемых «классических» стихах. Но такова уж сила инерции!
Мы-то знаем, что Богданович никогда не был символистом, если рассматривать символизм не как сумму определенных формальных приемов и тем, а как мировоззрение, систему взглядов на искусство и мир, на человека в его общественной деятельности (последнее как раз символистов принципиально не интересовало). Символизм с самого начала настойчиво стремился утвердить себя не больше и не меньше, как мировоззрение. Валерий Брюсов, один из столпов символизма, писал после революции — уже в то время, когда от символизма остались одни лишь воспоминания:
«Символисты отказывались служить в литературе только практическим целям, хотели найти более широкое обоснование ей и обратились к выражению общих идей, равноценных (как казалось им) не одному какому-либо классу общества, но всему человечеству».
Что же касается формальных завоеваний символизма, то было бы просто неразумно их отрицать; и было бы просто непозволительно тому же Богдановичу не заимствовать кое-что у символистов и не постараться пересадить это на только что вспаханную белорусскую почву. В свое время нам уже доводилось писать, почему Богданович, при некотором внешнем сходстве с символистами, никогда символистом не был, да и быть не мог: у него, в отличие от символистов, была под ногами надежная почва — социальная и национальная, было понимание исторической перспективы, была мысль о служении родной литературе и родному народу.
Ну, а цикл «В зачарованном царстве»? Нужно ли снова повторять, что он не символистский и не декадентский? И не пора ли нам уже пойти немного дальше, взглянуть на него более конкретно?
Справедливо пишет о нашей критике О. Лойка:
«…стихи с мифологическими образами и сравнениями (она) рассматривала не в контексте всего цикла, а вырвав их из него. У Богдановича здесь — поэтизация встречи человека с миром природы, когда она властвовала над ним. Но ведь Богданович, раскрывая тему слияния человека с природой, рядом с этими стихами поставил другие, в которых показал, как человек уже поднялся над природой, почувствовал ее прелесть, сопоставив ее со своим общественным положением, и т. д.»
Наконец-то, наконец-то мы тронулись с места! О. Лойка, думается нам, в основном понял замысел Богдановича, или, точнее говоря, единство замысла. Уточняем потому, что, признавая принципиальную новизну взглядов О. Лойки, мы, однако, не можем согласиться с некоторыми его акцентами. Эти акценты мы легко выявим в приведенной цитате, к сожалению, единственной, которую нам придется использовать, ибо О. Лойка, высказав действительно интересную мысль, почему-то не позаботился о том, чтобы развить ее более конкретно и широко, а сразу же перешел в своем разговоре о Богдановиче к другой теме, хоть и интересной, но с циклом не связанной.
В своем творческом восхождении Богданович удивительно закономерен. Лешие, водяные, змеиные цари — сколько уже всем этим занималась этнография! Но Богданович не этнограф, он поэт. И этнографию он превращает в поэзию, делая закономерный качественный скачок вместе со всей молодой белорусской литературой. Казалось, что тут такого необыкновенного, и непонятно, почему это надо трактовать, как «декадентство», как отклонение от прямого пути? У Богдановича часто бывало так: он идет вместе со всеми, но в то же время или впереди, или немного сбоку. Заявит же он неожиданно в 1915 году, что «белорусских стихов у нас нет, есть только стихи на белорусском языке»! Заявит сразу после своего же признания, что наша литература за несколько десятилетий прошла путь, который так или иначе отразил все блуждания европейской художественной мысли на протяжении целого столетия. Парадокс? Возможно. Но разве парадокс — не одна из форм развития мысли, не одна, наконец, из форм развития и самой литературы?
Архаика и новизна переплетаются в этом цикле. Но архаика здесь загадочная и полемичная, в ней скорее всего чувствуется вызов. Богданович включает цикл в сборник «Венок». Тот «Венок», которому свойствен тщательный отбор. Тот «Венок», которому, как немногим сборникам в истории литературы, присуща строгая гармония, — он одно целое. И он симфоничен по построению. Циклы спорят между собой по жанрам, стилю, тематике, спорят во времени, в методах показа частного и целого и при этом дополняют друг друга, не сосуществуют, а живут общей жизнью.
Цикл «В зачарованном царстве» — одно из окошек этого целого. Окошко, через которое поэт взглянул на мир. Для Богдановича жизнь, мир никогда не существовали разорванными, ограниченными неким субъективным моментом. Для него не существовало «клочков жизни». Вот, кстати, еще одно из существенных отличий Богдановича от модернистов.
Мифология — только первый кирпичик в его постройке.
Адам Егорович — отец поэта — пишет «Пережитки древнего миросозерцания у белорусов». Для этнографа вера в нечистую силу — это и впрямь пережиток, раритет на фоне современной жизни. Этнограф соотносит это с сегодняшним днем, поэт — с тем, что некогда было целым. И воссоздает это целое в принадлежащем ему времени и по законам, которые были некогда присущи этому целому.
О. Лойка, думается нам, ошибался, когда писал о «поэтизации встречи человека с миром природы, когда она властвовала над ним». Дело в том, что у Богдановича в данном случае принципиально отсутствует более или менее обособленный человек, как того неизбежно требует «встреча».
Обратим внимание вот на что. Если обычно леший — это в некотором смысле творец и хранитель тайны, то у Богдановича леший даже не в состоянии подняться над тем, творцом и воплощением чего является он сам. Как и древний человек, который не в состоянии осмыслить созданное его фантазией.
Давайте посмотрим, как рисует поэт мифологические персонажи.
И леший, согнувшись понуро, Бредет по раздолью дорог. Обшарпана старая шкура И сломан о дерево рог. (Перевод П. Кобзаревского)Это леший из одного стихотворения. А вот из другого:
Все мрачно, космато и дико, Жара недвижимо стоит. Во мху, перевитом брусникой, Лесун одинокий лежит. Корявая сморщилась шкура, И мохом зарос он, как пень; Трясет головою понуро, Бока прогревая весь день. (Перевод П. Семынина)А водяной? Он дан в той же тональности, нарисован теми же красками. Он говорит сам о себе, и не просто говорит, а жалуется:
Сивоусый, сгорбленный, я залег под тиной. Много лет я греюсь так, сплю на дне реки, Весь травой опутанный, будто паутиной, Грудь мою засыпали желтые пески. (Перевод А. Прокофьева)«Понуро», «дико», «пустынно», «одиноко» — вот те слова, которыми поэт характеризует созданное им царство и его обитателей. Здесь веет унылостью и безнадежностью, и все эти водяные и лешие — не боги, даже не божки, а жертвы, изнемогающие под тяжестью того, что должны нести в себе и воплощать. Мысли, мысли, познания самих себя и через себя природы — вот чего им не хватает! И печаль их и уныние — все от того же. Это как бы мучительное предчувствие мысли, неопределенное желание ее и невозможность подняться до нее. И потому их судьба — какое-то страшное, трагическое бездействие, животное, в подлинном значении этого слова, существование. (Помните картину Врубеля «Пан»? Сумрак, кусты, а в кустах — обросший, седой Пан, чутко и бессмысленно к чему-то прислушивающийся. Сбоку таинственно и дико прорезается месяц. И такая тоска и печаль в глазах Пана, в которых вот-вот, кажется, отразится что-то осмысленное.)
Поэтизация встречи человека с природой, слияния с нею у Богдановича нет. А если есть у него поэтизация, то это поэтизация человека, которого хотят и не могут «провидеть» водяной или леший.
Значит, человек все же есть? Да, есть, но он у Богдановича не «персонаж». Человека, по сути, нет, есть только мысль о нем и, как ни парадоксально, это «мысль» самих «божков». Но зато как художественно впечатляет эта мысль!
Таким образом, ни поэтизации, ни слияния с природой нету, есть страх перед иррациональным, совсем не декадентский страх «рационалиста» Богдановича.
Своими мифологическими стихами он решает как бы двойную задачу: добирается фантазией до мрачного, хотя по-своему и поэтичного мира древнего язычества, и по-философски ставит и решает вопрос о «законности» и «благодатности» разума. Того разума, от которого отворачивались и над которым издевались декаденты (и разве они одни!). И если уж защищать Богдановича от декадентов, то защищать серьезно, на уровне его мыслей. Иначе нам придется «обелять» Богдановича, как это делает, к примеру, один из исследователей его творчества, — мол, леший подан у поэта на реалистическом фоне осеннего пейзажа и, мол, «поэт достигает полного слияния мифологического образа с основным реалистическим фоном». Ну еще бы! Ведь леший — это же сама природа!
Но хватит. Посмотрим лучше, куда идет мысль поэта, отталкиваясь от собственно мифологических стихов.
Богданович строит цикл на принципе постепенного восхождения от нижайшего к высочайшему, от хаоса к гармонии. А гармония, возможность ее подается через образ человека, но не через «божка», который, по сути, не выделяет себя из природы, — через человека, наделенного даром созерцания и, таким образом, выделенного этой своей способностью из окружающей природы. Проблему разума Богданович закономерно связывает с проблемой личности. Вот тут, на новом этапе, и начинается все то, что можно назвать встречей человека с природой, поэтизацией ее.
Переходное, по-своему центральное стихотворение в цикле — «Буря». Эта как бы мостик от хаоса к упорядоченному, так сказать, восприятию явлений природы современным человеком. Восприятию, упорядоченному именно созерцанием. Противопоставлены и сближены благодаря контрасту два взгляда на одно и то же явление.
Понурое чудовище слепое По шири неба вдаль лениво проплывает. Все стихло. Только вдруг пространство рассекает Мечом огнистым пламя голубое. Ударил меч — и грохот прокатился, Мерцает вновь клинок, удары не стихают, Холодной крови бьют ключи и вниз стекают… А люди говорят: «То дождь пролился». (Перевод Т. Казмичевой)Тут еще нет поэтизации, есть просто констатация разности восприятия. А может быть, депоэтизация «нормального» восприятия («А люди говорят: „То дождь пролился“»)? Но не будем спешить делать выводы. Ход мысли Богдановича на этом не кончается. Обратим внимание вот на что. Буря, гроза персонифицируются Богдановичем в трагическое по своей сути действие. Человек же этой трагедии не замечает. Она — вне сферы его восприятия. Человек лишил трагедию трагедийности и простым признанием — «дождь пролился» — упорядочил хаос, враждебный ему своей слепой бесцельностью, отсутствием какой-либо «моральной» оценки. Ибо «меч огнистый», из-под которого «холодной крови бьют ключи и вниз стекают», «сверкает весело». Ибо ветер (в другом безымянном стихотворении, идущем сразу вслед за «Бурей»), разметав тучи, которые «желали слиться», «над смертью их весело воет»…
Но, может быть, человек, отрицая «трагедийность» природы, тем самым теряет возможность сопереживать ей. Нет, Богданович, «рационалист» Богданович, так не думает. Человек, выделившись из природы, не теряет способности понимать и слышать ее, ощущать себя ее душой и мыслью. И при этом вовсе не обязательно, чтобы «настроение» природы совпадало с настроением человека, чтобы его духовный свет был простым отражением жизни природы.
В чаще темной и глубокой Плещет, пенится вино; Хмелем светлым и холодным Чуть колышется оно. И качается осока, И шумит высокий бор, И в душе не замолкает Струн веселых перебор. (Перевод Б. Иринина)«В чаще темной и глубокой плещет, пенится вино» — это поэтический образ озера. Это сама природа, эстетически осмысленная, это хаос, подчиненный и преобразованный приданной ему формой. Вот почему «светлый и холодный» хмель природы трансформируется в душе человека в «струн веселых перебор».
Свет природы имеет свое измерение, перспективу и объем, свой верх и низ. Он подвижен, как мысль, и одухотворен, как чувство.
Блестит на небе звезд посев; Посев в полях зазеленел. Меж ними, к речке полетев, Поднялся лунь, как призрак бел. (Перевод Б. Иринина)Человек стремится к слиянию с природой, но не к растворению в ней. Последнее невозможно, ведь человек прежде всего личность, он наделен определенной духовной автономией.
Вдруг одна слезой скатилась огневой, Прошумела мягко крыльями сова; Вижу я, с природой слившийся душой, Как дрожат от ветра звезды надо мной, Слышу, как в лугах растет трава. (Перевод А. Прокофьева)«С природой слившийся душой» человек не перестает слышать и видеть, не перестает анализировать свои ощущения. Но это не мешает ему испытывать удовлетворенность и радость от «слияния». Напротив, именно элемент осмысления и анализа придает его связи с природой высокий эстетический и духовный смысл. Так приобщается к природе человек, ощущая себя ее душой, ее мыслью.
Мы теперь видим, что ничего загадочного, экзотического, тем более декадентского нет в мифологических стихах Богдановича, которые вовсе не были для него самоцелью. Он был захвачен не просто поэзией язычества, а высказал на его основе и с его помощью весьма современные для того времени злободневные и глубокие мысли. Отнюдь не язычество было его идеалом, а гармонически развитая человеческая личность, наделенная способностью чутко воспринимать красоту в природе и мире.
МАДОННЫ
В анкете, посланной в свое время Адаму Егоровичу Комиссией Института белорусской культуры по литературному наследию Богдановича, был и такой пункт: «Отношение к девушкам». Отец написал:
«Я никогда не видел его в женском обществе, за исключением его двоюродных сестер. Думаю, что он никогда его и не искал. Он был слишком серьезным и чистым для фривольных связей и слишком честным, чтобы вводить кого-либо в заблуждение относительно серьезности своих намерений. А о женитьбе он, пожалуй, не думал, в связи со своей болезнью».
Что ж, фривольные связи — это и впрямь было не для Богдановича. И в женском обществе он тоже, по-видимому, бывал не часто. И надежды на личное семейное счастье, по причине все той же болезни, он тоже не имел, или, точнее, не хотел иметь. И все же, как натуру впечатлительную, наделенную исключительной эмоциональной памятью и несомненно артистичную, его не мог не привлекать к себе и не волновать постоянно образ женщины. Наверное, о «кружении» его сердца мы можем сегодня судить основательней и глубже, чем это делал Адам Егорович. Отец, например, упоминает, что во время первой поездки в Крым, живя на молочной ферме «Шалаш», Максим познакомился с молодой девушкой Китицыной, мистические настроения которой, возможно, произвели на него довольно сильное впечатление. Но их переписка, по мысли Адама Егоровича, не дает оснований говорить о серьезном увлечении. Правда, Адам Егорович оговаривает, что переписку он читал невнимательно и не настаивает, таким образом, на своей мысли. Как бы там ни было на самом деле, установить все это сейчас мы, пожалуй, не сможем — эти письма потеряны. Искать следы юношеского увлечения поэта, видимо, надо в его творчестве.
Отец высказывает предположение, что Китицыной посвящено стихотворение «Я больной и бескрылый поэт…» С ним можно согласиться. За это говорит как время написания стихотворения — 1909 год — как раз год поездки в Крым, так и воспоминание о привете, который «чудо принес». И вот «больной и бескрылый поэт на минуту забыл свое горе…» Стихотворение это написано, по всей видимости, после возвращения в Нижний Новгород. Оно написано на обороте фотокарточки, которая отчего-то не была отправлена адресату. Не будем гадать, по какой причине. Можно сказать одно: если и было у Богдановича какое-то чувство к Китицыной, то оно было гнетущим, трудным и подлинной радости ему не принесло. Общий тон стихотворения и его содержание свидетельствуют об этом. И не только это стихотворение. Безнадежность, мрачная и слегка даже экзальтированная акцентация близости конца («Может, стих моей жизни уж спет…») в другом стихотворении — «Темень», посвящение которого «М. А. Кит-ной» выразительно указывает адресата.
Я сижу без огня. Я устал и промок. Ночь лежит над землей. Мрак и в душу залег. Где же спасение, где? Тьму внезапно прорвал резкий молнии блеск, Осветил он Христа и распятия крест… Осветил все во мне, осветил все окрест.Как обреченно-мерно ковыляет строка, и уже кажется, что надежда на Христа-Спасителя убита в самом зародыше: это как бы порыв без желания, надежда без надежды на радость. И действительно, дальше поэт говорит:
Но к чему этот свет, лишь мелькнувший сейчас? Снова темень вокруг, он сверкнул и погас. На меня не глядят уже очи Христа. Ночь лежит над землей, а в душе — пустота. (Перевод П. Кобзаревского)Это — безысходность. Не безысходность вообще, а та безысходность, при которой душа изнемогает под тяжестью экзальтированно-мрачной, болезненной, но все же чужой мысли. Это как бы временная болезнь души. Ибо вот что еще привлекает наше внимание. Стихи, посвященные девушке, может быть, даже любимой девушке, не содержат в то же время ни единого слова о любви, о земной, чувственной близости двух душ. Пусть даже не так. Пусть даже любовь перенесена в другую, божественную сферу, пусть речь идет о любви «во Христе». Но где же тут «сорадование», торжественное и праздничное слияние двух родственных душ в «образе Христа»? Нет этого, не чувствуется оно!
Артистичной, впечатлительной душе Богдановича с ее постоянными порывами к гармонии и красоте («Красу і светласць, і прастор шукаў») были, понятно, чужды экзальтированно-мистические настроения его подруги, хоть нельзя отрицать и того, что на некоторое время он мог подпасть под их влияние и поверить в них, как в порождение своей же души. Но очень скоро с глаз его упала пелена. Богданович, который не соблазнился, как многие его современники-декаденты, мрачно-самобытной поэзией язычества во имя ее самой, Богданович, который отбросил обольстительно-сладкое подполье иррационализма ради просветленной живой мыслью и чувством жизни, этот Богданович не мог не отвернуться и от болезненно-губительной жертвенности ради «ясного образа Христа».
Песнь любви не удалась поэту с той, кому было посвящено стихотворение «Темень». Зато через несколько лет он напишет стихотворение «Первая любовь», которое будет посвящено уже другой.
Час поздний. Мрак весенней ночи. На узких улицах лежит. И мне отрадно. Блещут очи, Во мне от счастья кровь кипит. Иду я радостный, хороший, Душа счастливая горда… А под резиновой галошей Тихонько хлюпает вода. (Перевод А. Прокофьева)И все же почему-то не хочется думать, что та неведомая нам девушка Китицына навсегда ушла из души поэта, из его дум — вместе с мучительно противоречивым стихотворением «Темень»… Мне почему-то не хочется так думать. Есть у Богдановича чудесное стихотворение о звезде Венере, что светло взошла над землею, о последнем вечере перед расставанием, о воспоминании этого вечера «в далеком краю» — и есть в стихотворении прекрасные строки, в которых поэт просит любимую смотреть иногда на ту далекую звезду, — в расставании «взгляды сольем мы с лучами ее…» Изумительные строки, равные по силе воздействия, по своей высокой поэтической простоте, может быть, даже знаменитому лермонтовскому «И звезда с звездою говорит». И вот я думаю: кому отдать эти строки? Просто какой-то девушке, у которой нет даже фамилии и имени, о которой мы даже не знаем, где она жила — в Ярославле, в Вильно или в Минске? А может быть, считать эту девушку просто литературной выдумкой поэта, как Веронику из одноименного стихотворного повествования? Жаль, очень жаль оставлять эти строки без адресата. Хотелось, чтобы, как в случае с пушкинским «Я помню чудное мгновенье…», упоминалось имя женщины, и вовсе не следует думать, что она, эта женщина, обязательно должна быть достойна такого стихотворения. По правде сказать, так ли уж и Керн была достойна гениального стихотворения, так ли уж и Наталья Николаевна достойна замечательной пушкинской «Мадонны»? Есть поэзия, есть высокая мечта поэта о любви — и разве этого так уж мало?!
Я отдал бы этот «Романс» Богдановича так мало нам известной Китицыной. Пусть! Она остановила на себе внимание Богдановича. И его чувство к ней, видимо, нельзя назвать счастливой любовью, но кто сказал, что любовь обязательно должна быть счастливой? Я представляю, что беседы с нею увлекли поэта. Ее непохожесть на других, ее мистический порыв к неземному. И волновали ее страдания. Оба они были тяжело больны. Но он был сильнее ее — он был художником. И вот мне представляется: с годами ее образ в его сознании трансформировался и стал иным. С него был снят болезненный ореол, ибо сам Богданович давно пережил это болезненно-мистическое наваждение. Осталась печаль, осталось сожаление. И вот рождается это стихотворение. Оно рвется к небесам под торжественный хорал, в вечернем небе четко видна черная башня костела, а сбоку и чуть-чуть выше сияет, дрожит, переливается ранняя звезда. И как хорошо, как светло, как просветленно-печально там, в небе! И не в мистическом поднебесном царстве сливаются души «его» и «ее», — нет, мысли и чувства их светят яркой вечерней звездочкой над теплой вечерней землей…
Богдановичу не очень везло в любви. Сказав так, мы имеем право задуматься — почему? То, что он был достоин любви и сам, несомненно, был способен на сильное чувство, — доказывать не приходится. Сколько пылких сегодняшних поклонниц таланта Богдановича с радостью хотели бы вознаградить его за прежнюю несправедливость судьбы! Только Богдановичу сегодня этого не надо. Да и не уверены мы, что, если бы он появился сегодня, все не повторилось бы сначала…
Есть на то свои причины, но мы менее всего склонны обвинять в его сердечных драмах кого-либо другого, кроме него самого. Звучит это немного странно, но все же, видимо, это так.
Тут требуется пояснение.
Роман с Анютой Гапонович — одна из очередных его неудач. Мы мало знаем об этой Анюте, кое-что может подсказать, пожалуй, ее портрет. С него глядит на нас молоденькая девушка со светлыми, наивно-легкомысленными глазами, капризным очертанием губ и слабым, нервно-мягким подбородком. Воображение подсказывает образ одной из тех натур, в которых рано просыпается женственность, а наивность закономерно и странно уживается с эгоизмом.
Таким натурам хочется обеспеченной жизни. А жизнь сулит в кавалеры не очень перспективных, как выясняется впоследствии, чиновников или инженеров. Поэты, понятно, отвергаются с самого начала — какая уж жизнь с поэтом!.. И замужем едва ли не в любом случае они чувствуют себя несчастными…
Правда, это не единственный вариант судьбы так называемых «романтических» натур. Лермонтовский Печорин зло иронизирует над «романтиком» Грушницким, которому, по его мнению, уготована судьба «мирного помещика» со всеми неизбежными атрибутами сентиментально-пошлой жизни. Так и героиню романа Богдановича могла ждать тихая семейная пристань с тем же самым не очень перспективным чиновником или инженером, только тогда в ее глазах он был бы уже не самой заурядной непосредственностью, наподобие «мирного» Грушницкого, а человеком-ангелом, незаслуженно обиженным завистливыми людьми. И тогда наша героиня едва бы не молилась на него и на своих необыкновенно талантливых фемистоклюсов и алкидов, вздыхала бы и ахала, а муж в компании своих друзей пренебрежительно называл бы женщин «низшей расой», как чеховский Гуров, и изменял бы милой женушке при каждом удобном случае.
Ах, печально, печально все это, и что может привлекать к таким натурам поэта?
Странное дело: по мнению некоторых ученых мужей, великий Толстой делает непозволительную глупость, лишая романтического и поэтического ореола Наташу Ростову, заставляя ее в конце романа квохтать и трепетать над целым выводком детей, волноваться за них и за мужа. Странное дело: Томас Манн в своей известной новелле «Тонио Крегер» заставляет писателя, которого наделяет даже своими внешними чертами, до неправдоподобия остро завидовать прошлому счастью «его» и «ее» — бывших однокашников, друзей детства. Друга детства не соблазнил шиллеровский «Дон Карлос», которого ему так настойчиво подсовывал в свое время Тонио Крегер; ее же впоследствии не соблазнила даже писательская слава того же Тонио. Случайно встретив их на курорте, в маленьком городке, он, известный писатель, исподтишка подсматривает за ними во время пошлой и веселой вечеринки и завидует им — непрошеный гость на чужом пиру. Тонио Крегер говорит своей русской знакомой, художнице Елизавете Ивановне:
«Нет, нам, необычным людям, жизнь представляется не необычайностью, не призраком кровавого величия и дикой красоты, а извечной противоположностью искусству и духу; нормальное, добропорядочное, милое — жизнь во всей ее соблазнительной банальности — вот царство, по которому мы тоскуем. Поверьте, дорогая, тот не художник, кто только и мечтает, только и жаждет рафинированного, эксцентрического, демонического, кто не знает тоски по наивному, простодушному, живому, по малой толике дружбы, преданности, доверчивости, по человеческому счастью — тайной и острой тоски, Елизавета, по блаженству обыденности!»
Эту «тайную и острую тоску» знает каждая по-настоящему поэтичная натура, и дело тут не в болезненно-утонченном влечении к пошлости, как может кому-либо показаться, а в существовании художника как бы на грани двух миров — мира живой действительности и мира, созданного фантазией, организованного по законам искусства. «Тайная и острая тоска» — от того «состояния невесомости», в котором почти постоянно находится художник. Вот почему его так манят самые простые, подчас примитивные радости живой жизни. И вот почему прозорливец Бальзак, оставляя ночной мир своих поэтических грез, чувствовал себя беспомощным, как дитя; гениальный психолог, социолог, политик в своих произведениях, в повседневной жизни он иной раз рассуждает и совершает поступки на уровне какого-нибудь клерка. Он хочет самой обыкновенной человеческой ласки, женского внимания, и он недоумевает, почему те женщины, которые готовы чуть ли не на руках носить его как литератора, не могут понять его просто как обыкновенного человека. И как страдали от такого трагического разлада все Бальзаки и Гоголи, те Гоголи, что над наивной и смешной семейной идиллией Пульхерии Ивановны и Афанасия Ивановича грустили, как справедливо кто-то заметил, о возможности полноценного человеческого счастья, гармоничных отношений между людьми.
И кто знает, что пленяло Максима Богдановича в Анюте Гапонович: ее женственность, сочетавшаяся с молодым милым кокетством и, быть может, с чисто женским эгоизмом?.. Как ни странно, но и это довольно часто привлекает мужчин, наделенных высокой степенью духовности, той духовности, что так мало знает о чувственном, интуитивном эгоизме и потому иногда принимает его за признак оригинальности и даровитости натуры. А может быть, в ее взгляде, в чертах лица мелькнуло для него однажды то, что светится во взгляде и облике мадонн, созданных гениальными художниками в благодатный период итальянского Возрождения, — загадка женственности, что манит к себе и обещает, и… не поддается объяснению?
Загадка эта, безусловно, манила к себе и Богдановича. Не человек, а художник Богданович повинен в том, что был способен увидеть в Анюте Гапонович или еще в ком-то нечто такое, чего у них, возможно, и не было. Анюта Гапонович не виновата, что не поняла Богдановича: просто ей оказалось не под силу понять его.
Нас интересует не «вина» Анюты Гапонович, нас интересует «вина» Богдановича. Свою «вину» он искупил душевными страданиями, нашу земную вину перед ним мы можем искупить не иначе как любовью к нему и его высокому искусству, славившему жизнь во всех ее проявлениях.
Его цикл «Мадонны» — уникальнейший в нашей поэзии. И не только потому, что поэт попытался перенести в новую историческую действительность закрепленный определенной традицией образ, но и потому, что, как никто из современников, почувствовал ренессансные тенденции белорусской действительности. И вот что хорошо: его мадонны — белорусские мадонны. Для Пушкина в его «Маленьких трагедиях» познание драматической формы, быта, духа, характеров чужой нации было одной из важнейших задач. Пушкин целиком абстрагировался от своей национальной действительности. Богданович же мысль, выработанную чужой культурой, сделал целиком своей, белорусской. Его отличительная особенность была именно в том, что он как бы шел к национальному от общечеловеческого, а не наоборот. Этим, кстати, он отличался от Купалы, который и психологически, и способом своего художественного мышления целиком зависел от конкретно-национального материала. Нелишне будет в связи с этим сравнить выдающуюся поэму Купалы «Она и я» и цикл Богдановича «В зачарованном царстве». Роднит их определенным образом материал, но этот материал интересует каждого поэта по-разному. Богданович создает свой цикл именно на материале язычества, делая его лишь основой для утверждения гуманистической мысли о наивысшем счастье жить, мыслить и чувствовать. И хотя Богданович в своих выводах логичен и как бы идет от конкретного, несомненно, что этот материал психологически не имеет для него того значения, какое он имел для Купалы. Именно неприятие иррационального привело Богдановича в мир язычества и отнюдь не для того, чтобы опоэтизировать его. Материал у Богдановича освоен и организован в первую очередь мыслью, и только ею.
Купала в своей поэме тоже прославляет высокую радость бытия, но делает это путем слияния человека — его чувств, его быта — и природы в едином комплексе просветленно-языческого мироощущения, которое выступает у него и глубоко национальным, и в то же время общеславянским. У Купалы ощущение комплексное, у Богдановича — индивидуализированное; Купала в поэме и эпичен и монументален, Богданович же в своем цикле аналитичен в развитии мысли и симфоничен в художественном оформлении ее.
Но вернемся к циклу «Мадонны». Если «В зачарованном царстве» мир язычества контрастирует с миром современной поэту действительности, то в «Мадоннах» гармонично и мягко взят один мир — мир, говоря условно, «христианский», ибо не станем же мы отрицать, что идея Мадонны как олицетворение земной и, в этом смысле, божественной красоты есть идея возрожденческая, идея «христианская». Другое дело, что мадонна у Богдановича, как уже было сказано, всегда белорусская, поскольку и «христианская идея» давно уже стала и «белорусской» — в свете моральных определений, а теперь, после цикла Богдановича, приобрела и художественное значение.
Мадонна для Богдановича — это не просто олицетворение женской красоты. Женская красота приобретает для поэта смысл лишь тогда, когда она одухотворена и облагорожена святым назначением женщины-матери. Именно так читаются стихотворные рассказы «В деревне» и «Вероника», на которых виден отблеск далекого итальянского Возрождения. И всюду сквозь черты деревенской девушки и барышни Вероники проступает бессмертный образ Мадонны Рафаэля, о которой старший современник Пушкина и его учитель Жуковский писал так: «Сказывают, что Рафаэль, натянув свое полотно для этой картины, долго не знал, что на нем будет: вдохновение не приходило. Однажды он заснул с мыслью о Мадонне, и, верно, какой-нибудь ангел разбудил его. Он вскочил: она здесь, закричал он, указав на полотно, и начертил первый рисунок… На ее лице ничего не выражено, то есть, что на нем нет выражения понятного, имеющего определенное имя; но в нем находишь, в каком-то таинственном соединении все: спокойствие, чистоту, величие и даже чувство, уже перешедшее за границу земного, следовательно, мирное, постоянное, не могущее уже возмутить ясности душевной… Она не поддерживает младенца, но руки ее смиренно и свободно служат ему престолом… И он, как царь земли и неба, сидит на этом престоле».
На «кривой и узкой» деревенской улице поэт становится свидетелем того волнующего, высокого чувства, той душевной красоты, от которой и сам хорошеет душою. И не столь важно, что его мадонна — «девочка лет восьми», а ребенок — замурзанный деревенский мальчик, может быть, братик; мать, направляясь в поле, строго наказала дочке его нянчить. Важно не это, а вот что:
И как склоняется от ветра верх березки, Так девочка к нему нагнулась, чтобы слезки Подолом вытереть и словом приласкать, Чтоб успокоить плач — совсем как мать. И в символ для меня слились живой, единый С чертами матери — девичий образ дивный, Тот образ девочки… (Перевод М. Комиссаровой)Но дальше поэт пишет:
Не красота была, быть может, в бедной той, Смиренной девочке, и хилой, и худой, А что-то высшее, что Рафаэль великий Стремился воплотить в бессмертном женском лике.У девочки «и хилой, и худой» по-земному нет ничего красивого (да это и не красота — так говорит или, скорее, сомневается вслух поэт). Конечно, Богданович думал над тем, что так хорошо сформулировал современный русский поэт Николай Заболоцкий:
…что есть красота И почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, Или огонь, мерцающий в сосуде?Кстати, стихотворение, из которого взяты эти строки, называется «Некрасивая девочка». И у нее, у этой девочки, нет и в помине того, что в жизненной обыденности зовут красотой: «…рот длинен, зубки кривы, черты лица остры и некрасивы». Разница в том, что современный поэт осознает это как трагедию — и в своем отношении к ней, «бедной дурнушке» (она еще не догадывается об этой трагедии, но нам, читателям, делается от этого еще страшнее и еще более одиноко), и в своем отношении к самой красоте, ибо возможность трагедии «некрасивой девочки» — это болезненное поражение в человеческом мире все той же красоты высшего порядка.
Для Богдановича тут нет никакой трагедии. Не потому, что он не догадывается о ее возможности, а хотя бы просто потому, что не эта трагедия его интересует. Он знает другие трагедии и драмы, иную меру и иную трагедию красоты. Вероника из одноименного стихотворного рассказа — и привлекательна и молода, но здесь не это существенно. Правда, рассказчик признается ей в любви, с волненьем ждет ответа. Когда же случается ему встретиться с Вероникой и заговорить с нею, —
Она в лицо взглянула мне. Внезапно с губ ее сорвался Такой невинный, чистый смех, Что на него сердиться грех. (Перевод В. Державина)А сердиться, видимо, следовало бы. Вероника не отвечает ему взаимностью. Тут налицо как будто драма непонятого, отвергнутого чувства. Но заметим, что Богданович снимает саму возможность такой драмы. Почему?
Печаль девичий лоб покрыла, Как тень от облака нашла. Мне на плечо рука легла, И тихо, ласково спросила Чуть слышным шепотом она: «Вам больно? То моя вина?»Любовь разрушена, зато обретено право на иные, не менее благородные отношения. Драма снята человечностью, тем искренним, благородным сочувствием, которое не оскорбляет, не наносит обиды, а возвышает и ее и его.
А пред высокою красою, Пронизан, зачарован ею, Склонился я душой моею, Благоговеющей душою. А в сердце было так светло, В нем затаилося тепло.И снова мы не утверждаем, что Богданович ничего не знал об обычной, будничной драме любви и драме красоты. Он это знает очень хорошо, перед его внутренним взором постоянно встает образ той, что, переводя дословно, «со статью девочки сливала матери черты». Материнское чувство, комплекс мадонны — для него самый дорогой в женщине, высокое назначение которой — умиротворять губительные страсти, придавать им достойные человека направление и смысл. «Она — вымысел моей головы» — так переводится итальянский эпиграф к «Веронике». Ну и что ж, пусть будет вымысел, но это вымысел поэтический и высокий.
Богданович последователен: цикл «Мадонны» он дополняет циклом «Любовь и смерть», в котором снова славит женщину-мать, рассматривая ее уже не в идеально-романтическом ореоле, а в прозаически-жизненном. Женщина теперь «темному чувству подчинена», «беременная». При этом Богданович проявляет высшую моральную тактичность. Его пример лишний раз показывает, что у настоящего художника поэзия разлита повсюду: он ее находит и видит во всех проявлениях человеческой жизни, в том числе и тех, которые неизбежно станут пошлыми, натуралистическими и болезненно эротическими под пером криводушного и бездарного писаки. Ибо «нравственное отношение к изображаемому предмету», на котором так настаивал великий Толстой, — наипервейшее, по-видимому, требование к художественному таланту.
И «брачное ложе», и тревога, и радость молодой матери, почувствовавшей под своим сердцем ребенка, и чуть ли не мистический страх перед неизвестностью, и нечеловеческие страдания, в каких рождается новая жизнь, и… смерть — все это есть в цикле Богдановича, полном нежности, умиления, боли и истинного драматизма. Драма, как бы желает сказать поэт, это прежде всего драма материнства. В ней все: любовь и страдание, «грех» и искупление, жертва и подвиг.
Слава тем, кто, так страдая, Может с честью смерть принять, Кто в мученьях умирает, Чтобы жизнь ребенку дать! (Перевод А. Прокофьева)Драма материнства — драма жертвенности. «Материнское» это чувство Богданович хочет видеть и в искусстве. Но об этом поговорим отдельно.
ИСКРЫ ИЗ ХОЛОДНЫХ КАМНЕЙ
В славной плеяде наших классиков Богданович — фигура, может быть, самая сложная. И в то же время — самая простая по законченности, по ясности своей «писательской конструкции», — хочется добавить.
Дело в том, что по складу мышления, по творческому темпераменту, по способу трансформации мыслей и впечатлений Богданович — классик, как никто другой из наших классиков. Приблизительно и грубо говоря, представление о классическом связано, в первую очередь, не столько с признанием нормативности или иных эстетических явлений (классическими в этом смысле могут быть любые «измы»), сколько с характером отношений художника к действительности, с определением им роли искусства в жизни человека и общества, со способностью понимать искусство как социальное, культурное и национальное явление одновременно. После этого понятно, что явление классическое в полном смысле этого слова — явление редкое и требует для своего осуществления определенных как исторических и социальных, так и чисто литературных условий.
Мы уже писали, что белорусская литература, ввиду запоздалости своего развития, довольно своеобразно деформировала многие процессы, присущие становлению художественной мысли вообще. Не будучи в состоянии обойти определенные ранние традиции этой мысли, она синтезировала их с позднейшими, синтезировала одновременно, в короткий исторический промежуток времени, и подчас это было в творчестве даже одного художника. Мы до сих пор спорим, пытаясь определить, скажем, место Дунина-Марцинкевича в нашей литературе, стараемся отделить в его творчестве сентиментализм от романтизма, этнографизм от реализма — сколько школ, «направлений», влияний сошлось в нем одном! Или — о соотношении романтического и реалистического в творческом методе Купалы. Можно сказать, что мы не имели какого-то литературного направления, школы в «чистом» виде.
Становление реалистического метода в русской литературе целиком и непосредственно связывается с именем великого Пушкина, который, согласно известному определению, для русских — «начало всех начал». У нас, в наилучший момент нашего литературного развития, одновременно творили три выдающихся поэта, осуществлявшие, таким образом, между собой как бы «разделение труда». «В смысле чисто литературном это был наибольший выигрыш», — доводилось писать мне об этом (пусть читатель извинит самоцитирование). Богданович взял на себя то, что не могли взять Купала и Колас. Его задачей было возвести крышу над построенным ими зданием литературы и осуществить «привязку» этого здания на улице Всемирной литературы.
Богданович это осуществил.
Богданович нес в себе и Купалу и Коласа, гармонично, классически соединяя их; и в то же время он был сам по себе, он был Богдановичем.
О. Лойка в своей книге о поэте справедливо пишет о наиглавнейшей особенности Богдановича как лирика. Он указывает, что поэт как личность в лирике Богдановича начал проявляться значительно раньше, чем в творчестве Купалы или Коласа. У Богдановича высказаны по-другому взаимоотношения «народа и личности поэта». Мы можем понять это, учитывая хотя бы прежние наши утверждения, что Богданович к национальному шел от общечеловеческого. Тут выявилась его особая судьба как белорусского поэта и высокий интеллектуальный уровень его таланта вообще.
Следует понять вот еще что. Характер выявления личности в лирике Богдановича преимущественно аналитический. При этом социальный анализ сочетается у него с анализом морально-эстетическим. Богданович берет современного ему человека целиком, во всех доступных ему измерениях. Таким образом Богданович достигает гармоничности в показе явлений жизни, ибо выявляет классический тип отношений художника к действительности. Колас преимущественно эпик, Купала — лирик. У Богдановича ни одна из многочисленных граней его таланта не затмевает другую, и, несмотря на это, мы имеем художественно законченную творческую индивидуальность. Множественное, пестрое Богданович синтезировал именно классически.
Лучше понять поэта нам поможет «технология» его творчества, само отношение его к мастерству, определение им роли искусства в жизни человека и общества. Богданович был как раз в числе тех творцов, кто постоянно думает не только над «детскими вопросами» бытия — почему и зачем? — но и не может не думать о правомерности, «законности» или «незаконности» и самого художественного таланта, стараясь постичь его природу.
Творчество Богдановича дает богатый материал для выявления его взглядов на искусство. Становление новой белорусской литературы, в котором был так заинтересован поэт, неизбежно принуждало его обращаться к основным вопросам эстетики, считать разработку их неотложным делом. Надо заметить при этом, что тезис об общественном назначении искусства принимался Богдановичем сразу, он был как бы за пределами споров. Вот почему Богданович чаще всего обращает свое внимание на другие стороны проблемы, связанные с назначением искусства как специфического рода человеческой деятельности, как особой формы отражения действительности в сознании человека. И тут, принимая этот аспект, Богданович выразительно проводит тезис о первичности жизни по отношению к искусству. Только делает он это по-своему. Его интересует в первую очередь личность художника как средоточие поэтического сознания: поэзия для него — та духовная арена, на которой решается и осмысливается трагедия жизни.
И в самом процессе творчества Богданович прежде всего видит и выделяет трагическое начало. Искусство требует жертв — вот что хочет сказать Богданович. Поэт творит красоту, именно творит, а не бездумно берет ее из жизни и трансформирует в стихи, у жизни и у искусства свои формы, не всегда совпадающие. Вот почему жизнь часто может казаться поэту «грубой».
Если в раковину темную жемчужницы Попадет песчинка хоть одна, Перлом станет там со временем она. Если в душу западет мне и закружится Темный, грубый сколок бытия, В перл преобразит его душа моя. (Перевод В. Державина)Богданович не раз подчеркивает эту мысль. В жизни рождаются песни «тихие» и «темные, как уголь, черные», но опять-таки только чувство, только мысль способны поднять их на вершины мастерства, придать им эстетическую ценность, «высечь искры из грубых каменьев».
Но они заблещут жаром, если их в огне мученья Раскалит душа моя. (Перевод В. Державина)И тут начинает уже звучать мотив жертвенности искусства. В одном из стихотворений он высказан еще более определенно, более категорично. Это стихотворение о мотыльке, привлеченном огнем, — довольно прозрачный символ «искателя красоты».
Он ринулся в огонь без воли И смерть свою находит в нем. Свеча горит и тает. Льется За каплей капля, как роса, А мотылек уже не бьется: Тебе как жертва он, краса. (Перевод А. Прокофьева)Мысль Богдановича изящна в своей последовательности, но мы непозволительно обеднили бы ее, если бы нашли у Богдановича только это: читателю мы так или иначе дали бы возможность думать, что поэт видит в художнике некое подобие настойчивого и мрачного аскета, который в порыве высокомерной жертвенности уничтожает «кусочки грубой жизни», той жизни, над которой он сам вознесен искусством. Такая мысль у Богдановича в окончательном виде была бы нестерпимо рационалистической. И тот, кто хоть немного знаком с его творчеством, кто хоть однажды почувствовал дух его, не согласится с такой мыслью. И — справедливо!
Сила Богдановича как поэта и мыслителя в том, что он всегда остерегался однозначных решений, что вещи, явления он рассматривал всесторонне, в диалектической взаимообусловленности и противоречивости. Думаете, сам Богданович не чувствует, что вот так, в плане «олимпийской» роли искусства, можно толковать его слова о «грубости жизни» и о «жемчужных» россыпях поэзии? Очень даже чувствует, ибо, полемически обостряя и нарочито огрубляя свою мысль, отдавая ее своим возможным противникам как оружие против себя, пишет:
Вы мне говорите: душа у поэта, Когда он певучие строки слагает, Небесным огнем обогрета, И выше других он взлетает. Спасибо, спасибо, друзья дорогие; Душа моя, верно, счастливой была бы, Но знаю, что песни такие Красиво выводят и жабы. (Перевод А. Тарковского)Что хочет сказать этим Богданович? О. Лойка замечает: «И в этом признание творческого процесса таким же обыкновенным явлением, как кваканье лягушек». И потом делает заключение:
«Жизнь для Богдановича всегда была первичным явлением, искусство — вторичным. Красивое в жизни, красивая жизнь. Поэтому и сказал Богданович: „Песни такие красиво выводят и жабы“».
Понятно, что мы согласны с утверждением О. Лойки о «первичности» жизни и «вторичности» искусства и с тем, что красота — это жизнь. Но не это, совсем не это хотел сказать своими стихами Богданович, и уж вовсе не то, что исследователь именует «признанием творческого процесса таким же обыкновенным явлением, как кваканье лягушек». Как раз наоборот, думается нам, — Богданович хотел сказать, что творческий процесс — это совсем не то, что «кваканье лягушек». Просто нужно внимательно прочесть это его стихотворение и связать с другими стихами, посвященными мастерству. И тогда мы заметим интонацию, с какой Богданович говорит о «кваканье лягушек». Не приравнивает поэт «творческий процесс» к этому кваканью, а, напротив, оскорбляется самой возможностью такого сравнения; оскорбляется как художник, который смотрит на творчество, как на сознательный процесс, требующий огромной затраты чувств и мыслей. Ибо «кусок грубой жизни» превращается в жемчуг все той же силой осознанных чувств. Ибо песни засверкают лишь тогда, когда раскалятся «в огне мучений». Вот почему поэта так смущает и не дает ему покоя это неосознанное, инстинктивное, но приятное «кваканье лягушек». И дело, значит, не в абстрактном, созерцательном утверждении «красоты», «художественности» жизни, а в драматически осознанном творческом акте. Далекая, неотступная тень Сальери видится поэту и здесь. И здесь присутствует давнишняя мысль поэта о сознательном и подсознательном в творческом процессе. Снова и снова оскорбляется Богданович «гуляками праздными» и «птичками божьими» в искусстве. Снова его здоровый, «рационалистический» дух восстает против божественного наваждения и всякого рода мистики в творческом акте.
Ценность стихов Богдановича об искусстве не в декларациях, а в драматическом, глубоко человечном и как бы личном постижении природы прекрасного. Драматизм — как в жертвенности искусства, так и в неизбежности его соперничества с жизнью, с природой, с красивым песнопением «жаб». Драматизм еще и в том, что не всегда это соперничество заканчивается победой искусства. Богданович, как честный мыслитель и художник, не может не указать на возможность такого исхода. Он, например, так пишет о «серебряных цветах», которые вырастил на стекле мороз:
Не воротить, не разбудить Былого чувства им, Как мне вовек не оживить Его стихом своим. (Перевод В. Державина)Только не нужно откровенное и горькое признание поэта принимать за разочарование в возможностях искусства вообще.
Неосознанному, интуитивному творчеству природы человек-творец должен противопоставить сознательное начало. Так хорошо известные его слова о «не внезапности» в творчестве, о «спокойной мысли», о метеоре, который чертит в небе блестящую дугу, а «в глубине холодным остается», так хорошо известный его культ мастерства — это не только его индивидуально-творческое кредо. Это еще и результат философского постижения им коренных проблем художественной эстетики.
Богданович-теоретик и Богданович-поэт идут всегда рядом, рука об руку. Ему, требовательному мастеру, кажется, что степень мастерства того или иного произведения может быть установлена с помощью соответствующим образом разработанной математической шкалы. Мы не знаем точно, какой конкретный принцип хотел положить Богданович в основу этой шкалы: мысль поэта передается его современниками довольно упрощенно. Может быть, отчасти потому, что в тот «идеалистический» период нашей литературы, на том уровне литературной теории этот математический принцип Богдановича в приложении к искусству выглядел просто чудачеством.
Вспомним, что примерно в это же время Брюсов с полемическим задором пропагандировал идеи так называемой «научной поэзии», основателем которой считался Рене Гиль, пропагандировал, впрочем, не очень успешно, ибо эта школа даже на родине ее творца, во Франции, не имела большого числа сторонников. Вспоминая о «научной поэзии», мы никоим образом не хотим поставить поиски Богдановича в зависимость от нее. Это совсем разные вещи. Там были поиски поэтов в области материала самой поэзии, у Богдановича же — поиски в области науки о стихе. Говоря языком современного литературоведения и лингвистики, Богданович приближался к структуральному анализу художественной системы стиха — к тому анализу, который невозможен без применения математических методов описания и анализа. То, что некогда могло казаться чудачеством, сегодня стало нормой в литературоведческой теории.
Справедливо думать, что центр различных эстетических поисков лежит в решении кардинального вопроса эстетики — отношении искусства к жизни. Только непростительно ограничивать мысль Богдановича одним признанием эстетической пригодности этой жизни (мол, красивое — в жизни, красивая — жизнь). Для Богдановича это само собой разумеется, поэтому, кстати, он не особенно и акцентировал свою мысль на таком довольно общем решении вопроса, на решении, которое удовлетворило бы и «чистого» философа, но только не философа-художника, каким был Богданович. Красивое в своей жизненной функции — вот что постоянно тревожит поэта. Чем должно быть искусство — средством или целью? Если средством, то должен ли поэт целиком зависеть от потребителя? Если целью, то кто может быть судьей поэта? Богданович решительно стоит за самоопределение искусства — не в смысле его оторванности от жизни и самоцельности, а в смысле признания своеобразия его роли в жизни человека. Чтобы быть полезным, искусство должно отвечать определенным эстетическим нормам, но вот беда: эти нормы не всегда, как мы знаем, совпадают с нормами живой, опосредствованной жизни. Вот почему поэт не застрахован от несправедливого суда, вот почему он может сомневаться в своем назначении как художника вообще. Нужно ли кому-нибудь его искусство? Достоевский как-то писал:
«Даже у Пушкина была эта черта: великий поэт не однажды стыдился того, что он только поэт. Может быть, эта черта встречается и у других народностей, однако навряд ли. Навряд ли, по крайней мере, в такой степени, как у нас. Там от давнишней привычки к делу всех и каждого успели рассортироваться занятия и значения людей, и почти каждый там знает, понимает и уважает себя — и в своем занятии, и в своем значении. У нас же… немного иначе. Затаенное, глубокое внутреннее неуважение к себе не минует даже таких людей, как Пушкин и Грановский».
Припоминаете, что это чем-то сродни мысли Чернышевского о «разделении труда» в обществе, о том, что в молодом обществе литература не может быть только литературой. Пушкину стыдно, что он «только поэт», хотя, как известно, «только поэтом» он не был. Хотя он и заявлял, что поэт рожден не для «житейского волненья, не для корысти, не для битв», — но это было понятной реакцией на те уродливые формы зависимости поэта от общества, какие часто вырабатывает жизнь. И Богдановичу было стыдно, что он поэт. В «Апокрифе» музыкант говорит Христу: «…стыдно мне, ибо сегодня трудовой день, и все хлопочут вокруг него, один я никчемный человек». И Богданович, как и Пушкин, в иные минуты горячо и страстно обороняет свое право на звание художника. Христос отвечает музыканту:
«Ибо нет правды в том, кто говорит, что ты — лишний на земле. Истинно говорю я тебе: вот подойдет к нему (к крестьянину. — М. С.) час горечи — и чем он развеет свою печаль, кроме твоей песни? Так же и в день радости он призовет тебя».
А вот еще какие слова есть в том же «Апокрифе»:
«Я же — говорю вам: хорошо быть колосом; но счастлив тот, кому довелось быть васильком… Ибо зачем колосья, если нет васильков?»
Василек и колосья, красивое и полезное, взращены на одной ниве. Таков выстраданный, а потому и простой вывод Богдановича.
«Родиной василька» назовет Богданович свой край — Белоруссию. Он хотел сказать, что это та земля, которая родит многих и многих поэтов.
ОШИБАЛСЯ ЛИ БОГДАНОВИЧ?
Вот еще одна из его загадок.
Мы знаем, что уже в статье «Забытый путь», написанной в 1915 году, он неожиданно заявит:
«Белорусских стихов у нас еще не было, — были лишь стихи, написанные белорусским языком».
Утверждение, мягко говоря, категоричное. Некоторую долю преувеличения Богданович, понятно, мог допустить, но мысль его настолько явна и так она пронизывает всю статью, что не считаться с нею невозможно.
Мысль эта пугает своей остротой даже сегодня. Интересно, какая реакция была бы на нее в годы Богдановича, если бы статья была опубликована — помешали, вероятно, тяжелые обстоятельства первой мировой войны, отсутствие печатных органов или что-нибудь другое… Как бы то ни было, статья увидела свет только в 1918 году, после смерти поэта, — в качестве иллюстрации к некоторым стихам так называемого «белорусского склада». И то, что публикация неизбежно носила мемориальный характер, и то, что Беларусь вступала в новую историческую полосу своего развития и многое изменялось под напором нового, — скорее всего, надо думать, приглушило высокую страстность статьи Богдановича, которая до самого последнего времени и вспоминалась нечасто и почти не цитировалась. Стихи Богдановича «белорусского склада» входили во все его посмертные издания, жили сами по себе, а статья жила, пожалуй, лишь в памяти исследователей творчества поэта, ожидая своей интерпретации в тесной связи с теми же стихами.
Категоричность поставленного Богдановичем вопроса потребовала ясности в ответе на него. Были у нас белорусские стихи или нет? Преувеличивал ли Богданович в своем утверждении, или он имел в виду вовсе не то, что согласно формальной логике, вытекает из его статьи?
Одну из первых попыток объяснить позицию Богдановича предпринял О. Лойка. Мы часто обращались к его книге, часто полемизировали с нею, и не потому, что автор исказил какие-нибудь истины, ставшие бесспорными, или слишком субъективно осветил творчество поэта. Книга О. Лойки о Богдановиче — серьезный и фундаментальный труд. Именно потому, что исследователю пришлось рассматривать многие аспекты творчества нашего великого национального поэта чуть ли не впервые, он, естественно, не мог уберечься и от некоторых ошибок. Так что же — ошибался или не ошибался Богданович в своих поисках «белорусского склада»? О. Лойка отвечает ясно: да, «ошибался искренне». Как О. Лойка аргументирует свое утверждение? Он говорит, что все началось с поисков Богдановичем «оригинального вклада в мировую поэзию»; что Богдановичу будто бы
«пришло в голову искать это оригинальное за пределами всего того, что писал сам поэт ранее, что писали до 1915 года Купала, Колас, Тетка, их предшественник Богушевич и др.».
«Поиски „чисто“ белорусского, — пишет О. Лойка, — поэт начал, не учитывая того, что не может быть национальной поэзии вне опыта общечеловеческого».
Скажем сразу: нам кажется немного странным такое утверждение исследователя.
«Путь любой поэзии — в органическом творческом единстве традиций национальных и общечеловеческих».
Это бесспорно, с этим мы согласны, как говорят, на все сто процентов. Но разве можно думать, что с этим не согласился бы сам Богданович? Тот Богданович, для которого опыт мировой поэзии всегда был одним из наиглавнейших источников обогащения национального искусства, — ведь здесь как раз и была та основная и первая мысль, с какой он пришел в белорусскую поэзию. Отделять национальное от общечеловеческого и наоборот Богданович никак не мог. Допустить, что Богданович в 1915 году отказался не только от своей главной мысли, но и от того, что им было создано, мы тоже не можем. Хорошо, допустим даже, что он мог безжалостно отнестись к себе, к своему творчеству и даже целиком зачеркнуть его. Но творчество тех же «Купалы, Коласа, Тетки, их предшественника Богушевича и др.» так просто перечеркнуть он не мог. Это было бы слишком для него наивно, слишком по-детски: нет меня, пусть не будет и вас!
Нет, тут что-то не так. В Ялте, тяжелобольной, будучи уже при смерти, Богданович находит утешение в том, что есть у него книжка «из типографии пана Мартина Кухты», знаменитый «Венок», в который густо вплетены наряду с васильками цветы с чужих полей; «Венок», в котором общечеловеческое и национальное предстает в неразрывном гармоничном и органическом единстве.
Нет, не отрекается от своего творчества Богданович! Разгадку мы должны искать в другом.
Кстати, О. Лойка, переходя к конкретному рассмотрению стихов «белорусского склада», как бы забывает об «ошибке» Богдановича и довольно убедительно связывает эти произведения с поисками поэтом эпоса, правда, оговариваясь, что мы имеем здесь дело со стилизацией под фольклор. Стилизация — это упрек Богдановичу, так как исследователь хотел бы видеть его эпиком иного, конкретно-объективного плана, наподобие того, каким показал себя Колас, создавая «Новую землю». По мысли О. Лойки, «в начале XX века оставалась насущно важной задача дальнейшего раскрытия бытовой сферы жизни, раскрытия, которое сочеталось бы с исследованием духовного склада народа и всесторонним показом действительности на уровне достижений самых развитых литератур мира». Богданович, согласно О. Лойке, не делает этого, так как ошибается, и потому становится на все тот же путь стилизации.
Можно согласиться с О. Лойкой вот в чем. Стихи «белорусского склада» действительно попытка эпического осмысления жизни. Но — это не подступ к эпосу, как склонен думать О. Лойка, а нечто самостоятельное, цельное, ясное по своей концепции, задачам и жанру.
Но пока еще несколько слов о самой статье.
Очень важно помнить о времени, когда она была написана, так как именно со временем связывал свои выводы Богданович, полемически заострял их. Он как раз начинает эту статью с обрисовки исторической ситуации. Богданович пишет:
«Тяжелый удар приняла на себя наша страна: на ее просторах сошлись миллионные армии, гремят сражения, все уничтожается, хозяйство гибнет, и не тысячи, сотни тысяч людей должны оставлять свои места и идти по неизмеренным дорогам дальше, а куда — неизвестно; идти, не находя убежища, не имея корки хлеба, умирая от голода и эпидемий, не зная, что предпринять, что придумать».
Богданович пишет об ужасах первой империалистической войны, и накал большой народной трагедии, тревоги за судьбы своей страны, через которую так часто пролегали крестовые дороги истории, ощущается в этих его словах. И как бы предчувствие будущих больших катастроф сокрыто в них.
«И мы, белорусская интеллигенция, будем спасать их (земляков. — М. С.), как спасали и до сих пор, будем спасать в своей стране и на чужбине, вспоминая в эти грозные времена обещания, которые в сердце своем давал каждый из нас: силы свои жертвовать родному краю».
Вот в какое время и вот с какими мыслями приступает Богданович к разговору «об одном очень большом недостатке в белорусской поэзии». И вот почему этот «недостаток» кажется ему таким большим — поэт волнуется за судьбы всего «белорусского». Можно понять Богдановича: в мирные времена могла и должна была развиваться литература, могли и должны были вестись профессиональные споры на пользу этой литературе, которая была преимущественно делом и заботой интеллигентов. Война, неслыханная трагедия, возможность «неслыханных перемен» и «невиданных мятежей» все разрушили и все изменили. Богданович опасается, что литература, в том виде, в каком она существовала, тогда не сможет принести существенную пользу народу, что между ней и народом разверзнется бездна. Вот почему он видит спасение в стихах «белорусского склада»; вот почему он в сущности ставит вопрос о народной культуре, ступенью к которой хочет видеть возведенный средствами литературы народный эпос. Героический эпос, добавим мы.
Богданович чутко, как никто другой, воспринял новый социальный заказ и откликнулся на него; он почувствовал, что история скоро напишет самые героические страницы, что впереди новый подъем национального самосознания.
Когда в начале XIX века в Чехии вместе с появлением национальной буржуазии начался стремительный процесс развития самобытных форм жизни, наперекор тем, кто в культуре и общественной жизни был сторонником и проводником германизации, возникла потребность в народном героическом эпосе — этом неизменном паспорте нации; и тогда студент Пражского университета Иосиф Линда нашел на лубках старинной книги стихотворный отрывок из 32 строк. Этого оказалось достаточным, чтобы началась «цепная реакция», которая привела к созданию в короткий срок национального героического эпоса — вскоре он уже насчитывал тысячу стихотворных строк. И не так было важно, что даже первоначальные 32 строки не оказались столь уж древними, что Вячеслав Ганка, который вслед за Линдой опубликовал несколько героических поэм, просто-напросто подделал тексты этих поэм — дело было сделано, «эпос» сослужил свою службу.
Богданович был художником, и прятаться ему не было оснований. Он верил в начатое им дело и не сомневался в осуществлении его. Народное — это основа, это «дух» и «особый склад». Не повторять народ, а взять у него лучшее и придать этому лучшему формы, отвечающие народному духу и складу. Дать энциклопедию народных, самобытно-национальных представлений о мире. И таким образом приобщить народ к культуре, вернуть ему у него же взятое.
Богданович блестяще справился со своей задачей. «Максим и Магдалена», «Мушка-зеленушка и комарик-носатик», «Стратим-Лебедь», «Как Базиль в походе умирал», «Скирпуся», не переставая быть оригинальными творениями гения Богдановича, несут в себе все приметы фольклорного мышления, в очищенном, сконденсированном виде выявляют наибольшую эстетическую и этическую ценность народных взглядов, выработанных на протяжении столетий.
Не следует думать, что путь, на который направлял Богданович поэзию, предназначался ей только в одном этом народном русле, и тем более на все времена. Сам же он предупреждал:
«Стараясь сделать не только языком, но и духом, и складом произведения неподдельно белорусскими, мы совершили бы тяжкую ошибку, если бы оставили ту выучку, что нам давала мировая (чаще всего европейская) поэзия. Эта последняя работа должна идти полным ходом».
«Ошибка» Богдановича была в том, что он хотел исправить «ошибку» самой истории, которая не дала возможности нашему народу создать в свое время «Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах» или «Калевалу». «Ошибка» Богдановича в том, что он некоторым образом повторил «ошибку» Пушкина, после «Евгения Онегина» и «Бориса Годунова» давшего цикл знаменитых своих сказок и переложившего на русский язык «Песни западных славян». Песни эти, кстати сказать, являются талантливой подделкой Мериме, который, надо полагать, знал, кто и где испытывал потребность в эпосе.
У «ошибки» Богдановича, таким образом, довольно давняя история.
Незадолго до смерти Н. Заболоцкий работал над статьей, в которой высказывал мысль о необходимости по-литературному систематизировать все богатство русских былин, придав им сюжетную целостность и стройность, отбросив все второстепенное, случайное, несущественное.
«Однако необходимость композиции, — пишет он, — неизбежно заставит отбросить некоторые третьестепенные сюжеты или приписать некоторые действия другим героям. Этим не следует смущаться».
Н. Заболоцкий сделал чудесный стихотворный пересказ «Слова о полку Игореве». Такую же работу проделал на белорусском языке Янка Купала. Между прочим, интерес Богдановича к народному эпосу и его формам был творчески понят Купалой, который написал свою «Бондаровну», руководствуясь именно теми принципами, что исповедовал Богданович. К новым формам конкретно-революционного эпоса Купала шел дорогой Богдановича. Миновать ее было трудно. Это еще раз доказывает справедливость устремления нашего критика и поэта.
АПОЛОГИЯ
Все это хорошо, скажут нам, но уж больно подозрительно наше стремление сделать Богдановича человеком, который никогда не знал творческих поражений и тем более никогда не ошибался. Богданович — выдающийся поэт, может быть, даже гений, но означает ли это, что он был застрахован от ошибок и неудач?
Нет, не означает, ответим мы.
Богданович, несомненно, как и все, знал и горечь творческих поражений, и мучительные болезни роста, а прославленная музыкальность и гармоничность стиха дались ему дорогой ценой: он творил, учась языку, и изучал язык, творя. Он же был и создателем литературного языка — в такой же степени, как Купала и Колас. И вместе с тем он, как и его соратники, во многом сегодня теряет из-за той же неразработанности тогдашнего литературного языка. Об этом однажды справедливо писал Янка Брыль. И «рационализм» Богдановича, его установка на «спокойную мысль» губительно отразились на некоторых стихотворениях. Но что значат все эти огрехи по сравнению с живой, подвижной, бесконечно разнообразной материей его стиха, с тем высшим, просветленным чувством и гармонией мысли, что властвуют в мире его поэзии! Ошибки? У Богдановича их, ей-богу, даже меньше, чем ему приписывалось. Мы уже знаем, каким он был «декадентом», знаем, каким он был «поэтом чистой красоты».
Богдановича всегда хотели поставить словно бы в стороне от главного направления литературы, от ее основного потока. И вот это-то и было ошибкой, только, понятно, не Богдановича. Более центральной фигуры, чем Богданович, у нас не было. По широте непосредственного творческого освоения национальной действительности он, может быть, не уступает, например, Купале, но чем заменить нам то, что сделал Богданович как критик и теоретик литературы, как экспериментатор и переводчик, вообще как просветитель в самом высоком значении этого слова? И даже сделанное Купалой и Коласом как поэтами, не обозначилось бы так сегодня в своих контурах и границах, если бы рядом с ними не было Богдановича с его способностью одним штрихом отметить и назвать то, на что у других уходили циклы и поэмы. Богданович как никто умел закрывать одни темы и открывать другие. Его постоянный лаконизм, способность видеть явления целиком, в художественной и социальной перспективе, — великое завоевание нашей литературы и его завещание ей.
Богданович рядом с Купалой и Коласом — то третье измерение, без которого немыслима перспектива. С Богдановичем нам стало видно далеко во все стороны света.
И такая ранняя смерть! Если бы он прожил дольше, кто знает, чем могли бы мы быть сегодня, труд скольких людей мог бы содеять он один — спокойно, с ясной головой и искренним сердцем. Где были бы сегодня его взмыленные, вздыбленные над родной стороной кони?
Его нет — летит его «Погоня».
Нет читателей у «Молодого месяца», «Апреля», «Шиповника», «Перстня» — всех тех сборников, которые поэт намеревался написать. Он их не написал. Остался один «Венок». Не старайтесь вплести туда новые цветы: те, что там есть, никогда не завянут. Сплетайте свои венки. Не старайтесь оторвать хоть один листочек от тех лавров: прежде чем стать собою, они были терниями. Посмотрите лучше вокруг себя: цветет жито, и красуются в нем васильки. Бурлит жизнь, и рождается в ней красота. Живет поэзия. И вечно светит нам и пленяет своей загадкой.
…В далекой Ялте на могиле Богдановича цветут ирисы.
Послесловие Вяч. Иващенко ПРЕДЧУВСТВИЕ РАДОСТИ
«Боюсь, чтобы то, о чем хотел рассказать, не приглушилось незаметно, а то и вовсе не потерялось бы там, в словесах, а оно — почти несказанное — самое важное для меня. Зачем же я тогда вспоминаю и зачем пишу? Мне просто подумалось, что, может, все же обретет напоследок какую-то логику эта попытка рассказать. Посмотрим…»
Так мучается словом автор рассказа «Смаление вепря».
Такое же чувство смутной надежды и одновременно боязнь не вместить в писаную строку то, что рождает в тебе слово прозаика, должен, думается мне, испытывать и критик, всерьез подступающий к творчеству Михася Стрельцова, чьи произведения глубоки, содержательны, проблемны и современны.
Но… Сразу же воздав предмету своей статьи столь много — не окажем ли мы Стрельцову услугу медвежью: ну, кто же не считает себя и глубоким и содержательным, а ну, как возревнуют, как одернут зарвавшегося критика, заодно зацепив интеллигентными когтями и не претендующего на такое «внимание» писателя? Не лучше ли, не надежнее ли оговориться: «один из», «представитель» и т. п.? Тогда выстраивается привычная цепочка имен, каждое из которых действительно заслуживает всяческого уважения (писательское поколение, к которому принадлежит Стрельцов, дало литературе дюжину отличных прозаиков и поэтов!), цепочка, в которой — уж такова прихоть критика — выбрал он данное имя. И не более того. Все тихо и благопристойно.
Но ведь у нас и нет намерения нарушать благопристойность, противопоставляя одного писателя целому ряду его друзей и коллег. Речь идет не о масштабах таланта, не о том, сколько — пуд или килограмм — этого божьего дара отпущено человеку, а лишь об особенностях, о тех его, таланта, гранях, что именно и отделяют одно от другого писательские имена, не дают им слиться пусть и в добротную, но аморфно-добротную массу. Литература не есть сумма дарований, а творческое соседство индивидуальностей.
…Михась Стрельцов един во многих лицах: прозаик, критик, эссеист, наконец — поэт. Вернее, поэт и в критике и в прозе. Это первая его особенность, определяющая и стиль мышления, и манеру письма. Она проявилась уже в первых рассказах Стрельцова, в сборнике «Голубой ветер». Но, пожалуй, нигде так явственно, так очевидно, как в том рассказе, с цитирования которого мы начали наш разговор о Михасе Стрельцове.
«Смаление вепря» и композиционно напоминает стихотворение: отдельные фрагменты этого произведения обрамляют своего рода «мысли-рифмы», собирающие эту философскую поэму воедино, подчеркивающие связь и перекличку мотивов, тезисов, ощущений.
Начинается рассказ картиной осени, когда пахнет картофельной ботвой и капустным листом, когда обнажается конструкция застывших лесов, а воздух трезв и густ — ничего лишнего в природе, все видно насквозь и вдаль. И кончается рассказ тем: «наступают холода, схватывают землю заморозки — опадают долу инеем сырые туманы». И сквозь горьковатую прозрачность этой картины проступают заключительные слова автора о той надежде, что жива, несмотря на утраты осени и зимы, надежде, которой жив каждый, кто берет в руки перо.
«О, наш брат, сочинитель, ко всему бывает еще и немного суеверным. Наивный, он хочет переспорить реальность, он хочет верить: я уберегся от беды — ибо сказал. Добро и надежда очертили здесь свой круг».
В словах о надежде и добре — весь писатель и весь герой его. Пожалуй, все творчество Михася Стрельцова — и эссе его о Максиме Богдановиче, и его проза и стихи — один нескончаемый разговор о надежде и добре, что живут в человеке, что не должны умереть в нем, затеряться, погаснуть.
Герой молодого Стрельцова вошел в литературу с молодым предвкушением радости. Позднее Стрельцов расскажет об этих годах своего героя так: он
«безрассудно и смело ринулся в жизнь и не берег себя, щедро беря от людей и так же чистосердечно отдавая им свое. Да и что было беречь! Ему казалось, что не может быть на свете человека, который, узнавши, не полюбил бы его…»
С чистым сердцем вошел Стрельцов в мир, призывая всех порадоваться с ним вместе его открытию красоты, свежести, многоцветья. Голубые ветра ласкали его.
Он не был похож на своих коллег, которые сразу же стали взрывать пласты проблем, отыскивая, нащупывая где-то в глубинах жизни свою тему. Стрельцов, казалось, просто пел, пел открыто и радостно. Герою его розово и ровно светило солнце, звонкая и веселая, как лесной ручей, расплескивала свои песенки лесная птаха, и был он уверен — «когда станет весенней душа — народится радость». Герой жил ожиданием весны, и даже воспоминания о промелькнувшей и неузнанной первой любви не очень тревожили и беспокоили его:
«Дурной ты пень, — сказал он себе, — ничего еще не потеряно, все у тебя впереди. А ты в каком-то миноре… И грусти уже не было»
(рассказ «Дома»).Прошли годы, и поприбавилось грусти и раздумий у героя Михася Стрельцова. Нудный затяжной дождик встречал его в родных полях, и становилось ему зябко и неуютно, и казалось даже, что «вместе с дождем оседает ему на лицо, разъедает легкие ядовитая радиоактивная пыль». И молчали темные окна в редких деревнях по пути, а в одном, освещенном, стоял и маялся горем своим потерявший сына человек… И «все лил и лил дождь, и шуршал по стене ветер, и Сергей думал: „Затишье, покой… Какой я был наивный… Затишье, покой!“»
Конечно, не мог не измениться с течением жизни герой Стрельцова, но все же — характернейшая и приметнейшая черта творчества писателя — в одном из последних своих произведений повторяет Стрельцов, повторяет с наивно-упорной верой, повторяет как заклинание:
«есть, к сожалению, вещи неподвластные нам, но есть же и утешение, есть и надежда».
Воистину, добро и надежда начертали в книгах Стрельцова свой круг…
Чаще и чаще стал замечать чужие окна герой Стрельцова, дальше от него солнечные поляны и россыпь лисичек в лесу, но не уходит от него, возрождает в нем надежду и дает ему силы искать подзапоздавшую радость свежий запах «сена на асфальте» — поэтическое восприятие мира.
Красота как неотъемлемое свойство природы и полнота жизни, органически включающая в себя эту красоту, невозможная без нее, определяют особенности поэтики Стрельцова. Впрочем, это свойственно большинству белорусских писателей, пишущих свою «книгу деревни». Здесь речь идет о стрельцовской «особинке».
Одни писатели, Борис Саченко, например, очень точно передают приметы, детали, признаки окружающего их героев деревенского быта и пейзажа — обтюканную топором шершавую колоду, птичьи голоса, что чирикают, свистят, воркуют и стрекочут, камышовые крыши, что рыжеют в зелени огородов. Достоверность отличает их письмо даже там, где, как в поэтически взволнованном «Реквиеме» Бориса Саченко, стихия фольклора определяет высокий накал повествования.
У других картины природы символичны, они несут на себе нагрузку идейную, они — источник-побудитель той мысли, что должна возникнуть у читателя, передаться ему, настроить его на волну понимания автора. Таков, например, образ горящей земли на той вырубке, где герои «Найдорфа» Ивана Пташникова заслоняют собою уходящую к партизанам деревню, перекрывают дорогу карателям:
«Пни сгнили, осыпалась сверху трухлявая кора, торчали только тонкие серые сухие сердцевинки, как старые спицы из сработавшегося колеса; тронь топором — красные от смолы. Они горели теперь густым черным пламенем, тихо, как свечки… Течет с пня смола на желтый песок, и тогда по песку ползет к окопу пламя, узеньким и тонким язычком, как гадюка…»
Тут и дотошность в деталях, даже избыточность их, но тут и непременная для Пташникова скрытая символика: огоньки на смертном рубеже воспринимаешь, как свечки в изголовьях убитых, ползет к окопам немецкая цепь, ползет гадюкин язычок огня…
У однокашника Саченко и Пташникова, у Михася Стрельцова, природа не так конкретна, она не столь наблюдена, сколь, если можно так выразиться, поэтически преобразована. Лесная птичка у него («некая птушка») не чирикает и не свистит: герою «Триптиха» слышится птичья песенка, «такая юркая, как солнечный лучик, и звонкая, веселая, как ручей». Предвкушение счастья преобразует увиденное, заставляет звучать в унисон с настроением наблюдателя: утренние снега видятся ему «розовыми и чистыми, как радость», «высоко в небе кличут радость журавли», а яблоко под осень висит на ветке переспелое и светлое, «как давняя печаль». Предметы мертвые одухотворяются, трепещут под влюбленным в жизнь глазом: «молодой месяц в окружении тоненьких облаков затаился, как рыбина в траве». Великое любопытство к миру превращает застывшее, неживое в живое и теплое, как бы отогретое душою художника. Вспомним, кстати, как в стихах Михася Стрельцова оказывается, что «у холодильника — настроение, у холодильника есть душа»; «холодильник в бок мне мурлычет приятно и мирно, как кот… в руку мне тычется мордой. И снова мурлычет».
Счастливая минута для Михася Стрельцова и для героя его прозы — минута единения с миром, минута озарения красотой, как сам он сказал об этом в стихотворном сборнике «Можжевеловый куст»:
Остановился, И голову поднял, и слушаю так, Будто последний день я живу на земле.Очень скоро, уже в первом прозаическом сборнике, обнаружилось, что живопись не захлестывает Стрельцова, что его «песни» полны глубокого раздумья. Впервые герой Стрельцова, такой, каким мы его знаем сегодня, заявил о себе в рассказе «Голубой ветер». Характер героя раскрывался не сразу, не полностью, не очевидно. В сложном «приступе» к герою сказывалась не только писательская манера, чуждая прямолинейности, но и сложность избранного писателем социального типа.
Интеллигент в первом поколении, «новый горожанин», Логацкий (как и почти все последующие герои Стрельцова) не чувствует себя в городе свободно и раскованно, а тут еще и собственные «странности» его натуры, склонной к самоанализу, к рефлексии. Логацкий завидует раскованности своего коллеги, человека бойкого и «современного». Правда, как выясняется, современность эта носит характер чисто внешний, показной, и сам коллега, вузовский преподаватель Паруков, говорит о себе с известной долей иронии:
«мотороллер хотя и не возносит меня к вершинам цивилизации, но, заметь себе, свидетельствует о психологических сдвигах в моем характере. Я становлюсь современным человеком».
Говорить о себе всерьез он вроде бы и не хочет.
Завидует Логацкий не бойкости Парукова, а вот чему:
«Для него в жизни не существовало нерешенных вопросов… И в осанке его и в речи чувствовались какие-то непонятные Логацкому уверенность, сила».
«Рецепт» Парукова прост: не надо быть серьезным, советует он Логацкому, не надо задавать «наивных» вопросов — и жизнь твоя будет легка. Но вряд ли этот рецепт может помочь Логацкому: ему пришлось бы тогда менять даже не кожу, а душу…
Герой Стрельцова этого — пока! — не сознает. Он завидует, он не хочет понять, что для думающего человека легких путей в жизни не бывает… В конце рассказа Логацкий находит все же свои «рецепты», столь же, по-видимому, бесполезные, как и принятие внешней «современности» Паруковым…
Но что же все-таки надо преодолеть в себе Логацкому? Отчего он мучается?
Мне кажется, что в пору написания «Голубого ветра» и сам Стрельцов не мог еще ответить на этот вопрос. Он шел вместе с героем, не обгоняя его. Ответ нащупался позже, в таких рассказах, как «Свет Иванович, бывший донжуан» и «Смаление вепря». Пока же было лишь ощущение неблагополучия героя.
Позднее, после «Смаления вепря», после того, как автор приоткроет перед нами двери своей творческой мастерской, мы поймем, как непроста логика прозы Стрельцова. Сейчас же, в «Голубом ветре», и сам автор, перебирая и отбрасывая один за другим искренние и несложные рецепты (возвращение к детству, поездка к матери в деревню), как будто бы уверен, что можно найти для Логацкого немудрящее лекарство от потерянности и рефлексии. Так — на светлой ноте надежды — и кончается «Голубой ветер»:
«Надо жить, — подумал он, — надо смелее и веселее жить… И тогда уже не покинет меня голубой ветер».
Круг как бы замкнулся. Мы вспомним еще этот круг позднее, когда Стрельцов в «Смалении вепря» скажет о художнике — и о своем герое и о себе — «наивный… он хочет верить: я уберегся от беды, — ибо сказал…»
Кругами «наивной» надежды, как бы еще и еще раз пробуя все те «рецепты», что приходили в голову Логацкому, пойдет дальше герой прозы Стрельцова. В рассказе «Снова в город» он вернется в село, в родную хату, но не найдет там ни утешения, ни покоя: он уже и для себя и для родичей иной, недеревенский человек. В рассказе «Там, где покой и затишье» инженер Марусов обнаружит, что нет идиллии, нет сказочной тишины и безмятежности в деревне: везде свои проблемы. И, предваряя более позднее свое «прозрение», герой Стрельцова впервые произнесет: «Как я был наивен…»
Однако это признание наивности не должно вводить нас в заблуждение: даже столь обнаженно раскрытый нам самоанализ Логацкого, его «игра в поддавки» с собою и читателем (вспомним начало рассказа, где мы узнаем, что Логацкого обычно будит смех идущих с завода работниц, так сказать — будит жизнь) не свидетельствует о том, что герой от жизни оторвался, что живет он в некоей «башне», отгороженно от забот века.
И все же из «Голубого ветра» мы так и не узнаем, что это за вопросы, которыми лучше не задаваться, от которых бежит Логацкий. Пока, в «Голубом ветре», такое бегство представляется спасительным и возможным. А может, действительно Логацкому не хватает лишь «свежести» взгляда на мир, тех ощущений, что поослабли с годами? И весь строй, стиль повествования ненавязчиво как будто бы подтверждает это. Спокойный «городской» рассказ этот значительно отличается от ранней прозы Михася Стрельцова. Многокрасочность мира, его запахи, его радости теперь не переполняют произведения Стрельцова, не определяют их лексику, ритм, а включаются в текст лишь эпизодически, как отдельные счастливые мгновения возвращения к юности, как редкие, увы, озарения героя. Главным же становится самоанализ персонажа, рассказы Стрельцова приобретают качества так называемой интеллектуальной прозы.
«Интеллектуализм» не заслонил и не отменил лирику Стрельцова, но заметно ограничил ее всевластие. Глубина проникновения в психологию героя, серьезность анализа опровергают — может, против авторской воли? — юношеский оптимизм финала: а, обойдется, стоит только «захотеть». Тревожная нота в «Голубом ветре» слишком отчетлива, чтобы не расслышать ее: дисгармония героя и мира, не декларированная, а запрятанная куда-то в подтекст, становится теперь ведущей темой Стрельцова.
В прозе Стрельцова после «Голубого ветра» постоянно борются два начала: юношеское, открытое, «наивное» и радостное — и какая-то горькая мудрость, смириться с которой автор не может и не хочет. Оптимист по мировосприятию, человек, открытый радостям мира, писатель упорно не желает смириться со своим новым героем, с утратой им молодости чувств и восприятий. Писатель честный, Стрельцов не может и пойти по пути легчайшему — сменить героя: характер таланта Стрельцова, который постепенно раскрывается не только как «живописный», но как все более аналитический, не позволяет ему пойти на это. Стремление докопаться до сути, до корней властно приковывает прозаика к его трудному герою. Бросить или изменить его, — наверное, значило бы изменить себе.
Михась Стрельцов взвалил на себя нелегкую ношу. «Во многом знании — много печали», — говорит Экклезиаст. Паруков из «Голубого ветра», оберегая свой покой, не желает особенно задумываться над жизнью. Герою легче, чем его создателю: добросовестный писатель, в силу художнической природы своей, обречен на страдание знания.
Михась Стрельцов изучает героя-современника в самых разных его ипостасях: и как собственно своего героя и как героя, отразившегося в книгах других писателей. Подход к искусству как к одному из реальных начал жизни, взаимодействующему со временем, испытывающему не только его давление, но и оказывающему в свою очередь определенное на него, время, влияние, закономерно приводит прозаика Михася Стрельцова к критике.
Внимание Стрельцова к творчеству поэтов и прозаиков своего поколения, к классическому наследию — и мне это хотелось бы особенно подчеркнуть — не случайно. Для Михася Стрельцова критика — не отхожий промысел. Он обращается к критике тогда, когда собственная практика, поэзия и проза, ставят перед ним вопросы, требующие более широкого осмысления.
Мне кажется, стоит, чуть отойдя от основного для нас, от прозы Стрельцова, поговорить о его критике: она может прояснить для нас многое и в его прозе, а главное — в творческом облике писателя.
В критических работах Стрельцов — лирик, понимающий лирику как «всегда отчетливо проявленную меру личного начала в творчестве». Оттого что критика его столь неравнодушна, заинтересованна, непосредственно слита с его собственной личностью. И это определяет — в статьях, в литературных портретах — особую манеру, в которой написаны эти работы, манеру «лирической критики».
Михась Стрельцов открывает заинтересовавшую его книгу и начинает читать ее вслух, не скрывая от нас, читателей-слушателей, извилистый путь своей, рождающейся при таком чтении, мысли, путь широких ассоциаций, внезапных озарений. Кажется, Стрельцов совсем забыл о нас, посторонних, но нет — он читает и для нас, делает нас прямыми участниками своих поисков и размышлений. Подобное чтение вслух за круглым столом доброжелательства — как бы открытый урок хорошего вкуса и понимания искусства. Критик Стрельцов помогает здесь и Стрельцову-прозаику:
«Художник не всегда в состоянии правильно понять причины своих затруднений, критик должен увидеть, понять, растолковать. Не обязательно на уровне того или иного мастера, но обязательно на уровне литературного процесса».
Такая позиция Стрельцова-критика находит свое параллельное отражение в прозе Стрельцова. В форме, манере письма.
Михась Стрельцов — экспериментатор. Экспериментатор… Само слово это несколько скомпрометировано долгим предвзятым его употреблением: так и видится фигура человека, отгородившегося от тревог века, от забот времени, занятого чем-то «самоценным». Пробует повернуть фразу этак, пробует так, перевернет, взлохматит, перемешает слова, главы, закрутит замысловатой спиралью сюжет, свернет его клубком — не найдешь сразу, где начало, где конец. Нет. Михась Стрельцов не такой «экспериментатор». Он — художник ищущий, взыскующий правды. Он завоевывает один плацдарм за другим, но не задерживается на нем, не обживает и не обустраивает его — вперед, вперед, где есть еще что-то новое, еще не испробованное им.
Нетерпение — вот, пожалуй, черта наиболее приметная в Стрельцове.
Но ведь нетерпение — это и характернейшая черта того времени, конца пятидесятых годов, когда вступали в литературу Михась Стрельцов и его товарищи-литераторы. Субъективные качества Михася Стрельцова счастливо совпали с характером его времени — вот что важно, вот что надобно помнить и учитывать.
Когда Адамчик, Саченко, Стрельцов и их сверстники входили в литературу, они входили и в жизнь, нравственная атмосфера которой определялась решениями XX съезда партии. Личность — вот что, в частности (но в частности, для художника наисущественной), вдруг приобрело особое значение, высвободилось, заявило о себе. Герой Стрельцова («Свет Иванович, бывший донжуан») так рассказывает о себе, о тогдашнем своем мироощущении:
«Идеализм, романтизм, наивность… Розовые очки… Смешно, конечно. Но мне почему-то жаль того времени… Прочь, прочь все прошедшее, нам нужно было поверить в себя. Ты ведь мне не скажешь, что это так просто и легко. И я не скажу. Есть такое понятие — переломный возраст. Мне кажется, он затянулся у нас. У меня, может быть, и у тебя. Не знаю, у кого еще. Аспирантура тут не спасет. Мне нужно снова поверить в идеалы. Не в те, прежние, а в какие-то другие, которые не были бы помехой в жизни и которым жизнь не мешала бы тоже. Опять наивно?»
Да, как видим, «оживление термина» — процесс небезболезненный. Одно дело говорить смело — «я — личность», другое — становиться ею…
Интерес к лирическому самораскрытию был исполнением общественного долга писателей перед жизнью. Таким самораскрытием, вернее, открытием себя явилась в те годы и лирическая миниатюра, с которой начинали Адамчик и Стрельцов.
Человек, чутко и остро чувствующий боль времени, Михась Стрельцов «самораскрывался» и в своих критических работах. Его всегда интересовала классика, но не литературоведчески только, но еще и как опыт, который хочется примерить на свое сегодняшнее дело. Особенно его интересуют писатели, вступавшие в жизнь, подобно ему, в эпохи значительные, переломные. Как тогда — у них, у великих — отражалось в судьбе и творчестве время? Что помогло им понять и выразить его?
Обращение Михася Стрельцова к показательной в этом плане судьбе Максима Богдановича было закономерно и плодотворно. В эссе «Загадка Богдановича» особенно трудно отделить критика Стрельцова от Стрельцова — прозаика и поэта — столь все здесь для него лично, созвучно собственным исканиям и вопросам.
В чем «загадка Богдановича», загадка Максима-Книжника? Как он, пятилетним ребенком покинувший родные места, не знавший и не слышавший в решающие свои годы (стихи на белорусском языке стал писать он лет с десяти) живого слова своего народа, смог стать одним из классиков, основоположников современной белорусской культуры? Как он, Максим Богданович, мог стать и стал Личностью?
И так и этак переворачивает, перелистывает, перечитывает Михась Стрельцов скупые факты биографии Максима Богдановича. И размышляет: что же дает человеку силы свершить почти невозможное? Талант? Несомненно. «Интуиция, что дана от предков», «твердая воля и настойчивость в труде», что отмечал в своем сыне Адам Богданович? Но все это как будто было и у самого Адама Егоровича, а вот поди ж ты — не стал он заметной фигурой в истории белорусов. Больше того: мы и помним-то Адама Богдановича, поминаем его имя потому только, что он — отец своего сына.
Значит, одних врожденных способностей, одного таланта еще и недостаточно, чтобы талант осуществился, дал достойные себя плоды. Михась Стрельцов приводит нас к точному и единственно возможному выводу:
«Нет, должно быть, и „зов предков“, и талант, и воля имеют значение тогда, когда их приводит в движение какая-нибудь большая, общественно значимая идея».
Казалось бы, вывод такой можно сделать и «а приори», не изучая творчество и биографию писателя столь тщательно, как это делает Стрельцов. Действительно, это же звучит общим местом, почти «штампом» — необходимость идей серьезных, общественно значимых. Были, кстати, такие идеи и у Адама Богдановича: исследователи упоминают о его участии в общерусском революционно-демократическом движении. И все же — лучшая работа Адама Егоровича, работа по «белоруссике», этнографическое исследование, написанное в молодости, продолжения не имело. А в революционном движении в те годы кто же не участвовал или, по крайней мере, кто из по-настоящему интеллигентных людей не сочувствовал ему?
Когда я читаю у Стрельцова, что идеей, которая «приводила в движение» талант Максима Богдановича, была «идея национального и социального раскрепощения народа», я вижу — это действительно ключ к «загадке Богдановича». И только еще одного-единственного слова не хватает мне тут, слова, на мой взгляд, необходимейшего, прозвучавшего, правда, но глухо, не отчетливо, на тех страницах, где рассказывалось об идейных баталиях Максима с рассудительно-равнодушным родичем его, Петром Гапоновичем, слова, которое должно было еще раз — и с нажимом — прозвучать именно в выводах принципиально важных: одержимость.
Есть разная мера увлеченности демократическими идеями. Можно именно «увлекаться» ими (в иные эпохи это весьма модно), такое увлечение дает «в меру» сочувствующего человека. Это уже благо: такие «в меру» идейные люди, либералы, создают фон, почву, на которой (не на каменистом же пустыре мещанского равнодушия) всходят семена — одержимые творцы, «чудаки», Максимы-Книжники.
В слове «одержимость», сдается мне, ключ не только к «загадке» художника, но и к пониманию героев Михася Стрельцова. Таких, как герой рассказа «Ждет на вокзале автобус» журналист Юнович, как инженер Марусов из рассказа «Там, где покой и затишье», как Петро, герой рассказа «Снова в город». От городских своих хлопот, от душевной тревоги, от недовольства собою, своей жизнью «спасаются» они в деревне, уходят к истокам и… не находят там утешения. Почему? Потому, наверное, что от себя не убежишь, что на других свои проблемы не переложишь…
Журналист Юнович получает обычное редакционное задание — организовать выступление директора льнокомбината: «у них там хорошая самодеятельность». И главный редактор, и Юнович знают, что писали уж об этом другие газеты, что директор сам писать не может и не захочет… Юнович предлагает: дать выступление кого-нибудь из участников этой самой самодеятельности, репортаж — все-таки будет интереснее и живее, не повторять, не нагонять скуку на читателя. Но главному лень и не в привычку думать…
Работа не требует от Юновича осуществления души, творчества, она требует лишь осуществления функций: ты журналист, ну, стало быть, и пиши от сих до сих, мы газета обыкновенная, и твоя или чья-то там корреспонденция — обыкновеннейшее дело. Душа выхолащивается из дела, которым занят человек, и человек ощущает ущербность своего существования, неполноту жизни.
Вот и стремится он в деревню, к детству своему: славной поре, холодной и голодной, но такой ясной — мир каждый день открывал перед тобою неисчерпаемую красоту, и каждый следующий день нес что-то неизведанное и радостное.
Но детство окончено. И если необходимо человеку время от времени возвращаться к нему, то не за тем, чтобы укрыться в прошлом от тревог настоящего, не за тем, чтобы как-то вернуть себе это ушедшее, а для того, чтоб не забыть окончательно, что жизнь есть «ожидание радости», не забыть, как она выглядит, радость-творчество. Одним словом, возвращение к истокам у героев Стрельцова — это собирание нравственных сил.
Нет, не уехать на дальнем автобусе, не укрыться в затишке от назревающего конфликта с редактором газеты Юновичу, возвращается в город Петро, призадумался над своей жизнью Сергей Марусов. Нет, это не тоска по деревне привела их под отчий кров — это тоска по цельности.
Не только к мысли о необходимости нравственного очищения подводит Стрельцов героев своих — к необходимости одержимости. Вернемся же снова к Максиму Богдановичу.
Итак, что же все-таки натолкнуло Максима, оторванного от родных истоков мальчика, на саму эту мысль — писать по-белорусски. Отец, рассказывает нам Стрельцов, отнюдь не поощрял литературных занятий сына, совсем в иной области видел он его будущее: пять лет потратил Максим на изучение юриспруденции, к которой вовсе не лежала душа.
Стрельцов-художник дает мне, надеюсь, возможность пойти в моих догадках чуть дальше Стрельцова-критика: ведь он не только исследует биографию Богдановича, но и дает нам портрет его семьи; в эссе Стрельцова жива атмосфера семьи Богдановичей. Не предмет исследования только, но характер, воссозданный прозаиком, — таковы и Максим и Адам Егорович. Логика развития такого характера, как Богданович-старший, тип таких людей, таких несостоявшихся судеб позволяет предположить, что жила в нем подспудно тоска по брошенному на полдороге «белорусскому делу», «белоруссике». Пожалуй, рискну на еще одно вполне правдоподобное допущение — Адам Егорович в чем-то похож на излюбленных героев Стрельцова. И, скажем, Юнович — пожелал ли бы он, чтобы сын его избрал себе профессию отца?..
Да, мысль о неосуществившемся деле, даже неизреченная, — заразительная мысль… И все-таки, все-таки, если тягу Максима Богдановича к родной белорусской речи объяснить можно, то сам механизм овладения ею не вполне понятен. Феномен такой возможен — Стрельцов вводит в свое повествование рассказ о немецком писателе и ученом Шамиссо. Пятнадцати лет только стал француз Шамиссо учить немецкий язык, язык чужой ему, он овладел им настолько, что стал крупнейшим немецким лириком. Значительно легче, видимо, воскресить в своей памяти то, что слышалось в раннем детстве. Наверное, не пустое слово — «национальное».
«Время призвало Богдановича», — подчеркивает Стрельцов. Это очень важно — родиться таланту именно тогда, когда нужда в нем у народа наибольшая. Начало двадцатого века было для белорусов именно таким временем.
Но почему именно сейчас, через полстолетия, другого поэта, Михася Стрельцова, так заинтересовала судьба и труд классика? Творчество самого Стрельцова вполне самостоятельно — в его стихах нет следов поэтики Богдановича.
Писатели «среднего» поколения сделали много не только собственно в прозе и в поэзии — они обогатили язык своей нации. Из старых криниц черпали они живую воду народной речи, открывали в словах примелькавшихся возможность новых созвучий, новых значений и красок. И в этом шли они за Богдановичем, Коласом, Купалой, возродившими родную речь. Отсюда и сегодняшний интерес Стрельцова к «загадке Богдановича», особенно актуальной сейчас, в мире интегрированном, связавшем днем сегодняшним народы разных исторических судеб с разной национальной психологией.
В одной из последних своих критических работ (она посвящена творческой манере Анатоля Кудравца) Михась Стрельцов говорит то, что в равной мере можно отнести к нему самому: «Все мы из хат», — мог бы сказать он крылатой формулой Янки Сипакова… «Все мы из хат» — это ощущение своей биографической, духовной и, если хотите, исторической родословной, не забывать о которой так важно современному человеку, отлученному ходом цивилизации от многих первоначальных наивных радостей, замены которым, к несчастью или к счастью, увы, нет.
Пристальное исследование своей духовной родословной — примечательная черта белорусской литературы последнего двадцатилетия. Наверное, тем во многом и интересна, тем и сильна белорусская проза, что она питает свое цветение из родных языковых криниц. Правда, в последнее время замечается некоторая деловитая сухость писательского языка. Это отметил, например, и Михась Стрельцов в статье об Анатоле Кудравце, но тут же и подчеркнул, что приверженцы «документа» в литературе вовсе не безразличны к языку, как то могло бы показаться с первого взгляда. Но это, конечно, рожденный иными историческими обстоятельствами, присущий иному герою язык:
«Стремление приблизить сферу искусства к границам самой реальности, разрушение привычных художественных клише и форм движущейся мерой „живой жизни“ ощутимо влияет на поиски современной прозы».
Кстати, завидная в Стрельцове, прозаике со столь ярко выраженной собственной манерой письма, «терпимость», способность по-доброму понять и принять чужие поиски, чужую, не свойственную самому ему манеру. Говоря об адекватности содержания и формы у Кудравца, Стрельцов особенно радуется успехам товарища по перу в открытии новых социальных типов (рассказ «Веселые люди»), новому, в сравнении с прозой его поколения, «открытию» деревенской темы. Нет, пожалуй, это не «терпимость» только, но и горячая заинтересованность в успехе общего литературного дела.
«Документ», его влияние на современную прозу, которое и не поймешь как — с одобрением или раздражением — зафиксировали иные авторы, Стрельцова явно не испугали: ведь и в его собственной практике эссеиста документ, факт, историческое свидетельство органически включались в повествование, давали толчок размышлениям. Говоря о современной прозе, Стрельцов, таким образом, идет и от своего собственного опыта, говорит со знанием дела:
«Выявляя свою форму, он (документ) выявляет и возможность художественного ее саморазвития. Выявление предмета, документа, свойств материала средствами, наиболее присущими их природе и „фактуре“, чаще всего и дает желанную адекватность формы».
Что ж, с этим нельзя не согласиться: форма небезразлична содержанию, определяется им.
Конечно, факт в известной мере определяет стиль современной прозы. Но дело, думается, не только в его вторжении (в который уж раз за историю литературы!) в художественную ткань произведения. Дело в качественном изменении самого писательского взгляда на мир. Не скажу, чтобы он стал более изощренным, он стал как бы трезвее.
Каждый писатель (или поколение писателей, объединенное общими «веяниями» той эпохи, когда они вступили в литературу) вступает в жизнь со своим героем. Поначалу, бывает, мы даже и не замечаем этой «смены караула», наш глаз, правда, царапают кое-какие непривычные слова, какие-то непривычные обороты, какие-то повествовательные «нелогичности». И мы думаем — это писатель молодой, он еще «не выучился», стиль его еще «не обкатался». А это не писатель, это его герой таков, непривычен нам. Сухость стиля, приверженность к факту, так мне сдается, не свойство современной прозы, а свойство ее объекта, ее героя, о котором — конечно, предельно обобщая свои впечатления — можно сказать как о прагматике (как о его предшественнике — идеалист, романтик).
Каков этот герой в сравнении, скажем, с героями Михася Стрельцова? (Само собой разумеется, что сравнивать предлагается без учета масштаба писательских талантов, просто забывая об этом. Условность? Что поделаешь, все писали «на тему о купцах» — и Чехов и Боборыкин. Мы, однако, разницу меж ними чувствуем…)
Да, это уже и новые лица, и новые роли. Возьмем для сравнения сборник повестей Евгена Радкевича «Месяц межень», где молодой автор вводит нас и в вовсе новый для белорусской прозы мир героев — творцов НТР.
В центре внимания Евгена Радкевича серьезнейшие нравственные вопросы: как жить по правде-совести, что значит быть порядочным человеком.
Особенно интересна в этом аспекте фигура «деятеля НТР», инженера Сурина из повести «Зима на спасательной станции». Это нравственный (вернее, безнравственный) антипод других героев этой повести. Интересен Сурин также и тем, что он — явный антипод героев Стрельцова. Суринское отношение к жизни, атмосфера «функциональности», бездушного прагматизма, «безустойности» — именно та атмосфера, в которой дышать не могут, тоскуют, мучаются и Логацкий и Юнович. Повесть Евгена Радкевича, мне кажется, дает возможность взглянуть в лицо той мертвящей силе, что гнетет героев Стрельцова.
Внешне Сурин вполне современен (как не вспомнить тут Парукова!) — спортсмен-супермен. Его не заботят высокие материи, не тревожат муки совести. Он «в меру» беспринципен и даже подловат: не настолько, разумеется, чтобы быть законченным подлецом, зато настолько, чтобы промолчать, где надо, «подыграть» нужному человеку.
Он и к девушке, встретившейся в доме отдыха, подходит как-то «технологически»: по верной программе проигрывает роман с нею. Немножко ему не по себе, немножко вспоминаются сын и жена. И мы понимаем, почему «немножко»: жена Сурина под стать ему — она женщина «деловая», у нее есть более важный, как она полагает, мир, обособленный и от Сурина и от их ребенка.
Сурины живут каждый для себя, хотя, конечно, труд их, труд дельных специалистов, и идет на общую пользу людям. Да только — абстрактным людям. Конкретный живой человек для них — в одном ряду с машиной: он некая функция, деталь, не более. И невольно начинаешь сомневаться в нужности самого их дела…
Есть и у Стрельцова свой «деловой человек», редактор той газеты, в которой работает Юнович, — труд его, очищенный от человеческого, совестливого к труду отношения, приобретает характер «отписочный», формальный. Бездушие, что может породить оно, к чему жизнеутверждающему способно?..
Вот вопрос, который остается и, думаю, останется «вечным вопросом». Ценность жизни, чем жив человек — разве не об этом писал Иван Мележ, пишут Саченко, Пташников, Кудравец и более молодые их коллеги? Пишет об этом, размышляет и Михась Стрельцов. И тематически и, если так позволительно выразиться, интонационно он тесно связан с творчеством прозаиков своего, «среднего» поколения.
…Когда читаешь и перечитываешь Михася Стрельцова, не можешь отделаться от мысли, будто каждый раз, начиная новое произведение, автор как бы заново открывал для себя своего героя. Каждый раз заново, с самого начала проходил весь долгий к нему путь. Шел процесс узнавания материала, так — будто это первая встреча.
Не правда ли, это напоминает нам критическую манеру Стрельцова, когда он «на наших глазах» вслух читает чужой текст, постепенно вживается в него вместе с нами.
Один из наиболее известных своих рассказов, «Сено на асфальте», Стрельцов, например, именно так и начинает, исподволь, издали, с чтения вслух «чужого» текста — письма к герою от женщины, которая его любит. Мы еще и не видели этого человека, не слышали его голоса, но из письма уже кое-что — и весьма существенное, характерное — узнаем о нем. Судя по письму Лены, Виктор — романтик. Он нестандартен. Нервен. Скромен. Довольно застенчив. Две странички текста «от Лены» подготавливают нас к свиданию с самим Виктором: уже прозвучала — пока за кадром — нота сочувственного отношения автора к своему герою.
Внешне, информационно, что ли, мы как будто бы знакомимся и с Леной. Но позже выясняется, что Лена никакого непосредственного участия в действии, в рассказе не принимает. Однако благодаря письму Лены мы с первых же строк оказываемся незаметно для себя на дальних подступах к герою Стрельцова.
А разве нельзя было начать рассказ прямо с разговора Виктора с дядей Игнатом, с разговора, в котором-то и завязываются все сюжетные и идейные узлы произведения?
Таким вопросом стоит задаться — у Стрельцова композиция произведения подчинена идее, она несет не служебные, подсобные, а именно идейно-художественные функции. Вот, скажем, Адамчик часто начинает с пейзажа, с картин природы: его талант живописца так велит — настроить нас ритмом фразы, звучанием ее, ее оттенками, красками в унисон авторскому лирическому ощущению мира. А Стрельцов больше налегает на мысль-процесс. Ему важно, чтобы мы, читатели его, включились потихоньку, незаметно и ненавязчиво для нас в ритм размышления-узнавания героя. Вроде бы, потеснившись у письменного стола, сажает он нас рядом, и мы становимся свидетелями-соучастниками его труда. Приглашение к размышлению — вот его метод…
Кстати, и манера Адамчика не чужда Стрельцову. Но она для него не ведущая, она включена «внутрь» стрельцовского метода. Посмотрите, как плавно, как естественно переходит письмо Лены в прямой рассказ Виктора.
Лена пишет, как лежит она летним днем на берегу реки, как висит синяя мгла над водою, как проступают сквозь нее белые валуны на отмелях, как входят в речные струи коровы, как плывет над рекою время… И рассказ Виктора начинается такой же спокойной, застывшей картиной — городские сумерки, жизнь двора, где ведет через открытое окно тихую мелодию радиола, где сидят на скамеечке женщины, где покуривают одетые по-домашнему мужчины…
Этот переход — и заданный нам ритм чтения, ритм вживания в текст, и заданное нам подтекстом письма ощущение целительности природы, ее ритма-времени. Так передается нам от автора и внимание к слову, к детали. Тогда-то второстепенный герой становится рядом с главным, не подменяя и не оттесняя его, публицистика, проблемность естественно укладывается в лирическую форму стрельцовской прозы. Разнородные и жанрово (эпистолярные и повествовательные) части рассказа сплавляются воедино благодаря авторскому мастерству, проблемность и лирика становятся неразделимы, подкрепляют и углубляют друг друга.
То, что мы обычно называем «подтекстом», что, как правило, упрятано в глубину произведения и угадывается не всяким читателем, что часто бывает заслонено сюжетом, действием, у Стрельцова откровенно (как, например, в «Смалении вепря») «выходит на поверхность» или включается (как в «Сене на асфальте») в основной текст самостоятельными главками и письмами-отступлениями, а иной раз, как в повести «Один лапоть, один чунь», вкладывается в стихотворение, предваряющее и замыкающее прозу.
Может, в этом равноправии текста и подтекста сказывается «нехитрость» авторской души, ее «наивность» — черта, присущая герою Стрельцова? Однако это не «душа нараспашку», в чем, несомненно, было бы нечто театральное, показное, это — естественность и искренность. Герои Стрельцова часто исповедуются перед собою и другими героями, но оттенка исповедальности как литературного приема (вспомним русскую «исповедальную прозу» недавнего времени) здесь нет. Исповедь у Стрельцова не прием, а как бы черта характера персонажа. Он открыт, он доверяет нам, его слушателям, он верит, что мы не любопытны, а сочувственны, К такому сочувственному слушанию, напомню, нас подготовил автор, оно необходимо ему. Он научил нас слышать.
…Дядя Игнат рассказывает Виктору (и нам), как бригадирствовал он в первые послевоенные годы в колхозе, как бились с хозяйством женщины. Как пришлось ему уехать, вернее, бежать из деревни, когда не выдержало его сердце и избил он фининспектора, описывавшего за долги корову-кормилицу у солдатской вдовы…
И от этого рассказа уже вполне привычен становится и ожидаем читателем переход во второе письмо, письмо-воспоминание Виктора о военном детстве, о похоронках, приходивших в село, об отцах, возвращавшихся и не вернувшихся в деревню, о времени, о юных мечтах…
Я говорю — привычен становится, — хотя для читателя, вероятно, привычнее и традиционнее был бы иной, апробированный беллетристикой, сюжетный ход: дядя Игнат приглашает Виктора пойти косить траву на городских газонах (Игнат и в городе нашел-таки работу крестьянскую, по душе). Стандартно-закономерно было бы такое, если б следом за рассказом дяди Игната сразу же шла великолепно написанная сцена — глава «Пора косовицы». Уже одна струя живительного деревенского воздуха, один образ «сена на асфальте», одна эта линия делала бы рассказ цельным, целеустремленным, законченной лирической миниатюрой. Но тогда, увы, рассказ Стрельцова, при всех его художественных достоинствах, не выделялся бы из массы подобных, добротных произведений.
Казалось бы, зачем Стрельцову понадобилось в главе «Дядька Игнат» выводить «человека в пижаме», поливающего цветы в палисаднике, когда ясно, что ночью будет дождь? А с этим человеком связана мысль о том, что не все измеряется прямой пользой и обусловливается логикой: человеку надо еще и «асалоду адчуць»,[4] отдохнуть сердцем, возродиться духовно. «Случайная» реплика третьестепенного персонажа несет, как мы убедимся, дочитав рассказ до конца, идею, отнюдь не второстепенную для автора. Слова «человека в пижаме» еще и еще отзовутся и на заключительных страницах, в главе «Пора косовицы», и в письме дяди Игната в деревню. Дядя Игнат, потешавшийся над неразумным горожанином в пижаме, сам окажется «любительским человеком», готовым с радостью поменять реальные блага на мечту, готовым бросить квартиру, купить какую ни на есть халупку, только бы оказаться ближе к лесу, к земле, без которой ему трудно жить…
«Сено на асфальте» как будто бы рассказ о том, как герою «давно хотелось примирить город и деревню в своей душе». Но лишь «как будто бы»: гимн земле в нем — только один аспект, один слой.
Михась Стрельцов — многосмыслен. В «Сене на асфальте» эта особенность писателя наиболее очевидна.
Конечно, он важен и болезнен для Стрельцова, этот «вечный вопрос» современной белорусской прозы: «зачем же выбирать между жаворонком и реактивным самолетом? Разве нельзя так, чтобы было и то и другое?» Но тоска по деревне в «Сене на асфальте» — это и тоска по юношескому идеализму. Из подтекста этот «смутак» выходит на поверхность, традиционный рассказ становится иным, в чем-то близким «Голубому ветру». Второе письмо, письмо Виктора, есть другая ипостась самоанализа Логацкого. Вопросы, суть которых осталась тогда нераскрытой, здесь начинают расшифровываться.
Идиллия оказывается не такой уж безмятежной не только в рассказе дяди Игната. В воспоминаниях Виктора горький рассказ о сиротстве и войне не просто продолжен: то же время показано с другой точки зрения. Будто вскользь упомянет Виктор о том, как стеснялся его друг того, что уцелевший, вернувшийся с войны отец его был в плену, как не мог он «простить ему этого». И, «что таить, — замечает Виктор, — не мог простить и я». В атмосфере всеобщего сиротства уцелевший солдат не просто «диковина», его плен, рассказывает Виктор, несовместим был с воспитанной временем в его детях идеей борьбы вплоть до смертельного исхода, с тем увлечением революционной романтикой Рахметова и Базарова, о которой и сегодня с благоговением говорит Виктор.
Прекрасен был юношеский идеализм — герои Михася Стрельцова неоднократно будут еще печалиться о нем. Но несоответствие окружающей действительности тому идеалу, который жил в их сознании, стало причиной затянувшейся их «наивной» инфантильности: вместо того чтобы строить свою жизнь по намеченному уже плану, они вынуждены были как бы отступать, восстанавливать заново нравственный фундамент личности. «Понемногу и помаленьку, — говорит про это герой Стрельцова, — учимся мы во всем полагаться на самих себя».
Чему же в первую очередь пришлось учиться им?
Герои Михася Стрельцова возвращаются к истокам, в родную деревню затем, чтобы начать новый отсчет жизни, начать его с приобщения к своим идеалам еще и знания той действительности, которая казалась им когда-то «ненастоящей». Начинать, конечно, приходилось не с нуля — был у них серьезный идейный и нравственный багаж. Но куда, наверное, легче сегодняшнему молодому человеку — не случайно с доброй завистью говорит о нем критик Стрельцов, говорит о владении ныне вступающими в литературу писателями «документом»: пока поколение Стрельцова пробивалось к этому документу-реальности, время уходило… Герой Стрельцова хотел осознать главное: что помогало поколению отцов выжить в огненной деревне, что, не замечаемое ими как менее значимое, чем высокие стремления души, оставляло эту душу живой в самые тяжкие дни. Герой Стрельцова должен был пойти к истокам своей жизни, чтобы узнать «секрет» жизнестойкости своих отцов и матерей.
Такое «путешествие к истокам» совершалось, кстати, не только в прозе Стрельцова — была в нем жизненная необходимость, коль скоро в эти же годы появились романы Ивана Мележа, автобиографические в основе своей книги Брыля, Адамовича, Науменко, рассказы Адамчика и — уже в самое последнее время — зазвучали записанные белорусскими писателями голоса сожженных деревень и написано было «Чужое небо» Саченко.
«Помни!» — начертано надо всей белорусской литературой. Помни это и не забудь и знай. Помни. Так вот и в творчестве Михася Стрельцова осуществлялся этот всеобщий завет, появились проникновенное его «Доброе небо», «Четвертый год войны» и, наконец, самое, пожалуй, значительное — повесть «Один лапоть, один чунь».
Конечно, хотелось бы, так вот сразу, и подкрепить свои утверждения какой-нибудь «ударной» цитатой. Но, увы, Михась Стрельцов не думал, когда писал, об удобствах своих критиков.
Вот, к примеру, рассказ «Перед дорогой» — ну, что в нем такого уж примечательного происходит? Да ничего: хата, сидят приезжие люди, беседуют с хозяйкой. Смеркается, идет затяжной мелкий дождик. Горит огонь в печи… Затем гости, приезжавшие по грибы, отправляются в путь, в город. Сидит в кузове под брезентом парнишка, хочется ему спать, хочется скорее домой, в тепло, к молодой жене. Спит в кабине, привалясь к мужу-шоферу, пожилая женщина. И снятся ей грибы, грибы…
А ведь перед нами — и я, право, не преувеличиваю — один из лучших образцов белорусской прозы. Его трудно пересказывать: действия в нем почти нет, персонажи больше молчат, думают, вспоминают. И в воспоминаниях этих нет ничего исключительного — у миллионов такая судьба: фронт, голод, оккупация. О чем бы ни говорилось, что бы ни думалось: все сводится к одному, общему для этих разных людей — памяти о войне. Она помогает им понять друг друга почти без слов. Солидарная память, так, пожалуй, можно назвать это.
Потому что это еще и память о человеческой солидарности, отзывчивости к чужому горю — качестве великом и необходимом. Незнакомые люди помогают выжить с малыми детьми жене шофера, доброе сочувствие гостей помогает хозяйке дома снять хоть крохотку тяжести с сердца, изошедшегося болью о погибшем сыне… Добро, доброта необходимы человеку, как воздух, без них нет жизни, они способны поднять, поддержать, дать силы жить, когда кажется, что и жить-то невозможно. Подлинный гуманизм не может быть абстрактен — он действен, он необходимое условие человеческого существования…
Есть у психологов тревожный термин: «эмоциональная тупость» — неспособность сострадания чужому горю и, как обратная сторона медали, неумение разглядеть свою собственную — возможную — радость. Зачем возвращаются к детству своему герои Саченко, Адамчика, Стрельцова? За свежестью взгляда, за одухотворяющей живой болью памяти, что не позволит им впасть в тупосердие.
Вот идет по городской улице герой Михася Стрельцова («Смаление вепря»), холодно бьет в слепые окна «безучастным светом» заходящее солнце, и потерянно чирикает в кустах сирени «непонятно одинокая птичка», и тревожно и потерянно на сердце человека от «печальной полоски распахнутой на западе вечерней зари».
Что с ним? Какая-то боль внезапная в сердце. «Это была мысль о матери… В печальном, странно замедленном раздумье шел он домой, и шла мысль о матери, вернее память о какой-то вине перед ней, воспоминание о растраченной понапрасну силе его любви, которая, может статься, никого не согрела. Струилась криница под шатром родных лип, и вглядывалась, вглядывалась из-под руки вдаль мать…
С этого дня беспокойство и тревога поселились в нем». И так же неприметно жила память о матери в сердце Максима-Книжника — не она ли звала его в родные края, оживляла сухое, книжное знание родной белорусской речи?
Есть, должен быть в душе у каждого человека некий нравственный эталон-пример. До поры до времени забываешь о нем, а вот подходит такая минута в жизни — и ощущаешь: до этого момента, до этого шага все еще юношеские шалости, все молодые поиски были, а вот отсюда уже дорога всерьез и без поворота пойдет — остановись, поразмысли.
Ненаполненность жизни — вот что тревожит, что покою не дает героям Михася Стрельцова. Недовольство собою. Как немой укор стоит в памяти, вглядываясь вслед им из детства, мать… На многое же дала она им сил — куда растрачены эти силы, согрели ли они переданным матерями теплом хоть кого-нибудь?..
«…Нет иной мудрости для нас, людей, кроме той, что надо быть по-человечески добрым и мужественным», —
к такому выводу приходит уже взрослый герой повести «Один лапоть, один чунь», Иван, подводя итоги пережитому, урокам детства.
Так что же было там, в том детстве военных лет, почему Михась Стрельцов постоянно возвращает к нему своих героев? Вообще, зачем мы вспоминаем? Нужны ли кому-нибудь, кроме нас самих, эти картины уже почти неправдоподобного — для молодых наших слушателей и читателей — времени: пустые холодные избы, скудный быт, жалкая одежонка, ломоть сырого, пополам с картошкой хлеба?
Мне кажется, что нужны и необходимы. Не хлебом единым жив человек тогда только, когда есть у него ясное понятие о цене этого хлеба, о том, как тот кусок достался ему от его отцов и дедов. Жизнь духовная начинается там, где есть понятие об истории — твоей семьи, рода, страны. Немного стоит знание хронологии, дат и цитат, если не подкреплено оно знанием сердца. Это знание дают человеку семья и искусство. В искусстве история оживает, становится частью личного опыта читателя. Вот почему, так мне кажется, художник, пишущий о самой что ни на есть современности, должен неминуемо совершать (пусть даже сам для себя) экскурсы в прошлое: под самым современным произведением лежит массив продуманного и прочувствованного автором прошлого — центр тяжести, залог устойчивости прозы. Кстати, как часто впечатление холодности, неодухотворенного профессионализма, возникающее при чтении произведений довольно-таки способных литераторов, вызывается именно отсутствием в этих произведениях осмысления истории как начала всех начал.
Для меня бесспорна современность повести Стрельцова «Один лапоть, один чунь», повести о прошлом, о далеком детстве — настолько это время, люди, окружавшие когда-то героя повести, Иванку, определяют его нынешнее мировосприятие, его нынешний внутренний мир.
В галерее героев Михася Стрельцова неизменно рядом (если не в действии, то непременно в раздумьях, в мыслях персонажей) мать и сын, дед и внук — непрерывно время. И трудно бывает определить, где формальный главный герой: мальчик ли это Иванка или дед его Михалка — оба главные, один невозможен без другого.
Личность маленького Иванки формируется в том нравственном поле, которое создает вокруг себя дед, все понимающий, жалеющий всех осиротевших, изголодавшихся по куску хлеба и по доброму слову. Но ведь и сам дед держится в жизни благодаря внуку: сил уже нет, уходят и уходят они из него помаленьку — только внук, только тревога за него да боль за вдову дочь держат деда Михалку на земле. С мыслью о смерти дед свыкся: «этого не минуешь», — но как пойдет жизнь у дочери, у внука, что будет им опорою, поддержкой в жизни?
Дед завещает Иванке все свое богатство: доброту. Он знает, что без нее не проживешь, но знает и другое: нелегкий это груз, такое наследство, — и дед Михалка, как бы предвидя будущие сомнения внука, его интеллигентские «рефлексии», молится богу, вопрошает его: «Какая тобою положена мера добра?.. Пошли ему испытания по силам. Не сделай так, чтобы надломилась его душа под тяжестью добра, но не сделай и так, чтобы душа его стала черствой. Положи ему ту меру, которую не дал ты мне».
Он за всех, кроме себя, просит бога: за ожесточившуюся, разуверившуюся в людях дочь, чтоб послал ей бог доброго человека, за старуху жену, чтоб пожила еще хоть немного: «не убудет тебя от этого, господи…»
Через двадцать лет вдруг откроется взрослому уже Иванке дедова мудрость, вдруг поймет он, скольким в себе обязан деду. Но капля этой мудрости была заронена в сердце Иванки еще тогда, когда жив был дед. Есть в повести «Один лапоть, один чунь» поразительная по психологической тонкости, по проникновенности в тайное царство души глава — сон Иванки.
…Спит, забравшись на чердак, к теплой трубе, Иванка. Спрятался он ото всех, не хочет, чтобы видели его слезы, расспрашивали его мать и дед: обидел Иванку Тявлик, переросток. Душит злоба Тявлика: фашисты убили отца, спалили хату. И в школе не ладится у него: с малышами сидит. И даже такой несчастный и бедный Иванка колет ему глаза: злится Тявлик и на него, такого — с его точки зрения — благополучного, и на деда Михалку, обучившего малыша счету и грамоте: «очень умными стать хотят». Достается маленькому Иванке от Тявлика, просто житья нет.
И снится Иванке, будто идет он полем, теплым, весенним, с молодой зеленой травкой. И вдруг слышит он шаги за собою — прямо на Иванку шел человек. Это, оказывается, тоже Иванка, только взрослый Иванка. Он и на войне побывал, и в госпитале, и за отца Иванкиного отомстил фашистам. И просит взрослый Иванка у маленького: найди мне обрез, «поганенькое ружьецо какое-нибудь. Я пойду убивать Тявлика. Я там, около леса, уже и яму выкопал. Чуешь, как пахнет земля?»
И внезапно вся скопившаяся на сердце Иванки обида на Тявлика выкипает ужасом. И кричит он во сне своему взрослому «я» — мстителю: «Не хочу! Не хочу!.. Не трогайте его, не надо трогать! Он совсем дурной еще, ничего не понимает. Его не перевели в пятый класс, он потому злится». И почудилось Иванке, что где-то плачет Тявлик, что несет ветер в поле, рвет в клочья этот плач…
Великую основу доброты — терпимость и сострадание чужому несчастию — посеял в детском сердце дед Михалка, и проклюнулось в вещем сне Иванки посеянное зерно…
…Я перечитываю «Один лапоть, один чунь», и по какой-то причудливой ассоциации припоминается мне сказка Салтыкова-Щедрина «Пропала совесть». Никаким боком, кажется, не соотнести мягкого лирика Михася Стрельцова с язвительным русским сатириком, а вот, поди ж ты — будто прямо к деду Михалке и его внуку обращены слова Салтыкова-Щедрина.
Долго ходила по рукам совесть — и у ростовщика была, и у хапуги-полицейского, и у кабатчика, — и всяк ее хотел побыстрее с рук сбыть: мешала. И взмолилась совесть, обратясь к последнему своему хозяину, какому-то мещанинишке, что «в проходном ряду пылью торговал и никак не мог от той торговли разжиться»: «отыщи ты мне маленькое русское дитя, раствори передо мною его сердце чистое и схорони меня в нем! авось он меня, неповинный младенец, приютит и выходит, авось он меня в меру возраста своего произведет, да и в люди потом со мной выйдет — не погнушается».
И мрачный, скептический Щедрин кончает свою сказку словами «наивной» надежды:
«Растет маленькое дитя, а вместе с ним растет в нем и совесть. И будет маленькое дитя большим человеком, и будет в нем большая совесть. И исчезнут тогда все неправды, коварства и насилия, потому что совесть будет не робкая и захочет распоряжаться всем сама».
Именно так верит дед Михалка и вместе с ним автор «Смаления вепря» и повести «Один лапоть, один чунь» в жизненную необходимость и силу человечности.
Традиционная «деревенская» и новаторская «интеллектуальная» струи прозы Стрельцова — не две отдельные мелодии одного автора, а взаимопроникающие, перекликающиеся и переплетающиеся, дополняющие друг друга темы. Пока они, эти две темы, все же чисто физически, что ли, формально отделены, существуют в двух параллельных рядах-произведениях. И сдается мне, что такое положение вещей уже не устраивает самого автора: в повести «Один лапоть, один чунь», в рассказе «Смаление вепря» чувствуется явное стремление Стрельцова к синтезу, стремление соединить в пределах одной вещи и прошлое и настоящее. В этом смысле «Смаление вепря» — произведение экспериментальное, рассказ о рассказе: с одной стороны — раскрытие дверей в «кухню» прозы Михася Стрельцова, а с другой, так мне представляется, — творческий перспективный план будущего большого произведения, к которому идет Михась Стрельцов.
Вяч. ИВАЩЕНКО
Примечания
1
Дайте мне, пожалуйста, ручку (англ.).
(обратно)2
«Пармская обитель» (франц.).
(обратно)3
Брось ты плакать и крушиться Об участи родной страны! Не видишь — солнце золотится Ночами в зеркале луны? (Перевод Б. Иринина) (обратно)4
Познать радость, испытать наслаждение (бел.).
(обратно)

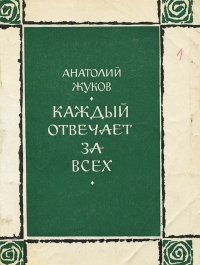

Комментарии к книге «Журавлиное небо», Автор неизвестен
Всего 0 комментариев