«…только бы нам и одетым
не оказаться нагими».
Из старых книг
Глава первая КЛЮЧИ СЧАСТЬЯ
Шофер пошел к дому, обходя кучу снега вперемешку со строительным мусором, а Шибаев вылез из машины, и отошел в сторонку — сейчас шофер выведет девочку и лучше ей не показываться. Так требует Ирма, не нужно посвящать ребенка в их интимные трали-вали, девочке уже 9 лет, она уже получает любовные записки и с мамой делится, да еще какие записки, именно про любовь, взрослые сейчас таких не пишут. Пусть их связь останется пока втайне, для дочери нет переходных моментов, либо муж маме и отец мне, либо никто.
Шибаев потоптался возле машины, посмотрел, как из-под багажника била белесая, густая от мороза струя выхлопа, — циклон с Таймыра, не то с Памира принес гражданам Каратаса подарочек к Новому году градусов этак под 30,— потоптался, посмотрел вокруг и прогулочно пошел вдоль нового дома, глядя на освещенные, ничем не зашторенные окна, тиская в кармане ключ от новой квартиры, гладил его, поглаживал, будто приручая зубастую упрямую тварь, она долго не давалась в руки.
Возле крайнего подъезда стоял фургон и два-три человека разгружали плохонькую мебель, узлы и стулья, всякий домашний скарб и стопки книг, связанных кое-как, Шибаев понял, что въезжает кто-то так себе, ни Богу свечка, ни черту кочерга. Однако надо выяснить, кто он такой, почему попал в дом для руководящих товарищей, далеко не всякий может сюда получить ордер, надо узнать. Из мудрецов мудрец Гриша Голубь учит, как можно больше пополнять копилку, банк данных, на руководящих и на тех, кто имеет шанс пойти на повышение. Чем выше у человека положение, тем больше надо собирать о нем сведений, проще говоря, гадостей, — всегда пригодится.
Шибаев прошел мимо фургона, не останавливаясь, повернул обратно и еще раз мимо, замечая подробности. Сгружали книги мальчишка в треухе и женщина в спортивных брюках, в куртке и в пуховом платке, книги разномастные, всякую мелкоту, ни одного собрания сочинений, а подавал им с фургона мужчина в пальто с шалевым воротником, Шибаев узнал его — новый редактор газеты. Подойти или не подходить? А что я с этого буду иметь? Переборка вариантов у Шибаева быстрая, первый — здравствуйте, добрый вечер, я Шибаев, директор мехового комбината, тоже вселяю семью, знаете ли, своей сестры, новый дом — это замечательно, в самом центре, напротив — гастроном «Рахат». Но такой вариант отпадает сразу. Если при случае Зинаида дунет в редакцию (а у нее расправа над мужем идет штурмом, она сразу и в горком, и в управление местной промышленности, ну и, конечно, в газету, массированную ведет атаку), то редактор сразу вспомнит их знакомство тихим декабрьским вечером; так что живи, товарищ новосёл, пока без меня.
Шибаев вернулся к своей машине, ждать пришлось недолго, в ярко освещенном, как и полагается в новоселье, подъезде, пока пацанва не успела перебить лампочки, появился Коля, придерживая девочку за плечо одной рукой, а другой таща пузатую сумку, набитую подарками, между прочим, — за чей счет? Девочка в шубке, вокруг воротника обмотан длинный шарф, концы его спускаются до колен, гордо идет, щёчки надуты, никого не видит, собралась к бабушке на рождество. Коля поджарый, в меховой куртке, в собачьих унтах и в джинсах, пижон и лихач, если полетит какая деталь в дороге, пока наладит, задницу отморозит запросто. На ходу он кивнул шефу, посадил девочку на заднее сиденье, там ребенку безопаснее, он все знает и всё умеет и язык за зубами держит, за что Шибаев платит ему дополнительно 30 процентов как за погрузку-разгрузку на грузовом транспорте. Коля обошел машину перед капотом, стукнула дверца, струя выхлопа стала белее и злее, и машина мягко тронулась. Ехать ему не близко, 40 километров, в горняцкий поселок Дружба, где живет мать Ирмы, старая женщина, ей хочется встретить рождество вместе с внучкой — сегодня как раз сочельник.
Шибаев поднялся на 3-й этаж — вот она, квартира 43, им добытая, подаренная Ирме Маликовой, урожденной Вальтер. Бывший муж оставил ей местную фамилию, с ней легче жить, дали ему 12 лет, вышел условно-досрочно, запил и где-то пропал, о чем ни жена, ни дочь не жалеют. Днем она подождала Шибаева возле гастронома «Рахат», румяная от мороза, возбужденная, с ошалелыми голубыми глазами, показала ему ордер и передала ключ — теперь у нас с тобой есть долгожданная крыша, спасибо тебе, милый Рока.
Чего стоила ему эта квартира, говорить пока рано, он еще только начал за нее расплачиваться. Во всяком случае, шуба из каракуля сорта бухарский сур на пухлые плечи жены Барнаулова, мэра славного города Каратаса, первый дар. Но далеко не последний. Таково нормальное течение жизни, «ты мне, я тебе» придумано не Шибаевым, и хорошо, что люди этот главный принцип общежития соблюдают. Исполком будто знал, сколько пришлось Шибаеву с Ирмой искать пристанища на вечерок — и по кустам, бывало, шарашились, и на сиденье «Волги» умудрялись, и на чужих квартирах, летом в отпуск сбегали на море, в Геленджик, славное местечко. И постоянно прятались, ухитрялись, изощрялись, зная, что Зинаида даст фору любому сыщику, она не только мастер слежки, но и высший спец по расправе, такая стерва находчивая и беспощадная, нет ей равных, и если бы не Валерка и особенно Славик, Шибаев давно бы плюнул и ушел из семьи.
Ладно, Шибер, хватит сопли мотать, получил — радуйся, остальное все пыль, зола. Теперь у них с Ирмой своя двухкомнатная квартира, и встречаться они могут в любое время. Он переступил порог и церемонно снял шапку, как перед важным событием. Ирма обняла Шибаева, любимого и настоящего мужчину, прижалась к нему, привстав на носки, и он ощутил ее руки на затылке, халат ее разошелся, и она прильнула к нему тяжелыми грудями. Пахло кулинарией, жареным-пареным, курицей в соусе или, может быть, даже индейкой, она знала, как он любит поесть, особенно, если она сама приготовит.
Год назад вот так же, на ее рождество, 25 декабря, она угощала его индейкой и пудингом. В тот день они загадали к следующему рождеству получить квартиру…
А что они загадают сегодня?
— Сначала давай посмотрим, чем нас порадовали строители.
В прихожей уже лежал ковер, Шибаев бросил на него дубленку, разулся, в приоткрытую дверь увидел, в комнате на полу тоже ковер, и нигде никакой мебели — так они условились.
— Начнем с двери, — сказал он. Нацарапанная на двери мишень была поколупана в центре, метали ножик и довольно метко, дырки с заусеницами так и остались, ничем их не заделаешь, надо дверь менять. Та-ак, дальше пойдем. Обои клеили до побелки, края сверху замызганы известью, впрочем, тоже мелочь поправимая, пойдем дальше. Линолеума в прихожей нет, отдали за полбанки кому нужнее, плинтуса тоже нет, режим экономии. Дверь в ванную есть, правда, на одном шарнире, на полу в ванной мелкая плитка, на ней остатки цемента, чем его сбивать — надо советоваться, возможно, динамитом. Ирма всё это уже видела, успела привыкнуть и не досадовала, а он искал забавы, чего-то смешного, чьей-то проказы, следов розыгрыша, ждал и не мог дождаться, сгорая от нетерпения. Прошли на кухню — новая газовая плита пока не подключена, но Ирма уже пристроила на ней два прибора — духовку новую с сизыми боками и электроплитку. Возле раковины мерцал кафель мутно-зеленого цвета, одна из плиток уже отвалилась, и Шибаев при виде этой картины повеселел, он, кажется, нашел, что искал, подошел и колупнул крайнюю плитку — она легко отскочила и упала к его ногам, он колупнул следующую, и следующая упала еще легче.
— Ты чего хулиганишь?! — Ирма попыталась оттянуть его за руку, он воспротивился, он дорвался, словно ребенок до желанной игрушки. Следующая плитка не поддалась, он схватил первое, что попалось, — вилку, и коротким тычком начал сколупывать плитку за плиткой, приговаривая: «Ать-тя-тя! Ать-тя-тя!» Плитки брякали к его ногам, а он дальше шел, колупал следующую с интересом, будто вот-вот секрет откроется, может быть, дыра к соседям, голову просунешь и поздороваешься, очень ему хотелось какой-то замыкающей пакости, особой нелепости — ать-тя-тя! — и плитки падали, словно состязаясь, какая быстрее. Но вот попалась одна упрямая, не поддалась сразу, он ее обошел, посбрасывал все до угла, потом вернулся к упрямой, колупнул ее сильно — не поддалась, даже вилка согнулась, он схватил тяжелую сковороду, изо всей силы шибанул по плитке — не дрогнула, прихвачена намертво, на совесть сработано, — и он захохотал от души, наконец-то дождался, не обманулся, хохотал громко и всласть, — вот она, р-ра-бота, вот она, забава, дунь-плюнь, — все отвалится, но одну надо присандалить так, чтобы ее ни отбойным молотком, ни забойным турбобуром нельзя было ни отодрать, ни сбить, ни разбить. Ну, молодцы, ну порадовали, бесогоны, ему бы таких наглых два-три в экспедиторы.
— А себе стал бы работяга строить вот так? А детям своим стал бы? А если бы дом с плиткой не народу принадлежал, а лично ему? Ну скоты-ы, — тянул он ласково, довольный проказой, — ну молотки-и, его величество…
— Хоть что-нибудь сделали бы по-человечески, — машинально посетовала Ирма, хотя на самом деле она готова была войти в квартиру без стен, без окон, без дверей, лишь бы с крышей, остальное Шибаев сделает. Если он получил ключ для встреч, на время, то она — для жизни, навсегда.
— Ладно, пришлю Цыбульского, пусть наведет марафет.
— Ты уж его потерпи, пожалуйста, еще немного, — попросила Ирма. У Шибаева с Цыбульским дружба, как у собаки с кошкой, в гробу бы его видеть, но придется снова к нему обращаться, поскольку Цыбуль-ский — начальник РСУ, ремонтно-строительного управления. Без него Шибаев не сдал бы досрочно цех выделки и крашения. Цыбульский свое получил, можно было бы его послать подальше, но дружбу терять не будем, вернее сказать, вражду, при ней легче считать дебет-кредит. Конечно, он сдерет за квартиру по-наглому, ну и что? Каждый работает, как умеет.
— Я боялась, что после той истории он обозлится, — сказала Ирма.
— Деловые люди знают, злость не рентабельна. Как говорит Гриша Голубь, делать бизнес — значит объединять интересы.
Перед ноябрьскими праздниками во Дворце культуры металлургов Цыбульский настелил линолеум ни в сказке сказать, ни пером описать. Шибаев попросил Цыбульского настелить такой же у него в приемной и в кабинете, тот согласился, и всего за триста рублей сверх наряда, то есть чистых на лапу. В пятницу договорились, в субботу линолуем был настелен, в понедельник Цыбульский прибыл на своем «Жигули» под номером «10–10» получить навар. Самого Шибаева не было, он уехал в управление местной промышленности, Цыбульского встретил Вася Махнарылов и сказал, что Роман Захарович платить не велел. «Почему?» — вежливо осведомился Цыбульский. «Не та работа, — сказал ему Вася, — дерьмовый цвет и вообще туфта». Во Дворце линолеум сиял оранжевым полем с косыми зелеными квадратами, а директору мехового комбината настелили черт знает что, цвета гнилой соломы с разводами грязи. Цыбульский подождал-подождал, может быть, Махнарылов что-то добавит, и Вася добавил: «Я не хочу печалить вас ничем, но за такой вшивый дерматин можно и схлопотать», — после чего начальник РСУ укатил на своих «10–10» без трехсот рублей, о чем Вася доложил Шибаеву после обеда.
Но едва он успел доложить и отбыть на строительство цеха выделки крашения, как в кабинет Шибаева, попирая звонкие требования секретарши Сони, вошли два мордоворота, полпреды Цыбульского, один благодушный верзила под потолок, второй маленький и злобный, как крыса. У Цыбульского контингент известный — вчера из зоны, эти же были — позавчера, ибо вчера они обмывали свой выход в свет, разило от них на версту. Без лишних слов, ни здравствуй, ни прощай, прошли они в дальний угол шибаевского кабинета и начали двигать там святая святых — бар с бутылками внутри и с цветным телевизором снаружи, причем верзила, пятясь, саданул задом по столу Шибаева так, что загремели его телефоны, а чернильный прибор «Кобзарь» с календарем и приемником на батарейках свалился на пол, на этот самый злосчастный линолеум, но сокрушители и ухом не повели. Спокойно, неторопливо, они начали отдирать линолеум железякой, какой взламывают обычно квартиру грабители — гвоздодером, фомкой. Шибаев смотрел на них молча, останавливать их всякими словами вроде «какое вы имеете право» он не пытался, но было бы ружье под рукой — пристрелил бы, как кабанов, в упор, и легко бы доказал, что защищался и не превысил пределов необходимой обороны, в чем ему помог бы Гриша Голубь. Они отодрали одну полосу ближе к окну, затем настал черед полосы, на которой стоял стол Шибаева, маленький взялся за край и сказал невыразимо гнусным голосом: «Па-ад-винься, дядя». Шибаев в тон ему ответил: «Чичас», набрал телефон РОВД, повезло, попал сразу на Игнатия Цоя, и приказал ему: срочно наряд. С наручниками. Без шуток. Разбойное нападение. Большой что-то попытался сказать в оправдание, вроде, нас послали, а маленький злобно выдавил: «Ты, дядя, большой шутник, смотри, так можно и с жизнью расстаться», — и поиграл, переложил фомича с руки на руку. А когда с воем сирены подкатил милицейский газон, Шибаев выложил из карманов все, что было — носовой платок, ключи и расческу, кошелек с деньгами, спустил свой галстук до пупа, перевернул бумаги на столе, мало того — сейф раскрыл с документами и сам встал руки вверх под портретом Л. И. Брежнева. «Э, начальник, э, — пытался его остудить верзила, — у нас же приказ Цыбульского», — а маленький злыдень зашепелявил: «Да ты щё, сука, да ты щё?» Вошли трое в новой форме цвета маренго и в самом деле с наручниками, маленький схватил напарника за рукав и заголосил по-свинячьи: «С-саня, нам тут статья карячится! Саня, я же условно досрочный!» — после чего упал на колени перед столом Шибаева и начал икать, да с такой силой, что голова его дергалась, как от удара, вот-вот отвалится и скатится на линолеум. Прямо из кабинета Игнатий Цой, старший лейтенант милиции, замначальника РОВД, отвез их в нарсуд Октябрьского района, им тут же влепили обоим по пятнадцать суток — к величайшему их счастью, ведь ничего не стоило правосудию вломить им и по пятнадцать лет, поскольку была полная картина разбойного нападения на должностное лицо при исполнении служебных обязанностей. Была еще одна мелочь — в приемной сидела в тот день молоденькая секретарша Соня Костаниди, Шибаев принял ее неделю назад по просьбе Гмырина, она родственница его лучшего экспедитора. Шибаев провел с ней собеседование, заверил, что место спокойное, заходят к нему люди солидные, из горкома, из исполкома, из шахтоуправления, надо быть вежливой, внимательной, встречать с улыбкой, а тут на тебе — недели не прошло, как вломились головорезы и чуть не унесли пол из кабинета вместе с директором.
После того, как полпредов Цыбульского увели в наручниках, Шибаев позвал Соню к себе, сказал, такое бывает у них не каждый день, пусть она не впадает в панику, а за стресс вот ей компенсация из директорского фонда — и подал ей розовую десятку, купить на все валерьянки. Соня приняла деньги с очаровательной улыбкой и сказала шефу, что не станет возражать, если такие проказы будут случаться каждый день. Она, конечно же, была напугана, но не настолько, чтобы не понять, деньги ей дают дармовые, и надо бы отказаться, но ведь это не взятка, не из личного кармана директора, а из фонда предприятия, она взяла десятку не моргнув глазом. Очень красивая девушка, все точеная, фигурка божественная, за машинкой сидит, как за роялем. Гмырин со своим лучшим экспедитором могли пристроить такой товар в приемную и повыше, но когда Шибаев так сказал, они возразили: повыше хорошо, а помягче лучше. А к розовой десятке у Сони особое отношение, это ее тайна, розовую она любит гораздо больше других купюр, бывают же у человека свои прихоти, хотя Соня совсем не падка на деньги.
Цыбульского этот эпизод не напугал. Когда в следующий понедельник Шибаев вошел утром в свою приемную, он увидел ободранный пол, весь навозный линолеум был содран по-хамски, оставленные нарочно гвозди торчали там и сям. Шибаев, увидев такую картину, рассмеялся сочным басом и в тот же день поехал к Цыбульскому — я тебе не горздрав и не райсобес, получишь свои триста, только настели цветной покрасивше Как психиатр бывает отчасти похож на своих пациентов, так и Цыбульский был похож на своих условнодосрочников — невероятно наглый, хитрый, всегда заряженный на охмурёж, из тех, кому плюй в глаза, он скажет — божья роса. Оказалось, хороший линолуем пришлось отвезти в Жаманкол, в межрайбазу, Гмырину, он очень просил, а Цыбульского в свою очередь жена просила достать через межрайбазу хельгу и туркменский ковер, так что, Шибер, не обижайся. Спустя неделю, Цыбульский привез ему чешский линолеум, еще лучше, чем во Дворце, зачем повторяться? — получил свои 300 и тут же пригласил Шибаева в свою сауну, он только что закончил ее строительством (нельзя говорить «построил», несовременно, надо говорить «закончил строительством», а вместо «дождик идет» — «погодные условия») Сауна действительно оказалась потрясной — в два этажа, с шашлычной, с баром, трех цветов мрамор, бассейн выложен кафелем гэдээровским, на стенах резьба по дереву, нет такой бани по всей республике, в Алма-Ате только еще проектируют, а в Каратасе уже построена. И не только для начальства, тут надо Цыбульскому отдать должное, он разрешил своим работягам мыться в царской сауне три раза в неделю, и они в первый же день проиграли в карты шашлычника — тот скрылся в неизвестном направлении.
Ну и, конечно же, без Цыбульского Шибаев никак бы не обошелся при строительстве цеха выделки и крашения, чего уж тут рыло воротить, наоборот, надо начальнику РСУ в ножки поклониться, всё достанет, всё привезет, тут же и сдерёт, а как же иначе? Драл нещадно, нахалюга и хищник, но крайне нужный деловар. Только он и сможет отделать новую квартиру, как надо.
— Ложись, Рока, сидеть не на чем, сам запретил.
Да, он ей приказал, чтобы ничего старого, никакой рухляди она не вносила в новую квартиру — всё будет новое.
Ирма постелила на ковер клеенку, на нее водрузила тяжеленную чугунную утятницу, рядом бутылку его любимого коньяка «Двин», боржоми, рюмка — поехали. Выпили за рождество. Полагалось бы подарить ей что-нибудь, кольцо золотое, перстень с бриллиантом, важный праздник, но у него не было времени, Ирма не обидится, он столько перетаскал ей в простые дни, что в праздник может прийти с пустыми руками, — себя принес.
Индейка была очень вкусной, Шибаев чавкал, как кабан, Ирма радовалась, зная, что он любит поесть.
Из дырки на потолке свисал шнур с лампочкой без абажура, и на нитке — ветка елочки с двумя шариками, желтым и лиловым, все-таки Ирма молодец, везде умеет навести уют.
— Люстра будет обязательно хрустальная, — сказала Ирма, — я видела на днях в электротоварах за тысячу четыреста. Пока разглядывала, какая-то фифа купила ее, не глядя.
— Кто такая? Ты ее запомнила?
— В общих чертах. Мне кажется, с ней шофёр был.
— Должностные берут с базы или через подсобку. Людей денежных мы должны знать. Всех! Это могут быть нужные деловары, их нельзя упускать, я тебе уже говорил, узнавай, знакомься, ты всегда умеешь подъехать, у самого чёрта все тайны выведаешь.
— Мне бы хотелось еще Ирочкин уголок оформить, особый столик типа парты, книжную полку и тахту. Но только не с бору по сосенке, а гарнитур, я видела такой в журнале «Гут морген».
— Гмырин все может, съездим в Жаманкол вместе.
— В спальню тоже хочу гарнитур, и в гостиную гарнитур, у нас с тобой, кажется, есть кое-какие возможности. — Шаловливо говорила, игриво, любила подчеркнуть, как у них много денег, умела это подать уместно и так, чтобы он собой гордился, своей хваткой, умением, результатом.
— Всё сделаем, Ирма, но есть вопрос. Надо ли обарахляться, обставляться, если план у нас — на Москву. Или ты раздумала?
— Нет, Рока, нет, — сказала она ласково, — совсем не раздумала, наоборот! Я просто ждала момента, чтобы тебе напомнить. — Она, когда захочет, покорная такая кошечка, сладкая, так бы лизал ее и лизал, пока не съел. — Давай поклянемся сегодня, следующее рождество будем встречать в Москве. Я верю, ты, Рока, у меня сильный. Мельник переехал, а мы чем хуже его? Но мебель нужна, нам с тобой здесь встречаться, и я хочу все устроить по высшему разряду.
— И все повезем в Москву?
— Ты думаешь, в Москве так легко достать хорошую мебель? Там только местная, а импорт, «Версаль» или, скажем, «Кристину», купить невозможно, спроси у Мельника, он в Жаманколе заказывал для своих москвичей.
— Какого чёрта ты с Мельником не уехала?! — вспылил он.
— Не берёт! — так же сразу вспылила она и тут же спохватилась, будет скандал, сейчас он ей врежет, надо спешно исправиться — и полезла его целовать.
Мельнику помог Гмырин из межрайбазы в Жаманколе. Шибаев с ним знаком, хотя не так близко, у обоих самолюбие, ждут, кто первый поклонится, а Мельник не ждал, твердил: первым кланяется тот, кто умнее, — так, впрочем, и получалось у Мельника, он оказывался всегда умнее, то есть в выигрыше. Сейчас в Жаманкол идут от Шибаева как по фонду, так и без фонда воротники из песца, из лисы, из каракуля, метражные атлас и шелк, одеяла простые и шерстяные, вдобавок еще и шапки из кролика. За дефицитом к Гмырину из Москвы едут, из Тбилиси едут, он делец всесоюзного масштаба, и Шибаев должен идти к нему на поклон, голова не отвалится, и должен давать, без мази не будет связи.
— Уедем в Москву, а квартиру так бросим? — спросил Шибаев недовольно, и понять его можно, старался-старался, выбивал-выбивал, а она вильнула хвостом — и нет квартиры.
— Вряд ли найдутся люди менять Москву на Каратас.
Конечно же, она имеет в виду свою родню, в поселке Дружба у нее мать, две сестры, племянники, дядья и тетки, целая колония Вальтеров. При Сталине там были лагеря, как мужские, так и женские, потом зоны разгородили, многих освободили, многие разъехались, но многие и остались, кто просто прижился, а кому и опасно было ехать на родину, если рыло в пуху, полицаем служил, или с бандеровцами якшался. Ссыльных много было в этом краю, начиная еще с 20-х годов, особенно в коллективизацию, когда по всей стране вкруговую гоняли тех, кто успел кое-что нажить при советской власти, — из России гнали в Казахстан, из Казахстана в Россию, лишь бы оторвать от земли, от дела, а потом голод «от буржуазного окружения». Корейцев сюда привезли в тридцать седьмом, немцев в начале войны, чеченцев и ингушей в середине, еще кого-то в конце войны — всех и не сосчитать.
— А теперь главное блюдо, — сказала Ирма, — рождественский пудинг с изюмом, и чай. Со слоном.
После чая он развалился на ковре, блаженствуя. Вечером он встречал Талабаева, заместителя министра из Алма-Аты, завтра в Каратасе совещание по охране труда и промышленной эстетике. Будем работать не только на количество продукции, но и на красоту. Из управления Шибаеву прислали билет в президиум и попросили съездить в аэропорт — кому же встречать замминистра, как не меховому королю? У Шибаева не только вид представительный, в местной промышленности он фигура республиканского масштаба, но и это еще не всё — у него карман толще, чем у всех этих должностных. Встретили честь по чести, выехали на черной «Волге» прямо на летное поле к самолету, хотя и не положено, но это кому-то не положено, а нам все ворота открой. Отвезли в гостиницу — шикарный люкс, холодильник, телевизор, над диваном картина в раме «Трое на охоте», ужин в номер потребовали на три персоны — коньяк армянский, икра двух цветов, черный кофе, выложил тут же 120 рэ (Шибаев, но не Талабаев). Уселись они пить и есть, Шибаеву пришлось извиниться — жена у меня строгая, и поехал к Ирме. Зинаида у него действительно строгая, если говорить деликатно. Утром он предупредил ее, сегодня встречает замминистра, задержится — просьба хайло не разевать. Сказать по-честному, до вступления его в партию она у него месяцами в синяках ходила, однако норова своего не меняла, слежку за ним как держала, так и держит, сколько он ни принимает мер предосторожности, она все равно узнает — и когда, и с кем, и где. Сдать бы ее, заразу, инспектором в уголовный розыск, она бы там все убийства пораскрывала на пятилетку вперед. Ну и если совсем по-честному, без Зинаиды он бы наверняка спился и пропал, особенно после того, как посадили директора пивзавода, а Шибаев был у него начальником цеха розлива. Пришлось уйти и ждать, заберут или нет, пил и пил без просыпу, Зинаида помогла ему откупиться за пивзавод, и ему дали условно, тогда же он и познакомился с Башлыком, только-только начинавшим карьеру. После суда Шибаев подался в местную промышленность. И что удивительно — сам искал работу, где легко намотают срок, но зато можно делать деньги. То в галантерейный цех, то в сувенирный, то на пошив одеял.
— А тебе завтра обязательно присутствовать на этом совещании? — спросила Ирма. — Могли бы как раз в Жаманкол съездить.
— Будет секретарь горкома, надо с ним поздороваться.
Она не стала удивляться — экая важность, поздороваться, она понимала, пожать секретарю горкома руку, да еще при всех, означало заручиться поддержкой, и пусть видят, как директор Шибаев доверительно что-то говорит секретарю и при этом слегка усмехается, — взял да и пустил новый цех на целый год досрочно, и через месяц-полтора у них пойдет из цеха продукция, пусть попробует секретарь пройти мимо такого факта. Шибаев одним махом за какие-то полгода увеличил оборот комбината на пару миллионов.
— Доложу о нашей трудовой победе, не так много в городе предприятий, которые бы так справлялись с заданием партии и правительства. Нам вообще не хотели разрешать строительство этого цеха, а мы трах-бах — и досрочно. Нас к ордену надо! Так ему и скажу: наиболее отличившихся представить к награде.
— Это Махнарылова, что ли?
— А ты не смейся, Вася в том цеху дневал и ночевал. Скажу секретарю, чтобы в газете отметили пуск нового цеха. Самым энергичным образом поведем борьбу за качество, тут со мной все — и председатель профкома, и партгруппорг. В ближайшем будущем получим с этого цеха! — Он потер ладони, пошоркал крепко, Ирме показалось, искры полетели. — Деловой будет год! Душа поет, когда сам вертишься и всех других крутишь-вертишь!
Ирма убрала посуду, клеенку, остатки индейки вынесла на балкон — по полу дохнуло морозом, — он даже холодильник запретил ей перевозить, старенький, безотказный ее «Саратов», Коля увез его в Дружбу.
Он протянул к ней руку, позвал ее ближе. Она всегда целует его с открытыми глазами и вообще в самый пиковый момент она таращится, будто что-то важное проглядеть боится, ни одной такой бабы у него не было…
Потом они блаженно лежали на ковре, его тянуло в сон, она же наоборот взбодрилась, ласкалась, вспоминала, как ровно год назад, 25 декабря, в доме этой поганки Каролины (тогда они еще не рассорились) они загадали получить квартиру, — и вот сбылось. Теперь надо им шагать дальше, сбудется и Москва.
— Это мой любимый праздник, — сказала Ирма. — Мама так любила загадывать! Подарки сама делала, но мы радовались ужасно! Нищета была, ты даже представить себе не можешь, как тут было в сороковые годы, после войны!
— Я тебе уже сто раз говорил, я тут вырос, чёрт побери! Меня сюда грудным выслали вместе с раскулаченным отцом из-под Курска. Тебя в сорок первом, а меня в тридцать первом, ясно?
— Раз я тебя не знала, значит, тебя тут не было, — оправдывалась Ирма.
От ее неожиданных поворотов — не знала, значит, тебя не было, — у него вся злость оседала.
— А я из детства ни одного праздника не помню, — признался Шибаев. — У нас их не было, так мы жили. Советских не признавали, религиозные тоже по боку. Отец пил по-черному, буянил, избивал мать мою, и меня, а кто прибежит на защиту, и тому доставалось. Перед самой войной его сослали, даже из Каратаса ссылали, а в войну забрали, и похоронка пришла. Ну, это тебе не интересно.
Тепло было, спокойно лежать вдвоем, вспоминать про нестрашное уже прошлое и думать о лучшей доле, хорошо бы вот так всегда, никто бы не гнал, не понуждал. Однако же нельзя — гонят. Люди гонят, и дела, заботы, ни полежать, ни посидеть, ни поговорить, у него жена, у Ирмы дочь, и снизу контроль, и сбоку. Ирма и тут нашла объяснение — значит, мы с тобой еще не совсем потеряли совесть. Все у них есть, главное, есть деньги, не хватает малости — плюнуть на Каратас, взять билеты, куда ткнешь пальцем, и улететь на веки вечные, ведь хватит до скончания дней не только своих, но и детей наших.
Нельзя, говорит он сам себе, есть твердый план у него, как и у государства.
— Значит, здесь у нас будет спальня? — спросил он. — Что тут поставим, какую мебель?
— Гарнитур. Две кровати, шифоньер с антресолями, трюмо и пуф. Куда ковер прикажешь, на пол или на стенку?
— И туда, и сюда.
— Мещанство, милый, бросим на пол, а на стену картину какую-нибудь.
— Зачем всякую дешёвку?
— Есть картины по пять, по десять тысяч. Из антиквариата.
— А хельга? — Опять он вспомнил Цыбульского.
— Обязательно, для гостиной.
— А что это за мура, для чего?
— Для посуды, для скатерти, вообще для столовой.
— Ладно, мелочи, давай о главном поговорим.
— Главное — Москва, правильно? Чтобы следующее рождество — там.
— Главное кое в чем другом. Москва от нас никуда не денется. — Он посмотрел на нее требовательно, она не знала, о чем подумать. Может быть, он развод имеет в виду? Для Ирмы это действительно самое главное. Она смятенно на него посмотрела, не зная, что сказать.
— Главное, я должен довести свою сумму до семи знаков. — Разве этим он ей не нравится — своим миллионом в ближайшем будущем? Он даже себе нравится. Помолчал, усмехнулся, добавил: — Или до девяти грамм.
— Заткнись! — вскричала она. — Типун тебе на язык! — сразу завелась, как будто этого больше всего опасалась. — Ты же не такой дурак! — Она знала его бесшабашность, неосмотрительность, его крайности, очень она боялась беды, катастрофы, а он еще говорит так беспечно — девять грамм, то есть вес пули, как принято у них шиковать, у блатных, но он же не блатной, не вор.
— Шутка, Ирма, зачем же я буду голову подставлять, лучше карман подставить. А Москва дело пятое.
— Но почему пятое? Я устала вот так встречаться, у меня давление начинает скакать, — голос ее дрогнул.
— Я поговорю с Мельником, он должен приехать на общий сбор, будем решать.
Ей хотелось всплакнуть, облегчить душу, но у него дела, надо ей всегда быть в курсе.
— Что будете решать?
— Построили новый цех, надо держать совет, как будем создавать резерв, кому какой процент выплачивать. Цех строился на деньги долевиков.
Ему нужна опора на комбинате, нужны прежде всего люди жадные, падкие до денег, забав и удовольствий. Ну и чтобы дело делали, план выполняли, могли с людьми ладить, не пеньки, не дураки. Начальником цеха он намерен поставить Махнарылова — у Васи золотые руки, все, что надо, починит в один миг, а в Цехе выделки и крашения хватает всякого оборудования.
Поважнее начальника цеха — экспедитор, тот, кто доставляет пушнину и меха по фондам и без фондов, по закону, по блату и как можно больше левого сырья, тут должен быть рыцарь многих качеств. Шибаев надеется на Алеся Шевчика, приятный молодой человек, исключительно честная физиономия, любого может охмурить мгновенно, правда, есть у него недостаток, бывает откровенным там, где не нужно, откровенность в нашем деле совершенно не требуется. Грамотные мужики Мельник с Голубем говорят, в крупном деле — экономическом, производственном, политическом, не говоря уже о межгосударственных отношениях, — положительные качества человека постоянно дают проколы, провалы, приносят делу прямой ущерб. Хорошему деловару честность, совесть и прочие мерехлюндии надо забыть, иначе сама жизнь тебя накажет и притом жестоко. Не мешай работать другим. Требовать честности от деловара — все равно, что требовать от дуба ананасов.
Конечно, дельным экспедитором была бы Ирма, он уже думал, но передумал. Ирма уговорит любого, выбьет фонды хоть на каком уровне, все протолкнет и сделает, что надо комбинату и Шибаеву. Но, во-первых, на Ирму не даст визы Зинаида, а во-вторых, Ирма может любого должностного увести на такие подвиги, которые совсем не требуются ни Шибаеву, ни его предприятию, как увела, к примеру, три года назад его самого.
— Не забывай, у Мельника большой аппетит, — сказала Ирма, — плюс моральное право, он тебе должность директора уступил.
— «Уступи-ил», — передразнил Шибаев. — За пятьдесят тысяч наличными. — Ему стало жалко денег, вот произнес вслух «пятьдесят тысяч», и взяла злость, за государственную должность с него содрали такую сумму. Он гулко ударил кулаком по ковру. — Всех к чертям пересажаю!
— А они тебя?
— Не исключено-о, га-га! — он весело погыгыкал. — Меня-то они первого могут заложить, но я люблю рисковать, править, как черт болотом. — Он опять сильно потёр руки, будто намереваясь высечь огонь, и ей действительно показалось, будто сверкнуло нечто зубастой молнией. — Для начала всех из доли выброшу, оставлю только Васю-труженика.
Ирма приподнялась, положила его голову поближе к груди, как младенца, ей в такой позе легче было его уговаривать.
— Ты хочешь выкинуть Мельника из доли, и в то же время будешь просить его помочь нам с переездом в Москву. Одно с другим не вяжется.
— Там, где деньги, всё вяжется. За Москву он получит особо. Доля Мельника в общем котле — восемнадцать тысяч, его пай на строительство нового цеха. Он ждет, когда я эту сумму верну, да еще с процентом, а я подожду, когда он поможет нам с Москвой.
— Ой, Рока, Рока, не зарывайся. — Она, как кошка, поскребла его по волосатой груди, он и звал ее кошкой, кошечкой, а она себя считала собакой, они вернее служат. — А правда ли, что Мельник купил дачу у певицы Руслановой за двести тысяч?
— Мельник любит приврать, говорить, у него пособие за авиакатастрофу триста семь рублей пять копеек. Все разбились, а он жив остался, и Аэрофлот платит ему за инвалидность. Но дело не в пособии, в Каратасе он хорошо взял. В прошлом году он будто бы жил на даче Маленкова с деловарами из Кишинева. В нашем кругу принято себя дороже подать, чтобы аппетит растравить. А с другой стороны, если здесь, в глуши, домишко так себе стоит тысяч двадцать пять, а то и тридцать, то там все-таки Москва, не только владение продается, но и право на житьё прописка, нужна куча разрешений, а все это чего-то стоит, так что, может, и не врет.
— Мне кажется, в деле он человек надёжный.
Он повел бровями — откуда ей знать? Впрочем, он ей все рассказывает, а она вникает, женщина не глупая, бухгалтер, умеет считать, подбивать итог… Для Мельника и в самом деле формула «взял — поделись с товарищем» превыше всего, тут он джентльмен, уговора не нарушает, но не терпит, когда нарушают другие, сразу же строит пакость, немедленно! Вплоть до того, что мотают срок сообща с Гришей Голубем. В этом смысле он похлеще Цыбульского.
Кстати, Цыбульскому предстоит не только квартиру отделать, но и лекала приготовить для комбината, новые, и не простые, а золотые, дюралевые взамен картонных. Все гениальное просто. Раньше лекала на шкурку накладывались, а теперь шкурка будет натягиваться на дюраль. Зачем, спрашивается, такое новшество? — Отвечаем: для режима экономии.
Он посмотрел на часы — без четверти одиннадцать, пора вставать. Она заметила его жест, протянула тоскливо:
— Ну почему-у?
Он сразу обозлился, рывком поднялся и сел.
— Мы все можем, — продолжала Ирма, — все купить, все достать, даже квартиру вот отхватили, а самого главного!.. — и в голосе уже не грусть, а злые слезы, и всё, о чем они говорили, потеряло смысл.
— Хватит! Запела! — Ему противны ее упреки — всё можешь, а Зинаиду никак не оставишь, хотя она тебе житья не дает. Свою привязанность к дочери она ценит, а его — к сыновьям — не хочет. Кряхтя, он потянулся за брюками, кое-как ухватил за штанину и дернул к себе, лежавшие под брюками деньги рассыпались, пачки не в банковской упаковке, а наспех сложенные, перевязаны шпагатом или завернуты в газету и прихвачены клейкой лентой. Перед аэропортом он заехал в ЦУМ к Тлявлясовой и забрал выручку за шапки, почти 60 тысяч. Между пачками были и купюры вроссыпь, и обыкновенные бумажки, то ли накладные, то ли какие-то счета.
— Как будто на базаре стоял, — сказала Ирма сварливо, — с лотка торговал.
Он сопел, одеваясь, рубашку надел, застегнул брюки, пощелкал подтяжками, потом нагнулся, начал сгребать деньги — мно-ого сегодня. Сейчас он все их соберет и не оставит ей ни рубля. Смешно, денег у нее — произнести боязно, но вот видит, как он сгребает свои тысячи, не оставляя на ковре ни копейки, и ее гложет досада, ей плохо, она не может себя сдержать. Совсем недавно, неделю назад, они вместе были в Алма-Ате, он купил ей там кулон из белого золота с двадцатью четырьмя бриллиантами за три тысячи двести семнадцать рублей, ереванского завода, — но все равно она злится, глядя, как он рассовывает по карманам свои тысячи. Нет сил терпеть! Она выскользнула из-под простыни голая, розовая, и выхватила из-под его руки… нет, не пачку денег, всего лишь бумажки, две-три записки, как раз ту малость, которой ей сейчас хватит, чтобы сорвать досаду, прочитала вслух, выделяя ошибки:
— «Лина, з-зделай два пи-исца». «3-зделай» — так даже двоечники не пишут, и еще «пи-исца», который писает на горшок, что ли? А пушнина твой хлеб, между прочим. Тебе не стыдно перед твоей потаскушкой Линой-блудиной?
Он молча собирал деньги, распихивал по карманам, и поскольку денег было много, а карманов мало, процедура затягивалась. А она продолжала, словно ослепнув, не видя для себя опасности, очень уж очевидной — щеки Шибаева наливались багровостью, губы надулись.
— А мне стыдно, представь себе, потому что стервина-Каролина знает, что ты мой, и никому я тебя не отдам, она может пользоваться только крохами с чужого стола. А ты позоришься, шлешь ей жалкие записки!
Каждый день у Шибаева просители, либо их порученцы-шоферы, и чтобы не ходить с ними всякий раз в цех пошива, он писал Каролине записку, удобно и просто. Но потом они с Каролиной как-то сцепились, он пригрозил ей ревизией, а она сгоряча выпалила, что предъявит, кому надо, все его записки, она до единой их сохранила, и даже показала нанизанные на толстой цыганской игле все его бумажки, как на кукане рыбешка. Он их тут же забрал себе, и с того дня каждую свою записку стал в конце дня изымать у Каролины — «для учета».
— Почему ты пишешь «андатра»? — ярилась Ирма, обозленная всем на свете, и ревностью, и тем, что у нее нет семьи, нет мужа, нет счастья, он пришел, нажрался, напился, совокупился и едет к своей благоверной, ах, как хочется ему напакостить, надерзить, нахамить, испортить жизнь хоть на час, хоть на миг. — Тысячу раз ты встречал это слово в бумагах, в документах, в своих накладных, в «Крокодиле», наконец, видел, когда громили твое министерство, — и никаких выводов, так и пишешь «андатра». Ты же руководитель крупного предприятия, ты и в официальных бумагах вот так ляпаешь?
— У меня секретарь-машинистка в штате.
После объятий с нею он был благодушен, миролюбив, разозлить его после всего этого было трудно, ей пришлось все силы прилагать, чтобы своего добиться.
— Я ей все равно прическу испорчу, Каролине-блудине. За какие такие заслуги она у тебя карьеру сделала, уже начальник цеха!
Каролина Вишневецкая, между прочим, была ее подругой, Ирма сама устроила ее к Шибаеву прошлым летом. Вздорная, взбалмошная Каролина нигде не держалась, злая и языкастая, всех задевала, из парикмахерской, где они с Ирмой и познакомились, ушла в трест столовых и ресторанов, там чуть не убила директора графином, потом по просьбе Ирмы Шибаев взял ее к себе в цех завскладом, а через неделю Ирме уже позвонили — твой хахаль вчера в рабочее время зашел к новой завскладом, орал на нее, орал, потом запер дверь изнутри, и через пару минут Каролина жалобным голосом стала просить: «Ищё-ё…» Ее сразу невзлюбили за нрав, за матерки и оскорбления, хотя, если правду сказать, сама она очень исполнительная, работящая. Ирма выдала им обоим бенц хороший, Каролина обещала исправиться, к тому времени из командировки в Петрозаводск вернулся Алесь Шевчик, и Каролина весь жар души отдала ему.
— Ты и резолюции так накладываешь — «зыделай»?
— Заткнись. — Он собрал все деньги, все бумажки, застегнул верхнюю пуговицу на рубашке, подтянул галстук.
— Не заткнусь! — Она вскочила с ковра, как тигрица, рывками натянула халат, свирепо застегнула его до самой шеи, — фиг тебе! — больше он ничего не получит и никогда. — Убирайся к своей стервине-Каролине, зыделай ей писца, может, гонорею подхватишь, жене подаришь! — Она выкрикивала ему оскорбления, хорошея от злости, удивительно меняясь, даже похудела вмиг, глаза потемнели от ярости, порвала записку в мелкие клочья перед его носом и швырнула ему в лицо, — ни черта не боится, а ведь пожалеет, он терпел до поры, и терпеж у него лопнул, он хлестко влепил ей с левой, она так и отлетела к стене.
— А-а-й, помоги-ите-е! О-о-й! — взвыла на мороз, как волчица.
Он снова ринулся к ней, а она обхватила его руками, ногами, всем телом приникла, прилипла к нему мертвой хваткой, и он повалился с нею на ковер…
Потом лежали в изнеможении. Зато теперь могут обсудить любую самую нервную тему с олимпийским спокойствием.
— Ты все-таки девять классов окончил, мог бы грамотнее писать. — Она ерошила его волосы совсем не редеющие, от седины они становятся гуще, ему уже сорок шесть исполнилось, а седина ему идет, благородит.
— Не было у меня никаких девяти классов. Месяц ходил в первый класс, месяц во второй, толком я даже одного класса не кончил, некогда было, понимаешь, матери надо было помогать, чтобы с голоду не подохли. Отца гоняли то в тюрьму, то в ссылку, а потом на войну забрали, а мать что? Никакой профессии, только коров доить, за скотиной ухаживать, хлеб сеять да убирать, а здесь ничего этого не было. Она перепродавала шмотки, спекулировала, эвакуированные понаехали, скоро ее посадили. Меня Алексей Иванович спас, учитель, и жена его, Вера Ильинична, в одной землянке мы с ними жили. Он обещал познакомить ее с этим учителем.
— Обязательно сходим. Я ему жизнью обязан. Их обоих сослали в Каратас, по делу Кирова, кажется, в тридцать пятом году, у нас тут уже землянка была, окно с тетрадку, и мы их к себе пустили — на квартиру, ха-ха! Исключительные люди, абсолютно дикие, не встречал таких. Нич-чего им не надо! Всю жизнь рядовым учителем до самой пенсии. Не понимаю таких! В сорок девятом их опять таскали, грозили в Джезказган сослать. А они какими были, такими остались. Говорят, за это уважать надо — не понимаю. У меня от таких людей в голове туман, зачем живут? На что надеются? Прихожу, радуются, как родному. Ихние дети, двое, умерли. Алексей Иванович говорит, я в тебя верил, Роман, знал, что ты далеко пойдешь. Когда во время войны мать посадили, и на отца похоронка пришла, он в Москву писал девять раз, Калинину, и, представь себе, мать помиловали. Покойница была доброй скорнячкой, оставила мне сорок тысяч старыми, до шестьдесят первого года вес они имели гораздо больше, чем сейчас новые, за сорок тысяч я мог «Волгу» купить, а сейчас за четыре тысячи ничего, кроме «Запорожца». Потом я и сам начал шустрить, материны деньги хорошо пригодились. А девять классов… это уже в конце войны я пошел в ФЗО, выпросил у девчат в школе табель успеваемости пустой, понаставил себе отметок, печать из картошки — и в ФЗО без звука. Потом курсы шоферов, и пошла моя самостоятельная трудовая жизнь.
И опять Цыбульский возник — институт окончил, должность имеет, авторитет, а машину сам водит. Любитель. У Шибаева второй класс, он семь лет шоферил. Центральный Казахстан вдоль и поперек изъездил, но за баранку сейчас под топором не сядет. Шофер есть шофер, а начальник есть начальник, и давайте не будем дурака валять. Раз уж положена должностному лицу персональная машина, будь любезен, уважай в себе руководящего товарища. А Цыбульский на ставку водителя оформил свою тещу, отдай ей 250 в месяц — и не греши.
Прощание у них короткое — завтра позвонишь, что надо, Коля поможет, привезет Ирочку, а будет у меня момент, я приеду без звонка, — и показал ей ключ. Обоим теперь теплее жить.
На улице мороз ожег ноздри, он поднял воротник, автобуса уже не дождешься, хотя на бумаге они ходят до часу ночи, придется звонить Цою. С минуты на минуту Зинаида начнет обрывать телефоны в гостинице. Черт знает, как она умудряется, но у нее агентура везде, а уж в гостинице прежде всего. И дежурная администраторша обязательно ее заказчица. Зинаида — отличный скорняк, у нее богатая клиентура среди буфетчиц, официанток и всякой шоблы-воблы из сферы услуг. Свекровь-покойница научила когда-то сноху прибыльному ремеслу, видя, что Роман пьет, не везет ему, а у них родились уже два сына.
Мороз, ветер, собаку не выгонишь, а Шибаеву надо спешить к жене, как на службу. Раньше, когда он был рядовым шоферюгой, жить было легче, захотел — ушел, захотел — остался, а сейчас хотеть одно, а мочь другое. Деньги, конечно, сила, с ними ты царь и Бог, но и у них есть своя придурь, они тебя вяжут, связывают, обязывают. «Желаем вам успехов в труде и личного счастья», — что это такое, личное счастье, с чем его едят? За труд платят, а за личное счастье? Можно ли его купить? Он бы остался сейчас в теплой новой квартире, рядом с Ирмой и спал бы блаженным сном, а утром она разогрела бы ему индейку, сварила кофе, расторопный Коля пожаловал бы к подъезду — поедемте, шеф, справлять службу, вас ждут великие дела.
Но Коля не приедет, Шибаев не может остаться. Щенок бесправный. И завтра не сможет и послезавтра, а когда сможет — никому неизвестно. Говорят, деньги — это свобода. Зря говорят, не знают. Денег у Шибаева все больше, а свободы все меньше.
Надо бы пешком до дому пройтись по свежему, так сказать, воздуху, но на прогулку нет времени, Зинаида вот-вот объявит комендантский час. Шагать далековато, дом его в частном секторе, квартиру нормальную он просить не хочет, так ему выгоднее, есть двор, сарай, погреб, подвал бетонированный, тайники, между нами, девочками, говоря, каких не оборудуешь в коммунальном многоквартирном, огород есть, грядки с луком, с помидорами, яблони есть, вишня, гараж кирпичный, подрастут оболтусы, отец им купит машину. И оставит им весь этот рай земной, а сам укатит доживать жизнь в столице.
На морозе под колючим ветром мысли о далекой Москве показались ему/ вполне здравыми, поскорее бы — прощай, Каратас, на веки вечные, пусть живут на твоих всяких-разных улицах бывшие ссыльные, заключенные, согнанные й перегнанные!..
Пешком далеко, на такси никаких надежд, надо вызывать машину. Он нашарил в кармане монету, едва втиснулся в телефонную будку, замерзший диск еле крутился, кое-как набрал номер и услышал бодрый голос Цоя:
— Я слушаю.
— Привет начальству. Игнатий, поздно звоню, но мне нужна машина. Если можешь, сам подскочи, а нет, пришли дежурную.
— Об чем речь, Роман Захарович. Вы где находитесь?
Вежливый, культурный, уравновешенный Игнатий Цой, старший лейтенант милиции, исключительно отзывчивый работник, побольше бы нам таких в органы правопорядка.
— Возле обкомовского дома на Советской, знаешь, вывеска наверху «Там, где газ, нужен глаз»?
— Вас понял, через пять минут будет машина.
Цой человек надежный, всегда поможет, жаль, что он пока один такой в распоряжении Шибаева, он всего лишь райотдел УВД, а нужен еще бы и горотдел, но — не все сразу.
Впрочем, почему бы Цою не быть надежным, вежливым, культурным, если Шибаев платит ему каждый месяц по 500 рублей. Летом Игнатий ездил в отпуск в Евпаторию, а Шибаев честь по чести выдал ему тысячу. А на какие деньги у Цоя новый «Москвич-408»? Пусть люди думают, у милиции хорошее жалованье.
Он быстро пересек улицу по косой, снег повизгивал под быстрым шагом, и морозный звук подгонял в тепло. В обкомовском доме кое-где горел свет, трудились ответственные товарищи, для тех, кто не знает, а для тех, кто знает, просто резались в преферанс.
Минут через семь подошел милицейский газик: «Вы Роман Захарович?»
И еще через семь минут он был уже дома, Тарзан вылез из конуры, поскуливая от холода, преданно встретил хозяина. В прихожей Шибаев включил свет и первым делом на обувь — дома ли сыновья? Вот огромные башмаки-развалюхи Валерки, брошены как попало. На кого похож старший, не поймешь, но, пожалуй, на отца. А вот аккуратные полусапоги Славика, в них и мех почище и стоят они рядком, один к одному. А Славик ни на кого не похож, удивительно, ни в шибаевском роду, ни в роду Зинаиды не было такого человека, покорного, незлого, беспомощного до того, что у Шибаева вместо нежности к нему вспыхивает досада — ив кого уродился!?
Два сына его — два заложника. Если бы их не было!..
Он пошел тихо в свою комнату, поднял сиденье дивана и побросал туда в ящик, как в яму, пачки денег и обрывки накладных, после чего опустил сиденье до щелчка. Вася Махнарылов сделал ему защелку, меленькую и незаметную, нажмешь пальцем — сиденье вверх, опустишь до щелчка — и никто никак его не поднимет.
По шороху купюр он представил, что диванный ящик не полон, зияют там пустые проплешины, надо их заполнять, в темпе. Опустошил он ящик не так давно, в октябре месяце, перед первыми заморозками. Пока земля еще была рыхлой, они с Зинаидой зарыли две трехлитровых банки — энзе, из одних стольников, — сотенных. Вскоре земля смерзлась как камень — надежнее сохранятся.
В конце апреля, когда земля оттает, он поздравит себя с праздником весны и труда и зароет в щедрую землю еще пару банок. У кого-то все счастье в прошлом, а у него — в будущем.
Глава вторая МЕЛКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ
Он видел сны простые и со значением, на что-то намекающие, как, например, сегодня увидел змею во дворе, толстая, сволочь, удав целый с поднятой головой, ползла она сама по себе, но ему сразу захотелось расправиться, он поискал-поискал, чем стукнуть, а змея тем временем подползла к забору и нырнула в дырку, причем в этот момент она уже была не змеей, а макарониной, на конце даже дырка зияла, ускользнула, как с вилки, бывает, соскальзывает.
Едва он прибыл на комбинат, секретарша Соня сказала, что звонил Сауренов из Петропавловска и просил передать — заказанный хорек приготовлен, присылайте экспедитора. Кроме того уже два раза заходил Василий Иванович по важному делу, в новом цехе что-то произошло.
За хорьком надо послать Шевчика, пусть везет поскорее триста штук нужному человеку на шубу, вернее, на подклад.
Шибаев уселся за свой стол, взялся за календарь, чтобы первым делом вчерашние дела перенести на сегодня. Ирма пилила его за безграмотность, никогда ему эти фигли-мигли не требовались, он ни разу не пострадал из-за этого, а вот из-за того, что шибко грамотный, страдать приходилось, чуть высунешься дальше всех, тут же тебе по шее. На листке было помечено: «савещ», «сек. гар.», надо еще записать Цыбульского, что он и сделал, поставил «Цыб» без запятых, без точек. Вышедшему из народа должностному лицу, первому руководителю не придумаешь лучшей рекомендации, чем ошибки в письме и особенно в произношении.
Не успел он перенести свои иероглифы, как зазвонил телефон и по голосу Махнарылова ясно стало, что случилось чепе в мировом масштабе.
— Шевчик пошел на рекорд! — выпалил Вася, будто там цех горит, а воды нету, надо успеть снять с себя вину.
— На какой рекорд? — Шибаев не сразу понял, вчера только хвалил Шевчика, нахваливал, а сегодня вот… Не хвали попусту, обязательно свинью подложит. Не делай добра, если не хочешь, чтобы ответили злом. — На какой рекорд? — спокойно повторил Шибаев, своим тоном Васю урезонивая.
— На самый-самый! На государственный, пля. Говорит, до Брежнева дойду. Мракобес, пля, несознательный, в такое время на рекорд пошел!
Васе хочется сообщить молнией, но не сболтнуть лишнего, соблюсти конспирацию, чтобы никто ничего не понял, если засекут со спутника, тем более с американского. Вася знает, все его разговоры, особенно с руководством, обязательно записывают, чтобы со временем предъявить, но Вася не камышом крытый, он кумекает. С этим делом сам Шибает переборщил, наказав Васе не болтать лишнего нигде и никогда, от меховой промышленности чистая валюта, за нами КГБ следит. Васю долго учить не надо, он сразу понял, что каждое слово его идет на пленку, он охотно и даже азартно по телефону сочинял черноту. Не зря говорят, если Бог дал человеку золотые руки, то обязательно добавит ему медный лоб.
— Прошу без паники, — внушительно осадил его Шибаев. — Почему он к тебе пошел, а не ко мне?
— Так он же, пля, с приветом. Я с ним, понимаешь, как с человеком заговорил про его новую должность экспедитора в моем цехе, а он мне сразу: я, говорит, ухожу. Вот вам, говорит, бумага, а там пять слов, сам знаешь, каких. Меня как серпом по тому месту, да как ты смеешь, говорю! В какое положение ты ставишь все наше предприятие?! А он гонит коней — и все.
— Вася, не гоношись попусту. Рекорд поддержим.
— Не понял! — угрожающе сказал Вася. — Кого поддержим?
— Кого надо. Он дату в заявлении поставил?
— Поставил, пля, грамотный, и даже подчеркнул, змей.
— Ну и лады, хозяин — барин. Что ты ему сказал?
— Чуть не врезал ему между глаз! А почему? Я хочу начальником, а он не хочет моим подчиненным, пля. Теперь вижу, он сам хотел на мое место? У всякой пташки свои замашки.
— Вася, в нашей системе никто сам себя в должности не повышает. На тебя еще нет приказа, даже предложения не было, а ты уже стал начальником, с каких щей? Найди Шевчика и скажи ему без тарарама, что просьба его будет выполнена, но, как положено, с отработкой две недели.
— Не понял, — падающим голосом сказал Вася.
Махнарылов человек в деле незаменимый. Смотря, правда, в каком деле. Нет в мире механизма, который бы не подчинился ему с первого прикосновения. Своего «Москвича» он выпросил у областной ГАИ с площадки для хлама, взял бесхозный, списанный металлолом после аварии на Семипалатинской дороге, краном погрузил его на самосвал за бутылку и привез к себе во двор. А через полгода Вася ездил по Каратасу на сверкающем «Москвиче», ездил спокойно, миролюбиво, по всем правилам, но стоило Васе увидеть новую «Волгу М-21», как он тут же взрывался, газовал до упора и обязательно ее обгонял. Когда строили цех, Вася здесь жил на топчане в столярке, домой сходить некогда было. В субботу и в воскресенье Васина стройка века гудела от шабашников, это были самые красные субботники, Вася нанимал каменщиков, плотников, сантехников и сам всем помогал, — исключительного трудолюбия человек, хотя и не без закидонов. Спросить по совести, ну кто в наше время упирается на строительстве какого-то цеха, будто дом себе варганишь, наследство для детей, для внуков, — нет же, все для местной промышленности. В чем еще была его глупость, простодырость, вахлачество — не ради денег он вкалывал, только ради интереса пластался, хотя деньги Вася любил, но опять же не из корысти, а ради одного красивого фортеля. Вася мечтал накопить сто тысяч и исполнить свой предел мечтаний — в один распрекрасный день зайти в ресторан «Маяк» на проспекте Октября, остановиться в дверях большого зала, пальцем поманить к себе метрдотеля и вежливенько, скьозь ноздри отдать приказ: закрыть все двери, никого не впускать, не выпускать, от пуза всех обслужить, но денег не брать ни за блюда, ни за песни, только объявить по радио, что за всех платит Вася Махнарылов, вон он сидит за отдельным столиком в цветах, в ковбойке и три дня не бритый. Раза два он уже пытался свою мечту осуществить после крупного калыма, но до «Маяка» успевал так набраться, что затею свою не мог выговорить, завзалом его не мог понять, звал вышибалу, и мечту приходилось откладывать до следующего калыма.
Васю раскопал Мельник, когда потребовалось ему починить «Волгу», не захотел расставаться с отличным мастером, оформил его на комбинат разнорабочим и начал платить Васе сверх зарплаты сто рублей, потом добавил еще двести, а когда они стали вместе возить левые овчины в Павлодар, Мельник стал ему выдавать пятьсот каждый месяц. Мечта была совсем близка к осуществлению, Вася уже Мельника пригласил в «Маяк» на гужевон, но Михаил Ефимович отговорил его и посоветовал вместо такой дури скупать золотые червонцы царской чеканки, куда интереснее, дальновиднее и культурнее.
О назначении Васи начальником нового цеха Шибаев как-то мимоходом намекнул, правда, всего один раз, а Вася и без него решил, что если уж он строил от фундамента до крыши, то никто другой не имеет права быть хозяином этого сооружения. А не обольщал его особо Шибаев по той причине, что у Мельникова мог быть свой план, хотя он вроде бы уже смотал удочки.
За пост директора комбината Шибаев отдал Мельнику пятьдесят тысяч наличными, и это еще «по случаю отъезда», то есть владелец уступал нечто в спешке, не торговался. Мельник ушел бы в любом случае, он стал терять меру и, как деловар умный, предусмотрительный, юридически грамотный — как-никак институт окончил, адвокатом работал ни много ни мало — семнадцать лет, — он вовремя учуял, что пора, мой друг, пора, покоя сердце просит. Но уйти не означает впопыхах бросать дело — кому уступить? Не всякий выложит круглую сумму, во-вторых, не всякий, если даст, то не продаст тебя с потрохами, все грехи и долги комбината припишет одному тебе, и не успеешь ты вздохнуть свободно, как придут за тобой, по словам Высоцкого, два красивых охранника и повезут из Сибири в Сибирь. И наконец, в-третьих, — с Шибером Мельник остается в деле, ему положен процент с доходов. Можно еще и четвертое посчитать — у Шибера авторитет, и если бы Мельник начал клеить на свое место неизвестного, Шибер мог бы крепко помешать, не помог бы и Гриша Голубь, у Шибера есть крепкая своя лапа под кличкой Башлык, не будем ее пока раскрывать. Короче говоря, Мельник без особых колебаний уступил место Шибаеву, у него и связи есть, и размах, и характер, да и помоложе он, пусть потянет.
Вася спит и во сне видит себя начальником цеха, а Мельник возьмет да и привезет какого-нибудь хитрого москвича, у которого своя рука во Всесоюзном объединении меховой и овчинно-шубной промышленности или в «Союзэкспортлегпроме», что тогда? Мельник наладил связи с заготовителями не только из Чимкента, Уральска, Петропавловска, но и с Карелией, и с Дальним Востоком, с ним надо считаться, иначе он все обрежет, посадит на голодный паек. Возьмет и привезет конкурента, и останется строитель и вдохновитель Махнарылов при пиковом интересе.
Вася такой вариант учуял в разговоре с шефом по телефону и через полчаса примчался к Шибаеву в кабинет для личной беседы. Теперь с глазу на глаз он выложил все, что наговорил ему Шевчик. Он не только подал заявление об уходе, он попер на Васю со страшной силой — все мы сядем не сегодня-завтра, пора кончать, а новый цех даст новый разворот хищений. Вася пробовал послать его и на три буквы, и к директору — Шевчик ни в какую, сам иди, говорит, ты его правая рука.
Шибаев повторил, что возражений не будет, Шевчик уйдет через две недели, как положено по закону, а пока пусть он проведет семинар с молодежью, девочки пришли после школы зарабатывать стаж, пусть Шевчик займется с ними по общей технологии производства, парень он симпатичный, весь в джинсах, молодое пополнение сразу увидит, что у нас тут культурное предприятие, а не какая-нибудь шарага.
Васю не удовлетворило решение шефа, он начал брюзжать: Шевчик отхватил новые «Жигули», тысяч десять, как минимум, нахапал и теперь бежать хочет, фронт работ оголять.
— Ас кем я буду новый цех поднимать? — поставил Вася вопрос в упор, и Шибаев взорвался:
— Я тебе еще раз говорю: пока ты еще никто! Ты простой разнорабочий. У тебя, может, рыло неподходящее для такой должности!
— А кого же ставить, Роман Захарович? — удивился Вася. — Я вкалываю, как дурдизель, до поздней ноченьки, а теперь мне от ворот поворот?
— Цех вести не бородой трясти. На эту должность есть кандидатура у начальника управления Прыгунова, вчера приехал замминистра Тала-баев, и у него есть мнение, Миша Мельник приедет тоже себе на уме. У всякого Моисея своя затея.
— Но вы-то главные, Роман Захарович, — Вася в панике перешел на «вы».
Шибаев только головой покрутил — ну какой из тебя начальник, горе луковое. Вася жест его сразу усек и сказал, что в гробу он видел все эти посты, поднялся и хотел уже хлопнуть дверью, но Шибаев его остановил:
— Газету сегодняшнюю смотрел?
— Смотрел. Ничего нет.
Не нужен Шибаеву начальник, нужен шестерка, исполнитель беспрекословный, а Вася такой и есть.
— Ты в редакцию заходил хоть раз, это же твоя карьера? В газете должны были дать интервью с одним из передовых строителей Махнарыловым В. И.
— Я и звонил туда семь раз, и заходил. Рокосовский уперся — через мой труп. Там, говорит, у вас жулик на жулике, а мы будем твое интервью давать.
Шибаев зло оскалился — пробы ставить негде, и он туда же — «жулик на жулике». Мошенник, взяточник, пропойца, и при всем при том совершенно неуязвим, непотопляем, и что важно — ему помогает, без смеха помогает кличка, хотя к маршалу он никакого отношения не имеет, он подкидыш, родители во время войны бросили его в Каратасе на вокзале, добрые люди подобрали, пытались его воспитать, дали ему образование, пригрели, выходили, выучили, а он первый свой фельетон написал против отчима, и того едва не отправили на Колыму. Вот уж где правда — ради красного словца не пожалеет ни мать, ни отца. Шибаев допытывался у знающих людей — как он держится на плаву, чем берет? Мне бы так. Гриша Голубь ему пояснил, что наша «прэса» нуждается в таких деятелях, в кадрах без предрассудков. В ресторане «Маяк» несут ему стограмешник за просто так, в гастроном «Рахат» он заходит с черного хода и берет там, что глаза видят. Устроил свою дочь в музыкальную школу, причем бесплатно, хотя все другие давали по таксе, а он за спасибо, тем не менее он напечатал в газете фельетон «По сотне на струну», после чего директора посадили. Ему устраивали темную, отправляли его в больницу, милиция тут же заводила дело, и все силы сыска бросали на розыски, хотя у них была куча нераскрытых убийств и хищений в особо крупных размерах, — всем он давал работу. Применяли к нему и самый испытанный способ — вытрезвитель, спровадили его туда чисто и доказательно. Очень разборчиво и красиво заполнили на него зеленую бумагу и направили по месту работы. Редактор на планерке поднял над головой зловещий листок (и придумал же кто-то цвет — под зеленого змия) — для начала, товарищи, решим вопрос в принципе. Если на сотрудника партийной газеты приходит документ из вытрезвителя, что должен сделать коллектив? Ясно что, тут и думать нечего, тем не менее, слова попросил Косовский — мы должны, мы обязаны отнестись со всей строгостью, мы не можем потакать и не потерпим безобразия, такие факты позорят честь советского журналиста и вывод тут однозначный — освободить немедленно от занимаемой должности. Коротко сказал и ясно. Редактор покивал уныло на его святые доводы, спросил, нет ли еще желающих, его попросили назвать имя, и редактор назвал Валериана Авериановича Косовского. Кто рассмеялся, кто разозлился, целый каскад эмоций. Однако редактору не до смеха, позор для коллектива очевидный, он снова сурово на Косовского, а тот встает и кладет на стол редактора три листка машинописного текста. Оказывается, в вытрезвитель он отправился специально, чтобы досконально изучить обстановку, и не с командировочным удостоверением, когда тебе показывают полный ажур, надо перевоплотиться, надо уметь внедриться, уважаемые коллеги, и он, Косовский, этого достиг. Представьте себе — поверили, пусть не все, но поверили, ибо знали, что пьяный Косовский бывал лучше трезвого, ходил быстрее, соображал быстрее и зоркости не терял, явится пьяный в драбадан на дежурство в типографию и не пропустит ни одной ошибки, сядет, одной рукой ведет по тексту, вычитывая, а другой лезет под юбку корректорши, и все ему сходило с обеих рук. Что ему удалось выяснить на этот раз? Он раскрыл букет всякого рода безобразий из жизни так называемого медицинского вытрезвителя, там абсолютно ничего медицинского, дежурный лейтенант был сам хорошо поддатый и подрался с заслуженным рационализатором, главным механиком АРЗ, а фельдшер, которому было положено находиться возле отравленных алкоголем, дежурил в эту ночь на скорой помощи. Утром Косовский поинтересовался, почему не было врача, ему сказали, помолчи, а то тебя ни одна больница не вылечит. Окольными путями Косовскому удалось выяснить, что фельдшер медвытрезвителя Бурабаев работает на двух ставках, и это всем выгодно, во-первых, ни на скорую, ни в вытрезвитель никто работать не идет, а во-вторых, Бурабаев запросто решает давний межведомственный спор, кого куда везти: если в арыке человек лежит — значит, в вытрезвитель, а если на тротуаре, значит, в больницу. Неделю спустя появился в газете фельетон под названием «Ночь в чужой постели» с подзаголовком «Репортер выходит на задание», и весь город передавал газету из рук в руки с возвратом. Вот такой колоритный деятель веселил, забавлял и злил славный город Каратас, и знали его абсолютно все — и в горкоме, и в исполкоме, и особенно в горторге и в общепите, знали его футболисты, шахтеры, интеллигенция, алкаши, бичи, баптисты и услов-нодосрочники. Над ним посмеивались, его боялись, им пугали, его облагораживали. Когда Мельник стал директором комбината, спихнув Малафееву (вместе с Голубем они убедительно дали ей понять, что на пенсии ей будет гораздо легче, чем в зоне строгого режима), она ушла, а месяца через два пришел к Мельнику Косовский с тремя анонимками, зарегистрированными в отделе писем редакции, со штемпелем, с датой, с номером, — будем принимать меры. У Мельника он долго не засиделся, вошел к нему в линялом «бёрэте», а вышел в ондатровой новой шапке, разумеется, заплатив за нее. Из каких средств? Каждое утро жена выдавала Косовскому рубль на завтрак, то бишь на две кружки пива, на сей раз это был железный рубль, в честь Победы. «Плачу вам в твердой валюте, — сказал Косовский Мельнику, — остальное с гонорара», — и удалился в лоснящейся, цвета бразильского кофе шапке стоимостью 60 рублей по номиналу и 160 по базарной цене. Мельник все три анонимки спрятал в свой стол, успокоился, а через две недели появился в свет фельетон под названием «Грех в мех, а сам вверх», — на свет, но пока еще не. в газете. В нем ставилось несколько вопросов, например: почему адвокат с высшим юридическим образованием, опозоривший себя хапаньем незарегистрированных гонораров, подался в меховую промышленность и был принят там с распростертыми объятиями? Почему, не являясь членом партии, он был назначен директором предприятия? Почему ондатровые первосортные шапки продают за бесценок прямо в его кабинете за какой-то рубль, и наконец последний вопрос: за что он получает гигантскую пенсию Аэрофлота, если верить случившемуся, самолет разбился, все погибли, один он остался жив-здоров, с каких пор приключения барона Мюнхаузена стали оплачиваться?
Но чем хорош Мельник? Это вам не фельдшер медвытрезвителя и даже не редактор газеты. Едва Косовский поставил последнюю точку в своем фельетоне, как Мельнику было уже известно его содержание — через Гришу Голубя. Фельетон тут же затребовали в горком, явился туда Прыгунов, начальник управления местной промышленности, он у Мельника на окладе, — помогите, товарищи, порочат кадры, есть, конечно, злоупотребления некоторые, но у Малафеевой их было еще больше, мы кое-как избавились от нее, только утвердили Мельника на должность, только он начал поднимать производительность, как тут же его и снимать, давайте защитим, давайте поможем ему преодолеть кризис, в котором предприятие оказалось по вине прежнего руководителя. Решили придержать фельетон, позвонили редактору — так и так, есть мнение… Потом еще раз для себя прочитали — а ведь все правильно. И как это Косовский с налету, с ходу узнает правду, что за глаз-алмаз?
Тут много думать не надо. Под хамским взглядом вся жизнь на одну колодку. Он не видит, каково должностному лицу и план выполнить, и на ковре перед начальством выстоять, и прогрессивку рабочим обеспечить, иначе они разбегутся, и фонды выбить, и жилье, и садовые участки, и то и се, и пятое и десятое. Косовский не хочет видеть, что без взятки сейчас не только новый цех — конуру для сторожевого пса не построишь.
И вот эта наглая рожа смеет заявлять, что у вас на комбинате жулик на жулике.
— Иди в горком, Вася, ты рабочий класс, имеешь право всех там за грудки взять. Какой-то ханыга будет нам мешать жить по-коммунистически! Чтобы завтра же было сообщение в газете! — ярился Шибаев.
— По радио вчера из Алма-Аты передали, что мы пустили цех досрочно, — сказал Вася, оправдываясь.
— Кого называли?
— Ну, там Брежнева, Кириленко, Суслова…
— Голова садовая, при чем тут наш цех?! — снова закипел Шибаев.
— Я вообще говорю, радио слушал аж целый час, уши опухли.
— Эх-хе-хе, — вздохнул Шибаев. — Ну и что Брежнев?
— Звезду ему дали, Героя труда.
Называется, он специально слушал. Ну как с такими людьми работать, если он специально слушал и ни хрена не услышал? Не только Каратасу, всей стране, мало того, всему миру известно, что Леонид Ильич предпочитает не Героя труда, а Героя Советского Союза, как в битве за Берлин.
Далее Вася доложил про разговор с Григорием Карловичем. Голубь обещал газетой заняться, пока вот помог только с радио. Мельник прилетает тридцатого. Сбор большой тройки (Вася посмотрел выразительно на Шибаева, не понимая, почему тройки, а не четверки) назначен на тот же день, на тридцатое.
— А где сбор? — спросил Шибаев.
— В сауне у Цыбульского.
Нет, Шибаев будет возражать, сауна — чужая для него территория, там он будет в гостях, а гостю диктовать по-хозяйски не полагается. Сбор будет на комбинате, а точнее, в новом цехе, при деле и при тех людях, которые это дело довели до ума. А потом можно и в сауну.
— Меня чё беспокоит? — спросил Вася как бы самого себя, посмотрел на шефа и заколебался. Но так можно до гроба проколебаться, а Вася по натуре бесстрашный. — Григорий Карлович намек дал, что Мельник может не один прилететь.
— Как прилетит, так и улетит. Гриша пусть у себя в школе милиции распоряжается, а мы как-нибудь сами разберемся.
— Может быть, мне надо заплатить за должность, Роман Захарович, я слышал, полагается?
— Надо бы, да из каких шишей ты заплатишь? Будешь должен.
— Кому? — Вася оживился, сейчас он адрес запишет огненными буквами на листах своей души.
— Народу, Вася, и государству. Которое тебя вскормило и воспитало.
Обнадежив Васю (а то ведь уйдет в запой с ходу), Шибаев позвонил в райотдел Цою — есть дело, приезжай не откладывая, мне к одиннадцати во Дворец труда. Игнатий сам только что вернулся с оперативного совещания, ему тоже надо спешить по делу, в ПТУ-17 застукали с анашой, но он все отложит и будет у Романа Захаровича через двадцать минут.
К Шибаеву Игнатий является по первому требованию, пусть в Каратасе банды гуляют одна страшнее другой, пусть он горит синим пламенем с четырех сторон, но Игнатий Цой, старший лейтенант милиции, заместитель начальника Октябрьского РОВД, явится живым или мертвым к Роману Захаровичу, и ничего тут нет удивительного, просто он честный, исполнительный человек.
До его прихода Шибаев успел переговорить с главным инженером, с плановиком и с главным бухгалтером, последний приступил к годовому отчету и уже говорить не мог, только рычал и огрызался, давая намек на увеличение оклада.
Появился Цой, включил радио — осторожничает, Шибаев не возражает, хотя Башлык сказал ему, если каждого прослушивать да просматривать, то на ракеты средств не останется. Шибаев изложил просьбу — экспедитор Алесь Шевчик подал заявление об уходе, но отпустить его мы не можем, он очень нужный нам сотрудник, знает людей в министерстве, связан напрямую с каракулевым заводом в Чимкенте, есть у него надежные люди в зверохозяйствах Балхаша. Короче говоря, это наш кадр, заменить некем, а он уперся, как баран, подал заявление и дату проставил. Нужно собрать компроматериал и как можно быстрее.
— Кто у него в семье, где жена работает? Нет ли у него любовницы?
— Игнатий, я не сыщик, у меня, понимаешь ли, своя работа. — Он благодушно гыгыкнул. — Найди, ты профессионал. Крайний срок — неделя. Негодяй хочет дезертировать в самый момент, когда мы расширяем производство, увеличиваем мощности. Оголяется самый ответственный участок — связь с поставщиками, прерывается главная артерия нашего комбината. Без своевременной поставки сырья у нас все летит к чертовой матери — план, зарплата, прогрессивка, не говоря уже обо всем прочем. — Закончил Шибаев холодно: — Я тебя беспокою редко, прошу сделать без проволочек. Иначе будут штрафные санкции.
Если Игнатий Цой не получит очередные пятьсот рублей, это будет весьма ощутимый удар по всем точкам — по карману, по надеждам, по самолюбию. Удивительное, между прочим, дело. Если наказываешь рублем какую-нибудь техничку с зарплатой 70 рублей, всё проходит без грома и молнии. Но если наказывают какого-нибудь жирного гуся — сознательного, высокопоставленного, образованного, у него в месяц триста-четыреста, обязательно будет дым коромыслом, — почему, спрашивается? У той нет сбережений, она на свои семьдесят и хлеб семье, и молоко ребятишкам, и какое-нибудь тряпье одеться из уцененных товаров, и молчит-помалкивает. А у этих и в заначке полно, и на сберкнижке хватает, но всякий раз трагедия, будто их последнего куска хлеба лишают. Чем измеряется сознательность — должностью, зарплатой или еще чем-то?..
К десяти часам Шибаев поехал во Дворец труда, увидел в огромном холле секретаря горкома, тот сам подошел к директору металлургического комбината Самсония, и это понятно, гигантский комбинат, обслуживает нужды обороны, и Самсония не простой, а Герой Соцтруда. У Шибаева тоже комбинат и тоже на «ме» — пусть не такой важный, не такой железный, наоборот, мягкий, пушистый, приятный, но что желаннее для народа? Известно, куда идет железо Самсонии, может быть, и впрямь отчасти на оборону, а не только на консервные банки, но всем известно, куда идет овчина Каратасского комбината, его ондатровые, а также кроличьи шапки, его воротники и горжеты из норки и чернобурых лис, его шубы из каракуля и цигейки. Даже сам министр ходит в дубленке с комбината Шибаева, а уж про жену секретаря горкома и говорить нечего — у нее две шубы из каракуля, к ним две шапки в тон из норки «жемчуг», так что в определенном смысле Шибаев тоже герой труда, если глянуть с точки зрения красоты жизни, благополучия и достатка, и потому он своего не упустит.
Едва секретарь отошел от Самсонии в сопровождении своей свиты, как Шибаев решительно шагнул к нему и схватил его за руку, он должен помнить директора мехкомбината, при назначении на пост была встреча и собеседование.
— Разрешите доложить…
Он оказался повыше секретаря горкома (надо сказать, среди руководящих он не встречал рослых, громил, — как правило, ниже среднего, такие с рождения склонны опираться не на себя, а на массы), повыше оказался и понахальнее, секретарь даже не пытался вырваться, Шибаев начал ему докладывать, и он обязан был по партийному долгу выслушать, ибо речь шла не о каких-то пустяках морально-бытового характера, а о том, что они досрочно на целый год сдали новый цех и уже в феврале начнут выдавать продукцию. От имени руководства, а также и от лица всего коллектива Шибаев заверяет секретаря горкома, что они не посрамят, они не подведут и пятилетку качества выполнят на должном уровне.
Секретарь горкома не стал его перебивать, слушал и даже слегка улыбался и даже сказал раздельно «мо-лод-цы», и все это на виду у хозяйственного и партийного актива, а также и на виду у замминистра местной промышленности Талабаева.
— Только нам необходима ваша помощь, — солидно продолжал Шибаев. — Политического характера. Мы дали сообщение в газету «Вперед» о трудовом подвиге, отметили лучших, они не печатают, уперся один человек.
Шибаев выждал паузу, чтобы секретарь сам спросил, кто же этот безответственный человек.
— Редактор? — спросил секретарь.
— С редактором мы найдем общий язык, он сознательный товарищ. Уперся рядовой фельетонист Косовский.
— А-а, Рокосовский, — секретарь, как и следовало ожидать, улыбнулся почти отечески.
Шибаеву промолчать бы надо или тоже улыбнуться, но его задела усмешка секретаря, и он горячо сказал:
— Компетентные люди проверили, он мошенник и хронический алкоголик.
То, что можно Васе простить, разнорабочему, не простительно должностному лицу из номенклатуры. Можно ли так говорить о сотруднике газеты, которая является органом горкома? Думай, что говоришь. Шибаев.
Секретарь сказал назидательно: «Прессу надо уважать», — и коротким движением отстранил Шибаева со своего пути в президиум.
Хотел бы увидеть Шибаев человека, которому такие вот совещания помогают, — хотя бы одного. Нет таких. «По охране труда». Человека с головой охранять не надо, он сам себе не враг, а к безголовому приставь хоть сотню охранников, он все равно умудрится лоб расшибить. Говорим, предупреждаем, накачиваем, но пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Скольких людей из-за техники безопасности пересажали? А что толку?
А глаза сами собой слипались, и не только у него, все томились, крепились, мучились — хоть бы перерыв скорее. Первым не вытерпел Самсония, не дождался даже конца доклада, поднялся в президиуме и бочком-бочком вышел. Ему все можно. А Шибаеву пришлось ждать перерыва.
Приехал на комбинат, заказал разговор с Петропавловском, — что там за хорёк появился? Барнаулов заказал подклад для шубы, ну как же ему не достать, если хочешь получить квартиру? Ирма уже въехала, а ты обещание свое не выполнил. Надо срочно посылать туда Шевчика. Скотина неблагодарная, лыжи навострил. Ну, это мы еще посмотрим. Мы еще тебя зашнуруем.
А тут он и сам пожаловал, слегка поддатый, потому и смелый.
— Роман Захарович, я зашел сказать спасибо, что вы согласны на мое увольнение. — Он сел в кресло перед столиком для посетителей, несколько даже развалился. Сидит весь фирменный, патлы до плеч, усы. Поглядишь — картина, разглядишь — скотина.
— Хозяин — барин, Алесь. Если мы тебя в чем-то обидели, прости.
— Меня, понимаете, бессонница замучила.
— Да ну-у! — глумливо удивился Шибаев. — В твои-то годы с чего бы? Или воруешь много, Алесь, от нас скрываешь?
— Если можно, без шуток, — он сразу уловил издёвку, парень исключительно чуткий. — У меня аллергия, бронхиальная астма, чуть что — одышка. — Он и в самом деле дышал часто, и глаза были красноватые, как у пескаря, но это могло быть и от водки. — Чуть что приступ. — Он достал из нагрудного кармана белую пластмассовую колбочку, приоткрыл рот, попшикал в зев.
Ну что же, Алесь, Шибаев не такой изверг, чтобы больного человека принуждать делать то, что ему не хочется, зачем парня тиранить? Он его отпустит на все четыре стороны.
Только сам с кем останется? А Шибаева разве жизнь не тиранит? Если все начнем смотреть на диагнозы, то всю страну в лазарет превратим. А кто в космос летать будет, кто коммунизм будет достраивать? Нет, Алесь, будешь вкалывать столько, сколько потребуют интересы дела. Как человек я тебя отпускаю, а как директор устраиваю тебе заячью морду, и не помогут никакие слезы, купи себе еще одну пшикалку, прими на ночь полбанки, а завтра про всё забудь и спеши исполнить то, о чем тебя просят, тем более за хорошую плату.
— Почему уходишь, скажи честно?
— Не сплю по ночам, все думаю — пора кончать. За Ульяну боюсь, за Тараса.
— Сын?
— Два годика, скоро всё понимать будет. Не хочу, чтобы он пользовался плодами моей деятельности.
Какие у тебя плоды, хиляк? Разводит сопли, а сам только и думает, как хапануть побольше на дармовщину. Если бы Шибаева спросили, как назвать вот этих молодых, не посаженных пока пижонов, он назвал бы их неблагодарным поколением.
— Хочешь, чтобы твой сын в нищете рос?
— Посадят, кто его кормить будет?
— Умным людям посадка не страшна.
— Я, видать, не такой, Роман Захарович, что поделаешь, — он кривовато ухмыльнулся.
— Куда пойдешь?
— У меня диплом техникума, прокормлюсь. Ульяна работает на полторы ставки.
— А кем она у тебя?
— Медсестра в железнодорожной больнице.
— Ладно, вопрос решен. Но прошу тебя две недели отработать. Сам видишь, людей набрали, а подучить некому. — Помолчал, покачал головой, сказал с грустинкой: — Эх, Алесь, Алесь, кто же нам теперь песни петь будет? «Не знает море, что оно море…» — Ив грустинке его была злость, может быть, он вспомнил что-то… От перемены в Шибаеве Алесь заметно побледнел.
— Сделаю, Роман Захарович, — дрогнувшим голосом пообещал он, — только, пожалуйста, не раздумайте.
— Вольному воля.
— Я сломался, понимаете? Я увидел — надо рвать. Иначе… Я никого не обвиняю, не подумайте. Отрасль такая, все в клубок сплетено, тут надо или все разрывать, или запутываться дальше, по гроб при жизни.
Откуда у тебя «Жигули», Алесь, за 6 косых? И кто тебе с квартирой помог? И на какие тугрики ты в фирме с головы до ног? Что ни колупни на тебе, все не ниже двухсот, а то и трехсот рублей. Диплом, видите ли, у него техникума. Да какая работа сейчас тебя сможет удовлетворить, если ты привык хапать? Чем ты сможешь поддержать уровень богатого человека, нажитый под моим крылом, кто тебе его обеспечит? Повертишься-покрутишься месяц-другой на свои сто-сто двадцать да пойдешь к фарцовщикам вроде Кладошвили и пропадешь ни за понюх.
— Кого бы ты предложил на свое место?
Шевчик задумался. С одной стороны, конечно, деньги, и порой немалые, но с другой стороны… Так ведь не у всех есть любимая жена Уля и сын Тарас.
— Кладошвили не подойдет?
— У меня работать надо, и не просто химичить, ты знаешь. Кого он будет дурачить, меня?
— Я подумаю, Роман Захарович. — Что-то снова его забеспокоило, он суетливо достал баллончик, попшикал. Заставит найти замену, а где ее найти, если Шибаев сам знает, как облупленных, и всем даст отвод?
Шибаеву досадно и даже обидно, парня он, можно сказать, полюбил, советы ему давал, как жить, хотел в молодом кадре память по себе оставить — и вот, пожалуйста. От той же Ульяны его прикрывал, прибежит в слезах — Алесь опять дома не ночевал, не говоря уже о проколах на работе.
— Ты не забыл, что мог крепко сесть без моей выручки?
— Конечно, Роман Захарович, вы мне, как отец родной.
Шевчик ушел, а Шибаев позвонил Цою и сказал, что Ульяна Шевчик работает медсестрой в железнодорожной больнице.
Душа — это слабость, категория мелкого человека. У воротилы любого ранга души быть не должно, на всех не хватит. Давно замечено, чем выше человек, тем он бездушнее.
Глава третья Учредительное собрание
Первым прибыл Вася Махнарылов в новом, черном костюме, взятом на вырост, из рукавов выглядывали кончики пальцев, в новой ковбойке и в зеленом галстуке на резинке, какие носят полковники в отставке. Попахивало от него смесью шипра с перегаром, и вид вообще был — роди меня, мама, обратно. Знал Вася, все они, эти юристы, не любят, когда на толковище идешь поддатый, и Вася держался, но сколько можно, и вчера он крепко выпил наедине с собой, до отрубона. Опохмеляться не стал, Шибаев может погнать за разврат, и вообще Вася склонен уже дать отбой, канительное это дело быть начальником, психуешь круглые сутки без перерыва. Еще не назначили, а жизни уже нет. Лучше сразу сказать: Махнарылов не имеет претензий, пришел выпить, закусить и в долг попросить. Неужели нам нельзя жить без начальников, за что, спрашивается, боролись? Полковничий галстук и новый костюм отчасти сглаживали вчерашний перебор, но все равно вид у Васи помятый.
— А ну воспрянь! — приказал ему недовольно Шибаев. — В менеджеры готовишься, а надрался, как безработный. Прими стойку, без осанки и конь корова, — и кивнул Васе на бар в углу под телевизором, где — известно всему комбинату — всегда стоит армянский коньяк и лежит финская колбаса. Вася не стал упрямиться, принял стограмешник, сунул в рот ломтик колбаски, весь встряхнулся, встрепенулся, — спасибо, родной, дорогой наш вождь Роман Захаровач, куда мы без тебя!
Вскоре Гриша Голубь на своей машине привез Мишу Мельника. Удивительно, что наша столица с человеком делает! Каких-то полгода не прошло, а он уже выглядит как замминистра иностранных дел. В импортной белой дубленке с шалевым воротником, фирму за версту видно, с дипломатом из настоящей кожи, не трескается при любом морозе и тоже фирма. Он и раньше был ширше всех в Каратасе, а теперь совсем раздобрел, и сам круглый, и голова круглая, и лицо овалом, истинная матрёшка, только шрам через всю скулу (после аварии) портит ажур. В руке у него массивная шиповатая трость из особого дерева, одному он говорит — из ливанского кедра, другому — из сандалового дерева, есть еще вариант: с этой тростью маршал Жуков принимал капитуляцию Германии. Мельник сильно прихрамывал после той аварии, вытягивали ногу ему и в Москве, в Институте травматологии и ортопедии, и в Кургане, у знаменитого Илизарова, но так и не вытянули, и Мельник добивается визы съездить в США «к знакомому костоправу».
Гриша Голубь тоже тепло одет и тоже по моде — в армейском полушубке офицерском, тоже белом, с узкими капитанскими погонами, подтянутый, такой ладный огурчик рядом с тушей Мельника. Гриша-красавец с серыми усами, седыми висками, черноглазый, чернобровый, ему в кино сниматься в той роли, какую он успешно играет в жизни — старший преподаватель кафедры уголовного процесса школы милиции МВД.
К Мельнику у Шибаева сложное чувство, а к Голубю очень даже простое — он его ненавидит безжалостно, но и беспомощно, и всё пытается себя воспитывать. Если не можешь скрутить себя для пользы дела, значит, ты плохой деловар, не владеешь собой, тебе на базаре арбузами торговать. Гриша Голубь имел право на долю, в общий пай на строительство и на реконструкцию он дал 12 тысяч, это вам не 12 рублей, он вместе с другими хозяин положения, и придраться не к чему, но Шибаева раздражает, что Гриша не только здесь, он повсюду — ив школе милиции, и на меховом комбинате, и в городе, и в стране, он повсеместно и постоянно прав, знает всех, знает всё на свете, о чем ни заговори. Они похожи с Мельником, но Мельник обходительнее, уважительнее, потому что сам дело делает и от многих зависит, а Гриша ничего не делает, ни от кого не зависит, зато всем другим обеспечивает и дело, и взаимозависимость. Он советовал, консультировал, провоцировал, поджигал, гасил, сводил, разводил и за всё получал. Чистой воды захребетник. Он никого не грабит, упаси боже, он всего лишь учит, как иметь прибыль на законном основании. Гриша — юрист от Бога, он и сам Бог-устроитель и вседержитель. К примеру. Играл человек на гармошке, ну и пусть бы себе играл — нет, нельзя, надо ему дирижера хотя бы на полставки, надо музыковеда, бухгалтера, оплатить труды, ревизора, закрутить гайки, и юрисконсульта, чтобы гайки ослабить. В любом из этих звеньев могут быть недоразумения и конфликты, нужен закон для порядка. Отсюда первая заповедь Гриши Голубя — нет такого закона, с которого нельзя снять навар. И посему, чем больше законов, тем лучше всем, и массе, и отдельным лицам.
Шибаев хотел встретить их на пороге, но, увидев Голубя в окно, раздумал и махнул Васе рукой — иди, встречай.
Три года назад Шибаев не знал, два года назад начал догадываться, а сейчас уверен, что Ирму тогда посадили Голубь вместе с Колесом, директором «Бытмебели», чтобы спасти главного бухгалтера, с ним они были в доле. Отвели удар от своего, навели на чужую, чтобы, опять же за взятку, добиться ее оправдания. Наверное, любовь настоящая и началась после того, как Шибаев выложил за Ирму крупный куш, и она из заложницы стала наложницей. Стоило ему вспомнить эту историю, как он распалялся, дымился, пристрелить ему хотелось Голубя, а не то, что в доле держать, на него вкалывать. Ему не только Ирму жалко, но и себя тоже — ни за что, ни про что вымели тогда из его кармана 10 тысяч наличными.
Однако нет худа без добра, не будь того дела с Колесом, не быть бы ему сейчас директором, именно тогда он стал своим в кругу Гриши Голубя, через него к Мельнику устроился, так что все в жизни связано настолько тугим узлом, не разберешься, где порядочное, где подлое.
У Васи от стопаря лицо расправилось, он двинул на полусогнутых встречать руководящих и направляющих. Вошли они в приемную шумно, Мельник сразу к секретарше, как пингвин, пузом вперед:
— Ах, это вы со мной по телефону таким прелестным голоском! Будем знако-омы. — Он стянул тесную перчатку, кожаную с узором снаружи, с нежнейшим пухом в середке. Вася глазами ел своего прародителя, можно сказать, кормильца и поильца, не будь Михаила Ефимовича, он мантулил бы в подручных на автобазе, чумазый ходил бы и в кирзе, а сейчас гляньте вы на него — при галстуке, в пинжаке из Голландии, ме-нед-жер!
Соня встретила Мельника вполне аристократично, скупо улыбнулась ему, без всяких авансов, хотя у него дубленка за полторы тыщи. Тогда Мельник снял свою роскошную пыжиковую шапку, обнажил коричневатую плешь, — солидный человек, зачем ему женихаться, у него внуки уже в школу пошли. Взгляд Сони потеплел, она зырк-зырк и на дубленку его, и на дипломат с замочком кодовым, все усекла в момент, а тут еще Мельник извлек из кармана яркий пакетик жевательной резинки и протянул Соне.
— Московская? — улыбка доверия озарила приемную.
— Что вы, милая, обижаете! Фирма. А где теперь моя верная Маргарита, отправили на заслуженный отдых?
Соня легко рассмеялась — отправлять на пенсию даму во цвете лет, ей же тридцати еще нет.
— Знаете, — пояснила Соня с обворожительной улыбкой, — как в ковбойском анекдоте: пиф-паф, он слишком много знал!
У Мельника брови на лоб полезли от такого намёка. Если Шибаев, чуя опасность, веселел и даже мог хохотать, то у Мельника реакция была нормальной, он суровел. Маргарита действительно много знала. Он покивал Соне, отметив, что сменщик нашел птичку не только нежную, но и нужную.
Голубь стоял тут же, чинный, невозмутимый, смотрел на девицу свысока своими черными выпуклыми глазами. На взгляд Васи, он очень похож на Сталина — и усы такие, и глаза такие, и осанка, но, когда Вася сказал об этом однажды, желая Григория Карловича порадовать, тот аж позеленел. Вася не мог уразуметь — а что плохого лично ему сделал Сталин? Взятка словом легче всего дается, учил его Михаил Ефимович, однако и тут надо шурупить.
Войдя в кабинет, Мельник расставил руки и пошел навстречу Шибаеву, и у Шибаева тоже рот до ушей, и он рад без памяти такой встрече, и тоже руки от стены до стены. Васе было легче жить, понятнее, если бы у каждого в руке оказалось по топору, — так нет же, обнялись, по спине друг друга похлопали, расцеловались два раза, после чего Шибаев вытерся рукавом и давай с Голубем обниматься.
— Ну как тут поживает мой преемник? — зарокотал баритоном Мельник. — О-о-о, линолуем новый, про него даже в Москве анекдот ходит, о-о-о, телевизор, не то, что у меня, грешного.
— О-о-о! — подпел ему Шибаев. — Когда тут у вас все провалится в тар-та-рары? — Он угадал мечту Мельника поскорее скрыть следы своей деятельности. Мельник не обиделся, но в долгу не остался:
— Рад тебя видеть, Рома, как тебе сидится на чужом месте?
— Это ты сидел на чужом, Малафейкину спихнул, а я по закону, Миша, по закону.
Вася только поеживался, как они после объятий совали теперь друг другу ножик под ребро. Чью сторону держать, Вася пока не мог сообразить, но Мельник солиднее.
— Вы, говорят, теперь в Совмине работаете? — конфетным голосом спросил Вася.
— Верно говорят, дорогой. Приглашаю тебя, приезжай, устрою.
— Покорно благодарю, — отозвался Вася, — не пьянствую, не курю.
— Один приехал? — поинтересовался Шибаев.
— А кто мне нужен? Это тебе требуются кадры.
— Например?
— Начальник нового цеха, не угадал?
— Не дери глаз на чужой квас, Михаил Ефимович. Было бы болото, черти будут. — Дал понять, что дело решено. Если бы Мельник приехал один, без Гриши, Шибаев бы его выслушал, могли обсудить, поспорить. Но он пожаловал с Голубем, и это сразу обозлило Шибаева. Их можно понять, они друзья сто лет, вместе окончили юридический институт, вместе работали адвокатами в Каратасе, знали их тут все — бандиты, торгаши, хулиганы и должностные лица. Они были самыми грамотными, рисковыми и популярными адвокатами, а значит, и самыми богатыми, под них все время копали, и оно понятно — милиция ловит, следователи готовят, а Миша с Гришей выпускают на свободу, кого захотят, лишь бы было уплачено. После трех или четырех статей в газетах первым спохватился Гриша, пошел юрисконсультом на кондитерскую фабрику, там на шоколаде скоро прогорел и устроился учить милицию, защитил диссертацию. Мельник подался в местную промышленность, после авиационной катастрофы он не может работать головой, позвольте ему куда-нибудь полегче, нет, не в охранники, а в начальники. Мельник платил Голубю оклад, и когда передавал должность, посоветовал не ломать отлаженную систему. Шибаев совет не принял — за шубу спасибо, Миша, а блох из нее позволь вытрясти. Охраной я обеспечен, а преподаватели мне не нужны. Мельник знал про Башлыка и сказал, что Гриша способен помочь не меньше, у него под контролем все ключевые должности. Способен, согласился Шибаев, у него талант. Вчера Шибаев попросил Васю срочно вспомнить какую-нибудь пакость про Шевчика — для дела. Вася тык-мык, вспотел, кое-как придумал: у него от джамбулской водки сыпь по телу — больше ничего не смог, руками развел. Но спроси о чем-то подобном Гришу Голубя, он тебе ассортимент выдаст, на кого хочешь. Мельник объяснил это наследием работы в адвокатуре, но у Шибаева есть свое объяснение.
Вот такие разные, но и похожие люди собрались в кабинете Шибаева вполне по-дружески, и для начала, как водится, трали-вали, новости культуры, кино, анекдоты про руководство. Первенство держал Мельник, а за ним, как ни странно, поспешал Вася и делал успехи, он и начал разговор:
— А скажите, Михаил Ефимович, что новенького на сегодня в Бермудском треугольнике?
— Сначала, Вася, новости спорта про «Зарю», Ворошиловград. Не напишут в газете, не скажут по радио, не покажут по телевидению. Каким путем они стали чемпионами? Нашим путем. Создали фонд и пустили его на обслуживание судейского корпуса. И московским командам нос утерли, и киевскому «Динамо», и всё шито-крыто. И дальше бы так играли, но чего не учли? Прошу Шибера обратить внимание — они не обеспечили себе охрану. Спортсмен есть спортсмен, голы, очки, секунды, а перспектива ему до лампочки. Полетели с должностей советские и даже партийные работники, вот что значит варить дело без охраны, — он прямо обращался к Шибаеву. — Теперь я, как услышу Озерова по телевидению, что футболист должен думать, сразу вспоминаю «Зарю» Ворошиловград.
— Михаил Ефимович, а скажите, что нынче Москва читает? — спросил Вася и сделал губы трубочкой, актер, язви тебя, Джигарханян.
— Купил я, други, на Кузнечном мосту дневник Вырубовой за сто пятьдесят рублей, читал запоем, а потом узнал, что мне туфту продали. Ну что еще? Солженицыным торгуют, на обложке «Как закалялась сталь».
Неожиданно приехал Цыбульский, хотя уговора с ним не было, привез лекала, выставил их у стены, блеснули матово, серебром.
— Цыбульский распилил на части новый Ил-62,— сказал Мельник. — С какой целью?
Шибаев не ответил, сейчас он с удовольствием распилил бы на части самого Цыбульского.
— Ты шагаешь гигантским шагом, — похвалил Мельник Шибаева. — И в газете уже, и по радио. Новатор ты у нас, лекала придумал.
Почему Цыбульский привез лекала не вовремя? Да дураку ясно, это для тебя не вовремя, а для них в самый раз. Они засекли твой дополнительный способ создания резерва, теперь сделай вид, что ты не хотел ничего скрывать, обними и расцелуй Цыбульского.
— Молоде-ец, молоде-ец, — благодушно тянул Мельник. — Бери сразу же на них заключение из лаборатории мер, весов и стандартов, чтобы комар носа не подточил.
— Обахаэс не комар, — сказал Вася.
Но не пора ли и новый цех посмотреть? Все поднялись, Вася бочком-бочком и в приемную, и сразу к Соне — что за ковбойский анекдот? Мельник понял, а Вася ни бум-бум.
— Только по-быстрому! — попросил он, напяливая на новый костюм тесный в проймах полушубок.
— Скачут два ковбоя, один спрашивает другого, сколько будет дважды два. Тот говорит пять. Бах-бах! — и пристрелил.
— За что?
— Он слишком много знал.
Вася похлопал глазами.
— А соль?
— Про соль есть другой анекдот, но вам уже пора, — сказала Соня с милой улыбкой.
В коридоре Мельника приветствовали сотрудники, знали о его приезде и верили, он работает в Совете Министров, а как же иначе, если смог оттуда прислать черную «Волгу» Прыгунову. Он и там всемогущ, как и в Каратасе, жаль, такого кадра потеряли. Двадцать один год он здесь служил и какими делами ворочал! Кто его только не знал — от последнего подчиненного до первого руководителя, от первого вора до последнего честного.
Вышли в подъезд, Мельник протягивал руку всем подряд, он мужик обходительный, Шибаеву надо бы поучиться, но ему не хочется, натура не та. Толчея возле Мельника потеснила его, опять восклицания про Совет Министров, Шибаеву надоело, он вдруг зычно захохотал, показывая на номера машин.
— Это все случайно, конечно!
У Цыбульского на бампере 10–10, а у Голубя 13–13, он больше на сатанинские силы надеялся.
— А чего особенного, — солидно сказал Гриша, — ничего особенного. — По юмору он приближался временами к Махнарылову.
Вася внес свою долю:
— В парке Горького у шашлычника «Волга» под номером 77–77.
— Случайно! — во всю глотку оповестил Шибаев, на него стих нашел. — Скромнейшие люди! Цвет нашей интеллигенции!
Приобщение к шашлычнику Голубю не понравилось, он даже не стал препираться, пошел к своему «Москвичу». Цыбульский только плечами пожал, а когда стали уже рассаживаться, Мельник за них вступился — у них не номера, а ставки за разовую услугу, у одного десять помножить на десять, а у другого тринадцать на тринадцать, едут они по Каратасу, и все видят, сколько им надо. Мельник не любил, когда человек не реагирует на шутку. В Москве есть девицы, мечта загульного командированного, сидят на бульваре нога на ногу, а на подошве цифра, сколько она сегодня стоит, такса за сеанс.
Васе очень хотелось спросить, сколько же, но мысль о будущем назначении его удерживала — еще один плюс от должности, лишний раз придержишь язык.
Со смешками, с прибаутками, с подначками поехали в новый цех. У входа висел свежий красный транспарант с белыми буквами: «Слава труду!» На переднем плане все хорошо, но не все ладно на заднем, Вася сразу же хотел повести уважаемую комиссию к тыльной стене, чтобы показать новую трещину, но Шибаев дал знак — потом.
— Кто бы мне сказал в двух словах, что тут у нас будет? — попросил Гриша Голубь. «У нас» — только так и никак не иначе.
Здание было покинуто клубом ДОСААФ из-за аварийного состояния — по стене прошла трещина от пола до потолка и полезла вверх по перекрытию, грозя обвалом, а причина простая — шахтеры выбрали уголёк. Случай не первый, не последний, ДОСААФу нашли другое здание, а это бросили. Объект обнаружил Мельник — большая площадь, есть вода и электроэнергия, подведено тепло и пароснабжение, — просто мечта деловых людей. Затраты на строительство, вернее на реконструкцию, пустяковые, а прирост продукции будет… тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Шибаев сначала сам хотел стать начальником этого цеха, но потом ситуация изменилась. Много было хлопот по уламыванию инстанций — здание аварийное, требовались акты, справки, разрешения, экспертизы, ходили по техническим инспекциям, к главному маркшейдеру, в исполком, в горком, к тем, кто курирует местную промышленность, — выбили разрешение. С помощью Цыбульского и за свой счет трещину заделали и следа не осталось, пригласили комиссию из министерства, добились кое-как фондов, главное, сами скинулись и начали штурм. Нужен экскаватор, звонят, кому надо, платят, сколько требуют, и работа кипит. Нужен самосвал на два месяца — звонят, платят, пришло время заказывать баркасы и барабаны, поехали на ДОК, работа объемистая, сверхурочная — две тысячи директору на лапу. У Шибаева все посчитано до копейки для отчета перед компаньонами, сколько за труд и сколько всяким инспекциям — горношахтной, технической, пожарной, санитарной. Короче говоря, если честные люди тратят на такое дело — на проектное здание, на проектно-сметную документацию и прочее — как минимум года четыре, то люди деловые потратили на все это четыре месяца.
Кто будет докладывать? Полагалось бы самому директору, но он дал знак, и Вася, размахивая руками, будто разгоняя комаров, четко начал:
— Новое предприятие Каратасского мехового комбината называется главный цех по выделке и крашению пушно-мехового сырья Министерства местной промышленности КазССР и предназначается для безостановочного процесса. Как на выплавке стали, как на конвейере ВАЗа, как на предприятиях оборонной промышленности.
— Скажите, пожалуйста, — напевно прокомментировал Гриша.
— Да, именно так, — настоял Вася и погнал коней дальше: — Первая операция отмока, шкурки закладываются в барки малые по пятьсот штук и в барки большие по две тысячи пятьсот штук на шестнадцать часов, после чего начинается мездрение, потом шкурки закладываем в баркасы для промывки. Вот вам, пожалуйста, стоят баркасы, на ДОКе делали по две тысячи рублей, а большие по пять тысяч рублей.
— Не рублей, Василий Иванович, а литров, — подсказал Шибаев.
— Правильно, — согласился Вася, — но и рублей тоже.
— А без цифири нельзя? — попросил Голубь.
Вася помотал головой — никак нельзя! И дальше минут на сорок зарядил, чем шкурки промываются, чем укрепляются, как идет дубление, отжим в центрифуге, и надо ему отдать должное, Вася больше не назвал ни одной цифры — тоже показатель.
— После центрифуги каждую шкурку надо аккуратно расправить и поместить в сушильный шкаф, затем идут обкатные барабаны с опилками и скипидаром, после обкатных — протрясные барабаны.
— За все это платили-платили, — ввернул Шибаев, — и наличными-наличными.
— В протряске выбиваются опилки, грязь, остатки химобработки, вся эта муть отсасывается вентиляторами — тоже добыты не бесплатно, — затем кожа шкурки разбивается на особом станке, тут же шкурки шлифуются, и весь процесс заканчивается разбраковкой, маркировкой и сдачей на склад готовой продукции. И наша песня спета, — заключил Зася. — Вопросы есть?
— Про песню шутка глупая! — отозвался Мельник.
— Когда будет готовая продукция? — спросил Голубь.
— Скоро, — умело ответил Вася, — в ближайшем будущем.
— Вопросов нет, — заключил Шибаев, — есть замечание. Место для цеха выбрано не совсем удачно.
Он сказал это нейтральным голосом, но Вася подкрепил его взглядом на Мельника, и во взгляде была беспредельная укоризна — ай-я-яй, Михаил Ефимович, что же вы так, в карман друзьям нахезали.
Мельник глаза к небу закатил, руками развел — не ожида-ал.
— Ты же не мальчик, Шибер, нормальное место стоит миллион, не считая затрат времени, не ожида-ал, Рома, такой простоты.
Шибаев и бровью не повел.
— Я это сказал к тому, что текущий ремонт, а он будет вестись постоянно, потребует непредусмотренных капиталовложений от компаньонов. Учесть — и не более того.
— Все правильно, — поддержал его Вася.
— Други, мы не будем здесь работать до второго пришествия, нам вполне достаточно два-три года, чтобы каждый раскрыл свои способности и получил по труду, как и положено в условиях развитого социализма. А потом цех пусть проваливается, здесь появится крупное пушно-меховое объединение, и вы спокойно перейдете на новое место с повышением по должности. — Мельник говорил небрежно-весело, хотя его задел упрек, попробовали бы эти вахлаки что-нибудь сделать сами, они должны ему в ножки поклониться, а они мизер какой-то предъявляют! Он три раза к министру ездил, он в главк три дубленки отвез под видом экспонатов для ярмарки, а уж шапок ондатровых мужских и женских считать не будем. А умение Мельника подойти к людям? Ни у кого из вас нет и сотой доли его таланта, так где же признание? Мельник привык к черной неблагодарности, он терпелив, он мудёр.
— Сколько я тут живу, ни одна хата не провалилась, — гнул свое Вася.
— Стоит нам об этом жалеть? — заметил Голубь.
— А кабинет у начальника цеха есть? — спросил Мельник. — Где он будет людей принимать, своих компаньонов? У меня уже кишки подвело от ваших претензий.
Вошли в кабинет, накрыт стол, девушка смазливая в переднике приглашает выпить и закусить. Белая скатерть, сверкают бутылки, — коньяк, шампанское, боржоми, копченый балык, сервелат с листиками зелени, зимой раздобыли для важных гостей, горчица, хрен и даже корейская морковка (сапог прожжешь), одним словом, виден размах. И обслуга грудастенькая, с ямочками на щеках тоже возбуждает аппетит, кому-то она сегодня достанется.
— Как вас зовут, милая девушка? — двинулся к ней пингвином Мельник.
— Тася Пехота.
Вася тут же встал на защиту:
— У этой девушки трое детей!
— Да что вы говорите? Молодчи-ина.
Сели, выпили. Поддать хорошо могли все, кроме Гриши Голубя, он только чуть мочил губы и отставлял, не считая нужным оправдываться — сами знаете, человек за рулем и у него лекции.
— Ты уже прописался, получил квартиру и всё такое? — спросил Мельника Шибаев.
— Разумеется. — Мельник закусывал алчно, со смаком, это у него Шибаев научился чревоугодничать, попросту говоря, жрать причмокивая, чавкая.
— А как там сейчас с квартирами?
— День ото дня дороже и квартира, и прописка само собой. Погоду делают энергичные люди. Тут у нас подпольные, а там — все на виду, никто не прячется. Дочь одного самого главного бриллиантами торгует и с наркотиками дело имеет, а другой главный покрывает Елисеевский магазин, где наши люди, директор, между прочим, бывший шофер. Смело живут, столица, она и есть столица.
— Как с кооперативными квартирами?
— Первый взнос пять-семь бумаг. Вселишься и по семьдесят рублей каждый месяц за скромную двухкомнатную. Зато при входе сидит дежурный, как в МВД, и панелька с электроникой, десять кнопок. Знаешь код — откроется, а не знаешь — не войдешь.
— Есть такая и в Каратасе у Васи.
Выпили по второй — за новый цех, уже отмеченный прессой, радио и телевидением, за всех тружеников и «прежде всего за Василия Ивановича». Цыбульский, хотя и за рулем, врезал наравне с другими, а сейчас ему на важный объект. Дверь за ним закрылась, и Шибаев предложил вопрос о начальнике нового цеха.
— Кадры решают все, — сказал Гриша и по-сталински требовательно посмотрел на Шибаева.
— Гриша, ты тут за меня оставался, — напомнил Мельник, — неужели нет предложений?
— Спроса нет, — едко сказал Шибаев, намекая, что за Мельника остался все-таки не Голубь, а Шибаев.
Гриша сказал, конкретно он никого не рекомендует, но на любую кандидатуру он может дать деловую характеристику. Наступило молчание.
— У меня кое-что есть, — сказал Шибаев, — но сначала хочу послушать вас.
Молчание затягивалось, Вася ерзал, вытирал пот со лба рукавом нового костюма, смотрел на Шибаева, на Мельника, на Голубя, но ничего не видел, фортуна ему знаков не подавала. Слово взял Мельник:
— Есть у меня на примете человек нашего склада.
— А какие мы? — сразу перебил Шибаев. — Я вот, к примеру, не знаю, что у меня за склад такой.
— Человек этот деловой, ответственный, если обещал, сделает, хороший товарищ, не жлоб, не единоличник. Он знает Каратас, поскольку не один год здесь работал…
Дело шло к тому, что Мельник через секунду-другую предложит свою кандидатуру, и у Васи опять душа в пятки — никак тогда не отклонишь и ничем, никто тут не поможет, кроме, может быть, ОБХСС, и то не местный, а какой-нибудь международный.
— Он хорошо знает здешних людей, а контингент у нас сложный. Я предлагаю деловара высшей категории, рискового и денежного, какой нам нужен.
Сейчас Гриша поддержит Мишу, а Вася с Шибаевым вытянут пустой номер — остался всего миг, что можно предпринять? Нет у Васи опыта для таких встреч на высшем уровне, он совершенно не врубается. Если бы знал заранее, что будет несправедливость, подвел бы сюда с высоковольтной фермы нужные киловатты и разнес бы цех в мелкую крошку — если не мне, то никому.
— Небось Тыщенко? — спросил Шибаев с усмешкой.
— А что ты имеешь против?
Тыщенко работал здесь когда-то начальником трикотажного цеха, брал прилично, и земля под ним не горела, со всеми ладил, в высшей степени предусмотрительный деловар. Жил бы и работал еще сто лет, но прошла, начиная от Москвы, волна разоблачений по трикотажу, расстреляли двоих-троих во Фрунзе, Тыщенко ловко прикрыл свой цех и отбыл не то в Ялту, не то в Кишинев с полным, как сказал бы Вася, чумаданом. Делец он действительно первостатейный, надоело, видимо, сидеть без дела, и он зондирует почву через Мельника. Он мог бы и на проценты жить без нужды, но ему не сидится, натура просится к власти, чтобы ворочать деньгами, судьбами, рисковать, иначе гастрит, плеврит, нефрит и соболезнования семье покойного.
— Я предлагаю его ненадолго, на первый период. Отработать технологию, задать ритм.
Вася таким телячьим взором смотрел на Шибаева, что ему захотелось тарелкой с балыком закрыть Васину физиономию навсегда. На полчаса не может принять человеческий облик. Кандидатура. Что он значит в сравнении с акулой Тыщенко, этот мелкий пескарь с красными от похмелюги глазами?
По гримасе шефа Вася понял, что дело его труба, махнул рукой, нечаянно сбил бутылку шампанского, успел ее подхватить и спросил, можно ли ему закурить. И тут Мельник бросил ему шанс:
— Он надолго здесь оставаться не может, в Канаду собрался к родственникам. А на дорогу кое-какие средства не помешают.
— Собрался — пусть едет, — внушительно сказал Шибаев. — Кандидатура твоя очень подходящая, я с тобой, Миша, согласен целиком и полностью. Но в такой ситуации здесь ему работать не дадут. Ни ему, ни нам.
— Да об этом, Шибер, никто не знает, кроме нас.
— Он еще только подумал туда лыжи навострить, а об этом уже знают, где надо. Через полгода он нам тут всем срока обеспечит.
— В этом смысле Рома прав, — сказал Голубь.
— Не Рома, — поправил его Шибаев, — а Роман Захарович.
Мельник пожал плечами — было бы предложено. Риск есть, но за год-полтора Тыщенко взял бы здесь и другим дал бы ох как хорошо!
— Идея твоя насчет нового цеха, Миша, замечательная, приоритет твой, мы это ценим и продолжаем надеяться на твою помощь из Москвы в смысле поставок сырья. С пуском цеха выделки и крашения план комбината увеличивается на два миллиона рублей — не шутка. Делать план я должен с тем, кого мы назначим. Мне бы, конечно, легче было бы жить в Москве, как Миша, или, как Гриша, учить ментов уму-разуму и получать процент со своего пая. Но пока не получается. Надо вертеться здесь, пробивать фонды, ублажать рабочих, чтобы они не ушли на более выгодные места, давать план стране и не обижать друзей-товарищей. Поэтому фигура начальника цеха для меня гораздо важнее, чем для вас. Вы мой характер знаете, а с повышением по должности любой характер становится еще тверже. Я предлагаю доверить новый цех Василию Ивановичу Махнарылову. Вася этот цех строил, Вася и будет его начальником.
Вася растроганно шмыгнул носом — вон как предложил его Роман Захарович, твердо, веско, и сразу нет проблем.
— Технологию создания резерва мы освоим и без Тыщенко, — продолжал Шибаев, — и даже сами кое-что успели придумать. А теперь надо вкалывать да вкалывать, чтобы процесс шел без остановки, надо следить да следить за техникой, она у нас из дерьма, а такого мастера, как Махнарылов, найти трудно.
Тут Вася дернулся и вскочил, чуть не опрокинув стол, — от радости, что ли? — и начал бить себя по штанам да в самом опасном месте — между ног, по ширинке, даже искры посыпались, причем настоящие, он будто огонь вышибал из детородного члена, оправдываясь панически:
— Душанбинский, пля, «Памир», не сигареты, а сплошной шпагат, как дрова, горят!
После громкой Васиной выходки позволил себе негромкую Миша Мельник. Что тут такого особенного — упала искра на брюки, бывает не только с похмелья, но и у трезвого, стряхнул и все дела, но Мельник побледнел, как стена, рубец на его скуле полиловел, как сирень в цвету, он полез в карман, очки выложил, достал стеклянную трубочку с таблетками и положил одну под язык.
— Ты чего, Миша? — взволнованно спросил Голубь.
Бледность вроде бы не заразна, но странно, и Шибаев почувствовал, как щеки стягивает будто на холоде, он через силу рассмеялся:
— Авария, Миша, последствия?
Мельник, почмокивая, сосал таблетку, отхлебнул боржома.
— Картинка почудилась от перемены климата, извините, други.
— Пройдет, Миша, пройдет, — заботливо сказал Гриша, не понимая, с чего бы ему мерещилось, он не верил в приметы.
— Ну что, единогласно? — бодро спросил Шибаев. — Золотые руки, Миша, разве не так?
— Золотые… — рассеянно отозвался Мельник, все еще бледный. — Если Вася спас конфетную линию, то о чем речь.
После того, как на Каратасскую кондитерскую фабрику пришла заграничная линия с компьютером, ее восприняли как вражескую вылазку — упала выработка, рабочие стали увольняться, конвейер то и дело останавливается, оказывается, там до миллиграмма все рассчитано, какой-нибудь малейшей муры в конфетной смеси не хватит, как он тут же щёлк! — и встал. Ищите причину. Плана нет, премий нет, что делать? Вызвали специалиста с фирмы, он посмотрел — всё в порядке, нашу беду понять не может, рекламаций не принимает, а за линию золотом плачено. Делать нечего, позвали Махнарылова, потребовал он два ведра — шоколада ведро и ведро водки. Через неделю линия заработала по новой, Васиной схеме, инструкция с автографом мастера гласила: «Имейте, пля, совесть!» — остальное передавали из уст в уста: линия автоматически отключается при перегрузке конфетной массы, для бесперебойной работы требуется постоянное недовложение. Коротко и всем ясно без переводчика. Вот уже третий год не было ни одного сбоя, текучесть кадров прекратилась, мало того, принимают туда через громадный конкурс, и без «Птичьего молочка» и «Курочки-рябы» ни рабочие, ни тем более администрация не живут. Вот какого мастера двигал сейчас на повышение директор Шибаев.
— А сам он не возражает? — поинтересовался Гриша Голубь без тени юмора.
И тут Вася превзошел самого себя, отчеканил с расстановочкой:
— Смотря на каких ус-словиях. Прошу коллегиально решить вопрос, что будет иметь начальник цеха — оклад или долю?
— Меня в принципе тоже интересует подобный вопрос, — сказал Гриша. — Являемся ли мы долевиками по доходам от всего комбината, или только от цеха выделки и крашения. Судя по объяснению уважаемого Василия Ивановича новый цех является звеном единой и неразрывной цепи, следовательно, и доход его войдет составной частью в общий доход, я правильно мыслю?
Все посмотрели на Шибаева.
— А тут и дураку ясно, — сквозь зубы ответил он. Гриша развысту-пался не просто так, он наверняка пронюхал про левые шапки, и ждет момента, чтобы потребовать долю и с них.
— А можно без нервов? — попросил Голубь. — Клетки не восстанавливаются.
— Други, спокойнее, ближе к делу. — Задача у Мельника сегодня — быть пожарником, следить, где дымит, где искрит. Васю он уже засек, чуть сам инфаркт не получил, теперь Гриша с Шибером хотят сократить ему дорогу до крематория. — Предлагаю обсудить доход, как мы его поделим. Поскольку Шиберу хлопот полон рот, ему шестьдесят процентов, а оставшиеся сорок долевикам поровну.
— Каким долевикам? — не вытерпел Вася. — Кому именно? — Если на гроих, то сорок маловато, что-то они тюльку гонят, уши Васе трут, может быть, на двоих хотят?
— Начальнику цеха, — Мельник кивнул на Васю, — главному юрисконсульту, — кивнул на Голубя, — и генеральному поставщику, — он приложил обе руки к своей груди.
— Мало, сказал Вася, — я не согласен. — И смело посмотрел на шефа.
— Рано делить проценты, — отозвался Шибаев. — Из первых доходов надо возместить деньги вкладчикам, тем, кто финансировал строительство. Затем обязательно, я подчеркиваю! — взять крупную сумму из первого резерва и вручить ее нейтральному лицу на случай нашего провала. Что скажут юристы?
— Мудро, — сказал Мельник. — Но не просто нейтральному, а еще и способному предпринять действенные шаги по нашей выручке. Могу сразу его назвать — директор ликеро-водочного завода Сагинадзе. А сейчас задача ясна каждому. Василий Иванович отвечает за работу своего цеха, Роман Захарович — за общее руководство и создание резерва, я помогаю в обеспечении сырьем и оборудованием, а Григорий Карлович охрану на всех участках — в торговой сети, в милиции и вообще по начальству.
Шибаев опять уперся:
— Я согласен в общих чертах, но в частности охраной мы обеспечены.
— Это мы еще посмотрим, — сказал Голубь задето, да и кого не заденет, если его хотят выбросить из дела, а он вложил в него 12 тысяч.
— Други-други, спокойно! — Мельник тут как тут с огнетушителем. — Шибер, мы знаем, на кого ты возлагаешь надежды, но прислушайся к моему совету. Башлык не станет ввязываться по мелочам, допустим, если тебя возьмет за хобот рядовой инспектор ОБХСС, а от рядовых копоти много. Но капитан Голубь может помочь во всех звеньях, от рядового до генерала. Не советую тебе ждать случая, чтобы в этом убедиться, — Мельник выразительно оставил паузу. — Сам ты не можешь прямо платить ребятам из ОБХСС, а Гриша сделает это в лучшем виде и тем самым гарантирует нам спокойствие. Когда горел ярким пламенем на «Бытмебели» кое-кто из наших общих знакомых, именно Гриша вызволил из беды, надеюсь, ты не забыл?
— Одни горели, а другие карман грели! — свирепо сказал Шибаев, и стало ясно, что он обо всем догадался. Сейчас он разорется, начнет материть всех подряд и громыхать по столу кулаком.
Вася тяжело вздохнул — они или передерутся, или подожгут его новый цех, и кто вышку возьмет, пока неясно, возможно, у Григория Карловича пистолет, им же положено.
— Ну чего ты, Шибер, как пацан, — торопливо заговорил Мельник, — не надо выдумывать козни там, где их нет.
— Без первоначального капитала у нас не было бы сейчас никакого нового цеха, — напомнил Голубь. — Все мы скидывались и знали, чего ждем. Каждый мог свою сумму и в другое дело вложить, не так ли? Я хочу быть правильно понят, но Василий Иванович не вкладывал в дело ни копейки.
— Он всю душу вложил! — рявкнул Шибаев так, что у Васи от восторга упала на стол капля из носа.
— Други, прошу не мелочиться! — решительно повысил голос Мельник. — Мы уходим от главной задачи нашего ответственного совещания.
Хватит бузить, Шибер. Чем не устраивает тебя моя раскладка на проценты?
— Я предлагаю так: директору сорок, долевикам по двадцать.
Трое вздохнули ноздря в ноздрю, таким веским тоном было сказано, что ясно всем — решения своего Шибер менять не станет.
— Только работать будет каждый на совесть. Грише я буду платить прежде всего за дело, а не только за консультации.
— Разумеется. А пример можно?
— Если мне надо кого-то посадить, ты посадишь.
— Я подчиняюсь решению большинства, — согласился Голубь, — но прошу учесть еще одно условие.
— А может, не надо, Григорий Карлович? — попросил Вася. Зачем лишний базар, Васю утвердили, все в ажуре, а начнутся условия, и шеф все может переиграть.
— Надо, это принципиально. Необходимо обеспечить контроль. Я имею в виду контроль со стороны долевиков.
Ну не гнида ли?! Он мне будет устраивать контроль!..
— Если я в состоянии провести вокруг пальца любого ревизора, то уж тебя, контролера, как-нибудь одурачу. Как ты будешь за мной надзирать?
— Очень просто. Мы внедрим на комбинат своего человека.
— «Своего!» — Шибаев ударил по столу кулаком, и вся посуда дробно подпрыгнула. — Персонального, от имени Голубя мне хочешь стукача подсунуть, да?! «Внедрим». Ну не сволочь ли твой дружок, Миша? — Шибер выкатил бешеные глаза на Мельника.
— Гриша не совсем удачно выразился. Он хотел бы, как я понимаю, каких-то гарантий.
— Тоже мне адвокат, «гарантий», — передразнил Шибаев. — Гарантия — это я.
— Прямо как Людовик Четырнадцатый, — невозмутимо заметил Гриша.
Шибаев приподнялся, рывком дотянулся до Гришиного плеча и грубо ковырнул пальцем.
— Я с тебя погоны сниму, вот тебе моя гарантия! — заорал он. — И ты знаешь, за что. У тебя рыло в пуху передо мной. «Бытмебель» — твоя работа от и до! Но пока я пожалею твоих деточек. — Шибаев оскалил зубы в улыбке и сел на место. Попутно он учил Васю золотому правилу — не идти до упора. Поддел за ребро — и назад, и притом с улыбочкой, извините, нечаянно.
Гриша Голубь не испугался, не возмутился, голос его сохранял миролюбие.
— Рома, доказательств по «Бытмебели» у тебя никаких. Надеюсь, мы останемся не только компаньонами, но и друзьями. Гарантии необходимы в любом случае, даже в самом малом деле, таково требование времени, так что, прошу спокойнее.
— Други, пора подвести черту. — Мельник оказался самым выдержанным, он совсем не кипятился, может быть, как посторонний. — Итак, вместо большой тройки начинает действовать большая четверка. Я бы посоветовал сразу решить вопрос об экспедиторе, есть ли у нас достойный кадр?
Вася посмотрел на шефа и ничего не сказал. Как быстро он вырос. Знает же, что с экспедитором у нас туго, но впереди шефа он не вылезет ни с каким предложением. Зато вылез Голубь — у него есть подходящая кандидатура.
— Кто такой? — спросил Мельник. — Мы его знаем?
— Яша Городец.
— Так у него же судимость, кого ты мне суешь! — возмутился Шибаев. — На материально ответственную должность!
Вася снова затрепетал, как осиновый лист, поскольку у него три судимости.
— Нашел криминал! — воскликнул Гриша.
— Экспедитором будет Шевчик, — объявил непререкаемым тоном Шибаев.
Вася в недоумении — он же подал по-собственному, и Роман Захарович сам сказал, что подпишет через две недели, как понять?.. Высо-окая политика, учись, Махнарылов.
— Легковат юноша. — Мельник поджал губы. — Как бы тебе, Шибер, не пришлось самому ездить. Тут нужен напор, характер, где лаской, где таской, сам знаешь. Я бывал в Карелии, в Якутии, в «Дальзвере», там такие волкодавы Шевчика в два счета проведут. Молодо-зелено.
— Помучится, так научится. Считаю вопрос решенным, — заключил Шибаев, и никто ему не стал перечить, хватит уже заседать.
— Как насчет сауны по такому случаю? — беспечным голосом поинтересовался Миша Мельник. — Цыбульский обещает высший класс. Проведем ритуал посвящения Василия Ивановича в деловары почетной низшей категории.
— Как понять ритуал? — забеспокоился Вася, уж не обрезание ли ему грозит?
— Будем тебя купать в боржоме.
— Другое дело, — убежденно сказал Вася, избавленный от страха. — А в чем купают высшую категорию?
— В шампанском, конечно, пусть это будет для тебя путеводной звездой.
Подняли последний тост — за врагов наших, пусть они живут и здравствуют, и тогда наши силы и наши ряды утроятся.
— Поздравляю, Василий Иванович, с началом большой карьеры, — Мельник похлопал Васю по плечу. — Не забывай, что это я открыл тебя первым. Теперь пришла пора и самому тебе яйца нести.
Вася хотел уточнить, он и так их всю жизнь носит, но для начальника цеха это будет не совсем прилично.
— Учтите, Василий Иванович, — добавил Голубь, — как сказал Бальзак, счастье человек берет там, где сам его кладет.
— А где он берет несчастья?
Повисло, как говорится, неловкое молчание, и опять у Мельника посинел шрам — чуть что, сразу у человека играют нервы. Последствия аварии. Никто ничего не сказал, но Шибаев с такой гримасой глянул на Васю, что тот понял — не принято в их кругу произносить всякие такие слова про горе и беду, а то накликаешь. Вася своим умом допёр, что несчастья человек берет там же, где кладет счастье, все из одного источника. Если уж Бальзак такой авторитет, мог бы не полениться и додумать вторую половину мысли. Гриша начал расхваливать сауну — такое мог создать только гений Цыбульского. Оказывается, у нас при желании можно найти и отделочников экстракласса, и дизайнеров на уровне мировых стандартов, не оскудела земля русская, только надо позволить.
— Посмотришь, Миша, какие там панели, а какая резьба на втором этаже по дереву. Шашлычная, бар превосходный, а какая плитка в бассейне, ты, Миша, ахнешь!
— У меня к Мише разговор по сугубо личному делу, — сказал Шибаев. — Желательно без контроля со стороны компаньонов.
Вася достал сигареты «Памир» (Душанбе), протянул Голубю, тот слегка усами повел — не курю, и они вышли.
Шибаев сказал, ему нужно купить квартиру в Москве, а еще лучше дом и прописать одну знакомую с дочерью.
— Когда это надо? — спросил Мельник, будто Моссовет у него в кармане.
— Она может поехать летом, когда у девчонки будут каникулы.
Мельник помолчал, наверняка прикидывая, когда же сам Шибер уйдет
отсюда. Если отправляет свою подружку, то долго не задержится — однако уточнять не стал, зная, что правды не услышит.
— В Измайлове устраивает?
— Хотелось бы в самом городе.
— А это и есть в городе, на метро от площади Революции пять остановок, а не пятнадцать-двадцать, как другие едут от Ждановской или от Планерной
— А что там, в Измайлове, на каких условиях?
— Фиктивный брак, самый легкодоступный вариант на сегодня. Приличная интеллигентная семья. Дети поженились, старик остался один в своем доме. Женим его на твоей знакомой, и все лады. А потом дарственная и развод. Только надо учесть, он много запросит.
— Запросит — дадим. — Шибаев никогда не рядился, или платил или посылал подальше. Сегодня компаньоны его пойдут в сауну, а он пойдет к Ирме и порадует ее Измайловом, она будет смеяться: «Где уж нам уж выйти замуж!» — Жду твоих сообщений, Миша, к первому февраля.
Когда они вышли из цеха, Гриша Голубь, стоя возле своего «Москвича», отвечал Васе на вопрос, что можно купить на сто тысяч, небрежно, со знаем дела уточнял:
— С бассейном во дворе, выложен голубой импортной плиткой, но главное, в нем волнообразователь из Штатов. А в самом доме — фонтан в гостиной.
— Фонта-ан? — переспросил Вася. — С водой?
— Разумеется. Не такой, конечно, как перед горисполкомом свищет.
— Знаю — «Слёзы Каратаса».
— Да? Не слышал. Нет, не такой, гораздо миниатюрнее, и не по бедности, а для соразмерности. И вокруг черные лебеди.
— Почему черные? Крашеные?
— Белые пошлость, именно, черные, это особый шик, большая редкость, стоят они в три раза дороже.
Уже когда сели и тронулись, Григорий Карлович счел нужным дополнить:
— Вообще, Василий Иванович, сто тысяч — это бумага. Уважающий себя человек денег не держит, он все переводит в золото, в бриллианты.
Нет, Вася не согласен, Васе надо обязательно подержать обычные деньги, самые простые, каких куры не клюют, и каких ему всю жизнь не хватало. Именно бумажные ему нужны пятерки, десятки, полсотни, сотни, не золотые и не серебряные — что на них купишь?
— Золото, Василий Иванович, это твердая валюта, — дополнил Мельник. — Это уверенность в завтрашнем дне, которой нет на буржуазном Западе. — И все дружно заржали. Кроме Васи. Он-то хорошо знает, что такое уверенность в завтрашнем дне: дали тебе срок и будь уверен, что завтра он не кончится.
Ночью Вася Махнарылов долго не мог уснуть, чувствуя себя на вершине кайфа — он стал начальником цеха, Роман Захарович приказ ему показал за подписью Прыгунова, он приглашен в сауну Цыбульского, куда пускают только одно руководство. Всю свою жизнь Вася был кем попало — сбегай-принеси-отнеси, хватай больше, кидай дальше, кати круглое, тащи плоское, то зэком, то разнорабочим, и наконец-то стал начальником. Да еще Мельник жару поддал, сказал, будут девочки в сауне, как в лучших домах — Рая, Тая и Мая, блондинка, брюнетка и шатенка, все честь по чести. Вася вырос в собственных глазах и в глазах других. Сука буду, думал про себя Вася, я их всех люблю и уважаю, падла, ради них я жизни своей, мать-перемать, не пощажу, за то, что они оказали мне такое, пля, уважение. Завтра Вася войдет в сауну простым смертным, а выйдет уже деловаром в законе, оформленным должностным лицом.
Вася ворочался, вставал, воду пил, снова ложился, подбивал кулаком подушку, и про сауну думал, и про цех думал, и про Тасю Пехоту, как он подъедет к ней с первой получки, мужа у нее как раз отправили в ЛТП на полгода, потом про Шевчика вспомнил, выразил ему недоверие, засыпать стал уже, наверное, часа в три ночи, и тут ему, словно шилом в бок, из всех вопросов вопрос: куда все-таки девать сто тысяч, деньги пойдут навалом, на что их потратить, кто ему даст ответ?..
Глава четвертая Спор о первой в мире профессии
Если глянуть в целом, Мельник оставил Шибаеву хорошо отлаженную систему. Теперь, с вводом в строй нового цеха, появились возможности как для выполнения государственного плана, так и для реализации замысла Шибаева, о котором он говорил Ирме в ночь перед рождеством Многое, если не все, можно сделать в течение наступившего года, второго года пятилетки качества.
Поскольку кадры решают все, а в наше время — кадры руководящие, то им надо уделять первостепенное внимание. Как ни чесались руки у Шибаева урезать оклад то тому, то этому, зуд предстояло усмирить и подчиниться системе, установленной предшественником. Мельник держал на окладе начальника управления местной промышленности Пры-гунова, а также главного инженера, оба получали по триста рублей в месяц. Начальники цехов на комбинате, завскладами, главный бухгалтер, все материально подотчетные получали оклад кто триста, кто четыреста, а кто и пятьсот в зависимости от ответственности, от нагрузки, от инициативы по созданию резерва. На окладе были некоторые сотрудники милиции, но этих лиц Мельник Шибаеву не передал. Вполне возможно, тут вмешался Голубь, предложив всю систему прикрытия взять под свое начало, а заодно найти управу на своевольного Шибера, укоротить ему бодливые рога. Сам Шибаев ко времени вступления на пост директора располагал поддержкой Игнатия Цоя, и это был важный фактор устойчивости и дееспособности — преемник Мельника имел свою охрану.
Для того, чтобы обеспечивать государственный план, а также приварок всей команде соратников, надо было постоянно изыскивать способы и средства добывания неучтёнки, расширять объем и сферу создания резерва. Здесь многое зависело от непосредственных твоих помощников.
Но если у Мельника в помощниках был Шибер, то у Шибера — всего лишь Махнарылов. И хотя угадывались в нем немалые скрытые возможности, все равно надо Васю натаскивать, инструктировать, контролировать, чтобы он не забывал наши цели, тем более, что на уме у него совсем другое. Что, например? Приходит Вася утром и с порога: мне нужна секретутка. — На ночь? — Нет, для постоянного пользования, я начальник, мне полагается.
В конце рабочего дня, часов в семь-восемь, когда утихали телефонные звонки и прекращались хождения к директору то с тем, то с этим, Махнарылов приезжал к шефу на учебу. Первым делом он начинал жаловаться на молодежь. Мужики работают не один год, ко всему привыкли, претензий не имеют, а вот эти шмакодявки после школы — все считают. Грамотные. Если бы только свое считали, а то ведь и мое пересчитать норовят, везде суют нос.
— С неграмотными работать легче, Роман Захарович, у них совесть есть.
— Где же я тебе возьму неграмотных? Создай им такие условия, чтобы считать было невыгодно. Запугай, пообещай, где по шерсти погладь, а где против, шевели извилиной. План хотя бы одна выполнила из новеньких?
— Да ни одна не выполнила. Только требовать мастера.
— Значит, зарплаты будет кот наплакал. А ты ей запиши сто процентов выполнения и скажи, что в долг, отработаешь в следующем месяце, когда подучишься. Вот она и будет считать, сколько у нее долгу осталось. Брак дают?
— Свыше всяких сил.
— Брак возврати, прикажи переделать — ни одна не согласится. Переделка бесплатно, а возни много, она откажется, а ты ей прости, но пусть она твое доброе отношение в уме держит. Так и отучишь лезть туда, где ее не касается. Главное, держи в должниках, особенно самых крикливых.
Все, что говорил наставник, ученик должен был повторять с толком, с чувством, с расстановкой. Кроме матерков Вася должен был освоить слова-воротилы, знать железный набор типа: «В обстановке высочайшего, никогда невиданного подъема… Наши успехи и достижения на пути к светлому будущему становятся все весомее и ощутимее…»
От идеологической части они переходили к освоению технологического минимума по созданию резерва и улучшению режима экономии. Васе полагалось изучить несколько документов и прежде всего Приказ министра № 530 о нормах использования пушно-мехового и овчинно-шубного сырья, затем ГОСТ на единую технологию по обработке меховой овчины, ГОСТ на порядок запуска в обработку и руководство по первичному учету в сырейно-красильном производстве. Ну и главнее главного знать назубок десять заповедей, отработанных, проверенных и утвержденных самой жизнью:
Поступающее меховое сырье приходовать не полностью; То, что оприходовано, по сортам и видам консервирования не учитывать;
При запуске в производство систематически занижать площадь сырья;
Завышать дефектность овчин и тем самым уменьшить коэффициент полезной площади при раскрое;
Поступающую издалека овчину I, II и III группы дефектности маркировать IV и выше группами;
Списывать сырье и меховой полуфабрикат на гарь и на вычинку дефектов;
Занижать остатки сырья на начало месяца;
Периодически менять номенклатуру сырья с целью запутывания учета: При движении сырья на склад разбраковку не делать, сортировочные
листы не заполнять, приемные акты составлять от фонаря:
Готовый полуфабрикат из цеха в склад готовой продукции направлять
без спецификации и расходных накладных, все это делается потом по
обстоятельствам.
Как только Вася увидит, где светит мало-мальская возможность для одной из заповедей, он тут же должен ее применить. Что-то в большем размере, что-то в меньшем, дело живое, всякий раз новое, своего рода игра, комбинации, как в домино, приставляешь одно к другому, пока не выиграешь. Тупарю и разгильдяю здесь не место, нужны люди башковитые, смекалистые и рисковые. Важно не забывать, что сырье — понятие растяжимое, с каждой шкурки каракуля можно натянуть при сушке до двух дециметров лишней площади, а каракуль поступает партиями по двадцать, по тридцать тысяч штук. А кролик? Мы его перерабатываем два-три миллиона штук в год.
Или взять списание сырья на гарь при обработке, здесь потери легко завысить, поскольку в местную промышленность идет сырье плохое, несортовое.
В большом ходу манипуляции с накладными. Допустим, надо вывезти с комбината тысячу шапок по 20 рублей 60 копеек. В накладной так и пишем, сколько и почем, везем в торговую точку. Продавцы реализуют товар (шапки в сезон расхватывают моментально), после чего накладные тут же надо переписать. Количество шапок указываем правильно, но цену ставим новую, по 12 рублей. С каждой шапки 8 рублей 60 копеек чистой выручки. Само собой разумеется, первоначальные накладные надо сразу уничтожить, чтобы не возникло неразберихи с учетом и отчетом. Вообще, как Вася заметил, чем меньше бюрократии, тем лучше. Завскладом получает свои кровные пятьсот за то, что склад ее — не работает, левый товар сразу идет в торговлю, минуя склад, то есть за неработу получает, как за трудовой пот. Однако прямую связь между цехом и торговой точкой надо всячески скрывать — твори, выдумывай, пробуй. Новые накладные с заниженной ценой передаются в бухгалтерию для отчета — и все, документальное прикрытие обеспечено.
Кроме документального должно быть налажено еще и оперативное прикрытие. Мельника прикрывал начальник городского ОБХСС майор Лупатин. Шибаев об этом знал, Махнарылов знал больше Шибаева, но помнил закон зоны — чем длиннее язык, тем короче жизнь. Говорят, зона это одно, а на воле совсем другое, но Вася в последнее время особой разницы не видит. Среди вольняшек такие же разделения, как и среди зэков, одни в законе и правят, другие в шестерках на подхвате, есть и волы, и пацаны, и бичи, и анашисты, и даже гомики. Мельник, юрист с высшим образованием, учил Васю тому же самому, чему в зоне учили блатные — держи язык за зубами и проживешь до пенсии, возможно, персональной. И Вася держал, он даже Шибаеву не говорил, что Мельник тайком вывозил овчины сотнями штук в Целиноград и в Павлодар, продавал их оптом надомникам, они шили шубы мужские, дамские, а из лоскута еще и детские — все для народа.
А жизнь шла своим чередом, зима в разгаре, не успеет одна персональная машина покинуть территорию комбината, как подъезжает другая персональная с номером то исполкома, то горкома, то пожалуют из шахтоуправления, то из управления культуры. Не успеет одна дама начальственная отойти от зеркала, развеивая запах «Фиджи» или на худой конец «Каира», как появляется другая — не менее начальственная и душистая. Крутятся они, вертятся, а работницы видят все, особенно молодые, им бы поглазеть, понюхать, запомнить и перенять. Через год или через два им выдадут справку для поступления в институт, хотя желание поступать у многих к тому времени угасает, на стипендию жить уже не хочется, насмотрелись они на жен начальников и думают — а чем мы хуже? Что нам даст институт кроме самой низкой зарплаты?..
В красную субботу Шибаев приехал к Васе в цех посмотреть, как идут дела, и поговорить с Шевчиком насчет поездки в Петропавловск за хорьком.
В обеденный перерыв Шевчик читал лекцию молодым кадрам, Шибаев не стал мешать, последил за ним в приоткрытую дверь, послушал, о чем говорит, чему учит.
— Мы не космонавты и не почтовые ящики, мы скромные, но без нас народ жить не может, и прежде всего женщины и дети, всем подавай меха, причем натуральные, а не синтетику — кто против?
Говорил он небрежно-весело, весь такой свободный и раскованный, он будто рассчитался с долгами надоевшими, или помирился с горячо любимой женщиной, избавился от угрозы тюрьмы, такая вольготность в жестах его, в словах, и все из-за чего? Ему обещали подписать заявление об уходе, всего-навсего.
Шибаев слушал его огорченный, обиженный, обозленный. Пришел Алесь к нему в драных джинсах, а сейчас на новеньких «Жигулях» раскатывает, чистенько и гладенько заимел машину за каких-то два года работы. Так где же, черт тебя дери, справедливость? Уйти, сбежать, бросить человека, который тебе вместо отца родного, да где твоя совесть, Алесь? И кто теперь будет у нас песни петь по праздникам, кто самодеятельностью займется? Какой у него, сволочи, голос хороший! «Не знает море, что оно море, не знают чайки, что они чайки…» И так он, зараза, звонко и высоко тянет, так чисто, хрустально: «Но знает горе, что оно горе, и знает счастье, что оно счастье». Шибаев мужик крепкий, а слеза пробирает, когда Шевчик поет, он его, можно сказать, любит.
— Обычно считают, что первой в мире профессией была проституция, извините, конечно, но у нас с вами, девочки, есть свои основания сильно в этом засомневаться. Сначала все-таки человек должен был принарядиться в какую-нибудь шкуру мамонта или белого медведя, представляется — шубка из белого медведя, манто двустороннее на шелковом подкладе. Женщине нужна была сумка из крокодиловой кожи для сбора бананов и ананасов или грибов и ягод в наших условиях, ей нужны были меха для согрева жилища и своего тела, а так же ребенка, иначе наш род человеческий не смог бы выжить. Человек убивал зверя и выделывал мех…
Шибаев слушал, и росло его недоумение — куда ты, Алесь, пойдешь, что ты будешь без меня делать?..
— Самая древняя в мире профессия — это наша с вами профессия. Вот эти чаны и барабаны, все эти отмоки и дубление были при царе Горохе еще до нашей эры, и еще будут тысячу лет после нас, так что древнейшая в мире профессия — это профессия скорняка, меховщика.
Ему бы учителем быть, его бы уважали, да и здесь любят. Каролина писает от восторга, глядя на него. И девчонки как завороженные слушают. Но все же нашлась несогласная, хрупкая девчушка в очках и в обвислом свитере, она восстановила приоритет первой в мире профессии, заметив Шевчику, что задолго до звериной шкуры одежда была совсем простой — фиговый листок, но любовь уже тогда практиковалась.
Шевчик не успел ей ответить — он увидел Шибаева, застрял на слове, глаза расширились, он будто свою судьбу увидел, злой рок — хотя директор комбината ничем ему сейчас не грозил. Лицо его сразу померкло, словно бы затянулось тревогой.
21
Шибаев уехал к себе в заводоуправление и здесь первым делом набрал телефон Цоя, заговорил с ним сквозь зубы:
— Сколько прикажешь ждать, старший лейтенант? Я тебя просил дать мне материал через три дня, какого черта ты тянешь резину, на кого надеешься?!
— Я все делаю, Роман Захарович, ваш вопрос… — начал Цой оправдываться, но Шибаев не дал ему говорить:
— Неужели там нет у тебя никого на крючке? Мне вас, разгильдяев, учить, как надо вести оперативную разработку задания?
— Ваш вопрос для меня самый главный, но он оказался не таким простым.
— Давно бы мог подловить, кого надо, на дефиците, на наркотиках, на облепиховом масле, за что вам зарплату платят, дармоедам, я за вас должен мышей ловить, извилинами ворочать?
— Простите, я прошу вас! — пытался перебить Цой, не называя Шибаева по имени-отчеству, а тому было наплевать на осторожность — пусть слушают все и знают правду, что милиция ни черта не работает. Пятьсот рублей платит ему Шибаев, да своя зарплата наверняка рублей двести.
— Ты получаешь оклад, мать-перемать, больше, чем твой министр, вылавливаешь каких-то пескарей, лишь бы сводку сдать, повысить процент раскрываемости, а у меня государственный интерес, комбинату срыв плана грозит, весь стол завален телеграммами поставщиков и заказчиков, год кончился, а мы и то не дотянули, и то не выполнили, а ты не хочешь работать.
— Минутку!.. Прошу вас!.. — тщетно взывал Цой, но Шибаев не давал ему пикнуть:
— У тебя должны быть люди на крючке, в каждом учреждении, а ты не можешь в какой-то поликлинике человека найти. Да там любая аптекарша в бриллиантах, разуй глаза, откуда драгоценности, если ставка у нее восемьдесят рублей. Хватай любую, шей дело и не промахнешься! Запомни мою просьбу — чтобы на каждого моего сотрудника из должностных у тебя всегда был наготове компрматериал. Чтобы на любого ты мог завести дело по первому моему требованию, понял? Завтра в восемь ноль-ноль ты должен быть у меня с докладом. Комбинат начинает год без главного экспедитора, нет сырья, текучесть кадров, а ты мне, мать-перемать! — Не выдержал собственной злости и брякнул трубку на аппарат.
А может быть, шантаж был первой в мире профессией?..
Глава пятая ШАПОЧНОЕ ЗНАКОМСТВО
Он проснулся от тяжести в ногах, будто гири привязаны к стопам, хотелось взлететь, ему нужны крылья, а их нету. От тяжести в ногах осталась тяжесть на душе. Сегодня суббота, у других отдых, а ему на работу. Сыновья поднялись раньше его и уехали в секцию дельтоплане-ризма. Он слышал их сборы, боялся, как бы дураки не разбились, и потому увидел сон, будто мастерит себе дюралевые крылья из лекал Цыбульского, а потом повесил себе на ноги чугунные башмаки, какие кладут на рельсы под колеса вагона, привязывал их старательно, будто не в небо хотел подняться как можно выше, а в воду опуститься как можно глубже — вот такая приснилась мура противоречивая, хотя ничего удивительного, если вдуматься, такова натура Шибаева, ему дано и взлететь выше всех, и пасть ниже всех, впрочем, кому этого не дано?.. Только не у всех сбывается.
На подъезде к своей конторе он издали увидел такси у самых ступенек, кто-то его уже ждал с утра пораньше, похоже, из торговли. Коля подкатил вплотную и подудел настойчиво и нервно — освободи место! Расположился! Таксист отъехал, но недалеко, метров на десять, из него вылезла грузная, в цигейковой шубе и в огромной шапке из песца Тлявлясова.
— Здра-асьте, Роман Захарович, я за товаром.
— Ты где работаешь?! — набросился на нее Шибаев. — У тебя ЦУМ или шарага? Где ваш торговый транспорт, левачит? Сколько раз я тебя просил не приезжать на такси за товаром, у нас тут не частная лавочка!
— Роман Захарович, дорогой, у меня план горит! — взмолилась Тлявлясова. — Два выговора висит, меня уволят за утрату доверия.
Уволят — страшно, а вот десять лет вломят — ничего, зато план выполним и перевыполним. Из всей торговли Тлявлясова самая отчаянная и рисковая, она уверена, что ее не тронут. У нее самолюбие страдает, всякие разные в ее родном городе имеют больше, чем она — до каких пор? Не зная другого средства стать богаче всех, она избрала такое — левое. За шапками, за воротниками и горжетами она едет на комбинат сама, не доверяет другим, да и знает, что Шибаев и сам другим не отпустит, чем уже круг, тем лучше. С Мельником у нее связи не было, Миша имел других реализаторов. Тлявлясова явилась к новому директору сразу же, в сентябре — дайте товар. И в слезы — помогите ей выполнить план и занять место на Доске почета, а то ее никто не уважает, ни муж, ни родственники, директор филиала тоже не уважает, она в партию вступить хочет, а характеристики деловой нету. Договорились. В первый раз она приехала на фургоне ЦУМа, а потом стала ездить на чем попало, вот-вот на ишаке приедет и все клянется — больше не буду, исправлюсь. Повезет сейчас на такси пятьсот шапок, одна, без всякого сопровождения, сразу тринадцать тысяч рублей, на дороге гололед — ну не халява ли? А у нее опять слезы и от волнения акцент: «Шапёр сывой шалавек». Сказал Каролине, чтобы выдала ей шапки, помогла загрузить. Забили весь багажник, весь салон. Завтра он заедет к ней за выручкой, отгрузит она ему тринадцать тысяч с вычетом десяти процентов себе за услуги.
В приемной красавица Соня сказала, что приехал Шевчик из Петропавловска, заходил и справлялся, не подписал ли директор его заявление.
Та-акс. Шибаев вошел в кабинет, разделся, причесался, сел в кресло и начал барабанить по стеклу пальцами — та-акс-такс, что будем делать с Игнатием? Какую ему казнь придумаем? Удержим за январь пятьсот, ударим по карману, но этого же мало, мерзавцу, он дико подвел Шибаева, не оправдал надежд, проявил свою профнепригодность, безответственность, не пора ли с него погоны снять? Но к кому обратиться, кому дать сигнал, кому дунуть на Цоя — сто вопросов и все без ответа. Вот еще в чем специфика нашей работы — все решай сам, и поощряй, и наказывай. У Мельника был какой-то мордоворот из тех, кого он вызволил из тюряги, будучи адвокатом, и в случаях, когда не срабатывала юриспруденция, он обращался к давно испытанному кулачному праву. Не завести ли себе такого? Можно, конечно, обратиться к Грише Голубю, но лучше не спешить, он сразу повысит себе цену, подчеркнет, что без него Шибаев пешка. Подождем, но положение критическое.
Позвонил Цою — не застал. Может быть, его уже в живых нет, погиб при исполнении? Может быть, его разоблачили и без тебя с него погоны сняли? Пусть Шевчик пока отчитывается за командировку, попросим еще недельку поработать — ищем замену, а в следующий понедельник можешь идти на все четыре стороны.
Провел оперативку и вместе с Махнарыловым поехал к нему в цех — поступила большая партия каракуля, надо помочь молодому начальнику. В цехе Вася надел серый халат, всунул за ухо карандаш, достал очки и двумя руками пристроил их на лоб — таким фертом в зоне у них ходил главный нарядчик. Кстати, Вася размордел за время своего начальствования, вальяжный стал, самоуверенный. Повел шефа смотреть вновь поступившее сырье, широким жестом показывая свое богатство — вот они, мешки с каракулем, двадцать тысяч штук вот здесь и там тоже не меньше. В каждом мешке бирки и вкладыши, получены также спецификации на всю партию с указанием цены по сортам.
— Наша задача? — задал вопрос Шибаев.
Вася вынул карандаш из-за уха, подумал-подумал и сказал, что тут все заповеди подходят, после чего воткнул карандаш на место.
— Завтра ревизия придет, как ты покажешь эту партию? — усложнил задачу директор.
— Ревизию примем, как надо, накроем стол, поинтересуемся, кому, чего, сколько.
Направление у Васи верное, но слишком хамовитое, практики нет. Задавать вопросы дальше не было смысла, Шибаев велел Васе вскрыть все мешки и свалить каракуль в одну общую кучу, смешать его с умыслом, чтобы плохие смушки были на виду, поближе, а хорошие подальше. Бирки и вкладыши сразу сжечь, маркировку и выбраковку сделаем сами. Вася вытащил опять карандаш из-за уха, но записывать ничего не стал, нельзя, как в разведке, и поинтересовался, зачем Шевчик ездил в Петропавловск, привез всего триста штук какого-то вонючего, прости господи, хорька. Выбросить его сразу или через пару дней?
— Выбрось, Вася, выбрось хоть сейчас. А я с тебя за него шкуру спущу.
— Не понял! — бодро сказал Вася.
— Хорек в страшном дефиците, он нужен на подклад полезному человеку.
— Вас, понял, бу-сделано.
Когда Шибаев вернулся к себе, в приемной его ждал Цой в шинели, все еще с погонами, как ни странно, живой и даже невредимый, ну-ну. Он сидел на стуле, держа на коленях черный дипломат, и вежливо вел беседу с Соней — сама ли поет польская актриса в фильме «С легким паром» или кто-то ее дублирует? Шибаев мрачно ему кивнул, руки не подал и в кабинет прошел первым — делай, Игнатий, выводы. Цой невозмутимо последовал за ним.
Оказалось, у него не густо с набором средств, как Шибаев подсказывал, так он и сделал, — вышел на аптекаршу железнодорожной больницы, она в свое время попалась на дефиците, но вступились те, кто лечится лекарствами поимпортнее, поэффективнее. Аптекаршу оставили в покое, но время от времени просили о помощи. Сейчас она написала заявление в РОВД Октябрьского района о том, что Шевчик Ульяна спекулирует меховыми изделиями со штампом Каратасского мехового комбината.
— Подпись под заявлением есть?
— Даже две, старшего фармацевта и медсестры хирургического отделения. Но надо ли их раскрывать?
— Надо, — твердо сказал Шибаев. Надо врезать без промаха, а то уйдет Шевчик, если пугать понарошке. За ним и Каролина сбежит, сразу двух доверенных лиц потеряет Шибаев, а пока новых найдешь, да пока воспитаешь, проверишь, не стукачи ли, много времени уйдет попусту. — Как ты намерен действовать?
— Вызову Шевчика в райотдел, потребую объяснительную, назову статью за спекуляцию, за хищение и какой срок. Затем жену вызову, потребую объяснительную. Потом обоих вызову, укажу на расхождение в показаниях и скажу, что вынужден завести на вас уголовное дело.
Шибаев нетерпеливо махнул рукой — долго!
— Мне нужен результат немедленно. Вызовем сейчас и прижимай его со всей мощью. А упрется — заводи дело и гони его по всем кочкам, мотай ему на всю катушку! Чего не хватит, я тебе подкину.
Шевчик вошел напряженный, чуя неладное, глянул на Цоя, на его погоны, поздоровался сухими губами.
— Вы знакомы? — бодро спросил Шибаев.
— Да так, в общем… шапочно, — ответил Шевчик, не глядя на Цоя, а тот сверлил его ледяным взглядом.
Этот капризный, самонадеянный юноша окончил техникум с красными корочками, мог поступить в институт, но ему надоело перебиваться с хлеба на воду, занялся фарцовкой, прижали, пообещали сменить ему климат, тогда он сам решил поехать куда-нибудь на Север, на Восток, где платят длинные рубли. Он был уверен, что если учился лучше всех, то и заработает больше всех. Каким-то путем оказался в Каратасе и кое-что успел — для себя.
Смотрел на него Шибаев даже приветливо. Присяги ты не давал, Алесь, но есть кое-что покрепче присяги, так что потерпи, послужи, помоги старшему товарищу программу выполнить.
— Садитесь, Алесь Иванович, — официально сказал Шибаев. Шевчик сел и громко вздохнул, на улице было слышно, дохлый народ пошел, что ни молодой, то нервный.
— Как поживаете, Алесь Иванович, как у вас на работе, как дома? — деликатно начал издалека Цой, но Шибаев его перебил:
— Давайте ближе к делу, мне надо ехать в управление. Вот у замначальника РОВД старшего лейтенанта Цоя появился материал, он хотел тебе задать несколько вопросов в присутствии администрации.
Шевчик, прямо глядя в глаза Шибаеву, скривил губы.
— Мне все ясно, Роман Захарович.
Жалкий мальчишеский вызов. Если он даже разгадал инсценировку, ничего от этого не меняется.
— Поступил сигнал, что ваша жена Ульяна Герасимовна по спекулятивной цене продавала шкурки каракуля с маркировкой Каратасского мехового комбината, но без указания цены. Скажите, каким путем попали к ней эти шкурки? Вы приносите домой похищенное сырье, или она сама имеет доступ к продукции комбината?
Шевчик молчал, насупив русые брови, думал. Шантаж ему ясен с самого начала, но Ульяна действительно носила шкурки в больницу, и не один раз. Как тут быть, признаваться или отпираться?
— Подобные действия, — продолжал Цой, — квалифицируются по статье за хищение, это касается вас, и по статье за спекуляцию, это касается Ульяны Герасимовны.
Сколько тревоги, беды несут эти казенные словеса, никакое кино не передаст.
— Статья сто шестьдесят восьмая Уголовного кодекса Казахской ССР говорит о том, что скупка и перепродажа товаров или иных предметов с целью наживы наказывается лишением свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества.
Увезут его Уленьку в женскую колонию, конфискуют его «Жигули» и самого возьмут за хищения, останется дома один маленький Тарасик. Шевчику стало трудно дышать, он достал баллончик из кармана куртки.
— Вы сами замечали факты перепродажи мехов со стороны вашей супруги?
— Перепродажи не было, — пробормотал Шевчик. — Ее просили достать. Знаете, как в коллективе, на работе… кто чулки принесет, кто колготки или там… детскую обувь.
— Я знаю его жену, — внушительно сказал Шибаев. — Она не такая женщина, чтобы заниматься спекуляцией, тут какое-то недоразумение, товарищ Цой.
— У меня сигнал. — Цой раскрыл папочку, соскреб ногтем прилипший листок. — Подписано группой лиц с указанием конкретно, кому что продано и за сколько.
Шевчик приоткрыл рот и пшикнул два раза из баллончика.
— Дело серьезное, — сказал Шибаев, — но я прошу вас, товарищ старший лейтенант, принять во внимание, Шевчик у нас на хорошем счету, нет ни одного выговора. Вы позволите нам самим разобраться? На комбинате есть товарищеский суд.
— Разумеется, вы даже обязаны разобраться. Но такое дело не входит в компетенцию товарищеского суда, тут уголовщина. По этому сигналу я должен идти к прокурору и заводить дело, как положено. Мы не можем оставлять без внимания заявления советских граждан, требующих навести порядок в учреждениях, особенно в лечебных, откуда нередко поступают сигналы о спекуляции растворимым кофе, импортными сапогами, детским трикотажем, парфюмерией. В данном случае речь идет о вещах более серьезных — о мехах. Мы не можем такие сигналы пускать на ветер.
— Как это «на ветер»?! — грубо осадил его Шибаев. — Мы требуем передать на рассмотрение коллектива. Шевчик у нас не первый день работает, к уголовной ответственности не привлекался…
— Как сказать, — флегматично перебил его Цой. — Вы таких вещей можете не знать, для этого есть специальная служба в Москве, пошлем запрос.
— Почему вы так торопитесь бросить пятно на весь наш добросовестный коллектив? — продолжал нагнетать пары Шибаев и довольно-таки убедительно.
— Речь в данном случае идет прежде всего о его супруге Ульяне Герасимовне.
Шевчик не знал уже, что и думать. Может быть, и шантаж, но, с другой стороны, директор заступается вполне правдоподобно. Если честно, Уля и в самом деле не один раз и не два продавала на работе шкурки, и разную мелочь, она слабохарактерная, на нее насядут, последнее выпросят. Особого навара Уля не имеет, сверх таксы не берет, просто ей хочется помочь людям. А они написали кляузу. Да и кем же она будет, если начнет отказывать своим близким, когда весь Каратас знает, что с комбината тянут кому не лень. Ты не уважаешь свой коллектив, скажут, не можешь какую-то шкурку принести на воротник, или овчинку на детскую шубку. Не отстанут, пока не выклянчат, так принято и не считается зазорным, тем более для ребеночка. У них санитарка есть, через день приносит мясо в больницу по три рубля кило прямо с мясокомбината, берут у нее в очередь, по списку, чтобы справедливо.
— Наше предприятие — пушно-меховое — требует особого надзора, — привел еще один довод Шибаев. — У нас существует авторитетная группа народного контроля. Никаких поблажек!
Цой только руками развел — не могу, заявление зарегистрировано, есть штамп РОВД и номер с датой.
— Вы можете провести свое расследование, вы нам поможете, но передать все дело вам, извините, не можем. — Цой неплохо вел свою сольную партию, но и Шибаев ни в чем не уступал профессионалу, а может, и превосходил его кое в чем, они словно бы состязались.
— Я обещаю вам это дело возвратить по первому требованию, — внушительным баритоном говорил директор. — Вот у меня тут сейф за семью замками, в огне не горит, в воде не тонет, я вложу в него вашу папочку, мы проведем расследование и сделаем нужные выводы, уверяю вас!
— Вы меня толкаете на служебное нарушение, — сокрушенно сказал Цой. — Из личного к вам уважения, Роман Захарович. Только прошу вас — расписочку.
Шибаев взял бланк с синим штампом своего комбината, и Цой продиктовал ему:
— «Я, такой-то, директор такого-то предприятия, получил от такого-то материалы дела, в скобках проставьте «один лист», на гражданку Шевчик Ульяну Герасимовну, супругу нашего сотрудника, подозреваемую в преступлении по статье 168 УК КазССР». Все. Ваша подпись и дата.
Цой осторожно положил папочку перед Шибаевым, взял расписку, сказал до свидания и вышел. Шибаев открыл сейф, скользящим движением сунул туда папочку и закрыл дверцу на ключ.
— Ходят, понимаешь, трясут за душу, — пожаловался он Шевчику. — А ты не пугайся, я и не такие наскоки усмирял. Жене ничего не говори, справимся. Соберем треугольник, составим протокол заседания совместно с товарищеским судом, и делу конец.
Шевчику стало легче, пшикалка взбодрила его, и он спросил ясным голосом:
— Это шантаж, Роман Захарович?
— Да ты что? Неужели похоже? Тогда скажи мне, что тут выдумано? — Он кивнул на сейф. — Давай вернем Цоя, пусть забирает и дает делу ход. В чем неправда?
Правда, все правда, шантаж всегда строится на правде, вернее сказать, правдой прикрывается подлый замысел, видно Шевчику: не хотят его из шайки выпустить, как все подло, сплошной сволочизм, — но кому скажешь, кому докажешь? Взывать к совести, к порядочности, к честности очень глупо, эти категории ничего не значат ни в рублях, ни в процентах. Единственное, что в его силах сейчас, — показать, что не струсил.
— Вы обещали подписать мое заявление.
— Какое заявление? — удивился Шибаев, да так сильно, что и Шевчика заставил усомниться, а было ли заявление? Не мог директор забыть про двухнедельную отработку, и с Алесем разговор был, и Махнарылову он обещал, наконец, из-за его просьбы уволить устроена вся эта дешевая сцена с РОВД, шапочное знакомство. Ладно, если дурят старшие, придется им подыгрывать.
— У меня отпуск не использован, — сказал Шевчик.
— Я всегда знал, Алесь, что ты у меня понятливый. Сам видишь, цех только пустили, для прибыли, а не для гибели, какой же сейчас отпуск? Давай перенесем на лето.
Шевчик отрешенно, как во сне, непонятно кому высказал предположение:
— Надо было самому понять, мертвое дело.
— Растешь, умнеешь, молодец. А мертвое оно или живое, от тебя же и зависит. Посадить тебя — раз плюнуть. Был бы человек, а статья найдется, не веришь, спроси у Махнарылова. А защитить тебя смогу только я. Если, конечно, захочу. Это тебе только кажется, что ты такой чистенький, честненький, комсомолец сплошной. А на самом деле ты мелкий жлоб, за паршивую фирму, за тряпку душу продашь, а не только свою жену.
— Не трогайте мою жену! Она — ангел! — закричал Шевчик, готовый вцепиться в директора или хотя бы плюнуть ему в лицо.
— Кто тебе помог «Жигули» купить?! — заорал на него Шибаев. — Кто тебя спас, когда ты залетным биллиардистом проиграл три тысячи? — Он громыхнул по столу. — Я тебя упрячу на Колыму, когда найду нужным, понял? А сейчас сядь на место и не вскакивай, будто тебя поджаривают, разговор с тобой не окончен.
Шевчик сел, дрожащими пальцами достал сигареты, «Кент», конечно, и зажигалку «Ронсон», в гробу он видел все наше.
— А если я все-таки буду настаивать?. Пойду до упора?
— Иди, — согласился Шибаев. — Я верну в РОВД вот эту бумажку из сейфа, там совсем немного работы, чтобы пришить тебе статью и не одну. Цой тебе уже называл. А я не буду пакостить, наоборот, выдам тебе положительную характеристику. Для смеха на суде. Они любят зачитывать вслух такие филькины грамоты перед тем, как вломить на полную катушку. На твое место найду не сразу, тяжело мне будет, честно тебе скажу, но — найду. А ты потом в ногах будешь валяться вместе со своей Ульяной — я и пальцем не шевельну в защиту, понял или нет? Покури и решай, мне с тобой некогда лясы точить.
Шибаев раздвинул на столе перед собой бумаги, одну, другую, третью, нашел заявление Шевчика и подал ему. Тот взял, сложил вчетверо и сунул в карман курточки.
— Может быть, вы мне разрешите выкупить эту папку? — спросил Шевчик вежливо, показывая подбородком на сейф.
— Разрешаю. Выкупай.
Шевчик помедлил, не веря своим ушам.
— За сколько?
Шибаев подумал, голову на одно плечо, на другое — трудную задачу задал ему Алесь, богатый он, оказывается, купчина.
— Ладно, за тыщу.
— Завтра принесу! — выпалил Шевчик. Не понимает, скотина, что тысяча для Шибаева — семечки, оскорбительно ему предлагать такую сумму.
— Завтра так завтра. Неси. А послезавтра я дам задание Цою новое на тебя досье завести.
— Сволочь вы! — не удержался Шевчик, снова часто дыша, глаза его набрякли, и он полез в карман за баллончиком.
Шибаев и сам не ожидал, что дотянется, однако дотянулся да так проворно и наотмашь мазанул Шевчику по уху, что его будто ветром сдуло. Зато все стало понятно без лишних слов. Поднялся Алесь, отряхиваясь, стул поднял и сел на прежнее место. И Шибаев сел, правда, тоже дышать стал почаще и кулак свой никак не мог разжать, так что, если еще хоть слово скажет ему поперек Алесь, то вынесут его отсюда ногами вперед.
Посидели, помолчали, подышали как после бега на длинную дистанцию.
— Вот письмо за подписью самого министра, — с обидой сказал Шибаев. — Вот уже третья телеграмма из Джезказгана, не выполняем обязательства. А вот сразу четыре заявления об уходе. И ты бежать навострился. Иди домой, подлечись, а завтра за билетом на самолет. Есть предложение командировать тебя на Восток, — в «Дальзверь» за норкой.
Шевчик любил ездить, каждый раз он привозил себе всякое шмотьё импортное и аппаратуру, у него были связи с фарцовщиками обширные. Он надеялся во Владивостоке поживиться кое-каким японским товаром.
Шевчик вздохнул судорогой, с перепадом, как после плача, и спросил нормальным голосом, когда ехать.
Шибаев открыл сейф, подал ему в пачке тысячу рублей на первоначальные расходы.
— Чем быстрее, тем лучше, Алесь. Привезешь норки три тысячи штук. А потом к Восьмому марту не забудь подготовить концерт самодеятельности.
Глава шестая НЕЧАЯННЫЙ ИНТЕРЕС
23 февраля, в день Советской Армии и Военно-Морского флота, вместе в приказом Министра обороны вышел приказ областного управления местной промышленности о поощрении передовых предприятий отрасли — ткацкой фабрики, кожгалантерейной фабрики и мехового комбината — попали-таки в передовики, и о присуждении денежных премий, в частности тов. Шибаеву Р. 3. в размере тридцати процентов от зарплаты. Шибаев распорядился выписку из приказа, касающуюся его лично, вывесить на доске объявлений возле проходной. Зачем? Для пользы дела. Показать рабочему коллективу, что если директору дают пшик, то и вы не раскатывайте губу на премии, тут еще и скромность местной промышленности — наша бедность не порок, и вообще близость к массам — первейшая заповедь руководителя.
Заповедь, о которой Вася Махнарылов то ли забыл, то ли вообще не знал. Если с Шевчиком недоразумение как-то уладилось, и он уехал в сторону Тихого океана с пользой для себя и для государства, то с Васей недоразумения только начинались. После той сауны, когда Васю посвятили в деловары почетной низшей категории с помощью минеральной воды «Сары-Агачская», он словно бы заново на свет народился, что в целом идее посвящения соответствовало. Он отпустил усы и перестал стричься, желая обрасти, как Шевчик, галстук на резинке он теперь не снимал даже ложась спать, говорить стал ровно и медленно, как Роман Захарович в пылу гнева, и смотреть стал с прищуркой, как Григорий Карлович, стал походить, одним словом, на всех деловаров сразу. Придуривался человек и никак не хотел понять меру своей ответственности. Вася стал менеджером, и обучили его, с одной стороны, Михаил Ефимович, а с другой стороны, добавил Григорий Карлович. Один только Роман Захарович ни хрена не добавил, а наоборот старается убавить, изо дня в день требуя от Махнарылова то план по валу, то план по ассортименту, то по кролику, то по каракулю, а тут еще лиса пошла, и он приказал натянуть на лекалах сто тысяч дециметров лисы серебри^ сто-черной. За прошедший срок Вася не натянул и половины, зато преуспел в другом, пришел к Шибаеву с деловым предложением. Естественно, директор ждал, что начальник цеха скажет что-нибудь по выделке сырья, но Васе дециметры до лампочки, ему нужно перегородить свой служебный кабинет хотя бы крагиусом.
— С какой целью?
Да все с той же, посадить там секретаршу, Тасю Пехоту.
— На какие шиши ты ее будешь содержать?
Как на какие, удивился Вася, совет компаньонов выделил на подъем, цеха пять тысяч рублей, надо же их куда-то потратить. У Васи много бумаг, в голове он не все держит, нужна секретарша вести документацию, ей же будет поручена работа с кадрами.
— Тебе выделили подъемные на какие нужды? На приобретение оборудования, на поощрение передовиков, на устранение недоделок, на усовершенствование технического инвентаря, а ты — секретаршу! Для постоянного пользования!
Вася слушал внимательно, смотрел шефу в рот, но не переставал думать о своем, даже не думать, а просто хотеть. Он, может быть, все свои сорок три года, только и ждал, чтобы хоть пару дней посидеть в кабинете со своей секретаршей. Счастье ему замаячило и вот тебе на, друг и благодетель — против. Васю сейчас хоть убей, все нотации шефа скользили мимо его ушей, как по гладчайшему стеклу.
Сильно усложнила сауна жизнь простому человеку. Но Шибаев догадывался — не только сауна, действует еще и Гриша Голубь, хочет сделать из Махнарылова оппозицию. Умеет Гриша найти пути к человеку, но Шибаев не лыком шит. Не надо Васю ни возносить, ни унижать, зачем? Надо поставить его точно на то место, где ему и положено быть. Звездную его болезнь надо вылечить.
В конце марта Шибаев потребовал, как и полагается, отчет за квартал, сколько цехом выделки и крашения произведено продукции. Вася доложил. Но если плг-н государственный с грехом пополам дотягивал, то личный Вася не выполнил на пятьдесят процентов. Позор. Провал. Однако Вася и бровью не повел на разнос шефа, будто Шибер орет просто так, для Министерства местной промышленности. Незачем Васю материть, у него не держится в башке цыфирь, он уже три раза ставил вопрос о секретарше. На худой конец пусть ему разрешат замначальника цеха если не по кадрам, так хотя бы по химреактивам. Григорий Карлович говорит — имеешь право, требуй, тебя зажимают.
Васю надо водворить на место, тут ни одна инстанция не поможет, ни партком, ни местком, ни даже Совет Министров. Надо Васю самым простым способом раз и навсегда отделить от Мельника и Гриши Голубя. Он к ним с почтением, с уважением, он перед ними на полусогнутых, а они? Он так и сказал Васе: они не считают тебя за человека. Не хотели, чтобы ты был начальником цеха. Упорно толкали другого кандидата. А ты к ним без мыла лезешь. Вася обиделся и сказал, что ты тоже, Роман Захарович, всего не знаешь, Мельник сильно тебя дурачил. Мы с ним вместе возили овчины в Целиноград. Хотя ты в доле, но по сколько штук они возили, не знаешь.
Шибаев прищурился.
— Знаю. По сто штук.
— Не стали бы мараться.
— Ну?
— Мы с ним возили по триста.
Новость. Потом обдумаем. А пока надо Васю воспитывать.
Поздним вечером у себя дома Шибаев разложил на столе газеты, лист бумаги, взял ножницы, клей с кисточкой и начал готовить для Васи Махнарылова материал. За стеной бубнил телевизор, а Шибаев вырезал и клеил. Сидел, сидел, вырезал, вырезал и навалилось зло, — по триста возил.
Давняя, густая обида всплыла на Мельника. Жарко, жадно захотелось нагадить, хоть чуть-чуть ему отомстить. Не только за прошлое, — почему молчит о квартире в Москве? Нет, сердешный, я привык и сам исполнять и от других того же требовать.
Шибаев отодвинул вырезки, полоски, заготовки, взял чистый лист и начал писать письмо в Москву. Пусть будет один и тот же текст в несколько адресов. «В город Маскву из славного города Каратаса выехал бальшого маштаба прахадимец, взяточник и вор, расхититель социалистической собственности в асобо крупных размерах Михаил Ефимович Мельник. Мы его знаем, как аблупленного, он вывез украденные авчины на полмиллиона рублей, купил себе прописку в Москве, хатите укажу адрес».
Завтра он заглянет в свою записную книжку, она в столе на работе, и поставит точный адрес.
Какая все-таки наглая, высокомерная рожа, здесь обещал, а уехал и как будто помер.
А Шибаев, ждет. У моря погоды ждет. «Не знает море, что оно море». Дело не только в квартире, главное — что хочет он, то и делает. Продал должность директора. Но это же смешно, Шибер, кто покупатель, не ты ли? Все равно зло берет. Кого хочет, купит, кого хочет, продаст. Москву может купить, а страну продать. Ты тоже мужик не промах, но — не правишь. Он мастер, а ты подмастерье.
Озлобленность у Шибаева на него никогда не пройдет, даже если он устроит Ирме квартиру и прописку бесплатно, даже, может быть, возрастет. Укатил в столицу, жрет цыплят-табака в «Арагви», гужуется со столичными девками, а здесь ему идут проценты, дивиденды.
А с каким шиком он здесь ударялся в разгул, весь Каратас гудел от его пикников с участием должностных лиц, и тот был замешан, и другой был замешан в какой-нибудь аморалке, как потом оказывалось, спустя год, полтора. Девки, как на подбор, некоторые приезжали к нему черт знает откуда, высокооплачиваемые потаскухи, с Черного моря и из Паланги, одна даже мулатка была, самая фигуристая. Гулял он открыто, будто рекламу себе делал, чтобы другие завидовали и подражать тянулись.
Мельник был воротилой, а Шибаев лишь подавал надежды. Ушел он, и сразу упал доход и размах, перестали появляться надомники, поредел круг реализаторов. Мельник перекрыл каналы своему преемнику, обрубил хвосты, желая поселиться в Москве чистым.
«Жители Каратаса ждут када Масква вернет нам Мельника падполь-ного миллианера под канвоем и открытый суд во Дворце металлургов покажет нам что никому не пазволено разхисчать народное добро», — написал размашисто, как корова хвостом. Разбор такой анонимки может повредить самому Шибаеву, но отказаться от мести он не может. Пусть прищучат, а Шибер выкрутится, он еще посмеется, он будет смеяться последним.
Надо скрыть следы, про анонимку они все равно узнают. Удивительно — не успеет машинистка отпечатать какое-нибудь важное решение в верхах, ни одна душа в городе еще ничего не знает, а Мельник с Голубем уже действуют, кого надо — мобилизуют, кого надо — деморализуют, готовят общественное мнение, укрепляют свой авторитет и бьют по чужому. В конце концов, кто у власти? Шибаев полагает, что они там тайные советники. И в самом деле, Гриша в прошлом году писал доклад для второго секретаря горкома, когда готовилось кустовое совещание по охране правопорядка.
На другой день в конце работы Шибаев вызвал к себе Махнарылова, открыл сейф, извлек оттуда заскорузлый лист, бумажный коржик, бросил его на стол, как нечто гадкое, ядовитое, после чего грозно глянул на Васю. Тот обозрел коржик и пожал плечами, дескать, я-то при чем? Шибаев брезгливо поднял бумагу с какими-то наклейками и, держа за уголок, показал Васе.
— Читай!
Сверху крупными газетными буквами значилось «Заявление», ниже тоже газетными буквами трижды повторялась фамилия Махнарылова.
— Рокосовский? — только и выговорил Вася, потянулся всем телом, но Шибаев отвел листок и положил себе под локоть.
— Не понял! — угрожающе сказал Вася. — Что за химера?
— Анонимка, Вася, на Махнарылова. Ты думал, должностные лица только в шампанском купаются? Нет, брат, на них еще и анонимки строчат, их с инфарктами укладывают. Фамилию свою разобрал? Тут кое-какие твои грехи описаны. Читать?
Вася вытер взмокший лоб — давай.
— Заявление, — прочитал Шибаев и посмотрел на Васю, как смотрит кум, оперуполномоченный. — «Новый начальник цеха выделки и крашения Махнарылов, назначенный волевым решением Шибаева, имеет интеллект не выше табуретки, две судимости и три жены».
— Так прямо и написано? — воскликнул Вася. Однако сказать, что он испугался, пока было нельзя. Шибаев ужесточил текст:
— «Этот типичный топор расхищает социалистическую собственность путем растяжки сырья на особых лекалах. Просим освободить как не соответствующего должности и передать дело в прокуратуру». — Шибаев отложил коржик. Наступила пауза.
— Кто же мог такую бодягу сочинить?
— Подумай, чей это стиль. Мне, например, ясно.
— Похоже, конечно, на Григория Карловича. Но ведь культурные люди! Ай-яй-яй. Не выше табуретки, это как понять?
— Мельник хотел поставить на твое место своего человека. Ты слышал на совещании большой тройки?
— Ну, слышал.
— Он постарается своего добиться. Анонимку из Алма-Аты прислали, из министерства. С ревизией — разобраться.
— Культурные люди! — Вася всплеснул руками.
— Как руководитель предприятия я должен на любой сигнал реагировать.
— Надо разыскать, кто писал! — потребовал Вася.
— Мельник с Голубем тебя сместят, если мы не примем ответные меры, понял? Я тут набросал проект, а ты займись. Возьми газету, клей, ножницы, посиди часок-другой, тебе полезно. Потом отправишь в Москву.
Шеф подал Васе свой проект, заставил его тут же переписать, забрал свой вариант обратно и посоветовал Васе во время расклейки сделать кое-какие добавки от себя.
Глава седьмая УМСТВЕННАЯ РАБОТА
Если бы Васе сказали, что состряпать анонимку такое трудное, непосильное дело, он бы не поверил, пока самому не пришлось хлебнуть горя. Когда Вася собирал «мерседес» из рухляди, когда Вася чинил, модернизировал, усложнял, (по слухам) японский компьютер, он в сто раз меньше потел, кряхтел, чем сейчас, выполняя задание шефа. Теперь он смело может сказать, что анонимщик — человек трудолюбивый и старательный, человек ищущий и находящий. Он бьется за справедливость не нахаляву, а в поте лица своего. Таким надо ставить памятники. Шибаев сказал: тебе все известно, опиши подробно, а что Вася знает? Да ничего особенного. В обязанности его при поездке с Мельником входили физическое и техническое обеспечение поездки. Говоря по-человечески, он должен был грузить и разгружать, а если в плохую погоду забуксуют, толкать-подталкивать, а если что-нибудь сломается, то у Васи золотые руки. Они культурные, думал Вася, интеллект у них, конечно, выше табуретки. Они не скажут, что взяли тебя, Вася, для отмазки, за амбала, нет, непременно — для физического обеспечения поездки. Они не скажут — сунуть на лапу ментам, мусорам или начальникам, ни в коем случае, опять же культурно: заняться юридическим или экономическим обеспечением процесса создания резерва.
С Мельником у Васи была простая задача, — отобрать овчину особой выделки на глазок — она лоснится, такая блескучая, упаковать в зеленые мешки канары с дырками металлическими, затянуть туго-натуго, проверить машину, где надо — смазать, где надо — подкрутить, бензина взять запас, дорога дальняя, туда — обратно километров семьсот, восемьсот.
У Васи, конечно, найдется, что дунуть на Мельника в анонимке, но одно дело, оказывается, писать от руки, совсем другое — вырезать. Слова вроде бы и готовые, но надо их тасовать, распределять, наклеивать. Берешь газету и давай шарить и шнырять по ней сверху вниз, взад и вперед, пока не увидишь нужное слово, легко ли без привычки? Газета потребуется не одна, а как минимум штуки три-четыре для свободы маневра. Где их взять, если Вася никогда в жизни газет не выписывал и работал все по таким предприятиям, где выписывал их только местком по приказу свыше. В зоне им газеты читали по радио. Если спросить, какое у Васи образование, то он может сказать: восьмилетка с отбытием в колонии общего режима, — это начальное. Потом будет среднее — пять лет, прямо, как в институте, уже усиленного режима. Насчет высшего тоже кое-что есть, но не будем вдаваться в подробности. Теперь нужда заставила Васю узнать часы работы газетных киосков, оказывается, открыты они для безработных, отпускников и пенсионеров, Вася в полседьмого выходил из дома — киоск закрыт. Домой возвращается в девять, в десять киоск закрыт. Субботы и воскресенья как у всех людей у Васи не было с самого начала строительства цеха выделки и крашения. Когда же ему шарашиться по киоскам? Ну а, в общем, не бардак ли, рабочему человеку нельзя газету купить? Спокойно, Вася, сказал он себе, ты же не в Америке живешь, где несчастный киоскер по ночам вкалывает, доллары кует. У них там не только газеты, журналы, но и сигареты, всякие калики-моргалики, аспирин и клизма, и даже резиновые чучела есть с подогревом для любви, если у тебя жены нет. Дикий Запад.
День прошел, другой прошел, а на третий Шибаев поинтересовался, выполнил ли он задание? Вася чуть было не сказал — выполнил, но придержал язык, у Романа Захаровича везде есть глаз, решил не конфузиться, сослался на закрытые киоски. Тогда шеф сказал взять подшивку у его секретарши.
Вася к Соне с большой охотой. Что говорить, для начальника секретарша все равно, что для цыгана конь, — сам в драных штанах, зато сбруя в серебре. Молоденькая, красивенькая, Соня в полном ажуре, груди так и торчат вперед и в стороны, шея белая, джинсы в обтяжку, фигура на восьмерку похожа. Пройди по всем учреждениям Каратаса, нигде такой секретарши нет. И вот Вася подвалил к Соне — я имею задание, мне поручено ответственное дело, не могли бы вы…
— Пожалуйста, Василий Иванович, чем я могу помочь? — и легонько так улыбается. Чем-то он ее веселит, хотя и сам не знает.
— Три газеты мне нужно, Соня, как минимум.
— За какое число?
Сказать, что ему бара-бир, не солидно, и Вася сказал — за вчерашнее.
— А какую газету?
— Да побольше, чтобы выбор был.
Улыбка у нее уже беспрерывная, вот-вот рассмеется.
— Мне грустно потому, что весело тебе, — сказал Вася.
Именно этого ей не хватало, она так и залилась смехом, запрокидывая голову, показывая белую шею.
Сын у Васи в Москве учится, в институте стали и сплавов, приедет летом, надо их познакомить. Правда, шибко красивая, опасно для семейной жизни.
— А чего ты в институт не пошла, мой Эдик поступил в Москве.
— А мне стаж нужен, право на льготы. Вам какую газету, «Правда», «Вперед» или «Труд»?
— Давай, какую не жалко.
— Хотите в нее селедку завернуть?
— Селедку, милая, я лет десять в глаза не вижу, все какая-нибудь престипома и бердюга. Мне для дела нужно.
— Василий Иванович, газеты я должна сохранить, кто-нибудь попросит готовить политинформацию, подшивка всегда нужна.
— Ну и часто у тебя их берут?
— При мне пока ни разу.
Естественно, если понижение цен не было, кому они нужны?
— Значит, я первый, — решил Вася, — дай мне «Труд», доклад подготовить, завтра верну.
Вечером Вася пришел домой важнее важного, держа под мышкой свернутую трубой подшивку. Жена его, Маруся, испугалась — опять проектно-сметная документация, начал муженек новую стройку, по месяцу его теперь домой не дождешься. Нет, он ее успокоил, буду готовить политинформацию.
После ужина Вася развел клейстер, положил на столе листок, положил подшивку, взял ножницы, начал отбирать большие буквы для первого слова «Анонимка». Вот заглавие «Армянская атомная в строю» — почти все буквы есть, вырезаем. Не хватает «и», возьмем «От Бреста до Владивостока».
Пока одно слово наклеил, вспотел, а сколько еще надо, на целый лист! Ну и работа. Однако же какой-то негодяй справился, налепил на Василия Ивановича черноту, что лежит в сейфе у директора. Ладно, давай дальше. Следующее слово. Хоккей в Хьюстоне, наши выиграли 10:1. Перепись снегов в Казахстане — со спутников, во мужики дают. На автодорогах ФРГ жулики переодеваются в полицейскую форму, штрафуют водителей и даже выдают квитанции. У нас проще, квитанций не выдают и все в форме, переодеваться не нужно.
Наклеил Вася всего две строчки, а уже час ночи, поспешать надо. В Кремле вручили Л. И. Брежневу высшую награду НРБ — вторую Золотую звезду Героя Народной Республики Болгарии и орден Георгия Димитрова. Интересно — сами они додумались или был намек? Надо спросить у Голубя. В пограничном индийском городе Амритсаре арестован голландец, он подстреливал голубя в одно и то же время, птица падала, а голландец подбирал футляр с гашишем… В Кремле вручена Л. И. Брежневу Золотая звезда Героя МНР и орден Сухэ-Батора… Вручена кубинская награда — орден «Плайя-Хирон», Фидель выступает с речью.
Глянул Вася на часы, на листок, заметал икру, запсиховал и решил, что клеить не будет, слишком умственная работа — трудоемкий процесс, изнуряющий. Злодейка с наклейкой, это не водка, как ошибочно думают, это как раз то, что вынужден делать Вася по приказу начальника. Завтра он попросит помощи у красотки Сони, она ему не откажет, под рукой машинка, пусть она отшлепает эту черноту и дело с концом. Вася не может зря время тратить. В цехе выделки план горит, а начальник сидит по ночам анонимки клеит, это же безответственность. И все-таки Вася с пользой корпел, теперь он постоянно будет читать газету «Труд», а то сидит среди деловаров и молчит, как сибирский валенок. Надо читать, а потом пересказывать. Вот к примеру. Через пятимиллиардный рубеж человечество перешагнет, как предполагается, в 1989 году. Каждый день рождается в мире полтора Каратаса — по 195 тысяч человек. Или вот новость: Л. И. Брежневу вручен Большой крест ордена «Белой розы Финляндии» с цепью. А что если наклеить Мельнику, будто он возил овчины в Финляндию?..
Шутки в сторону, газеты надо читать, Вася легко все запоминает, у него не голова, а Совет Министров, будет заходить к Соне, спросит разрешения закурить и, пока смолит свой «Памир» (Душанбе), успеет прочитать вот эту полоску сверху вниз — «Последняя колонка». В ней самое интересное.
Утром он принес Соне рулон, положил, где брал, сказал спасибо и начал дальний заход:
— Значит, печатаешь? А сколько платят?
— Семьдесят пять.
— А калым у тебя бывает?
— В редакции, говорят, бывает.
Васе вспомнился Рокосовский, и уточнять про редакцию отпала охота.
— А сколько платят?
— Не знаю, кажется, тридцать копеек за страницу.
Он бы дал ей тридцать рублей, только бы сделала она за него эту тягомотину.
— Понимаешь, Соня, есть один секретный материал, отпечатать бы. Плачу двойную цену, даже тройную, не беспокойся.
А у нее опять улыбочка, будто Вася ее щекочет.
— Где ваш материал? Давайте.
— Поступила к нам такая вот… ни то, ни ее. — Он вытащил из кармана пиджака сложенный листок, развернул перед ней: — Вот смотри, надо отправить, чтобы тут не пахло.
Соня быстренько пробежала глазами корявые строчки.
— Анонимка, что ли?
— Что ты! Секретные сведения. Надо напечатать и фугануть в два адреса — в газету «Правда» и Брежневу. Сможешь?
Соня рассмеялась — нельзя, Василий Иванович, у каждой машинки свой почерк, его легко распознать, легче даже, чем почерк человека, чему Вася удивился, буквы-то одинаковые!
— А другой машинки у тебя нет?
— В бухгалтерии есть, но все равно нельзя, лучше где-нибудь чужую найти.
— Вот и найди, Соня, будь добра, за мной не заржавеет, вот возьми десять рублей, новенькую…
Отказывать Василию Ивановичу неловко, он совсем недавно чинил Соне машинку, заело ленту, за минуту все сделал, но зачем деньги?
Надо сказать, у Сони странность, при виде новой десятки появляется какой-то зуд везде, аж в зубах, бумага упругая, гибкая, у Сони даже соски наливались, когда она брала в руки щекотную, свеженькую купюру, но она, хоть убей, никому не признается, не дай бог, какой-нибудь мужчина узнает.
— У вас тут в трех словах четыре ошибки, Василий Иванович «бальшой», «бирёт». Или вот еще «прахадимец».
Вася подумал секунду и дал ответ:
— Так и шуруй, как есть. Видно же, темный человек писал, не похожий на нас с тобой. К примеру, ты вышла покурить, а зашел какой-нибудь ханурик и отшлепал на твоей машинке. Принимаешь вариант?
— Я не курю! — Соня прыснула.
— Ну, там чаю попить, в бухгалтерии зарплату давали, мало ли что. А он уселся и давай, как из пулемета. Соня, шуруй, не боись, кому сгореть, тот не утонет.
— Ох, Василий Иванович, с вами не соскучишься.
Вася достал сложенный ввосьмеро платок, вытер лоб, посмотрел на стол — вроде он выложил ей десятку только что, а там пусто. Или забыл? Спросить? Нет, позорно. Пересчитаю свои деньги, и если не хватит… Беда в том, что он не знает последнее время, сколько у него наличных в кармане.
— Значит, порядок?
— Будет сделано, — и ничего не добавила, ни спасибо за деньги, ни когда расчет.
Да не жлобись ты, Махнарылов, сказал он себе, человек тебя выручает, спас от бессонной ночи и, может быть, не одной, а ты десятку обещал, а не дал, станет ли она делать? Выбросит в мусорную корзину, и все дела. И будет Мельник на них давить, пока не спихнет и шефа, и Васю Махнарылова. Он достал еще одну десятку и положил на стол перед Соней.
— Я обещал, вот оплата по трудовому соглашению.
— Так вы уже оплатили!
Ну а что Васе оставалось? Он гордый.
— Я знаю, что делаю, только прошу сегодня же отправить. Махнарылов ушел, а Соня села печатать. Она вспомнила Мельника,
плешивого дядю, довольно симпатичного толстого кота, который угощал ее жвачкой. Если верить анонимке, он похитил триста тысяч рублей. А что это за сумма, хватит ли обложить по экватору, если по рублю? А если, к примеру, накупить холодильников по триста рублей — тысяча холодильников. А сколько дубленок самых дорогих, по тысяче? Триста штук, повесить их на плечики, на целый квартал хватит. Нет, дядечка этот плешивый со шрамом ей очень даже интересен. Когда он опять приедет?
Отпечатала три экземпляра, один в «Правду», второй Брежневу, а третий для чего? Она нечаянно вложила в машинку лишний листок, что теперь делать, в корзину? Нельзя, кто-нибудь обнаружит случайно. Она сложила листок вчетверо и сунула его в самый нижний ящик стола под бумаги, на самое дно.
В конце дня Соня поехала сдавать на почту комбинатскую переписку, не забыла прихватить два конверта по просьбе Василия Ивановича. Но не забыла она и слова Клары Георгиевны, которая вела курс машинописи и делопроизводства: «Девочки, вы должны помнить, пишущая машинка — это множительный аппарат, с его помощью можно размножить как хорошее, так и плохое. Будьте осторожны, вас могут вовлечь в какую-нибудь нехорошую историю в корыстных или даже в политических целях. С помощью пишущей машинки несознательный человек может совершить идеологическую диверсию, вы можете пострадать и испортить себе всю жизнь. Не надейтесь, девочки, на то, что все машинки одинаковые, ничего подобного, почерк у них у всех разный».
Соня всегда помнила напутствие Клары Георгиевны. Зачем, скажите пожалуйста, девушке неприятности в самом начале карьеры? Приедет комиссия, начнут разбираться, обязательно сравнят шрифт. Нет, лучше с этими письмами подождать, еще лучше, уничтожить их. Она будет виновата перед Василием Ивановичем, он оплатил ее услуги, но тут надо прикинуть, что лучше, что хуже? Пускай он будет уверен, что все пошло по инстанциям. Почту отправила, а эти два концерта на улице возле урны мелко-намелко порвала.
Казалось бы, дело сделано, из двух зол Соня выбрала меньшее — не выполнила поручение Махнарылова. Анонимка уничтожена, никому ничего не грозит, но… маленького зла не бывает, бывают большие последствия.
Эх, Вася, Вася, разве ты мог подумать, что твоя сегодняшняя беспечность станет со временем роковой.
Глава восьмая ВЫПОЛНИМ И ПЕРЕВЫПОЛНИМ
Шевчик привез норку клеточную около четырех тысяч штук и сидел целую неделю в красном уголке комбината, перебирал по сортности, по размеру, качеству и цвету. Много было дефектов, но для деловара чем хуже сырье, тем лучше, можно сколько хочешь списать — на бумаге, а на деле пустить списанное сырье в выделку и пополнить резерв.
Шибаеву он привез японские часы «Ориент», магнитофон «Панасоник-стерео, джинсы штатовские его сыну младшему (с него сняли прошлым летом в Астрахани, куда он ездил поступать в училище матросов). Но главное, по просьбе шефа Алесь отобрал триста штук лучшей норки цвета «жасмин», якобы для образцов на республиканскую ярмарку. Шкурки были отменные, что сделал бы Мельник? Скорее всего, пустил бы по местным тузам для укрепления связей. Шибаеву надо укреплять капитал, у него сокращенная программа, а связи, которые есть, вполне обеспечат дело. Решили так — Шевчик летит в Кутаиси и продает все триста по сто рублей каждую. Но сначала формальности, не в лесу живем. Выписали накладную об отпуске Шевчику, товароведу и экспедитору, трехсот шкурок нестандартной норки по цене тридцать одна копейка за шкурку. Уплатив девяносто три рубля, Шевчик продаст их за тридцать тысяч. Все гениальное, как известно, просто. Но поскольку эти несчастные девяносто три рубля нельзя оприходовать, то их по бестоварной накладной номер такой-то отправляют в ЦУМ зав. меховым отделом Тлявля-совой. Только теперь партия прекрасных шкурок получила документальное прикрытие, никакие ревизоры не докопаются.
Через пару дней Шевчик отбыл с мягким золотом на борту серебристого лайнера, как пишут в газетах, чтобы в богатом городе Кутаиси, где любят выпить, закусить и красиво одеться, мягкое золото превратить в твердое — шеф наказал Шевчику привезти ему сто золотых монет царской чеканки. Он рассказал Алесю, как у его приятеля с пивзавода лет десять тому назад пропало в стеклянной банке сто тысяч. Он их зарыл в землю, а деньги оказались грязные, то ли грибок попал, то ли жучок, достал он их года через два, а там труха. Так что, хранить лучше в твердой валюте. В Кутаиси каждая монета стоит по сто семьдесят, а здесь по двести двадцать. Шибаев больше любит николаевские, хотя есть еще в ходу австрийские, есть и турецкие лиры, но все это на любителя.
Шевчик принял заказ шефа охотно, не думая, что это обойдется ему дороговато, дороже некуда…
Все мы бываем молоды, потом взрослеем, иные так и не успевают состариться, и кто счастливее, сказать трудно. А пока Шевчик доволен, в Кутаиси у него есть перекупщица по кличке Кармен, потом он съездит в замечательный город Тбилиси поесть настоящего шашлыка, сходит в настоящую восточную баню, где массажист будет становиться тебе на мыльную спину и съезжать по ребрам босыми ногами, как со склонов Казбека.
А что делать с основной партией? О, с ней предстоит большая и сложная работа, с нею выполним план, перевыполним и преподнесем сюрприз женщинам Каратаса, они видели норку только по телевидению.
В цехе Махнарылова полным ходом шла выделка каракуля, песца, нутрии, лисы серебристо-черной, добавилась норка. Вася четко помнил заповеди деловара, норку растягивали до нужной площади, делали пересортицу, завышали цену, списывали на сырьевую гарь. По предварительным подсчетам должен быть навар в семьдесят тысяч рублей.
Работа кипела, план выполнялся, и Шибаев решил обсудить «а комбинате положение о коллективах коммунистического труда — будем бороться! Наибольший шанс был не у цеха выделки, к сожалению, а у цеха кройки и шитья, где начальником Каролина Вишневецкая. У нее девчонки с образованием, почти все комсомолки, а то, что не все справляются с заданием, так это временно. Не выполнили план за январь, и в феврале показатели не поднялись, хотя работали девки на совесть, — как быть, спрашивается? Надо ли их обижать? Не надо. Записали всем выполнение на сто пять процентов, закрыли наряды каждой по сто рублей, предупредили, что долг надо отработать в следующем месте. С учетом девки запутались, а Шибаев пустил тысячу шапок налево и сунул под диван восемьдесят тысяч. Ах, какой плохой директор, пользуется неопытностью своих работниц! Приходится, что поделаешь, если у них на каждую шапку уходит меха тридцать шесть-тридцать семь дециметров, а по норме надо тратить двадцать шесть. Они весь его резерв пустят в отходы, пока навыка наберутся. Гонять надо. Темпы, темпы, и еще раз темпы, пока стоят морозы и товар наш в ходу. О качестве будем думать, когда шить научимся. Вместо шапки иногда получается колпак для чайника — ничего, протолкнем, спишем. Бракер придирается со страшной силой, дня не проходит, чтобы две-три девки не плакали. Значит, они взаправду сознательные, значит, именно этот цех должен бороться за почетное знание. Во время обеденного перерыва Каролина вместе с Васей и председателем профкома провели в цехе собрание, взяли обязательство, а на другой день вывесили на доске объявлений.
Комбинат в жизни Шибаева главное. Только не знающие дела люди говорят: он думает лишь о себе — черта с два, сразу прогоришь. Как нет арбуза без корки, так нет личного без государственного. Работать Шибаев никому не мешает, наоборот только приветствует разворот, размах, инициативу. Каждый гражданин имеет право на труд, тут полные лады с Конституцией. И он трудится. Без выходных. По двенадцать часов, по четырнадцать.
Знает ли он, что совершает преступление? Знает. Но не признает за таковое. Как быть, если прокурор живет законами тридцатых годов, а для народа уже кончаются семидесятые? Есть ли на свете такое общество, которое не изменило бы свои потребности за сорок, за пятьдесят лет? Хозяйственные нарушения или, как их называют, преступления, как раз и вызваны несоответствием между устарелыми предписаниями и новыми требованиями жизни. Жить по-старому означает не жить. Жить по-новому означает сидеть. Немного в кресле и побольше в тюрьме. Хозяйственный руководитель — это человек временно находящийся на свободе.
Шибаев любит вникать в юриспруденцию, в правовые казусы, это его хобби, а также должностная необходимость. Игнатий Цой регулярно приносит ему журналы «Человек и закон» и кое-какие брошюры для служебного пользования. У Шибаева уже целая библиотека, под рукой всегда Уголовный кодекс. С автографом, между прочим, Гриши Голубя. Совсем как в песне поется: «Нам ни к чему сюжеты и интриги, про все мы знаем, что ты нам ни дашь. Я, например, на свете лучшей книгой считаю кодекс уголовный наш».
Друзья Шибаева удивляются: как ты все крепко помнишь, откуда столько знаешь, если нигде не учился? Потому он и помнит, что голова не забита со школы пустыми сведениями. Особенно он любит поговорить с Ирмой, она понимает его и поддерживает, а другие спорят, свернуть его пытаются на битую колею.
Ирма, кстати сказать, без суеты и спешки хорошо обставила свою квартиру, просто замечательно. У Гриши Голубя хуже, хотя там шик придает библиотека на две стены, сплошные собрания сочинений, импорт и антиквариат. Зато у Ирмы посуда, сервиз «Мадонна», богемский хрусталь, люстра «Дрезден» за тысячу шестьсот, абажур на кухне ручной работы. В гостиной польский гарнитур — сплошное дерево, мореный дуб, на тыщу лет хватит. Она его заберет в Москву.
Приезжает Шибер в квартиру 43 на обед. Ирма встречает, разденет, разует, усадит в кресло, музыку ему включит, тот самый «Панасонике-стерео, и через пару минут катит ему из кухни столик сверкающий на колесиках, и на нем все, как в кино из американской или индийской жизни. Выпьют, закусят, поедят как следует, полежат, тоже как следует, и, если все хорошо, он любит поговорить с ней. О том, например, что люди нормальные, безвредные не различают преступника и не преступника.
Различия придуманы прокурором, это бесчеловечно. Возьмите его, Шибера, скольких он кормит своим резервом? Все они, кстати сказать, семейные люди, нуждаются, надо растить детей, самим жить по-людски, одному нужна машина, другому квартира, третьему дача, дубленка, шуба, ну как не пойти навстречу? А люди благодарят.
Он, Шибаев, не исключение. Он социальный тип, у которого есть стандарт надежд, целей, устремлений — иметь семь знаков. Каким путем? Трудовым и только трудовым.
Мы не покушаемся на политические основы нашего государства, на его обороноспособность, наоборот, когда демографический спад подтачивает трудовые ресурсы, мы выжимаем из себя все силы, не спим ночей, не знаем ни субботы, ни воскресений, ни праздников.
А понятие честности у нас, извините, особенное.
Шибаев вычитал, что не может быть общества без преступности, пусть оно будет самым респектабельным. Мало того, в человеческом общежитии нет никакого другого явления, которое бы обладало столь бесспорно всеми признаками нормы.
Почему на Руси всегда про разбойников пели песни, сочиняли романы, легенды, повести, например, «Дубровский» — почему?
Потому что они всегда были за справедливость.
Как там Шевчик, не звонит, не телеграфирует. Песню любит разбойничью — «Муромским лесом густым».
Что еще Шибер вычитал в книге Цоя по социологии преступности? Всякое явление двойственно, оно содержит в себе одновременно порядок и беспорядок, движение целевое и движение бестолковое — одновременно. Одному человеку по душе порядок, а другому лучше хаос, и каждый ищет подкрепление своему выбору. Хаос поддерживается негативной информацией, подкрепляет в личности дурные установки. Однако запрещать полностью негатив, делать просвещение стерильным мы не можем, — так говорят ученые люди. Хаос содержит в себе поиск, нащупывание новизны путем проб и ошибок. Вот Шибер и двигает к новизне, иногда сам, а иногда по воле кое-кого другого.
Глава девятая ДЕРЖИ КАРМАН ШИРЕ
Пришло время делить первую выручку. Шибаев предложил встретиться дома у Гриши Голубя — посидим, поговорим, поиграем в шахматы, а то собираемся на комбинате, как правительственная комиссия. Дал его телефон Ирме и наказал, чтобы она позвонила в десять вечера со словами: «Это квартира Голубя? Нам известно, что Роман Захарович Шибаев в настоящее время у вас в гостях. Это из горкома дежурная». Гриша обязательно спросит, зачем Шибаев понадобился горкому в такой поздний час. Ирма должна не растеряться и пояснить, что он является членом штаба гражданской обороны, а остальное вас не касается. Гриша очень не любит раскрывать свои связи и знакомства, в некоторых отдельных случаях, хотя в других отдельных наоборот афиширует.
Приехали с Васей к восьми вечера, чинненько одетые, при галстуках, едва переступив порог, согнулись в три погибели. Раньше люди при входе крестились на образа, а сейчас только поклоны бьют. Сшибаясь задами, будто в поисках грибов, гости разулись, выпрямились со свекольными физиономиями и в одних носках бодро приветствовали хозяина. Он стоял без всякого парада, в спортивном трико, выжидая, когда они стряхнут заразу с улицы, затем провел их в кабинет и закрыл дверь. Вася пронес Туда небольшой чемоданчик с окованными углами.
_ Где твоя хозяйка? — поинтересовался Шибаев слегка сквозь зубы.
Интерес его повис в воздухе.
— Будем, рады знакомству, — добавил Вася, озираясь на стену из книг-— На сколько тут тысяч всего?
— Библиотека, Василий Иванович, исчисляется в томах, а не в рублях, — холодно пояснил Григорий Карлович.
Интересно, потянет ли на сто тысяч вот такой склад?
Журнальный столик сияет полировкой, на нем одиноко стоит хрустальная ваза и ни хрена больше, ни выпивки, ни закуски. Правда, в вазе цветок. Васю, что ли, встречать?
Гости сели в кресла, косясь поочередно на книги, на люстру, на телевизор.
— Цветной? — спросил Вася. — Который день из ремонта?
А Шибаев пристал к Голубю — почему ты не хочешь нам показать жену? Его заело, встречать гостей должна хозяйка. Гриша в лыжном костюме — тоже хамство. Шибаев распустил галстук, смотал его рулеткой и сунул в карман. Напрасно он разулся у порога, разнес бы грязь по всему паркету.
_ Жена подрабатывает репетиторством, готовит в консерваторию,
сейчас у нее урок. Но если бы она была дома, я попросил бы ее не мешать, у нас деловая встреча, не так ли?
— Брось, — махнул рукой Шибаев, — ты нас не считаешь за людей, вот и все объяснение.
— Я, конечно, дико извиняюсь, — вступил в разговор Вася, — но зачем детей силком гонять в музыкальную школу?
— А что, лучше пусть они через форточки совершают квартирные кражи?
Вася и глазом не моргнул — и то лучше, он убежден.
— Я своего не гонял, даже в школу не заставлял ходить, а сейчас он в Москве, Эдик.
— В Англии, Василий Иванович, родители несут уголовную ответственность за то, что не обеспечивают посещение школы их детьми.
— Безабра-азия! — возмутился Вася. — Я думал, только у нас срока мотают ни за что.
— За первое непосещение штраф десять фунтов стерлингов, на наш курс, примерно, рублей двадцать. А при повторном, в два раза больше. Одна из самых цивилизованных стран.
— Когда мой Эдик школу кончал, мы с ним в забегаловку вместе ходили, и ничего! — радовался Вася. — В Москве Эдик сумасшедший конкурс прошел.
— В Англии, между прочим, за появление на улице пьяного с ребенком до семи лет дают месяц тюрьмы.
— Ну-у, у нас тогда тюрем не хватит. Ведь как у нас? Пойду с дитем погуляю. За ручку его — и в «Голубой Дунай», дитё у меня как прикрытие.
— За продажу сигарет молодежи до шестнадцати лет штраф сто фунтов стерлингов — рублей двести, а то и побольше.
— Дикари, одно слово. Прогнивший капитализм.
Шибаев не деликатничал и прямо потребовал выставить выпивку и закуску.
— Ты русский или не русский? — пристал он.
— Не все русские пьют, как ты.
— Опять вы как кошка с собакой, — вмешался Вася. — Как люди не можете.
— Ты видишь, как он нас встретил! — возмутился Шибаев. — Пустой стол, и на нем тюльпанчик. А мы ему чемодан принесли, посидеть пришли. Может, потащим этого жлоба в ресторан?
— Я приглашаю, — солидно сказал Вася. Оба, конечно, настроились выпить по случаю первого дележа.
— Нет проблем, что вы так волнуетесь? — отозвался Гриша спокойно.
Он переставил вазу, журнальный стол раздвинул, приподнял и превратил его в обычный обеденный. Затем раскрыл пузатый бар и начал выставлять бутылки, да какие, одна другой краше, у гостей слюна вожжой — коньяк, водка, шампуза, век бы ее не видеть, и пиво не здешнее, чешское как минимум.
Выпросили. Однако досада у Шибаева не прошла. Если бы к нему Голубь домой пожаловал, он бы выстроил перед ним весь дом и весь двор, начиная с Тарзана, хотя никакой особенной любви к Грише у Шибаева нет — просто так полагается. Какого черта! Между тем Гриша выставил фужеры, рюмки, достал крахмальную салфетку, с хрустом начал протирать посуду, потребовал, чтобы Вася расставил все на свой вкус, а сам вышел и через минуту не вошел, а въехал — двухэтажная каталка, сверкающая никелем, и понаставлено на ней всякой всячины — и черная икра, и красная икра, овальные ломтики сервелата, кубики масла, пластинки языка, карбонат, тут тебе горчица, тут тебе и хрен, — уважил Григорий Карлович. Сразу гости отошли, оттаяли.
Выпили по первой. Вася почувствовал себя человеком. Выпили по второй, но уже без Гриши, у него сегодня хронический холецистит, а в прошлый раз была язва двенадцатиперстной кишки.
— Прошу извинить, но я хочу, чтобы потом можно было говорить: черную икру ложкой ел. — Вася взял столовую ложку и полез в вазочку с икрой.
— Когда это потом, в зоне? — спросил Шибаев.
Вася черпанул из вазочки в рот, пожевал-пожевал и на пол вокруг себя посмотрел, нельзя ли сплюнуть — голимая соль!
— Василий Иванович, надо взять хлеб, намазать маслом, потом икру, и всего понемногу.
Лучше поздно, чем никогда. Вася заел маслом, запил пивом чешским, тоже пена одна, зато теперь может хвастать, имеет право, но есть ложками его не заставишь. От пива он захмелел и вышел на свою любимую тему: а что можно купить на сто тысяч?
— Свободу, — ответил Голубь.
— Сначала заработай себе тюрьму, — сказал Шибаев, — а потом купишь свободу. За первый квартал цех выделки не оправдал наших надежд.
— Мы с Мишей так и думали, — важно сказал Голубь.
— Они «думали»! — фыркнул Шибаев. — А мы делали!
Вася, чуя снова схватку, настойчиво попытался завладеть вниманием Григория Карловича.
— А скажите, можно ли купить жизнь?
— Купить нельзя.
— Но продать можно, — подсказал Шибаев.
Вася пожал плечами — если есть продавец, значит, должен быть покупатель? Он попытался углубить вопрос, но его перебил Шибаев:
— Как там Миша поживает в столице?
— Миша везде устроится, у него божий дар общения.
— Он мне обещал помочь.
— Миша слову хозяин.
— Однако до сих пор ничего не сделал! — грубее сказал Шибаев.
— Значит, уважительная причина. Он мне звонил, сказал, что тебе надо ехать в Алма-Ату к Рахимову.
Ну не сволочь ли, почему он звонит не тому, кому надо? Кто должен ехать, Гриша Голубь?
— Я его выброшу из доли. Он плохой компаньон.
— Надо идти к Прыгунову, взять ходатайство облместпрома и в Алма-Ате выбивать лису. Миша помогает через Москву, чего ты к нему придираешься?
— Дармоеды нам не нужны, — все более накаляясь и не слушая пояснений, сказал Шибаев.
— Без Мельника не было бы директора Шибаева, нового цеха и его начальника. Все это его задумка.
— У него были другие задумки. Расскажи про овчины. Вася замялся — а чего рассказывать и зачем? Дело прошлое.
— Сколько овчин отвез Мельник налево с твоей помощью? — прокурорским тоном потребовал Шибаев.
Вася учуял опасность. Нельзя выдавать Мельника, тем более в присутствии Голубя.
— Чего пристал? — жалобно протянул Вася.
— Боишься, — утвердительно сказал шеф. — Чего боишься, кого боишься, нас? Михаил Ефимович тебе долю платил?
— Нет, клянусь, только оклад.
— Теперь ты в доле на равных, говори правду. Мельник платил долю мне и Григорию Карловичу, он обязан был выплатить нам и за продажу овчин. — Шибаев посмотрел на Голубя. Тот барабанил пальцами по столу и без особой охоты поддержал Шибаева:
— Да, Миша платил, а что вы имеете, сказать, Василий Иванович?
— Да ничего я не имею, не впутывайте меня! — Вася встал, Вася сел, заерзал, попытался налить себе пива, но Шибаев поймал его за руку и прижал довольно крепко.
— Не крути задницей, как педераст. Сколько овчин Мельник вывез и на какую сумму?
Не признается Вася, Шибер вывернет ему руку, как у цыпленка-табака ножку-косточку.
— Сумму я не знаю, а овчин… — Вася вздохнул, выдернул все-таки руку, налил пива, была не была, от Шибера не отвертишься, и сказал: — Семь тысяч пятьсот овчин.
— Каждая по сорок рублей, — отчетливо добавил Шибаев. — И того триста тысяч.
Вася достал платок, встряхнул его за уголок до пола, вытер взмокшие щеки. Видно было, что он не врет, и еще видно было, слова Васи ошеломили Голубя. Да и как не ошеломить? Шибер уже знает про обман и притерпелся, первая злость прошла, а Гриша только услышал, и злость закипела. Из трехсот тысяч ему должна была перепасть по меньшей мере шестая часть. Однако Миша предпочел все забрать себе — уезжаю в столицу, братцы, Москва слезам не верит.
Вася ни на кого не смотрел, Вася не знал, куда себя деть, а Шибаев смотрел и видел, что облом в пятьдесят тысяч Грише ой как не по нутру, пальчики дрожат — нервы-стервы выдают в самый неподходящий момент.
А Шибаеву стало легче, он повеселел — друг-приятель Миша надул друга Гришу на пять новеньких «Волг» да еще с гаражом в придачу. Не один Шибаев в дураках остался.
Молчание нарушил Вася.
— Как вы считаете, Григорий Карлович, — вежливо, тоненьким голоском поинтересовался он, — за сто тысяч можно купить друга?
— Друга купить нельзя, — рассеянно сказал Голубь.
— Но продать можно! — добавил Шибаев и рассмеялся.
— Миша Мельник в таких делах щепетильный… — заговорил Голубь, наращивая в голосе уверенность и не позволяя усомниться в его друге. — Если он что-то скрыл, то вынужденно… Москва потребовала незапланированных затрат.
— А почему это должно отражаться на долевиках, которым грозил, может быть, переезд не в Москву, а на Колыму? И не в мягком вагоне, а в столыпинском? — Шибаева осенило: Гриша растерялся всего лишь на минуту, придет в себя, позвонит Мельнику, они быстро споются, и тот ему отдаст должок. — Я сижу без нужного сырья, без благородного меха, надеялся на его помощь, а он ничего не сделал. Я уже молчу, он мне и в личном плане обещал помочь.
— Личное всегда человека больше волнует, — укоризненно заметил Толубь.
— Не надо мне, Гриша, мозги пудрить.
— Миша оставил меня за доверенное лицо. Что я ему скажу?
— Скажи своему другу-приятелю, что мы его из доли выбрасываем большинством голосов. Или он восстановит нам нашу долю, или пусть ищет себе другую фирму.
— Восстанавливать он вряд ли будет, эти суммы пошли в дело. Мы потребуем от него отчета.
— Я намерен работать с людьми честными.
Голубь попросил не горячиться, надо спокойно все выяснить. Почему мы уперлись в прошлое? Где наш доход с комбината за первый квартал текущего года?
— Вы посадили меня на отрицательный баланс. Я плачу ребятам из своего кармана. Ожидаю со дня на день, что вы мне все компенсируете, а что вы?
Вася резко привстал, подхватил чемоданчик с окованными углами, положил его себе на колени и посмотрел на шефа — открывать или подождать?
— Здесь сорок восемь тысяч, — сказал Шибаев. — Много это или мало?
Гриша пожал плечами с легкой гримасой — он ожидал большего, затем снял наручные часы, японские, с компьютером, взял авторучку и, легонько тыча — Вася аж привстал, глядючи, — посчитал. Директору девятнадцать тысяч двести, долевикам по девять тысяч шестьсот.
Десять тысяч Шибаев отнесет Башлыку, и сколько останется? Меньше, чем у них. Ладно, пока потерпим. Он кивнул Васе, и тот ловко отсчитал Григорию Карловичу девять шестьсот.
— Два раза по столько, — напомнил Голубь.
— Я сказал, Мельника из доли выбрасываем.
— Допустим, но чем я должен платить ребятам за охрану вас в течение трех месяцев? — возмутился Гриша. — Вы что, думаете весь шахер-махер с норкой, с шапками, с ЦУМом, все это никому не известно?
— Сколько тебе?
— Двенадцать тысяч, минимум за квартал.
— Не получится.
Наступило тягостное молчание. Гриша думал.
— В таком случае услуга за услугу, — сказал он. — Я не хотел говорить сразу, но коль скоро обнаружилось, что мошенник. — Мельник, а все другие честные, то спрошу я вас, каким образом в цехе Вишневецкой оказалось неучтенной продукции на девять тысяч рублей? Как ей удалось эту выручку скрыть от вас?
Теперь настал черед побледнеть Шибаеву. Он не колеблясь, в миг допёр, Гриша прав. Каролина освоилась в цеху быстрее, чем он думал. У Васи тоже отпала челюсть, он уставился на директора — неужто скрыла такую сумму? А ведь она не в долевиках, всего лишь содержанка, на окладе.
— Может, перенесем делёж на другой раз, подобьем бабки сначала? — предложил Вася.
— Дело ждать не может, — отрезал Шибаев.
— Я вынужден снова поднять вопрос о контроле, хотя Шиберу это не по душе, — сказал Голубь. — Как видите, есть все основания.
— Заведешь персонального осведомителя? Да в гробу я его видел!
— Роман Захарович, ты ведешь себя не солидно, — заметил Вася.
— Да пошел ты!
Был Вася маленьким человеком — молчал, стал Вася фигурой — заговорил. У большого человека и неприятностей больше, кумекай, Вася, и он кумекает — скандал созрел, пьянка не получилась, сейчас разбежимся, а гастроном закрыт, добавить негде. Вася не уснет, пока не поддаст, как следует. Он следил за нитью разговора, чтобы оборвать ее в тонком месте, но нить крепчала, звенела и превращалась в стальную цепь.
— Что за контроль, почему ты считаешь, что мой комбинат подотчетен какому-то преподавателю школы милиции? У тебя свои заботы, для нас ты ничего не делаешь.
— На каком основании такой вывод? — начал терять выдержку уже и Голубь. — Ты что, сам себя охраняешь?
— Почему Мельник не свел меня с Лупатиным?
— В твоих же интересах. Через посредника, в данном случае через меня, безопаснее.
Они меня охраняют за оплату и не малую. От кого они меня охраняют, от народа? Народу до лампочки, он сам лоб чешет, ищет, где бы словчить. От государства? Так мы план выполняем, одиннадцать миллионов, как положено, выдаем. Так от кого, кто ему скажет?
— Я не нуждаюсь в твоей охране.
— Ты забываешь, Рома, кто тебя поставил на должность. Мы поставили, мы и снимем, если ты окажешься…
Шибаев захохотал:
— Кормильцы мои, благодетели! Я этому мафиозе полста тысяч выложил за государственную должность, ему надо срок вломить, а они еще меня воспитывают!
— Так и передать Мельнику?
— Так и передай. Выбрасываю его из доли за подлость, за обман компаньонов. За такие дела башку снимают, кишки выпускают и на забор вешают.
— В таком случае я снимаю комбинат с охраны.
— Он снимает! — взбеленился Шибаев. — Он меня назначил, он снимает. Ха, ха, ха! Это я сниму с тебя погончики, свинья корытная! — Он обеими руками схватил за край стол, и с грохотом все полетело на пол. Пошел к двери, со стуком вставил ноги в ботинки, не стал даже застегивать молнию, спешил, но не забыл про чемоданчик с окованными углами, протопал в обуви — о, ужас! — по вощеному паркету, дернул чемодан за ручку, будто боясь, что он прирос тут, пустил корни, и потопал обратно. Схватил дубленку и хлопнул дверью изо всей силы.
Но дверь была пухло оббита с обеих сторон, и грохота не получилось.
Вася, что делать, начал наводить порядок, поднимать осколки, сгребать их просто ладошками, ставить бутылки обратно. Затем понуро пошел к двери, обулся, оделся, занятый одной мыслью, как же ему быть с пузырем, магазины уже закрыты, а Вася не остановится, если начал, ему нужно вылакать минимум грамм четыреста, хоть в аптеку беги за тройным одеколоном, но и там отдел номер три до девяти — труба.
— Григорий Карлович, я дико извиняюсь, я потом рассчитаюсь, а то завтра на работу не выйду. Будьте человеком.
Тот непонимающе смотрел на Васю.
— Дайте мне бутылку в долг, водочки.
Голубь брезгливо вынес ему бутылку почти полную, сталинские его усы поднялись, как у кота при виде дворняги. Вася слезно поблагодарил и мелкими шажками вышел, тихо закрыл двери, исправляя горячность своего начальника.
Глава десятая Плата за дурной характер
Утром, едва Шибаев продрал глаза, первою мыслью было — надо ехать к Голубю. Рассвинячился вчера, хотя и выпил не много. Да что там, мало выпил. С друзьями при хорошей беседе для него норма две бутылки коньяка. Вчера он был сам не свой, у него будто чирей прорвался. Надо отвезти Грише двенадцать тысяч и долю Мельника тоже. И впредь не заводиться. Васю, что ли, спросить, с чего началось? Да что спрашивать, Шибаев таким уродился.
Перед выездом из дома, еще даже не рассвело как следует, он позвонил Голубю домой. Жена ответила, что Григорий Карлович в парке на пробежке, делает зарядку, что ему передать?
— Я ему потом позвоню.
Он бегает. Ты едешь вкалывать, а он бегает. И правильно делает. И Мельник прав, советуя просить у Рахимова внефондовую лису, расширять сферу создания резерва.
Он поехал в управление к Прыгунову. Вот кто был типичный начальник, похожий на десятки, сотни других чиновников областного масштаба — лысоватый, седоватый, застегнутый, воротничок впивается в шею. Круглое лицо, маленькие глазки. Сядут на кустовых совещаниях все вместе фотографироваться — ну как близнецы-братья. Глаза оловянные, все толстомясые, крепкие такие боровики, опора и надёжа. Кому они все подражали, непонятно. В кино таких не показывают, в журнале мод не увидишь, разве что в «Крокодиле». Странно, что и сам Шибаев стремился походить вот на таких упитанных, увесистых, основательных.
Прыгунов пил и не прятался, и в кабинете пил, и в машине, и в цехе мог выпить, если бутылка под рукой, не брезговал и в забегаловку заглянуть. Изо дня в день и уже не один год. Начинал с утра в своем кабинете, не забывал проветривать, холод стоял собачий. До обеда он подписывал бумаги, а после обеда секретарша отвечала, шеф на совещании, или на объекте, или вызвали в исполком.
Сейчас они вместе составили проект письма министру. Главный упор на то, чтобы занять жен шахтеров, обеспечить их работой. Сырье крайне необходимо.
— Просить мы можем, но давать нам никто не обязан. — Прыгунов пытался оправдать свою беспомощность. — В местную промышленность идет именно несортовое, внефондовое сырье.
Шибаев это и без тебя знает. Твое дело подписать ходатайство. Махнарылов заберет бумагу, поедет в Алма-Ату, и Рахимов там все решит.
— Вы там с отчетом поторопитесь за первый квартал. С меня тоже требуют.
Вот и вся работа начальника управления, бумагу подписать да отчет потребовать.
От Прыгунова Шибаев позвонил в школу милиции — капитан Голубь на занятиях, освободится в одиннадцать сорок пять.
Приехал на комбинат, в приемной маячил Вася, настолько чем-то взбудораженный, что даже не смотрел на Соню. Прошел вслед за шефом в кабинет, надежно закрыл дверь, после чего выдохнул:
— Лекала забрали!
— Сядь, Вася, не трясись. — А самого сразу будто током от пальцев на руках до пальцев на ногах. — Доложи спокойно, кто забрал и когда забрал.
Вася сел. Важно сразу сообщить начальству, тяжесть переложить, теперь можно и дух перевести.
Шибаев не стал психовать, разбивать графин, телефон, телевизор. Ему стало ясно, кто послал забрать лекала и почему послал. Шантаж Голубя, его проверенное оружие, принудиловка. Снять с него погоны обя-за-тель-но!
— Плохие мы с тобой, Вася, должностные лица, никакой дипломатии ни у тебя, ни у меня.
Вася грустно сказал:
— У тебя, Роман Захарович, опыта навалом. Зачем ты вчера рога мочил, пёр на него дурдизелем?
На ночь Вася хорошо принял водочки из Гришиной бутылки, выспался, утром опохмелился чуть-чуть и сейчас был в форме. Голова соображала четко, но даже и вчера он видел, шеф напрасно ершит Григорию Карловичу, на понт того не возьмешь, глоткой ничего не добьешься, ясно, кто тут у нас правит. Вася чуял, завтра этот керосин обернется, если не ревизией, то каким-нибудь другим налетом, пакости не миновать. Так оно и вышло.
— Кто именно приезжал, кто забрал?
— Извини, Роман Захарович, я не усёк. В общем, из обахаэса.
Вася признавался шефу — как увижу, мент навстречу идет, так и тянет сделать руки назад и следовать впереди него, помня, что шаг вправо, шаг влево считается побег. У Васи от них гипноз.
— А Цой с ними был?
— Нет, Цоя не было.
А полагалось бы, комбинат подведомственная ему территория. Та-ак, следовательно, наскок самодельный, частный, руководству горотдела пока ничего не известно, не будем гнать лошадей, чтобы не посеять паники.
— Какие лекала забрали?
— Те самые, Цыбульского. Спрашивают, где заключение на них лаборатории? Я говорю, у директора. «Пиши объяснение».
— А ты?
— А я, Роман Захарович, не ногой сморкаюсь. «Я ничего писать не буду, идите к директору и с ним выясняйте. Лекала нам такие положены, мы не можем каждый раз останавливать производство. Картонных не напасешься, бумага, она и есть бумага, а дюраль не размокнет, один раз сделал и на сто лет».
— А они что?
— «Сто не сто, а лет на десять они тебе потянут», — такой намек мне дал капитан, у них самый старший. Я хотел их сразу погнать, не видно, что ли?
— Что тебе видно?
— Да дураку ясно. Роман Захарович, это после вчерашнего… — Хотел сказать, не надо было тебе, директор, дурака валять, по пьянке пыль поднимать, но Вася не из тех, кто любит учить. — Лететь мне или не лететь?
Шибаев крякнул — как бы не полететь нам всем. Без оглядки, но с посадкой. Тем не менее, утренняя жажда мира с Голубем прошла окончательно. Хорошо, что не дозвонился ему утром и не стал просить у него прощения.
Что делать дальше, кого поднять? Думай, Роман, думай. Надо Башлыку отдать десять косых и, может быть, пользуясь случаем…
— Хотели цех опечатать, представь себе, Роман Захарович, но я их за горло взял, куда я рабочих дену? План квартала горит, идем на штурм. Направил их к тебе, но тебя не было. Ну так что, лететь?
— Лететь. Сними с себя все железное, чтобы не шмонали перед посадкой, и вези пять тысяч Рахимову.
Вася пожал руку, обнял шефа, вытер рукавом глаза, будто на фронт уходит, и попросил машину, подбросить его в аэропорт.
Перед обеденным перерывом Шибаев вызвал Вишневецкую. Вошла в спецовке, но все равно змея змеюкой — серый халат без морщинки, затянут по талии, косынка черная на белых кудрях, губы накрашенные, глаза синие сверкают, серьги золотые, кольца толстенные, так и просится под хорошего мужика… Глянула на Шибаева пугливо, и его осенило — девять тысяч за шубы она хапанула для Шевчика! Чтобы он побольше набрал монет в Кутаиси.
— Когда тебе Шевчик обещал вернуть деньги?
Пробы ставить негде, но Шибаева она боится. И хотя он забавлялся с ней пару раз на топчане в складе, все равно боится, знает, может он ее запросто отправить в челюстно-лицевую хирургию. Она оглянулась мельком, прикинула путь к отступлению.
— Какие деньги? — недоуменно, вроде искренне спросила она, явно переигрывая, и он по голосу сразу утвердился в своей догадке.
— Шубы на девять двести ты пустила налево. Изложишь мне подробно, двадцать четыре часа на размышление. А сегодня в три часа чтобы был вот здесь на столе хорьковый подклад пятьдесят второго размера, упакован и с ленточкой.
Она не стала ничего уточнять, вильнула задом со словами «будет сделано» и, как балерина, на цыпочках вышла из кабинета.
Шибаев позвонил Цою, — знает ли он про лекала? Не знает.
— Тогда отложи все дела и приезжай ко мне.
Цой приехал, о лекалах он разведает сегодня же, по чьей инициативе явились, и будет держать на контроле.
— А что это за лекала?
— Обыкновенные раскройные. Чтобы тебе была ясна картина, на дюралевых легче натянуть недостающее, но все в полном соответствии с ГОСТом. Есть мелочи. Лекала только что изготовлены, мы не успели на них взять заключения лаборатории мер и весов. Еще я тебя прошу выяснить, звонил ли Голубь вчера вечером, после двадцати двух в Москву или Подмосковье?
Гриша, когда его ущемляют, Мельника из-под земли достанет, да только ли Мельника?
Цой откланялся, щелкнул каблуками и поехал выполнять задание. Культурный, обходительный человек, он никогда не пойдет на сделку с совестью ни ради корысти, ни ради других нехороших соображений, нет — только из уважения к крупному хозяйственному руководителю.
Теперь уже можно звонить в приемную Барнаулова и сказать, чтобы приняли в три часа. Сделать вид, что ничего не произошло. Гриша Голубь провел силовой прием и убедил нас в необходимости выдать деньги на охрану.
Выходить на Башлыка или рано? Он твердо сказал не связываться с ним без особой нужды. Но и не прозевать момент, когда ситуация станет неуправляемой. Как узнать, кто подскажет, управляема ситуация или нет? Лекала забрали, составили бумагу, и она пойдет в дело.
Ждать или звонить?
Вот так идет проверка твоей прочности, годен ли ты в директора крупного масштаба, или ты мелкая букашка. Наклал в штаны, переполошился, все — слетай. Пойти надо к Голубю, покаяться, выбрасывать из доли он никого не будет.
Но выбрасывать надо, иначе он не выполнит свою программу. Срок у него до немецкого рождества, иначе работа его теряет смысл. Он их выбросит, но потом. А пока идет проба нервов.
К нему заходили люди, он решал, обсуждал, распоряжался, писал резолюции, не базарил, все держал в голове. Через неделю он про этот эпизод и не вспомнит, но сейчас саднило, как кол в спине.
Вошла Соня — межгород звонит, Москва, возьмите трубку.
Звонил Мельник — загоношились, рублем наказал.
— Я, Миша, просил тебя позвонить месяц тому назад, а ты молчишь. Я уж думал, ты опять в авиационную катастрофу.
— Меня Бог миловал, а вот ты там, похоже, скоро попадешь. Слушай меня внимательно. Система создавалась кропотливо, поэтапно, ее надо усложнять, а ты все упрощаешь до уровня какой-то шараги. Я не ожидал от тебя такой глупости — пытаться увеличить прибыль за счет отказа поставщику. Нельзя исключать звенья, которые отражаются буквально на всем — на рентабельности, устойчивости, на доходах. К чему призывает научно-техническая революция? Опираясь на достигнутое, идти дальше, а ты ломаешь фундамент. Или жадность одолела? Современный руководитель обязан учиться гибкости, а иначе, на чем стоишь, там и сядешь. — Он говорил сплошным потоком, и Шибаев не возражал, понимая, — ваша берет покамест. Берет — но…
— Личная, безмотивная неприязнь одного к другому должна быть преодолена, розыгрыши уместны за столом, на даче, но на производстве ты должен помнить, что интеллигенция — мозг нашего общества. Васю я бы понял, но тебя понять не могу. Ты давно уже не шоферюга третьего класса, каким тебя подобрали хорошие люди и двинули на руководящую работу. Как ты мог оставлять на нуле смежников, заморозить полученные средства? Существуют жесткие договорные начала, нарушение которых ведет к санкциям. Общее дело может сильно пострадать от твоей неосмотрительности. Мой долг тебя предупредить своевременно, до стадии кусания локтей. Ты меня понял?
— Я тебя понял, еще, когда ты мне не звонил. Все звенья в ближайшее время получат отчисления согласно договора, при условии, что поставки из Москвы будут не на словах, а на деле.
— В Алма-Ату, в главк пошло распоряжение отсюда.
— Я командировал туда человека.
— Прошу тебя не упрямиться и выполнить еще одну просьбу. Выдели штатную единицу для контроля, настаивает филиал, и я настаиваю в интересах производства.
Эх, Рока, Рока, скажет ему Ирма, один раз ты их не послушался и сразу проиграл дважды — и с лекалами, и с контролем.
— Ладно, я все понял. Все дела, да дела, а как личная просьба?
— Здесь все ясно, Шибер, приезжай хоть завтра, и на месте решим. В Измайлове как раз идет бурная подготовка к олимпийским играм, тут будет самый центр. Возьмешь билет, позвони, я тебя встречу.
Распрощались, звякнул отбой.
Без четверти три Каролина принесла коробку с подкладом из хорька. Шибаев невольно принюхался, как Вася, — пахло парааминофенолом. В три часа поехал, передал Барнаулову коробку. О квартире ни слова ни тот, ни другой.
— Какие будут у вас просьбы? — спросил его Барнаулов.
— Спасибо, никаких. А может, у вас просьбы ко мне?
Одна просьба у руководства — чтобы предприятие выполняло план и успехи были как на производстве, так и в личной жизни.
Вечером позвонил Цой — вчера, в двадцать часов московского времени объект звонил в Подмосковье по срочному и разговаривал в течение шести минут.
И еще один звонок, последний, он сделал сам:
— Добрый вечер, Григорий Карлович, сколько лет, сколько зим! Это Шибер говорит.
— А, добрый вечер, Роман Захарович. — Голос еще более приветливый, чем у Шибаева.
— Ну как жизнь, как жена, как дети?
— Спасибо, они тронуты твоим вниманием. Ты звонишь, как я понимаю, чтобы принести извинения?
— Да, собрался, а потом вспомнил, чему ты меня учил, — извинения в наш век не рентабельны.
— В таком случае, что тебе надо?
— Я тебя не очень отвлекаю, чем занимаешься? — не спешил перейти к делу Шибаев, тоже умышленно.
— Сидим с Яшей Горобцом, играем в шахматы.
— Это тот самый агент по контролю? Я думал, он в тюряге только в буру навострился. Ну и как, тянет он на гроссмейстера?
Шибаев любил шахматы, играл вполне прилично, во всяком случае с Голубем у них счет ничейный. Деловому человеку шахматы полезны, приучают терпеливо смотреть на несколько ходов вперед. И все-таки в башке у него не укладывался вот этот альянс проходимца с юристом. Впрочем, адвокаты нередко дружат с преступниками, не то, что прокуроры.
— Вполне достойный будет тебе партнер, вместе будете играть в скором времени…
— Где, в зоне?
— Нет, почему же, на комбинате.
Ни тени сомнения в том, что Шибаев Горобца примет, иначе они ему дадут пинка. Гриша гнет свою линию в присутствии лагерного хмыря, хочет заверить, в обиду его не даст.
— Только ты не злоупотребляй служебным положением, — продолжал Голубь, — он человек интеллигентный, в очках.
— Хорошо видит, где плохо лежит, — в тон ему продолжал Шибаев. — Ладно, беру. С двумя судимостями у меня людей нет, он будет первым.
— Буря в стакане воды не рентабельна, — сказал Гриша. — Тебе пора уяснить что выгодно, а что в убыток. Время бесплатных услуг прошло, и притом навсегда.
— Нам надо бы встретиться, — сдержанно сказал Шибаев.
— Я не могу прервать партию, тем более Яша выигрывает. А по какому вопросу?
— Про лекала тебе известно, — утвердительно сказал Шибаев.
— Какие лекала? — изумился Голубь и как будто присел там возле телефона. Шибаев поскрипел зубами.
— Приехали твои ребята, забрали лекала, дело стоит.
— Впервые слышу, дорогой. На каком таком основании?
— Твоя работа, говорят.
Голубь на «твою работу» ноль внимания.
— Что теперь, нужна помощь?
— Да. Приезжай, забери чемодан, который я вчера унес от тебя по пьянке.
Глава одиннадцатая Монеты царской чеканки
Прилетел Шевчик бодрый, молодой, веселый, загорел в Кутаиси, будто там не март, а уже июль. Дело провернул удачно, наладил кое-какие связи на будущее. Нагрузка, в основном, выпала на обратную дорогу, когда вез деньги, советские при себе, а царские в багаже.
Монеты Шевчик нашел не сразу. Дело оказалось не таким простым, как с норкой. Шкурки он сдал оптом Тамаре по кличке Кармен, на нее нацелил Кладошвили еще в Каратасе. Она не сразу доверилась, ходили вместе на междугороднюю, она переговорила с Додиком Кладошвили, и только тогда взяла у него все триста штук по сто рублей. И тут же выдала наличными, приятно с такими кадрами работать. Не сможет ли она помочь с монетами? Тамара сказала — зайди завтра, наведу справки. Если у человека есть деньги, ему можно доверять. На другой день Тамара вывела его на одного студента — «скажешь, от Тамары». Шевчик поехал, студент оказался уже аспирантом из Ленинграда, числится при Эрмитаже, но живет здесь. Его интересуют иконы, монеты, картины и всякий антиквариат — не то. Николаевские деньги, по его просвещенному мнению, не антиквариат. Аспирант дал еще адресок, но опять сорвалось, еще адресок… То ли они его проверяли, то ли у них и на самом деле товара не было. Все встречи только на улице и с паролем — в сквере, на набережной, возле кинотеатра, никаких квартир, просто уговор, завтра во столько-то тебя будут ждать, скажешь, что от Важи, от Жоры, от Тамары. Пару раз он услышал кличку Колымчан. Наконец, через пятого или шестого Шевчик попал в селение Кулаши к старому сапожнику в очках, он говорил по-русски сразу с двумя акцентами — с кавказским и с одесским. Он мимоходом признался, что собирается переехать и, поскольку монеты много весят, ему бы хотелось заменить тяжелое золото на один легкий бриллиант. Когда Шевчик сказал, что ему нужно сто пятьдесят штук, старик спросил, когда расчет. «Сразу», — ответил Шевчик и показал на свой дипломат. Старик почмокал губами: «Молодой человек, вы уже послушайте старого человека, я вас удавлю шнурком и плакали ваши семнадцать тысяч. Кто же так работает? Вы, случайно не из ОБХСС? Хотя, извините, я вам охотно верю, откуда в ОБХСС такие деньги, там нищие. Примите мой совет, никогда не ходите один, наша жизнь ничего не стоит. Я вас угощаю чаем с цитрусами, после чего вы засыпаете здесь, а просыпаетесь в раю». Он отсчитал Шевчику, сколько нужно сияющих золотых монет с изображением Николая II и датой 1899. Шевчик расплатился, поблагодарил за совет. «Вы настолько уже нравитесь старому еврею, что посмотрите на мои тонкие руки, это ваш интерес заставил меня придти в сапожную лавку, а у меня кристально чистая работа, я классный ювелир, мой дед был ювелиром, мой отец ювелир, мои внуки тоже будут ювелирами, только пусть этот разговор останется между нами». — Среди валютчиков, оказывается, бывают такие откровенные, милые люди.
Шибаеву Шевчик рассказал без подробностей, в общих чертах, после чего поинтересовался, какие новости на комбинате, как здесь идет норка, все-таки много было несортовой.
Норка идет неплохо. Город пока не видел настоящего меха и берет какой есть, за одно название. Спроси у Шибаева, что можно сделать из шкурки ценой три пятьдесят, он не сможет ответить, хотя специалист. Берут и дорогую, даже пачками. У народа дурные деньги, откуда? Да оттуда же, откуда и у тебя. Ну, что еще по комбинату? Пошивочный цех взялся бороться за звание коллектива коммунистического труда.
— Правильно, девчонки стараются.
— У многих десятилетка, три поступили в техникум, одна даже заочница в педагогическом.
В обеденный перерыв собрались в кабинете Шибаева посмотреть на Шевчика, посидеть. Роман Захарович распорядился приготовить стол, сели с коньячком, водочкой, закуской, балык, колбаса, крабы — Соня вертелась, как на эстраде, ей ужасно это приятно. Тут же ошалелая Каролина, вернулся ее ненаглядный. Явился Яша Горобец — «по поводу запчастей», невысокий, в обвислом пиджаке, штаны гармошкой, одутловатые щеки, вид бродяжки, не то, что Гриша, противоположность полная, правда, в очках.
Сели, выпили. Цитрусы, закуски. Разговор пошел.
— А что вас особенно поразило на Кавказе? — пропела Соня. Каролина даже челюсть приостановила с куском за щекой, такую мелодию в голосе подала секретарша.
Больше всего Шевчика поразило кладбище. Он такого даже вообразить не мог. Видел в кино и в Риге на экскурсии — красота, сам бы лег, да жить надо. Но кладбище в Цхалтубо — чудо из чудес, судите сами. Тамошние жители городят над могилой, хотите верьте, хотите нет, по меньшей мере кооперативную квартиру! Здесь у нас как хоронят? В «Металлобытремонте» заказывают стандартную пирамидку из железа, на ней приваривают железную звезду или крест по уровню сознательности, красят сверху донизу, чем попало, втыкают над гробом, — и вся тебе вечная память. Там же — ничего похожего. Там стандарт на десятки тысяч рублей. Никаких тебе железяк — гранит, малахит, редчайшие камни и обязательно фотография в полный рост, в натуральную величину, причем стоит усопший не просто на лоне природы, на фоне Казбека, нет, обязательно на фоне своей машины. А сверху на машине ковры сложены так умело, показательно, чтоб можно было пересчитать все до одного — вот так некоторые хоронят на Кавказе. Причем машина должна быть последней модели или, наоборот, первой, конца прошлого века.
— Алесь, а вам не кажется, что это пошлость? — кокетливо спросила Соня.
Вишневецкая аж заикала и ответила за Алеся:
— Если у тебя в кармане вошь на аркане, то, конечно, пошлость. Уважающий себя человек с малолетства стремится к богатой могиле, чтобы каждый подошел и увидел — покойник не зря прожил свою жизнь.
— А я бы туда добавила Уголовный кодекс, — сказала Соня, — сразу видно, жизнь была полна приключений.
— А сколько такая могила может стоить? Тысяч за сто можно купить? — заинтересовался Махнарылов.
— Василий Иванович, мне такую даром не надо.
— Это не могила, это захоронение, олухи, своего рода мавзолей.
— Ну, мавзолей в Москве гораздо скромнее, — определил Шевчик.
— Алесь, скажите, а вы что окончили?
Каролина, забыв о правилах хорошего тона, переложила вилку из левой руки в правую. Шевчик заметил, но пока не мог угадать, кого она сейчас пырнет спьяна, Соню или же его самого в честь приезда.
— Ну, живут! — восхитился Вася. — А какой, интересно, будет у меня, это самое… мавзолей?
— Без нулей не построишь мавзолей, — изрек Шибаев. — Какой человек, такая у него могила.
— А вот великие люди завещают хоронить их без всего, — манерно продолжала Соня, не замечая состояния Каролины, или, вполне возможно, не боясь ее. — Они бессмертны делами, а не могилами.
— Засыпет нас всех в один прекрасный момент атомным взрывом, а потом через тыщу лет откопают, и по этим могилам узнают, как мы жили. Под Алма-Атой нашли золотого воина, на нем полторы тысячи украшений.
— Жили не тужили. А где наше золото, Алесь, покажи товарищам. Шевчик внимательно посмотрел на Шибаева, тот уверенно кивнул —
давай без всякого. Шиберу надо утвердиться, при нем все можно, вон какой гужевон устроили, пьют, едят, и пусть тут сидит Яша Горобец, стукач Голубя, никому не страшно.
Алесь достал из-под своего куртача джинсового длинную змею из полиэтилена, брякнул на стол, гнезда прошиты белым двойным швом, в каждом гнезде монета, а может быть, и не одна.
— Дай подержать!
Все поддатые, веселые, свободные, никого не боятся, дружные, словно скованные золотой цепью. Сияет металл, ленту из рук в руки тянут.
— А ну дай! — Шибаев взял нож, хотел вспороть, чтобы достать, подержать в пальцах.
— Не надо! — вскричал Шевчик. — Держите! — и метнул монету Шибаеву. Зачем портить такой пояс, это же фирма.
Директор посмотрел, повертел, передал другим. Ахая-охая, рассматривали орла двуглавого, дату 1899 год, дошла очередь до Каролины, она покрутила ее, как конфетку, на зуб попробовала, послала Шевчику воздушный поцелуй и сунула монету за лифчик. Кое-кому придется туда слазить после застолья. Если бы такой жест выкинула Соня, Шевчику было бы интереснее. Но никто не знает, что Соню волнуют деньги бумажные, и только розовые.
Шевчик спрятал свой пояс, выпили за удачу, Алесь поинтересовался, откуда взялся у нас Горобец.
— Хороший специалист, три судимости, — отрекомендовал его Шибаев. — Сейчас мода пошла двигать на руководящие посты бывших зеков.
— Не понял! — угрожающе сказал Вася.
Надо сказать, из Алма-Аты Махнарылов вернулся с большой победой. Там хотя и столица, Вася не растерялся ни на одном этапе. Рахимов был на совещании у министра. Вася туда, а в приемной мымра, в обед сто лет, — нельзя, говорит. Вася повысил голос, потребовал товарища Рахимова по срочному делу, он уполномоченный из Каратаса, сегодня летит обратно, самолет уже на заправке. Секретарша, представьте себе, вызвала Рахимова — молодой человек, моложе Васи, в сером костюме, холеный, с усиками, глаза с глянцем, очень недовольный, грозный, но Вася и не таких видел, Вася сказал ему тоном Цоя Игнатия: «Пройдемте!» Прошли в кабинет с табличкой «X. А. Рахимов». Вася без лишних слов — директор нашего комбината Роман Захарович просил передать образцы. А тот как был недовольным, так и остался, наверно, таким родился, открыл недовольно верхний ящик стола и ждет. Вася двумя пальцами, как фокусник, опустил туда сверток в голубой ленте (пять косых) и сам закрыл ящик этаким подгребающим к себе движением. И лиса пошла, куда надо и сколько надо. Гриша уверял Шибаева, что все сделал Мельник. Но как бы это выглядело без Васиных «образцов»? Лиса серебристо-черная, сортовая, отменная, большая партия, резерв будет неплохой, тьфу-тьфу. Первым делом надо удовлетворить заказ фабрики индпошива в Целинограде — просят лисы на восемьдесят тысяч. Кто повезет? Шевчику надо дома побыть, отдохнуть, мотается от границы с Японией до границы с Турцией, шутка ли? Новый кадр повезет — Яша Горобец, проверим на профпригодность.
Душевный, свойский, демократический обед в кабинете директора с возлияниями и излияниями был прерван деловым звонком — звонила Зябрева, начальник Государственной торговой инспекции. Она попросила Романа Захаровича приехать к ней для серьезного разговора, получена жалоба на плохую норку. Застолье поутихло, без паники разошлись, забрали бутерброды, помогли Соне все отнести в приемную, а Шибаев начал подготовку к визиту. Почему Зябреву Альбину Викторовну называют грозой торговли? Потому что сама была продавщицей и знает, где и как обычно химичат. Закончила техникум советской торговли, затем институт народного хозяйства, и то, и другое заочно, а иначе, когда бы она росла по должности, если бы протирала юбки на студенческой скамье почти десять лет? Росла, росла и сейчас выросла. Вращается в кругу — обком, горком, исполком, и никак не ниже, Прыгунова не считает за должностное лицо. С такой особой в нашем деле можно горы свернуть, но на крючок она не идет. Шибаев подбрасывает ей наживку, подбрасывает, а она не клюет. За два года она сшила на комбинате двенадцать дамских шуб, платила по ярлыку, по номиналу, как положено.
Прежде чем идти к ней, надо позвонить в ЦУМ и узнать, что там произошло. Разыскали ему срочно Тлявлясову, и что выяснилось. Пришли двое, муж с женой шибко грамотные — почему качество товара низкое, а цена, видите ли, высокая? Потребовали директора, ну а директор «ушла на базу», тогда они в торгинспекцию, и теперь Зябрева вызвала Тлявлясову на три часа. Шибаев легко представил себе такую картину. Дошлые эти муж с женой явились к Зябревой, представились, такие-то они по фамилии и такие-то по специальности, кожно-венерологи из диспансера. В два голоса они четко задали один вопрос: разве это норка? Если это норка, то, извините нас, что вы считаете дохлой крысой? Зябрева их очень внимательно выслушала, кивая головой с шиньоном метровой высоты, ни разу не перебила, дождалась, когда иссякнут их доводы, затем начала свой силовой прием — крыса, к вашему сведению, не такая уж плохая тварь. На голове вашего мужа тоже дохлая крыса, водяная, между прочим, называется ондатрой, ее рекомендуется при входе в помещение снимать, этому еще в школе учат. И как это умудряются люди на зарплате в сто пятнадцать рублей покупать меха и золото? Отчитала она их, но чтобы тут же они не пошли в горком, пообещала принять меры и вызвала заведующую отделом.
Пока Шибаев добирался до Торгинспекции, Альбина Викторовна тем временем пропесочивала Тлявлясову. С опухшими глазами заведующая меховой секцией ЦУМа сквозь слезы, давала клятвенное обещание, что больше никогда в ценнике тройку не будет исправлять на восьмерку. И единицу впереди тоже не будет ставить. Несчастных кожно-венерологов уже не было, они пошли сосать свой валидол, обвиняя друг друга в приоритете — ты первый, нет, ты первая предложила пойти с жалобой. Тут еще один важный момент в работе должностного лица — обязательно выслушать, обязательно поддержать, возмутиться беспорядком изо всех сил и еще более обязательно испортить жалобщику настроение, помотать ему нервы так, чтобы он на всю жизнь зарекся ходить по инстанциям, — это высший шик для руководящего, особенно в сфере торговли и бытовых услуг. И не просто шик, а социальная государственная необходимость — всеми силами способствовать снижению количества жалоб.
Плохо, что Зябрева до сих пор не на крючке. К будущей зиме у Шибаева с торговлей пойдет большой разворот, надо искать слабину в торгинспекции. Зябрева — большая модница, вместе с тем солидная дама, уже не первой молодости, лет через десять ей на пенсию, но тряпки любит, как девочка, все комиссионки города завалены ее барахлом, один раз наденет и сдает. Всегда умело накрашена, у нее своя парикмахерша, делает ей маникюр и уже лет пятнадцать крутит одну и ту же халу на голове. Зябрева, конечно же, берет, судя по ее кольцам, перстням, по одежде, по холености. Зарплата у нее рублей сто пятьдесят, не больше. Берет с умом, из одного источника и наверняка имеет прочное прикрытие сверху — тем более важно склонить ее к участию в нашем общем, и, как говорится, благородном деле. Своей машины у нее до сих пор нет, а уже пора, пора-а. Начнем сотрудничать, Альбина Викторовна, и машина будет.
Зябрева отправила зареванную Тлявлясову на передышку и обратила свой взор на Шибаева — он был невозмутим, непроницаем, Тлявлясову будто не заметил. На него не накричишь, Зябрева это видит, его не прижмешь, а жаль.
— Меня попросили отобрать шкурки каракуля, чтобы завиток бобом.
— Меня тоже попросили — с бобовидным завитком. Она недоуменно посмотрела.
— Для важного ответственного лица. В интересах дела.
— Опять совпадение, Альбина Викторовна. Я отберу получше, а вам оставлю похуже, вы потеряете доверие. Для кого, скажите мне прямо?
Она не из пугливых.
— Для жены мэра.
Кажется, есть возможность закинуть крючок.
— Я прошу вас, Альбина Викторовна, сделать это самой, — твердо сказал Шибаев. Когда он был начальником цеха, он мог шестерить перед ней, а сейчас он директор — не может.
Она помедлила.
— Хорошо, завтра в семнадцать часов можно?
— Приезжайте, я обеспечу вам возможность отобрать лучшее из того, что у нас есть. Я предупрежу своего начальника цеха.
Глава двенадцатая Диплом доцента
Голубь пунктуально соблюдал режим дня, уверенный, что великое складывается из малого, из физзарядки, например, из пробежки, из стакана кефира на ночь, из разрядки эмоции. Он любил утреннюю пробежку и не любил вечернюю, когда скапливаются на улице пары бензина, угольная пыль, копоть, и весенняя зелень сквера не успевает переработать все эти отходы цивилизации. Бежать вечером тяжело, приходится сокращать нагрузку, а сегодня тем более, времени у Голубя в обрез, предстоит званый ужин, торжество — получен наконец из Москвы диплом. Решением Высшей аттестационной комиссии Голубь Григорий Карлович утвержден в ученом звании доцента по специальности уголовной процесс.
До прихода гостей оставалось полтора часа, есть возможность закончить статью, которая лежала почти готовой, Голубь все откладывал и откладывал, а вчера вечером позвонил научный консультант, профессор Бершштейн, поздравил с присвоением звания и напомнил о статье, обещанной полгода назад журналу «Социалистическая законность». Сегодня он ее выправит и отдаст на подпись начальнику школы генералу Ходжаеву, такой порядок.
О чем пойдет речь на званом ужине? Не навязчиво, но вполне четко будет поставлен вопрос о назначении старшего преподавателя, ныне уже доцента Голубя начальником кафедры уголовного процесса. Что он для этого имеет? Помимо ученого звания без ложной скромности у него незаурядный талант лектора и организатора учебной работы. Есть кое-какие бумаги, в наше время они играют немаловажную роль. Почетная грамота облисполкома за активное участие в подготовке и проведении научно-практической конференции, благодарность министра внутренних дел республики за добросовестное отношение к служебным обязанностям и успехи при подготовке кадров, Почетная грамота редакции газеты «Вперед», Грамота общества «Знание» проректору Народного университета государства и права Голубю Г. К. за активное' участие в пропаганде правовых знаний среди трудящихся. Что еще? Приказ о денежной премии, например, в размере тридцати рублей.
В плане морально-бытовом у него все в порядке. Жена занимает ответственную должность в музыкальной школе — зав. учебной частью и ведет класс фортепьяно. Дочь учится в консерватории в Ташкенте, сын в Ленинграде, в политехническом. У семьи много друзей в Каратасе и все достойные люди. Уезжать отсюда он не собирается, в Москве слишком велика конкуренция, а здесь он через три года закончит докторскую, затем подаст на конкурс в высшую школу милиции, что находится в старинном городе на Волге, или же в другой крупный центр на юридический факультет, есть у него друзья в Киеве, хотя там погода для приезжих не слишком благоприятна, но поживем увидим. А пока вместо журавля в небе есть у него перспективная синичка в руке.
Приготовление к застолью у Голубей делается по-современному. Жена, Светлана Филимоновна, готовит только одно блюдо, коронное, остальное — из ресторана «Маяк» по заказу. Все свежее, все лучшее, без диких наценок, а почему? Дочь шеф-повара учится у Светланы Филимоновны в музыкальной школе, а сын директора «Маяка» — курсант школы милиции. Голубь уже отмечал в одной из своих бесед характерную тенденцию последних лет. Если раньше был недобор курсантов — «наша служба и опасна, и трудна», — то сейчас отбоя нет, едут к нам со всей республики, служить в милиции стало весьма престижно, хотя причину трудно назвать. Риск стал не меньше, но — идут. Можно считать заслугой пропаганду по телевидению, знаменитый сериал — «Следствие ведут знатоки», но крутят «Знатоков» давно, а сдвиг произошел в последние два-три года, и тут нельзя сбрасывать со счета взятое из жизни заявление: «В связи с тем, что мы с женой решили купить дачу, прошу перевести меня на работу инспектором ГАИ сроком на один год». Из достоверного источника Голубь знает, что в Баку, например, должность инспектора линейной милиции (на железной дороге) стоит ни много ни мало восемь тысяч, — сказать бы такое в двадцатые годы, а также в тридцатые, сороковые, да и в пятидесятые тоже! Началось мало-помалу где-то в конце шестидесятых, и что с нами будет к концу двадцатого века, одному Богу ведомо…
На сегодня у Голубя задача простая — закончить статью и подать ее на подпись генералу. Разговор о назначении начальником кафедры будет подкреплен очередной научной публикацией в московском журнале.
Генерал Ходжаев — главный гость, и потому коронное блюдо у Светланы сегодня — баранина. По казахскому обычаю, непременно с головой. В застольном ритуале она займет важное место, пожалуй, главное. Голубь не казах, жена и дети у него русские, но он уважает, как всякий культурный человек, обычаи народа и своего непосредственного начальника. Сами Голуби баранину не едят. Дед Светланы, сибиряк, рассказывал, что в старое время баран у них шел только на шерсть, на овчину, а мясо они выбрасывали. Но когда это было, при каком царе?
Григорий Карлович плотнее прикрыл дверь своего кабинета, чтобы поменьше беспокоил запах баранины, и сел за статью. Печатать на машинке он научился давно, еще когда был адвокатом, мог состязаться с профессиональной машинисткой — по скорости, и тем более по грамотности.
Статья называется «Хозяйственные преступления и борьба с ними на предприятиях местной промышленности». Сначала идут авторитетные ссылки. «В. И. Ленин считал нетерпимым любое проявление бесхозяйственности, небрежное, недобросовестное отношение должностных лиц к исполнению своих обязанностей. Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев в докладе к Пятидесятилетию СССР, выделяя основные черты современного руководящего работника, говорил: «Большая непримиримость к недостаткам, любому равнодушию в работе, глубокая партийная ответственность за то, чтобы получить наибольший народнохозяйственный эффект, затрачивая наименьшие ресурсы, должны стать неотъемлемыми качествами каждого руководителя».
Выбор цитаты — это уже уровень и позиция ученого. «В. И. Ленин учил применять для борьбы с бесхозяйственностью, наряду с мерами воспитания и убеждения, также и принуждение, в том числе и уголовное наказание. К сожалению, меры уголовно-правового характера в борьбе с бесхозяйственностью в действующем законодательстве недостаточно совершенны. Наблюдая, как бесхозяйственность приводит к порче, к уничтожению товарно-материальных ценностей, иные люди перестают дорожить народным добром, а нередко даже оправдывают его расхищение». Далее пойдут два-три факта, а в конце не забыть о том, что главная задача социализма — повышать материальное благосостояние трудящихся.
До прихода гостей он спокойно перепечатал статью, вышло около семи страниц через два интервала с соблюдением формата и всех требований для научной публикации. Сопроводиловка уже готова, акт экспертизы и авторская справка подписаны, сегодня генерал должен подписать второй экземпляр статьи, который пойдет в редакцию вместе с первым.
Каждое приглашение Григорий Карлович продумал, чтобы гости были примерно равными по своему значению, совместимыми и без очевидной враждебности друг к другу. Прежде всего начальник школы, генерал-майор с супругой, затем, если уж начали с военных, полковник из военкомата, тоже с супругой, зампредисполкома, курирующий правоохранительные органы с супругой, далее, майор Лупатин, начальник горотдела по борьбе с хищениями социалистической собственности с супругой, заместитель редактора газеты «Вперед» с супругой. Приглашены также и одинокие — главный режиссер драмтеатра Кульчицкий, из тех, что сразу не разберешь, плох он или хорош, врач-рентгенолог Октябрина Семеновна или попросту Брина, дама приятная во всех отношениях, и, наконец, «замдиректора мехового комбината по связям» Горобец, личность единственная, может быть, не вполне продуманная Голубем, но надо же что-то и для души. При нынешних манерах, одеждах и правах Яша сойдет за кого угодно — за дипломата, за кандидата медицинских наук, за доктора юридических (по знанию кодекса наверняка), за журналиста, за валютчика, фармазонщика, контрразведчика. Яша мимоходом может сказать: «Зашел я перед Новым годом к товарищу в Комитет, одно время мы с ним на Ближнем Востоке работали», — понимай, что они с товарищем — из ведомства Андропова.
В другой раз Григорий Карлович пригласил бы других, взаимно совместимых, вместо генерала, допустим, зампреда по строительству, не стал бы тревожить замредактора газеты, а вместо него позвал бы Косовского, главрежа заменил бы комик Мамин, а вместо Лупатина — судмедэксперт, у которого все санитары на выдаче трупов имеют собственные машины.
Планируется, но не навязывается обсуждение новостей культуры, современной литературы, искусства, передачи заграничных радиоголосов — а правда ли, что было покушение на Леонида Ильича? За что его, собственно говоря, он мухи не обидит? «Бровеносец в потемках». Обсудят последнее закрытое письмо ЦК, сведения из разных изданий «для служебного пользования». Прикинут, сколько денег у певцов, композиторов и писателей, ну и обязательно новости из Алма-Аты, кого сняли и кого повысили, — одним словом, все остросовременные проблемы будут обсуждены, оценены и взяты на учет. Женщины, конечно, будут курить, нужна дюжина миниатюрных пепельниц, чтобы каждая могла держать в руке и сбрасывать пепел изящным движением, как умеют это делать только дамы города Каратаса. Ну и, наконец, под парами всем любопытно будет следить, как развивается роман между Горобцом и Октябриной, сегодня у них состоится помолвка. Ну и походя можно еще затеять игру-загадку — о чем молодые будут говорить в первую брачную ночь? Для разгадки берем газету наугад и читаем заголовок: «Стыковка на орбите», «Почему такое плохое обслуживание», или: «За путевку в высшую лигу».
Да, для колорита еще стоматолог приглашен, вернее, зубной техник с любовницей, человек всем полезный, особенно с возрастом, личность без предрассудков — может хоть сейчас занять другу пятьдесят тысяч.
Одни собирают компанию для души, другие для дела, а Голубь таких разделений не признает, у него все одновременно. Он любит своих гостей, они любят друг друга, им весело, соберутся они и увидят свою дружбу, сплоченность, щедрость, заручатся поддержкой, подставят плечо, если друг оказался вдруг на мели. А убежденность в нерушимости благополучия им необходима, работа у них нелегкая, наоборот, самая трудная — с людьми, которые на словах добрые, благородные и прочее, а по сути сволочи, покоя от них нет и не будет. Вот почему мы должны собираться, заручаться, объединяться и предаваться. Но не предавать.
Собрались, расселись с шутками-прибаутками, очень внимательные один к другому, улыбчивые, а как же иначе? Мы же сливки общества (не говорим эти слова, но помним).
Подали голову на блюде генералу Ходжаеву, как наиболее уважаемому. Он благоговейно ее принял и начал разделывать еще горячую, парящую, с помощью небольшого ножа. Частями этой благословенной головы предстояло одарить каждого за столом, никого не обойти, но этого мало — никого не обидеть ни словом ни жестом. Генерал начал с ушей и подал одно ухо зампреду исполкома — чтобы вы, дорогой, хорошо слышали чаяния народа и хорошо управляли всеми делашгнашей области; язык — заместителю редактора газеты — чтобы вы красноречиво говорили о достижениях Каратаса и его трудящихся. Дошла очередь до глаза, один Лупатину, чтобы он зорко высматривал расхитителей социалистической собственности, а другой полковнику, чтобы в нашем замечательном городе был мир и ясное небо над головой. Зубы вручили стоматологу, естественно, нёбо, лучшую часть, мягкую, волнистую, — Октябрине, чтобы она была вечно молодой. Генерал говорил не хуже адвоката, без бумажки, не спотыкаясь, пословицами, поговорками.
Затем пошли тосты, зампред внушительно и без околичностей потребовал: выпьем, друзья, за то, чтобы в следующую нашу встречу — пусть она состоится в самое ближайшее время — мы поздравили дорогого Григория Карловича со званием начальника кафедры. Зампреда поддержал замред: чтобы капитану Голубю присвоили майора, а в скором времени и полковника.
Чуть позже, когда уже выпили по две, по три, шум стал дружнее, образовался некий хор, Светлана Филимоновна предложила объявить помолвку двух одиноких людей — Октябрины и Якова, как делалось это в старину. Если действительно что-нибудь получится, то пусть они потом вспоминают наш дружеский вечер. Замредактора вместо помолвки предложил тут же их поженить. Набрался он, кстати говоря, быстро и стал предлагать: «Выпьем за генерала Голубя!» Жена его попыталась отвлечь внимание и стала восклицать показывая на диван:
— Ах, какая прелесть!
На диван забрались болонка и кошка, болонка легла комом, а кошка возле полукольцом, как дрессированные.
— Что значит в семье мир и дружба!
— Гриша намерен скрестить их и получить потомство.
— Вот вам пожалуйста, живут, как кошка с собакой, что это значит?
— Что нужно сделать, чтобы у собаки случился инфаркт? Создать ей человеческие условия.
— Надо ли до такой степени терять свое лицо, — возмутилась Октя-брина. — Это противоестественно.
— Человек создан для инфаркта, как птица для полета.
— Товарищи, я предлагаю загадать под каким лозунгом пройдет первая брачная ночь у молодых. Гриша, дай мою газету! — И замредактора начал читать вслух: — «Времени на раскачку нет».
Общий хохот.
— «Нужны совместные действия». Хохот.
— «Лицом к людям».
Всеобщий хохот прервался восклицаниями Октябрины:
— Но что за пошлые выдумки?!
— Да ты глянь сама, сама прочитай вслух! Октябрине дали газету, она прочитала:
— «Опережая график». Все так и легли.
Потом стоматолог показал умопомрачительный фокус с картами. Потом Светлана снова играла, полковник пел: «Не искушай меня без нужды возвратом нежности своей».
А тем временем Голубь отозвал Яшу Горобца, и они сели в кабинете за шахматной доской вдвоем. Гришу интересовал вопрос: что еще кроме трехсот норок, увез в Грузию Шевчик?
— Похоже, что ничего, но от Вишневецкой он что-то имеет.
— Получил ли что-нибудь Махнарылов?
— Шибер ему обещал монеты.
— Когда ты едешь в Целиноград?
— На той неделе.
— Слушай меня внимательно. Процедура несложная, из двух стадий. Первая — ты выписываешь накладную по всем правилам, подписываешь ее у начальника цеха. Кто будет отправлять?
— Махнарылов.
— Вот у него и подпишешь на всю партию товара. Сложишь накладные в папку, эту папку товаровед с экспедитором возьмут с собой в Целиноград. На этом первая стадия закончится, начнется вторая. Выписываешь еще раз точно такие же накладные, но подписи уже другие — директора и главного бухгалтера. Эти вторые накладные тут же спрячь в карман, за пазуху, куда-нибудь подальше, чтобы ни в коем случае не попали в ту папку, которая поедет в Целиноград. Все ясно?
— Гриша, за кого ты меня держишь? — обиделся Яша.
— Грузить будете накануне. Сделай так, чтобы погрузку затянуть до самого вечера.
— А смысл?
— Чтобы выехать на другой день утром. Без тебя. Во время погрузки пожалуйся на давление, голова болит, или живот, следы бурной молодости, угостили однажды ташкентской дыней на селитре, и с тех пор печень страдает при физической нагрузке. Или Боткина перенес. Я тебе целый веер средств выдаю.
— Понял.
— Утром сообщат на комбинат из больницы, что тебя привезла скорая с печеночной коликой. Больной пока жив, всем привет. Документы на товар в Целиноград лежат в папке у Махнарылова. Разумеется, вечером не забудь эту папку ему вручить как начальнику цеха.
— Гриша, чего ты так не любишь Целиноград? Что мне делать в больнице? Я там никогда не лежал.
— Яша, лучше лечь в больницу, чем сесть в тюрьму.
— Гриша, там у них все чисто с фабрикой индпошива.
— Яша, не имеет значения чисто-не чисто. — Голубь проглотил слюну, нравилась ему творческая работа. — Как будете лису грузить — штучно, связками, в коробках?
— Связками по тринадцать штук.
— То, что надо. При погрузке, Яша, сделай фокус — чтобы одной связки недоставало. Нужна зацепка, мелочь нужна.
— Гриша, тринадцать штук по восемьдесят рублей это уже тыща.
— Яша, не будем мелочиться, у тебя же нет лисы в другой расфасовке? Полежишь три дня в больнице, выйдешь и приступишь к работе.
— Для тебя, Гриша, я на любой фокус. Когда они вернулись в гостиную, замред кричал: — Товарищ-щи, выпьем за маршала Голубя!
Яша начал рассказывать, как недавно он был на Кубани, там розы выращивают не только колхозники, но и агрономы, учителя, врачи. Побросали школы, больницы, устроились в городе сторожами, гардеробщиками. Сутки отдежурил, трое дома, на дежурство ездят на собственных «Жигулях». Не щадят себя. Посадил шиповник, вырастил розы, с каждого куста взял по пятнадцать, двадцать рублей. Один к двадцати доход. Добавка к пенсии.
— Человек рожден для пенсии, как птица для полета.
— Стрелять надо, — предложил зампред.
У них там девятнадцать подпольных миллионеров, только учтенных ОБХСС, — это Лупатин сказал.
— То есть самых глупых, которые не спрятали свой миллион. Но есть же еще и умные.
— Вешать надо!
— Нет, все-таки куда смотрит наша идеология?
— Человек рожден для тюрьмы, как птица для полета.
Перед чаем, когда замред уже еле языком ворочал, женщины поднялись, убрали посуду. Болонка с кошкой все-таки разодрались, не могли поделить тихо кем-то спущенный под Стол то ли бараний глаз, то ли кусок языка. Генерал держался молодцом, ничего не заметил, но Гриша был в шоке — получит ли он теперь начальника кафедры? Как много от пустяка зависит. А животные не унимались, будто это был их коронный номер.
— Наконец-то они обрели свой статус, браво! — воскликнула Октябрина.
Потом Григорий Карлович с полотенцем обхаживал замреда, он заблевал ванную, потом зампред заблевал туалет. Ну, а в общем, обыкновенные люди новой формации — без царя, без Бога, без нищеты и безработицы, без страданий и слез — только труд, вал, план, чистоган, зато юмора а-ат пуза.
Разошлись поздно, в третьем часу. Гриша вызвал по телефону весь таксопарк. Генерал Ходжаев с женой покинули хозяев последними, за что оба получили по шапке — он ондатровую шестидесятого размера, она — из белой норки в виде чалмы, пятьдесят седьмого размера. Обе шапки были сшиты лучшей скорнячкой города Каратаса, а может и всей республики, женой Шибаева Зинаидой.
Глава тринадцатая Золотые сережки или красный галстук
Классный руководитель Елена Гавриловна не спала всю ночь. Будь она мужчиной, хлопнула бы сейчас дверью и ушла из постылой школы с английским уклоном, нашла где-нибудь место попроще и успела бы заработать и авторитет, и хорошую пенсию.
Но она женщина, и ей пятьдесят четыре, и что она будет делать в недалеком будущем при оформлении заслуженного отдыха, если не найдет выхода из создавшегося положения?
А в чем дело? А в том, что Ксюша Зябрева, ученица пятого класса «Б», пришла вчера на занятия с проколотыми ушами. Сущий пустяк — дырка в ухе, но он всколыхнул класс, а значит, завтра-послезавтра он всколыхнет школу, и от того, какую тактику выберет по отношению к этому пустяку Елена Гавриловна, зависело очень много, даже, как ей думается, будущее нашей Родины.
Ксюша вообще модница, курточка у нее всегда самая яркая, сапожки самые высокие, шапочка самая диковинная, и удивляться нечему, Ксю-шина мама — начальник торговой инспекции.
Когда юная Елена Гавриловна училась педагогике, то источники своего обогащения принято было скрывать, особо выпендриваться считалось неприличным. Сейчас все наоборот, Елена Гавриловна может рассказать о своем классе известный анекдот — «Кто твой папа? У одного развозит по стране цветы, у другого продает вино, у третьего перепродает фрукты и только у бедного Карапета папа инженер. Дети при этом хохочут, а учительница их при этом стыдит: сколько раз я вам говорила не смеяться над чужой бедой!» Так и у нее, почти все дети — позвоночные, принятые по звонку сверху, дочь начальника торговой инспекции, сын председателя горсовета, дочь известного протезиста, еще сын шашлычника в парке Горького, сын генерала, начальника школы милиции, сын закройщика из ателье «Жанар» и еще двое детей работников комбината спецобслуживания, где делают гробы и надгробия.
Было время, когда графа о социальном происхождении казалась Елене Гавриловне отжившей, ненужной, ибо она ничего не отражала при нашем всеобщем социальном равенстве. Но в последние годы графа эта приобрела смысл, только заполнять ее надо конкретно, не писать «из рабочих», «из служащих», а писать — сын шашлычника или дочь продавца гастронома, или внук облпрокурора — чтобы сразу было ясно, в какой атмосфере воспитывается ребенок и на что он сориентирован.
Ксюша пришла с нитками в обоих ушах. Выглядела она неопрятно, на что сразу обратил внимание Булат Ходжаев, сын генерала. Но Ксюша не смутилась, поскольку в ее поступке была не оплошность, а наоборот, предусмотрительность. Она рассказала, как пришла в поликлинику, сначала туда позвонила мама, естественно. Ксюшу сразу провели к хирургу, медсестра взяла ампулу толщиной в два пальца — и побрызгала ей на мочку ушка, сначала на левую, потом на правую. Ушки онемели. Дядя-хирург взял в руки иголку, — не подумайте, что обыкновенную прямую, нет, игла кривая, полукольцом, — проколол Ксюше одну мочку, протянул нитку, обрезал, проколол вторую, обрезал с обеих сторон и сказал, что дней через семь-восемь Ксюша может вдеть золотые сережки.
Булат по кличке Эврика пояснил, что ампула — с хлорэтилом, применяют его не только при серьгах, но и при некоторых национальных обычаях — например, при обрезании, тоже обезболивают. Жора, сын шашлычника, переспросил — неужели при обрезании замораживают? С участием девочек выяснили, что обряд делается как раз в двенадцать лет 'и кое-кому такая процедура грозит. Жора не мог успокоиться, он обратился к Булату — бывают ли случаи, когда хлорэтил не действует или наоборот, слишком долго не проходит? Деталей Булат не знал, но сын таксиста уверенно сказал, что у Жоры заморозка может не отойти, он слишком много занимается онанизмом, после чего вспыхнула потасовка.
В следующий раз, пояснила Ксюша, у нее спокойненько вынимают из ушей нитки, там образуется дырка, но чтобы она не заросла, надо вдеть сережки, причем не простые, а золотые. Девочки стали выяснять, сколько серьги стоят, дороже они джинсов или дешевле. Вмешался Булат — разве можно сравнивать предмет первой необходимости и предмет роскоши? Одним словом, класс был взбудоражен, но не так уж чтобы слишком. Елена Гавриловна была озадачена, ей, как учителю советской школы, вполне определенно известно, что в пятом классе золотых сережек позволять нельзя. Школа во все времена держалась на трех китах: внешний вид, успеваемость, поведение. Можно ли мещанский атрибут совместить с пионерским галстуком? Нельзя. Раньше это было бесспорно, а теперь на любом уровне, в гороно и выше, найдутся спорщики и скажут: не делайте бурю в стакане воды, тем более, если их попросит Зябрева. Лучший вариант — закрыть глаза.
Но сделать это Елене Гавриловне не позволяют все ее тридцать лет учительства. Если уж закрыть, то больше не открывать, проще говоря, умереть на посту. У нее есть мера воздействия — поговорить с Ксюшей с глазу на глаз, это не так трудно. Или же сразу с ее мамой, что уже потруднее. Она член родительского комитета, в глазах директора ее авторитет непререкаем. С ее помощью мы добиваемся и ремонта школы, и дополнительно учебников, и улучшения буфета, и даже увеличения ставок. Перечить Зябревой неосмотрительно, да и кто будет перечить, вечная труженица Елена Гавриловна, которой через год на заслуженный отдых?
Если все же попытаться закрыть глаза, то как быть с теми мальчиками и некоторыми девочками, которые тоже считают, что пионерский галстук и золотые сережки не совместимы? Можно ли их оставить в одиночестве? Взять хотя бы отличницу Таню Бондареву, в английскую школу она попала не как все, она победила на олимпиаде по языкам в Алма-Ате и ее приняли, хотя отец у нее шахтер всего-навсего. Зато директриса теперь получила право говорить, что в нашей спецшколе с английским уклоном учатся дети шахтеров. Девочка эта, Таня Бондарева, оказалась принципиальной, с первого дня она выступила против золотых сережек, и к ней примкнули еще несколько девочек и несколько мальчиков, доводы у них скудные, однообразные — мещанство и все. Большинство класса было за Ксюшу, за сережки, и вообще за более широкие права — долой школьную форму, в Штатах приходят на урок, в чем хотят, в Англии то же самое, все в кроссовках и в джинсах, у всех часы и браслеты.
Елена Гавриловна решила, пока, на этапе ниточек в ушах, так сказать, на шелковом, мер особых не принимать и дождаться следующего этапа, более важного — золотого — но поговорить надо.
— Почему, Ксюша, у тебя такой неопрятный вид, как ты будешь мыть уши?
Ксюша, белокурая, пушистенькая, румяная девочка, охотно пояснила, что она проколола уши по настоянию мамы. У Ксюши часто ангина, одна мамина знакомая сказала, что на ушах, оказывается, есть биологические точки, отвечающие за ангину. Теперь Ксюше не надо вырезать гланды. Елена Гавриловна сказала, что, если у человека ангина, то надо идти к врачу-отоларингологу, а не уповать на каких-то маминых знакомых.
К директрисе она не пошла, нет смысла, директриса повернет дело так, будто уши Зябревой проколола сама Елена Гавриловна. Посоветоваться больше не с кем, она рассказала мужу, а он: «Тебе больше всех надо?» Муж ее работал у Цыбульского в РСУ бухгалтером и привел ей пример. Вот он знает, какая там вотчина, он пытался разоблачить, а ему не дали. Единственно, чего он добился, — строгого ведения документации, если вдуматься, добился тщательного прикрытия хищений. Вообще-то у Цыбульского нет хищений в прямом смысле, как у других, он получает за махинации с переадресовкой материалов и рабочей силы, снимает с одного стройобъекта и направляет на другой. Он дирижер сложного оркестра, в котором любой инструмент играет в полную силу и без простоев. В итоге выходит так, что Цыбульский добра людям делает больше, чем ему планируют. Никто иной, как Цыбульский, помог Елене Гавриловне перейти на работу в школу с английским уклоном, здесь по звонкам не только ученики, но и учителя, нет хаоса, порядок снизу доверху. Допустим, ее муж действительно честен в пределах бухгалтерского учета, он может не вникать в махинации руководства, у него есть моральное оправдание. Но какое оправдание может быть у Елены Гавриловны, если серьгами Ксюши начал жить весь ее пятый класс «Б»? Она не может предавать Таню Бондареву, отличницу, которую в классе, кстати говоря, не любят, во-первых, за идейность, во-вторых, за тряпки — на ней ничего импортного, все наше. Таня, однако, не сдается и объясняет причину неприязни к ней стихами Олжаса Сулейменова о нравах степи: «Невысоких — растила, высоким — из зависти мстила».
Будем ждать следующего этапа, решила Елена Гавриловна, и ждать пришлось не так долго — через неделю Ксюша пришла в школу в золотых сережках, и все закричали ура, и мальчишки, и девочки, одна только Таня Бондарева с презрением оглядела ее с головы до ног и отвернулась.
В классе было восемнадцать девочек, и вечером того дня в восемнадцати семьях создалась в той или иной степени накаленная обстановка, а в иной даже стоял рев — дети качали права перед родителями. Звучали два слова — хочу сережки, иногда три — хочу золотые сережки. Или мои родители такие бедные, что не могут купить какие-то паршивенькие золотые сережки?! Отношение родителей к этим взвизгам было разным, одна треть говорила: где я тебе их возьму, если до зарплаты всякий раз занимаю? Вторая треть говорила: давай хоть сейчас вденем, только школа не разрешит, все равно снимешь. И последняя треть заявляла воинственно: завтра пойдем, проколем уши, не волнуйся, детка, купим серьги не за сто пятнадцать как у твоей подружки, а за двести восемьдесят с алмазной гранью, и пусть только попробуют не разрешить! Что еще обнаружилось — девчонки лучше родителей знали, сколько сережки стоят, в каком магазине лучше выбор. Если Ольга Корбут Первая сделала сальто на бревне и получила золотую медаль, то Ксюша Зябрева первой пошла в пятый класс в золотых сережках и, что бы ни говорили потом в английской школе, но Ксюша повысила эстетический уровень пятиклассниц ровно вдвое. В десятом уже все девочки ходили в серьгах, почему же не носить их в пятом, если рано или поздно всех нас ждет одинаковая участь? Кто-то даже высказал афоризм — женщина любит ушами, на что Булат Ходжаев разразился речью — ушами она любит ловить восхваления, золото ни при чем. Пионер — всем пример, это слово происходит от французского «пиониере», что значит начинатель. Ксения у нас пионерка мелкобуржуазного перерождения.
— Зато твой отец ни за что всех в тюрьму сажает! — ответила Ксюша. Она знала, от какой она мамы, за ней не заржавеет.
Елена Гавриловна, придя в класс, сразу поняла, что шелковый этап сменился золотым, и решила нарушить поурочный план, ни слова не сказала Ксюше и стала рассказывать о Пушкине, и, наверно, это был ее лучший урок в английской школе. Грустно и отрешенно она говорила о том, как в лицее, привилегированном заведении в Царском Селе, учились одни дворяне, но они не отрывались от народа. Граф Горчаков, барон Корф, князья, придворные, чрезвычайно знатные, исключительно богатые, в высшем свете они появлялись в золоте и бриллиантах, но никогда и никто из них не переступал порог лицея в роскоши. Они свято блюли заповеди своего заведения, своей, можно сказать, школы. Ходили одетыми просто, были одинаковы в своей скромности, и среди них был великий поэт, наша слава и наша гордость, Александр Сергеевич Пушкин…
— Вы только послушайте, дети, какие строки он написал в свои восемнадцать лет: «Его стихов пленительная сладость пройдет веков завистливую даль, и, внемля им, вздохнет о славе младость, утешится безмолвная печаль и резвая задумается радость». Прислушайтесь, вдумайтесь — «вздохнет о славе младость», скажите себе, о какой славе сейчас вздыхает каждый из вас?
Она взволновала всех, она сделала, как учительница литературы, великое дело. Но удовлетворения не было. Потому что литература — одно, а жизнь — другое, и для детей и для взрослых, особенно почему-то сейчас. Раньше мы жили ближе к книге, то есть к идеалам…
В конце урока она задала вопрос, что с нами будет, если все мы начнем наряжаться, украшаться, разъезжать на собственных машинах, и все силы этому посвятим — что будет? Она надеется, что весь класс понял сегодня урок правильно, Ксения Зябрева тоже поняла. Придя домой, она снимет сережки, вложит их аккуратно в коробочку, и пусть они подождут до десятого класса. Детям носить взрослые украшения не совсем прилично. Если же она не согласна, то завтра пусть придет с мамой.
— Елена Гавриловна, если она эти сережки снимет, то у нее зарастут уши, — вступилась за Ксюшу дочь продавщицы из гастронома «Рахат».
Жора, сын шашлычника, расхохотался:
— Го-го-го-го, зарастут уши! Чем зарастут?!
— Паутиной мещанства! — звонко сказала Таня Бондарева.
— А ты заткнись, а то мы тебя опарафиним, — пообещала Надя, дочь парикмахерши из «Чародейки».
Они дружно отстаивали свои интересы.
Одно было хорошо, Елена Гавриловна вдохновенно, как в дни молодости, провела урок о Пушкине, она верила — все равно скажется впоследствии.
В учительской она поделилась своей озабоченностью — так и так, девочка в пятом классе явилась… Может, оттого, что она сказала это спокойно, не выдав своего отношения, никто в учительской не ахнул, не охнул и ни с кем не случилось истерики. Мало того, сначала одна, потом другая из молодых учительниц сказали, что ничего тут такого особенного, сейчас повсюду все больше свободы, а наша школа в сплошных запретах.
— Я бы сама с удовольствием приходила на уроки в джинсах, — сказала англичанка, — но разве с нашей директрисой поспоришь, она тут же приказ вывесит.
— А детям вы разрешили бы снять форму?
— Разумеется.
Ее поддержала учительница по эстетике — ничего страшного, главное, чтобы мера была, все делать со вкусом.
— И вы считаете, можно с пионерским галстуком носить золотые сережки, атрибут мещанства?
— Конечно. Только не надо ярлыков, а то чуть что, сразу «мещанство».
И все-таки Елена Гавриловна надеялась, что Ксеня Зябрева послушается и снимет серьги. И сама Альбина Викторовна, ее мама, должна проявить благоразумие.
На другой день, войдя в класс. Елена Гавриловна, даже не глядя на Ксюшу, поняла, что к лучшему — никаких перемен. Мало того, еще три девочки пришли сегодня с проколотыми ушами. И у всех глаза — идущих на подвиг.
Ксения подняла руку — в чем дело? Она встала, поправила передничек и сказала:
— Мама велела передать, чтобы вы ей позвонили. Елена Гавриловна молчала довольно долго.
— Хорошо, я ей позвоню. А сейчас ты собери свой ранец и отправляйся домой.
В ответ возмущенные голоса:
— Не уходи, Ксюша, мы требуем директора!
Почти всем классом пошли к директору, у Елены Гавриловны сильно разболелась голова. Как ей теперь работать? Она должна настаивать на принципах, которым посвятила жизнь. Вся ее педагогика перечеркивается какими-то сережками за сто пятнадцать рублей.
Чего стоит ее работа? Чему она научила за тридцать лет, если взрослые, которые строят такое общество, — это ученики ее и ученики других тысяч учителей? Где же плоды, ведь учили мы вас разумному, доброму, вечному. Ни один учитель — Елена Гавриловна убеждена! — не провел ни одного урока с ориентацией на стяжательство, на алчность, на воровство и пьянство, — так в чем же дело?..
Она не- знала, что завтра еще семь девочек придут в школу с проколотыми ушами, а Тане Бондаревой в эту ночь дважды вызовут бригаду из психбольницы. А послезавтра ей в двенадцать ночи по ошибке вызовут еще и пожарную, поднимут на весь квартал тарарам.
На перемене девочки собрались в круг и обсуждали, как дальше быть с нашей классной. Говорили громко, что она не имеет такого права, что она отстала от жизни, и когда это гороно уберет от нас старую перешницу, у нее шея, как у черепахи Тортилы.
Глава четырнадцатая К нам едет ревизор
Утром ни свет ни заря позвонил охранник, разбудил Шибаева до будильника — опечатали комбинат. Спросонья такие известия убийственны.
— Кто приезжал?
— Обахаэс, трое.
— Откуда?
— Как «откуда», из Каратаса.
— Ты кого-нибудь знаешь?
— Кореец с ними был из нашей, Октябрьской милиции.
Почему Цой не позвонил Шибаеву? Или все так серьезно, что своя шкура дороже? Шибаев знает, как это делается, раньше его цех опечатывали, но именно Цой успевал предупредить. А что сегодня могло случиться? Нигде проколов не ожидалось, Шевчик на месте, в Целиноград ушла машина с лисой, но там все чисто. Конечно, узкое место у нас в торговле, две шалавы, Тлявлясова и Вишневецкая, могли влипнуть с двойными накладными.
Шибаев позвонил шоферу, поднял с постели — ко мне срочно. Позвонил Цою — на дежурстве. Позвонил Голубю. Обычно подходил он сам, но сейчас подошла жена.
— А-лё-у?
— Ваш муж проснулся?
— А кто его спрашивает?
— Передайте, что комбинат опечатали.
Шибаев положил трубку. Зачем тебе, Гриша, прятаться? Если это твоя пакость, все равно узнаю. А если и для тебя неожиданность, ты сам разыщешь Шибаева, где угодно.
У Махнарылова телефона не было. У Вишневецкой тоже. Шевчик не в курсе, только приехал. Как быть с начальством? В любом случае изложить надо и озадачить. Позвонил Прыгунову домой — он уже на работе. Что-то слишком рано. Позвонил туда — ага, срочно к нему в управление. Значит, что-то проявится.
Что проявилось? Ночью поднял Прыгунова начальник ОБХСС области подполковник Сабитов — получена шифротелеграмма из управления внутренних дел Целинограда. Задержана машина Каратасского комбината с мехом на восемьдесят тысяч, есть подозрение, что это левый товар, накладные оказались не по всей форме, без двух подписей — директора комбината и главного бухгалтера, а кроме того при пересчете обнаружилась нехватка лис в количестве тринадцати штук.
— Но я же сам подписывал! — заорал Шибаев.
Подробностей Прыгунов не знает. Сабитов распорядился срочно опечатать цеха и склады, произвести снятие остатков материальных ценностей и полную документальную ревизию финансово-хозяйственной деятельности комбината. Создана комиссия из ревизора, финансового инспектора и следователя городского ОБХСС. Шифротелеграмма из Целинограда очень серьезная, надо быть готовым к самым крупным неприятностям.
— Я-то всегда готов, — сказал Шибаев, — а как вы? Почему не позвонили?
Прыгунов получает оклад не за белый воротничок и не ja жену которая младше его детей и сама водит «Волгу», он обязан действовать. Если задымит зад у Шибаева, то не меньше гореть будет сам Прыгунов, у него ни охраны своей, ни прикрытия, одни бумажки.
Связываться с Башлыком, или еще не тот накал? Можно пойти в горсовет к Барнаулову, милиция ему подчиняется. Нет уже поздно, надо ждать развития событий. Все-таки Башлыка он побеспокоит но прежде надо узнать подробности.
Возле проходной он застал базар, играли в третий лишний, было прохладно. Днем закапает с крыш, апрель — под носом капель. Дирек тора встретили бодрым веселым гомоном — кто-то над нами шутит, а мы не поддаемся. Он постоял, посмотрел и распорядился — всем идти по домам, в табеле проставим выход, оплата по закону, пятьдесят процентов тарифной ставки.
В приемной у него сидели главные специалисты и актив Махнарылов, Вишневецкая, Шевчик, два завскладами, шофер, который ездил в Целиноград, и Роза Ибраева, молодая товароведка, в первый раз сопровождала товар и сразу попала в переплет
А где Горобец?
— Позвонили из больницы, — объяснила Соня, — ночью Якова Ивановича доставили на скорой помощи с острым приступом печени.
Вот так-то. Вместо того, чтобы убедить Шибера в непричастности Гриши Голубя, ему сразу же преподносят прямую и наглую причастность, так они действовали и будут действовать. Хотелось бы Шибаеву найти другого виновника и вздохнуть с облегчением — почему? Убедился бы, нет у Голубя той власти, которой он хвастает, пугает, шантажирует. Можно было бы поехать к Грише, разыскать его, но сейчас у Шибаева такой настрой, что поедет он не один, а с двустволкой «Зауэр», чтобы из обоих стволов врезать, и рука бы не дрогнула.
Прошли в кабинет, вопрос один — как все произошло?
Выехали в десять утра, погода нормальная, дорога хорошая, путевой лист с круглой печатью, как положено, когда едешь за пределы области. Возле Найденовки пост ГАИ. Машины шли одна за другой без остановки, но видно было, что автоинспекция кого-то высматривает. Стоял милицейский газик и «Волга» синяя с каратасским номером, оборудованная рацией с двумя антеннами. Остановили. Что везете, куда везете? Путевой лист в порядке, где накладные? Офицер только глянул и сразу махнул рукой — задержать. Поехали в милицию, шофер остался сидеть, а Розу, экспедитора, повели в здание. Документы на отпуск продукции оказались не в порядке, не все подписи и нет печати. Роза написала объяснительную, начальник милиции сказал, что шкурки считать они не будут, езжайте в Целиноград, сдайте пушнину, на обратном пути завезете сюда справку о количестве товара. Забрали водительские права. В Целинограде они нашли фирму индпошива, въехали во двор, там завскладом вместе с бухгалтером считали, считали — не хватает тринадцать воротников. Выдали справку, шофер сдал ее дежурному в Найденовке, получил свои права, приехали в Каратас ночью, а утром узнали, что все склады и цеха опечатаны.
По мере его рассказа Шибаев дергано посмеивался, громко и не к месту — как ненормальный.
— Когда грузили?
— С вечера.
— Кто грузил?
— Да этот, новенький, армянин или еврей, Яков Иванович. Я помогал, Василий Иванович тоже был.
— Ха-ха! Ладно, все свободны. Идите водку пить.
Он позвонил Башлыку прямо в кабинет — прошу принять по срочному делу сегодня. Тот помедлил секунду-две, сказал густым баритоном: «В тринадцать десять».
Позвонил Ирме на работу — сейчас подъедет Коля и отвезет тебя домой, надо посоветоваться. Она не стала расспрашивать, поняла сразу, дело серьезное — по тону его, ему крайне нужно успокоиться, иначе он наломает дров.
Ревизия не первая, не последняя, как-нибудь проведем — вокруг пальца. А вот шифротелеграмма — это вещь, сказал бы Мельник. Случай попал на контроль сразу в двух областях.
По Горобцу завтра же собрать профком немедленно уволить за прогул, привесить ему несоответствие должности и халатность. Не желает по собственному, уйдет по статье.
Наглость и власть Голубя угнетала. Шибер только грозит то погоны с него снять, то морду ему набить, а он не грозит, он исполняет все, что задумает. Командует Каратасом.
Он уже собрался ехать к Ирме, но позвонил Прыгунов, веселый, поддатый:
— Зябрева меня просила обеспечить явку Шибаева на пятнадцать ноль-ноль в Госторгинспекцию, все понял, Роман Захарович? Приказным тоном. Я бы ей обеспечил, была бы она лет на двадцать моложе, ты как считаешь?
Пакости идут чередой, это уже закон. В условиях напряженки Шибаев особенно ошущал бестолковость, ненужность всех этих должностных руководящих. Никому от них пользы, понатыкано только для того, чтобы брать на лапу, плодить бумажки. Какая польза ему от Прыгунова сегодня? А вчера? А завтра? Разве без него Шибаев не может решить нужные дела? Может, но обязательно нужна подпись Прыгунова, и за росчерк пера плати ему оклад, за то, чтобы не мешал всего лишь, и сколько таких начальников было, есть и еще долго' будет!..
У Зябревой наверняка претензий по остатку норки, такой товар только в мусор, сказать по совести. Но берут и три рубля шкурка, и девяносто копеек шкурка, и пятьдесят копеек. А продавцам нужен план, они наши реализаторы.
Давно замечено, если уж прокол и начинается канитель, то она не заканчивается одним паскудным событием, идут волной. К Ирме он приехал к двенадцати, шел по ступенькам с ключом в руке, подошел к двери, увидел второй замок, и сразу охватила ярость, хотел пинками вышибить. Она врезала новый замок вчера, не успела передать ему ключ — вот так выстраиваются гадость за гадостью в череду без просвета. Он стоял и ждал. Из квартиры напротив вышла бабка с мусорным ведром, прошлепала мимо, озираясь, вернулась, а он стоит. Она прошла в свою квартиру, переступила порог и там, уже в безопасности, грубо спросила:
— Вам кого?
— Не тебя, не тебя! — ответил он раздраженно.
Однако не будем срывать зло на верной подруге, Ирма запыхалась, поднимаясь по лестнице, и он встретил ее молча и даже изобразил приветливость. Она тут же на площадке поцеловала его коротко, старушенция из квартиры напротив следила, глазок фосфоресцировал зеленым. Ирма легко коснулась рукой, коснулась губами, сделала как бы заземление лишних токов, и на все заботы ему теперь геройски наплевать. Как только переедут они в Москву, он пойдет к врачу, восстановит свою инвалидность и уйдет на пенсию по болезни. Пусть ходят под Гришей Голубем другие деловары. Плюнуть ко всем чертям на все, в том числе и на программу в семь знаков, — вот до какого предела довела его обстановочка.
Но только на миг.
Ирма, четко щелкая поворотами ключа — новый механизм, дорогой и надежный, — открыла дверь, показалась вторая дверь, тоже обитая вишневым импортным пластиком, лучше кожи. Когда он заказал ей вторую дверь, она заметила: «Надеюсь, не для того, чтобы заглушать мои вопли?»
Переступив порог, он придирчиво огляделся — не купила ли она что-нибудь новое без него? Ему хотелось, чтобы вся роскошь в квартире была только от его хозяйской заботы. На комбинате ему тоже хотелось все сделать по-своему, хозяином быть полным.
Умная все-таки баба Ирма, не только симпатичная, аппетитная. Алексей Иванович говорит, мудрость — это умение найти самый короткий путь к результату. Ирма такая, умеет найти. Бабы-одиночки — дуры. Пока не поймут, что к мужчине надо относиться, как к ребенку, обхаживать его, ублажать словом и делом, пока этого не поймут, замуж не выйдут. А выйдут, все равно разойдутся, семьи не создадут. Не потому, что мужик нежен и слаб — такая природа его. Заласкай его, как ребенка, и он сделается действительно мужем. Ирма знает, пока Рока ее не успокоится, ничего толком не скажет. Она помогла ему снять пальто и даже присела на корточки, расстегнуть молнию на его ботинках. Вот она, опасная минута, от ее заботы опасная, когда хочется бросить все к чертовой матери, уехать с ней на край света. Но сначала нам нужны деньги, а потом уже край света.
— Что случилось, Рока?
Он дрожащим от обиды голосом еле выговорил:
— Я их поубиваю, гадов!
— Сейчас, минутку, я поставлю чай. — И еще что-то говорила ему громко издалека, из кухни обыденные слова, не связанные с комбинатом. Пусть ему покажутся пустяком, все эти преследования, доносы, ревизии. Она застелила маленький столик салфеткой, поставила чашки, печенье в вазочке, налила ему чай, сервиз ему специально поставила.
— Я не хочу им платить, а они меня заставляют. Обдирают, как жалкого хмыря!
— Спокойнее, Рока, ты же такой мужчина! Они твоей подметки не стоят.
— Пошли меха в Целиноград, они дунули в ОБХСС, машину задержали, а там нехватки лисы, кто устроил? Они подсунули мне провокатора Горобца, и он вкрутил, баки Махнарылову и шоферу, недогрузил тринадцать воротников. Из Целинограда дали телеграмму, опечатали комбинат, вот я и кручусь. Они заставляют меня уйти с работы, отдать им должность, за которую содрали уже пятьдесят тысяч. А я не хочу слабину давать.
Она смотрела на него отсутствующим взглядом, до нее не доходит сказанное, или она не согласна, и он сердито спросил:
— Ты меня слышишь?
— Слышу, Рока, но по правде сказать, не понимаю. Ты что, работаешь один, кустарь-одиночка?
— Почему ты так решила?
— Ты мне излагаешь ситуацию, как будто твои компаньоны с луны свалились вчера вечером, а до этого ты не был связан с ними никак. Ведь был же? Так в чем теперь дело? Ты стал директором и решил, кого хочу выбрасываю, кого хочу ставлю. Но ведь у них давно отлаженная система.
Он уже слышал об этом — систему надо усложнять, а не упрощать. Неужели он один такой баран непонимающий? Разве платить кому попало означает усложнять?
— Рока, если ты идешь на разрыв, то обязан подключить их к другому источнику.
— Но у них же шайка, банда, мафия!
— Рока, что за слова? Разве ты не с ними? И что ты будешь делать без них?
— Все прощать? — закричал он. — До каких пор?!
— Сделай вид, будто ты не видишь их козней. Ты еще раз убедился, что нужно платить.
— Да-а, убедили, — сказал он после молчания.
— Они могут убрать тебя как не соответствующего должности.
— Ты как будто заодно с ними.
— Я вынуждена говорить об их интересах, потому что ты не прав. Ради нашего благополучия ты обязан платить, иначе развалится ваша фирма. И не пытайся их обмануть, все равно узнают. Тебе надо сыграть простака, будто ты ничего не заподозрил, прокол вышел с накладными и теперь пришла пора Голубю принять меры по охране. Иди к нему — Гриша, маленькое огорчение, ревизия. Сколько тебе нужно, чтобы ты уплатил ребятам?
Она права — сделать вид. Они и делают ему вид — Шибер мужик прямой, крепкий, его все таким знали, но в схватке с ними, с Гришей в частности, то и дело вылезал из него другой, горбатенький, плюгавенький, жадненький — плюнуть и растереть. Гриша с Мишей без особых усилий выставляют Шибера жлобом, а сами выглядят щедрыми натурами, культурными, образованными, с пониманием, с уважением. Походя делают из него мелкого такого мерзавчика.
— Рока, ты сильная личность, позвони ему и скажи, что у тебя по работе неприятности, нужна помощь. Согласен?
Он махнул рукой.
— Согласен. А ты сейчас позвони в больницу, пусть позовут Горобца, и ты скажешь, что ему в пищу подсыпали мышьяк.
— Только и всего?
— Только без хи-хи и ха-ха.
Она взяла справочник, набрала номер и вежливо попросила пригласить к телефону больного по фамилии Горобец.
— Я вас очень прошу, это его сестра говорит.
Ждала с трубкою у щеки и смотрела на Шибаева, подмигивая, совсем девушка, такая молодая, задорная, ей к лицу всякие такие шалости, в детстве она наверняка лупила мальчишек.
— Это Горобец? — Тот подтвердил. Ирма продолжала: — Вам в передачу подложен мышьяк, смертельная доза, учтите
Горобец ответил, что передачи ему не носят, он круглый сирота. К тому же у него диета номер один «А».
— Смертельная доза будет вам подсыпана в диету.
Яша ответил, что ни одно живое существо не станет есть диету один «А», а он тем более.
— Найдем способ, будете уверены. На комбинате всем известно про вашу провокацию с накладными. Готовятся ваши похороны.
Яша попросил гроб за счет профсоюза. На этом разговор закончился. Ирме трудно было удержать смех, она бросила трубку, а Шибаев рассвирепел — ты говорила с ним, как стерва, кокетничала, а надо, чтобы у подонка кровь леденела! Все на свете этот проходимец может свернуть на шутку, и мышьяка сожрет любую дозу и не поморщится. Ирма пообещала позвонить вечером еще раз.
— Ты не можешь мне объяснить почему, когда я был в доле у Мельника, я ничего не выведывал, не контролировал. Дают — бери, бьют — беги, и все было мирно. Почему они так не могут?
— Гришу не устраивает топтание на месте, он проявляет инициативу, требует разворота, это, хочешь знать, культура.
Но почему Голубь не контролировал Мельника? И ухом не повел, не ударил в колокола, когда обнаружилось, что Мельник дурил не только Шибаева, но и своего друга Голубя?
— А сейчас ты спокойно полежи, отдохни рядом со мной.
Она сдернула покрывало с широкой кровати, нажала педаль, матрац, как палуба, поднялся, достала подушки, одеяла, вновь опустила широченное лежбище. Уложила Шибера, поглаживая, прижимаясь к нему… И он забыл все дела, осыпалась, как песок, вся эта муть с машиной, с лисой, с ревизией, — весь мир забыл. Эх, если бы они были первыми, Адамом и Евой, они воспитали бы свое потомство без греха, — если бы только первыми, и никого больше… Ирма знала — теперь можно с ним говорить. Он был скован, а она освободила, блокаду сняла, и он ощутил себя человеком вечным, лежал успокоенный, благостный и свободный от кандалов повседневности, великодушный, все прощающий.
— Полежи спокойно, полежи, — негромко говорила она, поглаживая его лицо, плечи.
Легко сказать, полежи, когда ему надо бежать, в тринадцать десять его ждет Башлык. Он даже ей не может сказать пока, куда идет, может быть, в Москве скажет. И машину он вызывать не будет, пройти два квартала по свежему воздуху ему не повредит.
Они встречались с Башлыком в исключительных случаях в доме с фотоателье, в уютной квартире, хозяева которой уехали не то в Непал, не то в Йемен. Встречи короткие — выслушал, сказал, передал, ушел. Ни выпить, ни закусить, ни покурить — Башлык этого не любит. О том, кто и как опечатывал комбинат, ему знать не надо, мелочи. Кто в составе комиссии? Шибаев назвал, но они пешки, главный закоперщик Голубь.
— Если они взялись, — заметил Башлык, — то своего добьются. Подчинись в интересах дела, для чего тебе с ними бороться? Только увеличивать будете мне число происшествий. Снимешь с него погоны, но что ты с этого будешь иметь сейчас?
Лет двенадцать-тринадцать тому назад Мельник и Голубь были главными воротилами в областной коллегии адвокатов. Они мешали нормально жить всей области, не давали навести порядок, обогащались за счет чужого горя. Почти все уголовные дела с тяжкими преступлениями им удавалось выиграть — то они состав суда подкупят, то свидетелей организуют, как надо, сладу с ними не было никакого. Кое-как удалось их вывести из адвокатуры, погорели на собственной жадности, не вносили процент с гонорара.
— Не доводи до крайности, — посоветовал Башлык. — Попроси Голубя вывести тебя напрямую с Лупатиным.
— Я просил, он не хочет.
— Голубь может занять пост начальника кафедры. Ты ему скажи, что пойдешь к генералу и кое-что приоткроешь. Поставь Голубю условие: или он тебя выводит на Лупатина, или ты его выводишь на чистую воду. Второй вариант — смирись. Третий — уходи, иначе вам обоим крышка.
За те десять лет, пока Шибаев знает Башлыка, он не постарел, не похудел, не поседел, а как бы наоборот — помолодел, стал ухоженнее, одевается лучше, держится вальяжнее. Шибаеву приходится прибавлять в уважении, то есть в деньгах. А должность у Башлыка такая, работа такая, что другому бы худеть и вянуть, да трусцой от инфаркта к инфаркту бегать, однако же нет, у Башлыка полный порядок, сумел человек поставить себя. Есть ли у него враги? Есть, и притом лютые, только в тени, не у власти, но не теряют надежд, и как только поднимутся, Башлыку сразу каюк. И потому он сейчас торопится, живет жадно, знает, дураков нет, на его месте любой другой использовал бы свое положение как надо. Это у них там, на гнилом Западе деньги — это власть, а у нас иначе: власть — это деньги.
Шибаев сказал, что Голубь тоже рискует, начнут рыть всерьез, отвечать будем вместе и сядем вместе. Башлык не согласился — ты сядешь, а он будет свидетелем и разоблачителем.
А в общем, у нас мелочи, есть дела покрупнее, в Узбекистане, например, вместо хлопка сдают деньги, получают премии, звания, ордена. А страна без хлопка, без простыней, наволочек, полотенец, вся одежда из синтетики, в аптеке постоянно то ваты нет, то бинтов, то марли.
Закончили разговор на бодрой ноте. У нас мелочи, до нас при любых переменах руки дойдут не скоро. Чем он хорош, Башлык? Уверенностью, размахом, меньше тысячи не приемлет. Шибаев оставил ему конверт на столике — ни спасибо, ни взгляда, ни руки — сочтемся делом.
Из дома с фотоателье он поехал к Зябревой обеспечить свою явку на пятнадцать ноль-ноль. Секретарша сказала, что Альбина Викторовна занята, но он, не слушая, прошел в кабинет, а Зябрева как раз отчитывала очередную жертву — вот работенка! Поставить бы ей тут накопитель, сколько было бы уже собрано драгоценных, преимущественно лицемерных торгашеских слез, не одно корыто. К Зябревой на ковер попадают в двух случаях — либо уж заворовались по уши, либо до того честная, что всем опостылела, и ей соорудили аморалку или неуплату взносов, стандартный набор. Дама средних лет с толстыми плечами рыдала, а Зябрева методично, с напором внушала ей:
— Если все так будем делать, я, ты, он, она, вместе целая страна, разворуем, что с нами будет, на какие средства коммунизм построим? Поплачь-поплачь, на мочевой пузырь легче будет.
Шибаев сел у стены в сторонке, а Зябрева, не обращая внимания на него, песочила, шлифовала, как скульптор, или даже, как ювелир, доводя изделие до полной кондиции.
— Утрись, иди, приведи себя в порядок, сделай должные выводы, а материал на тебя я оставлю у себя на контроле.
Женщина полная, коротконогая, в дорогой кофте, в импортных сапогах со шнуровкой, в теплой юбке, устойчивая, видать, основательная, мать семейства, чья-то жена… Она и сама начальница, и сама умеет снимать стружку ай да ну, но вот попалась и льет крокодиловы слезы — зато инфаркта не будет.
Шибаев сидел спокойно, с легкой усмешкой, готовый отбрить любой наскок, вот что значит побывал у Ирмы. Теперь он знает — непременно прервется цепочка невезухи. Зябрева не будет ему ничего клепать, а может, даже обнаружит свою от него зависимость. Так оно и оказалось — нужна женская шапочка из белой норки, весь Каратас гудит: норка, норка, а у жены нашего с вами общего друга нет шапочки в виде чалмы.
— Поздновато, — сказал Шибаев, — остались по сорок копеек шкурка.
— Вы шутите, Роман Захарович, я понимаю, сама люблю шутки, — она легким касанием поправила халу на голове. — Ну так как?
Откуда для таких людей просто не существует, слова «Нет, нельзя, невозможно» им не понятны. Нет таких крепостей…
— Поздновато, — повторил Шибаев, намереваясь легонько подергать и попрочнее взять ее на крючок. — Может, подождем до следующего сезона? Карелия обещает нам норку голубую, дымчатую — «дыхание весны». На будущую зиму твердо будут. Сейчас вон уже апрель кончается, скоро лето, зачем ей шапочка?
— Роман Захарович, весна, осень, зима, лето, это несерьезно. Такие лица не дискутируют. А у меня еще поручение из Алма-Аты от человека, очень, знаете ли, уважаемого. На каракуль.
— С каракулем дело обстоит легче.
— Ну так как? — снова повторила она, объяснения Шибаева пролетели над ее шиньоном. — Неужели у вас нет заначки? Все, разумеется, по государственной цене, с оплатой меха и шитья. Говорят, ваша жена непревзойденный скорняк?
— А сам Барнаулов не мог бы на меня выйти?
Зябрева укоризненно качнула головой из стороны в сторону — не о-жи-да-ла. Неужели директору мехового комбината не нужна дружба с начальником торговой инспекции?
— Вы еще начинающий руководитель, дорогой Шибаев. «На меня выйти». Знаете, как это делается? Он зовет вашего Прыгунова, — что там за безобразия на меховом комбинате? Почему труженики Каратаса жалуются на плохое качество продукции? До каких пор мы будем терпеть их отставание от передового технического прогресса? Почему плана нет? А если план есть, почему нет перевыполнения ни на один процент? А если перевыполнение есть, почему не выступили до сих пор ни с одним почином?
— У нас есть все, и план, и почин.
— Почему на воскресники не стопроцентный выход? Где спортивные достижения? Где наглядная агитация!? Где борьба с травматизмом? Понавешают вам таких собак на первом же совещании, на любом, хоть по геморрою, извините, конечно. Вставят вам такое перо, что вы будете летать к нему каждый день. Вот так он и «выйдет на вас».
Он не стал с ней спорить, доказывать, что уже выходил на Барнаулова, например, по поводу квартиры для Ирмы, и они хорошо поладили. И с хорьковым подкладом выходил, но смешно же, надо быть полностью идиотом, чтобы все это выкладывать.
— Подумайте, Роман Захарович, только не для вида, а для дела. Я людей знаю, будьте уверены, — и она подняла ладонь к виску, словно салютуя Шибаеву, отдавая честь. — Ставить меня в неловкое положение не советую.
Зазвонил телефон. Альбина Викторовна взяла трубку, но прежде сдвинула брови, готовая ко всему, либо кому-нибудь выдать, либо получить нагоняй.
— А-ах, это вы-ы изволили мне позвонить, Елена, как вас там, Гавриловна? Здрасьте-здрасьте. Слушаю вас. — Но слушала совсем недолго, и перебила нетерпеливо, будто ей на любимую мозоль наступили: — Нет! Я сказ-зала! Хватит, я уже от дочери слышала и про Пушкина, и про князьев-графьев, не надо мне мозги пудрить. Вы мне укажите прямо, в каких это правилах записано, дайте мне документ. Мой единственный ребенок, моя Ксения имеет право прилично выглядеть… Ну и что сережки, что вам эти сережки, как бревно в глазу! Я же не вставила ей кольцо в ноздрю или еще куда-то! Сережки наше национальное украшение, если хотите. Галстук само собой. Вы дайте мне правило, укажите параграф, где было бы черным по белому — нельзя. Где сказано? Я этого не читала… Нет, она будет носить. Я сказ-зала!
Шибаев весь, как говорится, превратился в слух, ему бы сейчас превратиться еще и в рентген — с кем она говорит? Что ей пытается втолковать эта самая Елена как-ее там? Прямо-таки в руки что-то ему плывет, чтобы покрепче взять Зябреву на крючок… Срочно надо узнать, кто поможет, Цою поручить?
Учительница, видать, была настырной, хотя и бестолковой, могла бы усечь, кому можно перечить, а кому нельзя. Самолюбие Зябревой было задето в высшей степени, она привыкла не спорить, а командовать, а эта, как-ее-там пыталась что-то доказывать. Накал возрастал, видимо, та пригрозила выводами, что Зябреву особенно возмутило.
— Родители есть родители, а школа есть школа. Это ваша святая обязанность воспитывать, как надо, вам за это деньги платят. Вы обязаны нам растить достойную смену! — загремела Зябрева. — У меня свой фронт работ, а у вас свой фронт работ. Если вы дело повернете на такой принцип, то будут задействованы соответствующие инстанции, я вам это гарантирую.
Что за словцо появилось — «задействованы»? Долдонят на всех уровнях, а поискать — ни в одном словаре нету.
Зябрева положила трубку и тут же раскрыла длинную яркую книжку с телефонами.
— Вы еще посидите минутку, Роман Захарович, подумайте пока, подумайте.
— Звоните, звоните. — Чем больше он узнает, тем хуже для вас, Альбина Викторовна.
— Редакция? Мне пожалуйста Рокосовского… Ничего, обойдется, меня бы так называли. — И вдруг звонко, весело, молодо: — Как поживаете, Валерьян Аверьянович? Это Альбина Викторовна Зябрева, начальник государственной торговой инспекции. Я нуждаюсь в вашей помощи… Нет, нет, не по должности, а как советская женщина, мать. Моя дочь учится в пятом классе. К ее внешнему виду придралась классная и намерена поднять против меня Каратас. Подумаешь, девочка проколола уши, сейчас есть теория биоточек, слышали?… — Тон ее заметно снизился, видимо, Косовский ее не понимал. — Почему вы меня не хотите выслушать? Я знаю, что вы не «Мурзилка», но если она хочет поднять против меня общественное мнение. Кто она такая, в конце концов?.. Нет, вы обязаны. Эта пресловутая ставит им в пример князя Горчукова, барона Торфа… Дело не в букве, а в духе, товарищ Рокосовский, и нечего ржать, как сивый мерин! В духе, в политическом душке… Ах вот как, не хотите. — Тон ее опять стал звонким, злорадно многообещающим. — В таком случае, Валерьян Аверьянович, зайдите ко мне в свободное от работы время, у меня тут на вас сигнальчик лежит. Я пока не буду его передавать в отдел пропаганды… О чем сигнал? Как вы дважды, или трижды в подсобке хереэма три дробь четырнадцать… ХРМ — это хозрасчетный магазин, не будем придуриваться, распивали вермут белый, плодово-ягодное и закусывали концэрвой «Завтрак туриста». Если вы подзабыли, я вам напомню. — Она достала папку, полистала и прочитала, придерживая локтем разрозненные листы: — Это было в канун Восьмого марта, — раз, а потом еще в субботу — два, и в День смеха, первого апреля, так что милости прошу. Конечно, понимаю, это вы меня не хотите понять. Какой телефон? — Она записала на бумажке и пообещала ему, как обещают гильотину: — Будьте здоровы! — Положила трубку, мельком глянула на Шибаева — сидит, слушает, терпит. — Еще минуту, Роман Захарович, если я. отложу, потом у меня будет напор не тот. Какой у нас код Алма-Аты? Корреспонденту «Учительской газеты» позвоню, надо своевременно озадачить. — Набрала номер, строго глядя в пространство, и не похоже было, что она заметалась, запаниковала, — нет, она делала обычное свое дело, как вчера, позавчера, и как будет делать завтра, послезавтра и, даст бог, поработает в такой манере до двадцать первого века. Корпункт не отвечал, она положила трубку и посмотрела вопросительно на Шибаева.
— Надо — сделаем, — веско сказал Шибаев. — Вы нам, мы вам, иначе земля не будет вертеться. Мы получили лису серебристо-черную, неплохую, но вкус такой женщины, как вы, она удовлетворить не может. От этого возможны трения. Я вынужден вам напомнить, что наш комбинат относится к министерству местной промышленности, а местная совсем не то, что легкая промышленность. Лучшее сортовое сырье, благородные меха, соболь, песец — все идет именно туда, а нам дают остатки-сладки, жалкие крохи для выполнения плана. Поэтому мы всячески выбиваем себе фонды — правдами и неправдами.
— Больше неправдами, — подсказала Зябрева.
— Не больше, Альбина Викторовна, не больше, а исключительно неправдами, иначе нас закрывать надо.
— Вот так везде. Дают одним, забирают у других, крутят как хотят государственным достоянием. А что прикажете делать нам, инспекции, народному контролю?
— Все для плана. Выпустим мы лису в торговую сеть для плана, а продавцы мне сразу — не хотим слезы лить перед Альбиной Викторовной. Вы сами видели норку по девяносто копеек, кому она нужна? С лисой то же самое, цены будут очень разные, очень. Нельзя мерить наш товар на одну мерку, надо подходить гибко, иначе никто плана не даст.
— Роман Захарович, не люблю, когда меня учат. Они же тащат направо, налево, что прикажете мне, инспектору, подавать по собственному? Меня партия не отпустит.
— Бывает, приворовывают. Для дома, для семьи.
— Да все они жулики. Весь меховой отдел ЦУМа, если взять вашу Тлявлясову. Шапки, воротники сплошь и рядом наценки, пересортица, вы меня не уговаривайте.
— Возьмем всех за воротник и дадим по шапке, — пошутил Шибаев. — Давайте вместе накажем того, кто потерял совесть. Но остальным честным и работящим надо дать простор.
— Мой опыт говорит, что в торговле честных нет, если уж вам признаться. Хоть бы брали да меру знали, культурно. А ваша Тлявлясова на каждом ярлыке исправляет цены, то единицу спереди припишет, то тройку на восьмерку исправит, и смотрит тебе в глаза честнее честной.
— Давайте посадим, — предложил Шибаев, и тут же, пока она не успела согласиться, добавил: — А кого на ее место? В торговле очень плохо с кадрами.
Альбина Викторовна глубоко вздохнула и раз, и два, не от эмоций, а скорее по системе йогов, и спросила:
— Ну так как?
И Шибаев повторил ее движение — ладонь приложил к виску, салют, будет сделано.
Вечером он позвонил Голубю:
— Привет, дорогой Григорий Карлович, са-амый дорогой в советских купюрах, как жизнь, как жена, как дети? Говорят, тебя начальником кафедры назначили? Поздравляю, Гриша, поздравляю.
— Пока не назначили, но есть мнение.
— И даже два, — многозначительно сказал Шибаев, но не веря, что намеком можно посеять панику, прибавил: — Одно за, другое против. Но не в том дело, Гриша. На комбинате ревизия, а твой Горобец не вышел на работу.
— Яша в больнице.
— Ай-яй-яй, скорейшего ему выздоровления. Он нам нужен живым.
— Нам тоже. Между прочим, Яша сегодня перед обедом исчез. Обзвонили весь город и в морге были.
— А может, он уже в тюряге? Чего резину тянуть.
Гриша юмора не принимал — персонал беспокоит, что он сбежал во всем больничном, в пижаме, халате и в шлепанцах. Как они спишут все с подотчета?
— Его похитили, Гриша, ты его плохо положил, слишком на виду. Боюсь, ты потерял лучшего друга. С пятью судимостями.
До Голубя дошло, что Шибер издевается, надо ему отплатить:
— Яша хорошо поработал и вправе отдохнуть.
— Сначала он на тебя поработалу-а теперь на меня. Завтра я иду на прием к генералу Ходжаеву. Мои люди доставят туда же Яшу. Он даст интервью генералу.
Голубя наконец прорвало:
— Почему у тебя все с вывертами?! Что за хамские угрозы?
— У меня на словах, Гриша, а у тебя на деле. Есть необходимость повидаться, когда можно?
— Как всегда! Утром до семи! — нервно ответил Гриша. — Вечером после двадцати двух.
— Давай лучше утром.
— Подъезжай к парку Горького, там у меня зарядка.
Глава пятнадцатая С рабочим визитом
Шибаев спал спокойно из-за сущего пустяка. — Яша Горобец сбежал из больницы, поверил, Шибер сыпанет-таки мышьяка в тарелку, не только они мастера. Отсюда мораль — делай гадости и будешь спать спокойно. Улыбаясь, он услышал, как Зинаида прошла на кухню, мужу на глаза не показываясь. Спят они в разных комнатах, сыновья в одной, жена в другой, сам Шибаев в третьей. К жене под бочок он идет редко, когда надо подмазаться с какой-то просьбой, просто так в этом лучшем из миров ничего не делается. Недели две назад он пришел к ней, можно сказать, с рабочим визитом — войди в положение, сшей шапку из норки для жены генерала, приедет за ней капитан Голубь. Вскоре после того Зинаида стала появляться перед Шибаевым в новом халате, с подкрашенными губами. Сходила в парикмахерскую помолодела и похорошела. Чего-то определенно хочет, кроме постельных дел. Вчера пожаловала опять, ласкалась, как молодая, и он особенно не упирался, да он и прежде не отворачивался, это она, бывало, гнала его — «иди к своей сучке». Пришла, "получила и ушла без всяких просьб. Может быть, через день-два обнаружится, что она крупную сумму потратила и просит прощения. Была в ней загадочность, какой-то ее умысел, без выгоды не ходят в постель даже к собственному мужу.
Выйдя из дома, он почему-то глянул на небо, потянуло к свету, было прохладно, градуса три, четыре. Из конуры, поскуливая, вылез Тарзан и пошел, ломко звякая цепью, обнюхивать ноги хозяина. А он глядел на небо, стоя неподвижно, он не видел неба давно, с августа прошлого года, когда были в последний раз на охоте с Мельником и, разумеется, с Ирмой, а потом все — только земля, пол, асфальт, некогда было поднять голову. На охоте вспоминалось детство, огород, землянка, бурьян у самого окна и мешок с травой для козы. Надо съездить на рыбалку, сыновей взять, он их почти не видит, домой возвращается в девять, в десять. Валерка студент, уже на втором курсе, приходит позже отца, а Славик домосед, учится в девятом классе после осечки с училищем в Астрахани. Видится отец с ними редко, уходит, они еще спят, приходит, они уже спят.
Некогда, некогда, некогда. Крутится он и крутится. Это те, кто не видел белки в колесе, могут подумать, что она для удовольствия карусель себе нашла — адская пытка, и смотреть тошно. Когда Славик еще только пошел в школу, Валерка притащил белку и это самое колесо, вернее сказать, барабан на оси. Белка внутри начинала свой бег и не могла остановиться, старшему это нравилось, а младший смотрел, терпел, потом ночью кричал во сне, с ним было вроде истерики — белочка сдохнет, разве не видите, она устала бежать! Мать запретила Валерке дурную забаву, а отец Славика отругал — почему ты видишь, чего другие не видят? Распустил нюни. Закаляй себя, если ты родился мужчиной.
Небо ясное, голубое, света больше и больше, красное утро, красивое… Именно утром почему-то тянет его вспомнить свое нищее детство. Вспомнить, себя пожалеть и отомстить кому-то, неизвестно кому большими деньгами и безграничной властью…
Подошла машина, вылез Коля, легкой улыбкой приветствуя шефа. Прощай небо, белка сунулась в колесо — Шибаев, пригнув голову, полез на сиденье.
Махнарылов ждал его у калитки своего дома в одном пиджачке, без кепки, стоял и дрожал от холода, а возвращаться нельзя — пути не будет. Нырнул на заднее сиденье со словами: «Коля, включи печку». Подъехали к парку, вылезли, прошли по аллее, увидели неподалеку Гришу, он приветственно вскинул руку, мол, я сейчас, и побежал дальше по своему маршруту. На облупленной голубой скамейке лежала его меховая куртка и голубой берет. Шибаев и Махнарылов сели рядышком, словно на стадионе, и наблюдали, как Гриша в синем трико с белыми лампасами трусил по дорожке вдаль, огибая длинную, пегую, по-весеннему неопрятную клумбу.
— Закинь ногу на ногу, — сказал Шибаев. Вася послушался. — А теперь руки на живот, пальцы сплети и большими крути вот так! — Показал. — Будто нам все это до лампочки.
Посидели, покрутили, а Гриша трусил, не меняя ритма, будто его в кино снимали.
— Тебе не кажется, что он нас оскорбил?
— Я не слышал.
Васю пока не пошлешь матом, никакого другого оскорбления он не примет.
— Мы с тобой приехали, оба начальника, а он бегает, нам цирк показывает.
— Программа такая, — пояснил Вася и как-то даже недовольно посмотрел на шефа — чего, мол, заводишься на пустом месте?
— Ему жить осталось какой-нибудь год, а он бегает.
— Зарядка дает бодрость, Роман Захарович, здоровье.
— Возьмут Гришу за жабры, дадут вышку, скажи, Вася, зачем ему на том свете бодрость, здоровье?
Васю такой прогноз не смутил. Он пояснил шефу, что гимнастика, бокс, борьба всегда нужны. Вполне возможно, при крепких данных попадешь на том свете в обслугу (Васе везде виделась структура колонии общего режима) — кого на сковороду подсадить, кого с метлы снять, из веревки вынуть, там как раз, в основном, физические нагрузки. Не может же быть, чтобы и на том свете только думали и бумажки писали. Там уже думать поздно, надо отвечать за то, что не успел додумать на этом, свете.
— Значит, пусть бегает? Арестовал машину с лисой, опечатал комбинат, назначил ревизию и пусть бегает?
— Пусть бегает, — разрешил Вася.
— А мы должны ему улыбаться и делать вид, что все о'кей, прибыли с рабочим визитом. — Шибаев покачивал ногой, покручивал пальцами довольно показательно. — Ты молодец, Василий Иванович, соображаешь.
— Не понял! — сказал Вася с гонором, он не любит, когда его хвалят в кавычках.
— Так делают все великие люди, главы государств, министры иностранных дел, главари мафий. Хотят один другого утопить в ложке, но ведут культурный разговор, так и мы, Вася, ты прав, иначе никогда не станешь акулой большой воды. Всегда и везде хитри, дури, охмуряй. Честность — это глупость. Откровенность — это просчет.
— Вас понял.
— Самый сильный человек не Наполеон и даже не Иосиф Виссарионович, а вот мы с тобой. Нам в рожу плюют, а мы за это — десять тысяч. Нам полагалось бы сейчас отметелить Гришу так, чтобы его ни один родственник не опознал. А мы сейчас будем с ним по ручке здороваться и на лапу совать. Тот, кто покоряет себя, Вася, сильнее тех, кто покоряет народы.
— Вас понял, — повторил Вася меланхолично.
Наконец Гриша Голубь подбежал к своим визитерам. Вася охотно поднялся, чтобы поздороваться, но вынужден был сесть, поскольку Гриша остановил свой бег шагах в двадцати от скамейки и начал дыхательную гимнастику, руки вверх — вдо-ох, руки вниз — вы-ы-дох.
— Физкульт-привет! — сказал Шибаев, покачивая ногой через колено.
— С чем пожаловали? — бодро спросил Гриша.
— Известно с чем, на лапу сунуть. — Шибаев вынул из кармана сверток в газете, опоясанный синей изоляционной лентой, и подал Васе. Тот встал и подошел к Грише, но Гриша начал крутить руками в плечевом суставе, изображая ветряную мельницу. Вася стоял и ждал, он не отступится, до вечера будет ждать. Гриша кивнул на скамейку, на свою меховую куртку, дескать, положи туда. Вася повернулся было, но Шибаев остановил его:
— Нет, передай в руки товарищу капитану. Вернее сказать, штурману нашего корабля. Он четко провел рейс Каратас — Целиноград.
Гриша приостановил мельницу, взял газетный кирпичик и небрежно, будто там не десять тысяч, а десять копеек, швырнул его на свою куртку, но не совсем удачно, сверток пополз по скользкому нейлону и упал на землю.
— Сидеть! — приказал Шибаев Васе, как дрессировщик тигру. И угадал, Вася действительно хотел сняться с места и поднять, как никак там «Жигули» с «Запорожцем». Голубь продолжал изображать мельницу.
— Гриша, не хватит ли динаму крутить? — сказал Шибаев. — Сядь рядком да поговорим ладком, а то вон люди смотрят и думают, что два мужика тебя лупить приехали.
— Да не за что! — бодро сказал Гриша и начал работать ступнями, шагая на месте, как арлекино.
— Чарли Чаплин! Он нам закрыл комбинат и считает, что так и было.
Вася только вздыхал — передерутся опять вместо перемирия. Наконец Гриша сделал три глубоких вдоха и три глубоких выдоха, низко склоняя при этом голову, после чего сел на свою куртку, даже не глянув на газетный сверток, он так и лежал на земле, никому не нужный, поговорят люди и уйдут, а эта малозаметная штука, похожая на выпавшую из кармана позавчерашнюю газету, сложенную в восемь раз, так и останется.
— Куда вы Яшу Горобца девали?
Какой шанс упущен — умыкнуть Горобца, посадить его в склад химикатов под присмотром бойца вневедомственной охраны и командовать Голубем. На будущее надо учесть.
— Мы его не выпустим, пока ты не выполнишь нашу просьбу. Подкрепленную вон теми бумажками. — Шибаев небрежно кивнул на землю. — Нам нужно выйти на Лупатина. Мельник с ним был напрямую. Почему Миша передал мне фирму без гарантии?
— Миша поручил мне ведать охраной и не усложнять дело прямыми связями. Не понимаю, почему ты против меня?
— Тебе осталось жить год, полтора, смотря какой попадется следователь по особо важным делам. А ты все бегаешь. Я разбираюсь, как по-твоему? Могу обойтись без посредников?
347 — Я ценю твой тонкий юмор, но позволь исправить твою безграмотность, притом вопиющую. Ты хочешь сказать, что есть основание привлечь меня по статье сто сорок шестой — получение взятки должностным лицом, занимающим ответственное положение. Но ты ошибаешься, я к твоему производству не имею ник-какого отношения. Если ты пойдешь, так у тебя на первом плане хищения в особо крупных размерах, а если я пойду, то у меня лишь посредничество во взяточничестве.
— Но ты должностное лицо, ты занимаешь ответственное положение, тебе расстрел. С конфискацией.
— Н-нет! — торжествующе, даже кокетливо, пропел Голубь. — Я лицо постороннее. У меня школа, кафедра, воспитательная работа. К твоему комбинату я имею такое же отношение, как к фирме «Мерседес-Бенц». Я старший преподаватель, есть мнение назначить меня начальником кафедры.
Шибаева всегда поражала вот это похвальба и опережение событий. Всю свою жизнь он скрывал, когда его устраивали куда-нибудь на вшивенькую должность, повышали, переводили, до последнего момента никому ни слова, даже своей жене, — двинут телегу, и пролетишь. Но этот же! Еще ничего не решено, все вилами по воде, а он уже направо-налево меня повысят, или — еду с делегацией в капстрану, или — меня представили к Почетной грамоте. Отчего это, от бесстрашия или наоборот, от страха? Скорее всего от крепкой спайки единомышленников. Сидит пока начальником кафедры, уже лет пятнадцать, ветеран войны, боевой товарищ Нурушев, трудно его будет выжить, но — сделаем.
— Ты меня путаешь с кем-то другим, — хладнокровно продолжал Голубь. — Я не знаю структуру вашего производства, не знаю, какие у вас фонды, у меня нет возможности влиять на поставщиков в интересах фирмы, я не знаю, откуда и какое вам поступает сырье, я не знаю места сбыта левой продукции.
— Ты прек-расно все знаешь! И откуда сырье, и какая у нас технология добычи резерва, и кто нам фондирует по договоренности с главком, с министром, с «Казкооппушниной».
— Но при чем здесь школа милиции? Я по должности никак не связан с местной промышленностью.
— Ты без мыла влезешь куда захочешь, ты держишь руку на пульте всех связей! — ярился Шибаев, да и как не яриться — все сядут, а Гриша в стороне и юридически прав.
— Мои связи любительские. — Гриша будто радовался возможности доказать свою непричастность.
— А мы платим только профессионалам! — зарычал, срываясь на хрипоту, Шибаев. — Вася, подбери эти какашки в бумажке и положи за пазуху!
— Кому? — спросил Вася.
— Всегда сначала клади себе, а потом смотри по обстоятельствам.
— Десять тысяч под ногами не валяются, — назидательно сказал Вася, присел со скрипом в коленях и поднял с земли сверток.
— Ты, Гриша, обязан был нас охранять, но ты этого не сделал, комбинат опечатали. Ты провалил фирму и бегаешь, хотя джентльмену в такой ситуации следовало бы удавиться. Нас закрыли, ты безответственный человек, не контролируешь ситуацию. Поэтому я принял решение самому выйти на Лупатина и через него на Дутова, который сейчас непосредственно занят ревизией. Василий Иванович, начальник цеха, ты со мной согласен?
— Почти что. Нам нужен и Лупатин, и Григорий Карлович.
— В таком случае отдай ему пакет. — Шибаев повел пальцем, и Вася живенько сунул сверток Голубю за пазуху. — Сегодня вечером, крайний срок завтра утром, ты мне звонишь и называешь только одну цифру — время нашей встречи с Лупатиным. Будь здоров, бегай дальше. Если не позвонишь, то послезавтра тебе скажут о результатах моей встречи с генералом Ходжаевым.
— А где все-таки Яша Горобец?
— Чего не знаю, того не знаю. — Шибаев развел руками.
Глава шестнадцатая Где лисой, где волком
Лиса пошла и хорошо пошла, та самая серебристо-черная, сортовая, фондовая, которую Вася обеспечил своим полетом в Алма-Ату, в главк. Первые же результаты показали, что с каждой шкурки можно будет положить в карман не менее полета рублей. Если хорошо поработать, то из пяти тысяч лис пойдет в резерв более двухсот пятидесяти тысяч рублей.
Все шло в дело, на прибыль, из хвостов составляли горжеты — вот вам еще тридцать тысяч левых. Если грамотный эксперт оценивал лису по нынешним стандартам от пяти до двадцати пяти рублей, то Шибаеву удавалось продать ту же лису по сто двадцать рублей. Но для этого все трудились, все старались — и Шевчик, и Махнарылов, и Вишневецкая, и завскладами, и сам Шибаев. Дневали и ночевали на комбинате, решая две главных задачи: обезличить сырье сразу при поступлении на комбинат; придать сырью именно те признаки, которые нам нужны. На входе все занижали, на выходе завышали. Ставили нужный процент серебристости, нужный цвет (он бывает 1-й, П-й и Ш-й), отмечали дефектность, маркировали, выписывали, паковали, переписывали накладные, глаз не смыкали и все в голове держали. Маловато было своих людей, уставали, а тут еще появился шанс опять выгодно съездить в Грузию. Давид Кладошвили принес Шевчику последние данные — в городе Гори можно взять монеты не по сто семьдесят пять, а по сто пятьдесят, при условии, если Давид поедет туда вместе с Шевчиком. Шибаев думал недолго — езжай, повези лису, там она в два раза дороже, и привези мне монет двести штук.
Шевчик укатил, в конвейере сразу дыра, и Шибаев сказал Васе:
— Давай-ка, привлеки человека, но предварительно проверь.
Вася едва удержался, чтобы не предложить кандидатуру сразу, но солидности ради вытерпел до следующего дня, будто целую ночь думал, искал, перебирал, чтобы утром доложить шефу — есть кадр, правда, женщина. Шибаев расхохотался, спросил фамилию, паспортные данные. Вася на смех обиделся, пояснил, что она серьезная, трое детей, муж, правда, в ЛТП, но тоже хорошо, она может сверхурочно работать.
— Сколько ей лет? — спросил Шибаев. Вася замялся:
— Не так много, но и не так мало, в самый раз.
— А все-таки?
— Ну… двадцать.
— Когда же она успела нарожать троих?
— Чего ты ко мне пристал, Роман Захарович, главное, что она прошла все виды проверки.
— Ну и как?
— Очень даже понравилась, — признался Вася. — Но я не жадный.
— В таком случае пришли ее для собеседования. — Часов в девять вечера Вася прислал. Сони уже в приемной не было, и кого прислал? Опять же Тасю Пехоту, и Шибаев едва узнал ее — румяная такая, резвая деваха, в ушах серьги золотые чуть не с кулак, перстни на каждом пальце, а на комбинат пришла в телогрейке и в подшитых валенках. Кругленькая вся, пухленькая, глаза с поволокой, губы красные, вывернутые, видно, что без мужика жить не может.
— Как же ты успела троих нарожать, сколько тебе лет, двадцать?
— Не-ет, девятнадцать. И не троих, а двоих.
— Не боишься в тюрьму сесть, детей на кого оставишь?
— Боюсь, что вы, что вы!
Уже хорошо, осмотрительней будет.
— А меня боишься?
Красный рот — до ушей, зубы белые:
— Мышь копны не боится.
Вася, видно, предупредил ее, что директор имеет к ней личный интерес.
— Не посчитай за труд, — сказал ей Шибаев, — поверни защелку на двери, вон ту, черненькую. — И посмотрел, как она прошлась к двери, подрагивая крепкими бедрами. С этого момента и началась их тайна, всякая-разная, служебная и личная, добычи и дележа, риска и страха, а когда тайна, значит, все можно. Он много не рассусоливал, и она не жеманилась, добрая девка, горячая, кадр вполне подходящий, Вася прав…
В конце мая Шибаев зарыл в землю еще две банки во дворе и в сарае под дровами, зарывал не один, всякое может случиться, он уже битый — вместе с Зинаидой. Она не выдаст, не продаст по причинам веским — если знает, где спрятано, то уже считает своим. А свое для сыновей она сохранит любой ценой.
Ревизия на комбинате шла через пень-колоду. Капитан Дутов, которому все было поручено, почти не появлялся. Первый ревизор, назначенный сразу по этому шухеру из Целинограда, через три дня заболел, — очень хорошо, болей на здоровье. Нашли специалиста по мехам из числа пенсионеров, ну а что может пенсионер? Сидит, колупается, а ему пыль в глаза. Вася дал Вишневецкой несколько сохранных расписок в том, что он принял, как наличные, меха на сумму пятьдесят тысяч рублей, которые имелись в подотчете Вишневецкой. Скрыл он и накладные, и счета фактуры на отпуск товаров.
Постепенно стало выясняться, что ничего страшного на комбинате не произошло, с телефонограммой из Целинограда переборщили, раздули пустяк. Ну, везли, ну, подумаешь, тринадцать штук, одной связки недовложение, написать объяснительную, и все. Горобца, кстати, разыскали, худой, тощий, штаны на нем еле держатся, видно, что человек болел. Потребовали от него объяснительную, собрали заседание профкома — уволить Горобца за халатность. Собственно говоря, это уже явилось очень важной мерой по наведению порядка на комбинате. Одним словом, все как-то так, само собой спускалось на тормозах.
Тем не менее надо было выходить на Лупатина, чтобы впредь такие переполохи не повторялись, и чтобы он дал команду Дутову. Гриша встречу, оттягивал, то сам был занят, то Лупатин был в отъезде. «Только ты не спеши к генералу, я тебе все устрою». Неделю, две недели вилял, уже и конец мая, Шибаев снова к нему со скандалом, наконец, Гриша сказал, что завтра, в воскресенье, в шестнадцать часов они приедут с Лупатиным к нему домой.
Шибаев пригласил Махнарылова — завтра, в шестнадцать двадцать при параде явишься ко мне домой. Будет Голубь, будет Лупатин. Примешь участие в нашей беседе, как законный деловар. Много на себя не бери, но и унижать себя не давай. Главное, ты должен застать нас всех вместе и доказать, что ты нас всех знаешь, в том числе и Лупатина. От твоей смекалки, Вася, находчивости будет зависеть очень многое, успех нашего предприятия. Одним словом, придется тебе Штирлицем поработать.
— Будет сделано, — обещал Вася, — я хоть кем могу.
Жизнь, как зебра, то полоса невезения, то полоса везения. Договорились насчет Лупатина, а тут и Мельник позвонил, — про историю с машиной он в курсе. Не надо бочку катить ни на Гришу, ни на Мишу за то, что не свели Шибаева с Лупатиным. Мельник сделал это не по злому умыслу, а как раз по доброму. Сейчас чем меньше людей, тем лучше, надо жить и работать по-новому. Что касается ревизии, она всегда подтягивает коллектив. Что касается личной просьбы, Мельник все сделал, Шибаев может хоть завтра приезжать на смотрины объекта.
— Ты мне говорил, надо подождать, когда ребенок закончит школу, я все помню. Заодно в «Союзпушнину» привезешь образцы каракуля — тридцать пять штук. — (Как раз на хорошую шубу).
Шибаев уже хотел послать Соню за билетами на пятницу вечером, но тут позвонил Цой — есть разговор. Как человек предусмотрительный, Шибер велел Соне подождать и правильно сделал. Пришел Цой и сказал, что Дутов по окончании ревизии пошлет представление о результатах не только в управление местной промышленности, но и в обком, в горком, в исполком, делайте выводы.
Ни одна ревизия в Каратасе еще не проходила так, чтобы чего-то не вскрыть. Достижений они никогда не находят, только недостатки и нарушения. Но зачем поднимать пыль в исполкоме, в горкоме, да еще в обком посылать? Дутова надо брать мертвой хваткой, чтобы его представление носило нейтральный характер, чтобы не наклепали на Шибаеву, на Прыгунову.
Поездку придется отложить, Ирму одну он не отпустит, и время тянуть тоже нет смысла, Мельник договорился, Москва ждет. Шибаев снова позвал Соню — не хочется ли ей съездить в Москву в командировку?
— В Москву-у?! — заликовала Соня. — Конечно же, хочу.
Он не может бросить комбинат. И не потому, что готовится представление, нельзя отлучаться, когда дело хорошо идет, у всех такой задор, нужен глаз да глаз. Уедет Шибаев на день-другой, потом за полгода не наверстает. Да и зачем ему один день в Москве, что это ему даст? Допустим, посмотреть на дом, на «жениха». Ну посмотрит и уедет, а Мельник может переиграть, может и подставного ему показать, куклу. Так что лучше он посидит здесь, а пошлет Соню. Она не глупая, не болтливая. Удивительно даже, как такая красотка выросла в Каратасе и никто ее не умыкнул в пятнадцать лет.
— Задача у тебя несложная — зайдешь к начальству, дам тебе адрес, телефоны, передашь образцы наших товаров, получишь их здесь на складе в упаковке.
Соня поняла, что надо везти взятку, полагалась бы ей дополнительная оплата за стресс, но едет она без колебаний.
— Еще личная просьба, Соня. Поедешь вместе с моей родственницей, она дама провинциальная, в Москве не была ни разу, а ты уже бывала, знаешь, как в метро на эскалаторе не упасть. Ей надо помочь хотя бы первый день. Почему я именно тебя посылаю? Дело щепетильное, тонкое, не каждый поймет. — И далее Шибаев развел такую бодягу — эта его родственница выходит замуж за московского жителя, познакомились они где-то в Сочи, подробностей он не знает. Ей нужна московская прописка, чтобы дочь ее со временем легче могла поступить в институт.
— Фиктивный брак, — спокойно подсказала Соня. — Девочки говорят, сейчас ставка поднялась, уже пятьсот рублей.
Твоя задача посмотреть, что за человек, может быть, мошенник, ты разбираешься в людях, приглядись, — возраст, чем занимается, не обманет ли? Прикинешь, подумаешь, может, и не стоит моей родственнице тратить время и деньги? Пятьсот рублей не валяются, правда? У москвичей всякий кризис — бизнес. Якобы у него свой дом, прояви интерес, сколько комнат, планировка, обстановка и все такое. В аэропорту вас встретит мой товарищ, он здесь работал, Михаил Ефимович.
— А-а-а, Мельник, я знаю, он приезжал недавно. — Она помнила толстого приветливого человека со шрамом, он подарил ей пачку импортной жвачки, сплошной отпад.
— Печатай на себя приказ и командировочное удостоверение, получай деньги и поезжай за билетами. Возьми на себя и на мою родственницу, вот ее паспорт и триста рублей.
Соня раскрыла паспорт и сразу улыбнулась, зарделась.
— А я ее знаю, Роман Захарович, — сказала нежно, смущенно.
— Знаешь? — спросил он вроде не строго, но холодно, и улыбка Сони погасла. — Что ты о ней знаешь?
— Я знаю ковбойский анекдот, Роман Захарович, паф-паф и с копыт. Он слишком много знал.
— Ну тем лучше, — сказал он. — Я на тебя надеюсь, узнай все до мелочей, информация должна быть полная.
Глава семнадцатая ДОГОНИМ И ПЕРЕГОНИМ
Стояла жара, палило, ни ветерка, но Вася, как штык, ровно в шестнадцать двадцать был на подходе к дому своего шефа. Шел он распаренный, расстегнутый, с закатанными рукавами, но возле ворот Шибаева раскатал рукава мокрой, прилипшей на спине рубашки, нацепил на ходу галстук, причем резинка сзади долго не застегивалась и со стороны было впечатление, будто Вася ловит блох на загорбке.
Шеф его встретил красный и злой — никого нет до сих пор. Усадил его на кухне, сиди и жди, как только появятся, действуй по обстановке. А тут зазвонил телефон и, как Вася понял, звонил Голубь и просил Романа Захаровича выйти на улицу.
— Ты «Москвича» Голубевского видел?
— Да какой-то стоит на той стороне. Цвет морковки.
— Это они сидят, не хотят идти в дом. Минут через десять выходи и туда, со всеми поздоровайся, представься. Любой ценой мы должны Лупатина засветить.
Вася думал, все будет просто, пришел, они за столом едят, пьют, пивка холодненького Вася бы с удовольствием принял. Однако сорвалось, обстановка изменилась, и надо действовать на свой страх и риск. Шеф ушел, совет держать не с кем, как в глубоком тылу врага. Вася, крадучись, подошел к воротам и в щелку увидел, что «Москвич» морковного цвета как стоял, так и стоит, а в нем головы. Думают. Решают. Посчитав медленно до ста, Вася выпрямился, — а Зинаида так и зырит через окно из кухни — Вася приосанился, не спеша вышел через калитку и вразвалочку пошел к машине. О чем надо с ними говорить, он пока не знал, но уверен был, не оплошает. Подойдет вплотную, возьмется крепко за дверцу, представится, как надо (после выхода из зоны Вася целый год вслед за именем и фамилией называл машинально статью и срок). А место ему в машине найдется. Шел, шел, оставалось шагов тридцать, а машина вдруг тронулась- и, стрельнув не сильно газком, стала набирать скорость. Понимая, что не догнать, Вася с ходу выбрал маневр — махнул рукой, дескать, не хотите брать и не надо, и повернул обратно. Остановился, достал сигареты, слегка покосился, — машина тоже остановилась, и Вася понял — они не хотят сворачивать на Советскую, там людно, лучше поговорить здесь без свидетелей. Но как же так? Вася для них нужный человек, должностное лицо. Он быстро пошел к машине и даже на трусцу перешел, не догоню, так согреюсь. А машина опять тронулась. До поворота оставалось всего ничего, Вася догнать не успел, однако скорость не потерял, а наоборот, набрал. «Москвич» свернул на Советскую вправо, сейчас уйдет, Вася выбежал на перекресток и закричал блажным ором:
— Задержите машину! Эй, люди, машину угнали!
Где же справедливость, пля, Вася бежит за машиной, Вася показывает шефу свои старания на последней скорости, он за ними, а они от него, ну не сволочи ли? Видят, человек рвется, догнать хочет, что-то спросить, может быть, предупредить, братцы, вы запасное колесо потеряли. Нет, они по-наглому уходят, отплевываясь черным выхлопом, карбюратор хотя бы отрегулировали на холостой ход — лопухи, глистогоны.
— Уго-он! — Вася размахивал руками, кричал, вопил на всю Советскую и сразу привлек внимание. Но «Москвич» уходил себе дальше. Вася выскочил на проезжую часть, оглянулся — на него летел голубой ЗИЛ-130, и Вася всем телом, руками и ногами изобразил перед самосвалом букву X, причем подвижную, она подпрыгивала, не теряя своих очертаний, вправо, влево, опять вправо, стараясь занять всю ширину асфальта. Самосвал притормозил, Вася вскочил на подножку, ошалело крикнул молодому казаху с усиками, с голыми плечами в потной майке:
— Угнали машину, вон красный «Москвич» фитилит, видишь, их трое, а я один, помоги, будь другом!
Шофер поддал газу, Вася, оставаясь на подножке, размахивал свободной рукой и кричал:
— Угон, грабе-еж, держи-и-и!
Трудно сказать, заметил на «Москвиче» погоню или нет, во всяком случае, тормозить они не собирались.
— У тебя кузов поднимается? — прокричал Вася. — Подними кузов для понта, пусть все видят! Догоним и перегоним! — Васе хотелось что-то сделать сокрушительное, улицу перегородить, в небо взлететь и оттуда коршуном ринуться, он был оскорблен, возмущен и даже забыл, что надо выполнять задание Романа Захаровича, он свое желание выполнял.
— Поднимай кузов, говорю!
— Там у меня два барана из совхоза «Енбек»!
— Бригадиры, что ли, бугры?
— Нет, бараны, говорю тебе.
«Москвич» прошел перекресток на зеленый, загорелся желтый и, пока самосвал подкатил, загорелся красный, шофер тормознул, Вася заорал:
— " Давай тревогу! Сигналы подавай, один длинный, два коротких, дуй, давай!
Эх, свалить бы этих баранов на угонщиков. Ка-акой был бы блеск! Впереди через квартал начинался самый людный пролет улицы Советской, там гастроном «Юбилейный», вот бы где засветить их с треском, громом и позором.
— Почем бараны, плачу не глядя, подними кузов! — кричал Вася, бешено сверкая глазами, заражая своей горячкой и парня водителя, тем тоже овладел азарт погони. Вот «Москвич» уже близко, уже поравнялись, сейчас обгонят и перекроют дорогу, но тут парень увидел за рулем офицера и изменился в лице.
— Ты чего, мужик, там милиция!
— Переодетые, пля! — мигом нашелся Вася. — Вооружены и особо опасны, понял? Монтировка где?
Шофер коротко кивнул на ноги, Вася быстренько поднял железо — взял на изготовку. Толпа на тротуаре с той и с другой стороны уже обратила внимание и на гудки, и на погоню. Едет «Москвич», а за ним громыхает голубой самосвал, и кричит с подножки кудрявый человек, весь в панике.
— Прижимай, прижимай к бровке! — командовал Вася, ярясь, дергаясь и поигрывая монтировкой перед своей челюстью, как зубной щеткой. «Москвич» сбавил ход и прижался к обочине.
— Заходи спереди, отрезай пути к бегству!
Шофер обогнал легковушку, завизжали тормоза, как в кино, и перед самым бампером «Москвича» самосвал перекрыл дорогу.
— Вылетаем! — прокричал Вася, полыхая огнем возмездия. Они вывалились с обеих сторон из кабины ЗИЛа и ринулись к «Москвичу». Жителям Каратаса в этот миг предстала картина впечатляющая. Огромный голубой самосвал стоял поперек дороги и целил прямо на вход в специализированный павильон «Мороженое вино», где торговали братья-близнецы из Азербайджана. В бок ему уперся морковного цвета «Мо-сквич-412», в нем спереди сидели два офицера милиции с погонами майора и капитана, сзади сидел третий, представительный человек в штатском, а по обеим сторонам «Москвича» стояли ко всему готовые два смелых рабочих человека, один русский в голубой рубашке с зеленым галстуком и с монтировкой в руке, другой казах в мазутной майке и с гаечным ключом такого диаметра, что вполне сгодится открутить голову трудному подростку.
Из павильона дружно вылезли посетители, намереваясь грудью защитить место своего досуга.
Тут самое время сказать про павильон «Мороженое вино», другого удобного момента долго ждать. Белое стройное здание с высокими окнами строилось под кафе-мороженое, над фасадом монументалисты хорошо поработали, изобразили белого медведя, пингвина, северное сияние и поверху кружевным кокошником сделали буквы из мрамора «Мороженое». Павильон этот, и не один, а сразу два, поставили с восточной стороны стадиона «Горняк», а с западной стороны по такому же проекту выстроили еще две закусочных, и такие же ажурные буквы шли дугой поверху — «Пирожковая», — все для народа, все для отдыха трудящихся, хоть с одной стороны стадиона подходи, хоть с другой. Но торговля и пирожками, и мороженым шла в этих павильонах совсем недолго, точки оказались убыточными, и вскоре открыли здесь специализированный магазин «Вино», заказали вывески, художественные, в тон и под мрамор, чтобы не нарушать архитектурного ансамбля. И поскольку надписи «Мороженое» и «Пирожковая» остались дугой, то под этой дугой внизу поместили слово «вино», — не ломать же произведение искусства. За эту надпись монументалисты из художественного объединения «Онер» получили, одни говорили, восемь, другие говорили, двенадцать тысяч, шутка сказать. Знатоки утверждали, что на строительство стадиона «Горняк» ухлопано миллион рублей, зато наш стадион — гордость Каратаса, он первый в мире, второй в Сибири, и в самое ближайшее время он должен с лихвой окупиться за счет высокой посещаемости. Но почему-то не окупается, на футбол не ходят, смотрят по телевизору киевское «Динамо», поэтому переделали павильоны на другой пищевой продукт, чтобы покрыть средства. Умные люди внесли, куда надо, предложение на радость всем любителям спорта, вот и пооткрывали. Теперь точки работали от зари до зари, а по субботам и воскресеньям вкруговую стали выставлять еще и точки с пивом, так что покрытие миллиона пошло шибче, но все еще требовалось изыскать скрытые резервы. Одни говорили, что надо продлить время торговли, другие — повысить цены, третьи — давать в нагрузку билеты в театр Станиславского. На ответственном совещании сектор здравоохранения исполкома посоветовал тут же, на стадионе, поскольку некоторые спортзалы, а также бассейн не используются, создать большой многокоечный медвытрезвитель на полном хозрасчете. Однако люди бывалые это предложение раскритиковали, как оторванное от жизни — кто же пойдет в торговые точки, грозящие близкими неприятностями? Народ нас не поймет и спрячет свои денежки, так что давайте вместо вытрезвителя откроем по всему кругу еще шесть-восемь пивных под вывеской «Шашлычная», и не беда, что мяса нет, важно, чтобы хватило вина и пива, чтобы граждане западного района шли в «Мороженое вино», граждане восточного шли в «Пирожковое вино» и встречались на комбинате здоровья и бодрости. Так появились в один день четыре павильона со всех сторон стадиона на равном отдалении, как в Ленинграде кони на Аничковом мосту. Но если на мосту человек сдерживал и покорял стихию, то здесь, в павильонах, он ее, наоборот, распускал и гулял от пуза. Сюда ходили люди разных объединенных наций и время от времени вели спор о языке, как правильно понимать — пирожковое вино или порошковое? Сходились на том, что «пирожковая» все-таки не верно, с акцентом, правильно «порошковое», гляньте на свет любую бутылку, особенно «Талас», «Жемис» или «Ашхабадское крепкое», осадок виден проетым глазом. Ничего удивительного, на молзаводе тоже порошок растворяют, или взять растворимый кофе. В будущем появится сухой паек, алкоголь в порошке, вода есть повсюду, налил, развел и — ваше здоровье. Если детей мы поим порошковым молоком, то почему взрослых мы не можем поить порошковым вином?..
— Попа-ались! — кричал Вася на всю Советскую.
Толпа собралась мгновенно, откуда кто и возник, алкаши из «Мороженого» вышли все до единого посмотреть, как поймали с поличным не каких-то бичей, а саму милицию.
— Ты чего дурака из себя строишь? — спросил Голубь, слегка высунувшись из машины. Но Вася нуль внимания. Вася держал толпу, он только к ней обращался. Крикни он сейчас, чтобы разорвали в клочья похитителей личного имущества, и все ринулись бы кончать Лупатина с Голубем. Сначала бы разорвали, а потом начали разбираться, не слишком ли поспешили, разобрались, признали бы ошибку, покаялись, так у нас нередко бывает.
Ах как жаль, дьявольски жаль, что парень не захотел поднять кузов, свалили бы двух баранов прямо на голубевский «Москвич», животные дополнили бы такую живописную картину. Несмотря на крики, майор и капитан сидели невозмутимо, возможно, в салоне им не слышен был гнев толпы. Капитан что-то сказал тому, заднему в штатском, тот что-то недовольно ответил, можно сказать, огрызнулся, после чего капитан Голубь вылез, отстранил руку с монтировкой и спросил у Васи негромко:
— В чем дело, ты чего добиваешься, пятнадцати суток?
Заметив очередной скандал у павильона «Мороженое вино», подъехал на мотоцикле старший сержант автоинспектор и сразу в крик: расходитесь, граждане, расходитесь! Не разобравшись, дает разгон, а если помощь народа потребуется?
— А тот вон чего сидит, майор в погонах, вон тот! — Вася энергичным движением тыкал, приглашая всех глянуть через стекло на потного и злого майора, который то и дело поправлял темные очки. Сержант присел, посмотрел, откозырял и — на Васю:
— Да ты чего орешь, придурок?! Это же начальник милиции майор Лупатин.
Вон как оно хорошо получилось, даже гаишник помог засветить, кого надо.
— А там мой директор сидит! — не унимался Вася. — Я подхожу, а его увозят, я подхожу, а они опять едут. Я начальник цеха, а они от меня бегают, как собака от мух.
В толпе начали посмеиваться.
— Почему вон тот не выходит, в черных очках? — Васю нельзя было унять ничем, Васю сейчас можно было пороть плетьми, казнить, ленты вырезать на спине, звезды, или какие другие знаки, вплоть до денежных, — бесполезно, он был не в себе. Как они, суки, посмели унизить его достоинство?
— Вон там мой директор сидит, — показал Вася на заднее сиденье! — Вы что, арестовали его? Так прямо и скажите народу! — и Вася широким жестом обвел рукой публику, приглашая всех к пониманию. Отозвался один молодой с бородой интеллигент, расстегнутый до пупа:
— Тут где-то должна быть съемочная группа, — повертел шеей и не увидел, и другие не увидели, тогда он дополнил: — А-а, все ясно, делается скрытой камерой.
— Кончай, Вася, — сказал Шибаев.
Вася мигом успокоился и начал распоряжаться:
— Расходитесь, граждане, расходитесь. Чего рот раззявили, тут вам не «Спортлото».
Голубь сказал сержанту:
— Разберитесь, наверняка пьяный водитель, — кивнул на парня в майке, включил передачу, сдал назад, объехал самосвал и покатил себе дальше. А сержант потребовал у водителя все, что надо, — путевой лист, техталон, водительское удостоверение, что везешь, куда и откуда, — до-ол-гий предстоит разговор.
— Он меня просит, весь дрожит, я вижу — угон, вижу — уважаемый человек, — начал объяснять водитель.
Вася мог бы уже уйти, он своего добился, даже с лихвой, но разве может он бросить товарища в беде? Нужна взаимовыручка. Вася подмигнул пару раз автоинспектору, кивнул в сторону, мол, отойдем, не обижу, но тот сурово сдвинул брови и начал изучать документы.
— Что везете?
— Ничего не везу.
Сержант уже поверил ответу, но тут в кузове самосвала заблеяли, и довольно дружно, два барана. Сержант огляделся, не разыгрывают ли его алкаши, вроде нет, и заглянул в кузов.
— Откуда бараны?
— Из совхоза «Енбек», начальник.
— Куда везешь?
— Себе везу. На день рождения. Тебя могу пригласить.
Нет, такие номера не проходят, если уж сам начальник милиции здесь оказался, надо разобраться, сержант о-очень долго рассматривал документы, спрашивал, пил, не пил, опять, что везете, кому везете? Публика рассеялась, один только Вася героически торчал рядом, готовый подставить плечо другу.
— Идите, гражданин, идите! — сказал ему сержант так профессионально, что Васю ноги сами понесли в сторону, и он скрылся из глаз шофера в мазутной майке. Однако не навсегда.
Без Васи шофер с сержантом договорились гораздо быстрее, самосвал отвалил от павильона и поехал своей дорогой, но метров через сто шофер вынужден был помотать головой, встряхнуться, как при виде нечистой силы — прямо по курсу, посреди дороги опять возник тот же самый в зеленом галстуке и опять изобразил дрыгающую всеми концами букву X, — оу, астапыралла, чего ему надо? Водитель тормознул, Вася поднялся в кабину.
— Спасибо, друг! — проникновенно сказал Вася. — На сколько он тебя наказал?
— Права забрал.
— Теперь что, пересдавать?
— Отвезу ему барана, Девятая Горношахтная, дом тридцать и обратно за правами.
— За что ему барана? — переспросил Вася, накаляясь. — Кому барана?! Да я с него, пля, погоны сорву, как его фамилие?!
Шофер махнул рукой:
— Зачем? Он ко мне, как человек, акт не составил, отпустил. Я к нему тоже, как человек. — Он говорил «шалавек». — Отвезу барана, заберу права. Другой баран — начальнику автоколонны.
— Ай, гад, ну и гад, я с него погоны сорву-у! — тоном Шибаева сладострастно тянул Вася. — Выходит я виноват, вишь? Подвел тебя под конфискацию. А сколько стоит баран?
— На базаре девяносто, сто, но я брал у родственника.
Вася полез в карман (деловар всегда должен иметь рублей триста-пятьсот, как учил Михаил Ефимович). Шофер не хотел брать, но Вася сунул ему за пазуху. Однако этого показалось мало, и он достал из заднего кармана листок бумажки. Настоящее должностное лицо всегда при себе имеет не только триста-пятьсот, но и визитную карточку — и подал ее шоферу. Тот посмотрел, повертел, прочитал: «Голубь Григорий Карлович, школа милиции, начальник кафедры». И два телефона, домашний и служебный.
— Что за бумага?
— Называется визитная карточка.
— Зачем?
— Там телефоны, видишь? Позвонишь в любое время, спросишь, где найти Василия Ивановича. Тебе всегда скажут, хоть днем, хоть ночью. Василий Иванович — это. я, понял? Как Чапаев.
— А машина у тебя есть?
— Есть, сам сделал.
Шофер поверил, что сам, такой человек все может, если сто рублей выложил за чужой грех.
— Я тебе барана по дешевке достану, — сказал шофер. — Поедем на твоей машине, у меня родственники в совхозе «Енбек». — Он достал Васины деньги и подал ему. — Потом отдашь.
Но Вася отказался:
— За бараном съездим, обещаю, а сейчас — бывай, будь здоров. — Пожали друг другу руки, расстались два хороших человека, всегда готовые прийти на выручку, на них и земля держится и род наш не захирел.
Однако не хиреют и те, что сидят в морковном «Москвиче» и ведут разговор малоприятный для всех троих. Лупатин знал, что Шибаеву палец в рот не клади, но не предполагал такой грубой работы. Когда они с Голубем вызвали Шибаева по телефону, он явился недовольный — обижаете, накрыт стол, хозяйка старалась, неуважение к моему дому я не прощаю, — ворчал, ворчал, потом Лупатин заметил приближение нежелательного лица и сказал Голубю — трогай. Шибаев пояснил, что это идет наш начальник цеха Махнарылов, давайте его возьмем, в деле, которое надо обсудить, он человек не последний. Однако Лупатин опять скомандовал — трогай, — так вот и докомандовался, пока Вася не остановил его с помощью самосвала. Теперь, когда вернулись на прежнее место, Шибаев с усмешкой сказал:
— Сейчас нам никто не мешает, идемте хоть посидим. Голубь не возражал, посмотрел на Лупатина, тот сказал:
— Гнать таких надо в шею, он же вас подведет!
— Не скажите, — усмехнулся Шибаев. — Были бы у вас такие кадры.
— Да он же просто чокнутый!
— Он просто незаменимый, всегда сделает то, что ему скажут. Лупатин пристально посмотрел на Шибаева и спросил раздраженно:
— Кто за вас будет платить?
— За что платить?
— «За пять месяцев текущего года. Вы думаете, без нашей охраны вы бы так свободно химичили?
— Думаю, что за такую охрану вас поразогнать надо ко всем чертям! Вмешался Голубь:
— Полегче, Роман Захарович, на полтона ниже. Как говорил Никита Сергеевич, не с той ноги кума плясать пошла.
Будь Наполеоном своих страстей, сказал себе Шибаев. Тот, кто покоряет одного себя, сильнее тех, кто покоряет народы.
— В январе, феврале мы только налаживали производство в новом цехе и не успели создать резерв. Мы работали в основном на план, повезли кое-что в Целиноград, по дороге нашу машину задержали ваши. Теперь ни нашим, ни вашим, второй месяц ревизия. Висим на волоске, да еще плати за охрану.
— Но ведь не сели пока, и то хорошо, — пренебрежительно сказал Лупатин.
— И не сядем! — обозлился Шибаев. — А если сядем, то в хорошей компании, так что давай, майор, ваньку не валяй, будь джентельменом. Платить я буду, но за дело, и горлом брать не советую, не веришь, спроси у Гриши.
— Вам не кажется, Григорий Карлович, что у него служебное несоответствие? — спросил Лупатин, будто Шибаева здесь не было.
— Ему давно кажется, — подтвердил Шибаев, — только я его заставляю креститься, и дурь проходит. А чем заставляю — купюрой. И тебя заставлю, майор.
Гриша неожиданно рассмеялся:
— А ведь заставит!
— Давай без церемоний, майор. Взять на охрану, и точка.
— А когда начнете платить? — уже спокойнее спросил Лупатин.
— Первое мое условие — чтобы затеянная вами провокация не имела последствий. Если Дутов направит в обком представление, ситуация будет кислой. Сколько ему надо дать?
— А если Дутов не берет? — Лупатин кочевряжился, считая себя хозяином положения.
— Гнать надо! Не берет, значит, ни перед кем не отвечает.
— Он мне подчиняется, ладно, поговорю, — великодушно согласился Лупатин. — Какое ваше второе условие?
— С июня я тебе лично, Лупатин, буду платить оклад пятьсот рублей ежемесячно.
Нет, майору пятьсот мало, он не один, у любого начальника есть свой начальник. Нужно в два раза больше. Напряжение сейчас серьезное, нужна тысяча, причем уже за этот месяц.
— Вы проявили недисциплинированность. Прошу впредь делать, что говорят, в наших общих с вами интересах. — И перед носом Шибаева замаячил указующий перст Лупатина.
— Гаф! — Шибаев щелкнул зубами, и майор инстинктивно отдернул руку — может и откусить, такой все может.
Глава восемнадцатая ТАМ, ГДЕ АРАГВА И КУРА
Делаешь бизнес — умей считать. Кармен с улицы Махарадзе выложила за лису наличными сорок тысяч. Шибаев заказал Шевчику двести монет, почти на всю выручку. Приехали вместе с Давидом Кладошвили. Его дядя Вахтанг, женский мастер из парикмахерской дает Додику девять тысяч и просит приобрести монеты в городе Гори. У Вахтанга там есть знакомый в сфере торговли, к нему поедем. Через Тбилиси, где тоже есть нужный человек Жора.
Они спокойно приехали в Тбилиси, разыскали Жору Зурабова, он работал начальником смены на кондитерской фабрике, имел два диплома, маленькую зарплату и новые «Жигули», на которых и поехали в Гори прямо к директору гастронома напротив горкома партии, недалеко от памятника Сталину. Звали его Нафтик. Передали ему от Вахтанга привет и наилучшие пожелания. Посидели, поговорили, очень гостеприимный человек, расспросил, как у них дела в Каратасе, какая погода, сказал, что монеты он может продать по сто тридцать пять рублей. Шевчик готов был его расцеловать — с каждой монеты сорок рублей прибыли. Двести помножить на сорок — восемь тысяч можно иметь чистых. Шевчик рассказал, как деловые люди живут в Каратасе, пригласил в гости, даже дал свой адрес. Нафтик попросил их с Додиком — вы молодые, зоркие, если увидите где-нибудь в Каратасе, в Москве, в Кутаиси, в Тбилиси монету золотую достоинством в двадцать пять рублей, на которой изображена с одной стороны императрица Елизавета, а с другой Зимний Дворец, то знайте, эта монета моя самая любимая, ценится очень дорого не только у нас, но и на мировом рынке. Сразу мне сообщайте, за ценой не постою, имейте в виду. Шевчик попытался вспомнить, был ли Зимний Дворец при Елизавете, может, это Екатерининская монета? Нет, говорит Нафтик, именно Елизавета. Шевчик спорить не стал, главное сто тридцать пять штука. Он возликовал, он раскатал губу, но нашлось всего девяносто две монеты. Давид принял их из рук Нафтика, тут же вытащил маленький такой, плоский флакончик с кислотой и принес хозяину свои извинения — таков порядок, настоящие валютчики только так и делают. Давид проверял монеты, не фальшивые ли, а у Шевчика началась одышка, он вспомнил свою встречу в Кулашах с тем сапожником, который советовал ему не ходить в одиночку. У него сразу сердце ёкнуло, горло перехватила спазма. Он достал баллончик, попшикал себе в зев. Он даже не подозревал о такой походной лаборатории. Неужели в этой райской Грузии с древними традициями, с таким рыцарством могут быть обманщики, фальшивомонетчики? Золото оказалось настоящим, Давид флакончик закрутил тщательно, положил в нагрудный карман, чтобы не выронить и штаны не прожечь. Шестьдесят шесть монет Давид взял для дяди, двадцать шесть отдал Шевчику, но это же кот наплакал, у них еще куча денег. Поехали в Тбилиси на Майдан, там у Жоры Зурабова были кое-какие связи. Встретились с Гиви по кличке Колымчан. Оказалось, Кладошвили тоже знал этого Гиви, он приезжал в прошлом году в Каратас, привозил наркотики — и не травку, а в ампулах. Зовут его Колымчан потому, что сидел на Колыме. Худой, тощий и уже старый, лет семьдесят, из них пятьдесят сидел, но получает приличную пенсию. Договорились встретиться через два часа, когда будет темно, здесь, на Майдане. А пока поехали перекусить в чайную, в район Ортачала, выехали на набережную Куры, остановили машину, не успели вылезть, как подъехали «Жигули», выскочили из всех дверей четверо мужчин и бросились к машине Жоры Зурабова, одновременно рванули двери задние и передние, что-то крикнули по-грузински, Шевчику приказали: «Милиция, без сопротивления!» — выволокли всех троих и надели наручники. В машине Жоры Зурабова возле заднего стекла лежал дипломат, взяли его, а что в дипломате? Девяносто две монеты и деньги — тридцать тысяч. Давида и Шевчика усадили на заднее сиденье, один из них сел рядом, двое других впереди, четвертый забрал Жору и сел за руль его машины. Все четко, быстро, без лишних слов. Поехали в город. У Шевчика сразу подозрение, что подстроено, что свои. Но он видел, Давид еле жив, напуган, что делать?
— Куда вы нас везете, уважаемые товарищи? — вежливо спросил Шевчик.
— В областную милицию, — ответил впереди сидящий и приказал: — Не разговаривать! — Он снял пиджак и повесил его на крючок между дверцами. Шевчик увидел под мышкой пристегнутую кобуру из светлой кожи и рифленый край рукоятки. Изловчившись, можно было бы выхватить из кобуры пистолет и пустить себе пулю в лоб, ничего другого не остается. Так ведь не дадут.
— Я приезжий, — сказал Шевчик. — Вот мой паспорт и командировочное удостоверение, меня ждут на работе.
Передние рассмеялись — долго будут ждать.
Давид подталкивал Шевчика, — говори, ты все-таки русский, тебя должны выслушать. Оказывается, не должны.
Что там делает сейчас Уля? На сколько лет теперь загремит твой муж, по валюте закон суровый. Если еще на полную катушку дадут, — вся твоя жизнь пройдет в зоне, Алесь.
— Вы можете взять все, что есть в дипломате, на всех хватит, — сказал Шевчик вежливо, но внятно.
— За кого он нас принимает, щенок? — Впередисидящие рассмеялись.
— Я прошу уважить просьбу нашего русского гостя, — пролепетал Давид.
— Русский жулик, валютчик разве может быть гостем честных грузин?
Как разобраться, кто они такие, в конце концов? Лучше бы бандитский налет, но увы, нет, это милиция, Шевчик понял это по характеру своего страха. Одно чувство, когда тебя грабят, и совсем другое, когда тебя самого везут, как преступника. Да, собственно говоря, какое это имеет значение, грабители или милиция? Плакали денежки, да не свои, а чужие. Все-таки, если банда, то лучше, с ними можно поделиться, можно даже пригрозить, что сведем счеты, можно выйти на авторитет в преступном мире через того же Вахтанга и добиться возврата хотя бы доли, у них должен быть хоть какой-то кодекс чести. Но уж если милиция!..
Ехали по городу, молчали. Ну что делать, что делать? Шевчик начал задыхаться, наручники мешали достать баллончик. И Давид был бледен, как полотно, видимо, попал впервые. Это в ресторане можно сидеть, хорохориться, а тут, когда тебе грозит тюрьма и пропали чужие деньги!.. Шевчик взмолился:
— Ради бога, вы же грузины, у вас есть национальная гордость, отпустите нас!
Впередисидящие переговорили, «Жигули» затормозили возле перекрестка. Тот, что держал их сбоку, снял наручники, вылез, тот, что сидел за рулем, сказал:
— Прямо перед собой вот по этой улице, — он показал направо, — двести шагов, не оборачиваясь, и чтобы с юмором на лице, шагом марш!
Они вылезли и пошли, не оглядываясь, с окаменевшими шеями. Давид шел быстрее, а Шевчик отставал, голова пустая, он ни о чем не думал. Впереди мелькали ноги в потертых голубых джинсах, мятые складки под коленками, а выше мокрое пятно, так и есть между ног мокрое пятно, Шевчику показалось, он даже слышит запах. Додик шел и ничего не чуял. Если ему сейчас сказать, он оскорбится и озлобится на всю оставшуюся жизнь, может в сердцах прирезать Шевчика. Лучше ни о чем не говорить, как в песенке — ничего не вижу, ничего не слышу, ничего — никому не скажу.
— Куда мы теперь?
— Пойдем искать Жору Зурабова, — ответил Давид. Его машина с четвертым налетчиком куда-то пропала.
Шли-шли, Давид вдруг остановился и тут же сел, где стоял, прямо на парапет, сомкнул колени и нервно сказал:
— Дай закурить!
Алесь подал ему сигареты, щелкнул зажигалкой.
— Будь другом; сходи в промтоварный, купи мне брюки сорок восьмой размер. — И начал шарить по карманам, нашел какую-то мелочь, Шевчик тоже поискал, добавил и пошел в магазин, купил за семнадцать рублей хэбэ, в каких маляры красят стены.
Давид в кустах сменил мокрые штаны, Шевчику было не до смеха. У каждого своя слабость, Шевчик не может сдержать одышку, а Давид — кое-что другое.
Ночевали они в гостинице «Иверия», Жору Зурабова не нашли, впереди их ждала лесенка неприятностей — тяжелое объяснение с дядей Вахтангом, выпрашивание в долг у Кармен, нелетная погода в Цхалтубо, пересадка в Москве, наконец пыльный аэропорт Каратаса. Эх, если бы под крышей родного дома и кончались наши несчастья!..
Глава девятнадцатая МОСКВИЧИ И ГОСТИ СТОЛИЦЫ
Полет прошел замечательно. Соня сразу определила, что они с Ириной Григорьевной самые красивые на весь самолет, а в нем не мало — сто шестьдесят пассажиров. Соне было приятно рядом с Ириной Григорьевной (хотя в паспорте указано, что она Ирма Готлибовна), на нее так и смотрят, все у нее такое белое — руки, шея, лицо, она себя будто под колпаком сберегла от загара. И блондинка натуральная, а не от химии, и одета во все натуральное, особый шик. Когда появился сувенирный лоток с безделушками, Ирина Григорьевна властно завладела им, все внимательно рассмотрела и ничего не купила, хотя на взгляд Сони там было недурственное золотое колечко изящной сеточкой. Потом их кормили завтраком, тоже изящным, все в таких маленьких посудинках — кусочек курицы, масло кубиком в обертке фирменной и сахар, соль и горчица, все в пакетиках с крылышками Аэрофлота, подавали им кофе и все так культурно, вежливо, стюардесса улыбается любому и каждому, лететь ей сплошное удовольствие, она любит свое дело, о чем Соня сказала Ирине Григорьевне, а та заметила, что стюардесса обязана еще и любить командира корабля, хотя далеко не всякий командир похож на артиста Вячеслава Тихонова. В словах ее проявился свойственный увядающему возрасту скепсис, почему бы не полюбить симпатичного пилота, блондина в форме с нашивками, у него зарплата тысяча рублей в месяц, не считая премиальных, зачем ему походить на каких-то там артистов, да и Тихонов, кстати сказать, не особенно Соне нравится.
Самолет летел ровно и гудел ровно всю дорогу и только перед посадкой заскрипел и закачался как старый шкаф. Бортпроводница по радио объявила, что температура воздуха в аэропорту Домодедово семнадцать градусов, лучше и не придумаешь. Соня наденет свою австрийскую кофточку. Взяли сумки, сошли по трапу, поднялись в дли-инный стеклянный переход, топали-топали, наконец увидели в конце плотную толпу встречающих и только приблизились, сразу услышали голос громче других:
— С прибытием! Как долетели? — весело, гостеприимно обратился к Ирине Григорьевне Михаил Ефимович и поцеловал ей руку.
— А вот моя спутница, познакомьтесь, — сказала она, и Мельник с той же улыбкой глянул на Соню, но не успел ничего сказать, она его опередила:
— А мы с вами уже знакомы. Вы приезжали в декабре и угощали меня жевательной резинкой.
— Помню, как же я мог забыть такую красавицу! — воскликнул Мельник, вспоминая, то ли официантка, то ли дежурная в гостинице, он пол-Каратаса угощал этой жвачкой.
Михаил Ефимович, прихрамывая, повел через огромный аэровокзал, оглашаемый голосом диктора о задержанных рейсах, о посадке на рейс Москва — Магадан — ничего себе, кому-то радость от приземления, а кому-то надо подниматься и лететь на край земли. Вышли гуськом на площадь, множество машин, автобусов, очереди сплошные то там, то здесь. Под навесом виднелась электричка, Соня прокатилась бы с удовольствием в такой компании. Все-таки выгодно быть самой молодой, в том возрасте, когда ты уже не ребенок, но вроде бы еще и не взрослая, и все тебе стараются помочь, услужить, самая золотая пора, сколько она продлится? Мельник провел их к своей машине, — черная «Волга» Положительно этот человек ей нравится, даже не верится, что он жил в Каратасе. Пусть он невысокий, плешивенький, далеко не красавец, но он обаятельный, неизменно веселый, и с ним легко. Все чего-то ждут нервничают, томятся, а они уселись в черную «Волгу» и покатили-поехали, только замелькали по сторонам огромные указатели, будто в садике для детей, которые только выучились читать — на Каширу, на Рязань, на Калугу, на Симферополь. Потом долго ехали среди высоченных домов, Соня устала, кажется, больше часа ехали. Наконец вылезли около бесконечного дома, вошли в тесный лифт, еще один взлет и, слава богу оказались в квартире — шикарная прихожая с огромным зеркалом в витой раме, здесь же — то ли шифоньер, то ли стенка, не поймешь, светлого дерева, светильник такой весь из себя, на полу цветные квадраты, не линолеум, конечно, а такой особый паркет. А в гостиной глаза у Сони разбежались, на стене картина в золоченой раме огромнейшая, наверно с диван, и шевелится, оказалось — аквариум с хвостатыми, цветными рыбками, сплошное обалденье. Хозяин провел их на кухню сразу, два холодильника, и оба фирменные, и гарнитур не абы какой из пластмассы беленькой, а настоящее дерево, вместо колченогих табуреточек, у которых всегда ножки отваливаются, стулья с высокой спинкой, да такие тяже ленные, одной рукой не сдвинешь, резные спинки, сплошное дерево, т, а и зачем сдвигать, если села и все под рукой? Он сам выставил из холодильника сказочные какие-то посудинки, вазочки, розеточки, во-закрытое, фирменное, красочное, лакированное, мерцающее. Колбасу до стал, палку, как водопроводная труба, и на шкурке буквы иностранньк-«салами», кофе, чай в банках, импортяга, слов нет и коньяк, и бутылк> сухого, от наклеек голова кружится. Кто выпьет? Ирина Григорьевна сказала, что выпьет грамм пятьдесят, а Соня не только сказала, но и с удовольствием выпила. Михаил Ефимович скоро отбыл по делам, заедет завтра, а сегодня — располагайтесь, как дома, вдвоем в трех комнатах.
Первое свое наблюдение для Романа Захаровича Соня сделала такое Когда они сидели за столом, и даже раньше, когда ехали в машин» можно было заподозрить, что между Ириной Григорьевной и Мельником что-то есть, не напрасно шеф наказывал ей следить. Соня сразу заметила как заиграла ее спутница, как выпрямилась при виде Мельника, слов" лошадка в цирке, о чем это говорит? Не окажись здесь Соня, выпили бы они коньячку, хи-хи да ха-ха, как это у них, у взрослых, одни в пустой квартире, сама пустота наводит на всякие такие разные мечты и лла ны, — нет, нет, это чушь конечно, нехорошие мысли. Но все равно поведение ее спутницы изменилось, какие-то едва уловимые ужимки у <ее начались, и глаза стали другими, в общем, хочешь, не хочешь, а Соня подумала о чем-то порочном.
Под вечер, часов в семь, когда должен кончиться час пик, они поехали в ГУМ, там, кстати, и Красная площадь. Соне покупать особенно нечего, у нее все есть и всегда было — доставал дядя. Сначала он устроился на межрайбазу грузчиком (уплатил большой взнос), а потом стал экспедитором, тоже за взнос, зато теперь дом — полная чаша, и у дяди, и у всех родственников. Но вот колечко какое-нибудь особенное Соня купила бы с удовольствием. Родители дали ей двести рублей, да и Роман Захарович дал сто, вот уже круглая сумма, надо ею умненько распорядиться, пока что это самые большие деньги, какие Соне приходилось держать в руках за все свои семнадцать с половиной лет.
Она увидела Красную площадь, — ой, давайте пройдемся, на память! Как космонавты перед полетом. Но Ирина Григорьевна поморщилась — пока будем расхаживать, ГУМ закроется. А как восхитительно в ГУМе, потрясно, какое здесь блаженство, какие сумки, какие колготки, какая парфюмерия, из-за одной упаковки можно купить. Ирина Григорьевна повела быстро, целеустремленно, не останавливаясь, предупредила, если потеряемся, жди у фонтана. Потащила ее в какой-то салон с большими стеклами, где народу было совсем немного, а кассирша сидела словно птичка в клетке, причем золоченой, ажурной. Соня не сразу догадалась, что это укрытие от налета на кассу, перед таким произведением искусства любой грабитель с места не сдвинется. Оказалось, здесь салон ювелирных изделий, и Соня ринулась выбирать, вот это колечко она бы себе взяла, и вот это, за триста десять, дороговато, надо же себе рублей двадцать оставить на всякий пожар. Набитого холодильника в квартире Михаила Ефимовича хватит им на неделю, но надо же и на метро оставить. А вот еще колечко с камешком голубым, кажется сапфир, ну да, сапфир, сколько стоит? О, да это изумруд, его называют зеленым бриллиантом, две тысячи триста, кто его купит? Вообще слово «драгоценности» как понять — дорогие ценности? Масло масляное. Сообща, конечно, можно скинуться на две триста и по очереди носить, но среди молодежи так не принято. Соня подвинулась на шаг к следующей витрине, тут подешевле. Между прочим, здесь, в сравнении с другими отделами, не было ни одной молоденькой продавщицы, все примерно в возрасте Ирины Григорьевны. Соня отошла, а Ирина Григорьевна как раз там осталась и Соня услышала ее негромкий вопрос и гораздо громче голос продавщицы:
— А вы цену рассмотрели? Две тысячи триста.
— Вижу, не слепая, выписывайте. — Ирина Григорьевна пошла платить, Соня заметила, каким взглядом продавщица ее проводила, очень насыщенным, содержательным взглядом. Зато кассирша, пожилая армянка с черным пушком над губой, встретила ее чрезвычайно приветливо, исключительно любезно. Ирина Григорьевна спокойно открыла свою сумочку, достала две пачки, кажется, по пятьдесят рублей и распечатала еще пачку десяток, любимых Соней, розовых пластиночек. Две триста, кассирша пересчитала, не убирая улыбки, пробила старинным музейным аппаратом, подала чек. Ирина Григорьевна вернулась, взяла колечко в коробочке и небрежно, даже не посмотрев, там оно, могло и выпасть, положила коробочку в сумочку и оглянулась, ища Соню. А Соня застыла со своими тремя сотнями в лифчике, она была унижена и оскорблена, ей хотелось что-нибудь разбить, порвать, укусить себя хотя бы за локоть, — разве справедливо, когда одному дается вон сколько, а другому кукиш с маслом? Ирина Григорьевна кивнула Соне, та очнулась и под взглядом продавщицы гордо прошагала к Ирине Григорьевне, приобщая себя к зеленому бриллианту.
Они вышли опять в толпу, Ирина Григорьевна спросила, а что себе выбрала Соня. Ничего она не выбрала и не станет выбирать, разве это сумма — триста рублей? Соня была на грани слез, как в детстве, лет наверно семь назад. Она лучше всех играла в классе фортепьяно, но летом приехала чья-то родственница из Риги и так сыграла, что Соне захотелось отрезать себе пальцы и больше не подходить к инструменту. Девочка уехала в свою Ригу, обыкновенная, конопатая, а Соня навсегда перестала быть первой.
— У меня нет денег, — выдавила три слова Соня, а потом все-таки улыбнулась. — Мне все это не нравится.
— А ты займи у Михаила Ефимовича, он человек богатый.
— Есть и кроме него богатые, но при чем здесь я?
Как это понять, на что Ирина Григорьевна намекает? Соня развеселилась.
— Я бы вот эту сумку купила, смотрите, шестьдесят рублей, зато фирма! — И Соня давай выказывать широту, ассортимент своих желаний и свои познания. А потом опять замолчала, когда Ирина Григорьевна сказала ей:
— Знаешь, подружка, с твоими данными можно миллионами ворочать. Если голова на плечах будет.
Что она имела в виду, какие данные? И что значит, голова на плечах, как это? Вообще-то голова у нее есть. Со временем Соня станет начальницей, должностным лицом, только как бы это ускорить? Очень хотелось ускорить, особенно сейчас, в Москве. Надо успеть, пока она молода и красива. Свое превосходство над многими она ощущала и здесь, такие все замухрыги, даже удивительно, откуда в Москве столько всякой швалйТ за весь день Соня встретила две-три фигуры, не больше, чтобы и лицо, и одежда.
В салоне часов Ирина Григорьевна купила еще два золотых браслета, почему-то для мужских часов, за тысячу пятнадцать и за тысячу триста пятьдесят. И Соня уже не удивилась, можно, оказывается, ко всему привыкнуть. Поехали домой, и весь вечер Соня наслаждалась цветным телевизором особой марки с дистанционным управлением, развалилась в кресле и нажимала на кнопочку, а каналы переключались сами собой. Ирина Григорьевна листала и как будто даже читала журнал «Плейбой» с голыми девицами.
На другой день появился Михаил Ефимович, привез белые ромашки со своей дачи, в холодильник положил два-три свертка. Дача у него не простая, как и следовало ожидать, купил он ее у Лидии Руслановой, знаменитой певицы. Холодильник опять пополнился деликатесами, причем Соня нашла, что финская колбаса не так вкусна, как алма-атинская или семипалатинская, отдает химией.
Поехали на его черной «Волге» по Москве, довольно быстро прокатили в Измайловский парк, и Соня очень внимательно рассмотрела эту самую виллу — обыкновенный дом, каких в Каратасе полно, особенно на окраине. У нас даже есть получше, чеченские, например, двухэтажные или немецкие с мансардой. А здесь ничего особенного, дом, как дом. Соня не удержалась:
— Фи-и, что за хата? Я-то думала, правда особняк.
— Скол'.ко, по-твоему, стоит эта хата? — сразу вздыбился Михаил Ефимович.
— Да ничего она, по-моему, не стоит. — Соня будто уже начала торговаться от имени Романа Захаровича.
— Сто тысяч, как минимум. Во-первых, Москва, во-вторых, центр, тут на метро через пятнадцать минут выходишь прямо напротив Большого театра, что еще нужно культурному человеку? За одно это уже можно платить сто тысяч.
— Если их иметь, конечно…
Правда, внутри просторно, комнат четыре или даже пять, в таком же доме, примерно, и Соня с родителями живет, только туалет у них на улице, а здесь прямо в квартире (ну, это на любителя), и отопление здесь не печное, а проведены батареи.
— Есть гараж, обрати внимание, этому дому цены нет! — сказал горячо Михаил Ефимович, но уже не Соне, а Ирине Григорьевне, словно боясь, что Соня ее отговорит выкладывать сто тысяч.
Встретило их многочисленное семейство — мужчина лет тридцати, с брюшком, такого же возраста полная женщина, двое детей, лет десяти и двенадцати, еще какая-то женщина в вязаной кофте, юноша лет двадцати в очках, старик, седой, еще довольно крепкий, выяснилось, он-то и является хозяином дома и, как Соня поняла, за него-то и должна выйти замуж Ирина Григорьевна. Посадили за стол, что-то ели, что-то пили, заправлял Михаил Ефимович, а полная женщина все время говорила комплименты, то Ирине Григорьевне, то Соне уделяла внимание, какие вы обе милые, привлекательные, какие вы добрые и жизнерадостные — откуда ей знать? Потом быстро все свернули, Михаилу Ефимовичу надо было поспешать за город, он сказал, что подбросит Соню, а Ирина Григорьевна останется здесь, чтобы присмотреться к новому дому и поближе сойтись с этой гостеприимной семьей.
Ехали они вдвоем по Москве, Мельник что-то говорил, а Соня думала о словах Ирины Григорьевны «С твоими данными…» Они у Сони не только внешние, но еще и внутренние, духовный мир. Она, к примеру, может исполнить на фоно Листа, она не пропустила ни одной премьеры в театре Станиславского, у нее всегда билеты на любой концерт и на книжной полке девятнадцать альбомов мастеров живописи, каждый альбом стоит семьдесят рублей. Ни о чем этом Ирина Григорьевна не знает, однако же сделала вывод — «с твоими данными». Может, Соня не будет дурой и попросит Михаила Ефимовича взять ее к себе секретаршей и сделать ей прописку. Нет ничего невозможного, тем более, машинистки очень дефицитная специальность, их принимают в Москве так же, как санитаров в психбольницу…
Михаил Ефимович хотел высадить ее возле дома, ключи у нее в сумочке, но она сказала — ничего не выйдет, ей страшно одной в лифте ехать. Они вместе поднялись.
— Ну что, Сонечка, поужинаем?
— Так ведь только что ужинали! — весело сказала она.
— Хотя бы чашечку кофе, не возражаешь?
— Нет, конечно. — Она очень приветлива с ним. — Даже наоборот, мне одной будет скучно.
— Конфеты любишь?
— Обожаю, только шоколадные.
Он достал из бара, подал ей коробку шикарную, но этим не ограничился, другую достал еще красивее, глянцевитую, с выпуклыми розами, потом третью, огромную, с подушку величиной, тяжеленную, Соня взяла ее за край, коробка изогнулась под тяжестью содержимого и на пол посыпались деньги, затем игральные карты вразброс, причем новенькие, и те, и другие.
— Ай! — воскликнула Соня притворно. Она могла удивиться и даже испугаться молча, но сейчас подумала, что молча нельзя, надо дать знак. А он в это время как раз отвернулся, что-то там доставал в широком и глубоком зеркальном своем баре. Она издала возглас изумления, восторга, испуга, сложную такую колоратуру в эфир пустила. А то он положит все это обратно, сделает вид, будто там ничего не было — дудки, Соня все видит.
— На-а-до же, а я голову ломаю, куда задевал карты? Как я их в мусоропровод не сунул? Или еще картину представь, Сонечка, — приехал бы я на работу Восьмого марта, секретарше подал бы коробку конфет, а там… Сколько у нас там? Давай посчитаем, рублей сто наберется?
Деньги валялись на ковре, Соня накренила еще коробку и выпали еще купюры.
— Что вы, здесь, наверно, тысяча. И не одна.
Соня была удивлена, смущена, но не так, чтобы очень, она знала про доходы Мельника в прошлом — откуда знала? Да из той самой анонимки, которую ей вручил Василий Иванович и которая до сих пор лежит у Сони в столе в самом нижнем ящике.
— А вы со мной могли бы сыграть, Михаил Ефимович?
— С большой радостью, Сонечка, только давай сначала кофейку по чашечке, взбодримся, голова будет лучше работать.
Она выпила кофе, захлебываясь, очень ей хотелось играть, а в какую игру, если нас только двое?
— Можно в кинга, но если ты раньше не играла…
— Давайте что-нибудь попроще, — нетерпеливо попросила она, зная, что сейчас непременно выиграет из этого вороха розовеньких, ее любимых купюр.
— Тогда сядем с тобой за традиционное воровское очко. Валет два очка, дама три, король четыре, а туз одиннадцать.
— В очко я умею, мы в школе играли на сельхозработах.
— По сколько ставим?
— По сто рублей!
Соня вышла в прихожую, вытащила из-под лифчика свою заначку, отсчитала две по пятьдесят и быстренько вернулась. Полусотни хилого болотного цвета, а Михаил Ефимович выложил розовенькие, аккуратную такую будто спиленную по краям стопочку, десять гибких пластиночек, лизнуть хочется.
— Кто будет банкометом?
— Я, конечно, — сказала Соня и выдала ему две карты.
— Свои.
Она взяла две — десятка и девятка, хватит, девятнадцать очков. А у него оказалось две девятки. Ну что же, прекрасно, она сунула свои зеленые обратно — куда? Да за лифчик.
— Извините!.. Он рассмеялся:
— А можно я туда еще добавлю?
Она закрылась обеими руками, как перед прыжком в воду — что вы! Выиграла еще двести, уже стало четыреста. Потом предложила поставить по четыреста, лицо ее горело. Он отсчитал, теперь у них восемьсот в банке, надо же! Подал ей две карты, всего лишь король и дама, семь очков, еще десятка — семнадцать. Рискнуть?
— Ваши.
Он показал два туза и смахнул сразу восемьсот рублей. А у нее слезы так и хлынули. Вскочила, побежала, умылась, глянула на себя в зеркало — гос-поди, какие глаза отчаянные! Вернулась и объявила:
— Ой, нет, я так не играю! Давайте во что-нибудь другое.
— Ух, жарко, можно я куртку сниму? — Снял. У него малиновые подтяжки, широкие такие, фирма, со сверкающими застежками, видна волосатая грудь. — А тебе не жарко? Зачем красивая девушка скрывает свои лучшие качества?
— Как это? Я не скрываю.
— Влезла в брюки, прячешь свою природу, такие ноги.
— Ну, это ваше поколение — на ноги, на талию, а наше — только на фирму. Фигура сейчас ничего не значит.
— Всегда значила, Сонечка, и будет значить. Для мужчин.
— Ответьте мне на вопрос, кто будет иметь успех на дискотеке — фигура экстракласс с ног до головы, или без всякой фигуры, зато с ног до головы в фирме? Все будут пялиться только на фирму, тут и спору нет.
— Я придумал игру, Сонечка, — за каждую пуговицу по десятке.
— Как это?
— Ты расстегиваешь пуговицу, получаешь десятку, расстегиваешь другую, еще десятку.
А где у нее пуговицы? Нет у нее пуговиц, тут молния, там крючок, жалко, что лето, вот зимой поиграть бы в такую игру. А он вытащил новую пачку в банковской упаковке, опять ее любимые десятки, и сказал, что это у него пенсия за два месяца.
— Сколько же вы получаете? — изумилась Соня.
— Пятьсот семнадцать рублей сорок копеек ежемесячно.
— Ну что вы мне такие сказки рассказываете, Михаил Ефимович!
— Это действительно сказка, Сонечка. Представь себе, не такси разбилось, не трамвай столкнулся — самолет грохнулся!
— Ужас какой. И все погибли!
— А я остался и взят на содержание гражданской авиации, что тут удивительного? Единственный в своем роде пенсионер, чем я хуже других, каких-то там персональных? — Он разорвал на пачке бумажную крестовину.
— А можно я ее подержу? Я тысячу рублей еще руками не трогала. — Лицо у нее горело, но если бы только лицо, у нее соски просто пылали, хотелось почесать ужасно.
Взяла пачку, чуть согнула, выпустила по одной из-под ногтя, они упруго щелкали, номера шли один за другим, вздохнула и возвратила.
— Начали?
Как жаль, что у нее мало шансов. Она расстегнула верхнюю пуговицу своего батника, и он положил на черный полированный столик розовень-кую — красиво-то как. Она расстегнула еще пуговичку, он еще положил… Всего пять пуговичек спереди, еще две на рукавах — не густо.
— А на джинсах у меня молния!
— Платим аккордно. — И он выложил три десятки.
— Неправильно! Молния заменяет десять пуговиц.
Он добавил еще семь. Сколько теперь? Мало, не набралось даже двухсот, а она осталась уже в трусиках без единой пуговицы, и на бюстгальтере всего два крючка.
— А теперь ставка удваивается.
Сзади на лифчике у нее два крючка — раз! — и он положил две десятки! — Раз! — и еще две десятки. Она уже все сняла — почти все, что делать?
Надо иметь голову на плечах.
— А теперь вы раздевайтесь! — Соски ее горели, спасу нет, она почесала ноготками, пусть он отвернется. — И за свою молнию тоже аккордно!
Он отдал ей всю пачку с маленькой просьбой — не выключать свет. Он втемную не играет, он платит только за то, что видит, за красоту.
— А что важнее, красота или деньги?
Разумеется, красота, а по мнению Сони, деньги, уж извините за откровенность, но спорить не будем.
Домой он, конечно, не поехал, Утром у нее все болело, а он вообще не мог встать. Она давала ему сначала таблетки от давления, а потом вызывала скорую, чтобы сделали укол. Кое-как Михаил Ефимович оклемался, выпил стопочку коньяка, ожил. Мало того, до прихода Ирины Григорьевны они сумели сыграть еще одну партию.
Глава двадцатая ДЕНЬ ПРОКОЛОВ
С самого утра позвонил Прыгунов и давай стружку снимать — почему комбинат не послал должного количества на сельхозработы? Почему жалоба от работниц швейного цеха, двенадцать подписей? Лето пришло, многие в отпуске, сейчас некому свой план выполнять, а тут еще в колхоз требуют. Гриша Голубь поехал в Чехословакию по турпутевке, потребовал тысячу, пришлось выдать ему на карманные расходы.
В одиннадцать, после планерки, вошел в кабинет незнакомый товарищ с опухшим лицом и сказал довольно-таки знакомым голосом:
— Здравствуйте, Роман Захарович.
Кажется, голос Шевчика, но вид у человека такой, что у Шибаева в ушах звон. Если бы не куртка его мятая-перемятая, жеваная-пережеваная, единственная на весь Каратас, ни за что не узнать бы Шевчика — опухшее, словно через соломинку надутое лицо в тонких белых струпьях, еле заметные щелки глаз и в оплыве щек зияют ноздри. Он сел почти у двери на самый дальний стул, положил руку на колени, — с перетяжками в запястьях, такие же опухшие, как и лицо, и тоже красные, будто растертые, с белесым кружевом.
— Когда приехал? — спросил Шибаев, не глядя на него.
— Вчера…
Ясно, там что-то произошло, можно и не расспрашивать, Шибаев чует — нечто бьет и по нему самому.
— Заболел?
— Фортуна отвернулась, — сипло пояснил Шевчик, пытаясь сглотнуть слюну и при этом слегка дергая головой, будто подавился. Он натужно откашлялся, выговорил: — Одна просьба к вам, прошу мне поверить.
— Ну? — произнес Шибаев без строгости, привыкая к его страшному виду, не морда, прости господи, скорее задница. — Что у тебя с лицом?
— Аллергия, экзема, вы же знаете, у меня чуть что… Никакое лекарство не помогает, на нервной почве. Главное, чтобы вы мне поверили, если не верите, не буду рассказывать.
— Верю, — терпеливо сказал Шибаев, — выкладывай. Шевчик пересел ближе — сообщение будет секретное.
— В общем так… — Шевчика била дрожь, будто он вылез из воды и сидит раздетым. — Забрали деньги, всю выручку.
— Там, в Кутаиси?
.— В Тбилиси. Лису я реализовал удачно, поехали за монетами в Гори, взяли девяносто две штуки, больше не было, поехали в Тбилиси и попались. И деньги, и монеты.
— Милиция?
— Милиция.
— А может быть, шайка, свои люди? Кладошвили где?
— Мы вместе приехали. Я уверен, милиция.
— По каким признакам? — Шибаев мог орать и требовать, предваряя беду, когда промашка еще не случилась, предупреждал, озадачивал. Но когда уже все провалено, кричать бесполезно, он не позволял себе пустого бабьего визга.
— Я сужу по мандражу, — в рифму сказал Шевчик. — Одно ощущение, когда тебя жулики стопорят, совсем другое, когда милиция. Вы понимаете?
— Нет. Опиши картину. — Шибаев спокоен, деловар тем и силен, что хладнокровен, когда надо, и горяч в самый раз. Надо и закипать вовремя и остывать.
— Подъехали на машине, выскочили сразу четверо, и не по-блатному, вразвалочку, а очень быстро, тренированно. Сразу наручники, и с ходу в город, в милицию.
— Сняли допрос, составили протокол, кто вы, откуда?
— Нет, отпустили, не доезжая управления. Шибаев подвел черту:
— Банда, и не спорь. Иди лечись. Плакали сорок тысяч.
— Слишком уж культурно, — растерянно настаивал Шевчик. — Профессионально. Нет, я особым чутьем чую, милиция.
Ему хотелось чуточку везения для устойчивости. Ведь если банда, так ничего хорошего, а если милиция прихватила и отпустила, то везение явное — и комбинат ни при чём, и семья его в покое. Есть везение, и впредь будет.
— Бывают такие дела, Алесь, когда банду от милиции не отличишь даже по отпечаткам пальцев, — усмехнулся Шибаев.
— Один вопрос, — сказал Шевчик. — Отработать, есть ли такая возможность? Мне нужно успокоение.
Как действовать с такими людьми? С одной стороны, проворонил, а с другой — ни жив ни мертв. Нельзя человека доводить до отчаяния, сейчас он готов руки на себя наложить. Надо его вылечить для дальнейшего пользования.
— Может, тебе в больницу лечь?
— Нет, дома лучше. У меня так было раньше, правда, в легкой форме. А тут сильное потрясение, все-таки сумма…
— Иди, лечись. Поедешь в Чимкент за каракулем, большая партия. Поправляйся. Ехать надо, чем быстрее, тем лучше.
Другой бы сбежал, все-таки сорок тысяч, но Шевчик честный. Жену с ребенком не бросил. Да ко всему знает, шеф его под землей найдет, явился, не запылился.
— Я отработаю, Роман Захарович! — истово, почти шепотом заверил Шевчик.
— Куда денешься, — успокоил его Шибаев. — Ты еще молодой, смотри веселее, а то рожа на что похожа? Жене только не признавайся, не надо ее тревожить.
Шевчик заплакал, зарыдал, сморкаясь, кашляя, и Шибаев не знал, что делать, вышел из кабинета, секретарша еще в Москве, он сам крикнул Колю — отвези товарища в больницу.
И пожаловаться некому, подумал Шибаев, ни богу, ни черту, ни прокурору, ни МВД. Кто они такие — Шевчик, Кладошвили, даже сам Шибаев? Можно, конечно, пожаловаться Грише Голубю, одному ему, и попросить, чтобы он свою охрану распространил на все союзные республики, чтобы разработали они хоть какой-то мало-мальски сдерживающий кодекс чести. Никакой совести у людей! И рассмеялся вслух — ха, ха, ха! — нашел о чем говорить.
Едва успел Коля отвезти Шевчика, как тут же появилось еще одно лицо, которое Шибаев едва узнал — Соня Костаниди, собственной персоной, но какова с виду! Если Шевчика обокрали, то Соню наоборот, наградили, обогатили, и, если у Шевчика морда, то у Сони личико. Она стала еще симпатичнее, миловиднее, женственнее, Шибаева сразу обозлила ее перемена, мгновенно представил, что Ирма тоже там, в Москве, превратилась в моднячую стервозу. Яростно уставился на Соню, ища в ней приметы разгула, совместного с Ирмой, разумеется, с Мельником. Зачем послал, дурак, девчонку, как приманку для кобелей? Она еще слова ему не сказала, как он сразу усек перемену в ней. Уезжала девочка, чистая школьница, а вернулась… Он ей выложит все, что понял, но сначала пусть доложит о результатах.
— Ну как съездила, Соня? — спросил он вполне приветливо.
— Ой, замечательно, Роман Захарович, спасибо за командировку. Я все выполнила, как вы сказали.
Он посмотрел на часы.
— Сейчас мне некогда, поговорим вечером.
— Мне остаться после работы?
— Нет, позвонишь вот по этому телефону. Я тебе скажу, куда приехать. — И он ей назвал телефон сорок третьей квартиры. — В девять вечера я тебя буду ждать, звони. А сейчас приступай, мы без тебя скучали. — Он даже улыбнулся, оскалился.
Есть ему, о чем поговорить, есть. Надо выспросить все детали, которые Соня по молодости может неправильно оценить. Надо снять ревность, она трясет его, нервы натянуты, а расслабиться не дают, дела идут сплошняком. Едва Соня вышла, как на ее место влетел директор пивзавода, задержали в Джезказгане фургон с левым пивом — помоги-и! Пивзавод оставлен на ревизию, пропадаем, а для пива самый сезон, самая жара! Вот так вот и живем, то плачем, то платим. Пообещал, проводил директора пивзавода, Каролина принесла заявление на отпуск, приспичило ей в Сочи ехать, а в цехе пошива бардак, недостача и долги, Прыгунов как раз из-за её девок отчитывал Шибаева. Но у нее путевка, подали ей на блюдечке из шахтоуправления, будет телеса свои купать в Черном море. Он вообще бы ее выгнал, охамела, но она не хочет уходить, мало того, еще и начинает грозить, чуть что, — всех пересажаю. Бывают такие кадры. Шевчик готов сбежать, так он нужен, работник толковый. А Каролину не выгонишь. Да и Васю Махнарылова попробуй сейчас из начальника перевести в какие-нибудь рядовые.
После Королины явилась Зябрева собственной персоной, напомнила — он приглашал ее отобрать шкурки для жены нашего общего друга. Шибаев руки расставил — пожалуйста, будем рады. Позвал завскладом, пошли туда вместе с Зябревой, и она стала отбирать каракуль, причем умеючи — смотрела на маркировку, потом мяла, теребила, подносила к свету, да и так видно было, шкурки отменные, по двадцать восемь, по тридцать рублей.
— Мы сделаем их по семь, — сказал Шибаев. — Устраивает?
— Я это не для себя, — ответила Зябрева и напомнила, что, помимо каракуля, ей нужна еще и норка белая.
— Все к вашим услугам, Альбина Викторовна! — разулыбался Шибаев. — У нас как раз осталось штук десять высшего сорта «дыхание весны». — И обратился к завскладом: — Почем они?
Завскладом ответила — по девяносто рублей шкурка, и выложила их на стол. Шибаев тут же, химическим карандашом, крупно поставил цену на обороте каждой шкурки — 3 р. 50 коп., 3 р. 90 коп., 4 р. 10 коп. Зябрева смотрела на его работу, не отворачивалась. Моргнет или не моргнет? Моргнула:
— Я это не для себя. — Сказала, не оправдываясь, а просто так, в космос. — Прошу не забывать.
— Как это «не для себя»? — удивился Шибаев весело. — Только бульдозер от себя гребет. — И дальше с шуточками-прибауточками сказал, что у них там, в торговой инспекции, лютует кадр молодой по фамилии Шиллер из «Казторгодежды» — что ни день, то возврат брака на комбинат. Зачем это делать, если у нас все одинаково плохое? Чего он у вас выдрючивается-выпендривается, узнайте, пожалуйста.
Зябрева шкурки не забрала (и напрасно, как покажут дальнейшие' события), попросила их отправить в ЦУМ Тлявлясовой, пусть продаст, как положено. Шибаев не забыл привесить еще и ярлык с товарным гербом комбината, красивый, надо сказать, герб — два барана уперлись крутыми рогами. И все, начало с Зябревой сделано. При свидетеле…
После работы он поехал в квартиру номер сорок три. В девять Соня позвонила, он сказал адрес, она пришла.
— Хозяйничай сама, поухаживай за своим шефом.
Выставил коньяк, выпил, легче ждать, пока она там чай приготовит.
— Это квартира Ирины Григорьевны?
— Нет, — сказал он машинально, забыв, что в Москве она не Ирма, здешняя, провинциальная, неполноценная, она там Ирина равноправная, готовенькая москвичка. Надо в себе удержать псих, иначе Сонька ничего не расскажет, если увидит, как его бесит любая мелочь.
— А можно мне квартиру посмотреть? — Осторожно ступая босыми ногами по коврам, она ходила и с затаенной жадностью все рассматривала, шею свернула, на люстру засмотрелась, чуть лоб об дверь не расшибла. И на кухне еще получше, чем у Мельника в Москве, взгляд ее так и прилип ко всему, ей бы товароведом быть. А разве нельзя ей быть просто женщиной, любящей уют, красоту, достаток? Открыла газ, поднесла спичку, но смотрела не на горелку, а на полочку со всякой дорогой мелочью, пламя полыхнуло, и Соня ойкнула довольно громко и рот прикрыла рукой, соседи услышат, — могли бы услышать, если бы Цыбульский не сделал надежную звукоизоляцию.
Зачем рассматривать, не все ли равно, где сидеть, лежать, спать, завтракать, ужинать, лишь бы крыша была над головой, — нет, новая молодежь глазастая, жадная, поэтому из них можно веревки вить, заставлять их работать. Только вот работать они как раз-то и не хотят, норовят украсть, дорогу сократить к сладкой жизни. Он сел в кресло, взял со столика журнал — немецкий, мимолетно подумал, а через кого она получает такой журнал, нигде в киосках его не купишь? Может, дунуть на нее, куда надо? Впрочем успеется. Пронзительно засвистел чайник, и Соня ринулась на кухню, тукая по полу голыми пятками, легонько стала хлопать дверцами в поисках заварки, кофе, сахара, попутно разглядывая кухонные причиндалы. Он сам между прочим удивился, как это Ирма успела за какие-то месяцы, года не прошло, и квартиру обставить и понабрать всякой лишней муры, которая обычно скапливается в давно обжитых домах. Можно было хорошо ее вспомнить, но мешала тоска, душу крутила ревность — почему она ничего не передала с Соней? Не ожидал, что так сразу распустится без нее, заметался, запсиховал уже на первой неделе разлуки.
Соня принесла чашки и заварной чайник, ставя их на столик, наклонилась, из-за пазухи выпал на золотой цепочке крестик фигурный, видно, что дорогой.
— Кто это тебя там озолотил?
— А мне родители дали. — Она испугалась. — Разрешили купить… Ладно, ври пока, ври — про себя, но попробуй мне соврать про Ирму — язык проглотишь.
Соня аккуратно все расставила, она уже освоилась, а он подумал, не оставить ли ее здесь хозяйкой до возвращения? И снова тоска, как нож, Ирма же сюда не вернется, приедет ее мать-старуха из Дружбы, поселится. А ему еще надо выполнить программу, и уже ясно, что до конца года он не успеет.
Она налила ему чашку, поставила перед ним сахар.
— Рассказывай подробно, как долетели, кто встречал, где остановились.
Соня короткими глотками выхлебала полчашки, воодушевилась. Летели они замечательно, в воздухе познакомились, Ирина Григорьевна серьезная женщина, научила Соню, как правильно себя вести. И вообще говорит, имей голову на плечах.
— Любому надо иметь голову, — сказал Шибаев. — В связи с чем она тебе так сказала?
— В связи с чем? — переспросила Соня. — Да я забыла как-то, знаете.
— Врешь, — сказал Роман Захарович. — На первый раз прощаю, но второй раз — смотри мне. Давай дальше.
А дальше, чем больше она рассказывала, тем больше боялась выдать себя, а получалось — Ирину Григорьевну. А он подгонял вопросами, перебивал ее.
— У Михаила Ефимовича хорошая квартира… мы расположились, потом сходили с Ириной Григорьевной в ГУМ, купили себе… ну мелочь разную. Вечером посмотрели телевизор и легли спать.
— А утром погнали Мельника за пивом, чтобы похмелиться, у Ирины Григорьевны болела голова, правильно?
Соня рассмеялась:
— Что вы, там у него всякое пиво, и в бутылках, и в каких-то фирменных банках, обалдеть можно, но дело не в этом. Вечером он уехал к себе на дачу, купил у певицы Руслановой.
Он всегда брешет, Мельник, то он живет на даче Маленкова, то Хрущева, то на даче фельдмаршала Паулюса.
— Уехал и больше не появлялся?
— Нет, приезжал, отвозил нас и привозил, если у него было врбмя. Он же в Совете Министров работает.
— Да что ты?! — изумился Шибаев. — Ясно, давай дальше. В Измайлове была?
— Была и все внимательно рассмотрела. Всего четыре комнаты, плюс кухня. Есть подвал, дворик, правда, небольшой, но «Волгу» свою черную Михаил Ефимович загнал свободно.
— Кто там живет?
— Старик, хозяин.
— Дряхлый или еще бодрый? В загсе не будет видно, что брак фиктивный?
— Знаете, Роман Захарович, мужчине хоть и сто лет, он всё равно вид имеет, не то, что женщина. Старик еще бодрый, приезжал в Каратас зимой кататься на лыжах, едут к нам, прямо как в Швейцарию.
— Обстановка в доме какая?
— Обыкновенная, не сравнить… вот с этой. — Она понимающе улыбнулась, дескать, знаю, с чьей это помощью.
— А сын его был, Жора? — имя он взял от фонаря.
— Нет, Жоры не было, был Аркадий, мастер фотодела, у них выставка готовится на тему «Простой советский человек», я, говорит, вас сделаю ткачихой из Каратаса… Сфотографировал нас с Ириной Григорьевной в Измайловском парке, шашлыком угостил, я удивилась, шашлык на вес, вот такие куски, с руку толщиной.
Струны в душе Шибаева звенели на пределе — старик всего лишь прикрытие, она за фотомастера выйдет.
— А зачем ей со стариком связываться, если есть Аркаша? — предположил Шибаев вслух. — Будет похоже на настоящий брак.
— Тем более, что они родились в одном доме.
— Как понимать?
— Они вспомнили, как были в эвакуации, Аркаша родился в Каратасе во время войны. А Ирина Григорьевна добавила, мы, говорит, с вами появились в одном роддоме.
— Почему она с тобой не приехала?
— Она не спешила, как я поняла. Дочь у нее в лагере на всё лето. — Видя, что он помрачнел и может взорваться, он часто кричит в кабинете то на одного, то на другого. Соня торопливо добавила: — У меня сложилось впечатление, что она осталась по уговору с вами. Или что-то изменилось?
— Хандра напала, вот что изменилось.
— Я так поняла, что еду посмотреть на Москву и обратно, а она едет оформлять брак, это за один день не сделаешь, правильно? — пыталась Соня успокоить своего шефа.
— Разговора о цене не было?
— О цене за что? — она вдруг покраснела.
— За дом, за что же еще!
— А-а-а, был разговор, был. Ирина Григорьевна просила передать, что стоимость его будет выше предполагаемой. Метро рядом и все такое.
Он молчал. Значит, она там и сегодня не одна. Ходит, жрет шашлыки с Аркашей-фотомастером. Родились в одном доме.
— Вообще, Роман Захарович, мне бы тоже хотелось туда перевестись, — мечтательно сказал Соня.
На родине его, в Курской области, нет девок по деревням, ускакали в город за подачками, в официантки, продавщицы, секретутки. Вымирает деревня, сигают сучки из дома, ни семьи не хотят, ни детей, вот как эта.
— Я бы все отдала, лишь бы там жить!
А что у тебя есть, ты уже отдала все, что имела, и наверняка продешевила. А вот Ирма взяла в кабалу Шибаева и не отпустит, пока всего не выдоит. Он бросит тут дела к чертям и отправится в Москву, пусть все горит синим пламенем.
— Вы там ночевали, в парке?
— Н-нет…
Он заметил, что она смутилась и потребовал:
— Только не врать!
— Да я и не собираюсь, вы прямо-таки… В первую встречу все остались ночевать, Ирина Григорьевна тоже осталась.
— А ты?
Где-то близко опасность, но Соня уже увильнуть не может, он действует на нее, как удав.
— Ой, жарко! — Она взяла немецкий журнал и стала размахивать, как веером перед собой.
На обложке лицо женщины, так похожей на Ирму! Он даже запах духов услышал Ирминых от этих маханий.
— Ты тоже осталась? — он будто вонзил в нее вопрос.
— Меня Михаил Ефимович отвез. Я устала и попросила, чтобы он меня отвез… по пути, собственно говоря.
Не сосчитать, скольких девок Мельник заставил потерять невинность в разных смыслах, в прямом и переносном. Для него разложить, развратить — главное счастье. Если бы не было таких, как Мельник, Шибаев жил бы совсем иначе. Как? Да никак, ему только так кажется, а на самом деле он всегда подражал бы не Мише, так Грише. Говорят, микробы ни на золоте, ни на серебре не водятся. Но серебром и золотом можно сгноить человека быстрее, чем чумой или холерой. Главное — чтобы были чистые и невинные, чем больше их, тем лучше. Зачем? Чтобы жизнь была чище? Нет, — чтобы было кого дурачить.
Чего ты на Мельника разозлился? Сучка не захочет, кобель не вскочит. Послал девчонку, а вернулась шлюха. Он смотрел на нее прямо, мрачно, оглядывал ее голые руки, голые ноги. Кресло низкое, и подол задрался.
— Раздевайся, — сказал Шибаев.
Наступила полная тишина, полнейшая. Цыбульский на совесть сделал, ни звука снаружи, двери двойные и рамы запакованы.
— Как, совсем? — спросила она, стараясь не пугаться, и что-то еще думая, может, опять про голову на плечах. В конце концов, почему бы ей не покрутить своим шефом, ведь у других получается? А он подумал, что предложит сейчас ей такую программу, которую по любви не предлагают. Бесплатно.
— Совсем.
И пусть она орет, хоть раздерется — Цыбульскому за все заплачено.
— Но свет хотя бы можно выключить?..
Глава двадцать первая РУКИ ВВЕРХ!
В меховом отделе Центрального универмага работали три человека, две Люды — Неешхлебова и Пак, совсем молоденькие, они торговали всего один год, и заведующая Тлявлясова Хадиша Ивановна, на самом деле Имановна. Девочкам работа нравилась, Тлявлясовой нравились девочки, с ними можно было выполнять план. Вначале обе Люды отказались торговать левым товаром — сейчас не деньги для них главное, а доверие и авторитет. Заканчивается строительство нового универсама, и обе Люды хотят получить туда хорошую рекомендацию. Девочки не пропустили ни одного субботника, и никак не хотели себя компрометировать левым товаром. Тлявлясова напомнила им, что она является не только завотделом, но также и председателем месткома, и не сможет дать им нужную характеристику по очень простой причине — девочки преследуют корыстные интересы и не хотят поддержать отдел, когда у нас горит план товарооборота. Она привозит с мехового комбината острый дефицит, на базе такой продукции сейчас нет. Горторг требует выполнения любой ценой — ищите товар, кровь из носа, но чтобы план был, иначе останетесь без прогрессивки. Если вы меня не поддержите, заявила Хадиша Ивановна, тогда принцип на принцип — на работу в универсам она их не пустит. Напишет, что обе Люды не заслуживают доверия и склонны к сотрудничеству с ОБХСС. Не дождавшись ответа на свою речь, она принесла из подсобки мешок с воротниками из лисы и приказала реализовать. «Не бойтесь, девочки, инспекция в наших руках». Обе Люды переглянулись, попросили фактуру, завотделом выписала, и в тот же день мешок воротников был продан. «Молодцы девочки, я вам гарантирую характеристику». Но этого мало, перед закрытием она дала каждой Люде по сто семьдесят рублей — к вашему дню рождению. Потом Тлявлясова доказала им, что она в хороших отношениях с Зябревой. Когда торгин-спекция опечатала подсобку, Хадиша Ивановна позвонила ей, после чего собственноручно сорвала пломбу, сказав обеим Людам: видите, я никого не боюсь.
— Сегодня, девочки, день особенный, требуется от нашего отдела повышенная дисциплина, — сказала Хадиша Ивановна. — Сегодня нас должна посетить жена председателя исполкома, самого товарища Барна-улова. Она хочет приобрести каракуль, а также норку честным путем, а не через черный ход.
Предупредив девочек об особой ответственности, Хадиша Ивановна пошла приготовить чай, а обе Люды стояли без нее и нервничали — что там за жена, не лучше ли ей пойти, как все начальники, через подсобку? Как бы чего не вышло. И еще Тлявлясова предупредила, чтобы девочки, не дай бог, не продали кому попало во. эту норку и черный каракуль. Она показала им отменный товар, тридцать шесть шкурок, на обороте хорошо видна маркировка — по двадцать пять, по двадцать девять, по тридцать два рубля, отборный каракуль, приятно его погладить пальцами. Но в накладной указывалось, что цена каждой шкурки по семь рублей восемьдесят копеек, ввиду значительного дефекта. Вот так, девочки, хоть верьте глазам, хоть не верьте. Могли хотя бы маркировку зачеркнуть — нет, оставили. За тридцать шесть штук жена эта самая заплатит двести восемьдесят три рубля тридцать две копейки. Обе Люды переглянулись, — на самом деле шкурки стоят больше тысячи рублей. Девочки никому не скажут, жена мэра тоже. Выписана накладная, она пойдет для отчета и никто не будет разглядывать маркировку. Вместе с хорошим каракулем тут же лежала белая норка, тоже отобранная для воротника и для шапочки, якобы сделала это сама Зябрева.
— Девочки, смотрите, я на вас надеюсь, — опять появилась Хадиша Ивановна. — С минуты на минуту она должна прийти, девочки, с минуты на минуту…
В эту самую минуту в широкие двери ЦУМа входил Нурлан Батыр-беков, машинист электровоза шахты «Вертикальная-бис», член ВЛКСМ, ударник коммунистического труда, который тоже хотел купить по-честному жене подарок в честь ее дня рождения. Пока он был холостой-неженатый, он не отмечал никаких таких дней подарками, потом, после службы в армии, вернулся в родной аул Адилет, женился на Гульжан, и она потребовала отмечать два дня рождения, его и свой. Из аула они уехали в Каратас, Нурлан пошел на шахту получать большие деньги, пятьсот, как говорили ему, и даже больше. Прошло два года, у них стало четыре дня рождения, две девочки появились, Айша, а потом Гайша. Если так дело пойдет и дальше, к следующей пятилетке в семье Нурлана будет десять дней рождения, и надо каждый год десять подарков. А зарплата одна, и дома своего нет, есть только комната в общежитии для семейных, но дом у Нурлана обязательно будет, чтобы держать баранов штук пять, десять, пятнадцать и обязательно лошадь — для детей кумыс. И вообще казах без лошади не казах.
Бестолковее Центрального универмага Нурлан ничего не знает, всего здесь навалом, окосеешь, пока разглядишь. Ходишь, ходишь, весь мокрый, потный, в сон тебя начинает бросать, в глазах рябит, а того, что надо, не найдешь, хуже базара. Вещь надо купить такую, чтобы осталось семье на еду, нехорошо занимать до аванса. Гульжан просит дубленку и сапоги со смехом. Сейчас лето, можно потерпеть, а зимой мал-мал накопим и купим. Если будет дубленка, нужна шапка. Нурлан пошел в «Головные уборы», посмотрел, шапки на его вкус нет, сплошные кепки, шляпки по четыре рубля, по семь рублей, по двенадцать рублей — дешевка, Гульжан может обидеться. Заработок у него приличный, в среднем четыреста в месяц: аванс сто двадцать и получка рублей двести с лишним, кое-что туда-сюда бухгалтерия вычитает. Питание берет много, на каше-маше рубать уголек не сможешь, нужна баранина, шесть-семь рублей на базаре, а еще лучше конина, казы, чужук, ну, конечно, раз в полмесяца можно раздавить с Гульжан «пузурок». В меховом отделе Нурлан не увидел ничего подходящего, только лиса, сплошная лиса и лежит, и висит, смотреть не на что. Нурлан знает, какой бывает зверь. В его ауле Адилет и на волка охотятся, и на корсака с беркутом, и на лису, только не такую, а рыжую, как огонь. А эта, как мышь, и цена ойбой, что за цена — сто тридцать пять рублей!
— Какой зверь? — спросил Нурлан молодую продавщицу-кореяночку.
— Это не зверь, — ответила она. — Это лиса серебристо-черная.
— Это не лиса, а кошка, ты не видела настоящую лису, — начал поучать ее Нурлан. — У нее красивый мех, не сравнить.
Даже такую драную лису он не может купить без потери для своего кармана, у него стало везде щемить, ломать, крутить, все стало болеть, как перед плохой погодой у старого-престарого деда. Нурлану стало не по себе.
— Кто такую цену выдумал? — недовольно спросил Нурлан.
Кроме кореяночки здесь еще была русская молодая, они переглянулись — ходят тут всякие, посмеялись над Нурланом. Он был и ушел, но тут появилась третья, уже давно не девочка, толстая большая казашка, вся в золоте, их начальница, и сказала Нурлану по-казахски, чтобы он шел отсюда, если денег нет, здесь бормотуху не продают. Нурлан послушался ее совета и пошел от мехового отдела в часовой. Если бы она ему сказала какие-нибудь другие слова, если бы его так проводила, допустим, русская или кореяночка, он ушел бы спокойно. Но поскольку напутствовала его такими, не совсем хорошими, словами казашка, иди, мол, кочуй дальше, пустой карман, в нем засела заноза, и с каждым шагом она все глубже проникала в сердце Нурлана, и ничего ему не оставалось, как эту занозу вытащить. Но каким способом, он пока не знал. Вместо меха он решил купить Гульжан золотое кольцо, приблизительно, как у этой казашки, толщиной с жирную гусеницу. В ювелирном отделе он смотрел, смотрел, оказывается, если брать толстое кольцо, нужно выложить больше, чем аванс и зарплата вместе взятые — четыреста восемьдесят рублей. Есть дешевле — по сто пятьдесят, тонкое, как нитка, — зачем? Чем больше золота, тем больше радости, Нурлан понимает, не маленький. Ходил он, ходил целый час, ничего не выбрал, плюнуть решил. Остается на самом деле купить «пузурок» и ехать домой к Гульжан, к детишкам на шестом автобусе. Но ему что-то мешало, он как будто что-то потерял или наоборот, ему дали лишнее. Он быстро пошел в меховой отдел, там за это время ничего не изменилось. Все три продавщицы в синих халатах во главе с этой толстой в золоте стояли чинно и смотрели во все глаза на покупателей. Они будто ждали, высматривали Нурлана, чтобы вытащить его занозу. Сейчас он с ходу увидел, что и у молоденьких тоже в ушах золото, пусть поменьше, чем у толстой, но побольше, чем у его Гульжан. Зарплата у продавца рублей семьдесят, а кольцо за четыреста восемьдесят откуда? Не знал Нурлан, сын степи, что дело тут не в зарплате, что золотое колечко дают утруска, усушка, утечка. Стоят и смотрят по сторонам, что за работа, разве сравнить с шахтой? Заноза еще глубже вошла в сердце Нурлана, надо что-то делать. За два шага до прилавка он достал получку, не хотел, чтобы его опять прогнали, достал получку и начал по одной бумажке, по двадцать пять, выкладывать прямо на стекло, под которым лежала драная кошка, называемая черно-бурой лисой. При виде денег у них и доверие к покупателю появилось, они уже вежливее, внимательнее, они уже забыли, что оскорбили этого молодого казаха, а это еще больше обидело Нурлана — как так, оплевать человека и тут же забыть?
— Можно вас на минутку? — попросил Нурлан старшую, а когда она слегла перегнулась через свою витрину, он четко правой рукой без промаха вцепился в ее ухо с золотой серьгой, а левой рукой начал собирать свои деньги.
— Котер колынды! — дал ей простую команду Нурлан, что означает «руки вверх». Начальница дернулась, желая освободиться, но какой он джигит, если не удержит какую-то хамовитую бабенку, тогда как его предки удерживали одной рукой необъезженного скакуна? Она дернулась, заорала, завыла, как волчица в степи, потому что вырваться не удалось, сама себе сделала хуже. Нурлан схватил не для того, чтобы отпустить, а для того, чтобы выставить напоказ ее золото.
— Руки вверх! — громче прежнего потребовал Нурлан, не разжимая пальцев, а другой рукой тем временем спокойно собрал в карман свои деньги с прилавка, все до единой бумажки. На взгляд со стороны можно было подумать, что он собирает казенные деньги и является грабителем.
— Сколько зарплата? Кричи громко: сколько зарплата? — потребовал Нурлан.
Начальница только выла и вращала глазами, будто что-то искала вокруг себя потяжелее, однако Нурлан держал ее мертвой хваткой, как беркут лисицу.
— Сто двадцать! — она провизжала недостаточно громко.
— Сколько? — повторил Нурлан и еще повернул ухо слегка. — Золото на такую зарплату не купишь.
Вокруг собрались любопытные, в основном женщины и дети. Был только крик, но без всяких размахиваний руками или предметами. Молодой человек требовал ответа на свой вопрос. Можно было при желании подумать, что энтузиаст из народа проводит социологическое исследование на тему — кто сколько получает и на что тратит.
Послышались добросердечные советы со стороны:
— Скажите, и он вас отпустит.
— Скажите, скажите!
Однако Нурлану никто ничего не советовал, видят, что он никого не бьет, не калечит, просто ждет ответа.
Но тут подошла еще одна черноволосая женщина лет тридцати пяти, тоже, кстати сказать, в золоте, она бесстрашнее других приблизилась совсем вплотную, сильно возмущенная сценой, и закричала на Нурлана:
— Отпустите ее! Слышите, хулиган, прекратите безобразие!
Она была русская и, наверное, начальница, судя по голосу, облсовпроф или технадзор, но поскольку сильно кричала и золота на ней тоже было полно, да еще и жестикулировала перед лицом Нурлана, то он свободной рукой схватил ее за ухо, вернее, хотел схватить, но помешали волосы, сплошная завивка, он вынужден был вцепиться в ее кудри, очень прочно, как хватают скакуна за гриву, и громко задал ей тот же самый вопрос: а сколько вы получаете?
— А-а-й! — завизжала русская еще громче казашки. — Какое твое дело, хам?!
— Руки вверх! — скомандовал ей Нурлан. И она подняла, сколько могла, и видно стало, что на руках у нее штук пять колец, все золотые, с камешками и без.
Появился завунивермагом, стройный мужчина в темном костюме, он вежливо дал объяснение, что действительно зарплата у заведующей отделом сто двадцать рублей.
— Зови милицию! — зычно скомандовал Нурлан, перекрывая женский визг. — На такую зарплату золото во всех местах.
Пора кончать с несправедливостью, Нурлан рабочий, в нашей стране он хозяин, зачем терпеть всяких жуликов-нуликов, Нурлан взял сейчас власть и требует ответа.
Публика со всего этажа сбежалась сюда, другие отделы оголились, но продавцы не могли оставить свое рабочее место и только спрашивали, в чем там дело, кто это кричит «руки вверх», в спорттоварах молодая продавщица интересовалась, сколько он взял в свой карман, будто обещал поделиться, другая молоденькая из отдела парфюмерии даже слышала стрельбу и гадала, из какого это оружия, холодного или огнестрельного?
Вскоре пробился через женскую толпу парень лет тридцати с ключами от «Волги», шофер, и возвестил Нурлану:
— Тебе будет срок, это жена товарища Барнаулова.
Нурлан его не понял, он не знал никаких таких товарищей и продолжал требовать: «Зови милицию!» — но толпа не двигалась с места, убежал только шофер и увел стройного директора.
— Тебя же и заберут, дурачок, — пыталась уговорить Нурлана какая-то добрая старушка, но он был непреклонен, две женские головы припали к его рукам, как никогда в жизни не припадали и уже, наверное, не припадут, разве только Гульжан и мать его, да еще две дочери припадут к Нурлану после суда, но пока об этом говорить рано. Кто-то предложил вызвать скорую, кто-то возмутился — ЦУМ в самом центре, а кричи не кричи, милицию не дозовешься. Сначала прибыла скорая, но Нурлан никого не подпустил к месту происшествия, пока не прибыла милиция, да какая — наряд во главе с полковником Адиловым, начальником областного управления внутренних дел. Нурлан им сказал спасибо, он уже весь вспотел, руки его окаменели, но он удержал золотоносных баб до подхода главных сил.
чтобы вытащить его занозу. Сейчас он с ходу увидел, что и у молоденьких тоже в ушах золото, пусть поменьше, чем у толстой, но побольше, чем у его Гульжан. Зарплата у продавца рублей семьдесят, а кольцо за четыреста восемьдесят откуда? Не знал Нурлан, сын степи, что дело тут не в зарплате, что золотое колечко дают утруска, усушка, утечка. Стоят и смотрят по сторонам, что за работа, разве сравнить с шахтой? Заноза еще глубже вошла в сердце Нурлана, надо что-то делать. За два шага до прилавка он достал получку, не хотел, чтобы его опять прогнали, достал получку и начал по одной бумажке, по двадцать пять, выкладывать прямо на стекло, под которым лежала драная кошка, называемая черно-бурой лисой. При виде денег у них и доверие к покупателю появилось, они уже вежливее, внимательнее, они уже забыли, что оскорбили этого молодого казаха, а это еще больше обидело Нурлана — как так, оплевать человека и тут же забыть?
— Можно вас на минутку? — попросил Нурлан старшую, а когда она слегла перегнулась через свою витрину, он четко правой рукой без промаха вцепился в ее ухо с золотой серьгой, а левой рукой начал собирать свои деньги.
— Котер колынды! — дал ей простую команду Нурлан, что означает «руки вверх». Начальница дернулась, желая освободиться, но какой он джигит, если не удержит какую-то хамовитую бабенку, тогда как его предки удерживали одной рукой необъезженного скакуна? Она дернулась, заорала, завыла, как волчица в степи, потому что вырваться не удалось, сама себе сделала хуже. Нурлан схватил не для того, чтобы отпустить, а для того, чтобы выставить напоказ ее золото.
— Руки вверх! — громче прежнего потребовал Нурлан, не разжимая пальцев, а другой рукой тем временем спокойно собрал в карман свои деньги с прилавка, все до единой бумажки. На взгляд со стороны можно было подумать, что он собирает казенные деньги и является грабителем.
— Сколько зарплата? Кричи громко: сколько зарплата? — потребовал Нурлан.
Начальница только выла и вращала глазами, будто что-то искала вокруг себя потяжелее, однако Нурлан держал ее мертвой хваткой, как беркут лисицу.
— Сто двадцать! — она провизжала недостаточно громко.
— Сколько? — повторил Нурлан и еще повернул ухо слегка. — Золото на такую зарплату не купишь.
Вокруг собрались любопытные, в основном женщины и дети. Был только крик, но без всяких размахиваний руками или предметами. Молодой человек требовал ответа на свой вопрос. Можно было при желании подумать, что энтузиаст из народа проводит социологическое исследование на тему — кто сколько получает и на что тратит.
Послышались добросердечные советы со стороны:
— Скажите, и он вас отпустит.
— Скажите, скажите!
Однако Нурлану никто ничего не советовал, видят, что он никого не бьет, не калечит, просто ждет ответа.
Но тут подошла еще одна черноволосая женщина лет тридцати пяти, тоже, кстати сказать, в золоте, она бесстрашнее других приблизилась совсем вплотную, сильно возмущенная сценой, и закричала на Нурлана:
— Отпустите ее! Слышите, хулиган, прекратите безобразие!
Она была русская и, наверное, начальница, судя по голосу, облсовпроф или технадзор, но поскольку сильно кричала и золота на ней тоже было полно, да еще и жестикулировала перед лицом Нурлана, то он свободной рукой схватил ее за ухо, вернее, хотел схватить, но помешали волосы, сплошная завивка, он вынужден был вцепиться в ее кудри, очень прочно, как хватают скакуна за гриву, и громко задал ей тот же самый вопрос: а сколько вы получаете?
— А-а-й! — завизжала русская еще громче казашки. — Какое твое дело, хам?!
— Руки вверх! — скомандовал ей Нурлан. И она подняла, сколько могла, и видно стало, что на руках у нее штук пять колец, все золотые, с камешками и без.
Появился завунивермагом, стройный мужчина в темном костюме, он вежливо дал объяснение, что действительно зарплата у заведующей отделом сто двадцать рублей.
— Зови милицию! — зычно скомандовал Нурлан, перекрывая женский визг. — На такую зарплату золото во всех местах.
Пора кончать с несправедливостью, Нурлан рабочий, в нашей стране он хозяин, зачем терпеть всяких жуликов-нуликов, Нурлан взял сейчас власть и требует ответа.
Публика со всего этажа сбежалась сюда, другие отделы оголились, но продавцы не могли оставить свое рабочее место и только спрашивали, в чем там дело, кто это кричит «руки вверх», в спорттоварах молодая продавщица интересовалась, сколько он взял в свой карман, будто обещал поделиться, другая молоденькая из отдела парфюмерии даже слышала стрельбу и гадала, из какого это оружия, холодного или огнестрельного?
Вскоре пробился через женскую толпу парень лет тридцати с ключами от «Волги», шофер, и возвестил Нурлану:
— Тебе будет срок, это жена товарища Барнаулова.
Нурлан его не понял, он не знал никаких таких товарищей и продолжал требовать: «Зови милицию!» — но толпа не двигалась с места, убежал только шофер и увел стройного директора.
— Тебя же и заберут, дурачок, — пыталась уговорить Нурлана какая-то добрая старушка, но он был непреклонен, две женские головы припали к его рукам, как никогда в жизни не припадали и уже, наверное, не припадут, разве только Гульжан и мать его, да еще две дочери припадут к Нурлану после суда, но пока об этом говорить рано. Кто-то предложил вызвать скорую, кто-то возмутился — ЦУМ в самом центре, а кричи не кричи, милицию не дозовешься. Сначала прибыла скорая, но Нурлан никого не подпустил к месту происшествия, пока не прибыла милиция, да какая — наряд во главе с полковником Адиловым, начальником областного управления внутренних дел. Нурлан им сказал спасибо, он уже весь вспотел, руки его окаменели, но он удержал золотоносных баб до подхода главных сил.
Нурлан был доволен собой, он выполнил свой гражданский долг. Однако день рождения Гульжан он встретил не в семейном кругу, а в камере предварительного заключения. В протоколе задержания было сказано, что гражданин такой-то, во столько-то часов и столько-то минут ворвался в меховой отдел Центрального универмага и, действуя с исключительной дерзостью, совершил разбойное нападение на заведующую отделом Тлявлясову, нанес потерпевшей тяжелые телесные повреждения и похитил из кассы отдела всю дневную выручку в размере: девять тысяч триста пятьдесят три рубля семьдесят коппек.
Нурлан Батырбеков думал-думал в камере, гадал-гадал, почему попал и за что попал, всю ночь думал и на рассвете понял, что виной всему был его родной аул Адилет, что в переводе на все другие языки мира означает Справедливость.
Глава двадцать вторая ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ
Тоска одолела Шибаева. Вышел ночью во двор, на звезды смотрел, искал, где север, где Москва. Что она там сейчас делает? Думает ли о нем? «Не знают звезды, что они звезды». Забыть бы, повыть-поканючить…
Утром он позвонил Прыгунову — нас надо закрывать, сырья нет! Тот утешил — будет кролик осенью, обещали полтора миллиона шкурок. Шибаеву нужны благородные меха, соболь, песец, лица, на кролике много не заработаешь. Еще вопрос: когда нам будет присвоено звание коммунистического труда, неужели так трудно бумагу подписать? Прыгунов сказал, что он все помнит, дело идет по инстанциям.
Надо лететь в Москву, но бросать Каратас нельзя, дел у него под кадык, создалась пиковая ситуация. В ЦУМ сдано воротников на семьдесят тысяч и весь доход в резерв, а Тлявлясова на больничном, аульный казах оторвал ей ухо. Ходил по универмагу с ружьем, кричал, кому хотел, «руки вверх», и снимал золото. Тлявлясова попыталась оказать сопротивление, так он ей ухо оторвал вместе с серьгой девятьсот девяносто пятой пробы. Пришлось срочно принимать меры, просить Зябреву опечатать склад. И толкает их черт обвешиваться золотом, только народ дразнят. Надо сказать Голубю, чтоб намотали тому аульному на полную катушку. Дикий прокол создал своим бандитским действием. Директор ЦУМа сколько ни звонил по ноль два, у милиции один ответ — что у вас там людей мало? Еще Дзержинский говорил — наша милиция сильна поддержкой народа.
Нужен план, а пушнины нет, опять надо к Рахимову посылать Васю и пять тысяч вручать. Но тут сам Рахимов позвонил: не мог бы Роман Захарович съездить со мной в Москву? Либо ему дитя надо устроить в институт, либо кого-то отблагодарить за помощь. Чиновники любят звать в компанию хозяйственника, чтобы обеспечить поездку материально. Просьба начальника — закон для подчиненного, поедем. Ирме он ничего не скажет, явится неожиданно. Она звонит в последнее время часто, нужны документы для оформления, он знает какие. Скоро начинается учебный год, девочку надо в школу устраивать, пора утрясать с жильем. А он не может с ней говорить нормально, ревность из него так и брызжет в каждом слове, не успокоится он, пока не повидается с ней, пока не разденет. Она не в силах ублажить его за три тысячи километров. Зато сама спокойна, только здесь, говорит, вздохнула свободно от твоей Зинаиды, хотя нет гарантии, что взамен тебя она сама не прилетит.
Жена не верит ему так же бешено, как сам он не верит Ирме. Слава богу, весенний приступ любви у Зинаиды кончился, она не пристает к мужу, а он до сего дня не может объяснить, отчего у нее такая блажь была. Марафет наводила, в парикмахерскую бегала, и в новых платьях перед ним фасонила, зачем? Так и останется загадкой. До поры до времени.
С Рахимовым договорились лететь одним рейсом. Шибаев к нему подсел в Каратасе. Им забронировали места в гостинице «Россия», прилетели они в Домодедово в два часа дня, а в четыре уже устроились в гостинице, перекусили в буфете, заметив, что здесь было все, что твоей душе угодно, роскошный буфет, после чего Шибаев на такси поехал в Измайлово. Он надеялся застать ее врасплох, испытывал удовольствие оттого, что свалится, как снег на голову. Пока искал дом, вспотел, хотя и непогода, прохладно. Москва здесь не ощущалась, это и хорошо, место почти дачное. К Москве он никак не привыкнет, с дурацкими ее расстояниями. Полжизни тратит на преодоление городских километров. В метро толкучка, на автобусных остановках толпа мается в любой час хоть дня, хоть ночи.
Нашел нужный дом, у калитки номер под козыречком, а чуть пониже черная пуговица звонка. Культурно, прямо, как у Васи Махнарылова. Собаки не слышно, возможно, нет, а если держат, то по-московски, в комнате для забавы. Нажал кнопку разок, помедлил, еще нажал, через щель в калитке виден был весь дом. Шибаев спокойно его рассматривал, но сам прятался, чтобы Ирма его не сразу увидела, чтобы столкнулись нос к носу.
Дверь, наконец, отворилась, и по ступенькам невысокого крылечка начал спускаться человек. Спустился и пошел к воротам.
Шел к воротам человек из прошлого, словно из тумана выплывал, и все ближе, ближе двигал неспешным шагом кумир молодости Шибаева, властелин Каратаса, трикотажный король Тыщенко. Массивная лысая голова, щеточка усов под мясистым носом, мешки под глазами. Постарел, но мало изменился с той поры, когда жил там. Да разве он только жил? Он мастерил, он сотворял Каратас, кормил, поил, одевал, обувал. Правда, походочка уже не та, может, и прикидывается, вдруг пожаловали. Да и не боится он никого сейчас, все быльем поросло. Где вы, наши первопроходцы, создатели, где вы теперь, кони наши вороные? Кто на пенсии, на заслуженном^ тдыхе, кто на Колыме так и остался, а кто еще дальше подался, в Канаду или в Израиль. Ушли, но оставили… Много кое-чего оставили, жажду другой жизни, главное, совсем не той, что в кино, в газетах, в школах и институтах, на собраниях и на съездах. Они открыли другие возможности, интерес наживы, счастье роскоши, трепет риска и жар удачи. Не только хитрецы, мудрецы, мыслители, но и гордецы, но и храбрецы, прибравшие к рукам страну, миллионы душ и миллиарды рублей. На скромном трикотаже Тыщенко получил свою мечту и отбыл, куда хотел, на отдых. Цех его при Горпромкомбинате закрыли без следа, ни архива, ни воспоминаний. И вот сейчас он шел навстречу, одним видом подчиняя Шибаева, как волкодав щенка, заставил даже про Ирму свою забыть. Не открывая калитки, видя незнакомого мужчину, Тыщенко поинтересовался, что ему угодно.
— Я из Каратаса, — неопределенно сказал Шибаев, решив пока сделать вид, что не узнает старика.
— Она вас ждала, — угадал его Тыщенко. Вид у него государственного мужа, полководца в отставке, стариком он только прикидывается. — Она уехала к портнихе, скоро вернется. Проходите. — Старик открыл калитку, глядя цепко и держась за ручку твердо. Если он что-то заподозрит, то так саданет этой тяжелой дверью, что тут же и ляжешь.
Тыщенко не узнал Шибаева по самой простой причине — он и не знал его прежде, мало ли было в Каратасе всякой мелкой плотвы пятнадцать лет тому назад. Напрямую Шибаев был связан с ним только раз — с парашютами, когда приехал к нему Хван и сказал — тебе надо исчезнуть, и Шибаев бросил работу и в тот же вечер исчез почти на месяц. Он знал, где склад этих парашютов, если бы его замели, то, конечно, выпытали бы. Парашюты были списаны в какой-то десантной части, а Тыщенко делал из них дефицитные платки. Потом старик еще раз показал себя, провалил Шиберу первую крупную должность с наваром. Они открыли на свои кровные трикотажный цех, уже после Тыщенко, сами, при горпромкомбинате. Мельник тогда впервые появился среди деловаров, он продал «Волгу», внес пятьдесят тысяч, и Шибер добавил сумму из материных денег, а Тыщенко приехал и все похоронил — на той фабрике, откуда они должны были получать сырье путанку, началось следствие, и слава богу, что не успели получить ни одной партии, загремели бы все.
— Проходите, — повторил Тыщенко. — Она будет рада.
Прошли в дом. Старик не спрашивал ни о чем, будто вообще не бывал в Каратасе, усадил Шибаева, ушел на кухню и заговорил, наверное с домработницей. А может, с телохранителем? Минут через десять вошел и строго посмотрел на гостя, неуютно себя чувствовал Шибаев, но не отвернулся. Тыщенко спросил, кто там сейчас министр.
— Чего министр? — независимо переспросил Шибаев.
— Ваш министр.
— А я думал, внутренних дел. — По-мужски себя повел.
Тыщенко оценил начальственным смешком — хе-хе-хе, нам сам черт не брат.
Очень хотелось Шибаеву распознать, на каких условиях они тут с Ирмой договорились, но старик, ясное дело, откровегчичать с ним не будет. В этом доме он будет жить, купит у самого Тыщенко — хорошо. И уйдет на покой. А может, и не уйдет. Он купит должность на меховом комбинате в Ростокине.
— Далеко ли тут Ростокино?
— На метро до Выставки, а там на трамвае три остановки. Помолчали. Не вяжется разговор. Тыщенко, между прочим, законный
муж, а кто ты такой?
— Аркаша здесь часто бывает? Старик не ответил.
— Я спрашиваю, Аркаша здесь часто бывает?
Нуль внимания, будто глухой. Но мысль насчет Ростокина угадал и спросил неприязненно:
— Вы уже оттуда уходите?
— Пока нет.
Так делают только мальчишки-проказники, которым на свободе не сидится. Сам Тыщенко ушел чисто, и не за юбкой погнался, учись. И Мельник ушел с хорошей подготовкой и без хвоста. И ты, Шибер, должен найти замену и уйти достойно, получив если не орден, то хотя бы грамоту Министерства местной промышленности КазССР. Не ты первый, не ты последний, дело варится давно и ширится год от года.
По мнению Игнатия, подпольные цеха появились недавно, в семидесятых годах, при Брежневе. Но Голубь говорит — ничего подобного, началось раньше, в пятидесятых, лет через пять после смерти Сталина И не в Грузии, как считают, не в Армении, а в самой Москве в скромной мастерской психоневрологического диспансера при райздраве. Тихие психи лечились вязанием сначала на спицах, а потом перешли на машины. Заправляли ими нормальные — завмастерской, начальник цеха, кладовщица, бухгалтер, не так уж и много на самом предприятии да столько же со стороны — два инспектора из Мосгалантерейторга и трое из милиции, у этих задача не бей лежачего: попадешься — поможем, а продашь — утопим! Больные лечились, а здоровые обеспечивали их работой. За взятку ставили трикотажные машины и прочее оборудование, за взятку получали сырье с чулочных фабрик, из артелей местной промышленности, из подмосковных колхозов. Имели котел в 178 тысяч рублей — на связи. Как-то привезли шерсть из Узбекистана на сто тысяч, и райфо без звука оформил сделку. Четыре года химичили, на чем погорели? Ищите женщину, говорили древние. На бабе и погорели. У начальника цеха умерла жена. Он, кстати, сначала врачом работал, но при виде навара снял халат и ушел в цех. Райздрав не заметил, поскольку от перемены слагаемых сумма не меняется. Мельник тоже адвокатом был до поры. Итак, умерла жена, вдовец начал искать утешения и положил глаз на жену своего племянника. Она не возражала, и племянник особо не упирался, попросил за нее сто тысяч. Чего не сделаешь ради любви? Ударили по рукам, один получил деньги, другой молодую жену и продолжал химичить, восполняя дырку в бюджете. Вскоре оказалось, что сто тысяч не ласкают, не греют, как ожидалось, разведенец стал ревновать, понял, что любит неземной любовью, начал жену обратно требовать, но уговор дороже денег, попытался урвать еще столько же — тоже облом, что делать? Любовь творит чудеса, дунул он в органы, и всех накрыли, молодая жена осталась вдовицей — дали дяде расстрел с конфискацией. Туда же отправили еще четверых — двоих из мастерской и двоих из милиции. Было изъято сто килограммов золота, валюта, бриллианты, и на два с лишним миллиона денежных вкладов. «Три миллиона! — восклицал журналист в газете. — Сколько это детских садов, поликлиник, столовых отнимали у нас и гноили в тайниках». Чем они крепли, верхогляды? Тем, что видят только одну сторону медали. «Отнимали у нас…» Они продавали нам по вполне доступной цене товары первой необходимости. Правда, был у них недостаток международный — они не помогали слаборазвитым странам, ни Албании, ни Танзании, и Ассуанскую плотину в Египте не они строили, и шаха Ирана не принимали, как гостя, с его шахиней. Психи, что с них взять, не рубят в долгосрочной политике. Зато они вполне прилично одевали в трикотаж москвичей и гостей столицы, как детей, так и взрослых.
Зло было наказано, справедливость восторжествовала. И что любопытно? Тут же, по горячим следам, как грибы после дождя стали расти по стране подпольные цеха на предприятиях местной промышленности. Не было ни семинаров по передаче опыта, ни методических указаний из главков и министерств, ни приказов, ни наказов, сплошной запрет, а движение росло и ширилось, как будто деятелям из психдиспансера не расстрел дали, а Героев труда. Загадка. С простой отгадкой: уж мы-то на бабе не погорим…
Пришла Ирма. Старик ее предупредил густым голосом: «К вам гость». Не к нам и не к тебе, а к вам. Она настороженно вошла в комнату, увидела Шибаева и вспыхнула, залилась до корней волос. Он сразу отметил, как она изменилась, еще красивее стала, но постарела. По ее растерянности он понял — она ждала его и, наверно, соскучилась.
Сели пить чай. Вдвоем. Тыщенко сразу исчез. Без слов. А Шибаева стало клонить в сон. Переволновался. Попросил ее проводить, ему надо в гостиницу. Она рассердилась:
— Ты к кому приехал? Никаких гостиниц! Ему давно не было так радостно.
— Хорошо, поедем за чемоданом в «Россию». Возьмем такси.
— Нет, на метро быстрее.
Вышли на площади Ногина, она тут все уже знает, освоилась. Дежурная сказала, чтобы Шибаев обязательно зашел в триста пятый номер. Там Рахимов начал сразу конючить: куда вы пропали, у меня завтра важное дело. Какое? Мялся, мялся, кое-как признался — надо отблагодарить одну женщину из отдела кадров Министерства химической промышленности. Что? Она помогла его дочери получить свободный диплом. По распределению дочь попала на Мангышлак, но там пески и ни одного родственника. Рахимов добился через Москву, чтобы ее оставили в Алма-Ате и теперь, как порядочный человек, он должен отблагодарить эту женщину из отдела кадров. Он просит Шибаева вручить ей норку на шапочку и на воротник, все это в коробке с розовой ленточкой. Шибаев ему сказал прямо: надо благодарить лично, а не через кого-то. Рахимов заволновался, начал расспрашивать, как подойти, что сказать, поймет ли она меня правильно? Брать умеет и хорошо берет, а давать не научился, нельзя так односторонне жить, не простят. Приедете в министерство, учил начальника главка Шибаев, позвоните из бюро пропусков, вызовите ее на улицу. Здрасьте-здрасьте и вручите спокойно.
— А вы со мной не могли бы поехать?
Ну как ребенок. Мог бы, да только делу навредишь, такие вещи делаются без свидетелей. Она не дура, если в кадрах работает, примет и не моргнет и еще подскажет вам, куда и сколько доставить в следующий раз. Москвички жадные, вы уши не развешивайте, она еще попросит для жены министра и для своей подруги. А вы держитесь солидно. Отказывать не отказывайте, но дайте понять, что мы платим только за дело.
Шибаев забрал чемодан в своем номере и поехал с Ирмой обратно в Измайлово. В доме никого не было. Ирма сказала, что Тыщенко не появится, пока у нее гость. Он потребовал начальный взнос в книжках на предъявителя пятьдесят тысяч. Мы должны эту сумму завтра положить. После всей выплаты Тыщенко оформит дарственную законной жене, потом разведется с ней и уедет.
— Куда, в Канаду?
Он или от Голубя слышал, или от Мельника, что Тыщенко уже в Канаде. В их среде принято преувеличивать — если взял, так миллион, если отдал, так сто тысяч за подержанную бабенку, а если уехал, так не в Жмеринку, а в Америку. Еще был слух в Каратасе, что Мельник купил дачу Кагановича, где на стене висит картина стоимостью пятьсот тысяч долларов. Надо обязательно назвать крупную шишку и бешеную цену не в рублях, а в долларах. Пижонство пижонством, но аппетит нагоняет, размаху способствует.
Они сидели за столом друг перед другом и раскладывали деньги на пачки. По две тысячи и по три тысячи. Схватывали их резинкой от велосипедной камеры, приятное все-таки занятие — вот так, вдвоем, сидеть и тасовать пятьдесят тысяч! Никто не мешает, и впереди ночь вдвоем, и завтра день. И еще впереди дом свой. Он понимал, платит этому королю большие деньги, Тыщенко не делает одолжение Шибаеву, нет, он сдирает с него, зато рядом — Ирма, и все хорошо. Король на новом этапе, никому не ведомо, что у него на уме, он использует Шибера в своих целях. Пусть, у Шибаева тоже цель вырваться из Каратаса, хватит ему мучиться. Он должен быть с Ирмой всегда, без нее он рвет и мечет от ревности, а рядом с нею вся чернота проходит.
Утром они поехали по сберкассам на метро до конечной, до Щелковской, у нее в руках сумочка, у него — дипломат. Она сдает две тысячи, он сдает три тысячи, получают книжки и поехали дальше. Ирма заранее узнала адреса сберкасс, чтобы не терять время. На предъявителя ничего не требуют, но они волновались, попадется хамло, каких и в Москве хватает, начнет приставать, откуда у вас такие деньги, целый чемодан, да еще вздумает стопорнуть их, все может быть. Хотя для столицы пятьдесят тысяч невелики деньги, судя по роскошным дачам, по личным автомобилям, по кооперативным квартирам, по платным услугам, куда ни ткнись.
Они устали изрядно, надо было выписывать ордера, заполнять квитки для сберкнижки и ждать, когда их оформят за окошком, да еще в очереди постоять. Ирма предложила пойти по адресам каждому самостоятельно, а то они до вечера не успеют, он сразу окрысился:
— Я тебя столько не видел, а ты мне, что предлагаешь!
Пришли домой поздно, измотанные, как после трудового дня, да еще и ночь у них была, как у молодоженов, спали мало, потели. На всякий случай он позвонил Рахимову, как там дела, нет ли каких поручений.
— Все в порядке, завтра мы пойдем к заместителю министра.
— Куда, на прием?
— Нет, вечером, на званый ужин. Замминистр Календулов Валентин Валентинович курирует наш регион, он бывал у меня в Алма-Ате в гостях, теперь мы идем к нему в гости. Он дал нам с вами задание, но это не телефонный разговор.
Вот и вторая ночь с Ирмой. Эта хата ему все больше нравится, тишина, калитка, лопухи у забора, хотя кругом Москва. Поскорее надо перебираться. Но как там дела на комбинате, черт бы его побрал? Надо Рахимова покрепче завязать, форсировать завершение в Каратасе и готовить себе сменщика. Может быть, кого-нибудь из Москвы позвать, получить с него сумму за должность.
Утром приехал в гостиницу, спросил Рахимова, как обошлось дело с сувениром. Тот удивился — с каким сувениром? Он уже забыл, но Шибаев напомнил про женщину из отдела кадров. Как тут они в Москве, очень из себя строят? Ему здесь придется жить, а значит, давать, особенно на первых порах, надо изучить манеры. Оказывается, все просто. Рахимов позвонил, я такой-то, попросил ее выйти. Помнит она его или не помнит, он не уверен, на всякий случай сказал, что дочь его устроилась в Алма-Ате в лаборатории, спасибо вам большое, вот вам от нее лично небольшой сувенир, — и подает ей картонку с норкой. Она взяла, будьте здоровы, желаю вашей дочери дальнейших успехов. И все. Вежливо и культурно. Взяла и пошла по ступенькам, тук-тук каблучками, и даже не посмотрела, что там, конфеты с местной фабрики, сушеная дыня или пять тысяч наличными, ей безразлично, она отзывчивая, всегда поможет, надо — возьмет, надо — отдаст. А с Календуловым еще проще. Он продиктовал Рахимову по телефону, что надо принести на ужин — и все, нет проблем. Осетрина, балык, сервелат, икра черная, красная, торт, конфеты. До Каратаса, слава богу, такая мода еще не дошла, но нет ничего московского, чтобы оно не стало в скором времени каратасским. Шибаев взял список жратвы на званый вечер и пошел в рейс, не по магазинам, конечно, а прямиком в ресторан, попросил солидного дядю во фраке с бабочкой, дал ему бумажку зеленую за труды и тот обслужил в высшей степени быстро, вежливо, культурно, будто Шибаев не из Каратаса какого-нибудь зачуханного, а премьер-министр Бенилюкса. Рахимов позвонил Календулову, и явился шофер-красавец в кожаной куртке, в джинсах, пахнет французским одеколоном. Шибаев вручил ему три коробки: одну с балыком, осетриной, игрой, другую с колбасой и окороком и третью с шоколадным набором в полиэтиленовом импортном пакете. Дал шоферу десятку за просто так, спросил его домашний телефон — могу я тебе позвонить, если что? Конечно, об чем речь, всегда помогу чем смогу! Вот так вот делаются дела в Москве. Кадры исключительно отзывчивые, только не забудь оплатить, а то тебя вычеркнут — из сердца. И правильно сделают, ротозеям в Москве делать нечего, идет жестокий отбор на выживание, и даже не на выживание, с этим у нас решено бесповоротно, — отбор на процветание.
Когда собирались, Ирма, сидя у зеркала, заметила, что они впервые за все их время любви пойдут вместе по городу, не озираясь и не прячась. Хотя ей так и кажется, что вот-вот откроется дверь и войдет Зинаида.
— Я ее боюсь, как огня.
Шибаев не любил жену, однако всякий раз, когда кто-нибудь говорил о ней плохо, он обрывал — заткнись, его жена есть его, а не чья-то, он обязан защищать все свое — семью, цех, комбинат, кадры свои, любовницу свою тоже. Он понимал, Зинаида отстаивает свои права, как умеет. Раз уж объявлен Роман Захарович ее законным мужем, то она может сопернице волосы повыдирать, чтобы не посягали. Тем не менее, когда он узнал, что Зинаида пошла к Ирме на работу и вцепилась ей в прическу прямо при всей бухгалтерии, их еле разняли, он ее избил до потери сознания, запер в подполе, принес из аптеки примочки и, пока она фонари не свела, не выпускал ее на свет божий.
— Как она там поживает, твоя законная? — спросила Ирма. — Наверняка все знает и сейчас роет землю копытом.
Глава двадцать третья ЗИНАИДА РОЕТ ЗЕМЛЮ
Она знала о всех четырех банках, вместе их прятали на тот случай, если за ним придут, чтобы она могла распорядиться запасом. Еще у нее был телефон не на бумажке, а в памяти — Башлыка. Она знала, куда он уехал и зачем. Не уехал бы, не стала ничего рыть. Банки она может найти с закрытыми глазами — две в сарае за дровами, третья между яблоней и забором, зарытая с таким умыслом, чтобы при особом положении, допустим, засаду сделают, можно было выкопать со стороны соседей. И четвертая под конурой Тарзана. Она начала с сарая, там больше работы, надо прежде переложить дрова. Рыла, рыла, уже глубоко вырыла, и как раз под крюком, на котором висят веники для бани, — а банок нет. Её затошнило, тягучая слюна перекрыла глотку, она так и села на дрова. Неужели он вырыл и увез с собой? Жену он может бросить, детей может, хотя младшего очень любит, но комбинат свой, прибыли свои ни за что не бросит, хоть убей его — и убьют, придет время. Значит, забрал, а кто тебя выручать будет, гада? Сядешь за решетку, а стерва твоя в Сочи улетит, ляжками на пляже сверкать.
Она сплюнула тягучую, вязкую, липкую слюну, вытерла пот и только сейчас заметила справа над поленницей еще крюк и на нем веники старые, березовые, они ссохлись и были почти незаметными в сумраке сарая, а она рыла под новыми, недавно повешенными — и Зинаида ринулась сразу копать, пока совсем не стемнело, и через два-три тычка лопата цокнула о стекло. Ее затошнило еще больше от радости. Банки были в целости и сохранности, с крышками из полиэтилена и еще снаружи облиты слоем парафина. Сначала она хотела закатать крышками для домашнего консервирования, но он сказал, что могут прийти с миноискателем и железо сразу нащупают, а так — шишь, стекло, парафин и синтетика на щуп не берутся. Она посидела в обнимку с этими банками, как с детьми, затем сложила дрова как попало обратно. Завтра отдохнет и наведет порядок, а сейчас надо поспешать к яблоньке. В доме она одна, дети ушли, каждый по своим делам, и она не стала их останавливать, как всегда останавливала Славика, чтобы он опять где-нибудь не выпил.
Луна светила, а в Москве еще не село солнце, там некоторые собирались в гости и наводили марафет перед зеркалом. Эта банка далась тяжелее, чаще приходилось отдыхать, хотя копать совсем ничего, ковырнула сантиметров на тридцать-сорок. Земля была сухой и твердой, да еще надо было следить, чтобы не зацепить корни, яблонька и так стала сохнуть именно с этой стороны, повредили, когда зарывали. Она опять боялась, что он забрал банку не ту, так эту, ее ближе достать, и рыла торопливо, тошнота стала еще сильнее, она запыхалась и как только показалась крышка, расшевелила ее рукой и оставила в яме, бросив сверху горсть земли, как бросают на гроб. Посидела еще минут пять, отдышалась — нет, она не устала, столько в жизни ей пришлось перетаскать, перепахать, перенести, просто тошнило ее каждый день и каждую ночь, и уже не первый месяц, она хотела бы этому радоваться, да не получалось.
Оставалась еще банка под конурой Тарзана, она их выроет все. Зинаида сдвинула конуру под ликующий визг и пляску пса, будто он радовался переселению, а она чуть не задохнулась от вони — даже отошла подальше от запаха псины. Раньше не замечала всяких таких запахов, не думала, что Тарзан такой вонючий, и блохи на нем наверняка кишмя кишат. Посидела на маленькой скамеечке и снова подумала, куда же их перепрятать? Вырыть выроет, а дальше? Во дворе оставлять нет смысла, он психанет, пригонит бульдозер и перероет весь двор. Он и дом перевернет вверх ногами, если не найдет. Надо спрятать где-то на стороне и так, чтобы люди не знали. Но где такой необитаемый остров? Если она одна будет знать, где спрятано, никакая милиция у нее не выпытает и ему она не признается, любую пытку выдержит, потому что знает, кому пойдут эти денежки, если он их найдет. Та сучка не страдала столько, сколько Зинаида тревожилась от каждого стука ночью. Той все нипочем, она хочет захапать пятьсот тысяч и жить в Москве, как принцесса. А Зинаида одна с Тарзаном, и пацаны кто где. Валерка — копия отца, такой же жадный, злобный, а младший Славик мягкий, добрый, не знает она, на кого он похож, может, на ее брата, артиста в Челябинске. Он ласковый по характеру и слабый, в шестнадцать лет уже знает выпивку, часто под мухой. Старший уже сам смотрит, где схимичить, покупает и продает магнитофоны то японские, то немецкие, то джинсы, куртки, очки темные, — не пропадет. А Славик пропадет, ему нужно записать наследство, вдруг она из роддома не выйдет, все-таки сорок четыре — не двадцать два. Банки она перепрячет, а там видно будет, когда их вырывать. Она точно знает, что заявит в КГБ. Поедет в Москву, разыщет эту стерву в Измайлове, выдерет ей остатки волос, после чего пойдет куда надо в Москве. Здесь идти нет смысла, они все куплены и у него на крючке. Пойдет, но когда — до роддома или после? Лучше — до, а после у нее будет доченька, не останется времени на всю эту грязь, она плюнет и на Романа, и на его потаскуху. Она чует, что будет девочка, мальчишек она носила не так. Медсестра в консультации предложила ей сесть на пол и подняться. Она поднялась, опершись на левую руку — значит девочка, если на правую — мальчик. И с того дня она так и ощущала ее, и придумала имя Надежда, Наденька. Она своего гада ненавидит можно сказать с первых дней за то, что он жил с ней и не хотел регистрироваться, пока старший Валерка не пошел в школу. К тому времени уже умерла свекровь, его мать, она жалела Зинаиду, учила ее скорняжному делу. Дом купили на деньги свекрови и записали на Зину, мать знала, что ему сидеть с конфискацией, он уже тогда в цехе розлива химичил направо-налево. И все-таки плюнуть ему в рожу она не может, у нее любовь такая уродливая, не может его бросить и другой отдать. Она пойдет заявить после родов, так вернее. Привлечь ее могут, а вот судить нельзя, на руках младенец, она советовалась в консультации не только в женской, но и в юридической, и статью уже знала по Уголовному кодексу — о недонесении, статья девятнадцатая. Могут и по семнадцатой дать, как соучастнице, еще могут дать укрывательство, но когда у нее будет дочь-спасительница, то ничего не дадут. А ему все равно вышка, Зинаида потерпит, пусть он перед смертью понежится со своей подстилкой… Зинаида сохранит банки для детей, это плата за ее страдания. Она решила рожать, когда узнала, что он достал своей сучке квартиру, и та живет теперь отдельно с дочерью. Сначала от ненависти хотела пойти, куда надо, и все рассказать. Но страх ее остановил — два сына, старший только еще на втором курсе, а младшему еще два года в школе учиться, потом армия, как они будут без отца и матери, вот вопрос. Её не станут судить, если у нее на руках будет несовершеннолетнее и даже грудное дитя. У Зинаиды давно болели придатки, она не лечилась — некогда, да и плевать, при такой жизни лучше помереть скорее. А теперь пошла к гинекологу, так и так, прямо сказала, что муж требует ребенка, иначе развод, связался с молодой, помогите, отблагодарю. Ей назначили курс физиолечения, массаж, уколы, витамины. Она терпеливо месяца два лечилась, платила, находила знакомых. Ей даже нравиться начала такая суетливая жизнь, она подтянулась в талии, наела себе задницу и к ней даже привязался на базаре в мясном ряду какой-то армянин вдовец. Она подумала даже, почему раньше не завела себе хахаля, чем она хуже других в конце концов? Но не нужен ей был никто, кроме Романа, вот ее беда в чем. Стала ходить к парикмахеру, сделала прическу, брови подкрасила, наманикюрилась и в итоге помолодела по меньшей мере на десять лет. Накупила импортных платьев и дома при муже стала одеваться, как при людях. Сама полезла к нему и раз, и другой. Слава богу, забеременела. Ей бы вообще рожать да рожать, ей и таз позволяет и молока много, почти до двух лет кормила она мальчишек, нарожала бы кучу при хорошем муже, а не при такой сволочи, прости господи. В эти дни она терпела, старалась не злобиться, а то и зачатия не будет. И своего добилась. Со слезами думала, что могла быть совсем другая жизнь — полный дом детей мал мала меньше и не надо никаких тысяч. Младшие донашивали бы одежонку старших и радовались бы куску хлеба и каждой конфетке, а то ведь растут без радости, ничего им не надо, потому что все у них есть, а чего нет, так только скажи, и сразу отец даст команду — привезут, принесут, пришлют. А счастья нет даже малого, как было у нее в трудном-претрудном детстве во время войны.
Она оставит эти банки на черный день, дети и знать не будут, только на случай войны или еще чего, инвалидности, не дай бог, уродства какого, чтобы могли жить до смерти. Есть такой вклад в сберкассе по завещанию, и пусть выплачивают им по сто рублей каждый месяц, тогда не профукают в один раз на машину, на дачу, не проиграют в карты, не потратят на анашу. А он пусть гниет в тюрьме за то, что сделал ее несчастной.
Тарзан ластился, будто поторапливал ее — рой последнюю, рой поскорее. Она укоротила цепь, чтобы не мешал, дала ему из холодильника кусок мяса с костью, и пока он грыз застывшее, завтра будет кашлять, она рыла землю. Воняло здесь особенно остро, она и так и этак закрывала нос, отходила каждую минуту, чтобы отдышаться. Под конурой земля была прибита и от собачьей мочи затвердела, как бетон. Наконец услышала легкий звук — осторожнее, не разбить бы. Слава богу, все банки на месте, ничего он не взял, значит, думает вернуться. Стало совсем уже темно. Она посидела в прохладе, вытирая рукой пот, скоро высохло на плечах платье, и ей даже стало зябко.
Так куда же девать теперь эти банки? Она прислушивалась к шевелению в себе. Может, дочь ее сейчас вместе с матерью следила за тем, что делается, ведь это ее будущее решается, ее Надежды, Наденьки? Большие деньги обещают легкую жизнь. Можно умереть спокойно, зная, что дочь ее сможет купить и машину, и дачу, и всю роскошь, о которой мать ее даже не мечтала. Себя Зинаида стала считать богатой, когда у нее появился вслед за ковром холодильник, а потом и телевизор, главные три вещи, показатели благополучия. А дочь ее может в десять раз больше приобрести, и радуйся, мать, радуйся.
А радости не было… Тарзан скулил нехорошо, недовольный, что потревожили его жилище, может, он знал про банку, на нее рассчитывал, кто знает, может, у собак тоже бывают материальные соображения? Говорят же, собака все понимает, только ничего не скажет. Надо поставить будку на прежнее место. Но сначала она зарыла ямку, как могилку кому-то, чему-то, может быть, прошлому? Собака чуяла ее тревогу, скулила, дергалась, звякая цепью, и не находила себе места. Зинаида поставила конуру на тот сырой квадрат земли, где она стояла, и совсем стало муторно от мысли, что денег у нее всегда было много, пока она жила с Романом. Они могли купить все на свете, и сейчас у нее вон сколько, страшно выговорить. Но все прятали и прятали, боялись и боялись любого стука. И что же — она передаст детям свой страх, вечную тревогу своей Надежде, ну зачем такое наследство?.. Деньги человека портят, она по себе знает. Не было бы дурных денег, и Валерка дома бы сидел и лучше учился. И Славик не стал бы пить с тринадцати лет. Лучше бы они росли в нищете, рванье, зато ценили бы каждую копейку, учились бы зарабатывать на кусок хлеба. Большие деньги несут разврат, и, пока она жива, не пустит детей ни в сферу обслуживания, ни в легкую промышленность. Сначала деньги там получают, а следом тюрьму, инвалидность и позорную гибель. Пусть идут на завод и делают простое надежное дело, а еще лучше отправить бы их в деревню, в колхоз, чтобы каждый на земле себя обеспечил, растил хлеб, доил коров, строил жилище. Но ведь никого не уговоришь, не заставишь ни правдой, ни обманом.
Она в изнеможении опустилась рядом с конурой, легла щекой на теплую после дневной жары землю, и вставать не хотелось. Будут жить ее дети, уже трое, считай, все дни и ночи в тревоге. Или пьяные, или обкуренные анашой, а потом точно так же будут жить ее внуки-выродки. Не лучше ли всем вместе собраться и умереть, освободить землю от таких дурных людей?
Она сдаст все банки и только тогда успокоится за свое потомство. Ей легче дышать от мысли, что она сбросит — не банки, а гири чугунные. Счастье дают деньги заработанные, а не краденые. Пусть ее дети уедут из этого проклятого места. Сколько она помнит себя, столько ворует. И прячет. И сама прячется. И мужа непутевого прячет, а сейчас вот ослабела, обессилела от ненависти к нему. И как будто с небес ей голос: в поте лица добывай хлеб свой. Ей очень хочется, чтобы так говорили многие голоса, общий и сильный хор. Она вздохнула, подложила руку под щеку, чтоб не касаться лицом земли, и перестала ощущать, темная пелена всё затмила, и даже тошнота прошла, ей стало легко-легко, и она куда-то уплыла от себя самой. Сколько пролежала без памяти, она не знает, очнулась от глухого воя собаки. Тарзан, сидя на задних лапах, поднял острую морду к звездам и завыл. Она бы умерла, если бы не ребенок в ее чреве, живое существо. Именно ребенок ее спас, шевельнулся, перевернулся в ней. Искра надежды была брошена той девочке, которая потом вырастет, станет женщиной, станет матерью, крохотное сердечко забилось — тут-тук — и направило свой толчок в упавшее сердце матери. И оно отозвалось, встрепенулось, тихо ответило — тут-тук. И стало биться ровно… спокойно… Она открыла глаза, Тарзан бросился к ней, поскуливая, и мордой подталкивая ее — вставай, не пугай, так лежат только мертвые существа. Она поднялась, отнесла банку в сарай за дрова. Завтра она их поставит в погребе вместе с вареньем и соленьем. А воровать им всем осталось ровно три месяца, дальше она поставит точку без запятой, и пусть у ее детей начнется жизнь, хоть какая, но другая, хуже, чем есть, быть не может.
Глава двадцать четвертая ВЕЗДЕХОД «БОЛОТНАЯ КРЫСА»
Ехали по Москве в машине Календулова, Шибаев смотрел по сторонам, слушая пояснения Ирмы — вон впереди Окружная дорога, электричка идет, — нырнули под эту дорогу, — а вот это улица Щербаковская, по ней трамвай ходит в нашу сторону. А вон там слева магазин «Богатырь», будем тебе покупать сорочки и все, что хочешь. Он слушал Ирму и неотвязно думал, что все годы своей жизни он жил в Каратасе для того, чтобы готовиться к переезду в Москву, — вот такое у него сейчас мнение. И резерв он создавал именно для того, чтобы утвердить себя здесь. Все его тысячи, сотни тысяч и генеральный план до семи знаков приобретают смысл только здесь. Правильно говорит Миша Мельник: есть аристократы духовные, есть аристократы денежные, Москва для своего процветания нуждается как в тех, так и в этих. Она требует людей, которые умеют делать деньги как словом, так и делом. Столице нужны создатели благ, чтобы потребителю, а его полным-полно, было, что потреблять. Москва строилась не одно столетие, и строилась людьми богатыми. Деловары — вот кто создавал и создает Москву, да и любую цивилизацию.
Приехали, встречала хозяйка. Шибаев очень пристально следил за всем, как они тут? На первый взгляд обыкновенно. Жена полноватая, невысокого роста, и сам Календулов невысокий, полноватый, седоватый, с коротким ершиком волос, заурядный человек, средний, в толпе не заметишь. Однако же туз. Шибаев заинтересованно следил за должно-стыми чинами в министерстве, в главке и в Алма-Ате, и в Москве, зорко присматривался, понять пытался, чем каждый берет. Во-первых, образование, он, как необразованный, преувеличивал значение этих корочек, хотя тот же Прыгунов, например, институт окончил, а как сел в Каратасе, так и до пенсии будет там, и выше ему не прыгнуть. Есть кое-какие важные свойства в характере, нахрап, например, упорство, но тоже не главное, Рахимов слабак, мямля, но в Алма-Ате у него своя рука, он чей-то родственник, ему прямая дорога на пост министра или первого зама, а пока он начальник главка. Календулов середняк, но, может, он умеет пластаться, может, он не только в министерстве пашет, но и дома? Умеет настоять, добиться, а в общем, обыкновенный мужик, Мельник на его месте сделал бы больше. А может, он потому и растет, что не хапает, как хапал бы Мельник? Такие люди наверняка умеют хитрить, берут то принуждением, то умением угодить. Бывает, повезет. В основном, сколько ни смотрит Шибаев, видит везение, лотерею, четкой закономерности нет. Календулов приезжал в Алма-Ату, Рахимов его умеючи принял, после чего получил остродефицитную технику, в частности, кормопрйготови-тельные комбайны. В стране их выпускается мало, достать их через планирующие органы практически нельзя. У Календулова по стране триста зверохозяйств, комбайны нужны абсолютно всем, а получит их, кто сумеет- Рахимов сумел, мало того, не имея фондов, он получил через Календулова катера, новые моторные лодки, по Балхашу бегают, по Или. Обеспечил все промысловые зверохозяйства новыми холодильниками, получил на сорок тысяч племенных зверей из собственного зверохозяйства «Главкооппу шни ны».
Гостей было немного, — двоюродная сестра Календулова, переводчица из какой-то технической конторы, худющая, да еще в черной кофте, монашеского вида, мода что ли такая, еще двое молодых, не то референты, не то аспиранты, московские такие жуковатые молодые люди, выделялся из них остроносый с длинными прямыми волосами, похожий на Гоголя. Еще были врачи — муж с женой, еще меховой деятель с племянницей, но больше всех Шибаева поразил хозяйский пацан, ученик шестого класса Петя, он потребовал себя называть полностью Петр, что в переводе с греческого значит «камень», твердость, которая нужна в жизни всем вообще, а ему в частности, и особенно, как скоро выяснилось, в последнее время. Сначала он был в тени, как и положено младшему, и первой проявила себя хирургиня — чернявая, фигуристая женщина, лучше сказать бабеха, повадкой похожая на Зябреву, только без халы на голове, а с французской стрижкой. Угрозу своему превосходству она сразу увидела со стороны Ирмы, но быстро раскусила ее провинциальность после того, как Ирма раза три повторила «спасибо-спасибо» и перед кушаньем жеманилась. Эта же наоборот ухватилась демонстративно за икру, за балык, который доставал Шибаев, за армянский коньяк, потребовала заменить ей рюмочку — что это, гусей дразнить, и после второго стопаря о своем заве сказала: этот молодой засранец, а о своей главврачи-хе — эта старая жопа, и Шибаев понял, что это последний крик моды за московским столом. Муж ее, полноватый еврей в тройке, белой сорочке, в красном галстуке, наоборот, выбирал слова и говорил спасибо не меньше Ирмы и к хохмам своей гром-дивы не только привык, они даже ему нравились. Васю бы инфаркт хватил, и не потому, что сам он так не умеет, а потому что представить не может, чтобы в культурном обществе могли себе вот такое позволить. Календулов, видя, что Шибаев озадачен такой манерой хирургини, улучив момент, сказал: «Замечательный специалист». Шибаев расхохотался. Всегда хорошо говорят о какой-нибудь оторви да брось, а если человек и в самом деле порядочный, наговорят дерьма — для равновесия.
Был еще человек, нужный Шибаеву, один из главных специалистов Всесоюзного объединения меховой и овчинно-шубной промышленности, прилизанный, пухлощекий, восточного типа, по фамилии Мавлянов, скорее всего узбек. Очень приветливый, очень вежливый, изысканно одетый и невозмутимый, как манекен, пришел он с девицей, наверное лет восемнадцати, представил ее как племянницу, но видно было, что она для Мавлянова то же, что Ирма для Шибаева. Причем, если хирургиня увидела соперницу в Ирме, то Ирма не сводила глаз с этой племянницы, а у нее личико точеное, как из слоновой кости, красивые черные глаза, пухленькие губы сердечком, прямой носик, красавица, просто писаная. Но что особо привлекло внимание Ирмы — кольцо на левой руке, золотое и в три ряда изумруды, бриллианты и рубины. Ирма кивнула Шибаеву, — вот такое хочу, а Шибаев отметил, что племянница посматривает на него довольно-таки приветливо и с легкой такой ужимочкой, возможно, она его с кем-то спутала, поживем — увидим.
После хирургини общим вниманием завладела черная худая сестра Календулова, она поставила вопрос ребром: как вы можете есть мясо и рыбу? — несколько раз повторила она с непонятной интонацией, то ли шутя, то ли всерьез: как вы можете есть трупы? Еще одна мода, подумал Шибаев, вот так прямиком, вполне цензурно, но будто серпом по энтому месту.
Волнами шел разговор, то одна тема возникала, то другая, о югославской выставке, потом про убийцу вспомнили, бывшего актера музыкальной комедии, который уносил телевизоры, почему-то так специализировался. Худющая переводчица словно нанялась внедрять вегетарианство от имени какого-то сообщества: ну как это люди могут есть живых существ, вы только представьте, у них совсем недавно были глаза, у ягненка, к примеру, у цыпленка. При Сталине ее наверняка посадили бы — за несгибаемость. От вегетарианства разговор перешел вообще к продлению жизни. После войны, после лагерей люди отвыкли что-то делать по своей воле, привыкли к понуканию, приказанию, ведь как было? Не умеешь — научим, не хочешь — заставим. Не надо было ни думать, ни мечтать. Но постепенно мы преодолели последствия культа личности и появились всякие течения, сыроедение и голодание, йога, бег трусцой и моржи, бассейны, массажисты. На стадион без взятки не попадешь, и все как будто ищут, кому сунуть на лапу, повальная жажда кому-то дать. Потом боком, боком вылезла национальная тема, и вегетарианка сказала, если мы добьемся запрещения атомной бомбы и не сдохнем от экологического кризиса, то на месте нашего Союза будет этнографический заповедник. Куда ни шагни, то одна нация, то другая нация, со своими костюмами, блюдами, песнями, танцами и со своим языком. Но что в этом плохого, возразила хирургиня, мы всегда стремились к свободному развитию всех наций и народностей. Мы стремились к единству, уточнила вегетарианка, а идем к раздробленности.
— Хотите анекдот про чукчу? — предложила хирургиня. — Входит чукча в свой чум, хватает жену…
— Тут же ребенок! — попыталась остановить ее Ирма, и получилось опять провинциально.
— На вопрос, можно ли говорить с детьми про секс, — заметил Петя солидно, — есть ответ: можно, всегда узнаешь что-нибудь новое. А про чукчу, если вы мне позволите? — он обратился к Ирме, но позволила хирургиня. — Он совершил половой акт, после чего сказал жене: а теперь сними с меня лыжи. — Петя пожал плечами, ничего здесь такого особенного, а Шибаев от души расхохотался. Он не слышал этой хохмы, — ну и чукча, ну и Петя, он даже зааплодировал — ну и пацан, пробы ставить негде, неужели в нем нет ничего детского?
— Самое интересное, — заметила хирургиня, — я хотела рассказать совсем другой анекдот.
— Вообще-то русское население сокращается, мы это скрываем, чтобы меньше наши враги радовались, — сказал референт с большим носом, похожий на Гоголя. Шибаев подумал, что он ходит в церковь и не как турист, а чтобы молиться, такой у него вид.
— Чепуха, — отозвалась хирургиня. — Русские пополняются за счет других наций.
Гоголь заспорил — не пополняются, а вытесняются. Русскоязычные из других наций несут нам признаки другого народа, все страсти и пристрастия. Муж хирурги ни заметил:
— Не рано ли заносить русских в Красную книгу? Они везде, куда ни поедешь, даже на Мадагаскаре мы встретили русского начальника.
— На Мадагаскаре возможно, а вот в Тбилиси — труднее. Или в Эстонии.
— Но так рассуждают шовинисты.
— Что ни говорите, а национальные окраины живут в достатке, везде явный прогресс ив культуре, и в науке, и в искусстве. Но более скудной и скучной жизни, чем в центральной России, нигде нет.
— Даже на Мадагаскаре.
— Кто им виноват, если пьют без просыпа!
— Без причины человек не станет пить. Люди что-то потеряли.
— Один теряют, другие находят, так было всегда.
Зазвонил телефон, и хозяйка ринулась из-за стола, как на пожар, — тоже, между прочим, московская манера, бегут сломя голову, у них тут вся жизнь по телефону — кого сняли, кого назначили, кому дали, у кого забрали, вершатся судьбы народов и государств. За столом, хоть и гомонили, но слышны были восклицания хозяйки из прихожей:
— Даня, милый, обнимаю вас, с приездом! Все в порядке, мы надеемся? Слава богу, ай как хорошо. Да слышу, слышу по вашему голосу, что у вас все в лучшем виде! — Она ворковала, пускала рулады. Все-таки московский говор для жителя Каратаса звучит по-деревенски, и еще очень заметна манера радоваться, не поймешь, чему, и облизывать собеседника. Никто особенно не прислушивался, кроме Шибаева, а он еще приглядывался и успел заметить, как преобразился мальчик Петя — личико его побледнело, он, как гусенок, потянулся к отцу и хриплым голосом совсем по-детски пролепетал:
— Это дядя Даня?
Календулов тоже пошел в прихожую к телефону. А Петя вытер салфеткой губы и обратился к столу:
— На чем мы остановились?..
Шибаев расхохотался, ужасно ему нравился этот пацан, вот кто будет делами ворочать в двадцать первом веке. Малый не промах. Отец вернулся, легонько хлопнул сына по плечу.
— Болотная крыса пересекла все границы, приземлилась в Шереметьеве и завтра будет у нас.
Петя побледнел еще больше, опять вытер губы салфеткой, посидел секунду-другую отрешенно и вдруг, словно в припадке, вскочил, повалил стул, ринулся на свободное место и начал прыгать, топать, скакать, превратился в скукоженного, сопливого, несдержанного малыша, капризного и невоспитанного, куда что девалось.
20
— Крыса-брыса! Болотная крыса, ура-а. Крыса-брыса, ура-а! — и прыгал, и топал, колени вскидывал в тесных штанишках, сразу вспотел, взъерошенный схватил со стола пепси-колу и начал глотать, захлебываясь, пенистый напиток лился ему на кофту с иностранными буквами. Кроме родителей, никто не понял, что за болотная крыса, терпеливо смотрели и ждали, когда у малого кончится его счастливый скулеж. Он прыгал, прыгал, а потом как будто оступился и захныкал, странно как-то убежал, и мама его тут же встала со словами: «Опять у него трагедия», — вышла в прихожую, стали слышны всхлипывания мальчонки, а потом и приглушенные рыдания. Все переглянулись. Гоголь встал и к хирургине — может, надо помочь? Но Календулов их остановил — у них там школьные дела. Что оказалось? Оказалось, Петя собирает игрушки — военных солдатиков, всякую военную технику, преимущественно западную, у нас гакой не производят. И учится он не в простой школе, а в специализированной с французским уклоном, где учатся дети дипломатических и внешнеторговых работников. Ориентация у них на Академию внешней торговли и институт международных отношений. У них есть фирма своя школьная, обменная, участвуют мальчики, а также и девочки обеспеченных родителей. Одним везет постоянно, другим с переменным успехом, третьим вообще не везет. Дети собирают коллекцию всяких разных игрушек и не просто какого-то ваньку-встаньку или куклу Настю, а системно, допустим, собрать всю армию Наполеона, или все машины прошлого века, или все модели «Форда», «Крайслера», «Фольксвагена» или гам «Феррари», «Мерседес-бенц», на худой конец «Москвича», «Волгу». На солдатиков можно поменять машины или журналы иностранные «Пифф», в других школах в ходу зажигалки. Были авторучки, но волна на них прошла, сейчас больше всего машины, самолеты, военная техника. И вот оказалось, что «болотная крыса» — это английский военный вездеход, и приятель Календулова из внешней торговли привез этот самый вездеход, разумеется игрушечный. Для Петьки радость, «крысы» ему не хватало для обмена, а обмен у них сложный, двойной и даже тройной.
Все успокоились, и Петины всхлипы прекратились. Хирургиня заговорила о своем сыне, он увлекся каратэ, ужас, что там за приемы, но во дворе мальчишки вместо того, чтобы шарахаться от него, так и липнут. Он одного свалит движением ноги, другого движением руки, я бы на их месте разбежалась на все четыре стороны, а они нет, наоборот — покажи им прием, как легче покалечить.
— И спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо.
— Что такое хорошо, они прекрасно знают.
— Они не знают, что такое плохо.
— А кто сейчас это знает?
Скоро вернулась хозяйка, улыбаясь, но, кажется, сквозь слезы, — Петр приносит свои извинения и сейчас придет, у него неожиданная такая реакция. Шибаев не стал дожидаться, пошел к нему сам в прихожую и заговорил, как со взрослым.
— Петр Валентинович, у меня к тебе дело. Я собираю охотничьи ружья, я по натуре коллекционер, как и ты. Что тут главное, скажи, пожалуйста.
— Главное — четко определить свою цель и владеть информацией, — сказал Петя.
Шибаев поморгал-поморгал, вникая.
— Знать, что нужно тебе и что нужно другим, на всех стадиях, чем больше сведений, тем лучше. — Петя говорил с чужих слов, но это были неглупые слова. — Уметь определить, где что сделано, — в Штатах или Японии, в ФРГ или в Гонконге, отличить от подделки из какого-нибудь Крыжополя. Допустим, вы хотите иметь комплект армии Наполеона, — о-о, это великое счастье. Надо для этого очень много знать и долго готовиться.
— А если я у себя налажу производство солдатиков? Петя рассмеялся, оскорбительно и очень так театрально.
— Пусть даже будет у вас ручная работа с ювелирной отделкой, но специалист сразу определит, что не фирма. Бывает коллекция невзрачная, краски плохие, но — фирма! Прежде всего ценится фирма, а не что-то другое.
— Петр Валентинович, на первых порах, может быть, ты мне поможешь, — играл Шибаев. — Хотя бы один комплект.
— Много придется платить.
— За деньгами дело не станет.
— Я смогу вам помочь через месяц, понимаете. Как вас зовут? Шибаев сказал.
— Понимаете, Роман Захарович, я потерпел фиаско, и если подбить итог, я должен двести десять колов.
— Каких колов? Рублей, настоящих?
— Роман Захарович, не бывает рублей игрушечных, насколько мне известно, — манерно сказал Петя. — Я должен уплатить ростовщику двести десять рублей. Настоящих, в нашей валюте.
— Ростовщику, как я понимаю, тоже настоящему?
— Да, Никите из восьмого «б». Я занял у него сто рублей, чтобы заплатить консультанту, компаньону и ребятам из охраны.
— Как, как?! — У Шибаева волосы на затылке зашевелились — вот она, Москва, здесь даже дети уже догадались платить ребятам из охраны.
Шибаев достал бумажник, отсчитал Пете деньги.
— Вот тебе мой взнос для начала. Вернешь, когда будет возможность. Без процентов. Теперь расскажи подробно про все дела, я открою у себя производство и, даю слово, фирму твою обскакаю.
— Хочу вас предупредить, дело сложное, и вы можете прогореть. Хотя у нас есть подпольные фабрики, джинсы делают, фурнитуру достают и сходит за иномарку. Вы извините, Роман Захарович, могу я маме сказать, что вы мне субсидировали?
— Можешь, в одном случае — если этого требуют интересы твоего бизнеса. — Он видел, что нравится этому пацану, взаимная любовь у них с первого взгляда.
Петя начал рассказывать подробности. Два месяца тому назад, перед каникулами дядя Даня пообещал ему дефицитную «болотную крысу», и он под это обещание выменял комплект машин «Феррари» и «Тойоту», отдал вездеход на воздушной подушке, еще журнал, еще кое-что. Но с «болотной крысой» вышла задержка, и Петр остался должен. Это было в апреле перед самым праздником. Время шло, а долг висел, тогда мальчик-кредитор, член совета дружины, потребовал у него комплект машин обратно. А Петя к тому времени съездил к бабушке в Бирюлево, взял у нее тридцать рублей, добавил и выменял себе комплект итальянской армии. Ситуация резко осложнилась, он знал, что ему грозит как нарушителю правил торговли — его будут бить. Так и вышло. Боксер из другого класса после уроков дал ему слева, справа и снизу. Во второй день он добавил еще три оплеухи. Так будешь получать каждый день, пока не расплатишься. У Пети стали сдавать нервы, в школу хоть не ходи, он уже не знал, что делать. Записался Петя в секцию самбо, на первом занятии так старался, что вывихнул руку, и все. Что дальше? Есть еще одно средство — нанять охрану из соседней школы, не специализированной, а обыкновенной. Там есть пацан из восьмого класса по кличке Расплата, у него спецкоманда телохранителей три человека. Договорились, что Петя будет главному амбалу платить по рублю за встречу, а троим ассистентам по полтиннику, получалось в день по два пятьдесят. Теперь силы уравнялись, заканчиваются занятия, Петя выходит из школы, его ждут на одном углу Боксер, а на другом телохранители. Петя идет спокойно, он защищен, но деньги тоже идут, счетчик работает против Пети, а платить нечем. Он снова съездил в Бирюлево к бабушке, но та отказала, сколько можно, если внучек еще те тридцать рублей не вернул. Ничего не оставалось, как обратиться к ростовщику, мальчику из восьмого класса, он будет военным атташе. Ростовщик выдал ему сто рублей с возвратом через неделю. Не вернешь — начисляются двадцать процентов, будет сто двадцать. Если еще неделю задержишь, опять начисление. Короче говоря, Петю уже не спасет даже дядя Даня, на сегодня у него двести десять рублей долгу, и если бы не уважаемый Роман Захарович… А вообще в Москве есть мощный подпольный рынок по продаже солдатиков и машинок иностранного производства, делают большие деньги, но для того, чтобы иметь успех, нужно все на свете бросить, и школу, и родителей.
— Скажите, Роман Захарович, трудно быть меховым королем?
— Чего не знаю, того не знаю, Петр Валентинович. — Вон почему мальчик к нему с таким уважением, теперь ясно. Да, кажется, и за столом тоже.
Петя на его ответ сделал скептическую ухмылку.
— Почему вы мне не доверяете? Все знают, что вы король меха и подпольный миллионер.
Он мигом прикинул — кто опасен? Если все знают, кто? И никого не нашел, кроме Мавлянова. Но этот опасен не тем, что донесет, а тем, что много потребует.
— Но ты же, Петр Валентинович, знаешь, как у нас королям живется? Трудно, конечно. Власть принадлежит рабочим и крестьянам, правильно? Я два класса окончил, а ты уже шесть.
— На бумаге она принадлежит рабочим и крестьянам, а по существу номенклатурным товарищам.
Зачем Пете учиться дальше, если он сейчас уже такой грамотный?
Значит, подпольный миллионер. Ему стало радостно, кажется, он этой минуты ждал всю жизнь — чтобы признали! Даже вот так, в глазах пацана. Устами младенца глаголет истина. Теперь понятно, почему племянница Мавлянова на него глаз положила. Что же, он готов ей отдаться, поскорее бы в Москву переехать. Теперь, зная, за кого его здесь принимают, он очень уверенно заговорил с Мавляновым. Оказывается, они учились вместе с Рахимовым в сельхозакадемии, знают друг друга давно, но скрывают это. Шибаев поставил ему условия — за каждую шкурку кролика вы получите от нас пять копеек, за мерлушку десять, за хороший каракуль пятнадцать, за благородную пушнину — лису, норку, песца, соболя — будем давать вам двадцать копеек.
— Завтра я вам вручу в счет будущих поставок пять тысяч, скажите, где мы встретимся?
Мавлянов был готов к такому предложению, сказал, что завтра в двенадцать тридцать на проспекте Калинина, возле салона красоты «Чародейка», Шибаева будет ждать Шамсинур, такое имя у племянницы. Ну что же, отлично! О'кей, как сказал бы Вася.
Пришло время закруглять званый обед, сам Календулов объявил показ видеофильма, разумеется, зарубежного!
— Ударимся в видеотизм! Станем видиотами! — Похожий на Гоголя оживился, ему нравилось предстоящее зрелище. Тощая вегетарианка по-французски сказала Пете, что ему лучше бы уйти, гости будут шокированы тем, что школьник смотрит неприличный фильм. Петя согласился, сказал, что «Крестный отец» уже вышел из моды, сейчас пошли кассеты с порнофильмами и самый ходовой «Глубокая глотка». Весь репертуар на Западе строится на трех «С» — суперменство, секс, садизм. Порнография на Западе приобретает новые формы, довольно-таки невинные, ласка голосом, например, вы можете позвонить по телефону, указанному в рекламе, и вас будут ласкать голосом по всем недозволенным местам, а потом на счет в банке вы переводите за сеанс двести пятьдесят франков, не так уж и много в пересчете на наши рубли.
Нет, такого пацана учить, только портить.
Поставили кассету, начался фильм, но Шибаев стал зевать в полумраке, сказывались эти ночи с Ирмой. Сегодня надо сделать перерыв, отдохнуть, тем более, что завтра будет шанс приголубить племянницу, он ее в гостиницу пригласит в свой полулюкс… Зевал, глаза закрывал, и померещился Каратас, четыре дня уже, как Шибаев бросил комбинат, можно сказать, на произвол судьбы, а за четыре дня там можно такого наворочать, хоть в личном плане, хоть в производственном. Надо поскорее возвращаться.
Глава двадцать пятая НЕ УМЕЕШЬ — НАУЧИМ
Только сейчас Вася оценил работу директора. Жизнь на комбинате без пульса, ни о каком плане не могло быть и речи. Выделка заметно уменьшилась, выручка кое у кого заметно увеличилась. Если раньше разрешение на вынос продукции из цеха получали два-три человека, то вчера, например, подали на проходную список из девятнадцати фамилий. Что это значит? А то, что еще столько же пронесли поделки без всякого разрешения. Трудовой накал не стихал, даже наоборот, жарче стало по цехам, но Вася видел, а где не видел, нюхом чуял, вкалывали в эти дни исключительно для себя, обшивая и ублажая своих просителей. Все для народа и ничего для комбината. Процветала тащиловка. Вася налетел на охрану, как гром и молния, — до каких пор, мать-перемать, вы будете ротозейничать, на ваших глазах растаскивают комбинат, а вы чифир гоняете, сигареты с фильтром курите! Кричал Вася и ругался точь-в-точь, как Роман Захарович, но толку не было, ни черта его крики не помогали. Тетка из охраны спросила с недоумением: «Ты чего, Василь Иваныч, кричишь? Так всегда было». А тут еще Григорий Карлович позвонил — надо бы нам встретиться, решить кое-какие вопросы. Вася показал характер — никаких встреч до приезда директора, никаких вопросов. Положил трубку. У Голубя стукачей полно, с ходу дунули ему, что стали больше выносить левой продукции, вот он и замандражил, будто из его кармана выгребают.
Отбоярился от одного, прикатила другая — Зябрева на машине секретаря обкома отобрать шкурки каракуля не черного, не коричневого, а серого. Машина остановилась возле цеха выделки, Вася психанул моментально, раскалился, хоть прикуривай от него, завалил Зябреву шкурками — выбирайте, мне некогда, план горит. Она там чихала и морщилась, а он вышел и пристал к мужичку из охраны:
— На территорию машина прошла, чуть тебе ноги не отдавила, видел?
— Ну?
— А чья она?
— Да какая-то баба приехала.
— Не баба, во-первых, ты не на базаре, говори — женщина, и все внимание на машину — откуда она, из какого учреждения?
Охранник хлопал глазами, не мог понять, чего от него требует Махнарылов — в первый раз, что ли? Всегда въезжали как к себе домой.
— Ты когда брился? — продолжал воспитывать Василий Иванович.
— Вчера.
— А теперь когда будешь бриться?
— Завтра.
— Вот так и живешь, то вчера, то завтра. Волокешь, к чему я говорю? У тебя жизни нет, понял? То вчера, то завтра. А как раз сегодня вверенное тебе предприятие растаскивают. Номер видишь КРА 00–03, чья это машина? Обкомовская, понял? И другим скажи, своему сменщику, начальнику караула, что приезжала машина обкомовская, чтобы они записали номер.
— Что мне, больше всех нужно? — уныло тянул охранник.
— Ты чего ждешь, когда потащат отсюдова крышу и радиаторы парового отопления?..
Не помогали накачки. Растащат комбинат до приезда Шибаева, хоть замки вешай, пломбы везде лепи, и Каролина пропала, мать-перемать, Вася ее вообще на работе не видел, сегодня узнал — укатила с Шевчиком на голубые озера аж в Кокчетавскую область. Вот и несут из ее цеха пошива по девятнадцать комплектов того-сего. Пробудет еще неделю Роман Захарович в Москве, и комбинат разворуют, и рабочие разбегутся. Какой там план, доход, приход — сплошной отход. Отказался Вася разговаривать по делу с Голубем, а он возьми да прикати к нему сам прямо в кабинет под вывеской: «Что ты сделал для плана?»
— Василий Иванович, я, собственно, по вашей просьбе. Хотел бы ответить на вопрос, куда девать сто тысяч.
Вася сердито смотрел в сторону, был очень недоволен, но все-таки вежливо спросил, куда.
— Вы даже не предлагаете мне сесть, — упрекнул Голубь. А Вася опять расстроился, охрана мышей не ловит, опять пропустили постороннего на личной машине, мало ли, что офицер, нам погоны — не пропуск.
— У меня к вам, Василий Иванович, деловое предложение. Я посоветовался с товарищами и заручился их поддержкой, — продолжал напористо Голубь.
— С какими конкретно? — насторожился Вася, зная, какие у него товарищи.
— С авторитетными. Как вы считаете, начальник цеха крупная фигура на производстве или так себе?
— Очень крупная. Бывает, крупнее самого директора.
— Я тоже так считаю. Нам достоверно известно, когда Шибаев был начальником цеха, он самостоятельно проворачивал очень большие дела. Михаил Ефимович завидовал — вот умеет. А тот, кто умеет, тот и имеет. А что мы видим у вас, Василий Иванович? Где ваша самостоятельность?
Вася любил тонкий намек, а когда работали грубо, это его обижало.
— Что вы этим хотите сказать? — задал Вася вопрос нападающим голосом. Однако Голубя это не смутило, от намеков он перешел к делу _ почему бы Махнарылову не вести часть дела самостоятельно? И доходами распоряжаться бы самому, вот как к примеру, он распорядился выручкой от каракуля в Чимкенте, двадцать пять тысяч рублей — и все себе. Вася похолодел — откуда? Кто? Когда? Но Григорий Карлович не стал вдаваться в детали, сказал, что делаются такие дела довольно просто, путем утайки от компаньонов. Однако в одиночку можно и погореть, нужны помощники, чтобы своевременно устранять помехи. Про Чимкент Голубю кое-что стало известно, а почему? Потому что Василий Иванович оторвался, зазнался.
— Я маленький человек, — сказал Вася, сурово сдвинув брови, — всего лишь начальник цеха.
— В науке управления, Василий Иванович, есть правило; чем больше решений принимается в самом низу, тем эффективнее действует управление. Понимаете?
— Не совсем. Это как, в самом низу? Если вахтер на проходной примет решение шмонать не всех, в через одного, какой будет эффект? — Науку управления Вася зарубил на корню.
— Давайте вернемся к вопросу о вашей самостоятельности как начальника цеха.
— Я вырос у вас на глазах, Григорий Карлович, и у меня никогда не было своей охраны, кто я такой? — У Васи в голосе почти слезы. Выросло дитя без охраны, а если и охраняли его, так временно, три срока в зоне.
— Как это, кто такой!? — изумился Григорий Карлович и даже нервно встал. — Вы начальник цеха! Вы фигура, главная, можно сказать, фигура, на производстве, нельзя себя унижать. Унижение паче гордости, говорили древние.
— Факт остается фактом. А без охраны я воровать не могу.
— Фу-у-у, Василий Иванович. При чем здесь воровство, уважаемый? Речь идет о долевом участии в производстве материальных благ. От каждого по способностям, каждому по труду, это наш принцип. Если вы на все сто процентов выкладываете свои способности, а оплачивают вам всего лишь процентов пятьдесят, разве это справедливо? Кто эту разницу будет возмещать? Никто, кроме вас самих, такое время. Никогда не произносите в нашей среде, Василий Иванович, таких грубых и пошлых слов, как воровство, хищение и прочее. Вы очень грамотный человек, непревзойденный организатор производства, нельзя так выражаться. Надо говорить — резервы, прибыль, доход.
— Как ни говори, а охраны у меня нет, — прежним обиженным тоном продолжал Вася.
— А если охрана будет?
— Тогда и дело будет.
— Разрешите, я позвоню с вашего телефона? — Голубь набрал номер, кому-то сказал: — Я жду вас на комбинате в цехе Василия Ивановича. — Положил трубку, взял со стола газету «Труд». Вася теперь не расставался с газетой, читал каждый номер. — Вы можете заняться своим делом, я вам не буду мешать.
Васе как раз это и нужно, он вышел в цех, пальцем поманил свою верную подругу, а ныне старшего мастера Тасю Пехоту. Так и так, у меня будет сбор тузов, даю тебе задание, выполнишь, когда я нажму кнопку.
Вскоре к цеху выделки подъехала синяя «Волга», за ней милицейский газик с мигалкой. По комбинату сразу слух — приехали забирать Мах-нарылова. А директора уже взяли в Москве, везут этапом. Из «Волги» вышел Лупатин, из газика вышли Цой и капитан Парафидин из Октябрьского райотдела. Вася встретил их у входа, проводил в свой кабинет. Четыре человека охраны для одного только Махнарылова, это вам не трали-вали, столько офицеров не приезжало сразу даже к самому Мельнику. Лупатин, конечно, помнил, как Вася его стопорил на самосвале возле «Мороженого вина», но сделал вид, что не узнал проказника, а видит перед собой фигуру — начальника цеха.
— Как наши успехи, как наше здоровье? — бодро спросил майор Лупатин, сидя на Васином месте, а Вася, стоя перед ним, как на допросе, вежливо отвечал, что все в ажуре.
— Вы нас принимаете не гостеприимно, — заметил капитан Парафидин, — не по-казахски.
— Что предпочитаете, коньяк, водку, пиво?
Не успели они ответить, как Вася одним взмахом руки сдвинул завал на столе разных шкурок, бумаг, экземпляров, экспонатов, расстелил газету «Труд», выставил бутылки, стаканы, колбасу, все у него было наготове. Выпили по первой, но Голубь, как всегда, отказался, он за рулем.
— Все мы за рулем, — перебил его Лупатин.
— Мне читать лекции, будет пахнуть, генерал не любит.
— Все мы читаем лекции, — снова вставил Лупатин и потребовал выпить. — В Америке все пьют и ничего, развивается страна ускоренными темпами.
— В Японии есть запатентованное устройство, — интеллигентно заговорил Цой. — Водитель принял спиртное, садится за руль, включает зажигание, а особый датчик ловит микродозу алкоголя и сразу же отключает зажигание.
Вася выпил, хорошо пошло, стало ему весело. Он глядел на всех этих золотопогонников, на всех этих енералов, пля, хотелось ему покуражиться — кто скажет, что можно купить на сто тысяч?
— Давайте сообща решим, коллегиально, — предложил Голубь.
— А из чего выбирать, из наказуемого или из ненаказуемого? — по слогам выговорил Парафидин. У Васи сложилось впечатление, что у капитана не все дома.
— Я ему предлагал кушать три раза в день из коллекционного фарфора серебряными вилками, — сказал Голубь, — он не хочет.
Это же глупости все, Васе надо для души, а не для живота.
— Яхту можно купить на Черном море, — предложил Парафидин, он, наверное, грек оттуда, из какой-нибудь Одессы, шаланды полные кефали привозил, пока в Каратасе не оказался. — Яхту, причал, и сторожа нанять — большая сумма.
— Я могу верблюда купить в Саржасе и сторожей нанять целую бригаду, но мне же, я повторяю, для души.
— А я бы тебе предложил сто девочек, Василий Иванович, представляешь? — внес свою лепту майор Лупатин.
Вася задумался, но совсем на миг. Может, раньше, когда не было Таси Пехоты, такое предложение вызвало бы интерес, но сейчас! Утром она приходит, глаза с поволокой, дверь на крючок одной рукой, а другой расстегивает все на свете и прет на Васю, а буфера торчат, как две боеголовки, с утра у Васи взаимность, так она же еще и после обеда норовит — нет, никаких ему девочек, милиция не волокет, прямо скажем. Столько голов, и ничего не могут придумать для души на сто тысяч, Вася может гордиться, какой он взыскательный и сурьезный.
— Мы это решим как-нибудь на досуге, — подвел итог обсуждению Лупатин. — А сейчас, Василий Иванович, скажи нам прямо, кто тебе мешает работать, выполнять и перевыполнять? Нет ли жалоб на притеснение со стороны милиции?
— Да, мой цех нуждается в вашей помощи, спасибо за внимание, — сразу же ответил Вася, а потом подумал, какое тут внести предложение, чтобы не прогадать и не провиниться перед директором. — С милицией мы живем дружно, — осторожно подбирая слова, продолжал Вася. — Она нам не мешает… Поскольку мы законов не нарушаем… — Вася потупил взор под насмешливым взглядом офицеров. — Я могу высказать некоторые пожелания товарищам из правоохранительных органов, например, когда был грабеж в ЦУМе, милиция не проявила себя. В результате мы оказались без торговой точки. А где нам реализовать продукцию?
— Вот видишь, старший лейтенант Цой? — с упреком сказал Лупатин. — Еще одно возмущение. Надо же успокоить общественность!
— Я сделал все, как положено, оформил и сдал, но мне вернули на доследование.
— Совершено разбойное нападение, похищена значительная выручка, а старший лейтенант Цой квалифицирует это деяние, как обыкновенное нарушение порядка в общественном месте, пятнадцать суток ему и больше ничего.
— Свидетельница Пак показывает…
— Вот, пожалуйста, своих корейцев он выгораживает, у него, видите ли, свидетельница Пак. Там были другие свидетельницы, полный ЦУМ.
— Свидетельница Пак показывает, что денег он из кассы не брал, это были его собственные деньги.
— Да вашу свидетельницу уволили по статье за утрату доверия, это о чем-то говорит?
— Иначе я не могу, — упрямо сказал Цой. — Там хищения не было.
— Не можешь или не умеешь? — поинтересовался холодно, с легкой издевкой Лупатин. — Не умеешь — научим.
— Не хочешь — заставим, — добавил со смешком Парафидин. Коньячок на него подействовал, видать, парень слабак.
— Жену самого Барнаулова схватил за волосы и таскал по ЦУМу семь с половиной минут! — с возмущением продолжал майор. — А если бы тебя так, твою жену вот так таскали?!
Зачем они, собственно говоря, сюда приехали, вести свое милицейское совещание? Кто здесь хозяин?
— Давайте закругляться, товарищи, — сказал Вася, разливая остатки коньяка. — Если подвести ре-зю-ме, то мой цех нуждается в вашей помощи.
— Мы готовы, — сказал майор наигранно, не совсем всерьез принимая Васю. — Давайте действуйте. А то от вас, я смотрю, толку мало. Мы вам помогаем, а вы еле дышете. Чего вы боитесь? Если надо везти за пределы области, дадим соответствующие указания, выделим милицейский транспорт.
— Мы можем дать сопровождение с сиреной, — сказал Парафидин. — Чтобы на сто километров все слышали — давай дорогу.
Все-таки он стебанутый, этот капитан, но не в том дело, все дают Васе намек, чтобы он начал возить овчины налево, как делал это Михаил Ефимович. Он готов, конечно, но что скажет директор? Все равно узнает, здесь' же Цой присутствует.
— Сейчас трудно, — честным голосом признался Вася. — Без директора идет плохое сырье, вот вчера получили две партии меха кролика, двенадцать тысяч дециметров, сплошные коржи.
— Что за коржи? — поинтересовался Голубь. Любознательный.
— Самый дешевый кролик, жесткий, плешивый, весь дырявый, пуховой. Коржи, они и есть коржи. А хорошее сырье без Романа Захаровича я просто не смогу, не сумею достать.
— Не умеешь — научим, — сказал майор Лупатин.
— А не хочешь — заставим, — подхватил капитан Парафидин, после чего раздался такой здоровый, такой спортсменский смех, какого Вася не слышал давно, с той поры, как бросил баловаться анашой. Вот что значит люди ни от кого не зависят, никого не боятся, ржут все вместе, как сивые мерины. Васе стало легко и свободно, он поддался заразе смеха и тоже заржал, похлопывая себя по животу, и даже забыл про свою черную кнопку.
— А взносы надо платить своевременно, — сказал после смеха майор Лупатин. — Иначе могут быть начеты и выводы.
Вася посерьезнел. Сейчас они все поднимутся. Парафидин оказался до того смешливый, слезы вытирал платком. Наступила после смеха тихая, как водится, пауза, Вася легонько коленом нажал кнопку, и тут снаружи рванули двери и в кабинет влетели пятеро — две женщины и трое мужчин, актив цеха выделки и крашения, два бригадира и три мастера, их настропалила Тася Пехота, разве не молодец девка? На столе очень живописно, прямо хоть в кино снимай, была разложена газета «Труд», лежал батон недоеденный, стояли стаканы, банка с солеными огурцами из Болгарии, бутылки коньяка, минеральной воды, водки, как в самой обыкновенной забегаловке.
— Вот, товарищи, это наш актив цеха, а это вот, знакомьтесь, представители органов, — бодро и неостановимо зачастил Вася. — Вот это майор Лупатин, а это начальник из школы милиции, а вот этот товарищ, лицо корейской национальности…
— Мы вас вызовем, — невозмутимо сказал майор. — А сейчас вы свободны, идите по своим рабочим местам.
Вася дал им знак удалиться. Приедет шеф, и все ему станет известно. Главную свою задачу на сегодня Вася выполнил.
Глава двадцать шестая САМОЕ ВРЕДНОЕ ПОНЯТИЕ
Ирма провожала его в Домодедово и сказала, прощаясь: «Мне тридцать лет, и я еще смогу родить тебе сына». Он покидал. Москву облегченный, успокоенный, с большими надеждами. И почему-то думал, что в Каратасе он первым делом пойдет к учителю, а зачем, пока он не знает. Просто так, проведать.
Он едва узнал жену, черт-те на кого похожа, расплылась как на дрожжах, губы раздуты, лицо как из теста, все признаки старости ее вылезли напоказ, седая, патлатая.
— Ты хотя бы волосы покрасила, что ли, — мирно сказал он. Зинаида ничего не ответила. Спросил, где сыновья. Валерку послали на сельхоз-работы, а Славик ушел к товарищу.
В день его появления на комбинате на проходную не было подано ни одной фамилии с разрешением на вынос — нахапали под завязку. Комбинат на месте, и то уже хорошо, не подожгли, не затопили, не опечатали. А может быть, и плохо, знать ему не дано. Если бы сгорел дотла, жизнь у некоторых пошла бы совсем по другому.
Позвонил Прыгунову — как решается вопрос присвоения цеху звания коммунистического труда? Тот уже с утра пьян — нет проблем, приезжай, с ходу решим. Шибаев поехал. У Прыгунова тоже видуха, мятое-перемятое лицо, нос, как свекла, о чем думает человек? А зачем ему думать? Член партии, номенклатурное лицо, отсюда погонят, в другое место пристроят, без куска хлеба с маслом не оставят. Шибаев начал с него стружку снимать — почему до сих пор нет звания? Тот разводит руками — Роман Захарович, дорогой мой человек, я тебя уважаю, но мы не можем протолкнуться между шахтерами да металлургами, у нас не престижное производство. Шибаев с ним заспорил — куда ни зайди, везде то вымпел, то флажок, то вывеска, тыща всяких званий на любом предприятии — ив торговле, и в сфере услуг — и даже в домоуправлении. А у нас как была шарага, так и есть шарага, для чего ты здесь сидишь, в конце концов, штаны протираешь? Я сам выпить не дурак, но дело свое не забываю. Не можешь попросить звание, а нам еще и знамя нужно, еще и ордена нужны передовикам, а ты тут умираешь от скромности. Чтобы через неделю вопрос был решен! А сейчас садись и срочно составляй письмо-требование в Алма-Ату сразу в два министерства — местной промышленности и легкой. Рахимов протолкнет их на подпись, а потом отправит в Москву Мавлянову — учись, как надо работать.
Вечером он позвонил учителю. Старческий глуховатый голос, но как тепло становится Шибаеву, сразу детство всплывает. Родной, близкий человек. У нормальных людей такие отношения бывают с отцом.
— Будем рады, Роман, заходи-заходи.
Тут же хотел по телефону поделиться, что он скоро переедет в Москву, что вы на это скажете? Но утерпел, лучше за столом поговорить, с глазу на глаз. Вот, пожалуй, причина, почему ему так хотелось встретиться поскорее и услышать мнение. Да и проститься, пожалуй, он уедет, а они останутся доживать.
Встречали они его оба, вышли к двери и Вера Ильинична, и Алексей Иванович, одинаково седоголовые, чуть согбенные, стали рядышком, руки сложили на животе и стоят как памятники. Он разулся под их протесты — да зачем, да не надо, да какие у нас ковры! А он с удовольствием прошелся в носках по прохладному линолеуму, разрисованному под ковер. Вера Ильинична когда-то старалась, ползала на четвереньках, расписывая каждый узорчик. Блажные люди! На столе уже готов самовар и висят бублики, где они их берут, неужели сами делают?
Сели они втроем за стол, и Шибаев почувствовал себя маленьким. Он привез им из Москвы подарок, думал-думал, что купить, ведь им, кроме книг, ничего не надо, но в книгах он им не помощник, привез им большую банку индийского чая с картинками. Старики сразу, конечно, сколько стоит, Вера Ильинична за деньгами поднялась, Шибаев ее остановил, за руку взял — як вам чаю пришел попить, а спекулировать буду в другом месте.
После Москвы, после шикарной гостиницы, после визита к Календу-лову, обстановка в их квартире кажется не только скромной, а, можно сказать, убогой, и вместе с тем в нищете ихней какой-то вызов есть, наверное из-за книг, они заполняют все, торжествуют, и это Шибаева раздражало. Простое у него чувство к книгам, отношение, понимание — они портят жизнь. Они заставляют человека делать ошибки. Бывает, непоправимые. Старые, дряхлые, помирать пора, неужели они до сих пор не догадываются, что прожили жизнь неверно — из-за книжек, в которых вранье, если говорить грубо, а если говорить культурно, ради хозяев, то Шибаев подберет слова — книги искажают действительность, дают ложные ориентиры, и человек читающий расходится с нечитающими, которых большинство. Славику он запретил читать, а если увидит, то бьет сразу с левой и с правой, одной рукой по уху, другой по книге. Потому что надо на жизнь смотреть, учиться тому, как все живут. Книга хуже отравы, хуже анаши, а старики считают, именно так и надо жить, по-писаному.
— Читаете, Алексей Иванович? — кривовато улыбаясь, спросил Шибаев.
— Читаю, Роман, читаю, а как же. Главное мое счастье.
— Вопрос у меня к вам. — Он посмотрел на Алексея Ивановича, посмотрел на Веру Ильиничну, не желая с ними деликатничать.
— Зачем люди живут? — с легкой такой улыбкой старшего предвосхитил его интерес Алексей Иванович. — В чем смысл жизни? — Улыбка его стала пошире. — На такой вопрос, Роман, человечество отвечает, сколько живет, и до сих пор не ответило.
— Я бы спросил попроще: что человеку нужно помимо денег? — Он не договорил половину вопроса: и есть ли у меня это нужное, или нет его? Он подозревал, что — нет, по ихнему пониманию нет, той выдумки нет, которая взята ими из книг. Сейчас они начнут внедрять ему свои представления бумажные и хоть убей их, таких слабых и беспомощных, они не отступятся от своего и его не послушают. Шибаев ненавидел их упрямство и раньше, а сейчас после Москвы, особенно. Они — люди, но и он не скотина. У них просто книжки, а у него сберкнижки. Вот вы и ответьте мне, что надо человеку помимо денег.
— Деньги как раз меньше всего нужны, Роман. Человек работает, любит, живет не для того, чтобы быть богатым, а для того, чтобы быть счастливым. — Алексей Иванович посмотрел на Шибаева как на ученика — усвоил? Понял? А Шибаев посмотрел на него в ответ как на конченного занюханного пенсионера, не способного воспринять ничего нового, давным-давно ушедшего от каждодневных забот-хлопот, тревог и напряжений, когда сверху молот, снизу наковальня, а ты посередке что делаешь? — читаешь книгу, ха-ха! О том же самом он и в первом классе говорил маленькому Роману, который подыхал с голоду, мать в тюрьме, на отца похоронка пришла — человек, это звучит гордо, мы рождены, чтоб сказку сделать былью. А самого из родного Питера поперли на границу с Китаем, и притом на всю жизнь. Дожили они до седин, учитель и ученик, а разговор все на том же уровне.
— Алексей Иванович, я вас очень уважаю, вы знаете. Но зачем мы будем мозги компостировать, Алексей Иванович, разве богатство не является счастьем?
Старик с улыбкой такой блаженной, непробиваемой, а главное — укоризненной, покачал головой — нет, не является. Если бы это был кто-то другой, Шибаев мог бы допустить, что человек не согласен из зависти. Но учитель упрямился по какой-то другой, неуловимой причине.
— Я допускаю, есть какие-то единицы, которым на богатство наплевать. Но большинство-то в этом заинтересовано! Почему эти единицы должны навязывать, диктовать всем другим свою волю? Это антинародно, я вам так скажу. Подавляющее большинство людей и у нас, и за рубежом видят свое счастье в богатстве, а мы зачем-то наводим тень на плетень. Зачем, с какой целью? И партия наша видит главную задачу в повышении благосостояния, возьмите речи Брежнева, мало мы их слушаем? А раньше Хрущев сколько говорил: первейшая задача социализма — это рост материальных благ.
— Все правильно, Роман, это необходимо, но есть и другие цели, возьмем для примера слова писателя Федора Михайловича Достоевского. Без твердого знания зачем ему жить, это как раз твой вопрос, Роман, обрати внимание, — без твердого знания, зачем ему жить, человек не захочет жить и скорее истребит себя, чем останется на земле, даже если кругом его будут хлебы.
— Выходит, целину зря поднимали, миллиарды пудов зря даем, вкалываем, не щадя себя. Не согласен я. Писатель нам не указ, он для единиц, а для всей страны есть первый руководитель, он ведет нашу генеральную линию. Так что, Алексей Иванович, вы неправильно живете, не так, как весь народ живет.
Алексей Иванович смущенно приподнял плечи, посмотрел на Веру Ильиничну, дескать, видишь, дожили. А Шибаев продолжал:
— Вот вы сколько лет учили многих уму-разуму, а сами не знаете, за что ставят на ковер ответственного товарища, партийного и хозяйственного руководителя, за что стружку снимают, например, с меня, с других. Совсем не за то, что мы смысла жизни не выдаем.
— За недостатки, упущения, я понимаю, за то, что не справляетесь с порученным делом, не растите кадры. Это азбука.
— «Азбука», — усмехнулся Шибаев. — Ставят на ковер за одно — не дал план по валу. Любой ценой! План или пропал, у нас говорят. Руководящего не снимут, не понизят, если он пошел против совести, обманул, схитрил, или, допустим, он оскорбил рабочего человека, отругал его. Наоборот, если хамит всем подряд, в этом твердость его. Никому еще не объявлен выговор за то, что ты не воспитал в коллективе ни одного порядочного человека или в области не дотянул культурных, честных и совестливых до двух тысяч голов. Это же абсурдная постановка вопроса, сумасшедшая, таких показателей не было, и никогда не будет, и не только на производстве, но даже в школе! Поголовье скота — другое дело, вот уж там изволь ответить за телят, за ягнят, за цыплят буквально за каждую голову.
— Я вижу, ты не в духе, Роман, и все обостряешь. Конечно, бывают недостатки, и всегда будут, если общество растет, не стоит на месте. Для человека естественна требовательность к своей среде обитания. Главное — воспитать чувство хозяина.
Шибаев его перебил нетерпеливо и возмущенно:
— Что за хозяин, у которого нет власти?! Зачем у зайца воспитывать чувство волка? Это же чушь. Хозяин тот, кто правит, кто может выбирать решение, распоряжаться, у кого есть средства, фонды, кадры. Зачем без всего этого чувство хозяина? Если нет у тебя власти, ты холуй перед всем на свете.
— Рома-ан, зачем крайности? — укоризненно протянул Алексей Иванович. — Надо смотреть исторически. Хозяин на земле — человек производящий, а не командующий, человек-труженик.
— Что такое труд, Алексей Иванович? Это несчастье, я вам скажу, для большинства. Единицы от души работают, блаженные, а весь МИр — из-под палки. Чуть появятся деньги, так и норовят все бросить. Почему у нас бичей развелось? У народа деньги лишние, любой подаст выпить и закусить. А работать не хотят — почему? Не привлекает человека количество, штуки, литры, киловатты, километры, хочется для души чего-то. А руководителя именно за эти показатели трясут и трясут, давай план, заваливай дерьмом магазины, поля, реки, атмосферу, уже дышать нечем — и все вал.
Очень ему хотелось быть умным перед учителем, и что-то получалось, перло из него неостановимо, как с магнитофонной ленты, говорил и говорил.
— Цинично ты рассуждаешь, Роман, хотя и не глупо. В любом случае надо настроить себя на высоту.
— Пойду на пенсию — настрою, а сейчас не дают. А потом у меня своя высота.
— Если бы ты читал книги, то понял бы, что от веков нашей жизни остается не зло, а только доброе и прекрасное, благородное. В книгах наши предания о подвиге, о чести и совести, о самопожертвовании ради других.
— Книги нужны только учителям, Алексей Иванович, а для чего? Чтобы малых детей пачкать мыслями. — Шибаев оговорился, вместо «пичкать» сказал «пачкать», но получилось еще точнее, он настоял на ошибке. — Я вот на своей работе постоянно тем и занят, чтобы люди наплевали и забыли поскорее бы, чему ваша литература учит. Сердитесь на меня, или прощайте меня, но я правду говорю. Человек живуч только потому, что забывает про ваши идеалы. Хотите верьте, хотите нет, но не только массы, простые люди, весь партийно-хозяйственный аппарат сверху донизу и снизу доверху книг не читает! — Он сказал это с такой убежденностью, с таким напором, что Алексей Иванович смущенно отстранился, неприязненно посмотрел на него.
— Совсем?
— Совсем! Не будем брать меня, хотя я тоже какой-никакой руководитель. За последние пятнадцать или даже двадцать лет ни одной книги не прочитал, как на духу говорю, и греха за собой не вижу, у всех так. Правда, была одна маленькая, желтенькая про зэков, описывался один день в лагере от подъема до отбоя, мы ее вслух читали на пивзаводе,
потешались, а больше ни одной. Я знаю кадры от низшего звена до высшего, от мастеров до министров — не читают! Не потому, что такие тупари, — им некогда, Алексей Иванович, даже если бы захотели читать. Некогда.
— Но Сталин читал книги, между прочим, это известно, он следил за литературой.
— Так то Сталин! У него, если министр олух, так он его из Москвы на лесоповал. А у нас, если министр олух, наоборот, в Москву едет, в Академию, диссертацию писать, как надо правильно жить и работать. Я себя, Алексей Иванович, не могу обвинять. Если бы принято было у руководителей хоть какого звена читать книги, вот как у спортсменов разряд поддерживать, а то все потеряешь, я бы тоже читал. А просто так — нет интереса в нашем кругу. Уважающий себя хозяйственник за книжку не сядет, лучше в преферанс. И по телевизору для него только программа «Время» или доклад генерального секретаря нашей партии и не ниже.
— Я тебе не верю, Роман. Невежды всегда были, но чтобы уж так поголовно — нет, не верю. Книга делает из животного человека. Вот зачем ты ходишь ко мне столько лет? Школы не закончил, об институте не мечтал, а все-таки в тебе живет свет того времени, идешь ко мне и ждешь, что я тебе скажу слово о высшем предназначении.
— Эх, Алексей Иванович, знали бы вы!..
— А я знаю, Роман, можешь мне не рассказывать. Если человек ищет смысл, значит это хороший человек и он мне ясен без объяснений. Я тебя досконально вижу, ты человек цельный.
Вот этим, наверное, и привлекали старики Шибаева, что всегда хорошо о нем думали, а кому этого не хочется?..
— Алексей Иванович, вы столько прожили и неужели за все годы не увидели в жизни ничего плохого? По-вашему, книги есть — и больше ничего не надо. А свобода? У нас же свободы никакой — ни слова сказать, ни дела сделать.
Казалось бы, уж здесь-то нечем будет крыть вечно гонимому человеку, однако же, нет, он и здесь не согласен.
— Ты удивишься, Роман, но я, как учитель, считаю, что самое губительное для человека — это как раз свобода, не философская, а обыденная, житейская, понимаемая как вседозволенность. В начале всех начал был запрет, и потому человек выжил. Свобода — это развязывание инстинктов, это удел хищного животного. А вот запрет — это всегда разум, необходимость, чисто человеческое побуждение. К этому, собственно говоря, школа всегда стремилась — к воспитанию через запрет животной страсти, через продуманное насилие. Ах, как это страшно — насилие! Но Горький, пролетарский писатель, босяк из народа, говорил, что культура — это организованное разумом насилие над зоологическими инстинктами людей. Это дисциплина, а ее не может быть без наказа, без наказания, которое всегда было главным средством воспитания в семье и в школе. Я об этом написал статью, Роман, ты как будто знал, о чем со мной заговорить. Послал ее в «Учительскую газету» — возвратили, послал в журнал «Семья и школа» — возвратили, послал в Академию педнаук, пока молчат, но думаю, тоже возвратят. И ответ один — я допускаю путаницу понятий видишь ли, я игнорирую азы марксизма. Я назвал статью так: «О необходимости наказания в семье и в школе». Сейчас оно не применяется, ни там, ни там, мы лжегуманисты, мы все возлагаем на милицию, на карательные методы и оставляем государство без культурной поддержки. Что нам дала вседозволенность? Прежде всего развал семьи, основы общества. У детей должен быть отец, а у народа — отечество. Свобода — это терроризм, наркомания, преступность, проституция в двенадцать лет. Свобода — это конец света, об этом давно говорят выдающиеся умы. Для воспитания нет понятия более пагубного, чем свобода делать, что хочешь, говорить, что хочешь, носить, что хочешь. Меня очень огорчил конфликт в девятнадцатой школе, где работает наша хорошая знакомая Елена Гавриловна. Представь, Роман, в пятом классе пришла на занятия девочка, кроха в пионерском галстуке и с золотыми сережками. Как бы ты поступил?
— Я бы узнал первым делом, кто ее родители. Где работают, какой вес имеют.
— Это ты серьезно? Гм… Допустим, ее мать начальница какого-то там управления торговли.
— Вот видите, до чего вас книги довели. «Какого-то там» не бывает, Алексей Иванович. Если управление, то оно входит в исполнительный комитет Советов депутатов трудящихся. Короче говоря, это советская власть. А если ее мать власть, то я не стану с ней бодаться, я не дурак. Пришла ее дочь в золоте, носи на здоровье.
Алексей Иванович помахал перед собой маленькой рукой, будто развеивая дым, ему стало не по себе.
— Давай, Роман, о чем-нибудь другом… Я с тобой никогда не соглашусь. Хотя и такая точка зрения может быть, к сожалению. Я написал Брежневу про этот возмутительный случай, Елену Гавриловну выживают из школы.
— Вы считаете, он будет читать ваше письмо?
— Я в этом не уверен. Бог ты мой, да что я говорю, не будет он читать, но у него есть референты, которые собирают информацию и обобщают для докладов и выводов. Мое письмо будет не единственным такого рода, сейчас обострилась тяга к мещанству. Мое требование скромности, благородства сольется с другими голосами, нас много. Мы не можем потакать стихии, идти на поводу у черни, нам отомстит будущее. — Он говорил несколько раздраженно, вспомнил свое тщетное заступничество за Елену Гавриловну и расстроился. — Мы должны подавать пример озабоченности будущим, мы должны мыслить, мысль всегда была главной целью человека, хотя ты утверждаешь «план-план».
— Не знаю, как насчет всегда, Алексей Иванович, а сейчас мысль не требуется. Я тоже, слава богу, не мальчик. Человек живет не сам по себе, а среди других, в государстве. А государству все ясно, оно повторяет мысли столетней давности и на том стоит. Главное на земле власть. Не мысли, не книги — власть. Кому она принадлежит, от них все идет, все зависит…
На прощанье Шибаев задал еще один, последний вопрос: может ли человек быть счастливым, если он всю жизнь прожил в нашем Каратасе?
— Разумеется! — Алексей Иванович улыбнулся мягко, как ребенку. Ему всегда нравились именно детские вопросы Шибаева, школьные, наивные. — Я здесь с тридцать пятого года и не считаю, что был несчастлив.
Нашел счастье… И здесь книги довели.
— А если я уеду в Москву?
— Одним хорошим человеком станет меньше у нас. Но если тебе в Москве предлагают работу, дают возможность вырасти в своем деле, то я от чистого сердца желаю тебе успеха.
«Дают… Предлагают…» Он покорит Москву своей хваткой, своими деньгами, он всего добьется.
— Не дадут, я сам возьму, Алексей Иванович, я не слабак.
— А знаешь, от какого слова твоя фамилия? Воротила, торговец, шибает делом.
— У меня кличка — Шибер.
Алексей Иванович улыбнулся — интересная.
— Еще Шибай — это буян, драчун, жестокий человек. На тебя не похоже.
— Похоже, — поправил его Шибаев.
— А курские и воронежские шибаем называют кулака, барышника.
— Тоже похоже, отец мой был раскулачен, вы знаете.
— У немцев слово «шибер» тоже есть, и смысл тот же — воротила, скоробогач.
Коли так, куда денешься, надо фамилию оправдывать. Он ушел от них с верой в себя, в свою силу, в успех своего плана, все, что им намечено, он сделает.
Глава двадцать седьмая ДЛЯ МИЛОГО ДРУЖКА СЕРЕЖКУ ИЗ УШКА (Фельетон)
Да не удивится пусть уважаемый читатель нашей газеты, на сей раз у нас пойдет речь о сережках — да-да, о тех невинных, подчас совсем незаметных украшениях женщины, девушки или даже девочки-школьницы. В одно время случились в нашем замечательном городе-труженике два очень похожих события, связанных с одним и тем же предметом, а именно с серьгами, которые вдеваются, как известно, в уши. Эти события выразились в том, что в невинные украшения вцепились два совсем разных человека — бандит с большой дороги и милая, на первый взгляд, старушенция, которая мухи не обидит, а на самом деле… Читатель догадался, о каких сережках идет речь в одном случае, да-да, о тех самых, на которые покусилась рука грабителя, схваченная с поличным в Центральном универмаге нашего города-труженика, когда некий Нурлан Батырбе-
416 ков налетел на продавщицу мехового отдела, скомандовал ей «руки вверх» и начал срывать с нее скромные украшения и заодно выгребать деньги из кассы.
Но про другие сережки мало что известно нашему просвещенному городу, хотя и в этом случае было также произведено насилие над личностью. Представьте себе, ваша дочь приходит в школу в чистом платьице с белым передником и в ушах у нее маленькие скромненькие сережки, которые, на взгляд нормального человека, совсем не бросаются в глаза, никого не ранят, никого не убивают ни своим мещанством и ничем таким прочим. А теперь попробуем отгадать загадку — кто первый ополчится против? Сколько ни гадай, ни за что не отгадаешь, потому что первой ринулась и подняла всю школу против невинного украшения, представьте себе, учительница, мало того, классный руководитель по имени Елена Гавриловна из школы номер 19. Давайте зададим ей вопрос: до каких пор мы будем отличаться от Запада в худшую сторону? Ведь не в носу у нее кольцо! Неужели от каких-то сережек рухнут устои нашего социалистического общества? Сколько еще ханжей сидят-отсиживаются по нашим школам и не спешат на пенсию, распространяя отсталость, косность и нездоровый дух. Пощадим бедного ребенка и воздадим по заслугам тем, кто этого заслуживает.
Вы спросите, почему наша уважаемая газета решила выступить по такому незначительному поводу? Дело в том, что пустяк начали раздувать, девочку уже преследуют, ей грозят плохой характеристикой, будущее ее рисуется в черных красках. Так кто же защитит ребенка, если не я, не ты, не все мы вместе взятые? Даже у грабителя находятся защитники, утверждающие, что он не украсть хотел, а даже наоборот, уличить, разоблачить, выставить якобы расхитительницу на позор. Нашлись уже мудрецы, считающие, что ничего особенного Батырбеков не совершал, просто проходил мимо и… Но тем проходимец и отличается от порядочного человека, что просто так мимо он не пройдет. Слышу либеральные всхлипы — ну дали бы ему пятнадцать суток, зачем ему давать пятнадцать лет? Во-первобладание, не случайно ее фотография на Доске почета, это женщина из тех, кто коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Едва вырвавшись из рук грабителя, она первым делом бросилась к кассе, чтобы сохранить народное добро, но, увы, было уже поздно. У этой женщины замечательная выдержка, вы только представьте себе, уважаемые читатели, если бы вас таскали за волосы в течение двадцати семи с половиной минут. Но — шутки в сторону! Мы требуем, чтобы каждый умел держать в руках не чужую собственность, а самого себя. Это касается и престарелой учительницы
417 и молодых налетчиков. Не будем разводить химеры, а сделаем так, как говорили еще до нашей эры: отбросим «хи» и примем меры!
Валериан Косовский
Глава двадцать восьмая ПЕРЕХОДЯЩЕЕ ЗНАМЯ
Ревизии, проверки, комиссии сваливаются на голову, как дождь с неба, обрушиваются, как стихийное бедствие. И все-таки есть таланты, способные все учуять. Глубокой ночью Шибаева разбудил телефонный звонок, и Гриша Голубь сообщил, что приехали двое из прокуратуры Союза проверять твой комбинат. Жалоба, сигнал за подписью или анонимка — пока неясно. Известны их фамилии. Что будем делать?
Прокуратура Союза это не Лупатин, не Каратас — это Москва. Первая мысль по проторенной дорожке — опять подстроено Голубем. Но зачем тогда ему поднимать переполох среди ночи?
— Надо срочно связаться с Мельником, — сказал Шибаев.
— Сейчас буду звонить.
Утром они явятся на комбинат и начнут шуровать, а мы не готовы, по цехам бардак и на складах с учетом не все ладно. Неожиданность — залог победы. Над нами.
— Как ты смотришь, если я с утра полечу в Алма-Ату? Привезу переходящее знамя за третий квартал, нам обещали.
— Прекрасная идея! Проверку отложим до твоего приезда. Шибаев не спал до утра, думал, искал броню, но контрмера пока рисовалась одна — ехать и везти знамя. И на прицепе если не самого министра, то, на худой конец, Рахимова, сказав ему, что если уж начнут копать, то и до него доберутся.
Утром Шибаев отбыл в Алма-Ату, успев предупредить и Васю, и Каролину, и Прыгунова, чтобы навели порядок и не допускали проверки в его отсутствие. Никому ни слова пока, что комбинату присуждено знамя. Объявить, что директор в командировке, подождите пару дней, уважаемые товарищи из прокуратуры. А потом сюрприз — присвоение звания коллектива коммунистического труда, вручение переходящего знамени за успехи на предоктябрьской вахте, после чего в свете наших достижений ваша проверка будет очень даже полезна.
Угораздило же их явиться в такой момент, в чем причина? Сначала Шибаев подумал про ту анонимку, которую они заделали с Васей еще зимой. Но не слишком ли запоздалая реакция, почти год прошел? Почему, кстати говоря, не было никакого отзвука на тот сигнал?
Нет, сейчас они прибыли по сигналу более серьезному и доказательному. Все-таки закон подлости существует — у Шибаева валом шапки пошли, из Москвы стала поступать благородная пушнина, Мавлянов не подвел, четко работает конвейер: товар — деньги, товар — деньги, — и вдруг пакость в самый неподходящий момент. И выплата у него четкая, перед ноябрьскими праздниками он всем выдал оклад и на комбинате, и за его пределами. Было, правда, некоторое огорчение, в канун праздника позвонил Башлык — срочно нужны двадцать тысяч. Шибаеву это не понравилось, он предпочитает сам увеличивать ставки, а тут вдруг такая инициатива, тем более, что к Башлыку он не обращался давно, не утруждал ничем. Шибаев принес ему десять, остальное через неделю. Башлык раздраженно потребовал именно сегодня — его вызывают в Алма-Ату. Пришлось Шибаеву ехать за добавкой. Вернулся, вручил и проворчал, что его прижимают все ощутимее — в деле мало, а в доле много. Башлык опять сказал, что можешь рассчитывать на мою поддержку, но не забывай, с кем имеешь дело. Вот так оно и получается для Шибаева, с одной стороны можешь пасть разевать, а с другой — не забывай про намордник.
Не дают работать. На вопрос, кто мог дунуть в прокуратуру, есть ответ: многие. Прошла ревизия Дутова, долгая и дотошная. Дело удалось замять, борцы за честность остались с носом, а ведь уже злорадствовали, объявляли родным и близким, что Шибаева с его лавочкой на той неделе прикроют. Не вышло. Дутов привлекал для ревизии пенсионеров, а уж те честняги, столько в них зла непотраченного, любой из них мог направить сигнал с точными и убедительными данными, вот что особо опасно.
Ладно, Шибер, терпи, зло на земле неистребимо, это даже нормально, когда пишут, стучат, кляузничают. Ты прищучиваешь Васю и Каролину, иначе растащат все к чертям, а кто-то тебя прищучивает, ибо ты тоже горазд растаскивать. И тех, кто выше тебя, контролируют, чтобы не зажрались, так вот оно и идет этаж за этажом. Лети, давай, пока не слетел.
Задуманный маневр удалось решить в Алма-Ате гораздо легче, чем он ожидал, Рахимов сразу согласился ехать, тут же все обговорил с министром, и на другой день они вылетели в Каратас.
Торжество устроили по высшему разряду — во Дворце труда, в президиуме сидели почетные шахтеры, почетные металлурги, все в регалиях. Был духовой оркестр. Вручили знамя, объявили о присвоении цеху пошива звания коллектива коммунистического труда. Не забыли пригласить и уважаемых товарищей из Москвы. Был концерт самодеятельности, Тася Пехота исполнила под баян матросский танец, а Шевчик спел «И знает счастье, что оно счастье».
Мельник в президиуме не сидел, Мельник на комбинате не появлялся, хотя прилетел в Каратас впереди лайнера и сейчас держал руку на пульте. Одного из проверяющих, старшего советника юстиции Толика, Мельник знает, они вместе парятся в Сандунах. Толик узкий специалист по мехам, последним его делом была история в Казани, там погрузили контейнер соболей, опечатали, прибыл груз в Москву, пломбы на месте, а контейнер пустой. Исчез также офицер, капитан милиции, который персонально отвечал за погрузку в Казани. Толик ездил туда выяснять. Спустя месяц, они встретились в Сандунах. Мельник за шашлыком поинтересовался, нашелся ли капитан. Куда денется, — ответил Толик, — всплывет со временем, а пока ни соболей, ни капитана. Шибаев видел в Москве, в магазине «Богатырь», шапку мужскую из соболя, одну — 1666 рублей.
Началась проверка. Шибаев представил все документы и потребовал разыскать жалобщика и примерно наказать, сколько можно? Производство без конца лихорадит, то ревизия, то комиссия, то лекала заберут, то цеха опечатают, — ну как в такой обстановке работать? Нас терроризируют анонимщики, они приносят государству ущерб и никакой пользы. Толик, старший советник, подтвердил, есть подсчеты, проверка одной жалобы с выездом из Москвы на место, стоит две с половиной, а то и три тысячи рублей. Каждая проверка. А жалоб тысячи. При Петре Первом был указ — подметное письмо, навет, пашквиль предавать сожжению через палача. Доносчиков государь не жаловал, так и сказано было: доносчику — первый кнут.
Торжества во Дворце не смутили проверяющих, каждый защищается, как может, спокойно к этому отнеслись. Однако учли, что в обстановке подъема и поощрения на мелочи кое-какие отрицательные им придется закрыть глаза. А пока они увидели, что комбинат пользуется авторитетом не только в Каратасе, но и в Алма-Ате, и если выводы их проверки будут слишком категоричными, то неизбежны трения, звонки и нажимы сверху.
На третий день проверки усталый и похудевший Мельник объявил, что в честь целого ряда важных событий созывается сауна у Цыбульского. Надо поприветствовать товарищей из Москвы, а среди них не только бдительные проверяющие, но и бдительно отвечающий на все вопросы Михаил Ефимович. Приглашен областной прокурор, естественно, приглашен актив комбината, в частности, Махнарылов, пришла пора посвятить его в деловары высшей категории, ванна ему грозит из шампанского. Кстати сказать, Вася бухтел, недоволен был, что звание такое высокое, почетное присвоили не ему, а цеху пошива. Но гляньте, люди добрые, что они шьют? Той зимой Вася сам надел их продукцию; проносил до весны, а за лето шапка села так, что не напялишь и на макушку, вся скособе-нилась. В последнем слове Вася добавил еще одно «е», где надо, — для доходчивости, уж очень он был недоволен, и его недовольство могла скрасить только ванна из шампанского.
Для узкого круга было сказано, что обязательно будут три девушки — Рая, Тая и Мая, блондинка, брюнетка и шатенка. Ну и совсем никто не знал, не ожидал, что Мельник пригласил еще и своих друзей по овчинам Калоева и Магомедова.
Глава двадцать девятая БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО
На дворе врезал первый ноябрьский морозец градусов под двадцать, мела поземка, мороз вышибал слезу — это на дворе, снаружи, а внутри, в сауне, было тепло, уютно, под негромкую музыку плавно сменялись цветовые пятна, малиновые, оранжевые, зеленые, все приглушенно, в легком пестром сумраке. Никто никуда не спешил, говорили негромко, дружески, легко смеялись, помогая и себе, и другим испытать все тридцать три удовольствия. Музыка, бассейн, парильня, вино и шашлык, карты и шахматы, занятный разговор, свобода в главных ее видах — свобода слова, дела и тела. Один ходит нагишом, как в Полинезии, другой закутался в простыню, как в Индонезии, третий в шапке парится и в рукавицах, как на Земле Франца-Иосифа. Здесь легко поднимаются тяжелые проблемы, и накоротке решаются длинные дела, поскольку САУНА — это Система Автономного Управления Нашим Аппаратом. Люди ходили, сидели, купались, грелись, парились, переговаривались, выпивали, постепенно их голоса становились все громче, при желании можно было выделить не только отдельные слова, но и остроумные фразы и даже нестандартные мысли, например, о том, что супердержавы могли добиться преимущества простым способом — наделать роботов для всех стран на ключевые посты, на конвейеры, а у себя держать команду «стоп». Чуть что, нажал кнопку — и перекур на всей планете. Зачем тогда атомное оружие?
В бассейн плюхнулись одна за другой девицы, повизгивая, заманивая, тела их влажно лоснились. Все острее доносился запах шашлыка, растравлял аппетит, и в предвкушении обжираловки всем стало веселее. Вслед за девицами в бассейн стали плюхаться особи мужского пола, потом потребовал к себе внимания кудрявый мужичок, приземистый, грудь бочонком, и стал говорить, что он в гробу видел прокуратуру, он рабочий класс. Его негромко призвали к порядку, он легко успокоился и вскоре стал ходить, обращаясь то к одному, то к другому:
— Будьте добры, извините, конечно, что такое термокаракала? Говорят, на сто тысяч тянет.
Включили вентилятор, шашлычный дух развеялся, потянуло тонким восточным запахом.
— Уж не горим ли?
— Так пахнет анаша. Похоже вон те девицы забили косяка. Становилось все жарче, музыка не смолкала, вместо лирической
мелодии врубили песню: «Как-то раз за божий дар получил он гонорар, в лукоморье перегар на гектар». Хриплый баритон прогорланил песню, последовало объявление: «Сейчас будет посвящение в деловары высшей категории». Грянул марш, кудрявый мужичок, рабочий класс, вышел на кафель в трусах ретро времен футболиста Боброва, с лампасами и до колен, к нему подскочили почти голые девицы, начали поливать его шампанским спереди и сзади, пытались и в рот налить, но кудрявый отплевывался: «Отрава! Политура!»
— Ур-ра, поздравляем!
— А меня можно?
— Нет, дорогой, надо заслужить честным трудом.
Музыка снова заиграла, но так, чтобы не мешать разговору хоть умному, хоть глупому, не в содержании дело, главное — безмятежность, вольготность.
— Я не поверю ни в какой прогресс, пока не увижу, что пустую посуду принимают хоть где. Считаю это главным показателем порядка в стране. Но пока его нет.
Там, где играли в карты вокруг мраморного теплого лежака, шел колкий разговор:
23 — Я еще не встречал прокурора, который бы проигрывал.
— Я тоже. Поэтому и поступил на юридический.
— Хотел бы я сесть с ним за пульку, выйдя на пенсию.
— До пенсии один из партнеров обычно не доживает.
— Или оба, ха-ха-ха!
— А у вас директор комбината разве не выигрывает у начальника цеха?
Голоса все громче и музыка громче, разгул набирал темпы. Рядом с преферансистат. ти устроились двое с картами в руках на соседний мраморный лежак, но прежде туда легла голая блондинка с сигаретой, разлеглась в кайфе, покуривая, а у нее на животе резались в очко. Кудрявый в трусах ретро объявил, что шампанское он в гробу видел и всех начальников тоже, он рабочий класс.
— Да хватит бухтеть «рабочий класс, рабочий класс»! За что тебя уважать? Что ни возьми — плохо. Машины, одежда, жратда^дома, телевизоры, — все отврат, все лажа! Это же все ты делал!
— По вашему приказанию, — нашелся кудрявый.
Такие мысли только от голого и услышишь, а стоит ему одеться да застегнуться, да взойти на трибуну…
Другой, более умеренный, стал доказывать, что виноват не рабочий, а система приписок. Она началась в лагерях при Сталине, где содержались миллионы зрелого трудоспособного возраста, и от выполнения нормы зависел твой срок, зачеты. Лагеря разгородили, а система бригадной туфты, приписок осталась.
Тяжелые ритмы заполняли всё — бах-бах-бабах, крутились цветовые колеса, увозя всех и каждого в даль неоглядную. Девки уже не резвились сами по себе, каждая была расхватана, причем количество их как будто удвоилось, и снова пошел по кругу общительный кудрявый, на ходу объявляя:
— Королева красоты дает сеанс одновременной любви. Сразу с двумя. Ставка по сотне.
Толстый и плешивый говорил молодому и бородатому:
— А я бы вон ту хотел, под картежниками.
— Нет проблем. Пригласи ее в уголок отдыха.
— А пойдет?
— Ей по протоколу положено.
Гремит музыка, ухает барабан, по ушам бьет, по нутру в зубах отдается.
— По протоколу я не хочу. Где тут вырубается свет?
— Или мы не сыщики.
Через пару минут свет погас, нашли все-таки, вырубили, смолк магнитофон, пропали, само собой, цветовые пятна, сначала паническая тишина, а потом взвизги, выкрики, тот, кто не успел найти занятие вовремя, пеняй на себя, а успел, в темноте еще лучше. Картежники были особенно недовольны, но — не будем мешать другим, у нас коллективный отдых. Скоро свет включили и те, что резались в очко, не увидели перед собой блондинки, ее будто волной смыло. Пришлось игрокам слегка подождать, пока ее возвратят.
Снова пахло шашлыком вперемешку с вином, с духами и снова гремела музыка, и преферансисты увеличивали ставки.
А кудрявый нашел собеседника, слушал, покручивая ус, объяснения молодого человека в узеньких голубых плавках:
— Термы Каракаллы — это бани общественные вроде этой. В период упадка Римской империи. Это не одно слово, а два. На сто тысяч тянет, конечно, смотря какие термы, а то и больше.
Разговор их шел под крик хриплого баритона: «Выходили из избы здоровенные жлобы, порубили те дубы на гробы».
На улице звенел мороз, мела поземка, и стояли возле сауны «Волги» должностные с авторитетными номерами. Двигатели работали на холостых оборотах, выбивая из-под багажников белесый дым. Одна из машин была милицейская. Шофера, постукивая теплой обувью, переговаривались тоже, как в бане, обо всем на свете — о зарплате, о калыме, о детях, о квартирах, анекдоты травили: «Петька на антенну полез. — Красивое имя «Анте-енна!» — и только об одном молчали, о том, когда кончится загул начальства, не положено говорить об этом, терпеть положено, хоть до утра, они были настоящие профессионалы.
Глава тридцатая Копия из нижнего ящика
Соня проснулась от ужасной головной боли, еле-еле открыла глаза, увидела на потолке витой провод к люстре, чей-то частный дом, непонятно, чей. Ковер возле дивана, и на стене ковер, на нем портрет женщины в черном, заломило виски, затошнило, и Соня закрыла глаза, ожидая, когда боль пройдет. Где же она? Вчера что-то ужасное было… Боль усилилась, Соня застонала, есть ли здесь живая душа, ей нужна помощь, ей нужна скорая помощь. Тошнит, сейчас ее вывернет наизнанку. Появилась женщина, похожая на портрет, только уже пожилая, носатая, неприятная такая карга в бигудях и в халате.
— Помоги-и-те, — еле выговорила Соня. — Ой, врача мне. Ой, прошу вас…
— Чего, голова? — спросила карга. — Сейчас.
Она принесла водки в стакане, много, и у Сони от запаха мгновенно подкатило к горлу, она свесилась с дивана в мучительной рвоте. Женщина бросилась загибать ковер на полу, потом грубо за волосы подняла ей голову, подставила стакан к губам: «пей». Соня отшатнулась, но та не отставала — пей, дура, сейчас все пройдет, — силой влила ей водку, разлила по лицу, Соня вынужденно сделала глоток-другой и откинулась на подушки. Все обожгло внутри и действительно стало легче. А эта карга носатая принесла еще водки и таблетку аспирина и заставила опять выпить. Соня полежала еще недолго, голове стало легче, обойдемся без скорой. Но сколько сейчас времени, ей же на работу! Да и как там дома папа с мамой, она не говорила, что будет где-то ночевать. Гос-споди, уже девять. Что ей скажет Роман Захарович? Поднялась, все-таки поташнивало. Да еще накатывать стали подробности кое-какие вчерашнего, картинки выплывали из мрака, магнитофон гремел, записи вчера ей казались такими клевыми. Но кто ее сюда привез, в чужой дом к этой женщине? Какое неприятное морщинистое лицо, у нее тут что, подпольный вытрезвитель?..
Соня с ужасом вспомнила, что Михаил Ефимович от нее вчера отвернулся, поручил ее каким-то нахалам… Она еще вспомнит, вспомнит, а сейчас нужно срочно добраться до комбината. Носатая карга позвала ее и она нетвердым шагом прошла на кухню, здесь плита топилась, потрескивали дрова. Есть совсем не хотелось.
— Чашку чая тебе? Соня покачала головой.
— Может, тебе косяка зарядить?
— Что? Как вы сказали?
Карга поджала губы, не стала уточнять. Соня осмотрела себя — какой-то халат странный. Пошла одеваться, лифчика не было, поискала на диване, за диваном — бесполезно. И трусиков нет. Хорошо хоть брюки нашлись и свитер. Пальто на месте, и платок белый, и сумка. Можно ехать.
— Ты вчера сказала, деньги выиграла, — сказала женщина у порога. — Проверь, чтобы не было разговоров. — У нее и речь была грубая, Соня подумала, что она лагерница. Выиграла? Соня не могла играть, она не умеет, в очко разве. Шахматный столик всплыл в памяти, может быть, она в шахматы играла? Открыла сумку, в самом деле, в боковом кармашке деньги по двадцать пять, восемь штук, откуда? Если просто так кто-то дал — много, а если за дело кто уплатил — вроде бы мало.
— Оставь на бутылку, — сказала женщина. — А то привезут в другой раз, опохмелиться нечем. — Она в усмешке скривила губы, на щеке у нее сразу прорезались черточки морщин. Соня попыталась пальцами выдвинуть из пачки одну купюру, двадцать пять, а она прилипла и тащила за собой остальные, Соня кое-как ее отщепила, подала со словами: «Спасибо», — хотела сказать «за гостеприимство», как ее учили в школе, совсем недавно, но подумала, что гостепримство тут не подходит.
Она вышла на улицу, спустилась с крылечка, не узнавая свой Каратас, как будто ее в чужой город перевезли. От морозного воздуха закружилась голова, опять толчком-толчком затошнило, «ой, мамочка»! Она постояла, держась за дерево, голова прояснилась, мысли стали резвее, сейчас она, кажется, все-все вспомнит. Михаил Ефимович ее продал, за сколько? Они дали ей покурить, Соня догадывается, наркотик дали и не отходили от нее, так и терлись возле, так и терлись, а она не замечала их, плыла на облаке, ей музыка помогала, и этот свет, сплошное блаженство, она ничего такого прежде не испытывала, зато сегодня — о, господи, боже мой! Как же сообщить домой? Что придумать, они наверняка уже подали в милицию на розыски… Ах, эта ужасная тошнота утром. И Михаил Ефимович — предатель. Не то слово. Нет, она ему не простит.
В кабинете директора шла планерка, он ее отчитает за опоздание, пусть, переживем, главное — отомстить этому козлу жирному, этой свинье московской, он продал ее, он не может просто так, за спасибо. Потом еще была какая-то игра с секундомером, она не может вспомнить, какой-то калейдоскоп цветной, все крутилось, вертелось, кажется, ее на руках носили, у всех были рожи, рыла были какие-то и визг она помнит: «Пять минут кончились, ставка удваивается!» Это рыжая девка кричала, пацанка, восьмиклассница. Нет, она должна отомстить. Господи, она же отлично помнит про деньги! У нее было четыреста рублей вчера, не двести, карга носатая ополовинила ее выигрыш. Козел Мишка, что она ему плохого сделала? С точки зрения пошлой морали, она отдала ему самое дорогое — девичью честь. Кто это сказал — есть время собирать камни, и есть время бросать камни? Соня не помнит, было ли у нее время собирать, но сейчас пришло время бросать, и она бросит огромную каменюку, валун на голову этому Мишке-козлу.
Кончилась планерка, выходили главные специалисты, здоровались, она отвечала, не поднимая глаз, печатала на машинке, что взбредет, а когда все вышли, заглянула к директору.
— Мне не звонили, Роман Захарович?
— Мать звонила.
Она подняла на него глаза.
— Что вы ей сказали?
— Послал тебя в бухгалтерию, позвоните попозже.
У директора вид такой, будто не было пьянки, он даже как-то помолодел, румяный сидит. Посмотрел на нее довольно-таки неприязненно. Ладно, у нее время бросать камни. Ей бы очень хотелось сейчас послушать мнение умного человека, умного-разумного, почему тогда, зимой, две анонимки, которые ей поручил напечатать Василий Иванович, она порвала и развеяла по ветру, никакая криминалистика не разыщет, а третью бережно хранит до сего дня, вот здесь, в левом нижнем ящике своего стола — почему? Загадка. Очень ей интересно узнать, сама она не может объяснить собственное поведение — две порвала, а третью оставила и берегла среди пустых конвертов, коробок с кнопками и скрепками, флаконов с чернилами для авторучек, среди всякого хлама. Можно было забыть про конверт и нечаянно выбросить, но нет, она помнила, мало того, сегодня убедилась, что именно на эту копию в нижнем ящике она, оказывается, надеялась. Вот что самое интересное и загадочное. Она достала конверт, перепечатала копию заново в двух экземплярах и добавила еще: «Обращаюсь в КГБ, потому что присланные проверять из прокуратуры Союза два молодых человека надрались в сауне до позеленения вместе со своими контролируемыми и проиграли в преферанс сигнал, посланный отсюда в прокуратуру».
Она нашла телефон дочери Мельника, позвонила, женский голос ответил, что Михаил Ефимович сейчас в гостинице с московскими товарищами, телефон можно узнать через администратора. Соня позвонила, узнала, записала на бумажке.
Сейчас я с тобой поиграю, Мишка-козлик, ты меня будешь долго помнить! Ты попляшешь у меня на веревочке, получше, чем в театре Образцова. Под шорох моих ресниц ты мне выложишь сейчас дрожащей рукой тысячу рублей, как минимум.
Набрала номер — и как раз на него попала.
— Это вы? Соня говорит.
— Здравствуй, золотце. Как ты себя чувствуешь? — Будто она ему родная дочь, будто вчера не было никаких гадостей.
— Хорошо чувствую. У меня деловое предложение.
— Только рад, только рад. Иметь с тобой всякие деловые встречи — моя мечта. Приезжай, мы здесь сидим, поправляем голову нашему другу Толику.
— Слушай меня внимательно. «Бывший директор комбината Мельник похитил овчин на триста тысяч рублей, о чем есть документы, а сам сбежал в Москву. Он продавал овчины надомникам Калоеву и Магомедову, у которого две жены и шестнадцать детей…»
— В чем дело, Соня!? — перебил Мельник. — Прекрати болтовню! В чем дело, я тебя спрашиваю?!
У Сони сердце запрыгало в глотке, в глазах, в ушах: месть ее началась, он там пляшет сейчас, как черт на сковороде.
— Я читаю вам копию сигнала в Москзу.
— Прекрати болтать, я тебе говорю! Откуда ты звонишь?
— С работы!
— Я тебя очень прошу приехать сюда, в гостиницу. Я сейчас такси за тобой пошлю. У нас здесь машина дежурит.
Соня подумала и сказала:
— Нет, я приеду на своей машине. Ставлю вам условие.
— Какое еще условие? Я брошу трубку.
— Бросайте, потом пожалеете.
— Минутку, что тебе нужно?
— Тысячу рублей. Немедленно.
Мельник замолчал, слышались другие голоса, не может быть, чтобы он с кем-то советовался.
— Но, цветик мой, шутки в сторону, я хочу тебя увидеть.
— Повторяю, — устрашающе монотонно сказала Соня и снова: «Продавал овчины чеченам-надомникам Калоеву и Магомедову, у которого две жены и шестнадцать детей».
— Я уже слышал! Прекрати! — Он бросил трубку.
Соня дошла до почтового ящика возле проходной и бросила в него письмо, на конверте было напечатано: «Москва, Комитет государственной безопасности, товарищу Андропову», — и пошла на свое рабочее место. Сейчас ей будут звонить родители, надо их успокоить. План отмщения начался, она даже не ожидала, что до такой степени перепугает Мишку-козла. Ничего-о, то ли еще будет. В коридоре она услышала, как надрывается звонок в приемной, а трубку никто не берет, значит, Роман Захарович ушел по цехам, она может поговорить без свидетелей, подбежала, схватила трубку — ну, естественно, звонил Мельник. Через полчаса он ждет ее возле Политехнического института.
— Надеюсь, без дружков-уголовников? Я приеду на служебной машине, чуть что, поверну обратно, потом побегаете.
С поганой овцы хоть шерсти клок, в прямом смысле, она сдерет с него на афганскую дубленку, длинную, в талию, ей будет тепло, а там посмотрим. Он, конечно, понимает, что Соня ничего не выдумала.
Мельник действительно понимал. Он вспомнил, как использовал приемчик из юридической практики. Жен у Магомедова и в самом деле две, но детей всего девять. Своим подельникам Мельник называл число от фонаря, но по системе, одному говорил — девять, другому, менее надежному, — тринадцать, самому ненадежному он сказал шестнадцать и запомнил, кому — Махнарылову. Вот от кого пошла анонимка.
Соня увидела его возле Политехнического, стоял он незаметно, переступая с ноги на ногу от нетерпения, в дубленке с поднятым воротником, в темной шапке. Соня сказала Коле остановиться метрах в тридцати, пошла к нему, держа в руках газету, а в ней копия той, старой анонимки, без добавки на имя Андропова. Конечно, он был испуган, противен, губы посинели, Соня даже испугалась — не слишком ли перебрала? Он же пережил катастрофу. Утром он побриться не успел, вылезла седая щетина, потому что в половине шестого в гостинице Толик начал давать дуба, и его коллега позвонил Мельнику, требуя инфарктную бригаду из Алма-Аты. Скорая уже побывала дважды.
— Соня, что за намеки? — Устало спросил, по-свойски. Но Соню уже не проймешь мелким коварством.
— Не намеки, а конверт, случайно осталась копия.
— Куда отправлен подлинник?
— Один в редакцию «Правды», второй на имя Брежнева. — Она видела, что уже отомщена. Уйти бы и не видеть его никогда. Она оглянулась невольно на Колю, он сидел в машине и следил за ней, это ее приободрило.
— Я принес то, что ты просила, при условии баш на баш. — Он подал ей сверточек в газете. — Почему ты ничего не сказала мне, когда была в Москве? — Глаза у него красные, щеки в прожилках, старый, сколько же ему лет?
— Это случилось после моего приезда, — солгала она.
— Почему ты не сообщила, мы же с тобой… свои люди, — сказал Мельник с укором.
— Вчера я в этом убедилась.
И вдруг всколыхнулась память, всплыл голос: «Королева красоты дает одновременный сеанс», — и снова кровь ударила ей в голову, опалило жаром, она сунула деньги в сумку, застегнула ее, намотала ремень на руку и стала бить его сумкой по голове, по лицу, крича несуразицу.
Коля выскочил из машины, рысцой мягко подбежал к Соне, схватил ее за руки и повел к машине. Она кричала, содрогалась в истерике, он кое-как затолкал ее на заднее сиденье и повез подальше от этого места.
Глава тридцать первая ВНЕ ЗАКОНА
Из всей честной компании на другой день после сауны, пожалуй, Вася Махнарылов чувствовал себя лучше всех. Как-никак он был удостоен обмывания шампанским — во-вторых, он взял приз, превзошел Лупатина по жаргону. На работе он был как огурчик, веселый, требовательный, живой. И вот его позвали к телефону, звонил Мельник и спрашивал, как у Васи идут дела, чем он занят, и не мог бы он на полчасика отлучиться?
— Производство, Михаил Ефимович, производство, — бодро пояснил Вася.
— Прошу тебя после работы.
— Вы там забыли в Москве во сколько кончается работа у начальника цеха. Без выходных пашем. А что вы хотели?
— По личному делу.
Идти по личному делу, в такой мороз, Вася даже машину не стал разогревать с утра, оказался без персонального транспорта, а телепать на автобусе ему и лень, и уже не солидно.
— Не могу оставить производство, Михаил Ефимович.
— Сядешь на семерку, приедешь ко мне, — тверже заговорил Мельник. — За час обернешься, а то и раньше. Я тебе вызову такси.
Кочевряжиться не было смысла, видно, что не отстанет, Вася согласился. До отбытия в Москву Мельник жил в квартале кооперативных домов, где селился сплошь богатый народ — начальники шахт, снабженцы и торгаши, геологи и гинекологи, а также официанты, протезисты, таксисты — ни одного абы кого. Жена Мельника погибла в той авиакатастрофе, за которую он теперь получал не то триста семь рублей, не то аж семьсот пять. Обычно он летал в Алма-Ату с любовницей, а тут на международную ярмарку жена решила полететь с мужем, ей было любопытно. И вот чем ее любопытство закончилось. Теперь в Каратасе жила замужняя дочь Мельника, в том же самом доме, Вася знал адрес, это сразу за театром Станиславского, седьмой автобус останавливается поблизости.
В четыре тридцать Вася вышел из проходной, прошел квартал до остановки, еле влез в автобус, потискался среди рабочего класса, но когда выехали на проспект 40-летия Казахстана, многие сошли пересесть в микрорайон. Народу стало заметно меньше, и Вася повеселел, вспоминая вчерашнее свое состязание с Лупатиным, как они на спор по фене ботали, кто больше знает слов. Вася спрашивает его, как «лошадь», Лупатин говорит — скамейка, Вася спрашивает, как «базар», он говорит — туча. В свою очередь Лупатин задал ему, что такое «валторна»? — Задняя часть человека. А «кобра»? — Женщина. — А «промокашка»? — Безотказная женщина, всем дает. Вася на все вопросы ответил, и на чем он поймал майора милиции? Как будет по-блатному «памятник»? Лупатин круть-верть, не знает. Вася привлек как можно больший круг свидетелей своего торжества и сказал, что памятник по фене — чучело. Лупатин распустил жабры — за такие слова можно схлопотать срок! Но Вася не лыком шитый, памятники могут быть разные, сказал он, например, статуя Свободы в Америке — чем не чучело? Да еще с рогами. Так вышел он победителем, и все дружным ором его поддержали. Вспоминал Вася вчерашние подробности, сам себе любился и вдруг почувствовал — кто-то на него смотрит, и не просто так, как в окно допустим, на дома и пивнушки, а со значением, вроде хочет что-то сказать И не женщина, между прочим, не кобра, а мужик, лох. Вася холодно, вприщурку глянул на него — стоит, смотрит. Вася с вызовом подставил спину, а взгляд у
23
того, надо сказать, колючий, кошачий взгляд, желтый. Рожа три дня не брита, губы запеченные, сугубо бандитская физиономия. Васе давно так не портили настроения, угораздило его лезть в общественный транспорт. Отвернуться-то он отвернулся, но зачем пасовать перед каждым встречным. Он снова повернулся, скользнул взглядом, как по пустому месту, и все внимание за окно — скоро ли покажется театр имени Станиславского. А тот нахалюга, бандюга шагнул к Васе боком, стал рядом и, тоже глядя на городской пейзаж, спросил:
— Ты Махнарылов?
Шестьдесят лет советской власти, а люди как были дикие, так и остались — с любым на ты. Видит человека первый раз, пусть не знает, что Вася не Вася, а Василий Иванович — начальник цеха, у него сын в институте стали и сплавов в Москве учится, теоретически Вася уже дед. Пусть это хамло ничего не знает, но разве по роже Васиной, по голове его пегой не видно, что ему за сорок? До революции он бы уже помер, тогда продолжительность жизни была тридцать лет.
— Нечего мне тыкать, я с вами свиней не пас, — отрезал Вася.
— Не гони порожняк, — посоветовал желтоглазый отличным зековским тембром, который Васе хорошо знаком — говорят зычно и вместе с тем негромко, низко, будто прямой кишкой помогают. — Отвечай, когда тебя спрашивают. — Валторна, пля, ни дать, ни взять.
— Я не желаю с вами разговаривать, — сказал Вася вполне по-дамски и, если бы добавил еще слово «фулиган», то весь автобус наверняка бы разоржался. Желтоглазый на его культурную речь не то фыркнул, не то гмыкнул, короче, проявил издевательство без слов, бывает же песня без слов, после чего стал совсем рядом с Васей, даже плечом коснулся и задал вопрос:
— Колесо где сейчас, знаешь?
— Какое еще колесо? — брезгливым басом сказал Вася, зачем ему знать про какое-то колесо? Не обязан.
А может, с его машины колесо увели, пока он вкалывал на производстве. Вряд ли, машина-то в гараже, он ее не выводил сегодня. Байку сразу вспомнил: стучат в хату — вам нужны дрова? Не нужны. Утром проснулись, а дров нету.
— Директор мебельной фабрики, — продолжал желтоглазый голосом с переливами, никакой театр Станиславского так не выговорит. — Фамилия Колесо.
— Не знаю никакого директора! — отмежевался Вася, и тут же в один миг вспомнил — а ведь был Колесо. И кто только его не знал в Каратасе, все к нему обращались и за мебелью, и вообще за помощью, он еще был заядлым болельщиком «Металлурга», и когда появлялся на стадионе, все вставали — вон Колесо прикатил. А он не только на матчи ходил, он, бывало, выезжал с командой, и в таких случаях «Металлург» всегда выигрывал. Правда ли, нет ли, но он будто бы находил общий язык и с судьями, и с футбольной федерацией. Был сезон, когда Колесо раза четыре выезжал с командой, и «Металлург» поднялся на небывалую высоту, единственный раз за двадцать лет попал в первую лигу. Колесо даже за границей бывал, в Африке, не то в Камеруне, не то в Занзибаре, и там «Метталург» выигрывал тоже.
Был Колесо, был, а как же, Вася помнит. В Каратасе у него «Жигули» появились у первого. Был и пропал, ни слуху, ни духу, выветрился из головы, и болельщики его забыли, может, потому, что в Каратас мебель стала поступать импортная.
Да что болельщики, футболисты пропадают, будто уплывают журавли без возврата. Был такой нападающий — Степа Гольц, таксисты бесплатно возили его, куда хочешь, парикмахеры его узнавали, в винно-водочном любую бутылку через голову передадут, весь Каратас знал Степу Гольца, гремел Степа Гольц. Ну гремел, гремел… Потом как-то Вася зашел в «Голубой Дунай» выпить кружку пива. За столиком разговорился с двумя алкашами, оба в спортивных костюмах. И вот один толсторожий, язык еле ворочается, Васе говорит: «Я Степан Гольц, вы про меня слышали?» На «вы» с Васей, вежливый. Вася всмотрелся, думал-думал, кто такой, потом сразу вдруг выехало — так это же тот самый мастер спорта, слава наша и гордость. А прошло ведь… Сколько прошло?.. Может быть, год, ну от силы два, а фамилия начисто выветрилась, как будто не было его, и в «Металлурге» он никогда не играл. То же самое случилось и с Колесом. Представительный был, пробивной, брал все препятствия, и вокруг него всякая плотва мелкая буруны делала, только пальцем он шевельнет, они бегут шустрить. Когда Колесу исполнилось сорок лет, он закупил ресторан «Сары-Арка», три дня гудели, отмечали юбилей ответственные должностные, а также гости из Алма-Аты, попасть туда на часок было трудней, чем получить квартиру на всю жизнь, — и вот пропал и никто не вспомнит, бывает же судьба у людей.
Вася искоса посмотрел на желтоглазого, подумал, может, лучше поддержать разговор, спросить, в самом деле где? А тот стоит и на Васю нуль внимания, вопрос поставил — и все, в ответе не нуждается. Он как будто убедился, что клюнуло, Вася наживку схавал и теперь на крючке. Но что еще интересно? Вася пошел к выходу возле театра Станиславского, и тот пошел. Вася вышел, и тот вышел. Вася хотел вильнуть, чтобы запутать след, но тот, не обращая на Васю внимания, пошел вперед, держа курс на кооперативный квартал, как бы указывая Васе правильную дорогу. Но дальше — больше. Желтоглазый направился как раз к тому дому, где жил Мельник, Вася бывал у него сто один раз, третий подъезд со стороны театра. Возле этого подъезда желтоглазый остановился, и Вася не успел глазом моргнуть, как появился второй — такой же роста, в таком же полушубке, в шапке и тоже небритый, заросший, будто их держали где-то вместе и подгоняли одного под другого. Стояли эти точно возле подъезда Мельника и прицельно, четко на Васю смотрели. Вася, конечно, с похмелья, но не настолько, чтобы у него двоилось. Надо поскорее пройти, пока их не стало четверо, и он деловито пошел к подъезду, услышав, как желтоглазый сказал второму: «Вот этот». Вася на миг задумался, требовалось принять решение, у него есть бритва опасная «золинген», лезвие в два пальца. Но не с собой, а дома. Жаль. Есть удобное место — нагрудный карман, он сегодня воткнет туда бритву, чтобы всегда под рукой. Бежать незачем, не в наших привычках, решил Вася. У дверей сидел старик, лет под девяносто девять, одетый, как Шевчик, во все фирменное. Перед ним стояла коляска, а в ней горой розовое одеяло, будто надутое. В сторонке играли дети, таскали санки со скрежетом по асфальту. Вася знал, если сейчас крикнуть, хай поднять, весь квартал шишкарей вскинется и через пять минут тут будет вся милиция от сержанта до генерала. Но не будем спешить, осмотримся. Вася поднялся на второй этаж и услышал шаги по ступенькам — они шли следом. Вася нетерпеливо нажал на кнопку звонка и стал затылком к двери, для понта сунув руку в карман. Открыл сам Михаил Ефимович — проходи, и, что важно, — подождал, когда те двое подойдут, и тоже им — проходите, не менее любезно, а может, и более. Вася переступил порог, разулся, пошел в гостиную, куда ему указал Мельник, и увидел там Калоева и Магомедова. Они глянули на Васю с севера, студеными взглядами. Вася, недолго думая, оскалил зубы в улыбке очень широкой и щедрой, подмигнул и спросил, как они себя чувствуют после вчерашнего? Те молча переглянулись, затем оба посмотрели в дальний угол, возможно, по их древнему обычаю так полагалось, ритуал перед жертвоприношением. Васю это не обескуражило, он решил быть веселым на страх врагу. Следом в комнату вошел Мельник и те двое в полушубках, в шапках и в белых шерстяных носках. Вася после зоны тоже полгода предпочитал не снимать шапку без надобности. Разуться они разулись, а раздеваться не стали, тогда как Вася свою дубленку повесил в прихожей, шикарный мохеровый шарф тоже, таким мохером можно мягко и без звука задушить человека.
— Знакомьтесь, товарищи, это Махнарылов, виновник нашего торжеству— прокурорским тоном сказал Михаил Ефимович. Вася обтер ладошку об полу своего пиджака, готовясь поручкаться, но все четыре мафиози, два за столом и два у двери, без слов дали понять, что они его знают.
— Наше общее дело, а также элементарная порядочность требуют, чтобы вы этого человека запомнили, — сказал Мельник, указывая на Васю довольно-таки некультурно, пальцем. Двое у двери молча кивнули — запомнили. На Мельника они смотрели почтительно, как на старейшину их рода, или как на муллу, или, еще вернее, как на вора в законе, тем более с высшим юридическим образованием. Наступила минута молчания, как будто они уже почтили память. У Васи по спине дружно поползли мурашки сверху вниз и снизу вверх. Никто не проронил ни звука.
— Вы можете пока идти, благодарю за помощь, — сказал Мельник.
— Ты мне почему не сказал, где Колесо? — спросил желтоглазый таким тоном, будто в исчезновении директора мебельной фабрики виноват Вася, и никто другой: — Закон зоны знаешь?
— Знаю-знаю, — небрежно отмахнулся от него Вася, как от комара. — Пугай свою бабушку.
— Чем длиннее язык, тем короче жизнь, — ровным голосом проговорил желтоглазый.
В чем их сила? Не суетятся, не горячатся, лишних слов не говорят. Двое у двери молча поклонились Мельнику, Калоеву и Магомедову и вышли. Вася глянул им вслед, засечь очертания спрятанного топора, кинжала или какого-нибудь колющего, режущего оружия, но ничего не
131 заметил… Понял, что у них скрыто под полушубками и поэтому они не разделись в прихожей.
Хлопнула дверь едва слышно, и Мельник сказал:
— У нас есть данные, Махнарылов, — Мельник не называл его теперь по имени-отчеству, прокурор, он и есть прокурор, — что ты написал анонимку против нас и отправил.
— Что за ди-и-кость! — возмутился Вася. — Там же на меня клепают, зачем я сам себя буду хоронить?
— Для отвода глаз, — заметил Калоев. Магомедов легким кивком его поддержал.
— Ни хрена себе, что-то новое — получить срок для отвода глаз! — сказал Вася, и Мельник с ним согласился: имеется в виду совсем не та анонимка, которую разбирала прокуратура только что. Речь идет о другой, посерьезнее.
— Она направлена прямо против меня и моих друзей, — Мельник кивнул на Калоева и Магомедова. — Нам стало известно, что анонимка послана тобой, Махнарылов, в редакцию газеты «Правда» и Брежневу. По одному адресу мы обеспечили перехват, вот она, твоя кляуза. — И Мельник прочитал известную Васе бодягу, которую ему поручил спроворить Шибаев еще той зимой, из газетных вырезок. Вася уже про нее забыл. — Чья работа, твоя?
— Нет, — сказал Вася. — Я не писал.
— Нами доказано твое участие в этом деле, здесь имеется информация, которой располагал только один человек — это ты. Теперь ответь на вопрос, что за это полагается?
Вася понял, пора защищаться, а то чем черт не шутит.
— Я предупредил на комбинате, что меня можно найти у Михаила Ефимовича, он меня пригласил на чашку чая.
— Кому ты сказал?
— Всем объявил, на весь цех.
От Васи все можно ожидать, любой глупости.
— Я сказал так: «Товарищи, в наш город приехал из Совета Министров наш бывший директор, уважаемый Михаил Ефимович Мельник. В настоящий момент он передает всем пламенный привет, поздравляет с переходящим знаменем и приглашает меня на чашку чая. Позвольте от вашего имени к нему поехать».
Мельник переглянулся с Калоевым и Магомедовым, те шевельнули бровями, причем Калоев пальцем показал себе на висок и крутанул им на полоборота.
— «В цеху я объявил», — передразнил его Мельник издевательски. — Отвечай мне, как следователю по особо важным делам, когда я возил овчину и кому?
— Никогда и никому! — ответил Вася без промедления. Мельник вздохнул — бесполезно выпытывать.
— Защем сыпектакыл? — усомнился Калоев. — Сишас он герой, а там будет мокрый, как курица, даю голову на атрез. — Он провел большим пальцем по своей шее. — Он должен уходить.
— С лица земли, — добавил Магомедов.
Нет, они не шутили, Вася знал, чем пахнет разоблачение с этими овчинами. Мельник им все расписал, как юрист, и сейчас они не просто Васю воспитывали на тему чести, долга, они свою судьбу решали и не на день-другой, а на три пятилетки вперед, как минимум, тут, брат, не до шуток.
Васе ясно, что раскололась Соня, они ее всю ночь жарили и все выпытали. А может, и перехватили, у них везде свои. И словно угадав его мысль, Мельник сказал:
— К сожалению, нам не удалось обеспечить перехват второй анонимки, последствия могут быть самые нежелательные. Пятнадцать лет, а кое-кому и вышка. Что прикажешь делать? — Губы Мельника побелели. — Не исключено, что проверка начнется со дня на день, мы потеряли контроль над ситуацией. Ты должен исчезнуть.
— Не понял? — сказал Вася с вызовом.
— Смотри сюда, — Калоев провел большим пальцем по шее слева направо, а челюстью повел справа налево, и картина получилась, как в мультфильме про пиратов. Ну как не совестно человеку? А сын у него на офицера милиции учится под руководством Григория Карловича. Могут, конечно, снять Васе голову и доказать, что ее не было. Как быть, что делать? Можно с разбегу прыгнуть в окно и с рамой на плечах совершить полет. Второй этаж, метра три-четыре, рискованно, тем более Вася давно не прыгал. Можно схватить со стола вон тот чугунок в виде Дон-Кихота, Вася держал его в руках года два назад, позволили посмотреть — килограмм восемь шутильник. От этих двоих он может отмахнуться запросто, а у Мельника ни духу, ни пуху, под стол его загонит. Но зачем скандал в благородной компании?
— Не понял, как это так исчезнуть? — повторил Вася.
— Обыкновенно. Завтра ты подаешь заявление и уезжаешь в Сочи, в Крым-Рым, куда угодно, до тех пор, пока здесь не закончат проверку анонимки, о чем тебе сообщат. Надзор за тобой будет неусыпный и найдут тебя где угодно. Ты знаешь больше других, мы заставим тебя молчать.
— Я и так не скажу, — пообещал Вася. — Зачем мне увольняться? — Дела у него наладились, в деловары его посвятили, что за глупости, не будет он исчезать.
Мельник, Калоев и Магомедов переглянулись и, кажется, все трое побледнели, будто приморозили друг друга взглядами.
— Он нас за дурачков считает, — сказал Мельник и опустил голову. — Мы можем прозевать начало проверки, некоторые сигналы проверяются с помощью оперативных мероприятий. Никто из нас не будет знать, что мы уже под колпаком. — Он с досадой хлопнул себя по карману, будто предвидя грядущее его опустошение. — Ты думаешь, тебя помилуют, думешь, в стороне останешься? Ты сам, мерзавец, укладывал мне канары с овчинами! — закричал Мельник.
— Но, но! Я попрошу!
— Все подтвердят, и он, и он, — тыча пальцем в Калоева и Магомедова, продолжал ярится Мельник. — И его жены, и его дети подтвердят, что ты привозил овчины, являясь сообщником. Речь идет не только о свободе — о нашей жизни. Ты думаешь, будем чикаться? Видел этих людей? — Мельник кивнул на дверь. — Или ты исчезаешь, или мы объявляем тебя вне закона.
— Когда? — спросил Вася. Он человек сговорчивый.
— Хватит тебе на сборы два дня, — сказал молчаливый Магомедов, у которого две жены и шестнадцать детей. — Послезавтра я приеду к тебе домой, а Калоев к тебе на работу, будем проверять. Чтобы нигде тебя не было. Если найдем, пиши завещание.
— Самый надежный хранитель тайны — это смерть, — меланхолично сказал Мельник. Ясно, что дружба кончилась, подлизываться Вася не намерен.
— Я могу идти?
— Сколько на твоих швейцарских? — поинтересовался Мельник. Вася сказал. — Так вот слушай. Через сорок восемь часов ты объявляешься вне закона. Милиция тебя охранять не будет, а вот эти ребята уберут ненужного свидетеля. Пойми, голова садовая, ты сам гибнешь и тащишь за собой неповинных людей.
— Вас понял, — сказал Вася довольно ровным голосом, не дрожащим. — Я могу идти? — И пошел. Оделся. Вышел, огляделся. Эх, жизнь бекова!.. Хотел сразу домой, собирать чемодан, дошел до остановки, — нет, надо предупредить Романа Захаровича. Он виноват, конечно, но шефа не выдал, зачем? Просто легкая невезуха. Вот так вот, славный город Каратас, должен я. тебя покинуть по решению особой тройки.
А может, не надо спешить, Мельник химичит, хочет на его место Калоева или Магомедова? Может, они ему на лапу сунули? Вполне вероятно. Тем более надо поговорить с Шибером. Вася поехал на комбинат. Приехал, Сони не было. Хотел на нее посмотреть, — знает ли кошка, чьё мясо съела? Исчезла. А впрочем, что ей, девчонке, может быть известно о наших великих, государственных, мужских делах?
Роман Захарович был не один, у него сидел Голубь, и они с увлечением прикидывали, какую прибыль может им дать новый цех ковров и паласов, чертили схему, какие-то там квадратики, кубики-нолики, стратегический план, как у командующего фронтами. Настроение у них было вполне приличное, не то, что у Васи.
— Ты чего, Василий Иванович? Чем недоволен? — приветливо спросил его Голубь.
— У сына дела неважные, у Эдика, — нашелся Вася. — Срочно надо лететь в Москву. Зашел посоветоваться с тобой, Роман Захарович.
Тот метнул быстрый взгляд на Васю, прицельный, попросил подождать — сейчас мы тут еще немножко разберемся. Вася сел, чувствуя, как устал, ноги еле держат. Хорошо, что он сказал при Григории Карловиче, тот сейчас же Мельнику передаст, они своего добились — Вася уезжает. Он еще хотел спросить, куда девался Колесо, но подумал, такой вопрос будет лишним. Тем не менее, у кого-то надо срочно узнать.
Голубь закончил деловой разговор и стал прощаться, подал руку Шиберу, подал Махнарылову и ушел. Шеф ничего не знал о Васиных передрягах и отнес его вид на счет вчерашнего, перебрал человек — бывает.
— Стопаря не хочешь? — спросил директор.
— Нет, — мрачно ответил Вася. — Сын звонил. Неприятности. Можно мне улететь сегодня?
— Сегодня поздно, завтра. Но выполни мою просьбу. Тем лучше, шеф командировку сварганит.
— Давай, какую?
— Отвезешь сумму, дам адрес. В интересах дела. Немалую сумму — сто кусков.
Вася дернулся приемник включить, перекрыть информацию, но махнул рукой и начал прикидывать, как он рассует сто тысяч, чтобы при досмотре не погореть.
— Попрошу в крупной купюре.
— Какая есть. Вызубри и запомни номер телефона.
Вася позвонит, его встретят, может у них там остановиться, в Измайлове, только никому ни слова.
— Ты ей лично из рук в руки передашь эту сумму. Половину пусть отдаст, знает, кому, половину оставит у себя.
Вася даже не стал задумываться, откуда у шефа такой крупный одномоментный куш — в сберкассе накопил.
— Сумма не для каждого, ты понимаешь. Я тебе доверяю.
— Доверяй, но проверяй, — отозвался Вася. — Я тебя уже сколько прошу, чтобы ты списал тот каракуль из Чимкента сухосоленый. Двадцать пять тысяч рублей на мне висит. Держишь меня на крючке, в любой момент можешь назначить ревизию, вскрыть недостачу и дать мне срок, не вижу, что ли! — с обидой проговорил Вася.
— Приедешь — спишу.
До этого каракуля Вася говорил всем подряд — какой хороший человек Роман Захарович! После этого каракуля, когда заходил разговор о шефе, Вася стал говорить иначе: сло-ожный человек Роман Захарович.
Глава тридцать вторая Не знает горе, что оно горе
Умер Шевчик. Скоропостижно. Не ожидал никто, хотя, если вникнуть, можно было понять, что он тяжело болен. После возвращения из Кутаиси Алесь пролежал две недели в больнице, ему снимали приступы, делали уколы, снижающие чувствительность, выписали с наказом сменить работу, чтобы не так нервничать, меньше ездить. Его жена рассказывала, что в тот вечер они с Тарасиком посмотрели по телевизору «Спокойной ночи, малыши», и пошли спать. Алесь в книжном шкафу что-то перебирал, потом позвал Ульяну, и она по хриплости голоса поняла, что у него начинается приступ. Тарасик задремал, она вышла к Алесю, он тяжело дышал, лицо, как из теста, глаза помутнели. «Выбрось вот это в мусор быстро!» — и подал ей сверток в тряпке, небольшой, но тяжеленький. Уля нащупала там монеты, все одинаковые и крупные, не меньше полтинника или даже рубля. Уля мужа не всегда слушается, бывает, он выпьет, разгорячится, раскомандуется, а потом прощения просит. Сначала она подумала, что завтра он пожалеет об этих монетах, надо схитрить, спрятать, но у него был такой страшный вид из-за этого свертка, что она выскочила из квартиры и побежала к мусорному ящику. А когда вернулась, он сидел на стуле, раскинув руки, и уже закатывал глаза, дыхание свистело, на лестнице было слышно. У нее был стерильный шприц наготове, сделала ему эфедрин, адреналин. Но если раньше помогало, то на этот раз совсем не помогло. Ульяна вызвала скорую, долго ждала, трезвонила врачу из своей больницы, советовалась. Привезли Алеся в больницу, хлопотали, старались как могли, а он задохнулся. За три дня до этого они продали свою машину за десять тысяч знакомому грузину, Алесю надо было вернуть какие-то долги…
Шибаеву было досадно — и помощника потерял, и недобрый знак ему в этой смерти почудился. Парень добивался уйти, а ты ему не позволил, отпустить надо было по болезни, ведь ясно стало после Кутаиси, что уже не делец, пусть бы шел на все четыре стороны. Не отпустил… Но ведь и деньги были упущены в Кутаиси немалые, кто будет их отрабатывать? Теперь надо срочно подыскать ему замену, кадры готовить и туда, и сюда, с Васей Махнарыловым тоже творится неладное, его после сауны подменили, будто не шампанским его поливали, а хлорофосом, как вареный стал, всего боится, живет озираясь. В Москву съездил, Ирме, слава богу, все передал, она звонила, только вчера вернулся, какие-то там неприятности у сына Эдика, все понять можно, но работать кому-то надо. По существу двух помощников потерял Шибаев. А если еще учесть, что после смерти Шевчика закеросинит Каролина, то уже и трех.
На похороны приехали родители Алеся из-под города Черкассы, еще нестарые люди, убитые горем. С ними явился его друг по техникуму, научный сотрудник из Киева. Похоронили Алеся хорошо, места добились на центральной аллее, рядом с могилой летчика, Героя Советского Союза. Земля мерзлая, наняли долбить сразу бригаду, все было в лучшем виде. И панихида была, девушки из цеха Вишневецкой хвалили Шевчика, плакали. Из цеха Махнарылова тоже говорил мужик, утирая слезы, и председатель профкома Ворожейкина выступала, все честь честью — такой молодой, такой молодой! Шибаев слушал и не корил себя, — такая у нас жизнь, не только космонавты гибнут или атомщики, но и деловары. У нас нельзя вывести из дела по состоянию здоровья, перевести на инвалидность или проводить на пенсию. У нас, если уходишь, так только на тот свет.
Друг Шевчика, научный сотрудник, вспоминал, как они вместе учились в техникуме, Алесь был среди лучших, он сильно любил все передовое и прогрессивное. Зачем уехал так далеко? Всем хочется иметь большие заработки, но «люди гибнут за металл», он думал, что сказал фигурально, а оказалось, в точку попал, Шевчик за металл погиб, за туфту.
— Алесю не надо было никуда ехать, лучше бы он поступил в институт, как я, он тоже мог стать кандидатом наук, у меня нет машины, но скоро будет, только зачем мне покидать родину? (Будто Шевчик в ФРГ уехал). Алесь мне письма писал, не жаловался, но я между строчек видел, что ему здесь не климат, у него болезнь по моральной причине.
Пьяная Каролина перебила его громким криком:
— Его сгубила наша система!
Ее пытались успокоить, слезы ей вытирали, вообще утешали Каролину больше, чем Ульяну. Научный сотрудник тоже горевал, не думал, о чем говорит, получалось местами глупо:
— Он меня в письме спрашивал, нельзя ли по договоренности поменять Каратас на Киев, но это же несерьезно, мы даже на Москву не меняем, у нас мать городов русских. — Он винил чужие края и большие деньги, тогда как на родине легче, родина каждому нужнее, и Алесю она нужна и его детям.
А пьяная Каролина опять прокричала:
— Его сгубила мафия!
Пока говорили, где-то неподалеку ухала земля, будто бетон долбили, кого-то еще принесут сегодня. Опустили гроб на веревках — а могилу вырыли узкую, тютелька в тютельку, чтобы гроб пролез. Сачкуют гады, что за народ, ведь заплачено по-человечески.
Уля тихо плакала и все спрашивала себя, что это был за узелок темный, который она выбросила?
Четыре мужика в телогрейках, уже в подпитии, с опухшими рожами, оживленные, как на ярмарке, повыдергивали из-под гроба веревки и начали быстро зарывать, словно боясь, как бы родные и близкие не раздумали. Поставили крашеную тумбу со звездочкой и блестящей дорогой пластинкой, на ней имя, отчество, фамилия и две даты через черточку, прожил всего-навсего двадцать восемь 'лет. А почему погиб и за что погиб, знать не обязательно, обозначены цифры — и все, как будто они важнее всего на свете. Почему-то наши предки для надгробья выбрали не профессию, не состав семьи, не диагноз болезни и ни что-то еще другое, а только даты, сколько прожил, пустое количество. А ведь бывает еще и качество. Жил, чтобы купить «Жигули», жену любил и сына Тараса, и работа, наверное, была по душе, иначе ведь ушел бы, уволился, сейчас свободно — подал заявление, и через две недели тебе по закону расчет, не то, что было когда-то во время войны…
Не знаем, для чего жил, не знаем, почему помер, ведь приступ — следствие какого-то буйного несогласия, какого-то нежданного и тем более непереносимого удара судьбы. Говорим хорошие слова: пусть ему земля будет пухом, — знаем, жизнь наша свинцово тяжела. Говорим, царство ему небесное, знаем, мечтал он царствовать на земле и монеты имел царские. После краха в Тбилиси, когда они с Кладошвили возвращались поездом в Кутаиси, без предела униженные, начисто ограбленные, они поклялись найти себе более достойное занятие. Только надо прежде как-то рассчитаться. Давид п-«терял чужие «Жигули», а Шевчик потерял чужие десятки тысяч. Алесь вспомнил тогда про флакон с жидкостью, который Кладошвили достал из кармашка и начал проводить анализ. Вспомнил и спросил, а где тот ювелир, что прикидывался сапожником в Кулашах, у него были золотые монеты, где он сейчас. Уехал, — сказал Давид, — на соединение с родственниками.
Известно, человек до последнего мига не чует смерти и потому не готовится загодя, тем более человек молодой. Это раньше в деревне, бывало, старик сидел-досиживал на завалинке, а на чердаке у него гроб стоял, и в сундуке лежало чистое бельё для обряда после смерти и обмывания. Иные нетерпеливцы настолько вживались в роль покойника, что уже и спать на ночь ложились в собственный гроб. А что Шевчик? Молодой, веселый, что он мог чувствовать? И тем не менее срочно попросил выбросить узелок… И хорошо, что на похоронах ни слова не было сказано о чем-то позорном, все жалели его молодую жену и его маленького сына, который пока еще горя не осознал, оно у него впереди. А пока «не знают чайки, что они чайки».
Потом потянулись все к выходу, где ждали два пустых автобуса. Холодно было, и по одному, по двое шли по узкой тропинке мимо другой, только что вырытой могилы. Лежала промерзлая глинистая земля холмиком, искристо поблескивала. Могильщики то ли на перекур ушли, то ли закончили уже свое очередное рытье. Махнарылов понуро шел по тропинке, услышал, как кто-то сзади него оступился, по-лошадиному топнул ногой и, оступившись, столкнул Васю в яму, в свежевырытую могилу. И Вася рухнул туда, в разверзстую мерзлоту, и можно зарыть его без последнего «прости», чего резину тянуть? И зароют, и попрощаются, и панихиду скажут, и железяку поставят со звездой, дату укажут, даже две, но — не сейчас. Не на того напали, пля, суки жестокосердные, три срока в зоне для Васи не прошли даром. И разговор тот Мельника при сообщниках тоже сидел в каждом нерве Васиного тела, его ног и рук. И вот этими руками, одной, правой, Вася успел вцепиться хищной хваткой в того, кто его толкнул и, падая, Вася мощнейшим рывком дернул его за собой. Сам он по-кошачьи приземлился в яму и видел, куда падал, а для того-то была полная неожиданность, и он башкой гукнул в мерзлую глину и оказался внизу, застонал, попытался встать, а Вася коленом ему на живот, одной рукой за грудки, а другой мигом выхватил бритву «золинген» и мигом лезвие запрокинул, целый лемех в два пальца шириной. Он не стал попусту угрожать, сразу шарф ему возле глотки раздербанил в стороны — парень лет двадцати, сопляк, губы синие от страха и от холода, похожий, конечно, на того желтоглазого пугача из команды Мельника.
— С-сука, прощайся с жизнью! — потребовал Вася. — Читай молитву. — А парень заорал, завизжал, как поросенок, которого режут неумехи. Все сгрудились наверху, скандальное вышло окончание, паскудное, послышался обозленный голос Шибаева, Васю вытащили веревками, отряхнули и того охламона вытащили, он сразу исчез.
На комбинат ехали в машине Шибаева, Коля — водитель, Роман Захарович, Вася и обессиленная, замерзшая Вишневецкая. Ни слова не проронили, только Каролина тихо поскуливала.
Поздно вечером, когда разошлись люди с поминок, Ульяна стала сдвигать стол, убирать посуду и увидела возле книжного шкафа странные белесые ленты, ей показалось, змеи свились клубком, она испугалась, будто галлюцинации у нее, медленно подошла, подняла, оказалось, это полиэтиленовые пояса, прошитые белой ниткой, такими квадратиками, кармашками, а в них пусто, только едва заметны крапинки зеленой плесени.
Глава тридцать третья Постучись, и откроется
После возвращения с похорон, Вася вместе с Шибаевым вошел в его кабинет. Кажется, только сейчас он стал приходить в себя после того, как вытащили его из могилы. Это же надо, страхоидолы, живьем хотели зарыть!
— Налей сто грамм, руки дрожат.
— Дрожа-ат, — огрызнулся Роман Захарович, тем не менее достал из бара бутылку, со стуком поставил две стопки, Васе налил, себе налил. Выпили, не чокаясь, за помин его души.
— Я не виноват, — сказал Вася. — Меня толкнули.
— Не виноват-ат, — опять сердито протянул Шибаев.
— Налей еще.
Выпили еще, и Вася спросил, не помнит ли Роман Захарович директора мебельной фабрики, был такой известный деловар.
— Колесо, что ли?
— Именно. Куда он девался?
— Оборотистый был мужик, тысяч сто имел, по тем временам большие деньги.
— Ну и куда он девался?
Васина настойчивость Шибаеву не понравилась.
— Куда, куда! Вместе с гарнитуром продал своего товарища. — И выговорил это так, будто Вася продал своего товарища, тогда как на самом деле Вася никому ни слова. Ведь Шибер сам заставил его канителиться с этой аферой, заставил его газеты читать, подшивки брать, вырезать. А Вася нигде, ничего, ни единым намеком его не выдал — все берет на себя. Зачем? Да просто так, ему нравится.
— А ты чего испугался? — поинтересовался Роман Захарович. — Я пошутил.
— Есть люди шуток не понимают. — Вася поднялся, кивком поблагодарил за сто грамм и поехал домой.
Ему было не до шуток. Позавчера он прилетел из Москвы, а вчера уже двое маячили в сумерках напротив его дома. Вася вынул бритву из футляра с бархатом и пристроил ее в нагрудный карман, о чем они сегодня узнали, когда он чуть не оставил в могиле их спотыкливого напарничка. Узнали и придумают пакость техническую, оглянуться не успеешь, как зима катит в глаза. Надо действовать, а иначе пройдет совсем немного времени, и никто не вспомнит, что был такой Василий Иванович Махнарылов. Будут гнить твои кости на каком-нибудь, как пишут в газете «Труд», Новодевичьем кладбище. И ничего ты не сделаешь, не отмахнешься от них ни пулей, ни дулей. Милиция вся своя, отрабатывать наши денежки она обязана. Все покрывают — резерв, махинации, ну и если тебя пришьют ненароком, тоже покроют, хотя ты и начальник цеха, должностное лицо. Зачем, спрашивается, его посвящали в деловары высшей категории, если вынесли такой несправедливый приговор? Вот суки, пля, наперсники разврата. Кому теперь жалобу подавать? Особая тройка вынесла приговор исчезнуть — шутки в сторону.
А Вася так и не нашел до сих пор, на что можно истратить сто тысяч. Хотя надежд не теряет. Из любого положения, говорят, есть два выхода. А у него — один.
Надо идти. Не хочешь, а надо. Ноги не понесут, за волосы себя тащи, иначе панихида, и ту могилу, которую вы вдвоем примеряли, займешь один.
Маруси дома не было, она пошла нянчить внучку к старшей дочери. Дома были только собаки и кошки, в общей сложности штук пятнадцать. Нельзя сказать, что Вася их созывал какими-то там свистками, заманывал какими-то там кусками, нет, сами идут и все. И Маруся их не прогоняет, и сам Вася не прогоняет, живут, размножаются. Заходил сосед, просил пару собак на шапку — молодой, а крыша поехала, не рубит, о чем с Васей можно, а с чем лучше не подходи.
Но сегодня даже с собаками и кошками одиноко. Пусто.
Достал дипломат. У Васи все было, как в лучших домах, — часы швейцарские, транзистор японский, дипломатка чешская и кабриолет ручной работы, с ним ни один «мерседес» не может сравниться. Вася открыл заначку, выгрузил оттуда все деньги, кое-какие были схвачены наспех резинкой, кое-какие аккуратно, по двадцать пять отобраны и сложены. Он все собирался сесть и как следует разобрать по достоинству, да все некогда было, откладывал удовольствие, так вот и дооткладывал. Подумал-подумал, надо бы что-то семье оставить. И еще вопрос — сразу все сдать, или не сразу? Вася не такой уж грохнутый, чтобы семью оставить без куска перед дорогой дальнею, тюрьмой центральною. Марусе и передачу не на что будет носить. И хотя Эдик не заслуживает хороших денег, но и ему что-то надо выделить. Вася положил тысячу рублей обратно в заначку, а остальное он сдаст — тысяч примерно шестьдесят. Дипломат дипломатом, это, конечно, модно, но надо бы еще какую-нибудь торбочку захватить с мылом, полотенцем и зубной щеткой. Могут ведь и не отпустить, захомутают сразу. А впрочем ладно, Вася идет на подвиг, можно сказать, а мылом пусть запасается Мельник Михаил Ефимович. Если не успел пересчитать деньги раньше, сейчас уже поздно, нет времени, можно до утра проканителиться, начнешь считать, понравится, жадность одолеет и нести раздумаешь. Но тысяч семьдесят есть. Это Шиберу надо разбираться, кому платить, кого держать на окладе, а у Васи все себе, набежало, слава богу, кое-что, да он еще и при Мельнике по мелочам имел.
Ждать Марусю или не надо? Пожалуй, лучше не ждать. Начнешь прощаться, вызовешь подозренье, Маруся его не поймет, схватит веревку и либо Васю свяжет, либо себе петлю на шею накинет — одно из двух. Обойдемся. Кому, кому, а Васе известно, там всегда, при любом приговоре дают возможность попрощаться с родными и близкими. А может, еще отпустят, хотя Вася в общем-то против, не мешало бы ему пока отсидеться за каменными стенами и чугунной решеткой, не мешало бы. Но если даже прогонят, Вася потребует конвой, да не такой, какой у него есть в лице майора Лупатина, капитана Парафидина. Не нужен ему ни Голубь, ни Цой, нужна ему настоящая, советская, непродажная, такая, как показывают по телевизору и как описывают в газете «Труд» — чтобы его не достали с одной стороны Лупатин, Парафидин, Голубь, а с другой стороны, банда желтоглазого пугача. Враг хитер, ты даже не подозреваешь, в нужник пойдешь, так они забьют дверь гвоздями, подгонят цистерну с компрессором, откачают тебя вместе с дерьмом, отвезут на поля компостирования, где размажут тебя ровным слоем, как химическое удобрение. За примером далеко не надо ходить. Единственный раз за столько лет Вася с похмелюги не стал заводить свой рыдван, сел в автобус и вот тебе на — пристал к нему головорез с наводящим вопросом про директора мебельной фабрики. Откуда ему было известно, что Вася поедет седьмым маршрутом? Стукачи везде и, кто кому служит, нет сил разобраться, помоги, господи.
Ладно, Маруся, не плачь, даже расстреливают не сразу, а дают срок на подачу кассационной жалобы. Эх, кому он нужен, Вася, по пальцам можно бы посчитать, одна Мария заплачет, да и та старуха — пятьдесят пять лет, на пенсию вышла. Он ее взял с двумя детьми, она старше его на десять лет. Смешно сказать «взял», но так принято в народе говорить — взял, а на самом деле она подобрала его в «Голубом Дунае» после второй отсидки, посудницей там работала, уборщицей. Приняла его, домой привела, у нее уже дочки были, Эдик потом появился, он их совместный. Помыла его, одела, обула, стричь не надо, в зоне тогда хорошо стригли и проверяли на форму двадцать, это сейчас обрастают, не чешутся, патлатые оттуда выходят. Дочерей они с Марусей вырастили, ну и общий у них любимец Эдик. Вася кого хочешь может понужнуть матерком, любого начальника, любого руководителя, вплоть до… ладно, не будем уточнять, не в том дело, а в том, что… Эх, Эдик, Эдик, в кого ты такой пошел, разве сыновья так делают? Не ругал тебя отец, не бил, и напрасно, как оказалось.
Задумался Вася, замечтался, а время идет. О чем же мечта его? Перемены нужны срочные, и не только в его жизни, но и во всем Каратасе, а еще лучше бы по всей стране. Да уж не будем жлобиться, хорошо бы и по всему миру. Хоть бы война что ли грянула, появились бы другие заботы и хлопоты у всех. Мельнику и тем чеченам стало бы не до Васи Махнарылова. А что, если вдруг? Бывает хоть раз в жизни исключительное везение, мечтает человек, мечтает и, говорят, чем сильней мечтаешь, тем скорее сбудется. А вдруг? Вот сейчас включит Вася радио, а там Леонид Ильич делает заявление врагам мира и социализма — а вдруг? И сразу все пойдет кувырком, объявят поголовную мобилизацию, заберут в числе других Калоева, Магомедова, один только Мельник может спастись, как контуженный Аэрофлота. Или какое-нибудь землетрясение, как в Ташкенте. Живут себе люди, живут, а потом трах, бах — и все меняется, кого-то завалило, кого-то напугало, и каждый понимать начинает, что жить надо серьезнее, — ах, как хотелось Васе, чтобы шандарахнуло и некому было бы ворошить прошлое и начали бы все заново жить — и Вася, и Калоев с Магомедовым, и уже не делали бы никаких ошибок. Или ураган, допустим, поднялся бы, к чертям собачьим выветрило все плохое, или наводнение вот, как в Приморском крае. Вася первым бросился бы ликвидировать последствия, геройски бы себя проявил, и народ не позволил бы никому с ним так разговаривать и про Колесо намекать. Ах, как ему хотелось! Вася включил радио и даже ухо подставил — а ну? Сначала тихонько — а вдруг? А там совсем не диктор, там женщина строгая, грустная. Над Васей трагедия нависла, а она — стишки читает. Э-эх… Но какие? «Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны, но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых церквей…» И Васю от голоса этой женщины до того взяла тоска, что он поставил свой дипломат, подпер кулаком лоб и загрустил. «Но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых церквей…» Васе ужасно жалко стало и себя, и ту церковь белую, в которой он ни разу в жизни не был, потому что родился в бараке на краю земли, куда его родители поехали за длинным рублем. У него в паспорте даже не указан ни город, ни поселок, а просто — район Крайнего Севера. Много у нас новых мест, где люди смогли обойтись без церкви, да и зачем она, если у нас не сосчитать разных вер — у русских одна, у казахов другая, у немцев третья, у евреев четвертая. Вася вырос в городе без церкви, а значит, и без предрассудков, хотя попы того же требуют, что и Уголовный кодекс — не укради, не убей, не пожелай ни ближнего, ни дальнего. А женщина по радио продолжала:
— Боюсь я, боюсь я, как вольная сильная птица, разбить свои крылья и больше не видеть чудес!
Вася заплакал, и заплакал не просто так, а всласть, никто ему не мешал, он утирал рукавом щеки, а слезы сами собой лились. За зрелые свои годы Вася ни разу не плакал, а тут за одну неделю льет второй раз как из крана с плохой прокладкой. Приехал он в Москву, пришел к сыну в институт стали и сплавов, а там такой надзор, на атомный полигон легче попасть, чем в ихнюю общагу. Кое-как вызвал своего сына, оказывается, он успел что-то нахимичить с фамилией, и стал уже не Махнарылов, как его отец, а Махнаролер. Увидел Эдик его и вместо того, чтобы обрадоваться, сразу аж побелел и в панику: «Ты зачем приехал?» Где у человека воспитание? Чему их учат в Москве в высшем учебном заведении, куда бешеный конкурс, чему их учат? При виде родного человека, единственного отца, задавать ему такой вопрос — зачем приехал? Когда денег просишь, телеграммы шлешь, я тебя не спрашиваю зачем, посылаю молчком и в тот же день. Ладно, Вася, не горюй, терпило. Ну, выписали кое-как пропуск, прошли в комнату, там их четверо. Вася им бутылку коньяка на стол, приголубили быстро, Вася еще дал денег, один из них резвей резвого побежал за водкой, хотя и в очках. Но почему Вася плакал? По очень простой причине. Эдик сказал товарищам: вот знакомьтесь, это Василий Иванович, мой земляк из города Каратаса. А когда они подвыпили, один вологодский хлопал Васю по плечу и кричал: «Хороший ты, человек!» Чужой, вологодский, а называл батей. А тот, что в очках, говорил: «Да вы сильно похожи с Эдом, как из одной деревни». А Эдик нервничал, морщился, стыдился своего отца, хотя земляк держался исключительно молодцом, выпил каких-нибудь пятьдесят грамм, все выжрали жрецы науки. От обиды у Васи в пищеводе стоял ком, как пробка в термосе. Ну, распрощался он со своим сыном, пожелал всем всего хорошего и ушел на остановку. Подошел автобус, другие сели и уехали, а Вася остался один на холодной скамеечке. Мороз там тоже дай боже и поземка метет, остановка с крышей и загорожена толстым зеленоватым стеклом с пупырышками. Пересел Вася в уголок, в затишок, и, как бездомный пес, заскулил, сам от себя не ожидал — заскулил и все, нутро заскулило. Заплакал Вася, а почему — неизвестно. Неужели ему хотелось, чтобы Эдик на всю Москву объявил про своего отца? Да ради бога, не надо, мы люди не гордые. Вася и сам не знал, чего хотел, просто плакал и все сморкался. Вскоре подошел какой-то старик, сел рядом, Вася перестал. Потом еще подошли, а в Москве так — никого не замечают, хоть плачь, хоть смейся, хоть ты пьяный, хоть ты трезвый. Хороший город. А может, и плохой, помрешь вот тут в углу за стеклом с пупырышками, как муха в графине, и никому не нужен. Уехал Вася из Москвы с плохим настроением.
А вот сейчас опять снова — здорово, стишок услышал, и все. Марусю он решил не ждать, ладно, она его поймет и простит, принесет передачу. А не принесет, он без претензий. Надо попрощаться с машиной. Вася пошел в гараж, поцеловал безотказную в капот. Она смотрела на него глазами-фарами, как живое существо, и ветровое стекло, как чистый лоб, о будущем думает, — прощай, мне пора идти со двора… Закрыл Вася гараж, дипломат под мышку, пошел к калитке, подошел — и повернул обратно. Вполне возможно, что мафиози караулят его на той стороне, и опять начнут выяснять, куда девался Колесо. Вася прошел огородиком, перелез через забор и вышел на улицу Вальтера Ульбрихта. Огляделся, поправил бритву в чердаке (по фене — нагрудный карман) вроде никого нет, и зашагал в сторону центра города. Шел он, шел и встал словно столб, — а куда же идти, где эта контора находится? Не удосужился узнать, эх, Вася, Вася, пусть ты в церкви не побывал, не везде она есть, но это ответственное учреждение всегда было и хоть где оно есть, полагалось бы тебе заранее узнать адрес, чтобы не тащиться сейчас на ночь глядя с чемоданом, в котором тысяч восемьдесят. Налетит шпана, вырвут у тебя дипломатку импортную, а содержимое в арык вытряхнут, и все мероприятие рухнет, никто не поверит, скажут, ты всю жизнь врешь, зачем пришел?
Послышался гул двигателя, Вася оглянулся — такси ему судьба подбросила с зеленым глазком. Остановил машину, сел на переднее сиденье, дипломатку положил на колени, вздохнул с облегчением — хорошо жить на белом свете!
— Ну, куда тебе? — спросил шофер.
— Почему «тебе»?! — взъерепенился Вася с ходу. — По какому праву? Не видишь, меня уже седина чокнула? — И Вася сдернул шапку.
— Хм! — произнес таксист, парень лет тридцати, простой по виду, вроде не грубиян.
— «Куда-а, тебе-е», — передразнил Вася презрительно. — В КГБ мне!
— Как, серьезно?
— Серьезней некуда. Твое дело вези, куда пассажир приказывает! — отбрил его Вася без мыла.
Шофер пожал плечами, врубил передачу, газу дал, переключил, посмотрел в сторону за стекло, опять погмыкал раз, другой, выматерился в нос и все-таки не утерпел, снова с вопросом:
— А чего ты там не видел?
Опять на «ты», ну что с людьми делать, чем их воспитывать, лапти вы мордовские, валенки вы сибирские, пеньки некорчеваные, когда вы уже приучитесь к порядочному обращению? Сколько уже лет прошло, шестьдесят лет Советской власти и вот тебе, пожалуйста — ты да ты и никак не вы, хоть тресни, и притом на всех видах транспорта, хоть в автобус Вася влезет, хоть в такси сядет, а вот Мельника почему-то всегда на «вы», попробуй ему тыкнуть. Попробовать, конечно, можно, не убьет, но себя же и опарафинишь, проявишь свою неотесанность.
— «Чего не видел», — передразнил опять Вася. — Тебе сколько лет?
— Ну, двадцать семь.
— И до сих пор не знаешь, зачем в КГБ?
— Ну, постучать на своего начальника, — предположил шофер. — Телегу сдать.
— Голова! Совет Министров! — заликовал Вася. — Решать дела государственной безопасности, понял?
— А за звездочки у вас платят?
Бойкий парень попался, грамотный. Но все-таки Васе обидно, на подвиг идет, а уважения нет, что делать? Вася развернул дипломатку ручкой к водителю, щелкнул одним замком, щелкнул другим замком, да жестом этаким с подковыркой, показательным жестом, значительным, как будто сейчас автомат достанет или противотанковую гранату и одним махом снесет пол-Каратаса, — вот такая велась подготовка. Наконец Вася открыл дипломатку и скомандовал четко:
— Глянь сюда!
Шофер глянул — и машина вильнула в сторону, твердая рука водителя дрогнула.
— Следи за дорогой, — посоветовал Вася. — Уйми мандраж. Видел? Сто тысяч, как одна копейка. Раз в месяц привожу в органы. А ты со мной говоришь, как с корешом каким-нибудь, без должного уважения.
Шофер опять уставился в сторону за стекло, будто таким манером он приводил нервы в порядок, прогонял стресс. Он опять покосился на чемодан, похлопал глазами — верить, не верить? Но куда денешься, воочию.
— Честно скажи, — попросил его Вася, — ты про меня слышал? _ Нет, извините, конечно, — шофер в темпе начал исправляться.
— А я все время на такси езжу, понял? О чем это говорит? Твои товарищи умеют держать язык за зубами, что я и тебе советую, понял, водила? Вот я к тебе сел, как обыкновенный рядовой пассажир, не проверил твои права, фамилию не спросил, но твой номер по рации уже передан на пульт.
— Куда-куда? — водитель высоко поднял плечи — да он-то при чем? Что он такого сделал, за что на него нападает этот товарищ? — Вы на меня это самое… чего на меня бочку катите?
— Во-от, так и дыши. Уважай пассажира. И не только, когда тебе кучу денег под нос суют, но даже и когда кукиш преподнесут. — Вася закрыл дипломат, он мог сейчас говорить какие угодно глупости — сто тысяч делали его умным.
— Приехали, — сказал водитель.
— Как, уже, где? — Вася закрутил головой.
— Вон, — кивнул водитель на противоположную сторону. — Вы же сказали, не в первый раз.
— Не учи ученого, — огрызнулся Вася. — Конспирация. — Достал десятку и сказал, что сдачи ему не надо. — Это тебе таблетка на язык, молчать будешь, проживешь долго. Знаешь закон зоны? — вот так, ни звука. И гони с места в карьер, а если завтра в таксопарке узнают, что ночью ты кого-то вез в КГБ сто тысяч сдавать, то послезавтра в твою машину под номером 37–25 сядет уже другой водитель, понял? А где ты будешь потом работать, поверь, я даже не могу представить. Уж чего не могу, того не могу. Извини. Бывай. Покеда.
Вася вышел, постоял немного, подождал, такси рванулось, красные огоньки исчезли, и Вася пошел на другую сторону улицы к высокому дому. Там было два подъезда довольно торжественных, один освещенный, другой нет. Вася решил, что серьезная организация выпяливаться не станет, и пошел к темному подъезду. Вытер ноги о нижнюю ступеньку, взялся за ручку, дернул — не тут-то было. Поискал по сторонам кнопки звонка, не нашел, тоже понятно, у них кругом все тайно, зачем названивать, дело засвечивать, у них пароль: «продается славянский шкаф» — и все такое прочее. Вася не сомневался, что едва он вышел из машины, как уже попал в поле зрения ихнего экрана, сейчас сидят голубчики в штатском и смотрят на него изучающе, на его походку, на цвет глаз и особые приметы. Вася дернул за ручку сильнее — никакого сдвига, да в чем дело, неужели и тут? До чего дожили, пля, докатились — и тут спят! Вася огляделся — пока они спят, его тут запросто могут грабануть на ступеньках, темно, как у негра за пазухой, сейчас сзади его монтировкой по затылку и все, кранты. Вася сунул дипломатку между ног, прижал с боков коленями и обеими руками бешено заколотил в дверь. Послышался чей-то голос, Вася весь внимание.
— Чего колотишь, чего молотишь?! — недовольно спросил его кто-то сверху, почти с небес. Вася лоб задрал и увидел на втором этаже справа открытую форточку и в ней чью-то всклокоченную голову, причем целиком, будто она отрезана и выставлена на стене покоренного города.
— Чего тебе надо, ну?
Опять «тебе», ох горе мне с вами.
— Ну хрен гну, — ответил Вася, — Мне КГБ надо.
— Вывески читать умеешь? Другой подъезд!
Вася быстрым шагом прошел в освещенный подъезд, дернул дверь — открыто, и все светло и чисто, и даже дорожка красная, сразу поднялся дежурный возле столика с телефоном и взял перед Васей под козырек.
— Мне директора, — сказал Вася и пошарил глазами, куда бы сесть подальше от входа.
— Какого вам директора?
Ну, наконеец-то, вот где культура, только на «вы», у Васи аж слеза навернулась.
— Генерального директора, — слабым от растроганности голосом уточнил Вася.
— Если вы имеете в виду комитет, то у нас начальник, а не директор.
— Давайте начальника, только прошу самого главного, будьте так любезны. — Только сейчас Вася заметил, что по обеим сторонам двери огромные окна, стекла от пола до потолка, свет изнутри и с улицы оч-чень хорошо видна голова Васи в прорезь прицела. Сейчас где-то там неслышно булькнет выстрел, и он свалится здесь на чистый мрамор, на красивую дорожку, и алая струйка горячей крови испортит весь марафет. Как в песне поется «И боец молодой вдруг поник головой…» Вася, где стоял, там и сел, прямо на пол плюхнулся, а дежурный так и кинулся к нему с возгласом, как сестра милосердия:
— Вам плохо, товарищ?
Вася предостерегающе поднял руку — спокойно. Расставил сапоги, на них уже снег стаял, потекло на мрамор, положил на пол дипломат и раскрыл его, показывая деньги.
— Давай шуруй, парень, — по-свойски сказал Вася. Теперь в нем наступил перелом, отныне он всех будет называть как Мельник. — Видишь, сумма? Еще кое-где наберется побольше. Раз в десять. Есть угроза интересам государственной безопасности. Отвечаю за свои слова.
— Успокойтесь, товарищ, здесь вам ничего не грозит, — видя Васину лихорадку, уговаривал его дежурный. — Сядьте вот сюда на стул, никто вас здесь не тронет.
— Нет! — категорически восстал Вася. — Давай мне самого главного. Ты их не знаешь, понял? У них на прицеле и я, и ты сейчас — щёлк и все, дырку и не увидишь, маленькая дырка. А человека как не бывало, понял?
Появился дежурный постарше и еще более вежливый, он любезно пригласил Васю в отдельный кабинет для беседы…
Спустя неделю примерно, семеро шоферов такси разного возраста, из них одна женщина, кто за бутылкой водки, кто за кружкой пива, а кто и просто так, рассказывали, как однажды довелось везти случайного человека с полным чемоданом денег — ровно сто тысяч, как одна копейка, но только никому ни слова.
Прошла еще неделя, и уже двадцать два водителя по всему Каратасу рассказывали, как в разное время они подвозили одного человека средних лет, кудрявого, с полным чемоданом денег, сто тысяч ровно, как одна копейка, и все это он вез в КГБ. Вел он себя непредсказуемо, у одного потребовал сдачу семнадцать копеек, а другому отвалил сотню сверх счетчика, что он выкинет, угадать невозможно — ждите встречи.
Спустя еще месяц во второй таксопарк, на улице Джонатана Свифта, пришел ветеран труда платить взносы, послушал-послушал и при всех сказал:
— А я его еще при Хрущеве возил, да только помалкивал.
Вот на что потратил Вася свои сто тысяч — на легенду.
Глава тридцать четвертая Семеро с ложкой
Шибаев ждал новостей от Ирмы, письма, звонка, но позвонил из Москвы Мельник и сказал, что приедет в Каратас всего на один день, просит собрать всех компаньонов, ему нужны деньги, вложенные в дело год назад. Шибаев понял, Гриша Голубь тоже потребует свой пай. Восемнадцать тысяч Мише и двенадцать тысяч Грише, уговор дороже денег.
Шибаев назначил общий сбор у себя в кабинете. Если год назад было совещание большой тройки, потом включили Васю — стала большая четверка, то теперь, похоже, стала большая семерка. Один с сошкой, семеро с ложкой, а котел прежний. В кабинете сидели Шибаев, Махнарылов, (Мельник с ним поздоровался как ни в чём не бывало), начальник управления Прыгунов, начальник милиции Лупатин, старший лейтенант Цой и, наконец, знатные деловары — Гриша Голубь и Миша Мельник. Стол был накрыт, как положено, сверкали бутылки, сверкал хрусталь. Обсуждали московские новости, а также международные. До чего додумались, оказывается, акулы империализма, тренируют дельфинов для борьбы с нашими подводными лодками, чтобы они присандаливали мину куда надо. Цой говорил о японцах — если в Европе лучшие фирмы допускают стандартом на сто изделий один, два дефекта, то японские фирмы — один, два дефекта на миллион. А как добиваются, может быть у них строгий контроль? Ничего подобного, контролеров там в пятнадцать раз меньше, чем на лучших фирмах Запада.
— А у нас?
— Интересно, а что сказано про японцев у Карла Маркса?
Игнатию Цою нравилось хвалить Японию, да и как ее не хвалить, если восемьдесят процентов всех роботов в мире — японского производства.
— Старший лейтенант — грамотный товарищ, — заметил Лупатин, не любивший шибко знающих. — Но до капитана ему служить да служить. — Все поняли, на что он намекал. Лупатин не был доволен работой Цоя.
Гриша Голубь в английском журнале вычитал, что зарегистрировано уже десятки случаев, когда робот выходил из-под контроля и убивал человека, как правило, монтажника, своего наладчика. Кого в таких случаях судить? И еще вопрос для юристов. Американская печать сообщила, в мире появилась новая форма вандализма — электронно-вычислительная. Злоумышленники из числа специалистов готовят скрытую программу, через какой-то промежуток времени она разрушает все другие программы в памяти ЭВМ, взрывает всю библиотеку данных и может нанести колоссальный ущерб, а виноватого не найдешь.
— Давайте, товарищи, ближе к делу, — предложил Шибаев, перебивая лекцию Голубя. — Вопрос на повестке дня один: об увеличении производственных мощностей Каратасского мехового комбината. Слово для доклада предоставляется…
Но тут Вася громко перебил шефа:
— Я предлагаю почтить память Алеся Шсвчика вставанием.. — И сам. первый истово встал и опустил очи в землю. Все поднялись, постояли. Шибаев дергал щекой, Мельник поеживался, снова сели, и Лупатин не удержался:
— Как пионеры, мать-перемать! — Майора милиции можно было понять, — кого он почтил, чью память?..
Шибаев предоставил слово начальнику областного управления местной промышленности товарищу Прыгунову. Тот встал, обвел всех взглядом докладчика-профессионала, обеими руками показал на стол и спросил:
— До каких пор это будет стоять нетронутым? Я предлагаю.
Налили, выпили. Прыгунов уже с утра поддатый, и почему бы ему не пить, если он получает оклад по меньшей мере с восьми предприятий. Набегает у него от четырех до пяти тысяч в месяц, куда девать зарплатёшку? А если чуть меньше четырех в месяц, у него сразу скачет давление. Тяжелая у него работа, попробуйте-ка сами хоть днем, хоть ночью выступать с докладом, и тридцать минут говорить, и сорок, и целый час говорить и — ничего не сказать, попробуйте. Или отсидеть в президиуме от звонка до звонка. Не смейтесь, очень даже нелегко. Он получает за вредность.
— Товарищи, в настоящее время перед Советами депутатов трудящихся поставлены очень большие, очень серьезные задачи по увеличению выпуска товаров народного потребления. Каратасский исполком наметил ряд довольно крупных мероприятий по развитию отраслей местной промышленности, призванной удовлетворить все возрастающие запросы нашего населения в товарах культурно-бытового назначения и домашнего обихода. Наша область занимает обширную территорию, равную двум Бельгиям и трем Люксембургам. Однако организация работы предприятий местной промышленности, удовлетворение постоянно растущих нужд испытывает серьезное затруднение по ряду причин, с которыми мы обязаны бороться всеми силами. Во-первых, надо вести воспитательную работу с кадрами, где мы, товарищи, не дорабатывам. Надо, чтобы дело осуществлялось с большим подъемом и ответственностью, чего нам явно не хватает. Во-вторых, нам надо ужесточить контроль за сигналами, поступающими от населения, я бы сказал, от несознательной его части, чтобы не создавались в нашем городе, а также и вокруг него, нездоровые настроения и всякого рода представления, как будто местная промышленность собирает под своей эгидой только одних расхитителей, взяточников и растратчиков. Ну, и наконец третье — учитывая возросшие потребности населения и необходимость более полного материального удовлетворения нужд народа, Управление местной промышленности пришло к выводу о необходимости открыть при Каратасском комбинате новый цех по выделке ковров и паласов. Предлагаю, товарищи, обсудить наше предложение, но прежде чем перейти к прениям, есть мнение для прочистки голоса выпить по маленькой.
Выпили по маленькой, и первым заговорил Шибаев — что да, то да, материальные и духовные потребности растут не только у населения, но и у нашего управленческого и снабженческого аппарата. Аппетит увеличивается не по дням, а по часам. Нас можно понять, мы не хуже других, но дело в том, что возрастающие потребности не могут быть удовлетворены мощностями моего предприятия. К нам подключились, и притом активно, должностные лица из Алма-Аты, из «Казкооппушнины», из министерства не только местной, но и легкой промышленности, и не только из Алма-Аты, но также из Москвы.
— Но они же нам дают внефондовое сырье, — строго напомнил Голубь. — Зачем говорить, что они приносят сплошной убыток. Без их помощи комбинат совсем бы ничего не имел.
— Бывает помощь на копейку, а расплачивайся рублем, — сердито отозвался Шибаев. — Дело не только в наших поставщиках, но в потребителях тоже. Если раньше торговая сеть, продавцы ограничивались десятью процентами с выручки, то сейчас требуют двадцать процентов. С одной стороны, они видят, что мы увеличиваем масштаб, наращиваем темпы, а с другой — возрос риск. Кто у нас обеспечивает снижение риска? Я ставлю вопрос перед всем нашим активом. В торговле сложилась нетерпимая ситуация. Почти полностью выпал важный объект — Центральный универмаг. Заведующей отделом оторвали ухо, бандита, как положено, осудили, но поднялись шахтеры, пошли по инстанциям доказывать, что он хороший человек. Тлявлясову теперь трясут. Я бы просил товарища майора высказаться по этому поводу. Мы лишены основной торговой точки, откуда у нас идет выручка.
— А я бы попросил высказаться старшего лейтенанта Цоя, — внушительно сказал Лупатин. — Он начал вступаться за свою родственницу, она подала в суд, ее восстановили на работу. У нас никакой коллегиальности в действиях. Мы это дело передали другому товарищу, более ответственному, который стоит выше всяких национальных и родственных привязанностей.
— Люба Пак не является моей родственницей, — невозмутимо сказал Цой. — Там не было хищения.
— Но ведь суд доказал!
— Суд доказал, — вмешался Шибаев, — а эта кореяночка наняла адвоката, Гришиного приятеля, и он это дело похоронил. Со стороны Голубя тоже нет коллегиальности.
— Мы ведем беспредметный разговор, — заметил Гриша. — Давайте обсуждать дела на комбинате. Меня интересует, когда будут возвращены паевые взносы? Год назад мы собирались здесь, планировали свою деятельность, давали обещания, пришла пора платить. Что на это скажет директор?
Шибаев без слов открыл сейф, вытащил два газетных свертка, один подал Мише — здесь восемнадцать тысяч, твоя доля; второй подал Грише — здесь двенадцать тысяч, твоя доля. Широкий его жест можно было расценивать как силу фирмы, видите, как мы четко рассчитываемся, планировали через год возместить — возместили. Была еще и другая оценка — если Шиберу ничего не стоит одним движением руки швырнуть компаньонам тридцать тысяч, то уж нам какую-то тысчонку жалкую выдать он просто обязан. Но, как говорят казахи, у верблюда одни мысли, а у его погонщика — совсем другие. Однако, кто тут верблюд, а кто погонщик, надо еще разобраться.
— Для того, чтобы нам создать условия для постройки нового цеха ковров и паласов, мы должны иметь наличными значительные суммы. Как ни огорчительно, но ввиду начала строительства цеха я вынужден задержать долевикам выплату. На время. Дело в том, что внефондовое сырье, дорогие меха Москва будет выделять нам с Нового года. Сейчас идет пробивание, и мы вынуждены этот процесс материально обеспечивать, возить туда крупные суммы. Придется нам всем подождать, прошу это принять к сведению.
Первым выразил недовольство Лупатин — как это подождать, если ему надо платить ребятам? Ведь у него безостановочный процесс, прерви его на минуту, и весь конвейер можно разладить. Появится один не подкормленный своевременно сотрудник, разуверится в своем будущем, и все пойдет кувырком. По нашим оперативным данным, у вас есть скрываемые резервы, как в цехе Махнарылова, так и в цехе Вишневецкой. А то, что у вас претензии в отношении возросшего риска, все мы так работаем, на нас жмут, и мы жмем, а как иначе? Каждый из нас должен расти, совершенствоваться, а не можешь — уступи место другому. Это и меня касается, и других касается.
Похоже, он намекал на то самое, чего добивался Голубь — замены Шибаева на посту директора. Слово взял Мельник и сказал, Шибера он понимает, как никто другой, он здесь работал. На одном кролике комбинат не продержится со своими компаньонами, я даже удивляюсь, как Шиберу удается выкручиваться и содержать такую орду. Выход из положения может дать новый цех. Мельник готов помочь, в Москве у него есть нужные связи. Как бывший директор комбината, хорошо знающий технологию, приход, расход, он поддерживает озабоченность Шибера.
Мельник не ожидал так легко получить долг, и от радости помогал Шибаеву. Голубь тоже не ожидал, но с Мельником не согласился и сказал, что каждый должен отвечать за свой фронт работ. Если Роман Захарович, пусть даже временно, посадит долевиков на голодный паек, значит, он не справляется с возложенными на него обязанностями. Если есть у него претензии к нам, пусть предъявляет, а пока претензии у нас к нему. Я предлагаю поставить ему на вид. Кроме того, у меня есть кое-какие личные наблюдения. Если майор Лупатин знает о каких-то резервах по цехам, то я знаю, что Шибер платит не только нам, но и еще кое-кому на стороне.
— Не на стороне! — сразу окрысился Шибаев. — А на высоте, которая и тебя прикрывает.
О Башлыке знали, но заикнуться никто не смел, Гриша, как всегда, самый передовой.
Башлык, между прочим, снова предупредил, что ему нужна крупная сумма на очень серьезное дело, на этот раз пятьдесят тысяч. Ничего себе! Вызвал он Шибаева в дом с фотоателье, спросил, нужна ли его помощь? — Нужна. — Какая? — Надо посадить Голубя. Башлык даже паузу не сделал хотя бы для вида, дескать, подумаю и решу, — нет, сразу выдал, что затея твоя несерьезная, тебя посадить легче. «Это и дураку ясно! — вспылил Шибаев. — Я прошу сделать, что труднее, за это и плачу». Отдает, отдает, отдает. Все от Шибера имеют, один Шибер ни от кого ничего.
13
Совещание закончилось. Шибаев попытался всех озадачить, но они озадачили его больше — поставили-таки на вид, указали на неполное ему доверие. Они подозревают о его возможном уходе, готовят ему замену. Прыгунов возражать не будет, тем более, что Шибаев противиться не станет.
Но как же быть с реализацией его плана?
Когда расходились, Голубь задержался и вполголоса сказал Шибаеву:
— По некоторым признакам Башлык идет на повышение в Алма-Ату.
Вон для чего понадобились ему деньги. А у Шибаева везде проколы,
и главный — с ЦУМом, оттуда шел основной навар, приходится теперь искать другие точки. Он связался с Жаманколом, с межрайбазой. Гмырин обещал помочь, но этого мало, нужно искать и искать, а пластаться некому. Компаньоны собрались и требуют, вынь да положь, как на целине, лишь бы нынче снять, а на будущий год хоть трава не расти. Прокол у Шибаева не только в плане производственном, но и в семейном. Зинаида совсем озверела, надо было ее прикончить, как ту лошадь у ковбоя, которая сломала ногу — рожать захотела, на сохранение легла. Предлагали врачи сделать операцию, избавиться, бабе все-таки сорок пять скоро. Она со скандалом отказалась — сохраните мне девочку, я ей уже имя придумала — ну ни в какие ворота!
Где брать деньги? Шибаев сказал Васе, чтобы он переписал накладные Вишневецкой за ноябрь, а тот уперся — накладные уже прошли по отчетности за прошлый месяц. «Переписывай, — настоял Шибаев, — а бухгалтерия переделает месячный отчет, я договорюсь». Он предложил снять с каждой шкурки кролика по два дециметра и создать резерв. Вася кое-как согласился, все сделал, переписал накладные от двадцать третьего и двадцать седьмого ноября, и в резерв отошло таким образом одиннадцать тысяч восемьсот восемьдесят девять рублей ноль две копейки.
А Башлыку надо пятьдесят тысяч. Что же теперь Шиберу за банками лезть?.. А тут еще ни с того ни с сего уволилась старший бухгалтер материально-технического отдела, ушла, собственно говоря, по болезни. Она была на окладе у Шибаева, триста рублей имела и работала, так сказать, из уважения, поскольку уже пенсионного возраста. Сегодня ушла, а завтра уже прислали из управления замену, мужчину оригинального, фамилия — Карманников, одноглазый, с черной повязкой, прямо-таки пират Билли Боне. Все они слегка чокнутые, эти финансисты, власти им надо, а этот по виду скромный. Бухгалтерия — первый враг директора. Шибаев позвонил Прыгунову — что за кадр? Оказывается, рекомендовал исполком, грамотный специалист с хорошей характеристикой, опытный, несудимый. То-то и плохо, что несудимый, значит, не такой уж он опытный. Трудно поверить, чтобы бухгалтер в местной промышленности, в солидном возрасте и не привлекался, это насторожило Шибаева, а где он прежде работал? Прыгунов не знает, прислали и все.
— Какое у тебя мнение о новом бухгалтере? — спросил Шибаев Васю. Тот пожал плечами — бухгалтер как бухгалтер, я ему зубы не проверял, под хвост не заглядывал.
— По-моему, нам стукача подсунули, — решил Шибаев. Приём это известный, но есть вопрос, на кого он работает? Если на Голубя, потерпим, а если не только? — Ты его проверь, поручаю, берет он или не берет. Не сразу, а через пару дней. А пока он пусть нашей атмосферой пропитается. Пригласи на бутылку, посмотри, легко ли он под стол валится. Попробуй мобилизовать на резерв. Дай ему сумму.
— Сколько?
— На пробу рублей семьдесят.
— А если спросит, зачем? — Совсем Вася крылья опустил, сам думать не хочет, без подсказки жить не может.
— Скажешь, детишкам на молочишко. А вообще ты стукача от порядочного человека отличить можешь? — спросил в упор Шибаев. Вася вяло пожал плечами, подумал-подумал и сам спросил в упор:
— А ты можешь? — и прислушался, что скажет шеф.
— Как правило! Посмотрю-посмотрю, и он у меня юлить начинает. Шибаев хотел было продолжать про бухгалтера, но как бы споткнулся на слове и уставился на Васю. Смотрел, смотрел — а почему бы и Махнарылову стукачом не стать? Сильно он изменился, как из-за угла мешком. Правда, причина есть для кислого вида — сын что-то там керосинит.
— А что у тебя с сыном?
Вася облегченно вздохнул, он ожидал другого вопроса.
— Да так… Сын у меня есть, а отца у него — нету.
— Подбери сопли, у всех так. В гробу они нас видели.
На другой день Вася доложил шефу, что с бухгалтером выпито, обговорено, свой человек. Как и следовало ожидать, он сидел, но судимость скрыл, живет небогато, приехал из какой-то северной области, вроде Архангельской, легкие лечить, здесь климат сухой, резкоконтинентальный.
Шибаева снова вызвал Башлык — деньги нужны немедленно. Привез он ему десять тысяч и спросил, правда ли, что ему предстоит повышение?
— Кто сказал?
— Голубь.
— Для него секретов не существует. Тем более ты должен понимать, что деньги мне нужны для дела, а не для развлечения.
Вот так они и растут — за его счет.
— Сейчас полностью не могу обеспечить, прошу подождать.
— Сколько ждать? — спросил Башлык вежливо и, как никогда, холодно, будто он уже переведен и спрашивает с высоты нового положения.
— С месяц примерно. — На самом деле Шибаев не знал, сколько ждать. Неужели они его заставят банки из земли вырывать?
— Деньги мне нужны, крайне необходимы через два дня. Это и в твоих интересах. Вся сумма сразу.
— Мне мешают. Я вас просил насчет Голубя.
— Он не будет начальником кафедры.
— Этого мало. Его надо убрать.
— Не все сразу.
— Деньги так сразу, а как дело… — проворчал Шибаев. Расстались оба насупленные, почти со скандалом.
На другой день, поздно уже, около двенадцати, неожиданно позвонил майор Лупатин и попросил выйти на угол. Постояли возле дерева, поеживаясь. Лупатин приехал один, на своей машине, и опять, хочешь, не хочешь, Шиберу пришлось отметить — куплена на его деньги.
— Время от время за вашим братом из местной промышленности, а особенно из меховой, устанавливают наблюдение, чтобы выявить, уточнить всякие связи. Это и в ваших интересах, и в наших интересах. Если кто лишнего наговорит, то мы своевременно защитим.
Он юлил, но что за этим скрывается?
— С завтрашнего дня за тобой, Шибаев, устанавливается наружное наблюдение. Задача твоя — ходить только по тем адресам, где все чисто.
— Я никуда не хожу, кроме комбината.
— Тем лучше. Ну, в магазин сходи, за кефиром, за хлебом, без контактов. Никому особо не звони в Алма-Ату, в Москву. В аптеку можешь сходить, конечно, не за наркотиками. — Лупатин рассмеялся.
— Но ты мне скажешь, когда кончится? — Если приспичит доставать банки, то как же он будет это делать под наблюдением? — Сколько, примерно, ждать?
— Пока сказать трудно, но дней пять потерпи. Значит так — за кефиром…
Он его что, за дурачка считает? Шибаев ни разу в жизни за кефиром не ходил.
Вернулся домой, сел в своей комнате на диван, уперся локтями в колени, взял уши в руки. Что он имеет на сегодняшний день? Ирма упорно и непонятно молчит, Зинаида упорно и чокнуто собралась рожать, ЦУМ для него закрыт, предстоит химичить по мелочам, открывать фирму торгуй баба, торгуй дед, на базаре, на привокзальной площади, связываться с Казпотребсоюзом.
Под диваном у него пусто.
В сейфе у него пусто.
«Я до рвоты, ребята, за вас хлопочу, может, кто-то когда-то поставит свечу…»
Утром он спросил у Васи, не можешь ли занять до весны пятьдесят тысяч, у меня в банках зарыто, сейчас землю нельзя долбить. Вася посерел, побледнел, губы опустил — откуда у него такие деньги? Нет, конечно, не может. С Эдиком неприятности, он всю сумму потратил. Может, у Каролины перехватить? Но Каролина со дня похорон Шевчика запила, на работу не является, муж ее привез заявление с просьбой освободить…
Никто ему не займет, ясно. Остается то, что зарыто в землю, и еще монеты, которые привез Шевчик из Кутаиси на двадцать тысяч. Но можно ли вручать николаевское золото Башлыку, они на своих верхах еще не додумались брать на лапу царской валютой. Хотя кто их знает, в некоторых сферах на доллары перешли.
Но почему молчит Ирма? Она позвонила после того, как Вася передал ей сто тысяч, сказала, что все в порядке, она его ждет — и больше ни звука.
Глава тридцать пятая Шибер долбит мерзлоту
Он приехал домой пораньше, был смысл. Переступив порог, сразу на обувь — сапоги Славика с мехом, добротные, импортные стоят на месте, и больше никакой обуви. Мать в роддоме, Валерка черт знает где. Отец не ведает, где сын обедает В детской комнате Славик возле торшера читал книжку. Увидев отца, взъерошился, испугался.
— Это фантастика!
Отец считает, книги могут испортить жизнь. Почему? Летом после восьмого класса Славик ездил поступать в мореходное училище в Астрахань. Оделся прилично, как и положено в пятнадцать лет — кроссовки, джинсы. А через неделю позвонили оттуда из детского приемника и сообщили, что задержали вашего сына, Шибаева Славу, без штанов, босиком ходил по городу и без копейки денег. Раздели и разули его в этой мореходке ребята со старших курсов. Шибаев в ту ночь не мог уснуть, но не лежал просто так, глядя в потолок, он действовал, достал любимую свою малокалиберку ТОЗ-8 и отпилил ствол — завтра он возьмет билет до Москвы, сдаст в багаж оружие с патронами, из Москвы полетит в Астрахань и перестреляет их всех к чертовой матери, все мореходное училище, начиная с директора. Он в ту ночь начал седеть из-за сына. И полетел бы, и накеросинил, если бы не Зинаида. Она сама поехала и привезла Славика, и наделала там шороху, и в горкоме была, и в обкоме, телеграмму в Москву дала, суда требовала, потом ей ответы сюда присылали, суда не было, но дирекцию разогнали. Шибаев считает — без толку, так везде принято, и в армии новичкам рога ломают, бьют, унижают, и в ПТУ, и в техникуме, а уж про тюрьму и колонию и говорить нечего, во всех заведениях нормальным стало топтать и мешать с дерьмом, выбивать из тебя все то, чему тебя книжки учили: «Человек — это звучит гордо».
— Что за фантастика? — мирно спросил Шибаев, желая показать, что сыну ничего не грозит.
— О том, чего в жизни нет, — пояснил Славик.
— Ну, ну. В жизни всего полно, похлеще любой фантастики.
— Нет, в фантастике все особенное, неповторимое, это результат чистого воображения.
— Ну, к примеру, о чем ты сейчас читаешь? Я тебе с ходу дам другой пример без всякого воображения, а так, как оно есть на самом деле.
Славик посмотрел внимательно, убедился, что отец сегодня не злой.
— На одной планете построили совершенно новое общество и однажды узнали, что к ним едет комиссия с Земли, проверять, как они живут, все ли у них есть, как на Земле. У них все было, кроме одного — вора не было. Что делать? Они назначили одного человека быть вором, а он не знает, что это за понятие такое, ходит, всех спрашивает, и никто не может объяснить, что ему делать. Консультировались по межпланетной связи, разобрались — если берешь чужую вещь, значит, вор. Но что такое чужая вещь, если у нас все свое? Назначенный вором мучился-мучился, не зная, что делать, а долг ему нужно выполнить, и он перед прилетом землян покончил с собой.
Действительно, для такой бодяги требуется воображение. Если бы это рассказал ему Мельник или Вася Махнарылов, Шибаев посмеялся бы и все, но перед Славиком он смеяться не стал.
— Ладно, читай. Сильно выдумано.
Ушел в свою комнату. Сильно выдумано. Но пример все-таки у Шибаева есть. Из жизни. В противовес выдумке. Пропадет не тот, кого назначили вором, а как раз тот, кого назначат быть честным. В деле Шибаева именно так и есть. Сверху донизу и снизу доверху честному в его системе, от охранника до министра, делать нечего, он только дело провалит и ни одному конкретному человеку не даст пользы. Что должен делать честный на месте директора комбината? С ходу посадить двух начальников цехов, причем с конфискацией — Махнарылова и Вишневец-кую. Вслед за ними посадить завскладом готовой продукции, потом он и сам должен сесть, этим должен заняться Цой, в свою очередь Цоя должен посадить Лупатин, майора должен посадить… и так далее. Башлыка тоже должны посадить те, кто тянут его на повышение. А что после этого будет с комбинатом, с местной промышленностью? Кто пойдет на восемьдесят рублей, на сто, Прыгунов будет получать сто пятьдесят попробуй выпей, если жена его молодая на бензин больше тратит, Зябрева лишится должности, поскольку ее подопечные начальственные жены привыкли шубы брать за полцены. Не пора ли нам разобраться, что это за понятие «честный человек» — перед кем честный? Вообще? Но мы материалисты, у нас конкретность и причинность. Перед боженькой что ли, честный?
Нет у нас боженьки, у нас есть Бог — дело. Государственной важности дело по выполнению пятилетнего плана. Та печка, от которой все мы пляшем и других заставляем. Рахимов знает, что не положено местной промышленности сортовое сырье, однако берет наше ходатайство и идет к министру. Министр тоже знает, однако подписывает, иначе не дадим план. Кристально честный начал бы строить цех выделки и крашения только в следующей пятилетке. При условии, если эта стройка будет включена в план и в бюджет области. А мы — нечестные — построили за четыре-пять месяцев и выдаем стране дефицитную продукцию. Так что честность вообще бывает только в школе и на словах. Кстати, куда, на какую должность можно поставить умного, мудрого, все перечитавшего Алексея Ивановича? Его даже сторожем нельзя, даже дворником, потому что и там надо на лапу давать, а он не умеет, не привык. Через месяц ему сунут выговор — метла, скажут, у вас пыльная, а за то, что вода у вас мокрая, еще выговор, подавай по собственному. Если будет когда нибудь страшный суд, которым не одну тысячу лет пугают, то судить надо только тех, кто попался — дурачков, но не тех, кто доработал, не щадя своих сил, до пенсии, притом персональной. Он ее заслужил, будьте уверены, Шибаев знает.
Может ли кому-нибудь прийти в голову такая блажная мысль, чтобы с махинациями покончить, все хищения прекратить и работать по-честному? Прийти-то может, и каждый день приходит, но именно блажная мысль, глупая, в полном отрыве от суровой действительности. С такими мыслями можно вылезать на трибуну, писать в газеты, говорить на собраниях, — по бумажке, чтобы не сболтнуть правду — а на практике даже и думать нечего. Почему? Не выгодно, прежде всего поэтому. Человеку не выгодно и государству тоже, собьемся с ритма, отстанем от других индустриально развитых. Если убрать мощный рычаг материального стимулирования, то ни плана не будет, ни занятости, рабочие разбегутся, должностные лица начнут искать себе другой источник кормления, поищут-поищут и наверняка найдут, государство у нас богатое, от каких-то отчислений в частный карман не обеднеет. Так что, читай, Славик, фантастику, читай брехню, с ней прожить легче.
— А где Валерка?
— Пошел Высоцкого записывать!
Во-во, в самый раз Шибаеву запеть: «И стоит он перед вечною загадкою, перед солоно — да горько-кисло-сладкою».
— А ты почему все дома и дома?
— Мне так интереснее.
Шибаев вспомнил Васю — «Сын у меня есть, а отца у моего сына нет».
— Ты знаешь, где твой отец работает?
— Знаю, директором.
— Чего директором?
— Как «чего»? Пивзавода.
Шибаев думал, без его комбината не только Каратас, весь Казахстан жить не может, а оказывается, родной сын не знает про комбинат. Или отец так себя засекретил, или Славик не от мира сего.
— Почему ты так решил?
— Я же в детсад ходил при пивзаводе, я помню. В песочке играл, землю рыл.
«Землю рыл». Шибаев пришел пораньше именно за этим — рыть землю. «Наружное наблюдение сняли, — сказал ему Лупатин. — Сняли, но»… — сказал далее майор, однако Шибаев уже отключился и никакого «но» не заметил, не взял на память и, может быть, напрасно…
Рыть землю, потому что иного выхода нет. И Башлыку надо срочно, и для раскрутки перед Новым годом тоже. Вместо Шевчика выплыл как из-под земли Яша Горобец, начал шустрить, в Джезказган съездил, отвез партию каракуля за наличный расчет, договорился еще на партию. Из Жаманкола приехал Костаниди, взял тысячу шапок один раз, взял тысячу шапок другой раз, но это же крохи. Вместе с ним, кстати, приезжала бабенка, тепло одетая, в пуховой шали и, пока они загружали, она командовала, распоряжалась, Шибаеву голос ее показался знакомым, он пригляделся, она все отворачивалась да отворачивалась, он шагнул ближе, а она: «Здрасьте, Роман Захарович». Соня, его секретарша, он ее еле узнал. Здрасьте, здрасьте, как дела? «Я замуж вышла», — сообщила она главнейшую новость. Но как изменилась красотка за какие-то, смешно сказать, два месяца, впечатление — будто выпуклую чеканку разгладили асфальтовым катком, лицо плоское, глаза померкли, губы вообще пропали, что такое могло случиться? Быстро она обабилась, стала наглой торговкой, каких на базаре хоть пруд пруди. Соня под них себя подогнала, ей уже будто лет тридцать, хотя на самом деле восемнадцать.
Ирма такой не будет никогда, ее никаким катком не прогладишь, наоборот, моложе была худенькой, остроносой, портил ее нос, а сейчас округлилась, груди стали пудовые, плечи покатые, а то, как вешалка. Нет, Ирма чем дальше, тем лучше, однако же, стерва, молчит…
Хочешь, не хочешь, а он вынужден обращаться к своей главной заначке. У одних в государственном банке, у него в стеклянной банке. Декабрь, земля звенит, долбить мерзлоту тяжело, но надо. На Колыме двенадцать месяцев зима, остальное лето, и ничего, долбят, работают. Пришла такая необходимость, не может Башлык на новом месте входить в авторитет с пустыми руками. Все-таки не с луны свалился, в денежном Каратасе служил, никто ему не поверит, что карман пустой.
Он пошел в сарай, распинал дрова мерзлые, звенящие, попробовал колупнуть лопатой — черта с два. Пришлось взять лом, а он хол-лодный, сволочь, обмотал тряпкой и начал долбить, только гул пошел. Мерзлая земля летела осколками, будто он прорубь на реке вырубал, и мелкие льдинки попадали в лицо. Запыхался, жарко стало, а рукам холодно, устал быстро, а ведь раньше шоферюгой был, калымил и какие мешки таскал! Теперь пять минут подолбил и дышать нечем. Место он знал точно, вырыл уже порядочно, а земля все еще мерзлая, летят осколки, может, это уже от банки стекло летит? Не разобрать, темно, он зажег фонарь, осмотрел — банок здесь нет.
Между забором и яблоней лежал сугроб, долго его разбрасывать, еще банка под конурой Тарзана, там наверняка не так промерзло. Он сдвинул конуру ломом, Тарзан заметался, заскулил, запротестовал, Шибаев бешеными частыми тычками начал долбить, банку разобьет, так бумажки заметит как-нибудь. Гул стоял, аж в доме стекла звенели, и у соседей слышно, но там свой человек живет, по пятьдесят восьмой отбухал двадцать лет. Во время войны в концлагере был, у него татуировка, цифра пятизначная на руке, потом в нашем лагере отбухал, говорил, на Колыме, в земле вечной мерзлоты трупы заключенных хранятся вечно. Тысячу лет будут храниться, и когда прилетят к нам с другой планеты… Фантастика, Славик, фантастика. Во всех местах сгниют и развеются в прах, а на Колыме останутся, и по ним будут судить, какие люди жили на земле. «Жили». Они не жили, они сидели, а жизнь творили мы, бесследно сгнивающие. Вот какая фантастика.
— Па-ап! Слышишь?! — На пороге стоял Славик, накинув на голову куртку. Шибаев выпрямился, пот заливал глаза. — Мамка звонила, сказала, чтобы ты перестал долбить.
Он бросил лом со звоном, ногой подправил конуру. Аж в роддоме, за три версты слышно, как он долбил. Она каждый раз в это время звонит, после ужина. Не зря Тарзан крутился, будто отговаривал его от пустой траты времени, так и лез под лом, морду подставлял.
— Повтори, что она сказала?
— Бесполезно, говорит, чтобы ты не долбил.
Он прошел в дом, сбросил куртку и — в свою комнату, лёг на диван не разуваясь. Что делать? Зинаиду в роддоме не достанешь, помолимся Богу, чтобы она не разродилась. Он мжет сейчас пойти к Лупатину и вместе с нарядом милиции — в роддом, выдадут им халаты — по оперативной необходимости. Но что это ему даст? Зинаиду не только словом — топором, колуном, ничем на свете не заставишь сказать, куда она девала банки. Пока она знает, что Ирма еще жива, она ни копейки не даст Шибаеву. Ревность ее сильнее боли, сильнее страха, сильнее всего на свете.
Вместо семи знаков у него нуль. Даже семь нулей. Ясные круглые пузыри без единицы слева. Нулевая ничья. Надо ехать в Москву, есть повод.
А деньги есть? Ха-ха-ха! На билет. Ха-ха-ха! Умора! Уже не пятьдесят тысяч, хотя бы пятьдесят рублей найдется ли по сусекам? Да есть ли у него человек, который сейчас займет ему на билет в Москву? Ведь никто не поверит, что у Шибаева денег нет, а если убедятся, паника будет по всему Каратасу, расхватают всю соль и спички, как в первый день войны.
Посадили его на нуль, хоть пой. Но нельзя, говорят, петь об утраченных деньгах, можно только — об утраченной любви. «Потеряла я колечко, потеряла я любовь». Ха-ха! Смех из него прет сам по себе, будто в горле у него заглушка слетает с резьбы и звук бьет, как вода из шланга В первый раз, между прочим, но не в последний, он чует…
Утром вошла новая секретарша, подала корреспонденцию. Он сразу на обратный адрес — нет ли из Москвы конверта? Нет. Правда, вот телеграмма на его имя, короткая, непонятная: «Прошу не беспокоить академика Енгибарова». Что за академик, он такого не знает, память у него на людей четкая, может быть, перепутали адрес? — Нет, Каратас, улица, комбинат, директору Шибаеву. Очень даже странно. Внимательно перечитал телеграмму, поднял глаза на секретаршу. Затяжной мандраж, безнадега обострили его чутье, как у обложенного волка, и он, глянув на секретаршу, понял, что и она подослана.
Но Башлык не поможет, от него ждут, а ты делаешь ему прокол, да еще с просьбой придешь…
Какое же сегодня число, на календарь глянул — декабрь, двадцать второе. Такие, брат, дела, через три дня немецкое рождество. Год назад они поклялись его встретить в Москве.
Клятву свою он выполнит.
Любой ценой. Он чуял опасность всей шкурой своей, но — пусть дозреет, доспеет, ему не за что пока ухватиться, не от чего отмахнуться. А главное — Ирма.
Что же там стряслось в Москве?
Или без всяких встрясок простой расчет?..
Он позвонил в Алма-Ату Рахимову — через автомат, по коду — и попросил забронировать билет на прямой рейс Алма-Ата — Москва на двадцать четвертое. Он прилетит к ней в сочельник, успеет раздобыть индейку и поможет приготовить рождественский пудинг.
Но сначала он пойдет проститься с теми, кто его спас.
Глава тридцать шестая За все спасибо
А может быть, они не спасли его, а наоборот, погубили. Чем? Неправдой, выдумкой. Книжным учением-поучением. Всезнанием — как надо, как не надо, вот это хорошо, вот это плохо.
А жизнь другая, непредсказуемая, сама себе на уме — сильная, подлая, ни на какие учения не похожая. Он пойдет к ним, на их рисованные под ковер дорожки. И вот как дорожки у них не настоящие, так и правда ихняя выдумана, не от жизни взятая, а из тщеты стараний.
Другие изливают душу жене, любовнице, исповеди пишут для потомства, а Шибаев безграмотный, ему только анонимки писать, не надо прикидываться и малевать ошибки, как это делают люди с высшим образованием. Была бы рядом Ирма, он избавил бы учителя от своего посещения. Но Ирмы нет и уже не будет. Ни-ког-да. Разве что на том свете они встретятся все вместе и сядут в кружок потолковать и вспомнить, чего они не учли и где неправильно поступили.
Но и там у каждого будет своя правота.
Он проснулся в тумане страха, в паутине страха, в сетях, и не сразу осознал, почему такое чувство, не сразу, но понял — он деньги потерял, вот почему страх. Любой может плюнуть на тебя и растереть. Без денег каждый новый день и даже час может принести опасность. Ну, а зачем, спрашивается, идти к старику — учителю? Чем он тебе поможет?
Дело не в помощи. У старика есть что-то помимо денег, и это мешает Шибаеву жить на свете. Старый, никчемный, беспартийный человек с пустым карманом, голь-шмоль, почему-то живет надежнее, безопаснее, со смыслом, лучше живет, лучше, черт побери, Шибаев нутром чует, кишками своими правоту его, — а согласиться не может, злится. На учителя он злится, а на прокурора — нет, почему? Прокурора можно купить, а этот ни в чем не нуждается, над ним даже деньги безвластны, которым Шибер подчинил всего себя, без чего он гол, как сокол, раздет, разут и даже хуже. Если выставить его нагишом перед людьми, без штанов — и то будет меньше срама и страха, чем сейчас, когда он оказался без копейки. Вот почему у него злоба на тех, кого не купишь, они во всем виноваты, люди другой породы, тихой сапой крутят всю жизнь на свой манер. Вот пропали деньги, и все пропало, и настоящее, и будущее. А у старика их всю жизнь не было, но он счастлив — от темноты своей. Шибер ему все скажет, учитель просто не знает, и потому ничего не боится. Он бесстрашен совсем не потому, что прошел войну, тюрьму и ссылку, — нет. Он себе выдумал фантастику, он, как Славик, поначи-тался книжек и отгородился выдумкой, как забором, ловит кайф. Такие чудаки были и раньше, люди разделились давно — одни пашут, любят, детей рожают, воруют, в тюрьме сидят, а другие изобретают сказки про жизнь, не видя ее. Не видят, а сильны. Без денег, а сильны. Правды не знают — сильны. Так пусть узнают.
Он пришел угрюмый, замерзший, мрачный. И они опять двое рядком встретили его, как в международном аэропорту Шереметьево встречают какого-нибудь
45
президента, только почетного караула нет с музыкой. Он смотрит на них неприязненно и видит, они ему рады, особенно Алексей Иванович, глаза его блестят, он хочет поговорить, знает, Роман будет его слушать. И в предвкушении беседы старик топчется возле гостя, пытается даже принять его дубленку. Шибаев отстранился — хватит уже ваших телячьих нежностей.
— Кто-нибудь к вам заходит? — спросил он грубо, как бы утверждая, никто к вам не заходит, кроме меня, вот вы и хлопочете.
— Почти каждый день бывают, а по праздникам у нас всегда полно, — сказала Вера Ильинична. — Ученики, бывшие разумеется, учителя.
— А своих детей у вас нет, — сказал Шибаев. Ему с порога хотелось говорить гадости. Хотя, что такое свои дети, вот сын у Махнарылова, или у него два сына, что за счастье?
— Приходят, цветы приносят… — жалобно сказала Вера Ильинична.
— Цветы приносят, а правду хоть один принес? — и он уставился на линолеум на полу, представил, как ползала старуха, вырисовывая узорчики, — зачем такие радости старым людям?
Пошли, сели за стол.
— Вы довольны своей жизнью, Алексей Иванович?
Жена его первой поняла смутную угрозу, перестала улыбаться, поджала губы и смотрела то на Шибаева, то на мужа.
— Я поставлю самовар, пожалуй, — сказала она и ушла.
— Ты мне школьный вопрос задал, Роман. Скажу так. Доволен и всегда буду доволен — жизнью, обрати внимание, не ситуацией той или иной, не порядками теми или иными, не людьми определенными, а именно жизнью во всей полноте. Непременно доволен, приветствую и люблю жизнь, а как же?
— Неправду вы говорите. Столько зла, вредных людей, подлых, хорошо ли быть довольным, честно ли?
— Но жизнь ими не замыкается, Роман. Подлые люди, вредные, все это мелочи, нужно потерпеть во имя высшего смысла. И я все годы терпел, и молодым терпел, и старым. Другие — ах, со мной несправедливо обошлись, ах, меня сослали в дикий Каратас! Я знал, на что иду, когда говорил, что мы отстаем от Запада, и техника наша никуда не годится, и в науке отстаем, в биологии, в физике, позор нам, потомки не простят, — меня посадили, потом сослали. За дело! Я пошел против власти, мне была ясна установка не хвалить заграницу, хвалить все советское, а я все рано критиковал. В молодости у меня был героический характер. Меня судили, ссылали, я не возмущался — за что? Те, кто в тридцать седьмом году пострадали, считают себя незаслуженно обиженными большевиками, сверхбольшевиками. Почему? Где логика? Если вы видели безобразия Сталина и поддерживали их, то грош вам цена, туда вам и дорога. Если же вы противились этим безобразиям, не щадя себя, пытались что-то исправить, то честь вам и слава. Значит, пошли вы на Колыму или в Каратас за дело, иначе грош цена режиму, который не может себя защитить. Или вы хотели бузить безнаказанно? Но так в государстве, хоть в каком, не бывает. А ты, Роман, почему такой вопрос задал? Ты не доволен своей жизнью?
— Не доволен, — ответил он без колебаний.
— Давай выясним, если можно, чем ты не доволен?
— Всем. Женой, детьми, а также и любовницей. Работой, друзьями, правительством, всем не доволен. У меня нет ничего святого. И хороших людей я не видел. Можно так жить? Вы скажете, нельзя. А я живу, хлеб жую.
Старик забеспокоился, ему стало неуютно.
— Это исключено, что нет для тебя ничего святого. — Алексей Иванович словно нашел выход в простом утверждении: исключено, и всё. Шибаев пожал плечами.
— У меня все из-под палки. Сколько помню себя, меня гнали, давили, угнетали, не давали свободно жить, понимаете? И сейчас не дают. Чем я должен быть доволен? У других награды, ордена, медали, а у меня кляузы, анонимки, выговора. А сейчас вообще на мели, без копейки денег.
Алексей Иванович усмехнулся такой едкой, короткой усмешкой, едва-едва заметной, сдержанной, она нравилась Шибаеву, он давно перенял эту его мимолетную гримасу, мало того, усилил ее, усмешка у него стала началом хохота. Сначала он усмехался, как Алексей Иванович, а потом при виде какой-нибудь особенной нелепости ржал, как сивый мерин.
— У меня тоже нет орденов, и кляузы всегда преследовали.
— Вы же на фронте были и столько лет учителем.
— Тем не менее, ни одного ордена, а что тут удивительного?
— Разве это справедливо?
— Да что тут такого особенного? — Старик недоумевал, его озадачила эта привязчивость, недовольство по пустякам. — Почему ты меня так допрашиваешь, с таким пристрастием?
— Потому что все продается, Алексей Иванович, и все покупается, ордена тоже, а вы со мной не согласны.
— Разумеется, не согласен. Не за что было меня награждать, у меня всякого рода взысканий и нареканий куча, какие там ордена! В тридцать седьмом посажен, в сорок девятом сослан, после двадцатого съезда реабилитирован, а потом снова стал неугоден. Не нравился я начальству систематически, что поделаешь. Дают команду, чтобы ни одного неуспевающего, а я не выполняю. Если ученик не знает, я ему ставлю двойку, если он ведет себя неподобающе, я его прошу вон из класса. И никакой гороно, районо не мешали мне стоять за справедливость. Вернее сказать, мешали, но я выдерживал и другим показывал, что всегда можно добиться справедливости. А в школе именно в этом главная трудность — добиться справедливости. До революции было легче, я уверен. И знаешь, почему? Женщин не допускали к преподаванию. Женщина в школе — это вред, особенно в старших классах. И для мальчишек, и для девчонок. Ее дело детский сад, начальные классы, женщина легче переводит ребенка от мамы, от семьи к социальной, более жесткой среде. Но потом, когда формируется личность, женщина не в состоянии дать должное. Есть забытая поговорка: мужичий ум говорит — надо, бабий ум говорит — хочу. Они вульгарны, мелочны, склочны, все приземляют, снижают Личности чаще выходят из тех, кто нигде не учился, ни в школе, ни в институте, и не служил в армии. Их не ломали ни там, ни там. Вот как тебя, например.
За это он и любил Алексея Ивановича, поэтому и шел к нему, старик человека в нем видел, и притом не простого. Но сейчас Шибаев пришел со злом, доказать, что ничего он не видел, главного не видел, правды.
— Присылали в школу мужчин, молодых выпускников, — продолжал учитель, — а они не удерживались, сбегали. Вот мы говорим — маленькая зарплата. Это только отчасти верно, а на самом деле в школе создана для мужчины невыносимая обстановка. Кем? Женщинами. Там все бабьё, крикливое, базарное, очень трудно противостоять, остаются из мужчин единицы, приспособленцы. Произошел искусственный отбор, школу захватила женщина, часто без педагогического образования, без дарования — кулинарный техникум за плечами, а она директор школы.
— Зачем ей дарование? — возмутился Шибаев. — Ей надо отчет сдать вовремя, полы покрасить, парты отремонтировать и на сельхозработы всех поголовно отправить. «Все приземляют, снижают». У меня есть приятель юрист, точнее сказать, неприятель, но мы по делу встречаемся, он иногда мне выдает сведения. В соседней республике судили проректора по заочному образованию. Мужчина, между прочим, в педагогическом институте. Что у него конфисковали? Три «Волги», сорок два ковра не развернутых, в трубах, двадцать три сервиза, костюмов семьдесят четыре, шуб из норки и каракуля восемнадцать штук, и в курятнике семьсот тысяч рублей спрятано. За что он получил, как вы считаете? За дарование, за вдохновение? Ха-ха!
Вмешалась Вера Ильинична:
— Алексей Иванович не любит таких разговоров.
Шибаев вспылил:
— Но это правда! Я, может, за этим и пришел, чтобы правду сказать. Без цветов, между прочим.
Разве он хочет старику зла? Да ни в коем случае, только добра. Или правда — это зло, как по-ихнему? Пусть они хоть под конец узнают, что их маяки не туда светят, не там поставлены и вообще не горят. Если уж на то пошло, Шибаев с учителем похожи своей судьбой, как две капли воды. Один учил-учил и все без толку, а другой воровал-воровал, а в кармане пусто. Так почему должен тужить-горевать только Шибер, а не те, которые такую жизнь вокруг него насооружали.
— Я пришел, между прочим, по делу — сказал он. — Вы можете мне дать взаймы сто рублей?
Старики переглянулись.
— Разумеется, — сказала Вера Ильинична.
— Можем и двести. И даже триста! — Бог ты мой, с какой гордостью старик выговорил слово «триста»!
— Мне, Алексей Иванович, не теоретически, а наличными, вот сейчас Алексей Иванович попросил жену сходить к Слуцким, а если у них нет, время позднее, сберкасса закрыта, то пусть зайдет к Рамазану, это соседи, на одной площадке.
Вера Ильинична накинула платок на голову и вышла, беспокойно поглядывая на мужчин. Ей не нравилась их беседа.
— Вы гордитесь, Алексей Иванович, триста рублей мне можете выложить. Это хорошо. У меня было на днях триста тысяч. Моих собственных. Зарытых в землю в банках. Честным путем столько не заработаешь, правильно? У меня на комбинате все воруют.
— Как тебя понять, директор тоже? — с такой милой, идиотской прямо-таки улыбочкой спросил Алексей Иванович, он даже слово «воровать» не захотел повторить, полагая, Шибаев шутит, но не очень изящно.
— Директор, Алексей Иванович, — главный вор. Только прошу вас не улыбаться. Не нравится вам слово «вор», заменим его на «расхититель социалистической собственности». Много ли я похитил? Предположительно, около миллиона, если в рублях. И поделил между сообщниками, они меня вынудили. Они же посадили меня на нуль, я вынужден обращаться к вам. Вы спросите, почему меня не схватили за руку, я вам отвечу — у меня на содержании, на денежки рабочего класса, находятся юристы-консультанты, сотрудники ОБХСС, начальник управления местной промышленности, кое-что я подбрасываю должностным людям повыше. Со мной вместе химичит начальник кафедры уголовного процесса, вы его могли по телевизору видеть, он проректор Народного университета права.
Алексей Иванович морщился, брови вскидывал, губами шевелил и то одним боком повернется к Шибаеву, то другим, все мостится, мостится, как старая курица. Он не верил ни одному его слову. Зачем Шибаев лжет, зачем так грубо, бестактно он его разыгрывает, — чтобы оживить беседу?
Гадости так и пёрли из Шибаева, так и лезли, он мстил беспомощному, скромному человеку, битому жизнью, судьбой и все равно живущему и все терпящему. Пришла Вера Ильинична, сильно обеспокоенная, она спешила. Положила на стол двести рублей, сказав — минуточку, — открыла шифоньер, порылась и принесла еще сто рублей. Шибаев взял деньги, положил в карман. Будем считать, они с ним расплатились за неверное воспитание.
— Спасибо вам за всё. — И еще повторил четко: — За всё спасибо.
Он ушел. Они молча смотрели друг на друга и не могли говорить. По разным причинам. Алексей Иванович переживал услышанное, а Вера Ильинична переживала увиденное — муж у нее на глаза сник, осунулся, его потрясла бестактность, грубость Романа. Сейчас ей казалось, она всегда опасалась вот такого финала, когда-нибудь он себе позволит. Сколько волка ни корми, как говорится… Они вместе стали убирать посуду со стола, ложки, сахарницу. Алексей Иванович уронил чашку, она разбилась. Он пробормотал машинально «на счастье», присел подбирать осколки, у него закружилась голова, и он боком опустился на пол, как мягкая вещь. Вера Ильинична медленно его подняла, проводила к дивану.
— Может быть, выйдем минут на десять подышать свежим воздухом? — спросила она. Он согласился, он всегда с ней соглашался. Они оделись не спеша, чтобы не вспотеть. Он взял ключи, долго не мог попасть в замочную скважину, рука дрожала, ключ мелко цокал, наконец он сказал:
— Знаешь, Веруня, лучше я полежу, что-то не по себе, — отдал ей ключ и, не раздеваясь, мелкими шагами пошел к дивану прямо в пальто и в шапке, торопясь добраться. Она помогла ему снять пальто, подняла подушку повыше.
— Какая-то у нас трава была, кажется, пустырник. Веруня.
Она прошла на кухню, зажгла газ, поставила маленькую кастрюльку, чтобы быстрее вскипело, заварить ему пустырник. Он дремал, закрыв веки, он сильно устал — от этого разговора, от этой встречи, черты его лица заострились. Она испуганно сказала:
— Может быть, врача вызвать?
— Так уже поздно, Веруня, зачем людей беспокоить? — Он мягко взял ее за руку, пальцы его были холодные.
Мысленно он возражал ушедшему человеку, навсегда ушедшему. А она сразу про него забыла. Забота о муже вытеснила все постороннее.
— Может быть, вызовем «скорую»?
— Зачем, Веруня. Мы столько прожили без «скорой», не будем ломать традицию. — Однако говорил он слабо, он просто устал, ему хотелось вздремнуть. Городские жители, а ни разу не вызывали «скорую», почему? Такое у них здоровье могучее? Нет, просто такой дух, такое у них достоинство. Кого-то беспокоить, кого-то звать к своей персоне — нескромно, по меньшей мере. Не было «скорой» сто лет назад, и двести не было, однако же, человечество выжило.
— Веруня, ты не волнуйся, пойдем завтра в сберкассу и снимем эти деньги, расплатимся. — Когда он волновался, он утешал не себя, а жену, зная, что ее беспокоит то же самое. Он вполне может справиться с недомоганием, с ним уже бывало так, помнишь, месяц назад, и даже в молодости бывало. Полежит-полежит — и проходит, незачем кого-то тревожить. И сейчас полежит-полежит и встанет. И не беда, что когда-нибудь он полежит-полежит да больше не встанет — естественно. Если он умрет сегодня, так не от слабости, а от силы веры своей — лучше истребить себя, чем терпеть зло дальше. Человек устроен так, как сказал Достоевский: без твердого представления, зачем ему жить, человек скорее истребит себя, чем останется на земле, даже если кругом его будут хлебы.
Вера Ильинична щупала его пульс и не могла нащупать.
— Ты же не врач, Веруня.
Она слышала его голос и на минуту успокаивалась.
— Я схожу к Слуцким, Илья Израилевич нам не откажет.
— Подождем, Веруня, сейчас программа «Время» идет, он обязательно ее смотрит…
Напрасно Шибаев боялся тех, кого не купишь ни за сто, ни за тысячу, их, оказывается, можно взять без всяких материальных затрат — голой правдой. Их не купишь, потому что они верят, а верят, потому что не знают, но как только узнают, тут-то им и конец.
Глава тридцать седьмая Немецкое рождество
Одноглазый Карманников спросил, сколько ему выписать командировочных, билет авиа стоит шестнадцать, туда и обратно тридцать два, за три дня суточных и за гостиницу — пятьдесят рублей хватит?
Дома никого не было. Он достал обрез, который приготовил в Астрахань, мстить за Славика, все-таки пригодился, взял патроны, завернул все в одеяло и — в чемодан.
Он прилетел в Алма-Ату, взял по брони Рахимова билет на рейс 502 и улетел в Москву в тот же день, двадцать четвертого декабря.
Перед посадкой в аэропорту он обратил внимание, как в сторонке у стены стояли трое — мужчина лет тридцати пяти, похожий на Шевчика, и два сбоку в погонах. Шибаев сразу понял, конвой сопровождает заключенного. У одного конвоира в руках тощий портфель с документами, а второй стоит плечом к плечу с этапируемым и руки их соединены наручниками. Возможно, погорели отраслевые шишкари в Москве и везли бедолагу на очную ставку давать показания. Он стоял без шапки, аккуратно причесанный, франтоватый, ничем не похожий на зэка, в дубленке, в белой чистой водолазке, в мохеровом шарфе, в хороших джинсах, в добротных меховых ботинках. Стоял он осанисто, будто знал, что на него смотрят. Шибаев действительно его разглядывал, но кроме Шибаева — он проверил — никто больше не замечал этой троицы, стоят люди, ждут посадку, ну и пусть себе стоят. Так и лезло на язык сболтнуть: зачем ждать посадку, если уже сидишь? Все трое молчали. Шибаев не спеша прошел мимо, посмотрел, обратно повернул, прошел, посмотрел. Наручники не видны при беглом взгляде, и все-таки Шибаев заметил…
В самолете, уже после взлета, когда расстегнули ремни, он спросил у соседа:
— Обратили внимание, в наручниках одного вели?
— Нет, что-то не видел.
Шибаев не стал приставать. Посидел-посидел, сходил в туалет, подошел к бортпроводнику.
— Вы обратили внимание, тут в наручниках одного везут? Бортпроводник, занятый своими судками, ответил, что нет, не обратил. Да какого чёрта, ему что, померещилось?!
— Что я, слепой? — возмущенно сказал он.
— Бывает, сопровождают, — спокойно объяснил бортпроводник в белой рубашке в черном галстуке. — А что вы хотели?
— Их трое и с пистолетом, повернут твой рейс в страну Лимонию, будешь знать.
Ему забронировали номер в «России», девять рублей двадцать копеек, две кровати на одного. Он не знал, сколько здесь проживет, заплатил за два дня. Взял квиток у дежурной, получил ключ с тяжелой балбешкой, открыл номер, снял шапку, поставил чемодан в нишу у входа, повесил дубленку на плечики, сел возле стола, и нечаянно оказался перед зеркалом, как бы вдвоем с кем-то. Можно поговорить.
Зачем прилетел, давай определимся. Допустим, повидаться. Просто повидаться, скажем так. В Каратасе он хотел взять у нее деньги, чтобы отдать Башлыку, а здесь, в Москве, вдруг понял, не нужны ему деньги, просто прилетел повидаться. Присмотреться и убедиться, что обрез он привез для дела, подбить итог и поставить точку. Если бы она любила его, то бросила бы эти трухлявые хоромы в Измайлове и вернулась бы к нему в Каратас.
Но это смешно, зачем ей возвращаться, прятаться там и дрожать, налетит вот-вот Зинаида или подошлет кого-нибудь, сыновья уже подросли, могут и окна побить, и встретить в темном подъезде. А здесь она спокойна, ничто не возвратит ее в Каратас. И никто. Ирма здесь прописана, она москвичка, у нее тут все права, даже на собственную могилу. Очень любопытно, кто за ее гробом пойдет. На днях.
Сначала повидаться ему нужно, а потом… Сейчас он не в состоянии думать, строить планы. Он горы свернет, но прежде надо ее увидеть. Пристрелить и подвести черту. Или жить с нею вместе. А пока он залит бедой, как водой, утонул, ни рукой, ни ногой, перестал он владеть собой, и склонился перед судьбой…
Конец декабря, пять часов, и уже темно, везде электричество. Она должна скоро прийти с работы.
В шесть часов он вышел из гостиницы, много машин, иностранные лобастые автобусы, туристы будто ряженые, много света, легкий туман, красиво. На стоянке такси было семь человек, он подождал, подошла его очередь, сел — в Измайловский парк. Поехали. Молчал, покачиваясь, не смотрел на дорогу, ни о чем не думал и вдруг спросил:
— Канистра с бензином есть?
— А что?
— «А что-о», — передразнил таксиста Шибаев, мгновенно раздражаясь. Идиотская манера отвечать вопросом. — Мне нужна канистра с бензином, товарищ просил завезти, а у меня времени нет идти в хозяйственный, толкаться там. — Посмотрел на водителя — типичный московский рысак, пухлогубый, наглый, помесь холуя с прокурором. — Я дам тебе два червонца, а ты избавь меня от хлопот.
— Найдем.
— Едем на волков в Костромскую область.
— «Идет охота на волков, идет ах-хота!» — пропел таксист. Чемодан с обрезом он оставил в номере, ах-хота потом будет, прежде надо злости набраться. А пока волны, то любовь накатывала — совсем недавно ведь они с ней вместе были, по Москве ходили, целовались-миловались, мечты-планы строили… И тут же злость — в чем он перед ней виноват? Почему скрылась? Осыпал деньгами, золотом, все выполнял, квартиру ей достал в Каратасе, в Москву перевел, и не по своей вине на мели оказался — сам оказался, но ее на мель не посадил, обеспечил ей непотопляемость до конца дней. А спасибо не скажет. Да и не за спасибо старался… Ничего ему не понятно, кого казнить, кого миловать, кому руку целовать, кому в рожу плевать. Если снюхалась с Тыщенкой, а в этом можно не сомневаться, так имейте, сволочи, совесть, давайте ему копеечку на прожиток. «Подайте копе-ечку погорелому челове-еку». Заглушка сорвалась, и он рассмеялся громко и зычно, напутал шофера, тот сказал: предупреждай, дядя, заикой сделаешь. Шибаев насупился и молчал всю дорогу. Доехали до метро Измайловская, повернули направо, остановились за квартал от дома, он отдал тридцать рублей за канистру и за проезд и пошел с грузом не спеша, канистра увесистая, полная, послушал, уехал ли таксист за спиной или мешкает? Уехал. Темнота и глушь, старые деревья в снегу, тишина. Рождественская картина. Он шел, глядя под ноги, снежок поскрипывал, шел и гадал — будет ли свет в доме, не хотел поднимать взгляд заранее, боясь отчаяться.
Так и есть, света не было и дом как будто не жилой, от калитки не тропа, а ложбинка, занесенная снегом, по меньшей мере, неделю здесь никого не было. Куда же она могла подеваться? Мельник знает или не знает? Тыщенко, если задумает, так все обставит, ни одна душа знать не будет. Старый волк знает толк.
Ну, что же, у них свой план, у Шибаева свой. Он не любит, когда за его добро его же и под ребро. Подошел к забору, а забор повыше головы, перевалил канистру на ту сторону, там, наверное, должен быть сугроб — и не ошибся, канистра бухнула почти неслышно, ушла, должно быть, в мягкий снег, и ее не видно, если даже в доме кто-то спрячется и начнет зырить в щелку. Вдобавок легкий падает снежок, скоро припорошит и ничего даже и вблизи не заметишь.
Полдела сделано. Остальное чуть позже. Главное — он знает, как дальше жить. Седьмой час, а в доме у нее пусто. Раньше хоть домработница отвечала на его звонки, а теперь, последние десять дней, гробовое молчание. Ни ответа, ни привета. Кроме телеграммы какого-то академика Енгибарова. Фантастика, Славик, фантастика.
Пришелся до метро по свежему воздуху, приободрился. Маячила мысль, тенью сопровождала его в виде знака скрюченного, вопросительного — а может, переиграть? Он резко оборачивался, стиснув зубы — и тень пропадала.
Доехал до площади Революции, а там пешком до «России», вроде бы рядом, но шел довольно долго. В холле он купил зажигалку, роскошный киоск, с ювелирной витриной. Одной зажигалки ему показалось мало — вдруг не сработает, маленькая, французская, за три рубля, он взял еще и советскую, побольше, за девять рублей, проверил, пощелкал — хорошо горит. Заказал чай дежурной, прошел в номер, включил телевизор, но смотреть не стал — пусть дела других мельтешат рядом, он им не подчинен, он от них не зависит. Но не легче от этого, а тяжелей, одиночество и отчаяние, тебя все покинули, только судьба с тобой.
Вечер тянулся медленно, вот уже и программа «Время» кончилась, кино началось, а ему становилось все хуже, все мрачнее. Может быть, она в Каратас улетела на один день к матери? Забыла, что поклялись год назад рождество в Москве встречать? Нет, она не может уехать, здесь дочь в школе учится, а каникулы через неделю. Зазвонил телефон, и он рванулся к трубке — вдруг она? Чай готов, — сказала дежурная, возьмите, пожалуйста. Забыл он про чай, а про нее ни на миг не забывал и даже в аэропорту, сойдя с трапа, и, увидев встречающих, так и ждал, что Ирма вот-вот его окликнет, вот-вот, через шаг-другой, шел и земли под собой не чуял, весь пропитанный ожиданием…
Сколько он ей всего надарил, на какую сумму, не сосчитать. А она подвела дебет-кредит, посчитала, сколько он ей мордобоев учинял, сколько Зинаида ей гадостей делала, — все подсчитала, подвела черту, как профессиональный бухгалтер, и решила, что будем квиты.
В полночь он вышел из номера — наступило рождество, то самое. Спустился вниз, в холле еще был народ, он вышел из гостиницы, непонятно откуда падавший свет освещал маковки церквей, хорошо был виден Кремль, Василий Блаженный. Люди говорили громко и смеялись громко, будто еще не ночь, иностранцы, кажется, поздравляли друг друга с рождеством, навстречу блондинка попалась в мехах и в шапке в сопровождении длинного негра в белых штанах. Такси не было, надо было бы попросить дежурную заказать, придется теперь поискать. Без людей и без огней стояли громоздкие узкие автобусы с буквами «Интурист». На стоянке такси мерзла очередь, много почему-то черных, чем-то их привлекает «Россия» даже в мороз, не сидится в теплом климате. Очередь не двигалась, машин не было. Собственно говоря, спешить ему некуда, ему, чем позднее, тем лучше. Однако ждать он не любит, нетерпение перед делом охватывало его все сильнее. Надо вернуться в гостиницу и попросить дежурную вызвать такси.
Но тут подошел малый шоферского вида с ключами, в куртке с капюшоном, причем сзади подошел к Шибаеву и спросил негромко, куда ему ехать, намереваясь выбить калым, имея на это шансы, поскольку метро вот-вот закроют, и все будут рыскать по улицам в поисках машины.
— Доплачу, не страдай, поехали, — сказал ему Шибаев. — В Измайлово и обратно сюда.
Безденежье краткое, видать, не успело перебить хребет Шибаеву, таксист узнал денежного человека по уверенности, по осанке и подошел именно к нему, у них глаз наметан.
Сели, поехали под звуки приемника с огоньком. Миновали метро Семеновская, вон там, справа, магазин «Богатырь», заходили туда с Ирмой совсем недавно, она купила ему три сорочки. Ехали вдоль трамвайной линии под светлыми фонарями, улица Щербаковская, он помнит, как она ему все поясняла, знакомо ему всё, будто он жил здесь прежде и ездил, и пешком ходил. Нырнули под окружную дорогу и только проехали короткий тоннель, как на дорогу выскочила девушка в черном пальто, стройная, в песцовой шапке, и замахала рукой в белой варежке.
Таксист затормозил, и пока девушка подбежала, за ней возник молодой человек в пальтишке и в шляпе, совсем не по сезону, одной рукой он потирал замерзшее ухо.
— Тактика, — проворчал шофер, — сначала кадру выпустят, а потом сами лезут, видят, что я клюнул. А то еще бабку на костыле выставят, а за ней банда ломится, — вези их в Махачкалу на шашлык.
— Нам на Вторую Парковую, — сказала девушка просительно, видно, что это никакая не банда. Шофер молча кивнул, они открыли заднюю дверцу и, подталкивая друг друга, сели. Пахнуло от песца свежестью, морозцем и чуть-чуть духами. Девушка благодарила — ой, на метро уже поздно, спасибо, товарищ водитель, и вам, товарищ пассажир. Спутник ее только кряхтел и слышно было, как он тёр свои уши, будто они пергаментные, и при этом оправдывался: утром передали плюс два, минус три, а он шапку надевает только минус десять, его старшина в армии приучил.
Шибаев молчал, вот уже скоро поворот направо, и у него смутное ощущение, что он здесь останется, такси ему лучше отпустить. И только он хотел сказать, мне вот сюда, как услышал голос девушки:
— Остановите, пожалуйста. — Она щелкнула сумочкой, доставая деньги. Расплатилась. Вышли, хлопнула дверца.
Шибаев подал водителю десятку — ладно, парень, поезжай, я здесь останусь. Вылез, огляделся — удалялась по пустынной улице эта пара, такси развернулось, опахивая светом фар уснувшие дома, деревья в снегу, сугробы. Какая здесь, в Измайлове, глушь, завалено все снегом и ни огонька кругом, как будто не только Ирма с Тыщенкой отсюда сбежали, но и все жители это место покинули. Забредет сюда пьяный — не пустили в метро, свалится под забором, занесет его снегом, и обнаружат только весной.
Дом Тыщенка был пуст, как и с вечера, да он другого и не ожидал. Попробовал нажать плечом калитку — нет, сделано на совесть, как будто Цыбульский и здесь постарался, ни засова, ни щеколды — внутренний замок.
Подошел к забору в том месте, где спустил канистру в сугроб, огляделся — никого на улице, пусто, тихо. Постоял столбом, себя не ощущая, и полез через забор словно бы по чьей-то команде, довольно легко перемахнул, сам себе удивился. Здесь она, канистра его, на месте, разгреб снежок перчаткой, ему было жарко, он вспотел, сдвинул шапку на затылок, расстегнул дубленку. Поднял канистру из сугроба и пошел к дому. Мертвая тишина стояла, мороза не было, и шаги его были без звука, как будто по вате ступал. С какого ему угла начать, где выгоднее подпалить, чтобы побыстрее занялось? Бензин поможет. Важно, чтобы не сразу заметили. Окна соседнего дома закрывает забор, очень хорошо, увидят уже только зарево. Сначала надо облить все углы, деревянное крылечко и ставни, а там зажигалкой щёлк — ноги в руки и дёру. Пока займется, он перемахнет через забор, не спеша пойдет по этой самой Парковой, а там, что Бог пошлет. Он неуязвим, потому что бесстрашен, даже рука не дрожит, он решил, он выбрал способ, сейчас ему все яснее ясного и не отговаривайте его, бесполезно.
За глухой стеной он нашел метлу, тщательно обмел углы, крылечко, прикидывая на ходу, где и как будет полыхать. Действовал сноровисто, умеючи, будто только и делал, что поджигал дома, красного петуха пускал, видя в этом усладу души и смысл жизни.
Он будет отомщен. Не пожелали подождать его и объяснить, так пусть сгорит ваше гнездо вместе с его тысячами, с его мечтой и надеждой. Очень жаль, что тебя, суки, нет. Зинаида права оказалась. Но я еще доберусь, я не уеду отсюда, пока не разряжу в тебя всю обойму малокалиберки.
В тишине далеко слышалось шарканье метлы, но что тут такого, пришел хозяин и наводит порядок, кому какое дело. Закончил подготовку, взял канистру, откупорил горловину, облил угол, повел тонкую струю по бревну над фундаментом. Ничего ему не надо, только успокоение. Нет у него терпежу жить вот так дальше. Плеснул на угол, поддерживая второй рукой за донышко. Крепкий ядреный запах бензина напомнил дорогу, машину, молодость, когда все было впереди — ехай себе и ехай, кати и кати. Он пошагал к другому углу, поливая струйкой, прикидывая на вес, хватит ли бензина обойти весь дом и еще для крылечка оставить. Сейчас он с одного края чиркнет зажигалкой, и огонь быстро пойдет вкруговую, а Шибаев — обратно через забор. Когда соберется сонный народ в подштанниках, он подойдет в числе прочих зевак, ему интересно. Он еще и разгребать поможет в ожидании пожарных и, может быть, в барахле, разгребая, что-нибудь увидит знакомое из купленного в ювелирных на всех курортах, он еще поторжествует вдосталь. Струйка огня побежит быстренько по темному следу бензина и заполыхает и сгорит все к чертям собачьим! Канистру он поставит на крылечко, пусть и она сгорит, чтобы и следа не осталось. Достал беленькую, удобную по руке зажигалку, только хотел чиркнуть и поднести к бревну, как послышался негромкий и властный голос:
— Хватит, Шибаев, мы уже тут замерзли.
— А в чем дело? — машинально пробормотал он, вскидываясь, и увидел совсем рядом шофера такси, того самого, в куртке с капюшоном, а со стороны крыльца подходил молодой человек в шляпе, которого они подобрали возле Окружной дороги.
— Руки! — сказал этот молодой, и таким тоном, что Шибаев беспрекословно протянул руки, тот защелкнул наручник, но как? Только на правой руке, а второй наручник уже был защелкнут на руке этого парня в шляпе. Сбылась картинка! Теперь он уже точно знает, не было в аэропорту ни конвоя, ни зека, спаренного браслетами, ему померещилось, это был знак.
Пошли обратно к забору по следам Шибаева, не забыли захватить канистру.
— Минутку, ребята. — Он посмотрел на них — серьезные мужики, молодые, но уже натасканные, крепкие профессионалы. — Один вопрос — дом продали? — Он кивнул назад.
— Продали, — ответил шофер. — Академику Енгибарову.
— Чужую хату хотел спалить! — воскликнул Шибаев и громко захохотал: — Ах-ха-ха-ха-ха!
С дерева упал снег, сорока задремавшая испугалась непривычного звука.
— Хорошо смеется тот, кто смеется последним, — сказал человек в шляпе. Такое легкомысленное отношение к серьезной операции его оскорбило.
Возле забора таксист чуть приостановился, проговорил:
— Шибаев Роман Захарович, директор мехового комбината в Каратасе, сорок лет, женат, член партии, ранее судимый — все правильно?
— Вы еще за это ответите. — Каких-то секунд пять-семь Шибаев молчал, изо всех сил удерживая заглушку, но она сорвалась, и он снова захохотал от души, заржал, как жеребец в зимней тишине Измайлова. — Они ответят, они тебе ответят!! — сквозь смех повторял он, ощущая прилив ясности, успокоения, теперь он знает, что дом, его дом, продали, что Тыщенко молодец, не зря ты подозревал и прав был, что теперь никому не нужен.
Первым через забор переметнулся парень в шляпе, и рука его в наручнике дернула кверху руку Шибаева, один оказался по ту сторону забора, а другой по эту, как два мешка в одной связке. Шибаева пришлось подсаживать, ноги его не слушались, таксист крепко поддел его снизу приемом, Шибаев кулем перевалился и увидел такси, совсем недалеко, возле него стояла девушка в песцовой шапке, постукивала носком о каблучок, сапожки тесные, а пасли Шибаева долго, и она замерзла.
— Работа! — сказал ей Шибаев и подмигнул. — Только не вздумай замуж за этого, — он дернул рукой в наручнике. — У него самолюбие. Ладно, поехали, как сказал Гагарин.
Он влез в такси, уселся и громко вздохнул — с баальшим облегчением. Понял, зачем его тянуло сюда, как чудилось ему, так и сбылось, и сразу, будто гора с плеч.
Сорока на сосне перескочила на другое место, ветка дрогнула, и длинная полоса снега прощально упала на землю белым косым платком.
Глава тридцать восьмая Кто смеется последним
Арестовали всех в один день и почти в один час, замели одним веником, как выразился Махнарылов. В пять часов московского времени, когда Шибер сладко кемарил в следственном изоляторе КГБ, давно он, кстати, так безмятежно не спал, в Каратасе арестовали Гришу Голубя и всю прикосновенную милицию — Лупатина, Цоя, Парафидина, арестовали на комбинате Васю Махнарылова, Каролину Вишневецкую, Тасю Пехоту, заведующих складами. Дома взяли Прыгунова, из торговли Тлявлясову, еще кое-кого, а также Зябреву. Девочка ее пришла в тот день в школу без сережек, что поделаешь. Арестовали Калоева и Магомедова, добавили к ним Цыбульского. В Алма-Ате взяли Рахимова, в Москве Мавлянова, ну и, разумеется, Мельника. Не могли найти только Яшу Горобца, ночью Октябрина прогнала его из спальни на кухню за сильный храп, Яша маялся на жестком линолеуме, в шесть часов заиграл гимн, напомнил ему общее построение в зоне, и Яша ушел по-английски с рюкзаком за плечами, как в турпоход.
Об арестах сразу же узнал весь город, и отношение к неожиданности было отнюдь не одинаковым, хотя, казалось бы, двух мнений быть не должно. Те, кто их не знал, и вообще был далеко от этих сфер, были единодушны в оценках — нет места хищникам среди нас, пусть горит земля под ногами жуликов, расхитителей, взяточников. Суд над ними должен быть открытым и беспощадным. В первые дни говорили, что они похитили миллион, через неделю стали говорить что — два миллиона, через месяц — пять миллионов и купили все инстанции от Алма-Аты до Москвы.
Но те, кто их знал, встречался с ними, общался, а то и делился, рассуждали иначе — беда случилась, горе у людей, нельзя так дурно судить-рядить, распускать сплетни, вы не знаете всей правды. Если председатель горсовета берет своей жене шубу и ни копейки не платит, то каким способом возмещать убытки? Или министр, или замминистра, или кураторы, инспекторы, — всех надо ублажить, одарить, а кто должен добывать средства? Так что, давайте не будем плодить сплетни и слухи, а лучше посочувствуем попавшим в беду и вспомним народную мудрость — от тюрьмы да от сумы не отрекайся.
Произвели обыски, как положено, с понятыми, с протоколами, со ссылками на закон. Изымали деньги, сберкнижки, драгоценности, описывали имущество, накладывали арест. У Гриши Голубя помимо ценностей материальных обнаружили кое-какие ценности духовные — «Энциклопедию половой жизни» на 40 страницах, письмо Солженицына съезду писателей и стихи Евтушенко «Наследникам Сталина».
Началось долгое следствие с допросами, очными ставками, экспертизами. Были и чистосердечные признания и упорные запирательства, и самовыгораживание, и сваливание вины на других — мало чем отличалось это дело от других групповых преступлений. Умные вели себя по-умному — от всего отпирались, а честные — по-честному, во всем признавались. Наличие ума никак не связано с совестью человека. И что характерно? Каждый старался найти свою ошибку, промах, точку прокола и жалел, сокрушаясь: «Эх, если бы вот это учли и еще вот это, ни за что бы нас не повязали». Самыми трудными для следствия оказались, прежде всего, лица с юридическим образованием и с практикой работы в милиции — Мельник и Голубь, а также Лупатин, Цой, Парафидин, Дутов. Они упорно, хоть режь их на пятаки, от всего отказывались и в один голос утверждали, что приводимые им факты — наговор, клевета с целью опорочить советскую милицию за то, что она не спускала глаз с расхитителей социалистической собственности. Всю свою профессиональную жизнь они твердили, что чистосердечное признание смягчает вину, облегчает участь подсудимого, а также помогает следствию, но говорили они одно, а знали другое — замордованные обилием дел следователи просто не имеют возможности искать криминал, добывать факты, улики и пишут обвинительное заключение со слов подследственного.
Гриша Голубь и в тюрьме делал зарядку утром и вечером, на прогулке приседал и подпрыгивал, смотрели на него сочувственно и решили, в конце концов, что именно зарядка сильно сократила ему дорогу на самый верх. А Грише нужна была бодрость для завершения докторской диссертации, он обращался по инстанциям, и ему в камеру передали все нужные материалы.
Поначалу на первых допросах все называли руководящих товарищей, перечисляли, по чьей просьбе было отпущено то-то и то-то, «меня попросили, меня обязали», назывались фамилии из исполкома, из горкома, из главка, из министерства, как правило, все упоминали милицию, — но только на первых допросах. А затем сразу же во всех протоколах фамилии уважаемых должностных лиц исчезли как по мановению волшебной палочки. Подследственные были разными, но стали говорить одну и ту же фразу: «Назвать этих лиц я отказываюсь», а почему и отчего, тут и дураку ясно, как сказал бы Вася Махнарылов.
Сам Вася в первый день решил, что взяли его понарошке, подержат пару дней для близиру и выпустят, поскольку у него была явка с повинной. Он честно рассказал все как есть и сильно помог следствию. Но прошел месяц, Васю держат, и второй прошел, и вот уже шесть месяцев, а Вася чалится наравне со всеми и видит, мотают ему совсем не как свидетелю и даже не как простому исполнителю, но почти что как главному вдохновителю и организатору, и, если не высшая мера ему карячится, то лет пятнадцать наверняка, а они ему уши трут про смягчение участи. Вася резко слинял и настолько сразу поумнел, что дал фору всем юристам, отказался начисто от своих прежних показаний и заявил, что они добыты недозволенными приемами, и тут уж с ним ничего нельзя было поделать. Вася пёр исключительно на руководство, на милицию, расписал в подробностях, как приезжали все они к нему в цех и внедряли ему в мозги железную формулу бериевских времен: не умеешь — научим, а не хочешь — заставим, Вася требовал разыскать Башлыка, фамилия его неизвестна, но если следствие наше честное, оно все узнает. Никакие внушения, уговоры Васю теперь не могли остудить, он упорно и ожесточенно требовал наказать всех вождей жизни вплоть до Москвы.
Но Башлыка не арестовали, не посмели, слишком он высоко поднялся — можно было бы так подумать. Можно да незачем, мертвых везут в морг, а не в следственный изолятор. Сначала стало известно, что он скоропостижно скончался, а потом — что покончил с собой. Шибаев не верил и считал, что ему помогли, дали возможность умереть незапятнанным, с почетом похоронили и на очередной сессии почтили память вставанием. Вот такое у него состоялось повышение — аж на тот свет.
Милицию судили закрытым судом. «Принимая во внимание, что действия Лупатина, Цоя, Парафидина и других по сокрытию деятельности преступной группы, связанные с оперативно-розыскной работой органов МВД, которые являются секретными и составляют служебную тайну, что эти сведения содержатся в материалах уголовного дела и не подлежат разглашению, а также учитывая, что выделение дела по обвинению Лупатина, Цоя, Парафидина и других в отдельное производство не повлияет на полноту, всесторонность, объективность расследования, руководствуясь статьей 98 УПК КазССР необходимо уголовное дело выделить в отдельное производство».
Все они держались исключительно спаянно, от всего отказывались упорно и до последнего дыхания строили из себя честных, партийных, принципиальных. Один только Игнатий Цой позволил себе на суде разговорчики. Он напомнил присутствующим, что у нас лучшие в мире производительные силы и производственные отношения, они не изменились за последние годы, они так и остались лучшими в мире, но все мы прогнили снизу доверху и сверху донизу и долго не протянем, если не изменим доктрину общественного развития, всю систему экономических и социально-политических взглядов. Переход от капитализма к социализму и далее к коммунизму не является неизбежностью — возьмите Японию. Неизбежным является только загнивание при отсутствии руководящей идеи. Майор Лупатин (бывший майор) до того был разгневан, что потребовал от прокурора дать Цою за такие речи высшую меру. Однако к его мнению не прислушались и дали всем одинаково — по пятнадцать лет, но что любопытно. Эти суждения Цоя выносили из зала суда, передавали друзьям и знакомым, качали головой, поднимали указательный палец — и ничего, никто не пострадал. Научно-технический прогресс не зависит от политического строя, говорил Цой, возьмите Японию. Все дело в воспитании национального достоинства, в чувстве родины, которая должна быть у каждой нации.
А что Шибаев? Зинаида все долгие месяцы следствия носила ему передачи и наняла ему хорошего адвоката. Саму ее не стали судить, хотя в ее действиях имелся состав преступления, предусмотренный статьями Уголовного кодекса с мерой наказания до пяти лет лишения свободы. Но ввиду того, что она имеет несовершеннолетнюю дочь, а также по Указу об амнистии в связи с Международным годом женщин уголовное дело в отношении Шибаевой Зинаиды решили не возбуждать, арест, наложенный на принадлежащее ей имущество, дом и прочее, отменить. Дочь ее, Надя, уже своими ножками пришла на суд — следствие длилось полтора года.
Адвокат дал Шибаеву совет — делать упор на статью 14 Уголовного кодекса, которая говорит, что действия, совершенные в состоянии крайней необходимости для устранения опасности, угрожающей интересам государства, общества и правам личности, не являются преступлением. Короче говоря, надо на суде такую развести химеру, будто Шибаева силодером заставили всем платить и самому брать, иначе бы меховой комбинат как государственное предприятие, прекратил бы свое существование. Шибаев расхохотался наглости адвоката, все они хамьё вроде Гриши Голубя, не станет он мараться с такой туфтой, никто ему не поверит. Но потом, после очных ставок и ознакомления с показаниями других, когда он увидел, как мелькает его фамилия — «Шибаев приказал, директор заставил, Шибаев отругал», он понял, что все только и заняты раскидыванием черноты и катят бочку исключительно на него. Тогда он вдумался в статью 14-ю и убедился, что она прямо-таки для него писана, сразу вспомнились ему бесконечные комиссии, ревизии, анонимки, проверки, и как задержали машину с лисой по дороге в Целиноград, и как Лупатин требовал от него уплатить с начала года. Шибаев просил суд признать в его действиях крайнюю необходимость, доказывал, что причиненный вред является менее значительным, чем вред предотвращенный. Не дураки, оказывается, составляли кодекс, толковую придумали формулировку, и адвокат голова, Шибаев даже не знал о существовании такой статьи. Однако судья заявил, что статья о крайней необходимости в хозяйственных делах не применяется, это во-первых, а во-вторых, Шибаев ничем и никак не сможет доказать наличие крайней необходимости, поскольку он не ходатайствовал перед вышестоящими инстанциями о спасении своего предприятия, не сигнализировал об угрозах, не сообщал ничего в правоохранительные органы. Тем не менее, Шибаев считал себя жертвой доказывал, что без него комбинат растащили бы в три дня.
В газете «Вперед» Косовский давал репортажи из зала суда по общим заголовком «Пушные звери в городе Каратасе». Он рвался подробно осветить деятельность милиции, а заодно и вытрезвителя, но ему не дали, мало того, пригрозили статьей за распространение порочащих слухов. Не попали в газетные репортажи и рассуждения Игнатия Цоя, не попали и некоторые афоризмы Шибаева, которые передавались из уст в уста: «На гнилом Западе деньги — это власть, а у нас наоборот, власть — это деньги. Взамен культа личности утвердили культ наличности».
Судебному заседанию был представлен солидный том в 425 страниц — диссертация Голубя Григория Карловича на соискание ученой степени доктора юридических наук под названием «Борьба с хозяйственными хищениями». Как и следовало ожидать, Голубь оказался очень крепким орешком как для следствия, так и для суда, он замечал малейшую оплошность, неверную формулировку, уточнял статьи обвинительного заключения, мимоходом обучал юриспруденции участников судебного заседания, и отличным голосом лектора и с артистизмом адвоката уверенно отводил от себя обвинения в использовании своего служебного положения.
— Я представляю всего лишь частное лицо, — раскатисто, как по радио, говорил Голубь, — на которое рассчитывали, что в связи с юридической квалификацией и широкими знакомствами оно может оказать помощь в благополучном разрешении криминальных случаев. Я не принимал физического участия в преступных операциях, связанных с приобретением сырья, с реализацией левого товара, изъятием денег и другими сделками, отражающими содержание преступления. В соответствии со статьей сто сорок шестой Уголовного кодекса Казахской ССР субъектом получения взятки может быть только то должностное лицо, которое могло или должно было совершить требуемое деяние в интересах взяткодателя только с использованием своего служебного положения. В данном случае я, как начальник кафедры, должен был прежде всего обладать правом либо лично выполнить требуемую услугу, либо в силу занимаемого положения административно создать воздействие на других лиц в интересах взяткодателя…
Любопытно, что в те дни, когда Голубь делал свои пространные заявления, в зале было полно интеллигенции, будто их собирали особыми повестками, и после каждой удачной реплики Голубя слышались одобрительные возгласы, а после Гришиных концовок речи раздавался гул — да он же абсолютно прав от альфы до омеги, ему необходимо переквалифицировать статью, когда мы уже избавимся от беззакония и наследия культа личности. Так судили интеллигенты. А народ попроще и судил проще — дать ему надо на всю катушку. Если расхититель и взяточник столько лет обучал милицию, то сколько нам теперь ждать, когда она переучится, доживем ли?
На суде кроме государственного обвинителя был еще и общественный обвинитель, молодой человек с металлургического комбината. Выступал он в такой роли впервые, видно было, старательно готовился, говорил он смело — это хорошо, но плохо, что говорил искренне, слишком был взволнован, возмущен и недоумевал, опрометчиво задавал вопросы: так в чем же дело, и — о чем это говорит?
— Когда дела наши становились все хуже, — говорил общественный обвинитель, — эти люди обогащались все больше, гигантски возросли вклады в сберегательных кассах, о чем это говорит? Они слепо переняли все самое отвратительное, что есть на буржуазном Западе. Карикатура на человека стала примером для подражания. Разве не велась с ними воспитательная работа? Велась постоянно и неуклонно, мало того, они сами ее вели в полном соответствии с нашей программой, так в чем же дело? Вместо ненависти к наживе они насаждали зависть к наживе, они не только сами встали на чуждый нам путь развития, но пытались потянуть за собой всю страну, особенно это проявилось кое-где в национальных республиках…
Перед вынесением приговора Гриша Голубь увидел сон — где-то в подвале или в бункере без окон, без дверей стояли перед ним пятеро в разной одежде — прокурор в форме советника юстиции, начальник тюрьмы в форме офицера внутренних дел, врач в белом халате и два представителя общественности — от профсоюза и из комсомола, при галстуках и в белых воротничках. Но это еще не все, сам Гриша был одет краше всех, — в полосатой робе, в полосатом берете и почему-то в новых галошах. Послышался голос, читающий нечто вроде ответа на апелляцию со словами «оставление в силе». Затем наступила полная тишина, и Грише почудилось легкое дуновение у виска, будто в детстве, еще до войны мама открыла форточку, чтобы показать Грише, как идут дети на Первомайскую демонстрацию, такое же легкое дуновение возле виска он ощутил сейчас, затем последовал легкий щелчок. Гриша проснулся и подумал: хорошо, что нет сейчас мамы. После расстрела тело казненного, проще говоря труп, не выдают родственникам для погребения, только сообщают, что приговор приведен в исполнение. А закапывают неизвестно где.
Сон его сбылся в нужные сроки, по вступлении приговора в законную силу. Такая же участь постигла и Мишу Мельника, но какие он видел сны перед казнью, осталось неизвестным.
И получилось, что Шибаев добился, чего хотел, кому обещал, все выполнил, снял погоны с Голубя и пересажал всех, кому сгоряча грозил, — а сам?
А сам хохотал. Натурально, без всякой игры, без подделки. Смеясь, человек расстается со своим прошлым, говорят философы, и правильно говорят, именно так расставался с прошлым Шибаев. А началось в зале суда, в момент, когда оглашали приговор. Читали его, кстати, два дня, председательствующий даже охрип, читая, как-никак триста страниц без малого, и, пока перечислялись эпизоды и назывались суммы, уже известные, пока оглашались части вводная и описательная, в зале стоял легкий гул, переговаривались, зевали, кашляли, народу было полно, одних свидетелей около четырехсот, но вот председательствующий отпил чаю, прочистил голос перед чтением резолютивной части, и в зале наступила мертвая тишина.
— На основании изложенного и руководствуясь статьями двести восемьдесят семь, двести девяносто восемь, триста один Уголовно-процессуального кодекса, судебная коллегия по уголовным делам приговорила: Шибаева Романа Захаровича по статье семьдесят шестой Уголовного кодекса к исключительной мере наказания, смертной казни — расстрелу с конфискацией лично принадлежащего ему… — и дальше никто в зале не услышал ни слова, голос судьи покрыл вопль, вскрик самого Шибаева:
— Меня поставили за паровоз! — и громкий хохот, — за паро-во-о-оз-ха-ха-ха!
Чтение приговора было прервано, людьми впечатлительными овладела жуть. Никакой артистизм, тренировка, натаска не позволили бы так хохотать злорадно и ненавистно, зычно и громко, так, что по спине бежали мурашки. Заседательница с трикотажной фабрики, бледная, как стенка, схватилась руками за голову с обеих сторон и закрыла глаза, и длилось это неизвестно сколько, как потом рассказывали очевидцы, будто бы целый час хохотал Шибаев, как Мефистофель, пока конвой не вывел его из зала и не закрыл двери. Но даже и через закрытую дверь довольно долго слышался его удаляющийся хохот, будто им пропитались стены.
Каролине дали двенадцать лет, Тлявлясовой десять, по восемь отвалили Зябревой и Цыбульскому, по десять Калоеву и Магомедову, за-вскладами тоже получили свое, не избежал печальной участи и Вася Махнарылов. Явка с повинной облегчила его судьбу, но не настолько, чтобы выйти из воды сухим. Дали ему восемь лет общего режима, хотя деяния его вполне тянули лет на двенадцать строгого. «Сколько я ни старался, сколько я ни стремился, я всегда попадался, и всё время садился» — про Васю песня. Дольше всех гулял на свободе Яша Горобец, из Каратаса он рванул аж на Иссык-Куль и там прижился до поры у дружка по заключению в курортном месте Чолпон-Ата. Неподалеку на склонах гор произрастал опийный мак, и деловой Яша занялся тайным бизнесом. Про суд в Каратасе он ничего не знал, может быть, поэтому выводов для себя не сделал, позволил с новыми подельниками некоторый охмурёж, купил себе машину, но далеко не уехал, вскоре его нашли мертвым на дороге во Фрунзе.
А жизнь шла своим чередом. Вера Ильинична пережила своего мужа на один месяц и три дня. В тот вечер, когда ушел от них Шибаев, пока шла по телевидению программа «Время», кончилось отмеренное учителю время жизни. Вера Ильинична сняла все деньги в сберкассе, отдала долги
и попросила школу купить гроб и заказать катафалк. На похоронах было много народу, говорили даже, что не помнят, кого бы хоронили при таком многолюдье молодых и старых. Вера Ильинична отметила девять дней и вскоре слегла, не захотела жить дальше, умерла — и всё. Что-то есть у людей от лебедей, не изучено пока, не является предметом науки.
А Шибаев ничего не знал, хохотал себе. Зинаида от мужа не отказалась, в психбольницу приносила ему передачу и ухаживала за ним по разрешению. Ей жалко было Шибаева, ей хотелось, чтобы он выздоровел, она бы нашла ему докторов хоть в Москве, хоть в Ленинграде, но… зачем его лечить, чтобы расстреляли? Он спрашивал про сыновей в светлый промежуток, а дочь Надю сам видел и очень к ней привязался.
Осужденных этапами развезли по разным колониям, кого куда — в простой режим, в усиленный, кого в Сибирь, кого в Среднюю Азию. Писали они жалобы, апелляции, просьбы о помиловании, один Шибер ничего не писал, смеялся. Он бы рад был, наверное, посерьезнеть, но как вспомнит про Гришу с Мишей, так его раздирает — мало им было всего, хапали-хапали, пока не дохапались до заветных девяти граммов. И Шибер хохотал пуще прежнего, будто сознавал, что, если перестать, то тут же и полетишь вдогонку за компаньонами.
Из судебного отделения Каратасской психбольницы его со временем перевели в больницу для хроников под Алма-Атой, в Талгаре, где, как известно, шизофреники вяжут веники. Зинаида и здесь его не оставила, приезжала почти каждый месяц, ее все знали и уважали по понятной причине.
Смех смехом, но новости до Шибаева доходили. Он узнал, что Ирма со стариком Тыщенко выехали в ФРГ на соединение с родственниками — и ничего, никаких ревностей у Шибаева, только очередной каскад хохота. Он часто говорил бессмыслицу, но иногда отдельно, после молчания, он произносил четкую, рубленую фразу, полную смысла, врачи только головой качали. «Женщина — единица, а деньги — к ней нули». «За куму залез в тюрьму». Иногда молился чьими-то чужими словами: «Отзовись, моя отчизна, отзови-и-ись…»
Он будто олицетворял собой неотвратимость наказания. Оно не связано напрямую, как обычно думают, с органами правопорядка — нет, у неотвратимости причины более глубокие, они в корневой системе народной жизни, в устоях тысячелетних. Пусть бы они еще кого-то вовлекли, кого-то купили, пусть еще и еще протянули с год, все равно бы конец пришел от самих себя, от стихии самопожирания, поток жизни все равно бы их разбил на брызги, на пену…
Однажды в короткое просветление он узнал, что история с хлопком, о которой говорил ему давно Башлык, дошла будто бы до Москвы и вызвали туда руководство соседней республики, поставили на ковер, выслушали внимательно, обсудили досконально, после чего поступило предложение пожурить узбекского руководителя за нелады с хлопком, указать соратнику, чтобы перестали там у них взятки давать и всякой такой ерундой заниматься, — указать всего лишь, и все поддержали: правильно, у нас же не сталинские времена. Нормальные люди, они и рассуждают нормально, здраво, логично, но на Шибаева это так подействовало, что он перестал смеяться. И начал плакать.
К тому времени Зинаида продала дом в Каратаев и переехала в Талгар вместе с дочерью Надей на постоянное жительство. Туда же приезжал однажды Валерка из Норильска с молодой женой и как раз угодил на светлый период, рассказал отцу, где он работает и кем. А Шибаев несколько раз спрашивал про Славика, почему не хочет он отца навестить, неужели всё книжки читает?
Никто ему не мог сказать правды, что Славика нет на свете. Еще в те дни, когда началось следствие, в Каратасе стало известно, что жена директора комбината добровольно сдала огромную сумму то ли сто тысяч, то ли двести, то ли даже миллион. Добровольно или по принуждению, не в том дело, — никто не хотел верить, что сдала она абсолютно все, подчистую, и ничего себе не оставила. Очень скоро к Славику подвалила компания анашистов, дала ему покурить и раз, и другой, и третий, решив сделать из него ДК — дойную корову, и у них получилось. Славик быстро втянулся, начал брать деньги у матери, выпрашивал под разным предлогом, потом начал воровать, потом вымогать и даже угрожать. Но ведь у Зинаиды характер, и дело дошло до того, что однажды утром, нуждаясь в наркотике, Славик бросился на мать с утюгом, но был уже до того слабый, что она связала его шнуром от этого утюга и вызвала бригаду из психбольницы. Славика хорошо подлечили, он слово дал не курить, не пить, пришел домой ясный, светлый, хотел дальше пойти учиться, но через пару дней наведались к нему снова дружки с анашой, Славик покурил, покайфовал и повесился.
Да что Славик, что Славик, сын темных, необразованных. Приезжал в Талгар проводить осмотры профессор психиатрии, старый, седой, с бородой, весь мир объездил, и всё знал, а свою науку тем более, и про алкоголизм, и про наркоманию, и причины знал, и меры предупреждения знал, и все методы лечения знал. А сын его единственный был наркоманом, лечили его, лечили и все бесполезно, он одно твердил — жить скучно. Приехал однажды профессор в Талгар и до того был горем убит, что не выдержал, поделился с Шибаевым, и тот ему сказал фразу, одну, над которой профессор и поныне думает, помнит, забыть не может, хотя нет в ней ничего особенного, вот она — жить скучно, потому что умирать не за что.
Июнь 1986—сентябрь 1987


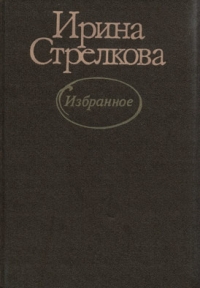
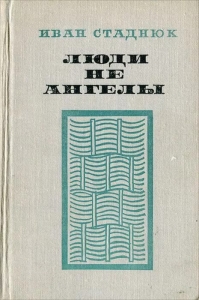
Комментарии к книге «Должностные лица», Иван Павлович Щеголихин
Всего 0 комментариев