Василь Быков Пасхальное яичко
Фамилия его была Выползков, но в этой большой, растянувшейся вдоль дороги белорусской деревне, где он обосновался после войны, его называли Выползком. Тем более что обычно он откликался и на это прозвище, хотя и делал это не без раздражения, а то и с криком, нередко сдобренным злым матом. Но людям было безразлично, как он откликался — за войну люди привыкли к мату и крику — своих, полицаев, немцев и партизан тоже. Привыкли люди, привыкла скотина, особенно лошади. Иная не тронется с места, пока ее не обложат матюгом, в котором одинаково преуспели старые и молодые, мужики и бабы. Не говоря уже о начальстве.
В то утро Выползок так же привычно, хотя и негромко, про себя выругался, поняв, что проспал. Вечером, укладываясь на ночь, намеревался проснуться пораньше, но вот не пришлось. Сбросив замызганный солдатский ватник, сел на скамье, прислушался к утренней тишине в хате. Ганка за шкафом еще спала с малыми девочками, а он ловко, одной рукой накинул на себя ватник и вышел на еще по-весеннему голый, не успевший зарасти бурьяном двор. Как всегда, с самого утра наваливались колхозные заботы, к которым сегодня прибавилась еще и Пасха. Вчера поздно вечером из района прискакал нарочный с только что принятым решением райкома — празднования не допустить, организовать ударную вывозку навоза. Собственно, организовывать вывозку должен был бригадир, но вчера бригадира он нигде не нашел, придется искать сегодня. К тому же бригадир не умел командовать бабами, которые в основном и составляли его бригаду. У председателя Выползка опыта относительно баб побольше было — еще с довоенного времени, когда он организовывал колхозы, да и потом в партизанах, где баб также было немало. Впрочем, всякое случалось и с мужиками и с бабами, даже не сказать, с кем легче было.
Вот и теперь — дождались Пасхи и спят. Словно после всенощной. Хотя ни обедни, ни всенощной здесь давно не было. От церкви в соседнем местечке остался заросший бурьяном фундамент — как в тридцать третьем сбросили кресты, так и развалилась церковь. А вот в быту опиум упрямо держится, рассуждал председатель колхоза. Вчера вечером в сумерках он пробежал по деревне и заметил, как кое-где при свете коптилок готовились, наверно, красили яйца. Хотя и готовить-то было нечего, колхозники не имели ни муки, ни мяса, да и яиц неоткуда взять — в войну почти вывелись куры. Но разве только здесь? В других местах не осталось и самих деревень, все сожжено, а здешняя деревня все-таки уцелела — при отступлении немцев сгорело полдюжины хат. Считай, счастливая деревня, поэтому и требования к ней особые — кормить страну. Но чтобы кормить, надобно работать по-ударному и быть сознательными. С сознательностью же его колхозники явно подкачали. То и дело приходилось принуждать, разъяснять, контролировать. Как вот с навозом. В деревне имелось с десяток коров, а навоз на колхозное поле не вывезли. Не отдают, норовят приберечь для себя — для своих собственных соток.
В облачном небе над притихшей деревней совсем уже рассвело, было не холодно, поутру даже утих все время дувший западный ветер. А на улице по-прежнему ни души. Под амбаром на бревнах, где бригадир обычно собирал свой наряд, также пусто, не видать было и бригадира. Неужто и его, председателя, никто не видит? — начинал злиться Выползок. Видят, конечно, но прячутся, потому что боятся. Эта мысль, как ни странно, слегка согрела душу председателя, потому что, как он понимал, боятся — значит уважают. А уважают всегда людей стоящих, авторитетных, крепких духом и телом. Насчет тела Выползку повезло не слишком — после ранения почти парализовало левую руку, которая теперь едва двигалась. Зато его дух как был непобедимый, таким и остался. Дух настоящего большевика, каким не переставал понимать себя колхозный председатель.
Миновав грязный, забросанный хламом пруд, Выползок перешел дырявый, с шатким настилом мостик и взбежал на ступеньки крыльца, где жил бригадир Козич. Похоже, тот еще спал. Но это черт знает что — бригадир в такую пору должен быть давно на ногах. Еще зимой Выползок ставил перед правлением вопрос о замене бригадира, но правленцы не согласились: молодой коммунист, награжденный, брал Берлин. А что слишком любит залить за воротник, этого в расчет не брали. Кто, мол, не любит? Разве что больной или кому не наливают. Бригадиру же наливали исправно.
Выползок не пил, хотя и не чувствовал себя больным, но он всегда сознавал себя ответственным за порученное дело. А дела ему поручались всякие, чаще трудные, но он не привык жаловаться, — он их исполнял. И теперь решительно дернул клямку перекошенной двери, которая, однако, не отворилась. Застучал — громко и требовательно, — уж такой стук невозможно не услышать. И впрямь дверь погодя растворилась, из темноты сеней на него смотрел голый по пояс бригадир.
— Ну что?
— Как — что? — сорвался на крик предколхоза. — Давно рассвело, а где народ? Спят, празднуют, мать их растак! А кто навоз будет возить?
— Вывезут…
— Как — вывезут? Когда вывезут? Вчера на бюро райкома…
— Пошел ты на …! — бросил бригадир и с грохотом захлопнул дверь.
Минуту Выползок стоял ошеломленный — такого он не ожидал. Чтобы этот парень, вдвое моложе его, только зимой принятый в партию, решился послать председателя на три буквы?! Давно его так не посылали ни в деревне, ни в районе, ни даже в партизанском лесу. Если не всегда уважали, так хотя бы боялись, не его, так партию… А этот! Танкист! Даже танкист не может быть выше председателя колхоза, разве бригадир этого не понял? Так скоро поймет!
Как всегда в минуты волнения, он наполнялся внутренней энергией и устремлялся к действию. Следовало немедленно предпринять что-то, чтобы повлиять. Если не мог повлиять сам, следовало заставить другого. Как в памятном для него случае в Пугачевской пуще. Немцы и полицаи секли по деревьям разрывными, гулкий треск разлетался по лесу. Попав в засаду, партизаны побежали в сторону, конечно, не туда, куда следовало, а где казалось безопаснее. Кто-то бросил на просеке ящик с патронными цинками, и все пробегали мимо. Убегая едва не последним, Выползок остановил бегущего окруженца-примака Лыщика, выхватил наган: бери ящик! Правда, Лыщик уже был нагружен какой-то ношей, пытался увильнуть, и Выползок выстрелил над его головой… Выстрел подействовал. Лыщик подхватил ящик, хотя потом ему не повезло — убили полицаи Лыщика. Пропали и цинки. Но Выползка никто не посмел упрекнуть, в той обстановке он действовал правильно — нельзя оставлять боеприпасы врагу. Сам же он взять их не мог, потому что у него на перевязи раненая рука. Опять же он не рядовой партизан, а командир, хотя и низового звена; командиру же таскать грузы не полагалось. На это были рядовые бойцы и партизаны.
По всей видимости, с рассвета прошло уже немало времени, а люди на улице не появлялись. Возле Евсюкова амбара по-прежнему никого, да и кто придет, когда бригадир спит! Ну я вас разбужу, — все больше набираясь гневной решимости, думал председатель.—Я вам попраздную, мать вашу растак!
Он решительно вбежал в хату, где уже не спала — возилась с малыми его молодая жена Ганка — одевала детей, и Выползок подумал: уж не праздновать ли собралась? Она мягко улыбнулась мужу, но эта ее неуместная улыбка лишь новым раздражением отозвалась в нем. Подбежав к сундуку, засунул руку под ворох одежды и выхватил оттуда наган. Со временем все реже приходилось ему брать оружие в руки — не то что в недавние годы до войны и в войну. Однако он знал: наган выручит, как выручал в коллективизацию, в борьбе за советскую власть, в партизанку. Наган —это сила, которой иногда недоставало в жизни.
— Что это ты? — удивилась Ганка, сразу согнав с лица благостную улыбку. Он не ответил и, сунув наган в галифе, выскочил из хаты.
В первом дворе, куда он свернул с улицы, жила Пелагея Дворчиха, не молодая уже, но работящая, в силе вдова, сотки которой за изгородью хорошо обработаны. И когда управилась только? — недобро подумал председатель. Но тем лучше — в самый раз выгнать ее на колхозное поле. Своего навоза у Пелагеи не было, так как давно нет коровы. Выползок вошел в чисто, явно по-праздничному убранную хату с белой скатеркой на столе. Но и здесь никого не было, и он через сени выскочил на другую сторону двора. За тыном, низко согнувшись, ковырялась в земле Пелагея — сажала на грядках рассаду.
— Бросай сажать! — резко скомандовал Выползок. — На наряд. Быстро!
Пелагея не сразу выпрямилась, непонимающе вглядывалась в него.
— Чего?
— На наряд, говорю. Не слышишь? Ну, живо!
— Как же на наряд, святая же Пacxa сегодня, — быстро и виновато заговорила Пелагея. — Грех это на Пасху…
— А на своих грядках — не грех?
— Так это же свои грядки. На той неделе не было времени, все в поле. Только и осталось что на праздник… — Он не дослушал.
— Быстро! Раз, два — я жду!
— Ай, так бригадир сказал же, что до обеда…
— Я вас с вашим бригадиром!—закричал Выползок и достал наган. Но прежде чем успел направить его на женщину, та шустро метнулась в сторону и так припустила меж грядок, что он лишь удивился ее молодой прыти, подумав: ну и выдрессировали оккупанты! В блокаду, наверно, побегала…
— Чтоб мне сейчас же на наряд! Другой раз канителиться не буду!—прокричал он вдогонку.
Следующим на его пути был двор через улицу, где с двумя молодыми невестками жил старый Корж. Два его сына после партизанки попали на фронт, и оба остались на Пулавском плацдарме. Теперь в доме хозяйничали невестки с детьми и стариком Коржом, который встретил его на пороге.
— Празднуешь? — не здороваясь, строго спросил Выползок.
— Со святой Пасхой вас, — не чувствуя настроения гостя, угодливо начал сивобородый старик в чистой льняной сорочке.
— Меня не с чем, я атеист. Где невестки?
Старик молча стоял на крыльце, недоуменно глядя на человека с оружием. Выползок нагана на него не поднимал, и Корж молча развел руками.
— Так вчера говорили, бригадир разрешил. До обеда…
— А я отменяю, — мрачно объявил председатель. — Сейчас же на наряд!
Корж молча повернулся и пошел в хату, где их разговор наверняка слышали невестки. Придут, уверенно подумал Выползок, свекор пригонит. Он знал, что с войны за Коржом числилась важная провинка — старик указал оккупантам путь через Голобородовское болото, где после блокады обосновались партизаны. Говорил, принудили. Но это как еще посмотреть, думал председатель. Неизвестно, сколько в том принуждении было страху, а сколько его воли. Сразу после войны органы его не тронули, но проступок старика, конечно, взяли на учет — про запас. Поэтому старый Корж был в его власти, хотя Выползок и не торопился ею воспользоваться. Еще пригодится.
Хуже пришлось с Косачевой Галей. Молодая и бездетная женщина до войны жила в городе, из которого вернулась в колхоз. Эта если уж работала, так с полной отдачей — в поле или на току. Но только до поры, пока на нее не находил бабский каприз, пока не заупрямится по-дурному. А если заупрямится, никто с ней сладить не мог — ни мужик, ни баба, ни даже начальник. Разве что с наганом. В хату к Косачевой он не пошел, — требовательно постучал в окно.
— Косачева, на наряд. Живо!
То, что Выползок от нее услышал, во второй раз за сегодняшний день повергло его в смятение.
— А ху не хо? — негромко донеслось из хаты.
— Что?
— Что слышал. Пасха сегодня.
Выползок помолчал. Он не хотел с ней ругаться, тем более на улице, через окно, и попытался уговорить по-хорошему:
— Ну так что, что Пасха? Навоз возить надо? Ты что — маленькая, не понимаешь?
— Не маленькая. Два года была замужем, — послышалось из хаты, но к окну никто не подходил. Выждав еще минуту и теряя самообладание, он перешел на крик:
—Твою мать! А ну выходи, сказал! Стрелять буду! — и рукояткой нагана постучал в раму .
Косачева будто обрадовалась его крику:
— Ой, напугал! Застрелит! Стреляй, ну… Вот сюда, вот…
И появилась тут же за окном, голая, бесстыдно тряхнула перед ним полной, словно набрякшей грудью. Выползок испуганно отшатнулся.
— Ты что? Выстрелю!
— Стреляй!
И он выстрелил — вверх, под крышу, раз и второй, не пожалев сразу двух боевых патронов. Все-таки выстрелы ее напугали, Косачева исчезла. Где-то на улице закричали бабы — тревожно и протяжно, как во время войны. Этот их крик, однако, не смутил Выползка, который уже ощутил свой верх над непослушной бригадой, срывавшей весенний сев. Знал, в случае срыва райком по головке не погладит его, но и бабам достанется. Уж он постарается. Он доведет все до конца.
Охваченный мстительным порывом, Выползок быстро пустился по улице в ее дальний конец. Оглянувшись, увидел, как с подворья Коржа вышли обе невестки, остановились возле калитки, но к амбару не шли. Впереди за Тарасовым хлевом мелькнула и исчезла обвязанная теплым платком голова вдовой Петрухи, — похоже, решила прятаться. Председатель за ней не погнался, лишь, приостановившись, крикнул:
— Петруха, я тебя вижу! Сейчас же — на наряд!
Женщина не откликнулась, но он знал, что услышала его. А если услышала, так придет, никуда не денется. На прошлой неделе заявилась в правление просить помощи, мол, трое малых детей, кормить нечем. В их числе одно совсем малое, нагулянное от немцев. Чтобы дали молока с фермы. А на ферме в соседней деревне восемь коров, и те не все растелились, молока не хватает для сдачи государству. Сказали Петрухе прийти через неделю, правление рассмотрит заявление и примет решение. Чтобы все обоснованно, не с бухты-барахты, потому как молока многие просят, у многих малые дети. И вот эта Петруха прячется. Я тебе припомню эти прятки, когда придешь за молоком, злобно думал Выползок.
Все же недаром он драл горло, наверно, колхозники его услышали и понемногу стали выходить на улицу. Вышла к калитке Лузгина Ольга, мать партизанского героя-подрывника, погибшего в последний месяц блокады. Эта стояла, вслушиваясь в его крик, но к амбару не шла. Задерживаться возле нее он не стал и, крикнув, чтобы шла на наряд, направился к ближней скамейке под кленом, где собралось несколько баб. Две из них были здешние вдовы, третья — молодая и острая на язык Ходоска, которая недавно еще дружила с его женой Ганкой. Ту их дружбу Выползок решительно прекратил, потому что Ходоска про многое, по-бабьи болтала, могла и доболтаться. Пока он подходил к бабам, те сдержанно молчали, словно испугались. Но это хорошо, что испугались, будут послушнее, рассчитывал председатель.
— Что стоите? Отдельное приглашение надо? Марш на навоз!
— A Пacxa сегодня! — зло напомнила Ходоска. — Бригадир сказал…
— Плевать, что бригадир сказал. Пасха отменяется…
— Как это? — удивились все разом.
— Партия отменяет опиум. Или вам не понятно?
Минуту бабы, насупясь, молчали, потом первой заговорила Ходоска:
— А почему это нам отменяется? Другие праздновать будут, а нас на пригон. Свою Ганку, небось, не пошлешь. Это мы проклятые чернорабочие…
— Пойдет и Ганка! — решительно оборвал он женщину. — Все пойдут. Марш!
— Так мы что — с голыми руками? Или вы там одурели со своей партией? — вскричала Ходоска.
— Тише! Тише насчет партии! — сказал он с нажимом и поднял руку с наганом.
Словно поперхнувшись, Ходоска смолкла, и бабы одна за другой боязливо потащились по улице. Сперва шли медленно, потом незаметно прибавляли шаг. Он мог бы и подогнать, чтобы шли быстрее, но не стал этого делать. Конечно, вил ни у одной не было, однако не возвращать же их за вилами, — разбегутся, не соберешь. Ходоска позади остальных что-то недовольно ворчала — про него, а может, про партию тоже, и он с горечью подумал, что в тридцатые не доработали, не всех выкорчевали. Будет чем вскоре заняться. Только бы поднять колхозы, а там и взяться за классовую борьбу, которая, похоже, будет обостряться.
А бабы? Бабы его не слишком занимали. Некоторые выражали ему свою симпатию, но он относил это на счет той авторитетной должности, которую занимал.. Да он и не домогался их симпатий, с молодых лет поняв, что любовь — рискованное дело. Случалось, кое-кто из его сослуживцев (особенно в довоенные годы) погорел именно на неосторожной любви. Он не хотел гореть и был осторожен. Может, чересчур осторожен, но стремился стать стопроцентным, безгрешным большевиком. Второй раз женился, лишь рассудив, что так ему будет лучше прежде всего как председателю, присланному райкомом. И остановил свой выбор на Ганке, партизанской вдове. По существу, у той не было никакого выбора — муж погиб, за юбку цеплялись двое детей, и колхозный начальник оказался для нее счастливым подарком. Может, это и лучше, когда нет выбора, рассуждал Выползок. Нет выбора — нет и соблазна. Всю энергию можно направить на колхозный труд…
Они еще не дошли до амбара, как Ходоска, то и дело оглядываясь, стала показывать на его двор, куда как раз вышла из хаты еще не одетая с утра его Ганка. Там же были и обе девочки — младшая все тянула за подол мать и лепетала. Она только начинала говорить, и мать любила слушать ее невразумительный лепет. Нашла, однако, время, — неприязненно подумал Выползок в предчувствии нового скандала.
— Вот, вот! — указывая на прежнюю подругу, крикнула Ходоска. — Она деток забавляет, а мы в праздник — на навоз! Если нас, то и ее…
— Ганка, на наряд! — крикнул он властно, как до этого кричал на других.
Ганка настороженно замерла, похоже, не поняв чего-то, медлила. И он крикнул сердито-приказным голосом:
— Быстро!
Теперь его жена стала наравне со всеми здешними бабами, тут уж он, если бы и хотел, ничего с собой поделать не мог. Да и не старался. Наслаждался своей бескорыстной принципиальностью, получая тайное душевное удовлетворение.
Ганка, однако, будто нарочито не торопясь, набросила на себя черную кофту, взяла откуда-то вилы и, степенно ступая, вышла на улицу. Обе девочки бросились за ней; младшая сразу залилась слезами, и мать на ходу что-то говорила ей — успокаивала. Но та не останавливалась, все бежала за матерью, пока Выползок не крикнул со всегдашней своей к ним строгостью:
— А ну — марш в хату!
Старшая, Волька, остановилась, словно в нерешительности, а младшая все бежала и плакала.
— К бабке Насте идите, к бабке Насте, — оборачиваясь, ласково уговаривала девочек мать. И те наконец остановились.
Ганка догнала баб и пошла сзади, не оглядываясь на детей. И на него тоже. То, что не оглянулась на него, Выползок, конечно, заметил, недобро подумав: пусть! На этот счет он еще поговорит с ней. Вечером. Объяснит, как следует вести себя жене колхозного руководителя.
Не оглядываясь, Ганка ловила каждый звук сзади, стараясь понять: дети послушались или нет. Похоже, однако, послушались, и она понемногу успокаивалась.
В то утро она встала рано. После того как Выползок ушел на рассвете из дому, она уже не уснула. Девочки сладко спали рядом на кровати, она прикрыла кожушком старшую Вольку, которая во сне часто сбрасывала с себя одеяло, сидела, думала. Прежде всего о том, чем накормить малых, — кроме картошки, у нее ничего не было. Сегодня праздник — Пасха, но не для них. Вчера Волька прибежала от соседки бабы Насты, исполненная наивного детского восхищения: баба красит яйца. У них яиц нет, ни крашеных, ни белых, потому что не было кур. Хорошо еще, что на праздник будет затирка. На днях Выползок принес в наволочке немного ржаной муки, и это — на месяц, на затирку малым. Баба Наста дала кусочек сала — для поджарки к колотухе-затирке. Но все — хоронясь, чтобы не узнал Выползок, потому что баба Наста — мать полицая, а Ганка с Выползком — партизаны, к тому же Выползок — коммунист. Разве можно допустить связь с матерью врага народа, немецким прислужником?
Выползок был вторым мужем у Ганки, и дети ее были не его, не родные. Детишек она нажила в партизанах, когда сошлась с командиром подрывников Алексеем Гайновым. Хотя и не расписанные, не венчанные, а в доброте и любви родили они двух девочек — последнюю как раз перед освобождением, за день до которого и убили Гайнова. Немцы прорывались из окружения, шли напролом, а Гайнов со своей группой оказался на их пути. Надо было свернуть, отойти за болото, говорили потом партизаны, может, и спаслись бы. А так… Все и полегли на опушке — двенадцать молодых, сильных, красивых. Вот и осталась Ганка с детьми — партизанская мадонна, без мужа, без хаты и какого-либо жилья. Спасибо партизанам — не оставили, чем могли, помогли всем отрядом. Когда освободили район, поселили в этой вот хате, брошенной хозяином-полицаем, сыном той же бабы Насты. Тут ее и нашел партизанский начальник Выползков. Родом он был не местный, с другой стороны Двины, после партизанки оставленный на укрепление колхоза. Жить ему здесь было негде, сам был одиноким, семью потерял в начале войны. Однажды пришел и сказал: буду жить у тебя. Что ж, она не возражала, хотя совсем не знала его, разве что видела раза два в лесу, когда разъезжал на черном коне с другими начальниками. И она подумала: живи. Хата не ее — чужая, мужика тут нет. Двое малых цепляются за юбку, как их растить? Думала, может, веселее будет, все же мужчина в доме. Мужчина, правда, не сказать чтобы видный — довольно потрепанный с виду, нервный и матерился — была причина или нет. Но партийный, всегда при власти. В партизанах, люди говорили, был особистом, хотя сам об этом ей не сказал. Его здесь боялись или уважали — она так и не поняла. А может, то и другое вместе, как это повелось в партизанах, да и осталось после партизан. Хуже, что Выползок был сухорук, левой рукой лишь шевелил немного, а делать ничего не мог. Не мог даже разрубить полено на дрова, которые всегда рубила она. И совсем плохо, что был меньше ростом, что немало ее огорчало, особенно в первое время. Живя с ним, она часто думала о Гайнове, который в ее глазах становился все лучше и лучше. И она твердо знала, что именно с Гайновым нашла свое счастье, с ним и потеряла — другого не будет. Удивительно, что тот, живя с ней урывками — когда находился поблизости и когда ранили, — никогда не говорил ей о любви. И все равно она знала, что любит ее, может, потому, что сама любила его. Выползок также ни разу не сказал ей, что любит, и, когда она как-то спросила его об этом, только накричал на нее. Что, мол, надумала! На днях райком наметил обсуждение политмассовой работы в колхозе, а она — про любовь. Может, и правда, подумала Ганка, и никогда больше не заговаривала о том. Чего не дано от рождения, того не выпросишь у людей.
Вскоре печалиться пришлось по другой причине — Выползок невзлюбил детей. Когда, случалось, младшая плакала ночью, он, проснувшись, раздраженно кричал на Ганку: “Когда ты успокоишь ее?” Ганка, как могла, успокаивала, может, не всегда удачно, малая все плакала, особенно когда болела, и это вызывало раздражение у мужа. Старшая, Волька, его просто боялась и, если он был дома, больше сидела на печи или возилась за печкой — лишь бы подальше от него. На детей он кричал редко, чаще спрашивал с матери. Она редко слышала от него доброе слово, больше — мат-перемат, или неделями он молчал — замкнуто и отчужденно. Очень скоро после замужества Ганка готова была возненавидеть его, но стерпела, не давая этому чувству разрастись в себе. Все же он был не простой колхозник — председатель, сельская власть. Ганка молчала. Она смолчала, когда он однажды прогнал ее подругу по семейному лагерю в лесу — Ходоску, за что та невзлюбила ее. В деревне у Ганки не стало ни одной близкой души. Другие женщины неизвестно отчего сторонились ее, ни одна не заглянет к ней в хату, не поинтересуется детьми. Всю зиму до наступления весны она каждый день ходила в колхозный амбар, веяла, сортировала, очищала семена для сева; девочки сидели одни в замкнутой хате, и ее сердце разрывалось от беспокойства за них. Не идти на работу она не могла — вынуждал бригадир, да и муж строго следил, чтобы работала добросовестно, выполняла норму, показывая пример другим. И она работала — наравне со всеми, мужиками и бабами. Сегодня, когда гаркнул на нее идти на наряд, она не удивилась, как всегда, послушалась и пошла. Только вот дети… Замкнуть их в хате она не решилась, да и стало уже тепло, малым неохотно сиделось взаперти, тянуло во двор. И она обманула их бабой Настой, к которой они иногда забегали — также тайком от него.
По дороге к амбару Ганка думала, что на работу сегодня их распределит бригадир, скажет, кому куда. Кому выбрасывать навоз, кому возить, кому растрясать его в поле. Хлопот с навозом хватало, требовалась и мужская сила. Ho где ee было взять, мужскую, когда в колхозе осталась лишь женская? Правда, сегодня Ганка заметила у амбара двух мужиков — инвалида и старика, остальные там были бабы — всего человек десять. Но бригадира не видно было, и Ганка почувствовала неладное. Наверно, как всегда, этот Выползок устроит скандал, не обойдется без мата. Хотя бы не пугал больше наганом…
Сначала бабы, те, что у амбара, молча, исподлобья глядели, как они, словно стадо с пастухом, приближались по улице. Потом, когда крикнула Ходоска, загалдели все сразу — о том, что Пасха сегодня, а они голодные и их гонят работать, вил нет и лошади пасутся черт знает где. И главное—где тот навоз? У кого его взять? Те, у кого были коровы, постарались его употребить на огороды, растрясти по грядкам , а то и вскопать лопатами свои сотки. А кто того не успел, отдаст ли теперь для колхозного поля? Все же навоз надо сперва самим — под картошку.
— Отдадут! — нервно выпалил Выползок. — Возьму и спрашивать не буду.
Тут же он распределил всех по работам — мужчин отправил запрягать лошадей, трех баб послал растрясать навоз в поле. Остальных, в их числе и Ганку, определил выбрасывать навоз из сарая. Выбрасывать — было самой тяжелой работой, голодная Ганка только сглотнула слюну. Остальные бабы возмущенно галдели, а она не могла позволить себе даже обидеться.
Четырех баб председатель повел к ближайшей от амбара усадьбе Панкрата Демеха, который имел коровку и кормил подсвинка, — наверно, навоз у него был. Самого Панкрата, исправного, средних лет мужика, дома не оказалось, жена сказала: поехал, а куда — неизвестно. Выползок выругался, пошел в хлев, где выругался с еще большей злостью, — навоза там не было. Чистый пол присыпан свежей соломой. “Где навоз? — вызверился Выползок. Бабы мрачно молчали, молчала напуганная Панкратиха, и Выползок догадался:— Продал! Ночью вывез в местечко, мать его перемать! А теперь прячется по кустам. Ну я его подкараулю, гада! Я его застрелю!”
Панкратиха не защищала мужа, бабы продолжали молчать, наверно полагая: точно застрелит. В деревне ходил слух, будто Выползок за особые заслуги имеет право застрелить любого. Такая у него награда. Иным за подвиги давали ордена и медали, этому дали страшное право — расстрелять — на свой суд. Должно быть, действительно велики были его заслуги, в подтверждение которых он имел этот страшный для колхозников наган.
Может, он и в самом деле владел правом застрелить человека, хотя бы того же Панкрата, но прежде надо его найти. Так же как и навоз, которого тут не было.
По-видимому, времени на эти поиски у Выползка осталось немного, и он повел бабью команду через улицу напротив к сестрам-баптисткам Барашковым. Уж в такой день те были дома и, не обращая внимания на крики и выстрелы на улице, прилежно молились перед убранной рушниками иконой святой девы Марии — встречали Пacxy.
— Я вам дам Пасху! Берите вилы и в хлев! — с порога приказал председатель.
Набожные и послушные, одетые в темное, сестры поочередно перекрестились на икону и подались в хлев, где в углу стояла молодая коровка. Однако вил у них не оказалось, а навоза здесь было на один добрый воз, и Ходоска съехидничала:
— Во, удобрим колхозные просторы! По-ударному. Давай по-стахановски, девки! Ганка, а ну покажи пример, как председательская женка!
Ганка с вилами перелезла через загородку, где было побольше навоза, и начала бросать его к двери.
Все время, пока они ходили по дворам и слушали ругань Выползка, ей было очень неловко за мужа: хоть бы он помолчал, если не может по-хорошему. А он словно упивался собственной властью над этими не слишком покорными бабами. Со стороны можно было подумать, что мстил им за свою мужскую неполноценность, начальническую неистовость за горечь, которую, наверно, и пытался заглушить матом. Теперь, когда они наконец добрели до навоза, Ганка даже обрадовалась: будет работа.
Работать она умела — хоть женскую, хоть мужскую работу, ей было безразлично, лишь бы не стоять без дела. Она легко втыкала острые концы вил в слежалые пласты навоза и с усилием выворачивала их наружу. Навоз привычно вонял, но она не обращала внимания на эту издавна знакомую вонь. Невольно вспомнилось, как три года назад в блокаду пряталась почти в таком самом навозе. Их отряд разгромили, и каратели начали охоту на партизан, искали с собаками в пуще, лесах и перелесках, в покинутых жителями деревнях, поветях, токах. Ее, беременную уже младшей, одноногий дед из Алексюков прикопал сухим навозом в пустом хлеву при стене, и она лежала там два дня, дыша через щель между бревнами. Немцы бегали по деревне, стреляли по чердакам, бросали гранаты в пустые, без картофеля, погреба. Дед потом говорил, дважды заглядывали в тот хлевок, но пороть навоз не догадались, и она уцелела. С тех пор у нее не было брезгливого чувства к навозу, тем более что у нее не было коровы.
Выползок убежал куда-то, может, искать кого-то еще по хлевам, а бабы вышли на двор и стали возле ограды. Без вил в хлеву делать было нечего. Бабы не могли окончить своего взволнованного разговора об испорченном празднике, ругали председателя. “И гляди-ка ты — выжил в блокаду, — говорила Лузгина Ольга.—Не было его в нашем отряде!” — “А что бы ты ему сделала в вашем отряде? — усомнилась старшая невестка Коржа. — Соли бы на хвост насыпала? Он и там был гроза”. — “Кому гроза — немцам?” — “Не так немцам — своим. Да шпионам этим”…
Ганка слушала и усмехалась — как особисты управлялись со шпионами, она немного уже слышала, помнила случай из своего отряда. Как-то с девками была в Плешне, где квартировал и бригадный штаб, — стирали начальству белье. Тогда же из лагеря бежало пятеро пленных красноармейцев, прибились в отряд. Ну, понятное дело, — проверка: может, завербован, заслан. Всех допрашивают в хате особого отдела, никто не признается. Командиры же знают наверняка: кто-то заслан — и принимают решение: если к утру никто не признается, всех — в расход. Ночью перед расстрелом один из беглецов по фамилии Окунев требует лично командира, которому сообщает, что завербованы все, кроме его, Окунева. Мол, ему о том по секрету признался земляк, который тоже завербован. Возмущенные командиры день спустя расстреляли всех, кроме Окунева. Рассудили так: если Окунев выдал даже земляка, значит, он — свой, честный. Послали Окунева в группу подрывников, в которой он пустил под откос три поезда, а затем на станции Парафьяново перебежал к немцам. Оказалось, что именно Окунев и был завербован, остальные ни при чем. Но начальнику особого отдела за тех разоблаченных и расстрелянных уже дали орден — не отнимать же обратно. Тем более у заслуженного кадрового чекиста. А чтобы не очень удивлялись в отряде, его перевели в соседнюю бригаду, говорили — на повышение.
Спустя какой-нибудь час Ганка выкинула за порог все, что было в хлеву. На чистое, влажное еще место перевела молодую коровку сестер Барашковых. Но возчики с телегами все не ехали, в хлеву уже делать было нечего, и Ганка вышла во двор. Бабы стояли поодаль вдоль ограды, похоже, работать сегодня не собирались.
— Перекур, Ганка! — вроде подобрев, сказала Ходоска и улыбнулась.
Ганке это понравилось, даже подумалось: может, они еще и помирятся. Хотя и так обижаться подруге не было за что, — на Выползка они могли обижаться обе.
Воткнув вилы в землю, Ганка прислонилась к ограде рядом с Ходоской. Бабы почему-то все разом умолкли, как только она к ним приблизилась. Ганка заметила это, и ей стало неловко, — возле них она по-прежнему чувствовала себя чужой. Как-то настороженно с крыльца за ними наблюдали сестры Барашковы.
Неожиданно из-за угла хаты появился бригадир Козич — молодой парень в ловко подпоясанной гимнастерке и празднично начищенных сапогах — вроде сам собирался праздновать. Сгребая рукой раскулаченный ветром чуб, расслабленно улыбался.
— Вкалываем?
— Вкалываем! — с вызовом ответила Ходоска. — Но ты же вчера обещал…
— Ну, обещал. Пусть бы не шли. Я же вас не гнал.
— Глядите на него — он не гнал! — сразу осерчала Ходоска. — Выползок выгнал.
— А зачем слушались?
— Как же не послушаешь, если с наганом? Вон Косачеву застрелить хотел.
— Этот могет, — сдержанно согласился бригадир. Видать по всему, чувствовал он себя неважно, может, еще выдыхал вчерашнее или принятое с ночи. — Если овцами будете…
— Будешь овцами. Вы же — сила, партия. Как с вами обходиться? — горячилась Ходоска.
— Мы с такими обходились, — многозначительно вытиснул сквозь зубы Козич. — На фронте.
— Так то на фронте. А мы тут в тылу. Как в тюрьме.
— Ну как хотите, — бросил бригадир и, вдруг заторопившись, пошел со двора.
— Такой парень! — мечтательно сказала Ходоска, как только он исчез за углом.—Сопьется!
И пригорюнилась. Ганка тоже пригорюнилась — больше, нежели в хлеву, когда ковыряла навоз. Нет, счастья у нее больше не будет, думала она, судьба ее обошла стороной. Остается одно — горевать в одиночестве до конца дней…
— Долго он тут жить будет? — спросила баба от изгороди.—Потеплеет и съедет. В город.
— Я б тоже съехала, — вздохнула Ходоска. — Завербовалась бы в Карелию, на лесоповал. Если бы не мама. Больную не бросишь.
— Ты еще можешь. Пока детей не нарожала…
Стоя молча у изгороди, Ганка думала, где теперь ее девчатки, может, плачут на улице? И словно в ответ на свои заботы вдруг увидела их — по двору шла Волька, ведя за ручку малую — босую, в длинной незастегнутой кофте, уже заплаканную. Завидев мать, та выдернула у сестренки ручку и бегом припустилась по двору. Ганка, присев, протянула навстречу руки, в которые с искреннею детскою радостью уткнулась малая. Ее заплаканное личико прояснилось добротой и покоем.
— Ну, что ты плачешь? Ну что?
— Она собаки испугалась. Той, что у дядьки Панкрата, — объяснила Волька.
— Вот же человек! — возмутилась Ходоска. — Сам где-то прячется, а собаку спускает, чтобы детей травить.
Но малая уже улыбалась на материнских руках, готовая забыть свои детские страхи. Ходоска, подобрев, улыбалась Вольке, которая ласково подалась к ней. Старшая из сестер Барашковых сошла с крыльца.
— Иди со мной. Что-то дам…
Волька, словно дожидаясь предложения, охотно побежала за черненькой приветливой женщиной, а Ганка сразу почувствовала, как на ее руках напряглась в ожидании младшая. Вскоре обе вышли из хаты, — Волька впереди, а Барашкова сзади. В обеих ручках Волька бережно несла два красных яичка, личико ее сияло торжественной радостью. Подойдя к матери, одну ручку протянула сестричке:
— На тебе — Христос воскрес!
— Ай, молодечек! — восхитилась Ходоска.—Малая, а знает, как надо. Ну, что надо сказать? Что? — ласково добивалась она у малой.
Стиснув в руке яичко, та молчала, не понимая еще, что надо сказать.
— Спасибо скажи, — подсказала мать.
Нет, все же она не несчастная, подумала Ганка, у нее есть детки, ее единственное приобретение в жизни, подлинное ее счастье. Уж этим счастьем она не поступится, потому что ее девочки и есть продолжение ее самой, ее судьбы. Не такой уж и горькой, если подумать. Рядом всегда будут ее девчатки… Ганка не знала, что человек может тревожиться или может пребывать в покое или благости, а беда караулит его всегда. Беда никогда не спит, иногда дремлет только, выжидая момент, чтобы ужалить крепко и в самое больное место. О котором и не помышляет человек.
Может, только впервые за это праздничное утро Ганка расслабилась, вольно вздохнула, готовая поверить в свое женское счастье, как во двор вбежал запыхавшийся Выползок. Наган свой он уже спрятал, и тот тяжело болтался в оттопыренном кармане обвисших галифе. При виде стоявших без дела баб у председателя сразу передернулось лицо, его квадратная челюсть отвалилась для очередного мата.
— Стоите, мать вашу..
— Так возов нет, — виновато откликнулась Ходоска. — Мы что — в подолах понесем?
— Понесете в подолах! — рявкнул Выползок. —Если понадобится. А это что? — вдруг заметил он в руках у девочек неожиданные подарки. — Праздновать? Возов нет, а яйца нашлись! Чтоб подкупить? Советскую власть не подкупишь! Дай сюда! — повернулся он к Вольке, и та испуганно протянула ему красное яичко. Выхватив его, председатель изо всей силы ударил им о бревенчатую стену хлева. Затем молча вырвал яйцо из рук младшей — также швырнул о стену. Малая сразу залилась в горьком безутешном плаче.
— Зверь! — исступленно крикнула Ганка. — Зверь!!
И пока он нашелся, что ответить жене, та, ухватив вилы и почти не ощущая себя, изо всей силы ударила ими Выползка. Грязные, с остатками навоза вилы легко вошли в его худощавое тело, и председатель сразу обвял и молча рухнул наземь.
— Ой, ой, бабы! Она же убила его… Ой, божечка, что нам делать? — запричитала какая-то из баб, но Ганка не слышала ее. Подхватив на руки младшую, взяла за ручку старшую и пошла прочь со двора…
16-я бригада 142-го лагпункта системы Главпечорлага возвращалась с работы в лагерь. Построенные в колонну по три, женщины устало брели по не слишком утоптанной, присыпанной свежим снегом дороге. Над безбрежным снеговым пространством, окутанным серыми сумерками, висела светлая полярная ночь. За короткий день бригада не управилась с заданием на лесоповале, и начальство дало команду прихватить часть ночи. Зечки вымотались что надо. Даже конвоиры, двумя группами шедшие впереди и сзади колонны, не очень покрикивали — за день устали от собственного крика и мата. Женщины брели словно зимние призраки — молча, лишь бы не остановиться, не упасть. Ни на что другое сил у них уже не было. Конвоиры понимали это и не донимали строгостью.
Пути к баракам оставалось не много, уже самое тяжелое — работа, мороз и стужа — на сегодня остались позади, впереди их ожидали заветные пайки и — сон. На подходе к лагерю колонна невольно оживилась, конвоиры привычно прикрикнули:
— Подтянись! Не отставать…
И в это время откуда-то из задних рядов на обочину вышла тощая женская фигура, решительно свернула с дороги на снежный простор. Идущий позади конвоир с испугом крикнул: “Стой, стрелять буду!” и клацнул затвором длинной, со штыком винтовки. Но зечка вроде не слышала его. Проваливаясь по колено в снег, она брела все дальше от дороги. Конвоир торопливо приложился к винтовке и выстрелил.
Выстрелил всего один раз, и женщина упала.
Колонна сразу остановилась, все замерли в ожидании, шевельнется или нет. Нет, не шевельнулась. Стрелявший конвоир побежал по снегу к неподвижной фигуре, склонился над нею и что-то крикнул офицеру, начальнику конвоя. Тот раздраженно, как на виноватого, прокричал свой приказ.
Немного выждав, конвоир поднял винтовку, запрокинул ее вверх прикладом и сильно ударил женщину — штыком в грудь. Потом ударил еще. Та не вскрикнула, — похоже, ей было безразлично.
Давно и все безразлично.
Перевод автора.
Напечатано: «Дружба Народов» 2000, №9
Найдено: magazines.russ.ru
2000



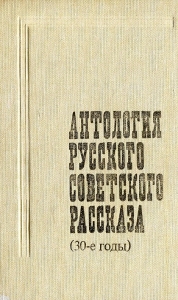



Комментарии к книге «Пасхальное яичко», Василь Быков
Всего 0 комментариев