Виктор Петрович Астафьев Прощание с отчимом (Из романа «Прокляты и убиты»)
Быть семье вместе так почти и не довелось. Герка-горный бедняк все больше и больше втягивался в пьянку, сдавал здоровьем и до того дошел, что начал блевать кровью. Мать, забрав на лето девчонок, отправилась с мужем работать на плашкоут, чтобы по возможности остерегать его от пагубной страсти, но кончилось это тем, что, вернувшись осенью домой, мать начала снова ковырять и грызть печину, есть протухлую рыбу и клюкву без сахара, а к весне принесла еще одну девчонку, снова белобрысую, но на этот раз и сероглазую, и хотя назвала ее Соней, мать кликала ее не иначе, как Сероглазкой, да и начала с самых пеленок выделять ее и баловать.
Осенью того же года Герку, едва живого, сняли с плашкоута на санитарный катер и, не заворачивая домой, свезли в Салехард — Обдорск бывший, в хирургическое отделение, чтобы сделать операцию язвы желудка.
Лешка, поступивший работать на старое место, в узел местной связи, но уже не просто телефонистом, а на должность техника, отпросился со службы и с обстановочным катером отбыл в Салехард, навестить отчима.
Операцию Герке-горному бедняку делать не решались, у него не только желудок болел, но и все нутро оказалось сожженным и прожженным: печень, почки, сердце и вдобавок ко всему обнаружился еще и ревматизм. «Деревяшку и ту стервозу судорогой сводит», — шутил Герка-горный бедняк и, совершенно не веря в какое-либо выздоровление, просил Лешку:
— Найди ты мне коньяку «восемь звездочек». Понимаешь, вот мы с полковником Бескапустиным не раз говорили, как отвоюемся, достанем самолучшего коньяку и надеремся же!.. А самолучший, говорят, «восемь звездочек». Найди, Леха, а? А то я пил всякую дрянь, напиток на букву «Ш» больше, шпирт называется…
— Папа шутит! — хмыкнул Лешка в ответ. — Папа, как Билли Бонс, даже при последнем вздохе орет; — Р-рому!..
Но коньяку он все же достал — каприз больного, что сделаешь?! Да и не обременял особо Герка-горный бедняк просьбами своего сынулю ни прежде, ни теперь. Правда, «восемь звездочек» коньяка в Салехарде не оказалось, и знатоки даже сомнение высказали: «Уж больно много звездочек! Едва ли такой бывает…»
Герка-горный бедняк подержал бутылку в руке, болтнул, посмотрел на свет и выпил сразу полный стакан. Выпил, лег и стал вслушиваться в себя. На впалых, сиреневых щеках начал проступать свекольно-яркий румянец, за щеками и возле ушей было бело, и глаза этого, через силу бодрящегося, вечного затейника, подернулись синеватой дымкой.
— Разбирает! — удовлетворенно отметил он. — Много удовольствий в жизни у меня было, радостно я жил. Вот и коньячку самолучшего отведал! Жалко без полковника… Ни о чем не жалею, никого не кляну и, как говорится, всем прощаю, кроме суки-Гитлера. — Он подумал, вылил остатки коньяка в стакан, выпил и заявил:
— Я скоро запьянею совсем, ослабел все же… Одна бутылка валит… Так ты не дожидайся. Некрасивый я пьяный стал… А пью я, Леха, сейчас еще и для того, чтоб тормоза отпустились, и все тебе сказать чтобы. — Он сунул руку под подушку, вынул общую тетрадь в коленкоровом переплете. На тетради была наклеена четвертушка бумаги, изображена чернилами летящая вдаль чайка, и ниже широко выведено: «Рукописи».
— Это ты потом, на досуге… — сунул он Лешке тетрадь и отвел глаза. Мысли тут кой-какие, стишки… Ладно, не об этом я. Мать, девчонок не бросай, Леха! Прошу я тебя — не бросай! Ну, уходи. Плохо мне сейчас сделается. Орать буду… Лапу давай! Уходи!..
«Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора, весь день стоит как бы хрустальный, и лучезарны вечера», — прекрасными словами сказал когда-то русский поэт о дивных днях российского предосенья. Но если б довелось ему побывать в Салехарде, в ту пору называвшемся Обдорском, он бы еще лучше, пожалуй, написал.
Наконец-то наступили дни, когда человек может жить по-человечески; пришибло первым морозцем мошку и комара, наступили ночи, и есть настоящий вечер с зарею, да какой зарею! Широкой, полукружной, на восточном краю неба обожженные занимающейся в горах стужей висят облака. Полыхает, докуда хватает глаза, тундра, и нет уж вроде бы земли вокруг, горячим металлом бесшумно и бездымно клокочущим облита равнина. Воздух вольный и прохладный, дышится пока полной грудью — а это так хорошо в краю, где ветром и стужею выдувает кислород, и грудь рвет кашлем. Меж досок дощатых тротуаров, на уличном кочкарнике и полудиком местном стадионе едва желтеют подмороженные цветы одуванчиков, которым так и не хватило лета, чтобы обзавестись пуховой головкой. По улицам, переулкам и все по тому же стадиону, на футбольных воротах которого висят изодранные невода с неснятым грузом и поплавками, как в Индии, бродят коровы, никогда не подающие голоса, почти без молока. С Оби, из-под угорья отчетливо слышны стуки причаливающихся катеров, звон железа, урчание кранов и визг чаек, встревоженных предчувствием дальнего полета.
Вот в эту-то пору, отработавший, отвоевавший и отгулявший, «уходил к Панкину» Герка-горный бедняк. Панкин был первым сторожем салехардского кладбища, обнесенного глухим дощатым забором и колючей проволокой, — будто кто полезет сюда по доброй воле! После Панкина охраняют это кладбище толстые баба с мужиком — люди горластые, напористые, читающие все к ряду. Он выписывает журнал «Крокодил», «Агитатор» и газету «Труд». Она — «Службу быта», «Смену», и «Салехардскую правду».
Мать на похороны приехать не смогла, свалилась замертво. Лешка думал, что одному доведется провожать отчима на невеселое, перенаселенное салехардское кладбище, заваленное старой колючей проволокой и тлеющими венками. Но из косых переулков, из домов и бараков выбегали люди, спрашивали — кого хоронят? И, одетые наспех, не по-осеннему легко, уже не отставали до самой могилы от домовины, помещенной в осклизлый от рыбы кузов рыбкомбинатовского грузовика. На грузовике этом работал какой-то давний друг Герки-горного бедняка и, привыкший лихо шуровать по северным кочкам и ухабам, он изо всей силы сдерживался, чтобы не газануть, не закурить и зараньше не напиться. Какая-то девка с комсомольским значком на взбодренной груди несла через плечо больничное полотенце, к которому приколоты были боевые ордена и медали комроты. Много их было, застиранное полотенце сияло золотом и медью.
За городом ехали по следу вездехода. Гусеницами вездехода до искрящейся мерзлоты содрало кожу земли, но яркий лист карликовой березы и жидкого рябинника да красная брусника так усыпали эти колеи, что казалось, расстелил кто-то перед боевым военруком и командиром роты две кумачовые полосы и не в «гробкомбинатовской», то есть промкомбинатовской неуклюжей домовине, не в вонючем грузовике, усыпанном ржавой чешуею, а руками боевых друзей поднятый, серебряными искрами усыпанный плывет Герка-горный бедняк к еще не остывшему с войны небу, встречь рыжим от тундры, похожим на клубящийся дым разрывов, туманам, поднимающимся от холодных впадин и озер. И грянет сейчас музыка, оркестры грянут, зарыдают трубы, склонят головы друзья-солдаты в измятых погонах и тусклых от земли медалях и орденах. И, уткнувшись пухлым лицом в фуражку, заплачет о любимом командире роты комполка товарищ Бескапустин Авдей Кондратьевич…
Когда Лешка поднял голову, никого и ничего уже вокруг не было. Перед ним рыжел комковатый холмик с дощатой пирамидкой, окрашенной в ядовито-зеленый цвет. Туман уже набрел на кладбище и замер средь крестов и пирамидок. Было глухо, пространственно вокруг, ровно как на другой планете, объятой беззвучием и сыростью. Лешка передернул плечами, почувствовал, как промерз, натянул кепку, дотронулся рукой до шершавой пирамидки и поспешил к домам, крыши которых волгло чернели над медленно вползающими в город туманами.
1972




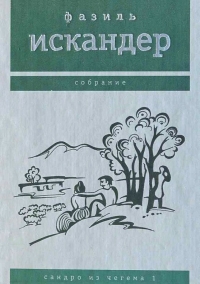

Комментарии к книге «Прощание с отчимом», Виктор Петрович Астафьев
Всего 0 комментариев