Константин Коничев Из жизни взятое
Cердце остаётся молодым
С Константином Ивановичем Коничевым я познакомился сразу после войны…Передо мной стоял уже немолодой человек, крепко жал руку, откровенно рассматривая меня острыми, с хитринкой глазами. Густо окая, нараспев рассказывал он «о своей вотчине-Вологодчине». То лирически мягко, с роздумью, вспоминал о батрацкой жизни на Устье-Кубенье, о друзьях-писателях двадцатых годов, то сыпал остроумными прибаутками и частушками, которых у него в запасе «под завязку два мешка», то хитроумно, с перчинкой плел рассказ о похождениях в коллективизацию какого-нибудь вологодского Щукаря.
Нелегко представить этого человека в кабинетной обстановке. Слишком подвижен он, слишком неисчерпаема его энергия и жажда всё знать, особенно о родном Севере. Совершенно неожиданно он может появиться в вологодских краях только потому, что кто-то из друзей сообщил: в какой-то лесной деревушке видели какую-то древнюю рукопись, а в другом месте какие-то допотопные монеты. Совсем недавно, кажется, была от него весточка из Ленинграда, а вот уже и он сам, полный впечатлений от встречи с череповецкими металлургами. «По пути», оказывается, заглянул ещё и в Ферапонтов монастырь, чтобы поглядеть на фрески Дионисия. И теперь беседует со своими земляками, читает им свои новые страницы, советуется, выпытывает что-то. А ещё через некоторое время уже идут от него пёстрые открытки откуда-нибудь из Дагомеи ила из Египта, из Греции или Сирии, из Парижа или Праги. И опять ждёт своего хозяина тихая квартирка на Дворцовой набережной в Ленинграде.
На столе писателя – величественная фигура Петра Первого работы Антокольского, модель памятника в Архангельске, кипы писем от друзей, читателей, собратьев по перу; над столом – вологодские пейзажи; в шкафах – книги, рукописные сборники, собрания фольклористов и этнографов. И всё это – о Севере, о прошлом и настоящем родного писателю края, с которым связана вся его жизнь, всё творчество.
Не встретишь теперь на карте Вологодской области маленькой в пятнадцать дворов деревушки Поповской, что была когда-то у самого Устья-Кубенского. В ней 25 февраля 1904 года родился Константин Иванович Коничев, в ней прошли детские годы будущего писателя.
Семья Коничевых жила бедно, перебиваясь с хлеба на воду. Кулаки-барышники да кабатчики-шинкари вконец обобрали и её. Как-то зимой слегла и уже не поднялась хозяйка дома, скромная, забитая нищетой женщина. Муж ещё отчаяннее начал топить горе в вине, и вскоре шестилетний Костя остался круглым сиротой. Сельский сход определил его на воспитание к скряге-опекуну. Тот, скрепя сердце, отвел нахлебника хмурой ненастной осенью в Коровинскую церковно-приходскую школу, а затем посадил его за верстак учиться сапожному ремеслу. Рано повзрослевший юноша столкнулся лицом к лицу с суровой жизнью, с жалким существованием вологодских крестьян, с их безрадостным, исковерканным нищетой бытом.
Глубокой осенью 1917 года и до глухой деревеньки Поповской докатилась весть о великих событиях в Петрограде. Знаменитые ленинские декреты о земле, о мире взволновали крестьян. Солдаты возвращались с фронтов в родные вологодские деревни, устанавливали свою советскую власть. Но вскоре снова наступили тревожные события. Эсеры подняли восстание в Ярославле. Зелёные банды появились в грязовецких и шекснинских лесах. В Архангельске высадились английские и американские войска и двинулись на Вологду.
Коничев в эти годы борется с кулаками, выявляет у них для нужд фронта излишки хлеба, работает в комбеде, тачает сапоги для бойцов Северного фронта. Зимой 1920 года он добровольцем уходит в Красную Армию, служит в 34-й кадниковской роте.
После того, как красные войска сбросили в море англо-американских захватчиков, Коничев возвращается в Устье-Кубенское и снова садится за сапожный верстак. Сняв по вечерам пропитанный дёгтем фартук, он пробует писать стихи, обличительные заметки и статьи. Так началась его селькоровская работа на страницах губернской газеты «Красный Север», во главе которой стояли коммунисты Н. В. Елизаров и А. А. Субботин.
К молодому селькору всё чаще заглядывали крестьяне из соседних деревень, засиживались у него за полночь, рассказывали о своих горестях и неполадках, просили помощи. А через несколько дней в губернской газете появлялась заметка устье-кубенского селькора и била прямо в цель.
Вскоре селькор вступил в комсомол, стал избачом, перед ним открылись двери губернской совпартшколы. В двадцатые годы коммунист Коничев все свои силы отдавал строительству новой жизни на Севере. В кабинете писателя и сейчас висит карта Вологодской области, испещрённая красными кружочками, которыми отмечены места, где он побывал в то горячее время.
Судьба бросала Коничева из Вологды в Сыктывкар, из Сыктывкара в Архангельск. Бурные события тех лет, яркие судьбы людей, с которыми он шел по распахиваемой целине новой жизни, провели глубокую борозду в его сердце Это было время рождения Константина Коничева как писателя. В эти годы появляются его первые очерки и рассказы. Работает он и над повестью «Путина». В Вологде выходит первая книжка литературно бесхитростных рассказов Коничева «Тропы деревенские» (1929). В них уже проглянуло то, что после стало характерной особенностью Коничева-писателя: большая любовь к родному краю, к быту северян, к их острому живому слову. Эту любовь писатель пронёс через годы, остается верен ей и сегодня.
Трудной дорогой шел Константин Коничев в литературу. У него не было возможности полностью отдаться творческой работе. Даже в литературном институте он учился, не отрываясь от участия в повседневных делах Северного края.
Одна за другой появляются новые книги Коничева: повести «По следам молодости» и «Лесная быль», очерки «Боевые дни» – о гражданской войне на Севере и «За Родину» – о герое-пограничнике Андрее Коробицыне. Многим из этих книг не суждено было долгой самостоятельной жизни – сказалась газетная поспешность, селькоровская «скоропись». Но они стали основой будущих работ писателя. Из них выросли и «Деревенская повесть» и «К северу от Вологды». В предвоенные годы была начата и «Повесть о Федоте Шубине», открывшая цикл исторических повестей Коничева о талантливых людях Севера.
Отечественная война оборвала творческие искания писателя: Коничев ушёл защищать Родину. Случилось так, что его фронтовая жизнь началась в войсках, оборонявших Вологодскую область. Здесь произошло и первое боевое крещение. Капитан Коничев участвовал в боях почти на всех направлениях Карельского фронта. А после разгрома немецких и финских фашистов принимал участие в боях против японских милитаристов.
События этих лет нашли отражение в его книге «От Карелии до Кореи» (1948). Записки офицера Коничева занимают особое место среди книг об Отечественной войне, в них бережно сохранены солдатские были, живое народное слово.
Вернувшись после войны к литературному труду, К. И. Коничев много сил отдал возрождению в Архангельске тогда почти единственной на Севере писательской организации. Он встал во главе альманаха «Север», был главным редактором Архангельского книжного издательства. Приходом в литературу ему обязаны многие архангельские литераторы. Частым и желанным гостем был Коничев и у вологжан. Он проводил в Вологде семинары молодых писателей, поддерживал их добрым словом, помогал рождению новых книг.
Напряженно работает Коничев и над своими рукописями, вовремя завершить которые помешала война. Как-то еще перед войной он прочел А. С. Серафимовичу несколько глав «Деревенской повести». Большой художник одобрительно отозвался о начатой работе, отметил сочность написанных страниц, хорошее знание автором сельской жизни.
«Деревенскую повесть», выросшую в большой бытовой роман, Константин Коничев завершил к началу пятидесятых годов. В ней он нарисовал яркую картину нищенской жизни дореволюционной северной деревни. Книга эта написана в духе лучших реалистических традиций русской литературы, с её острым интересом к судьбам крестьянства. Писатель страстен и публицистичен там, где он четко раскрывает классовое размежевание сил в деревне, социальные противоречия, рост на селе революционных настроений.
В «Деревенской повести» Коничев предстаёт и как талантливый бытописатель северной деревни. Взятые им из жизни бытовые сцены и картины этнографически точны и одновременно самобытны. В судьбе бедняцкого сына Терентия Чеботарёва много от биографии самого автора. Правда, писателю не всегда удаётся подняться над фактами личной жизни, нередко он излишне увлекается случайными бытовыми деталями. Краски его блекнут там, где он отходит от биографической канвы и делает попытку нарисовать обобщающие картины борьбы за советскую власть на Севере. Художественная фантазия часто изменяет ему во второй части «Деревенской повести».
Еще до войны Константин Коничев выпустил сборник песен, частушек, пословиц и загадок Севера, обнаружив большое знание народной мудрости и поэзии. Писатель вырос на этом материале – отсюда и глубоко народная основа и северный колорит «Деревенской повести».
Народные предания и поверья послужили «ценной питательной подкормкой» и для других книг Коничева. Любовь к Северу, знание его истории, тяга к бытописанию сказались в повестях-былях «В местах отдаленных» (1954), «К северу от Вологды» (1954), которые вместе с «Деревенской повестью» составляют своеобразный цикл книг о прошлом близкого сердцу писателя родного края.
Давно была задумана Коничевым, но только что завершена повесть «В году тридцатом», хронологически продолжающая «Деревенскую повесть» и предваряющая повествование о рождении металлургического Череповца, нового рабочего города.
Характеры выносливых, пытливых, не склоняющихся ни перед какими невзгодами северян всегда были по душе писателю. В книге очерков «Люди больших дел» (1949) он рисует портреты выдающихся деятелей Севера – мореходов, кораблестроителей, покорителей Арктики, людей науки и искусства. Русский национальный гений Михаил Ломоносов и его земляк, скульптор-академик Федот Шубин, знаменитые землепроходцы-устюжане Семён Дежнёв и Владимир Атласов, сольвычегодский крестьянин Ерофей Хабаров и каргополец Александр Баранов, капитан ледокола «Седов» Владимир Воронин и знатный ненец Тыко Вылко – всё это герои очерков Коничева, «люди больших дел», сыны сурового и прекрасного русского Севера.
От очерков «Люди больших дел» К. Коничев идет к историко-биографическим повестям о судьбах выдающихся русских людей, связанных с Севером. Одна за другой выходят из-под его пера «Повесть о Федоте Шубине» (1951), «Повесть о Верещагине» (1956), «Повесть о Воронихине» (1959). В этих книгах писатель с присущими ему настойчивостью и постоянством стремится проникнуть в глубины характера русского человека северянина. Скульптор Шубин, зодчий Воронихин, художник Верещагин не случайно стали заглавными героями биографических повестей К. Коничева. Им, ярким выразителям исконной талантливости людей Севера, мастерам народного искусства, отдаёт писатель весь жар своего сердца, всю свою сыновнюю любовь.
Глубокая сердечная признательность и любовь писателя к замечательным деятелям русского Севера, вышедшим из народа и служившим ему своим искусством, опирается на большое знание подлинных фактов, документальных материалов. К. И. Коничев проделал громадную работу исследователя, требовавшую длительных, терпеливых поисков. Он совершил не одно путешествие по следам своих героев, переворошил груды архивных материалов, свидетельств современников, исследований искусствоведов и историков. Но и этого было мало. Писатель должен был сердцем почувствовать, умом понять своего героя, влюбиться в него и пройти вместе с ним через все невзгоды жизни, чтобы отлить его образ в биографически цельной повести о нём и о его времени.
Однако в повестях о «людях больших дел» историк в Коничеве иногда побеждает беллетриста. Писатель нередко перегружает повести историческими и бытовыми описаниями, не давая простора авторскому домыслу. На первом плане остается познавательная ценность его книг, их патриотическое звучание.
Любовь к родному Северу и его людям зовёт Коничева к новым трудам. Завершив «Повесть о Воронихине», он окунулся в новую работу об Иване Сытине, талантливом издателе, полвека трудившемся для блага народного просвещения.
Идут годы, но не стареет, не иссякает энергия верного сына Севера, отдающего свой талант, знания, сердце, свою неизменную любовь родному краю. Интерес писателя к прошлому русского Севера, к судьбам его выдающихся деятелей – это не уход от современности и не только дань уважения сына Севера своим отцам и дедам, талантливым народным самородкам, людям русского искусства, через века проложившим дорогу ко всему прекрасному в мире. В книгах К. Коничева вскрываются истоки нравственной силы, душевной красоты и жизнестойкости русского характера.
От повествования о выдающихся деятелях прошлого писатель свободно переходит к рассказам о прославленных людях наших дней и так же живо рисует знатного мастера торпедного удара Александра Шабалина, героя гражданской войны Хаджи Мурата Дзарахохова, пограничника-вологжанина Андрея Коробицына, героически погибшего при защите рубежей Родины, вологодской свинарки Александры Люсковой, ненца-художника Тыко Вылко. Писатель не проходит мимо тех, кто сегодня славится делом своим.
Нет, не иссякла красота души северян! Она и поныне живёт в славных делах современников. Большие преобразования, происшедшие у нас на Севере за последние годы, вдохновляют К. Коничева на новые книги.
В Череповце возводилась первая домна, и писатель нашёл время оторваться от других дел, чтобы присутствовать при рождении металлургического гиганта. С тех пор он частый гость у череповецких металлургов, героев своего будущего произведения. Так рождается новая книга К. Коничева о современниках, людях, преобразующих облик когда-то глухого края.
Когда мощные экскаваторы вгрызались в земли древнего Белозерья, чтобы проложить новый водный путь на месте отжившей Мариинской системы, К. Коничев также не усидел за письменным столом. Не терпелось ему своими глазами увидеть тех людей, что несли новь его родным краям, тех, кто своими делами заслужил право стать героями ярких очерков и повестей.
Перед тобою, читатель, книга писателя, непритязательно названная им «Из жизни взятое». И он имел право на это: вошедшие в нее рассказы и повесть «В году тридцатом» действительно «взяты из жизни». К. Коничев, как это подметил еще А. С. Серафимович, пишет «сначала удостоверившись, так ли это было», пишет о том, что знает хорошо сам, не выдумывая ни событий, ни людей. Он пишет о людях, с которыми съел, что называется, не один пуд соли. И отсюда большая достоверность и убедительность его произведений.
Неутомима любознательность влюбленного в жизнь литератора. И это в свои уже немолодые годы. Литературная общественность, читатели-земляки К. Коничева отметили недавно шестидесятилетие писателя… Сердце его по-прежнему остается молодым. Константин Коничев – меньше всего в прошлом и больше всего в делах и буднях наших дней. Мы ждем от него интересных книг о современности.
Виктор Гура
В году 30-м (повесть)
ГЛАВА ПЕРВАЯ
В МАРТЕ на юге России зима свёртывалась. Земля местами обнажалась. По всей стране шла массовая коллективизация и ликвидация кулачества как класса.
Эшелон за эшелоном двигались на север поезда с Украины и Белоруссии, с Кубани и Северного Кавказа. И в этом движении поездов было что-то необычайное, неслыханное, невиданное и неожиданное.
Вереницы товарных вагонов, переполненных семьями выселенных с юга на север украинских куркулей, кубанских кулаков, киргизских басмачей и баев изо дня в день тянулись к Вологде и Архангельску, в суровые места, где необжитых, пустых, но полезных земель был непочатый край.
На севере свирепствовали крепкие морозы и лежали глубокие снега: до настоящей весны здесь оставалось ещё два месяца. А эшелоны с тысячами спецпереселенцев прибывали и прибывали, и, казалось, конца им нет.
К приему и расселению раскулаченных местные организации на севере не были готовы…В Вологде было много пустующих церквей. Вспомнили тогда и о забытых монастырях и подворьях. Они также пригодились как временные жилища для раскулаченных. Около станций и разъездов по всей Северной дороге наскоро были построены бараки, и тогда кое-как, в тесноте и обиде, были расселены семьи спецпереселенцев – старики, женщины и дети, что оставались до открытия навигации, до тёплых весенних дней, в этих ближних от разгрузки эшелонов пунктах. А всё взрослое и трудоспособное население из прибывших выстраивалось в колонны и «вооруженное» топорами, лопатами, пилами и снабженное харчами в дальнюю путь-дорогу сопровождалось под скромным милицейским конвоем в лесные дебри на малые притоки больших рек Сухоны и Двины, Пинеги и Мезени, где и нога человеческая не ступала.
В последних числах февраля начальник оперсектора Касперт, человек и без того нервный, а тут ещё изнуренный бессонницей и столь ответственным, канительным и тревожным делом по расселению кулачества, безвыходно сидел в своем кабинете и, что называется, «висел на телефоне», непрерывно получая информацию о прибытии эшелонов спецпереселенцев, о следовании колонн к местам поселения и о всяких серьёзных происшествиях, без которых в таком деле обойтись никак невозможно.
Кабинет Касперта просторный и светлый. Раньше здесь жил настоятель Духова монастыря. Стол у Касперта огромный, на толстых точёных ножках, вернее, на деревянных львиных лапах и с какими-то невероятно звериными мордами, искусно вырезанными по углам и на створках ящиков. На красном сукне старинный, сохранившийся из конфискованного имущества, тяжеловесный, черного мрамора и начищенной меди письменный прибор, столь грандиозный, что ему не стыдно было бы поместиться над чьим-либо прахом в семейном склепе знатного вельможи. На полу в кабинете истертый, когда-то пышный ковер. Впрочем, ковра в эти дни почти не видно, он застлан склеенной из множества больших листов, специально начерченной картой Вологодской губернии с нанесёнными на ней новыми местами поселений для кулачества. На карте обозначены также все зимние маршруты следования колонн к местам лесозаготовок и строительства посёлков.
Касперт нервничал. Сводки поступали самые неутешительные. Колонны раскулаченных двигались пешим путем, за обозами, крайне медленно. График следования по маршрутам неизменно и грубо нарушался. Сняв телефонную трубку с настольного аппарата, Касперт через коммутатор вызвал к себе сотрудника Судакова.
– Садитесь. И сначала подумайте, зачем я вас вызвал, – строго официально и вместе с тем загадочно проговорил он и, уткнувшись в схемы, таблицы и сводки, стал их близоруко рассматривать.
Иван Корнеевич Судаков, двадцатипятилетний парень-северянин, полный сил и несбыточных романтических мечтаний, сел в кресло и тревожно задумался. Собственно, тревожиться ему не было никаких причин. Однако он, краснея, стал вспоминать свои прегрешения. Ему вспомнилось заведённое в Вологде знакомство с одной активной комсомолкой, которая оказалась дочерью бывшего члена Государственной думы. Связь с ней прекращена… В прошлое воскресенье с одним сотрудником редакции выпили крепко. Стреляли за городом в телеграфные столбы… Нет, это не должно быть известно Касперту. Зачем же он вызвал? Ведь он так хорошо, доверительно относился к нему, как к достаточно развитому, окончившему строительный техникум и совпартшколу, исполнительному и подающему надежды работнику. Некоторое время назад Касперт вызывал его вот так же к себе в кабинет участвовать в составлении этой самой, распластанной на ковре маршрутной карты.
Касперт выглядел подвижным, деловитым и суровым. Волосы густые, без седины, смазаны чем-то резко пахнущим и зачесаны на затылок. Длинный нос свёрнут на сторону. Выпирающие скулы во время разговора как-то болезненно, криво пошаливают. Можно подумать, что он гримасничает или кого-то передразнивает. На нём ладно сидела саржевая, по его фигуре сшитая гимнастёрка с двумя ромбами в малиновых петлицах. Он всегда был готов и почему-то считал себя вправе просверлить повыше грудного кармана дырочку для почётного значка, но пока дело о награждении находилось не дальше краевого полномочного представительства и никак не двигалось в Москву…
– Не ломайте голову, молодой человек, – сказал, наконец, Касперт, выходя из-за стола. – Не так давно, когда мы с представителем земельного управления составляли маршруты следования к будущим спецпосёлкам, мы прислушивались к вашему, увы, неокрепшему голосу, полагая, что вы как местный житель кое-что смыслите…
– Я не местный, товарищ начальник, – поспешил виновато пояснить Судаков. – Я из Пошехонья. Учился в Череповце. Работая здесь, успел побывать во многих уездах Вологодчины, потому и подсказывал некоторые пути.
– Из Пошехонья? Ванька Пошехонец! Вот так и получилось по-пошехонски… По всем маршрутам графики движения нарушены. Вместо пяти суток, скажем, идут десять, да ещё и к месту не приходят.
– Я, товарищ начальник, в летнюю пору в командировках своими ногами вымерял эти дорожки. По пятьдесят вёрст иногда в сутки выхаживал…
– И мы с тем представителем земотдела к вашим пешехонским выкладкам подошли доверчиво. Летнюю мерку путей-дорог применили к зимним условиям. Вот и получилось. Что ж, товарищ Судаков? Выговором в приказе вас отметить? Этого мало… Довольно вам протирать здесь штаны. Сегодня же поведёте по одному из своих маршрутов семьсот кулаков вот сюда, в северную часть Тотемского уезда… – Касперт, держа руки в карманах галифе, аккуратно, носком сапога прикоснулся к лежавшей на ковре карте. – Вам понятно?
– Понятно. Откуда людей будем брать?
– Не людей, а кулаков, – поправил начальник. – Из-за стен Прилуцкого монастыря. Семьсот трудоспособных. Часть из них – бывшие махновцы. Добавим ещё к этой колонне восемь десятков киргизов. В помощь вам дадим двух милиционеров. Шестнадцать подвод для провизии и лесорубческого инвентаря. Можете идти. Да, информируйте обо всём с каждого отделения связи по телефону, телеграфу. Эксцессов и беглецов не должно быть… Вот мы и посмотрим, как будете вы укладываться в рамки графика.
ГЛАВА ВТОРАЯ
В ШИНЕЛИ, с кожаной сумкой на боку, с наганом на ремне, Судаков вошёл за ворота древнего Прилуцкого монастыря. Прибывшие с Украины куркули с семьями разместились на многоярусных нарах в церквах и монастырских служебных домах. Одни толкались на просторном дворе и кладбище возле своего скарба. Другие, уставшие в длительном пути, сидели около костров, грелись, кипятили воду, что-то варили, что-то выпекали на сковородках и шумно балакали, перемешивая украинские слова с русскими.
Не успел Судаков разыскать коменданта, как спецпереселенцы обступили его тесным кольцом. Вид они имели довольно невзрачный. По их облику нетрудно было заметить горечь переживаемых ими обид, а за обидами – почувствовать злобную покорность судьбе.
– Гражданин начальник, товарищ комендант, дозвольте спросить… – обратилось враз несколько человек к Судакову. – А скажите, верно, що всех куркулей скоро обратно повезут?
– Та не брехай, коль не разумиишь, – перебивали другие. – Дай о деле спросить.
– Где ж така земля Хранца Осипа? Одна людына балакала, що нас туды повезут. А чого мы тамо станем робиты, коли там и лета не бувает. Снеги да льды…
– Будут ли комиссары здесь нас спрашивать, кто за что страдает и правильно ли?..
– Геть, хлопцы! Тикайте, пийшлы прочь! Чого вси до начальника пристали. Хиба не бачите, який он молоденький. Чого он морокует?
Не успел Судаков и рта раскрыть, как подошедший спецпереселенец, тучный, высокий, с окладистой огневой бородой и красным лицом, усеянным веснушками, встал посреди толпы и, обращаясь к нему, зычным голосом заговорил:
– Будьте здоровеньки. Дозвольте знать, хто вы такие и як ваша хвамилия?
– Зачем это нужно? – почти растерянно проговорил Судаков и назвал себя по имени и отчеству: – Иван Корнеевич, здешний сотрудник…
– Тогда позвольте отрапортовать: я бывший казачий есаул Охрименко. Тепереньки милостью божьей состою помощником при коменданте, вроде старосты або старшины надо всей этой монастырской братией, а ей тут нет числа. – Он говорил вроде бы серьёзно, но чувствовалась в его словах и горькая ирония.
Потом он обратился к толпе:
– Слухайте, приказано всем передать от имени коменданта: сегодня к вечеру семьсот душ нашего народу выйдет в поход к местам нашего будущего постоянного жительства, которому суждено ли быть родиной нашего потомства ещё того надвое бабушка сказала. Будьте готовы, все, кто может робить топором, пилою, пойдут, кроме наших жинок и дивчат, – те будут до здешней весны туточки проживать…
Толпа быстро рассеялась. Никуда не денешься: попал в список – иди за ворота, становись в строй и маршем по разбитым снежным дорогам и по бездорожью на север, в леса, на необжитую землю. Люди засуетились, стали готовиться в путь-дорогу, в неизведанные края, о которых никогда-никогда им не думалось. Подготовкой к отправке был занят комендант, ему помогал «штат» писарей, выделенных из наиболее грамотных высланных куркулей.
Судаков с двумя подручными милиционерами и Охрименкой обошел весь этот лагерь, похожий на скопище беженцев, выжитых с места настигшей их врасплох жестокой войной. В детстве, в девятьсот четырнадцатом, ему приходилось видеть семьи поляков, бежавших от войск кайзера. Поляков-беженцев он видел тогда собиравшими милостыню. У тех не просыхали глаза от слез. А эти – угрюмые, хмурые и злые, покорные своей судьбе, однако не потерявшие надежды на что-то неведомое, но лучшее, ибо хуже теперешнего их положения, казалось им, не могло и не может быть.
На могильных плитах вологодских купцов и архимандритов там и тут были разведены костры. Судаков задержался около креста из белого мрамора, на поперечной крестовине которого сохли промокшие портянки. Коренастый черноусый хлопец, жмурясь от едкого дыма, шевелил палкой головешки. На подошедших он даже не взглянул, продолжая своё дело.
– Ай да Шалюпа! – похвалил Охрименко земляка и дружка по несчастью. – Просушивай… Портянки в дороге – главное…
В ту же минуту Судаков как-то машинально прочёл на кресте надпись: «Здесь покоится прах Константина Николаевича Батюшкова». Он вспомнил о том, что Батюшков – это вологодский поэт, знаменитость, участник Отечественной войны 1812 года. Имя его золотыми буквами высечено на стене педтехникума…
– Сейчас же, немедленно перенеси костер на другое место! Вот, чёрт, ещё и портянки развесил, – строго и требовательно приказал он хлопцу. Тот, недоумевая, заморгал глазами.
– Все жгуть, пекут и варят, а мне запретно?
– Да знаешь ли ты, чья это могила?
– Не моя, и слава богу.
– Наверно, грамотный?
– Як же! Восемь классов, девятый коридор! – огрызнулся парень, не собираясь переносить костер в другое место.
– Каких поэтов знаешь? – спросил Судаков.
– Тараса Шевченку, Пушкина, Павло Тычину…
– А Батюшкова?
– Ха! Не чуял про такого.
– Давай, давай… – заторопил Судаков парня. – Убирай с крестовины твои онучи. И на такой могиле чтоб не кощунствовать!..
– Ясно. А можно вопросец? – забрасывая снегом костер, обратился к Судакову Шалюпа. – Хочу знать, кого по справедливости считать куркулём: того киргиза, что имел восемь сотен кобыл, или меня, Шалюпу, с тройкой лошадей и двумя парами волов?
– А земли сколько имел?
– Пятнадцать десятин.
– Батраков?
– Малость прихватывал.
– Значит, эксплуататор?
– Допустим. А при чём моя жинка? Вон та, на мешках сидит. Она беднячка. Виновата, що за меня замуж вышла два роки назад… Да чего гуторить… Вы не знаете. А у нас на Украине такая содомия и гомерия происходит – хуже всякой войны! Великое переселение и отобрание всего нажитого. Ничему не верят. Гнут, загибают, высылают и баста!.. Ох, чем это кончится?..
Судаков не стал вступать в разговор. Некогда. Не время и не место объясняться. У каждого из нескольких тысяч, находившихся здесь, нашлось бы о чём спросить.
– Ладно, Шалюпа, не охай. Поживём – увидим. И мы не без вины виноватые. Всякое бывало, – покладисто и решительно возразил Охрименко. – Оно, конечно, если так по правилам рассуждать, то окажется, что вместе с мусором и янтаря немало повыплескали. Что ж, всему свой черёд. Янтарь отберут и отвезут на свои места. Возвратят, да ещё и с извиненьицем. Только нас с тобой, Шалюпа, едва ли коснется. Мы хоть трудовики, а всё же не совсем чистый янтарь… Ступай вот в эту церковь. Скажи всем нашим бывшим людям, чтоб одевались и были готовы к отправке…
За воротами монастыря Охрименко устроил перекличку. Все семьсот были налицо. Киргизы отдельно. Они должны были следовать за обозом, а впереди обоза – крепкая, трудоспособная сила, в возрасте от восемнадцати до пятидесяти лет.
Судаков, стоявший в стороне, после переклички подозвал к себе Охрименку и приказал ему всех построить в две шеренги и рассчитать на «двадцатки», каждой «двадцатке» выделив своего старшего, ответственного за порученное подразделение.
Охрименко сказал «рад стараться» и немедленно стал выполнять приказание охотно и даже восторженно.
– А ну, хлопцы и всякие куркули, слухай мою команду!..
Толпа заколыхалась. Оказанное Охрименке доверие было принято ими как должное.
– В две шеренги становись! – скомандовал Охрименко. – На десятки номеров рассчитайсь!.. Стоять смирно!..
Судаков удивился командирской четкости Охрименки, быстроте и слаженности построения. «Мне бы так не догадаться, да, пожалуй, меня не очень-то и послушали бы», – подумал он, глядя на шахматный порядок строя.
Образовалось тридцать пять групп, в каждой по двадцать человек. Потребовалось не более пятнадцати минут, пока спецпереселенцы сами назначили старших, а старшие составили списки каждый на свою «двадцатку». И тогда Охрименко, приложив ладонь к каракулевой папахе, доложил подошедшему коменданту и Судакову, что, согласно списку, налицо к отправке столько-то человек и что старшие групп назначены.
Во второй половине дня стало крепко подмораживать. Дорога затвердела. Снег поскрипывал под ногами. Долго шли молча длинной, растянутой вереницей – по три в ряд: двое по лоснящемуся полозу, третий – посередине.
Впереди этой длинной и необычной оравы ехал верхом на бойкой лошади милиционер Сашка Быков. Молодой, только что демобилизованный кавалерист. При нем наган и новенькая сабля. Конечно, ни для кого из куркулей не был страшен этот милиционер; наоборот, роль его – квартирмейстера – оказалась для всех важной и необходимой.
Судаков ехал в санях. С ним рядом в тёплом кожухе теснился Охрименко. Их сани шли впереди обоза. За обозом в длинных стёганых, покрытых цветным ситцем, не виданных здесь одеждах с длинными до земли рукавами устало брели киргизы. На них неуклюже высокие заячьи шапки и почти у каждого отвислые усы. С украинцами они не общались, сторонились. Даже общая участь не роднила и не сближала их.
Куркули с презрением отзывались о киргизских баях:
– Богачи, а вшивики. Жрут кумыс да кобылятину. Шатающиеся. Попрятали, небось, золотишко, а теперь и сами не знают где.
Охрименко сокрушенно рассуждал:
– Мы, жиловатые, мы и в лесах, авось, приживёмся и с холодами свыкнемся, а эти как? Что они окромя кобыл знают? Ничего. И зачем их сюда гонют?..
Киргизы с куркулями ни слова. Им казалось, что среди них есть казаки. А с казаками ни дружбы, ни доброй памяти…
Строй киргизов замыкался пешим милиционером Петькой Косныревым, тоже из демобилизованных, но пехотинцев, уроженцем из Коми области. Коснырев трудненько говорил по-русски, путал слова и понятия, однако не собирался к себе на родину Он поставил цель – выслужиться по линии милиции и, если вернуться на свою зырянскую землю, то не менее, как на должность начальника районного отделения.
Коснырев сверх меры старателен, исполнителен. Видя у Судакова два прямоугольника в петлицах шинели, готов был по его приказанию в огонь и воду. Но выглядел он сумрачно, невесело. Не поддался ли общему настроению этой массы, не охвачено ли сердце жалостью к ликвидируемому классу? На этой мысли ловил себя и Судаков. Подчас чувство жалости проникало и в его сознание. Особенно это было в первые дни прибытия эшелонов с юга.
Судаков ещё в Прилуках, как только двинулись в путь, спросил Коснырева, показывая на тяжело и медленно бредущих кулаков:
– Жалко их, товарищ Коснырев?
– Как человеков – да… как класса – нисколечко не жаль. Диктатура пролетариата знает, что делать. Наше дело служить.
– А почему такой грустный, будто корову продал?..
– Вот угадал, товарищ Судаков. Угадал. Хуже продажи. Жинка от меня не живет. Лес рубит там в Коми. Дома мало была. Вчера худое письмо пишет, с почты получено. Корова умерла – молодая, три года, а тёща стара была – тоже подохла. Просил начальника: пусти домой две-три недельки дела делать, бабу увезти. Не пустил. Куркулей этих надо водить к поселению… Вот…
– Потерпи до навигации. Пароходом быстрей… А с кулаками будь аккуратен, вежлив, не груби, товарищ Коснырев. А кто из них в пути устанет или ногу сотрет с непривычки, не давай отставать, а подсаживай таких на воза, вместо ездовых. Пусть лошадьми правят. Куркули – куркулями, а отношение к ним чтоб человеческое. Не на луну ссылают. На земле станут жить и честно трудиться. На земле, понимаешь?
– Ничего. Пусть привыкают. Наша земля тяжела им покажется. Без навозу не рожает. Товарищ Судаков, а если побегут? Стрелять?..
– Что ты! Ни в коем случае! Некуда им бежать. На родину? Так родина их сдвинула на новые места. Дальше Вологды не сбегут. А там везде заставы…
– Так зачем мы к ним, бесплатное приложение?
– Для порядка, товарищ Коснырев, для порядка. Шашку-то сними. Она у тебя только в ногах будет путаться, брось ко мне в сани. Пусть лежит.
– Мне – что… Начальство приказывает – могу и без шашки, – согласился Коснырев и, закрутив ремень вокруг ножен, положил своё холодное оружие в сани. И эта мелочь, замеченная куркулями, произвела на них умиротворяющее впечатление, хотя наган, висевший сбоку, Коснырев на всякий случай, для острастки, сдвинул себе на живот, к пряжке…
Отряд спецпереселенцев с самого места, от села Прилук, двинулся не спеша, с раскачкой. До ночлега предстояло прошагать около двадцати километров. Кулаки брели, понурив головы, словно на похоронах. И в самом деле, они не представляли себе, каким окажется их будущее. Тут ли, в северных лесах и снегах, придется осёдлость иметь, или же у них будут со временем паспорта, а с паспортом человек – вольная птица, хоть на новостройки, хоть куда, но только не домой, не в свои станицы, где их движимое и недвижимое стало достоянием колхозов. Конечно, были и разговоры о возможности вмешательства капиталистических государств: авось – война, и всё срезанное под корень вновь даст ростки!..
Не прошли они и десятка километров, как все семьсот, а за ними и киргизы, словно по команде, начиная с передних рядов, свалились, будто подкошенные. Свалились и лежат в ряд, вплотную поперёк зимней дороги, как снопы на гумне.
– Устали. Передохнуть прилегли, – сказал Охрименко Судакову. Он говорил с ним, стараясь не прибегать к украинскому языку, боясь быть непонятым. – Минуточек через пятнадцать подниму я их… Вы только мне доверьтесь, гражданин начальник. Дисциплина будет, дай бог!..
Охрименко и Судаков стали обходить весь этот длинный отряд по глубокой снежной обочине. Начинало смеркаться и на закате сильней подмораживать. От лежавших на дороге куркулей клубились испарения. Многих, если не всех, прошиб в дороге пот.
– Не лежите пластом, простудитесь! – предупреждал Судаков. – Сядьте на свои мешки, кошевки и отдыхайте. Воспаление легких в два счета схватите.
– Все равно околевать, – ответил кто-то из лежавших равнодушно, и ни один не пошевелился. Замерли. Лишь слышалось дыхание и кое-где шёпот.
– Как околевать?! Кто это сказал? – зарычал Охрименко, входя в свою роль вожака и помощника Судакова.
– Все так думают. Это не жизня. Одна радость: от земли взяты, земля всех и примет…
– Всех, да не сразу! – обрезал Судаков. – Не те разговорчики. Не теряйте бодрость духа. Вы же люди…
Никто не откликнулся, ни словом не обмолвился, и никто не пошевелился. Так и остались лежать, а некоторых сразил сон, захрапели.
Охрименко шепнул Судакову:
– Плохо. Народ уставши. Не дали им там в монастыре с дороги отоспаться…
– Дойдем до Оларёва, там будет им отдых. Полный, вдосталь…
– Далече это будет?
– Близко, тут рядом. Надо поднимать и двигаться.
– А с песнями можно? – спросил Охрименко. – С песней легче идти.
– До песен ли им?
– Ничего, запоют. Заставлю.
Спецпереселенцы, начиная с передних рядов, постепенно поднялись, построились. Охрименко сказал последнему в ряду:
– Передайте по цепи: шагать десять верст. И пусть там, впереду, запевают старую козацкую!..
Пронеслось по цепи распоряжение Охрименки, и через две-три минуты послышались голоса запевал, поддержанные всей этой многоликой оравой.
Ой, на гори та жницы жнуть, Ой, на гори та жницы жнуть, А по пид горою Яром-долиною Козаки идуть…Голоса крепли, усиливались. Самые понурые и те примкнули, стремясь показать, что и они не упали духом, что вынесут невзгоды, воспрянут на новом месте, трудом и хитростью пробьются к нормальной крестьянской жизни.
Всё громче и резче разносились по занесенным снегом полям вологодчины слова никогда не звучавшей здесь песни.
Гей, долиною, Гей, широкою, Ко-о-озаки идуть! По переду Дорошенко, По переду Дорошенко, Пид ним коник чёрный, Чёрный вороной…Охрименко спрыгнул с саней. Загорелся страстью встать в ряды своих и тоже подхватить.
– Гражданин начальник. Не стерпелось. Держите вожжи. Пешочком подойду. Эх, как здорово поют наши. Да, мы там обживёмся, концерты станем давать. Музыкантов-трубачей заведем. Не место унынию. К чёрту!..
Его басовито грудной голос звучно примкнул к голосам спецпереселенцев.
По середине пан хорунжий, По середине пан хорунжий, Веде свое вийско — Вийско запорожско Сильно-о-ое дуже!..«Черти, и в самом деле здорово поют!» – подумал Судаков. А песня лилась в таком темпе, с такими переливами голосов – то в медлительной раскачке, то с нажимом и присвистом, что казалось, будто вольная казачья конница едёт по ковыльной степи после успешного завершения боевой операции.
Замерла песня, и был слышен только скрип снега под ногами и полозьями саней тянувшегося обоза. Но вдруг позади колонны, за обозом, послышалось унылое, похожее на похоронный вой пение киргизов. Судаков не понимал этой песни, но ему казалось, что не в походе годится такое петь, а сидя на войлочной подстилке перед юртой. Была ли допета до конца песня, он так и не слышал: шум, говор и, наконец, громкий смех спецпереселенцев заглушил её.
Впереди в вечерних сумерках мелькнули огоньки небольшого придорожного села Оларёва. Здесь первый ночлег.
«Квартирмейстер» Сашка Быков успел слетать в Оларёво и, выехав навстречу колонне, доложил Судакову:
– Ночлег обеспечен. Тесно будет, зато тепло спать. В школе, маслодельном заводе, да ещё есть общественный амбар-магазея. Можно бы и в церковь, но ключи утеряны…
В этих общественных постройках и разместились спецпереселенцы. Когда все легли спать, Судаков, оба милиционера и Охрименко расположились на ночлег отдельно в избе сельского исполнителя. Председателю сельсовета, встретившему колонну, Судаков велел передать в Вологду телефонограмму о благополучном их прибытии в Оларёво.
Председатель выполнил это нетрудное поручение и на всякий случай, по своей инициативе, выставил за селом, на пути к Вологде, патруль из двух бедняков с дробовыми ружьями.
Охрименко положил под голову свернутый кожух, рядом с собой кисет и спички и уснул немедленно. Не спалось Судакову и обоим милиционерам. При тусклом свете семилинейной лампы они, все трое, лежа поперек соломенной постели, тихо разговаривали.
– А работяги-то они хреновые, – спокойно, ни с того ни с сего сказал Сашка Быков. – Прошлый раз вот такую шатию-братию я за Семигороднюю станцию в лес сопроводил. Заставили их себе жильё строить, так они, несчастные, не знают, как пилу надо держать, как за топор взяться. Того и гляди себя по ногам рубанут. Наши там, лесорубы, им стали помогать. У тех лес под корень, как бритвой. Нарубили им. Ну, прутья-то очистить полегче… Стали строиться нехотя… Счужа, как не для себя. Многие так и считают, что это «вавилонское столпотворение». Рано ли, поздно ли, а так и говорят: «Разбежимся в разные стороны…».
– Чего ты, Быков, от них хочешь, – вмешался Судаков. – Они же на черноземе выросли. Соломой печи топили. Откуда им сразу с лесом свыкнуться. Жизнь заставит. А все не разбегутся. Я так понимаю: часть, конечно, домой уедет, которых перегиб коснулся. У хлеба не без крох… Лес рубят – щепки летят.
– Щепки одно, люди – другое… – заметил Коснырев, пряча наган под изголовье.
– Жалко тех, которые попали сюда по личной злобе, по несправедливым ябедам, по личным счетам местных властей. А есть и такие. Право, есть, – тихонько сказал Быков.
– Ну, что же, – не то возражая, не то объясняя, начальственным тоном заговорил Судаков. – Революция не может обойтись без издержек. Дорогоньки накладные расходы, ничего не поделаешь, ох, дорогоньки. Сильный момент – ликвидация кулачества как класса! Что вы думаете, легко и просто даётся? Неслыханное в истории человечества дело, это у нас только. И это законно и закономерно…
– Почему законно? – спросил Коснырев.
– Читай Ленина – узнаешь.
– Ленина мне трудно. Малограмотен я. Да если бы на коми языке, легче бы понимал.
– Читай на коми. Есть теперь и такие книги. Ленин знал эту классовую породу. Писал он в своих трудах, что кулаки есть самые зверские, самые грубые, самые дикие эксплуататоры, не раз восстанавливавшие в истории других стран власть помещиков, царей, попов, капиталистов… – Притихшим голосом, чтобы не разбудить надежно уснувшего Охрименко, он продолжал, как на уроке политграмоты, просвещать милиционеров: – А что вы думаете, мы невинных агнцев, угодников божьих ведем за Тотьму? Как бы не так!.. Оно, конечно, есть и случайно пострадавшие, есть. С ними разберутся. А главное-то всё же по острой необходимости международного и внутреннего нашего положения – укрепить диктатуру пролетариата. Перевести сельское хозяйство с капиталистического частного пути развития на коллективные – кооперативные формы. А как переведёшь, если кулак сопротивляется. Прячет хлеб. Создает условия голода. Вздувает на хлеб цены. Убивает сельских активистов. Давно ли у нас под Вологдой кулаки в куски изрубили селькора… А сколько они скота извели, чтоб не сдавать государству? А как они цепляются мёртвой хваткой за собственность. Как после революции, завладев порядочными кусками земли, стали быстро богатеть и прижимать бедноту? Нет, ребята, что ни говорите, что ни думайте, а великий перелом – правильный перелом…
В эту минуту Охрименко повернулся на другой бок и захрапел еще громче. Судаков насторожился. А, впрочем, чего он сказал особенное? Не секрет, не тайну выдал, если этот Охрименко и подслушал. Коснырев привстал на постели, спросил:
– А скажи, товарищ Судаков, как в других-то странах? Почему задержка, почему нет революции? А если произойдет, так ужели так же будут высылать?
Сначала ответил ему Быков:
– Куда там высылать? Там ни северных лесов, там ни Урала, ни Сибири…
– После будет видней, – задумчиво сказал Судаков. – Это ещё проблема будущего. А может быть и такое дело: наша советская держава станет мировой крепостью для всего угнетённого человечества. Мы будем такой силой, с таким надёжным тылом и таким сочувствием трудящихся масс всех стран и народов, что там революции будут совершаться легче. Из нашего опыта там сделают свои выводы, применительные к обстановке и прочим условиям. Ленин большие надежды возлагал на угнетённых народов Востока. Вырвутся они на простор из когтей хищных колонизаторов – тогда, знаете, какой перевес будет на стороне мировой революции?.. А ведь им легче будет вставать на путь свободного развития, поскольку у них уже есть такой благожелательный и верный союзник и помощник, как СССР. Это понимать надо.
– Ты, товарищ Судаков, понятно объясняешь. Тебе бы избачом быть… – сказал Коснырев. – Видать, поучен немало.
– Чудак ты, Петька, – одёрнул Коснырева Быков, – у человека две «шпалы» в петлице, а ты его избачом!.. Он поди-ка жалованье за четырёх избачей получает и обмундирование готовое.
– Не в этом дело, ребята, – сухо проговорил Судаков и усмехнулся, увидев, как по лицу Охрименки ползали вперегонки крупные рыжие тараканы. Охрименко лежал не шелохнувшись, похрапывая. – А учился я, ребята, тоже немного, – продолжал Судаков. – Кончил Череповецкий техникум, да два года совпартшколы. Думаю, ребята, о вузе, да как вырвешься из этого учреждения?.. В ГПУ не так просто: попал – служи, пока ноги носят. Проштрафился – вылетишь с шумом и треском. А так-то мне неохота…
Тут не вытерпел и всхлипнул то ли во сне, то ли наяву Охрименко и открыл наполненные слезами глаза. Как ему, человеку богатырского сложения, бывшему есаулу казачьему, были не к лицу эти непрошеные, но простительные слёзы, мутные, мелкими горошинами скатывающиеся в рыжую, надвое развёрнутую бороду.
– Прошу прощения, гражданин начальник, я всё сквозь сон слышал, что вы тут балакали. Всё слышал…
Он поднялся. Сел на пол, протянув вдоль широких сосновых половиц ноги. Смахнул рукавом слезы.
– Может, я не так скажу, извиняй тогда, гражданин начальник. Ленина я уважаю, как никого на свете. Это силища русского народа и мирового пролетария, я так понимаю… Может, я не так скажу, но по-своему верно. Я, хоть и куркуль, согласно постановления сельрады, но душа во мне расколота на несколько частей, и в одной части есть, застряло что-то хорошее… Я скажу про Ленина. Во всех бы городах ему самые лучшие памятники…
Охрименко умолк. Молчали и оба милиционера, недоуменно поводя глазами то на Судакова, то на бывшего казачьего есаула.
После непродолжительного молчания Охрименко заговорил снова:
– И насчет кровавости и бескровности событий и всяких потрясений я вот что скажу. Без смертоубийства нельзя. Так уж испокон веков и мир весь построен, и человечество устроено, что ни у каких животных, птиц, и даже насекомых одной и той же породы, разве кроме ненасытных щук, нет такой вражды между собой, а подчас и жажды крови, как у людей… Я тоже кое-что читывал. Знаю. Задолгонько до революции городское училище окончил. В армиях в той и другой поднатолкался… Знаю, знаю… Реки кровавые от войн и революций. А вот когда присоединимся окончательно к большинству, то есть все умрём, тогда и узнаем затишье… Давно известно, хоть попы и поют «друг друга обымем…» Но объятия-то такие получаются, что кто-то кого-то душит. Полное согласие бывает только на кладбище!..
– Силён! – не вытерпел и воскликнул Коснырев. – Силён!..
Судаков встал с постели, придвинулся к Охрименке.
– Дай, Охрименко, вашего украинского тютюна. Расстроен я что-то и не спится.
– На. Верти-крути. Крепкий. По-вашему – самосад…
Судаков, приняв из его руки кисет, почувствовал в нем что-то тяжёлое. Засунул руку и вместе с щепоткой табаку вытащил георгиевский крест, чистенький, без ленты.
– Ого! Охрименко! – И бережно держа перед собой крест, осмотрел его с обеих сторон. Третья степень. Значит, это не единственный был у есаула.
Судаков спросил:
– За что такая награда?
– Грешен, да не всякому владыке каюсь! – ответил коротко Охрименко и добавил: – Простите, моя это память. Берегу.
Быков и Коснырев испуганно переглянулись. Черт бы побрал этого Судакова. По молодости-глупости готов в одной избе рядком с царским генералом спать. Кто его знает, что это за фрукт – рыжая борода!.. Кулак! И этого немало…
– Ковырните поглубже, там в кишени, то бишь в табачнице, ещё что найдёте…
Судаков снова засунул руку в кисет и достал орден Красного Знамени.
– Н-да!.. – изумился Судаков. – А это?..
Охрименко взял из его рук орден, прижал к груди, поцеловал и, завернув в носовой платок, спрятал в карман штанов.
– А это, – ответил он, – сами догадывайтесь, ничего не скажу… Будет время – правда восторжествует. Нацеплю его на грудь, как получу освобождение от переселения. Поеду на Украину, приверну в ваше ГПУ и скажу: «Вот, товарищ (а не гражданин) начальник Судаков, я поехал по справедливости в свою станицу. И дай мне бог мудрость царя Соломона, кротость царя Давида, дабы не применить мою самсоновскую силу к обидчикам моим… Я всё, всё отдавал. Возьмите!.. Только оставьте у себя в колхозе… Горы сворочу». И слушать не хотели. – На север!.. И, каюк!..
Охрименко лёг. Отвернулся. Судаков заметил, как его могутные плечи слегка вздрагивали от рыданий. До сна ли тут? Быков погасил лампу. Иначе не уснёшь. Спал ли Судаков, он и сам того не знает. Что-то вроде бы кошмарное снилось, но и слышался каждый шорох в избе сельского исполнителя. За полночь прокричал где-то первый петух, с ним, строго и правильно чередуясь, перекликнулось несколько собратьев. Судаков тихонько встал, надел шинель и, пользуясь карманным фонариком, отправился вдоль села к общественным зданиям посмотреть, как почивают спецпереселенцы. И что за чудеса?! Что за наваждение?! Не сразу догадавшись и поняв, в чем дело, Судаков даже испугался: в здании школы – ни души, в магазее – тоже, на маслодельном заводе – пусто. Только специфический запах, запах людской тесноты напоминал, что тут еще недавно было полно народа.
В конце села бродили двое сторожевых с дробовиками.
– Кого ищете, товарищ начальник? – спросил один из мужиков.
– Куркулей ищу.
– Ха! – засмеялся освещенный фонариком мужик, поправляя на плече тульскую дробовку. – Они все, товарищ начальник, по избам разведены. Население сжалилось, в теплынь пустило. Там отдохнут божески. Всё спокойно. Кони на месте, возы тоже. Беглых нет. Мы, пожалуй, уйдем. Никаких происшествиев не предвидится…
Наутро спецпереселенцы подкармливались пшенной и гречневой кашей, сваренной из «походного» запаса, что имелся в достатке в их обозе. Киргизы, купив у единоличников двух захудалых лошадей, прирезали их. Но вот беда: никто в Оларёве из местных жителей в жизни не ел конину, и никто из них не дал ни единого горшка киргизам «запоганить» лошадиным варевом. Сам предсельсовета вмешался в это дело и дозволил варить конину в банях, сразу в четырёх больших чугунных котлах, в которых обычно согревали по субботам воду. Так или иначе, все были сыты, а главное – выспались и теперь могли идти дальше.
– Орудуй, Охрименко, выстраивай людей.
– Есть, выстраивать! – отозвался бывший есаул на приказание Судакова.
Когда колонна построилась вдоль села, Судаков, подтянутый, с ремнями крест-накрест, прошёл вдоль строя и встал посредине, решив сделать предупреждение:
– Граждане! Предупреждаю. Впредь ночевать только в отведенных местах. Сегодня вы нарушили порядок. А всякие нарушения могут вызвать неприятности. Имейте это в виду. Своевольничать не-позво-ли-тельно!.. На первый раз предупреждаю. И если не было принято мер строгости, то только потому, что местное население оказалось жалостливым к вам и гостеприимным. Охрименко, ты что-то хотел сказать?
– Я, да, хотел словцо к этой бражке молвить… Хлопцы!.. Громодяна, видайте, що як скорийше добэрэмся до миста, то нам же гарно будэ. А ми брэдэм, як ленивые волы в упряжке цоб-цобе. Не гоже так!.. Потрибно шагать швидко, солдатским шагом. Шлях до уездного Кадникова-города добрый, не вязкий.
Желая подчеркнуть свою есаульскую военную грамотность и показать себя сведущим в вопросах военной шагистики, Охрименко не преминул заметить, что при государе-императоре солдаты делали по семьдесят пять аршинных шагов в минуту, а скорым шагом – то и все сто двадцать.
– А вы, хлопцы, шагаете, будто жинки на сносях. Гоже ли так?
Из колонны вырвался голос:
– Пан есаул Охрименко, тоби то просто в санях шагать…
– Шалюпа! Нэ пэрэчь! Комендант и гражданин начальник, нас сопровождающий, знает, кого брать себе в помощники. Гражданин начальник, дозвольте вести?
– Ведите, – сказал Судаков и пошел к саням.
– Колонна! Слухай мою команду. На пр-рав-в-во!.. Прямо, за конным милиционером, шагом ар-рш!..
Всё население Оларёва, хоть и не первый раз видело спецпереселенцев, высыпало от мала до велика на улицу. И были всякие суждения и разговоры.
– У нас пустых мест много, обживутся…
– Страдать идут…
– Не страдать, а трудиться. Вот бы так-то и наших кой-кого пощипать не грех.
– Доберутся и до наших…
– А здешних кулаков, говорят, на юг будут высылать.
– Этого не хватало! Они там растолстеют…
– А где у нас кулаки? Осталась одна середняцкая верхушка да твёрдозаданцы. Обложили их дополнительными налогами, а они со своим «твёрдым заданием» часто и справиться не могут. Кулаки настоящие – те уже смылись, ищи их, где пристроились.
– Найдём, – сказал сельский исполнитель, сверкая начищенной медной бляхой, прицепленной верёвочкой к пуговице. – Найдём. Всех кожевников, маслозаводчиков, закупщиков, торгашей – всех найдём!.. А куда высылать, власть подскажет…
…Дальний путь в тотемские леса шёл через Кадников и Большую Мургу, через Корбангу и Биряково, и где-то суживаясь, терялся за далекой почтовой станцией Фоминской, сворачивая в верховья лесных речушек, замаскированных толстым снежным завалом.
К вечеру колонна спецпереселенцев подходила к тихому мещанскому Кадникову, бывшему уездному городишку. И опять Сашка Быков, милиционер и «квартирмейстер», заблаговременно рысью домчавшись до места очередного ночлега и вернувшись обратно, доставил Судакову следующую телефонограмму из Вологды:
«…Передайте сопровождающему колонну спецпереселенцев Судакову: по его вине нарушен порядок в Оларёве. Ночлег куркулей на частных квартирах – недопустимое явление. Категорически запрещаю общение спецпереселенцев с местным населением во избежание распространения злостных слухов и антисоветской агитации. Касперт».
– Строго, но безрассудно, – Судаков, прочтя бумажку, порвал её на мельчайшие клочки и швырнул на ветер. – Как можно запретить общение с местным населением? Мы не по воздуху ведём эту публику, не пустыней, а деревнями и селами. Попробовал бы он сам сняться с кресла и приобщиться к этой колонне…
И, обратись к милиционеру, спросил:
– Ну, как там с ночлегом?
– Обеспечен. Кипяток, хлеб… Сена лошадям не хотят давать. Не предусмотрено.
– Мы и от овса не откажемся. Дело государственное. Пусть не шутят…
На окраине городка колонну встретил сам начальник гормилиции и с ним двадцать милиционеров. Начальник сказал, что усиленный наряд милиции прибыл с фабрики «Сокол», дабы не было эксцессов.
– Каких, например? – официальным тоном спросил Судаков.
– Скажем, убийств, побегов и прочего…
– Уберите их с глаз долой всех до одного… У людей и без того тяжелое нервное состояние. Но идут они тихо, мирно. И я отвечаю за порядок. Нам достаточно двух милиционеров, которые имеются и несут свою службу. Вы можете остаться с нами и проводить эту массу к ночлегу.
Начмил пожал плечами. Что ж, если представитель из Вологды так разговаривает, – пожалуйста. И тут же распорядился:
– Товарищи милиционеры, вы свободны. Ступайте все в управление.
– Кстати, где приготовлен ночлег? – поинтересовался Судаков.
– В тюрьме, в бывшей уездной. Она совершенно пуста. Там ни одного арестованного нет. Протоплена. Нары устланы соломой…
– Вы с ума сошли! – возмутился Судаков. – Ни в коем случае!.. Мы ведем их к месту будущей трудовой жизни. Нет, как хотите, я протестую. Не то место вы избрали для ночлега. Продумайте и перемените. Какие «добрые» кадниковцы… Видите ли, они соломки на нары подостлали! Вы, может, и аншлаг на воротах вывесили: «Добро пожаловать!». Извините. Но тюрьма есть тюрьма…
– Разве часть в театре да часть в бывшей богадельне. Киргизов, тех можно всех в бывшую гарнизонную казарму… – сразу же сообразил начальник милиции.
– Вот это другой разговор.
– Но сегодня в театре местными силами ставится «Любовь Яровая».
– Перенесите «Любовь» на завтра.
– Придётся согласовать.
– А как насчёт сена? Шестнадцать лошадей в обозе. Воза два надо.
– Не знаю. Сено у нас только в маслопроме, а там отказали. Не знаю, право, как и быть…
Весь этот разговор слышал Охрименко и ещё несколько спецпереселенцев. Когда начмил ушёл готовить ночлег, Охрименко подошел к Судакову с сияющим лицом и душевно сказал:
– Гражданин начальник, бывшие куркули балакают про вас, что они с вами согласны до Камчатки идти. Добрая, говорят, душа у человека… А насчёт сена не хлопочите. Поручите мне, я расстараюсь…
– Отбери людей по человеку из каждой двадцатки, получай хлеб. С сеном тут потрудней, – приказал Судаков.
– Был бы хлеб, а сена добудем самостоятельно, – пообещал Охрименко. – Не извольте беспокоиться. У нас ведь и карбованцы водятся, в случае чего… лошадей не заморим… Послужат…
В театре «Любовь Яровая» состоялась. Она шла не впервые. Оказалось триста мест свободных для спецпереселенцев. А так как они являлись ночлежниками, то присутствовали на спектакле бесплатно. Гулко аплодируя, они привлекали к себе внимание местных зрителей.
Судаков перед сном читал окружную газету «Красный Север»… Соревновались между собой районы, поспешно выгоняя проценты коллективизации и стремясь к полному, сплошному её завершению.
А выходя из Кадникова, колонна спецпереселенцев натолкнулась на заметное встречное движение. Кой-кто из местных жителей отправлялись в путь, куда – неизвестно. Одно знали отъезжавшие: на своей земле житья им не стало, лучше уезжать по своей воле, туда, где есть хоть какая-то, пусть и не очень надежная, возможность найти место под солнцем. А то, быть может в недалеком будущем вот так же, как спецпереселенцы, вышагивать им на голые, пустые, неизведанные места.
На третий день шествия даже переклички не производили: в каждой двадцатке знали всех налицо. Странно – в обозе недоставало двух подвод. Судаков хотел было поднять шум-тревогу, но Охрименко оказался тут как тут:
– Порядочек, гражданин начальник. Не браните нас. Два воза прессованного сена «накосили» ночью на базе маслопрома и пустили вперёд по дороге на Корбангу. Мы их скоренько догоним. А как «накосили» при таких снегах – не пытайте…
И снова – в путь. Чем дальше, тем трудней стало продвигаться. Менялась погода: за потеплением следовал то морозец резкий, то ветер, заметавший снегом дорогу. Казалось, что до весны здесь далеко-далеко.
Коллективизация в вологодских деревнях, судя по газете, завершалась невероятно быстрыми темпами. Не обходилось и без перегибов. Не желавших вступать в колхозы местные ретивые организаторы ставили в такие условия: хочешь – вступай и не хочешь – вступай.
И так было не только на Вологодчине. Иначе не появилась бы и не застала в эти дни в пути колонну спецпереселенцев статья «Головокружение от успехов». И рухнуло начатое дело, путём принуждения наспех раздутое. Из колхозов, только что созданных, к названиям которых не успели привыкнуть, люди разводили обратно по своим дворам скот, разбирали в курятниках обобществлённых куриц, искали в общем скопище сбрую, хомуты, седелки, растаскивали к своим дворам дровни. И все возбужденно галдели: «Опять по-старому…»
Ещё вчера некоторые девчата с печалью и унынием пели:
Давай, дроля, погуляем Одно воскресеньицо. Записался ты в колхоз, А мне – на выселеньицо!..А сегодня только малая, самая малая часть – сознательные передовики и беднота – остались в колхозах – примерно, вместо ста процентов четыре, шесть… Другие настроения породили новые коротушки-частушки, столь свойственные вологодской деревне.
Парни вдоль улиц шатались с гармошками.
Здравствуй, милая моя, Из колхоза вышел я. Загибали – перегнули, А теперя все вернули!..На всю колонну куркулей сумели где-то за большие деньги раздобыть один лишь номер газеты со статьей. Читали вслух.
– Значит, избегали применять убеждение, допускали принуждение…
– А у нас что там творилось!..
Зашумели переселенцы. Киргизы – и те повеселели. Авось снова к собственности, к лошадиным несметным табунам…
Размышлял – так и этак – над статьей и молодой коммунист Иван Судаков. Забежав в одно из почтовых отделений, позвонил в Вологду: как быть?..
– Выполняй задание, веди к месту!.. – только и услышал в телефонную трубку от Касперта.
Оба милиционера и Охрименко на одном из привалов обратились к Судакову:
– Колхозы разваливаются. Как понимать эту статью?.. Что-то народ воспрянул! Пользуясь послаблением, скотину развели, резать начинают. Киргизы за дешевку восемь кобыл купили на мясо. Шесть живьём ведут, двух изрубили да на кольях за плечами кусками несут – кто боковину, кто ляжку. Все дни молчали, как за гробом шли, а теперь ожили, только и слышно – шурум-бурум, шурум-бурум, и ни черта по-русски!..
Судаков не пускался в пространные объяснения. Да, после такой заварухи работа по созданию колхозов будет нелегкой. Но то, что восторжествует победа коллективизации, в этом Судаков не сомневался.
– Ликвидация кулачества как класса остаётся в силе, – сокрушенно говорил Охрименко. – Надежда на вызволение с севера и восстановление в правах зависит от общества, от сельрады и поднимай выше. Если они – и те, и другие, и третьи – учтут прошлые заслуги – а они кое у кого есть! – да простят хотя бы одиночкам былые невозбраняемые способы наживы, тогда другое дело. Нет. И этого не будет. Всех нас под одну метлу…
Семья у Охрименко, состоящая из пяти душ, осталась временно за стенами Прилуцкого монастыря. Тосковал он о жене, беспокоился за дочерей.
– Выдюжили бы, не померли бы в этом климате, а дальше – пустим корни, не умрем. Мы не такие!.. – рассуждал бывший казачий есаул. Храбрился, и всё-таки сердце, точно кто подменил, билось тревожно. Мысли путались. Лезли в голову воспоминания последних пережитых дней.
В большом придорожном селе Бирякове, где колхоз распался и крестьяне стали вновь частными собственниками своего добра, Охрименко облюбовал и купил за полцены выносливого конька местной породы, невысокого меринка.
– Начинаю обзаводиться, гражданин начальник, – говорил он Судакову. – Знать, не теряю веры на прочную жизнь в этих ваших дебрях… Уж как хотите, а ради такой покупки с хозяином туточки поллитровочки высушим. А какое же дело казаку без коня, тем более, что тут под нами своя земля будет. А впрочем, я ошибаюсь насчет своей земли, – возразил сам себе Охрименко. – Два месяца назад я читал выступления на конференции аграрников-марксистов. Там говорится, что у нас нет частной собственности на землю, нет рабской приверженности крестьянина к клочку земли и что это обстоятельство облегчит организацию колхозов. И там же сказано о раскулачивании, как о составном мероприятии в образовании колхозов.
– Так что для тех, кто читает газеты, ваше «путешествие» на север не новинка? – спросил Судаков.
– Да, не ново нам это. Однако и нового страшно много. И прежде всего перегибы, ущемление середняка-труженика. У нас на Украине под корень резали. Попробуй – разберись, найти виноватых и правых… И если будут разбираться в перегибах те, кто их допустил, – добра ждать нечего. Виновен окажется тот, кто напрасно пострадал… Со временем всё перемелется, а сейчас лучше помолчать об этом…
В Бирякове в эти памятные дни мужики пили напропалую, продолжая праздновать «Евдокиев день». «Центроспирт» опорожнили. Посылали нарочных за водкой в Тотьму и снова пили.
Скот подешевел. Всякий хотел продать лишнюю животину. Могли бы перекупщики сильно нажиться, пользуясь моментом. Но «момент» вмел две стороны: одно дело барыши, другое дело – за спекуляцию попасть в списки к раскулачиванию. Такое «счастье» неулыбчиво.
И опять спецпереселенцы, невзирая на предупреждение Судакова, разбрелись на ночлег по крестьянским избам. Теперь он был за них спокоен: никуда не денутся, лишь бы спьяна не напроказили и не пришлось бы за себя и за них быть в ответе.
Обходя крепкие вместительные биряковские избы, срубленные из могучего векового леса, Судаков наткнулся на ту самую «двадцатку» спецпереселенцев, где Охрименко спрыскивал свою обновку. На берёзовом некрашеном столе под образами стояла не одна поллитровка, а в общей сложности добрых полведра водки, решето варёной картошки, кринки и чашки с солёными грибами, луковицы и пареная репа.
Охрименко был не трезв и не пьян. Разговорчив до предела. Увидев вошедшего в избу Судакова, хотел подать команду: «Встать!», но быстро сообразил, что такой приём может Судакову не понравиться. Он поднялся из-за стола и громогласно пригласил:
– Иван Корнеевич, гражданин начальник, просим за компанию! Тутошние мужики какую-то святую Евдоху водкой смачивают, а мы спрыскиваем моего гнедого. Чашечку с нами осушите за ваше здоровье, будьте сочувственны, Иван Корнеевич.
– Не положено. Благодарю. Но не могу…
– Правильно! Ему нельзя. Ответственный. А мы уже за себя полностью ответили и расквитались… – сказал один из переселенцев.
– Ты что же, хозяин, с лошадью-то так легко и дёшево расстался? – спросил Судаков сидевшего за остывшим самоваром мужика, продавшего коня Охрименко.
– А к чему он мне? Все равно в колхоз идти придётся. Так пусть лучше денежки в кармане, чем за бесплатно коня отдавать…
– Значит, с голыми руками хочешь в колхоз? Напрасно. Спросят, где конь?
– А спрашивайте… Был да сплыл…
– Что называется, ход конём! – осклабился Охрименко, поглаживая бороду. – Я теперь могу до места верхом. Как он под седлом ходит?
– Не пробовал. Мы не казаки. Нам сёдла ни к чему. На дровнях либо в телеге надёжнее – и пьяный не вывалится… Плужок по две весны хорошо таскал… А вам, поди-ко, молодой человек, – обратился он к Судакову, – с лошадкой и дела не приходилось иметь? За сохой-бороной не хожено? Так ведь?..
– Всяко бывало. За плугом в тринадцать лет ходил.
– Не верится.
– Дело ваше. Плуг не соха – хорошо налажен, да не на каменистом поле пахать – одно удовольствие.
– То-то и видать. Наган сбоку, портфель с другого, и пошел себе пахать – руками махать…
Судаков не стал рассказывать, как в юности в хозяйстве своего отца Корнея в Пошехонье он учился пахать на старой заезженной лошади. Обучал его этому немудрому и нелёгкому делу старый дед, седой, бородатый. Пахал он ровно, хорошо. Конь делу был послушен, ходил бороздой, как по ниточке, по шнурочку – прямо, ни в сторону, ни в другую. А как только встанет за плуг мальчишка Ванюшка, сразу же старый конь повернёт голову, положит морду на конец оглобли, остановится и смотрит – что за детина еле за рогаль держится. Минуту-две конь таращит искоса глаз на парнишку, посмеётся в своей лошадиной душе над ним и, сочтя ниже своего трудового достоинства подчиняться малышу, развернётся поперёк полосы да ещё выходит на заполосок щипать траву.
Дед сначала поощрительно хохотал над упрямством лошади и над бессильными слезами незадачливого пахаря. А потом сообразил, как надо перехитрить умную конягу: сделал из мочалы бороду и привесил на веревочке к подбородку Ванюшки. И стал тогда конь тому покорен и послушен. И делу легко, и юному пахарю в семье почёт…
Судаков, вспомнив это, усмехнулся. Встал с лавки и, уходя, сказал Охрименке начальнически:
– Пей, но не перепивайся, есаул, не забывай, ты мне помощник до самого прибытия к месту. А нам по бездорожице ещё дня четыре ходу. Около ста километров…
– Далеко ещё! – Вдруг вытянувшись туловищем из-за стола, отпихивая посуду в сторону и подкрутив заскорузлыми пальцами усы, сказал Охрименко: – А хотите, Иван Корнеевич, – простите, что так величаю, не по чину, – хотите, наша колонна, все семьсот, кроме обоза и киргизов, через сутки будет на месте?..
– Не сорви себе пуп. Не подхвати грыжу.
– Не верите? А вот доверьте мне. За двадцать четыре часа, после того как снимемся отсель, будем там!..
– Ты не знаешь, какая дорога.
– Я знаю другое: деньгой здешний народ не богат. Почём, хозяин, берут возчики с версты?
– Самую малость: двое на подводу по двугривенному с версты за человека.
– Проценко, помозгуй трошки, скилько карбованцев потрибно с куркуля за пивста верст, та снова на перекладных конях ещё полсотни…
– Туточки и считать нечего, – отозвался парень, ранее работавший счетоводом. – Проста арихметика: за сто верст сорок карбованцев. Делим: два человека на сани по худой дороге. Двадцать рублей с носу, а лошадей выходит триста пятьдесят с повозками отсель, да столько же на втором упряге перекладных.
– Ясно. По два червонца. И легонько и швидко. Дозволяйте, Иван Корнеевич, всем гуртом на конях. Село большое, кругов деревни, тут коней много. Оплатим сполна. Деньги я соберу с куркулей. Представьте: четырнадцать тысяч за провоз достанется в карманы здешних мужиков.
– Действуй! Собирай червонцы, – решительно согласился Судаков и мысленно одобрил активность и сообразительность Охрименки. Ему хотелось быстрей завершить маршрут. А тут как раз и выходит на трое суток раньше. На перекладных, да ночку одну придется вздремнуть в санях – и путь завершён. – Действуй, есаул. Соберешь деньги – немедленно через исполнителей и посыльных подводы соберём.
– За деньги и поп пляшет, – участливо сказал хозяин.
Куркули, сидевшие за столом, допивали водку за здоровье гнедого коня, за предприимчивость Охрименки. А он уже не пил, скоблил пятерней складки на лбу и отдавал распоряжения. Раз сказано: «Действуй!», он может действовать и не в таких делах. То ли бывало в его жизни…
– Проценко, Дзюба, Гнатенко и ты, Шалюпа, быстро созвать сюда всех старших по группам. И скажите им, чтобы каждый принёс по четыре сотни карбованцев, по двадцатке с человека. Через полчаса быть здесь!.. Мой приказ…
Между тем Судаков шёл к сельсовету, чтобы предупредить председателя о том, что необходимо набрать в Бирякове и окрестностях нужное количество подвод. Шел Иван Корнеевич и думал, как он по возвращении в Вологду сумеет доказать Касперту точность прохождения колонны спецпереселенцев по составленному при его участии маршруту. И ещё назойливо вставал перед глазами и не выходил из его мыслей этот крепкий куркуль с загадочной биографией и широкой натурой – Охрименко.
«Вернусь в Вологду, надо познакомиться со всеми на него данными. И если они скудны, запросить оперсектор или окротдел по месту его прежнего жительства…»
Придя в сельсовет, он даже записал себе в блокнот, чтобы не забыть потом это сделать, хотя бы из простого любопытства. Но если бы в тот час Судаков был в избе, где Охрименко собрал старших групп, и послушал бы его, то многое, наверно, для него стало бы яснее. Впрочем, при Судакове бывший казачий есаул, возможно, и не стал бы так откровенно рассказывать о себе.
Кто-то из куркулей, подсчитав общую сумму собранных денег и усомнившись, как бы чего не вышло, высказал пожелание поближе и поглубже познакомиться с биографией Охрименки.
– Мы не вси разумием, кто есть такой Охрименко. Четырнадцать тысяч карбованцев в ловкие руки якого-либо авантюрного типа, гарная була бы пожива!..
– Хотим знаты автогеографию его казачьей и прочей жизни.
– Нехай кажет. Послухаем… – поддержало ещё несколько голосов.
– Що таке, громодяна ликвидируемого класса? Веры мне нема?.. – Охрименко встал с видом обиженного.
– Та не то. Многие туточки не знают тебя, люди разных округов и районов… А деньги большие…
– Колы всим завгодно, кажу о себе. Слухайте, щоб не повторяться уперёд…
Охрименко сел за стол. Со стола харч и посуда были убраны. Лежали пачками собранные червонцы.
– Жизня моя пэстрая, полосатая с трэщинками-щелями и ухабами. Було о что спотыкнуться и не раз и не два… – начал Охрименко рассказывать о себе степенно, плавно, неторопливо, перемешивая украинские слова с русскими. Он чувствовал и понимал, что большинству спецпереселенцев действительно хотелось о нём знать, какая он птица. По виду – матерый казак, а для чего пригоден? Гож ли такой казак, если не в атаманы, – такой должности не предвидится, – то хотя бы в будущие председатели всего спецпосёлка? И эту сторону любознательности Охрименко прикинул в уме, учитывая, что и как надо сказать ради всеобщего с ним знакомства.
– Колы бы вы знали про мою жизню дореволюционного периоду и по час ликвидации нас як классу, то все подывились бы який я куркуль, прости бох!.. Припоминаю себя хлопцем рокив шести, або семи: я вже тогда пишов у працю, на поле пшеницу сняты со своим, царствие ему божие, батькой. И хотив вылизти на воз, та упав пид колеса – дюже гарно мине помняло и кости трошки повыворачивало… У ти поры, при царе, у батьки мово було земельки три надела, да у князя одного арендовал дэсетинок пьять. Пара волов, два коня, коров две. Прочая живность нэ в счёт. И малый я, а на сорочку, або штаны мог заробить. Мине стало пид двадцать рокив. Ох, до работы був упёртый!.. Землю гноили навозом, щоб вона хлиб родыла лучше князя… Захватыла империалистычна война, всё дило покрыла. Куды деться? Поступив на завод, в пролетарии усих стран!.. Жинку дома оставил. Сосидки-солдатки та козачки женку мою попрекали, що их чоловики воюют, а я на заводе скрываюсь. Попал в мобылизацию Казачьи части. По правде кажу, дрался – двух «Егориев» получил. Що верно, то верно. А потом нас и меня – на Балканский пивостров, да во Хранцию пароходом с конями вмисте. И тамо мы зазнали разного лиха, як дизентерии та малярии. Богато товарищев полегло. И меня те хворобы мучили, як бачите – уцелел. И чуемо, що в России революция и дело к миру… Хранцузы нас на автонабили и у тыл!.. Мы ни воеваты, ничего робыты не стали. Нас силою под голые шашки – в южную Ахрику. Солнце пэчет, пот тэчет – дыхать нечем. Люди голые, кожа у всих як на моем гнедом. Житья нам нема. И тут настал благословенный час. На корабль через Ахфины, Стамбул и в Одесту. Ни в Одесте, ни в Очакове на сушу не пустили як зараженных агитацией большевистской. Весь юг був под белым войском, сами розумийте. Кое-как выбрались. Доихав до своей станицы. Як побачив – чуть не вмер! Пусто мисто. Жинка от тифа на кладбище, батько тоже. А тут красные подошли, я в конную армию. Не стану про всё – длинна та басня. У красных служил добре, як и при Мыколае последнем. Я не к анархии, не к бандитизму не був причастный. Честно сажусь на свою зимельку – начинаю робыты. Год, и два, и три роблю. Сила есть. Жинку добрую взяв, богатеныку с придачей двух волов. И дальше – бильше, подразбогатев!..
Охрименко вытер потное лицо рукавом рубахи. Поглядел на равнодушно слушавших его земляков, подумал, что и у них, у каждого за спиной прожитая жизнь, ибо время то было такое, не сидячее, не запечное. И не стад увлекать их подробностями своего рассказа, лишь добавил:
– Да, разбогатив. Земли було в достатке. Двух наймычек-робитниц держал. Четырех дочек заимел от новой жинки. Сосидки, и те смеялись: «У тебя, Охрименко, як у самого государя було четыре дивчины. Смотри, щоб к стенке не поставили, як Романова». Обошлось без того, да, бачите, не всё гладко. А що кажу о колхозе? Веры у меня тут, кажу, мало було. Утомление и непонимание. Но як взяли за гриву, туточки на дыбы не вставай. Все отдаю и говорю: «Вот вам, господа-товарищи, моя зимля, вот вам половына моего трахтора (с сосидом пополам имели трахтор), вот вам волы и всякий инвентарь, тильки не трогайте миня и семью, на север не высылайте от родной станицы…» Нет, нема мне веры. Станишники проголосовали в сельраде, ночью погрузили в вагон – и скрежет мой зубовный и выплаканные очи жинки и дочек – всё нипочём!.. Не пропадём и на Вологодчине. Я так морокую. Есть ещё в руках сила, в голове смекалка. Трудом своё возьмём…
Хотел Охрименко показать спецпереселенцам орден. Воздержался. Незачем хвастать, не во благовременьи. Орден – дело немалое, святое. Про себя думку таил: «Все образуется на новом месте. Самому Семену Михайловичу Буденному заяву напишу. Воевал на красной стороне, а богатеть и закон и политика дозволяли, я не опасный элемент».
– Так, значит, сумление тут кой-кого берёт насчёт собранных денег? Я чуял, балакали некоторые. Спасибочки за такое «доверие». Не треба мне гроши. Берите и рассчитывайтесь за подводы вы, старшины групп. Вот. Всё… Можете расходиться. Деньги возьмите: и мне не хлопотно, и вам спокойней спать будэ, як бы Охрименко с тысячами карбованцев не тикал на Украину. Спасыбочко. Спокойной ночи. Эх вы!.. Куркули!..
Утром на рассвете всё было готово. Сотни подвод нахлынули на улицы села Бирякова. Тронулись нескончаемой вереницей на санях, дровнях и розвальнях. Киргизы, и те молчком-молчком тоже наняли подводы, поехали за куркулями. Не отставать же: как бы не заняли лучшую землю, как бы не обидели их! Охрименко ехал верхом на своей «обновке» – гнедом меринке, сразу за санями Судакова и восхищался: «Конь, что надоть. За такого бы у нас в станице и в пять раз дороже заплатили».
– Гражданин начальник, Иван Корнеевич, а как будем на мисти, вы там этих киргизов от нас подальше. Кабы недоразумениев не было, хоть и други по несчастью, а не они нас, не мы их любовью не жалуем. Интернационал одно, а нации разные.
– Я думаю, всем вам там тесно не будет, – ответил Судаков, шевеля в санях прозябшими ногами. – Из-за земли не подеретесь. Из-за лесу тоже. А больше вам и делить нечего.
Где-то за Фоминской почтовой станцией, севернее Тотьмы, спецпереселенцы ещё раз пересели на другие, заранее приготовленные подводы. Ехали всю ночь за верховым Сашкой Быковым и к рассвету были встречены на одном из перекрёстков представителями районной власти. Здесь мог бы Судаков передать их по списку тотемским начальникам, но так как до места поселения оставалось совсем пустяк – в сторону от просёлка километров пять, – он решил доехать, чтобы взглянуть и убедиться, сколь пригодна местность для застройки.
И сразу триста с лишним подвод, проехав, проложили дорогу на широкую лесную поляну.
Тотемский предрика, встретив прибывших, сел в сани к Судакову.
– Многонько ведёте. Большой посёлок понадобится, да и не один. Участок им вот этот весь определен! – повел он рукой, показывая необозримую окрестность. – Очень удобное для обжития местечко. Этим подвезло…
– Да, вижу, вижу. Место богатое. Не низинка, не болотинка…
– Думали тоже, когда определяли, – сказал председатель. – С нас спрашивают выполнение плана по лесозаготовкам, так мы их поближе к глубинке, к нетронутым массивам. И лесок подрубят, и жильё есть из чего соорудить. Да и подсеки для земледелия будут, еще какие!
– А что здесь, позвольте знать, растёт на крестьянских полях? – спросил Охрименко.
Председатель взглянул на него, видит – верховой, статный, с казацкой выправкой мужичище. Ответил:
– Да как вам сказать, гражданин: что посеешь, то и пожнёшь. Рожь сеют, овёс, ячмень, горох, лён особенно хорош на подсеках. Пшеничку тоже сеют. Из овощей – картошка, капуста, брюква, огурцы…
– Добре! Добре! – отозвался казак, – а мы туточки кое-что и добавим…
И многие из спецпереселенцев как-то просияли, увидев землю и почувствовав её незатронутую благодарную мощь.
– Дайте нашему брату полную волю, мы и здесь куркулями будем! – сказал Шалюпа, упорно придерживающийся своих взглядов.
– Воля будет не сразу, – сказал председатель. – Но трудиться коллективно вам придётся с первого же дня. В одиночку и шалаша с непривычки не построишь. А мы научим сразу строить шести– и восьмиквартирные хаты для жилья, дворы для скота, сараи под инвентарь… Река под боком. Колодцы не надобны. Вы только полюбуйтесь: какая благодать на вашу долю досталась!..
Спецпереселенцы уже привыкли к зимнему вологодскому пейзажу, но тут, действительно, было на что и заглядеться…
– Кажись, жизня будет…
– Да, есть к чему руки приложить.
– И сердце!.. – добавил Охрименко. Глаза его улыбались, глядя на Судакова.
– Я так и чуял, и догадывался, що Иван Корнеевич на худое мисто нас не приведёт. Красота, хлопцы!..
Кругом со всех сторон высился лес. На север бесконечно тянулся тёмный густой ельник вперемежку с матёрыми соснами. Изредка виднелась там и тут пихта и лиственница. Южней от поляны, под глубоким снегом и льдом, пока ещё дремала лесная речка. Она не узка – можно сплавлять лес до Сухоны и промышлять рыбной ловлей.
Высокий правый берег уже освободился от снега. За проталинами на юг, по течению реки, раскидывался обнаженный лиственный лес: весёлый белоствольный березняк, запутавшиеся в корнях вязы, черёмуха, рябина и подножный густой кустарник всякой лесной растительности – смородины, малины, можжевельника, чего на Украине встретить в таком изобилии и в таком девственном состоянии невозможно.
– Так вот он какой Север! – вместе со вздохом облегчения вырвалось у Охрименки. Он сошёл с коня. Носком сапога ковырнул на проталине. Чернозём с многолетним перегноем трав оказался в верхнем слое.
Встал Охрименко на колени, поклонился на восток и поцеловал землю:
– Принимай, матушка, принимай, и не будь нам мачехой, а мы твоими верными сынами клянемся быть!.. Не опозорим ни тебя, ни себя… А вы, Иван Корнеевич, через годик-два приезжайте сюда до нас, гостем нашим будете да подивитесь, как мы тут жить и робить будем…
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
НА ОПЕРАТИВНОМ совещании начальник окружного отдела Касперт похвалил Судакова, поставив его в пример другим сотрудникам:
– Вот видите, молодой работник, ещё, казалось бы, недостаточный опыт имеет, а как он удачно провел семьсот восемьдесят спецпереселенцев. Ни одного побега! И в маршрут вовремя уложился. Судаков, встаньте, когда о вас говорят даже с положительной стороны…
Судаков встал, одёрнул на себе гимнастерку, поправил поясной ремень и висевший сбоку револьвер и стал, что называется, «глазами есть начальство». Такую выправку и прямой взгляд любил Касперт – латыш, коммунист со стажем подпольщика.
– Я вас назначаю старшим группы, товарищ Судаков, по приёмке приходящих с юга эшелонов. В вашем распоряжении будет классный вагон, сорок помощников-регистраторов из числа мобилизованных коммунистов и комсомольцев. Обязанности простые, но крайне ответственные: принимать на месте, переписывать всех по надлежащей форме, высланных кулаков и их семьи, затем отправлять от станций железной дороги вглубь на поселение. Ясно?..
– Слушаю, товарищ начальник. Ясно.
– Займетесь этим делом на следующей недельке. Уточнения, что и как, от меня будете получать непосредственно, в любой час, в любую минуту. А пока, есть у меня одно серьёзное поручение. Поговорим особо. Останьтесь после совещания. Сегодня или завтра с утра вам придется выехать в Междуреченский район…
– Слушаюсь. Лучше бы завтра утром пораньше. Сегодня намечено кое с кем по-деловому встретиться, да в баню не мешало бы сходить.
После оперативного совещания Касперт, оставшись с ним вдвоём, инструктировал чётко и подробно:
– Поедете в штатском. Никаких портфелей. Оружие в кармане. Браунинг с запасными обоймами на всякий случай. Там группируется озлобленное кулачество. Есть в Междуречье такое место – называется «Митрополия». Целый церковный приход. Когда-то он принадлежал весь – с землей, лесами и реками – ростовским митрополитам. Это был своего рода священный «заповедник». Сюда приезжали на покой, доживать свои оставшиеся дни, а иногда и годы, из разных городов архиереи, епископы и даже митрополиты. Одним словом, по традиции нынче приехал в «Митрополию» некто Н… бывший епископ. Но, покидая свой пост, оставил за собой «хвост». Увёз из своей бывшей епархии митру. Знаете, такой блестящий головной уборец из золота и бриллиантов стоимостью в тридцать пять тысяч рублей золотом. Церковь, как религиозный культ, отделена от государства, но ценности, созданные и нажитые народом, принадлежат государству. Надо изъять эту ценность и доставить сюда. Ознакомьтесь по имеющимся материалам, что собою представляет с политической стороны «Митрополия», насыщенная кулаками, и будьте на этой операции осторожны, аккуратны, тактичны и находчивы. Можете не сомневаться, если узнает местное кулачество, зачем вы туда приехали, вас могут изрубить в куски, как недавно изрубили селькора Неёлова…
– Радужная перспектива! – заметил на это Судаков.
– Вопросы у вас есть?
– Нет.
– Вот вам моя счастливая рука. Желаю успеха!.. Да, забыл сказать самое существенное, – спохватился Касперт. – Ни ареста, ни обыска не производить. Ордер на изъятие митры заготовлен. А вы под копирку заранее приготовьте акт в двух экземплярах о добровольной сдаче епископом таким-то ценности такой-то. И распишитесь. Один – принял, другой – сдал. Вот и всё.
Разумеется, такая интересная и небезопасная операция не могла не волновать Судакова. Но и обдумывать её заранее было невозможно. Придётся исходить в своих действиях из конкретной обстановки. Значит, надо проявить находчивость и сообразительность на месте действия.
Утром Иван Корнеевич выехал до станции Туфаново. Оттуда взял извозчика до Святогорья. В Святогорье Судаков нанял до «Митрополии» другого извозчика из сельских активистов. Лошадь была молодая, стремительная, почти не умевшая ходить шагом. Неслась она, как ошалелая, вспотев на ходу так, что пена хлопьями летела с её боков во все стороны.
К вечеру Судаков приехал в Митрополье. Оставив извозчика с лошадью около сельсовета, он направился к большому обшитому досками крашеному дому, где жил на покое епископ.
В просторном помещении – три окна сбоку, четыре спереди, на крашеных жестких диванах сидят бородатые с обветренными лицами мужики; несколько женщин – поодаль от них, около дверей. Посреди комнаты, устланной чистыми полосатыми половиками, небольшой цветной ковёр. На ковре в жестком деревянном кресле сам владыка-епископ, ведущий душеспасительную беседу с посетителями. Весь передний угол и стены от угла по сторонам, и широкие полки заставлены иконами. Перед Спасом в углу большой металлический подсвечник. Десяток свечей предыконных и лампа-молния достаточно ярко освещают присутствующих.
Судаков на минутку или и того меньше замешкался у дверей. Потом, сам себе не отдавая отчёта – то ли от растерянности, то ли так быстро сообразил, – сделал три шага от дверей, снял каракулевую шапку и трижды истово перекрестился на божницу. Затем поклонился людям и, улучив паузу в беседе епископа, подошел к нему, сложа руки – тыльную сторону правой на ладонь левой. Смиренно, отрочески проговорил:
– Благослови, владыко…
Он хотел сказать «благословите», но вспомнил, что в молитвах даже к богу обращаются на «ты», и решил, что поступил правильно. Епископ, кряхтя, привстал с кресла, благословил его и протянул руку. Судаков чуть прикоснулся к ней, пухлой и пахнувшей ладаном, холодными губами, сказал:
– Владыка, я к тебе, простите, к вам с важным делом от его преосвященства…
Он посмотрел на мужиков. Некоторые, судя по их внешности, были явные кулаки, не плакатные, а обыкновенные, которых в жизни уже приходилось Судакову видеть немало. «При таких „свидетелях“ выполнить задание невозможно», – подумал он и тихо добавил:
– Велено поговорить наедине…
Мужики запереглядывались – одни настороженно, другие с любопытством. Внешность Судакова не вызывала подозрений: на ногах простые валенки-катанцы, пальто чёрное суконное с каракулевым воротником. А то, что он так по-крещёному вошёл в дом и припал под благословение владыки, никакого сомнения не оставляло в том, что епископу на покое не угрожают опасности.
– Братие во Христе, – обратился епископ к своим посетителям. – Вы тут можете взять евангелие и почитать громогласно или же священную псалтырь возьмите и пропойте: «Да воскреснет бог и расточатся врази его». Я тем временем побеседую с юношей – посланником, прибывшим ко мне от его преосвященства, епископа Вологодского и Тотемского… Пройдём, чадо, в мою горницу…
Судаков прошёл вслед за епископом в соседнюю, малую комнату, где была одна лишь икона в позолоченном киоте да шкаф, наполненный книгами в кожаных переплётах. На столе, покрытом скатертью с кистями до пола, в длинной тарелке лежала недоеденная крупная рыбина…
– Садитесь, отроче младо, садитесь. Пакет есть от архиерея?.. Давайте, давайте, что он шлёт?..
– Я из ГПУ, – коротко и внушительно, с чуть заметным волнением проговорил Судаков, показывая епископу служебное удостоверение.
Тот молча сквозь очки взглянул на фотографию, прочёл и запомнил фамилию. Посмотрел пытливо на Судакова, вздохнул:
– Чем могу быть полезен?
– Вот, читайте ордер на изъятие у вас имеющейся ценности, присвоенной вами.
– Эта митра собственность моя, дар православных за мою долголетнюю службу… – немного заикаясь, проговорил епископ, кладя ордер на стол.
Судаков, как сумел, стал возражать и требовать:
– В этой митре, как нам известно, заложено целое состояние, принадлежащее государству. Эту ценность создал народ, а народ не весь состоит из верующих, государство же состоит из всего народа. Ценность, стало быть, государственная, и вам придется её сдать. Я её приму, как добровольно сданную, не производя обыска…
– И вот, пропадёт вещь… – тяжело вздохнув, проговорил епископ. – Сдадут в лом, переделают нечистыми руками ювелиры ни бог весть на что… Берите. Но за мной право обжалования ВЦИК и Московский митрополит будут знать… об этом, простите, насилии.
– Не советую, владыка. Если будете жаловаться – жалуйтесь. Ваше право. Но если вы самый факт изъятия у вас государственной ценности используете в агитации среди ваших посетителей, то мы можем кое-что рассказать сами гораздо шире через газету «Безбожник».
– Помилуй бог! – воскликнул владыка. И, склонив голову, замолчал.
– Где она у вас находится? В церкви? Здесь?.. – торопливо спросил Иван Корнеевич. – Не будем, владыка, впустую на разговоры и размышления тратить время.
– Да, я думал, ожидал… Но такая ценность!..
– Ценности нужны государству. На Волге строится тракторный завод. Коллективным хозяйствам нужны тракторы. А по имеющимся данным, митра, присвоенная вами, равняется не менее как стоимости пятидесяти тракторов!.. Я, простите, не агитировать вас приехал. И прошу меня не задерживать.
– Пятьдесят, говорите, тракторов! Дешево цените, отроче младо. В Америке за эту митру и пятьсот тракторов бы не пожалели… Нужны ли вам понятые? – упавшим голосом спросил епископ.
– Зачем? Я сказал: принимаю как добровольно вами сданную ценность. И чтобы «Митрополия» здешняя об этом не знала, по крайней мере, сутки… Во избежание недоразумений.
– Н-да… вы ловкий, отроче, ловкий. Что ж, несть власти аще не от бога. Сдаю. Минуточку, только минуточку. Я успокою православных…
Епископ подошел к двери, раскрыл её и, став на пороге, сказал посетителям:
– Я слышу, вы замолчали… И вижу на печальных лицах ваших тревогу. Будьте спокойны, я вас не покину. Преосвященный из Вологды просит меня приехать на пасху принять участие в пасхальной службе, погостить у него и даже предлагает покой и приют до конца дней моих. Но я отпишу и дары ему отправлю с посланцем его. Пусть не будет в обиде. По весенней бездорожице на пасху мне не езда. А покойнее «Митрополии» здешней и наши отцы и предки не находили места. Что замолкли, мои любимые? Староста Иннокентий, исполните во услышание хором: «Да воскреснет» на двенадцатый глас. Я скоро… – Он закрыл дверь на ключ. За стеной послышалось не совсем стройное, протяжное пение псалма. А епископ в это время отдернул занавес, деливший комнату на две половины. За занавесом широкая никелированная кровать; под тремя взбитыми пуховыми подушками – теплое лоскутное одеяло. Рядом с кроватью – огромный кованый железом сундук. Епископ наклонился, повернул ключ. В сундуке раздался звон колокольчиков, искусно вделанных в старинный замок. Нажатием кнопки крышка сундука открылась сама собой, слегка ударившись о стену. Сверху в сундуке лежала большая, обрамлённая древним орнаментом грамота, печатанная золотыми буквами. В тексте – имя, отчество, фамилия, перечисление заслуг и духовное звание владыки. Все это Судаков быстро пробежал глазами, ибо церковнославянскую грамоту он изучал ещё в школе с неизменными отметками пять с плюсом. Епископ достал из сундука завёрнутую в шёлковый плат митру. Она была из золота, усыпанная бриллиантами и ещё какими-то светящимися драгоценностями, о которых Судаков не имел представления. Одно понимал он: действительно, вещь ценная. Красивая. Но полсотни тракторов нужнее этой вещи!.. Он расписался в копии акта, расписался и епископ, получив вместо митры расписку, как оправдание.
– Заверните в плат и вот ещё наволочку возьмите. Бережно. Прошу бережно… Бог смилуется, быть ей на главе достойного пастыря Христова. Кстати, молодой человек, прошу вас в акте добавьте ещё своей рукой «принята в целости и сохранности полной…»
Провожаемый из горницы епископом, Судаков вышел другим ходом через коридор на крыльцо, держа в руках дорогое сокровище. Сердце билось учащённо. Дело сделано. Теперь остается довезти благополучно до Святогорья. А там до Вологды можно для охраны взять милиционера, а то и двух…
Касперт был доволен.
– Объявляю благодарность и разрешаю два дня выходных! – сказал он торжественно, когда Судаков доставил в его кабинет митру.
Касперт залюбовался на поражающую взгляд драгоценность тончайшей работы неизвестных тружеников, искусных дел мастеров – гранильщиков и художников. Это они создали такую изумительную вещь ради украшения седой головы пастыря духовного и возвышения культа христианского божества, и без того ослепляющего разум простых людей…
А потом Касперт вызвал секретаря:
– Надо эту штучку сдать в финансовые органы по всем правилам самого детального оформления. Спрячьте пока в несгораемый шкаф. А вы, Судаков, в совпартшколе изучали политэкономию. Теперь поразмыслите абстрактно о бесполезности некоторых сокровищ и превращении их в предметы общественно полезные. Кстати, перечитайте известную статью Ленина о значении золота в тех условиях, за создание которых нам ещё бороться и бороться…
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
У ИВАНА КОРНЕЕВИЧА Судакова, несмотря на его молодость и малый, всего лишь двухлетний, стаж работы в органах ГПУ, были свои удачи и неудачи, успехи и упущения. Он не думал о блестящей карьере, о выдвижении, а хотел быть честным рядовым работником и, по возможности, меньше ошибаться, ибо последствия от ошибок в нелегком труде чекиста могли быть тяжелыми и непоправимыми.
Был он тогда холост, жил одиноко в тесной комнатке: стол, два стула, железная кровать с тощим тюфяком. На стене без стекла и рамки портрет Феликса Эдмундовича да две косо приколотых групповых фотографии с выпускных курсов техникума и совпартшколы. Стояла ещё в углу комнатки низенькая этажерка, на ней сотни две книг и брошюр. Читать их не находилось у Судакова времени. Дни и ночи на службе, в командировках. Соседи по этажу редко видели его. Письма и газеты засовывались в щель под дверь. В эту же щель подслушивались разговоры, если кто-нибудь из товарищей приходил к Судакову. В весенние дни тридцатого года, в горячий период размещения спецпереселенцев в районах Северного края, в первые месяцы массовой коллективизации, вновь решительно начавшейся после статьи «Головокружение от успехов», Судаков целыми неделями не заглядывал в свою «конуру». Хорошо, что одна сторона печи из комнаты соседа выходила в пустовавшее его жилье, и тепло здесь было постоянное.
С подчиненной бригадой помощников-регистраторов Судаков разъезжал взад-вперед по Северной дороге в пределах своего округа, принимал прибывавшие с юга эшелоны и, по указанию начальства, направлял кулаков в лесозаготовительные районы.
Леса Севера с давних пор было принято считать «зелёным золотом». Это зелёное золото текло по сплавным рекам к архангельским лесопильным заводам. Валютный цех страны – лесной Северный край – давал государству большие доходы от сбыта леса за границу.
Кроме раскулаченных, выселялись на просторы севера фанатики-сектанты, уголовные элементы, разные бывшие люди, не привыкшие к труду, остатки разбитой контрреволюции, когда-то активные белогвардейцы-деникинцы, махновцы, петлюровцы и прочие, не сложившие своего оружия в условиях ожесточенной борьбы.
Город посылал на помощь деревне рабочих-двадцатипятитысячников. Часть их прибыла на Север в колхозы; многие из коммунистов стали комендантами новых поселений.
Год тридцатый был нелегким. Судаков, как и другие сотрудники окротдела, не знал покоя и не находил времени хоть немного отдохнуть от утомительной, тяжелой работы.
Однажды в Грязовце, приняв сразу два эшелона, он, выбившись из последних сил, упал на рельсы, разбил колено левой ноги и не мог подняться с места. На носилках его унесли в больницу. Трое суток пролежал он, успел за это время выспаться и, не поправившись, перевязанный, опираясь на палку, поехал на станцию Харовскую к своей бригаде.
И вот тут случилось серьёзное недоразумение, отразившееся на судьбе Судакова. Он никак не ожидал, что в эти дни произойдет крутой и решительный поворот в его жизни, чуть было не кончившийся роковой развязкой.
В Харовской Иван Корнеевич получил депешу – приказание разгрузить очередной эшелон высланных и направить их в сопровождении двух милиционеров в сямженские дебри, к месту работы и жительства. Номер состава, количество вагонов, время прибытия – все было в депеше указано в точности. А между тем два эшелона, шедшие с юга, в пути, на одной из станций, около Данилова, один другому уступили путь. Поезд, следовавший в Архангельск, и поезд, шедший до Харовской, в графике движения сбились, не поменявшись номерами. Количество вагонов в обоих эшелонах совпало. И вот бригадой сотрудников под руководством Судакова на Харовской была высажена большая группа бывших петлюровцев и осужденных участников контрреволюционной националистической организации «Союз вызволения Украины».
Правда, появление эшелона бессемейных, на вид интеллигентных людей, отчасти удивило Судакова. «Во, какие субчики-голубчики понаехали, – подумал он, – наверно, это последние заскребки ликвидированного класса. Скоро всё кончится…»
Конвой у этого эшелона был усиленный – из пограничников.
Начальник конвоя прочёл предъявленную Судаковым депешу и сдал эшелон, передав ему все сопроводительные бумаги. Отцепленный от состава вагон с пограничниками с первым же обратным поездом помчался на Украину.
Спустя некоторое время другой поезд с кулацкими семьями проскочил Харовскую и через сутки прибыл благополучно в Архангельск.
Тут-то и началось. На второй день приехал сотрудник заменить Судакова.
– Ну, дружище, ты так наколбасил с чьей-то помощью, что даже митра епископа тебя не спасёт от наказания. Крепись, а главное, ищи якорь спасения…
– А что?
– Да ведь ты перепутал поезда…
Понял тогда свою оплошность Судаков. Но было уже поздно. Ничего нельзя было исправить на ходу. Холодный пот выступил на его лице. Дрогнули колени. Немощно опустился на нижнюю полку купейного вагона, где был его «начальнический уголок».
– Говори всё, всё говори… – не своим голосом попросил он приехавшего товарища.
– Вот и скажу. Большой переполох в отделе получился. Сам полпред звонил из Архангельска Касперту. Потребовал немедленного и тщательного расследования. По линии Транспортного ГПУ выехали работники в Данилов устанавливать виновных. По пути в Сямжу, пользуясь слабостью конвоя, несколько заядлых петлюровцев сбежало из колонны. Троих поймали. Пятерых ищут. Эшелон спецпереселенцев, что шёл сюда, выгрузили на Исакогорке и теперь решают, там ли их пристроить или возвратить сюда. Группу политических преступников из Сямжи должны препроводить под усиленным конвоем в Заполярные районы. Касперт вне себя. Приедешь в Вологду, позвони дежурному и без вызова лучше не кажись никому на глаза. Подумай хорошенько, как это произошло. В таких случаях не вредно думать хотя бы над поисками причин и обстоятельств, смягчающих виновность и облегчающих твою участь…
– Что же делать? Что же делать?.. – спрашивал растерявшийся Судаков приехавшего ему на смену сотрудника. – Как же быть?..
– Тебе, дружище, видней. Тут уж никакие подсказы не помогут. Одно скажу: товарищи по работе все тебе сочувствуют. Уверены, что с твоей стороны злонамерением не пахнет. Но притупление бдительности налицо. Вот и соображай…
Ночью в разбитых чувствах приехал Иван Корнеевич в Вологду. Позвонил с вокзала ответственному дежурному. Тот строго и сухо, чужим голосом и тоном приказа ответил:
– Отдыхай у себя дома. Понадобишься – вызовут. – И повесил трубку.
Идти пешком от вокзала Судаков не мог. Ушибленная нога распухла в коленке. Опираясь на палку, переступал еле-еле. Хорошо, оказался единственный извозчик около вокзала. Извозчик дремал, а лошадь жевала овёс из торбы, висевшей под мордой.
– Садись. Скоро все пешком заходите. Многие забросили это ремесло. Поездили, хватит. На товарищей мы тоже не работники, – ворчал извозчик, отвязывая торбу из-под лошадиной морды. – Афтанабилей-то еще не наделали, чтоб лошадей изводить, а изводят. Рупь заработаешь, трёшник в налог подай. Ну, паршивай, пошагивай!.. Погоди. Скоро из тебя сапогов нашьют, а конинку на колбасу… – обращаясь к лошади, подтрунивал извозчик.
В коммунальном доме спали все жильцы. На стук вышла старушка. Заспанная, злая, она молча открыла дверь. Пропустила Судакова. Комната одинокого холостяка – тесная, неуютная – не вызывала радостного настроения. Кожаную тужурку и полевую сумку повесил на гвоздь около двери. Револьвер – на стол. Смахнул со стола неубранные засохшие хлебные крохи. Поднял с пола газеты, накопившиеся за две недели. Потряс их – нет ли в газетах письма. Оказалось одно. От отца, – определил он по почерку. Стал читать:
«Милый, дорогой Ванюшка. Пишет тебе отец Корней и желает тебе всяких благ в твоей жизни. А я живу худо-прехудо. Опишу все по порядку. Да не можешь ли ты помочь отцу в беде. А беда эта не для меня одного, для многих. Жмут и жмут. Ты знаешь отца. Я советский крестьянин и выше середняка не поднимался и в колхоз готовый вступить, а власти и соседи против, более полдеревни против. Как тут быть? Нас обложили, хлеб зачистили на поставки, корову со двора, лошадь и телушка остались. Требуют сдавать молоко, а из чего, откуда? Деньгами, какие были, рассчитался. А теперь попал в список „верхушки“. Кулаком-то считать нельзя, так определили в верхушку, зажиточную часть, и опять – твёрдое задание. А у меня и так всё подчистую. Числюсь в верхушках и злостных неплательщиках-твердозаданцах. Прошу, спасай отца. Может, пришлешь справку от начальства, что ты партейный, один сын у отца и служишь советской власти ответственно. Авось будет дано мне тогда льготное облегчение. Хоть бы как-то разделаться с твердым заданием, а не то пошли денег сколько в силах… Мачеху твою я уж спровадил к своей родне, что около города Клина живёт. Сам туда не бывал много годов, а придется, кажись, бежать в город Клин. Шурин писал – там найдётся работа на мельнице. А я землю люблю. Без неё не жилец. Вот так, придется клин клином вышибать. Докапают налогами… Заберу всё, что можно, – сбегу. Недвижимое пусть, кому надо, растаскивают, пока, чего доброго, в кулаки не попал. Ошибок всяких тут у нас в Пошехонье делают уйму. Многие подались в бегство. Да, слышно, и из вологодчины народ, прижатый налоговым прессом, потек кто куда: в города на заработки, на новостройки. Чего тут ждать. Напиши, порадуй хоть ты чем-нибудь отца. Затем до свидания. Желаю в делах рук твоих скорого и счастливого успеха. Остаюсь по милости сельсовета несчастный твёрдозаданец и верхушка, твой отец Корней Судаков».
Усталый, изнеможенный, с больной ногой, но не чувствуя боли, Иван Корнеевич всю ночь, не сомкнув глаз, просидел за столом над отцовским письмом и какими-то служебными бумагами, на которые ему теперь не хотелось смотреть.
Наступило утро. В коридоре и на кухне начали ходить, стучать и громко разговаривать соседи, ссориться из-за какого-то никчемного углетушителя, из которого вчера вечером убыло несколько углей не в тот самовар. Пыхтел чей-то примус. Запах керосина просачивался в комнату Ивана Корнеевича.
Пришла молочница, поторговала на кухне. И снова беготня, и снова всякие мелкие разговоры и писк ребятишек. И никому никакого дела до его переживаний в эти часы и минуты. Уставившись помутневшими сонными глазами в одну точку на конверт отцовского письма и на рукоятку револьвера, полузакрытого письмом, Судаков передумал всё, что мог передумать.
«Позор! Вот чего не ждал, так не ждал. Нет. Это так не пройдёт. Что я наделал?! Что я прохлопал?! А! Чёрт возьми!..» И тут его осенила неожиданная страшная мысль. Раньше никогда и в голову не приходило ему задумываться о самоубийстве. Наоборот… Он увлекался в техникуме стихами Есенина, но осуждал его за самоубийство. И сейчас вспомнил стихи Жарова на смерть Есенина:
…Мы прощали и дебош и пьянство, Сердца звон стихов твоих любя… Но такого злого хулиганства Мы не ждали даже от тебя…Губы непроизвольно прошептали эти строчки. Он почувствовал, как две крупные слезинки сами собой покатились по щекам. А всё-таки страшно в такую пору расстройства чувств и угрызений совести быть наедине с собой…
«Вот и Маяковский тоже… На этих днях газеты принесли весть… Осуждал Есенина. Такая глыбища. Такой силач в поэзии, а поднял на себя руку…»
Судаков раскрыл толстую тетрадь с мягкой клеенчатой обложкой и, не вырывая листка, начал писать отцу:
«Милый папа, дорогой отец мой Корней Петрович… Рад бы я тебе помочь сейчас, но я и сам переживаю тяжесть непосильную, гнетущую мое сердце. Потом узнаешь. Кто-нибудь расскажет. Прощай, отец… Я не хочу ничьего суда. Сам себя осуждаю и себе выношу смертный приговор, обжалованию не подлежащий… А в колхоз вступай обязательно, отдай всё и вступай. В кулаки тебя не имеют права произвести!.. Ты не торговал, ничем не спекулировал, батраков не держал, хлеба не прятал, налоги платил, делал всё, что требовалось от крестьянина…»
Он не закончил письма. Взял дрожащей рукой револьвер. Почувствовал холодную сталь. Рубцеватая рукоятка плотно укладывалась в сжатой ладони. Нажать… И – все. Кончено. Пусть разбираются. «И все-таки я не виноват. Устал? Да. Измотался? Да. Недоглядел? Тоже – да… Да что тут рассуждать?.. Уже ведётся следствие. Ждать, что оно покажет?.. Нет…»
Судаков перелистнул недописанную страничку письма отцу. Начал писать на другом листке:
«Секретарю парторганизации… Я все передумал, все взвесил… в такой момент борьбы с классовым врагом, в момент ликвидации кулачества как класса, на базе сплошной коллективизации я допустил неслыханное притупление бдительности, совершил такую ошибку…»
Написал. Зачеркнул слово «ошибку», отложил карандаш в сторону. Карандаш упал на пол. Закатился под кровать. Судаков пошарил руками под кроватью. Обе ладони сплошь покрылись пылью. Нет. Такое дело не делается грязными руками. Успеется. Надо вымыть руки. Дописать оба письма и тогда уж… Он взял полотенце и, прихрамывая на больную ногу, вышел на кухню к умывальнику.
– Товарищ Судаков, а мы думали, вас и дома нет. Так притихли.
– Как вы похудели. Лица нет…
– Бабы, пустите человека. Дайте умыться. А руки-то, господи, как перепачкал! Где это?
– Под кроватью.
– Да ты что, Иван Корнеич, мышей там ловил, что ли?
От словесной трескотни баб-соседок гудело в ушах. Судаков не отвечал им. Умылся, хотел было идти к себе в комнату.
– Иван Корнеевич, а вам есть сюрприз! – остановила его в дверях одна из соседок, молодая и задорная женщина, жена одного ответработника.
– Какой сюрприз? Мне сейчас не до того…
– А вот угадайте!
– Вот еще, гадать! У меня и так гадко на душе. Гадайте сами.
Соседка не стала интриговать его дальше, сказала:
– Вчера вечером тебя спрашивала одна девушка. Из Череповца. Какая-то Передникова. Она ночевала внизу у Миши Чубакова. Поди-ка, и сейчас она там. Сходи. Девка-то первейший сорт! И так сожалела, что не застала тебя, ажио нам её жаль стало. Чубаков-то череповецкий. Так она по знакомству у него остановилась.
– Ради бога! Бабы, товарищи женщины, я запрусь, не говорите ей, что я здесь… – взмолился Судаков. – Вид-то у меня какой!.. Нельзя ко мне. Потом… Потом…
– Да что потом? – засмеялась тут одинокая старушка, занимавшая угол в кухне. – Я её пропустила. И пока ты тут начищался, та девушка вошла и твои палаты разглядывает. Иди, Ванюша, приласкай её…
– Ох! Чёрт бы вас побрал! – вырвалось у Судакова почти с воплем. – А, впрочем, всё равно…
С минуту постоял, причесал волосы и резко дёрнул дверь. Валя Передникова, закусив до боли губы, стояла посреди комнаты. Она была обута в валенки. Тонкое платье из голубого ситца обтягивало стройную фигуру. Волосы – кудряшками, ямочки на побледневших щеках, широко раскрытые, изумленные глаза… В руке свернутая трубочкой тетрадь. Она из любопытства уже успела прочесть начатое Судаковым письмо к отцу. И сразу почувствовала что-то неладное, страшное, требующее вмешательства. Плоский холодный бельгийский браунинг она опустила в валенок за голенище.
– Здравствуй, Валя, – сухо, стараясь улыбнуться, поздоровался Судаков. И остановился, глядя в недоумении на стол, с которого исчез револьвер, и на крепко сжатую в руках Вали тетрадь.
– Здравствуй, Ваня… – голосом твёрдым сказала она. – Здравствуй, дурррак!.. – И ударила его по голове свёрнутой тетрадью. Удар был не очень сильный, но своевременный и вразумительный. – Что бы там ни было. Я не знаю. А дурак!.. – повторила она и со слезами склонилась лицом на его грудь. – Как ты похудел! И как ты свихнулся!.. Да разве можно? Садись и рассказывай. Не быть этому! Не быть… Не уйду. Не отступлюсь. Не быть!.. – Она мужественно, строго и прямо, глядела ему в глаза, в тусклые, усталые, совсем не те, какие были у Ванюшки Судакова в Череповецком техникуме.
Через несколько минут Иван стучал кулаком в стенку и кричал, не выходя на кухню:
– Тетя Маша! Зайди сюда!..
Тетя Маша – кухонная жиличка – рада стараться. Улыбаясь по-старушечьи заискивающе-ласково и снисходительно, спросила:
– Чего надо, Ванюша?
– А вот тебе деньги, добеги до магазина: принеси бутылку «Токая», колбасы полкило, булку, немножко конфет. Сдача, что останется, вся твоя. Я не могу. У меня очень больная нога… Гостью посылать неудобно. Беги.
– Побегу. Пусть только твоя гостейка за чайником посмотрит. Он на примусе…
И вот уже на столе в бедненькой комнатке Судакова и чай с конфетами, и токайское вино, и булка с колбасой – всё, что принесла тетя Маша. Валя отдышалась от неожиданных переживаний, расцвела, появилась смешинка на её красивом лице и весёлый блеск в глазах.
– На, возьми свою пушку и спрячь подальше, – сказала она, достав из валенка браунинг. – И никогда, никогда не дури. Безвыходных положений не бывает. Безвыходна только смерть. А она не выход из положения. Тебе нужен отдых и настоящий семейный уют, а не эта не то берлога, не то карцер… Один вид из окна у тебя сплошное уныние наводит. Погляди: ящики, бочки из-под селедок, чьи-то разбросанные дрова, две козы подбирают остатки сена. Ну и видок!..
– А мне наплевать! Да и ты отвернись, не смотри, если тебе не нравится мой подоконный пейзаж. Садись-ка к столу, прошу. Чем богат, тем и рад…
Рюмок не было. Пили «Токай» из двух чайных чашек, чокаясь за встречу, за всё хорошее на свете, за своих друзей, которые одни доучиваются в ленинградских вузах, другие разъехались по разным городам, получив назначение на работу.
– Наши череповецкие больше старались попасть в технические вузы и в кораблестроительный. Вот и я нынче закончу, обязательно закончу на конструктора, – с чувством немалой гордости, но без бахвальства поведала Валя Судакову. – А дальше: или в Ленинграде оставят, или в Николаев, на юг, или в Архангельск, туда, где есть судостроение… Эх, Ванюшка, тебе бы тоже надо идти в технический или строительный вуз, перспективы-то какие! Индустриализация страны. Понимать надо. Какой простор, какой размах работы будет нашему брату…
– Будет. Знаю, будет. И сам часто задумывался над этим. Споткнулся вот тут на днях. Физически споткнулся – ногу расшиб. Трое суток лежал в больнице. Не поправился… Морально споткнулся – видишь, до чего дошел!.. – Судаков вырвал из тетради недописанные страницы и с ожесточением стал рвать их в мелкие клочья. Открыл форточку, выбросил на улицу бумажные обрывки. В комнате стало свежей. Вздохнув всей грудью, он спросил Валю:
– И откуда ты, чертовка, взялась, мой ангел-хранитель?.. Просто наваждение какое-то.
– Я ещё вчера заходила. И не с неба свалилась. У нас производственная практика. Приехала на три недели в Череповец, в мастерские, к навигации пароходы там ремонтируют. Ну, и нас туда человек десять… – ответила Валя.
– А сюда-то зачем?
– Подожди. Скажу. Не торопись, дружище. Ты хочешь услышать, что ради тебя приехала. Захотела навестить, вспомнить нашу милую, незабываемую дружбу и возобновить её?..
– Хотя бы и так…
– Ну, пусть так. Не возражаю. И знай, что я тебя, Ванюшка, помню и не забуду… Есть друзья, были, будут, а ты у меня – первый, незабываемый… Да, я думала о встрече с тобой. Конечно, не о такой. У тебя всё уладится, и этот глупейший эпизод забудется. Я об этом никому не пикну. Зачем?.. Да, а ещё я сюда на суточки в Вологду заглянула к Чубаковым. К Тоньке. Ведь они и живут-то как раз в одном с тобой доме. Я у них там этажом ниже и ночевала. Там мое пальтишко и чемоданчик оставлены. Прибежала сюда пораньше, чтоб тебя застать. И пожалуйте, вот застала картинку. Нечего сказать! Тонька Чубакова поступила в пединститут. Для чего? Шла бы, дуреха, в строительный или архитектурный…
– Легко оказать! В строительный! – удивился Судаков. Хуже Тоньки Чубаковой по математике и физике никто в Череповце не учился. Едва ли эта безбровая деваха знает и сейчас четыре действия арифметики. Зато стихами Ахматовой и Гумилева переполнены все её тетради. Нет. Ей самый раз учительницей быть.
– И мне она так же сказала, что с предметами точных наук не в ладу. А нам хотелось её перетянуть в Ленинград. Ее ухажер Серега Чернов, помнишь, в холодильном институте доучивается.
– Знала бы, что тут у меня произошло, не то бы ты, Валя, заговорила… – уныло ответил Судаков.
– Ну, а что такое случилось? У вас ведь всё тайны да секреты, что ни о чём ни расспросить, ни разузнать нельзя. Не смею и не хочу тебя тревожить лишними разговорами. Одно могу сказать: ты порядочный человек, а порядочный человек на умышленные преступления не способен… У тебя там в тетрадке зачеркнуто было слово «ошибка». Положим, была ошибка. На ошибках учатся, а не кончаются… Чудак. Ты устал. Ты не в настроении. Да ещё, знаешь, что тебе скажу? В ГПУ, по-моему, ведь такая серьёзная работа, что ой-ой!.. Судьбы людей там решаются. А судьбами людей шутить нельзя и легкомысленно подходить тоже. Там должны быть люди, умудрённые жизненным опытом, само собой, кристальной чистоты, как вот он, этот человек, – она показала на портрет Дзержинского, – о котором Маяковский сказал:
Юноше, обдумывающему житье, Мечтающему, делать бы жизнь с кого, Скажу, не задумываясь – делай её С товарища Дзержинского!..За дверью в коридоре кто-то тихо спросил Судакова. Одна из любопытных соседок ответила:
– Ивана Корнеевича? Он дома, вот его дверь…
– Мне уходить? – прошептала Валя, поднимаясь со стула.
– Сиди. Я здесь хозяин. А где я, там ты не лишняя… Наверно, за мной пришли. Подожди. Посиди. Полистай что-нибудь с этажерки… Войдите… Кто там? – отозвался он на стук в дверь:
– В коридоре темно у вас. Я еле скобу нащупал, – сказал, входя в комнату, секретарь окружного отдела Рыбин, тучный, запыхавшийся, в шинели без ремня, Сняв фуражку с малиновым околышем, он обнажил лысину.
Не раздеваясь, сел на свободный стул.
Валя стояла у этажерки и перелистывала томик Демьяна Бедного, искоса поглядывая то на Судакова, то на посетителя. С приходом третьего человека в комнате стало слишком тесно. Но уходить Вале никак не хотелось.
– Пришёл тебя навестить, товарищ Судаков. Ты, говорят, ногу расшиб. Может, врача сюда позвать. Или свезти тебя на перевязку. Нельзя запускать. Нельзя… – Рыбин посмотрел на стол, на недопитую бутылку вина, на девушку. Комсомольский значок КИМ на её груди внушал доверие. – Можно при ней? – кивнул он в сторону девушки.
– Можно. Говори, Рыбин, говори. Что там, как? Эта девушка, будьте знакомы, друг моего детства. Учились мы с ней в одной школе и в техникуме. Навестила вот, в нелегкий час. Студентка, нынче кончает Ленинградский кораблестроительный. Я рад, что она появилась у меня. Говори, слушаю…
– Пошёл на работу, решил зайти к тебе, узнать твоё настроение и успокоить. Дело обстоит не так уж плохо, как складывалось. Мы за тебя боялись, полагая, что может обернуться всё скверно. Думали, что суда тебе не миновать. Сейчас острота вопроса стёрлась. Бежавших от конвоя петлюровцев задержали здесь, в Вологде. Следствие показало, что действовал ты в соответствии с телеграммами и не твоя вина в том, что кто-то перепутал поезда в пути. Врач Грязовецкой больницы телефонограммой подтвердил, что у тебя разбито колено – с таким ушибом ноги две недели тебе лежать бы надо. И это в твою пользу… Не проявил ты находчивости и сообразительности. Это уж не так страшно. Вот как обстоит…
– Что же дальше? – нетерпеливо допытывался Судаков.
Валя как раскрыла книгу, так и замерла на тех строчках, где Демьян Бедный трогательно и чувствительно пишет о ленинских похоронах:
…И падали, и падали снежинки На ленинский – от снега белый – гроб…Перечитывала который раз и одновременно чутко прислушивалась к разговору. И тут же она вспомнила, какая великая народная печаль была в памятные январские дни 1924 года, даже в таком малом городке – Череповце. Судаков был постарше остальных учащихся, руководил большой комсомольской организацией. Для вступления в партию его, ещё не вышедшего из комсомольского возраста, тогда рекомендовали партийные руководители города и сам директор техникума.
– А дальше вот что, – продолжал Рыбин. – Касперт по прямому проводу докладывал об этом Аустрину Рудольфу Ивановичу. Они с ним с дореволюционных времен друзья. Я был тогда в кабинете у Касперта. Аустрин ответил ему в таком духе, что тебя строго наказывать не надо. Уволить в запас, а по партийной линии – пусть окружная партийная коллегия разберётся и выносит по её усмотрению взыскание. Проект приказа об увольнении заготовлен. Из партколлегии приходил товарищ Цекур, забрал на тебя материалы. И, видимо, вызовет тебя для объяснений. Так что ничего страшного…
– Цекур? Я у него в комиссии, под его председательством, проходил в прошлом году партийную чистку. Он меня знает.
– Тем лучше. Вот так. А врача или фельдшера я к тебе вызову срочно. Лежи, поправляйся, спешить некуда. Касперту доложу, что был у тебя и как ты себя чувствуешь. И ещё учти, что раз оставляют тебя по увольнении в запасе, то уж не так плохо. Значит, партколлегия тоже будет исходить из этого к тебе отношения. Будь здоров. Я пошел. Работы – завалило!
Не успел Рыбин опуститься с лестницы, как Валя, отложив книгу, кинулась к Судакову, крепко обняла его, поцеловала в колючую, давно не бритую щеку.
– Видишь, как все улаживается! – радостно воскликнула она. – А ты… Эх, дуралей, дуралей. Ну, теперь веселись.
– Валька, тише, тише… Нога болит. Осторожно… Да, кажется, уладится. Пойми меня, всякая чертовщина в голову лезла. Ну, перестань прыгать, стрекоза! Давай, допьем токайское… Жаль, забыл Рыбину чашечку налить. Это такое вино, что после него не пахнет.
Они допили вино, освободили стол от колбасы и булки. Осталось немного дешевеньких, местного изделия, конфет. Попросили тетю Машу подать чайник кипятку, угостили её конфетами, а она им заварила своего чаю густо и крепко.
– Вот, Валя, так и живу, – разливая чай, пожаловался Судаков. – Почти по-студенчески.
– А что ж! И привыкай быть студентом. Теперь-то я вижу, вуза тебе не миновать!.. Поработай как следует. Отличись. Не беда, что ты переростком окажешься. Бери пример…
– С Ломоносова, наверно? – подсказал он.
– С кого же больше? – усмехнулась Валя. – В наше время. Ванюшка, столько Ломоносовых учится, что счёт их в тысячах. Люди страдали, люди воевали, люди не имели материальной возможности учиться. А теперь? Знаешь, сколько совсем немолодых людей в рабфаках и вузах? Сколько по партийным путевкам? Сейчас такое время, такое время!.. – Она заметила, как ее друг схватился за ногу, поморщился.
– Болит, проклятая! Хоть бы Рыбин скорей фельдшера…
– И где тебя так угораздило?
– Из-за пустяка. Из-за глупости. Из-за частной собственности пострадал, – стараясь пошутить над собой и усмехнуться, стал он рассказывать Вале.
– На прошлой неделе в Грязовце было. Принимали эшелон куркулей. Временно поселили их в Корнильевский монастырь. Высадили на запасном пути. У них скарба всякого груды. Узлы, мешки, сундуки, корыта и даже мелкий инвентарь. Не успели от полотна все это добро отнести, как машинист дал задний ход. Кое-что из скарба попало под колеса, захрустело, затрещало… А я стоял в стороне около последнего вагона. Вагон пятится. Перед ним у самых рельсов сундук и детская люлька… Баба-переселенка бежит в слезах, кричит: «Ой, скрыню раздавит, ой, скрыню раздавит!» И представилось мне, судя по её слезам, что скрыней она своего ребёнка-дочурку кличет. Тут я, несмотря на усталость, бросился как оглашенный, люльку выхватил почти из-под колес наседавшего вагона. А люлька та оказалась пустой. В ней не то что ребенка, и запаха детского не было. Я с этой пустой люлькой шарахнулся, да коленом о рельсу соседнего пути. И лежу. Боли сгоряча не чувствую, а встать не могу. Баба – та голосит и голосит: «Ой, скрыню раздавило, раздавило скрыню!». Черт бы её побрал! Скрыней-то сундук называется… Конечно, он в щепки раздавлен, ничего в нем особенного и не было – полотенца вышитые, бельишко, ещё самоваришко пострадал… За мной с вокзала с носилками прибежали. А кулачка эта ревёт, надрывается – не обо мне, конечно. Скрыню жаль!.. Я и спрашиваю ее: «За каким ты чертом колыбельку везла сюда?» А она мне сквозь слезы. «Та як же без люльки будем дитэй робыти, та ж прыгодытся!..»
Наконец, закончив чаепитие и наговорившись вдосталь, они дружелюбно расстались, не ведая, где и когда им ещё доведётся встретиться.
А потом из санчасти пришла молодая женщина-врач.
– Дело серьезное, товарищ Судаков, – предупредила она. – Будете двигаться, долго не поправитесь. Недельку полежите, а там посмотрим. В это время я буду вас ежедневно навещать. Есть тут кому за вами ухаживать?
– Собственно некому, но я попрошу тетю Машу…
– Больничный листок я вам в следующий раз выпишу.
– Не надо. Мне он уже не нужен. Я увольняюсь…
– Закон порядка требует, – возразила врач.
– Ладно, закону подчиняюсь, – пытаясь усмехнуться, согласился Судаков. И после ухода врача забрался под грубое одеяло на скрипучую железную койку…
ГЛАВА ПЯТАЯ
ПРОШЛО две-три недели. Его вызвали в финчасть получить выходное пособие и кое-какие справки.
В окружной партколлегии было в те дни много сутолоки. Разбирали дела то правых уклонистов, то левых загибщиков, поэтому Судаков не скоро получил повестку-вызов. В этот промежуток времени он находился без служебных занятий, без работы и мог только с волнением и тревогой ожидать дня, на который было намечено рассмотрение его дела. Ожидая, он увлекался чтением книг. Читал Плеханова. Успел прочесть все его тома по истории развития общественной мысли в России и очень сожалел, что в совпартшколе по «Дальтон-плану» проработка этих книг не была предусмотрена. У Ленина он искал высказывания по крестьянскому вопросу. Вычитал строки: «Когда новое только что родилось, старое всегда остаётся в течение некоторого времени, сильнее его. Это всегда бывает так – и в природе и в общественной жизни». Поразмыслил над этими словами, и становилось ясным, почему беднота охотно вступает в колхоз, почему и словом и делом надо убеждать середняка принять это новое, как должное, и почему было неизбежным применять силу против сопротивляющегося кулака.
По вечерам, как только у него поправилась ушибленная нога, Судаков выходил побродить по улицам Вологды. По каменным мостовым грохотали извозчичьи дроги. Разве только у большого окружного начальства находились в бережном пользовании два легковых автомобиля. Да и то на тот случай, чтобы подать к вокзалу, когда приезжает из Архангельска сам секретарь крайкома Сергей Адамович Бергавинов.
Свободный от всяких дел и обречённый на всякие раздумья от вынужденного безделья, Судаков в вечернюю пору, и прихватывая ночи, ходил до полного утомления по Вологде. И видел и чувствовал весну тридцатого года.
Прошёл лёд. Помутнела река, вышла на недельку из берегов. Потом, когда сухонские верховья очистились ото льда, началась навигация – счастливое, хлопотливое и доходное дело речников. Плоты леса, строевого и дровянки, баржи с грузом, порожняки, пароходы – буксирные и пассажирские, бывшие частными, теперь народные, перекрещенные – с новыми революционными названиями, сновали с посвистом. Из вологодских храмов, временно обращенных в переполненные общежития, семьи спецпереселенцев погружались на баржи и пароходы для отправки в поспешно выстроенные посёлки.
В эти дни Судаков случайно встретил в Вологде Охрименку. Тот приехал из-за Тотьмы в Прилуцкий монастырь за жинкой и четырьмя дочками, томившимися в ожидании своего батьки.
– Не на Украину ли, Охрименко? – поинтересовался Судаков.
– Покуда свободы мне нет, – отвечал Охрименко. – Заяву послал в Москву главному прокурору. Довидки и всякие справы приложил. С оплаченным ответом письмо самому Буденному послал. Два дня сам сочинял. Всё как оно есть и было… А веры мне нет, и у меня нет веры. Ну, кажу, вертаться обратно, а там что? Реквизиция, конфискация… На голое место, выходит. А тут, на том месте, куда вы нас привели, живым манером два больших поселка из сырого леса поставили. Наша хата – на восемь квартир. Жить будем добре. Тильки бы лито було пожарче, кабы стенам просохнуть… Надо скорийше семью на поселок. Огород копать, цибулю, барабулю, всяку овощь сажать… Супротив ветру губами не дуть, – заключил Охрименко. – Вот шукаю, где бы в городе семян огородных раздобыть… А вы, гражданин начальник, почему с шинели петлицы спороли и знаки приличия сняли?
– Не «приличия», а «различия», – поправил его Судаков. – Обо мне история умалчивает, – отмахнулся он и, расставаясь, пожелал Охрименке навсегда упрочиться на Севере…
Как-то ночью, – а ночи вологодские весенние становились короче и светлей, – Иван Корнеевич, совершенно лишившись сна и чтобы рассеять свои навязчивые думы о том, что день грядущий ему готовит, ходил по пустынным улицам притихшего сонного города. Было тихо. Лишь изредка перекликались паровозные гудки с гудками пароходов. Да где-то за рекой в отдалении глухо лязгало железо на заводе «Красный пахарь».
Вдруг он услышал: ребячьи голоса поют какую-то неслыханную песню. Где бы это? Никого не видно. Да ещё в такую не то слишком позднюю, не то очень раннюю пору?.. И место неподходящее, мрачное, пустое – берег реки, мыс, где провонявшая всяческими городскими нечистотами речонка Золотуха портит реку Вологду. Когда-то здесь во времена древние были построены толстостенные склады. Купцы-промышленники Строгановы, а позднее их преемники, хранили соль и другие товары на этом вологодском перевале между Москвой и Архангельском. Теперь эти склады пригодились для другой надобности: после закрытия множества церквей и монастырей сюда свезли архивы и заполнили ими пустовавшие помещения. И едва ли кто из вологжан знал, что здесь, на кипах древних рукописей, подложив под головы весомые, в кожаных переплетах, метрические книги, летописи и библии каждую ночь почивали в стороне и укрытии от милицейского глаза беспризорники.
Сегодня, после ограбления продовольственного ларька, ребята, пользуясь всеобщей тишиной и спячкой города, трапезничали, наслаждаясь обилием добытой пищи и напитков. За внушительными стенами они чувствовали себя свободно, недосягаемо. Но песня, затянутая хриплым, надтреснутым голосом и подхваченная задорно другими звонкими голосами, звучала не весело, а скорее заунывно и печально.
«Заглянуть, что ли, в их логово? – мелькнула мысль у Судакова. – Зайду, посмотрю, послушаю, если не разбегутся… Не убьют. Мелкота. По голосам слышно… Но как попасть к ним? В узких окнах складов железные решетки. На воротах тяжелые замки…» Судаков обошёл вокруг древних складов. Открытого хода в них не было. В здание можно было проникнуть только через крышу, на которой, оказалось, местами сорваны железные листы. Кстати, старая, подгнившая, с редкими ступенями лестница на всякий пожарный случай вела на крышу и в чердачные помещения складов. По ней не трудно было пробраться на голоса беспризорников. Но как только на железной крыше послышались шаги Судакова, там внутри кто-то, стоявший настороже, крикнул:
– Полундра! К нам гости!..
И тотчас внизу послышалось: «Шулер, зек канай», что означало: «Опасность, прячь краденое…»
– Не расходись! – крикнул Судаков в тишине сумрачного склада, беспорядочно заполненного архивами. – Братва! Я вам вреда не сделаю. Хотя вашу «блатную музыку» я отлично по-свойски кумекаю, но прошу не пугаться меня и говорить со мной по-человечески. Где вы тут? А, ну! Все на свои места! Продолжай песню. Хочу послушать…
– Ребята, кажись, он свой в доску, не фраер…
Мелькнули огоньки зажженных свечей. Вспыхнул небольшой костёр, сложенный из архивных смятых бумаг в проходе на каменном полу. Огонь осветил десяток чумазых ребячьих лиц, беспечных и совершенно равнодушно смотревших на появившегося тут Судакова. Все они были юнцы в возрасте от тринадцати до восемнадцати лет, в каких-то оборванных обносках, грязные, лохматые. У многих одежная рвань обнажала голые телеса.
– Чем занимаетесь? – спросил Иван Корнеевич, садясь около них на кипы древних архивов.
– Греемся… – сказал один.
– Покемарить бы надо, давно не спали, – добавил другой.
– Так-то так, но зачем вы здесь костёр развели? Пожар сделаете.
– Не запалим. Мы с умом…
– Всё равно нельзя. Бумаги эти – государственная ценность. Глядите, что вы жгёте! – выхватывая из костра длинные свитки времен Ивана Грозного, сказал Судаков. – Эти бумаги – история России. Ученым людям понадобятся. А вы что делаете?..
– Мы это с умом. Мы не всё жгём, а только те бумаги, где есть кресты, да двоеголовые орлы, да еще твёрдые знаки.
– Ну, голубчики, с такой «установкой» вам остается только поджечь весь склад. Под эти признаки подойдут все архивы, тут собранные.
– Мы у Спаса Каменного так и сделали, – бойко и откровенно заявил косоглазый парнишка, одетый в две рваные жилетки. – Тоже нашли место. Монахи жили. Придумали для нас колонию. Детские «Соловки» посередь озера. Кругом вода. Что за жизнь! Там нам не лафа. Сожгли, и – кто куда. Мы тоже люди, не монахи…
– Вас всех надо в Болшево, под Москву…
– Слыхали мы про коммуну ГПУ. Перековка. Тоже не сладко.
– А что там делают?
– Там много чего делают, – охотно отвечал Судаков. – Прежде всего, из вашего брата людей делают. Заставляют трудиться. Там и трикотажные изделия, и спортивные принадлежности, лыжи, коньки, футбольные мячи – всё делают.
– Одевают и кормят?
– А как же. Чистота, порядок.
– И в Москву пускают?
– Пускают, коллективно. Надзор свой, из своей же ребятвы.
– Лафа, ребята!.. Подадимся туда добровольно, – предложил один из них по кличке Хас-Булат, а по имени и фамилии, как потом узнал Судаков, Лёвка Швец, юный еврей, сирота безродный, втянувшийся в нелегкое и беспечное житье беспризорника. – А если Болшево не по нам, кто нам помешает промайданить хоть до Владивостока?..
Все прислушались не столько к Судакову, сколько к Лёвке Швецу, который так же похвально отозвался о Болшевской трудкоммуне:
– Худо б было, не жили бы там сотни, а может, и тысячи наших. Там есть у меня знакомый, один рыжий еврей, специалист по несгораемым кассам, «медвежатник». Он в Болшеве за главного бригадира…
Посудили так и этак, и единогласно, без голосования решили – в Болшево. Но Судакову предъявили свой «ультиматум» из двух пунктов: во-первых, чтоб не через милицию, а через дорожное ГПУ – всем в одном вагоне ехать, без решёток, до Болшева. Во-вторых, чтоб о сегодняшнем «скачке» на продуктовый ларек им ни слова нигде и никто не напоминал.
Судаков согласился с их требованиями. Тщательно затушили горевшие бумаги и все одиннадцать выбрались через отверстие в крыше. Ранним весенним утром шли они за Судаковым по главной, безлюдной улице к вокзалу, где беспрепятственно сдались дежурному дорожно-транспортного отдела ГПУ.
Тот переписал их всех и спросил:
– Подчиняться будете?
– Будем.
– Ну, тогда становись по два в ряд и марш в баню! С первым поездом поедете в Болшево.
Ребята загалдели. Построились и пошли, сопровождаемые красноармейцем. Лёвка Швец помахал Судакову рукой, сказал:
– Земной шарик не велик. Увидимся!..
– Ловим, ловим, отправляем, отправляем, а они откуда-то, как грибы после дождя, заводятся и не выводятся, – ворчал дежурный, зевая после неусыпной ночи. – Где вы их столько сняли? – спросил он Судакова.
– В старых складах, на Золотухе. Черти, через крышу лазают и архивы там жгут. Ценнейшие архивы свалены, как попало, и даже сторожа нет. Безобразие. Но их тоже, этих беспризорных, обвинять нельзя, если мы, люди взрослые и властью облеченные, не умеем или не хотим оберегать архивные ценности.
– Облаву на них делали, что ли? – лениво спросил дежурный.
– Нет. Просто так, бродил и наткнулся. Решил не проходить мимо. Поинтересовался. Это, наверно, моя последняя операция.
– Почему?
– Увольняюсь. Вопрос решен.
– Ах, да, да!.. – вспомнил дежурный. – Из-за того самого случая с путаницей двух поездов. Ну, вы, Судаков, легко отделались…
– Еще неизвестно, что партколлегия скажет. Но теперь мне не так страшно. И есть большое желание работать по колхозному строительству.
– За этим дело не станет. Этой живой работки по горло теперь…
На заседании областной партийной коллегии все обошлось благополучно. «Дело» докладывал Цекур, старый партийный работник. Он сказал:
– Лица, прямо и непосредственно виновные в путанице графика и подтасовке эшелонов, обнаружены и привлекаются к ответственности. Что касается Судакова, то его виновность менее значительна: он не проявил находчивости, осторожности и бдительности. За это понес наказание по административной линии. Уволен из органов. Раньше товарищ Судаков ни в чем, порочащем его, как чекиста и коммуниста, замечен не был, взысканий не имел. Полагаю ограничиться предупреждением, дабы впредь, где бы товарищ Судаков ни работал, был осмотрителен в своих действиях, – заключил Цекур.
Председательствующий продиктовал формулировку решения секретарше и, отложив в сторону папку с бумагами о Судакове, напутственно сказал:
– Вы свободны, товарищ Судаков. Но сделайте для себя вывод построже нашего снисходительного решения. По поводу дальнейшей вашей работы мы ничего не решаем. Окружком даст направление…
После незначительной паузы председатель объявил:
– Следующее дело о бывшем нарсудье, правом уклонисте Жукове и его связях с кулацкими элементами. Позовите Жукова. Докладывайте, товарищ Цекур…
Судаков на несколько минут задержался. Касперт, присутствовавший на партколлегии, подозвал его к себе, чтобы сказать несколько утешительных слов насчет предстоящей работы по организации и укреплению колхозов, о чем Касперт предварительно уже договорился в окружкоме. Между тем Цекур докладывал зачитывая фактические данные о неправильных действиях Жукова, о его судебных решениях, вынесенных в защиту кулачества. Жуков стоял, понурив голову, и не ждал себе пощады. На вопросы отвечал коротко, не виляя, не уклоняясь от ответственности.
Председательствующий к сообщению Цекура еще добавил:
– У Жукова не все чисто за кормой и в части его быта. Будучи человеком женатым, имеющим детей, он влюбился в дочь кулака, лишенного избирательных прав, и посвятил ей такие глупейшие стихи:
Я коммунист, а ты лишенка Какая разница? Скажи, Скажи, красавица-девчонка, И путь мне к счастью укажи…– Я полагаю, что решение местной парторганизации об исключении Жукова из партии надо утвердить. Возражений нет? Нет. Гражданин Жуков, сдайте ваш партбилет. И серьезно подумайте о путях к счастью, не рассчитывая на подсказ со стороны кулацкой публики…
Работа партийной коллегии продолжалась. Время было горячее, наступательное. В обширной приёмной партколлегии сидели молчаливые, с сумрачными лицами вызванные проштрафившиеся и не менее переживающие секретари первичных организаций.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
НАСТРОЕНИЕ в тот день у Судакова было преотличное. Окружком партии командировал его в Вожегодский район, как сказано было в удостоверении – «по вопросам организационного укрепления колхозов». Срок не был указан, но было оговорено: «Впредь до вызова». Он шёл до первого продмагазина, чтобы запастись продуктами, шёл, тихонько насвистывая какой-то мотивчик и соображая, как надо в своих расходах уложиться в суточные. Навстречу из-за угла, будто вынырнул, Касперт. Тот ехал в старинном купеческом экипаже. Вороным рысаком управлял кучер Никита, бывший георгиевский кавалер всех четырёх степеней и герой гражданской войны, особенно отличившийся при подавлении эсеровского мятежа в Ярославле. А теперь он был кучер и в своем роде «телохранитель» начальника. Обнаженный наган на кожаном шнуре грубо и внушительно торчал у него из-за ремня.
– Никита, стой! – крикнул Касперт.
– Тпр-ру! – И рысак, как вкопанный, остановился.
– Здравия желаю, товарищ начальник! – приветствовал Касперта Судаков.
– Привет. Вот что, Судаков, районирование и обострение классовой борьбы в деревне потребовали значительного расширения нашего аппарата. Мы набираем штат сотрудников. Хотите обратно к нам? Я мог бы о вас в партийном порядке поставить вопрос, но спрашиваю вашего желания…
– Нет, нет, товарищ Касперт, – наотрез отказался Судаков. – Не могу. Простите. От вас на учебу не выберешься. Вот у меня длительная командировка в район. Съезжу, снова пошлют. Я лучше поработаю по организации колхозов…
– Ну, что ж, неволить не буду. По колхозам? Хорошо. Только не будьте толстовцем, либералом-непротивленцем. Учтите – времечко горячее! Никита, правь к окружному!..
Экипаж, потрескивая рессорами, покатил мостовой.
В тот же день Судаков уезжал на станцию Вожегу. Ехать всего четыре часа. Некогда ни спать, ни знакомства заводить. Смотрел в окно, а за окном вагона не ахти что: то болотные сосенки, то заросшие кустарником подкошенные луга, то березняк вперемежку с осинами. Поезд проскочил через Сухонский мост. Две фабрики остались позади, и опять леса и перелески, да полустанки – разъезды со штабелями заготовленных бревен.
В Вожеге вечером он зашёл к секретарю райкома. Рыжий нервный секретарь стоял у стены, где висел первобытный телефон, и кричал в трубку:
– Грязовец! Грязовец! Принимай вызов соревноваться! Алло! Сколько у вас процентов? Что? Тридцать пять? Мы перекрыли. У нас на сегодняшний день пятьдесят и два процента. Приближаемся к сплошной коллективизации. Наше Тигино гремит. Читайте газеты!.. – Секретарь повесил трубку. Попыхтел, погладил всклокоченные, прилипшие к веснушчатому лбу волосы и обратился к Судакову:
– Ко мне? Командировочный? Ваш документ?.. Так, так. Ну, что ж, посланы к нам? Сумеем вас использовать на все сто. Надо бы вас не к нам, а в Грязовецкий район посылать – у нас более или менее благополучно. Мы не дремлем: вчера в Тавренге тринадцать кулаков и одного попа арестовали за попытку сорвать коллективизацию. В окружкоме не знают, что ли, слабых звеньев? Слышали? Там, в Грязовце, пока тридцать пять процентов…
– Догонят и обгонят, – спокойно и резонно заметил Судаков, уязвляя тем самым самолюбие секретаря.
– Что вы понимаете? Не делайте голословных заключений, – сказал секретарь строго, но быстро обмяк и спросил вежливо и примирительно. – За счёт чего? Почему так думаете?..
– Скажите, как у вас в Вожегодском районе – люди переселяются, или вернее, бегут на новые места? – спросил Судаков.
– Крайне незначительное число.
– Ну вот. А грязовецкие испокон веков связаны с отхожими заработками. В Москве, в Ленинграде… Кто официантами, кто полотерами, кто гардеробщиками, банщиками, массажистами, торгашами-разносчиками… Да все грязовецкие! Вот вы не спросили по телефону Грязовец, сколько у них, как началась коллективизация, утекло людей на новые места? Ну, хотя бы в Ленинград?
– Ого! Вы мне, товарищ, загадали загадочку. Выходит, у них ещё и тридцати пяти процентов нет. Верно, так и велось: семья в деревне, а глава семьи и сыновья взрослые в Питере, на легких заработках. Учтем это, учтем… Значит, могут нас обогнать за счет утечки крестьян в город? По-нятно!..
– Что мне делать прикажете? – спросил Судаков.
– Что прикажу? Что прикажу? – Секретарь побарабанил по столу костлявыми пальцами, подумал немного для солидности и распорядился: – Зарегистрируйтесь у делопроизводителя. И марш в Тигино… Там у нас образцовый куст колхозов. Целый комбинат! Задача такова: опираясь на бедняцкую часть колхозников, выявляйте все недостатки, нарушения, злоупотребления и устраняйте их. Злостных к ногтю!.. Звоните, докладывайте. Не забывайте: правый уклон – главная опасность. Лучше перегнуть влево – ошибки не будет. Оружие есть?
– Нет, зачем оно?
– Как зачем? На всякий случай. Возьмите у начальника раймилиции под расписку наган и десяток патронов. Оружие теперь не помеха. А вдруг да…
– Я думаю, обойдется без «вдруг».
– Нельзя так думать. Ну, в час добрый! – Секретарь протянул руку. – Желаю успеха…
До Тигина от станции двадцать верст. Переночевав в Доме крестьянина, Судаков хотел было нанять подводу и ехать на телеге. Но добрые люди предупредили:
– На телеге в Тигино? Костей не соберешь. Верхом тропками – ещё туда-сюда, но самое лучшее – пешком.
Пошёл Иван Корнеевич пешком. Нашелся попутчик – районный агроном. С полевой сумкой, рюкзаком за спиной он казался человеком бывалым. Не первый год ходит-бродит по захолустьям, знает все ходы-выходы. С таким полезно Судакову познакомиться – всё расскажет.
Агроном с дореволюционной выучкой, а значит, из состоятельных, не из бедноты. Где ж было бедноте до революции учиться до таких степеней, чтобы фуражка с бархатным околышем, лакированным козырьком и след от кокарды сберегся? Не было таких. Чувствуя своё возрастное и образовательное превосходство над Судаковым, агроном оказался словоохотлив, красноречив и откровенен.
Шли они, не торопясь, по обочине. По дороге – нельзя: выбоины, буераки, рытвины. По сторонам валяются ломаные оси, спицы и трубицы от колёс, оглобли, словом, всякие следы немудрых крестьянских повозок на этом лесном, безлюдном волоке.
– Здесь дорога заставляет желать лучшего, – выспренно говорит агроном. – Теперь не такое время, чтобы дороги править. Летом мужик в земле ковыряется. Зимой с него спрашивают лесозаготовки. А эта перестройка на колхозный лад отнимает у крестьян бездну времени. А не рано ли? И не напрасно ли? Я часто спрашиваю себя об этом. Некоторые говорят, что сверху виднее. Может быть, это так, а может быть, и не так. Ломают закостенелую, окаменевшую душу крестьянина-собственника. Полное покушение на частную священную и неприкосновенную собственность… Страшное, большой решительности дело затеяно. Осмелюсь вам сказать, молодой человек, до революции и в годы новой экономической политики я помогал хуторским и отрубным хозяйствам. И это считал целесообразным. Наше крестьянство не созрело, сознанием своим не дошло до обобществления земли, скота и всего прочего. Погодить надо, погодить, а главное, не нажимать силой. У нас опять нажим. Не понадобится ли ещё Сталину выступить в духе статьи «Головокружение от успехов»?..
Судаков молча слушал излияния агронома. Потом, когда сели отдохнуть на копны сена в стороне от дороги, он спросил его:
– А вы сами откуда родом?
– Здешний. В Тигине своё собственное хозяйство. Неплохое, прямо скажу. Плюс жалованье. Обид на личную жизнь никогда не имел. А теперь и моё хозяйство приняло мученический венец, вошло в колхоз. Что ж, должен был служить примером. Хорошо, буду служить. Послужу… Не знаю, долго ли продержусь я и другие тоже на остром гребне колхозной волны…
Агроном был до крайности мрачён, непрерывно курил, бросая под ноги недокуренные дешёвые папиросы. Потом он встал и сказал:
– Ступайте одни. Дорога прямая, никаких отворотов. А я тут на хуторок приверну. Мне торопиться некуда…
«Странный человек, – подумал Судаков, – спорить с таким – напрасный труд, тем более с глазу на глаз. Видно, пьющий: нос сизый с отливом, глаза навыкате и мешки под глазами. То-то работничек! Наверно, с ним придётся столкнуться?..»
Но столкнуться не довелось: на другой день Судаков услышал облетевшую всё Тигино весть. Пьяный агроном стрелялся. Пуля прошла навылет на два сантиметра ниже сердца. Увезли в Вожегу в больницу.
Остановился Иван Корнеевич на временное житье у одной вдовы, в просторной избе, по соседству с правлением Тигинского куста колхозов.
– Чаю нет, сахару нет. Бери в сельпе муку – хлеба я тебе напеку, как умею. Самовар есть – кипяток всегда будет. Ягоды ещё не поспели. Чего ещё? Живи с богом. Ни-ни, за ночлег на свежем сене, да за кипяток ни копейки не возьму. У меня крест на шее, никто ещё не снял.
Выслушав эти условия, Судаков развязал рюкзак и первым долгом разделил килограмм чёрствой колбасы между ребятишками и дал всем по крендельку, а хозяйке подал целую восьмушку чаю и горсть сахару.
– Батюшки! Какой добрый! Дай тебе господи…
Расположив к себе хозяйку и «троицу» её детей, Судаков не спеша стал выведывать, выспрашивать, и на все его расспросы говорливая хозяйка отвечала с избытком.
– Я неграмотная – не беда. Зато ребятишки мои все учёные. Им не препятствую. Без ученья-то куда податься? Некуда. Вон, у нас Довбиленок до чего достукался. Всё превзошел. В Москве учился. Теперь в Тигине за главного воротилу. Что скажет – быть по его слову. Про часы спрашиваешь? Живи, как знаешь, без часов; девятый год у меня часы не ходят. А висят, пусть висят. Никому не мешают. И опять же память о покойном муже…
– Давно умер?
– Какое. Не умер. Война-то была, так на Плесецкой коего году англичаны воевали да белые против наших. Там и схоронен на Плесецкой. В ту пору я беременная была этим меньшаком. Поревела, наплакалась я, будь они, интервенты, прокляты… Троих-то сирот каково поднимать на ноги? Это теперь ветер в спину, когда выросли. И малы пока, а не избалованы, да не испохаблены – всяко дело умеют делать: косить, грести, жать, молотить, боронить. Пашню деру сама. Лошадь то у соседей, то у брата брала, потом отрабатывала. Деревня, так и есть деревня. Да, вот прошлого года несчастье было: волки корову разорвали. А ты что на часы уставился? Если можешь, почини – и живи по часам, как в городе. А мы и без часов не собьёмся. На работу теперь в колхозе по колоколу выходим. Брякнет колокол – пошли все. На обед, на шабаш – тоже по колоколу… И так можно время угадывать: глянь на березу, что под окном, время верное показывает. Ежели тень от березы падает на колодец, то десять часов; ежели на Поликарпову избу – полдень, в промежутке – одиннадцать часов. Ходят такие «часы», не пикают, портятся только в сумрачные дни. Привыкай… У меня не раз командировочные останавливались. Я к чужим людям привыкла. Проезжих да прохожих теперь шибко много стало. Раньше волость вся около нас ютилась. Теперь район большущий-большущий. Ежели от Пунемы через Липник и Огибалово, да через нас по такой дороге пехтуром до Вожеги и в обрат до Пунемы – полдюжины лаптей понадобится. У нас ещё лапти из моды не вывелись. Обуви у всех недохват. Заколешь телку, бычка – кожу подай в заготовки. Береста-то везде есть. Кто умеет, сплетет лапти и форсит.
– Да, дело тут небогатое!.. – посочувствовал Судаков.
– Всегда, как я помню, бедноты у нас невпроворот. Вся надея на колхоз. Ваш брат, приезжие, хвалят будущую жизнь, а нам натерпелось – сразу бы забыть о вековой нужде.
– А чего бы ты, хозяюшка, хотела?
– Ну, как чего? Одеться, обуться всей семье и всем нам, деревенским. Сытость от нас самих зависит. Налогами если не обидят, – прокормимся. Нам ведь не велики и разносолы надо: капуста, картоха, репа пареная, каша-овсянка – это есть, а щи с мясом да молоко, это уж когда работа потяжелей… Из товаров – не худо, чтобы сахар, керосин, чай, да всё по хозяйству на потребу – серпы, косы, лампы… Нам ведь елестричества неоткуда взять. А будь елестричество, как в Вожеге, либо в Вологде, я бы ночей не спала. Плела бы кружева, да прошвы…
– Непритязательный народ у нас! – проговорил Судаков.
Хозяйка не поняла его и не пристала к слову. Когда всё была сказано, спросила, как его звать и была обрадована, что он некурящий. Такого не опасно уложить спать на сарае, на свежем пахучем сене – не подпалит, беды не наделает.
– Иди, Иванушка, отоспись с дороги. Там и мои ребятишки дрыхнут. Так привыкли на сене спать – не добудишься. Мягко, пахуче… Утром тебя будить или сам вскочишь?..
– Вскочу, – смеясь, ответил Судаков и пошёл отдыхать.
Спалось на сене действительно хорошо, крепко. Проснулся, когда острые лучи солнца врезались в щели на крыше, и на сеннике стало светло и по-своему всё ожило, заговорило. Две курицы хвастливо раскричались, выполнив свой долг перед хозяйкой. В сенях, постукивая копытцами, блеяла овца. Кто-то на улице, невидимый, отбивал косу. Скрипели тележьи колёса. Наземные ворота на двор были раскрыты настежь. Оттуда пахло навозом, и через эти ворота и западню то залетали в сарай, то вылетали на улицу, чередуясь, две ласточки – хозяева серенького гнездышка, прочно и недосягаемо сооруженного под самым князьком крыши. Судаков приметил, что ласточки ловили мух, и по очереди принося добычу в клювах, кормили двух уже взрослых детенышей. Птенцы были настолько велики, что вытеснили отца и мать из своей «квартиры», и тем приходилось ночевать на шесте, где висели прошлогодние веники. После утреннего завтрака родители решили поучить детёнышей летать самостоятельно. Медленно, трепеща крылышками, ласточки не спеша перелетали от гнезда до перекладины, садились, щебетали, подзывали к себе несмышленышей. И вдруг один птенец осмелился, чирикнул и полетел к родителям.
Перелет был совершен удачно. Птенец сел на перекладину и вскоре за храбрость получил от матери свежую муху…
Судакову пора бы и вставать, идти к глиняному рукомойнику в сени умыться, но он увлёкся своими наблюдениями и не хотел мешать столь серьёзным птичьим маневрам. Между тем и второй птенец перемахнул из гнезда на перекладину, и теперь они сидели вчетвером, весело щебеча и любуясь друг на друга. И вдруг старшие ласточки встревоженно зачирикали. Они увидели кошку, давно известного им заклятого врага. Пестрая, в три цвета кошка почти ползком подкрадывалась возле карниза к перекладине, глаза ее отливали страшным блеском, в них была выражена смертельная угроза для беззащитных ласточек, особенно для детенышей. Стоило бедняжкам неосторожно сверзиться с перекладины – и не видать им света белого. Хотел было Судаков отогнать кошку прочь, но тут подоспел бдительный защитник и сберегатель ласточкина гнезда, десятилетний меньшак – сынок хозяйки.
– Ах ты, пропащая гадина, паразитка кулацкая! – выругался мальчик. И при этом так сильно швырнул в кошку старым сапогом, что у неё поблёкли глаза и она, не дожидаясь от мальчика пощады, шмыгнула в подворотню и скрылась.
– Это не наша. Наша кошка мирная, – сказал мальчик, – это кулака мельника Проташи. Еще придет – убью паразитку топором. Третий день не даёт птенцам летать учиться. Летайте, миленькие, летайте!.. А вы не думаете вставать? Про вас Довбиленок спрашивал: кто приехал, откуда, надолго ли. А мы почем знаем… – Летайте, голубчики, летайте… Я ей, гадине, жизни не дам, если хоть перышко ущипнет! – уговаривал мальчик ласточек. – Какие вы несмелые… Кошки боитесь. Её, гада и надо бояться. Вот, воробья, те весной, я видел, лошади не боятся. Садились на запряженную кобылу, шерсть щипали и в гнезда таскали…
Ласточки успокоились, когда птенцы спрятались в гнездо. Мальчик снова заговорил с Судаковым:
– Учительница нам сказывала, есть птички калибровые, храбрые. У крокодила в зубах носиком чистят и не боятся.
– Не калибровые, а колибри, – поправил Судаков.
– Ну, значит, ты студент и есть, если знаешь…
– Почему ты думаешь, что я студент?
– Скажу тебе тайну – ответил мальчик. – Не выдашь?
– Нет, не выдам.
– Довбиленок-то в твой портфель заглянул. А там – ничего. Газеты и три книги: алгебра, какое-то «Материальное сопротивление», да история партии. Довбиленок и говорит: «Зелёный студент, наверно. Синь-пороха нам не выдумает». А зачем ему порох? Не знаю… Мамы дома не было. А то бы она ему сказала: «Не вороши, не безобразь, в чужой портфель не лазь!..»
– Ну и ну… – удивился Судаков. – Придётся вставать. Много времени?
– Не-е! Березова тень до Поликарповой избы ещё далеко не дошла. Бабы сено сушат, мужики в пустошах косят, а другие для скотины у речки большой двор строят – сразу сто коров туда запрут. А ты бы спал, чего делать. Приезжие у нас только по вечерам на собраниях речи говорят. А днём, кто куда. Или сидят да пишут…
– Маленький, а наблюдательный! – заметил Судаков, поднимаясь и очищая волосы от прильнувшего сена.
– Кто тебе сказал, что я маленький? Я в четвертый класс перешёл. Ниже тройки не было, а всё четыре да пятки…
– Молодец! Как звать тебя?
– Я не молодец, так и свинья не красавица, – по-взрослому ответил мальчик. – А зовут меня Ефим. В честь нашего тигинского летчика Ефимки Твёрдова. Он мой крестный. Он смелый летчик. Бывало, самолёт весь расшибся, Ефимке шесть рёбер переломило, а жив. Нет, дома он не живёт. В Няндоме, на железной дороге. Светлые пуговицы. Начальником…
– Так, так. А кто такой Довбиленок?
– Тебе мама вчера говорила. Главный воротило. Фамилия Довбилов. В газетах пишет. Я читал. Про наше Тигино. Речи-то он говорит почище всяких приезжих.
– Так, так. А мельник Проташа, что это за человек, и где, какая у него мельница?..
– Самая настоящая, двухпоставная. На реке, на низинке – спустись, тут и есть. Там всегда людно. И теперь мелет. Воды только мало – на один постав хватает. Да и молотья теперь немного…
– Так, значит, Проташина кошка – кулацкая паразитка, а он сам?
– Тоже паразит.
– Кто это сказал?
– Все, с кого он за помол по три фунта с пуда дерёт.
– Занятно. А ещё кто есть кулаки-деруны?
– Нет больше. Были, да Довбиленок их в колхоз принял – Зызовушку, Долгоязыкова, да Борисова…
– Подай-ка мне, Ефим, штаны и сапоги. Я вставать стану, оденусь.
– Поднимайся. Вода в рукомойник налита – холодная, свежая. А то и выкупаться можешь, чуть повыше от мельницы. Тут глубина такая – чёрта с ушами скроет.
– А ты знаешь, какого роста чёрт?
– Так мужики говорят. Значит, глубоко. Сажени две. Иногда глубже, если Проташа повыше на плотине щиты поднимет. А спустит воду – мельче станет.
– Дельный ты парень. В чём матери помогаешь?
– Сено убирать станем. А те двое, постарше меня, ушли в пустошь корье драть. Надерут, высушат – рубль за пуд, пожалуй, дадут. А ты куда от нас пойдёшь – в «Победу», в «Волю», в «Луч» или «Отбой»? Есть ещё «Красный пахарь». Это Довбиленок на собраниях все деревни по-своему перекрестил. Кто так называет, а кто по-старому: Лещёвка деревня, Степаниха деревня, Гридинская, Левинская, Никитинская, Малая есть деревня, но не меньше других. Вот иди сюда, к воротам встань, все деревни обскажу…
Так, для начала, через деревенского мальчика Ефима Судаков познакомился с расположением куста тигинских колхозов и отчасти даже с положением дел в них. Ведь на Довбилова, на Проташу и ещё кое на кого Ефим его нацелил. «Надо присмотреться, понять, учесть, взвесить – и не наломать дров», – размышлял Судаков. Как-никак он представитель окружкома партии – с него спросится.
И пошёл Иван Корнеевич Судаков по всем деревням Тигинского сельсовета изучать, с чего начался и как теперь выглядит этот один из самых первых в Вологодчине так называемый, куст колхозов.
…В Степанихе посреди деревни – два больших дома братьев Довбиловых, мужиков исправных, зажиточных. Старший из братьев хозяйство вёл, меньшой «выходил в люди». Много лет учился, преподавал обществоведение, теорию классовой борьбы; потом учился в институте красной профессуры.
В летнюю пору Довбилов приезжал в Тигино на отдых. Никогда он не чуждался своих соседей – ни бедных, ни зажиточных. Собирал их, вернее, они сами собирались, как только Довбилов появлялся в любой из тигинских деревень – в вечернюю пору, или в воскресный день. Поговорить он умел и знал о чём.
Старший брат иногда его спрашивал:
– Приехал на отдых и отдыхал бы… И как это у тебя язык не устаёт от речей?
– Надо, батенька, надо. Во-первых, я несу людям знания, во-вторых, на этом мужицком внимании, как на бруске-оселке я оттачиваю свой язык. В нашем деле язык – это всё, это – главное.
– Если он с мозгами связан, – добавлял брат.
– Разумеется. Время теперь не такое, чтоб молча отсиживаться. Надо говорить людям, разъяснять и действовать. От колхозов никуда не денешься. Они будут, они утвердятся. Но ломки будет немало. Смотри, что на юге наделано: раскулачивание почти закончено. В наших вожегодских лесах поселены за этот год несколько тысяч украинских, донских, воронежских кулаков. Это поветрие классовой борьбы нас коснётся? Очень даже возможно. Куда наших зажиточных мужичков, ну, кулаков, прямо скажем будут высылать? На Север ещё дальше? Не лучше ли изменить форму существования, сохранив по возможности своё содержание?
Своего брата и ещё кого следовало, по его разумению, Довбилов заблаговременно предупредил, чтобы в их крепких хозяйствах не было ни малейших кулацких признаков, немедленно лишний скот продать или под нож, батраков, работниц не иметь, никакой торговлишкой не заниматься. И не ждать у моря погоды, а организовать колхоз: первым застрельщикам коллективизации больше внимания и помощи будет от города, а также обеспечена неприкосновенность в случае раскулачивания.
Под таким углом зрения и начал Довбилов организационно действовать, создавать крупный тигинский куст колхозов из нескольких деревень. На первых порах мужикам это казалось чуждо, ново и непонятно. Звучало непривычно в ушах: «Колхозы, тозы, тозы, колхозы…». Но скоро поняли, что это не пустые слова.
В зимние каникулы приехал Довбилов из города. Слово за слово, собрание за собранием каждый вечер в каждой деревне. Решено было:
– Вступаем всем сельсоветом в колхозный куст!..
Временно воздержался лишь кулак Проташа – владелец водяной мельницы.
Протоколы и свои уставы отправили с ходоками в город.
Довбилов горазд на выдумки, дал определение: не куст, а комбинат. Так и в бумагах значилось. Из Вологды ответ ясный:
– Приветствуем! Начинайте, не робейте. Кредиты вам? Пожалуйста… Машины? Будьте любезны, берите. Тракторы? Можем и тракторов три штуки выделить, к осени добавим ещё четвёртый. Начинайте!..
И началось благое, великое дело, но не без сучка и задоринки, не без преград и препятствий, которые скоро обнаружились. О Тигине много писалось хвалебного в центральных и вологодских газетах. Под редакцией самого наркомзема вышла книжка Довбилова о колхозном комбинате. Раздались и восторженные голоса местных поэтов:
…Эх! Записать в какие книги нам — В колхозах будет сущий рай, Если в одно сплошное Тигино Превратится весь наш край!..Но до рая ещё было далеконько. Внутри «комбината» или куста обнаружилось классовое расслоение: бедняки и середняки вошли в один колхоз и назвали его «Победой»; зажиточная часть и кулаки вступили в свои «колхозные» разветвления и назвали их одно – «Воля», другое – «Отбой». И началась скрытая и явная борьба.
Партячейка малочисленна и слаба, комсомольская ещё слабей.
Судаков пришёл к секретарю партячейки Серову. У того сидел Довбилов. Беседовали. Проверили у Судакова удостоверение.
– Зачем послали, то и делайте, – сказал секретарь.
– Будут к вам вопросы, осветим, – добавил Довбилов. Вслух перечитал в удостоверении: – Тут сказано: «По вопросам организационного укрепления колхозов». Ясно и расплывчато, как всё в своём зачатии, – и, возвратив Судакову удостоверение, продолжал беседу с Серовым, но уже на более высокой деловитой ноте, нежели до прихода Ивана Корнеевича.
– Религиозных праздников справлять нынче не будем, товарищ Серов. Надо вводить новые нормы и порядки. Но сразу нельзя. Нужен постепенный переход. Люди веками привыкали, а тут сразу наотрез – нельзя. Сделаем так: праздник Преображения, шестого августа по старому стилю, назовём праздником «Первой борозды». И с этого дня начнём сеять озимовое. Успеньев день, пятнадцатого августа, назовем «Днём первого ржаного снопа» и с этого дня будем жать рожь. А праздновать, отдыхать, гулять – пожалуйста!..
– Умно! – согласился секретарь. – И люди не обижены будут, и новшество будет…
– Те же портки назад пуговицей! – насмешливо заметил Судаков. – Серьёзно ли это выйдет?.. Это не ликвидация религиозных праздников, а сохранение их под другой вывеской.
– Ну и что? Мы тут на новаторство и не претендуем, – возразил Довбилов и стал приводить примеры из истории Великой Французской революции:
– Вы, товарищ Судаков, не знаете. В своё время великие умы, члены Конвента, не только религиозные праздники – весь календарь изменили. Дни, месяцы получили тогда новые революционные наименования. Неделю заменили декадой. Вот и мы уже не первый год День урожая справляем в покров пресвятой богородицы, то есть первого октября. Но о «покрове» и речи нет. Никто и никому не помешает в такие дни проводить антирелигиозную агитацию. Пожалуйста!..
– А, по-моему, всё-таки это должно сверху исходить! – усомнился Серов. Он сидел на столе, а ноги в сандалиях покоились на табуретке. – А, впрочем, инициативе тоже мешать не должно. Но вот с кулаком дело посложней… Как тут быть в наших условиях? Куда его? И в чем разница между кулаком и зажиточным? Тут можно и недогнуть и перегнуть… Как по-вашему, товарищ Довбилов, скажем, поступить с тем же мельником Проташей?.. Каково на сей счёт ваше профессорское мнение?
Словом «профессорское» Серов хотел подчеркнуть значимость авторитета Довбилова, полагая, что Довбилов, учившийся в институте красной профессуры, не чета любому командировочному.
– С зажиточной частью населения мы уже поступили правильно! – Довбилов не сказал с кулацкой частью населения, а именно с зажиточной – так будет мягче. – Да и что значит кулак на севере? Разве сравнишь его с южным, украинским или донским кулаком. Наш кулак – мелочь. Рассосётся. И я так считаю: кулак и бывший торговец он нам классово враждебен теоретически и практически до тех пор, пока он не вступит в колхоз. А вступил в колхоз – он наш друг и брат…
– Как быстро и просто решается острая проблема классовой борьбы в деревне! Прямо-таки позавидуешь вашей мудрости, товарищ профессор! – сказал Судаков.
Понял ли его иронию Довбилов, не в этом суть. Он сделал вид, что не обратил внимания на слова приезжего, и продолжал свою мысль:
– В этом вопросе догматических установок, относящихся циркулярно ко всем местам России, нет и быть не должно. В каждых конкретных условиях следует решать на свой лад. На юге почти завершена ликвидация класса путем изъятия средств и выселения их владельцев. На севере – другой подход. Опыт покажет, что в коллективе кулака можно перевоспитать. Он умел трудиться в своём хозяйстве, поработает и на коллектив и на себя одновременно.
– Мне думается иначе: как волка ни корми, он всё в лес смотрит. Эта пословица народная, не подразумевает ли под волком кулака? – резко возразил Судаков. И не имея под руками фактов, высказал как догадку: – Смотрите, товарищ профессор, эти волки могут нашкодить в Тигине.
– Вам рано судить, товарищ, вы вчера приехали, ночь проспали и хотите резонно разговаривать. Да и вообще в таких делах опыт требуется, а не с бухты-барахты. Кстати, кем и где вы работаете в Вологде?..
– Меня командировал окружком. Вольно вам думать, что я молодой зелёный студент и пороха не придумаю…
– Однако не знаю, как видят ваши глаза, а слух у вас неплохой, – отшутился Довбилов, вспомнив, как сегодня утром заходил к соседке и в присутствии Ефимки, заглядывая в портфель приезжего, высказал эти самые слова. Ему стало даже немножко неловко. Поведение его было явно не профессорским. Стало быть, в насмешку его величает так приехавший из города. Стало быть, надо ухо держать востро: следить за своими действиями…
– Вопрос с Проташей и его мельницей отрегулируем, мельницу отберём. А как это сделать – подумаем… – сказал Довбилов и вышел от секретаря, распуская на ходу кисею дыма от закуренной папиросы.
Не спеша, с оглядкой, он направился к водяной мельнице. Одет он был далеко не по-профессорски: простецкий костюм, распахнутая синяя сатиновая косоворотка, хромовые поношенные сапоги и выцветшая шляпа. «В нем есть что-то от тургеневского нигилиста», – подумал Судаков, глядя в окно вслед Довбилову.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
НЕ АХТИ КАКОЙ мудрец мельник Проташа. Но хитрости у него достаточно. Не ахти какой грамотей Проташа, но, испытав в первые годы революции все напасти, без словаря знает, своим хребтом изучил, что такое контрибуция, реквизиция, конфискация… Выправился житьишком своим в годы нэпа. Мельницу восстановил, один постав прибавил. Толчею при ней оборудовал. Дело пошло гладко. Можно было бы торговлишкой заняться. Но вдруг газеты заговорили о наступлении на кулака и появились новые слова – индустриализация и коллективизация. Казалось бы, прямо Проташи это и не касалось. Но чем чёрт не шутит. Смекнул Проташа: не до торговли тут, надо сжиматься. Были у него два дома в деревне. Стояли поодаль один от другого. Оба крашеные: один голубой – летний, другой желтый – зимний.
– Гляди, Проташа, – намекнул ему как-то Довбилов, – один домик могут у тебя национализировать для общественных нужд, под сельсовет или под школьный интернат. Два дома – это роскошь считается.
Что же делать? Сломать? Безрассудно. Продать? Где теперь найдешь богатого покупателя?.. И надумал Проташа один дом к другому, не ломая и не перестраивая, подкатить и поставить впритык, под одну крышу. Собрал плотников-мастеров дотошных, и на бревнах-кругляшах за неделю дом был сдвинут с фундамента и приставлен к другому. Так и стояли в тот год разноцветные «близнецы», один окнами на мельницу, другой – на лесное задворье, но теперь один дом – двор ко двору, под одной крышей. Не придерёшься. Авось бог милует, национализация не коснётся. Но как быть дальше? По ночам не спал Проташа, думал, что делать, если будет угрожать ему выселение?.. «Плотину сорвать, воду спустить, мельницу сжечь… – приходило в голову. – А что дальше? Расстреляют, а семью на Печору? Нет, не то лезет в голову…»
Шумит вода, крутится колесо, жернова делают своё дело. Стучат кованые песты в ступах, толкут в пыль овсяное зерно. Всё идет своим чередом – подобру-поздорову. Три фунта с пуда за помол – фунт гарнцевого налога государству, два себе. Жить можно – не живётся. Что делать со своим добром? Уступить мельницу колхозу? Легко сказать, а каково сделать? И на мельнице за работой нет покоя Проташе. Работнику, тому что? Таскает мешки, ухмыляется. Чего у него на уме – чёрт знает. Ему и спится спокойно, и ест за двоих, и смешинка с губ не сходит. Предчувствует работник – Проташе-хозяину скоро конец.
То ли своим скудным встревоженным умишком додумался Проташа, то ли подсказ от кого имел: составил акт по всей форме, оценил мельницу, разделил её стоимость на десять паев и расписал все паи на родственников. Раньше был один хозяин – теперь десять. Своя артель, своя компания – не должны тронуть, не должны…
Пришёл на мельницу Довбилов. Мужики расступились. А до него только спорили, который колхоз справедливее: бедняцкая «Победа» или зажиточных мужиков артель «Воля». Проташа не спорил, только вскользь со стороны едкие слова подкидывал:
– Который скорей рухнет, тот и справедливее. Вот уедет Довбилов из Тигино тут и начнётся кто во что горазд. Столпотворение. При нём порядок держится. А почему? Что ему надо? Хочет прославиться. Я, дескать, закопёрщик, дайте широкую дорогу в городе, а на что ему наше Тигино? Да пропади оно пропадом!..
– Протальон!.. Это обо мне речь?
– О ком же? – отозвался Проташа на неожиданный окрик Довбилова. – Такое время, только и говорения о колхозном кусте, о хлебном куске. Такая жизнь, хоть в гроб ложись.
– Не торопись. Належишься. Как с мельницей быть, подумай. А то похоже на то, что мельницу-то отберут в колхоз, а тебя, как крупного владельца, выселят.
– А я не боюсь.
– Пустые слова на ветер, Проташа, бросаешь. Ну, ты стар. Недолго протянешь на сей земле, а семья, твои ростки?.. Их тоже вон из Тигина.
– Не говори, парень. Сплошное затруднение и воздыхание. Только я теперь не полный хозяин мельницы. Моя в ней десятая часть. Посмотри-ка, вот. – Проташа достал из кармана жилетки свёрнутую, заверенную нотариусом копию раздельного акта.
– Что ж, нехитрая мудрость, но другого выхода тебе нет. Твои пайщики члены колхоза. Значит, от их имени их собственность – мельница обобществляется и будет в неделимом фонде всего куста. А тебе дорога в колхоз. Ты уже по этой бумаге неполноправный владелец. Пиши заявление в колхоз. Поддержим.
– Только ты меня в «Волю» принимай. В «Победе» с этим тряпьем мне делать нечего. А «Воля», может, оставит меня в должности заведующего мельницей. Я уже об этом тоже подумывал. Эх, заставила неволюшка в «Волю» идти!..
Таким путем и способом Проташа вошел в колхоз. Мельница осталась в его ведении. Бережно и любовно присматривал он за ней, всё ещё надеясь на то, что всё перемелется, всё образуется.
Весь июль Иван Судаков прожил в командировке в Тигине. Дело новое – невозможно сразу понять и разобраться, что к чему. Коллективизация вроде бы завершена. Трудиться бы людям, идти в гору. Нет, что-то не то!.. В газетах Тигино в пример всем ставят, а какой же это пример?.. На собраниях споры-раздоры: землю поделили не так, скот обобществили не этак, беднота выделена отдельно, зажиточные с кулаками особо. Нет, «Воля» – это не артель, а лжеколхоз, «Отбой» не лучше. Тут требуется вмешательство весомое, вопреки Довбилову, создавшему такой колючий куст. Какой же это пример, если внутри колхозного куста нет единства, а есть вражда. Сначала словесная перепалка, ссоры на собраниях, а потом и ещё того хуже – вредительство!..
Как-то в воскресенье Судаков вышел посмотреть на сборище-гулянье тигинской молодёжи.
Народу на улице много. Земля уплясана, утрамбована, как на гумне. Девки хороводятся в длинных платьях. Косы заплетены с лентами, обувь не плясовая, неказистая: башмаки с пуговками и резинками. Ребята в сапогах, а кто в лаптях – тот позади держится, не высовывается. Разве только бесшабашный какой навеселе после самогонной порции вырвется в круг в лаптях и всем на смех пройдёт козырем:
Надоели лапти ножкам, Из лаптёв торчит солома, Моим ножкам бы сапожки — Настоящие из хрома!.. Мне не надо пуд гороху, Мне – одна горошина. Наплевать, что ты в лаптях, Барышня хорошая!..Судакову понравились припевки-частушки, распеваемые под гармошку. Он сел в сторонку на бревна и стал записывать. Кто-то догадался из ребят, сказал:
– Смотрите, городской приезжий наши коротушки на учёт берёт, в книжечку.
– Давайте-ка ему позабористей!..
И посыпались такие частушки из ребячьих глоток, что карандаш застыл в руке Судакова. Потом он догадался записывать так: два-три слова, а остальное точки. А потом зазвучали частушки на злобу дня:
Мы хлеб соберём, Со ржаного поля, Мы колхоз не признаем, Если это «Воля»… Председатель нашей «Воли» Много дела своротил: Восьмерых коров зарезал, В город с мясом укатал!..– Это уже другой разговор! – промолвил Судаков и подошел к плясунам посмотреть, кто из них на такие шутки горазд. Внимание его сразу привлёк селькор Пашка – его заметки иногда в «Красном Севере» проскальзывают. Судаков подошёл к селькору, когда тот отплясался, соревнуясь с пастухом-лапотником.
– Восьмерых коров, говоришь, зарезал?
– Да. И трёх тёлок! – бойко ответил Пашка, вытирая на лбу пот и поправляя русые волосы, смокшие от старательной пляски.
Распахнув пиджак, он ударил себя кулаком в грудь и заговорил с возмущением:
– До чего дошло, товарищ Судаков!.. Пишу в газету. А мои заметки воруют из почтового ящика и подкидывают мне с резолюциями. Печатными буквами написано: «Не пиши, если хочется тебе жить». Письмо в Вожегу уполномоченному ГПУ отослал. Пусть знает, какие птички в нашем колхозном кусте водятся, да чирикают.
…Вскоре, когда земля в «Воле» была поделена и закреплена, а скот остался у каждого на своём дворе, зажиточные члены колхоза решили подать коллективное заявление в Совет с просьбой распустить их, чтобы жить по-старому. Тут и Довбилов, ратовавший за мирное врастание кулака в социализм, встревожился:
– Сумасшедшие! Воздержитесь от преждевременных похорон. Чего вам надо? Вы хозяева в своей деревне. У вас всего два-три бедняка – Талибов, Лисов да Ерёхин. Что они, против вас? Их голос тонок на собраниях, вы их всегда приглушите… Довлейте большинством голосов и творите в «Воле» волю свою.
Пришлось послушать Довбилова и от подачи заявления воздержаться.
Разговаривал Судаков с беднотой, разговаривал с секретарем партячейки Серовым.
– Не та линия у Довбилова. Этот «профессор» уедет к осени в город, а кто же будет за него расхлёбываться?
– Нам простительно. У нас первый опыт «комбинированного» колхоза, без ошибок не бывает, – пытался возражать Серов. – Как-нибудь обойдётся, образуется.
– Едва ли. Вот увидите. Где слыхано, чтоб такая потачка кулачью давалась?..
Звонил Судаков по телефону в райком, в окружном, писал докладные записки туда и сюда. Узнал об этом Серов, забеспокоился и, не дожидаясь отъезда Довбилова в город, поспешил в сельсовете вывесить коряво, но крупно написанные им лозунги, подсказанные из райкома: «Не пустим кулаков в колхозы!» «Не уступим кулакам Тигино!»
Лозунги появились с запозданием, ибо кулаки уже были членами колхозов и вредили делу. Что ни день – происшествия: то стога горят в бедняцком колхозе «Победа», то скот у них изувечен, то плуги и бороны, оставленные на поле, поломаны. Кто-то ночью в бедняцких избах камнями стекла в окнах побил. В колодцы дегтю налили, воду испортили. Ночью неизвестные избили колхозницу-комсомолку. Впотьмах из-за угла одному колхознику колом сломали руку. А сколько было прирезано скота за время создания Тигинского куста колхозов?.. Нет, тут одной агитацией, убеждением и криком на собраниях ничего не добьёшься. Нужны меры решительные.
Судаков выслушивает жалобы колхозников, тех, которые пришли в колхоз с добрыми намерениями. Пухнет записная книжка от обилия вопиющих фактов. А что с ними делать, с этими фактами? Есть закон, надо прибегать к нему за помощью.
Ночью, когда в сельсовете никого нет, Судаков звонит в район:
– Присылайте следователя. Есть серьезные дела. Колхоз подрывают изнутри. Следователю сама беднота поможет…
Следователь не замедлил. Закрылись на ключ в сельсовете. Спрашивает Судакова:
– С чего начать? Что делать? Каких вызвать свидетелей, чтобы могли подтвердить кулацкие безобразия?
– Свидетелей будет сколько угодно. Они есть. Зови здешнего милиционера на помощь.
Милиционер свыкся с обстановкой. Деятельность его не распространялась дальше вытрезвления пьяных. Пришел, козырнул.
– Арестное помещение есть? – спросил следователь.
– Есть, – ответил милиционер. – Я для этой цели баню приспособил. Решетка из железного обруча. Замок на дверях крепкий, старинный. На предбаннике место для дежурной стражи. Есть берданка. Дежурного сельсовет выделит.
Договорились Судаков и следователь «брать быка за рога». С повесткой побежал милиционер за Борисовым, чтобы привести его на допрос.
– Вопросы буду задавать я, – сказал Судаков, – а вы, знай, формулируйте показания. Я эту механику вашу следственную знаю. Меру пресечения изберите в зависимости от изобличения обвиняемого. Фактов против этого типа достаточно. В баню его, в баню!..
Борисов пришел в сопровождении милиционера. Чувствует неладное. Однако делает вид храбреца и замечает следователю:
– Время горячее. От дела отрываете. Народ узнает о вызове, – забеспокоится: что, почему?
– А почему, сейчас узнаете, – говорит следователь и начинает записывать.
По всем пунктам протокол заполнен, только в вопросе о социальном положении следователь, добиваясь истины, сделал несколько поправок: написал «середняк» – зачеркнул, написал «зажиточный, верхушка, имевший твёрдое задание» – тоже зачеркнул. Наконец, написал «кулак» и сделал примечание внизу листа: «Зачеркнутое не читать, написанное „кулак“ верить».
– Товарищ уполномоченный окружкома партии, какие у вас есть вопросы к председателю «Воли»? – обратился следователь к Судакову.
– Есть некоторые, – ответил тот, глядя в упор на Борисова. – Вопрос такой: скажите, Борисов, кто позволил вам забивать скот, торговать мясом и куда вы девали вырученные деньги?..
– Это уж наше дело. Те коровы были тощие, в обобществление не вошли, оставлены были в личном пользовании, ну, и забиты. Мясо ушло в Вологду и Вожегу. Деньги поделены, кому скот принадлежал…
Торопливо бегает перо следователя по бумаге, а Судаков опять с вопросом:
– Скажите, Борисов, почему ваша так называемая «Воля» и вы лично не участвуете в постройке общественного скотного двора?
– У нас для нашей скотины места много и в единоличных дворах. И каждый крестьянин за бывшей своей коровой лучше уход соблюдает и бережет коровку или там тёлку. От своего скота нелегко сразу отвыкать. Тоже и от лошадей. Да и скот к своим владельцам привычен. Обхождение чует…
– Значит, скот обобществлён только на бумаге. На деле же по-прежнему на своих дворах.
– Почти так, да…
– Скажите, Борисов, почему «Воля» при распределении полей забрала себе лучшие участки земли, а худшие отошли бедняцкой «Победе»?
– Потому что мы первые организовались…
– Против бедноты? И чтобы сохранить своё кулацкое лицо и душу под колхозным покрывалом? – продолжал, немного горячась, Судаков.
– Как? Не перевирайте! – замахал обеими руками Борисов. – У нас тоже есть беднота: Лисов, Ерахин, Талибов… Не все зажиточные.
– Запишите, товарищ следователь, – подсказывал Судаков, – все вопросы в «Воле» Борисов и его сподручные лжеколхозники решали сами, без участия этих трёх бедняков. Их на собрания не приглашали, к голосу их не прислушивались.
– А что они понимают? И какой от них материальный вес в колхозе? Голые пришли, нагишом и уйдут, – наглея с каждой минутой, уже не столько соглашался, сколько огрызался Борисов. Он расстегнул вышитую косоворотку, сбросил на пол кепку. Постепенно овладев собой, готов был теперь дерзко отвечать на любой вопрос, идти «напропалую», как необузданная лошадь с риском расшибиться несётся под гору вон из хомута.
Да, антиколхозных преступлений у Борисова тяжкий воз. Чем дальше его «гонял» Судаков вопросами, тем было видней следователю, что председателю «Воли» одна дорога – под увесистый замок в баню, а дальше – тюрьма, настоящая, вологодская, со стен которой далеко видны написанные в семнадцатом году вещие слова: «Эти стены воздвиг капитал. Коммунизм их сметёт до основания!»
– Кстати, напомню о Лисове, – продолжал Судаков. – Лисов бедняк? Член сельсовета?
– Да…
– Почему вы у него отобрали хлебный паёк, полученный им в кооперации. Вы у него даже тесто вместе с квашнёй унесли. Почему?
– Я знал, что у Лисова денег нет, думал, что он паёк взял в сельпо за счёт «Воли»… – бормотал растерянно и неуверенно Борисов.
– Товарищ следователь, вы слышите?
– И слышу и вижу впервые такого «благодетеля», ещё во главе «Воли», – отвечал следователь, записывая показания.
– Дальше, Борисов, что вас заставило избить бедняка Лисова, порвать на нём единственный и последний пиджачишко?..
– Как избить? Как порвать? Клевета!..
– Да так, как было. Вы его вытолкали из избы, в кровь бутылкой ему разбили голову и оторвали у пиджака полу…
– Пьян был, не упомню…
Не слишком долго продолжался допрос Борисова. Следователь был человек строгих правил, вызвал из соседней комнаты сельского милиционера:
– Отведите его, товарищ, под замок, в баню. Пусть «попарится».
За Борисовым на допрос был вызван Проташа. И тому обвинение, и тоже – под арест.
За Проташей последовал болтун, грызун, Зызовушко Длинноязыкий – такая кличка ему была дана в Тигине давным-давно, крепко к нему прильнула, и никто его иначе по имени и фамилии не называл. Зызовушка, а почему Зызовушка? – чёрт его знает. Этот был старше значительно и Борисова, и Проташи. Лет ему было за шестьдесят, а языком крутил во все стороны. Лучшего подкулачника, антисоветского болтуна ни Проташа, никто другой из кулаков в Тигине и не желал: плетет старик Зызовушко языком, будто сети вяжет, и запутывает в эти сети всех доверчивых, всех охочих до всякой антисоветской брехни.
Зызовушко вошел, снял фуражку с разорванным надвое, когда-то лакированным козырьком. Перекрестился в угол, где полагалось быть образам, и не двинулся, встал у порога. На нём был серый домотканый холщовый кафтан и такие же с заплатками штаны. Ноги босые, с засохшей грязью.
– Проходите. Садитесь.
– Благодарю покорно. Однако не на десять лет? Хи-хи-хи… Мне и житья-то на столько годов не осталось. Только и дум теперь, царица небесная, о кладбище. Какой уж из меня колхозник?.. Мало силёнок. Проташе на мельнице помогал изредка – то на весах, то засыпку делать…
– То языком молоть всякую чепуху и вранину в угоду кулакам… – продолжил за него Судаков. И, не договариваясь со следователем, утешил старика:
– Ни в тюрьму садить, ни судом судить тебя, Зызовушко, не собираемся. Человек ты старый, личность не весьма светлая. Болтовня твоя против колхоза – пустой брех от серости, темноты, от недомыслия. Но вред от твоей брехаловки всё же был и есть. Так вот, учти: если ты будешь порочить колхозы, поносить, ругать советскую власть, то тебе Тигина не видать. Так и знай: вышлют без суда.
– Помилуй бог, помилуй бог, я власть не проклинаю, а в «Волю», как приказал Довбилов, я тоже вступил.
– А ради чего ты вступил в «Волю»? – спрашивал опять за следователя Судаков, хотя следователь записывать ничего не собирался, но был он не против, если из разговора Зызовушки что-либо пригодится для свидетельских показаний по делу Борисова и Проташи.
– Ради чего? – переспросил Зызовушко, – а я и сам про то не знаю. Все у нас в деревне говорили: надо вступать первыми. И Довбиленок настаивал. А ради чего? Машины обещали, всякий кредит, кусторез получен, луга чистим… Что ещё? Хотелось, чтобы поля получше нам достались. Не совру, тут Довбилов помог, помог… Скот тоже без обиды – у всякого на своем дворе стоит. Вот не знаю, как урожай делить будут? Чего не знаю – того не знаю. А Борисова-то что? В каталажку? Хороший, хозяйственный, а вот строговат и на руку резок. Лисова-то он зря поколотил, зря. А может, и за дело? Кто их знает… А как же с мельницей-то? Она теперь и не Проташина, и не знаю чья, – десять пайщиков членов-компаньонов. А сам хозяин тоже в каталажку? Мы ведь доглядели за тем и за другим, как их милиционер в баню запер. Этак вы всех нас, как голубей, под пестерь переловите?
– Голубей мы не трогаем, – успокоил Судаков словоохотливого Зызовушку. – Мы только вредную птицу в клетку садим. Да, да, в клетку и на целую пятилетку…
– Этак-то ваша возьмёт, чего говорить, о чём сумлеваться. – Зызовушко погладил заплаты на забелённых мукой штанах, посмотрел блуждающими подслеповатыми глазками на Судакова и следователя по очереди, спросил:
– Могу идти-ть?.. Спасибо, господа товарищи, поучили малость, не обесчестили старика. А я теперя уж подумаю, какое слово сказать, какое проглотить молча. – Он перекрестился в пустой угол и вышел, пошатываясь.
На улице, на бревнах, сидели кучей мужики. Время было уже под вечер. Тихонько разговаривали, гадая, за кем ещё пойдёт милиционер, кого после допроса отведет в каталажку-баню. Когда из сельсовета вышел Зызовушко и пошел было в свою «Волю», мужики его окликнули:
– Зызовушко! Сюда! Ну, как?..
– Да ничего, бог пронёс. Из годов, говорят, вышел, таких не рестуем. Отпустили…
– А на твой длинный язык наступили?
– Есть маленечко. Наступили.
– Ну, катись, катись, дурак…
– Дурак, да хитрый. Хи-хи-хи! – и поплёлся Зызовушко от любознательной толпы деревенской. А около бани, с берданкой на, плече расхаживал торжествующий колхозник Лисов.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ДОВБИЛОВА не беспокоили во время следствия по делу Борисова и Проташи. Однако о действиях Довбилова во всех подробностях стало известно райкому и окружкому.
В эти дни из Архангельска в Вологду проезжал секретарь краевого комитета партии. В Тигино из райкома была передана телефонограмма: «Срочно вызываются товарищи Судаков и Довбилов в Вожегу к секретарю краевого Комитета. Правительственный вагон. Передала Першакова. Принял Серов».
Оседлали двух бойких колхозных лошадок и где шагом, где рысью и вскачь вызванные поспешили в Вожегу. За всю двадцативерстную дорогу Довбилов только раз проговорился:
– Одно нас с тобой, Судаков, устраивает, что поезд в Вожеге всего пятнадцать минут стоит, значит, высшее партначальство не очень-то долго нас будет задерживать. Исповедает, а причащаться нам придется в вокзальном буфете…
– Едва ли. Радужные у вас надежды. Я думаю исповедает, да ещё как, не спеша, с протиркой. Вагон-то правительственный. А раз так, то он отцепляется где угодно, на сколько угодно, и за паровозом для секретаря крайкома дело не станет.
– Ты, пожалуй, прав. Тогда спешить нам некуда. У меня от этой скачки натёртость появилась… Не торопись. Не за наградой и едем…
В отцепленном вагоне было четыре купе и небольшой салон-зал. За столом сидел секретарь крайкома Сергей Адамович. Лицо у него мужественное, без складок, на щеке и на носу чуть заметные шрамы – следы боевых дней гражданской войны. Одет он в простую хлопчатую, цвета хаки, гимнастёрку. В петлицах максимум знаков военного различия – все четыре ромба. По своей должности секретарю крайкома полагалось быть членом Военного Совета округа, а потому и знаки командарма. Сергей Адамович без особой надобности, но чтобы казаться особой внушительной, с удовольствием нацепил эти знаки.
Прибывших к нему Судакова и Довбилова пропустили, предварительно проверив у них партбилеты. Войдя в салон, оба они представились секретарю крайкома:
– Явились, согласно телефонограмме…
– Садитесь! – секретарь показал рукой на свободные места. – Я вот закончу с ними, а потом побеседуем с вами… Есть о чём поговорить…
Сергей Адамович серьёзно и деловито, строго и взыскательно отчитывал сидевших у него на приёме секретаря райкома и предрика.
– Как вам не совестно! Взрослые люди, коммунисты, а затеяли между собой склоку… Из-за чего? Из-за квартир! Начали с мелочи, а эти мелочи довели вас до порочащих поступков. Эти мелочи большому общему делу мешают. Так ведь? Ужели вы не чувствуете, в какое ответственное время мы живём, работаем? Мне все ясно. Думаю, что бюро крайкома решит так: освободит вас от занимаемых должностей, объявит по строгому выговору и перебросит на другую работу. Секретаря за то, что он засиделся в своем кабинете, завел склоку с предриком, кое-где проглядел и приласкал кулака, кое-где ущемил середняка и дошел до того, что стал на торгах за дешевку приобретать конфискованные кулацкие вещи – швейную машину и прочее. Что ж, не работалось в Вожеге на партийной работе, поедешь в Кокшеньгу руководить лесопунктом… Товарищ Томилов, заготовьте проект решения, – приказал Сергей Адамович своему помощнику, сидевшему в углу за маленьким столиком. – А вы можете быть свободны…
Сумрачный, пришибленный секретарь райкома вышел в тамбур и, прежде чем спуститься по ступеням на грешную землю, долго вытирал пот на лице и на шее.
– С вами разговор особый, – обратился Сергей Адамович к предрика. – Будь кто другой на вашем месте, я отдал бы под суд. Но принимаю во внимание ваш пожилой возраст и то, что при интервентах на Севере вы прошли через каторжные тюрьмы Иоканьги и Мудьюга. Дело не в том, что вы получите взыскание. Важно прочувствовать степень своей виновности…
– Да я это понял, почувствовал, Сергей Адамович. Понимаете, перевез семью из Архангельска – жить негде, ну я к нему в дом… – пытался объясниться предрика, человек с болезненным серым лицом и хриплым голосом.
– Не надо ваших объяснений. Дело не в том, что вы заняли эту квартиру. Я тоже живу в бывшем губернаторском доме, но, понимаете, в бывшем. Вам следовало сначала раскулачить своего домовладельца. Дом конфисковать и поселиться. А вы заняли с дозволения кулака уголок в его доме, да ещё, по его заявлению, лично вы наделили его лесным участочком, на котором свыше двух тысяч деревьев строевого соснового леса!.. Государственный лес кулаку! Что это такое? Как назвать? Я удивляюсь вашей оппортунистической преступной мягкотелости.
– Я не видел того участка. Поверил земотделу…
– Тем хуже. Надо глядеть в оба!.. А вы знаете, вот в этом сообщении что про вас написано? – Сергей Адамович взял со стола бумагу, отпечатанную на машинке, и прочёл: «…Председатель Вожегодского райисполкома, живя в деревне Кузьминской, в доме кулака (имярек такого-то!) вошёл с хозяином в сделку, наделил его земельным участком, на котором находится сосновая роща в количестве свыше двух тысяч деревьев леса. Кулак в душе насмехается над предрика, а подкулачники говорят: „Если районная голова будет и впредь находиться под задницей кулака, нам жить будет можно…“ Ничего себе, весёленькие про вас у кулаков разговоры! Товарищ Томилов, заготовьте ещё проект решения: „С должности снять, объявить строгий выговор, перевести на рядовую работу в другой район, пусть исправляется…“»
Секретарь крайкома полистал какие-то лежавшие перед ним бумаги, посмотрел свои заметки в тетради, затем быстро взглянул на запылившихся и загорелых Довбилова и Судакова. Довбилов выглядел гораздо солиднее Ивана Корнеевича и по возрасту и по внешности и одет был в приличный костюм, только заношенный галстук никак не держался прямо на его шее, сбивался на сторону. С волнением, дрожащими пальцами перелистывая блокнот, Довбилов думал, что надо сказать и о чём умолчать. Он видел и слышал, сколь скоро, властно и решительно секретарь «райкома обошёлся с местными районными руководителями. Что же теперь он может сказать ему, с одной стороны, организатору нашумевшего в крае Тигинского колхозного куста-комбината, с другой – допустившего послабление кулачеству? „Остаётся уповать на одно: тот не ошибается, кто ничего не делает. На ошибках учимся…“.
Судаков чувствовал себя спокойно. Действовать против кулаков в Тигине начал он, может быть, неумело, слабо, но это поправимо.
Сергей Адамович слегка засучил рукава гимнастерки. В вагоне, прогретом солнцем, было жарко и душно. Хотя вагон стоял в тупике, но мимо то и дело проходили поезда и маневрировали паровозы, нещадно пуская пахучий дым с угольной пылью.
Наконец, Сергей Адамович обратился к ним:
– Расскажите, товарищи, как живет-поживает Тигинский куст колхозов. Надеюсь, этот из вас Довбилов, который постарше, поскольку в колхозах его величают тигинским „профессором“. Вот вы и расскажите коротко. Основное мне известно. Но вы мне доложите, что мешает колхозникам крепко стать на ноги? Не думайте вступать со мной в дискуссию по вопросу о том, можно ли кулака-вредителя пускать в колхоз, можно ли ему доверять и можно ли надеяться на мирное врастанье мелкой буржуазии в социализм. Эти вопросы давно решены. И надо быть „профессором кислых щей“, чтобы не знать и не понять учения Ленина по крестьянскому вопросу о непримиримости к кулаку-эксплуататору и так далее. Не помните ли, был в царское время такой автор „сочинитель кислых щей“? Печатал всякие пустячки. Правые оппортунисты уподобились ему. Придумали сказку о святости и непогрешимости кулака. А мы проводим ликвидацию кулачества как класса, выселяем его с насиженных мест, конфискуем у него имущество. Мы проводим массовую, сплошную коллективизацию на базе индустриализации страны и ликвидации кулацкого класса. Так как же у вас в Тигине на практике проводится линия партии?
– Плохо! Признаю, плохо. Не твердо, с допущением некоторых послаблений зажиточной части населения, – сказал Довбилов, полагая, что такое признание смягчит и облегчит разговор с ним секретаря крайкома. – Но мы, то есть я и местная ячейка, не знали, как поступить, прямо скажем, с кулаком. Ведь нам ничего пока не известно, кого, как, почему и куда надо выселять. Период массового выселения кулаков в нашем крае ещё, как мне известно, не начался, и директив конкретных на сей счёт не имеется…
Секретарь прервал его:
– Факты нам известны, и обрисовывают они вас в плохом свете. Давайте будем говорить начистоту, без полемики…
– Товарищ секретарь крайкома, – продолжал Довбилов. – Мы уже начали действовать, принимать меры. Арестованы мельник и не оправдавший себя председатель колхоза Борисов.
– Почему не оправдавший себя? Чего вы от него изволили ждать? Как кулак, по милости вашей пробравшийся в председатели колхоза, он вполне оправдал себя, пороча и подрывая идею коллективизации в самой её основе. Значит, двое арестованы, ведётся следствие… Что это, благодаря вам или несмотря на вас?
– Скорей всего, несмотря…
– Признаетесь?
– Признаюсь…
– Покорную голову меч не рубит, – сказал Сергей Адамович. – Однако я не представляю себе, судя по имеющимся данным, в каком духе вы преподаёте курсантам историю классовой борьбы, если на практике вы до хруста в позвоночнике сгибаетесь перед классовым врагом. Не понимаю!? Партия требует от вас прежде всего немедленного исправления всех ошибок на месте: кулаков из колхозов исключить, к руководству колхозами привлечь середняка и бедняка. И ещё: о своих оппортунистических заскоках сегодня же здесь, в Вожеге, пишите статью для окружной печати. И не общую словолитню, а со всеми вопиющими примерами. Упустите что – добавят другие. Лучше вам будет очиститься от этой скверны до конца. И не наломайте дров, не отшатните от колхоза середняка. Ступайте. Помощь будет. Пошлем нового агронома. Тот незадачливый самострел никуда не годится. Секретарь ячейки слаб? Пришлем пропагандиста. Предупреждаю и желаю успеха…
Судакова Довбилов поджидал у ларька около вокзала и с удовольствием, кружка за кружкой, смачивал пивом свое пересохшее горло, пока не задумываясь, как он будет претворять в жизнь указания секретаря крайкома. Потом он сел на скамеечку под закопчённые паровозным дымом берёзы и стал ждать, посматривая в сторону правительственного вагона, когда появится оттуда Судаков.
„И о чём он его там расспрашивает, – думал Довбилов, – чем-он его там накачивает?.. А у меня есть якорь спасения: статью с признанием ошибок я сегодня же настрочу. Но вот с исправлением дел на месте посложней, похуже… Одно хорошо: каникулы кончатся, уеду в город и – гора с плеч долой… И какого чёрта Судаков там засиделся?..“
Если бы Довбилов находился сейчас в вагоне у Сергея Адамовича, он мог бы услышать там такой разговор:
– Так, так, товарищ Судаков, значит, послали вас в Тигино в командировку для помощи колхозам. Обстановка сложная: кулак, проникший в колхоз, не перестаёт быть кулаком, вы это правильно понимаете. Отсюда надо правильно и действовать. Вы что, в окружкоме работаете, инструктор? – спросил Сергей Адамович.
– Нет… Я пока без должности, без службы. Готовлюсь, с запозданием, в вуз. – Судаков коротко рассказал, когда и за что он был уволен со службы.
– Куда, в какой вуз готовитесь?
– В строительный…
– Доброе дело, но до сентября ещё далеко. Нужно сейчас помочь местной ячейке и сельсовету выявить всех кулаков. Очистить от них этот колхозный куст.
– Понятно, Сергей Адамович.
– Неповторимое время!.. – снова сказал секретарь крайкома, подчеркивая значимость этих слов. – Незабываемое время. Вот когда надо в тонкостях изучать крестьянскую душу. Записывайте свои наблюдения, ведите дневник. Я буду очень благодарен, если вы такой объективный дневник потом пришлёте мне. Из докладных записок и донесений не всё можно узнать – там стараются пригладить, приутюжить официальным языком, боясь как бы себя не охаять и не вызвать у вышестоящих не то что раздражение, а хотя бы тень на лице!..
– Я дневник такой буду вести и вам пошлю. Только не обижайтесь, если там будет что и не так сказано.
– Пишите кратко наблюдения за жизнью деревни. Памятный год. Неповторимое время!..
Сергей Адамович достал из портфеля тетрадь в клеёнчатой мягкой обложке и собственноручно написал на первом листе: „Дневник товарища Судакова (в период коллективизации)“.
– Возьмите эту тетрадь и начинайте. И радостное, и горестное – всё сюда записывайте…
– Сергей Адамович, к вам на прием пришел из леспромхоза Цекур, – доложил Томилов.
– Пустите… Ну, всех вам благ, товарищ Судаков. Потрудитесь… И желаю вам поступить в вуз. До свидания!..
В тамбуре Судаков встретился с Цекуром, недавно ставшим директором Вожегодского леспромхоза. Разговаривать некогда. Цекур поздоровался и на ходу полушёпотом спросил:
– Ну, как? Злой?
– Для кого – как. Для меня – умеренный! – улыбаясь, ответил Судаков.
Прошло не так много времени, когда в „Дневнике товарища Судакова“ появилась первая запись:
„Профессор кислых щей“ Довбилов, как его назвал секретарь крайкома, признал себя правым уклонистом на практике, – а правый уклон большой опасностью на данном этапе является, – и уехал из Вологды. Кое-кому сказал из близких, что он никогда-никогда сюда не вернётся. Не знаю, где затеряется на просторах Руси след Довбилова, но думаю, что он зря зарекается. Будет жив, побывает. Захочет посмотреть, как деревня преобразуется. А разве на старости лет не потянет его, как и любого-каждого на его месте, в деревню, в лесные края, где когда-то протекали детство и юношеские годы? Разве не захочется хоть раз сходить в лес за зрелой, вкусной морошкой, за белыми грибами и рыжиками? Или как не посидеть на берегу реки, озера с двумя-тремя удочками?.. Да что говорить, зря он зарекается. Побывает он здесь. И чего доброго, в благоприятное время, лет через двадцать-тридцать выступит с воспоминаниями о том, как начиналось колхозное Тигино. А начиналось оно непросто, с потугами…
В Тигине после ареста кулаков остальные притихли, приумолкли. Собрания колхозников проходили гладко. В правления выбирались люди честные, незапятнанные. Серов отчитывался в райкоме. Линию на „выкуривание“ кулаков из колхозов одобрили».
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ЗНАКОМЫХ в городе много, а близких друзей-приятелей – почти никого. Разве только иногда, совсем редко, заглядывал к Судакову сотрудник местной газеты Василий Кораблёв, который тоже когда-то учился в Череповецком техникуме, но пошёл не на строительство, а в редакцию газеты. Были к тому некоторые основания: Кораблёв писал вирши и, зная, что это ещё не поэзия, скромно подписывал их псевдонимом В. Коробовский. И в деревне Коробове, где-то южнее Вологды, в стороне от Пошехонского тракта, знали и даже гордились, что их земляк – сочинитель «служит при газете и, дай бог, далеко пойдёт!..»
Однажды вечером Кораблёва, пьяного и мокрого до последней нитки, привел в комнату к Судакову другой сотрудник редакции, Федя Сухожилов, и сказал:
– Товарищ Судаков, будь добр, приюти этого дурака на ночку. Пусть обсохнет, протрезвится, а завтра утром на работу. Я хотел его к себе увести, да он не пожелал. Веди, говорит, меня к Судакову, тот поймёт…
– Верно ведь, Ваня, поймёшь ты и больше никто на свете. Принимай гостя!.. Что? Негде спать? Да я на голом полу, два полена под голову и буду спать, как бог. Не гони меня. Можешь бить. И надо! Бей, но выслушай. А, впрочем, ни хрена я тебе своей тайны не выдам. Федька! Тсс! Ни слова Ваньке. Ни, ни слова! – Кораблёв погрозил кулаком Сухожилову и, закатив глаза, сидя на табуретке, склонив голову, захрапел.
– Что с ним стряслось? – спросил Судаков Сухожилова.
– Да ничего особенного. Дурака свалял. С моста в Золотуху прыгнул. А в Золотухе воды до пояса. Ну, толпа собралась, посмеялись. А удобно ли? Ведь в редакции работает человек! Компрометация себя и учреждения. Пригрей его, товарищ Судаков. Да поговори с ним, когда протрезвится, по душам, чтоб этакой богемы с ним не было. Давай-ка снимем с него штаны и пиджак…
Вдвоём кое-как раздели, разули Ваську, уложили спать. Одежонку повесили сохнуть. Из кармана Васькиного пиджака Сухожилов извлёк какие-то размокшие записки. Оказалось – наброски стихов:
…Разорви ты меня, разорви За мою обуялую смелость. На твоей полукруглой груди Задремать мне сегодня хотелось. Ты, накренясь, со мною простись, Да скажи пару теплых словечек. Без тебя нелегка мне жизнь…Дальше строка была зачеркнута и были сбоку слова: овечек, человечек, речек, свечек; рифма находилась, но, видимо, никак не вбивалась в строку, не соответствовала замыслу автора. Однако Судаков понял, что сердечная драма у Кораблёва не иначе как из-за неудавшейся любви.
– Ладно, – мрачно проговорил он, обращаясь к Сухожилову, – ступай. Завтра я с ним вместе пойду к редактору и там разберёмся, как поступить с этим горе-горьким поэтом.
И всё было решено быстро и просто.
Редактор Геронимус сидел в машинном бюро и без запинки диктовал рыжей и дряхлой машинистке передовую. Закончив статью грозными и призывными фразами, он тогда только приметил Кораблёва и, не отвечая ему на приветствие, сказал:
– Ну, посмешище всей Вологды, зайди ко мне, я тебя, мерзавца, приласкаю…
Кораблёв жалобно усмехнулся и последовал в кабинет, за ним в узкую дверь протиснулся и Судаков.
– Объяснений не надо. Я всё знаю. Сухожилов рассказывал. Садитесь, товарищ Судаков, а ты можешь и постоять. Вот что, Кораблёв. Предупреждений тебе было достаточно. Нянчились с тобой. Сколько раз было говорено: не пей! А ты что? А ты как реагируешь?.. И что еще за штуки? Бросаться с моста в выходной день среди города? Стихи не приносят славы, так ты таким путем решил себя «прославить». Позор!.. Отныне ты в редакции не работник. Ступай в своё Коробово. Откуда пришел, туда и иди. Исправишься в деревне, пиши нам в газету. Исправившегося никогда не поздно принять снова. Кстати, в вашем Коробове до сих пор колхоз не организован, упираются. Вот и помоги им организоваться… Да поработай. Приобрети жизненный опыт, тем более на таком ответственном этапе, на таком крутом повороте…
Кораблёв слушал Геронимуса и молчал. Сказать было нечего. Да, в редакции ему не место. Надо уходить подобру-поздорову.
– А вы, говорят, нынче в вуз собираетесь? – обратился редактор к Судакову.
– Да. Окружном дал согласие и есть решение направить меня в Москву, в строительный.
– Не оплошайте. Желающих учиться много. Что ж, до отъезда у вас времени достаточно. Сумеете выполнить задание редакции, написать нам наблюдения-очерки о работе колхоза, что в Бортникове – хвалят этот колхоз. И ещё прошу тебя сопутствовать Кораблёву до самого Коробова. Посмотреть и принять участие там в создании колхоза. Гонорар обещаю повышенный. Проездных не ждите.
– И не надо. Ноги молодые, какие же проездные. На своих на двоих по Пошехонскому тракту. Пеший больше увидит, больше услышит, – согласился Судаков.
– Товарищ Геронимус, мне бы авансик, ни копейки нет, – взмолился Кораблёв.
– Тебе? Авансик? Чтобы сейчас же опохмелиться?
– Ни капли, товарищ Геронимус.
– Знаем эти «ни капли», а впрочем, возьми вот от меня лично червонец. Разбогатеешь – вернёшь.
– И на том спасибо, товарищ Геронимус…
У Судакова было отличное настроение. Он ничуть не сомневался, что поступит в строительный вуз. Кроме знаний, полученных в Череповецком техникуме, у него были ещё и другие преимущества: опыт комсомольской и общественной работы, партийность и, разумеется, не чуждое социальное происхождение.
Судаков и Кораблёв в тот же день, не спеша, отправились в Бортниково, в передовой колхоз, находившийся в тридцати километрах от города на пути к Коробову.
У Кораблёва не было даже рюкзака. Все его движимое «имущество» – поношенные сандалии, запасные штаны, смятая рубаха, два галстука, порожняя мыльница, тетрадь собственных стихов и пачка газетных вырезок – поместилось в брезентовый портфель. Правда, карманы пиджака и плаща тоже были заполнены небольшими свёртками с хлебом и колбасой, редакционными блокнотами. Из литературы у него был томик стихов Есенина да еще брошюра местного поэта с автографом: «В. Кораблёву. Могу сказать я без курсива, снаружи книжечка красива, ну а внутри – сам посмотри. Борис Штык». Есенина Кораблев обожал, и особенно за то, что порождало «есенинщину» среди молодежи того времени. Стихов Бориса Штыка он не признавал. Себя Кораблев считал талантом, гибнущим на корню, никем не поддержанным и не признанным…
«Поживу в деревне, подержусь за землю, земля образумит, Ведь и Есенин, и Клюев, и многие пропитаны деревенскими соками. Может быть, и я?.. – думал Кораблёв, шагая по обочине тракта. – А деревня в этом году кипит, ох, как кипит! Приглядеться к ней как раз время. Может быть, Геронимус и прав, конечно, прав, где мне быть, как не в деревне? И послушать, что она говорит, о чём она шепчет?..»
Порой ему в голову лезли не весьма благоразумные строчки будущих стихов. Тогда он отставал от Судакова, садился на бугорок и записывал.
День был действительно великолепный. Конец лета, а конца вроде бы и не предвиделось: по утрам были холодные росы, а чуть солнце – и день заиграл. На полях суслоны ржи; бабы убирают лён. С сенокосом покончено. Стоят на луговинах забуревшие стога. На подножном корму пасутся упитанные, «на сто процентов обобществлённые» коровы. Большой был почёт коровам в то первое лето массовой коллективизации: колхозные пастухи их пасут, да и хозяйки поглядывают за ними, за своими бурёнками-кормилицами. Поглядывают и думают: «Всему бывает конец, авось на свой двор вернутся…»
Летняя тропинка вилась возле Пошехонского тракта, вилась и уводила Судакова и Кораблёва на юг Вологодчины. Когда свернули в сторону бортниковского колхоза, навстречу им вытянулся длинный обоз. Ехали к ближней станции на скрипучих телегах семьи местных переселенцев. Издали приметив их, Кораблёв сказал:
– Смотри, Ванюшка, бегут мужички-то, бегут в город. Эти не хотят принять коллективизацию. Ищут себе других мест…
– Как же так бегут? – возразил Судаков, присматриваясь к обозу, – а милиционер конный позади… Значит, «ликвидируют», выселяют здешних.
– Куда вас гонят? – крикнул Кораблёв с обочины.
С первой встречной подводы ответили:
– В Крым, на вечное поселение…
– Весёлое дело!
– Не шибко весёлое…
– В Крыму там рай земной. Виноград, арбузы. Сплошное лето…
– Виноград да арбузы не для нашего пуза, – проговори грустно мужик на другой подводе. – На своей земле нам и картошка сладче чуждого мёда.
– А что верно, что там коров нет? Там, говорят, живут татары и кобылье молоко пьют? – спросил кто-то с третьей подводы.
– Тьфу ты, гадость какая!
– Ничего, и нас обучат кобыл доить.
– Нет уж, спасибо. У нас будут коровы. Обзаведёмся, если обживёмся, если не сбежим.
– Да куда ты побежишь. Молчи, старый чёрт. Куда привезут, там и жизнь. Такая участь разнесчастная! Кто бы думал, кто бы ждал, что такое случится? Все пошло прахом, подчистую… – плакалась женщина, шедшая рядом с телегой, а на телеге – её муж и трое ребятишек, смотревших на мир удивлёнными глазами.
– С татарвой нам не ужиться. У них своё, у нас своё. Тут уж никакая милиция не приневолит. Да этого и не будет. Наверно, поселят в отдельности от татар…
– Вологодские нигде не погибнут, тем более кулаки…
– Кулаки? Какие мы кулаки?
– А кто?
– Мы сопротивленцы!..
– Во! Новая терминология, – заметил Судаков и сказал в сторону Васьки: – Запомни, Васька, «сопротивленцы».
– Как это понять?
– Понимай, как хошь: молоко на завод не сдавали, хлеб прятали, скот забивали… Вот и вся недолга, за сопротивление советской власти нас и вытряхнули…
– Хорошо, что в Крым, а если бы нас в Индию отправили, к обезьянам?..
– Не дури, не весело…
Скрипели подводы одна за другой. Уныло брели лошади. Никто их не подгонял. Да и куда спешить? Крым никуда не уйдёт, а вот вечная родина вологодская из-под ног выскользнула и с каждой минутой удаляется от них всё дальше и дальше.
На предпоследнем возу, на крашеном сундуке, сидела деваха, празднично одетая, в шелковом платье с бусами и брошью, часы с браслетом на руке. Напуская на себя поддельное веселье, она надрывно пела:
Прощайте ласковые взоры. Прощай, мой милый, дорогой. Разделят нас леса и горы И не видаться нам с тобой…– Леса, леса, – придрался отец к словам девушки, – какие там, к черту, леса! Люди там навозом печи топят. Вот увидишь. Замолчи, не вовремя распелась. Не к добру.
– Да какое там добро, тятенька. Одна беда…
Конный милиционер нажал шпорами, обскакал обоз, требовательно предупредил:
– Граждане! Прошу побыстрей. На Паприхе вагоны ждут.
С последней подводы Судакову и Кораблеву молодые парни помахали кепками и неунывающе прокричали:
– Приезжайте в Крым, к нам в гости…
– На курорт, кишки полоскать…
– Ужели этих в Крым? – удивился Кораблев.
– Не думаю. Всего скорей в Нарым. Не иначе как по созвучию адреса перепутали. Или же в шутку такой слух пустили, чтобы охотнее и быстрее собирались к переселению, – разъяснил Судаков.
– И я так соображаю: невелики заслуги у этих «сопротивленцев», чтобы им загорать под крымским солнцем…
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
ВОТ И КОЛХОЗ Бортниково. Организовался он одним из первых на Вологодчине. Судаков и Кораблёв добрались сюда поздно вечером, спать устроились на сеновале, на сене, ещё не успевшем потерять своего прелестного запаха. На утро чуть свет Судаков умылся у колодца и пошёл осматривать бывшую помещичью усадьбу. А Васька спал и спал, убаюканный петушиным пением и кудахтаньем потревоженных ястребом кур.
Судаков остановился около старенькой, покосившейся церкви, прислушался. Было слышно, как бесперебойно гудел трактор, пуская за собой синий дымок. Трактор распахивал целину, прибавлял колхозу площадь для посева. Где-то в соседней деревне дробно трещала молотилка и, судя по звуку, не простая – ручная, а настоящая пароконная. И голос пастуха в прогоне за деревней: «Но, но, матушка, с богом! Куда ты, стерва, в огород рога суёшь! Да я тебе, дьявол, хвост оборву по самую репицу, я тебе, мошенница, рога выправлю…»
Поблизости от церкви Иван услышал удары молота по железу и звук припрыгивающего молота по наковальне.
«Где-то кузница, а где кузница – там всегда народ, живая сельская газета из разговоров мужицких…» – подумал Судаков и пошёл на звуки молотобойца.
Кузницы не оказалось. Горн был разведён под открытым небом, на старом заброшенном кладбище. На огромной каменной плите стояла увесистая наковальня, частично прикрывая славянскими буквами высеченную надпись:
«Под сим камн……коится раб божий… и дворянин
…Ведро… кавалер спи доколе не вострубят ангелы…»
Кузнец с засученными рукавами, в прожжённом кожаном фартуке метко бил молотом по раскаленной железяке, выковывая какую-то нехитрую часть к веялке.
– Труд на пользу! – вместо «бог-помочь», по-партийному сказал Судаков.
– А как же иначе, – шутливо ответил кузнец, не отвлекаясь от дела, – ясно на пользу… Закурить есть?
– Не курю. Берегу деньги и здоровье.
– И то дело. Чей, откуда?
– Из Вологды, от газеты.
– Ишь ты! Газетное прошивало… Ну, ну, подглядывай да на ус мотай, ваше дело такое. Только правду любить надо и не ошибаться. Напишешь пером – не вырубишь топором.
– Верно говоришь. Верно. – И пожалел Судаков, что нет у него папирос, нечем угостить кузнеца и вовлечь его в разговор о колхозе. А кузнец, словно догадываясь, сунул железяку в кадку с водой и подсказал:
– По части колхозных дел вам наш председатель наговорит – семь вёрст до небес и всё лес, а пойдёшь и дороги не найдёшь. А что касаемо старинки наших деревень, так тут в деревне Васильевской есть два деда: Митрич Сорви-толова да Федька Клык, они тебе всё обскажут и про помещика Ведрова и про управляющего Бортникова, к которому перешло всё это владение… Начинай разговор с этих стариков, а председателя сейчас не скоро зацепишь. Он с утра всегда по участкам как угорелый мечется.
Совет кузнеца пригодился Судакову. Он пошёл в Васильевское, и пока Кораблёв пребывал на сеновале, наслаждаясь сновидениями, вот что узнал Иван Судаков от двух старожилов о прошлом здешних мест.
…Было это когда-то, однако не слишком давно. Все деревни здешние принадлежали барину Ведрову. Работали мужики и бабы день на барина, день – на себя. Потом была объявлена «воля» откупиться от помещика – платить ему, бог знает, сколько лет оброки за себя и за клочья земли, за пахоту, пустоши и за воду, что протекает в Комеле-реке. Старики Федя Клык и Митрич Сорви-голава, обоим по восемь десятков, хорошо запомнили те времена – прав был кузнец! И как не помнить. Митрича сам старик Ведров на собаку выменял у соседа-помещика Кудрявцева. Кое-что припомнил и Федька Клык – память не отшибло, хотя ведровский управляющий Бортников и вышиб ему под горячую руку целую горсть зубов. Два длинных зуба остались спереди целёхоньки, крепкие, как клыки моржовые, потому и стали однодеревенцы кликать Федю Клыком, да Клыком…
Не один час слушал Судаков неписанные «мемуары». Но прежде чем вести рассказ, Федя Клык попросил у него для ясности мысли три рубля и пятнадцать копеек на косушечку-выпивушечку под свежий доморощенный огурчик. Пришлось дать, пришлось побаловать старичков, и они за стакашком водочки наперебой вели рассказ о том, какое семейство большое было у Ведровых, какие богатые пиры справляли, и какую они широкую власть имели над крепостными: захочет одного человека продать – продаст, захочет – всю деревню, и деревню продаст, а не то и в картишки спустит.
А какие знатные гости бывали в главной усадьбе, где теперь правление колхоза и где церковь Георгия!.. Бывали на праздниках и именинах у Ведрова помещик Ендоуров из Браткова, Пулькин из усадьбы Ступино, барыня Яновская из Зубова, дворянин Кудрявцев из Снасудова, из Юрова сам Брянчанинов на четверке лошадей приезжал, а губернатор – тот постоянно навещал. Как не знать Федьке Клыку о всех гостях, когда он, бывало, сам верхом на быстроногом иноходце развозил пригласительные письма по всем окрестным усадьбам.
Помнили Федя Клык и Митрич Сорви-голова, какие перед каждой гостьбой в усадьбе голосистые служились молебны в собственной барской церкви. От обилия горящих свечей и лампад стояла духота и жарища. Крепостные люди теснились – негде было рукой пошевелить, не то что перекреститься. Падая на колени, Становились на запятки впереди стоящих и воздыхали, глядя то на гостей нарядных, то на огромную икону Георгия Победоносца, убивающего страшного змия. И надпись гласила под Егорием-хранителем и сберегателем крестьянской скотины: «Се Егорей на коне в руце копие в ж… змия убие».
Дьякон перед возглашением за здравие царствующего дома и поместного дворянина, ради прочистки горла, выпивал сороковку водки, и «многолетие» из раскрытых окон храма неслось далеко за пределы ведровской усадьбы. Гости выходили из храма, милостиво бросали медяки нищим и убогим. Затем в раскрашенном зале помещичьего дома начинался кутёж, шло пирование и танцование до потери сознания. Так велось в последний век перед великой революцией. Гуляла, опивалась и обжиралась барская знать, словно чувствовала приближение конца и падения своего господства.
Мужики поглядывали издалека на барские затеи. Дивились и ужасались:
– Эка диковина! Обеды из двенадцати блюд. Вина заморские, стерляди во всю длину стола. Гуси-лебеди в перьях на столы подаются. Малина спелая, в вазы пересаженная, так кустами я подносится. Чего-чего только нет… Вот куда летят наши труды тяжкие…
А кто посмелей, бывало, скажет:
– Гуляйте, баре, до поры, а как возьмём мы топоры, то конец будет такой: здравие нам, вам – упокой!..
Уже в то время слышался и далеко разносился по Руси гул герценовского «Колокола», и во многих местах южней Вологодчины возникали неполадки, поджоги и разгромы барских гнёзд…
Вспоминал в разговоре с Иваном Судаковым Митрич Сорви-голова о шалостях барина Ведрова, как тот, бывало, забавлял своих гостей.
Подносили однажды слуги барские гостям питие и всякое вкусное едение. Барин Ведров закапризничал:
– Не хочу из лап лакея кушать, хочу из рук моего Дружка!..
Лакей понял в чём дело: бегом на кухню. А оттуда, важно выступая на задних лапах, держа в передних тарелку с жареным карасём, шествовал к хозяину барский пёс Дружок. Гости аплодировали.
– До чего наука дошла! Пес лакея заменил!.. Браво!..
Барина Кудрявцева – учёного либерала – заело:
– Какая тут наука? Чепуха!.. Природа собачья и сила привычки сильнее этой дрессировки. Бьюсь об заклад с кем угодно, на что угодно. А вот у меня есть мальчишка Сорви-голова, так тот уцепится ногами за карниз и вниз головой весь дом обойдет и не свалится.
Ведров захотел купить такого мальчишку.
– Могу на твоего Дружка променять.
– Ну, это уж дудки. Дружку цены нет. Покажи твоего Сорви-голову.
Барин Кудрявцев в тарантас – и домой. Скоро приезжает с вихрастым босоногим, лет четырнадцати, подростком.
Гости вышли смотреть на представление. Парнишка быстро вскарабкался на крышу.
– Ну, Сорви-голова, не пристыди меня. Не бойся ничего, обойди-ка вниз головой всё это жильё. Не свалишься, Митька, твоему отцу четвертной билет дам. Старайся!..
Сорви-голова повис под карнизом. Цепляясь, прошел по фасаду, повернул стороной – и угол не помешал парню.
– Уймите, свалится, убьётся…
– Не свалится, не впервой.
Гости гурьбой шли возле дома, восхищались. Ведров вздумав подшутить: вынул из-под полы пистолет и… бах в воздух. Барыни от испуга вскрикнули. А Сорви-голова зарабатывал четвертной билет сосредоточенно и уверенно. Едва ли он выстрел слышал. Обошел таким манером вниз головой весь дом, кувырнулся, спрыгнул и, встав ловко на обе ноги, засмеялся.
– Не обмани, барин, четвертной тятьке – не помеха.
– Ступай домой. Отец завтра получит.
Гости снова в дом. Там музыка и веселье. Опять Дружком забавляются. На этот раз на серебряном подносе хрустальный графин Дружок нёс барину.
Кончилось дело тем, что променял Ведров своего Дружка на Сорви-голову, да ещё в придачу дал бричку на рессорах…
Разве такое может забыть Митрич Сорви-голова, хотя он и стар неимоверно.
Много десятков лет прошло с того времени. Старого барина придавила стопудовая могильная плита, а на ней – чугунная наковальня. Брызжут огненные искры из-под молота. Иногда кузнец посмотрит себе под ноги, увидит надпись и скажет:
– Крепко барин закупорен, не вылезет. Не слыхать тебе, барин, и ангельских труб, а слышишь ли ты удары моего молота? А слышишь ли ты, как лязгает гусеницами трактор на нашей земле?..
После кончины Ведрова остался на помещичьей земле управляющий Бортников и до самых октябрьских дней семнадцатого года не покидал здешних мест.
Как-то осенью он послал Федьку в Грязовец за свежими газетами. Приносит Федька столичные питерские газеты, с приложением к ним, отпечатанным крупными буквами:
«Закон о земле. Съезда Советов рабочих и солдатских депутатов. (Принят на заседании 26-го октября в 2 часа ночи).
1. Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа.
2. Помещичьи имения, равно как и все земли удельные, монастырские, церковные, со всем их живым и мертвым инвентарем переходят в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных Советов Крестьянских Депутатов…».
Не стал управляющий читать дальше, вскочил с места, заревел на Федьку:
– Ты чего, чего мне принёс! – да по зубам его раз, другой, третий… Бьет и приговаривает: – Никогда ты не умел держать язык за зубами! Зачем тебе зубы? Не смей пикнуть об этом законе. Он не вечен. Как и власть эта только на неделю. Керенский, Корнилов, Краснов не допустят этого произвола!.. Вон отсюда!..
Вышел Федька, выплюнул вышибленные зубы, знать не знает, отчего так управляющий рассвирепел – какой-такой закон?
На другой день всё прояснилось. Бортникова и след простыл. Мужики стали делить усадебную землю по едокам.
…И вот, через тринадцать лет после этого дележа, на мужицкой и бывшей усадебной земле возник колхоз по всем правилам. И трактор появился и силосные башни.
Обо всём этом после разговора с двумя стариками Судаков записал в книжечку, озаглавив написанное «Исторические сведения о прошлом».
Кораблёв тем временем проснулся и выглянул из ворот сарая. Увидев силосную башню, снова юркнул на примятое сено и начал вдохновенно придумывать стихи:
То не в теснине Дарьяла, Не Терек струится во мгле… Силосная башня стояла, В колхозе на заднем дворе. В той башне высокой и тесной, Как спирт, бесновался силос, — Но будет ли корм? Неизвестно! Вот в чём печальный вопрос!..В сарай пришел Судаков.
– Не спишь? Пишешь?
– Давно не сплю. Курицы разбудили. Одна прямо на рожу мне слетела с насеста. – Васька спрятал блокнот, спросил: – Ну, что, Ванюша, делать станем? Есть тут какой матерьялишко?
– Найдется. Я, например, заглянул в прошлое.
– Зачем оно?
– Не узнав прошлого, не поймём как следует настоящего.
– Мудрец ты, Ванюшка…
– Сейчас пойдём к председателю. Его послушаем, посмотрим, как он с колхозным народом обходится. Только мой уговор и совет тебе такой: когда разговариваешь с мужиками, не смей за карандаш браться. А свой блокнот со штампом редакции и не показывай лучше: спугнешь – и никто с тобой не поговорит. А ты так, дружески, запросто, без блокнота. Другое дело беседа с официальным лицом, ну, скажем, с председателем колхоза – тут ты на блокнот нажимай, он тебе под запись расскажет всё, и даже больше, а ты потом сортируй, отбирай главное.
– Оказывается, у тебя есть чему поучиться.
Кораблёв прочёл ему восемь строчек начатого стихотворения.
– Ну, как?
– Во-первых, подражательно, во-вторых, пародийно, в-третьих, глупо…
– И всё?
– Да, всё.
– А я это в два счёта накатал.
– Можно и в один счёт, но глупее нельзя. Твоя поэзия, извини за выражение, не достигает уровня даже силосной ямы, а не то что башни. Не пиши. В такое время, как наше, разразись хорошим, дельным очерком. Могу помочь, а от соавторства отказываюсь. Пойдём к председателю. Я буду расспрашивать его, а ты фиксируй.
– Есть фиксировать. Нет, не буду фиксировать, – передумал Кораблёв, – ты пиши. Геронимус от тебя ждет, на меня он не рассчитывает. Я напишу, а он Сухожилова пошлёт перепроверять мой материал. Очень-то нужно. Я запишу только самое важное, полезное для нашего Коробова. Будет и у нас колхоз. Зря упираются. Чему быть, того не миновать.
Пошли к председателю колхоза. В правлении его нет, дома – тоже. Нашли в поле. Распоряжается на уборке семенного клевера.
Председателем колхоза оказался мужик средних лет, крепкий, подвижной и сметливый. По бедности раньше его в деревнях по имени-отчеству не называли, а кликали Гришкой, иногда добавляли: Гришка Капуста. А теперь вот уже более года как он руководит крупным колхозом, и его без затруднения все величают – Григорий Иванович. Так, и из района из округа ему на пакетах пишут: «Председателю Бортниковского колхоза Григорию Ивановичу Капустину».
Колхоз и его председатель так увлечены делами, что некогда подумать о переименовании колхоза. Как ни странно, а он пока именуется по фамилии бывшего управляющего усадьбой – Бортникова. С этого Судаков и начал разговор с Григорием Ивановичем.
А тот ему заявил:
– Успеем переименовать. Право, не знаю и как. «Ленинское знамя» есть, «Ленинские искры» есть, «Путь Ленина» тоже, – одним словом, все хорошие названия разошлись. А назвать по имени кого-либо из наркомов смелости не хватает: кто знает, в каких он окажется – в левых ли, в правых ли, потом красней за такое название. Наш колхоз делится на участки или бригады, как угодно считайте. Тем участкам даны наименования: «Луч», «Октябрь», «Красная Заря», «Новая жизнь». За «Новую жизнь» мне от секретаря райкома нагоняй был. Будто бы в семнадцатом году под этим названием меньшевистская газета выходила. А откуда мне знать? Что я, любовью пылаю к меньшевикам, что ли? Ну, ладно, не в вывеске дело. А раз вы от газеты, прошу знакомиться с нашей работой. Что неладно – подправите. На то и критика…
Председатель помолчал, посмотрел на Судакова и Кораблёва и, недолго думая, опросил:
– А вы сами-то хоть причастны к сельскому хозяйству?
– Постольку-поскольку… – неопределенно ответил Судаков.
– А я из Коробова, Сергея Кораблева сын. Может, слыхали? Иду туда колхоз организовывать, – ответил Васька.
– Неужели до сих пор Коробово не в колхозе?
– Нет.
– Оно и понятно. Цепкие мужики – зажиточная часть, есть и кулаки. Бывал в Коробове, знаю. А вы, товарищ Судаков, только сюда к нам, или тоже в Коробово?
– И сюда и в Коробово. Сюда посмотреть, поучиться, а в Коробово – помочь организоваться.
– Так, так, значит, Гришка Капуста неплохо действует, если к нему посылают учиться, – заметил председатель и немножко покраснел, вроде бы за неуместное хвастовство.
Судакову и Кораблёву он пожелал глубже вникать во все дела колхоза, побывать на участках, посмотреть отремонтированные постройки, новый скотный двор, познакомиться, как проводится силосование, в каком состоянии машины и орудия, как подготовлены закрома к засыпке урожая. И хотел было уходить по своим бесконечным делам, но тут уже подошли кое-кто из колхозников, чтобы на ходу разрешить наболевшие вопросы.
– Григорий Иванович! У нас неполадок, – жаловалась одна колхозница. – Мою Анку обижают. Девке двадцать годов. Жнет, косит не хуже любого мужика, а в книжку ей ставят первый разряд. Сама не идёт к тебе, стыдится. Прошу Христом-богом, дай ей третий разряд с полным весом…
– Ладно, Семёновна, поговорю с бригадиром. Решим. Иди, дожинай ячмень…
– Товарищ Капустин, около нашего «Луча» завелась какая-то гадина, – сообщал бригадир Пестерев. – На межевом столбе нашли сегодня бумагу – тестом приклеена. На, полюбуйся…
На скомканном листе, вырванном из тетради, по печатному вкривь и вкось цветным карандашом: «Смерть Капустину и Пестереву! А колхозникам крышка!»
– А ты что, испугался?
– Пугаться нечего, а остерегаться надо. Я теперь вечерами без ружья на улицу не выйду. Даром не сдамся. На двух войнах был – не убили, этого не хватало, чтоб из-за угла ухлопали. Тебе хорошо. У тебя наган есть…
– А бумажку всё-таки надо в Вологду в ГПУ послать, – посоветовал Судаков. – Авось она и пригодится разузнать осла по копытам.
– Это не первая. Мы те порвали. Не знаем, на кого и подумать… – сказал Григорий Иванович и, не придавая серьезного значения запугиванию, вступил в разговор с другими колхозниками, коротко подсказывая им, что делать, как поступить, дабы все дела колхозные шли без сучка и задоринки…
Три дня и три ночи провёли Судаков и Кораблёв в бортниковском колхозе. Блокноты были исписаны вгустую. До Коробова оставалось километров сорок. Можно было взять лошадь в колхозе, но зачем ехать, если идти по деревням, просёлкам и перелескам – одно сплошное, радующее душу раздолье. Погода отличная, тёплая, солнечная, грибов и ягод урожай.
Идут не спеша Судаков с Кораблёвым. То поспорят, то мирно поговорят, а не то и частушки поочередно пропоют вроде бы для смеха и веселья. Помолчат и опять заговорят о чем-нибудь серьезном.
– Эх, Ванюша, не дурной ты и счастливый парень. В вуз пойдёшь… Научил бы ты меня, как мне жизнь свою устроить? – заговорил Кораблёв.
Видно, что о многом передумал он за эти дни.
– Боюсь, что тебя учить, как мёртвого лечить.
– Нет, ты не шути, Ванюшка, я не безнадёжен. Водки ни капли – и всё будет в порядке.
– Жениться тебе, Васька, надо.
– Жениться? Не думаю.
– Да, да. И найти себе невесту чуть постарше себя и посерьёзней.
– Что ты, разве отец пустит меня в дом с невестой? У меня старший брат женатый. Куда мне, беды не оберёшься…
– А ты найди такую, чтоб к ней в дом, в приёмыши. В колхозе из тебя получится дельный человек. Строительный техникум тебе кое-что дал?
– Дал. Ну и что?
– Можешь в колхозах проектировать постройки, возглавлять плотничьи артели. Рубить и ставить скотные дворы, общественные бани, столовые, ясли…
– Мысль подходящая. А учиться когда? Вот ты попадёшь в Москву, выберешься оттуда с высшим образованием и начнешь колесить по державе. И в газетах о тебе: «Инженер-архитектор такой-то, воздвиг там-то гидростанцию или мост через реку такую-то». А я всю жизнь Васькой и буду. Так, по-твоему?
– Не так.
– А именно?
– Во-первых, за труд тебе и честь, и почтение будет, во-вторых, в наше время учиться поступить не трудно при любом возрасте. Имей только цель в жизни, устремление без колебаний – и дело выйдет. В-третьих, не сомневаюсь, так и будет. Поработаешь – разум одолеет легкомыслие, и ты будёшь учиться…
– Ну, Ванюшка, ты и говоришь: во-первых, во-вторых, в-третьих, в четвёртых, и говоришь так – принимай, дескать, беспрекословно. А жизнь-то штука, ох, полосатая, да ещё и с препятствиями. Иное и не предвидишь, как тебя засосёт, а потом и вышвырнет куда-нибудь в сторону от цели.
– Сила воли нужна.
– Понимаю, но это слова. Прежде силы и воли нужна ещё способность к чему-то.
– То есть найти самого себя. Правильно и это, – согласился Судаков и, пройдя несколько шагов и что-то вспомнив, продолжал: – Могу тебе подтвердить это положение двумя примерами. Можно бы и больше, но достаточно двух. Идём мы с тобой сейчас по Владыченской волости. Есть тут такая деревня Мошенниково. Глупое название, не правда ли? А наверно оттого, что тут мошенники водились. Но среди них был бойкий мужичок, ямщик Михайло Орлов. У этого лихого ямщика сын Серёжка. Знал я его. В Вологде, в нашем доме, жил он со своей матерью прачкой. Ямщик умер. Жили бедно-бедно. Серёжка стал с детства заниматься рисованием. Поучился в Тотьме у художника Вахрушева, в Вологде на дому у одной художницы поучился, а потом стал ещё лепить из глины всякие фигурки и раскрашивать. И что же? Поехал в Москву в вуз поступать. Не приняли. Другой бы спасовал и со слезой обратно. А парень талант в себе почуял. И будь здоров, парень с характером. Пошёл по музеям показывать свои труды, зарисовки пейзажей, статуэтки. И вот в одном из музеев удивил ценителей искусства. Те его и взяли. И должность дали, и работу, и комнату отдельную и учиться художествам по керамике и фарфору пристроили. Парень пошел в гору. Недавно, по старой привычке, я попросил его мамашу мне бельишко постирать. Отказалась. «Мне, – говорит, – Серёжка денег вдосталь посылает. Он в Москве в наукодемию поступил – зарабатывает хорошо. И мне у корыта стоять запрещает…» Ну, как не порадоваться за такого парня!.. А вот другой случай из нашей же вологодской действительности. В Кубиноозерье, за селом Новленским, в малой одной деревушке, жил тоже так – в бедности и Серёжкой тоже звать – по фамилии Ильюшин. Ездил по деревням, собирал молоко и отвозил в маслодельный завод. Грамотность невелика была. Кроме сказок сытинских изданий, пожалуй, в деревне больше и читать-то нечего. И вот взяли Сережку Ильюшина в солдаты, он там – в учебную команду, а после службы в техническое училище, да в летчики, да в воздушную академию. И пошёл, и пошёл вверх… И как поётся в их авиапесне:
Всё выше, всё выше и выше Стремим мы полёт наших птиц…Короче говоря, теперь Сергей Владимирович Ильюшин – авиаконструктор, изобретатель, и его самолеты реют над нашей страной. Вот тебе и бывший молоковоз!..
– Это редкости и исключения, – задумчиво проговорил Кораблёв.
– Как знать, изведай самого себя, допускай поступки тебе свойственные и благородные, действуй, где надо не спеша, а где и стремительно, но всегда осмотрительно. Развивай себя в одном основном, присущем тебе направлении, однако не чурайся, не бойся и общего развития, без чего не мыслится культурный человек. – Судаков говорил долго и поучительно.
– Ему казалось, что Кораблев слушает и воспринимает его советы. Возможно, это было и так. Возможно, и без этих нравоучений Ваське было о чём подумать. Раньше он никогда заранее не обдумывал своих поступков, а жил одним днём, сегодняшним, и действовал как-то наудачу: сегодня – так, а завтра – иначе. Эту сторону его характера знал Судаков ещё в Череповецком техникуме, когда Кораблёв, получая от отца месячное пособие, без оглядки расходовал его в три-четыре дня, а потом учился, питаясь хлебной коркой и запивая сырой водой.
Итак, они подходили к Коробову, к деревне, находившейся тогда по административному делению где-то в углу, на стыке трех округов – Вологодского, Ярославского и Тверского. День приближался к концу. Воздух свежел, и пахло зрелостью плодов земных. От стогов и скирд ложились длинные тени. Солнце искрилось, уходя за безоблачный горизонт, и обещало назавтра погожий, выгодный для крестьянина день.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
В КОРОБОВО Кораблёв не захотел появляться ночью, чтобы не тревожить в эту пору отца. Он уговорил Судакова остаться ночевать в деревне Питиримке.
– А мне не всё ли равно. Раз ты боишься домой придти ночью, значит, так надо. В летнюю пору каждый кустик ночевать пустит.
Ночевали в избе, у одной заботливой и гостеприимной вдовы, знавшей Ваську и его отца. Наутро осталось вышагать им немного.
Кораблёв чем ближе подходил к деревне, тем мрачнее становился. Как-то его отец примет?
– Давай, Ванюшка, посидим. Коробово близко. Это наши поля… Суслоны ржи ещё не заскирдованы, прямо с полосы молотят. Вон та, с часовней, наша деревня. Большая – полста домов.
Они сели на бугорок, разломили краюшку хлеба, распотрошили две воблы, с ближней полосы нарвали перезрелого гороха. Позавтракали. И, охваченные ленцой, пригретые солнцем, растянулись на лужайке и несколько минут лежали, бездумно глядя в бирюзовое небо.
– Ваня, а Вань, слышь, как здорово в ольшанике дрозд «дрозда даёт», а это вот птичка такая, коноплянка, у нас водится, – она подпевает. Жаль соловьи закончили свои концерты. У нас соловьи не редкость.
Услышав звонкую перекличку зяблика и молодого щеглёнка, Кораблёв начал подражать им, но этим только всё дело испортил: похожего ничего не вышло, а птицы притихли и перелетели подальше от путешественников.
Судаков заметил это и сказал, не поднимаясь, созерцая глубину небес:
– Вот так, Вася, и в жизни, в поэзии так. Надо свой голос иметь и петь своим голосом, не подражая. Не то связки голосовые надорвёшь, а лучше Пушкина и Лермонтова не споёшь. Наоборот, фальшивым голосом можно только других певчих птичек напугать.
– Вот ты куда загнул, мудрец-философ!
– А как же, во всём есть своя логика. Со вкусом к поэзии ты тоже не в ладах. Лучшими стихами Есенина ты считаешь те, что написаны им в кабаках или под влиянием кабаков. Нет, не это главное в Есенине. Есенина и я люблю. Но вот такого:
Тот поэт, врагов кто губит, Чья родная правда мать, Кто людей, как братьев, любит И готов за них страдать Он всё сделает свободно, Что другие не могли. Он поэт, поэт народный, Он поэт родной земли….Ещё в двенадцатом году, когда мы с тобой пешком под стол ходили, а он, семнадцатилетний, сумел так выразить своё отношение к поэзии, как к служению народу.
– А ведь здорово! Правда, здорово. Ты прав, Ванюшка, мы чаще всего хватаемся за Есенина надтреснутого и представляем его с верёвкой на шее…
Пока они тут лежали, судили о том, о сём, к ним подошел коробовский мужик Михайло Гурилов. Босиком, в синих полосатых домотканых портках, в кумачовой рубахе, подпоясанной узким ремешком. Ворот расстёгнут. Медный крест наружу, в бороде и русых волосах остатки мякины. Старался мужик около веялки, а потом не хватило табачишку и побрёл в соседнюю деревню, в кооператив. С Кораблёвым он по-соседски поздоровался, а Судакову руки не подал.
– К отцу, в гости?.. – спросил Гурилов.
– Насовсем, хочу пожить в деревне.
– Удерешь. Не верю. А почему не верю, скажу. Наслышаны мы от отца твоего: в газете будто разные продергушки сочиняешь. А раз хлебнул города, деревни не захошь. Это, брат, всегда так – и прежде, а ныне и тем более.
– Почему тем более?
– Сами понимаете: ломка, треск стоит по всем швам. Да ладно, помолчу, не о том речь. Ещё придерётесь к старику за не то слово… А ты вот лучше продёрни в «Красном Севере» председателя питиримковского кооператива «В единении сила». А где там сила? Пустота! За всякой мелочью приходится в город ехать. А что мужику надо? Серпы, косы, колесная мазь, чай, сахар, табак, а ведь в кооперативе – ничегошеньки! Запил тут наш кооператор. Он намедни ехал из Вологды, ящики с дикалоном и пудрой потерял, два куска ситцу так и не нашли; портфель с фитанциями на две тыщи рублей неизвестно где… Вот как работает «В единении сила».
– Чёрт знает что такое! – возмутился Кораблёв.
– А мы ночевали в Питиримке и об этом не слышали. Плохие мы газетчики, – признался Судаков.
– А ты тоже из газеты?
– Да.
– Вдвоём-то накопаете, насочиняете. Есть о чём.
– Скажи, Михайло, как там у нас в Коробове насчет колхоза?
– Как? Обосновались концы концов, скот ещё не свели. Нет такого двора, чтоб голов на сто. А колхоз определился и название ему «Восход». Всё честь по чести. Долго упрямились зажиточные и твой отец тоже. Сначала верхушечная часть так ратовала: создать два колхоза в Коробове. Один из бедноты и однокоровников, другой из зажиточных – у кого две-три коровы. Крутились, крутились, видят – не отвертеться. Решено, как и везде: всем гуртом в одну артель…
– Кого председателем выбрали?
– А никого. Не верят своим. Зажиточники не верят бедноте, а беднота не доверяет зажиточникам. Дали в Вологду телеграмму вчера. Просим постороннего человека в председатели. Для всех безобидного. Не знаю, пошлют ли?
– Дела, как видишь, Ванюшка, заварились. Пойдём.
Через час они были в Коробове. Судя по внешнему виду дома, Судаков определил, что Кораблёв из семьи зажиточного мужика, если не кулака. Дом был одним из лучших в деревне. Обшит тёсом-вагонкой и покрашен. Краска голубая облезла, посерела. На углу дощечка страхового общества и ниже под стеклом серебром по черному: «Сей дом Сергея Кораблёва с сыновьями». Васька взглянул, улыбнулся:
– Значит, меня отец отщепенцем не считает: сыновей-то двое – я да Яшка…
С этим веселым настроением он поднялся по лестнице в отцовское гнездовье, а за ним, вытирая ноги о полосатые половики, с рюкзаком за спиной, вошёл Иван Судаков.
Васькина мать после приветливых слов ухватилась за самовар. Разговор у отца с сыном долгонько не клеился. Потом, кое-как собравшись с духом, отец, недоверчиво покосившись на Судакова, спросил:
– Твой, Вася, товарищ?
– Да, очень давнишний. С техникума ещё…
– Гм. Так, так. В деревню, значит, блудный сын, на отцовские харчи? Так, так…
– Да, папаша, надоел город. На землю потянуло.
– Что ж. Живи. Только горька ныне земля, а жизнь не сладче. Трёх коров со двора – вон, лошадь – вон. Всё не наше, всё общественное… Не знаю, к чему это всё приведёт.
– Партия и советская власть знают, куда привести.
– Ты что, партейный?
– К сожалению, нет. Вон он – да, – кивнул Кораблев на Ивана. – Это, папаша, сильный активист. Нынче учиться уезжает Человек с будущим.
– Вольному – воля… Старик помолчал. Раскрыл шкаф, достал страховые бумаги. Слазил в передний угол, вынул из-за иконы с полки налоговые листы, облигации крестьянского займа. Показал сыну пустой кошелек. Дрожащим голосом с обидой и злобой пояснил:
– Этих грамот у меня, пожалуй, на две тысячи рублей. Вот на чем господа-товарищи держались. На нашем брате. А из пустого кошелька с меня что возьмут? Нуль без палочки… Живи, живи, Васька. Но знай, в доме работник нам теперь не нужен. Всё общее, и мы общие. И тебе быть в общих. Не полюбится – утекёшь…
Мать, стоя у самовара, заголосила:
– Ничего так, Васенька, не жаль, как жаль трёх коров. Все-то они, красули милые, домшинской породы, на Чебсаре купленые. Что ни день, то пуд молока от каждой. Золотые коровы, золотые…
К чаю пришел Васькин брат Яшка. На столе появились две поллитровки. Судаков не прикоснулся к рюмке. Яшка и Васька нажимали на водку. В болтовне Яшка не уступал старику-отцу и очень не понравился Судакову. И Ваське было стыдно за братца родного, когда тот заявил:
– Ты, Вася, заранее знай: на пай в доме тебе нельзя рассчитывать. Я имею справку от юриста из Грязовца, как единственный наследник. Закон такой, кто пять лет в домашнем хозяйстве не участвовал, тому ни шиша в имуществе. А ты к дому не имел отношения семь лет с гаком…
И тут произошло неожиданное. Васька ударил изо всей силы Яшку по лицу – у того из носа брызнула кровь на скатерть.
– Сволочь! Я не таких слов от тебя ждал!.. – и ударил стаканом по блюдечку. Вдребезги разлетелись осколки. Пригрозил Яшке ещё: – Не смей подниматься из-за стола! Не смей пальцем меня тронуть. Пристрелю, как собаку!..
Хотя стрелять ему было не из чего, угроза внушительно подействовала. Яшка замер от неожиданности. Отец почему-то начал креститься, мать смачивала в холодной воде полотенце.
– Пойдем, Ванюшка, Видишь, какие тут люди!.. Где ещё есть такие?.. Пойдём! – сказал Васька.
Судаков вышел из-за стола, поблагодарил за угощение и, прихватив рюкзак, последовал за своим товарищем.
– Ну и дела! А я тебя не осуждаю. Правильно ты ему по морде врезал, но зачем чайную посуду бить? Это было лишним. Куда же мы теперь?..
– Пока не началось учение в школе, остановимся у заведующей. Примет и приютит.
– Знаком?
– Нет. Только по заметкам, которые она присылала в газету.
– Такая пустит. Пойдём.
И через какой-нибудь час прерванное чаепитие продолжалось в комнате заведующей школой, в уютной и скромной обстановке, за беседой с хозяйкой под ласковый шумок самовара. На столе мёд, малиновое варенье и белые пироги с черникой. Заведующая, она же и учительница в младших классах, Марья Павловна, молодая, дышащая полнокровным здоровьем, оказалась очень приветливой. Коротко она рассказала им, как проходило первое организационное собрание в колхозе и что теперь все с беспокойством ждут, какого им дадут в колхоз председателя.
После чая Судаков рассматривал библиотечку Марьи Павловны, а Кораблёв, посадив себе на колени трёхлетнего ребёнка, стал его потряхивать и напевать, как бывало в детстве напевала ему мать:
Тпруни-тпруни, у Федюни Была сивая лошадка. Заскочила в огород, Съела гряду огурцей…– Вот именно, огурцей, а не огурцов, – заметила Марья Павловна. – К народному творчеству не придерёшься. Как поётся, так и пишется.
– Марья Павловна, хорошее дитя у вас, а где у него папаша? Извините за нескромный вопрос.
– Конечно, нескромный, – вспыхнув, ответила она Кораблёву. – Если бы вы знали, то не спрашивали. У моего Вовы нет папы. Это, так сказать, «тайный плод любви несчастной», как выразился Пушкин. Конечно, плохо не иметь отца ребенку, но я довольна, что нет у меня подлеца-мужа…
– Вася, вопрос ясен, – не отвлекаясь от книжного шкафа, сказал Судаков. – С деловым человеком говори только о деле.
– Не плохой у вас наставник, – заметила учительница.
– Строгих правил. Всю дорогу от Вологды только он тем и занимался, что школил меня изо всех сил. Правда, и есть за что. Марья Павловна, извините нас, разрешите на некоторое время остановиться нам с Иваном в вашей школе. Место найдётся где-нибудь в классе или в сенях.
– А у отца что?
– При встрече поругались и разошлись навсегда.
– Понятно. Они, что отец, то и Яков – жом с жохом. Оставайтесь, места хватит. А вы надолго?
– Нет. Пока Судаков с недельку побудет в колхозе. Он уедет – я переберусь жить к кому-либо в уголок. Но решено: остаюсь в Коробове.
В этот час, если бы Судаков и Кораблёв были в доме Сергея Кораблёва, то могли бы лицезреть такую картину: Васькина мать рыдала, Яшка, обруганный отцом, перевязав лицо полотенцем, не раздевшись, лежал поверх одеяла на никелированной кровати. Беспокойный отец бродил из угла в угол и твердил:
– Ты мне, гад, всю обедню испортил. Дурак, не понимаешь, истины: домашний враг самый опасный. Ты и мне, и себе нажил такого врага, бестолочь окаянная!
Долго не мог старик Кораблёв успокоиться. Конечно, Васька теперь отрезанный ломоть. Кончено. А ведь он тоже сын и вовсе не глупее Яшки. Таким-то нынче и книги в руки. Поворчал старик, поворчал, достал с божницы евангелие и начал читать для успокоения мятежной души. Прочел несколько страниц из Матфея – не помогло. Переключился на Луку, и Лука не помог – слукавил. А откровения Иоанна Богослова и совсем не понял старик. Заложил закладочку и водворил книгу к налоговым листам и облигациям.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
ДВАДЦАТИПЯТИТЫСЯЧНИК, рабочий-ленинградец Клюев Григорий Николаевич не замедлил приехать. С чемоданом и связкой книг он тоже временно, до подыскания себе жилья, остановился в школе. С первого же дня Клюев стал знакомиться с людьми, в первую очередь, с беднотой.
А потом, как и следовало ожидать, – собрание. Все коробовские, вступившие в колхоз, пришли быстро и дружно. Даже те, кто желал «Восходу» скорейшего заката, тоже к означенному часу были в большом классе школы.
Клюев прошел за стол и, не садясь, спросил:
– Кого выберем председателем собрания?
– Марью Павловну! Она и в прошлый раз проводила.
Выбрали. Учительница заняла место.
– Кому слово?
– Разрешите…
Клюев начал речь с того, что он по запросу колхоза «Восход», с путёвкой окружкома партии приехал сюда, если угодно народу, на должность предколхоза.
– Просим и выбираем!.. – послышались реплики. – Один или с семьёй?
– Семья пока в Ленинграде. Устроюсь – приедет и семья: жена, двое малышей…
– А какой профессии, извините?
– Работал на заводе металлоизделий. Так что, кузнечное, машиноремонтное дело из рук моих не выпадет, сумею…
– А это нам и любо. Такого принимаем.
Ответив на все вопросы собрания, Клюев заговорил о политике, но заговорил понятным, простым рабочим языком.
– Конечно, товарищи «восходовцы», не делает вам чести то, что в самую последнюю очередь решили объединиться в колхоз. Новые формы ведения сельского хозяйства неизбежны. Политика партии, – вы читаете газеты, – ясна. Индустриализация страны, всеобщая коллективизация деревни, ликвидация кулачества как класса, отправка в деревни двадцати пяти тысяч рабочих от станка для руководства колхозами, масса новостроек – всё это великие дела великих планов и задач, разработанных нашей партией. Всё это будет выполнено. А если нет, тогда нас сомнёт мировая буржуазия. Но этого не случится. Не для того великий Ленин создал могучую партию, создал новый тип социалистического государства. Трудящиеся при любых условиях сумеют постоять за свои права… А теперь давайте поговорим о малом. О плане работ нашего «Восхода». Вы хозяева. Вы и подсказывайте, с чего начать. А потом изберём правление, руководителей участками работ и так далее… Кто возьмёт первый слово?..
Молчание длилось несколько долгих томительных минут. Только слышались тяжёлые вздохи.
– Пассивно, товарищи, пассивно, – Мария Павловна выжидательно смотрела на собравшихся.
– Дайте мне слово сказать.
И, сразу оживившись, Мария Павловна объявила:
– Слово предоставляется представителю окружной газеты, нашему земляку, товарищу Кораблёву Василью Сергеевичу.
– Во, к какому моменту прикатил!
– Послушаем, а потом и мы начнём, – послышались голоса.
– Начинай, товарищ Кораблёв, с лёгкой руки, авось, следом за тобой разговорятся. Это у нас всегда так – начать трудно, а дальше пойдёт.
Кораблёв подошёл к столу с раскрытым блокнотом.
– Сначала я хочу, граждане-соседи, поправить сказанное Марьей Павловной: я не представитель от редакции, я вернувшийся в своё Коробово навсегда. И прошу, с первых слов, принять меня в члены колхоза на общих основаниях. Три коровы, лошадь и мелкий скот со двора моего папаши подлежат сдаче колхозу, постройки разные – тоже, значит, и моя паевая копейка не щербата. Могу я работать в плотничьей, строительной бригаде, а такая должна быть, ибо надо начать дело с постройки большого скотного двора и конюшни, дабы общее было действительно общим…
– А держал ли ты в руках топоришко, чтобы плотничать уметь?
– Думаю, что за четыре года в техникуме я кое-чему обучился. Попрактикуюсь, увидим…
– Ну, тогда дуй дальше…
– Продолжаю: на этих днях с моим дружком Судаковым мы побывали в колхозе в Бортникове. Вы знаете, что этот колхоз существует уже второй год, и знаете по газетам, что он на хорошем счету в округе.
– Расскажи, расскажи, как там?
– Поучимся бриться на чужой бороде.
– Только не всякий сказ – нам указ…
– Ну, разумеется! – оживился Кораблёв, – мне уже и то хорошо кажется, что слова подкидываете. Так оно веселей дело пойдёт. И вот слушайте, что скажу о бортниковском колхозе, в который входит целый куст деревень…
«Молодец! Он, кажется, своим исчерпывающим выступлением лишит меня слова», – подумал Судаков и одобрительно кивнул Кораблёву. А тот развернул блокнот и продолжал речь, прибегая к своим бортниковским записям. Он говорил о том, что видел в Бортникове, и старался разговор вести к тому, как применить опыт в коробовском «Восходе».
– Я у них шагами вымерял длину и ширину скотного двора. Полтораста коров во дворе размещаются на площади ста восьмидесяти шагов, а в ширину на тридцать пять. Весь план двора и с кормокухней мне ясен. Можем такой построить? Можем. Лес даст райземотдел, известь достанем, а камня у нас сколько хочешь. Трудней с гвоздями… За силосную башню в этом году не ручаюсь. Поздно. А до весны и её соорудим. Нужна будет плотничья бригада человек пятнадцать. Они у нас наберутся… С помощью нашего двадцатипятитысячника Клюева Григория Николаевича станем добывать трактор. А это же основа основ.
– А лошадей куда? Символ! У лошадей и пахарей тогда праздник будет. Соха – она верный друг и помощник мужика.
– В Бортникове два трактора. На них только что не молятся. Да и везде трактору открывается широкое поле. Если взять «Клектарк», он тяжёл, неповоротлив и после дождей завязнет. «Фордзон» легче, лучше. А ещё лучше «Красный путиловец». Вот тут нам товарищ Клюев и поможет иметь «Путиловца». И ещё скажу о Бортникове в пример нам: мы там с товарищем Судаковым приметили упор на животноводство. Не зря давным-давно славится вологодское масло. Коровы – главная доходная статья. У них более половины дохода от молочного скота, частично от льна, остальное для своих нужд. А теперь прикиньте в уме сами: у единоличника затрата труда на одну корову выходит 120 дней за восемь месяцев. У кулаков-четырехкоровников до 80 дней затрачивается на корову. А если в колхозе, то всего времени на каждую корову выйдет 25–28 дней. Потому как одна скотница может обслужить и десять голов и даже больше.
– Смотрите, какая голова меньшак у Кораблёва, этот не чета Яшке.
– Нахватался культуры, потому и не робок.
– Да, учит тех, кои в три раза его постарше.
– И дело говорит.
– В правление его надо… – шушукались мужики, слушая выступление Кораблёва.
– А как там труд и оплата?
– Скажу и это. Не всё, но скажу. Не говорю о трактористах. Их у нас пока нет. А пахарь пашет норму полгектара за десять часов.
– Это много. Наша земля не усадебная. Здесь тяжелей. За тридцать часов гектар, пожалуй, можно согласиться, – поправил кто-то из мужиков.
– Не настаиваю, товарищи граждане, вам видней. Оплата там по разрядам от шестидесяти копеек до одного рубля и двадцати копеек.
– Подходяще.
– Учитывают там количество, а следят за качеством. Плохо скосил – перекоси! Недобросовестно мелко вспахал – перепаши? Вот какой порядок у людей. Разве он нам не по плечу? Колхоз крепкий: детсад есть, школа тоже, столовая в барской усадьбе, газет-журналов хватает. Радио. Телефон. Агроном у них свой человек.
– Молодец Гришка Капуста!.. Смотри ты, из голодранцев, а как он там развернулся!..
– А кто нам мешает? Никто. Поздно начали – не беда. Догоним. А ещё очень важно, сами рассудите и сейчас же выберите во главе с товарищем Клюевым надежное правление, наподобие бортниковского, из трех или пяти человек. Да ответственных руководителей за животноводство, за организацию труда в колхозе, за учётно-финансовое дело и культбыт. И с первых же дней надо организовать агроучёбу и политзанятия с желающими.
После этого выступления расшевелилось, заговорило собрание.
В перерыв Судаков пожал Кораблёву руку.
– Не ожидал, Василий Сергеич, будет толк, будет.
– А ты скажи об этом в редакции Геронимусу. Я не пропащий. Он ещё услышит обо мне!..
Желающих поговорить после Васькиной речи нашлось много. Судаков дополнил речь Кораблёва фактами кулацких враждебных вылазок, призвал колхозников к бдительности и бережливости колхозного добра.
Марья Павловна горячо обещала всё свободное от школьных занятий время отдать колхозу. И счетоводству помочь и кружок политграмоты взять на себя, если ей доверит единственный в Коробове коммунист Клюев.
И уже подходили к столу один за другим колхозники, просили записать:
– Меня в плотничью бригаду…
– Меня к коровам…
– Я хочу в конюхи.
– Меня на кормовой фураж пишите.
– В бригаду пахарей…
– Всех запишем, но если где окажется кто лишним, а где недостача людей, придется пересмотреть, – отвечал Клюев и заносил фамилии в тетрадь.
Состоялись выборы. Ваську избрали в правление колхоза. И всю ту ночь после собрания правление вместе с бригадирами разрабатывало рабочий план.
На той же неделе, 31 августа, в Коробове и в окрестных деревнях за Пошехонским трактом справлялся пивной праздник Фрола и Лавра.
Приезжал агитатор из Вологды, предупреждал:
– Бога нет, всем святым праздникам конец. Не пьянствовать а трудиться надо.
Люди слушали, кивали, соглашались, что и бога нет и что святые плохие помощники. Но так уж заведено: праздник есть праздник! Конец всех полевых работ, и уборка урожая закончена, и паренина вспахана, и озимовое посеяно – как не праздновать, как не испробовать пива из свежего солоду?
И решили коробовские и прочих окрестных деревень мужики и ребята справлять не по святцам «юбилей» Фролу и Лавру, а назвать праздник в советском духе днём «Снопа и борозды».
Состоялся праздник. И длился не один день, а целых три дня и три ночи.
Гуляли во Владычном, гуляли в Мошенникове, пили пиво и самогон в «Восходах». И по другую сторону Пошехонского тракта шло веселье – дым коромыслом. К счастью, убийств не было, но без драки не обошлось. Сводили счёты: мужики между собой, ребята между собой. Ни Судаков, ни Кораблев не вмешивались. Обычного разгула не предотвратишь, лишь бы обошлось тихо. Да не обошлось.
Вспыхнул гуменник. Набежали люди. Одни – тушить, другие – снопы из скирд таскать. Урон колхозу был большой. Пшеницы сгорело пудов пятьсот. Деревне пожар не угрожал.
Судаков взял лошадь в колхозе и верхом поскакал во Владычное – говорить по телефону с Вологдой о пожаре, о пьяном празднике «Снопа и борозды». А когда вернулся в Коробово, там еще неприятность: пьяные подкулачники, подстрекаемые Яшкой, в два кола избили Кораблёва. Заступилась деревенская молодежь, организованная для порядка Марьей Павловной. Ваську кое-как вызволили, притащили в школу. Марья Павловна сама сделала ему примочки, перевязку и уложила на свою постель.
Предколхоза Клюев чувствовал себя отвратительно. Так нескладно начинаются первые дни его руководства колхозом. Доброжелатели его предупредили:
– Григорий Николаевич, поостерегитесь, как бы запросто и вам не влетело. Есть тут разъярённые…
Клюев не робел. Для острастки из кармана штанов торчала у его рубцеватая рукоятка старого верного нагана.
– Пусть бушуют себе во вред. После праздника разберёмся. Этой дикости, полудикости и всякому разбою положим конец. Пусть не забывают: есть на свете советская власть!
Кораблёва пришлось везти в Грязовец, в больницу. В телеге на соломе лежал он бледный и злой. Марья Павловна дала ему байковое одеяло укрыться и провожала далеко за Коробово. Расставаясь, погладила Васькин лоб и хотела было сказать ласковые слово, да выговорила просто:
– Поправляйся и не страшись – возвращайся. Я жду… Дело у нас пойдет… А в газету я напишу об этом несчастном празднике «Снопа и борозды»… Счастливо, Вася! Жду, жду… Залежишься – навещу, – и пошла обратно в Коробово.
– Она тебя жалеет, – сказал Судаков, ехавший верхом рядом с подводой.
– А лучше бы, если полюбила. Славная женщина!.. В такой отсталой деревне ей нелегко. А ты будь, Ванюшка, уверен. Я выздоровлю и с пути не собьюсь и не сопьюсь… Не подкачаю…
– Верю.
– Не удивляйся, если услышишь обо мне слово хорошее.
– Не удивлюсь.
– И ещё не удивляйся, если я поправлюсь и обживусь в Коробове, женюсь на учительнице.
– Не удивлюсь. И считаю, что не сделаешь ошибки.
– Так думаешь? А ребенок?
– Разве это помеха? Добавите ещё парочку, и ладно будет. Она хороший человек…
Кораблёв через силу, но улыбнулся.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
КОРАБЛЁВА осмотрели и положили на больничную койку. Судакова интересовало, насколько серьёзны нанесенные ушибы и долго ли пролежит Кораблёв в больнице.
Врач прощупал все больные места, надломы, проломы, ссадины и вывихи, покачал головой:
– Не исколочен, а измолочен. Будто цепами по снопу били. Живого места не доищешься. Парень крепок. Дело молодое, тело тоже. До следующего праздника починим, а там пусть бережётся. Еще если раз-другой достанется – так считай, пропал человек. Придется полежать месяц, а то и больше…
Стал врач записывать: фамилия, имя, отчество, из какой деревни и сельсовета…
– Ах, из Коробова? Ну, все ясно… Живут по старинке, дерутся тоже, как при Грозном Иоанне, дрекольями. Хорошо, что по голове не попало. А то бы все «шарикоподшипники» разлетелись. Тогда и медицина была бы не в состоянии помочь. Не грустите, больной. За битого двух небитых дают. Но кто даст и кого, не ведаю… С этих чертовых праздников – с Успенья и Фрола-Лавра все комнаты-палаты заняты потерпевшими в драках. Когда же этому конец? Ужели мало тринадцати лет советской власти, чтобы искоренить всё это? Вы понимаете, ведь нигде, как у нас на Вологодчине, не дерутся.
– Да и не пьют столько. А это причина всех бедствий. Хотя Кораблёв был трезв, – добавил в оправдание товарища Судаков.
– Так что за причина?
– Не могу точно сказать: то ли потому, что он с братом повздорил, то ли потому, что при создании колхоза в Коробове показал себя с правильных позиций…
Расстались Судаков с Кораблёвым. И очень надолго. Иван Корнеевич, не сразу поехал в Вологду. Он устроился на ночлег в грязовецком Доме крестьянина. Проспал ночь крепким сном. А утром смотрит из окна: у коновязей лошадей, как на конной ярмарке. От людского гомона шум базарный. Однако никто и ничем не торгует. Буфетчица на его недоумение ответила:
– Сегодня старшеклассников в интернаты привезли, да ещё собрался районный актив – партийный и профсоюзный. А главное, объявлена распродажа конфискованного у кулаков имущества. Вот и понаехали. Столько людей! Столько людей! Мы все баранки и пряники распродали, хоть закрывай буфет.
Буфетчица стояла, подперев руки в бока, толстая, румяная, и озабоченно вслух мечтала:
– Кто бы меня заменил на часок: хотела сбегать на торжище, да купить бы зеркало в простенок, да фикус ростом до потолка Ужасно хочется…
Городок Грязовец нельзя считать захолустьем. Он самый южный райцентр в Вологодчине. Расположен на железной дороге, по пути к Ярославлю. Однако местная молодежь, видимо, недовольная своим городом, по вечерам под гармошку распевает:
Чудный город Грязовец, Чум-ча-ра, чура-ра. Два шага шагнул – конец, Там дыра и тут дыраИ что характерно для таких райцентров, как Грязовец, Устье-Кубенское, да и самой купеческой Вологды, бывшие торгаши-домовладельцы и частные предприниматели, содержатели мастерских, чайных заведений и прочих доходных мест, не дожидаясь высылки, сами разъехались в разные стороны и пристроились, кто где смог. И всё-таки кое-кто из грязовецких кулаков задержался на месте: авось, бог пронесёт. Но бог не пронёс… И за неуплату налогов у них до выселения и в момент выселения было изъято имущество и пущено в продажу с молотка.
И вот в Грязовце торг. Иван Судаков из любопытства пошёл туда. И было смешно и горестно видеть жадность людскую, пристрастие к вещам. Народу собралось тьма. И пока продавщики-оценщики готовились к исполнению своих обязанностей, в публике одни присматривались к вещам, другие смеялись и злословили по поводу этих «чрезвычайных торгов».
– И смех и грех! – рассказывал во всеуслышание старый почтальон. – То вчера было… Следователь купил за дешёвку… тарантас, а лошади у него не было и не предвидится. Так вечерком, чтобы люди его не видели, сам встал в оглобли и через весь город от клуба до бывшего острога на себе покупку проволок.
– А Гришка Коптяев чем лучше? Швейную зингеровскую машину ножную отхватил. Тоже попёр на радостях на своем хребте. До дому не донёс – свалился: кишки надорвал. Лежит в больнице.
Не продавать бы надо. А по учреждениям да по школам, детсадам и артелям распределить. А то что же выходит?
– Райсовету в бюджет деньги нужны.
– А ты бюджетец урежь. Поменьше служащих, да жалованье поскупей.
– Митрофан! Как ты-то сюда попал? Ведь ты в кулаках, говорят, ходишь?
– Бывает, бывает – неунывающе, со смешинкой в голосе ответил старик Митрофан и, проталкиваясь, остановился около Судакова.
– Дед, ужели ты кулак, в самом деле? – спросил Иван Корнеевич старика, осматривая его с головы до ног.
– Не отпираюсь. Для смеху сделали, а, может, по дурости уполномоченного, который окулачил меня.
– Как же случилось?
– Изволь, расскажу. Я не за покупками сюда и приплёлся. А вечером с поездом махну в Вологду.
– Зачем?
– С жалобой на себя, как на кулака. Там-то разберутся. А тут им не до меня.
– Нет ты, дед, погоди. Давай потолкуем. Вижу тут смешного мало. Пойдём-ка в сторону.
– Пойдём. Я не боюсь. А ты кто?
– Я из газеты представитель…
– Тем лучше… Послушай…
И старик коротко и правдиво изложил Судакову историю окулачивания.
– Понимаешь, – начал он, – у меня избёнку опечатали. И сургуча-то у них не было, так наковыряли от порожних бутылок, растопили, верёвку в пробой просунули, сургуч приклеили, медным пятаком припечатали, и сказали: «Не смей в дом входить, пока налог не уплатишь – двадцать пять рублей». А где я их возьму? «Ты, говорят, нам известно, решетами торгуешь. Торгаш. Значит, подлежишь…» Ну, подлежу, так и подлежу. Печать я не срываю. Я ещё обыграю их с этой печатью. Я до Москвы доберусь чуть что!.. Я им покажу за перегибание партейной линии. Не на того наскочили! Плевать мне на печать. Я через окно спать к себе лазаю, и в окно вылезаю…
– А семья?
– Нет у меня семьи. Нетрудовой я элемент, я – бобыль.
– Далеко отсюда?
– Две версты за Погиблово…
– А как с решетами?
– Очень просто: было дело. Жил я всю жизнь бедно. Вот эту пальтушку ношу пятнадцатый год. Сапогам износу нет. Пятые подметки ставлю. А решета? Верно. Было дело. Нужны деньжонки на то, на сё. Соседи не дают: знают, что всегда нечем мне долг отдать. Пошел я в комитет взаимопомощи. Заём просить. А мне говорят: «Деньгой помочь не можем, у самих нет, а вот возьми три десятка решет. Продай их по рублю за штуку. Мы за тобой будем считать три червонца долгу». Ну, я и тому рад! Взял решета. Снес домой. Семь решет продал, на восьмом меня сцапали и говорят: «Плати налог – четвертной билет». А откуда? А за что? А почему?.. «Ах, ты супротив? Так вот тебе – печать на ворота…» – и записали в книгу кулацкой прослойки. Что, весело?..
– Вот что, дед. Считай это недоразумение исчерпанным. Иди и срывай печать. И живи, и тому уполномоченному не кланяйся.
– Нет, буду кланяться. Благодарствую, мол, век не думал в богачах ходить. Осчастливил, стервец!..
– Пойдём-ка, дед, я отведу тебя к зампредрика. Он тебе даст записку. Чтоб ты всё-таки в свою избу не через окно входил.
– Это, пожалуйста, с нашим почтением…
Зампредрика совещался накоротке с комиссией по распределению и распродаже конфискованных вещей: Судаков его отозвал в сторонку, сказал, показывая на Митрофана:
– Товарищ руководитель района, посмотрите на этого старца-бобыля. Послушайте, что он вам расскажет, подобное анекдоту. Снимите печать с его халупы и возложите ту печать на уста уполномоченного, который произвел сего деда в кулаки. Не смешите людей, не раздражайте народ. Больше мне сказать нечего. – И добавил для ясности: – Я от «Красного Севера».
Зампредрика выслушал старика. Пожал плечами. Ругнулся и дал ему записку в сельсовет. А Судакова попросил:
– Я думаю, не стоит об этом в газету. У хлеба не без крох. Лес рубят – щепки летят.
– Это – не щепки и не отщепенцы, это – люди, товарищ зампредрика. Факты, подобные этому, «Крокодила» достойны.
– Не пишите. Уже улажено. Уполномоченного взгреем и отстраним. Я записал…
Между тем на месте торга послышалось долгожданное объявление:
– Приступаем к продаже! Начинаем! После третьего удара молотком вещь остается за тем, кто ей назначит высшую цену. Итак, первая вещь: телега на железном ходу, исправная. Цена ей полста рублей… Кто даст больше?..
– Дешевка.
– Даю шестьдесят…
Удар молотка, второй…
– Даю шестьдесят один рубль.
– Кто больше?
– Шестьдесят пять!
– Кто больше? – третий удар молотка и телега на всех четырёх колесах покатилась к новому владельцу.
– Четыре платья шёлковые с купчихи Латыповой, по девять рублей за штуку. Кто больше?
– Старомодны.
– Для тиятра, артистам разе?
– За розовое-то можно и десятку дать, если перешить.
– Кто больше? Не берёте? Ну, чёрт с вами. Передадим в профклуб, в бутафорию!.. Васька Степанцев, забирай себе это барахло в клуб, бесплатно…
– А вот кому утварь барина Брянчанинова: гардероб, кресло, стол красного дерева, малость поцарапанный, как видите. Все три веши за сорок рублей. Кто больше?
– Не надо. Устарело.
– Ремонт нужен, лакировка, обивка. Почините у столяра Шишина и тогда сбывайте. Хлам…
– Не берете – не надо. Товар хлеба не просит…
Оценщик вышел из-за стола, оставив там двух человек. Пошёл к вещам, разложенным без всякого порядка около профклуба и пожарной каланчи, под открытым небом. Долго выбирал вещь попривлекательней. Наконец поднял из кучи всякого имущества ружье и заявил громогласно:
– Ружье старинное, два ствола, шомпольное, дамасская сталь, золотые насечки, работа восемьсот пятнадцатого года пражских мастеров. Семьдесят рублей! Кто больше?
– Это на любителя.
– Надо посмотреть.
– Ну вот ещё, захочешь, пожалуй, попробовать пострелять, этого только не хватало!
– Н-да, ружьецо. Вот это ружьецо! На ложе серебряная накладка: «Господину А. Разумовскому первой гильдии купцу от его прикащиков в день пятидесятилетия».
– Беру за семьдесят.
– Кто больше? Нет? Ваше, получайте! Такому ружью цены нет, кто понимает. Ты на гравировку посмотри, да к нему ещё вот забирай ящик прикладу: охотничий нож, рог, свисток, отвёртки разные и коробка пистонов.
– Дар – не купля.
– А вот кому этажерка с книгами? Сто пятнадцать томов сочинений русских и французских сочинителей…
– Товарищ, сдайте это в райбиблиотеку. Зачем транжирить? У вас же читателей девятьсот человек, а книг – кот наплакал, – предложил Судаков, с неприязнью глядя на это торжище. – Знайте хоть, что куда с пользой употребить. Вот тут у вас полдюжины разных кроватей, а в Доме крестьянина коек не хватает, ночлежники на полу спят.
Зампредрика распорядился:
– Кровати не сбывать. Списать в Дом крестьянина, как подсказывает товарищ.
– Есть списать. А вот кому буржуйский умывальник с мраморным устройством? Цена сорок четыре рубля. Кто больше?
– Ни к чему такая роскошь. Мы из глиняных помоемся.
– Добрая вещь. Берите. Нет охотников на умывальник?
И опять Судаков:
– Такой вещи в школе место.
– И то верно.
Дальше шли в продажу граммофон без пластинок, самовары, кресло-качалка, затасканные и никому ненужные ковры и всякая дребедень…
– А где фикусы? – верещала знакомая Судакову буфетчица.
– Какие?
– Да те, что у Шелягиных забрали?
– В ЗАГС для уюта поставлены. Непродажные.
– А вот прекрасный предмет. Сюртук с самого бывшего городского головы Рюмина. Целёхонёк. Молью не тронут. Кто желает? За десятку отдаем.
– Передай в колхозный огород на чучело.
– Не годится. Теперь и вороны поумнели – их не испугаешь.
Продавец пожимает плечами:
– Сукно касторовое… Цари носили из такого сукна одежду. А тут не берут. Странно!
– Ничего удивительного. Произошла переоценка ценностей. И не в их пользу. Время вносит поправки. Это же не торг, а спектакль какой-то, – отозвался Судаков, обращаясь к зампредрика.
И ушёл в Дом крестьянина, чтобы до начала собрания райактива написать в газету заметки о бортниковском колхозе, о Коробове, о празднике «Снопа и борозды» и о сегодняшнем торжище. Было что ему рассказать о своих наблюдениях за прошедшие дни…
Возвратясь из Коробова и Грязовца Судаков, в первую очередь, пошёл в редакцию, сдал три корреспонденции в газету, Геронимусу.
Редактор быстро прочёл их в его присутствии и сказал:
– Эта о Бортникове пойдёт. Заголовок удачен: «Могилы и наковальни». О происшествиях в Коробове суховато. Надо оживить, сделать доходчивей. Грязовецкий торг конфискованным барахлом написан живо, но стоит ли оглашать в газете?.. Ты ж сам пишешь об этом в осуждающем тоне. Как по-твоему?
– По-моему, не надо было устраивать такого публичного торга. А действовать по известному принципу: не трогать середняка, отобрать у кулака и дать бедняку. А что бедноте не на потребу, то передать общественным учреждениям и организациям.
– Так и должно быть. Как там Кораблёв? Крепко побили? Думает он за ум взяться?
– Надо полагать. Если после выздоровления женится на учительнице, она ему не позволит уронить себя. Будет порядок.
– Дай ему бог. А тут на бюро окружкома прорабатывали правого уклониста из Тигина. Тебя добрым словом помянули. Довбилов написал «отречение» от «правых» взглядов, придётся напечатать. Муторное что-то сочинил. Понимай как хочешь… Нелегкий год нынче. Весь окружной аппарат в разъездах по районам. И все не успевают. Ломка и перестройка… А рецепты, годные в одном месте, не годятся в другом. Нашу страну, как сказал поэт, «аршином общим не измерить», то бишь под один циркуляр не подвести. Из сельхозсектора звонили, ждут тебя. Опять куда-то тебе придётся ехать. Ну, всех благ! – Геронимус пожал Судакову руку и пожелал на прощание: – Пиши. Материал для газеты везде есть и диковинный и разнообразный…
В окружкоме Судакова неожиданно порадовали полученным из строительного института извещением о том, что набор студентов отложен до пятнадцатого октября и что лица, имеющие свидетельства об окончании строительных техникумов, принимаются на основное и заочное отделения без предварительных испытаний.
– Ты имеешь все шансы на поступление. Значит, тебе и готовиться не надо, – сказали Судакову в сельхозотделе окружкома. – Можешь до половины октября ездить по колхозам или же временно поработать в редакции газеты. Геронимус охотно печатает твои корреспонденции. Он даже склонен тебя взять к себе на постоянную работу.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
ПОСЛЕ первой записи, сделанной в «Дневнике…», Судаков долгонько не брался за него. Но свою поездку в Междуречье он записал подробно и обстоятельно. Впечатления этих дней и заполнили страницы тетради, врученной ему с наставлением секретарём крайкома партии. Вот они.
…В Вологде я опять не засиделся. Сдал отчёт и с комиссией, куда вошли Омелин – управляющий краевого Внешторга, Шулепов – преподаватель Архангельского комвуза, и я от окружкома, отправился в Междуречье. В тот район, где мне довелось бывать не однажды, а в последний раз отобрать здесь у отставного епископа драгоценную митру… Но это дело прошлое, потому о нем умалчиваю.
В первых числах октября начались заморозки. Будут оттепели, но пароходы «на приколе», поставлены на зимовку. На судоходной Сухоне-реке у берегов ледяные закраины. Посредине несет тонкие звенящие ледяшки. Едем в село Шуйское на быстроходном катере. С железного корпуса льдом сбита вся окраска. Моторист не унывает: «Всё равно весной красить. Зиму постоит ошарпанный».
Приехали не совсем удачно. Канун воскресенья. Откуда-то доносится вечерний звон. В самом райцентре звон запрещен, уже приступили к сносу колокольни. Ночуем в Доме крестьянина. Бедность его не подлежит описанию. (Сергей Адамович! Когда вы будете читать мои записки, положение, уверен, изменится в лучшую сторону, а пока, чем богат, тем и рад. Вы знаете, в какую пору это пишется).
В воскресенье никуда мы не двинулись из бывшего купеческого села Шуйского, ныне райцентра Междуречья. Познакомились с обстановкой: из 9700 хозяйств района в колхозах – 6534. Цифры приличные. Они говорят о значительном проценте коллективизации.
Район богат лесами. Поэтому здесь всегда было легко и доступно строиться. Дома в райцентре и деревнях крепкие, большие, из лучшего леса. Колхозы начали строить сразу сорок восемь скотных дворов на сто голов каждый. И этого будет мало, если не прирежут скот.
Из орудий хлебопашества пока преобладает соха. Из машин имеется один-единственный трактор на весь район! И этот стальной пахарь-революционер бездействует.
Кулаки испугались трактора – предвестника революции в деревне и дважды его поджигали. Трактор обгорел, почернел, вышел из строя. Поставлен под тесовый навес в колхозе «Аврора». Колхозники смотрят на него, как на мученика-героя. Индустриализация страны даст колхозам сотни тысяч тракторов, и тогда этому междуреченскому первенцу, закаленному в классовых боях, место в музее…
В газетах уже писали о том, как где-то в Тюменьском округе кулаки подожгли не только трактор, но облили керосином и подожгли самого тракториста Петра Дьякова. (Из этого факта поэт Иван Молчанов создал облетевшую всю страну песню).
Враги коллективизации видят серьёзную опасность в тракторе. Он будет хозяином полей. Вековечной сохе – отставка. Трактор сравняет межи, всколыхнёт, перевернёт сознание людей. Трактор – надежда труженика, гибель кулака-собственника. Огнём его не взять…
В выходной день в Доме крестьянина разговаривал с местными колхозниками. Узнал, что в каждом сельсовете «действуют» один-два попа.
– Во что обходится крестьянину поп? – спрашиваю одного колхозника из села Биряково.
– Не дёшево поп обходится, – отвечает он. – Мы в год ему платим 175 пудов ржи и 3000 рублей, не считая подачек за крещения, венчания, исповеди и прочие «требы».
– Три тысячи? Это же годовое содержание трёх ответственных районных руководителей!
– А фельдшер есть в сельсовете?
– В нашем есть, в других нет. У нас – Постников по фамилии. Хоррроший специалист! Лекарствий мало: касторка да йод… Лечит больше вежливым обращением. Помогает. И мы ему помогаем: жалованье малое, так подкидываем ему то картошки, то маслица. Не жалуемся. После праздничных драк хорошо он лечит ножевые раны. Зашьёт, ну будто дыру на валенке, потом зальёт – и готово… Между прочим, он хорошо подрабатывал: кожи выделывал на сапоги. Милиция оштрафовала. Кожа, это дело не частное. Подай государству!..
– Газеты выписываете?
– Как же! Этого добра хватает. Читаем. Декреты вырезаем, бережём и руководствуемся. Остальное – на курево.
Интересуюсь Домом крестьянина. Беседуем с Костей Серёгичевым, избачом-самоучкой, в холодной, с промёрзшими окнами читальне. Кругом лес, а у читальни дров нет. Люди приходят в шубах, в пальто: полистают журналы, возьмут книгу и уходят. А книги потрёпанные, и тех мало.
– Только двести рублей даётся на книги в год. Это разве дело? – говорит Костя.
Не дело (сопоставьте с жалованьем попа!).
– А как районные власти на это смотрят? – спрашиваю избача.
– Никак. Колхозами заняты.
– Смотри-ка! У вас есть пианино!..
– Дрянь. Все поломано. Выбросить нельзя. Числится за читальней. Зайдите, вот рядом зал, сцена. Спектакли бывают редко. Ставили как-то «Женитьбу» Гоголя. Народу было полным-полно. Ещё, за неимением настоящей, ставили пьесу прокурорскую…
– То есть, как прокурорскую?
– Да наш прокурор Вересов написал пьесу из китайской жизни. Публика ушла. Не интересно. Прокурор очень обиделся и во время спектакля сказал тем, кто уходил: «Вы несознательны! Не доросли до понимания задач Интернационала… Колесо истории вертится, несмотря на вашу несознательность».
– Кино часто бывает?
– Почти каждую неделю. Только картины приходят рваные. Да и киномеханик, как выпьет, так все части и перепутает, а то и пустит для смеха задом наперёд… Иногда названия у картин непонятные, отшатывают публику. Не идут. Тут мы пускаемся на хитрость. Приходит картина о том, как выращивать сою. Соя у нас не растёт. Растение это китайское. Мы и пишем в афише название картины по-своему: «Прекрасная принцесса – китаянка Соя». Приходят и смотрят. Деньги за билеты не возвращаются.
– И часто так обманываете публику?
– Нет. Только два раза. Ещё пришла картина «Путь в Дамаск». И зачем знать туда путь, если это за границей?.. Мы пишем в афише «Путь в Донбасс на большие заработки». А у нас в районе много желающих переехать туда, где покультурнее, да где заработки хорошие… Больше таких «ошибок» в афишах не делали. Райком дал накачку…
Комментарии, как говорится, излишни.
Понедельник. Совещаемся в райкоме. Секретарь спрашивает, зачем мы приехали.
– Обследовать ряд колхозов, изучить, помочь…
– Изучать нечего, – тяжело вздыхая, говорит секретарь. – Чего изучать в зародышевом состоянии? Дело новое и только что начатое. Году нет. Вы уж лучше побольше помогите в колхозах, в смысле налаживания там порядка. А порядка всюду, прямо скажу, маловато… Организовано спешно. А где сшито на живую нитку – там жди прорехи. Прорех этих до чёрта. Увидите. Колебание, бесхозяйственность, воровство. Крадут не там, где много, а где лежит плохо. Обворовывают сами себя!.. И этим подают плохой пример тем, кто ещё не вступил в колхоз. Действует вражеская сила. Скрытно, а вред получается явный. Одним словом, не удивляйтесь: трудностей хватает на каждом шагу. Многие кулаки у нас, не дожидаясь раскулачивания, сбежали из района. Но есть ещё которые засоряют колхозы. И состоят там не ради прибыли, а ради колхозной гибели. Поезжайте в те сельсоветы, где потяжелей приходится…
Секретарь райкома показал самодельную районную карту.
– Вот вам, возьмите три сельсовета: Враговский, Новодеревенский, Февральский. Самые трудные…
Омелин выбрал Враговский (одно название чего стоит!), Шулепов – Новодеревенский, я поехал в Февральский сельсовет. В помощь мне дали инструктора Рогозина. Это – молодой, моих лет, разбитной, крепкий, лобастый и притом неунывающий парень. Любит пошутить, позлоязычить. Об уклонах он, например, рассуждает так:
– Трудно иногда ориентироваться, где «лево», где «право»… Ляжешь спать на левый бок, проснёшься – налево клонит; на правом поспишь – направо тянет. Поднял голову высоко – бюрократизм; низко опустил – хвостизм!.. А суть-то в том, что коллективизация нарушает веками существовавшую собственность частного лица.
Рогозин, конечно, понимает политическую сущность антипартийных уклонов. Он рядовой работник, упорный, старательный, целеустремлённый. Я слышал в Февральском сельсовете, как он создавал здесь колхозы. Дело было в деревне Доровской. Рогозин неутомимо проводил первое организационное собрание без перерыва… двое суток! Мужики дремали и засыпали на лавках. Рогозин и сам дремал за столом. Очнётся и скажет:
– Товарищи граждане, вступайте в колхоз! Партия и рабочий класс не отступят от своих планов. Путь крестьянина к социализму через колхозы… – оборвёт речь на полуслове, и снова голова клонится к столу, встрепёнется и опять:
– Товарищи, в колхозы!..
Очнутся мужики и на его призыв отвечают:
– Повременим, не каплет, успеем…
Бились, бились, наконец, раскололись: одни – за колхоз, другие – против. Но брешь пробита. Создали из полдеревни колхоз «Луч». Понемногу за первыми последовали и другие. К нашему приезду уже половина деревень сельсовета была в колхозах.
Рогозину всё здесь знакомо, потому он со мной. Коммунистов в сельсовете ни одного. В райцентре же, в Шуйском, на самых пустяшных должностях партийцы.
* * *
…Предсельсовета Щербаков. Беспартийный парень-ухарь. Такому, кажется, любое дело по плечу. Ошибок не боится. С лёгкостью их допускает. Заставят исправить – исправляет. Причём, при исправлении сделает такой «перехват», что не привыкший удивляться Рогозин и тот покачает головой и скажет:
– Что ж поделаешь! Откуда ему знать? Сырой человек, почти пещерного периода. Ну, в крайнем случае ему следовало быть в вольнице у Стеньки Разина…
Выявляем наличие кулаков.
Щербаков смеется. Ему почему-то весело.
– Нет кулаков. Есть два попа. Не знаем, как их ликвидировать. Был один кулачишко, выслали. А двадцать кулаков сами сбежали с семьями – кто в Архангельск, кто под Ленинград. Струхнули некоторые середняки, тоже – кто куда. Бегут, от земли бегут…
– Чем же так настращали, запугали середняков?
– Не знаю, – отвечает председатель, – сами догадываются и бегут искать хорошего житья поближе от городов, где полегче.
Стали доискиваться причин. Изучать жизненные факты, выталкивающие середняка из деревни. Причины? Перегибы. Глупейшие – иногда, преступные – всегда.
Разговариваю с колхозником-бедняком Соломиным:
– Товарищ Соломин, почему ты пьянствуешь?
– С горя да обиды.
– Какое горе? На кого обида?
– А вот расскажу…
Щербаков его перебивает:
– Не плети языком зря. Комиссия уедет, а ты останешься. Не треплись. Не болтай лишнего…
– А вот и расскажу. Пусть товарищи знают. Они к делу приставлены. Слушай, Судаков, слушай… Рогозин тот всё привык видеть, его не удивишь и каменное его сердце не распалишь. Я бедняк, власть наша. Я не против власти. Я против отдельных её представителей, вроде нашего Щербакова, и милиционера. Дай мне винтовку – мне не привыкать бороться за Советскую власть… Вот, взял я кредит в товариществе, полста рублей. Купил то да сё. Подработал у потребсоюза сто рублей. Вступил в колхоз. Потребсоюз заработанные деньги не отдает, а товарищество за долг меня под суд. Щербаков шлёт Ямщикова – милиционера. «Поди, распродай у Соломина имущество и верни деньги – кредит товариществу». Приходит Ямщиков. Наган за поясом. А какое у меня имущество?.. С бабы пальто да валенки, да были сани – возок, все пустил в продажу!.. Вот тебе и представители-властители наши. А что середняк говорит? «До Соломина добрались, утекай, куда глаза глядят!..»
Пришлось заставить Щербакова разыскать и вернуть Соломину все его вещи, а от потребсоюза потребовать, чтобы уплатил деньги, заработанные Соломиным.
Вечером – собрание. Щербаков извиняется перед Соломиным, кается, что случай ошибочный он допустил на руку кулакам и т. д.
На собрании в той же деревне, убедившись в нашем добром отношении к бедноте, подает голос из-под полатей семидесятилетний старик Алексей Озеров.
– Граждане! Позвольте в таком разе и мне речь сказать.
– Не имеешь права! – резко обрывает Щербаков. – У нас колхозное собрание, а ты единоличная верхушка. Можешь в письменном виде в сельсовет адресоваться, если недоволен.
– А ты – плут! Ты – плутократ, ты плут во сто крат!.. – решительно и резко нападает старик на председателя. – Буду говорить и ничего ты со мной не сделаешь. Кто виноват, что я «верхушка»? Ты виноват. Кто виноват, что я не колхозник? Ты виноват!..
– Этот вопрос не стоит на повестке дня! – возражает Щербаков.
– Граждане! – взывает Алексей Озеров. – Поставьте меня в повестку. Разберите до последней косточки, кто я? Я верхушка, или Щербаков мерзавец?
– Надо, товарищи, разобраться и с Озеровым, как с Соломиным, – предлагаю я. – Ведь колхоз согласен разобраться.
Рогозин мне тихонько говорит:
– Чувствую, и тут есть грехопадение Щербакова. Наколбасил со стариком.
Я беру из рук Щербакова «бразды» управления колхозным собранием и предоставляю слово Озерову.
Старик ободрился. Обрадовался. Идя из-под полатей, на ходу скинул с себя полушубок, швырнул его в угол, где висели хомут, безмен и выездная шлея с начищенными медными бляхами. Старик встал перед столом президиума, лицом повернувшись ко мне. Я говорю: «Товарищ Озеров, повернитесь лицом к собранию, оно будет решать…».
– Нет, не повернусь! – упрямо говорит старик, – собрание знает, что я за птица-тетерев… Все знают. Буду говорить вам, вы городской представитель, слушайте и судите. И уверен, рассудите безошибочно. Чувствую, как вы с Соломиным верно разобрались.
Щербаков отдувается. Рогозин заранее чему-то улыбается.
– Вот, гражданин товарищ Судаков, я буду говорить то, что Щербаков и все соседи наши назубок знают, а вам про мои «верхушечные» мытарства ничего неведомо. Слушайте да правильно понимайте. Какой я «верхушка»? А это значит, я середняка перешагнул. А завтра захочет Щербаков – меня в кулаки произведёт. Так ведь? А может, он уже успел это сделать? Его спросят: где кулаки в Февральском сельсовете?.. Давай их на выселение. А он хвать-похвать, кулаков-то нет. Одни сбежали в города, другие тишком да ладком в колхозы проскочили. (Я вам, товарищ Судаков, и эти факты найду, знай, действуйте!)
– Пока о себе, о себе рассказывайте…
– Да, о себе: можете мою жизнь пересмотреть. Изба самая худая в деревне. Валится во все стороны, на одних подпорках стены держатся. Смены изба просит. Не для чего мне изба. На гроб доски есть, и слава богу. Были у меня три сына, осталось теперь два. Все боролись на фронтах за Советскую власть. Один убит Юденичем, другой Колчаком тяжело ранен. Поправился, ушёл в лесную промышленность. Третий добровольцем ушёл в гражданскую войну. Служит и сейчас на границе, в Таджикистане… Вернется домой – пусть строится. Только при таком порядке в деревню сын не вернётся. Не к чему привиться. К рухнувшей избе? Да и пусть не возвращается. Я боюсь, если вернется на побывку, он может Щербакову голову отвернуть напрочь…
– Это еще как сказать! Прошу не оскорблять и не запугивать! – стучит Щербаков по столу не кулаком, а из тактичности ладонью.
– Да, тебя не запугаешь, – продолжал Озеров. – Раньше ко мне в избу и соседи погуторить заглядывали. И бабы с куделей, с пряжей, и девки с кружевами… А ныне – как обрезало! Боятся связываться с «верхушкой». Сплошной перегиб со мной допущен. До того перегнули, что не знаю, как и выпрямиться. Вот я и говорю: три были сына-доброхота: один в армии убит, другой служит, третий – инвалид войны… Я да старуха – только и есть. Казалось бы, такой семье можно и помочь. Так ведь?..
– Так, так…
– А как Щербаков помог? «Оверхушил» меня, назначил невыносимый налог. Денег нет. Платить нечем. Последняя коровенка со двора – вон! Две овцы – вон! Сено тоже забрали. Остался с одним старым распронесчастным мерином!.. Мерин, по милости Щербакова, всему виной. Двенадцать годов назад мерин был жеребцом. Приводили к нему на случку кобыл. Порода хорошая. Тогда он жеребцом был, весь в черных пятаках. Масть такая. Теперь сивый весь, как и я… И брал я за случку по пуду овса. И не доход вовсе. Деньги были тогда – пустые бумажки, тысячные нули и только. А пудики овса уходили на кормление жеребца, чтобы силу мужскую не терял… Щербаков это припомнил и приписал мне: «В прошлом пользовался нетрудовым доходом при помощи эксплуатации жеребца…» Вот и полюбуйтесь, товарищ Судаков, на моё житье, на наше положение. И я ещё слышал, что Щербаков в военкомат бдительную бумажку послал о том, что мой сын-пограничник, командир взвода – сын верхушки…
– Писал ты это? – спросил я Щербакова.
– Писал, сигнализировал, – ответил тот поникшим голосом, – было такое дело, донёс…
– Вот именно, донёс…
– Как по-вашему, товарищ Судаков, ошибка это допущена Щербаковым или преступность? Вот я задаю какой вам вопросец, – спрашивает Озеров.
Тут и я не без горячности ответил растрогавшему меня старику.
– Если всё, что вы рассказали сейчас, это правда…
– Правда! Правда! Самая настоящая!.. – зашумели колхозники. – Это Щербаков с Кругловым наголовотяпили!..
– Если это правда, – повторил я, – то будьте уверены, товарищ Озеров, преступная ошибка будет немедленно исправлена. Что касается Щербакова, о нём вопрос решит президиум сельсовета и райисполком.
– Убрать его надо! И Круглова тоже!..
(Вот, Сергей Адамович, чтобы знали вы, если доведётся вам читать мои записки, с какими извращениями политики партии и советской власти приходилось нам сталкиваться и на месте исправлять.)
* * *
На другой день звонил в райком и райисполком об Озерове, Соломине и ещё о ряде фактов. Надо действовать на президиуме сельсовета. Снимать Щербакова, заменять его. Встречаю колхозника Соломина. Опять пьян.
– Ты с чего это?..
– Сегодня на радостях. С потребилки заработанную сотню вырвал. С «кредитным» рассчитался. Бабе валенки и пальто вернули. Спасибо тебе… А сани-возок пропали, чёрт с ними! Мне не ездить…
– Товарищ Соломин, нельзя же так. Надо работать в колхозе…
– Будем работать. Молотьба кончается. Поеду в лес. Вот сбросят с «престола» Щербакова – и поеду.
Сняв шапку, Соломин кланяется и шатаясь бредёт вдоль деревни, растопырив руки, напевая:
Эх, я не стану водку пить, Стану денежки копить… Лучше книга да кино — Чем проклятое вино!..Благие намерения, возражать не приходится. Но слова Соломина в частушке – чужие, не его слава.
Что ты будешь делать с такими привычками-пережитками?.. Водка, самогон – мужицкая слабость. У того же Соломина в полном смысле соломенная бедность. Дыр и прорех во всём неисчислимое множество. А появилась копейка – становись на ребро и катись в центроспирт. Типичное явление! Типичное зло!.. Какими мерами бороться с ним? Культурными мероприятиями. Да. Для этого нужны силы. И всеобщее образование, по крайней мере не ниже семилетней школы… Плюс сознательность.
Вечером на следующий день проходило заседание сельсовета. Щербакова убрали из председателей. Взялись ещё за одного из членов президиума Круглова.
В деревне Андреевской было семь кулаков. По подсказу и покровительству Круглова все они «единодушно» вступили в колхоз. Вынесли «единодушное» решение перебить скот, а мясо продать. Решение есть – приступили к делу. Кулак Журин первый подал пример: из шести коров прирезал пять, с одной вступил в колхоз.
«Делаю по справедливости. С чем беднота, с тем и я. Одну коровушку берите…» – заявил Журин, вступая в колхоз.
Разобрались в сельсовете: отец у Круглова кулак. Было у того восемь коров, к вступлению в колхоз «уберёг» двух. Тесть у Круглова – бывший торговец. И этого не обидели, приняли в колхоз.
– А вы спросите в Андреевской. Какой урожай был, где он, этот урожай? – подсказывают члены сельсовета. – Создан ли семенной фонд?
Выясняется и тут прореха: весь урожай, кто сколько мог, растащили.
– В чем дело, товарищ Круглов? Ты – член президиума сельсовета, ты отвечаешь за свой колхоз…
– Не отвечаю! На то председатель есть. Все тащили. И все доказывали: в колхозе сообща ни жить, ни работать невозможно; каждый за себя должен отвечать и трудиться; у нас колхоз не получается…
Да, с «помощью» таких Кругловых и Щербаковых колхозы могут быть обречены на развал, на самоликвидацию…
В три часа за полночь кончается заседание в сельсовете. Каждый выступал несколько раз. Забудет, что-то припомнит, всполошится и опять: – Дайте слово!..
Вынесли резолюцию: «Кулацких сообщников Щербакова и Круглова вывести из состава сельсовета. В отношении Круглова – пересмотреть вопрос о его социальном лице, ибо он пролез в колхоз под маркой бедняка, а у отца было восемь коров. И заострить этот вопрос в деревне Андреевской и по всему сельсовету, ввиду неизбежности чистки колхозных рядов от действительно враждебных, вредительских элементов…»
Догорают последние капли керосина в лампе. Лампа тухнет. Красным обгорелым языком углится в прокопченном стекле лента. Посидели бы и ещё. Да сторож Собакин кричит:
– Расходись! Нет карасину!..
Народ нехотя расходится. А было бы о чём поговорить, особенно когда не пишется протокол и выступления не требуются вычурные. Говори, что хочешь и что бог на душу положил…
В опустевшем сельсовете быстро улетучивается табачный дым. Сдвинув два стола вместе, ложусь спать. Годовая подшивка газеты «Беднота» – под голову. В трубе с присвистом подвывает ветер. На особый лад поёт ветер, продувая дырявые окна. От холода стынет грязь на полу. Не могу уснуть. Долго думаю. И не о том, что происходит в деревне, а о том, что и как преобразуется в ней спустя годы после всех этих невзгод, неполадок, преград и препятствий… От холода перебираюсь на широкую глинобитную русскую печь. Оказывается, и там не теплее.
– Эй, Собакин, что же ты поленился истопить?..
– Побоялся, чтоб люди не угорели, – отвечает Собакин с полатей из-под какой-то убогой окутки. И себе в оправдание добавляет:
– Люди были, надышали, накурили. Спи, товарищ Судаков, почём зря, тепла должно хватить с остатком…
* * *
Сторож сельсовета Собакин не такой уж простак. Числится колхозником. В колхозе не работал ни одного дня, а купил шестьдесят трудодней за девяносто рублей, чтобы участвовать в дележе урожая и обеспечить себя хлебом на год.
– Собакин – хитрец. Собакин – трутень! – возмущаются колхозники. – За дешёвку хапает трудодни, да ещё и самогонку втихаря гонит…
И Собакин живёт, ни на что не жалуясь. Одно ему не любо – фамилия.
– От фамилии псиной пахнет, – говорит он, – а так, вообще, соответствует. От кого угодно отлаюсь… Товарищ Рогозин, сколько стоит сменить фамилию и как это сделать?
– Наверное, недорого. Есть некоторые, меняют. А ты какую бы хотел взять? Винокуров? Хапугян? Ловкачёв? Трутнев?.. – прямым намеком и не без умысла подсказывает Рогозин.
– Не шути. Мне бы революционную…
– За какие заслуги?
– Я в семнадцатом в Шуйске с урядника и стражника погоны сорвал и морды обоим разукрасил…
– Ну, тогда Мордобоев. Соответствует?
– Нет, страшна такая фамилия…
– Вот видишь, тебе не угодишь.
– Мне бы такую, немецкую, заковыристую.
Рогозин вполне серьезно, не отвлекаясь от чтения газеты, говорит:
– Я только четыре слова знаю немецких: шницель, бутерброд и ватер-клозет… Что? Не подходит? Ну, тогда оставайся и впредь Собакиным, только будь человеком.
Собакин не обижается. Понимает, что его раскусили. Ухаживает за мной и Рогозиным. Яичницу сварит, мороженой рыбы где-то раздобудет – уху приготовит. А самовар у него почти не остывает. Обязанности в сельсовете у него небольшие: раз в день подмести пол, истопить два-три раза в неделю печь. Полагалось бы ему разносить повестки с вызовами, но Собакин не таков.
– Этак я обутки изношу столько, что и жалованья мне не хватит. – И рассылает повестки во все деревни только с попутчиками.
Нам он говорит:
– Со Щербаковым-то у вас недоделочка получилась: мало его свергнуть. Его под суд надо!
– За что?
– А вот увидите! – и Собакин содействует нам с Рогозиным исправить «недоделочку», а Щербакову способствует сесть на скамью подсудимых. Знает Собакин по повесткам о незаконных штрафах, знает, что штрафные деньги перепадали в карманы председателя и секретаря сельсовета. И вот он встречает обиженных, штрафованных единоличников и говорит им: – Ступайте в сельсовет. Жалуйтесь Судакову на неправильный штраф. Отменит.
И были такие жалобщики, обворованные. Приходят однажды двое – старик со старухой, какие водятся в сказках.
– Вот живём мы, живём со старухой, – говорит крестьянин, – обоим нам полтораста годков. В колхоз не годимся. Перебиваемся сами. Разберитесь, приезжие товарищи: вот «фитанция». Ни за что, ни про что требует сельсовет со стариков сто рублей штрафу…
Я беру из рук старика повестку. Там сказано: «Гражданину Кропанцеву. Вы должны внести в сельсовет штраф 100 рублей за невыполнение кампании, иначе будет взыскано в принудительном порядке, путем распродажи имущества». Подписи Щербакова и секретаря Зливанова.
– Какой «кампании»? За что?
– Да мы не успели два кила льну сдать. У нас льна нету. Надо купить и сдать…
Щербаков, корчась от холода, сидел в своей председательской конуре, готовил дела к сдаче новому председателю. Услышал жалобщика, выбежал:
– Кто тут хнычет? Покажите повестку!..
Я подал ему повестку. Он взял, порвал её в мелкие клочки и бросил на пол.
– Ступай, Кропанцев. Это было так, для острастки написано. Зливанов наколбасил, а я, не читая, подмахнул… – сказал он, обращаясь в мою сторону.
И таких жалобщиков на незаконные штрафы нашлось не мало.
Вызвал я представителя из РИКа. Прошу проверить штрафную «политику» и практику сельсовета. Проверили. Надо отдавать Щербакова под суд. Мягко выражаясь, за незаконные действия, а вернее – за воровство.
У Щербакова шапка набекрень, но глаза от страха не лезут на лоб. Лихо отвечает:
– Действовал своей властью. Не нажмёшь – не выкачаешь. А под суд – не велика беда. Зливанова дважды судили. Однако он секретарствует. До меня был председателем Дорогов. Тот загибал – попал под суд. Ему присудили вычет четверти из жалования. Перевели на другую работу, жалованье повысили – не велика беда!.. И со мной то же будет. В тюрьму посадят – опять не велика беда. Скорей бы только судили: седьмого ноября быть амнистии, покроется мой грешок…
Удивительно предусмотрителен и практичен! Насчет слабости судебных органов, примиренчески относящихся к преступникам, Щербаков, пожалуй, прав. Хулиганы часто остаются безнаказанными. Убийц присуждают на десять лет исправдома, а они выходят через год, через два и терроризируют население.
Был при нас случай. На почве самогонной пьянки возникла, драка. Одного убили. А суд был весьма милостивый.
* * *
Хожу по деревням, смотрю, как строятся скотные дворы. Просто. Обычно. Любому плотнику по плечу такая работа. Стандарт. Но вот когда гляжу на ветряные мельницы-шатровки и столбянки, в них вижу нечто от древнерусской самобытной архитектуры. Построить их нужно было умение. И поставить на такое место, чтобы они скрашивали деревенский пейзаж, нужен был вкус строителя. В Междуречье свыше трехсот таких мельниц, работающих на даровой ветряной энергии. Новых мельниц не строят. Мастера вывелись. Самой «молодой» мельнице около сотни лет. Паровой двигатель и турбина, – недалеко то время, – вытеснят все деревенские ветряки. Разве только картины художников прошлого века будут напоминать о них…
Не осудите меня, Сергей Адамович, если заметите в моих записках не только любование нашими северными ветряками, но и замечательными домами, построенными из выросшего здесь же, под боком, крепчайшего стройного соснового леса.
Я любуюсь на эти дома не как собственник, чувствующий зависть к богатому жилью. Во мне пробуждается чувство уважения к строителям, к тем мужикам – плотникам-умельцам, которые в угоду хозяину и, как художники, в удовольствие себе строили прочно, красиво, изощряясь в выдумках, так же, как вологодские кружевницы изощряются, выдумывая замысловатые узоры в кружевных накидках, платках, длинных прошвах, идущих издавна на продажу в столицу и за границу.
И вот эти кондовые русские северные избы!.. Разве можно пройти мимо них равнодушно, чтобы не залюбоваться на такую мощную махину пятистенную, двухэтажную, с резными раскрашенными наличниками окон, с мезонином, увенчивающим верх дома?..
Изба-богатырица — Кокошник вырезной, Оконце, как глазница, — Подведено сурьмой.Раньше я не посмел бы без надобности и даже при надобности зайти в такую хоромину, когда в ней протекала чужая и чуждая мне жизнь. Разве мог раз в год, в рождество, зайти «прославить Христа» и поздравить хозяина с хозяюшкой с праздником. Да, бывало и так: придёшь, пропоёшь: «Рождество твое, Христе боже наш…», постоишь у дверей на кухне в ожидании грошовой подачки, вытрешь под носом у себя промёрзшей рукавицей и, не сказав ни прости, ни до свидания, уходишь, озираясь, как бы не увязалась за тобой хозяйская собака, выращенная с жеребца и «воспитанная в духе ненависти», как и сами хозяева, к тем, кто нищ и беден…
А теперь… Захожу, будучи в Междуречье, я в такие дома. Они не пустуют. Где – школа, где – артельная портновская мастерская, где – школьный интернат или детские ясли. Читальни, красные уголки, как бы они сверхскромны ни были, колхозные правления, сельсоветы – все они, как законные наследники, поселились в такие добротные дома.
И нет в тех домах сусальных и в богатых окладах икон на божницах-иконостасах, не висят на медных цепочках лампады. Только изувеченная мягкая мебель, да матёрые резные шкафы, буфеты и гардеробы напоминают о их владельцах, ныне бытующих невесть где, на новых местах добровольного или принудительного поселения…
Да ещё под самым князьком, на недосягаемом карнизе, видна выцветшая, но ещё явственно выведенная славянскими буквами надпись: «Сей дом купца и члена земской управы А. Н. Ломунова, построен в 1838 году от Р. X.».
В свободные часы и минуты я не прочь в своей тетради нарисовать такой дом и зарисовать оконный наличник или же орнамент, что внутри на штукатурке искусно выведен умелой рукой безымянного галического штукатурщика и художника…
* * *
…Утром по заморозку пробираюсь в деревню Васькино. Там колхоз «Борьба». В соседних деревнях «Борьбу» называют еще «Громоотводом». Считают, что колхоз формальный, создан временно, ради того лишь, чтобы избежать громового удара от колхозной грозы.
Собираю бедноту. Спрашиваю:
– Расскажите, что это у вас колхоз не в чести? Почему? Не утаивайте…
– Утаивать нам нечего. На семнадцать хозяйств в колхозе обобществлено только четыре коровы. Себе оставлено по одной корове. Остальной скот, что был у зажиточных соседей, зарезан, продан и частично съеден.
– Чего бы вы хотели?
– Мы хотели бы обобществить весь скот до последнего копыта. Иначе – «громоотвод», а не колхоз. И председатель есть, и завхоз, и счетовод, и правление, а колхоза нет. С четырьмя коровами разве колхоз? Смех и грех…
– Верно. А Зливанов как на это смотрит? – спрашиваю бедноту, – ведь он уроженец из вашей деревни?
– Зливанов? Какое ему дело. Пьёт, пляшет и песенки распевает. Ему что! Рубль заработает, да три украдет. Поди, проверь.
– Его уже проверяют.
– Ну и слава богу. Два раза судился, третьего не миновать…
Прихожу к выводу: беден этот колхоз. Ему надо объединиться. Беднота согласна. Но с кем?.. Вот если «Красная заря» пойдёт на объединение.
Иду в «Красную зарю». Деревня называется Подберёзное.
– На что жалуетесь?
– На полную «демократию», – отвечают почти в один голос члены артели «Красная Заря».
– Как это понять?
– Да вот, понимай как хочешь. Полгода существуем в колхозе, а шесть председателей сменили. Не полюбится один – давай другого. Не полюбится другой – выбираем третьего. Один за другого не отвечает, каждый винит своего предшественника. А дело страдает…
– А если объединиться вам с другой деревней?..
– Что ж, можно попробовать. Но с кем?
– А если с «Борьбой»?
– Ну их к чёрту!
– У них скот забит. Четыре коровы «сданы» в колхоз. У нас более двадцати. Пусть не хитрят. Мы за равенство…
Вот тут и берись уравновешивать. Агитация не поможет. Согласны объединиться только на равных материальных основах.
* * *
Пока велись разговоры да уговоры и принимались решения, из деревни Быльник, иначе называемой колхоз «Красный май», прискакал ко мне нарочный с запиской от инструктора Рогозина: «т. Судаков! В деревне Быльник кулацкие сынки, братья Доронины на классовой почве избили комсомольца, колхозника Паутова. Вызывай уполномоченного ГПУ арестовать виновных».
Верю записке. Передаю по телефону в район. Там уже известно. Еду в Быльник. Картина ясна: следователю не трудно разобраться.
Рогозин в Быльнике проводил собрание колхозной бедноты. Изгоняли из колхоза кулака Доронина за то, что он до вступления в колхоз перебил свой скот и за то, что он в прошлом кулак, а его сыновья судились за убийство и почему-то избежали наказания. На собрании против кулака Доронина выступил комсомолец Михаил Паутов. После собрания Паутов проводил вечеринку молодёжи. Кулацкие сынки Доронины разогнали вечеринку. Комсомольца Паутова вытолкали на улицу и избили до полусмерти.
Рогозин ругался и, оправдывая себя, как очевидца, говорил:
– Был бы наган, пристрелил бы обоих. Без револьвера к этим гадам не суйся… Убьют…
«Гады» в сопровождении конного милиционера, с мешками хлебных запасов топали по мёрзлой дороге в Шуйский районный изолятор. Я видел этих мерзавцев. Тупые холодные выражения лиц. Медлительность в движеньях – некуда спешить!.. Спокойствие в бесстыжих, застывших, словно оловянных, глазах. Им не страшно. Судились как-то за убийство, а тут: били, били – Паутов остался жив.
Разговаривал с уполномоченным ГПУ. Тот торопливо допрашивал свидетелей, завершал дело.
– Нынче убийств стало чуть поменьше, – заметил он, – но зато на классовой почве. Не из простых хулиганских побуждений. В Вологодском уезде до районирования, самый «преступный» был год 1928-й… Трудно себе представить… в праздничных пьяных драках по уезду было убито за год около трехсот человек, порезано, поранено свыше тысячи! Это же целый фронт!.. Особенно отличались Грязовец, Лежа, Кубиноозерье… Помните, в «Красном севере» так и писалось: «На Лежском фронте…»
Сергей Адамович! Что касается итоговых подробностей – сколько мы провели общих собраний в колхозах, сколько отдельно с беднотой, сколько исключили из колхозов кулаков, сколько выправили перегибов, допущенных к середнякам и бедноте, кто и за что отдан под суд – обо всём этом будет изложено отдельно в докладной записке в адрес крайкома партии. Одного не смогу осветить точно: куда, в какие места заранее сбежали от ликвидации как класса междуреченские кулаки.
* * *
…Я и Рогозин находимся в колхозе «Новое».
Это крупный колхоз. Богатый, крепкий, настоящий… Построен скотный двор на сто голов. Строится другой – тоже на сто голов. Плотники под песни тюкают топорами. Лес хороший, сухой, сосновый, звенит под ударами плотничьих топоров. Как-то приятно и радостно смотреть на весёлый труд строителей и видеть результаты их артельной работы. В колхозе скота пятьсот коров. Каждая корова в своём стойле, корм по норме. Здесь уже настоящий колхозный порядок.
Колхозник, член правления Фёдор Патралов, показывает хозяйство и, вглядываясь в будущее, рассуждает здраво.
– Конечно, дело это новое, трудное. Но раз Лениным предначертано – будет проведено. И зря наши маловеры думают, что колхозы не оправдают себя. По-старому не будет. Мы вот пять таких дворов построим, да тракторами со временем обзавёдемся – тогда наш колхоз в районе будет, как главная нерушимая крепость… Партячейка у нас пока слабовата. Все – кандидаты, ни одного члена. Недавно организовались, вместе с колхозом. Ну, и политически не сильно подкованы. Антиколхозным грызунам – кулачью и их подпевалам, пожалуй, и отпор иногда некому дать. Сжились, свыклись, принюхались. А то, что сразу мы крепко встали на ноги, так это от того, какой курс взяли. А взяли мы курс верный – сберечь весь скот!.. Животноводство – молоко, масло – было, есть и будет у нас в районе, как и по всей Вологодчине, главной отраслью. У нас и в правлении свой лозунг вывешен: «Чтобы был колхоз здоров, не разбазаривай коров!..»
У Фёдора Патралова, как и у многих в этом колхозе «Новое», зоркий хозяйственный глаз – далеко видит. Он осуждает силу привычки, силу тяготения к частной собственности.
– Разве это обобществление домашней животины, – говорит Фёдор, – если у нас четыреста коров стоят на подворьях у своих владельцев. Вот почему скорей, скорей нужны нам крупные, удобные, светлые, чистые дворы для колхозного скота. И не только в людях укоренилась эта силища привычки считать своё своим, личным и не уступать обществу, коллективу, но даже бессмысленный скот пусти из общественного двора – каждая корова найдёт свой двор. И бывало так: прибежит корова под окна к своей бывшей хозяйке, замычит, а хозяйка глянет на неё и заплачет:
– Иди, иди, голубушка, в хлев, я тебя подою…
– Ох, товарищ Судаков, товарищ Судаков, – качая головой, с грустью в голосе признаётся Фёдор Патралов. – Не без скрипа, не без слез проходит ломка старого и создание нового. Мы и колхоз назвали «Новое». И пусть это новое будет лучше старого.
– От самих зависит…
– Да, от самих, от общего согласия, и не только, – возражает Патралов. – Будет зависеть и от властей. Говорят, силён закон, а сильней его всё-таки нужда. Человеческая нужда и царей и королей сбрасывает… Мужику, будь он колхозник, будь он единоличник, нужна справедливость. Чтобы он мог жить, содержать семью и не бояться чёрных дней. Ущеми его, прижми его так, что самому ничего не останется от трудов праведных, тут его никакая дисциплина не удержит. Сбежит. И жаль ему будет земли, политой потом, и жалко родного угла, и соседей, с которыми сжился, а сбежит, ибо давно сказано: «Рыба ищет, где глубже, человек – где лучше…» Конечно, мы будем стараться, чтобы это лучшее было у нас здесь, где мы корнями глубоко вросли и хотим жить лучше, чем прозябали в отсталости до сих пор… Начало положено: траншеи для силосования кормов, водоёмчик на пятьсот коров – это своими руками выкопала наша молодёжь. Могут пожилые люди сомневаться, колебаться, а если молодежь коллективно за дело берётся – это уже хороший признак!.. Но и мужика опытного, не шалопая, товарищ Судаков, надо уважать. У опытного крестьянина глаза, как у старой наседки: одним глазом видит зерно, а другой посматривает, нет ли ястреба поблизости… Конечно, и мы в колхоз не залпом вошли. Были среди нас и мнительные, беспокойные за свою судьбу, были и опрометчивые – такие, что раз-раз, с ходу, не зная броду, обеими ногами в воду. Тоже нехорошо. Нет, ты, брат, глубину брода проверяй не обеими ногами сразу. Захлебнешься. Мы не сразу. А один по одному, собрание за собранием. Много шума, много разговоров было. Теперь это всё позади. Впереди – забота о порядке. Будет порядок – будет и дело… Хорошее начало – половина дела! Мы это так понимаем. Вы надолго сюда к нам?
– Как поживётся…
– По каким вопросам?
– Насчет порядка интересуемся.
– Доброе дело. Посмотрите, товарищ Судаков, своими глазами. Свой глаз – алмаз, чужой – стеклышко. Приглядитесь, поспрашивайте, послушайте… Осмотрительность – великое дело. Умом и глазом сделай примерку, без нужды не надо рубить. Правильно я говорю?
– Правильно, Фёдор, правильно.
– Ну вот, то-то. Добро пожаловать ко мне на чашку чая. Сахару хоть в потребилке и нет, а у меня найдётся. Для доброго гостя сладкое всегда есть. Извините, ничего горького не держу: сам не пью и другим не советую. Давно известно: не столько людей тонет в воде, сколько в вине…
И такие трезвые, рассудительные люди в колхозе «Новое» – не редкость. Патралов мне понравился. Это один из тех устойчивых и мыслящих людей, на которых в колхозах будет держаться порядок, справедливость, производительный труд и процветание…
Тогда я засиделся у Фёдора Патралова и остался ночевать.
В горнице к широкой лавке Фёдор приставил три табуретки и раскинул для меня соломой набитую постель.
Длинная полка, заставленная в два ряда книгами, привлекла моё внимание. Я спросил позволения посмотреть домашнюю библиотечку.
– Пожалуйста, прошу, если вы не утомились. А я пойду спать. Мне рано вставать. Если нашему брату-крестьянину долго спать да лежать, так нужды не избежать… А вы листайте, читайте. Керосину не жалко, – и, вывернув у лампы фитиль, чтобы светился огонёк ярче, Фёдор вышел в другую половину избы.
Книги – лучшая характеристика их владельца. Тут оказались почтенные классики – отдельные произведения и собрания-приложения к «Ниве». Были и книги Ленина с подчёркнутыми строками, и полезные для сельского хозяйства брошюры и журналы «Сам себе агроном» и «Лапоть». Библиотечка здешнего хозяина – не ради декорации.
Я взял для просмотра подшивку «Нивы» за 1917 год. Полного комплекта «Нивы» да ещё за такой исторический год мне ни разу не приходилось видеть. Сон пропал.
С нетерпением перелистываю потрёпанные страницы журналов. Ведь в них за один год чего-чего только нет о бурных событиях. Весь год в иллюстрациях и описаниях проходит перед моими глазами. В начале, – ещё жив царизм, – последний царь, не подозревая своего скорого падения, меняет министров, предписывает в наказе очередному председателю Совета министров, князю Голицыну, вести войну до победы. И вдруг – отречение от престола. Временное правительство. «Заём свободы». Война до победы. Замелькали в журнале портреты Керенского, Родзянко, Брешко-Брешковской, Корнилова, Терещенко, Чернова и других «временных». Смотрю и статьи, и очерки: Мережковский – о декабристах, Савинков – о Каляеве, Амфитеатров – о Герцене… Спешу добраться до октябрьских и ноябрьских номеров «Нивы». И что же? Журнал, находившийся в руках буржуазных издателей, поклонников и сторонников временного правительства, не спешил перестроиться. Вместо интересных сообщений об исторических событиях пошли по всей стране подписчикам-читателям сдвоенные без иллюстраций экземпляры «Нивы» с длинными повестями. Как будто ничего особенного в стране и не произошло… И только через месяц после октябрьских дней появились фотографии Смольного и дверей ленинского кабинета, охраняемого красногвардейцами… Скупо, с осторожным пренебрежением отнеслись владельцы «Нивы» к величайшим событиям семнадцатого года…
Откладываю «Ниву» и достаю с полки стенографический отчет пятнадцатого партийного съезда. Неужели Фёдор Патралов находит время читать не только отдельные документы съезда, но и стенографические подробности?.. Правда, съезд был бурный. Борьба с оппозицией. Канун решающего наступления на кулачество, пятилетний план… Да, Патралов – активист, передовой человек деревни, он должен знать многое. Раскрываю увесистую книжищу. Подчеркнуты отдельные места в выступлениях по вопросам, касающимся деревенской жизни. Пометки-записи на полях. Вопросительные знаки, плюсы и минусы. Человек изучает съезд партии и вместе с партией смотрит в будущее.
Вот, к примеру, выступление северного делегата С. А. Бергавинова всё испещрено пометками. Сергей Адамович! Я думаю, интересно вам знать, как реагируют некоторые деревенские коммунисты-колхозники на вашу речь, произнесённую на пятнадцатом съезде? Приведу коротенькие примеры:
У вас сказано:
Пометки колхозника Ф. Патралова:
…Такие страны, как Швеция и Финляндия, в два-три раза перегнали нас по линии размеров лесоэкспорта…
Чем они нас бьют? Они нас бьют себестоимостью, потому что в Швеции и Финляндии лесозаготовки широко механизируются, а мы работаем по «системе Петра Великого» – топором и лошадью – и дальше не идём…
Мы в силах побить наших буржуазных соседей, ибо наш беломорский лес – качеством выше. Значит дело за механизацией.
Прав. Без индустриализации – гибель. Нужны тракторы и в лесу, и в поле. От общественной механизации будет переворот и в частных душах. Не зря Ленин мечтал о ста тысячах тракторов.
…за последние несколько лет наша архангельская промышленность дала государству – 144 миллиона рублей в иностранной валюте, а на оборудование мы и миллион рублей не получили… Этак мы сядем в лужу. Можно сказать: «за что боролись»…
Плохо знают верхи о низах. А может и вредительство. Когда в лесу неполадки, лесоруб бежит домой. Это и есть брызги от посадки в лужу.
…Следующая задача – это заселение края. Мы просим включить нас в первоочередной план переселения, ибо мы сейчас уже задыхаемся от недостатка рабочей и гужевой силы.
Прямо недоговорено, догадка такая: добровольцев на Север найдётся не густо. Не будут ли, наступая на кулачество, высылать их на Север. Дело к тому идёт. Но приживётся ли южанин на севере? Сила природы и климата касается не только растений, но и людей.
…Мы просим, в частности тов. Микояна, о том, чтобы наши губернии: Архангельскую, Северо-Двинскую, Вологодскую и область Коми на время лесных экспортных заготовок, т. е. зимой, причислить в деле снабжения промышленными товарами и хлебофуражём к промышленным районам. А то часто из-за этого мы стоим перед угрозой срыва заготовок.
Правильно! По-хозяйски. Выступает от всего севера. Не произойдёт ли объединения в одну область или край? И какая от этого будет выгода? Будет ли сокращение служащих; портфеленосцев у нас очень многовато…
Пока я читал да записывал, незаметно и ночь прошла. На часок-два заснул перед рассветом. Спал тревожно. Слышал, как в большой половине избы около печи гремела посудой хозяйка-обряжуха. Ребятишки собирались в школу. Фёдор успел уже куда-то сходить и, осторожно открыв дверь в горницу, сказал:
– Прошу завтракать. Горячая картошка с рыжиками, и опять же чай и даже с мёдом…
– Спасибо. У вас хорошая библиотечка… Пришлось мне из-за неё сон укоротить.
– Да тут ещё не вся. Более ста книг на руках у читателей. Просят, не откажешь… Вставайте, пока картошка не остыла.
* * *
В эти дни началась оттепель. Снег слизнуло. Дороги-первопутки нарушились. Снова по грязным просёлкам потянулись скрипучие телеги. Из колхоза «Новое» в Шуйское тронулся «красный обоз» – пятьдесят подвод с первой порцией хлебозаготовок. На передней подводе к раскрашенной дуге прибит красный флажок.
Провожая обоз, инструктор Рогозин выступил с речью: заклеймим позором мировую гидру контрреволюции, прославим деятельность Третьего Интернационала, пожелаем обозу счастливого пути в социализм.
Потом мы выходили в поле посмотреть вспашку под зябь и как выглядят озимые посевы. Все оказалось хорошо, отлично. И посевы без огрехов, и вспашка завершена полностью. Изгороди вокруг полей не нарушены.
И в этом колхозе мы провели собрание. Состоялся разговор о выявлении враждебных элементов в колхозе. И вот какие слышались высказывания:
Юзгин – кандидат в члены партии: «Кулаков у нас нет, а может быть и есть, да мы их не примечаем. Ищите сами…»
Третьяков – председатель колхоза: «Кто имел в виду себя кулаком, тот давно смылся из села. А если нам затронуть середняков, работающих в колхозе, нам без них не справиться…»
Блинов Семён – бедняк: «Обопрись на бедноту – управимся… Ты вот пощупай, сколько дел общественных я ворочу-кручу. (Пригибая сухие пальцы, считает). Я член сельсовета, я начальник пожарной дружины, я в осодмиле, я в секции рабоче-крестьянской инспекции. Значит, есть во мне огонь и порох. А ты, Третьяков, мне не доверяешь в колхозе ответственного дела. Приставил сторожем меня к колхозному амбару – и всё. А я бы и в правлении, и в ревкомиссии мог, а ты туда тянешь зажиточных родственников. Ты боишься свежей бедняцкой струи, вот что!.. Ты не бойся, а верь в честность и силу нашу. В колхозе не должно быть расслоения и деления. Все, как перед богом, равны!..»
Рогозин: «Просим насчёт бога не употреблять упоминаний. До Маркса доказано и Марксом подтверждено: религия – опиум…»
Блинов: «Прошу не осуждать за мою речь. А то что опиум – верно, но не страшно».
Москвина Анна – беднячка: «Что ни говорите, мужики, а Быкова Ваньку я выгнала бы из колхоза. Груб. Баб до слёз доводит. При царе в поручиках служил. Тоже бы надо и Решетова исключить из колхоза: церковному старосте не место в колхозе, да ещё в ревкомиссии. Складно придумано: ревизор!.. В прошлом торгаш-спекулянт, укрыватель своих доходов. А баба евонная всё время антисоветскую околесицу болтает. Гоните! И я согласна с Семёном: опирайтесь на бедноту. Будет толк! Дайте нам чувство, что мы в колхозе тоже хозяева. Мы хотим, чтобы и у нас были крылья, а они вырастают только от летания…»
Решетов – предсельпо: «Я за брата ручаюсь. И поруку дам. Он не подведёт колхоз…»
Долго говорил-плел Решетов, пока не одернул его Фёдор Патралов, который, как бы между прочим, сказал:
– Хоть и предсельпо, а «оратель» ты никудышный. Тошно слушать, когда братца славишь. Молчал бы лучше. Сиди и языка не показывай, будто тебя и нет. От твоих трескучих слов, как от сырых дров – ни жару, ни пару… А то мы начнём про тебя и брата твоего такое говорить, что, как ошпаренный, выскочишь…
Решетов после такого предупреждения сел и не пикнул.
Калабухова Клавдия: «Я согласна с Москвиной, но почему она ничего не сказала про Настю Рогулину? Она – жена спекулянта, сбежавшего чёрт знает куда. А что эта Настя для колхоза представляет? Пустое место, и того хуже! Бывало, травит колхозное поле скотине, а говорит: „Это не наше, колхозное – жалеть нечего“. Мы ей говорим: „Настя, почему твой сын в колхозе ничего не делает, да и сама ты не гору своротила?“ А она на это отвечает: „А вы, бабоньки, сидели бы дома да плели кружева – скорей бы колхоз развалился…“ Вот кто нас подгрызает. Предлагаю Настю проучить или исключить…»
Упадышев – комсомолец-колхозник: «Я скажу о сознательности. Мне скажут: яйца курицу не учат. Верно, не учат. А я одного из наших соседей, не назову фамилию, поучу. Я в правлении иногда сижу, помогаю председателю кое-что подсчитывать. Расходы у колхоза на строительство дворов, на сельхозмашины большие. Денег не хватает. А тут приходит один гражданин, член колхоза, пусть он не беспокоится, фамилию его не скажу, он и сам поймёт, о ком говорю… Подает он мне заявление и просит передать Третьякову. А в заявлении написано: „Нужда меня заедает, костлявая рука голода подкрадывается к моей шее… И так далее. Прошу выручить из беды, дать мне авансом сорок рублей в счёт будущей отработки…“ Подавая это заявление, колхозник выронил из кармана бумажку-записку. Я поднял и развернул, прочёл – спрятал себе в карман. А сейчас я её вам опубликую. Записка написана рукой того самого просителя-заявителя:
„Для памяти. Под печкой в медном котелке на первое октября накоплено чистого серебра мелочью 360 руб. 80 коп., взято из котелка второго числа три рубля“. (На собрании, как пишется в газетах, шум, смех, возгласы: „Да кто это такой?!). Не скажу, граждане, кто. Но вас спрошу, что это? Сознательность? Нет! Это жадность частного лица, а оно, лицо это, в колхозе!.. И не только жадность. Может ли такой колхозник верить в колхоз, если он не верит в бумажные советские червонцы, а зажимает звонкую монету?.. Так вот я и говорю, если это серебро из медного котелка не будет снесено в Шуйское, в райбанк, в обмен на бумажные деньги, я на Василия Кириллова настрочу заявление куда следует, как на подрывателя финансовой системы советского государства…“»
Евсеев (слывёт в колхозе, как подкулачник): «Граждане! Что мы слышим!? У Васьки Кирилёнка под печкой клад серебра! Вот так фунт!.. Да ты, жадюга, хоть бы себе полушубок новый да катанцы справил на эти деньги. Да ребятню свою приодел. Ну, хорошо, что серебро. А вдруг бы кредитки, да мыши бы поели твой капитал? Тогда – петля, не житьё!.. Ловко тебя Упадышев поддел… Дело частное, но душу выворотил. Полюбуйтесь: его „нужда заела“. Дай бог нам каждому такую „нужду“. Я хотел не об этом сказать… Я хотел и хочу, граждане, общее собрание, выразить вам от моего лица благодарность за то, что я пришел и в этот раз подвыпивший, а вы меня не выставили вон, как всегда. Теперь, пока тут преем пятый час, хмель из меня выскочил, и я вношу себе предложение никогда с кулаками и „верхушкой“ из одной бутылки не пить и их не слушать. Они на такое толкают, подбивают, что сидеть бы им за решёткой. А вы знаете: я и пью, и то, и се, а на работе в колхозе кто меня упрекнет?.. (Голоса: „Да, верно, ты работяга добрый, на всю силу… Мы за то тебя и не хулим…“) Я в колхоз верю. Он устоит! А кулакам – крышка. Нечего тут и скрывать, кулаки, бывшие торговцы – всё это есть, кое-что сбежало, кое-что осталось. Но я против ликвидации. Кулак тоже человек. Раньше их сливками деревенского общества считали. Ну, сливки тоже плесневеют. Пришло время снимать плесень. Верно! Согласен!.. Но я говорю, не троньте их. Дайте нам полную волю над бывшими богачами, надо всеми кулаками, мы из них рабов сделаем!.. Владыкой мира будет труд, а бывший властелин – рабом!.. Вот моя вам полная программа-максимум!..»
Когда понемногу смех улёгся и наступила тишина, слово взялся сказать Фёдор Патралов:
– Я продолжу предыдущего оратора… Насчет сливок. Верно. Заплесневели. Плесень надо сбрасывать! Весело ты говорил, Евсеев. И я представил себе по твоей программе-«максимум», как ты сказал, наше крестьянское общество в виде корчаги со сметаной. Извините за сравнение: внизу – подонки, в середине – сметана, а сверху – сливки, покрывшиеся плесенью. Никуда негодны эти кулацкие сливки! И в рабов их превращать не будем. Тысячелетия отделяют нас от древнего рабства. Перестарела эта система. Маркс и Ленин написали книги об уничтожении рабства духовного и физического. По их учению строится новое общество. На этой основе и коллективизация. Рабству не бывать. Кулак будет тружеником, однако не сразу. Ему в местах поселений придётся натереть мозоли от ногтей до локтей, прежде чем он перестанет быть и не захочет впредь быть эксплуататором…
Рогозин: «Правильно, Фёдор!..»
Патралов (продолжая): «Нет, не будет в нашей стране ни рабов, ни господ. Останутся на своём месте труженики. Временно придётся нам претерпевать воров, расхитителей, всяких подлецов – и в деревне, и в городе. Но это временно. Сама земля будет гореть под их ногами, испепелит паразитов… Вдруг уничтожены зависть и стяжательство. Котелок с серебрушками под печкой – это мелочь. Кстати, не единичная мелочь… Это стяжательство или бережливость, как угодно считайте, от неуверенности в завтрашнем дне. А неуверенность вкоренялась веками, и особенно в тяжёлые годы. Серебро, конечно, ты, Василий, обменяй в банке или в сельпо, где хочешь. Упадышев правильно тебе подсказал… Я лично, граждане, нашего соседа за медный котелок, что под печкой, не обвиняю, а обвиняю тех, кто не сумел или не успел Василию доказать преимущество сберегательной кассы. Вот не помню, где-то я вычитал такие мысли о нашем брате-крестьянине, что земледелец, в отличие от пролетария и аристократа, есть самый твёрдый и надежный сторонник испокон заведенной нерушимости порядков и законов. И это так! Мы знаем: кончится осень – зима на дворе. После зимы – весна: готовь соху и борону, да семена почище, а там, глядишь, у тебя на глазах растёт-цветёт радующий сердце урожай. И так далее, без конца. Земледелец зависит от природы. Но и природу надо прибирать к рукам: без применения рук она ни хлеба не даст, ни скота не вырастит. Стараться над матушкой-землёй – наш священный долг. Разве не знает любой из нас, где, в каком уголке поля что посеять? Эта полоска даёт хороший овёс, тут вот надо ленок посеять, а сюда – горох. Для ржи и ячменя за овины надо побольше удобрения вывезти – и жито будет такое доброе, что беспокоимся, как бы оно не полегло под тяжестью колосьев!.. Так ведь? И вся надежда мужицкая была на землю, на свой запасец, на своё трудовое усердие. Сосед на соседа не надеялся. Каждый – только на себя. А если нищета? Корзину на руку – и проси Христа ради… А кто поизворотистей, похитрей, да с потерянной совестью, тот всякими неправдами лез напролом, чтобы разбогатеть, стоять над людьми, держать их в своем кулаке. Так было. И пришел этому конец. Партия приняла ленинские заветы к исполнению. А мы знаем и верим в великий ум и дальнозоркость Владимира Ильича… Большое дело, большое… В таком деле не без ошибок. У хлеба не без крох. Так и тут. И перегибы и недогибы. И ненужные обиды, и напрасные слезы, и ловкие увертки мелкого буржуя-кулака – все происходит на наших глазах. И еще скажу: надо нам всем сообща хорошо хозяйничать, чтобы была общая выгода для дела, порядок, согласие и никаких ошибок. Теперь о кулаках. Задача – выявлять их и выселять… Самое нелегкое дело. Кого надо было выселять – смотали удочки, и кто куда ринулся. Одни в Ленинграде пристроились в государственной торговле, другие – подались на новостройки… Остались те, которые ещё думают: „Авось нелёгкая пронесёт мимо нас эту классовую борьбу. Бог милует – не заденет, а там видно будет…“».
Решетов (бросает реплику): «Не обходится у нас без задевания. Район нажимает, требует напора на кулацкую верхушку…»
Патралов: «Издавна известно: где „гонение“, там и „мученики“. Знаем, положение кулака теперь невесёлое. Но мы кулаку не сочувствуем. Ликвидируя кулака, мы выполняем потребность времени. Без выполнения этой суровой потребности государство не может крепнуть и двигаться вперёд. А как же дальше, граждане, в мировом масштабе?.. Надо и на это смотреть открытыми глазами. Многие могут сказать мне: „Ну, в мировом масштабе, зачем нам это? Нам бы хоть у себя-то порядок навести…“ Наведём, наведём! И будем служить примером для многих других народов. Им легче будет. Ведь почему нам понадобилась не без крови и слез ликвидация кулацкого класса? Да потому, что кулак активничал, встал на борьбу против Советов, действовал рублем, дубьем, огнем и обрезом – действовал и поглядывал на запад и восток. А не подоспеет ли ему помощь опять от интервентов, как было в двадцатые годы… Нет, не подоспеет».
Третьяков – председательствующий: «Умно говоришь, но надо покороче. Время второй час ночи, а ещё представители не выступали…»
Патралов: «Закругляюсь… Несколько слов ещё. У нас к выселению из села найдётся, на мой взгляд, не более пяти семей… Не буду их называть и навязывать. Я уверен, что вы их знаете и сами назовёте… И тогда обсудим».
Добрый час отняли у собрания мы с Рогозиным, стараясь говорить горячо, доходчиво и убедительно. Как получилось, ни берусь судить.
Потом – резолюция о выселении кулаков и о некотором изменении в составе правления колхоза.
Разошлись с собрания перед рассветом. Уже кое-кто из хозяек затопил печи. В окнах был виден отсвет полыхающего в печах огня. Из труб валил дым прямыми столбами, стало быть, опять к холоду.
Спать ложиться – некогда. Перед нами чугун горячей картошки, блюдо капусты, тарелка рыжиков – всё это нам принесла в сельсовет колхозница Анна Москвина, женщина строгих правил и доброй души.
Рогозин при виде такой острой закуски потирает руки:
– Ужели до возвращения в Шуйское мы так ни капли водочки и не употребим?
– Ни капли!.. На копейку выпьешь – на рубль разговору.
Утомленный после продолжительного собрания, я еле-еле писал «материал» Омелину для общей докладной записки крайкому партии:
«Беднота и актив колхоза „Новое“ на большом собрании вскрывали недочёты. Вычистили из колхоза пять хозяйств, пробравшихся с целью уберечься от ликвидации и чтобы зажимать бедноту. А та не подчинялась, оказывала сопротивление в защите колхозных интересов, добивалась укрепления колхоза…
Сергей Адамович! Не обижайтесь на меня за некоторые вольные записи, за мысли вслух. И не знаю, хватит ли у вас времени, желания и терпения дочитать до конца написанное. Кончилась подаренная вами тетрадка…
С коммунистическим приветам Иван Судаков.
Междуречье.
Вологодский округ. Осень 30-го года».
В конце тетради Судакова была сделана приписка через 25 лет:
«…Разбирался в своих разных письмах и бумагах. Нашёл я эту тетрадь – дань времени, запись того, что было в поле моего зрения. Сергею Адамовичу в руки тетрадь так и не попала. Его заменил другой товарищ, а другому не было смысла передавать эти мои впечатления ещё и потому, что в быстротечной жизни в Междуречье изменилось многое. И получилось, что писал я это вроде бы для истории.
Сергей Адамович, как мге стало известно, уехал на Дальний Восток, оттуда переехал в Москву, где руководил некоторое время учреждением союзного масштаба. Знаю, что потом он был репрессирован. А ещё потом – реабилитирован, как напрасная невинная жертва гнусной клеветы и произвола периода культа личности».
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
СУХОНА крепко застыла. Обратно пришлось ехать лесными дорогами через Биряково. Не мог тогда Иван Судаков не привернуть в спецпосёлок, куда семь месяцев назад он привёл семьсот высланных куркулей и восемьдесят киргизов.
Бревенчатые бараки по шесть-восемь квартир. Вокруг угрюмый лес. Кое-где на подсеках вспахана, взрыта земля, выращены и убраны картофель и капуста.
«Мало поработано, ненадёжно берутся за землю новосёлы», – подумал Судаков и пошёл вдоль посёлка узнавать, в котором бараке поселился Охрименко.
На изгородях под окнами висели промёрзшие после стирки половики, бельишко и вышитые украинские ручники. На остриях кольев просыхали глиняные горшки.
По длинной улице нерасторопно бродили тепло одетые женщины. В их тусклых серых лицах и сумрачных взглядах Судаков не приметил приветливости. Жизнь им здесь не улыбалась. За землю как следует не ухватились, а лесозаготовки требовали опытных, умелых рук. И не каждый бывший куркуль мог стать ловким, выполняющим норму лесорубом. А не выполнив норму, немного заработаешь – в результате не сходятся концы с концами. И показалось Судакову, что переселенцы здесь – временные гости. Утекут!..
Тысячу лет назад вольные новгородские ушкуйники шли на ладьях по северным рекам, строили посады и деревни в Заволочье. Шли они на поселение до самой заполярной Югры, шли добровольно и уверенно – с надеждой жить, богатеть и размножаться… Это были вольные и волевые, храбрые люди, способные переносить все невзгоды. А эти? Что они могут?..
Мрачные мысли Ивана Судакова о судьбе кулаков-переселенцев не рассеялись и при встрече с Охрименкой. Сначала Судаков хотел вызвать его в канцелярию коменданта. Но, подумав, решил, что удобнее встретиться с ним всё-таки не в комендатуре, а у него на квартире, в семье. Поговорив о всех делах с комендантом, Иван Корневвич пошёл в барак к Охрименке. Тот усталый вернулся с лесоучастка, где от темна до темна орудовал топором, сваливая с корня матёрые сосны. Вместе с ним вернулись из леса и две его старшие дочери, работавшие на обрубке сучьев.
В бараке семья Охрименки занимала две комнаты с отсыревшими стенами. И чем чаще и жарче в бараке топились печи, тем более покрывались сыростью, словно обливались слезами, промёрзшие стены. При свете неяркой керосинки Охрименко не сразу узнал Судакова. Но как только узнал, распорядился:
– Дивчата! Самовар и горилку, да поживей…
Хотел Охрименко поллитровку разделить пополам с Иваном Корнеевичем, но тот, чтобы не захмелеть, оставил у себя в стакане водки не больше, как на два пальца, остальное вылил в медную, вместительную кружку Охрименке.
– Ну ты, брат, не по совести… Я, конечно, могу с устатку и один пол-литра высушить, но гость есть гость. Прошу… Ваше дело партейное, не могу принуждать. За что же мы выпьем, товарищ Судаков?.. Что вы, дивчаты, на него глаза пялите? Та это ж тот самый человек, що нас из-пид Вологды с писнями вел сюда целую громаду из семисот душ. А вы тогда в Прилуках за монастырской стеной паслись.
– Помним, помним… Тильки мы его тогда не бачили, – ответила старшая.
– Давайте, товарищ Судаков, выпьем, не знаемо за что… Совсем я тут перевернувся и растерявся… И черна хмара на меня як свалилась, и хмурь, и тяжесть ото всяких мыслей…
– Давайте, Охрименко, давайте, старый казаче, выпьем за то, чтобы скорей ваша жизнь наладилась. Чтобы выглядели вы и вся ваша семья веселей, бодрей, жизнерадостней…
– Що ж, добрый тост. Но тильки ни в чого у меня веры нема!
Четыре дочери и ещё не согнутая бедами супруга Охрименки удалились от мужского разговора в соседнюю комнату, отгороженную дощатой заборкой.
– По делам? – спросил Охрименко.
– Нет, попутно заехал, поинтересоваться, как вы тут устроились, чем люди заняты, – ответил Судаков.
– Добре, що нас вспомнили. Спасибочки. Интересуетесь, чем мы тут заняты? По душам сказать?..
– А как же иначе? Мы недолго с вами, Охрименко, были вместе, когда двинулись вы сюда на поселение. Однако в моей памяти вы остались. Расскажите, чем живёте, дышите?.. Куда смотрите?..
– Дышать-то здесь есть чем, – начал Охрименко, стараясь обходиться в разговоре без украинских слов, – воздуха хватает с излишком. Земли богато. Лес до самой Камчатки… Не знаю, кто кого губит? Мы лес, или лес нас?.. Здешние люди лес рубят с песнями, будто на бандуре играючи, а нам такое дело поперек горла. Не можем привыкнуть. И тяжело, и невыгодно. Силы уходит много, а радости никакой. Для удержания землероба на земле надо дать ему не только понюхать землю, а и обработать её, засеять. И если земля оправдывает труд, воздает пользу – кормит, поит, одевает человека, человек тут на ней удержится и кости свои сложит. А нам не дают в полный разворот землёй заняться. Да и нет сил. Попробуй корчевать эти пни без трактора? Грыжу наживёшь на первом пне. Рубим как умеем. Вот вырубим эти ближние делянки, а дальше? Придётся посёлок перевозить на новое место. Не верю, Иван Корнеевич, не верю, что из нас могут быть кадровые лесорубы. Разве только одиночки из молодых – те посильней…
Охрименко стукнул опустевшей кружкой по столешнице и пустил слезу. Судаков не стал бы его тревожить расспросами, Охрименко сам заговорил:
– У меня были другие настроения. Земля здесь неплохая. Полянка поделена под огороды. Картошку, капусту, помидоры – все это мы сняли. Разделкой, раскорчёвкой вырубок под посевы не занимались. Ни времени, ни сил для этого не хватало. А теперь от коменданта слышим: на новый участок лесозаготовок хотят нас переводить. Беспокойная жизнь… А климат? К нему не сразу привыкнешь…
– Что народ ваш говорит, какие планы строит на будущее? – спросил Судаков.
– Какие там планы? Знают, не быть им здесь землеробами. Ждут восстановления в правах. Ждут выдачи паспортов. А там – ничто нас не удержит. Надеются многие на новостройки податься. Юг так юг, север так север. Нужна людям постоянная осёдлость и заработок. Кто будет жив – добьётся.
– И куда же думают податься, если, скажем, дождётесь в скором времени паспортов?..
– Сделана разведка. Списались кто с кем, – сообщил как сердечную тайну Охрименко. – В Архангельске на лесопилках не худо зарабатывают. В Коми, на Ухту и дальше, железную дорогу станут прокладывать. Но это все не по нам. Гарно было бы – на Волгу! В Мурманске тоже не худо: море не замерзает, стало быть тепло. Заработать можно. А пока темно в моих очах, ничего не бачу, кроме неясности…
Расстались они тихо-мирно. Спорить Судакову было не о чём, а сочувствием Охрименке не поможешь…
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
НА СЛЕДУЮЩЕЙ неделе пассажирский поезд увозил Ивана Корнеевича в Москву. Судаков не сомневался, что он поступит в строительный институт – так и вышло. Его зачислили на первый курс и выдали ордер на койку в общежитие около Лефортова.
Отныне – учение, учение изо всех сил, серьёзная пятилетняя подготовка к вступлению в настоящую трудовую жизнь.
Обрадованный приёмом в институт, Судаков сразу же написал письма – отцу в Пошехонье и Кораблёву в Коробовский колхоз. Ответы пришли вскоре. Отец пожелал сыну успеха, Кораблёв ушибленной рукой необычным почерком писал, что он поправился, поломанные ребра в правом боку почти срослись, пошаливает лишь левая ключица, однако работать можно.
«…И прошу тебя, Ванюшка, не удивляться, – продолжал Кораблёв в письме, – я женился и, конечно, по твоему совету. Свадьбы не было. Расписались и всё. Вот на что способен твой Васька! Из наших новостей могу сообщить: драчунов тех, что меня били в два кола, в четыре гири, за решетку посадили. Засыпался и мой братец Яшка: оказалось, у моего отца спрятано золотишка рублей на шестьсот. Яшка ездил в Вологду, продавал эти монетки зубному технику по шестьдесят рублей за золотую десятку. Сцапали, посадили. Золотишко, конечно, отобрали. У отца разрыв сердца – и каюк. Так что теперь правление колхоза поместилось в отцовском доме. Наш председатель за дело взялся зубасто. Есть на него нарекания только от тех, кто хотел бы легкой работы и побольше ущипнуть из колхозного добра. Недовольство этих людей делает честь председателю. Семью из Ленинграда он привёз. А жилье себе отделал в подвале дома моего отца, тут же под правлением, так что у него всё под руками и в руках. В крестьянском деле он смыслит больше любого коробовского колхозника, но смыслит не столь от практики, сколь от начитанности сельскохозяйственной литературой. И это не только делу помогает, но и обновляет каждое дело. Я живу в школе, в той самой комнате, где мы, помнишь, чаевали с мёдом и вареньем. И считаю себя счастливым. Скотный двор готов на сто голов. Не было кирпича на столбы между простенками. Через сельсовет добились разрешения разломать на кирпичи приходскую церковь. И столбы получились – что надо! А кормокухню совсем сложили из кирпича, так что и в пожарном отношении двору не опасно. Геронимус уехал в Москву учиться. Новый редактор Андрюшка Волягин меня охотно печатает…»
Письмо заканчивалось стихами:
Спешу я сим стихотворением Тебя поздравить: – Молодец! С благополучным водворением В научно-творческий дворец!..Стопку тетрадей, учебников, универсальную со всеми атрибутами готовальню, тушь, листы александрийской бумаги для черчения – всё в достатке и избытке, не жалея средств, приобрёл Судаков. Его не увлекали новинки кинематографии, и даже читать «посторонней» литературы, не относящейся к программе занятий, не находилось времени. А вот специальные книги, забегая вперёд учебного плана, читал, не мог себе в этом отказать. И даже то, что проходили старшекурсники, с первых же дней заинтересовало Судакова. Быть может, это происходило потому, что по возрасту своему он был старше многих студентов последнего курса. И в то же время на первом курсе были вновь принятые с производства и строительства парни на три-четыре года старше Судакова. Они так же, как и он, не стеснялись сидеть за одной партой со вчерашними выпускниками школ-девятилеток.
На лекциях и самостоятельных занятиях изучались деревянные конструкции, детали немногочисленных, строительных машин и проектирование несложных зданий. В планах учения значилась теоретическая механика, латинский и немецкий язык, так как в специальной литературе по строительству столько непонятного текста, что без латыни и знания иностранных языков обойтись невозможно.
Москва в тридцатом году выглядела совсем, совсем по-старому. Ни асфальта, ни метро. Охотный ряд хотя и избавился от спекулянтов, но был загромождён ларьками госторговли и нередко оглашался звоном доживавших последние дни церквушек. «Сухаревка» ещё здравствовала со всеми её отвратительными сторонами уходящего быта. К сожалению и унынию старожилов-москвичей и любителей древности, предназначалась на слом и снос знаменитая и величественная Сухарева башня, якобы помешавшая возросшему уличному движению… Ещё никому и не мерещились высотные здания. Но где-то уже в умах и портфелях видных московских зодчих вынашивались проекты застройки Охотного ряда новыми внушительными домами.
Седьмого ноября на параде на Красной площади Судаков находился в студенческой колонне своего института. Колонна вливалась в общий миллионный поток москвичей, и на душе у Судакова было по-праздничному радостно.
Впереди колонны шли преподаватели и руководители института, среди них выделялся старичок-профессор. Он нес на крашеном шесте портрет Ленина. Звали этого профессора Валерий Никодимович. Было время, когда к нему в этом же институте относились с некоторым незаслуженным подозрением за его прямоту и резкость суждений, и за то, что он якобы не сразу понял и не сразу принял новую власть, ошибочно полагая, что на его долю уже не выпадет при Советах ни больших, ни малых дел. Но скоро эти настроения прошли. А особенным почётом и уважением Валерий Никодимович стал пользоваться в институте после одного поразившего многих случая.
…В памятный день похорон Владимира Ильича, в трескучий мороз, когда на улицах Москвы горели костры и около них грелись дежурившие солдаты и милиционеры, Валерий Никодимович спозаранку и до позднего вечера выстоял в очереди, чтобы прощально поклониться перед гробом Ленина.
Солдаты в тяжёлых длинных тулупах, с винтовками, побелевшие от мороза, удивленно посмотрели на него, когда он выходил из мавзолея. Начальник караула сказал:
– Дед! Ты же весь обморозился! Всё лицо побелело, застыло. Беги, обтирайся снегом. И почему без шапки?..
– Шапку я не ношу и в обычное время, а в такой день? Помилуйте!.. Нет, я не замерз. Я выполнил долг, поклонился ушедшему от нас Ленину, самому большому человеку в мире, самому дорогому, любимому…
– Дайте машину, – распорядился начальник караула, – отвезите этого гражданина скорей домой, сделайте обтирание снегом.
Профессора привезли домой. Снегом он натирался сам. Не чувствуя боли, повредил на лице кожу и перевязанный ходил читать лекции…
Читая курс по истории древнерусской архитектуры и архитектуры вообще, Валерий Никодимович заканчивал иногда свои лекции уже после звонка с полной серьезностью такими словами:
– Друзья мои, некоторые ортодоксальные товарищи говорят, что в моих лекциях недостает марксизма. Я сам понимаю это. Но что делать? Колокольня Ивана Великого стояла до Маркса, стоит и будет стоять, но я знаю, что и учение Маркса будет жить и действовать в продолжении веков. Так вы уж, друзья мои, марксизма позаимствуйте из других лекций. Я ничего против не имею…
И эта добродушная наивность прощалась ему, знатоку и обожателю архитектуры…
Судакову Валерий Никодимович понравился с первых дней. Да и лекции по архитектуре, по истории искусств привлекали его особенно.
Во внеурочное время студенты института, приглашенные Валерием Никодимовичем, небольшими группами приходили к нему на квартиру за консультацией и дополнительной литературой. Жил профессор одиноко. Стены его квартиры были сплошь завешены репродукциями итальянских художников и его собственноручными зарисовками древнерусских храмов, усадеб классического стиля, и даже ветряных северных мельниц. Шкафы переполнены, на полу – навалом книги об искусстве в роскошных изданиях, и тут же изрядно потрёпанные альбомы, чертежи, распухшие папки, пылью покрытые фолианты. Письменный стол так загроможден книгами и бумагами, что не только работать за ним, подступиться к нему невозможно. Зато из вещей личного, бытового пользования посмотреть было не на что: бугроватый костыль, старый зонт в углу у дверей, тёплые валенки и всем студентам известное, не имеющее износу пальто с потёртым воротником. Да ещё старый матёрый кот в мягком, покрытом чехлом кресле.
Когда Судаков с товарищами пришел к Валерию Никодимовичу, профессор лежал на кушетке. Около него на табуретке – стакан холодного чаю и несколько раскрытых книг.
– Разрешите, Валерий Никодимович?
– Всегда рад.
– Книг бы по искусству, – попросил Судаков.
А товарищи его – одни пришли за консультацией, другие держали в руках зачётные книжки.
– Кто за книгами, выдам сейчас. Условие одно: не потерять, возвратить. Учтите, книги эти не частные. Я их завещал библиотеке института. А кто за консультацией, с теми побеседую. Что конкретно вас интересует, Судаков?
– Эпоха Возрождения…
– Доброе дело. Рассаживайтесь, ребятки, на диван, снимите с него журналы. Василия Котофеевича прошу не беспокоить, это его собственное кресло!..
Валерий Никодимович поправил на себе подтяжки, раскрыл шкаф, где находилась литература по всем видам искусств Италии.
– Пожалуйста, выбирайте сами. Здесь ничего вредного нет, всё полезное…
Судаков осторожно стал прикасаться к книгам, с некоторыми знакомился только по корешкам, иные перелистывал.
– Выбирайте не более пяти-шести книг. Понадобится – снова придёте, – предупредил Судакова профессор и заговорил, обращаясь ко всем студентам: – Ах, друзья мои, какое это великое чудо в истории человечества! Представьте себе в одной компании Леонардо да Винчи, Тициана, Микеланджело, Джорджоне, Корреджо и, наконец, среди них сам Рафаэль!.. Знаете, что я вам посоветую, Судаков? Не берите вы этих монографий о великих итальянцах. Возьмите и со вниманием прочтите Стендаля – те тома, где он, сочетая глубину мысли с мастерством художника, пишет историю живописи Италии. Вы поймёте, почему зодчество, скульптура и живопись так совершенствовались в отдалённую от нас замечательную эпоху. Прав Стендаль, когда говорил, что «этому великому веку, единственному, который совмещал в себе ум и энергию, недоставало только науки об идеях». В наш век идей достаточно. Господствующее, ведущее место завоёвано и будет принадлежать философии материалистической. Увы, друзья мои, мне немного жить осталось; вам быть свидетелями, продолжателями и вершителями великих деяний наших русских мастеров-художников, строителей и учёных. То, что подсказывает Менделеев, придется вам раскрывать и дарить народу. Что достигнуто Циолковским – вам завершать!.. В наш век, обогащённый идеями Маркса и Ленина, наша страна докажет всему миру, на что способен народ-властелин.
– Я вот эти книги возьму, Валерий Никодимович, – показывая пачку книг профессору, обратился Судаков.
– Пожалуйста. Нахожу, что запросы у вас правильные. Ещё возьмите книгу об архитектуре в период Великой Французской революции и, почитав, поразмыслите…
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
ПРОШЁЛ первый месяц учёбы в институте, и Судакову с группой студентов довелось две недели быть на практических занятиях по строительству в Болшевской трудкоммуне ОГПУ, вблизи от Москвы. Обучение в Череповецком техникуме теперь пригодилось ему на практике.
Работами в Болшеве руководил опытный инженер-строитель. Рабочую силу составляли правонарушители, бывшие уголовники и беспризорники, преимущественно молодёжь. Были в числе их и люди более солидного возраста, старые «волки» и «зубры», прошедшие чудовищную школу жизни. В Болшеве для них были созданы особые трудовые условия. Они строили цеха и мастерские для производства лыж, коньков, спортивной одежды из текстиля, футбольных мячей и всякого другого инвентаря для физкультурников и бойцов Красной Армии. Работа шла в две смены.
О трудкоммуне ОГПУ было далеко и широко известно. За границей писали, что этот большевистский эксперимент с преступниками проводится за колючей проволокой, под усиленной охраной войск ОГПУ.
Однажды приехал в Советскую Россию вожак Второго Интернационала, небезызвестный Вандервельде. Захотел он побывать и в Болшеве. Ему предоставили эту возможность.
Вандервельде ходил с провожатыми, везде совал свой нос, всем интересовался. Увидел: стоит очередь разноликих весёлых ребят – спросил:
– Почему они толпятся, чего они требуют?
– Это очередь за билетами в кино.
– А где охрана, милиция?
Ему ответили:
– Этим ребятам слишком много понадобилось бы охраны, если бы условия их жизни были принудительными.
– Что их держит? Проволочные заграждения с электрическим током? Но я по пути сюда и этого не видел. Странно, удивительно!..
– Этих ребят охраняет строгий принцип свободной обстановки.
– Кто основатель этой коммуны с такими принципами?
– Феликс Эдмундович Дзержинский.
– О! Дзержинский и… преступники. Расскажите, прошу, подробней.
– Извольте, – отвечал гид, – год рождения трудкоммуны – 1924-й. Начали работу сначала восемнадцать человек. Взяли их в Бутырках. Это были анархистски настроенные воры-рецидивисты. Между работой и рвотным порошком они не находили никакой разницы. Большого труда стоило чекистам пристроить к делу эту первую и малочисленную группу отпетых людей. Устав был и есть очень краткий: труд, самодеятельность, самосознание плюс свободная обстановка, самоуправление и товарищеская дисциплина. К этому уставу скоро внесено было дополнение самими трудовоспитанниками: «Водки не пить, не воровать, не филонить, то есть не лодырничать, не быть паразитами; быть тактичными с женщинами…» Тогда этих замечательных общежитий не было, учебного комбината тоже. Ничего готового! Зачинатели ютились в полуразрушенной бывшей барской усадьбе. Начали работать с починки собственной обуви! А теперь, как видите, в нашей коммуне обувная фабрика. Есть и другие предприятия.
– Благодарю вас. Я хочу видеть и слышать самого начальника… – сказал Вандервельде.
– Пожалуйста. Вот он, будьте знакомы. Товарищ начальник, гость хочет послушать вас.
– Моя фамилия Кузнецов, – отрекомендовался управляющий. – Хозяином трудкоммуны является общее собрание всех работающих. Есть у нас конфликтная комиссия. Состоит она из бывших правонарушителей. Это своего рода товарищеский суд. Комиссию недолюбливают многие новички, но с ней считаются и решениям её покорны. Опора коммуны – шестьсот бывших преступников, ставших нашими активистами. Некоторые из них теперь приняты в члены Коммунистической партии.
– Повторите. Что? Коммунистической партии?..
– Да, мистер. Во Втором Интернационале предпочитают принимать в партию мелкую и крупную буржуазию и привилегированные слои. А у нас в партии место человеку-труженику, доказавшему честное отношение к делу и активность в общественной жизни…
Переводчик-француз и спутники гостя приметили, как передёрнулось лицо Вандервельде.
Обойдя цеха учебного комбината и поблагодарив представителя трудкоммуны за внимание, он помахал шляпой и в лакированной открытой машине покатил в Москву…
Иван Судаков не присутствовал при этой встрече, но много слышал о ней.
Однажды, наблюдая за тем, как раствором цемента бригада ребят скрепляла в котловане фундамент под установку тяжеловесных станков, Судаков приметил одного паренька, который, обособившись от тех, что дружно работали, сидел на порожней бочке, болтал ногами и курил папиросу за папиросой.
– Как ваша фамилия? – спросил Судаков этого беспечного парня.
– Моя фамилия… Паук!
– Ну, Паук так Паук. Нравится здешний комбинат?
– Очень! Одно плохо, что каменный. Не сгорит никогда, в бога его Христа!..
– А зачем ему гореть?
– Не хочу учиться. Работать не хочу. Прозвали меня на вольной воле Пауком, а пауки разве что делают? Они подстерегают, ловят, давят… Не хочу я этого комбината!
– Гражданин студент, не тревожьте его. Не поможет, – услышал Судаков голос из котлована. – Паук мечтает. Знаете, что ему здесь противно? Здесь ни решёток, ни охраны.
– Правильно, кореш! Позор для порядочного вора. Что за жизнь? Оглянуться не на кого! – и Паук, бросив папиросу, заплакал настоящими слезами. – Это разве жизнь? Сами себя режем, без ножа режем!..
– И ещё Паука беспокоит одно – одиночество. Бездельничает, а значит, он ни с кем, и с ним никто! Видите, плачет. Это уже хорошо. Душа пробуждается, в понятие входит… Мы тоже так сначала. Стыдились работать, филонили. Кончилась блажь. И у Паука кончится.
Говоривший это парень выскочил из котлована на поверхность и к Пауку:
– Поплачь, дитятко! Поплачь. А мы тебя, несчастного, пожалеем, как волк кобылу.
Паук сидел, поникнув, молча сжимал и разжимал кулаки, словно испытывал пальцы рук, годятся ли они для работы.
– Не хочу, не умею…
– И захочешь и заумеешь, – спокойно увещевал его свой же товарищ. – И не кочевряжься. Прекрати. Вот братва смеётся над тобой: хоть бы ты уркан фартовый был, ну, «медвежатник», что ли. А то ведь домушник, пугало домашних хозяек. Берись, дурило, за лопату. Что ж, сегодня не хочешь, завтра сам попросишь…
– Да что я вам дался! – выкрикнул Паук, – лучше свяжите меня, дьяволы! Не хотите? Я вас, лягавые черти, заставлю связать меня…
– Ничего, гражданин студент, Паук сам уломается. Мы это психически понимаем! – обращаясь к Судакову, спокойно заявил беседующий с Пауком парень.
Клуб в трудкоммуне ОГПУ – настоящий дворец. Пять духовых оркестров!
– А что это сегодня на афише? – спросил Судаков, увидев издалека объявление у колоннады клуба.
– Разве вы не знаете? Сегодня вечер встречи наших ребят со студентами-практикантами вашего института. Будет показана самодеятельность хора, оркестров, выступления старейших членов коммуны. Ждут из Москвы вашего профессора…
– Замечательно! – только и мог сказать Судаков и, вынув из кармана рулетку, стал измерять расстояние от котлована до стенной кладки и высчитывать размеры квадрата, на котором станет прочно и надолго могучий и умный механизм. На вечер встречи пришли все студенты-практиканты. Им были отведены первые ряды в зале. Организованно явились и бывшие правонарушители.
В президиуме управляющий трудкоммуны, несколько отличников, цеховых руководителей, заслуживших честной работой высокое доверие, и приехавший по приглашению Валерий Никодимович.
В начале официальной части встречи управляющий коротко рассказал о трудкоммуне. Потом начались выступления.
– Слово имеет наш общий друг, бывший солидный правонарушитель, а ныне директор нашей обувной фабрики Алёша Погодин! – объявил председательствующий.
Зал ответил дружными аплодисментами.
Алёша Погодин – невысокий, юркий, кареглазый, лицо в веснушках. Он уже не молод, с солидным стажем взломщика-«медвежатника».
– Товарищи! Что это такое? – начал свою речь Алёша Погодин. – Наш уважаемый гость, товарищ профессор и учитель студентов-строителей, сидит в президиуме и неустанно платком просушивает глаза от слёз. А что, товарищи, сказал Маяковский? «Если бы выставить в музее плачущего большевика, весь день бы в музее стояли ротозеи. Еще бы!.. Такое не увидеть и в века…» Почему у профессора глаза отсырели? Правильно, отсырели! И вот почему… А, впрочем, вы и без объяснений понимаете. Нельзя человеку, прожившему большую и нормальную жизнь, не расчувствоваться при виде нас и наших теперешних дел…
– Правильно, правильно! – и, поднявшись со стула, профессор обратился к сидящим в зале: – Товарищи, дорогие! Большевики вас перестроили. Они перестроят мир. Коммунизм восторжествует. Простите. Я беспартийный, но… большевик. И всё-таки, вопреки Маяковскому, слеза слезе рознь. Извините. Хороший вы народ!..
Владимир Никодимович сел под бурные овации.
Алёша Погодин продолжал:
– Время дорого. Я коротко. Что могу сказать о себе? Из наших товарищей большинство знает, кто я, что я. Но ради студентов-практикантов позволю лично сам дать о себе справку. Да. Взломщиком был. Спец по несгораемым шкафам и сундукам. Обладал этой техникой в совершенстве. Можно сказать, король не король, а главный магистр среди «медвежатников». Работа, труд – да я и понятия об этом не имел. И не снилось мне работать. Алкоголя-то я попил уж вдосталь. Деньжонки всегда водились. Судимостей – числа нет. Побеги, поимки, побои – всё испытано. Зачитаю вам две бумажки. Вот выписка из одного решения: «Коллегия ОГПУ постановила: Погодину Алексею расстрел заменить десятью годами исправительно-трудовых работ». Вот другая выписка: «За ударную работу товарищ Погодин Алексей награждается серебряными часами от коллегии ОГПУ». Вам нравится? Мне тоже… Могу один эпизод рассказать из своей жизни. За советское время отчитываться о своей «деятельности» не стану. А вот однажды при Николашке такое случилось в Москве. Нарядился я в форму офицера, а Колька Зуб, мой товарищ, – за вольноопределяющегося и пошли на Арбат промышлять. Сняли со второго этажа несгораемый сундучок – этакий, пудов на десять. На месте раскупоривать некогда. Взяли извозчика – вези. Поехали. Сани на повороте опрокинуло. Ящик – в снег. Поднять не можем. Сумерки. По улице идет взвод солдат, фельдфебель в баню ведет. Увидел меня в офицерских погонах, взводу командует: «Смирно!» Рапортует мне: так и так, ваше благородье, в баню идем. Я командую: «вольно», и прошу солдат сундук поднять на сани. Подняли. Поехали. Что было в сундуке – на несколько лет могло бы хватить другим. Да не нам! Через месяц уже надо было снова промышлять. Но по мелочам я не занимался… А сейчас… Сейчас у меня на полмиллиона рублей разных ценных материалов. Доверяют! Не украду ни на грош. Да и вы тоже. Будьте здоровы!..
Зал снова всколыхнулся в гуле аплодисментов.
– Слово имеет, прошу любить и жаловать, председатель бюро нашего актива товарищ Закаржевский. Мозговитый человек в нашей организации, – председатель сделал широкий жест в сторону поднимающегося на сцену Закаржевского.
Судаков видел этого человека на стройке. Во внешности ничего такого, что бы напоминало его прежнюю связь с преступным миром: открытое лицо, прямой взгляд. Говорит Закаржевский скромно, тихо, чуть-чуть улыбаясь:
– Действительно верно, прошёл я огни, воды, медные трубы и чёртовы зубы… Из Нижегородской тюрьмы меня однажды вывез ассенизатор в бочке на свалку, и таким путем я убежал. Имя мое воровское гремело и за границей. В юношеские годы побывал на Балканах, в Италии и так далее. В семнадцатом году служил в Красной гвардии, позднее – в отряде у Жлобы. НЭП меня свернул с пути истинного. У меня ни дома, ни товарищей, никакой поддержки ни от кого. Пропащая жизнь! Безработица. Да я и делать-то ничего не умею! Пришлось начинать сызнова. Нашёл двух своих товарищей, вооружились пробочными пугачами, пришли на Сретенку в ювелирный к частнику: «Руки вверх!». Сразу «сняли» на десяток тысяч рублей. В газетах писали, что больше. Наверно, под нашу сурдинку приказчики украли. Кутежи, тюрьма, побег… А потом снова за то же. Теперь к прошлому возврата нет. Но забыть его невозможно. Коммуной я доволен. За нашу коммуну, за СССР жизни не пожалею! Воевать? Так и я воевать. Знаю, как владеть шашкой и винтовкой. Нынче мы в ряды Красной Армии из трудкоммуны двенадцать человек проводили. Бывшему преступнику доверяется оружие. Великое дело, товарищи!..
Под аплодисменты вышел на трибуну свой поэт Сашка Бобринский. У него ещё разухабистый вид – чуб на глаза, руки в карманах брюк, чувствуется, не прошла задиристость…
Бобринский сразу начал со стихов:
Мы с товарищами хмуро Под конвоями шагали. Нас обычно стены МУРа Как-то холодно встречали. Эх, пошутить бы с тишиной, Сквозь решётки чёрных камер!.. Да на вышке часовой Под грибом дощатым замер…Поэт замер в продолжительной паузе. Но вдруг встряхнул головой и голосом четким и твёрдым торжественно продолжил:
Путь наш серый, тяжкий, долгий — От Одессы до Сибири, С Енисея к скатам Волги, До Кемской Полярной шири… А теперь настали будни, Ярче солнце перед нами. Навсегда другими будем У машин и за станками Мы трудом себя прославим, Над прошедшим карта бита!.. Мы в коммуне переплавим И бродягу, и бандита!Поэту ободряюще захлопали.
В перерыв все вышли на улицу. Судаков подошёл к Валерию Никодимовичу и только хотел с ним поделиться впечатлениями, как откуда-то взялся весело смеющийся бывший беспризорник Лёвка Швец с группой других ребят.
– Вот вам! Сто чертей в зубы, если я ошибаюсь! Это наш «крестный» из Вологды. Он это! Правильно? Вы из Вологды?
– Да. Я вас узнаю. Это вы те самые ребятишки…
– Те самые, которых вы сняли с архивного склада и увели в дорожное ГПУ. С вашей легкой руки мы учимся здесь.
Раздался звонок. Ребята с Лёвкой Швецом начали пробираться в зал, держась поближе к Судакову.
– И вы теперь студент? И у нас на практике?
– Да, временно.
– Просим, заходите к нам в общежитие. Увидите, как мы весело, дружно живём…
Судаков навестил их. Бывшие беспризорники жили в светлой большой, на восемь коек, комнате. Днём работали, вечером учились. Старшим, своего рода классным дядькой и шефом-воспитателем, у них был начальник портновского цеха, тихий еврей Глазман. Тихий только с виду. На работе он кипел и горел, не щадил сил.
Глазман зашёл в общежитие, когда там был Судаков. Послушав, как ребята, смеясь вспоминали о своей первой встрече с Иваном Корнеевичем, он и сам вступил в разговор.
– Наша трудкоммуна славится, – похвалился он. – Ее любит Максим Горький… А вся сила в доверии, в том, что в нас поверили. И ещё сила в том, что мы не баклуши бьём. Видим, какие вещи выходят из наших рук с помощью, конечно, машин, станков… Я тоже мог бы на том вечере выступить с трибуны. Мне тоже есть что вспомнить. Конечно, я не Алёшка Погодин. Я – Глазман. Я «работал» по учреждениям. «Уводил» десятки пишущих машинок. Угрозыск по почерку узнавал: «Это работа Глазмана». А поди докажи!.. Найди концы. Всяко было…
О ребятах Глазман сказал:
– Это мелкота, стручки зелёные. Они не успели с моё хлебнуть из чаши страданий. Знали бы вы, как я жил? Рабочая еврейская семья на юге. При царизме кому жилось худо? Рабочему классу, а рабочему еврею – хуже всех. Отца выгоняли с завода. Жить нечем. Воровал с детства. Прикидывался припадочным, чтобы не так сильно били. Судился только пять раз… В Бахмаче засыпался. Самосуд – ужасней суда. А от того самосуда я три недели без чувств в больнице валялся. И кто меня бил? Свои, евреи-лавочники. И кто меня вылечил? Свой же еврей, врач-хирург в Бахмаче. Око за око, зуб за зуб. Пошёл после поправки ночью в синагогу, спёр двадцать шёлковых накидок. Нате вам, други мои! Иегова не был в обиде: вознаградил вскоре, да ещё как. В том же Бахмаче был случай: один буржуй загулял в ресторане. Наши ребята притиснули его в дверях, лишили бумажника. Деньжонки поделили, а я на собственный риск взял только багажную квитанцию на чемодан и немедленно в камеру хранения! Не может быть у богатого человека бедный чемодан… Делаю вид, что задыхаюсь, тороплюсь. Кладовщик берет квитанцию, на меня через очки смотрит. Я соответственно делаю вид…
– Какие ремни у чемодана, какие замки? – спрашивает кладовщик для проверки.
Я не оплошал:
– Ремни? Кожаные, с пряжками. Замочки? Металлические!..
Всё совпало. Получаю. Бегу с чемоданом, Глазман знает, куда бежать. Вскрываю ремни и замочки – в чемодане пустяки: верхние рубашки, брюки. Печально. Но что это? Чемодан без вещей, а тяжеловат. Отдираю оклеенное ситцем картонное дно, а там ещё дно. Между ними – двести золотых пятерок! Есть бог?.. Глазмана не надо учить, куда девать добычу: пять пятерок тайно подкинул врачу, который меня вылечил. С остальными поехал в Харьков. А там у меня «хмара». Любила меня по-кошачьи. Любила, пока деньги были. То шоколаду просит, то брошь, то перстенёк, то ножку поднимет и стоптанный каблук покажет – туфельки требует… Правду говорят: простота хуже воровства. Высосала она всё золото и… с другим закрутила. Что это? Жизнь? Нет! Суета сует и томление духа, как сказано в библии. Читали? – спросил Глазман Судакова, заканчивая свою исповедь.
– Не удосужился.
– Почитайте, там есть изюм в мусоре. Древние мудрецы и жулики состряпали такую книжищу. Ну, я пошел. Будьте здоровы.
…С последним дачным поездом, поздно ночью, Судаков уезжал в Москву. В вагоне дремали уставшие запоздавшие пассажиры.
«Какая у людей сложная жизнь и какие счастливые перемены! – размышлял Судаков. – И что может произойти с человеком, зависящим от общества, если он от него оторван и находится вне его? Гибель! Физическая, моральная гибель… Правду сказано: где труд – там и счастье. А для этих бывших преступников труд стал их спасением. Они познают на своём опыте, что в стороне от общества, без учения и труда нет жизни, нет счастья. Хотел бы я видеть вологодских ребятишек спустя годы, когда они, быть может, будут инженерами или учёными. С ними может статься. У них крепкая хватка и верная цель. Как разумно продумано Дзержинским большое и трудное дело перевоспитания правонарушителей. И как нелегко это достаётся воспитателям…»
Судаков не заметил, как остался один в вагоне. За вокзалом притихшая, опустевшая Каланчеевская площадь. Над Москвой спустилась холодная декабрьская ночь.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
ПОСЛЕ двухнедельной практики в Болшеве – снова занятия в институте. У Судакова по всем предметам хорошие отметки. Способностями и старанием он выделялся среди однокурсников. У преподавателей был на хорошем счету. И, казалось бы, по жизни шагать обучился. Но споткнулся.
Однажды в разговоре с группой студентов Судаков резко поспорил. В ту пору материально жилось трудновато. В практике советской торговли существовали на одни и те же продовольственные товары различные цены: коммерческие, твердые, рыночно-спекулятивные, и вдобавок к этому были ещё «торгсины» – для тех, кто имел серебро и золото. Всё это студенту-коммунисту Судакову казалось крайне непонятным.
– Я считаю, – заявил он, – ненормальным расхождение цен на одни и те же продукты в одних и тех же условиях и местностях, не иначе, как результатом нарушения экономического развития, когда частное вступает в противоречие с общим, а экономика из базиса становится надстройкой над политическим базисом. Но это явление преходящее, временное…
Казалось бы, что ничего страшного он не наговорил. Но два студента-однокашника Ленька Иванов и Петька Громов взяли на заметку «нездоровые настроения» Судакова и сговорились состряпать на него заявление, свидетельствующее о политической зрелости, о бдительности и непримиримости заявителей и о несовместимости взглядов Судакова с его пребыванием в партии и в стенах института.
Заявление, составленное в резких тонах, с преувеличением, раздутием и искажением фактов, было подано в парторганизацию. На партсобрании при разборе этого вопроса напомнили, что Судаков весной этого года уже обсуждался за притупление бдительности в Вологде. Проголосовали – исключить Судакова из членов партии и из института.
Председательствовал на собрании один из заявителей – Громов. Одержав «победу» над Судаковым, «бдительный» заявитель тут же потребовал:
– Гражданин Судаков, сдайте президиуму ваш партбилет и покиньте собрание….
Как ни взволнован был Судаков, как ни горячился, выступая сбивчиво и резко, он всё же нашёл в себе силы сдержанно улыбнуться и сказать:
– Не Громов партбилет мне вручал, и не ему его у меня отбирать… Даже большинством голосов вы его у меня не отнимете. Есть высшие партийные инстанции. Окончательно вопросы о партийности членов – быть или не быть – решает партийная контрольная комиссия. Да, да, товарищ Громов, можете криво не усмехаться.
Собрание проголосовало вторично. Решение изменили: «Передать все материалы на товарища Судакова по данному делу в партийную комиссию».
Некоторые говорили, что Судаков «вылетит» из партии и не удержится в институте, а потому перестали его замечать. В общежитии с ним эти «некоторые» не разговаривали; при встречах в коридорах института отворачивались в сторону.
В этой обстановке Судаков пришел к мысли о том, что какое решение вынесет комиссия, то он и примет, как должное, но что в институте не останется, уедет куда-либо в отдаленный район.
Вспомнил он в эти дни своих старых череповецких друзей. Кое-кто из них уже успел окончить вузы, и молодые специалисты разъехались в разные концы страны. Он знал адреса многих товарищей и мог бы запросить их, где и на какие работы требуются люди. Но до разбора дела в парткомиссии не стал писать никому, кроме Вали Передниковой, окончившей кораблестроительный институт в Ленинграде.
Валя осталась на работе в конструкторском бюро при институте. Туда и отправил Судаков письмо, откровенное, душевное о всех своих переживаниях. Не были обойдены молчанием в письме и недруги-клеветники, желающие показной бдительностью поднять свой престиж в стенах института.
«Теперь, Валя, переживаю я душевную травму, – писал Судаков. – Хоть ни в чём себя виноватым не считаю, но какой-то повод для клеветы, видно, я сгоряча дал. Вся надежда на торжество справедливости…»
Завершалось письмо стихотворными строчками о чувствах автора их к Вале.
И вот теперь в раздумье строгом Кляну себя я иногда Мы говорили о немногом, О чувствах наших – никогда! Как жаль, что жизнь нас разлучила Куда, куда девалась ты? Нет, не забыл тебя я, милой, Моих тревог, моей мечты!..Письмо не нашло Валю и вернулось обратно в институт. Но оно не долго пролежало в клетке ящика на букву «С» в вестибюле, попав на глаза Громову. Тот прибрал письмо, прочитал и, приложив к нему анонимную записку, направил в парткомиссию «в дополнение к имеющемуся на Судакова И. К. материалу».
В комиссии малоизменённый Громовым почерк сопоставили с почерком его заявления.
– Тут что-то не чисто, – сказал председатель, предварительно разбираясь в материалах. – У меня вызывают подозрение сами заявители: что-то они проявляют усердие не по разуму. Надо запросить все данные на этих двух членов партии – Громова и Иванова…
При обсуждении Судакова на парткомиссии председательствовал военный товарищ, с тремя ромбами в петлицах. Членами комиссии были одна пожилая большевичка с подпольным стажем и рабочий с Красной Пресни – участник революции 1905 года.
Судакова вызвали на трибуну. Не без тревожного волнения он, как полагается, подал партбилет председателю и, коротко рассказав о себе, умолк в ожидании вопросов.
Ему показалось странным и непонятным, что только один вопрос и задал председатель комиссии.
– Товарищ Судаков, как вы думаете использовать свои способности строителя по окончании института?
– Разумеется, куда пошлют при распределении, туда безоговорочно я и поеду, – бодро ответил он. – Но у меня возникло намерение уйти из института и уехать работать. А вуз окончить заочно. Семьей я не обременен и думаю, что могу, работая, учиться и, учась, работать…
– Что ж, это дело ваше. Может быть, и похвально, – сказал председатель. – Но если это вызвано только нездоровой обстановкой, создавшейся вокруг вас, то этого делать не следует. Другое дело, если вы твёрдо убеждены в полезности увязать теорию с практикой в повседневной жизни. Тут вам тоже никто препятствий чинить не может… Кто желает, товарищи, высказаться?
Громов, сидевший в первом ряду, поднял руку.
– Пожалуйста. Ваша фамилия?
– Громов.
– Ваше заявление по делу Судакова?
– Да, наше с товарищем Ивановым…
– Что новое можете оказать? Или то, что уже известно нам из вашей грамоты?
– Я хотел развить и подтвердить наши доводы.
– Не надо. Скажите, Громов, частное письмо товарища Судакова в адрес девушки вы препроводили в комиссию?
Громов покраснел, замялся. Помолчал и с большим трудом ответил:
– Да, оно проливает свет, даёт некоторое понятие о лице затронутого лица…
– Не совсем ясно… Вы хотите сказать, что у человека бывает два лица. Не так ли? Однако, нам кажется, у товарища Судакова одно лицо, и притом без искажений. Подождите пока, вам будет дана возможность поговорить с этой трибуны. Садитесь. Кто ещё желает высказаться?
Лёнька Иванов не осмелился и руки поднять.
Несколько слов сказал секретарь парторганизации, сухой, высокого роста старшекурсник. Медленно подбирая слова и прислушиваясь к своему хриплому голосу, он как-то на ходу перестроился и сказал не то, что хотел сказать.
– Товарищ Судаков пришел в институт переростком, не со школьной скамьи и не из техникума, а поработав и став членом партии. С него и спрашивать должны больше. Учится он, судя по зачетке, отлично. Практику провёл хорошо. Много читает. Я лично сам проверял, – он за два истекших месяца прочёл из библиотеки двадцать девять книг. Из них восемнадцать не имеющих отношения к нашей учебе, в том числе два тома сочинений Плеханова. А Плеханов, как мы знаем, ошибался. И возможно, чтение посторонней литературы возымело действие на сознательность товарища Судакова, и в результате возникло дело по заявлению, которое находится в комиссии. А так он вообще человек ни в чём другом плохом, кроме сказанного в заявлении, замечен не был. В прошлом был какой-то грешок по службе, но взыскание не накладывалось… У меня всё…
– Вопросов у членов комиссии нет? Нет. Товарищ Судаков, возьмите ваш партбилет и чувствуйте себя спокойно, – сказал председатель.
Судаков, не чуя под собой ног, приблизился к столу и, взяв билет, благодарно кивнул комиссии и прошел в зал. Вздох облегчения послышался в зале.
«Не все мои недруги», – подумал Судаков, садясь на свободное место и пряча партбилет в потайной карман.
– Товарищ Громов! – вызвал председательствующий. – Теперь прошу вас на трибуну. Дайте ваш партбилет…
В зале насторожились: не случайно Громова вызвали – тут что-то есть…
Громов заметно волновался. Дрожащей рукой положил партбилет на стол. Перед председателем комиссии лежала небольшая, в четверть листа, архивная справка.
– Ваш год рождения?
– 1902-й.
– Сколько лет вам было, когда поступили на службу в войска Врангеля?
По залу прошёл шумным ветерком шёпот удивления. Громов от такого вопроса побледнел до синевы.
– Восем-н-над-цатый, не то семнадцатый был год… – запинаясь, проговорил он.
– По мобилизации или добровольно?
– Виноват, добровольно…
– Что вас заставило?
– Брат покойного моего отца, мой дядя, в ту пору штабной офицер, уговорил…
– Так. Где находится ваш дядя?
– Одно письмо было из Бразилии. Два – из Аргентины. Эмигрант…
– Так, так, далеконько махнул ваш дядюшка. Где вступали в партию?
– Здесь, на втором курсе…
– У меня вопрос секретарю парторганизации: скажите, знала ли парторганизация института, что в ряды партии она принимала бывшего добровольца белой армии?
– Нет, – растерянно ответил секретарь. – Этот вопрос не всплывал. Да и вообще впервые сегодня слышу об этом. Для меня это – гром и молния!..
– А чего бы вы хотели от Громона? Вот вам и гром, и молния!.. Ужели вы, разбирая громовскую кляузу, не почувствовали в ней громоотвод от его личности, желание приобрести некий авторитет на игре в бдительность?..
Секретарь молча пожал плечами.
Громову партбилета не вернули. Не вернули партбилета и Леньке Иванову. Хотя в комиссии на него не было никаких отрицательных материалов, он, слушая и видя, как Громова вывели на чистую воду, струхнул и, полагая, что о нём тоже всё известно, решил саморазоблачиться. С этого и начал, расхрабрившись, словно с обрыва сиганул в холодную пучину:
– Я, товарищи комиссия, прямо долгом своим считаю сказать, что фамилия моя Иванов взята мною, чтобы порвать формально и по существу с родством отца моего, служителя культа. Иванов я с одна тысяча девятьсот двадцать третьего года. А ранее был Крещенский… Отец мой, прямо скажу, находится не то в заточении, не то в высылке – точно не знаю. Был протоиереем в Ленинградской области. Я духовной семинарии закончить не успел, только начал – случилась революция. Прямо скажу – в бога не верю. Не верил, когда и отцу прислуживал в церкви: подавал кадило, читал апостола и прочее… Бывало, ездил с отцом на требы. Я тогда молод был и не сознавал всего вреда опиума народа – религиозного дурмана. Касательно товарища Судакова – и моя подпись там есть. Хотелось доказать неправоту товарища, его политическую слепоту… Но тут, видно, мы перегнули, полагая, что о высоких материях судить надо уметь, и не дело рядовых людей наводить критику на то, что исходит сверху. Прошу разъяснить, если я, мы то есть, неправильно действовали…
– Кто и где вас, Иванов-Крещенский, рекомендовал при вступлении в партию?
– Меня?
– Да, вас. И где сейчас находятся ваши поручители? – продолжал задавать вопросы член комиссии, пожилой рабочий.
– Как сказать, где они? Не знаю. Поступал я в торговой сети в Ленинграде. Одного из них исключили потом за троцкизм, за оппозицию. Два других, кажется, там, в сети – Гришман и Афонин. Могу потом узнать и сказать точно. Но по-честному заявляю с этой ответственной трибуны: рекомендатели мои не знали о моем духовном происхождении. Их винить не следует, я несу ответственность перед комиссией и перед вами, товарищи…
Никто из присутствующих студентов не ожидал, что так обернётся дело. Иванов и Громов были исключены и из института. А Судаков подал заявление о переводе его на заочное отделение. Просьба его была удовлетворена.
Пошёл тогда Иван Корнеевич в Представительство Северного края, – было такое в Москве, в одном из глухих переулков, – и обратился за помощью к самому представителю.
– Чем я, товарищ, могу вам помочь? Работники-строители на севере нужны. Имею запросы из Ненецкого округа, из области Коми. Хотите в Нарьян-Мар, хотите в Сыктывкар? Отправлю сегодня же, проезд обеспечен. Холост? – и, получив утвердительный ответ, заметил: – Тем лучше.
– Отправьте меня в Сыктывкар, в Коми… – согласился Судаков.
– Могу в Коми. Поезжайте, поезжайте в Коми. Пишите заявление с просьбой о выдаче проездных средств на билет от Москвы до станции Мураши Кировской области и от Мурашей на лошадях до Сыктывкара – там еще двести километров. Пишите расписку рублей на триста. Устраивает?..
– Устраивает, – ответил Судаков и, глядя на кружевную изморозь, затянувшую стекла в окнах кабинета, спросил: – Там, в Коми, сейчас, наверно, крепкие морозы?..
– Минус тридцать, до сорока доходит. А у вас что, кожаные сапоги да шинелишка? Другого потеплей ничего нет?..
– Нет, пока не заработал потеплей.
– Да, батенька… Подождите, сообразим что-нибудь.
Представитель Севера вызвал завхоза. Тот сказал, что может выдать Судакову полушубок, валенки и рукавицы.
– Найдите ещё и шапку. Человек едет в Коми по собственному желанию, всерьёз и надолго. Да бронь на билет до Мурашей. Плацкарт до Вятки… Вот так. Делайте. А вам, товарищ Судаков, от души желаю успеха.
– Спасибо за ваше внимание и добрые пожелания. Спасибо!
Через полчаса Судаков выходил из представительства в новеньком овчинном полушубке, с тёплым бараньим воротником, в собачьей шапке и в валенках, которым не страшен любой мороз. Шинель и поношенные хромовые сапоги он свернул в узелок, а фуражку оставил завхозу – авось кому-нибудь пригодится. В таком виде, по-зимнему одетый, Судаков зашел в институт, приобрёл за наличные кое-какие учебники, попрощался с товарищами и на расспросы их, куда он едет, ответил не совсем точно:
– Еду туда, куда Громов с Крещенским-Ивановым по доброй воле и носа своего не покажут.
Он не мог расстаться с Москвой, не простившись с ней, не побывав на Красной площади.
Мавзолей Ленина был закрыт. Четко вышагивая, менялись солдатские караулы. Иван Корнеевич стоял у Кремлевской стены, за которой над куполом правительственного здания развевался красный флаг.
– Прощай!.. Нет, до свидания, дорогая сердцу каждого русского, каждого советского гражданина, Москва!..
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
ЧЕРЕЗ двое суток скрипучий пассажирский поезд в холодную декабрьскую полночь доставил Судакова на станцию Мураши. Отсюда через лесные дебри тянулся длинный тракт на Сыктывкар.
Первое впечатление не было отрадным. Чуть-чуть мелькала под потолкам электрическая лампочка. В буфете стоял старый дубовый шкаф с разбитыми стеклами и с покосившимися полками. На прилавке, давно не видевшим никаких съестных припасов, спали два пассажира. Холщовые мешки, набитые неизвестно чем, были положены под головы. На полу замерзшая грязь сохранилась с осенней поры.
Поезда здесь проходили редко. Холодная вокзальная пустота вызвала у Ивана Корчеевича желание уйти отсюда к кому-нибудь в избу, чтобы попросить приюта до утра. Но куда пойдёшь? На вокзальных часах – второй час ночи.
Он сел на чемодан, задумался. Дверь с шумом распахнулась, и вместе с холодом в вокзал ввалились три человека, одетые в тёплые зимние пальто и шапки-ушанки, закутанные шарфами так, что невозможно было рассмотреть их лиц.
– На Сыктывкар? – спросил их Судаков, поняв, что они приехали в одном с ним поезде и могут быть ему попутчиками.
– Да, на Сыктывкар.
– Из Москвы?
– Никак нет! Все из разных городов: один из Петербурга, другой – из Петрограда, а я – из Ленинграда, – неунывающе ответил певучим голосом один из пассажиров.
Все трое поставили свои вещи в уголок и понемногу начали осваиваться: расстегнули шубы, положили чемодан на чемодан, достали из своих свёртков консервы и буханку хлеба.
– Нельзя ли к вам присоединиться? Разрешите? – обратился Судаков к этой компании.
– Милости просим, – ответил опять тот же человек певучей скороговоркой.
Это был мужчина выше среднего роста, с бородой и длинными, чуть подстриженными волосами, в поношенном пальто из хорошего драпа и в бурках. Когда он резал хлеб, Судаков разглядел у него на указательном пальце левой руки массивный серебряный перстень с тонкой художественной гравировкой.
– Подсаживайтесь, – пригласил другой, – доставайте ваши продзапасы. Кипяток бесплатно…
Новые знакомые Судакова оказались людьми с довольно любопытными биографиями. Один, некто Афанасьев, – музыкант-композитор, бывший капельмейстер «двора его величества». Другой – человек когда-то солидного духовного звания, настоятель и попечитель одной из петербургских церквей – протоиерей Теодорович. А третий – бывший одесский вице-губернатор Иванов. Все трое после соответствующей отсидки в тюрьме, после окончания следствия и вынесения приговора, дав подписку, отправились без конвоя в административную ссылку в область Коми. В обвинительных заключениях у каждого из них была трафаретная формулировка: «занимался систематически антисоветской агитацией… А посему…» Дальше после слова «посему» следовало определение: три года ссылки в один из северных районов.
Любой из них, конечно, с удовольствием совершил бы побег. Но куда побежишь? За границу? Она на крепком замке. Внутри страны бегай не бегай – не спрячешься.
Судаков узнал всё это, сидя на своём чемодане и уничтожая предусмотрительно взятый на пропитание в дальней дороге харч. Кружка кипятку с чёрным хлебом и селедкой оказалась для согрева очень кстати. Его спутники тоже жадно пили кипяток, закусывая хлебом, селёдками и тресковыми консервами. Только бывший капельмейстер Афанасьев достал перед едой из чемодана поллитровку и залпом выпил полный стакан.
– Господа, водка лучшее средство против холода. Водка – это всё! Её и монахи принимали, и цари обожали, – торжественно произнёс он. Однако не предложил выпить за кампанию не только Судакову, но и никому из «господ», а бережно и крепко закрыл бутылку пробкой.
Во время непритязательного и скороспелого ужина в вокзал ввалилась шумная ватага – человек десять залихватских подвыпивших парней, видимо, приехавших откуда-то гульнуть в Мураши.
– И живут же люди! – воскликнул один из них, увидев, как четверо проезжих, разложив на чемоданах хлеб и закуску, аппетитно ужинают. – Граждане! С вашего позволения дозвольте за рюмку водки, хвост селёдки песенку споём в честь и память наших братишек? Эй! Бардадым! Заводи гармонь!..
И в холодном, неуютном вокзале, под охрипшую гармонь и под мерное раскачивание всех этих кряжистых парней кто-то рябой, с рыжими космами волос, вылезшими из-под треуха, затянул блатную песню, какой не приходилось никогда слышать Судакову.
В лесах без передышки Бежали два братишки, Бежали, обходили стороной. Один был парень тёртый, По «семьдесят четвертой», По «мокрому» засыпался второй…– Непризнанные гении!
– Дань времени! Самобытность уголовного мира! – короткими замечаниями определили эту вокзальную самодеятельность все трое бывших – капельмейстер, вице-губернатор и служитель культа.
А песня раздавалась всё громче, звонче и резче, и на несколько минут внимание всех было занято судьбой двух беглецов, пытавшихся пробраться в столицу ради своих прежних уголовных «промыслов».
Вокзальная тишина способствовала рябому певцу, голос которого то снижался до жалости, то возвышался до непотребной лихости. Но вот гармонь, словно задушенная, притихла. В общей холодной тишине наступило непродолжительное молчание. Вице-губернатор под впечатлением песни втянул свою бритую голову в костлявые когда-то богатырские плечи. Капельмейстер смахнул навернувшиеся слёзы и сказал:
– Нервы, сдают у меня нервы, а всё же этот парень исполняет хорошо. Дай ему волю, научи его, возьми его в руки и – артист готов, да еще какой бы вышел артист…
– Овации мне, граждане, можете не устраивать. Угостите лучше, чем бог послал. Берём только натурой, – голос певца звучал не просительно, а скорее требовательно.
Афанасьев расщедрился. Налил полстакана водки.
– Пей, голубчик, пей, не жалко. Уважил!..
Вице-губернатор протянул банку с консервами.
– Батенька, подайте и вы! – поторопил певец Теодоровича. – Чего задумались…
– Сию минутку: рука дающего не оскудевает, всякое подаяние есть благо и воздастся сторицею…
– Вот именно, – улыбнулся парень, принимая от Теодоровича заплесневелую краюху хлеба.
Хотел вознаградить за песню и Судаков. В завёрнутой шинели у него ещё оставалось кое-что из съестного. Но вместо подаяния и доброго слова у него вырвалась весьма крепкая фраза. Даже не привыкшие, видимо, ничему удивляться парни проявили интерес:
– Что случилось, гражданин-товарищ?!
– Сапожки мои хромовые ушли!..
– Бывает. На то они и сапоги, чтобы ходить…
– Чёрт бы вас побрал!..
– И куда они вам в такой мороз, сапоги? Их у вас и не было. Вы их где-нибудь у кумы оставили, а на нас думаете…
– Как не было? Сейчас я только их видел, доставая хлеб и селедку. По голенищам еще погладил. Приласкал, можно сказать, на прощание.
– Гражданин, а чтоб сберечь шинелишку, вы её натяните на полушубок. И теплей, и сохранней, и лишнего места не занимает.
– Спасибо за добрый совет и кстати за песню, – поблагодарил примирившийся Судаков и тут же, расправив шинель, влез в неё вместе с полушубком.
– Политик, наверно, – подмигнул ему рябой парень. – В места не столь отдаленные пробираетесь, в ссылочку.
– Нет, ошибаетесь. Я за, контрреволюцию не страдалец!.. Еду работать – и никаких гвоздей!.. Хорошо поёшь, да плохо людей узнаёшь… А вот мои пропавшие сапоги подсказывают, кто вы такие…
В эту минуту гукнул паровоз, и всю наполнившую вокзал ватагу как водой смыло.
Недолго пришлось ожидать и Судакову и его спутникам. В вокзал вошла женщина с кнутом, подпоясанная запасным чересседельником и спросила:
– Нет ли кого на Сыктывкар? Идут две подводы.
– Вот и слава богу! Нас четверо. Далеко ли подвезёте и сколько за проезд? – спросил Теодорович.
– Четверо? По червонцу с носа – до самого Пупа прокачу…
– Не смейтесь, гражданка, мы серьёзно… Что значит до «пупа»? Мы в шутках не нуждаемся.
– А я и не шучу: первая зырянская деревня на тракте, сорок вёрст отсель, Пуп называется. Хотите – едем. А дальше там подводы найдутся. В такую даль только на перекладных ездят.
Сторговались. Сложили вещи, привязали. Уселись и поехали. На передней подводе с бабой – Судаков и Теодорович; на задней с возницей, мальчиком лет двенадцати, – капельмейстер и вице-губернатор.
– Ох, и далеко же нас загоняют… – с грустью и отчаянием проговорил бывший вице-губернатор.
– Так надо, так надо, – успокаивал его бывший дворцовый капельмейстер. – Дальше едешь – тише будешь.
– Да я и так, кажется, был тихого поведения, не тебе чета.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
МОРОЗ. Крепкий, северный. Под полозьями розвальней скрипит обкатанная зимняя дорога. Лошади идут лесом, хвойным, тёмным, густым, непробудно спящим под покровом ночной тишины и пушистого снега. Понемногу занимается ярко-оранжевая морозная заря. Еще час-два, и с востока, из-за лесов, бескрайних и величавых, всплывёт на короткий зимний день тусклое негреющее солнце.
– Пожалуй, не хватит дня, чтоб до Пупа добраться? – спросив Судаков.
– Не хватит. День короток, дорога длинная, – весело согласилась возница.
Усталые путешественники, прижавшись друг к другу, наглухо закрылись какими-то подобиями не то одеял, не то поношенных дорожных армяков и скоро уснули. Опустив привязанные к передкам розвальней вожжи, задремали и сами повозники в надежде, что дорога одна, сворачивать некуда. Лошади умные, привезут куда надо.
На морозе, да ещё с устатку, в дороге спится хорошо. Под однообразный скрип полозьев глаза сами закрываются.
Судакову приснилось, что стая волков напала на них. Один матёрый волк перехватил уже горло вице-губернатору. В страхе Иван Корнеевич очнулся. Не успел он заснуть снова – слышит фыркают и упираются, не идут обе лошади. Зырянка на передней подводе закричала:
– Ребяты! Кажется, волки. Кони чуют…
После такого возгласа, конечно, не до сна. Все встрепенулись…
– Эх, ружье бы или наган! – сказал Судаков. – Эй ты, извозчица, топор есть? Дай-ка его сюда, я пойду с топором впереди лошадей. А вы, господа такие, кричите во все глотки, чиркайте спички…
Но все оказались некурящими. Спичек – ни у кого.
– Вот ведь, в беде всегда так бывает… – робко высказался вице-губернатор и, резко захлопав кожаными рукавицами, заревел на весь дремучий лес истошным голосом:
– Волки! Волки!..
– Га-га! Ого-го!.. – помогая ему, закричал проснувшийся испуганный Теодорович.
– Какие здесь волки – сибирские или обыкновенные? – спросил капельмейстер мальчика, вцепившегося в вожжи.
– Зачем сибирские, своих хватает. Наши собак едят. Лошадей кусают. Человеков не трогают, – деловито отвечал мальчик.
Между тем, возвращаясь с топором в руке, вброд со снегу, Судаков крикнул:
– Эй, вы! Это не волки. Кто-то пьяный в тулупе валяется!.. Подъезжайте, надо подобрать человека!
Подъехали. Женщина с первой подводы поглядела и ахнула:
– Вот так волки! Да это же пьяный Ирин-Миш. Из Сыктывкара, главный пожарник. Господи, как ты, парень, его топором вместо волка не стукнул? Вот бы делов было. Ирин-Миш, чего ты делаешь тут, откуда взялся?
– Я-то? Я из Архангельскова города еду.
– Да на чем ты едешь? На своем брюхе посередь леса?
– Как? Я на лошади ехал. Кучер пьян, я пьян, обронили, видно. В кою сторону домой-то? Подвезите…
– Да уж придётся. Садись. Не погибать тебе стало.
Баба сошла с розвальней, уступив место главному пожарнику Коми области.
Ирин-Миш ткнулся носом в кошель с сеном и захрапел.
Утро и весь короткий день ехали лесным волоком до первой деревушки. На постоялом дворе в Пупе за самоваром путешественники стали понемногу приходить в себя.
Ирин-Миш протрезвел, вынул из-за пазухи в трубочку свернутую Почетную грамоту, расхвастался:
– Вот, в Архангельском, на краевом собрании дали. Золотые буквы. Все хлопали Ирин-Мишу. Всех рассмешил, весело было… Сам докладывал свои дела: лето было – дождь был, леса не горели – тушить нечего. По плану четыре пожара хотели тушить в Сыктывкаре – не было ни единого. В Выль-Горте по плану один пожар – было два. Мужики без нас потушили. Чего нам делать? Председатель спрашивает: «Чего, Ирин-Миш, целый год делал? Себя водкой тушил?..» «Нет, – говорю, – был один чрезвычайный факт». «Какой?» «Вот скажу… Поднялась тревога – лесной комбинат горит. Осень. Ночь. Темно. Красный огонь над комбинатом. Дыму не видно: ночь. Бочки, телеги, машины – всё поехало на пожар. Я на машине в трубу трублю. Берегись! Подъезжаем. Пожара нет. Луна большущая, краснущая с заревом взошла… Мы обратно. Берегись, задавим! Кричу: учебная тревога, учебная тревога!.. Люди догадались. В газете прохватили. Смех был. В Архангельском тоже хохотали». Председатель приказал: «Дать Ирин-Мишу грамоту за тушение луны!..»
Бывший вице-губернатор в тяжком раздумье проговорил:
– Господа, куда мы едем? Куда свои, кости везём? Чует сердце: подохнем в стороне от всякой цивилизации. Вот он «интеллигентный» представитель, тушитель луны, живой свидетель здешней культуры…
– Культуры? Культуры? – огрызнулся и ощетинился Ирин-Миш. – Всякая и культура бывает. У попа своя, у меня своя, у тебя своя. Нас вовек не учили. Тебя всю жизнь учили. Добро – тебе, мне – худо. Тебя не переспоришь. А вот давай сказки рассказывать! Ты ни единой не знаешь, а я всю дорогу до Сыктывкара буду сказки молоть, всё разные…
– Да мы и так, как в сказке: чем дальше едем, тем страшнее, – вставил Афанасьев.
Судаков молча думал о чем-то своём, разглядывал обстановку избы. Всё было до предела просто и бедно. Глинобитная огромная печь-кормилица. Она же обогревает, заменяет баню, лечит от простуды. Полати от задней стены уперлись досками-тесинами в воронец – на них вполне можно разместить десять ночлежников. Голбец с ходом в подполье… И всё прочее прикладное – своё самодельное, деревянное, берестяное, глиняное, не считая двух-трех чашек и медного, позеленевшего самовара…
И ещё приметил Иван Корнеевич в углу на божнице портрет Ленина. Он был наклеен на старую деревянную икону. Портрет простенький – приложение к «Крестьянской газете». Пониже портрета виднелась иконная церковно-славянская надпись: «Святый Стефан Пермский». Перед Ильичём висела на трёх шнурах лампадка. Она была нужна за отсутствием лампы.
Грустно от всего этого стало Судакову. «Всего только трое суток из Москвы, а какие перемены!.. – думал он. – А люди? Что за общество? И что ждёт меня там, дальше?..» Было над чем ему призадуматься. «И всё-таки, чёрт побери, интересно. Вынесу! За плечами – молодость, здоровье, сила… а впереди – труд, учение…»
На портрет Ленина и надпись под ним обратил внимание и Теодорович. Усмехнулся, сказал:
– А знаете, я не вижу в этой надписи кощунства: преподобный Стефан Пермский был передовой человек своего времени. Здесь, на Зырянской земле, он выполнял ту же роль, что Кирилл и Мефодий среди братьев славян. Колонизатор? Да, но в те времена и в тех условиях колонизация не была равносильна грабежу. Наоборот, передовые и сильные несли зачатки грамотности и культуры отсталым…
– Врёшь, поп! Врёшь!.. – не вытерпел Ирин-Миш, до этого споривший с бывшим вице-губернатором. – Где грамотность? Не было! Стефан Пермский полтысячи годов назад крестил зырян, церкви строил, а грамотность Ленин дал, с семнадцатого года!.. Вот твоя культура!.. Церкви были, школ не было.
– Ирин-Миш! Почему вы такой грубый, с нами на «ты», а ведь мы люди…
– Ну, и я людь! Что такое? И я тоже на «ты», не обижаюсь. В Коми все «ты», не говорят «вы». А ты с богом в молитве тоже на ты говоришь. Как это, помнишь: «Яко ты еси воистину Христос сын бога Живаго». А не говоришь богу «ваше» преподобие, сиятельство, превосходительство, ваше благородие, или господин бог. Нет, не говоришь. Вот когда много вас, я говорю «вы».
– Отчесал, отчесал батьку, – засмеялся капельмейстер, – ай да Иринарх Михайлович! Так ведь вас звать в переводе на русский?
– Совсем не так. Не говори, чего не знаешь. Надо правильно звать: Ирин-Миш – и всё.
– А если по-русски? – заинтересовался Судаков.
– По-русски не выходит никак. Верно, зовут меня Миш, Михаил. Я девкин сын: отца не было. Мать-девку звали Ириной. Её имя вместо отцова спереди ставится, моё сзади говорится: Ирин-Миш. Так по коми надо. Едете к нам – учитесь говорить по-нашему. Я был в Архангельском, говорил по-вашему. Я и сказки могу по-вашему, а лучше по-нашему…
– Расскажи хоть одну для пробы, – попросил Судаков.
– Одну нечего и говорить. Таким я не говорю сказок. Своим могу…
– А ты для хозяйки. За то, что она бесплатно тебя везла.
– Это не считается. На своей земле могу бесплатно. У меня бумага есть. На лесные пожары возить бесплатно, хоть тыщу вёрст по всей Коми-Му…
– Что значит Му?
– Му значит земля. У вас земля из пяти букв, у нас из двух.
– А сказку-то всё-таки расскажи… Ну, хотя бы какую-нибудь, – настаивал Судаков.
– По коми не понять. По-русски – коротко выходит. Так быть, для этого вашего попа понятную скажу.
Ирин-Миш допил последний, примерно десятый, стакан чаю, отодвинулся от стола, попыхтел, вытер рукавом кумачовой рубахи обильный пот с лица и начал, не торопясь, сказку:
– Жил-был у нас, на Сысоле, в деревне Ванька Хитрой. Приедет в город, обойдет пивные-казёнки. Деньги везде впёред отдаст. А потом снова идет. Запьёт, закусит. Шляпа у него была. Шляпой по столу ляпнет: – «Квиты, хозяин?» – «Квиты», – говорит тот. И везде так. Ходит, пьёт, ест до отказу и везде «квиты да квиты»…
Попы все жадные. Наш жаднее всех. Увидел раз, два, три: как Ванька шляпой махнет, и готово – «квиты».
– Волшебная шляпа! – догадался поп.
– Ванька, продай шляпу!
– Купи, батюшко.
– Сколько тебе за шляпу?
– Пятьсот серебром да золотом.
– Дорого будет…
– А дорого, так не покупай. Мне такая шляпа не в тягость.
Отдал поп пятьсот рублей за шляпу – и в трактир! Жрал-жрал, еле из-за стола вылез. Раз по столу шляпой – «Квиты» говорит. А трактирщик его за полу – цоп! И говорит: «Как „квиты“? Не шути, поп. Ты одной икры на четвертной билет слопал… Гони деньги за всё. С вином вместе полста!..» Поп деньги отдал и в пивную. И там тоже, сколько ни махал шляпой, «квиты» не выходит. Обманул Ванька!.. Бежит поп к Ваньке, чтоб деньги назад забрать. А Ванька видит в окно. Лег он на лавку, говорит бабе: «Скажи попу, я скончался… Закрой меня холстиной, на грудь крест медный с божницы положи…» Не вздыхает, глаза закатил. Умер и только.
Поп приходит.
– Что с Ванькой?
– Скороспешно скончался.
Поп так озлился на Ваньку, схватил крест с груди и по лбу его как треснет! Раз, другой, да и третий.
После третьего разу Ванька сразу воскрес. Встал, трет шишку на лбу, попа благодарит:
– Спасибо, батюшка, за воскресение меня из мёртвых!.. Вот как спасибо!..
Поп опять диву дался. Таким крестом можно денежку зашибать.
– Продай, Ванька, крест!
– Купи.
– Сколько?
– Одна тысяча!
– А не дорого ли будет?
– Дорого, так не бери, святой крест не в тягость. Видишь, меня воскресил, воистину!
Поп отдал тысячу. Крест в полу завернул. Пошёл на заработки. В Вологде знатной купец умер. Поп – туда. Приходит ко вдове:
– Хошь, воскрешу покойника? Давай пять тыщ, деньги вперёд!..
– На деньги, ради бога, воскреси только.
Поп лупил-лупил покойника, всё лицо расквасил тому, а толку нет и нет.
– Экой Ванька хитрой, опять надул…
Попа в полицию. Волосы сбрили – и в тюрьму. А Ванька и теперь живёт-поживает, дураков-попов надувает. А живет Ванька у нас в деревне Кируле, где враль на врале, на Сысоле… Вся сказка!..
– Недурно! – отозвался Теодорович, – и много таких знаете?
– И этаких, и с матерными завитушками. С тысячу, пожалуй, знаю.
– Живой родник! – восхитился Афанасьев. – Скажи, Ирин-Миш: если меня ГПУ оставит на жительстве в Сыктывкаре, и я буду записывать все твои сказки и по рублю за штуку – согласен?
– Дёшево покупаешь!.. Я сказками не торговец. В обмен могу: за бутылку водки три сказки. Две длинные да одну короткую. Ты потом пропечатаешь, дороже возьмёшь.
– Дорого. Этак не дешевле Ванькиной шляпы выйдет.
– Дорого, так не бери. Мне мои сказки не в тягость…
Отогрелись путешественники в деревне Пуп и решили все вместе, не расставаясь, ехать до Сыктывкара. Скоро подошли подводы-порожняки, и снова дальше – лесами и перелесками, вырубками и подсеками, бесконечным волоком-трактом, не спеша, потянулись на восток, навстречу солнцу.
Каждая мелочь привлекала внимание Ивана Судакова, запоминалась, сохраняясь в памяти. Первые впечатления бывают отчетливы и уже неповторимы по своей непосредственной свежести.
Встречались на пути длинные, в один посад, искривленные по берегам заснеженных рек деревни. Огромные бревенчатые избы с маленькими окнами, крыши тесовые с коньками, прижатые на стыках охлупнями, покрыты без единого гвоздя.
«Наверно, так и при Иване Грозном строили», – думал Судаков.
Но что это? Кругом лес и лес, а в деревнях ни деревца. Видимо, пригляделся народу коми лес на охоте, на вырубках-заготовках, а деревни тянутся окнами к свету. Зачем заслонять свет? Без деревьев вблизи изба ветрами продувается. Дольше стоит, не гниёт от слякоти, скорей просыхает. Всё учтено. Всё определено испокон-вечным опытом. Другое дело – сады яблоневые. Но яблони не выдерживают здесь морозов. Так и стоят деревни голые, обнажённые на высоких, продувных местах, где и мельницы могут помахать крыльями при самом малом ветерке.
Здесь уже не было столь длинных пустых перегонов, как сразу от Мурашей. Деревни, села, лесные поселения заготовителей встречались всё чаще и чаще, и от этого становилось и Судакову и его спутникам как-то веселей на душе. Иногда они приворачивали в кооперативы, в скупочные заготовительные пункты – находили себе продовольствие. В хлебе, мороженой рыбе, лосятине и даже медвежатине не было им отказа – давай только деньги. А деньги у них были.
Конечно, более ценные товары для здешних потребителей – сахар, чай, белая мука, керосин, порох, дробь и охотничьи ружья – продавались не за деньги, а обменивались на зверьковые и звериные шкуры, чем всегда была богата Коми-Му.
– Здесь почти натуральное хозяйство, – говорил Судаков своим спутникам. – Смотрите, сколько заготовляется пушнины! В каждом большом селении «Заготпушнина». Склады беличьих шкурок, лисиц, рысей, куниц…
– И «Центроспирт» всюду, – не без удовольствия добавлял Афанасьев. – Но вот беда, на «Центроспиртах» одни вывески. Водка вся выкачана… Где её достать?
– Была бы свинья, корыто будет, – прищурив глаза, смеялся Ирин-Миш, показывая почерневшие зубы. – Мне водки в любой избе дадут. Все знают Ирин-Миша, кто Ирин-Миш! Водка – святая вода, водка – жидкий хлеб. Водка – тепло и весело. Деньга бость, – есть значит по-вашему, – водка будет!..
Проезжали мимо лесозаготовительных участков. Было слышно из леса тарахтенье тракторов, лязг гусениц, грохот раскатываемых брёвен на разделочных площадках-биржах, сверкали первые редкие огоньки электрических лампочек в новых лесных посёлках, выросших в девственных трущобах за последние годы.
В метели и бураны дорога становилась непроезжей, и тогда ехавшие в Сыктывкар останавливались на постоялых дворах пережидать непогодь. В потёмках, при свете неравномерно горящей лучины или чуть-чуть мерцающей керосинки, Судаков читал учебники, перелистывал тетради – этим добром был заполнен весь его чемодан. Только две пары белья, запасные брюки да одно полотенце составляли всё его остальное движимое имущество.
Капельмейстер Афанасьев, невзирая на непогодь, бродил по сугробам из избы в избу, промышлял насчет водочки. Теодорович не выходил из постоялого двора, он терпеливо дожидался хорошей погоды и попутных лошадей, читал библию, порой шевеля влажными губами и закатывая умильно глаза. Бывший одесский вице-губернатор в каждом пристанище писал кому-то длинные письма и жалобы на неправильную его высылку на север, ссылаясь на ряд видных деятелей, которые могут подтвердить, что он был «прогрессивным» либералом.
Теодорович смеялся над его никчёмной писаниной:
– Ваше превосходительство, бросьте писать, никакого от этого толку не будет. А если имеете такой нестерпимый зуд к писательству, заставьте Ирин-Миша рассказывать вам сказки и записывайте их. Фольклор всегда есть фольклор – пригодится. Академия с руками у вас оторвёт его. А вы, молодой человек, – обращался Теодорович к Судакову, – не хотите ли почитать библию? Могу в дороге уступить, а я почитаю Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе», тоже прихватил с собой…
– Благодарю вас. Эти книги – оружие врага. Мне они ни к чему. На меня они никакого действия не произведут.
– Ха! Вражеское оружие! Ха! – изумлялся, раскрывая широченный рот, Теодорович. – Читали бы тогда ради познания этого оружия, чем оно сильно, и в чем его уязвимость… Молоденек, молоденек!.. Вы думаете, я только такие книги читаю? Нет. Я не взял с собой Пушкина, Шекспира, Ибсена и прочее, прочее, потому что эти книги в бывшем Устьсысольске или хоть в Троице-Печорске я найду. Библию и Кронштадтского – едва ли.
– А современных писателей читаете? – спросил Судаков из простого любопытства.
– Как вам сказать, чадо? Читал, да, да, читал. Бунина, Куприна и Горького. Люблю больше всех Мережковского, что со мной поделаете – люблю! А вы его и в руки не брали и в глаза его книг не видели. Я имею свой взгляд на вещи. Слишком много этих нынешних писателей появилось. И идут они не естественным, а искусственным путем в литературу. А что и как они пишут? Не от жизни и не от классических традиций. Из кабинетной тиши и личного мирка, без всякой философии. Вроде бы и грамотно – печатать можно, а читать нельзя!.. Нельзя, голубчик. «Мощи» Калинникова – мразь! «Без черемухи» и «Луна с правой стороны»– разврат!.. Хорошего поэта Есенина заплевали. В «Романе без вранья» больше гадости, чем правды. Что вы хотите?..
– Над тем, что вы говорите, надо подумать, – мрачно ответил ему Судаков. – Странно, что вы любите Есенина.
– Я не сказал, что люблю. Я сказал – хорошего поэта, – повторил Теодорович, закрывая библию и поправляя в железном светце догоравшую лучину. – Может быть, по-своему хорош и Маяковский, но я к нему равнодушен. Странная судьба у этих двух поэтов, не правда ли? Тёмна вода в облацех. Без воли божьей ни единый волос с головы не падет. Воля божья и есть судьба. Конечно, к Есенину я пристрастен. Нравятся его ранние стихи. И Клюев хорош, но излишний запах ладана от его стихов может оттолкнуть современную молодёжь, выращенную на политграмоте и на Демьяне Бедном. Да, кстати, не приходилось ли вам, молодой человек, читать в списках распространенное письмо Есенина «Ответ евангелисту Демьяну», письмо в защиту распятого Христа?..
– Нет, не приходилось. Но слыхал о таком письме. Знатоки говорят, что это провокация: не Есенин писал такое, а будто бы одно духовное лицо, и распространением того письма главным образом занимались люди, стоящие близко к церкви.
– Может быть, может быть. Между прочим, и в моём следственном деле присовокуплена копия такого письма, мною переписанная…
– Вот видите!..
– Вы, конечно, романтик… Едете на север добровольно. Строгость уголовного кодекса вас пока не коснулась, и не дай бог, избави бог!.. Но блаженны изгнанные правды ради, яко те унаследуют царство небесное.
Долго еще философствовал и мудрствовал Теодорович. Судаков, не вникая в суть его дальнейших рассуждений, думал о том, что сказал этот стреляный, злобствующий волк о литературе.
Закончив разговор с Иваном Корнеевичем, Теодорович спрятал болтавшийся крест за ворот толстовки, широко зевнул и полез на полати, застланные свежей соломой.
– Ваше превосходительство, – обратился он к бывшему вице-губернатору Одессы. – Разбудите меня, как стихнет погода.
– Почивайте с богом, – ответил тот, не отрываясь от своей бесконечной писанины. – Без вас, ваше преподобие, не сдвинемся с места.
Перевалили за половину пути. И, как ни странно, за исключением Ирин-Миша, никто из четырех спутников не торопился в Сыктывкар.
Даже Судаков привык к попутчикам и не спешил с ними расставаться. Очень уж своеобразны эти отживающие свой век люди. И они к Судакову относились доверительно. В разговорах с ним и между собой не стеснялись задевать острые вопросы. Им казалось, что, «получив своё», терять им более нечего. Остались в их распоряжении одни только воспоминания о прошлом, да где-то вдали от шумной городской жизни, в таёжном углу Севера, местечко под неприветливым небом – последняя пристань. Правда, три года – срок небольшой, милостивый, но за это время можно с тоски умереть. А какая гарантия, что срок не может быть продлён? Так они вслух размышляли все трое, и Судаков не мешал их весьма несветлым рассуждениям.
Однажды, на ночевке в зажиточной семье, подвыпивший капельмейстер «двора его величества» Афанасьев разъярился и, стуча кулаком по столу, неизвестно к кому, в пустоту обращаясь, угрожал:
– Мы ещё им припомним!.. Мы не забудем… Мы ещё отомстим… нас не возьмёшь… – При этих словах он показывал Судакову и Ирин-Мишу массивный серебряный перстень:
– Гляньте, что тут изображено?
– Стожок сена будто… – подслеповато разглядывая гравировку на перстне, отвечал Ирин-Миш.
– А по-вашему?..
– Не знаю, не пойму, – отвечал Судаков.
– Ага! И никто не угадает, – кичливо заявлял капельмейстер. – Мне подарил перстень б-б-большой человек! В Соловках отбывал. Это есть башня Соловецкой крепости. Будет окончательный расчёт, эту башенку припомним…
– Ну, вы, капельдудка! Поосторожнее. Мы тут не одни. Это не в камере, так расходиться. Уймись!.. Притихни! – предупреждал бывший вице-губернатор.
Судаков усмехнулся, сказал:
– Отводит душеньку человек!..
– Да, да, отвожу, и себя отвожу к чертям на кулички.
– Только напрасно вы горячитесь. Никому и ничего вы не припомните, никому вы не отомстите. Вы, наверно, и раньше не были зубасты, а теперь совсем обезвреженный, беззубый. Плохи ваши дела, если опираетесь на столь ненадежный бастион, как башня Соловецкой крепости. Символично, но… песня спета. Прошлому возврата нет. И не будет!
– Как сказать? Историю революций вы знаете? – возразил Афанасьев. – Что было во Франции?.. Где Конвент? Где Парижская Коммуна? Ага!?
– Афанасьев, перестаньте. Тихо, тихо!.. Нельзя так. ГПУ – оно и в Коми есть… Зачем себя подвергать?.. – предостерегал его Иванов. А Теодорович тем временем, увидев на шкафу старый граммофон с ржавой трубой, спросил хозяина:
– Скажите, играет?
– Хрипит, но играет.
– Надо смазать. Керосинцем, или маслом машинным. Дайте-ка я посмотрю.
Граммофон водрузили на стол. Теодорович отвинтил трубу, раскрыл ящик, повернул кверху дном и слегка стукнул кулачищем. Из граммофона, как обезумевшие, выскочили сотни тараканов – больших и малых – и расползлись по столу.
– Вот отчего хрипота. Тут, хозяин, от такой живности телега и та не сдвинулась бы с места. Пластинки есть?
– Были. Все перебиты в праздник, в Николу. Новых не купил ещё…
– Ну, хорошо. У меня найдётся. – Теодорович порылся в своём чемодане. Из свертка белья достал картонку. В ней – несколько пластинок и коробка иголок.
– Я вижу, весёлые вы люди! – удивился Судаков. – Пластиночки хорошо для разнообразия в пути. Послушаем, послушаем.
С хрипом и треском покрутили у граммофона ручку. Пружина упруго сопротивлялась, но когда поставили на круг пластинку, граммофон, отдыхавший с вешнего Николина дня, теперь словно обрадовался, что его освободили от назойливых насекомых и дали возможность показать себя в действии. Сначала вроде бы прокашлявшись, потом крякнув, он запел громко и речисто: «Да воскреснет бог и расточатся врази его!»
Теодорович просиял весь. Хозяин начал креститься. Судаков в недоумении от такого песнопения, вытаращив удивленные глаза на Теодоровича, сказал:
– Да вы что, гражданин?.. Нет ли чего другого, поудобнее для слуха?
– А это понимать надо! Понимать! – торжествовал Теодорович, ухватив обеими руками ящик граммофона.
Ирин-Миш хохотал, надрываясь:
– Церква! Обедня, ха-ха!..
– Добро, добро! – похвалил хозяин. – Только бы потише. Народ сбежится. На улицу слышно. – Он снял с граммофона трубу, но и без трубы, в никелированное, изогнутое горлышко, хотя и немного тише, однако разносились на всю избу слова псалма: «Яко тает воск от лица огня, тако да погибнут грешники от лица божия…»
– Ну и ну! – разводил руками вице-губернатор.
Когда псалом кончился, Теодорович нараспев повторив начало его, признался:
– Уезжая, пластиночки эти прихватил. Поняли? Мною, мною напеты эти священные слова. Ещё до революции, конечно, когда в Петербурге на Садовой была музыкальная фирма Винокурова и Синицкого. Берегу как зеницу ока!..
Он стал заводить другую пластинку. Попросил хозяина поставить на своё место трубу, ибо следующим номером будет весьма безобидная русская песня:
Гай-да тройка! Снег пушистый, Ночь морозная кругом…Афанасьева растрогал столь неожиданный концерт. Он закопошился около своего большого старинного с медными замками чемодана, достал никогда здесь не виданную и не слыханную черную с серебряными клавишами флейту, вставил мундштук и, когда кончилась пластинка, решительно и властно заявил:
– Посторонитесь, Теодорович. Дозвольте мне теперь сыграть вам одну вещь: музыка князя Львова на слова поэта Жуковского!..
И вместе с первыми звуками по раздутым щекам Афанасьева потекли крупные слезы. Он их не стыдился, не смахивал, словно и не замечал, увлеченный игрой. Теодорович уткнулся лицом в столешницу, ни на кого не глядел. Бывший вице-губернатор Иванов дрогнул, потом сжался весь, вскочил с лавки, отошёл чуть-чуть в сторону, встал и простоял до конца навытяжку, как на параде.
– Они не понимают. Они ни разу не слыхали в жизни этого, да ещё в исполнении такого инструмента и мастера, – вытирая платком лицо, дрожащим от волнения голосом проговорил Афанасьев, кивая на Судакова и хозяина.
– А я слыхал! Слыхал раз только. Я знаю это чего!.. – торопливо заговорил Ирин-Миш.
– Ну, что ты знаешь? Да, ты немолод, ты мог слышать, но едва ли!..
– Не едва ли. Не едва ли! Этакое играли у нас в Усть-Сысольске в царские дни и когда приезжал сам губернатор… – подтвердил ко всеобщему удивлению Ирин-Миш.
– Во чёрт! Помнит, помнит!..
– Что это? Монархию разводите? Царский гимн? Да?.. Нет, уж это слишком. Вы можете так доиграться, что… Нет, нет, я вам дальше не попутчик. После такого концерта я с вами не ездок, – неожиданно и решительно отмежевываясь, заявил Судаков. – До Сыктывкара я буду добираться без вас. Ну вас к чёрту!
– Я с тобой, я с тобой, – напросился Ирин-Миш. – Доедем без музыки. Нам весело без музыки. Они сами собой. Мы – тоже…
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
С ЭТОГО постоялого двора поехали порознь. Трое, ехавших по «пятьдесят восьмой», отстали. Судакову вдвоём с Ирин-Мишем было даже веселей, проще. С полуслова они понимали друг друга. На ночлегах, да и в дороге в санях и розвальнях – где как придется – Ирин-Миш готов был рассказывать сказки без конца. Ивана Корнеевича он называл теперь по-своему «Корень-Вань». Судаков не возражал.
– А ты, Корень-Вань, не дивись, – говорил Ирин-Миш, вспоминая оставленных попутчиков. – К нам много в Коми таких наехало. Куда девать? Пусть едут, у нас не тесно. Не делай вреда – живи. Спасибо скажем, хоть поп, хоть князь-генерал, хоть купец, трудись – спасибо скажем. А ты партейный?
– Да.
– То-то вижу, испугался этих. С них горсть волосья, а с тебя спросить могут: «Боже царя храни» слушал? Слушал музыку. Ничего, брат, за музыку отвечай, почему не вырвал капельдудку изо рта этого музыканта? Отвечай, ха-ха! Вот тебе и на! Не доехал до места, а уже к ответу. Могло так быть? Могло. Ладно-хорошо. Дружи со мной. Я в Сыктывкаре под каланчой живу. Своя фатера. Баба есть. Ребятишек нет. Поздно спохватились. Я тоже партейный. Пятый год кандидат. Из-за выпивки не переводят. Как думаешь, Корень-Вань, с почётной грамотой переведут в члены?
– Не ручаюсь.
– Я тоже не ручаюсь. Нынче строго. Как, по своей воле едешь?
– Конечно, по своей.
– Хорошо, хорошо. Мы таких любим. И ты Коми полюбишь. Хороша Коми-Му. Верно, хороша! Поживёшь – увидишь. Где такие реки – Сысола, Вычегда, Печора? Нет таких! Рыбы полным-полно. Уток черным-черно. Ягод в лесу: на часок выйди – полная корзина. Ружьё купи. Белок бить палкой можно. Одну убил, два рубля получи. Жить можно. А красоты всякой – глазом не охватить: леса, леса, а около Троице-Печорска кедры, орехи растут. Вот где белок! На недельку съезди и – бабе шуба готова. Не женат?
– Нет, не женат.
– Найдём невесту. Девахи коми – красотки. Белолицы-круглолицы. Поясница – две руки не охватят. Это наши. Своя порода, коми. Есть другая порода: волос черный, брюхо узкое, подбородок долгий, брови густые – это французская порода.
– То есть как так – французская?
– Очень просто. Кутузов с Наполеоном воевал. Две тыщи пленных к нам послал. Около Устьсысольска жили. Наших коми девок замуж брали. Наплодили. Селение и сейчас «Париж» зовётся. Поедем мимо – покажу. Если тебе хозяйку-работницу, бери коми-девку. Если в люди напоказ, шуры-муры, танцы-манцы, бери французскую породу, не ошибёшься.
– У тебя чья порода?
– У меня? Своя, коми. На восемь годов меня старше. Приданое было: две хороших собаки, корова, одежи два сундука. Носить не износить. Ты не задорься. Сундуки – наплевать. Человека надо. Правильно?
– Правильно…
Разговор этот мог бы продолжаться без конца. Было о чём Ирин-Мишу поговорить, а Судакову послушать. Особенно, когда речь зашла о делах житейских, о женитьбе. Но тут возница, сидевший на облучке, перестал мычать себе под нос бесконечную песню, велел им сойти с розвальней – постоять или идти вперёд, а он должен спуститься около моста на ручей, напоить лошадь.
– И я попью чистой холодянки, – надоумился Ирин-Миш. – Вода тут лесная, ключевая. Сверху промерзает, а внутри бежит-бежит по камням, буль-буль, будто разговаривает. Пойдём, Корень-Вань, послушай музыку ручья. Я всегда в этом месте пью. Ты не пей. Простудишься. Привычка надо…
Ирин-Миш сбежал с отлогого берега. Прилёг ничком на лёд, приник лицом к ручью и жадно стал пить ледяную воду. В изломах тонких, словно стеклянных льдинок, отражаясь, рябилось и без того изрядно изрытое оспой лицо, обветренное и простое, как сама жизнь Ирин-Миша. Около берега держался крепкий желтоватый лёд, узорчатый, как резьба по дереву. Только самые крайние каёмочки, тонкие, хрустящие, закрученные морозом, напоминали серебряную филигрань. А между каёмочками, шурша по камням и звеня по закраинам, стремился прозрачный, с косматыми сединами ручей.
На шестой день езды от Мурашей Судаков с Ирин-Мишем добрались до Сыктывкара – областного центра автономной области Коми. Тогда она ещё не была республикой.
Город, пожалуй, мало чем отличался от других северных, бывших уездных, городов, таких, как Грязовец, Кадников, Тотьма, где Судакову приходилось бывать.
Зимний вид Сыктывкара был неприветлив: ни зелени деревьев, ни цветущих лугов в окрестностях; бойкая сплавная судоходная Сысола под глубоким снегом. Сумрачные потёмки коротких дней и длинные ночи. Зябко и неуютно. Одно хорошо: в таких местах не трудно найти себе пристанище, кусок хлеба, крышу под небом, работу, а это для Судакова было основным.
Здесь, в Сыктывкаре, и проводил Иван Корнеевич 1930 год, так много значивший в его судьбе. С приходом нового года для Судакова началась новая жизнь – жизнь строителя.
Из жизни взятое (рассказы и очерки)
ТУРКА Рассказ-быль
Ничего в этом странного нет, что я Алёху Турку вспомнил во время перелёта из Каира в Дамаск. Мы, группа советских туристов, летели тогда на устаревшем четырехмоторном самолете сирийской компании. Моторы гудели с неистовой силой. Разговаривать было невозможно, и все наши туристы и чужестранцы сидели молча. И хотя было темно, но мы могли разглядеть и Суэцкий канал с проходящими по нему кораблями, и освещенный огнями Порт-Саид.
В эти быстролётные минуты я подумал: «Вот был я когда-то деревенским парнишкой, батраком, подпаском, бурлаком и прочее, прочее, учился в школе „закону божьему“, читал об этих библейских египетских „палестинах“, и никогда мне в голову не приходило, что случится побывать где-то в тех неведомых местах, которые в детстве казались, действительно, сказочными…
Интересно бы знать, когда, в какие времена и кому из моих вологодских земляков удалось побывать здесь?..»
И я вспомнил, что во время войны с турками русский военный флот в 1772 году бомбардировал и захватил Бейрут. Среди матросов, конечно, были тогда и мои вологодские земляки.
А когда я увидел огни Порт-Саида, вдруг как-то неожиданно возник в моей памяти односельчанин мой Алексей Турка. Такова была его уличная кличка, а по паспорту и по оброчной книжке он назывался Алексей Александрович Паничев.
От этого Алексея, неграмотного деревенского мужика, участника русско-японской войны, мне много раз приходилось слышать рассказы о том, как после «замирения» русские солдаты возвращались с Дальнего Востока на кораблях чуть ли не вокруг света. Помню, Алексей в своих рассказах упоминал города Порт-Артур, Сингапур, Порт-Саид и еще Одессу. Одессу, где они вышли на свою землю, он называл по-особенному, ласково и нежно: «Адеста».
Порт-Саид он хорошо запомнил потому, что там к ним на корабль грузили для питания солдат живой скот, и одна животина – не то бык, не то корова – оборвалась с погрузочной площадки в море. Зацепили и вытащили её, по словам Алексея, «индейцы», умевшие хорошо нырять в прозрачной морской глубине. Надо полагать, это были не индейцы, а арабы, но Алексей Турка большой разницы между ними не видел.
Самолет гудел в вечерней темноте над побережьем, где виднелись огни селений Израйля и Ливана, а я отвлёкся и думал только, вспоминая об Алёхе Турке, давшем в своё время «толчок» моему юношескому сознанию, напутствие в жизнь…
Пусть приближается, пусть летит по своей воздушной трассе самолет к Дамаску, а я, пристегнутый ремнем к мягкому креслу, закрыв глаза, вспоминаю в этот час о простом, невыдуманном человеке. Его нет среди живых. Он умер от тифа в 1919 году, будучи председателем комитета бедноты. Сорок с лишним лет отделяют меня от живого Турки, но свежи и незабываемы штрихи воспоминаний о нём.
В комитете бедноты деревни Поповской Устьянской волости Кадниковского уезда, затерявшейся, а потом и совсем исчезнувшей с лица земли, я был у председателя комбеда Турки секретарем, поскольку сам комбед «ни аза в глаза» в грамоте не был искушён. Будучи селькором, я потом написал первый короткий рассказ «Комбед Турка» и поместил его в вологодской газете «Красный Север» и в «Журнале крестьянской молодежи». Дальше – больше. В книге «Деревенская повесть» комбед Турка стал прототипом одного из моих героев. И в книге «Повесть о Верещагине» Алексею Паничеву – он же Турка – отведено законное местечко, относящееся к периоду последних дней жизни знаменитого русского художника.
И бывает же так! Название египетского города Порт-Саида неожиданно заставило меня отвлечься от египетских впечатлений и вспомнить об Алексее Турке. С закрытыми глазами я припоминал далёкое прошлое. Картины детства и юности проносились и менялись в моей памяти. Сам удивляюсь, как крепко, навсегда сохранилось в моём представлении многое из жизни этого деревенского мужика, бывшего солдата, мастерового-сапожника, и, наконец, представителя бедноты и советской власти на местах.
Помню, как прощаясь со мной, умирающий от тифа Турка высохшими губами шептал:
– Японцы не убили, волки не загрызли, медведь не задавил… А вот от проклятой тифозной вши конец наступил… Не ждал и не думал, что этакая дрянь опаснее и вреднее медведя! Сколько человек умерло в нашей деревне? А в Беленицыне, Боровикове, Беркаеве… Ну-ка, Костюха, подсчитай. Не я первый умираю. Но мне от этого не легче… А ты себя, Костюха, смазывай жирнее дёгтем. Вша дёгтя боится. Ешь чеснок… Береги себя. Не нам, а вам, молодым, жить…
– Алексей, может, ты и не умрешь, осилишь… – утешал я его, высохшего, исхудалого.
– Нет, не осилить… Сверни-ка мне цигарку самосаду, да потолще. На том свете ни табачку, ни самогонки. Да и никакого того свету нету, одна тьма…
Я свернул ему цигарку. Он, не приподнимаясь, лежа на широкой лавке, выкурил, ни разу не кашлянув.
– Есть облегченье на душе, – заговорил Турка, убежденный в близости смерти. – Нет, не ожить. Ухожу… Попа не надо. Бога нет… А вот медальку достань, Костюха, с божницы да золой либо о голенище катаника почисти. Умру, брось её в гроб…
На начищенной медали заблестели слова: «Да вознесёт вас господь в своё время». Я прочел их вслух.
Турка глухо проговорил:
– Не господь, а революция, Ленин вознесёт нас… Как жаль… Не дожил до самого хорошего… А оно будет. Об этом и в Маньчжурии, и в Адесте задолго до революции слыхали мы предсказания умных людей…
На минуту он замолк, посмотрел на меня жалостно.
– Не подходи ко мне близко. Как бы и тебя зараза не ужалила… Поберегись, – сказал он, через силу выдавливая слова. – Мало, мало Турка пожил, – продолжал он о себе, как о постороннем. – Мало пожито, да много видено… И в Ново-Петергофе служил, и в Рамбове, и в Слюшине, и в Выборге. (Рамбовым и Слюшиным он называл Ориенбаум и Шлиссельбург)… И с япошкой воевал… Весь свет объехал. А тут живут люди и всю жизнь паровоза не видали…
И вдруг, приподняв голову, Алексей слабым, охрипшим голосом нараспев произнёс:
…Не успел нам Стессель речь проговорить. Как защитник Порт-Артура Кондратенко Японским снарядом был убит…Теперь я сожалею, что не запомнил и не переписал целиком любимую Туркину песню. Став взрослым, я нигде – ни в фольклорных сборниках, ни в песенниках, обильно выходивших в изданиях И.Д. Сытина, этой горестной солдатской баллады не встречал.
Последние слова песни Турка дотянул кое-как, полушёпотом и, тяжело переводя дыхание, вымолвил:
– Вот как… Скажи соседям: Турка с песней умирает…
Я отвернулся и смахнул рукавом слёзы. Жалко мне его было.
Крепко и долго, всю жизнь, держатся в памяти события, происшедшие в далеко ушедшие в прошлое юные годы. Запоминаются и люди. Не все: одни промелькнули и исчезли, запомнились наиболее яркие, отличающиеся самобытностью. Не ханжествующие богопоклонники, не хандрящие сеятели уныния и скуки, не скопидомы и стяжатели, запомнились живые, энергичные борцы за жизнь, несколько даже дерзкие, своевольные, с причудами, как Турка. Мои детские и юношеские симпатии были на стороне этих людей. Да и теперь остались.
Как-то я пытался вскоре после смерти Алексея Паничева выяснить: почему его звали Туркой. В деревне Поповской многих кликали прозвищами: Петух, Додон, Обабок, Бухало, Сухарь, Гоголёк, Свистулька… Меня эти прозвища не интересовали, как и сами их носители – обычные, ничем не примечательные соседи. Другое дело – Турка! Он был человек весёлый, «разбитной», озорной, неунывающий, а главное – бывалый.
Мой опекун и хозяин Михайло объяснял:
– Турка, так Турка и есть. Хрен знает, почему его так окрестили? Пожалуй, вот почему: родился он в тот год, когда война с турками кончилась. Поп спросил Алехина отца, какое имя дать ребенку, а отец и бухнул: «Хоть Туркой назови, не все ли равно. У нас в деревне мало кого поимённо зовут, всех по прозвищам…» Хорошо ещё поп был добросовестный: не назвал Турку при крещении Иродом или Мардарием, а дал имя Алексей… Но Туркой он так и остался до самой смерти…
Повторяю, что всё это я вспомнил как-то совершенно случайно, неожиданно для себя, благодаря Порт-Саиду, промелькнувшему в вечерней мгле под крылом самолета.
Турка бывал в Египте!.. Отсюда начались и продолжились воспоминания тех штрихов из жизни Турки, которые не вошли в мои повести…
В Дамаске на аэродроме встретили нас ночью очень приветливо. Устроили в центре города в гостиницу Гранд-Отель. Ни яркие огни торгашеской рекламы, ни шум речки Барада, бурлившей под окнами гостиницы, – ничто не привлекало меня в эти ночные часы. Турка почти до утра занял моё внимание.
Я лежал при свете лампы, вспоминал и бегло записывал о Турке куски воспоминаний…
С чего, с какого времени стал я его помнить?
Наверно, мне было три-четыре года. Тогда ещё были живы мои отец и мать (лишился я их, будучи шестилетним). Смутно помню разговоры:
– Солдат вернулся…
– Турка приехал…
А турок и японцев мне тетка Клавдя показывала на картинках. Турки были горбоносые, противные. Японцы – желтолицые и тоже противные. Хорошими были только Аника-воин и Скобелев – оба верхом с саблями на сивых лошадях…
Отец пригласил Турку в гости.
На столе – самовар, яичница, бутылка водки. Я смотрел на турок, что на картинке, и на живого Турку. Ничего общего. Разочарование! Наш деревенский Турка человек как человек: на голове фуражка плохонькая, выцветшая, а не красная шапка, с кистью, как у настоящих турок.
Но уже с этой первой встречи наш Турка полюбился мне за то, что все свои «богатые» трофеи он подарил мне. Пеструю раковину… Приложишь к уху – шумит. Это из Порт-Саида!.. Скорлупу от кокосового ореха… А орех величиной с кошачью голову!
Скорлупой все восхищались, отец мой особенно:
– Живут же люди! Растут вот какие оказии… Снимай, ешь… Ни пахать, ни сеять не надо!..
Ещё Турка подарил мне целую обойму стреляных гильз, и, кажется, тогда счастливее меня на свете не было никого.
Когда умерли мои родители, Турка не мог меня взять к себе на воспитание. Он промышлял, ходил на заработки. Но когда возвращался – был со мною добрее и жалостливее опекуна. От Турки мне перепадали семечки, леденцы, баранки, пряники-сусленики.
Хмурый и жадный опекун Михайло ворчал на Турку:
– Не приноси более. Избалуешь парня. Репу, горох можно, а сласти ни к чему. Воспрешшаю! Парнишка – сирота, мне обществом доверен…
Годы моего учения в церковноприходской школе совпали с круглыми юбилейными датами. В 1911 году отмечалось пятидесятилетие реформы. В феврале в Усть-Кубенском местные торгаши открывали памятник Александру Второму. Турка стоял впереди толпы, поблёскивая медной медалью, пристегнутой к полушубку. Был молебен, была музыка, и были пьяные…
В следующем году – столетие со времени изгнания Наполеона. Попечитель привёз гостинцы, и каждому школьнику по две книжки. В одной – картинки, как я узнал позднее, верещагинские: Наполеон сквозь огонь пробивается из Кремля; лошади стоят в церкви – французы сдирают ризы с икон…
А через год опять юбилей, опять подарки к трехсотлетию династии Романовых. Новенькими медалями обзавелись сельские старосты, школьные попечители, попы. На медали – лик первого из Романовых – Михаила и Николая, ставшего царем последним.
В книжках была сжатая хвалебная история царей. Меня заставляли читать вслух собиравшиеся по вечерам мужики и бездомные бродяги-зимогоры. Приходил и Турка. Слушали с интересом. Я читал бойко, но не понимал, что к чему: в голове путались имена царей и цариц, и только Петр Великий выделялся и запоминался. Ещё бы! Про него и стихи такие доступные, особенно, где он лодку чинит рыбаку:
…Сам топор вот так и ходит, Так и тычет долото!..Стихи я читал восторженно. Турка радовался моей грамотности. В награду за бойкое чтение покупал мне карандаши, перья, тетради.
Жил он вдвоем с женой Анютой, по прозвищу Глуханкой. Оба неграмотные. Книжек никаких. Но бережно хранил Турка старый «Всеобщий русский календарь» за 1905 год издания И.Д. Сытина. И было много причин для того, чтобы хранить этот календарь и пользоваться им с помощью грамотеев.
Я читал и перечитывал этот календарь не раз от корки до корки. Целые страницы механически заучил и знал назубок. Много полезного узнавали деревенские слушатели из этого календаря: какие страны на земном шаре, сколько людей в городах, и сколько верст от города до города, какие, где и когда были события, как надо проценты высчитывать, как составлять прошения и жалобы, какие цари и когда царствовали, как лечить скот от болезней, все меры веса, емкости и сыпучих тел. Одним словом, из сытинского календаря можно было почерпнуть всё то, что требовалось знать непросвещенному, деревенскому жителю. А главное, привлекали Алексея Турку в календаре за этот год сведения о Дальнем Востоке, о войне с японцами, портреты генералов и павших в боях офицеров.
На вечерние деревенские сборища Турка иногда приносил календарь, сам показывал нужные страницы и просил читать вслух, для всех. И если чтение велось о событиях на Дальнем Востоке, Турка дополнял прочитанное своими словами, как участник и очевидец.
Однажды после такого чтения возник скандал, вылившийся в длительную размолвку между Туркой и моим хозяином, опекуном Михайлом.
А было так.
В календаре две страницы посвящены памяти вице-адмирала Макарова, и художника Верещагина, погибших на броненосце «Петропавловск». Соседи и нищие-зимогоры, Михайло и вся его семья, и Турка, задумчиво сидевший за сапожным верстаком, – все со вниманием слушали чтение. Михайло даже перестал стучать молотком, бросил работу. Чтение сопровождалось показом «по кругу» снимков с верещагинских картин, помещенных в календаре. Тут были некоторые изображения печальных сцен русско-турецкой войны.
Дочитывал я последние строки очерка о Верещагине в благоговейной тишине. Ни звука, кроме моего дрожащего голоса. Я чувствовал, как подступает комом к горлу горькая обида и гнетущая, тяжёлая досада по поводу гибели художника и тех убитых солдат, которых на изображении в календаре отпевают поп с кадилом и солдат, держащий священную книгу. И всё-таки, набравшись сил, преодолевая дрожь в голосе, я, что называется, на высокой ноте дочитывал последние строчки:
«…Тихо на его картинах. Тихо на поле, где лежит „забытый“ раненый, тихо на Балканских горах, где уже засыпало наполовину недвижно стоящую обледенелую фигуру часового. Тихо на братской панихиде в степи, поросшей ковылем, в котором посеяны страшные семена войны – трупы и черепа. Тихо молится священник с псаломщиком-солдатом. Ковыль легко качается, дрожит воздух, полный голубого блеска, вьется дымок из кадила. И сколько тоски в этой тишине!.. Мир праху твоему, великий художник! За мир боролся ты всю жизнь. Идее мира отдал ты свои богатые дарования, и мир не забудет тебя!..»
Я кончил читать, тяжело вздохнул и, не смея показать влажные от слёз глаза слушателям, положил календарь на верстак. Все молчали, слышались вздохи. Турка выдал себя сдержанным всхлипыванием, покачал поникшей головой и начал закручивать цигарку.
Михайло ни ко времени, ни к месту хотел разрядить обстановку шероховатой шуткой:
– Турку-то как пробрало! Слезой умылся. Вояка, а глаза бабьи, на самом мокром месте. Поди тут пойми, кого он больше пожалел: и русские наши, а для Турки и турки свои…
Никто не усмехнулся на слова Михайлы. Все сидели молча под впечатлением прочитанного. Только пастух Николка Копыто несмело меня попросил:
– Найди-ко то место в календаре, где сказано, что можно за пятерку леворверт из Москвы выписать…
– Не надо! – покосился Турка на Копыто и, смяв цигарку, швырнул её под ноги. Резко ответил Михайле: – Дурак ты, Мишка, полная ты дурью набитая бессознательность… Не я плачу. Чувствие моё прослезилось. Оно знает, почто плачет… Я видел войну. Измену видел, и все мы видели и сердцем солдатским чуяли… Знаем, генералы хороши только на картинках… Ладно, молчу… А художника-то этого я знаю не по картинкам, не пописанному, не по-печатному. Да я у него вроде денщика ординарного служил малое время!..
– Ври больше… – перебил Михайло.
– А не для тебя я и говорю, – продолжал Турка. – Пусть они знают, соседи и эти зимогоры, крохоборы. Да, да, я прислуживал Василью Васильичу. Отличный был человек. И поговорить со мной не брезговал. И рублишко на винишко, бывало, не пожалеет. Да что ему жалеть рублишко? Денег-то у него было навалом невпроворот… Вот помню как сейчас: в Порт-Артуре стояли. Жили мы в вагоне. Ему и мне был предоставлен целый казенный вагон!.. Я ему и сторож, и уборщик, и услужающий… Да, помню, моет он однажды свою седую голову с душистым мылом, а я прохладным кипяточком поливаю ему из чайника. Вытерся, стал одеваться и говорит: «Ты, Алёша, оставайся здесь, а я на корабль пойду. Гляди за вагоном и веди трезвость в образе жизни…» И ещё говорит: «Ну-ка, Алеша, подай мне подпоясать ремень, достань с полки». Полез я за ремнем. Нет ремня, а есть какой-то патронташ вроде. «Это?» – спрашиваю. «Это, – отвечает он и смеётся, – не урони, говорит, Алёша, не рассыпли…» А я, – будь ты, Михайло, проклят, если хоть слово совру, не удержал эту опояску и обронил на пол. Чую, зазвенело. Ну, думаю, пропал, лишусь хорошей службы. А Василий Васильич, хоть бы что, встал со мной рядом на колени и стал собирать с полу золотые монетки да складывать в этот ремень… Вот где, думаю, барин золото хранит. И куда, думаю, ему столько?! Для близиру скажу: на эти деньги можно бы в нашей деревне два дома построить такие, как у Афоньки Пронина…
Соседи загудели:
– Вот эта да!
– Не служба была, а службица.
– Так-то бы и всякий воевал…
– Живи себе, не тужи, тарелки лижи да золото с полу подбирай…
– Да жди, когда от япошки по шее попадёт, – добавил к суждениям соседей и зимогоров Михайло, стремясь уязвить Алексея. – И ты этим золотишком поживился малость? Кое-что перепало? Ведь барин-то твой потонул вместе с кораблем…
– Ремень с деньгами он опоясал на себя…
– Понятно, отчего слеза тебя прошибла… Жаль золотишка… Эко несчастье… А ведь, поди-ка, не опростоволосился?..
Тут Турка не вытерпел, привскочил с табуретки со сжатыми кулаками, затрясся, глаза навыкате зажглись яростью.
– Да как ты смеешь?! Да я тебе морду расквашу! Ты меня за вора считаешь? Ты светлую память доброго Василья Васильича затемняешь. Да я тебя за это огорчение…
Турка не договорил свою отповедь, так как Михайло поднялся с места и, готовясь к обороне, схватил увесистый деревянный стамик, которым оправляют голенища. Но стамик не понадобился. Турка не с размаху, а как-то снизу, ловко поддел кулаком под подбородок Михайле. Тот хлюпнулся на табуретку так, что табуретка развалилась, и Михайло, присев на её обломки, стал сплевывать кровь. Турка, нахлобучив шапку, сказал, уходя:
– Мне в этом доме делать нечего!..
Я с Туркиным календарём кинулся в угол под полати, от греха подальше. Тетка Клавдя совала в руки Михайле вышитый рукотёрник.
– На-ко, божатко,[1] утрись. Эдак он тебя, вертоголовый, хрястнул. Зубы-то целы?
– Кажись, целы. – Михайло шевельнул языком. – Только пошатываются. Ну, он, басурман, узнает ещё меня…
Соседи расходились молча, не разжигая болтовней страсть к расплате. Только Копыто, невоздержанный на язык, оценил Туркин удар по достоинству:
– Ничего себе! Он тебя крепенько святым кулаком по грешной морде засветил. Гляньте, люди добрые, от башки до табуретки вдоль по Мишкиной спине щель прошла. Эх, Мишка, Мишка, мало у тебя умишка. Не серчай на Турку. Сам ты его разгорячил, дурья твоя голова… И в сам деле: Турка – порядочный. А живописец-то каков! В календаре пропечатан. Такой господин в денщики себе дурня-прощелыгу не примет. И это надо понимать…
Соседи ушли, остались в избе у Михайлы домочадцы да зимогоры-ночлежники.
– Эдак вечер-то испортили. Худо получилось… – ворчал Копыто. И, обратясь ко мне, предложил ещё почитать о тех местах на земном шаре, где живут самые дикие люди.
Михайло, скривив рот, сплевывая кровь, съязвил:
– Едва ли, Копыто, дикастее тебя, голопупого, есть кто на земле…
– Ну, вот видишь, ты и меня задеваешь. Не обижайся на Турку. Ты его, как острым ножом, глупым словом чирикнул по самому сердцу.
– Больно уж ты и он капризны, – ответил Михайло. – Не по чину пялите на себя овчину…
– А ты не строй из себя дурачину, – подсёк его Копыто. Думаешь, Турка беднее тебя, а я пастух, так у нас и души нет?.. Напрасно! Все люди от пастуха до царя одинаковым способом на свет произошли, от обезьяны, – философически закончил Копыто и, распахнув рубаху, показал густо заросшую волосами грудь.
Турка не заходил к Михайле. Михайло не заглядывал к Турке. При встрече хмурились, не здоровались, но и не огрызались. В поле на полосах, в сенокос на пустотных кулигах старались держаться друг от друга подальше, чтоб «греха не вышло».
Пастух Копыто хотел их примирить. Турка не против, но Михайло отказался наотрез, предъявив «ультиматум».
– Пока я ему не съезжу по роже – не помирюсь. Жду только случая…
От Турки Копыто по этому поводу в ответ Михайле услышал четко сформулированную, краткую, не совсем дипломатическую «ноту»:
– Скажи ему, скряге обветшалому, что если он меня заденет за сердце, я из него кишки выдавлю вместе с дерьмом и сожрать заставлю…
Ради прощупывания обстановки и с целью наладить добрососедские отношения, заходила к Михайле в избу Анюта Глуханка – Туркина супруга. Придёт, покрестится на иконы больше чем следует, отвесит поклон всем вообще, хозяину в частности и начинает разговор издалека:
– Погодка хорошая, рожь сухая. Ныне намолотили шесть мешков – мне не под силу. Олёша с гумна все перетаскал. Надо бы на мельницу. Михайло, дай лошадку, на мельницу съездить…
– Лошадку? На мельницу?.. Запряги своего Турку…
Копыто, чтобы задобрить Михайлу, весело добавлял к ходатайству Анюты:
– Турка – не бурка, далеко на нём не ускачешь. Дай, Михайло, не жалей бурку, пожалей Турку.
– Нет уж, благодарю покорно. Пусть на себе таскает, а я ничегошеньки ему не дам и к нему – ни ногой.
Михайло был жаден и злопамятен. И всё-таки конец вражде наступил. Разрядка произошла на основе взаимного понимания…
И Турке, и Михайле надоело сердиться друг на друга, тем более, что они соседи-однодеревенцы и общих точек соприкосновения видимо-невидимо. Разрядить гнетущую обстановку пришел к Михайле Турка с бутылкой в кармане. Я тачал сапоги и помню, как сейчас, происшедшую сцену между двумя, казалось, непримиримыми сторонами. Турка, войдя, поздоровался, Михайло покосился – не ответил. Турка сел на табуретку, понурив голову, сказал:
– Михайло, хватит нам дурить. Я пришел мириться, вот!.. – и выставил из кармана бутылку на верстак.
Михайло крякнул и, не говоря ни слова, неуклюже размахнулся, ударил Турку по щеке. Удар был не особенно хлесткий, однако Турка сковырнулся с табуретки. Разъярённый Михайло схватил табуретку и изо всей силы швырнул её на пол. Этот удар был крепче, табуретка разлетелась в щепки. Турка быстро вскочи.
– Ещё заденешь?
– Нет, квиты… – прохрипел в ответ Михайло.
Кривая тетка Клавдя, охая и уговаривая: «Ой, что вы, бесы разнесчастные, делаете», – крутилась около верстака, убирала сапожные ножи и куда-то их прятала.
– Квиты, – повторил Михайло и переставил Туркину бутылку с верстака на стол.
Распивая «монопольку» и закусывая солёными рыжиками, два соседа выясняли причины длительной размолвки и устанавливали между собою мир на будущее.
– Пошто ты меня хлестнул тогда? Я бы тебя первый не задел, – обратился Михайло с упрёком к Турке.
– Как не задел? Ты мне душу потревожил! Ты по себе судил обо мне… Ты память хорошего человека, моего благодетеля Василья Васильича охамил… А он был из тех, которые сами обид не терпят и за обиженных заступаются. Вот и я за его светлую память заступился. И знай, никогда ты не задевай мою душу…
Что понимал Турка под словом «душа» – он не определил при «замирении» с Михайлом, но надо полагать, что в это понятие у него входили все признанные им человеческие достоинства: совесть, честь, благородство поступков, полная добропорядочность, исключая самозащиту и нападение в нужный момент, оправданные требованиями свободолюбивой души.
– Так и ты бы меня взял за душу, зачем же по морде?..
– Эх, Михайло, разве бывает душа у таких, как ты?
– А что?
– Не душа, а кошелёк с мелочью и дурость. Не обижайся: тебя Василий Васильевич не пустил бы к себе в услужающие, не доверил бы… раскусил бы с одного взгляда. Ладно. Не будем раздор учинять. Наливай по второй…
Михайло, прожевывая рыжики, спросил:
– А чего ты делал у того барина?.. Небось, не переработал, мозолей не натер?
– Само собой, какие мозоли! Уборку в вагоне производил. Чайничек согревал. Яишенку с жареным луком он очень обожал. И это делал, и письма относил, и телеграммы, и за винцом бегал, если кто из господ офицеров к нему заходил. Сам он не охотник был до хмельного. Всё чего-то писал да малевал… Иногда рассказывал, где бывал да что видал… Погиб, и тело не нашли…
– И золотишко утопло? – поспешил опросить Михайло.
– Ну, что с тобой разговаривать?.. Верещагин и Макаров – это были такие человеки, каких на золото не купишь и не разменяешь. Трудно с тобой разговаривать. А помириться надо. Правду сказано: худой мир лучше доброй драки…
Мир между ними продолжался не очень долго, до восемнадцатою года.
Турку выбрали председателем комитета бедноты. Силою власти, данной комбедам декретом Ленина, Турка основательно ущипнул Михайлу. И скоро оба умерли. Турка от свирепого тифа, Михайло по другой причине. Для таких скопидомов, как Михайло, появились «болезни», именуемые «реквизициями» и «конфискациями». Порочное сердце Михайлы не выдержало. Похоронили соседей в разных местах: Турку в отдалении, на том месте, где лежат «без исповедания скончавшиеся», Михайла – на почетном месте около церкви святых апостолов Петра и Павла.
Недавно я был в тех местах. Церковь превратилась… в баню. На могиле Михайлы сложены поленницы осиновых дров. А там, где был похоронен Турка, ныне, после ликвидации кладбища, возник общественный огород – растет картошка и цветёт яркий мак.
Год за годом быстро идёт жизнь своим чередом. И когда я стал писать о пережитом, не мог обойтись без воспоминаний о Турке, да и Михайле отвелось в «Деревенской повести» местечко.
* * *
Позднее возникла мысль и явилась, по велению сердца, потребность написать книгу о художнике Верещагине. Много времени ушло на подготовительную работу, на собирание материалов. Не об этом сейчас речь. А о том, что, собирая материал о Верещагине и беседуя со знающими его людьми, мне довелось снова вспомнить об Алексее Паничеве и убедиться в достоверности его рассказов о знаменитом художнике.
В Ленинграде на Пушкинской улице проживает старушка Мария Александровна Верещагина. Годы её – на девятый десяток. Она вдова, была замужем за племянником знаменитого художника. В начале нынешнего века жила с мужем в Ляояне, видела Василия Васильевича за несколько дней до его гибели. Она рассказала мне, между прочим, о том самом поясном ремне, приспособленном Верещагиным для хранения золотых монет…
Написал я всё вышеизложенное и подумал: «Что же получилось? Рассказ о Турке или беседа о том, какие иногда до появления книг возникают мысли – первоисточники и первопричины. Пусть то и другое. Не претендую на законы стройности».
У меня в авторской практике такой порядок: сначала, предварительно, изучаю материал и влюбляюсь в своего героя – затем пишу. Так заведено. Пусть это герои современные, пусть деятели далёкого прошлого – такие, как художник Верещагин, скульптор Шубин или архитектор Воронихин. Писал я о них любя, не в упрёк прошлому, а чтобы в настоящем люди не забывали об этих деятелях искусства… А также и о таких людях, как Алексей Турка.
БЫЛА БЫ Я ВОЛШЕБНИЦА… Рассказ-быль
Вычитал я в газете: «…На последней выставке кружевных изделий изяществом и виртуозностью рисунка, совершенным мастерством отличались кружева кустарки-художницы Е. И. Кабачковой. Несмотря на свой почти преклонный возраст, Еликонида Ивановна считается лучшей мастерицей. Произведения её вызывали похвалу на международных выставках в Брюсселе и Париже…»
Прочитав об этом, я вспомнил своё далёкое детство, Кадниковский уезд и Устьянскую волость. В нашей волости с давних пор крепостного права подвизались тысячи кустарок-кружевниц. С малых лет и до потери зрения в глубокой старости трудились они в свободное от полевых работ время. В долгие зимние вечера с пяльцами собирались девчата в одну избу, бабы отдельно – в другую. И не скучно им было от всяких разговоров, от песен старинных протяжных и частушек-коротушек.
– Веселье делу не помеха, – говорили они. – Язык без костей, пусть он резвится как хочет, а руки делают своё дело…
Творческая работа требовала умения и одарённости. И такая работа кружевниц-художниц была и есть увлекательна, хотя и утомительна.
Утомление заглушалось песнями. Так бывало встарь, да и нынче песне почётное место в артельных мастерских. Сколько частушек приходилось мне слышать от кружевниц, сколько их сохранилось в памяти!..
Спустя добрых полвека я вспоминаю девичьи «посиделки»… Широкие лавки заняты кружевницами вплотную. Перед каждой, на пяльцах туго набитые мякиной белоснежные подушки. С подушек свисают на тонких ниточках коклюшки. А как ловко, потрескивая, припрыгивают коклюшки в умелых руках девичьих! И, кажется, сам чёрт не поймет, почему получается столь причудливое прекрасное хитросплетение. У одной кружевницы – длинная прошва, у другой – кружевная накидка, у третьей – шёлковая шаль, предметы зависти городских модниц, предметы украшения быта заботливых и аккуратных молодых и старых хозяек. Творческий труд вологодских кружевниц издавна в почёте. Как сейчас помню, жила у нас в деревне девушка. Звали её Велинка. Была она родом не из нашей Попихи, а из соседней деревни, из бедной семьи. Да к тому же несчастье случилось, – где тонко, там и рвётся, – сгорела у велинкиных родителей изба от «божьей милости», а вернее, от того, что у них в деревне не было громоотвода. Погорельцы пошли по миру за подаяниями, а Велинка – в батрачки к Михайле, который опекал меня сироту.
Велинка по хозяйству – на все руки: и скот обрядить, и на гумне молотить, и косить, и жать, и за дровами в лес – ни в чем любому мужику не уступала. В свободные часы хозяин её заставлял, да и она своим долгом почитала, плести кружева на продажу. И за все многотрудные дела и художества Михайло платил ей в год при готовых хозяйских скудных харчах шестнадцать рублей и в придачу давал полусапожки…
Я учился тогда в церковноприходской школе, а Велинке было восемнадцать лет. В моём понимании она была красивой, приветливой и доброй. Взрослым ребятам нравились её голубые озорные глаза с искринками. А такой густой и тяжелой русой косы, как у Велинки, ни у кого из наших девчат не было. Две Михайловы дочери от зависти пыхтели, глядя на Велинкину свисавшую до поясницы косу.
Михайло ехидно насмехался иногда:
– Зачем такая косища? Ну, кобыле хвост, понятно, богом предусмотрен, от всякого шмеля отмахиваться. А ты что, думаешь жениха приманить такой красотой? Иному, резкому на руку, такая коса на две драки – с корнем выхватит.
– Кто кому ещё выхватит, – спокойно принимая шутку, возражала Велинка.
Обладала Велинка приятным голосом. Частушек она знала «полный мешок до самых завязок» и пела их по-разному: девичьи, печальные – на один лад, весёлые, задорные – на другой, а ребячьи коротушки – ещё по-иному. Как и другие девчата, она любила и сама складывать и под настроение пропевать частушки любовные:
У меня бедовыя Четыре кофты новыя. Пятая с узорами. Гуляю с белозерами. Мне сказал король бубновый, Будто дамочке червей: — Не отдам тебя, Велинка, За три тысячи рублей. Ой, когда-то было время: Целовал меня он в темя. А тепереча в уста. Что ж, целуй, пожалуйста!..Запомнилась мне эта Велинка на всю жизнь.
Велинка? А как её настоящее имя? Да, помню, она называла себя Великонидой. Но есть ли вообще такое женское имя? Усомнился я и недавно заглянул в старый сытинский календарь. В алфавите женских имён нашел Еликониду, а Великониды не оказалось…
Так не о Велинке ли газетная заметка? И решил я написать письмо на имя Еликониды Кабачковой и спросить, не та ли она самая Велинка, которую я знал в детские годы. И добавил в конце письма, что, если она даже грамоте не обучилась, то пусть попросит кого-либо ответить мне, а если доведётся побывать в Ленинграде, то добро пожаловать ко мне в гости…
Ответное письмо получил я через неделю.
«Костенькин Иванович, как я рада, что вы вспомнили обо мне. Вот ведь, газета помогла найти меня. И как ты догадался? А я-то слыхала о вас и книжки твои читывала, но не смела написать занятому человеку. Ну, раз такое дело, то получай и мой полный ответ на Ваше письмо…» – так сбивчиво, на «ты» и «вы» начиналось письмо Еликониды Кабачковой. Дальше она сообщала мне, что жива-здорова, но мужа «потеряла» в войну, а дочку вырастила, выучила, и стала её дочь кандидатом геологических наук и «вышла замуж в Сибирь» за инженера… А она, Еликонида, живет славно, зрение не притупилось, плетёт кружева в артели да ещё обучает этому делу девчат. И похвальные грамоты имеет. А о пенсии пока не беспокоится.
Впрочем, о пенсии буквально сказано в письме следующее: «Совестно мне хлопотать, коль руки не трясутся и коклюшки в пальцах не путаются, а знают своё место. Хоть мне трехгодовалого быка за хвост и не удержать, как говорил однажды Никита Сергеевич о тех пенсионерах, у которых силы ещё много, а совести недохватка, но у меня ещё умение не иссякло, и совесть не потеряна, и на здоровье обиды нет. Нынче, десятого июня, мне шестьдесят шесть годов минуло. Кормлюсь хоть и не харчисто, а работаю чисто. Будет потеплее, – зимой мне не собраться, – соберусь в Ленинград, и вот уже тогда обо всем наговоримся и друг на друга наглядимся… Да, не беспокойся, грамоте я давным-давно обучилась и две газеты и „Крестьянку“ с приложением выкроек выписываю. И в райбиблиотеке на активном счету значусь. Да я и в Ленинград к вам приеду, так все музеи и достопримечательности обегаю и тебе и семье вашей много-то не помешаю. Заранее прошу – пришли путеводитель по Ленинграду…»
* * *
Я, конечно, путеводитель выслал и повторил приглашение в гости.
Ожидая Велинку в Ленинград, я стал вспоминать своё сиротское детство, строгого, с диковатой придурью опекуна Михайлу, его многочисленную работящую семью и работницу Велинку… Из семьи Михайлы остались в живых только две престарелые дочери и сколько-то внучат, да ещё больше правнуков. Как-то, перебирая в памяти всякие мелочи давних дней, я вспомнил один, на всю жизнь возмутивший меня случай. Было это в девятьсот четырнадцатом году, незадолго до начала сенокоса. Мы с Велинкой, держась за деревянные рукоятки, крутили тяжёлое точило, а хозяин Михайло – сивая борода вьюном – восседал над точилом, как Саваоф на божественном троне. Волосы у него седые, подвязаны узким ремешком. Кумачовая рубаха нараспашку, и древний литой медный крест на гайтане, покачиваясь, свисал над его выпученным брюхом. Синие портки у Михайлы засучены до колен. На волосатых ногах следы от каких-то чирьевых болячек. Был он хмур, неразговорчив. Сосредоточенно и сильно нажимал жиловатыми ручищами на косу, отчего нам с Велинкой приходилось нелегко крутить и без того тяжёлое точильное колесо. Десяток кос-горбуш с кривыми рукоятками готовил Михайло к сенокосу: оттачивал остро, чтобы косили, как брили, под самый корешок. Последнюю новую косу точил для Велинки.
– Ну и коса будет! – восхищался Михайло, – не коса, а змей! Сталь с просинью. Самая лучшая коса кондратовских мастеров… И пойдёшь ты у меня, Велинка, с такой косой впереди всех по прокосу, а мы за тобой, как журавли косяком, и не угонимся. Ах, какая коса!.. А ну, ещё покрутите, надо с обеих сторон носочек выровнять… А теперь сходи-ка, Велинка, в загороду и попробуй на свежей траве, какова коса…
Велинка взяла косу и побежала в загороду на цветистый, усеянный ромашками луг. Михайло достал из-за гашника кисет с махоркой, устроил передышку. И не успел он докурить цигарку, как опечаленная, с заплаканными глазами, медленно и робко переступая, прибрела Велинка обратно. В руках она держала два обломка косы. Упругая сталь наскочила в траве на камешек, не выдержала и переломилась. Велинка шла и, на ходу приставляя обломок к переломленному месту, голосила слёзно и напевно:
– Была бы я волшебница… Сказала бы: «Срастись коса». И дела только… Ужели спаять нельзя?..
Михайло швырнул окурок в корыто и набросился с руганью на Велинку:
– Что, дьявол? Куда глядела! Коса-то наточеная – рубля дороже! – и начал разносить Велинку непотребными словами. Глаза у Михайлы вспыхнули таким зловещим, злющим, зелёным блеском, что даже у меня, ни в чём неповинного, от испуга закостенел язык.
Велинка стояла около точила, склонив голову и утирая кулаком слёзы.
– Была бы я волшебница… – твердила она, отвернувшись, будто не находя других слов, – закляла бы я эту беду…
– Я покажу тебе колдунью! Ишь, ведьма, чего захотела! Косу-то какую нарушила… Ну, и я тебе за это «добро» отплачу…
Несчастная Велинка и я, свидетель этого происшествия, никак не ожидали от озверевшего Михайлы столь дикой и глупой выходки. Он изловчился, ухватил сзади Велинку за ее роскошную золотистую и ладно сплетённую косу, обвил вокруг заскорузлого кулака и обломком косы провёл почти у самого затылка вскрикнувшей и рванувшейся Велинки.
– Вот тебе коса за косу! – у Михайлы в руке оказалась Велинкина красота. Он взмахнул отрезанной косой, развеял её и бросил под ноги, Велинка захлебнулась в слезах. Я как мог утешал её:
– Пожалуйся десятскому либо уряднику, найдут управу на Михайлу…
Едва ли Велинка слышала мои слова. Да и услышав, едва ли стала бы кому-то жаловаться на самодура-хозяина. На крик прибежала кривая Клавдя – сестра Михайлы. И та завопила, не притворяясь:
– Что ты, окаянный, наделал? Мог бы за сломанную косу и высчитать, а не нарушать волосьё у девки…
– Уходи, кривая! Завтра сенокос. Вот и погорячился малость. Ей же на пользу. Без волосьев-то не захочет по воскресениям разгуливать…
Помню, после этого случая не зажилась Велинка у Михайлы. Ушла от него и ходила по окрестным деревням в поденщину косить и жать, молотить и на всякие другие работы. И не до гулянок ей – пока коса не выросла.
* * *
…Был у Велинки ухажер-кавалер Панко Бобылёв. Сапожник, не тихоня. Началась в ту пору война с немцами. «Рекрутился» парень, гулял шумно и невоздержанно. Водки не было, а от самогонки и политуры не просыхал. До отправки с новобранцами повстречался Панко с Велинкой. Отошли от гуляющих подальше в сторонку. Сели на бугорок, поросший кустарником, осмотрелись кругом и, как умели, стали целоваться. И слово за слово:
– Что тебя давно не видно? Где ты, Велинка, пропадом пропадала? Смотри, не закрути другого…
Велинка рассказала всю горестную историю, с ней происшедшую, и так расстроилась, что, пустив слезу, склонила голову на плечо своего друга и проговорила:
– Была бы я волшебница, обернулась бы я в жердь вересовую, выхлестала бы все рамы у Михайлы и самому ещё по хребту прошлась бы… Вот как он мне, гад, нагадил… Будто на сердце соли насыпал…
– Для этого, Велинка, и волшебницей не надо быть, – успокоил её Панко, крепко обнимая.
В ту августовскую ночь гуляли новобранцы по деревенским улицам. Проходили они с шумом гармонным и песенным Попихой, выстроенной в два конца в один посад. Пахучий дым от горевших лесов и торфяных болот перемежался с туманом и скрывал всякую видимость. Казалось бы, это на руку Панку Бобылёву. Но он не таился в ночи, а на виду у всей ребячьей ватаги вытащил из изгороди жердь и вымахал у Михайлы в избе все шесть окон до последнего стёклышка, а некоторые рамы вышиб с крестышами. В последнее окно Панко с размаху бросил жердь, угодив в стеклянный шкаф. Послышались вопли и звон битой посуды.
Михайло в страхе отсиделся в переднем углу под образами, не сказал ни слова и не вышел на улицу. Что возьмешь с рассерженного новобранца?.. А с улицы доносились песни. Я слышал разудалые ребячьи голоса:
Давай, товарищ, окна бить, Всё равно в солдатах быть. На Карпаты попадём, Мы и там не пропадём!.. Увезут меня в солдаты Этакого вольницу. Я запру свою Велинку На три года в горницу!..Не слышала Велинка «агрессивных» песен-коротушек. Но знала, конечно, в чьих руках была жердь… Для этого не надо быть волшебницей.
Провожала она Панка Бобылёва на устьекубенскую пристань. Не столько разговоры вела, сколько плакала. Панко у церковной ограды сидел на берестяной коробушке, курил папиросу за папиросой и посматривал в даль Кубенского озера, откуда медленно двигался густо дымивший пароход «Коммерсант». Новобранцы напоследок веселились, пели, плясали, пошатывались.
Панко грустный нехотя покидал свою Велинку.
– Не реви, дуреха. Вернусь – поженимся. Имей терпение…
– Я за тебя кажинный день молиться стану.
– Была нужда! Бога нет. Знай раз и навсегда.
Подошел урядник, рыскавший среди новобранцев. Сабля сбоку, портфель в руке.
– Ага, Бобылёв. Вас нужно допросить в смысле бития стёкол и нанесения ущерба…
Панко не дал договорить полицейскому чину. Перебивая его, спросил:
– А ты жить хочешь? Смотри, сколько людей поехало вшей кормить и кровь проливать?.. Нашему брату терять нечего…
Урядник махнул рукой, сказал:
– С подлеца взятки гладки…
– От мерзавца слышу, – сурово ответил Панко.
* * *
Вспоминались мне и другие случаи из деревенской жизни. Одного не мог вспомнить, где и когда исчезла из моего поля зрения Велинка Кабачкова. Знаю, что Бобылёв вернулся после революции и женился на другой девахе.
Не мудрено было нам с Велинкой расстаться и затеряться в эти бурные годы. И вот газетная заметка напомнила о ней.
В конце прошлого лета Еликонида Ивановна приехала в Ленинград ко мне, на Дворцовую набережную, в гости.
Ничего похожего с прежней Велинкой! Даже голос и тот изменился. У меня хорошая слуховая память: многих своих старых, знакомых узнаю не с лица, а по голосу. Еликонида преобразилась совершенно неузнаваемо.
Разумеется, она состарилась. И голос, когда-то нежный, певучий, стал грубее и более скрипучий; речь отрывистая, но довольно культурная. Чувствовалось, что жизнь не прошла вхолостую мимо Еликониды, а оставила глубокий след, запечатлелась в её сознании суетливым разнообразием и горестями, и радостями.
Сначала у нас разговор как-то не особенно вязался. Вроде бы мы прислушивались и приглядывались, искали общую нить для беседы. Нашлась эта нить в наших воспоминаниях. Я напомнил как бы шутя эпизод, что рассказан выше. Засмеялась Еликонида Ивановна:
– Ты и это помнишь? – и, видно, растревоженная память вызвала у неё сквозь смех слёзы. – Да, Костя, всякое бывало, и так говаривала: «Была бы я волшебница…» А знаешь, что скажу: меня и ныне иногда нет-нет, да волшебницей и обзовут. Сплету мудрёное по новому, невиданному рисунку кружево, сдам в артель. Девки-бабы дивуются, да так и говорят: «Опять Кабачкова чего-то наколдовала, что нам и не снилось…» Вот и твоей супруге-женушке я подарочек выплела, извини за скромность: тут только, четыре метра с четвертью. Можно и на ворот к платью, и на рукава, и на кофточку – куда угодно…
Еликонида подала развёрнутое кружево. Оно было снега белей и хрустело в руках. Посредине кружева чередовались ромбовидные фигуры, украшенные розетками. По краям острые зубцы – треугольниками.
– Да это же воронихинская решётка! – восторгаясь, заметил я сразу.
– Конечно, она самая. Ты скоро разгадал, – ответила Еликонида. – Я ведь читала твою «Повесть о Воронихине» и тебе в угоду сплела такое кружево. Рисунок с фотографии из книги перенесла на сколок. Дело не трудное… Два дня всего и потратила.
Я поблагодарил её, а жена, обрадованная подарком, обняла и поцеловала гостью.
После незатейливого угощения стала Еликонида разглядывать мою библиотеку, попросила фотоальбомы, чтобы по ним проследить мой извилистый путь. Потом она восхищалась видом из окон квартиры на Неву, на Петропавловку, на Биржу. По Неве сновали теплоходы; за буксирами тянулись плоты, баржи. На песчаном пляже у стен крепости тысячи загорающих.
– Сколько голышей нежится под солнцем? Ужели им делать нечего? – с удивлением и некоторым возмущением спрашивала Кабачкова.
Потом она долго и внимательно смотрела на соборную колокольню, словно глазами измеряла её высоту.
– Действует? – спросила она.
– Действует, но не как церковь, а как музей.
– Тем лучше. Надо побывать. Какой ты счастливый, Костенькин. В этаком весёлом месте жить да жить, работать да работать – и умирать никогда не захочется. Можно позавидовать. Исполнилась твоя детская мечта…
– Какая мечта? Я никогда и не думал, что буду жить в Ленинграде, да ещё писать книги. Случилось как-то само собой. Конечно, были стремления. Но мало ли какие стремления бывают.
– А я вот помню, как мы с тобой однажды сидели у твоих родителей на могиле. Кормили хлебными крошками галок. Тебе едва ли было десять лет… Солнышко так же вот грело. В церкви кого-то отпевали, кажется, покойного подрядчика Сашку Кулева. А наш сосед Алёха Турка, пьяненький, рыл для Сашки могилу неподалёку, выбрасывая чьи-то кости и сгнившие гробовые доски… Вот я и спросила тогда тебя, сироту, – а жалко мне тебя было, одинокого: «Как бы ты, Костюха, жить хотел, когда большим вырастешь?..» А ты прищурился, поглядел из-под козырька на церковь, на речку, на висевшие сети, что сохли на козлах у амбаров, на крашеный дом купца Коковкина и сказал: «А когда вырасту, мне бы вот такой дом, чтоб и церковь под окном, и река, и невод-бредень длиной в сто саженей. И стал бы я рыбу ловить и продавать…» «А деньги куда?» – спросила я, а ты мне на это сказал: «Э-э! Знаю куда. Перво-наперво, велосипед с блеском, как у паникадила! Ещё с блеском коньки и с винтовым зажимом на каблуке и подошве. Книг полный шкаф, и чтоб конфеты и орехи в карманах не выводились».
– Не помню, не помню, – смеясь, отмахнулся я.
– Небось, про мою косу вспомнил.
– Это другое дело. Такое не забывается.
– А ещё помню, – продолжала Еликонида, – Турка вырыл тогда могилу, подошёл к нам, подсел, глотнул водочки прямо из горлышка бутылки и подарил тебе две старинных монеты: достал он их из глазниц чьего-то черепа и песочком почистил. Ты взял монетки и разобрал слова: «Три копейки серебром». Турка ругнулся и сказал: «Какое к чёрту серебро, медяки! И живых, и мёртвых обманывают, сволочи. Не верь, Костюха, никому: хоть сам царь деньги делает, а обманывает…»
– Вот это помню. Турка любил меня. Помню эти две деньги. И помню, Турка верно говорил: «Зачем мёртвых-то обманывать? Царства небесного не было и нет. Земля, говорят, пухом. Какой к черту „пух“, песок да глина толщиной в два аршина. Когда умрем, тогда поймём, какой это „пух“…» Грубоват был Турка, но справедливый и добрый.
И припомнил я к этому разговору: обе монетки, подаренные Туркой, я проспорил тут же и проиграл Серёжке Петрушину. А спор был не великий, но, помню, принципиальный. Поспорили о том, что носит поп под рясой, портки или штаны. Я был «сторонник» порток: зачем попу летом штаны? А Сережка уверял, что у попа под рясой обыкновенные штаны с карманами. Спор мы разрешили тут же на кладбище: топ кадил около могилы, а Сережка подошёл сзади и прутышком приподнял рясу. Я оказался неправ: в смазные сапоги у попа были заправлены с напуском добротные суконные штаны. Так и пришлось мне шесть копеек медным «серебром» отдать Серёжке…
– Ну, вот видишь, ты и это вспомнил. Удивительное дело получается… – продолжала гостья. – Что было, скажем, полвека назад, я всё хорошо помню, а вчерашнее из памяти выскакивает.
– Стареем, голубушка, стареем.
– Нет, можно сказать, постарели телом, да молоды делом. Иногда и сердце сдаёт, а рассудок молод…
* * *
Загостилась у меня Еликонида Ивановна. Успела за неделю рассказать про свою жизнь всё по порядку. И о наших земляках и о деревенских происшествиях – всё, что вспомнила, рассказала. Многое узнал я от неё в эти поздние вечера, когда она, усталая, приходила после дневного брожения по городу.
Однажды она принесла две плитки шоколада и стала меня угощать. Я ей говорю: «Богата Велинка, на шоколад денег не жалеет…»
А она смеётся и руками разводит от удивления.
– Я отроду бы не купила. Да случилось так, походя заработала…
– Как это?
– Очень просто, у вас в Ленинграде всё возможно. Иду по улице Халтурина, а навстречу мне небольшая демонстрация с флагами и медными трубами, а впереди на грузовике на треноге аппарат фотографирует. С грузовика мне и кричит один: «Гражданка, будьте добры, возьмите вон то знамя, крайнее справа, и поднесите квартальчик…» Чем я ему полюбилась, не знаю. Пронесла я это знамя, похожее на хоругвь: висит на поперечной палке и две кисти внизу и слова на бархате «Мир хижинам, война дворцам». Прошли квартал с музыкой. Он и кричит с грузовика: «Отлично! Стой!..» Все остановились. Меня подманил пальцем, две шоколадки подал и спасибо сказал. Оказывается, это ради кино. Не ждала, не гадала – в киноартистки попала!..
Иногда я находил время сводить Еликониду Ивановну в музеи Ленинграда. И на такси прокатил её по главным улицам. Любо ей было видеть Ленинград впервые. А что не нравилось, осуждала:
– Сплошь камень да асфальт, асфальт да камень. Всё давит на землю, и как она, бедная, дышит под такой тяжестью городов?.. От войны ни следа не заметно – это хорошо, но хоть бы вражина проклятый снова не напал, а то всему миру беды большой не расхлебать будет.
Были мы с Еликонидой в казематах Петропавловской крепости, где томились борцы за революцию.
– Читала я «Одеты камнем» об этих застенках. А теперь своими глазами вижу, своими руками щупаю холодные стены.
В соборе под мраморными глыбами лежат кости царей и цариц. Еликонида Ивановна больше всего заинтересовалась резным иконостасом.
– Было бы время, да позволили – с этих завитушек можно бы уйму рисунков снять, а потом бы и сколков наколоть да кружев наплести. И опять бы наши девахи пускай думали, как я «наколдовала». А ведь это всё мужицкая хитрость. Мы из ниток плетём, а они – ножичком, стамесочкой из дерева. Красота-то какая!.. Мудрили славно наши старички золоторукие.
И вдруг Еликонида Ивановна увидела на одной из гробниц букеты цветов и, усмехнувшись, меня локтем слегка толкнула:
– Ужели кто из царских родственников уцелел и цветы сюда приносит? Глянь-ко сколько их!..
Но прочла надпись надгробную: «Петр Первый» – догадалась:
– Этому царю цветы полагаются. Читала я роман Алексея Толстого. Крепкий был Петр, ничего худого не скажешь. И с народом общался, и работать заставлял, и воевал, и сам никакого дела не боялся. Шведа навсегда утихомирил. И против своих сподручных, чуть что не по евонному, дубинку в ход пускал. Всю жизнь был на ногах да на колесах. Сейчас бы он посмотрел на всякую нашу технику! И до него и после таких царей не бывало… Не знаешь, скольки лет он умер?
– Кажется, в пятьдесят четыре…
– Мало пожил, да много сделал. Роскошества и льстецов не терпел… Петр Первый пять раз и у нас в Вологде бывал…
Осматривали мы однажды с Еликонидой Казанский собор. Там ныне антирелигиозный музей. Больше всего поразило мою гостью изображение Льва Толстого в аду в «Геенне огненной»:
– Вот глупее и дикастее этого не могли придумать. Нет, отцы духовные, блудники греховные, душу такого писателя никаким огнём не спалить. Дела его вековечны! А они его в ад, в огонь, в лапы сатане… Смешно? Нет. А глупей не придумать.
Возмущалась также Еликонида и с отвращением смотрела на орудия пыток в отделе инквизиции.
Из собора мы вышли к знаменитой воронихинской решётке, полукругом охватывающей сквер. На скамейках судачили пенсионеры. В колясочках отдыхали младенцы. Здесь не обошлось без шума, поднятого Еликонидой. Мы заметили, что на верхнем брусе решетки недостает многих зубцов. Я не придал бы этому значения: мало ли чего от тлетворного времени происходит. Но Еликонида Ивановна, остроглазая и наблюдательная, увидела на одном звене двух мальчишек, чем-то тяжёлым сбивающих зубцы и сбрасывающих их во двор.
– Ребята! Что вы безобразничаете! – вскрикнула Еликонида.
– Мы?.. Мы это в утиль. Эти штуковины слабо держатся, а тяжёлые. Без зубьев лазать через решетку будет удобнее.
– Слезайте сейчас же, а то милиционера позову… Вы сами не понимаете, что творите. От бомбежки решетка уцелела, а от вас страдает. Дворник, дворник! Подь сюда!..
Кабачкова со страстью шумела, вызывая дворника. Из собора вышел какой-то служащий. Ребятишек задержали. Записали адреса. Может быть, недостающие зубцы найдутся и встанут на своё место?
Любовалась Еликонида на решетку и увидела за ней большое здание с барельефом на фронтоне. Я сколько раз бывал здесь и никогда не примечал этого барельефа с изображением птицы, сидящей в гнезде с птенцами. Мало ли какие есть эмблемы на старых петербургских зданиях… И тут меня удивила наблюдательность и острая память вологодской кружевницы.
– Что находится в этом доме? – спросила она меня.
– В этот дом главный вход с Мойки. Здесь находится Педагогический институт имени Герцена…
– А не ошибаешься?
– Ни в коем случае.
– А зачем этот знак воспитательного дома?
– Такого я в Ленинграде не слыхал.
– Так послушай меня, деревенщину. Эта птица с детёнышами точь-в-точь раньше печаталась в игральных картах на бубновом тузе. А вокруг была надпись: «В пользу воспитательного дома имени императрицы Марии Фёдоровны…» Значит, здесь был воспитательный сиротский дом…
Наш разговор подслушал сидевший на скамейке щупленький, со складочками на узком лице старичок довольно интеллигентного вида. Он подбежал к нам и, торжествуя, заговорил:
– Есть ещё люди, помнят это! Да-с. Совершенно верно. Воспитательный дом. А вы, гражданка, наверно, ещё до революции здесь жили?.. И на этих хулиганчиков очень правильно вы накричали.
– Я в Ленинграде первый раз. Пятый день в гостях у своего земляка, – ответила Еликонида. – Мне просто память подсказала. Туза бубнового как не запомнить?
– Хорошая память.
– А вы из каких будете, гражданин товарищ?
– Я немножко писатель. Может, слыхали или читали – Леонид Борисов.
– Извините меня, вологодскую бабу. До нашего села не все писатели доходят. Извините, вернусь домой – в библиотеке поспрашиваю.
– Не обязательно, не обязательно. Как вам Ленинград, нравится?..
– Еще бы! Недаром – колыбель революции, недаром – город-герой…
– И город научно-технической мысли, передовых методов труда, и тэ-дэ, и тэ-пэ… – добавил к её словам писатель. – Значит, вологодская?
– Да, тамошняя.
– А звать как?
– Еликонида…
– Какое редчайшее имя! – изумился писатель. – А знаете, что оно значит? Оно в переводе значит – женщина с горы Геликона. Есть такая гора в Греции. Рад, что вы такая находчивая, памятливая… Колхозница?
– Да, и кружевница…
– Вдвойне хорошо. У меня женка тоже из вологодских, а кружев плести не умеет.
– Вы и без кружев проживёте, а я не расстанусь с этим делом, пока глаза видят.
Когда мы вышли на Невский проспект, Кабачкова поинтересовалась:
– А что, это знаменитый писатель? Неудобно, ведь я его не читала.
– Почитай, не пожалеешь…
Погостив у меня недельку, побывала Еликонида Ивановна во всех основных музеях города. В Этнографический сходила дважды. Там большая экспозиция кружевных изделий. Многое из этой выставки для пользы дела Еликонида Ивановна приметила и карандашом в тетрадь зарисовала.
– В нашем деле глаз да глаз нужен, хорошая память и рачительность, – пояснила она, показывая мне рисунки.
На вокзал она собралась за два часа до отхода поезда.
– Голубушка, зачем так рано?
– А уж так спокойнее. Лучше на два часика пораньше, чем на одну минуту опоздать, – рассудила она здраво, по-вологодски. – Накупила вот крендельков – сушки полпудика. Страсть люблю чай с кренделями…
– До свидания, милая Велинка! Всех благ тебе, дорогая землячка Еликонида Ивановна!..
ПРОНЯ-КНИГОНОША Рассказ-быль
Довелось мне ехать от Вологды до Москвы с моим земляком, известным авиаконструктором Сергеем Владимировичем Ильюшиным. Он родом с западного берега Кубенского озера. Озеро наше длинное – километров на шестьдесят, ширина в среднем до десяти километров, бурное в непогодь, рыбное во всякую пору и богато утиными стаями, особенно в начале осени. Зимой оно сплошь покрывается толстым льдом. Много раз в молодые годы случалось мне с возами и порожняком переезжать это озеро на пути в Вологду и обратно…
В купе вагона с Сергеем Владимировичем нашёлся у нас общий разговор о наших заозёрских местах, о бывших торговых людях, о лесопромышленниках и пароходовладельцах. О том, какие были до революции в деревнях свадебные обычаи, гулянья на ярмарках и на масляной неделе. Вспомнили мы также о прочитанных в детстве книгах.
В ту давнюю дореволюционную пору мы не имели понятия о библиотеках, так как их вблизи от наших деревень не было. Книги брали «напрокат» у соседей, да и сами иногда покупали у разносчика Прони-книгоноши. По фамилии его никто не называл. Она значилась в паспорте, да ещё в свидетельстве, выданном на право торговли книгами в разнос с лотка или из короба.
Это был замечательный подвижный старичок, один из тех четырех тысяч сытинских офеней пеших и конных, распространявших книгу по всей России. Потом, как известно, офени почти исчезли по приказанию Победоносцева и Каткова, нашедших, что светскую книгу, а особенно сочинения Льва Толстого, пускать в народ опасно. Однако, как редкое исключение, разносчики книг кое-где в глухих углах тогда ещё сохранились. Таким редким исключением оказался и бойкий Проня. И вот, спустя примерно полвека, мы его вспомнили и установили, что «радиус торгового охвата» этого книгоноши по деревням вокруг Кубенского озера был не менее двухсот километров.
Проня появлялся с книгами то там, то тут. Летом он носился с коробушкой за спиной. Зимой по скрипучему снегу таскал за собой салазки с большим сундуком. Дальние расстояния от Вологды, где он брал со склада книги и дешёвые картины, Проня преодолевал на попутных подводах и расплачивался за это книжками. Также книжками в деревнях Кубено-Озерья рассчитывался он за хлеб, чай, сахар и ночлеги.
Проня был небольшой грамотей, но книги знал, любил, а главное, хорошо запоминал насущную потребность в них в деревнях за Вологдой. Он знал, когда, в какой избе, кому требовались сказки и песенники, кому «жития святых», кому умные книжки русских классиков, а кому и книги о приключениях.
Из «картин» больше всего расходились «Как мыши кота хоронили» и «Страшный суд». Девкам и парням по нраву была картинка на тему украинской песни «Била жинка мужика, за чупрыну взявши». Заботливые хозяйки, чтобы отвадить своих мужей от водки, охотно покупали у Пропи картинку против алкоголя «От чего погиб Иван».
Вспоминая добрым словом Проню-книгоношу, мы с Сергеем Владимировичем стали по памяти перечислять, какие книги в ту давнюю пору довелось нам читать. Конечно, в числе их были «Бова Королевич» и «Еруслан Лазаревич», «Ермак Тимофеевич» и «Гуак», «Кощей Бессмертный» и «Портупей прапорщик», «Алёша Попович» и «Арап Петра Великого», «Солдат Яшка» и «Тарас Бульба», «Конёк-горбунок» и «Купец Иголкин», «Кот в сапогах» и «Кавказский пленник», «Христофор Колумб» и «Серафим Саровский», «Битва русских с кабардинцами» и «Похождения пошехонцев»…
Перебрали мы в своей памяти подобной литературы несколько десятков названий. Потом перешли к серьёзной, научной, образовательной литературе изданий незабвенного Ивана Дмитриевича Сытина. Мы почтительно говорили об этом издателе, прогрессивном деятеле, выходце из глухого захолустья, откуда-то из-под Солигалича. И единогласно признались друг другу в том, что начатки грамотности, благодаря издателю Сытину и его широко развернутой книжной торговле, по-хорошему отразились на дальнейшем развитии людей нашего поколения.
О многом мы, земляки, тогда переговорили. Не касались только охоты на Кубенском озере: у Сергея Владимировича три ружья и… ни одной утки.
Поздней ночью мой собеседник заснул. Я думал о нём, о его прославленных самолётах, где-нибудь и в эту ночную пору преодолевающих дальние расстояния. Как далеко он пошёл, высоко взлетел – от первых познаний из книжек Прони-офени до ученого с мировым именем авиаконструктора. Как не позавидовать доброй завистью человеку-творцу, о делах которого со временем сказки расскажут и песни споют!
Эх, Проня, Проня-книгоноша! Посмотрел бы ты, – да нет тебя давно среди живых, – посмотрел бы на любивших тебя когда-то ребятишек за твой ходовый, интересный товар и подивился бы, кем они стали, пройдя жизненный путь.
Вспоминая прошлое, я не мог заснуть до того часу, пока не перебрал в своей памяти всё до мелочей, что знал о Проне. И удивительно, что под старость легко вспоминается запечатлённое в свежей памяти детства и юношества.
…Вагон слегка покачивало, тлеющим синим огоньком светился из-под жестяного козырька фонарик-ночник. И вот что тогда мне представилось в воспоминаниях…
Проня-разносчик, книгоноша в нашей деревне да и в окрестных, повсюду был любимым и желанным. Везде его ждали грамотные и неграмотные, как ясного солнышка в ненастье. В книгах дешевых сытинских одни находили утоление жажды познаний незнаемого, другие искали развлечения, третьи опрашивали книг для «спасения души». Всем на потребу находились у Прони книги, взятые с вологодского склада на условиях кредитных-комиссионных. В отличие от нищих-зимогоров Проня не питался «христовым именем», не собирал милостыню. Он любил ребятишек и часто после удачной распродажи книг дарил им цветные карандаши, а иногда и книжки-сказки.
Помню, мне едва ли было шесть лет, когда я, безупречно веря книжному слову, наслушался, как старшие читали сказку про Емелю. После этой сказки я залезал на печь, прятался за кожух и сначала шепотом, а потом громче произносил волшебные слова: «По щучьему велению, по моему прошению развернись печь и вези меня в село за пряниками!..»
И это была не шутка. Если некоторые взрослые и в наше время верят, что пророк Иона три дня и три ночи путешествовал по морям, по волнам во чреве кита, то мне, малышу, было простительно после волшебных слов ожидать, как разверзнутся стены избы, и я всем на удивление, подобно Емеле, помчусь, лежа на печи.
Опекун-сапожник Михайло, зная мои недобрые намерения, с нарочитой серьёзностью кричал из-за верстака:
– По щучьему велению, печь, не двигайся!
Ну, и конечно, пропало мое колдовство.
Проня, прищурив глаза, хохотал до слез. А потом, поглаживая меня по голове, говорил:
– Чудачок маленький, да ведь это небылица, сказка-складка, выдумка для потехи. Подрастёшь, уразумеешь…
Ещё до поступления в церковноприходскую школу я научился бойко читать и тараторил, не признавая при чтении знаков препинания, полагая, что в этом – главное умение грамотея. Шутка ли! Я, малыш, читаю взахлёб, а неграмотные бородачи слушают меня. И за эту раннюю грамотность я благодарен Проне.
В долгие зимние вечера читал я мужикам до полного утомления и изнеможения такие книги, которых сам не понимал. И из-за чего люди насмерть дерутся, рубятся мечами, секирами, поднимают друг друга на копьях?
В какой-то книге рассказывалось, как злой татарин сел на русского богатыря и замахнулся булатным ножом, чтоб вспороть ему грудь белую, могучую. Слёзы застилали мне глаза, когда я читал такие места, но и плача, я продолжал чтение. Мужикам были смешны мои слёзы, только Проня успокаивал меня и поучал мужиков:
– Это хорошие слёзы. Поверьте мне: умной книжкой парнишка растроган. Ничего тут смешного нет. Правильно и в нужном месте он плачет. Передохни, Костюшка. Испей холодной водички и читай дальше… Не бойся, читай. Русский витязь останется жив-живёхонёк. Из-за ракитова куста прилетит калёная стрела и уложит наповал врага лютого…
В мою душу запал этот случай, как первое семя патриотизма. Потом я спрашивал Проню:
– Прокопей, а Еруслан – это русский?
– Нет.
– А Бова Королевич?
– Тоже нет.
– Ну, я этих книг не стану больше читать.
По милости доброго Прони, Илья Муромец и Ермак Тимофеевич сменили Еруслана с Бовой…
Иногда мы, ребятишки, гурьбой напрашивались книгоноше в наём:
– Дяди-и-нька Прокопей, давай мы твой сундук с книгами до любой деревни на салазках дотащим.
– Ребята, ведь тяжело…
– А мы всей оравой.
– Тащите!
Мы «впрягаемся» и – бегом по скрипучему снегу. Проня еле успевает за нами. А потом нам две-три книжки за это. Мы на морозе перелистываем их, разглядываем обложки.
– Какие занятные! Таких ещё не читали. «Руслан и Людмила»… Головища-та какая нарисована! А под ней меч-кладенец…
– А эта ещё занятней! «Евста-фий Пла-ки-да». Гляньте, у оленя крест на рогах!..
– Нет, эта священная, скушная. Она для стариков и старух…
Мы уже начинали разбираться.
В церковноприходской школе я учился в трех классах у разных учителей: один из них Анатолий Баранов, другой – Иван Маркелов, а третий – Алексей Осинкин. Проня со своим дощатым сундуком, привязанным к салазкам, приворачивал в нашу школу, стоявшую в пустоши Коровино на отшибе, в промежутке частых деревень. Учителям он привозил по их заказам пачки книг и каталоги сытинских изданий. Они расплачивались крупно, не пятачками, не как наши деревенские мужики, и угощали Проню чаем с малиновым вареньем и кренделями. Нас, малышей, удивляло, как это они, строгие-престрогие наставники, уважительно относятся к доброму простаку Проне? А он, старенький, сгорбленный от постоянной ноши книг, с полуседой невзрачной бородкой, не боялся их, разговаривал запросто, записывал, что им нужно из Вологды, и обещал исполнить…
В одну из наших школьных вёсен рядом с приходским училищем строился кооперативный маслодельный завод. В школу заходил приехавший смотреть постройку, по общему мужицкому суждению, какой-то «практикант». Школьная сторожиха согревала для него самовар, варила окуневую уху и вежливо называла и величала его «Властеслав Властеславович».
Бывал этот «практикант» и в кругу ребят – плясунов и частушечников. Отменному песеннику Арсюхе Шмакову на гулянке за пляску и песни «практикант» аплодировал и говорил: «Браво, браво!» Спустя долгие годы я узнал, что это был ссыльный, работавший в Вологде по кооперативному маслоделию Вацлав Воровский…
…В селе Устье-Кубенском был небольшой домик, принадлежавший каким-то «Кандатским», как прозвали хозяев крестьяне. Слыхал я, что, отправляясь в дальние деревни, разносчик Проня оставлял у этих «Кандатских» кипы книг, разумеется, доступного содержания. Но главное, что пришлось не раз мне слышать от местных старожилов, в этом доме до революции собиралась местная подпольная группа, возглавляемая учителем Левичевым из сельского «министерского» училища, не подчиненного попу и строгому наблюдателю.
Учитель-революционер Левичев отличился в годы гражданской войны, стал одним из видных руководителей Красной Армии, был членом Реввоенсовета и начальником штаба РККА. Его постигла та же участь, что и некоторых, ныне посмертно реабилитированных бывших военных деятелей.
Всё это мне вспомнилось как бы попутно и в какой-то связи с Проней. Он был широко известен. Но едва ли среди моих земляков-старожилов найдётся хоть один, кто бы знал его отчество и фамилию.
Бывало в избе у моего опекуна Михайлы собирались нищие-зимогоры на ночлег. Иногда человек шесть-восемь, и Проня тут же, Зимогорам место на полу, на соломе. Проне почётное место – спать на полатях. Штаны с кошельком он клал себе под голову, спал тревожно, как бы зимогоры над кошельком не «подшутили». Украдут – ищи тогда ветра в поле. А деньги не свои, товар взят в кредит. Своих-то доходов – кот наплакал… Зимогоры-ночлежники его успокаивали:
– Мы-то тебя, Проня, не обворуем, других побаивайся.
Случалось, навещал эту ночлежку урядник с десятским, проверял «виды» на право жительства и бродяжничества по Российской империи. Рылся в сундуке у Прони, внимательно каждую книжку смотрел, не найдя ничего подходящего, спрашивал:
– Запрещённых нет?
– Никак нет, господин урядник, неоткуда мне их взять.
– Дозволение на торговлю имеется?
– Так точно, вот-с разрешение от его превосходительства вице-губернатора.
– Что-то у тебя в сундуке молитвенников мало? Евангелиев нет ни одного, а все Гоголи да Пушкины, сказки, песенники, и Толстой опять же… Божие слово надо распространять. Есть указание свыше!
– Божье-то слово мы и в церкви слыхали, – заступались за Проню зимогоры.
– Нам любы такие книжки, что печатает Максим Горький. Он из нашего брата.
– Глупости! – резко возражал урядник.
– А ты почитай, будто про нас пишет.
И тут даже неграмотный зимогор Колька Копыто стал наизусть произносить начало любимого рассказа: «Одного из них звали Пляши-Нога, а другого – Уповающий; оба они были воры…» Молодец Максим! Кто про святых, а он про нашего брата правду сочиняет. Ни к чему нам божье слово. Ваше дело паспорта проверять, а писатель к нам в печенки заглядывает. Да что с тобой говорить!.. Всякая собака своего хозяина оберегает.
Урядник быстро уходил: с зимогорами ему не сговориться.
Сколько лет подвизался Проня в наших местах, сколько десятков тысяч книжек он распродал в деревнях, – не берусь об этом судить. Однако сбереженные в деревнях «Всеобщие русские календари» с портретом Александра Третьего, продавались Проней… Значит, добрых лет тридцать он был в наших местах книгоношей.
И вдруг не стало Прони. Месяц прошел, и два, и целый год. Проня не появлялся. Чей он был родом, откуда – неизвестно: то ли из костромских, то ли из грязовецких. И узнать не от кого – куда девался Проня?.. Конечно, пошли слухи:
– Умер, – говорили одни.
– Замерз на дороге под Вологдой…
– В тюрьму угодил… Запретные песни давал списывать.
– Убили и ограбили.
Потом выяснилось… Совсем не похожий на себя, Проня неожиданно приехал на пароходе в Устье-Кубинское с коробом книг. Он очень исхудал, постарел.
Люди узнали о несчастье, постигшем Проню. Как-то он пробирался в Вологду, чтобы сдать выручку и набрать для продажи книг и литографий. На дороге в ночную пору его подстерегли неизвестные грабители. От сильного удара Проня откусил кончик языка и лишился сознания. Когда очнулся, увидел, что карманы выворочены: грабители отняли у него всё до последней копейки и даже паспорт.
Более года ушло на поправку здоровья. И снова за дело. Но это был уже не тот Проня. Язык заплетался. Он не мог выговаривать слова, не мог посоветовать, кому какую книгу купить, и только молча показывал на цену, обозначенную на обложке.
Началась в четырнадцатом году война. Время было невесёлое… Книжки стали дорожать, но бойко расходились, особенно песенники и легкое чтиво с выразительными названиями: «Ни бе, ни ме, ни ку-ка-реку», «Люблю я женский пол», «Любовь мексиканки», «Двенадцать спящих дев или приключения прекрасного Иосифа». Потом появились книжки про войну: «Вильгельм в аду», «Донской казак Козьма Крючков» и другие в духе «гром победы раздавайся».
Сельская интеллигенция зачитывалась новым романом Брешко-Брешковского «В гостях у сатаны». Мужикам эта толстая книга была не по карману…
Понемногу Проня стал выговаривать однозначные цифры, вроде три, четыре, шесть. И хотя у него получалось: тли, сотыля, сесь, всё-таки его понимали.
В довершение Проня мог писать корявым неразборчивым почерком. И если письмо было деловым, он просил меня переписывать начисто. Благо у меня «похвальный лист» об окончании школы.
Помню одно из таких писем Прони в контору И.Д. Сытина. Проня в черновике писал богатому хозяину о том, что в Яренске книжный разносчик за долгие годы, благодаря Сытину, разбогател, стал купцом, и жители сделали его городским головой. «Кому какое счастье, – писал Проня, – а я вот не то, чтобы стать головой, сам чуть головы не лишился. Испортилась речь и полтора года не мог торговать книгами из-за мозгового потрясения. Был ограблен до нитки, влез в долги, и сто рублей пролечил из-за своей хвори в городе Любиме…»
В ответ на это письмо то ли из Вологды, то ли из Москвы Проня получил перевод – сто рублей «наградных»…
И с тех пор я ни разу Проню не видел. Но запомнил этого книжника-подвижника на всю жизнь.
В семнадцатом году, весной, на пасхальной неделе, он пробирался в наши кубенские деревни. Была бездорожица. В Кубене быстро прибывала вода. Вот-вот начнется ледоход. А река напротив села – полтора километра шириной.
Ледоход – самое интересное зрелище. И пока еще не начнется, люди толпятся и ждут подвижки льда.
Но вот подвижка началась… Послышались крики:
– Пошла! Пошла!
Огромная, в два километра, льдина сдвинулась, уперлась в Лебяжий остров, повернулась и застряла крепко, казалось, надолго. Кто посмелей, да отчаянней, кинулись по льдине переходить на другой берег. Первыми храбрость проявили два солдата-отпускника. Сначала они разведали и убедились в прочности льдины. Потом забежали в волостное правление за справкой. Писарь Паршутка Серёгичев отчеканил им на машинке бумажку о том, что два солдата лейб-гвардии Финляндского полка Менухов Н.И. и Толчельников А.И., участники Февральской революции, возвращаясь в Петроград из отпуска, запаздывают в свою часть по причине начавшегося ледохода…
Сотни людей, стоявших на берегу, видели, как два смельчака на всякий случай тащили по льдине лодчонку-душегубку; иногда они её спускали в разводье, терялись из виду, потом снова появлялись на большой льдине и быстро передвигались. Наконец они поднялись на высокий берег и несколько минут прощально махали платками.
Едва ли кто заметил тогда, как на той же лодчонке двое с противоположного берега пытались через половодье перебраться на застрявшую большую льдину…
С шумом и неистовой силищей лёд стал напирать с верховьев. Прибывала вода. Застрявшая льдина, подпертая течением, краем почти метровой толщины, двигаясь, стала громоздиться на сельский берег. Всё, что было охвачено разливом, льдина нещадно срывала с места и как бы шутя и походя, разрушала, принимая обломки на себя и заметая следы стихийного бедствия.
Перепуганная толпа кинулась от потрясающего зрелища подальше на берег. В одном месте, около волостного правления, льдина с треском перевернула бревенчатую избу и потащила её со всем скарбом. Хорошо, что жильцы успели перебраться повыше к соседям.
Рядом напором льда опрокинуло и понесло сарай, в котором находились рыбацкие сети и стояла за перегородкой корова…
Никто не знал, что в эти самые минуты через реку переправлялся с каким-то попутчиком и неизменным своим сундуком Проня-книгоноша…
Солдат Алексашка Толчельников вскоре написал из Петрограда, что они с товарищем доехали благополучно, никакого наказания за опоздание из-за распутицы им не было. И спрашивали о том, как добрался до Устья-Кубенского Проня? «Мы ему не советовали, – писал Толчельников, – а попутчик его уговорил за три рубля доставить…»
Проня не появлялся. Ждали его как чуда, но чудес не бывает. Исчез Проня навсегда…
Как-то спустя годы, незадолго до коллективизации, я побывал у себя на родине и был в ближней деревне от Приозерья у своих земляков. Сидели в избе у крестьянина Василья Чакина за самоваром. Пахло угарным дымком. В самоваре, спущенные на рукотёрнике, варились яйца. Курицы бродили по избе, цыплята кормились овсяной заварой из перевёрнутой, окованной железными полосами, крышки сундука. Она мне что-то показалась знакомой. Я тогда сказал Накину:
– Вот с такой крышкой когда-то был сундук у Прони книжного разносчика…
– Возможная вещь, – ответил Чакин, – я собирал плавник на дрова и нашёл её в кустах на приплёске в том году, когда началась наша власть. Ведь и Проня закатился под лед в ту весну. Славный был старик. В кажинной избе по всей окрестности он перебывал. Грамотным – книжки, неграмотным – картинки. Денег у кого нет и в долг поверит. А тело его так и не нашли. Лед, он всё перемелет, все перетрёт. Мало ли случаев бывало…
А память о Проне всё-таки не стерлась…
КРЕЙСЕР РЕВОЛЮЦИИ Очерк
1. История одного фотоснимка
Это было до революции. Я тогда воспитывался под опекой у прижимистого неграмотного сапожника. Учился в церковноприходской школе, познавал чтение, писание, арифметику и, главным образом, церковнославянскую грамоту с её молитвами, тропарями и кондаками. В воскресные дни мой хозяин-опекун выезжал в село Устье-Кубенское на сапожный торг, меня брал с собой посмотреть за лошадью и повозкой, постеречь хозяйское добро… За это мне перепадали гостинцы – дешевые пряники или обломки кренделей, которые скупой и расчетливый опекун брал не в сельских лавках, а на обратном пути в заболотной деревушке Малое Васильевское. И вся эта деревушка, вернее хуторок, состояла из двух новых, крепко сколоченных изб, принадлежавших пекарям Баскаковым. Пекарня была невесть какая, похожая на баньку, и звали ее просто «Баскаковский курень». Видимо, потому-то из неё и курился постоянно дымок, и частенько приворачивали сюда добрые люди прикорнуть от холода, покурить махорочки и покормиться горячими кренделями, а иногда и распить с пекарями косушечку.
Помню, один из братьев Баскаковых – крепкого сложения, лобастый, с подкрученными острыми усами, в белом фартуке и расстёгнутой косоворотке, – зарядившись стаканчиком монопольки, в ожидании очередной выпечки баранок становился разговорчивее и, беседуя с проезжими, рассказывал о бесславном Цусимском сражении. О том, что с японских кораблей пушки стреляли дальше наших, что корабельная броня у японских судов потолще, и вообще у нас была измена и нераспорядительность и во флоте и в пехоте, оттого нам тогда влетело, а для царя – сплошной конфуз…
Потом Баскаков пел «От павших твердынь Порт-Артура, с кровавых маньчжурских полей…» Эту песню ему подпевали проезжие мужики.
В передышке между песнями Баскаков рассказывал о далёких морских странствиях, о держимордах-офицерах, о том, как их корабль «Аврора», подбитый японским снарядом, сумел вырваться из цусимского ада и своим ходом добрался до Филиппинских островов, до города Манилы. Здесь он и встал на ремонт и долго чинился, дабы не стыдно после сражения с разбитым носом возвращаться в Россию…
– Да подождите, посидите… Сейчас я сбегаю в избу, принесу мой матросский альбом и покажу, как наш крейсер выглядел после Цусимы… – говорил он и через несколько минут возвращался в пекарню с альбомом.
В альбоме были карточки его боевых товарищей и были десятки фотографий военных кораблей – от броненосцев до канонерок и, наконец, на отдельном листе крупнее остальных прочих снимок верхней носовой части корабля с огромной пробоиной, в которую, по словам Баскакова, «матрос, не сгибаясь, пролезет».
Мужики рассматривали фотографию и, глядя на пробоину, дивились:
– Ну и силища!..
– А наши снаряды или не долетали, или, как поленья, отскакивали прочь от бортов вражеских кораблей. Беда прямо! – негодовал пекарь, ругая свое бывшее начальство. – Кое-чему мы научились у японцев, но дорогонько обошлась нам та наука… Многие наши братья-рядовички погибли. Доставалось и начальству. У нас на «Авроре» в Цусимском бою японцы убили капитана первого ранга Егорьева…
Я запомнил тот снимок: сверху на палубе стоят несколько матросов, внизу три ряда иллюминаторов, поцарапанный осколками борт, пробоина и славянскими буквами надпись: «Аврора».
– Так назывался крейсер. Его «окрестили» не в честь какой-то богини Авроры, а в память старого фрегата «Аврора», который когда-то в прежние времена отразил нападение англичан на Камчатке. Нам об этом говорили на занятиях по изучению словесности, – пояснял мужикам Баскаков.
Между тем он доставал лопатой из печи румяные, горячие, вызывавшие у всех аппетит, крендели.
– А ну, кто желает свеженьких? Шесть копеек фунт! С пылу да жару три копейки за пару!..
Запах от свежей выпечки привлекал приезжих посетителей. Появлялись «чикушечки»: ударь рукой по донышку – и пробка в потолок. Посетители просили бывшего матроса спеть что-нибудь душещипательное, заунывное. Баскаков не заставлял долго упрашивать. Изрядно подвыпивший, он, нанизывая крендели на мочало, запевал:
…В далёком Цусимском проливе, В стороне от родимой земли, На дне океана глубоком Забытые есть корабли. Там русские спят адмиралы, И дремлют матросы вокруг. У них прорастают кораллы Меж пальцев раскинутых рук…И пока лилась грустная песня о погибших моряках русских, все сидели не шелохнувшись, даже кренделей не жевали.
Кончалась песня, и сразу начинались разговоры:
– И подумать только! Дожили… Япошка побил!
– Измена! Орудия не та… Погодите, с немцем ещё и похуже будет. Эти похитрей…
В конце семнадцатого года я уже был подмастерьем у сапожников. Иногда заходил к Баскаковым. Их «курень» – пекарня не работала. О кренделях осталось одно лишь доброе воспоминание. Заходил просто так: послушать бывалого человека, полистать старые журналы с картинками, взять для чтения вслух мужикам книжки о том, как Вильгельм попал в ад, о Гришке Распутине, песенники и даже «Марсельезу» с нотами. Из политических книг была наиболее понятна и доступна «Пауки и мухи». Пачками стали приходить и большевистские газеты.
Однажды Баскаков и говорит мужикам:
– Слыхали? Наша-то «Аврора» пушечным выстрелом первая подала сигнал к мировой революции!.. Холостым стрельнула, а гром на весь свет!..
И на лице у него – светлая волнующая радость, и в голосе победное торжество. И опять он бережно, теперь как святыню, показывал слегка выцветшую фотографию – память о том, как в чужестранной далекой Маниле стояла «Аврора» в ожидании, когда бронированный «пластырь» наложат на её тело, уязвленное японскими снарядами…
* * *
…Прошло десять лет после этих памятных встреч. И вот в Ленинграде, у моста Шмидта, в 1927 году я впервые увидел «Аврору».
– Так вот она какая! Пушек-то сколько! Да если бы она в семнадцатом начала снарядами крыть по Зимнему, тогда бы временным правителям из-под обломков дворца не выкарабкаться!
Зимний дворец с облезлой штукатуркой в те дни ещё сохранял дореволюционный малиновый цвет.
По возвращении тогда из Ленинграда на Вологодчину мне захотелось увидеть старика Баскакова и сказать ему, чтобы он фотографию «Авроры» и свои воспоминания о службе на этом корабле послал в Ленинград. Но в заболотной деревушке, в избе Баскаковых окна и двери оказались забиты досками, а на месте бывшей пекарни – груда кирпичей… Куда же девались люди? И сохранилась ли где, у кого – фотография «Авроры»?..
В 1951 году в Вологде я встретился с моим земляком К. П. Горбачёвым. Разговорились. Он оказался родственником вымерших Баскаковых. Я напомнил ему о бывшем матросе-авроровце, о его рассказах и альбоме.
– Эге, батенька, так ведь тот альбом у меня!..
– Пойдем, покажи!
В Вологде, на улице Чернышевского, в квартире одинокого старого холостяка, я вновь увидел тот самый альбом. Как-то неудобно было упрашивать хозяина послать весь альбом в музей на исторический крейсер, но самый интересный снимок – «Аврора» в Маниле – мною был в тот же день отослан почтой в Ленинград на легендарный корабль. Командование ответило благодарностью и поместило редкую фотографию в первой же экспозиции мемориального музея.
Обо всём этом я вспомнил и рассказал здесь потому, что годы идут, а вместе с быстротечным временем уходят и старые кадры, ветераны боевых революционных лет. Мало осталось участников исторических событий, происходивших на броненосце «Потёмкин», на крейсере «Варяг» и на «Авроре». Велика земля советская, и некоторые из этих людей в глубокой старости живут в разных концах-краях её. Есть о чём им порассказать. Кое у кого сохранились реликвии и документы, что особенно важно и ценно в смысле неотразимой наглядности, отображающей наше славное, боевое революционное прошлое…
2. Как назревала гроза
Не так давно в Ленинграде умер ветеран революции, старый авроровец Тимофей Иванович Липатов. Он был заместителем командира крейсера «Аврора».
В дни 250-летия Ленинграда в числе других передовых ленинградцев ему присвоено звание Героя Социалистического Труда. Несколько раз встречался я с ним, беседовал, интересовался его деятельностью. И благодаря этим встречам и беседам, узнал много интересного.
Жизненный путь Тимофея Ивановича тесно и неразрывно связан с прохождением длительной службы на корабле. А жизнь корабля, всего спаянного матросского коллектива, самоотверженных энтузиастов, овеянных солеными морскими ветрами, обстрелянных в боевых схватках, неотъемлема от памятных событий.
Тимофей Липатов родился в 1888 году в семье крестьянина-бедняка в селе Оторма Иоршанского уезда Тамбовской губернии. Детство обычное – босоногое, деревенское, с горькой нуждой и недостатками.
Едва Тимофей успел освоить «азы» первоначальной грамотности и не успел ещё «войти в силу», как родители были вынуждены сбыть его в люди – добывать в поте лица хлеб свой.
И вот одиннадцатилетний Тимоша пробирается из Тамбовщины в Москву, в ученье к столяру. Затем четыре года ученья – сплошного мученья. Побегушки, подергушки, колотушки за всякую малейшую оплошность были обычным способом воспитания учеников-подмастерьев в те времена. А через четыре года Тимофей уже мог самостоятельно сколотить любую незамысловатую мебель, стал рабочим-столяром.
В зрелые годы – повестка, призыв в солдаты. Парень грамотный, со специальностью, сложение физическое крепкое – такие во флот и нужны.
1910 год. Шесть месяцев прохождения службы в Ораниенбаумской военно-морской стрелковой школе, где готовили унтер-офицеров. И в том же году Тимофей Иванович был списан на «Аврору».
На этом корабле ещё были свежи воспоминания о бурном девятьсот пятом годе, об участии в войне с японцами в Цусимском сражении, когда «Аврора» совместно с другим крейсером «Олег», прикрывая и защищая транспорты 2-й Тихоокеанской эскадры, оборонялась от девяти атакующих японских крейсеров. Участники этих событий, матросы сверхсрочной службы, оказались сослуживцами новичков – таких, как Тимофей Липатов. Бывалым людям, видевшим полсвета, прошедшим огонь и воды, закаленным в жестоком Цусимском бою и охваченным влиянием революционных событий пятого года, было чем поделиться с теми, кто только начинал свою матросскую службу.
Революционная пропаганда на корабле давала свои результаты, хотя и не всегда оставалась безнаказанной. Действовали провокаторы, предавая и продавая революционно настроенных матросов. В годы реакции на «Авроре» было арестовано и сослано в Сибирь несколько человек. Среди них большевик И. С. Круглов – член партии с 1905 года.
Многие из офицеров на корабле не считались с человеческим достоинством рядовых матросов, обращались с ними грубо, жестоко, несправедливо. Некоторые из офицеров допускали рукоприкладство. Видя всё это, Липатов стал задумываться: «Мне ли, выходцу из крестьянской бедноты, рабочему-столяру, стремиться в офицеры и быть похожим на них?»
Его привлекала спайка, тесная дружба рядовой братвы, и Липатов решил, что ему надо быть в этой среде.
«Аврора» в качестве учебного судна в те годы находилась в далёком плавании. Однажды, будучи в греческом порту Пирей, Липатов умышленно загулял и пробыл сутки на берегу, не показываясь на корабле. Самовольная отлучка, – нет человека в перекличке, значит, он по военно-морской терминологии считается «нетчиком», – повлекла за собой наказание – перевод из унтеров в кадровую команду рядовым матросом. Так рядовым матросом и служил Липатов до 1914 года.
В заграничных плаваниях передовые матросы соприкасались с русскими эмигрантами, добывали у социал-демократов подпольную литературу, и скоро на «Авроре» возник революционный кружок. Такой же подпольный кружок был организован и на линкоре «Слава».
Своей агитационной работой кружковцы обратили на себя внимание начальства и вызвали подозрение царских ищеек. С помощью провокаторов создалось в охранке «Дело о революционных организациях» на этих кораблях.
В канун войны 1914 года Тимофею Липатову предстояло уйти в запас, снова встать за столярный верстак. Но началась война, и вместо демобилизации последовала боевая служба на «Авроре», на переднем морском крае – на Балтике.
После боевых горячих схваток с немецкими судами в шестнадцатом году, в сентябре, «Аврора» вошла в Неву и встала на длительный капитальный ремонт у причалов франко-русского судостроительного завода.
Большую политическую работу на «Авроре» проводили неутомимые рабочие франко-русского завода – большевики Иван Яковлевич Крутов, член партии с 1904 года, и Павел Леонтьевич Пахомов, коммунист с 1911 года. Собрания, беседы, нелегальная политическая литература открывали глаза матросам.
И вот 26 февраля 1917 года группа революционных матросов на «Авроре» разрабатывает план захвата корабля. Договорились арестовать командира крейсера и офицеров во время утренней молитвы. Однако сделать это не удалось из-за провокаторов, которые донесли начальству о замысле команды. Но уже на другой день 27 февраля «Аврора» была в руках матросов.
Более половины матросов вышли в город бить полицию. Но часть матросов осталась для порядка на корабле. Так встретили авроровцы Февральскую революцию.
Третьего апреля приехал в Петроград Владимир Ильич Ленин. Вместе с рабочими пришли на Финляндский вокзал встречать вождя и матросы «Авроры». Был среди них и Тимофей Липатов. Выступление Ленина произвело на него, как и на его товарищей, неотразимое впечатление, помогло разобраться в том, что происходит в Петрограде, в стране.
Уже через день после приезда Ленина матрос Липатов вместе с другими матросами вступает в ряды большевиков. С этих дней жизнь на «Авроре» заметно оживилась. Создавались группы сочувствующих большевикам. Возникла большевистская ячейка, одним из организаторов которой был Тимофей Липатов.
Каждый день матрос-большевик Липатов держал связь с ЦК партии, докладывал Н.И. Подвойскому и Я.М. Свердлову о настроениях команды и о том, что к «Авроре» усилено внимание со стороны контрреволюционных партий.
За «Аврору», за её матросский коллектив шла борьба. Сюда приходили лидеры враждебных рабочему классу партий, выступали с речами защитники и слуги буржуазии: Чернов, Церетели, Чхеидзе, Дан и другие. Большевики посылали своих агитаторов. В эти напряжённые дни на «Авроре» побывали также видные большевистские деятели: Калинин, Позерн, Евдокимов, Кузьмин и другие.
6 июня 1917 года матросы «Авроры» в ответ на клевету Временного правительства вынесли в защиту Ленина такую резолюцию:
«Большевики крейсера „Аврора“ обсудили вопрос относительно товарища Ленина и его друзей и, признав стойкого и твёрдого борца за свободу с капитализмом, решили поддерживать его во всякую опасную минуту и будут всегда наготове дать отпор тем буржуям, которые ведут травлю против товарища Ленина. Мы же надеемся, что поздно или рано все осознают и поймут, за что борется товарищ Ленин, но пока идёт травля, потому что буржуи и кровопийцы народные заняли высшие посты по всей России, исключая Кронштадт…»
В июньские дни сотни тысяч трудящихся Питера, демонстрируя своё доверие большевикам, вышли на улицы с лозунгами: «Долой десять министров-капиталистов!», «Вся власть Советам!», «Рабочий контроль над производством!», «Хлеба, мира, свободы!» Матросы «Авроры» участвовали в июньских событиях, соблюдая ленинские указания и революционную дисциплину. Они резко выражали свое недовольство политикой правительства Керенского.
Ещё более активно участвовали матросы «Авроры» в июльском выступлении. Для выявления активистов, выступавших в июльские дни, Временное правительство направило на «Аврору» специальную комиссию. Десять дней комиссия допрашивала матросов. Опросили 587 человек. Матросам Куркову, Златогорскому, Ковалёвскому, Масловскому, Пономареву, Симбирцеву, Мясникову и Липатову было предъявлено обвинение по статьям 51 и 100 Уголовного уложения.
Липатову удалось скрыться и избежать ареста. Остальные были посажены в «Кресты». Там уже сидели арестованные Временным правительством активные большевики, руководившие революционным движением на Балтике Антонов-Овсеенко и Дыбенко. Арестованные гневно протестовали против карательных действии буржуазного правительства и скоро были выпущены на свободу.
Вместе с освобожденными из «Крестов» авроровцами вернулся на корабль и скрывавшийся до этого Липатов. Судовой комитет из восьми большевиков стал хозяином «Авроры».
Меньшевики и эсеры ещё не раз пытались лживыми увещеваниями воздействовать на революционных матросов, стремясь вырвать их из-под большевистского влияния. В ответ на выступление Церетели на «Авроре» с меньшевистскими установками, обещаниями и уговорами матросы сказали и записали свое веское слово:
«Протестуем против выпада гражданина Церетели и говорим, что мы желаем иметь власть, опирающуюся на всю пролетарскую революционную демократию и пользующуюся полным доверием народа…»
Так ни с чем и ушел с корабля незадачливый министр внутренних дел и лидер меньшевиков, провожаемый свистом и язвительными выкриками матросов.
Обстановка накалялась. Приближались грозные дни Великого Октября. «Аврора» вышла из ремонта и была готова к бою.
Временное правительство отлично знало, что собою представляет эта плавучая крепость, начиненная идеями большевизма, и решило отправить «Аврору» к берегам Финляндии под предлогом пробного плавания после ремонта. Представитель судового комитета «Авроры» Курков обратился в Военно-революционный комитет при ЦК с вопросом: как быть – исполнять ли приказ Временного правительства? Ему было отвечено: «Ни в коем случае!.. Вас отсылают, чтоб ослабить наши силы, чтоб легче справиться с Советом, не исполняйте приказа!..»[2] И «Аврора» осталась в ожидании дальнейших указаний партии и её Ленинского ЦК.
Из Гельсингфорса за подписью председателя Центробалта Дыбенко 24 октября поступила телеграмма:
«Центробалт совместно с судовыми комитетами постановил: „Авроре“, заградителю „Амур“, Второму Балтийскому и Гвардейскому экипажам и команде всецело подчиняться распоряжениям Революционного комитета Петроградского Совета».
3. Выстрел «Авроры»
Весь мир знает, что большевистская «Аврора» возвестила о первой пролетарской революции, победившей капитализм в шестой части света. Об этом знаменательном событии много написано, много рассказано.
Председателем судового комитета на «Авроре» был избран один из самых активных большевиков-матросов Александр Викторович Белышев, уроженец деревни Клетка Владимирской губернии. На «Авроре» он служил машинистом первой статьи, пользовался заслуженным авторитетом и являлся членом Центробалта.
В канун октябрьского штурма Белышев был назначен комиссаром «Авроры», Военно-революционным комитетом ему было приказано испробовать после ремонта машины и механизмы на корабле, не выходя из Петрограда, и затем в ночь на 24 октября подвести «Аврору» к Николаевскому мосту, чтобы Зимний дворец, оплот Временного правительства, находился под прицелом орудий революционного крейсера.
Комиссар Белышев предложил командиру корабля Эриксону вести «Аврору» к указанному месту на траверз Невы против 19-й и 20-й линий Васильевского острова. Командир категорически отказался выполнить это распоряжение, сославшись на то, что Нева для «Авроры» мелководна. Не поверив ему, матросы в ту же ночь под руководством рулевого Сергея Захарова промерили фарватер Невы, глубина которой оказалась вполне достаточной для прохода крейсера. Тогда парторганизация корабля поручила вести корабль судовому комитету, а командира «Авроры» и офицерский состав решила арестовать. Но командир согласился подчиниться судовому комитету и был освобожден из-под ареста.
«Аврора» подошла к разведённому и охраняемому юнкерами Николаевскому мосту и стала на якорь. Матросы прогнали юнкеров, свели мост. Установилась надежная связь с Васильевским островом, где находились наготове к выступлению против Зимнего красногвардейцы Финляндского полка и две вологодских дружины.
Наконец все силы революции были сосредоточены по гениальному ленинскому плану. Вождь партии большевиков В. И. Ленин находился в Смольном – главном штабе революции.
Утром 25 октября весь Петроград, за исключением Зимнего дворца и Главного штаба, был в руках восставшего народа. Тогда же по радио с «Авроры» старшим радиотехником Федором Алонцевым было передано историческое обращение Военно-революционного комитета, написанное В.И. Лениным, «К гражданам России» о низложении Временного правительства и переходе государственной власти в руки Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.
Штурмовать Зимний решено вечером 25-го по сигналу пушечного выстрела с «Авроры». Комиссар Белышев, получив от Военно-революционного комитета приказ о сигнале к штурму Зимнего, приказал матросу-артиллеристу Евдокиму Павловичу Огневу произвести сигнальный выстрел из бакового орудия в 9 часов 45 минут вечера 25 октября.
– Ну, Огнев, – у тебя и фамилия подходящая, – тебе выпало счастье первому огонь открывать по последнему оплоту капиталистов. Всю жизнь будешь помнить! – говорили матросы не без чувства гордости за своего товарища, за свой корабль.
Ровно в указанное время прогремел над Невой выстрел «Авроры». Гулкий раскат, подобный грому, прозвучал в перекличке с Петропавловкой. Грозное могучее «ура», стрельба… Натиск на Зимний. Момент восстания, выбранный великим Лениным, был самым удачным в истории всех революций.
Около двух тысяч защитников керенщины вынуждены были сдаться на милость победителя. Зимний пал. Министров-капиталистов провели под конвоем в крепость.
По свидетельству Антонова-Овсеенко, по точным данным, при захвате Зимнего наши потери были невелики: убито пять матросов, один солдат и несколько человек легко ранено. Со стороны защитников Зимнего дворца никто серьёзно не пострадал.
Революция совершилась. Начался длительный этап защиты октябрьских завоеваний.
На фронтах гражданской войны оказались многие участники Великой Октябрьской революции. Тимофей Липатов и с ним шестьдесят матросов с «Авроры» участвовали в схватках против казаков генерала Краснова. Потом они вернулись в Петроград на подавление восставших юнкеров и для наведения революционного порядка в столице Советской республики.
Жаль, не может поделиться своими воспоминаниями об этих днях славный матрос с «Авроры», уроженец станицы Хоперской Евдоким Павлович Огнев, возвестивший выстрелом о начале Октябрьского штурма.
В числе многих других питерских матросов Огнев ушел сражаться против поднявшей голову белогвардейщины, руководил партизанским отрядом на юге и геройски погиб в жестоких схватках около хутора Хомутец Ростовской области.
Произошло это через год после знаменательного выстрела «Авроры».
Выстрел «Авроры» 25 октября 1917 года – важнейшая дата в славной биографии крейсера.
После гражданской войны «Аврора» стала учебным кораблём, плавучей школой моряков – молодых командиров. И когда через шесть лет после революции капиталистические страны были вынуждены признать Советское государство, «Аврора» отправилась в дальнее плавание.
Крейсер революции побывал во многих странах мира, как символ Великого Октября, как утренняя заря – предвестница мировой революции. И всюду трудящиеся всех стран горячо приветствовали легендарный корабль и русских моряков.
Накануне первого десятилетия Октябрьской революции советское правительство наградило «Аврору» орденом Красного Знамени.
А в годы Великой Отечественной войны, в тяжелые годы ленинградской блокады, замаскированная и вооруженная зенитными орудиями «Аврора» снова вступила в бой, отражая вражеские авиационные налеты на город Ленина. Шестидюймовые бортовые орудия были сняты, но не бездействовали. Пушки «Авроры» защищали Ленинград от наседавших гитлеровских полчищ в районе Пулкова. Баковое орудие, возвестившее о начале штурма Зимнего, находилось в дни Отечественной войны на бронепоезде «Балтиец», громившем укрепленные позиции гитлеровцев.
С ноября 1948 года легендарный корабль поставлен на вечную стоянку на Неве против ленинградского Нахимовского училища. В наше время «Аврора» – филиал Военно-Морского музея и в то же время учебное, поставленное на якорь судно, где учатся и воспитываются в духе боевых традиций будущие отважные, преданные Советской Родине офицеры Военно-Морского Флота.
ОБЫКНОВЕННЫЕ СЕВЕРЯНЕ Очерк
1. На рыбалке
Около Великого Устюга хороша охота на уток. До города доходит веселая Сухона. В Сухону в Устюге вливается спокойная река Юг. И из двух этих рек тут же образуется степенная и солидная Малая Двина. Весной и летом здесь сплошное раздолье.
Пенсионера Ивана Николаевича Щелкунова в эту пору дома редко когда застанешь. В лодке с ружьем, с удочками и вершами, он постоянно рыщет по речным просторам и заводям.
Бывает, что он рыбачит и охотится не один, а с кем-нибудь тоже из любителей. Вот и сегодня Иван Николаевич вытаскивает лодочку на приплёск вместе с товарищем, который в три-четыре раза моложе его.
Наполнив ведерко мелкой рыбёшкой, Иван Николаевич спускается к воде. Крупные окуни и щуки лежат у него в берестяном пестерке в лодке. Напарник собирает в кустах сушняк для костра, чтобы сварить уху, а Иван Николаевич перочинным ножичком тщательно вспарывает и очищает от требухи ершей и окуней.
Через час рыбаки, подобрав под себя ноги, сидят у костра и деревянными ложками черпают из ведра уху и, обжигаясь, едят разваренную рыбу. Едкий дымок отгоняет мошкару, и они спокойно разговаривают о том, о сём.
– Дед, а дед?.. – обращается к Ивану Николаевичу напарник.
– Какой я тебе дед?! – сердито обрывает его Щелкунов. – Да я на любом деле помоложе тебя. Зови полностью Иваном Николаевичем. А не хочешь полностью, ну, зови просто Иваном.
– Ну, ладно, не спорю, – соглашается парень, лежа на траве и любуясь на оранжевый закат. – Иван Николаевич, ты чего жадничаешь?
– То есть? – Щелкунов сердито вскидывает брови. – Как тебя понимать, в чём моя жадность?..
– Да вот, наварил рыбёшки – какой-то мелюзги, а хорошую всю в берестянку отложил. На базар потащишь, что ли?
– Нет, батенька мой, что покрупней да повкусней моей Наталье пойдёт. Она у меня молодуха стоющая!..
– Ха! Молодуха. Сколько ей?
– Ну да, молодуха. Меня на тринадцать лет моложе! Ты вот и орден заслужил, а по медалям судить – так всю географию европейскую прошёл… А попробуй жениться – дадут ли невесту на тринадцать лет тебя моложе.
– Так ведь мне и всего-то двадцать третий. Если через десять лет жениться, то, пожалуй…
– А вытерпишь десять лет?
– Где тут, нынче позову тебя и Наталью на свадьбу.
– Не торопись… Смотри, не ошибись, не женись на легковерной…
– Да уж обдумаю и к тебе за советом приду…
Несколько минут длится молчание. Потом, раскинувшись на запашистой и мягкой луговине, Щелкунов ворчливо произносит:
– Недогадлив ты, парень… Без подсказу, поди-ка, ничего не делаешь. Я варил уху, а ты ступай-ка, пока чешуя не присохла, ведерко с песочком прополощи.
Парень быстро вскакивает и бежит с прокоптевшим ведром к реке. Старик пытается вздремнуть, но проклятые комары назойливо пищат перед самым носом. Закрыв лицо фуражкой, Щелкунов тихо сопит. Снова около него появляется спутник по рыбалке и начинает тормошить старика вопросами:
– Дед, а дед… Извиняюсь, Иван Николаевич, почему ты не догадался себя и меня накомарниками обеспечить без них от комаров спасения не жди теперь.
– А ты чего не взял? У тебя память посвежей моей, – отвечает старик, не поднимаясь и не скидывая с лица фуражки.
– Накомарник, накомарник, – твердит парень, несколько раз повторяя это слово. Потом снова обращается к Ивану Николаевичу: – Неправильно старики назвали накомарник. Ведь сетка-то не на комара надевается, а от комаров. Так бы и назвать – откомарник.
– Тебя тут не спросили, – возражает, не шевелясь, Щелкунов. – Нечего на стариков вину валить… И вы, молодые люди, не всегда на слово горазды. Вот говоришь, обеспечить, а знаешь ли смысл этому слову?..
– Ну, значит, снабдить.
– Ничуточки не бывало! – смеется старик, и фуражка сползает с его лица. – Обеспечить – это означает, скажем, сломать в доме печь, то есть оставить избу без печи.
После непродолжительного, глубокомысленного молчания парень высказывает своё изумление по поводу того, что нет ничего на свете такого, что не обозначалось бы словами – и откуда их столько берётся? Потом разговор незаметно переходит на темы любви, женитьбы, прочности супружеских отношений.
– Иван Николаевич, сколько ты лет живёшь со своей Натальей?
– Пока сорок два года и один месяц. Как вернулся с японской, с флота, так и женился. Да, прожил сорок два года, ни разу не спокаялся. Вот она у меня какая!..
– И до сего дня любишь её?
– Ну, что за вопрос. Конечно! Спервоначалу любил как хорошую, доброхарактерную и верную жену, а теперь ещё люблю и уважаю её как мать замечательных сыновей и дочерей. Она ведь занималась их воспитанием, мне-то некогда было.
– Хоть бы рассказал, как и где ты нашел такую себе подругу жизни?
– Да надо ли, парень? Впрочем, почему и не рассказать в назидание, как-никак обещаешь на свадьбу позвать.
– И позову.
– Ну вот, прежде чем мне рассказывать, а тебе слушать, бери-ка весла да перемахнем на тот берег к сараям – на случай от дождя притулиться. Солнце в тучку закатилось, да и ветерок с той стороны… Опять же комары злые. Кусают как собаки – быть дождю.
Они пересекают реку. На веслах сидит напарник. Начинает накрапывать редкий и мелкий дождь. Оставив вытащенную лодку на берегу, промеж кустов плакучей ивы, рыболовы входят в пустой, настежь раскрытый сарай. Здесь в уголке, за простенком, старый и молодой ведут задушевную беседу.
– Да, дорогой мой, длинна моя семейная сказка – всю не рассказать. Придётся тебе познакомиться с моей Натальей. Она доскажет: у бабы язык подвешен лучше, чем у меня. Если скоро думаешь жить своим умком да своим домком, то есть обзаводиться семейством, то у моей Натальи поучиться есть чему. Вон каких детей-то вырастила: что ни сын, то офицер, что ни дочь, то учёная… Каждому дитю в жизни у нас хорошее место. Один из них, слыхал, средний, Василий – главная гордость наша – полковник авиации и Герой Советского Союза…
– Слыхал, слыхал, – говорит напарник. – Как не слыхать. Про семью Щелкуновых много говорят. Да и про тебя, старина, толкуют, что ты – человек с крепкой головой и золотыми руками.
– Ну, про меня помолчим: о присутствующих не говорят. Вот дождичек перестанет… Ночь летняя короче воробьиного шага, а перед утром хороший лов на окуней будет. Да ещё из ружьишка парочки две утей щелканём – и хватит. Тогда и к старушке моей можно. При всяком случае ко мне добро пожаловать – Устюг, Кооперативная улица, дом 13. Квартиру всякий покажет. Сами-то мы уроженцы Архангельской области: я из деревни Прислон Котласского района, а она у меня родом из Подосиновца, из тех мест, откуда и маршал Конев. А женился-то я на ней в Петербурге, когда плавал на корабле «Память Азова»… Она тогда на услужении у господ была и белошвейкой работала.
Старик на минуту умолк, напрягая свою память. Высокий лоб покрылся морщинами. Он с трудом припоминал давно прошедшие годы, припоминал и рассказывал своему напарнику о кругосветных плаваниях и о том, как, уволившись с флота и не захотев, чтобы его Наташа служила господам, взял её и увез из Питера в Прислон, на Северную Двину, на приволье. Он долго рассказывал и о том, как в годы гражданской войны на севере служил в речной флотилии и, имея военный опыт, дрался против интервентов. А потом – служба в речном флоте на северных реках, редкие побывки дома.
После долгих разговоров рыболовы, подостлав под себя выцветшие плащи, легли отдохнуть. Напарник спал крепко и храпел с таким усердием, что не уступал перекличке коростелей, а Иван Николаевич дремал, полузакрыв глаза и, изредка посматривая на крышу сарая в ожидании, когда сквозь щели досок покажутся проблески рассвета, – как бы не упустить момент удачного лова…
…В то воскресное теплое утро, когда Иван Николаевич Щелкунов занимался рыбалкой с напарником, я ехал в Великий Устюг с прямой целью – встретиться и побеседовать с Натальей Михайловной Щелкуновой.
2. Материнское сердце
…Солнце поднялось высоко, но часы показывали только пять утра. Пароход, хлопая плицами колес, бороздил гладкую, словно застывшую поверхность разлившейся реки. У причалов дымили пароходы. Десяток древних белокаменных церквей отчетливо выделялся на фоне утреннего города.
Я спешу на Кооперативную. Во дворе дома № 13, у колодца, встречаю Наталью Михайловну Щелкунову. Ей уже перевалило за шестьдесят, но силенка у неё, чувствуется, ещё есть, иначе не гремела бы ведрами. Знакомимся. Спрашиваю, где их квартира – вверху или внизу двухэтажного дома.
– Вверху.
– Тогда, позвольте, ведра с водой я занесу.
– Ой, что вы, что вы, сама… разве это тяжесть?..
Мы поднимаемся по крутой лестнице. Пока Наталья Михайловна замачивает на кухне бельё в корыте, я осматриваю помещение. Две большие смежные комнаты. Множество цветов. В раскрытые окна вливается приятный запах садов. Солнечные лучи, прорываясь сквозь цветочные барьеры, расставленные на подоконниках, разбегаются вдоль пёстрых, хорошо простиранных половиков. На стенах и на комоде масса фотоснимков с изображениями награжденных офицеров – это дети Натальи Михайловны и их боевые друзья.
На столах и на полках замечаю прозрачные в лежачем положении бутылки. В них неведомо каким колдовским способом втиснуты макеты кораблей. Мое внимание невольно задерживается на этих многочисленных чудесных образцах тонкой художественной работы.
Наталья Михайловна идёт из кухни и, перехватив мой восхищенный взгляд, поясняет:
– Это мой старик Иван-чудодей такие штуки выделывает. Вернётся с охоты – с ним и поговорите. Многие видят, как он это делает, но никто не может так сделать.
Отвлекшись на некоторое время от интересных изделий, мы с Натальей Михайловной заводим продолжительную беседу о семье Щелкуновых, о трудном деле – воспитании детей…
Добрая, тихая Наталья Михайловна не слишком словоохотлива, но то, что я услышал от неё, достойно внимания.
…Давние, дореволюционные годы. Нужда забросила её в Петербург. Жила, убиваясь на работе и влача полуголодное существование. И казалось, что именно про неё, про северянку Наташу, заброшенную в далёкий, полный богатства и бедности Петербург, и составлена любимая в то время в их среде песенка:
Эх ты, бедная, бедная швейка, Пострадала с двенадцати лет. Нелегко доставалась копейка — Много вынесла горя и бед.Потом с годами «на Васильевском малом острове» встретился земляк – матрос Иван Щелкунов. Дружба. Замужество. И снова северная деревня с её заботами и не менее тяжелыми делами. А главное – многодетность. Но где же они, выросшие дети, где семья Щелкуновых?..
Наталья Михайловна торопливо подходит к комоду и начинает выбирать фотографии.
– Вот они где… – говорит она с гордостью, и глаза её влажнеют. – Все они вместе и каждый в отдельности живы-здоровы в разных концах России-матушки, и все они в моих чувствах материнских, в сердце моём…
Она – счастливая и гордая мать – садится со мной рядом и дрожащими руками раскладывает фотоснимки у себя на коленях.
– Вот, начнем со старшего – Владимиром звать. Родился он на второй год после японской войны. Как взяли в армию, всё время служит в морской авиации. Тут видите в чине капитана – снимался давненько. Теперь он, отец говорит, стал званием повыше. Для меня-то они все одного звания – дети. Все любы, все дороги. А отец, тот ещё и по званиям различает. Да, Володя у меня на Дальнем Востоке. Мы вот тут с вами сидим, время в Устюге только седьмой час утра, а там, где Володя, наверно, уже час дня. Он, поди-ка, налетался на самолёте и теперь обедает…
Наталья откладывает фотоснимок в сторону, берёт без разбора другой, любуется на молодое лицо самого меньшего и говорит:
– Этот вот на двадцать лет моложе Володи. Звать – Фридрих Иванович. Отец так окрестил в честь Энгельса (Иван-чудодей у меня коммунист с восемнадцатого года). Фридрих пошел на войну добровольцем, и сейчас пребывает дальше всех – на Курильских островах. Недавно я встретила одного демобилизованного с Курильских и всё, всё расспросила, что за острова и что там за жизнь. Чудные места! Там теперь два часа дня, а то и побольше. Воскресенье, значит, у Фридриха выходной. Наверно, с товарищами ходит по бережку возле океана, а рыбы там страсть! Наловит самой лучшей, а варить и костер разводить не надо. Демобилизованный сказывал: там из-под земли горячие ключи бьют, настолько горячие, что набери котелок, да брось кусок мяса – и суп готов. Вот ведь какие на земле есть места. Там, говорят, земля-то потоньше нашей будет…
Наталья Михайловна долго смотрит на миловидного меньшака – девятнадцатилетнего добровольца, бережно кладёт снимок на стол и берёт следующую фотокарточку.
– Это вот Колька. Ему уже тридцать минуло. Тоже военный, специалист по телефонной части. И в финскую и в эту войну воевал, ранен не однажды, а жизни не лишился. Конечно, награждён. А это вот дочка – военный врач Зинушка. После войны в Иркутске обосновалась на житьё и терапевтом по внутренним болезням работает. Хотела было выучиться на хирурга, да я, мягкосердечная, отсоветовала: женское ли дело с ножом в руках вокруг больных возиться?.. Пишет – живёт хорошо. Иркутск ей нравится, а особенно там река Ангара почище нашей Сухоны. На любой глубине дно видно. И как рыба плавает – всё видно. Омуль там водится, а у нас этой рыбы нет… Вот вы посидите, мой Иван должен скоро появиться. Он на охоте и на рыбалке – с пустыми руками не придёт. Тогда что-нибудь зажарим… Может, и наша сухонская стерлядь не уступит иркутскому омулю. Про Зину сказать больше нечего. Жду от неё внучат. Вот и всё…
Теперь вот эта, смотрите, какая с виду залихватская… Аннушкой звать. Угадайте, кем она работает? – спрашивает Наталья и, усмехаясь, прямо смотрит на меня испытующим взглядом, стараясь определить, насколько я внимателен к разговору и умею ли разбираться в людях по их внешним признакам.
– Не могу сказать, Наталья Михайловна, не знаю. Но вид у девушки боевой.
– Да, она у меня боевая, характером вся в меня – детей очень любит. Своих пока нет, так она, как война кончилась, чужих воспитывает. У неё на плечах целый детский дом. А детей воспитывать, сами знаете, дело нелегкое. Уметь надо. У меня, как видите по фотокарточкам, целая их куча. Всех вырастила и в люди выпустила. Добрым словом воспитывала, не бранью, не побоями. И учились все без принуждения, у каждого и об учёбе, и о деле своя забота была. Да разве можно грубить своим детям? Я не понимаю тех матерей, которые коршуньем на малолеток наскакивают. Сама в молодости по чужим людям жила, так знаю, каково было терпеть от господ обиды да подергушки. И поняла я, воспитывая своих деток, что от доброго материнского слова да от заботливого присмотра больше детям проку, чем от грубости. Не нами еще сказано: нет такого дружка, как родная матушка. У меня, можно сказать, почти все детки своими семьями обзавелись, однако и теперь для них нет родней и милей своей матушки. Конечно, все дети для меня равны, а этот вот среди всех самый почетный и важный. Не так давно в отпуск приезжал с Украины – там служит. Может, и вы про него слыхали или где-нибудь читывали: полковник авиации, Герой Советского Союза Василий Иванович Щелкунов. Подивитесь, какой орлёночек из нашего гнезда вылетел!..
При этих словах Наталья Михайловна передала мне портрет сына героя и «печатные бумаги» с описанием его подвигов. Потом она долго рассказывала о сыне-герое всё, что знала о нем. А знала она много и по письмам, и по газетным вырезкам, и по рассказам самого Василия, навестившего отца и мать весной этого года.
Приметив, что я быстро и тщательно записываю её рассказ, Наталья Михайловна предупредила.
– На слово-то я не очень складная. Вы моими-то словами не пишите, а обмозгуйте, да от себя хорошенько. Сынок у меня Васильюшко стоящий. Одних орденов, давайте посчитаем, сколько Золотая Звезда, два ордена Ленина, два Красного Знамени, один орден Красной Звезды, да орден югославский – за помощь сербам, да орден американский за то, что он восемнадцать американских летчиков спас. Медалей разных порядочно. Американцы-то за геройство ему, кроме ордена, еще и самолет подарили. Небось, о моём Васе и в Америке знают?..
– Знают, Наталья Михайловна, конечно, знают. Те же восемнадцать американских летчиков тысячам людей расскажут, как русский летчик их вывез на своём самолете, спас от немецкого плена.
Во всём, что рассказывала Наталья Михайловна и особенно в том, как она рассказывала, чувствовалась и огромная материнская любовь к своим детям, и гордость за них.
К слову сказать, характерен такой случай. Дело было осенью 1941 года, в один из первых налетов нашей бомбардировочной авиации на Берлин. По радио было сообщено, что из десяти бомбардировщиков один не вернулся на нашу базу.
Наталья Михайловна, как только услышала по радио такую весть, сразу же вслух подумала:
– Не наш ли это Вася не вернулся? Что-то сердце так и кольнуло, как услыхала…
– Ну, не может быть, – успокаивающе заметил Иван Николаевич. – Мало ли сейчас людей летает. Нет, уж это кто-нибудь другой.
С беспокойным чувством провела ту ночь Наталья Михайловна, думая о сыне-лётчике. Она представляла себе множество различных положений, в которых мог оказаться её любимый Вася. То ей думалось, что подбитый самолет вместе с сыном врезался в гущу берлинских домов, то казалось, что Вася спрыгнул с парашютом, попал к немцам в плен и теперь его пытают, издеваются.
А на другой день вечером соседи, встречая Наталью и Ивана, поздравляли их и говорили:
– Слышали по радио добавление к вчерашним известиям?
– Нет, не слышали.
– А ведь там про вашего сынка было сказано, что отставший самолет, пилотируемый летчиком Щелкуновым, подбитый, с одним мотором, благополучно приземлился на своём аэродроме.
Потом об этом случае родители узнали и от самого сына, который в письме подтвердил известия, переданные по радио.
Наталья Михайловна была изумлена: сердце-вещун, оно быстрее радио подсказало ей, что на отставшем самолете был не кто иной, как её сын… Но почему же так? Какая невидимая сила в тот момент потревожила материнское чувство?..
– Это очень просто, и ничего удивительного и неестественного нет, – пояснил в ту пору Наталье Михайловне её муж. – Это и есть так называемая случайность… Если тысячи матерей, имеющих сыновей-летчиков на фронте, слушали эту радиовесть о пропавшем самолете, то, вероятно, каждая из них подумала: «А не мой ли там сынок летал?» Ты, Наталья, одна из тысячи – и только…
Много раз Василий Щелкунов участвовал в налётах на Берлин и другие немецкие города, был ранен, контужен. Лежал в госпитале. Потом снова с другом и земляком-северянином Малыгиным часто в позднюю вечернюю пору на своем бомбардировщике набирал высоту в семь тысяч метров и по ту сторону облаков, оглашая шумом моторов поднебесье, вез Гитлеру «гостинцы».
И в этих далеких героических рейсах с ним всегда незримо было любящее сердце матери.
3. «Иван-чудодей»
…Под вечер с охоты и рыбной ловли вернулся Иван Николаевич, загорелый, усталый. Он поставил на кухне корзину со свежей рыбой, сверху покрытой двумя селезнями, и, обращаясь к жене, сказал весело:
– Михайловна! Навари-ка да поджарь, для тебя ничуть не жаль!.. Да кстати, и прибылых людей подкормим малость…
Спутник Ивана Николаевича вежливо поздоровался с Натальей Михайловной и по просьбе хозяина и хозяйки стал располагаться как дома. Пока он умывался холодной водой и утирал лицо и шею вышитым рукотёрником, в квартиру зашел ещё посетитель и отрекомендовал себя корреспондентом газеты «Речной транспорт», показав при этом аккуратненькую книжечку с фотографией, с печатью и двумя заковыристыми подписями.
– Добро пожаловать, добро пожаловать! Удостоверение не обязательно показывать. Слову верю и сразу вижу прибылого человека. Чем могу быть полезен? – спросил старик Щелкунов вошедшего.
– Добрые люди послали к вам, Иван Николаевич, говорят, вы старый моряк и ветеран Северного речного флота…
– Всё возможно, всё возможно. Сейчас я уже пенсионер, отплавал своё. Однако, что вас заинтересует, могу рассказать. Садитесь – одним гостем больше будет. Михайловна! Пошевеливайся там на кухне, а гостей я занять сумею. Слов не хватит – я им на баяне могу сыграть: хоть «Варяга», хоть «На сопках Маньчжурии».
– Как, Иван Николаевич, вы и на баяне играете? – с удивлением спрашивает представитель газеты.
– А как же, играю, только вот Михайловна на танцы не пускает, – шутливо отзывается Щелкунов, – счеё, говорит, годам потерял. Ну, это она врёт, потерять не потерял, а в цифрах немножко путаюсь – не то семьдесят восемь, не то восемьдесят семь – что-нибудь одно из двух. Одним словом, для персонального пенсионера лета совершенные. Для рыболова и охотника немножко многовато, однако и тут справляюсь.
Не пришлось старику Щелкунову браться за баян и показывать свои музыкальные способности. Вниманием гостей целиком завладели те изделия, за которые люди и прозвали Щелкунова Иваном-чудодеем.
– Смотрите, смотрите, – с улыбочкой говорит Иван Николаевич. – Что сделано – покажу, а как сделано – не скажу. Это секрет изобретателя…
– Где, у кого вы обучились так мастерить макеты, да ещё в стеклянных посудинах? – нетерпеливо опрашивает представитель редакции.
– Сам у себя, – коротко отвечает Иван Николаевич и как бы тем самым дает понять, что он не намерен вступать в излишние рассуждения на эту тему.
И кто знает, быть может, у старого моряка за каждым, великолепно исполненным макетом кроются воспоминания о пережитом прошлом. Многие макеты, заключенные в бутылки, точно изображают известные в истории русского флота корабли.
…Вот миниатюрное судно. Оно для чужого и холодного глаза может показаться изящно сработанной безделушкой. А для Ивана Щелкунова макет «Памяти Азова» – не безделушка!.. На этом судне правел он лучшие молодые годы своей жизни. Ему есть что вспомнить: и далекие плавания, и боевые дни, и печальный конец этого судна, которое в августе девятнадцатого года на Кронштадтском рейде торпедировали англичане.
А вот ещё макет боевого судна старого образца. Словно из песни, попал в хрустальное обрамление гордый красавец «Варяг».
И Сколько ещё макетов разных судов военного типа изготовлено Иваном Николаевичем.
Над макетами он «колдует» в зимние длинные вечера. Сейчас лето – не время ими заниматься…
– Без настроения такое дело не делается. Хоть и кажется, что это пустяк, а на-ко попробуй, сделай. Видали? – Иван Николаевич, подняв руку, показывает подвешенную к потолку стосвечовую электролампочку, а в ней макет лучшего, самого крупного двинского пассажирского парохода.
Потом он выносит из соседней комнаты большую изящную, чистого стекла посудину аптекарского происхождения и, демонстрируя нам свою последнюю, не законченную еще работу, говорит:
– Хорошо получится – так пошлю в Москву, в музей. Разбирайтесь, что тут такое, – и осторожно кладет посудину на стол, накрытый праздничной скатертью.
– Вот это да!
– Здорово получается!
– Панорама Устюга!
– Нет, ошибаетесь, – возражает Иван Николаевич. – Присмотритесь хорошенько. Если вы бывали в этом городе, то должны узнать его. Иначе: или вы не наблюдательны, или я разучился работать точно.
Определить было нетрудно. В большом чистейшего стекла резервуаре, с узким и коротким единственным отверстием сверху, на грунте, покрытом зеленью, разместился древний город Сольвычегодск с улицами и переулками, с Вычегдой, пристанью и пароходом у причала.
На наш вопрос, долго ли он трудился над этим макетом, Иван Николаевич отвечает:
– Да как сказать… Такое дело скоро не делается. Кончу эту работу – сразу возьмусь за другую, чтобы умирать было некогда.
Корреспондент разложил свой блокнот и только собрался обстреливать Ивана Николаевича бесконечными вопросами, как Наталья Михайловна принесла из кухни громадную сковороду рыбы. Вокруг жареных окуней и язей клокотало и пузырилось вскипевшее масло.
– Ну, гости любезные, подсаживайтесь к столу. Иван, подстели газету, чтоб скатерть сковородкой не запачкать.
Поставив сковороду, хозяйка тотчас ушла на кухню и снова загремела посудой.
– Садись и ты, Наташа, без хозяйки-то какое уж дело, – позвал её муж.
– Кушайте на здоровье, а я вам селезня ощипывать буду…
На кухне в загнёте потрескивали догоравшие щепки. Запах свежей жареной рыбы распространился по всей квартире.
Примечания
1
Божатко – крестный, по-вологодски.
(обратно)2
В. Антонов-Овсеенко В революции стр. 143.
(обратно)

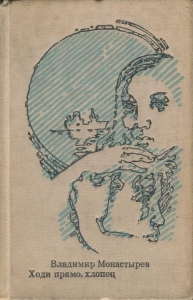


Комментарии к книге «Из жизни взятое», Константин Иванович Коничев
Всего 0 комментариев