Михаил Эммануилович Козаков Полтора-Хама
ГЛАВА ПЕРВАЯ. О ничем не замечательной девушке, Нюточке Сыроколотовой
Имя у города — Дыровск.
На географической карте Ильина он не значился. Никак не значился.
Иные русские города квадратиками на карте представлены, иные — цветными кружочками, Дыровск же ни того, ни другого знака для себя не обрел — обидели город…
В прогимназии, бывало, на уроках географии, старый Поликарп Иванович учил класс искать Дыровск так
— …На север простирается наша великорусская губерния — розовый неправильный четырехугольник. Следите, господа; к к ну губерния имеет причудливые очертания: как бы жирная запятая… Понятно? Запятаечка эта как бы хвостиком соприкасается с границами Малороссии — зеленая краска. Вот, госпо-да, в конце этой запятой — на хвостике, господа, — если его чуть-чуть мысленно продлить к югу живем мы с вами. Запомните этот знак препинания: за-пя-тая…
Трудно было ученикам дыровской прогимназии мысленно удлинять каждый раз этот «хвостик» — порешили меж собой дополнить раз навсегда отечественную карту: долговязый Петька Рыжник пырнул ножиком в конец розовой запятой — пырнул так, что учинил видимую прореху на обоих красках — розовой и зеленой (сгубил ножиком добрый десяток чужих губернских верст).
И произнес при этом с гордостью историческую фразу
— Здесь будет город заложен!
С тех пор никто из учеников дыровской прогимназии не ошибался насчет расположения родного города — с закрытыми глазами, на ощупь, ковыряли пальцем Петькину прореху — Дыровск.
Кстати: старую карту и по сей день приносят на уроки географии в дыровской трудовой школе — учиненный долговязым парнем знак прежде всего бросается в глаза молодым школьникам. Его на старой карте никак не удалить, как не удалить много ветошного, что и по сей день осталось в самом городе.
Каждым утром, к девяти, Анна Сидоровна Сыроколотова (для всего города — короче: Нюточка Сыроколотова, Нюточка) спешила по улице Третьего Интернационала к зданию местного партийного комитета, где служила машинисткой. Всегда чистенькая, опрятненькая — она обходила пыльные залежи так, чтобы не запачкать белых туфелек, не запылить вуалевого пестрого шарфа, накинутого на белокурую, чуть-чуть завитую голову.
Такой она и сохранилась — впоследствии — в памяти здешних горожан: опрятно одетой, быстро, мелкими шажками семенящей по улицам, с тонкой худощавой талией, с слегка наклоненной набок белокурой, покрытой шарфом головой. В витрине местного фотографа была выставлена, в числе прочих, и ее карточка; после всего того, что произошло с Нюточкой, фотограф поместил ее карточку на видном месте — и первое время дыровские девушки считали своим долгом, проходя, остановиться у витрины.
Правда, внимание дыровских девушек могла привлечь, по вполне понятным причинам, и другая карточка: эта последняя была выставлена рядом с Нюточкиной — предприимчивый фотограф как нельзя лучше учел любопытство дыровцев к обоим «героям» случившегося происшествия. Во всяком случае, о Нюточке в городе говорили долгое время.
Дом, где помещался партийный комитет, принадлежал раньше Сыроколотовым.
Незадолго до революции Сидор Африканович, отец Нюточки, понеся крупные убытки в каком-то коммерческом деле, продал этот дом другому, приезжему купцу. Дом был прадеда, деда и отца — широкий, просторный, добротный, и раньше висели в комнатах фамильные сыроколотовские портреты в дубовых тяжелых рамах; дуб был в стульях, столах, во всей мебели — и, казалось, пудами его откладывалось время старой сыроколотовской жизни. Словно врастало все в дом, и — не сдвинуть.
Нюточка помнит: вот здесь, где теперь комната женотдела, — была ее спаленка. Икона в углу, а над самой кроватью — дубовый овал, чуть наклонивший пытливый образ бабки Анфисы, что снималась раньше в старомодном платье, в оттопыренных фижмах.
Не хотелось иметь в спаленке бабкин портрет — пожелала повесить над кроватью цветные английские открытки — и услышала в ответ от родителей:
— Не балуй, Анна. Не балуй. Ишь что задумала! Бабка твоя Анфиса восемьдесят один год прожила в довольствии, в счастьи. Да-да… Завещала изображение свое внучке оставить. Что сама имела на своем веку, того и ей желать хочу», — говорила…
Так и смотрела всегда на Нюточку с портрета бабушка в фижмах, а лицо у бабки Анфисы совиное, нос крючком пригнулся, и ввечеру всегда, когда сумеречные тени играют лицами, чудилось Нюточке, что нахохлилась бабушка в дубовой оправе, зло нахохлилась — гляди, прикрикнет с портрета.
Теперь отец взял в аренду небольшой флигелек, в нем низкие и — кажется так — легкие комнаты, и над кроватью Ню-точки висят для украшения комнаты две синие гравюры из легкой серии Salon de Paris. Они говорят о жадной молодости и о не менее жадной человеческой любви, они изображают то и другое, — и часто Нюточка подолгу смотрит на синюю матерчатую бумагу гравюры, вдруг расплывающуюся перед глазами в одно неясное волнующее пятно… Тогда можно уже уронить голову на подушку, зарыться в ней, лежать неподвижным разгоряченным пластом: так начинался всегда тихий, немой бред — мечты.
Вот:
«Все равно, кто… Любимый. На Кавказ уехать. В Ташкент!…»
И на службе: щелкает по клавишам, бегают тонкие пальцы по металлической лестничке букв, вяжет Нюточка Сыроколотова тесьму чужих мыслей, а в голове неотступно — свои: о жизни, о судьбе, о неузнанной любви.
Кто из девушек не думает так в пыльном городе Дыровске!…
Дома часто открывала шкатулку из крымских черепашек, брала оттуда узенькую записную книжку, служившую дневником, перечитывала все с первой страницы, делала очередную запись, долго просиживая над ее составлением. А на дне шкатулки лежал документ — давно известный, слегка уже пожелтевший. На нем была наклеена марка в восемьдесят копеек; ее кто-то перечеркнул косым тонким крестом — и всегда казалось Нюточке, что так перечеркнул кто-то и ее собственную жизнь.
И если нужны читателю некоторые дополнительные сведения к тем кратким, что даны до сих пор о Нюточке, — то их восполнит этот документ:
«Сим свидетельствуем, г. Дыровска, Церкви Покрова Пресвятыя Богородицы, что в Дыровске в метрической книге за 1897 год, части первой о родившихся женска пола под № 103, значится таю у Дыровского купца Сидора Африканова Сыроколотова и законной жены его Елизаветы Игнатьевой, обоих православного исповедания и первобрачных, родилась двенадцатого июня, а крещена двадцать первого июня 1897 года дочь Анна. При крещении восприемниками были: Харьковской губернии, Чугуевского уезда купец Алексей Иванов Стрельников и Курской губернии, Старо-Оскольского уезда купца Василия Прокопиева Сини-цына жена Мария Федорова».
Высчитывала: девяносто семь — девятьсот двадцать три — еще неделя, другая, и исполнится Нюточке двадцать шесть лет. И каждый раз, когда думала Нюточка о том, — становилось жаль себя самой, и, чтоб никто не видел, плакала у себя в комнате.
Вот и все, что может пока сообщить читателю о Нюточке бесстрастный повествователь. Ничего особенного в ней не было — ни красоты, ни талантов, ни возвышающих ее душевных качеств; она ничем не отличалась от очень многих здешних девушек и, как и город ее на географической карте, ничем не была отмечена до сих пор во внимании дыровских горожан.
Тем не менее именно ей суждено было стать «героиней» этой повести.
ГЛАВА ВТОРАЯ. В городе появилось новое лицо — Полтора-Героя
Когда строили железную дорогу, то и тогда обидели заштатный город Дыровск; не дойдя до него восемнадцати верст, дорога, неизвестно почему, сделала в этом месте тупой угол, словно повернувшись задом, и свернула к югу, налево, оставив дыровских горожан в бессильном недоумении. Еще больше усугубило эту обиду гордое и недосягаемое железнодорожное наначальство: там, где образовался на путейской карте тупой угол, выстроили станцию и окрестили ее именем соседнего села -"Пески».
Поистине, оскорбление, нанесенное городу, было незаслуженным. Это могли бы засвидетельствовать железнодорожному начальству и станционный кассир, и единственный станционный носильщик, и, наконец, все дыровские извозчики, выезжавшие к каждому поезду: село Пески никак не могло претендовать на выстроенную близ него станцию, так как всякий, кто высаживался на ней, следовал отсюда только и Дыровск, и, наоборот, уезжали только из города. Но и здесь безропотным горожанам пришлось смириться. Из всех них только извозчики имели некоторое основание не сетовать на железнодорожное начальство: пешком от станции до города никак не пойдешь — и дыровские извозчики, пользуясь этим, назначали за проезд такие цены, что высаживавшиеся из поезда, впервые сюда приехавшие, искренно присоединяли свой возмущенный голос к ропоту обойденных начальством дыровских горожан.
А из всех извозчиков, вызывавших негодование приезжих пассажиров, выделялся этим владелец пары серых в яблоках — Давид Сендер.
Вот — о Давиде Сендере: еврей, а у него лицо румяное, бурое — мужичье лицо, глаз — голубой, славянский и силища — десятерых: пятью пудами бросается играючись, легче и быстрей, чем кто другой, — руганью.
И нравом своим отличался Давид Сендер от всех остальных извозчиков-евреев: крепко пил, но почти никогда не видели его пьяным; семьи у него не было, но некоторые дети торговок, крестьянок, модисток могли бы по справедливости считать его своим отцом; он был упрям, как все извозчики, но упрямство его иногда переходило в надменное озорство — тогда, когда другой бы на его месте обратился к пассажиру если не подобострастно, то уж во всяком случае услужливо.
О Давиде Сендере же рассказывали, например, вот такое.
Случилось ему брать со станции приезжего пассажира в тот момент, когда двое остальных извозчиков отъехали уже со своими и свернули далеко на тракт. Сендер, не слезая с козел, поджидал высадившегося из поезда молодого человека, бегавшего по зданию станции следом за носильщиком, выкупавшим багаж приезжего. Молодой человек выскочил к стоянке извозчиков и, увидев свободный фаэтон, торопливо бросил извозчику:
— Извозчик, я тебя беру…
Сендер, ухмыльнувшись, кивнул головой. Приезжий привлек его внимание своим необычным для здешних людей видом: на нем были коротенькие штаны, а снизу, до колен, были надеты плотные черные чулки, заканчивавшиеся вверху скрученным утолщенным ободком и обтягивавшие толстые, как у женщины, икры; из кармана модного покроя пиджачка торчал цветной шелковый платочек: он, желтые длинноносые ботинки, четырехугольные стеклышки пенсне подчеркивали, в представлении дыровского извозчика, и без того бросавшийся в глаза фатоватый вид пассажира.
Когда багаж был выкуплен и носильщик положил уже чемодан в кузов, Давид Сендер мельком посмотрел на приезжего и сказал:
— А сколько дадите?
— Да столкуемся: ты ведь не жид и не агмянин, чтоб тохговаться!… (Молодой человек картавил и говорил капризным тоном избалованного юноши.)
— Почти что! — прищурил с усмешкой Сендер свой голубой глаз. — Только знать все-таки полагается: я ведь вольный — сам себе хозяин.
— Мне же в самый Дыговск, мне — к моему кузену: в Липовцы, к доктору Юзлову. Потом, ты знаешь, учти (не пгавда, носильщик) — кгоме меня тут уже нет пассажигов, и ты… ты поедешь иначе домой погожняком!
— Верно! — продолжая щуриться, согласился Сендер. — Что ж тут делать — проиграл я. Проиграл — это верно. Так в Липовцы вам, барин, говорите?
— В Липовцы. Сколько? Ну, скорей…
— Пять целковых! — равнодушно сказал Сендер и открыл свой, до сего прищуренный, глаз, весело посмотревший на молчавшего все время носильщика.
Носильщик хитро улыбнулся: до Липовцов брали всегда не дороже зеленой бумажки.
— Ты с ума сошел, извозчик! — обиженно вскрикнул молодой человек и, словно ища сочувствия, недоумевающе посмотрел на носильщика. — Подтвегди ты ему, голубчик, что больше нет пассажигов: ему некого будет везти!…
— Окромя его, еще Никита был сегодня да Янкель у поезди — так те уже в город уехали… — не отвечая на вопрос, притворно-уныло пожал плечами носильщик. — Вы, барин, один, да и он, выходит, как бы один…
— Барин одного себя сосчитал. А, Василь? Снимай чемодан… вот так.
— Заговогщики… — брезгливо поморщился молодой человек. — Хищная пговинция. Ну, четыге рубля?
— Нет, — сказал Сендер и взялся за вожжи.
— Еще полтинник.
— Прощай, Василь… Эй, вы ходуны мои, ходунчики!
— Эй! Остановись! Получай пять…
Сендер остановился и обернулся к приезжему:
— Согласны, барин?
— Согласен.
— А на что согласны, барин? — серьезно и как будто даже озабоченно спросил Сендер?
— Пятегку даю.
— Так я же шесть просил!
Молодой человек был в отчаянии; он робко и заискивающе смотрел на носильщика, который, кстати сказать, не понимал теперь, чего хотел Давид Сендер.
— Голубчик, носильщик! Скажи ему, что говоил про пягегку!
— Вроде… — согласился тот.
И тихо добавил, махнув угрюмо рукой:
— Давайте, барин, сейчас его цену да езжайте. Лошади у него получше других.
— Даю!… — истерически выкрикнул молодой человек и схватился рукой за карман.
— Семь? Невже, барин, семь даете? — насмешливо улыбался издали холодный голубой глаз, упрямо засевший в круглом буром лице извозчика.
— Как?! Семь уже?! Да что ж это тут у вас — разбой?! Ты что, смеешься?…
— Семь да рубль на водку, — коротко засмеялся Сендер и ударил кнутом пыльное кожаное сиденье.
— Тьфу! — плюнул озадаченный носильщик.
— Что ж это?… Что ж это такое?… — смотрело на него жалкое, как будто похудевшее в одну минуту, желтое лицо с ребячески маленьким носом, на котором еле держались теперь четырехугольные стеклышки пенсне. — Меня ведь ждут там… я могу жаловаться, но я не такой…
— Ша! — сердито вдруг отозвался Сендер. — И за пятнадцать не повезу. Порожняком поеду, чтоб не было моим лошадям обидно такого пассажира везти! Обязан я возить? Не обязан: я не земский ямщик, а сам себе барин. Не нравитесь вы мне — и все тут.
И прежде чем молодой человек успел ответить, Давид Сендер дернул вожжами, и пара застоявшихся почти галопом понесла его к тракту.
С тех пор прошло много лет. В короткий, полукруглый ус вошла седина, и стал он, вместо русого, сивым — чуть светлее мохнатой оттопыренной брови, убыло озорство, но своенравным как был Давид Сендер, так и остался.
Вместе с зрелым возрастом пришла хозяйская деловитость, которая смешивалась еще в нем с грубоватой хитрецой и жуликоватостью, а местные извозчики — если послушать их — склонны были даже обвинить его в темных проделках и в связи с преступным миром, хотя прямых доказательств тому не имели. К тому же они все побаивались Давида Сендера и предпочитали жить с ним в дружбе, и он нередко оказывал им услуги.
Даже тогда, когда прочное, казалось, извозчичье благоденствие его было прервано неожиданным арестом Сендера и всего его имущества (а это случилось тогда же, когда у всего Дыровска было уже на устах имя Нюточки Сыроколотовой), — даже тогда приятели извозчики не верили в окончательную гибель этого благоденствия. Они ошиблись на этот раз, так же, как по-своему ошибся в Давиде Сендере еще один человек, для которого эта ошибка оказалась роковой.
Но — будем последовательны в нашем повествовании.
В один из весенних дней во двор к Давиду Сендеру явился и посыльный местного военного комиссариата и передал ему под расписку бумажку за печатью и подписью комиссара. Комиссар предлагал ему выехать обязательно к сегодняшнему вечернему поезду и доставить в город прибывающего в Дыровск нового военрука, товарища Стародубского.
— Чего так? — спросил Сендер. — Пускай ваш комиссар свой выезд пошлет, а у меня свои дела имеются.
— Так что все казенные лошади в срочном разгоне. Деньги свои получишь. Доставишь — и утром получишь.
— А почему казенные лошади в разгоне? — посмотрел на посыльного Сендер. — У кого это такие важные дела?
— Известно, какие бывают дела… Сендер тотчас же сообразил:
— Банды? Опять? Может, опасно ехать?
— Эх, трусило! Где Пески, а где Снетин!
— Ладно, — сказал Сендер. — Готовьте завтра денежки: мои кони нэп уважают!
За час до прихода поезда он вместе с остальными тремя извозчиками расположился у станционного подъезда.
— Давидка! — удивлялся один из его сотоварищей. — А где же наш уговор — ездить всем по очереди и четвертому не приезжать?..
— Что это за свинство!…
— Без волнений! Я уже своего пассажира знаю. И он показал предписание из военкомата.
Он действительно узнал «своего пассажира» среди кучки торопившихся к выходу людей, только что вылезших из поезда. И даже не столько потому, что прибывший был в военной форме, сколько по тому, на ком она была надета.
Военрук Стародубский был громадного, почти саженного роста, черты лица у него были крупные, усы, брови, бачки -смолянисто-черные, густые. В обеих руках у него было по чемодану (они были велики и, как убедился Сендер через минуту, тяжелы), но приезжий нес их свободно и легко, не укорачивая и не заплутая шагов, что указывало, несомненно, на его большую силу.
Он посмотрел на извозчиков, словно ожидая встретить среди них кучера в военной форме — лошадей военкомата. Удивленно взмахнул бровями и чуть-чуть нахмурился, не найдя их. Но Давид Сендер уже дал знать о себе. Он быстро пошел навстречу к приезжему и протянул руки к его чемоданам.
— Товарищ военрук — пожалуйте! Лошади дожидаются. Приказано привезти вас.
Стародубский смерил взглядом коренастую, крепкую фигуру говорившего и отдал ему оба чемодана. Теперь военрук невольно заметил силу извозчика: последний с такой же легкостью нес грузную поклажу. «Не плох, сукин сын!» — подумал о нем тогда же и, усаживаясь уже в фаэтон, сам не зная почему, — полюбопытствовал:
— Как зовут тебя, а?
— Давид Сендер, товарищ военрук, — обернулось к нему с козел бурое обветренное лицо, в свою очередь с любопытством еще раз посмотревшее на седока. — Эй, вы, ходуны, пошли!
— Силы в тебе порядочно, вижу… — одобрительно улыбаясь, сказал Стародубский.
— Бог не обидел, — поощренный похвалой, крякнул самодовольно Сендер. — Меня в городе всякий большой и малый гражданин знает: спросите — скажут, кто есть извозчик Давид Сендер. Эй, дорогу освободи!
Серые в яблоках (гордость хозяина) рванулись и впереди всех бодрой рысцой побежали по дыровскому тракту. А через два часа, уже вечером, они доставили военрука в тихий маленький город.
— Куда прикажете? — спросил Сендер.
— Вези в гостиницу — куда ж тут больше!
Вот отсюда, из гостиницы, и пошло через несколько дней гулять по городу не совсем обыкновенное прозвище, данное военруку Стародубскому. Отсюда и пошли о нем те первые сведения, которые вызвали к нему немалый интерес со стороны многих дыровских горожан.
Почти саженный рост приезжего, широкое, сильное тело делали военрука заметным в городе. Так и установилось за ним прозвище: Полтора-Героя. И дала его не кто иная, как содержавшая «меблированные комнаты с обедами» вдова Юлия Петровна (сама имевшая прозвище: «коммунальное ложе»).
Показался героем (именно — героем!) приезжий жилец молодившейся Юлии Петровне. Во-первых, он назвал ее, при первой же встрече, давно забытым уже здесь словом «мадам», а, во-вторых, на вопрос ее, Юлии Петровны, кто он такой, — неожиданно отрапортовал, «как в старое время»:
— Бывшей службы пехотный капитан, ныне — военрук Стародубский.
Воскрешенное слово «мадам» — уже этого одного было достаточно, чтобы вызвать похвалу «истосковавшейся по культуре» Юлии Петровны Синичкиной, открытое же упоминание прежнего офицерского чина — это было смело, даже самоотверженно, это геройство!…
Впрочем, была еще одна причина, вызывавшая искреннее удовлетворение Юлии Петровны поступками военрука Стародубского. Но поведать об этом — это значит быть не совсем скромным и уподобиться той самой ехидничавшей коридорной девке Анютке, которая, уходя ночью из номера приезжего губернского кооператора, ясно слышала в соседнем номере восторженный шепот своей хозяйки… Прочь, прочь недостойное подслушивание и соглядатайство!
С легкого языка Юлии Петровны так и осталось в городе и военруком: Полтора-Героя. Это необычное прозвище обещало скучающим дыровским дамам очень многое. Чем черт не шутит — все может случиться! А почему этому самому «черту» не одарить безропотный Дыровск одной из своих великолепных «шуток»?
Разного ожидали дыровские горожанки: бывший пехотный капитан мог оказаться обладателем прекрасного голоса — почти шаляпинского, может быть; или он сможет быть украшением любительских спектаклей местного наробраза, играя в них Несчастливцева или роль Неустрашимова — мужественного героя из не менее мужественной «коммунистической трагедии» «Красная Свобода», написанной признанным здесь «рабоче-крестьянским поэтом» — Левой Посвистак, бывшим когда-то агентом по продаже сельскохозяйственных орудий.
А если Полтора-Героя лишен был артистических дарований («Это было бы очень печально», — вздыхали местные дамы.), то уж во всяком случае, он имел все необходимые данные стать во главе общественного (не комсомольского) спортивно-экскурсионного кружка и взять в свои руки, скажем, организацию загородных «культурно-просветительных пикников» и катанья на лодках. С ним будет весело и приятно — в этом никто из дыровских мечтательниц не сомневался, — да уж и очень хорошо рекомендовала всем военрука вполне довольная им Юлия Петровна Синичкина…
Так отнеслись к приезду его горожанки. Горожане же безмолвствовали и выжидали.
А когда Полтора-Героя, пожив несколько дней в меблированных комнатах — с огорчением отпустившей его — Юлии Петровны, переселился по ордеру в дом бывшего купца Сыроколотова, где раньше жил его, военрука, предшественник, — горожане и горожанки не без основания считали, что пребывание его в семье Сидора Африкановича будет наилучшим образом способствовать наиболее тесному знакомству с бывшим пехотным капитаном.
Однако военрук Стародубский вскоре же всех разочаровал. Он не обнаружил ни особых качеств, ни особого своего внимания к местному «беспартийному обществу», о чьей симпатии к нему, бывшему пехотному капитану, поспешил доложить старик Сыроколотов.
Первых постигло разочарование — горожанок. Встречаясь на базаре с Нюточкиной матерью, они неизменно спрашивали об одном и том же:
— Ну, что? Как военрук, Елизавета Игнатьевна? Как наш Полmopa—Героя? А?
Нюточкина мать морщилась, неодобрительно кривила губы и делала жест отчаяния.
— По-прежнему!
— А что?
— Пьет — вот что! Как лошадь какая… Угрюмничает!
— Скажите-ка на милость! Пьет? А… а Нюточка как ему?
— Нюточке он не пара — о чем уж тут говорить! Он к ней -псе равно что к вам… — успокаивала Елизавета Игнатьевна подозрения любопытных горожанок.
— Так говорите — пьет? Угрюмничает? — в раздумье переспрашивали они, и кто-нибудь из них, из сочувствия к пьющему Полтора-Герою, тотчас же находил причину такого состояния военрука:
— Неудивительно, знаете, конечно… Ей-богу, неудивительно! Ведь сознательный русский человек и запить теперь может. Каково ему, настоящему военному? А? Понятное дело, иродово племя на коне!…
А вскоре о военруке Стародубском перестали расспрашивать, и прозвище его, Полтора-Героя хотя и осталось за ним, по получило оправдание только лишь в глазах благодарной Юлии Петровны. Дыровский базар — место, где узнавались наиболее интересные новости и сплетни, — забыл о военруке и снова зажил своей обычной жизнью.
Вот так.
К полудню затихал базар — застывал трясущийся людской студень, брошенный вдоль каменной мостовой у старой церкви Покрова Пресвятыя Богородицы.
В небе — солнце скороспелое чрево свое горячее выперло, духота на земле, размеренность; в городских домах закрыли (для «холодка») деревянные ставни, хозяйки давно уже состряпали обед, нужды в покупке уже ни у кого нет, — а базар все же не исчезает, людской студень не растапливается на солнце, не растекается от духоты.
До позднего дня хлюпается, трясется, бубнит базар у ног Покрова Пресвятыя Богородицы, а прикроется денное горячее чрево предвечерним паутинным оползнем — студень тает.
И остаются уже тогда, словно обглоданные кости: голые ларьки на запоре, базарные лавы да десяток дыровских нищих, подбирающих, соревнуясь с дыровскими собаками, базарные отбросы.
А до солнечного оползня — и завтра так будет, и вчера было, под солнцем ли, под дождем ли — хлюпались люди в дыровском студне, словно законсервированная жидкость: не меняясь.
У церковной ограды и до самых дверей «Сельхозкоопа», сидя рядком на тротуаре и нахлобучив картузы, покуривали и беседовали местные извозчики о своих всегдашних делах — о ценах на овес, о конских торгах, назначенных в военкомате, о руках военкоматского завхоза: прилипают ли к ним бумажки, и сколько нужно, чтоб они прилипли… Почти нет работы для извозчиков в самом Дыровске, потому что коротки улицы в Дыровске и оскудел карман у здешнего горожанина.
У базарных ларьков — свои разговоры, и тоже о ценах; на мясо, рожь, на гуся и на яйца, на кожу и материю.
А последнее время еще политикой на базаре занимались. Соберутся соседи по ларькам и обсудят все.
— Херзон, говорят, Джонбулю на коммунистов двигает — во как!
— Джонбулю? Это как же?… Пулемет вроде али держибабель?
— Держибабель — не иначе!
— Да уж не скажу наверно, только известно, что выдумал англичанин против коммунистов новую штукенцию. Сам вчерась слыхал: хамсомол в газете вычитывал. У нас, известное дело, насупротив такой выдумки…
— Ни хрена! Не выдумать против Джонбули! Никак!
— Наши больше насчет обложения да налогов!
— А он, гляди, и припрет суднами к самой Москве!
— Будьте у Верочки!…
…За тротуаром, подпоясанная железной оградой — долгие годы нерушимо стоит старая церковь. Снять ее, оскудевшую, из-за ограды, поднять над дыровским студнем и опустить над ним, над хлюпким скопищем дыровских горожан — колпаком послужит. По мерке.
Глухой колпак… Тяжелый…
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Полтора-Героя превращается в Полтора-Хама
Сегодня, как и всегда почти, пришел вечером Юзя: высокий, тонкий, с лицом, густо вкрапленным веснушками, с желтым миндалем узких глаз — мягких и влажных, как два расплескавшихся в обнаженной скорлупе век яичных желтка. Изможденное, просвечивающееся лицо обросло жесткой каштановой бородкой — и оттого Юзя кажется значительно
старше своих двадцати четырех лет.
Его можно узнать еще издали и сзади: Юзя ходит чуть пошатываясь из стороны в сторону (у юноши длинные ослабевшие ноги), в одной руке у него всегда книжка, в другой — неизменно — палка. Дубинка эта тяжела и сучковата, и кажется, что тяжесть ее непомерна для худых, костлявых рук, гнет книзу легкое Юзино тело, — он был заметно сутул, и плечи были вогнуты кпереди.
Так ходят старики и тяжело больные: Юзю одолевал туберкулез.
После Юзиного рукопожатия Нюточке хотелось всегда насухо вытереть свою руку, потому что было всегда боязливое и брезгливое чувство к потной Юзиной ладони и к его костлявым сырым пальцам. Так и делала — незаметно для Юзи: потирала руку о краешек деревянного крылечка, на котором сидели, или о кирпичный выступ дома, а потом долго комкала в руке свой надушенный носовой платок.
Пришел — и, как всегда, сели на крылечко, поодаль друг от друга. И, как всегда, разговор начался так:
— Юзик, расскажите что-нибудь. Только новенькое…
Вряд ли предполагала Нюточка, что сегодня Юзя сообщит ей что-то новое, необыкновенное в его устах, что внезапно взволнует ее и на долгие дни врежется в сознание и жизнь. Ведь так привыкла уже к тому, что в каждую встречу Юзя рассказывал ей почти об одном и том же и одним и тем же тихим, усталым голосом: о том, что в рабочем клубе готовятся к новой постановке, а в городскую библиотеку прислали десяток новых книг, что в уезде открыли дополнительно медицинский пункт, что крестьяне в деревнях помогают советской власти вылавливать бандитов, что в совхозе «Шлепковцы» нашли кости мамонта…
Ах, как скучны и знакомы все рассказы милого и непонятливого Юзика! Но всегда слушала их, иногда даже переспрашивала о чем-нибудь — и все для того, чтобы не умолкал Юзя, чтобы можно было дольше чувствовать его подле себя — единственного человека, который захотел бы, — знала, — смог бы с искренним сочувствием выслушать ее собственные, никому не интересные, горькие слова…
Но наряду с этим чувством внутренней благодарности к тихому и, как знала, сердобольному и чуткому юноше — было еще и другое: оно по-своему давало скрытое удовлетворение. Это второе чувство порождалось в ней не какими-либо поступками Юзи или ее собственными, не дружбой, существовавшей между ней и юношей, а хорошо известным женщинам — инстинктивным сознанием того, что вот, захоти она, Нюточка, — и, может быть, Юзя неотступно последует за ней, будет еще сильнее чувствоваться его привязанность к ней — пусть только на некоторое время, но его будет совершенно достаточно, чтобы Нюточка могла с удовлетворением осознать превосходство своей воли.
Но, робкая сама и безвольная, никак не уверенная в себе, не видящая своего собственного пути в жизни — она никак не могла бы решиться на проявление этой воли, да к тому же тихий болезненный Юзя ни разу не превращался в ее мечтах в того мучительно желанного человека, чей прообраз и мужественную силу привыкла отыскивать в беспокойной парижской гравюре, висевшей над кроватью.
Это второе чувство, не доведенное до конца, сказывалось, пожалуй, только в том, что в отношениях Нюточки к Юзе иногда заметна была некоторая фамильярность, едва уловимое капризничанье старшего друга. Еще была бессознательная утрата присущей девичьей стыдливости, потому что только к Юзе могла Нюточка, не замечая того, прислоняться плечом, только в его присутствии могла небрежно переложить ногу на ногу или закинуть за голову полуобнаженные руки — так, как сделала вот в эту минуту…
— Юзик, милый Юзик, опять вы про тысячелетнего мамонта! А я хочу о другом — о другом, понимаете?…
Опустила ему руку на плечо, и он умолк.
И если бы он продолжал свой рассказ сейчас — Нюточка все с равно уже его не слушала бы: глаза теперь упорно старались рассмотреть то, что происходило недалеко от крыльца.
В лишайчатых, постепенно густеющих сумерках, у дерева напротив веселый красноармеец мял одновременно, в шуточной игре, двух голоногих взвизгивающих девок, и обе девки, в свою очередь, норовили повалить парня на землю. А потом и девки и красноармеец, в горячей возне, громко смеясь, побежали через двор к саду — сцепившись, борясь. Они давно уже исчезли, вокруг стало пустынно, а в потревоженной вечерней тишине звучал еще ничем не сдерживаемый клекот их голосов, и словно покачивалась вокруг земля, как лодка, оттолкнутая ударом весла о берег…
И сад смотрел из-за низкорослой изгороди таинственным, лукавым заговорщиком, и бесшумный ленивый ветер медленно двигал его мохнатую бровь зацепившихся друг за друга пахучих ветвей.
— Юзик, — вздрогнула девушка, — придвиньтесь ближе… кот сюда, ко мне.
И потянула его за рукав.
— Ближе… совсем. Я облокочусь на вас, а вы рассказывайте… о чем хотите, рассказывайте.
Она прижалась к нему: локоть положила на колени, а голову прислонила к его худому тонкому плечу. И Юзику приятно, он старается не двигаться.
— Ну, Юзик, милый, только не молчите теперь! Я прошу вас… Ее голос звучит взволнованно и волнующе — и он, Юзя,
уже, чуть заикаясь и покашливая, тихо и медленно роняет неожиданные для Нюточки слова:
— Анна Сидоровна… Может быть, я не имею права говорить об этом… Я ведь больной человек, и к тому же мои слона могут показаться вам чрезмерно грубыми…
— Юзик, о чем это вы? — встрепенулась Нюточка и в наступившей темноте старалась разглядеть теперь получше почти скрытое от нее лицо юноши. — Вы никогда, Юзик, не скажете грубости.
— Я скажу вам. Но если… если мои слова покажутся обидными — забудьте их. Понимаете — забудьте. Я не хочу вас обидеть, но во мне сейчас говорит то — понимаете? — то, на что даже я, больной, туберкулезный, но еще не расставшийся с жизнью, имею… ну, имею право покуситься в этой самой жизни! Я не люблю лжи и не умею долго скрытничать.
— Юзик, родненький, да скорей же!
— Скорей?… — услышала вдруг задыхающийся, судорожный шепот. — Вот… вот, и простите меня!
И Юзя крепко обнял ее дрожащей тонкой рукой.
— Вот… вот моя грубость, но я не виноват. Разве можно меня винить?…
— Нет… нет. Нельзя винить, — тихо, совсем шепотом сказала Нюточка, и в тот момент она уже забыла о хилом туберкулезном юноше, нерешительно державшем ее в своих объятиях, и думала только о себе самой. Это ее, Нюточку, нельзя винить за то, что не оттолкнула сейчас потных костлявых пальцев, сжавших ее кисть и плечо, это ее, Нюточку, нельзя винить за то, что сладостен ей сейчас никогда не испытанный раньше озноб всего тела, неумолимо требовавшего ласки, в которой ему было отказано ее, Нюточкиной, жизнью…
Вечер черный, пахучий и дурманящий, как тягучая расслабляющая брага, — и уходит все реальное из памяти, и отбегает далеко вглубь отогнанное, расслабленное сознание.
— Юзик! Ах, какой вы смешной и хороший, Юзик!…
Она берет его руку и прикладывает к своей груди, и тонкие чужие пальцы нежно гладят ее.
Черный вечер как-то по-особенному вдруг надвигается на крыльцо, он шагает уже прямо на него, превращается внезапно в громоздкий, массивный силуэт — и знакомый басящий голос падает на притихшее крыльцо:
— Добрый вечер, Анна Сидоровна. Разрешите пройти…
На ступеньку опустилась тяжелая нога военрука Стародубского.
Юзя поспешно встал и пропустил его в коридор. Военрук зажег спичку и, обернувшись на ходу, посмотрел на юношу.
Поднялась с крыльца и Нюточка. Она неожиданно устыдилась того, что кто-то чужой и всегда неприветливый, вероятно, увидел, как близко друг к другу сидели они здесь, что он заметил, с какой неестественной поспешностью вскочил при его приближении Юзя, до того обнимавший ее плечи… И имеете со стыдом пришло вдруг то, что сама ощутила как отрезвление, потому что глаза вспомнили теперь хилое, болезненное лицо Юзи, а руки словно вновь ощутили брезгливо холодные потные ладони, которые так легко (этого всегда боялась) могли передать и ей безжалостный туберкулез.
В эту минуту юноша стал противен ей, раздражала даже кротость, с какой он смотрел в ее лицо. Нюточка, не протягивая руки, громко сказала:
— До свиданья, Юзик. Мне нужно уже уходить. Прощайте, милый Юзик…
— Вы не сердитесь? — хотел он спросить, но она была уже за дверью.
Он поднял с крыльца свою сучковатую дубинку, застегнул наглухо пиджачок и медленно свернул к переулочку, в конце которого находился его дом.
В коридоре Нюточка на минуту задержалась, проверяя запоры, и она слышала, как вдалеке захлебывался от приступа протяжного кашля чахоточный Юзя.
Стало жаль его и, как всегда, стало жаль и себя самое, и, когда очутилась в своей комнате, не смогла уже сдержать своих слез, почти истерического плача.
Неожиданно кто-то приоткрыл из передней дверь в комнату, остановился на пороге и насмешливо, грубо сказал — такое, что сразу и не поняла:
— Ух, разлив какой! Жидкости-то сколько. Фаллопиевы трубы лопнули — что ли, барышня?… Мешаете спать!
И Полтора-Героя тотчас же вышел, с силой прихлопнув дверь. Нюточка заметила, что он был пьян.
Вначале не поняла: фаллопиевы трубы?… Но вскоре расспросила кое-где — и тогда назвала в душе военрука «циником и животным».
И окрестила по-своему — Полтора-Хама…
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Семья Сыроколотовых
После этого случая Нюточка избегала встреч с военруком Стародубским: думала, что, даже будучи трезвым, он обязательно вновь нагрубит, вновь оскорбит ее девичье самолюбие. Но Стародубский, казалось, забыл о своем пьяном выкрике. По-прежнему он с сухой учтивостью раскланивался с девушкой, почти ни о чем с ней не говорил, и после каждой встречи с ним Нюточка мало-помалу и сама начинала забывать недавнее происшествие. А встречаться приходилось каждый день — за обедом.
На первых порах и сама Нюточка, и старики Сыроколотовы, выходя к обеду, надевали платье получше, поопрятней, к чему, сознавали, обязывало их присутствие в доме чужого человека — бывшего армейского капитана (это последнее обстоятельство в глазах Сыроколотовых имело немаловажное значение). Но когда обжились — все почувствовали себя свободней. Идя к столу, Нюточка не пудрила уже потного носика, ни крошечного подбородка, чуть раздавленного пухлой ямочкой, не подбирала «невидимкой», как делала на службе, смятую паутинку своих рыженьких волос, сползших к щекам.
И военрук сбрасывал теперь свой казенный китель и облачался в синюю косоворотку с распахнутым воротом, открывавшим шею и часть груди.
Сидя за обедом напротив него, Нюточка видела всегда, как вьются на твердой груди Полтора-Хама густые, как шерсть, черные волосы, подставившие свой клинышек под самое горло. И казалось тогда: жесткой, мохнатой суконкой оброс Полтора-Хама.
…Рыжей смолой вскипает и плавится июньское солнце. Вот-вот расколется камень, спичкой сгорит изнуренное дерево, клейкой под ногами человека станет горячая земля.
— Африка! — тяжело дышит старик Сыроколотов. — Не приспособлен я, ей-богу!… Давно не помню такого.
На его лице, на побагровевшей вздутой шее — как на сыром полене, брошенном в жаркую печь, — пузырятся крупные обвислые капли пота. Длинный — огурцом — прыщеватый нос громко сопит, и тихо колышется оттого выглядывающий оттуда кустик полуседых-полурыжих еще, мокрых волос.
И таким же мокрым, слоистым глазом Сидор Африканович подмигивает своему соседу — военруку:
— Ан-ну, Платон Сергеич?… Что делается, что делается… Товарищам-то нашим небесные силушки наперекор идут. Не подчиняются декретам там, наверху? Хэ-хэ… Придвинь-ка сюда квасцу, Елизавета Игнатьевна!… Говорю, дождю б пора, на корню так выжечь может: хлебушка народный пропадет. А?
За обедом говорят все мало, неохотно. Изредка только кто-нибудь вмешается коротким словом в разговор Сидора Африкановича, и то не в ответ ему, а — так, утомившись молчать за едой. И все время, пока сидят за столом, так и ведет весь разговор один старик Сыроколотов: сам вопросы ставит, сам же и отвечает на них.
— Не одна засуха бедой придет… А почему не грянуть различным событиям, а? Всяко может.
Куриные косточки покорно похрустывали под его еще крепкими большими зубами.
— И-и-е-ех, что может случиться! Что, Платон Сергеич, не правду я говорю, а? Вот курочка… курочка-то вот разве знала, что с ней будет, а? Знала? А вот пришла, например, Елизавета Игнатьевна, взяла курочку за горлышко и — чик-чирик курочку!
На одну секунду по лицу Стародубского пробегает черствая ироническая усмешка: — Как же это так — чик-чирик?
— Как? Война!
— Ерунда! — уже небрежно и вяло роняет Стародубский. — Не верю.
— Спорите? А еще военный человек! Война — по всему видно. Ей-богу, война! Пахнет, пахнет, Платон Сергеич! И начнется самым простецким образом. Как там это… иностранным словом теперь называется, а? Вот — интервенция, да! (Оба «е» в этом слове произносил совсем мягко, растягивая.) Пунктики-то все, думаете, в газетах поместили? Что? Э-хэ, как бы не так! По совести скажу вам, как человеку непартийному: самое главное украли — признание собственности, вот что! Ту-те и корень… корешок, корневище, хэ-хэ-хэ!… Будьте покойны. Будьте благонадежны. Нюточка! Подвинь сюда стаканчик…
Бултыхало в горле от выпитого залпом квасу, изо рта шла кислая теплая отрыжка, защекотавшая вдруг ноздрю военрука. — Плевать! — громче обыкновенного говорит он и отворачивается от своего соседа. — На все это наплевать!…
— На что это? — не унимается уже Нюточкин отец и еще ближе придвигает свой стул к военруку. — Нет-с, Платон Сергеич. Нет-с. Плевали уже. Всю собственность… всю Россию вот и выплюнули-с. Нет, скажете? Помяните мое слово: быть на Руси имуществу свободным. Без этого нельзя, знаете ли, — культура! Возвратят имущество — помянете мое слово…
Разговор на эту тему старик вел неоднократно и упорно. И то обстоятельство, что ему никто никогда не возражал, вселяло в нем уверенность в безусловной правоте его мыслей, казавшихся ему, человеку ограниченного умственного кругозора, наивысшим политическим откровением.
Частенько под вечер Сидор Африканыч, медленно и степенно шагая, заложив руки за спину, направлялся к бывшей Дворянской улице, где расположена была его усадьба, занятая теперь дыровским парткомом. Дойдя до нее, Сидор Африканыч на минуту останавливался, бросал на нее короткий, подозрительный взгляд (словно хотел этим сказать: «Что, не унесли еще, терпишь еще?…»), потом переходил наискосок на противоположный тротуар и садился на скамеечку подле чьих-то чужих ворот. Оттуда он в течение получаса наблюдал свое имущество.
О чем только он не думал в эти минуты! Поистине, это походило на тайное, запрещенное свидание двух разлученных, которые, однако, могут только созерцать друг друга, но не вольны о чем-нибудь друг другу поведать…
Конечно, можно жить воспоминаниями, можно думать вот об этом самом широком, просторном доме так, как будто бы ничего в России, в Дыровске, у него самого, Сыроколотова, в семье не изменилось, как будто не только не было на этом покорившемся доме пыльной красной вывески, заградившей к нему доступ, но не было и того приезжего купца — последнего владельца этой усадьбы, купившего ее и тем самим спасшего его, Сидора Африканыча, от постыдного банкротства.
Конечно, о приезжем купце можно не думать: он даже не жил здесь, он ничем не нарушил обычного для сыроколотовского дома течения жизни, он никак не запечатлелся в памяти этого дома, — но о своей, сыроколотовской жизни (о, как хороша она была в памяти Сидора Африканыча!), он мог вспоминать долгими, долгими часами…
Однако не только о прошлом думал старик Сыроколотов, наблюдая с противоположного тротуара свою усадьбу. Его хозяйский глаз каждый раз пытливо щупал ее и каждый раз засорялся он замеченными непорядками: то доска в заборе кем-то (для чего — неведомо) оторвана; то опять новая ссадина на лице дома — вдребезги разбил кто-то стекло двадцатилетней давности; то кирпич в стене силится упасть: пройдет кто-нибудь мимо, затронет невзначай рукавом -сорвется, упадет на землю старенький, оставленный без присмотра кирпич. Вот подойти бы, вправить его по-настоящему в стену, как вывихнутую в ноге косточку, — чуть-чуть цементиком подкрепить — и на долгие годы старенького кирпича хватит. Эх, разорители безбожные, а?…
— Вдзвратят имущество, не обойтись без этого, как Бог Свят! — не унимается у себя дома Сидор Африканыч. — Заставят их! Англия потребует, купцы европейские. Купец англицкий не тюфяками торгует — министрами! Ему, купцу, -друг мой, Платон Сергеич, — русская копеечка нонче в мозгу засела. Баста, значит, в тонкости там разные играть! Платите, судари мои! Платите, а не то…
Он тупым, коротким пальцем проводит у себя по горлу:
— Ка-а-аюк, судари мои.
…После обеда — как вчера было, как завтра будет: знает Нюточка, что ничто не изменится в этом доме.
Отец уснет на диванчике; гулкий, с присвистом, храп всколышет его оплывшую грудь; на потном лице, у выслюнявленных отвислых губ станут ерзать щекочущие мухи, они заползут в бороду, в безжизненные, вялые усы. Мать, Елизавета Игнатьевна, охая и вздыхая, будет долго мыть посуду на кухне и после этого тоже приляжет на часок и тоже всхрапнет, а военрук Стародубский, закурив послеобеденную папиросу, отнесет привычным ровным шагом к себе в комнату два аршина двенадцать вершков своего мускулистого, военной выправки тела.
А на улице в это время так
Дома стоят черствыми деревянными буханками. Редко кто опылит уличный рукав неохотным шагом. Босой мальчишка пухлую пыль взлохматит — от безделья, по шалости своей мальчишеской; нищенка разве — худая, сморщенная, как мутный нерассыпавшийся сухарь — проскрипит у калитки, упавшей с петель; или из каких-либо ворот проплывет вдруг за угол собачья стая: хвосты у собак плетью опущены, изо рта слюнявый бесстыдный язык торчит, а глаза — мокрые, горячие — вонзены в бегущее, качающееся впереди, покрытое клочковатой шерстью сучье мясо.
И мальчишка — от скуки своей, от безделья — бросит камень в собачью стаю:
— Ишь ты… свадьбу псы задумали!
Еще камень и еще вдогонку, уже чем попало швыряет в суку, в преследующих ее псов; и вдруг бултыхнет неверный камень в чьи-то ставни, в чье-то стекло; но никто не выскакивает из сонной деревянной буханки — и мальчишка (ох, задорный мальчишка!) уже нарочито нацеливается в ставни, в стекло, а потом опять гонится за псиной стаей — через дворы, через сады, опять по улице, гонит под ноги ссохшейся мутнолицей нищенки — и радуется мальчишка ее испугу, радуется проскрипевшему человеческому голосу.
И — опять на улицах тупая, ржавая дремота.
Вчера было так — завтра будет.
То— оска! Скучно Нюточке.
И разве знать ей, что в печали большой обозвал ту самую скуку, тоску русских уездных городов, обозвал кто-то далекий, ей, Нюточке, неизвестный русский писатель — великопостной, великопостной русской скукой обозвал от печали великой?
Полтора— Хама
И другой, Дыровски-города выстрадавший, в горьком своем смехе проклял ее, улицами на старой Руси проложенную. И третий, и еще, и еще другие часто скажут о ней, о вековой русской скуке одноликих уездных городов, о непокаянной блудной тени русской души, ибо не сказать о ней — не сказать всего об уходящей России самой…
…Ночами томилась Нюточка, и ночи были душные, густые, темные — что цыганская бровь.
Утром выходила в кухню, к Елизавете Игнатьевне, и смотрело на мать блеклое, с мятыми глазами, с припухшими пожелтевшими веками девичье лицо.
— Плохо спишь, Нюта, вижу я, — укоризненно говорила мать. — Нехорошо. Цып-цып-цып, курочки… Цып-цып-цып…
Стоя на пороге, бросала птицам корм, и десятки кур, цыплят, уток хлопотливо возились у ее ног. И скажет вдруг Нюточка, зло скажет:
— Бросьте вы, мама, о ваших курах да индюшках заботиться… Дочь у вас есть. Вся жизнь моя тут уходит, а вы только: «не спится», «цып-цып-цып»…
— Ну, и дочь. Что ж, что дочь? Двадцать седьмой год это знаю, а когда зятя увижу — вот того не знаю!
— Ах, так. Ах, так!… — скорчится в слезах Нюточка. — Из-за вас ведь тут гибну, из-за вас. А она смеет еще?! Зятя вам нужно… зятя? Вот расстелю себя сегодня же какому-нибудь красноармейцу или мужику — имейте зятя, имейте!… Слышите — расстелю!
Елизавета Игнатьевна спокойно покачивала головой и спокойно говорила:
— Правда, муж больно тебе надобен. Не век в девушках жить — верно это. Только не дури: не подложишь ты себя всякому кобелю, никак того не сделаешь — слава Богу не так учили мать с отцом дочку. Надо искать мужа законного — слышь? И отец твой ищет — найдем: мы не последние в городе. А ты б к доктору за советом пошла: нелишне будет. Лекарство, может, успокоительное… Цып-цып-цып, курочки…
И незадолго до того, как в дом их пришел тот, кого счастливые родители пожелали увидеть ее женихом и мужем, — Нюточка отправилась к врачу.
Доктор Стрепачевский тощ, худотел, рачьи глаза, бородка седая, плешивенькая, — но вспыхнуло Нюточкино лицо от знакомой дрожи, когда услыхала:
— Нет, голубушка: надо сбросить кофточку. Совсем. Надо по-настоящему выслушать.
Он услужливо помогал ей снимать батистовую кофточку, зацепившуюся некстати за разломанную пуговку лифчика. Стрепачевский прикладывал свою волосатую щеку к груди, к спине Нюточки, выстукивал, трогая вздрагивавшее тело теплыми костями пальцев, вывертывал веки, усаживал на кушетку и легонько бил ладонью по вскинутому коленку; потом, глядя равнодушно зелеными рачьими глазами на торопливо одевавшуюся Нюточку, деловито сказал:
— Тэк-c… To, что и следовало ожидать: у вас сильнейшая неврастения на половой почве Да, да — вам нечего смущаться. Я вам дам, конечно, рецептик, но это не все. Да, да. Вам надо взять у жизни то, что полагается уже брать в вашем возрасте. Понятно?… И знаете, — продолжал он равнодушно, прописывая рецепт, — как доктор, как страж, так сказать, человеческого здоровья, скажу вам прямо: чем скорее это будет, тем лучше. Если… если не хотите вступать в брак (ну, мало почему — так?) — надо с кем-нибудь на время сойтись. Ничего ужасного в этом нет. Ничего!…Дома плакала и кричала:
— Не хочу больше мучиться — слышите, мама? Не хочу. Расстелю себя первому встречному…
Но в ту же минуту знала: никому не отдаст себя без креста и кольца храма Христова — никому! Еще крепка в памяти была тяжелая дубовая рама, обрамлявшая упрямый совиный лик бабки Анфисы, незримо присутствовавшей все годы в сохранившей свои устои сыроколотовской семье.
Еще не утеряла Нюточка своей трепетной веры в православный Христов храм, в купель и аналой, в святцы и канон всея Руси — прирученной церковью, от скопного страху — благоверующей, богонепокидающей. И сильна еще стоустая, стоязыкая молва дыровского люда, клеймящего позором непокорных церковных отступников…
И в ночи, тягучие и душные, мечтала только о любви — замужестве.
И вдруг свершилось: пришли и любовь и замужество. Но вместе с ними пришла для Нюточки Сыроколотовой и гибель. А когда нашли Нюточку мертвой, сразу и не догадались о подлинной причине ее смерти.
Однако в силу своей обычной привычки, повествователь успел уже — упоминанием о Нюточкиной смерти — огорчить внимательного читателя, может быть, даже уменьшить интерес его к этому повествованию, и сознание этого вынуждает нас продолжать его в дальнейшем последовательно, не раскрывая раньше времени значения и роли каждого из упомянутых здесь лиц, которые, каждое по-своему, в той или другой мере — сознательно или бессознательно — способствовали Нюточкиной гибели.
Но есть еще одна причина, требующая сейчас же со стороны повествователя оговорки: оговорка эта вызвана желанием сообщить читателю, что одно из упоминавшихся уже здесь лиц никак не повлияло, однако, на судьбу Нюточки Сыроколотовой, ничем не повинно перед ней и введено в это повествование самостоятельным «героем». Это лицо — Юзя.
Таким же «самостоятельным героем» этой повести может быть, наконец, и сам город, почем повествователь в дальнейшем позволит себе говорить о нем и его горожанах подробней — в искреннем предположении, что тем самым исправит до некоторой степени ошибку тех, кто до сих пор или совсем не замечал его (как, например, старые географы), или видел это в уже самые последние годы, когда заштатный Дыровск начал помаленьку преображаться по прообразу знаменитых и великих русских городов.
Вот то краткое и вынужденное «предисловие», которое (да простит нас читатель!) из-за рассеянности повествователя и по ряду других причин не появилось в начале этой повести.
ГЛАВА ПЯТАЯ. Туберкулезный Юзя и жизнелюб Вертигалов
После описанной нами встречи Юзя не приходил более к сыроколотовскому крыльцу. Вначале потому, что пришлось вечерами, после службы в больничной канцелярии, долгими, тоскливыми часами сидеть подле расхворавшейся туберкулезной матери-старушки, а позже — уже потому, что ему, как и всему городу, стало вдруг известно, что дочь Сидора Африкановича Сыроколотова добровольно покидает службу и выходит вскоре замуж.
— Та-ак… вот что-о!… — сказал он только, выслушав воскресным утром сообщение соседки, пришедшей навестить его мать. — Вот что-о… вот что, — повторял он несколько раз и почувствовал в тот момент, как душно вдруг стало горлу и тяжело — хилым, судорожно вздрогнувшим ногам.
Инстинктивно захотелось опуститься на стул, на кровать, но чувствовал, что от этого еще больше ослабнет, что и соседка и мать могут случайно заметить его волнение, — и Юзя тихонько сказав матери, что идет в библиотеку, вышел на улицу.
За все время его встреч с Нюточкой, да и теперь — ему ни разу не приходила в голову мысль, что он любит или может полюбить ее — полюбить как-то по особенному, как не смог бы, казалось, любить кого-нибудь другого. Этого чувства к ней у него никогда не было, но к ней, Нюточке, как и ко всем другим девушкам, женщинам, — было другое, о чем тайно сам себе сознавался, что вместе с тяжелой болезнью сверлило и подтачивало всего его, Юзю.
Двадцать четыре года Юзе, а не дано было жизнью любви: женщины не было в жизни.
И к кому не приходила в жизни женщина — будь то отрок или зрелый муж — тому дни будут терпким выжженным вереском, кровь станет горька, как скисшая брага, у того тело вязче сырого ила, а мысли — только об одном, непознанном: о женщине.
Им, не познавшим ее, женщина станет в мыслях только нагой плотью, и, чтоб узнать ее, они готовы будут сломать высохший вереск своих дней — забыв страх смерти… Так было и с Юзей.
Он не знал любви ни к одной, но каждую желала тайно его томящаяся мысль. Каждую! Ибо ни одна не открыла ему, Юзе, донья заключенной в ней радости.
Он знал еще: сгустками, сукровицами уходит из его тела горькая окислая кровь, ранняя немощь входит в его молодое подгнивающее тело, — а любит женщина, ищет женщина крепкую мужскую сыть, и люб ей удальный горячий оклик.
Оттого знал, что никто его не полюбит, оттого и сам не поверил бы в свою любовь. И если — влекомый зовом своего перегорающего тела — он и прильнул им первый раз в жизни к такому же тоскующему девичьему, то и тогда и позднее уже никак не ошибался в подлинном характере своего чувства: он не любил Нюточку так, как хотел бы он любить девушку, будучи здоровым.
Эта мысль, пока он медленно шел по городу, неожиданно успокоила его, и Юзя почувствовал, что лучше всего сохранит свою дружбу с девушкой, если подольше теперь не будет ее видеть.
Эта же мысль породила другую — осторожную и кроткую: о гибельности для него — больного, туберкулезного Юзи — всякого волнения. И он старался уже забыть поразившее его сообщение не в меру словоохотливой соседки…
Но все же оставался какой-то осадок слегка беспокойного, неприятного чувства, и одиночество могло только способствовать его настроению: Юзя остановился посреди дороги, словно вспомнил о чем-то неожиданно, и круто повернул обратно.
Через несколько минут он был у дома, на дверях которого была аккуратно прибита жестяная дощечка: «А.П. Вертигалов». Юзя вытер с лица пот, снял фуражку и шагнул через порог — в квартиру своего приятеля.
Здесь нашему читателю предстоит новое знакомство с человеком, о котором можно говорить в повести, как о лице лишь эпизодическом и мало связанном с ее фабулой, но лицо это, однако, никак не может быть упущено повествователем, для которого, как и для Юзи, образ Александра Петровича Вертигалова по-своему трогателен, приятен, хотя в некотором отношении, может быть, и чужд.
Если же добавить к этому, что действующие лица этой повести никак не связаны с той частью молодого Дыровска, которая одна могла бы порадовать наш глаз современника, если эти упомянутые лица могли повергнуть нас только в печаль — знакомство с жизнерадостным, поистине привлекательным Александром Петровичем Вертигаловым будет совсем нелишне. К тому же, без ссылок на разговоры с ним Юзи — нам трудно было бы рассказать печальную повесть об этом юноше.
Вертигалов арендовал принадлежавший ему ранее дом. К дому прилегал огород и фруктовый сад в добрую десятину, служивший значительным подспорьем для жившего в нужде Александра Петровича.
Кроме дома с огородом и фруктовым садом, были еще у бывшего адвоката семь душ детей разного возраста, двадцатилетняя подагра, листок безработного дыровской биржи труда и — всегда — хорошее настроение.
Он никогда почти не жаловался на материальные затруднения и не любил, когда кто-либо часто осведомлялся о его личных делах.
— Суета сует и всяческая суета, голубчики. Не обращайте внимания на эти «мелочи жизни», — всегда говорил он в таких случаях. — Дети? Слава Богу, что их семеро, — могло быть дважды столько! Что, разве не могло? А ну, спросите ее — жену? — весело подмигивал Вертигалов. — Подагра? В подагре политический строй не виноват, поверьте! Хожу аккуратно отмечаться на бирже, а дома, как видите, вот чем подкармливаюсь…
На террасе, где принимал гостей, на разостланной газетной бумаге парами стояли полотняные и брезентовые, мужские, и дамские туфли, которые шил теперь Вертигалов с помощью своих старших детей.
— Шью, голубчик, шью… Подковываю людские конечности. Вы думаете — жалею себя, или, может быть, проклинаю «виновников»? А? Врете — ничего подобного!
— Что вы, что вы! — соболезнующе заулыбается кто-нибудь из заказчиков. — Не для вас это занятие…
— А кто вам сказал, что это мое занятие? А?… Это занятие для моего брюха! Да, да, голубчик, это только для брюха. А брюхо у каждого человека, это — в лучшем случае только скромная свинья, — но все-таки свинья, которую все мы, кстати, стыдливо прикрываем одеждой… Что? Не так?
Юзе Александр Петрович о том же говорил интимней и подробней:
— Они не понимают, эти дураки, что мое истинное занятие теперь, это — думать! А? Да, да — думать. Что вы скажете по этому поводу? Они думают, Юзя, что брюхо, болтающийся язык, две ноги, две руки и еще кое-что от рождения — вот это и есть человек… Подите, объясните им, что есть еще одна "малость» — интеллект. А? Ох, какие великолепные дураки… Говорил Вертигалов быстро, сильно жестикулировал, подтягивая в то же время к животу мешком оседавшие брюки, наклоняя по-бычьи вперед свою круглую жидковолосую голову, а речь свою пересыпал всегда исконно русскими ругательствами. Так — при жене, при детях, при добрых друзьях — исконно русское, туземное слово, равнодушное к смущению собеседников, летело в них шипящими, друг друга догоняющими комьями.
А если кто-нибудь пытался робко протестовать, Александр Петрович простодушно пояснял ему:
— Не обращайте внимание, голубчик. Мое «славянофильство» только в этом и выражается! Но уже в этом случае я — «панславист»!
Юзя часами просиживал на вертигаловской террасе и слушал молчаливо и внимательно своеобразные речи возившегося с сапожными колодками Александра Петровича. А Вертигалов, кроме того, что любил и жалел задумчивого и болезненного юношу, — видел в нем еще почти единственного внимательного и интересующегося собеседника, которому он, не понятый никем Александр Петрович, мог открыть тайники своей мысли.
— Нет, голубчик, — советовал всегда Вертигалов, — это бесполезно: послушать, послушать умные речи — и уйти. Что, нет? Вы записывайте, Юзя, записывайте… Это — неповторяемые суждения единственного в России человека, умеющего видеть дальше своего носа. Ленин по-своему, и я по-своему! Нет? Ха-ха-ха… Нет, кроме шуток — разве вам со мной не интересно? Ну, сознайтесь!
Толстяк любовно охватывал обеими руками свой шарообразный живот, хитро и чуть насмешливо ежил из-под упрямого квадратного лба травянисто-темные маленькие глазки — два умных копошащихся муравья, ухвативших тоненькую соломинку иронии.
В прошлом — Александр Петрович Вертигалов был признанным в Дыровске адвокатом и непризнанным радикалом — «наибольшим из всех радикалов», как сам о себе, говорил.
В первые месяцы свержения самодержавия, в период, когда Дыровск готовился к избранию новой городской думы и нового городского головы вместо Герасима Трофимовича Мельникова; когда неожиданно объявились в городе различные политические фракции, членами которых оказались тихие, достопочтенные граждане или незаметные раньше горожане, вроде парикмахерского подмастерья Мойсейчика, в которых до того никак нельзя было заподозрить сторонников Маркса или революционного террора; когда, кроме этих фракций, опубликовали своих кандидатов в городскую думу домовладельцы и купцы, легковые и ломовые извозчики, портные, сапожники и оба дыровских часовых дел мастера — тогда вдруг все дыровские горожане узнали, что появился еще один предвыборный список, в котором горделиво значился только один человек: Александр Петрович Вертигалов.
А через несколько дней этот единственный в списке кандидат поверг в изумление своих незадачливых сограждан: впервые в Дыровске вышла газета, и было у нее не для всех понятное название — «Радикал».
Газету эту Александр Петрович отпечатал на собственные средства в местной типографии, а все, что было в ней помещено, было написано от начала до конца самим Вертигаловым. В «Радикале» Александр Петрович призывал все правоспособное население Дыровска голосовать за него, Вертигалова, а будущих членов думы убеждал в необходимости избрать его городским головой, так как он, Александр Петрович, не только хороший хозяин, культурный человек и демократ по природе, но и «радикал».
Последнее слово, повторяем, далеко не всем было понятно, вызывало у горожан различные догадки, а какой-то местный шутник и скабрезник истолковал его не совсем прилично, ибо сделал из него два слова, заменив первую гласную с буквой «о» и поставив в конце газетного названия ехидный восклицательный знак…
Газету Александра Петровича раздавали бесплатно горожанам его собственные дети: на семи углах стояли семеро молодых Вертигаловых и, улыбаясь, совали всем печатное произведение своего отца:
— «Радикал»! «Радикал»! Возьмите папину газету!…
Эта небывалая агитация привела к тому, что в первый же вечер на квартиру к Вертигалову явились — порознь — представители почти всех враждующих фракций, и каждый из этих представителей делал ему предложение баллотироваться по их списку.
Александр Петрович гордо отвергал все эти предложения, неизменно всем отвечая:
— Я не хочу терять своей самостоятельности. Я — радикал!
— Да что же это, наконец, значит — «радикал», разве вы не присяжный поверенный?! — взволновался седобородый одноглазый портной Зельман Шик.
Вертигалов ухмыльнулся, закрыл, из любезности к собеседнику, один свой глаз и совсем непонятно уже ответил:
— Вырастешь, Саша, — узнаешь!
Он попал в гласные городской думы, но после первого же заседания ушел из нее, когда его не выбрали городским головой.
— Юзя! — объяснял он свой поступок улыбавшемуся юноше. — Я их послал к чертовой матери. Лучшего городского головы они никогда бы не нашли. Был раньше геморроидальный дурак Мельников — никчемность, ничтожество! — так украсьте же свое самоуправление такой башкой, как у меня! Нет? После революции я мог быть только первым в городе, и это было бы справедливо…
Ни с кем так хорошо не чувствовал себя Юзя, как со словоохотливым, жизнерадостным Александром Петровичем. И не было для Юзи большего огорчения, чем то, когда узнал, что к осени Вертигалов собирается уехать в Москву.
— Сначала один, знаете ли, а потом и семью перетащу. Найдется мне там работа: я не дурак, не вор, большевиков наилучшей властью признаю — ого-го, как еще жить замечательно будем! А потом, голубчик, святой это долг такого человека, как я: нужно же помочь большевикам стать государственниками! Нет? Все живое обязано там, в Москве, быть!
И вот еще, что знал Юзя о мыслях жизнерадостного Александра Петровича, — что вызывало и в самом нем, Юзе, тайную надежду и радость обреченного туберкулезного юноши: пусть хоть все человечество думает, что оно смертно, а он, Вертигалов, в эту истину обязан внести «поправочку»:
— Интеллект, голубчики мои, не смертен, не пропадет, ибо есть он, интеллект самый, всюду, даже в камне!
Во время таких бесед — о смерти — длинные ресницы Юзи беспомощно и часто мигали, желтый миндаль встревоженных глаз становился тусклым, слезливым, а тонкая костлявая рука нервно подергивала пушистый мягкий волос на щеке.
И Юзя тихо говорил:
— Вот вы, Александр Петрович, не боитесь смерти… Как я вам завидую!
— Я думаю. Чего мне бояться, когда я, мой animus, выше всяких смертей?… Нет? Он живучей, голубчик, внешней ткани — просто и ясно. Это же не может быть иначе!
— Александр Петрович! Но ведь медицина доказала, мы ведь все знаем…
— Что мы знаем? — иронически, полупрезрительно смотрели травянистые живые глазки, а рот искривляла недовольная гримаса. — Что?
— Мы знаем, достаточно сердцу перестать биться — и всему конец.
— Так-таки и конец? Хэ-хэ… А чему конец? Материи — вот чему. К чертовой матери ваш скепсис. Послушайте, Юзя, — вы знаете Аристотеля? Нет? То-то же… Несение цели в самом себе, голубчик. Я несу, вы несете, амебы, инфузории и всякое «мертвое» тело… даже камень. Да, да. Во всем есть жизненный порыв, во всем мире нет ничего мертвого. Изменяются только формы жизни, но тому причиной уже — века, время! Понимаете — время! Сама жизнь не пропадает, не может пропасть. Уже самое понятие времени, это — жизнь! Нет? Человеческий интеллект изменяется (заметьте: изменяется, а не пропадает!) во времени. Да, что говорить, Юзя! — сердился Александр Петрович. — Вам положительно нужно… вам просто нужно пополнить свое образование!
Он вскакивал со своей табуреточки, подбегал, пыхтя, к застенчиво улыбавшемуся юноше, чертыхался и «туземил».
— Ах, с… сын! Ах, душевный вы мой подлец. Разве можно не доверять так жизни? Вы мало ей доверяете, а? Вы смеете бояться смерти?! Ах, с… сын!
И Юзя открывал тогда неунывающему виталисту свою затаенную, никому не высказываемую мысль:
— Знаете, Александр Петрович, это правда. Я боюсь смерти. Больше того: я никому, никому не поверю, если он скажет, что смерть его не страшит. А потом ведь, Александр Петрович, я никогда не могу забыть… у меня ведь тэбэцэ!…
Тогда умолкал вдруг на минуту Вертигалов, а юноша, еле борясь с уцепившейся за горло слезливой спазмой, продолжал:
— Да, у меня тэбэцэ, Александр Петрович. Разве я не понимаю, что это значит? А как хочется жить!
— Нужно, нужно, — кивал одобрительно головой Вертигалов и вновь принимался за работу над колодками.
— Знаете, Александр Петрович, так невероятно сильно… хочется жить! Я хотел бы жить двести, триста… пятьсот, тысячу лет! Никогда не умирать.
— Гм, голубчик… Тело ваше, «прозодежда» эфта самая обтрепалась бы за это время! — старался шутить внимательно наблюдавший его Вертигалов. — Да и пресытились бы.
— Пусть так даже. Но — жить, дышать и видеть. Вы знаете, я прочел недавно: через много миллиардов лет потухнет Солнце…
— Это возможно.
— Да, да! Потухнет Солнце, в сплошной газ превратится Земля… Понимаете — исчезнет всякое представление о живом… И я содрогнулся, уже теперь содрогнулся: будто я уже — будущий последний человек!
Вертигалов досадливо почесывал свой живот и так же досадливо вполголоса ругался, словно хотел этим показать свое нежелание участвовать в таком унылом — и потому вредном — разговоре. Ему вот, Юзе… какое ему дело до будущего, последнего человека, которому суждено будет прощаться с Землей, с Солнцем через тысячи миллиардов лет?… К тому же, ничего хорошего такие разговоры принести не могут больному, впечатлительному юноше, которого он, Александр Петрович, любил почти отцовской любовью…
Но Юзя уже не хотел отказываться от этой беседы.
«Экстаз пессимизма!» — думал о нем Александр Петрович.
— Вот вы, Александр Петрович, ссылаетесь на человеческий интеллект: пусть умрет внешнее «я» — все равно вечно внутреннее. Как бы хотел я в это поверить! Но у последнего человека… как же у него-то с интеллектом? Как? Исчезнет Солнце, испарится Земля — воцарится мировое Ничто, мировая Пустота… Не будет земли, воздуха. Нет, страшно все это, нелепо!
Вертигалов ухмылялся:
— Ох, философ, философ дыровской колокольни! Нет? Не дыровской?… Вы что думаете: только и свету в окошке, что дряхлая Землюшка? А? Ничего подобного! Вы сколько, сказали, отсчитано жить еще сей планетке? Миллиарды, да?
— Да, тысячи миллиардов. Так пишут, по крайней мере.
— Ну, вот. Эх, голубчик вы мой! Да за это время двуногий с… сын тридцать тысяч раз обманет доверчивую старую планету. Обязательно! Подвернется другая какая-нибудь — с ничем не худшим солнцем, а там — другая, третья разом… Отыщутся они — и перелетим!
— Как это? — невольно улыбался уже радостно туберкулезный юноша.
— Очень просто — перелетим. А для чего уже теперь аэропланчики выдуманы? Человеческий разум оч-чень предусмотрителен! Будущие планетки пребывают, вероятно, сейчас в зачаточном состоянии — газ… Нет? А через миллиард лет вполне оформятся. Мы — туда, а Земля пущай опять в газ переходит. А раз — газ, значит, через миллион миллиардов лет перестанет она блудить, снова Землей станет, и человечество, при нужде, опять сможет на нее пожаловать. Перелетим — за мое почтение!
Вертигалов весело посвистывал, слал кому-то неведомому свою обычную «туземную» брань и, сильно жестикулируя, выкрикивал:
— Перелетим! Ого-го-го! А главное — вылететь из этого вот проклятого свинюшника, закуты, из этой подлой вонючей поры, именуемой Дыровск. Неправда, а? Вы вот видите меня — отца семейства? А? Через два месяца ликвидирую все дела, подагру свою — на плечи, билет в Москву, и — будьте здоровы! Обязательно! Animus мой вопиет о сем: я не могу уже, голубчик мой, жить на задворках России. В разлом, к чертовой матери эту смердящую уездную Русь — молодцы большевики! Они лучшие из европейцев!
И в такие моменты резче, чем когда-либо, вставала перед Юзей мысль, которая если не была так сильна и упряма, как всегдашняя боязнь смерти, то вместе с тем действовала на него почти так же угнетающе, давяще:
Вот:
где— то есть теперь Россия, настоящая Россия, для него, Юзи, -диковинная, притягивающая. И эта Россия мыслилась почему-то собранной, сбежавшейся к одному великому атаману-городу, покорившему ее своей воле освободителя и вожака.
Этот город говорит громко, набатом, все остальные — косноязычны, их голоса хватает лишь на слабый шепот, шепоток: им не надо сейчас своего слова, им оставлен слух — для мудрого атаманова.
У этого города никогда не смыкается твердый настороженный глаз, лучи его бесконечно длинны, остры — и в зрачке его тонет вялый мушиный взор всей остальной уездной
страны, и смотреть ей только провидцем-глазом вожака!… -
В этом городе, в нем одном — ткут неустанно тонкую ткань мысли, и каждая нитка ее чудесным образом превращается тотчас же в целые полотнища, жадно подхватываемые остальной Россией.
О, если бы — в Москву!
И когда мысль Юзи, побывав трепетным, восторженным слепцом в этом городе, возвращалась, прозревая, к нему самому — Юзе, к ржавой унылой тиши низкорослых дремотных домов, к Дыровску и многим другим его собратьям, стоящим, словно калеки на паперти, на безмятежной русской равнине, вручившей свою судьбу мудрости старинных кремлевских стен, — тогда еще больше казалось, что подлинно это уже не Россия, что это только ее прежнее место, сохраненное для нее на старой дыровской карте. Это только ее след — отвердевший, ссохшийся в струп.
И еще горче становилось от сознания, что он сам, Юзя, втоптан судьбой в этот след, он — мельчайшая часть его, что даже нет его, Юзи, в числе тех немногих дыровских людей, кто, как молодая, вешняя заболонь, зреет здесь, на месте уездного струпа — вызревает, чтобы потом выбросить из себя свежее семя жизни.
Юзя верил и знал, что с годами придут сюда и новые люди: они будут крепить, жать уездную вязкую топь, они камнем придавят вековую вязь рыхлой и слепой жизни — тем самым камнем, что вынут из упорной кремлевской стены, как Адамово ребро, давшее, в неумирающей легенде, для Земли вторую человеческую жизнь.
Так будет.
Будет, непременно будет — его веру в это теперь никто не смог бы поколебать.
И когда думал так, не испытывал, однако, полной радости, потому что воровски уносила ее куда-то всегдашняя спутница-мысль, вгнездившаяся в него, Юзю, вместе с тяжелой болезнью: будет все это, но не будет, его самого — Юзи.
Он говорил Вертигалову:
— Тэбэцэ у меня — а как хочется жить: двести, пятьсот, тысячи лет жил бы — как Солнце, как Земля!
Но сам уже — из-за больной, почти навязчивой мысли — боялся и этого, казалось бы, бесконечного срока, который одна только фантазия могла даровать его жизни. Он знал: смерть потушит Солнце — вытлеет оно, смерть потушит и его, Юзю — огарок. Но без Солнца Земля станет газом, Земля — Ничто, а без него Земля своим солнечным глазом будет смотреть еще на тысячи столетий чьей-то неостановленной жизни.
Кто будущий последний человек? Кто последний?
…Есть где-то Россия — настоящая, незнакомая, обвившаяся человеческой чешуей вокруг мшистых упорных стен московского кремля, и есть след ее — ушедшей, поднятой в разлом.
К первой — далекой — потянется с дыровских задворок Александр Петрович Вертигалов, а он, Юзя, останется здесь -калекой на паперти.
— Знаете, — говорил Александр Петрович, — нужно уметь уходить! Так же, как нужно уметь в жизни хорошо слушать, умно молчать и совершенно беззаботно смеяться. Уйду, обязательно уйду — сумею!
А Юзя останется: чахнет тело, каждое утро на носовом платке глаз находит сгустки уходящей отравленной крови, на кровати дома тлеет в той же болезни старенькая мать — низенький тонкий огарок.
И это — жизнь!
ГЛАВА ШЕСТАЯ. Дыровское яблочко
Приближаясь к вертигаловской террасе, Юзя знал уже, что у Александра Петровича кто-то сидит: с террасы в комнаты долетал густой гудящий басок, и он показался вдруг Юзе знакомым. Однако кому принадлежал этот голос, — Юзя никак не мог вспомнить — до тех пор, пока не увидел его обладателя. Его же никак не ожидал встретить в этом доме.
— Пожалуйте, пожалуйте, Юзя! — приглашал его обернувшийся на шаги Александр Петрович. — Вы так долго не были, что я даже соскучился по вас.
Юзя шагнул на террасу и тотчас же увидел того, кому принадлежал густой гудящий голос: на перилах террасы, сильно наклонив туловище вперед, с папиросой в зубах — сидел Полтора-Героя.
Его присутствие здесь вызвало у Юзи изумление, и, очевидно, оно было вначале столь явно, что вскоре, — когда военрук Стародубский уже распрощался, — Александр Петрович принужден был объяснить юноше свое знакомство с военруком, а нам остается только воспользоваться этим объяснением, чтобы не оставаться в долгу у нашего читателя. — Вы не ожидали, Юзя? — говорил Вертигалов. — Непонятно? У меня, голубчик, можно теперь кого угодно встретить: в такую жару все хотят обуть свои потные ноги в легкие туфли. Чем хуже всех этот самый Платон Сергеич, а? Чем? Он хоть и капитан, говорят, и военрук теперь, но, как сами видели, — военной формой отнюдь не дорожит и ходит почти всегда в цивильном. Он пришел ко мне, конечно, чтоб заказать туфли, но мы разговорились (я ведь умею разговаривать, а?), и после того раза — сегодня уже четвертая встреча. Персонажик он для романиста! — закончил неожиданно Александр Петрович. — Типик, скажу я вам!…
Пожалуй, можно было согласиться с мнением Александра Петровича, но вначале, когда только Юзя появился на террасе, присутствие там Полтора-Героя его только удивило и — в первую же минуту — нахлынуло воспоминание о последней встрече с Нюточкой и о неожиданном свидетеле этой встречи, казавшейся сейчас нескромной, даже тайной. Застенчивость овладела на некоторое время юношей, и он что-то несвязное пробормотал в ответ на приветствие Вертигалова.
Но последний, не замечая этого, спешил уже выполнить свои задачи вежливого хозяина:
— Вы не знакомы? Напрасно. Это — Юзя: мой друг и великолепный юноша… А это — Платон Сергеевич Стародубский… Отлично. А теперь, Юзя, садитесь вот сюда (он усадил его рядом с собой), можете читать московскую газету — вот она, а мы с Платоном Сергеичем закончим нашу беседу. Правда?
— Безразлично: ни я вас, ни вы меня не переубедите! — широко улыбнулся Полтора-Героя, показав белую дужку ровных, прямых зубов.
Юзя со своего места украдкой посмотрел на военрука: зеленые из-под мохнатых темных бровей глаза спокойно и с едва уловимым любопытством смотрели на подвижное лицо Александра Петровича и изредка бросали осторожный короткий взгляд на Юзю, не понимавшего еще, какую именно беседу он невольно прервал своим приходом. А что он прервал ее — в этом тотчас же убедился.
— Во всяком случае, — сказал Вертигалов, обращаясь к Полтора-Герою, — расскажите нам то, что вы хотели привести в подтверждение вашей спорной — для меня, повторяю, спорной! — мысли. Приход Юзи вам не помешает, Платон Сергеич, а?
— Нисколько.
— А ну, ну, — мы слушаем! — нетерпеливо сказал Александр Петрович и с шумом пододвинул свой табурет в сторону гостя.
— Чего-либо особенного и интересного я вам не собираюсь рассказывать! — усмехнулся Полтора-Героя. — Это всего лишь бытовой штришок, не больше, но, правда, он не будет лишним для нашего сегодняшнего спора. Ну, так я вам начал уже рассказывать, Александр Петрович… Иду это я по здешнему базару. Остановился у воза одного из мужиков, продававшего скороспелые яблоки, — решил купить несколько штук. И тут же невольно заметил того, кто будет, как говорят романисты, «героем» моего рассказа.
— Занятно! — разгоралось любопытство у Вертигалова, и Юзя вместе с ним внимательно вслушивался в слова Полтора-Героя.
— Это был, — небрежно покуривал тот, — это был долговязый худой паренек лет шестнадцати-семнадцати. Лицо у него было изрыто оспой, подбородок заострен, губы сухие, синие, а глаза беспокойные, голодные. Он ходил среди возов и — не знаю уж — то ли он подаяния просил, то ли…
— …То ли подготовлял покушение на чужую собственность… Понятно! — перебил Александр Петрович.
— Совершенно верно. Он подошел к тому самому возу, у которого стоял и я, расплачиваясь за яблоки. Мужик мой, пересчитывая деньги, стоял спиной к этому парню. Едва я отошел на несколько шагов, — как услышал злой, захлебнувшийся крик:
— Эй, держи… держи его! Яблок покрал сколько…
Я обернулся: паренька уже не было. Ну, ясно — это он уворовал яблоки. А крик уже взметнулся по соседним мужичьим рядам, по всему базару: «Держи его, сволоча, держи… Бей! Бей его!» Понимаете? У всей этой толпы, которая до сего была занята самым мирным обыденным разговором, была теперь только одна разъяренная мысль: «Бей!» А кого бить — еще никто, поверьте, не знал! Вы поверите — я сам на секунду подпал под влияние этого звериного рева, я сам, помню, крикнул:
— Ах ты, подлец!…
Со всех сторон уже неслось:
— Лови, лови ворюгу! Держи-и!
Если бы паренек догадался в эту минуту затесаться в толпу и вместе с ней кричать: «Бей! держи!» — вероятно, никто и не подумал считать его вором и он благополучно улизнул бы. Однако произошло не так. Паренек вынырнул из толпы, пересек базарную площадь в сторону церковной ограды: он норовил свернуть за угол и скрыться. Толпа ринулась за ним, ринулась за уворованным яблоком. И десятки хриплых, взбудораженных голосов орали:
— Милиционер! Бей его, держи — слышь?!
— Чего стоишь колодой? Обязанностей своих не знаешь?
Я видел этого милиционера: он топтался нерешительно на одном месте, несколько раз подносил к губам свой свисток, свистел и растерянно озирался.
На тротуаре, перед самой уже церковью, вымелькнула голова паренька. Еще несколько секунд, и он исчезнет.
— Стреляй, сволочь! — яростно заревела толпа и набросилась в исступлении на милиционера. И вот он делает несколько прыжков, расталкивает мужиков и горожан и стремглав бежит за долговязым парнем, держа в руках наган.
— Бей его!
И вдруг что-то коротко, гулко, шмякнуло.
— Выстрел? — вскочил с места Юзя.
Полтора— Героя иронически посмотрел на него и, сделав последнюю папиросную затяжку, спокойным, безразличным тоном сказал:
— А вы думали? Выстрелил. И не стало перед глазами парня: не то за угол успел скрыться, не то — чик-чирик, как говорит мой квартирный хозяин. Кстати, — вдруг прервал свой рассказ военрук Стародубский, пристально всматриваясь в Юзю, — вы знаете — Анна Сидоровна скоро выходит замуж. Слыхали? Нашелся-таки охотник… ха-ха-ха!
«Издевается надо мной», — подумал Юзя и кротко, застенчиво кивнул головой.
— Да-а… Ну, а что же дальше с парнем? — в один голос с Вертигаловым спросил он.
— Конечно, его в церковной ограде припечатало! И знаете, — продолжал зло Полтора-Героя, — все вдруг успокоились и утихли. Только и слышно было кругом: «Господи, прости! Убил, кажись…» — «Хоть бы за что — а то… за яблоки!» А кто-то старался самого себя успокоить: «Вот так, понимаете, сволочь разная в грех вводит!…»
Вместе со всеми я подошел к тротуару посмотреть на долговязого паренька. Он лежал на боку, скрючась — словно примостился здесь уснуть. На грязный, засаленный ворот из уха текла кровь. Да-а… знакомая картина для того, кто был на войне. И кровь была не обычного цвета, не чистая: она была перемешана с чем-то серым, мокрой слипшейся жижей… И кто-то жалобно простонал: «Господи, прости! Невже мозгами исходит?» А другой кто-то резонно отвечал: «Вышибло. Как не вышибить — пуля!» — «А у человека хрящ слабый был…» — «От голода, надо полагать, — давал ответ тот же голос резонера. -Известно — голод: кишка кишке фигу показывала!»
Украденное яблочко тут же, у ограды, лежало: оно было надгрызано, и на нем остался след от жадных, голодных зубов. И сама-то жадность, так сказать, тут же осталась: на яблоко брызнули какой-то жирной серой кляксой неловкие парнишкины мозги.
И опять я увидел милиционера. У него был начальственный вид, он яростно разгонял столпившихся людей и беспрестанно вытирал рукавом пот со своего побагровевшего лица.
— Р-расходись, граждане! Которые для протокола нужны, выходь в очередь!…
— Вот вам и бытовая «притча», Александр Петрович! — закончил свой рассказ Полтора-Героя, слезая с перил и протягивая руку к своей фуражке, лежавшей на выступе подоконника. — Народ наш — темный, волчий, и всегда над ним надо держать увесистую палку, а не разводить с ним демократическую антимонию всякую, как вам того хочется… Верить в этот народ, так?
Голос его звучал зло, презрительно, лицо Стародубского исказила на минуту резкая гримаса ожесточения, и он с какой-то особой, непонятной запальчивостью добавил:
— Вы вот все твердите — «Россия, Россия»… Дались вам эти обольстительные шесть букв! А я вам скажу: нет никакой России теперь! Нет, черт побери!… Нет, потому что…
Но тут он вдруг замолчал, словно вспомнил о чем-то, а потом вновь заговорил, но уже спокойно, улыбаясь:
— Ну, бросим! Бесцельны эти разговоры, Александр Петрович, и вообще не вольны мы с вами принимать какие-либо решения. Займемся каждый самим собой — так лучше будет. Честь имею откланяться! — по-военному козырнул он и, бросив внимательный взгляд в сторону приподнявшегося Юзи, направился к выходу.
— До свидания, Платон Сергеич, до свидания, — провожал его Вертигалов. — Эх, дезертируете, уклоняетесь «от последнего, решительного» боя со мной! Ладно, я вас еще положу на обе лопатки…
И, как только военрук ушел, Александр Петрович громко и как-то по особенному надрывно послал ему вдогонку отборную русскую ругань.
— Слыхали? Видали? — горячился он, напирая на Юзю своим широким тяжелым животом. — Как будто бы я — я, Вертигалов! — не знал до него, что в России много темноты и жестокости, а? Подумаешь — откровение! На! На! — неприлично жестикулировал он, стараясь быть как можно грубей в прикосновениях к своему животу и смежной части туловища.
— Дыровское яблочко… — в раздумье, словно отвечая собственным мыслям и не слушая собеседника, тихо и укоризненно сказал вдруг Юзя.
— Вот именно: дыровское яблоко! — подхватил Александр Петрович. — А?
— Жуткая история, — он прав.
— Верно. Жуткая. Но в чем же дело, черт бы вас всех побрал?! В чем, а? Юзя, я ведь не хочу вам объяснять, почему такие жуткие истории возможны именно у нас, в России! Не хочу, потому что теперь это всякому известно. Всякому известно, что виновато в этом паршивое, омерзительное прошлое. Так? Я вам не хочу об этом говорить, потому что это уже сказано: я не хочу говорить чужими словами — вы это отлично знаете. У Вертигалова достаточно своих слов, а? — уронили на минуту соломинку иронии глазки-муравьи. — Нет? Он, мерзавец, смеет спорить со мной насчет России, а? (Вертигалов уже самыми недобрыми словами поминал военрука Стародубского). Он, стотысячный какой-то капитан! Как будто я не знаю, чем была Россия, а? Была! Это — обожравшаяся, прожорливая, тупая баба. Объедалась эта баба, от Ивана Калиты начиная — вплоть до последнего безмозглого царя… Она давала дарма себя щупать французским и английским хахалям — вместо того, чтобы вступить в законный брак с германским учителем… О, он бы ее оплодотворил культурой! Нет?
Юзя улыбался.
— Чего вы смеетесь? — кричал Вертигалов. — Чего вы так скептически улыбаетесь, а? Разве я неправду говорю? Жрала баба, обжиралась… А вот набил ей немец морду и рыхлые телеса, и изрыгнула баба в крови: финну — Финляндию, хохлу — «самостийную» Украину, «чистильщику сапог» — Азербайджан, словом, — все то, что обозначалось раньше в манифестах подлым, ехидным словом — «и прочая, и прочая»… Верно, сволочью была та Россия: вместо мозга — дворянская спесь была, мужикопорка повсюду, погромы да церковноприходские школы. Я вот, Юзя, на всех перекрестках готов трижды большевикам в ножки кланяться — трижды кланяться за то, что добили до конца эту смердящую русскую бабу… Вот оно откуда это «дыровское яблочко», как вы сказали. Отрыжечка это, а он с… сын (ругань вновь была адресована ушедшему военруку) — он, видите ли, думает, что это «яблочко» теперь только созрело! Кстати, Юзя, о немцах… Нам, подлецам и скотам, стоять бы перед ними на коленках да учиться только.
— Вы известный германофил, — вставил Юзя. — Неисправимый.
— Пусть так! Мы вот никак еще от дыровского «яблочка» избавиться не можем, у всякого дылды-капитана возникает мысль о вечности и незыблемости палочной системы, а «кровожадные» немцы (ведь иначе, подлецы, не писали о них во время войны!) вот что делают…
Он схватил со стола газету и заметался по террасе, ища свои очки, но, не найдя их, отшвырнул газету и с шумом опустился рядом с Юзей.
— Словом, вот что… В этом году стали прибывать в Германию письма немецких моряков, затопленных англичанами еще в начале войны в Тихом океане. Понимаете, все, что называется, входит в «свою колею»! Поэтому валявшиеся где-то, в каком-нибудь Циндао, письма умерших, убитых сочли необходимым отправить по адресу — родным: отцу, жене, невесте, брату. Жуть! И немцы, чтобы не причинять родственникам лишнего горя, проставили на всех письмах жирными траурными цифрами: «1914 г.». Ну, что вы скажете, Юзя? Да я гуманность додумавшегося до этого немецкого почтового чиновника — черт побери! — ставлю выше в тысячу раз всех этих знаменитых «прав человека и гражданина», засморканных теперь гнилыми люэсниками! (Французов так и называл Вертигалов — «люэсники») Слышите, Юзя? В школьные хрестоматии всех наций эту газетную заметку! Вы всегда — по молодости своей и наивности — спрашиваете меня: кто выше — Кох или Пастер, Наполеон или Бисмарк?… Вас приводит в умиление Хартия вольностей Иоанна Безземельного — так не в этом же дело, голубчики мои! Все это хорошо и… велико. А в мелочах вы умеете усматривать великое, а? В мелочах! Вы обладаете для этого нужным человеческим зрением?… А этот дылда говорил…
Надо думать, что он долго еще распространялся бы на свою излюбленную тему о «превосходстве германской культуры», но приход кого-то из заказчиков прервал его жаркую, полную своеобразного пафоса речь — прервал его гневные возражения ушедшему Полтора-Герою, в которые Александр Петрович только что собирался посвятить своего покорного слушателя — Юзю.
Это же обстоятельство, нарушившее беседу двух приятелей, понуждает повествователя оставить их и последовать именно за тем человеком, которого ругал и собирался еще нещадно ругать неистовый в спорах Александр Петрович.
Нам придется вместе с военруком Стародубским следовать по уже отчасти знакомым читателю дыровским улицам, видеть, как и он, их невзыскательных обитателей, быть передатчиком некоторых его мыслей и свидетелем кое-каких разговоров с дыровским извозчиком Давидом Сендером — с тем самым человеком, который невольно через неделю-другую привел к крушению служебную карьеру Полтора-Героя.
Вместе же с военруком Стародубским читатель вновь очутился в квартире бывшего купца Сыроколотова и познакомится, наконец, с женихом Нюточки…
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Слухи и сплетни; компрометирующий разговор военрука с извозчиком Давидом Сендером
О, как знал хорошо военрук Стародубский эти дыровские улицы, дыровских горожан, нравы их, привычки, повседневную жизнь!
Одно ухо было у городка, один глаз: скажешь что — всем слышно, моргнешь — и это заметят! Через несколько дней после своего приезда Платон Сергеевич не только знал уже свое причудливое прозвище, но и был в курсе всех местных дел и интересов.
И сейчас, скучая и бесцельно бродя по городу, он сам уже невольно присматривался и прислушивался к жизни этого — недавно еще чужого — городка, куда судьба забросила его, не указуя никакой другой цели, кроме служебной.
Глаз и ухо знали, что было здесь так.
Смолистым оскалом вгрызается июньское солнце в зачерствевшие буханки домов. А на траве, в садах и за прикрытыми ставнями в домах — потными, размякшими тушами лежали, прячась от солнца, люди. После раннего воскресного обеда — тяжела и тепла сытая отрыжка, смыкает глаза безделье и сон. Люди поочередно роются гребенками в взлохмаченных волосах друг у друга, ища там — в тупом азарте — таких же сытых насекомых и выскребывая жирную перхоть, люди пыхтят, пьют кефир и квас, наполняют вокруг себя воздух кислой пудовой испариной. И роются еще в осовелом, плешивом житьишке других, смежных — тех, что так же лежат и так же роются за забором.
Вот — рассказывают десятки языков о том, как агент жилотдела с неблагополучной еврейской фамилией Дреккер подал прошение об изменении ее, и как какой-то шутник из исполкома выдал ему паспорт с новой дарованной фамилией — Помёткин…
Рассказывают и о другом забытом приключении, случившемся с шестипудовым Яшей Опешкиным, завсегдатаем дыровского бильярда и человеком неизвестной профессии, обладателем самого грузного и выпуклого живота в городе. У Яши Опешкина было шуточное прозвище Щепка, а о животе его так и слыло в городе: «Плевать вперед Яша станет — на животе слюна застрянет».
Приятели споили Щепку и позабавились над ним: нарядили его, пьяного, в бабье платье, закутали в платок и отвезли в родильный дом. В ту пору рожала двойню Гликерия Онуфриевна, жена здешнего брандмейстера Саши-Спиртика; рожала в первый раз после революции, и весь родильный дом с нескрываемым трепетом и любопытством столпился у дверей палаты, не обращая внимания на толстую «роженицу», спавшую в приемной. Двух наследников принесла Гликерия Онуфриевна Саше-Спиртику — а об Яше-Щепке на следующий же день пошла по всему городу веселая песенка:
Не принесть Гликерии Двоих в одну серию, Если б заммамашей Не был Щепка— Яша.Будут потешаться и над беспартийным следователем Сеней Буйченко, по прозвищу — Свинья-Баран (а прозвище это еще с детских лет; диктовал учитель в прогимназии: «Звеня и подпрыгивая, тащилась борона», а Сеня усердно вписывал в тетрадку: «Свинья, подпрыгивая, тащила барана»)…
На Сеню Буйченко, рассказывали соседи, «лунатик напал»: будто, потеряв всякое сознание, Сеня бродил в легкой одежде по квартире своего хозяина, механика с мельницы. И, находясь в болезненном состоянии «лунатика», пошел Сеня не по карнизу, как водится в таких случаях, и не по двору, а зашел в комнату дочери механика Серафимы. И во изменение формы лунной болезни, при коей люди токмо без остановки всякой ходят, — накренил вдруг свой корпус над постелью (Серафимы, накренил манером обыкновенным, известным и другим людям, никогда «лунной» болезнью не страдавшим.
Закричала тут несведущая в этой болезни механикова дочь, прибежали на крик папаша и мамаша — и выпала сразу лунная порча из Свиньи-Барана. Голос появился — извинительный, неловкий:
— Извините, это у меня с детства: лунатик я несчастный… Лечиться мне надо.
— Лунатик? — вопрошал механик. — Лунатик?… Так на светило небесное и полезай, а не на дочь мою!
— Пардон, товарищ, — пятился Сеня, — лечиться буду.
— Прими на леченье! — рявкнул механик и приложил тяжелую ладонь к Сениной скуле.
— Стой! Уйду… — жалобил Сеня.
— И на дорогу прими! — упер папаша Серафимы с размаху свою босую ногу под селезенку «лунатика».
Будут потешаться над следователем Сеней Буйченко и будут расспрашивать его ехидно, почему целую неделю не сходит с его лица предательский синяк.
О чем только не говорят сейчас, о ком только не идут в этот ленивый, осоловелый час горячие пересуды!
В городе было: дерево, солнце, человечья одурь и юркая сплетнишка.
А по улицам так же лениво, осоловело движутся: инвалид с ведром мучного завара и с пачкой афишек-приказов, наклеивая их на заборах и на протухлых тумбах; бродяжная бездумная коза с отвислым выменем-сумкой, босой разносчик телеграмм — в исполком; из подворотни — петух и гусья пара, и у ворот — уставший, вспотевший продавец мороженного, нараспев предлагающий свое сладкое прохладное изделие.
И на певучий зазыв тянутся уже из домов, из садов, со стаканами, кружками, блюдцами: мясистая дебелая горожанка в нижней просвечивающейся юбке, не скрывающей смежения оборовевших ног, и с грудями, почти открытыми, не умещающимися под легким ситцем. («Аким, почему сегодня нет фисташкового?»); худая, угреватая мать семейства — с одним стаканом на пятерых детей («Аким, должок я вам завтра отдам. Нет, нет — вы не беспокойтесь: муж получит жалованье!»); мужчина в шлепанцах, с сонными пролежнями на помятом небритом лице и с захваченной почему-то из сада под мышку подушкой. («А комиссары берут у тебя, Аким? Наверно, больше всех жрут, хэ-хэ-хэ!»); детишки, жадно сующие в открытые банки мороженного свои невысморканные носы, и на сладкий запах — рой прожорливых мух…
После Акима — опять час-другой дремота, опять пересуды и уютная сплетнишка. А потом выкиснет и начнет свертываться солнечный блин — и люди целыми семьями, с полотенцами и простынями в руках, потянутся к речке -купаться.
Часом позже, мыча, откидывая во все стороны плотный вихор пыли, — запрудит улицу коровья «череда», ведомая так, несменяемо уже полстолетия, пастухом Егором, безошибочно знающим, чья корова — чей приплод; и навстречу каждой корове и телке выйдет, растворив ворота, деловитая хозяйка, приготовившая у сарая подойники; резвый грохот подымет на каменной площади здешняя пожарная команда с брандмейстером Сашей-Спиртиком во главе, любящим пугать дыровских горожан «пробными» пожарами; за пожарной командой промарширует по главной улице караульная рота, и все городские мальчишки, плетясь за ней, будут орать: «Все мы на бой пойдем»; выйдут «на гулянье» освежившиеся после купанья, сильно напудренные дыровские барышни…
Потом все это стечет с улиц к летнему саду наробраза, где бывший мировой судья Гриша Душечкин будет играть сегодня — почти не прибегая к гриму — «буржуазного фата», с розеткой в петличке и стеклышком в глазу, или будет дирижировать местным «симфоническим оркестром»…
Потом — ночь у людей: сытый, перекормленный боров. Утробная ночь…
— Скука… скука!… — нарочито вслух повторял свою мысль Платон Сергеевич; он сам уже прислушивался к своему громкому голосу, и ему было приятно оттого, что он хоть чем-нибудь мог нарушить вялый, ленивый покой улицы.
— Ску-ука, ску-ука, — нараспев, повышая голос на всю улицу, тянул он апатично, заглядывая через низенькие полуразрушенные заборчики, в тени которых валялись рыхлые, потные тела людей.
И вдруг он услышал за своей спиной:
— Это верно: скучно, конечно, вам тут, в городе, товарищ военрук. Прошу прощенья, значит, за свой разговор… Платон Сергеевич повернул голову в сторону говорившего: у заборчика, над которым, как зонт, свисали мохнатые густые ветви дерев, стоял, поглядывая на улицу, Давид Сендер. Была видна только плохо расчесанная голова его, упершаяся подбородком в верхнюю доску забора, и пальцы обеих рук, ухвативших эту доску; голубые глаза, прищурившись, выжидательно смотрели на Стародубского, а кривые короткие пальцы с темно-желтыми следами от махорки — которую всегда курил — медленно подымаясь и опускаясь, словно кивали военруку Стародубскому.
— А-а… — оживившись, протянул он и остановился у забора. — Что ты здесь делаешь?
— Живу тут, на траве валяюсь, бабское общество имею… — ухмылялся Сендер. — Не целый же день мне извозчиком на козлах сидеть. А не то… может, сегодня хотите ехать, так пожалуйста, мне это недолго…
— Куда сегодня?… — тихо спросил Платон Сергеевич, оглядываясь по сторонам. — Опять на хутор? Мне твои хуторские бабы, Давидка, уже надоели. А потом… прекратить надо поездки: понимаешь — некоторое неудобство может для меня случиться… И так уже, наверно, кто-нибудь сплетничает! А? Ведь говорят, Давидка? Говорят?
— Э, я знаю, что могут говорить? Подумаешь — говорят!
— А что? — чуть взволновался Платон Сергеевич, удивленный неожиданным ответом извозчика.
— Что? Может, кому-нибудь из извозчиков завидно, что такой человек, как вы, дружит только с Давидом Сендером, ездит за город только с Давидом Сендером… ну, и вообще… насчет другого им тоже завидно! — словно на что-то намекая, тихо закончил фразу Сендер.
— Но они уже говорят? — сердито спросил военрук. — Неужели кто-то уже говорит… болтает?
— Нет, нет… — спохватился давший маху Давид Сендер. — Кто имеет право об этом говорить? И кто должен знать про то одолжение, что вы мне делаете?…
— Так зачем же ты только что совсем другое говорил? -настаивал Платон Сергеевич и опять осторожным взглядом осмотрел все вокруг. — Зачем?
— Они могут завидовать, например, Давиду Сендеру, они могут, что угодно, про себя думать — вот что я хотел сказать. Но никто не будет болтать. Никто! Никому это не выгодно — чтоб вы знали!
Из ворот напротив кто-то вышел, и Платон Сергеевич поторопился прервать свою встречу с извозчиком.
— Ладно. Прощай… Ты мне еще все расскажешь. — И он медленно, насвистывая какую-то веселую песенку, зашагал по улице, направляясь домой.
Не сумел скрыть извозчик того, что в скором времени стало известно его сотоварищам по промыслу. Знали дыровские извозчики, что Давид Сендер — «любимец» военрука Стародубского, что часто возит его Давид Сендер, как возил раньше различных «господ», по мужичьим хуторам — к гостеприимным, веселым «солдаткам», что пьют там вместе и бравый военрук, и дыровский извозчик.
И знают еще, что при помощи Давида Сендера можно теперь дешево купить в военкомате с торгов «бракованную» лошадь и перепродать ее в соседний уезд. Толковать теперь нечего: пристают ли бумажки к крепким ладоням Давидкиного «друга» — военрука Стародубского.
А Давид Сендер говаривал:
— Чтоб вы знали все, что он взятками не занимается. Слышите — не занимается! Ему не для богатства это надо — ему свою душу промыть, чтоб хватило! А чтоб жажда у него к взятке была — никогда, можете мне поверить!
И дыровские извозчики были довольны теперь и Давидом Сендером, и военруком Стародубским. И тайну сию старались строго соблюдать.
Однако тайна эта стала вскоре известна всем дыровским горожанам, и это было наибольшим, что они могли узнать о Полтора-Герое, потому что то, в чем его впоследствии кое-кто заподозрил, военрук самым настойчивым образом отрицал, а сокровенное его, подлинно тайное — ушло из жизни вместе с Нюточкой Сыроколотовой.
А что это тайное, не исчезни оно, могло бы предрешить судьбу военрука в самом худшем для него смысле — в этом четко будет убедиться, прочтя одну из последующих глав нашей повести.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Нюточка Сыроколотова — невеста
Придя домой, Платон Сергеевич застал и увидел, наконец, того, кто вот уже несколько дней считался Сыроколотовыми женихом их единственной дочери. Вернее, об этом Платон Сергеевич догадался, так как до сего времени никогда не встречался с бывшим городским головой — Герасимом Трофимовичем Мельниковым.
Да, да, уважаемый читатель, — за круглым сыроколотовским столом по правую руку от хозяина сидел бывший голова Дыровска: в черном старомодном сюртуке, с высоким гуттаперчевым воротником, с такими же гуттаперчевыми широкими манжетами, выползавшими из рукавов как неловкие медвежата из своей темной берлоги.
Поиски жениха закончились успешно: Сидор Африканович не отказался пообещать некоторую часть своих сбережений, а вдовый сорокапятилетний Мельников согласился их принять вместе с сыроколотовской дочерью.
И Герасим Трофимович не замедлил уже сделать Нюточке официальное предложение.
— Согласны вы, — говорил, — Анна Сидоровна, творить со мной супружескую жизнь? Будете вполне, надеюсь, довольны… Уж я к вам с превеликим почтением, уверяю вас, и к тому же место мне обещано в Шлепковском совхозе. Хозяйкой будете — ах, какой хозяйкой!
Два дня не давала Нюточка ответа, два дня не решалась (а ночи крепко держали ее в своих темных душных объятиях, в горячий шепот своей собственной мысли вплетались неотступно предостерегающие слова Стрепачевского…) — а потом уступила самой себе: всем горожанам позволила называть себя невестой бывшего городского головы Мельникова.
Она думала всю жизнь о любимом, и всегда представлялся он ее слепой и узкой мечте таким, точно таким, каким был он для глаза на синей гравюре Salon de Paris: молодой, бритый, с нежными и крепкими губами, которые так часто видела — в жарком бреду — слившимися с ее собственными.
Но уездная ворожея-судьба подбросила руками старика Сыроколотова нежданную, чужую карту — «короля пик»…
Именно таким показался Нюточке бывший городской голова: нос — длинный, высокий, брови срослись на лбу, что неполотая крапива на огородной грядке, борода — курчавая, оттопыренная — забрала под себя тонкую трубку заросшего горла с «петушиным горбиком».
Глаза у Герасима Трофимовича бурые, рыжие — не разберешь сразу! — мокрыми осколочками кирпича торчат в узенькой канавке век, обнесенной по краям густой порослью жирных ресниц. Таков был с виду бывший городской голова -жених.
Но не все ли равно теперь Нюточке? Нужно уступить себе.
Большего о бывшем городском голове Мельникове, по ходу нашего повествования, и не следует говорить, чтобы не быть пристрастным в худую сторону к этому дыровскому горожанину; пожалуй, достаточно будет вспомнить о том несколько грубом, но метком эпитете, который был упомянут в связи с личностью Герасима Трофимовича чертыхавшимся Вертигаловым…
…Платон Сергеевич мельком посмотрел на гостя, присесть к столу не пожелал, а обед попросил прислать к нему в комнату. А когда через час спустя Нюточка встретила в коридоре Полтopa-Xамa, он неожиданно подошел к ней и, добродушно улыбаясь, сказал:
— Ну-с, поздравляю… с приобретением!
— Каким? — смутилась Нюточка.
— Необходимым! Ведь жених это… Жених, не так ли?
— А вам что?
— Да ничего, — так же беззлобно продолжал улыбаться Платон Сергеевич. — Спешу выразить соболезнование… то есть, виноват, поздравление! Впрочем, искренно печалюсь, Анна Сидоровна. Выбор, так сказать, ограниченный: этот… (Полтора-Хама небрежно махнул рукой в сторону столовой, где сидел бывший городской голова) и другой, слабенький: того и гляди, умрет при… первой ночной близости. Я ведь видал этого юношу…
— Вы… вы нахал! — вскрикнула Нюточка. — Я буду на вас жаловаться… — уже сама испугалась она своего резкого тона.
— Я не нахал, а искренний человек… ей-богу, — загородил ей дорогу Полтора-Хама. — Ну-с, а кому же вы хотите жаловаться, а? — равнодушно спросил он. — Неужели жениху… ему?
— В партком пожалуюсь, — растерянно сказала Нюточка. — Пропустите, пожалуйста. И вообще, как вам не стыдно?
— В партком? ха-ха-ха… Так я ведь не партийный. И в чем мой проступок, а?
— Пропустите — слышите?
И она убежала в свою комнату.
А когда через несколько дней пришел Юзя и опять они сидели на крылечке, Нюточка нервно, взбудоражено говорила ему:
— Стану гражданкой Мельниковой… Понимаете, Юзик? Обвенчаемся, поедем в волость, в совхоз… Ой, Юзик! А мне хочется не туда… Хочется в город, в настоящий город — хоть бы в губернский! Хоть бы на недельку, Юзик! На одну недельку…
— В Москву! В Москву! — болезненно усмехнулся Юзя.
— Ну, куда уж там в Москву! Я даже не мечтаю…
— Нет, это я так только сказал. Вспомнил слова из произведения одного писателя… Замечательного!
И он не захотел назвать имени этого писателя, боясь, что даже его Нюточка никогда не читала!
— А-а, — протянула безразлично Нюточка, — Юзик, приедете ко мне в совхоз… в имение, ха-ха-а! Я вас салом, маслом, молоком всего-всего наштопаю, — переменила она тему разговора. — Я вас во каким сильным, здоровым сделаю… Ведь я хозяйкой буду… Дамой буду! И буду там с вами флиртовать… Хотите?
Она возбужденно, неестественно смеялась, больно теребила его, а потом вновь притихала, и опять Юзя видел, как подергивается совсем по-ребячески, плаксиво ее раздвоенный ямочкой подбородок, как вот-вот выхлюпнется из глаз беспокойно плывущая по ним слеза.
Это состояние передавалось и ему самому, он чувствовал время от времени приступы нервной спазмы, стягивавшей горло, отнимавшей язык, чувствовал лихорадочный стук в висках и соленый (такой знакомый уже!) привкус во рту — после чего, знал, заноет грудь, встревоженная колючим кашлем.
«Не надо волноваться. Вредно волноваться» — словно кто-то другой уже, вместо него, Юзи, неслышно говорил ему простые, житейски мудрые слова.
— Прощайте, — поспешно поднялся он. — Я рад за вас, Анна Сидоровна: все же какая-то своя жизнь у вас будет. Что ж… каждому свое. Прощайте.
— До свидания, Юзик милый… Приходите в церковь, когда я буду венчаться. Придете?
— Хорошо… посмотрим, — торопился он уходить, крепко пожимая ее руку.
Это была его последняя встреча с Нюточкой. В течение последних дней, когда случилось печальное происшествие, навсегда разлучившее Нюточку с жизнью, — Юзе не довелось уже повидать девушку.
…Приходил теперь каждый вечер Герасим Трофимович. Елизавета Игнатьевна выносила тогда в палисадник чайный столик, и все семейство Сыроколотовых степенно ужинало и пило чай с лимоном, а мужчины были заняты еще и другим делом: с осторожкой поглядывая вокруг (не подслушивает ли кто за забором), поругивали коммунистов и отсчитывали дни «царям иудейским».
Сидор Африканыч наклонялся близко к своему будущему зятю и, весело подмигивая, говорил:
— Герасим Трофимович, я так думаю, что годик, не больше, осталось им хозяйничать. Никак не больше — заверяю честным словом. Атмосфера показывает… Ха-ха-ха…
— , Дай Бог! Вашими устами мед пить, -оживлялся бывший городской голова. — Дай Бог. А потом бы мы такие дела… такие дела, Господи!
Герасим Трофимович снижал тут свой голос до таинственного, торжественного шепота и, цепляясь одним глазом за своего будущего тестя, а другим подмигивая невесте, говорил:
— Если полагать, господа, что закон в полной силе вернется в наше государство, — то, само собой, я и есть только городской голова тут. Пересеклась общественная власть и — продолжается. А? Кому же другому тут мое место занять?
— Да, Боже сохрани, — никому! — поддакивала Елизавета Игнатьевна. — Вот уж при вас, Герасим Трофимович, лавки наши нам отойдут… Одну обязательно на Нюточку запишем.
Будущий городской голова бросал благодарный взгляд в сторону своей будущей тещи:
— Вообще, очень хорошо, конечно… Нет, господа хорошие, самоуправление, установленная законом русская, так сказать, общественность — не фунт это изюму! Нет, нет! Мы не печенеги теперешние…
— Угу… угу, — ласково смотрел старик Сыроколотов. — Угy… Печенеги — верное слово сказали!
За забором слышны чьи-то шаги — собеседники настороженно умолкают. На минуту — молчание.
Чох брызгами из чьего-то носа:
— Будьте здоровы, покорнейшим образом!
Кто— то икнул. Чей-то зевок, скрывающий сытую отрыжку. И протяжные, нарочито громкие слова (на-кось, выкуси тот, кто подслушивает за забором!):
— Говорят, на базаре порченых кур продавать стали. Узнать, какая — подуть надо в пух задний. Обман всюду!
Это — мать Нюточки, Елизавета Игнатьевна. И опять — чох, зевок, икота.
— Н-да… н-да! Дела твои, Господи…
Нюточка всегда молча слушает такие беседы. «Король пик… король пик», — вертится у нее в уме, когда глаз натыкается украдкой на Герасима Трофимовича. «Пусть, пусть! — кричит по ночам другая мысль. — Все равно кто»… И ночами трепетно ждала приближающегося дня свадьбы.
А когда уезжал Герасим Трофимович принимать службу в Шлепковцах, в совхозе — первый раз за все время переступила, по приглашению жениха, порог его квартиры.
Оттого ли, что крепка была наливка, которой угощал поджидавший невесту бывший городской голова, оттого, ли, что часто тянулись к ней, Нюточке, развеселившиеся, ставшие дерзкими, вздрагивавшие руки Герасима Трофимовича, поглаживавшие ее плечи, колени, или непривычны были короткие, теплые, напряженные поцелуи, на которые не скупился вдовый Мельников, — Нюточка чувствовала незнакомую до сего радость, дразнящее опьянение, и ее ответные поцелуи становились с каждым разом искренней и желанней.
И если бы в эту встречу Мельников пожелал сделать с ней то, чего так исступленно жаждала в одинокие бредовые ночи, — Нюточка уступила бы… Полулежа на диване, он сильно прижимал ее к себе, оба бессвязно что-то бормотали — так продолжалось несколько минут, а потом Герасим Трофимович разжал свои объятия, вздрогнул, как при сильном ознобе, и откинулся на спинку дивана.
— Ах, ты… миленькая. Можно мне невесте говорить «ты»? А? Можно?
— Можно… — не слыша своих слов, отвечала она, не понимая неожиданно происшедшей в нем перемены. — Я невеста… да, невеста…
Она продолжала лежать на диване, а Герасим Трофимович несколько растерянно возился с папиросой, из которой выпала ватка и высыпался мелко накрошенный табак.
— Да, да… Поженимся… да, да. Поженимся… уж тогда!
Он вяло погладил ее руку и, вынув спички, закурил. Ню-точка все еще бессознательно ждала его ласк, но он поднялся и зашагал по комнате, приводя в порядок вещи, лежавшие па столе.
Тогда Нюточка встала и, не глядя на жениха, направилась к двери. Он пошел ее провожать, в коридоре снова обнял ее и поцеловал, но на этот раз Нюточке было противно прикосновение его курчавых и почему-то мокрых усов.
— До свидания, — сказала она, чувствуя, что что-то надо сказать. — Я себя плохо чувствую…
И она вышла на улицу и торопливо, пошатываясь, побежа-ла к дому.
Было какое-то непонятное, болезненное ощущение: кружи-лась голова, ныл в теле каждый мускул, что-то щекотало в груди. Хотелось сейчас лечь, долго лежать, успокоиться, или -сама вдруг это поняла — вновь почувствовать, но еще острей п дольше то ласковое оцепенение, в котором находилась несколько минут тому назад…
У самых дверей, в темноте столкнулась с кем-то и сразу же узнала: загрузив вход в дом, стоял Полтора-Хама.
От военрука пахло винной прокисью, теплом большого попотевшего тела.
— А-а… — сказал он обрадованно, как показалось Нюточке. — А-а… Вот и вы, наконец. Подождите, не торопитесь.
— Я устала — пропустите, пожалуйста. Такой душный вечер: вероятно, ночью будет гроза…
— Ох-ох-ох! Какая вы сегодня разговорчивая, а? — услыхала над самым ухом горячий ласковый смешок Полтора-Хама. — Да вы никак выпили, а? Дыхните. Ну, так и есть. Тем лучше… Подождите, подождите, — твердил он, идя сзади нее по темному коридору. — Скука ведь тут какая! Жду вот вас… ей-богу, ждал! Вы меня простите, если что там было… А?
— Я прощаю, — неожиданно для себя сказала Нюточка и остановилась.
— Не уходите… слышите? Скука, говорю, отчаянная! И он взял в темноте ее руку и тихонько погладил.
— Чего вы дрожите? Разволновались на свидании… Так, так. Понимаю. А я одинок, до глупости одинок! Муштрую солдат — и ничего больше!
— Пустите, Платон Сергеевич. Чего это вы со мной откровенничать вздумали?…
Но военрук не выпускал се руки. Он чуть привлек к себе Нюточку и тихо, со вздохом сказал:
— Один я тут… Понимаете? И мало… мало пьян — вот что. А хотите еще… ну вместе, а? Хотите, Анна Сидоровна?
— Ну пустите же, голубчик…
— Голубчик? — с пьяным лукавством переспросил военрук. — Голубчик? Отпустить? Нет. Вот так, вот так, сюда, ко. мне… ближе… Ух, какая вы гибкенькая. Ну чего вы дрожите?…
Он вдруг поднял ее и, крепко прижимая к себе, понес…
Она услышала свой первый — больной и радостный -крик в комнате военрука.
А потом плакала — как все плачут, и вновь целовала, забыв свою боль. А когда наступил уже пепельный рассвет, Нюточка очнулась и поняла, что произошло. Она увидела наган, лежавший на ночном столике, и протянула безмолвно к нему оголенную руку.
— Брось! — сурово сказал военрук. — С ума сошла…
— Не могу больше жить…
— Глупости!
— Дай… дайте.
— Серьезно? — усмехнулся он. — На, пожалуйста. И он протянул ей револьвер, с любопытством всматриваясь в ее осунувшееся бледное лицо.
— Ну, бери же. А, боишься? Ну то-то же. Довольно глупить. Поди-ка лучше в свою комнату; а то матушка твоя застукать может…
Он спрятал наган под подушку и натянул на себя одеяло.
— Отвернитесь… — тихо попросила Нюточка. — Я оденусь.
Встала и оделась наспех, неслышно прошмыгнула к себе.
Открыла окно. В комнату проструился росный запах сада, травы, пряных пробуждающихся левкоев, вошел свежий, бодрящий говорок проснувшихся птиц.
Перед глазами — нежная поволочная просинь неба и где-то в конце его, сбоку — золотистое солнечное излучье, стыдливое еще, как румяная щека подростка.
Некоторое время Нюточка глубоко и мерно вбирала в себя свежий запах утра. Потом, не закрывая окна, подошла к зеркалу и посмотрела в него: лицо бледней обыкновенного, но в глазах, показавшихся самой красивыми, зажглись и горе-ми две новых точки довольства, успокоения и притаившейся радости.
Нюточка виновато улыбнулась.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Документ, лучше всего говорящий о Полтора-Хаме
Была невестой Герасима Трофимовича, и до заговенья еще, па Успенский пост — на пятницу великомученика Пантелеймона и преподобной Анфисы — была назначена стариками Сыроколотовыми Нюточкина свадьба.
Работу на службе оставила, все дни была занята приготовлениями к свадьбе, вместе с Елизаветой Игнатьевной ходила по магазинам и шила приданое. Дни протекали в суете, в заботах, а ночи — в тайных прожогах плоти в комнате Полтора-Хама.
Теперь уже Нюточка сама приходила к военруку и с нетерпением ждала каждый раз того часа, когда ничего не подозревающие родители уснут на всю ночь.
Однако не всегда оставлял ее у себя Полтора-Хама. Когда бывал трезв, хмуро отстранял ее от себя и грубо говорил:
— Уходи. Уходи, Нюта. Не хочу тебя…
— Не любишь? — робко и укоризненно спрашивала она. — Вот что?
— Я давно забыл уже такие слова и чувства! — черство усмехался Платон Сергеевич. — Давно — понимаешь?
— Но что ж ты сделал?
— Что? Ну… взял тебя. Да. Ну и что же? Для чего или отчего сделал это — да? От скуки, Нюта. От тоски, пустой тоски! Ведь от тоски можно еще и не такие вещи делать. Понять не можешь? А зачем тебе и понимать меня? Может быть, я и сам себя иногда не понимаю. Я многое делаю, что другой человек на моем месте никогда не посмел бы… Никогда не посмел бы, — повторил он как-то таинственно, придавая какое-то особенное значение этим последним словам, словно, произнося их, Платон Сергеевич отвечал самому себе.
— Что ж ты еще делаешь? — беспокоилась Нюточка. — Я хочу…
— Вот тут тебе сразу исповедь начну! — насмешливо оборвал ее Полтора-Хама. — Все равно ты ничего бы не поняла, все равно!… Что произошло между нами? Да? Ну, так ты сама уже должна понимать. Произошло обыкновенное дело: я, Платон Стародубский, в пьяном виде, в тысячу клочьев растерзанный скукой… да, да, учинил насилие над девицей Сыроколотовой. И довольной осталась сия девица и по сей день… благодарна. Выйдет девица замуж, и все это дело прекратится.
Но наступали иные ночи, когда военрук возвращался пьяным, сговорчивым и жадным — и Нюточка вновь покидала его в первые ранние часы утра.
Днем она боялась его, избегала на людях встречаться, днем уговаривала себя в том, что минувшая ночная встреча — последняя, днем с беспокойством и в то же время с надеждой думала о пятнице Анфисы преподобной, что обручит ее, Нюточку, на всю жизнь с бывшим городским головой Мельниковым.
Так бы это и произошло, не случись то, что неожиданно всколыхнуло Нюточку, а спустя несколько часов и оборвало навсегда ее жизнь.
Однажды военрук Стародубский отлучился на целый день по служебным делам в уезд — сидела Нюточка после обеда в его комнате, выходившей окнами в тенистую улицу. Давно созревшее любопытство, назойливое желание узнать как можно больше о военруке Стародубском — толкало девушку к тому, чтобы, воспользовавшись его отсутствием, тайком от него, осмотреть все его вещи. Каждый предмет — казалось ей — должен был тихонько шепнуть ей что-то новое, еще совсем неизвестное о том человеке, который так неожиданно ворвался в ее жизнь — покорно и бездумно отдавшуюся его воле.
…Вот фотографическая карточка его, еще одна — поменьше, недавняя, работы здешнего дыровского фотографа, и на обеих Полтора-Героя снят в форме бравого красноармейского командира. Несколько секунд смотрела на них, потом положила на прежнее место: нет, нет… не то — все это знакомо, все это известно!…
Вот какие-то книги — запылившиеся, не разрезанные, пачка каких-то официальных документов и циркуляров, небрежно скомканное удостоверение губернского комиссара, табак, мыльница, пудра… (Нюточка на минуту прервала «обыск» и привычной рукой попудрила, стараясь не оставить следа на столе, свое разгоряченное лицо.)
Выдвинула нижний ящик письменного стола — опять мыльница, бритвенный прибор, кавказский поясок и десяток разбросанных револьверных пуль.
Присела на корточки и просунула руку в глубь ящика — пальцы нащупали какой-то бумажный сверток. Нюточка вытащила его на свет — трубка свернутых, исписанных карандашом листков; они были сильно измяты, и мелкие завитушки букв на них во многих местах сильно потускнели и вылиняли.
«Письма!… — было первой любопытной мыслью. — От кого это?»
Она осторожно расправила листки (их было немного, они были разной величины и разной бумаги) и торопливо пробежала глазами первые строчки.
«Интересное что-то такое… Но… но непонятно…»
А в руках, перед глазами Нюточки было:
19. XII — 1920 г.
…Умру, вероятно, как собака, пойманная без ошейника. Вот так: собачьим сачком накрыли, приволокли на собачью бойню, а потом и спустят под овражий откос, как падаль. Хорошо, что я умру раньше своего тела. Хотел бы я видеть, как оно рабски падет ниц при первом прикосновении к нему без разборчивого свинца! Сначала на коленки, или сразу бочком ковырну землю?
Помню одну шпионку красных. Калмык пустил ей из ру-жья под самый сосок. Удивительный случай: смерть моментальная, а упасть сразу и не подумала. Качнулась к стенке и будто влипла в нее — во весь рост. Солдат один наш перекрестился даже от страху. А калмык обезумел: подскочил и прикладом повалил ее, уже мертвую, на землю. И ударил в висок. Гордое у шпионки было тело.
Я написал, что умру, — нет сомнения. А пока — живу. Существую. Карандаши оставили, бумажки завалялись. Будто нарочно — пиши. Разговаривай сам с собой — веселей будет. Ну и, пишу для себя. Когда поведут в «последний рейс» — конец всяким разговорам. Я умру, а бумажки останутся, и какой-то сукин сын прочтет их за чаем своей жене, а потом ими п…, может, уничтожит?
В конце листка были рисунки: лицо старушки, эполеты, голый живот женщины, и рядом каллиграфически:
«Тоша — студент — черт знает что — капитан Платон Стародубский. — Нелепица!!!»
И дальше:
…Коридорный Ефим говорит, что тюрьма — как сума: и пряник и корку схоронит. Выходит так, что пряник — это я, а коркой влез в нее рецидивист Онищенко. Корка чаще в суме нищего: он чуть ли не десятый раз тут.
Рассказывали: надоест держать его за мелкую кражу — и выпустят. Поковыляет на свободе до осени, отоспится под кустиком, и — надоест вся свобода. Человек!
Норовит обратно на тюремные хлеба: нарочно стащит что-нибудь, вроде кипящего самовара, стащит на виду у хозяина и бежит с кипятком. Окрикнут — сразу же остановится, ждет, пока добегут до него, и скажет: «Я вор, ведите меня». И опять в тюрьме.
Бумаги осталось мало, дней жизни — тоже, вероятно; если писать — так для себя и о себе, а пишется черт знает о чем!
Поистине, человек — «общественное животное»: даже в тюрьме, перед смертью одолевает стадное чувство — думать вместе с другими и о других. Какой-то роковой круг неосознанного коллективизма!
21. XII.
Ефим принес обед. Сказал:
«Про вас говорят плохо: загубили вы много наших. В трибунал так и сыплют на вас разных заявлений от жителёв».
«Сыплют? — спрашиваю. — А что именно?»
«Всего не узнать, конечно. В трибунале будет, — сказывают, — ровно в тиятре, когда судить вас будут. Народу вы много попортили. Расстреляют, надо думать…»
«Почему ж так?»
«А так думаю, — отвечает. — Ежели все вместях, ежели весь народ, значит, боромшись, кровь за свободу выпущает али за полные свои права, — так при таком деле на каждого нашего мужика очень малый пай крови выходит. Очень малый! Не больше, чем уместиться ей на иголке. Верно я говорю?»
«А ты высчитывал, что ли?»
«И так видно. А ежели из бар кто против нас. значит, мужиков, — так на каждого барина или офицера пай крупный падает. Расстреляют наверняка!…»
Я молчал.
«Ну, — говорит, — то еще будет, а пока кушайте, а то отощать можно».
Ефим — мужик плечистый, лицо у него, что дыня, а глаза — словно две холодные железные гайки.
Ох, этот мужик мог спокойно теперь выжидать, очевидно, пока «вместях» будут «пущать» мне кровь!… И руки потом — без пятен: микроскопический «паек»!
Правильно. Война — так война. У нашего командования, у "доблестных белых орлов» (ну и мразь, сказать по чистой совести!) вовсе не было никакого мерила и не велась особая статистика на предмет «учета» мужичьей крови. Надо признаться, я лично тоже не был занят тогда этой мыслью.
…У Ефима в глазах железные холодные гайки, и он спокойно ввинчивает их в меня. Я наружно скрываю свою боль: нужно уметь казаться победителем и при поражении. Удается это обыкновенно гениям и шулерам…
………………………………………………………………
(Нюточка не могла разобрать нескольких строк.)
22. XII
Сегодня я сообразил, что сказать Ефиму.
Он приходил за посудой, я остановил его:
«Ты пойдешь в трибунал, когда меня будут судить?»
«Время будет — пойду».
«Не ходи. Я сам тебе больше сейчас расскажу… Что б там в здешней газетке ни писали — все мало! Какой там черт — семеро человек! Мало знает твоя газетка. Я вашего брата, мужика, штук сто сам запорол! Запорол, засек, изрубил, пристрелил… Что, слышишь? Как капусту. Как загорится русский человек, так и удержу ему нет…»
«Сволочь ты! — закричал Ефим. — И слушать страшно. Пойду…»
«Нет, — кричу, — нет, стой! Ты узнай, Ефим: два зверя были в берлоге — твой да мой. Но мой — старший. Твой зверь стал грызть моего — меня… Понимаешь? Меня, старшего. Ну и пошло тут! Тут-то и „пайки“ твои, Ефим… Одолел твой. Но берлоги-то мне не жаль: вонючая она оказалась, псиная…»
(На листке дальше — национальная ругань.)…«Себя жаль… один я — сто твоих мужиков. А на суде за семерых отвечать? Чепуха! Не ходи на суд. Я сам расскажу тебе про сто голов, двести глаз, двести рук…»
Лицо Ефима побагровело, ключи в руках тяжело хрустнули, я думал — он ударит меня.
«Сволочь ты… Сволочь!» — сказал он и быстро ушел.
………………………………………………………………
Господин сукин сын! Я не доставлю вам удовольствия… На то есть параша. А жить, клянусь, страсть как хочется! Всю Россию со всеми замечательными потрохами, отца и мать отдал бы за продление жизни.
………………………………………………………………
Записываю почти в темноте. К «глазку» подбегал кто-то из уголовных. Сообщил: в 10 верст. — Махно! Уголовн. говорят: придет Махно — первым делом «распустит» тюрьму. Ура! Неужели…
…В комнате было еще светло, но темь застлала глаза Нюточки. Так вот кто он… военрук, Полтора—Героя?
Что делать? Сказать ему, что прочла? Порвать самой, сжечь?…
Еле преодолевая охвативший ее страх, Нюточка еще раз перечла густо исписанные листки. Уничтожить их, сжечь эти записи — и ничто уже не будет угрожать их безумному составителю: Нюточка хорошо знала, что ожидает военрука Стародубского, если эти листки станут кому-нибудь известны.
Крепко зажав их в руке, она стояла у стола, боясь шелохнуться.
«Расстреляют его, расстреляют…» — мысленно повторяла она, и все казалось, что это суровое, безжалостное слово вырвалось вдруг из притаившегося строя других — обличительных, бродит теперь и тычется во все углы этой комнаты, с каждой секундой размножается, ползет, свисает, наполняет нею комнату мертвым запахом смерти.
— Барышня!… — вдруг кто-то вполголоса окликнул ее.
— Ай! — невольно вскрикнула Нюточка и бросилась к двери.
— Извиняюсь, это я — извозчик. Я хотел только что-то сказать…
Нюточка обернулась и посмотрела на говорившего: у окна стоял Давид Сендер. Она знала его, как и все в городе.
— Барышня, — сказал Давид Сендер, — у меня есть маленькое дело до товарища военрука. Можно мне его увидеть?
— Нет… нет… Он уехал по служебным делам. В уезд отправился. Передать ему что-нибудь?
— Придется передать. А что мне остается делать?! — словно сам себе ответил Сендер.
Он внимательно посмотрел на Нюточку, потом — в обе
стороны вдоль улицы и жестом подозвал к себе девушку.
— Вот что. Скажите товарищу военруку, что приходил до него Давид Сендер, извозчик.
— Знаю… — сказала Нюточка.
— Он вам про меня, может, рассказывал? Нет?… А я думал — рассказывал. Я вижу, что вы у него в комнате, как своя, — так я думал, что вы с ним дружите. Вы с ним дружите? — спросил Сендер. — Ну… Значит, уважаете?
— Я ему могу все передать… Ну говорите!
— Все! все… — одобрительно закивал, прищурившись, Давид Сендер. — Так скажите ему, что приходил я по известному ему делу. Ну он сам знает, по какому… Скажите ему, что меня сегодня утром звали в одно неприятное место… в одно такое учреждение, что доверяет всяким, ябедам, всяким глупым слухам! Да, так вот… Словом, на меня какой-то извозчик поябедничал… Ну вот такое дело. Я, конечно, прошу, чтоб товарищ военрук за меня заступился, как он меня хорошо знает…
Сендер говорил медленно, нерешительно и все время с осторожкой поглядывал то на Нюточку, то на улицу, прислушиваясь к каждому шагу редкого прохожего.
— Я знаю, что меня, наверно, еще раз позовут, — продолжал Давид Сендер. — Я это хорошо знаю. Всякие дела могут случиться…
— Хорошо, я передам ему, — сказала Нюточка и, закрыв окно перед носом извозчика, быстро прошла к себе в комнату.
«Расстреляют… расстреляют!» — догнало ее и здесь неотступно преследовавшее слово.
— Нюта! Нюта! — позвал из кухни голос Елизаветы Игнатьевны. — Модистка пришла…
Девушка скомкала потертые листки и глубоко спрятала их у себя на груди.
…Стародубский вернулся поздней ночью. Нюточка подкарауливала его все время в коридоре и, прежде чем он успел позвонить, она, услышав приближавшийся к дому фаэтон, открыла парадную дверь и вышла на крыльцо.
— Нюта? — спросил военрук. — А, это Нюта… — И по его голосу она сразу же поняла, что Платон Сергеевич пьян.
— Да, это я…
Военрук шел, сильно пошатываясь и сам с собой разговаривая. Нюточка вошла вслед за ним в комнату, зажгла свечу, задернула зеленые занавески.
— Ждала… а? Ко мне хочешь… ко мне, ми-и-иленькая? А я дрызданул, в компании дрызданул! Сними мне сапог… а? Скоро пройдет, сейчас пройдет. Меня не сломит, не-ет, не сломит! — бормотал он, тяжело опустившись на кровать. — Ах, ты… дружненькая, гибкенькая…
Ободренная его добродушным тоном и в то же время не совладая с охватившим ее вот уже несколько часов волнением, Нюточка быстро опустилась подле военрука и, нежно гладя его голову, тихо сказала:
— Родненький… Зачем ты хранишь такие бумаги?
— Какие бумаги? — беспокойно встрепенулся Платон Сергеевич, уставив на нее свой мутный взор. — Что за бумаги такие?… Тебе что?
— Тюремные… вот те самые. Я читала их.
Она вытащила из-за лифчика скомканные бумажки.
— Эти… тюремные…
В одно мгновение военрук вырвал их из ее рук, сильно толкнул оторопевшую девушку и быстро вскочил.
Лунным, оголенным блюдцем спускался через занавески в комнату молочный мертвый свет. Белыми ломаными тенями он играл на лицах у обоих; лицо военрука' Стародубского показалось Нюточке раздвоенным зигзагом злой, исступленной гримасы.
— Слизня дохлая!… — прошипел он вдруг. — Дрянь! П-по-шла вон! Ковырять думаешь человека… а? В чужую душу лезешь?… Обыск в чужих ящиках…
— Я только боялась за вас… боялась! Я… как лучше хотела, а вы… Я теперь знаю… Я ненавижу вас… У, подлец, Полтора-Хама!
— Что-о?! Вон! Ах, ты… дохлятина! Щупать мою душу… душу мою хочешь? Вон!
Он распахнул дверь, схватил за руку плачущую, едва сопротивляющуюся Нюточку и выбросил ее в коридор. И крикнул первое попавшееся на ум пьяное слово:
— Вошь… вошь!…
И услышал в ответ — придушенное, горячее:
— Хам! Хам! Расстреляют…
Минуту постоял у двери, тяжело дыша, потом подошел к столу и чуть наклонился над робко вздрагивавшим огнем свечи. Разжал кулак, все время сжимавший изорванные уже листки, для чего-то расправил их и, подумав над чем-то секунду, — поднес их к огню.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. Последнее преступление Полтора-Хама
Уснуть уже не мог. Хмель быстро покидал его великанье тело, беспокойно ворочавшееся на скрипучей, душной кровати.
Платоном Сергеевичем овладело какое-то новое, однажды только — в тюрьме — испытанное чувство. Все как будто онемело, все перестало существовать: он сам перестал осязать свое тело; глаза, как слепцы, не видели, не различали уже стоявших в комнате предметов, и сама комната словно потеряла свои очертания, стала необъятно пустотой.
Была теперь только — мысль. Она одна жила только и, как жадный спрут, вобрала в себя все существующее, всего его, Платона Сергеевича Стародубского. И если было теперь какое-либо ощущение, то это было лишь ощущение мысли.
А когда живет мысль сам а по себе — острым, незримым щупом вывернет она человека, сама оголит себя до конца, до корней, и оголь у человека начнется с самого упрятанного, с самого сокровенного — с человеческой боли…
У военрука Стародубского была в жизни своя боль, и открыть ее он никому никогда не решился бы.
После побега из тюрьмы вместе с махновцами прошло уже почти три года. И все это время Платон Сергеевич не расставался со своими тюремными, предсмертными записками. Он мог их сразу уничтожить, как решил вскоре же уничтожить все свое прошлое белого офицера, опустившего руки перед победившим его врагом. Все было уничтожено, все концы прошлого были хорошо упрятаны, но расстаться с самым опасным свидетелем его жизни, с этими истрепанными листками — Платон Сергеевич не пожелал.
Жизнь по— своему вывела его из душевного равновесия: в холодном и трезвом уме поселилась новая, цепкая и дразнящая мысль -из тех, что постепенно или сразу отклоняют человеческий ум в сторону скрытого болезненного психического процесса. Его, неожиданно спасшего свою жизнь, эта мысль сразу же после побега начала все больше и больше, все сильнее дразнить возможностью какой-то новой большой игры — взамен той, которая была для него навсегда потеряна в реальной, покорившей его жизни. И когда в первый же час после побега рука Платона Сергеевича хотела уже бросить в первый попавшийся огонь предсмертные записи — мысль, этот новый неотлучный спутник, что-то шепнула Платону Сергеевичу — и рука его покорно спрятала листки в один из карманов.
«Подождем, — подумал тогда Стародубский. — Это ведь всегда можно сделать: миг — и все кончено. Частицу себя сжечь?… Пускай вместе с целым погибает…»
Прошли дни, они растянулись на долгие месяцы — Платон Сергеевич не думал уже о своей гибели, жизнь нашла для него свое место — не погибли и тюремные записи. Не было уже никакой тревоги, и, наоборот, он часто испытывал ему одному понятную, жившую в нем радость. Вот — при нем, рядом с ним, незримо для других живет его прошлое — и не только оно, но и то самое страшное, непоправимое, что уготовило для него, Платона Сергеевича, это прошлое: смерть. Его собственная побежденная смерть — эти вылинявшие записи карандашом.
Он знал, что прочти кто-нибудь их, — и немые сейчас, мертвые сейчас, казалось, для других слова сразу оскалятся, сразу же крикнут всем о близком часе его гибели.
Но он хранил их.
Ему сладостно было чувствовать победу своей воли, победу над своей собственной обессиленной смертью, которую воспаленная мысль представляла себе уже каким-то реальным существом, связанным, закованным по воле его, Стародубского, могущей в любой момент умертвить этого бессильного пленника. Он был настолько теперь бессилен, что повелитель не боялся оставлять его почти на виду у всех: уходя, Платон Сергеевич оставлял листки в открытом ящике, нарочно — среди часто используемых предметов — бритвы, мыльницы, пудры…
И каждый раз, возвращаясь, военрук высовывал ящик, щелкал пальцем по листкам и весело усмехался. А иногда — лишь только чуть был выпивши — он вел с вещью короткий насмешливый разговор:
— Ну, вот… крикни, попробуй крикнуть. Я ведь у тебя в руках — не так? Ты — моя часть: вот, выпрыгни из меня… убей! Не можешь? Нет, не сможешь. А я все могу, брошу в печь — и тебя не станет. Видали-с? А? Видали-с?
Опять щелкал по листкам, прятал их вновь в ящик и успокаивался.
Суеверен стал Платон Сергеевич: роковые, опасные для него записки считал своим счастливым талисманом. И любил их, любил вещь, любил борьбу с ней — игру.
А вместе с этим чувством пришло и другое — жалость.
Ему было бы жаль расстаться с этими знакомыми вылинявшими листками; не только потому, что в них была заключена самая сокровенная часть его «я»: Платону Сергеевичу они были близки — как вещь, с которой человеку часто трудней и горше расстаться, чем с близким другом.
Это последнее чувство было тем сильней, что за последнее время оно не было обращено ни на кого и ни на что: у военрука не было жалости теперь ни к людям, ни к своему собственному потерянному прошлому, не было жалости к когда-то любимой родине — России.
— Россия? — говорил он со злой усмешкой в последний раз Вертигалову. — Россия? Да это несуществующее слово… мираж. Это было человечье займище, и теперь легли на нем наземом все ваши замечательные россияне.
«Псиной берлогой» стала военруку Россия коридорного Ефима. Истлела прежняя Россия — а остался жить он, Платон Стародубский. И живет без России, вне ее.
Нет России, и — хорошо: к Черту Россию! Есть только «я».
«Я» каждого человека здесь — и есть «Россия». На Цейлоне каком-нибудь «я» — есть Цейлон, в джунглях «я» — есть джунгли.
— Большевики делают Россию по последним правилам науки и истории, — убеждал военрука Александр Петрович, и в душе военрук ненавидел уже эти законы истории.
Нет любви, нет ни к кому жалости. О, если б мог он, бывший русский патриот, собрать вокруг себя тысячную толпу и бросить в нее горькие семена своих мыслей!
О ком и кого может жалеть он — бывший дворянин, бывший капитан, бывший патриот?
О каких— нибудь вяземских сладкоротых жителях, запекшихся в течение столетий в липкое тесто базарных пряников, или о тульских купцах и мещанах, смотревших на свою страну из-за медного брюха знаменитого самовара?… О разогнанных киевских и соловецких монахах, о скудоумных, никчемными оказавшихся больших И малых дворянах?…
Или, может быть, жалеть ему, Платону Сергеевичу, о русском народе-«богоносце», об армейских штабс— и просто капитанах или о трех десятках тысяч земских врачей, словесниках и математиках, адвокатах и товарищах прокуроров
Стоит ли жалеть?!
Сотни вяземских и тульских купцов развозят, рассыпают, расставляют по мандатам Вэ-эс-эн-ха, трестов, кооперативов — по всей России на ярмарках и складах то же сладкое пряничное тесто, те же брюхатые самовары — эти семейственные идолы всероссийского мещанина… («Р-р-работа-ют», — думал о них Платон Сергеевич).
Штабс— и просто капитаны имеют «ромб» у локтя, приказы Троцкого о всяких льготах и те же роты для команды. И больше: полки, дивизии! А разве Врангель может дать им дивизию, а кроме того, над кем там командовать?…
Адвокаты? — Вспоминая о них, Платон Сергеевич почему-то злобно улыбался.
О, адвокаты! Они, артисты, писатели, проститутки за чет-верть часа до гибели Земли, всей Вселенной — урвут свое: они продадутся друг другу!
Россия — скопом? Мужик? — Ешьте, ешьте — рязанские, симбирские, черниговские — коровий зад, буханки хлеба и пережевывайте великолепные декреты московских санкюлотов!…
Нету России, к черту ее! Нужно просто жить, как волк, как муха, как дерево… А любить — любить самого себя, только свое.
…Спрут этой последней, почти исступленной, мысли все крепче и крепче вбирал в себя настороженную волю Плато-па Сергеевича: жить во что бы то ни стало… Жить!
На него напал неожиданный страх, и вспыхнула болезненная жалость к себе самому.
Страх шептал, предостерегал: придет утро и Нюточка, храня в себе обиду и горечь этой ночи, мстя за поруганную свою девичью жалость, — откроет все, выдаст его. «Да, да, обязательно выдаст, — металась мысль Платона Сергеевича. — Выдаст. — И он вспомнил теперь, отчетливо вспомнил недавнюю робкую угрозу Нюточки. — И скроет тем свою связь со мной…»
Приближавшееся утро представлялось зловещим, таинственным — последним свободным утром.
— Не хочу! — почти крикнул он вслух. — Пойду к ней, объяснюсь, узнаю.
Он порывисто соскочил с кровати и, ведомый внезапно осенившей его мыслью, пробрался на цыпочках в коридор, к дверям Нюточкиной комнаты. Минуту прислушивался — потом тихонько открыл дверь.
Девушка спала. Военрук неуверенно приблизился к ее кровати. Нюточка лежала на спине, одна рука свисала к полу, лицо было одутловато и потно. Военрук некоторое время пытливо всматривался в него.
«Выдаст! — сверлила испуганная мысль. — Отомстит… И обязательно через своего чахоточного».
Большой, почти голый, вздрагивавший, затаивший дыхание — Платон Сергеевич показался себе в эту минуту беспомощным, трусливым и жалким.
Перед глазами всплыл почему-то на мгновенье образ убитого долговязого паренька, польстившегося на чужое яблоко.
«Ну!… — словно ощутил он на себе толчок последних остатков своей воли. — Ну!…»
Платон Сергеевич быстро нагнулся и шепотом окликнул спящую девушку:
— Нюта! А, Нюточка…
Она шарахнулась на постели, застонала со сна, сжалась от испуга комочком.
— Ай, ай!
— Нюта… одну минуту. Постой, это я… я… — закрыл он тяжелой ладонью ее рот. — Пришел только узнать… поговорить, объясниться. Ты никому не скажешь? Нет? Скажи, Нюта… я только узнать хочу… — скороговоркой шептал он.
Нюточка метнулась, остановила на нем сонный непонимающий взгляд, вцепилась в широкую тяжелую руку, легшую па ее лицо.
И вдруг смертельный испуг обуял девушку, и она протяжно и громко захрипела:
— Ай-ай… Подлец!… Хам!… Убийца!
«Выдаст!» — бросилась горячо кровь в голову Платона Сергеевича и прожгла ненавистью все сознание.
Он обхватил вдруг второй рукой тоненькую шею девушки, крепко сжал ее и надавил на нее всей тяжестью своего мускулистого большого тела. Мгновенье судорожилось оголенное и борьбе Нюточкино легкое тело, потом осекся девичий крик под диким зажимом цепких пальцев Полтора-Хама.
Он еще долго не выпускал омертвевшей шеи, долго не разжимал своей руки.
Вялость и неожиданное спокойствие охватили теперь Платона Сергеевича. Он прислушался, не дышит ли девушка, выпрямил ее сжавшееся тело, придвинул к стенке сместившуюся во время борьбы кровать…
Он был спокоен, и только в зеленых сухих глазах высекались искрами азарт и безумие совершенного преступления.
Он вслух спросил себя:
— Ну, а теперь что?…
Тонкой пылью просвечивавшейся зари ржавела расползавшаяся просинь ночи.
Тупо прогрохотала где-то вблизи телега. Ржал, храпя, чей-то бодрый конь. По соседству, в голубятнике, хлопотливо и нежно ворковали пернатые супруги.
«А теперь как?» — мысленно переспросил себя Платон Сергеевич.
И тотчас ответил себе: «Жить!»
Ибо живет волк, живет муха, живет дерево. Жить — вечная, пращурная человечья жажда…
Он нашел на спинке кровати плетеный шелковый шнурок от Нюточкиной кофточки и накинул его петлей на два карнизных гвоздя, крепко торчавших в стене над самой кроватью. Потом, раскрыв мертвую Нюточку, поспешно стал надевать на нее лежавшую на стуле одежду.
И когда все уже было готово — поднял с кровати покорное, бездумное тело, продел голову Нюточки в ожидавшую петлю, для верности оттянул вниз тихо покачивавшееся тело и отошел к двери.
…Набегало утро. В окна шла желтевшая прорезь пробуждавшегося солнца, радостный тонкий говорок слали навстречу ему жизнелюбивые ласточки, кое-где в улицах слышен был короткий просыпающий гул.
Платон Сергеевич шмыгнул, закрыв дверь к себе в комнату, и опустился на кровать.
Мягкий гул человеческих шагов и голосов все ближе и ближе подкатывался к дому Сыроколотова, еще минута — и он стечет дальше, к углу, к переулку, — но он вдруг припал к дому и дальше не двинулся.
Лежа на кровати, Платон Сергеевич увидел в окно человека в знакомой военной одежде и другого — с портфелем в руках.
«Куда это?»1 — невольно насторожился Платон Сергеевич.
Дважды повторенный звонок ответил его мысли.
Открывать не пошел; зарыл голову в подушку и ждал: «Сообщила… донесла. Еще днем, наверно, сказала по секрету тому… чахоточному!» Но он тотчас же почувствовал необоснованность этой догадки и — успокоился.
…По коридору, к парадной двери бежали босыми испуганные, заспанные старики Сыроколотовы.
Неловко упал дверной засов, заскрипели половицы — и до Платона Сергеевича долетел чей-то начальствующий вопрошающий голос:
— Покажите, граждане, где тут комната вашего квартиранта, военрука Стародубского?
— Сейчас… сейчас, товарищи, — угодливо отвечала Елизавета Игнатьевна. — Вот сюда… сюда, товарищи.
— Служебный пакет ему! — врал чей-то незнакомый голос.
Следом за раздетым пыхтящим Сидором Африканычем шли следователь Семя Буйченко (это он соврал, улыбаясь, про пакет), начальник милиции и милиционер.
Подойдя к двери Платона Сергеевича, бравый начальник милиции постучал в нее кулаком и громко сказал:
— Именем республики — довольно дрыхнуть!
И когда вошли, милиционер вынул для чего-то револьвер и помахал им впереди себя, а следователь Сеня Буйченко, стоя за спиной своих спутников, строго объявил:
— Гражданин Стародубский, вы подлежите аресту!
— За что? — не подымая глаз, спросил Платон Сергеевич.
— За преступление по должности.
А начальник милиции не утерпел:
— Одевайсь… да не выкручивайся! Давидка Сендер все показал!
И пока Платон Сергеевич одевался, словоохотливый начальник милиции хвастал ошарашенному всем происшедшим старику Сыроколотову:
— Эге, мне да чтоб не показал! Я его утром нарочно выпустил, а сам за ним, как полагается, — слежку по всем правилам техники и искусства. А он возьми да и приди сюда… к оконцу.
— Кто?… — решился спросить Сидор Африканыч.
— Давидка Сендер, извозчик. Агентурные сведения мы насчет него имели. И вот к сожалению, конечно, — и про бывшего товарища этого…
Он указал пальцем на угрюмо молчавшего военрука.
— Вин молчыть! — усмехнулся иронически хохол-милиционер.
И тут же добавил, тыкая револьвером в сторону подошедшего близко Платона Сергеевича:
— А еще начальством называется! Вот то мени б была такая должность — так ни, не выходыть!… А почему, спрашивается? И Давидке каюк теперь…
— Спасите… Господи, спасите!… — раздался вдруг пронзительный, визгливый крик из комнаты напротив.
Все бросились на крик и увидели то, что,первой, зайдя в комнату дочери, увидела Елизавета Игнатьевна: мертвый отвесок Нюточкиного тела…
………………………………………………………………
Теперь около Стародубского стоял с вытянутым вперед револьвером сосредоточенный хмурый милиционер, а в соседней комнате, у кровати, над мертвой плакали навзрыд старики Сыроколотовы и записывал что-то, совещаясь с начальником милиции, следователь Сеня Буйченко.
Военрук Стародубский, сидя у открытого окна, медленно докуривал папиросу. Лицо его было бледно, но спокойно. И только упрямая трезвая мысль все время не покидала его: «Они догадаются теперь: я не успел застелить ее постель!… Она висит одетой. Или, может быть, чудо будет?… Они догадываются».
Дом наполнился испуганными крестившимися соседями — утро принесло городку небывалую, таинственную новость… Платон Сергеевич искоса поглядывал на всех и думал:
«Точка… Вот и все».
Но в душе ждал чуда.
Чуда не случилось.
В комнату опять вошел следователь и громко, так, чтоб все присутствующие слышали и благоговели, — сказал:
— Гражданин Стародубский, следуйте за мной! Опытный глаз всегда увидит: одно преступление влечет за собой Другое… Вы меня понимаете, гражданин?
И он ехидно шаркнул маленькой ножкой.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. «Мещаниния»
Хоронили Нюточку Сыроколотову десятой неделей по Пятидесятнице, в субботу преподобного Симеона и Иоанна, а до самого дня Флора, Лавра и Еремы и после — жил городок девичьей смертью.
Все это время имя Нюточки Сыроколотовой упоминалось одновременно с именем дискредитированного Сендером дыровского военрука, и арест его сулил местным горожанам немало загадочных историй: уж больно таинственной и особенной фигурой казался всегда необщительный Полтора-Героя!
Почти каждый день по городу распространялись новые слухи, догадки; рыльце у городской сплетни стало откормленным, блудливым, ехидным…
Юлия Петровна Синичкина — «коммунальное ложе», что содержала гостиницу для приезжающих, клялась всем, что Нюточка Сыроколотова «сама повесилась», а Полтора-Героя тут ни при чем: просто большевики потребовали от беспартийного Сени Буйченко, чтоб «прицепил» он еще одно преступление «интеллигентному капитану, не пожелавшему вступить в ихнюю компанию»…
В кафе «Совет» клюкнувший без малого дюжину пива и с самого утра разгонявший на бильярде «пирамидку» брандмейстер Саша-Спиртик, бывший акцизник, высказал догадку -как сам говорил — «физико-химического свойства».
По словам дыровского брандмейстера, бывшему городскому голове Мельникову не в моготу будто было выполнить с Нюточкой законом природы положенное — «ушел от ней ночью постыдный Герасим Трофимыч не солоно хлебавши», а опозоренная невеста, придя в отчаяние, — повесилась…
При такой версии «ерундой, дорогие, достопочтенные, делается улика против военрука — смятая постелька».
— Смята-то смята, — это верно! — соглашался хмельной Саша-Спиртик. — Но кем, достопочтенные мои, дорогие? Именно — старой паскудой Мельниковым!
— А почему, Саша, в полном дневном облачении, при полном застегнутом гардеробе висела Нюточка? — недоверчиво спрашивали его…
— От стыда! Знала уж, что придут смотреть… Партнер Саши-Спиртика, Яша-Щепка, сопя от жары, жирных своих телес и третьего проигрыша брандмейстеру, обозвал его тут же «дураком» и другим словом, в печати не упоминаемым.
— Он убил — Полтора-Героя! Факт! А почему не убить было? Ему сажени в рост мало, а она против него была клякса! Факт.
— Скот! — кричал брандмейстер. — А причина ж где?
— Не нашего ума это дело, — философски отвечал Яша-Щепка. — Причина — их дело. Может, уговор какой был? Или — пари даже? Факт.
Еще разные были пересуды.
Полтора-Героя убил Нюточку из ревности к бывшему городскому голове Мельникову. Удавилась Нюточка из-за отвергнутой, наверно, любви и нежелания стать женой пожилого Герасима Трофимовича. Повесилась девушка потому, что согрешила перед свадьбой и убоялась скандала. Нечаянно повесилась Нюточка Сыроколотова…
Правда, в последнюю догадку никто не верил.
Исходила она от парикмахера Моисейчика, а его прозорливому уму ни один взрослый горожанин, по вполне справедливым основаниям, не доверял… Да как иначе и следовало относиться к нему после того, что случилось несколько лет тому назад?
Всем памятно тогдашнее умозаключение Моисейчика… Когда приехали с вокзала первые большевики и, не объявив причины своего приезда, начали весьма внимательно осматривать здешние квартиры, — успокаивал тогда парикмахер Моисейчик перепуганных сограждан, не решавшихся в такие тревожные дни посещать его цирульню:
— Что вы не приходите ваше пуховое буланже подправить? А? Что вы обращаете на них внимание? Ой, не всурьез это, я вам говорю. Как честный человек! Дезертирия только балуется. Побалуются — и поедут себе дальше!…
Не стало с тех пор веры ему в Дыровске.
Все искали разгадку печального происшествия у следователя Сени Буйченко. Свинья-Баран любезно, но таинственно улыбался, игриво чертил по земле своей маленькой легкой ножкой и неизменно отвечал одно и то же:
— Извиняюсь — предварительная стадия и уголовно-политически-служебный конфиденс! Делу дан надлежащий республиканский ход… Конфиденс!
Никто ничего не понимал. Последнего слова не понимал, между прочим, и сам Сеня Буйченко: неизвестно откуда пришло на ум это приятное, тонкоучтивое сочетание букв!
…Хоронили Нюточку Сыроколотову неделей десятой по Пятидесятнице, в субботу преподобного Семеона и Иоанна. Хоронили пышно, по первому разряду: пара пожарных лошадей, впряженных в катафалк, впереди в полном облачении — отцы дыровской церкви.
В Дыровске испокон веков существовал порядок, при котором покойника всем известной фамилии провожали до самой могилы; шли за гробом целыми семьями. У кого дитя груди еще просит — берет с собой и ребенка, завернутого в пеленки, и непременно берет, потому что испокон веков сильна здесь примета: ребенка на похороны брать — долго жить он будет…
Многолюдная печальная процессия проходила по главной улице, мимо кафе «Свет». На что уж беспечный народ у бильярдных шаров — а и то с киями в окна высунулись. Завсегдатай, брандмейстер Саша-Спиртик, смиренно обнажил голову, облокотился на мягкое плечо своего партнера Щепки и несколько минут провел в унылом молчании. Он не отрывал глаз от катафалка, от знакомых ему пожарных лошадей, тихо покачивавших надетыми па них белыми султанами.
И когда лошади уже скрылись, он глубоко вздохнул и любовно сказал:
— Ишь довольны кобылки. Беспокойства им нет и беготни, что в пожарную службу. К тому же, — приметил Саша, — одна на сносях?
Потом, вспомнив, очевидно, о покойнице, сказал протяжное, сочувственное «н-да-а»… и добавил уже с ухмылькой:
— Вот, Яша, по дружбе тебе говорю: если надо будет хоронить тебя — повезем с таким же почетом, Сам буду лошадей под уздцы вести! А то не донести тебя… Ну, пойдем.
Ята-Щепка не оборачиваясь, меланхолически, раздосадованно просопел:
— К чертовой матери! Чем так ездить — лучше пешком ходить!
Через минуту костяные шары с ожесточением били друг друга.
…Позади всех в толпе шел, рядом с повстречавшимся Вертигаловым, — Юзя.
Когда дошли до Казначейского скверика, юноша остановился и дернул Александра Петровича за рукав:
— Я дальше не пойду. Не могy. He люблю кладбища…
— Ну, ну, — согласился Вертигалов. — Пойдем вот туда, сядем…
Зашли в скверик, опустились на скамейку. Некоторое время оба молчали.
— Вы ее хорошо знали? — глядя на землю, на которой палкой писал свою фамилию, спросил Вертигалов.
— Да, с детства.
Глаза Юзи замигали, по ним пробежала невольная, давно сдерживаемая слеза.
— Ох, отвлеките мои мысли от нее, Александр Петрович! Даже не от нее, а вообще… от всего того, что напоминает смерть. Вы ведь знаете мою слабость…
— Что и говорить: тема — дрянь! — смешливо поморщился Вертигалов. — Особенно для человека, жаждущего жить не меньше тысячи лет, а? Нет, нет, голубок, давайте лучше о другом… Вы знаете, Юзя, о чем я думаю последнее время? Да, впрочем, откуда вы можете знать? Я думаю, что самая тяжелая и нудная жизнь тут — для коммунистов. Нет?
Юзя молчал.
— Вы думаете, я шучу? — продолжал, воодушевляясь, дыровский радикал. — Ничуть не бывало. То есть, я говорю о настоящих, грамотных в своих мыслях, коммунистах. Да, да. Ну, скажем, их тут, говорят, всего пятьдесят три человека — так пяти-шести настоящим па-аршиво должно быть, голубок! А?
— Почему только им?
— Хм, почему?! Тут же — хлев, болотце, дупло! Мещаниния! Вы не удивляйтесь, Юзя: это мое собственное слово… Мещаниния, сволочь! Там, понимаете ли, столица стреляет по всяким «европам», там где-то что-то строят, двигают, сдвигают; расширяют — словом, черт знает, чего там только не делают! И хорошо. Замечательно. А эти пять-шесть в каждом таком вонючем городке — точно заложники. Разве эти пять-шесть не имеют права завидовать тем, другим, что живут настоящей, благородной жизнью? Так нет. Одним — жирный чернозем жизни, а другим — пески, болото и глина… Заложники, заложники! — неистовствовал уже быстро воспламеняющийся Александр Петрович. — Это почище, я вам скажу, религиозного подвижничества. Ей-богу! Там что-то двигают, строят, а тут надо черт знает сколько лет, чтоб этим плюгавым и свинячим мещанам, этой дохлой славянской закуте, вдолбить, что она должна умереть… Потому что — вы же понимаете! -дело не только в вывеске: «Советский Дыровск» или «Советский Сергач». Не так? Хотя, Юзя… вы меня, кажется, не слушаете? Это свинство! Вы просили отвлечь — я вас отвлекаю…
— Нет, нет… — встрепенулся юноша. — Я вас внимательно слушаю, я с вами согласен…
Влажные желтоватые глаза его сощурили слабую улыбку. Он повторил:
— Вы во всем правы. Действительно, очень тяжело…
— Я думаю! Нет, почему я все это говорю? — Мещаниния. Самая гнусная разновидность человеческой особи. Вот прожил тут… Сорок семь лет прожил, семерых детей нарожал, домик нажил, право на почетные похороны, — а все это, считаю теперь, один эпизод только. Прозрел окончательно. Послe жизненной катаракты. Нет? Какая эпоха… ух, какая великолепная эпохочка, честное слово!…
Он весело хлопнул Юзю по плечу и внимательно посмотрел на него.
— Э-э, голубчик, — врете вы: совсем вы меня не слушаете. Вид у вас пергаментный и здорово меланхоличный. Вы все о покойнице думаете, а?… Бросьте, душа моя. В свое время все там будем — телом, конечно… Только телом, прозодеждой.
Потом он вдруг начал рассказывать о том, как произойдет последовательно переезд его семьи в «необходимую ему, как воздух» Москву…
…Мимо скверика проходили уже люди, возвращавшиеся с похорон: бабы-плакальщицы в ситцевых белых платочках и с неснятой еще слезой на ресницах (и кажется так, глядя на баб: слезу эту для таких печальных случаев плакальщицы всегда держат в глазу наготове, берут ее из глаза напрокат); быстрей обыкновенного катился катафалк с восседавшими на нем погребальщиками, покуривавшими цигарки; женщины с старомодными полотняными зонтиками, дети; стая любопытных бездельничающих мальчишек (им все одинаково интересно: военный парад, похороны, пожар или митинг); возвращались понурые родственники Нюточки, и среди них — недополучивший приданого, досадующий бывший городской голова, Герасим Трофимович…
Юзя не любит кладбища — а думает о нем. Боится смерти, но весь — с ней.
И сейчас еще трепетней, еще жадней тянутся его мысли -к жизни… Вот если бы жить, жить, жить — двести, триста, две тысячи лет жить!
Он часто думал: есть люди — обрубки, без рук, без ног. Комками мяса и кости они ползают беспомощно по земле: они могли умереть, но смерть их пожалела.
Так пусть и он. Юзя, на тысячу лет останется вот таким! Пусть! Лишь бы — дышать и видеть землю…
Он знает: камень видеть, червя, стебель, глаз другого, шаг другого. — более великого нет: жизнь!
Он знает: камень, живущий на усыпальном холме признанного пророка — велик более его, мертвого; червь, гнездящийся в мертвых мозгах его — более мудр уснувшей его мысли; и стебель, проросший к солнцу из земляного праха его — желанней человеческому живому глазу более останков его, вчера еще великих, боготворимых!
Жить! Жить! Дышать и видеть!…
— Пойдемте… — заторопился Юзя. — Мне что-то стало хуже, чем всегда.
На углу он распрощался со своим другом.
Перед самым отъездом из города Александр Петрович узнал: умер Юзя.
Умер — как умирают люди, чья смерть не может вызвать никаких особенных догадок: умер у себя на постели, прикрытый одеялом.
Этой смерти никто в городе не удивился:
— Чахотка у парня была. Говорят, в три двери перла!
Мать Юзи. прикованная к постели той же болезнью, что и он, передала зашедшему к ней Александру Петровичу — конвертик:
— Вот он написал напоследок, родненький мой… В последний вечер до смерти сказал мне он — вот, говорит, мамочка, письмецо Александру Петровичу, прошу я его об одолжении одном… пошли, говорит, утром ему соседкой, покамест я буду спать…»
Уже очутившись на улице, Вертигалов вскрыл конверт. На листочке бумаги четким Юзиным почерком было написано:
«Не удивляйтесь. Вчера в больнице врач сказал, что осени мне не пережить: последняя стадия в таком возрасте значит — смерть. Та самая (помните?), о которой мы с вами не раз говорили.
Что же было делать? Выйти из больницы и, сколько дней хватит, идти, идти куда-то, без всякой цели, без передышки… Идти по земле, которая когда-то тоже умрет со всей своей «вечностью», — и чувствовать в последний раз эту землю, любимую до боли, до подлинного безумия.
Идти, чтоб где-то у земляной кочки споткнуться и не встать уже. Идти, думая, что можно убежать от смерти? Или — никуда не уходить, никуда не бежать: пересилить свой страх перед смертью и… понимаете уже?
Я решил в первый и последний раз пересилить себя самого; чуть-чуть случайно приобретенного цианистого калия, и — все…
И чтоб не было пересудов и, главное, медицинского вскрытия, залезаю под одеяло, аккуратно сняв штаны.
Помните — вы вспоминали мне однажды М. Горького: "Лучше человеку без штанов жить, чем со скептицизмом в душе». Я свои штаны снял, чтоб умереть. Так, может быть, удобней для других.
И вот еще странность (для вас, конечно): решил умирать, все равно, что уж дальше со мной будут делать, — но тело мое все-таки прошу, последней просьбой умоляю — не резать. Может быть, я немного рехнулся: мне кажется, что, умерев, я буду все же чувствовать боль, если меня будут вскрывать…
Прощайте, дорогой Александр Петрович. Простите за возможное беспокойство. Да, вот еще: если придет поп — выгоните его!
А как мучительно люблю землю и свет!
Юзя».
Его, по бедности, хоронило соответствующее государственное учреждение: без катафалка, без попов, без суетливой, любопытной толпы.
Городок не заметил. Городок молчал. Его — не вспомнил.
Подпоясанная ржавой изгородью стояла церковь Покрова Пресвятыя Богородицы.
Изо дня в день хлюпался людской вялой раструской кислый студень-базар. Ковыляли по площади и улицам черствыми сухарями многолетние нищенки, и ворошили пыль бездумные мальчишки. Росными утрами и вечерами, вылакавшими солнце, — гнал по городку почти столетний пастух Егор коровье стадо. Ерзала по домам, ухмыляясь вековечным ехидным рыльцем, юркая гнилозубая сплетнишка. Часами, днями, неделями — перекликались сытый чох, отрыжка, зевок и икота. Приходила в человечью закуту чья-то новая, народившаяся жизнь, и чью-то другую, осекшуюся — увозили и относили к усыпальным тысячесчетным крестам…
О, гноеточивая, старая, заштатная Русь — смерть тебе!
1924 г.

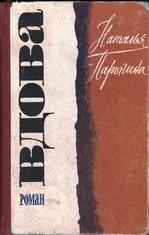

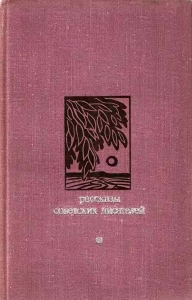


Комментарии к книге «Полтора-Хама», Михаил Эммануилович Козаков
Всего 0 комментариев