А. Н. Плещеев Житейские сцены
А. Н. Плещеев и его проза
Видный русский поэт XIX века Алексей Николаевич Плещеев (1825—1893) выступил в печати со стихами в середине 40-х годов, когда русская поэзия, потеряв двух гениев — Пушкина и Лермонтова,— переживала нелегкую пору и, по решительному утверждению Белинского, стала играть «второстепенную в сравнении с прозою роль». Именно в эту пору на двадцать первом году жизни Плещеев выпускает первый стихотворный сборник, который был замечен и довольно высоко оценен критикой, в частности авторитетным Валерьяном Майковым, заявившим, что в том сложном положении, в котором оказалась русская поэзия со смерти Лермонтова, «г. Плещеев — бесспорно первый поэт в наше время…» [1]. Это сказано, конечно, с преувеличением, но если вспомним, что к тому времени Тютчев еще не был признан, Некрасов, Фет, Ап. Майков и Ап. Григорьев только-только начинают торить свои дороги в поэзии, а Жуковский и Языков почти замолчали, то можно признать в словах В. Майкова определенный резон.
В те же 40-е годы Алексей Плещеев выступает и с прозой, опубликовав в журнале «Отечественные записки» рассказ «Енотовая шуба». Затем последовали публикации в других журналах и газетах рассказов «Папироска», «Протекция» и повести «Шалость». Первые прозаические опыты Плещеева тоже получили весьма благосклонную оценку современников — словом, начало литературной карьеры складывалось для молодого автора счастливо.
Детство и отрочество Плещеева прошли в Поволжье. Родился он 4 декабря (22 ноября по старому стилю) 1825 года в Костроме, где его отец, Николай Сергеевич,— потомок старинного русского дворянского рода — исполнял обязанности чиновника особых поручений. Спустя два года Николай Сергеевич переехал на службу губернским лесничим казенной палаты в Нижний Новгород. А через четыре года отец Плещеева неожиданно скончался…
В Нижегородской губернии, где у Плещеевых было родовое имение, Алексей прожил с матерью до 1839 года. Дав сыну прекрасное домашнее образование (к тринадцати годам Алексей свободно читал в подлиннике сочинения немецких и французских авторов), мать Плещеева, исполняя волю покойного мужа, переехала в Петербург и определила Алексея в 1840 году в Санкт-Петербургскую школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.
Однако первое «казенное» учебное заведение стало для юного Плещеева настоящей пыткой. Военная муштра с утомительными и однообразными строевыми учениями, непрерывные смотры, бессмысленная зубрежка уставов, наставлений, полное отсутствие каких-либо духовных интересов у большинства воспитанников, пренебрежительное отношение офицеров — все это представлялось любознательному, прекрасно развитому и жадно тянущемуся к знаниям Алексею Плещееву жестокой игрой, насилием над человеческой личностью. На второй год учебы Алексей настойчиво просит мать вызволить его из школы и в 1843 году добивается желанного отчисления из нее. В том же году Плещеев, с ранних лет испытывавший влечение к словесности, поступает на восточное отделение филологического факультета Петербургского университета.
В начале 40-х годов русская общественная и литературная мысль переживает небывалый подъем. Этому способствовали в первую очередь — вдохновенные статьи Белинского, философские трактаты Герцена-Искандера, с одной стороны, а с другой — огромный интерес к идеям европейских мыслителей Шеллинга, Прудона, Кабе, Фурье, Луи Блана.
Споры о путях развития русского общества, русской культуры переносятся со страниц журналов в литературные салоны и кружки Петербурга и Москвы. Алексей Плещеев становится активным посетителем таких петербургских кружков, жадно интересуется всеми литературными и философскими вопросами, волновавшими общество. Как раз в этот период он всерьез пробует свои силы на литературном поприще, опубликовав в 1844 году первые стихи на страницах журнала «Современник». В пору своего литературного дебюта в печати Плещеев особенно близко сходится с братьями Андреем и Николаем Бекетовыми (будущими знаменитыми русскими учеными), а через них — с литературным критиком Валерьяном Майковым и чуть позднее — с Михаилом Петрашевским.
Круг друзей-единомышленников расширяется: у Майковых Плещеев знакомится с Гончаровым, Салтыковым-Щедриным, Григоровичем и другими будущими крупными литераторами. С 1845 года Плещеев становится деятельным участником революционного кружка Петрашевского, активным посетителем его «пятниц», где взволнованно обсуждались вопросы будущего развития России, необходимость радикальных изменений в государственном строе страны. Пропаганда идей западноевропейского утопического социализма (в первую очередь учения Фурье), резкая критика крепостничества и самодержавия — такие первоочередные задачи ставили перед собой петрашевцы в своей практической деятельности. Именно в этот период Алексей Плещеев принимает решение оставить университет, объясняя свой уход не только материальными затруднениями, но прежде всего стремлением совместить учебу с живой действительностью. «Я бы поскорее желал разделаться с университетским курсом, во-первых — для того, чтобы на свободе заняться науками, которым я решил посвятить себя, науками живыми и требующими умственной деятельности, а не механической, науками, близкими к жизни и к интересам нашего времени. История и политическая экономия — вот предметы, которыми я исключительно решился заниматься» [2],—писал Плещеев ректору университета П. А. Плетневу 8 июня 1845 года. Оставив университет, двадцатилетний поэт целиком отдается литературной деятельности, пробуя свои силы в прозе, критике, журналистике (в газете «Русский инвалид» он вел в 1846—1948 годах раздел «Петербургская хроника»). Но главной потребностью творчества остается пока поэзия.
В течение 1844—1846 годов Плещеев создает ряд стихотворений, выдвинувших его в число ведущих поэтов своего времени. Наряду с абстрактно-романтическими мотивами, присущими ранним стихам поэта, в новых его стихотворениях все сильнее и сильнее начинают звучать ноты протеста против существующей действительности, страстные призывы к изменению сложившегося миропорядка. Неприятие социальной несправедливости и вера в торжество добра, человечности, свободы, равенства и братства людей — этот коренной лейтмотив гражданской лирики поэта определяет образ его лирического героя — борца, трибуна, пророка, возвещающего «утесненным» «свободу и любовь». В таких стихотворениях, как «Поэту», «Сон» и особенно в горделиво-призывном «Вперед! без страха и сомненья…», в полный голос звучат идеи жертвенности, подвига во имя революционного дела. А когда в 1846 году вышел стихотворный сборник Плещеева, то гражданская направленность многих его стихов воспринималась радикально настроенной молодежью как возрождение традиций поэзии декабристов и Лермонтова. Не случайно тогдашний студент-первокурсник Петербургского университета Чернышевский отметил в письме к родным, что многие из стихов Плещеева «в самом деле очень хороши» [3].
В 1846—1847 годах Плещеев знакомится с Федором Достоевским и поэтом Сергеем Дуровым, которые тоже становятся активными посетителями «пятниц» Петрашевского, поддерживает товарищеские отношения с поэтом и прозаиком Александром Пальмом, с приятелями по университету Александром Ханыковым, Дмитрием Ахшарумовым. Значительное влияние на развитие взглядов молодого литератора оказал революционно настроенный Николай Александрович Спешнев, лицейский приятель Петрашевского, начавший посещать его кружок с 1847 года. Впоследствии, в письме Добролюбову, Плещеев назовет Спешнева «самой замечательной личностью» среди петрашевцев.
И все-таки Достоевский и Дуров становятся особенно близкими Плещееву в этот период. Достоевский посвящает повесть «Белые ночи» Плещееву, а тот, тоже начавший пробовать силы в беллетристике, посвятит Достоевскому свою повесть «Дружеские советы» (а еще раньше, в 1847 году, Плещеев посвятит Достоевскому рассказ «Енотовая шуба»). Надо сказать, что именно в 1847—1849 годах Плещеев отдает предпочтение прозе, опубликовав в этот период лишь несколько стихотворений.
Первые прозаические произведения Плещеева (рассказы «Енотовая шуба», «Папироска», повести «Шалость», «Дружеские советы») были опубликованы на страницах крупных русских журналов «Современник» и «Отечественные записки». Ориентиром и образцом в прозаических опытах Плещееву, как и многим, вступающим в ту пору на литературное поприще, служил Николай Васильевич Гоголь. «Теперь только изредка слышится какой-нибудь охриплый голос, восставший против направления, данного Гоголем русской литературе, и этот охриплый голос тотчас же заглушается энергическими протестами молодого поколения, обратившего на гениального юмориста полные ожидания очи» [4],— писал Алексей Плещеев в одной из своих рецензий в 1846 году.
Вторая половина 40-х годов оказалась необыкновенно «урожайной» для русской прозы: чуть ли не друг за другом выходят «Бедные люди», «Двойник», «Хозяйка», «Белые ночи» Достоевского, «Обыкновенная история» Гончарова, «Антон Горемыка» Григоровича, «Записки охотника» Тургенева, «Запутанное дело» и «Противоречия» Салтыкова-Щедрина. Это был поистине взлет и неоспоримое торжество гоголевского направления в русской литературе. Но даже на фоне названных произведений, ставших впоследствии хрестоматийными, плещеевские рассказы и повести не совсем затерялись, были замечены и оценены, как уже сказано выше, весьма благосклонно. M. М. Достоевский, брат Ф. М. Достоевского, так охарактеризовал особенности плещеевской прозы:
«Прежде всего нам нравится в этих рассказах легкость и непринужденность рассказа, простота вымысла и несколько насмешливый, вскользь брошенный, но не злобливый взгляд на солидную жизнь, которую видим мы с вами, почтенный читатель. Правда, его взгляд не проникает в самую глубь этой жизни в разрозненных ее явлениях, не стремится отыскать одной полной, потрясающей своим пафосом картины, но тем легче для нас с вами, читатель. Потому-то, может быть, нам так и нравится этот насмешливый взгляд на нашу солидность и наши слабости… Мы рады появлению в нашей литературе такого легкого дарования… После такого прекрасного начала и солидные и несолидные читатели вправе ожидать от г. Плещеева труда более обширного, но в такой же легкой и занимательной форме» [5].
В принципе оценка М. Достоевского была верной, но помимо «занимательности» и «несколько насмешливого взгляда» на представителей «солидной жизни», то есть обывателей, в первых прозаических произведениях Плещеева очень силен мотив неподдельного сострадания простому человеку из народа — это особенно заметно в повести «Шалость» — на примере героев повести бедного чиновника и его сестры Паши. В этой же повести прослежена судьба одного из представителей дворянской интеллигенции Ивельева — человека «бойкого только в теории», то есть одного из «лишних» людей», не способных к воплощению своих хороших намерений на практике (вообще, как верно подметил один из исследователей творчества Плещеева, в прозе писателя уже в 40-е годы определилась одна из основных проблем его творчества: «судьба молодых людей, выходцев из обедневших дворян, которые по своему общественному положению мало чем отличались от «маленьких людей») [6].
Проблема молодого поколения в центре повести «Дружеские советы». Главный герой повести — благородный романтик-мечтатель, ведущий образ жизни бедняка разночинца, поклонник Пушкина и Шиллера. Повесть явилась в какой-то мере ответом Плещеева на посвященную ему повесть Ф. Достоевского «Белые ночи», ответом с определенным намеком, ибо Плещеев рисует характер несколько отличный от того, что был создан Достоевским в «Белых ночах». Правда, у героев повестей много и родственного: оба романтики, одиноки, мечтают о счастье, любви, торжестве добра в отношениях между людьми, исполнены благородных порывов.
Когда Плещеев писал повесть, в феврале 1848 года произошла Французская революция, взбудоражившая пол-Европы, поставившая и перед русскими поборниками свободы, равенства и братства вопрос о решительной необходимости перемен в российской действительности. Может быть, под впечатлением возбужденных споров о путях развития России, споров, что происходили на квартире Петрашевского, Плещеев взглянул на главного героя своей повести молодого романтика Ломтева более критически, чем Достоевский на своего Мечтателя в «Белых ночах». Показав страстность, благородство, бескорыстие Ломтева, его сострадание ближним, его доброту, Плещеев в то же время с горечью отметил и неспособность Ломтева к практической деятельности, вернее, его неумение противостоять натиску предприимчивых дельцов вроде Околесина, попирающих элементарные нравственные принципы. В отличие от героя Достоевского плещеевский Ломтев более приземлен в своей беспомощности и непрактичности.
В повести «Дружеские советы» подспудно звучит мотив о бесперспективности жизненной дороги, построенной на расплывчатых и чаще всего оторванных от жизни рассуждениях об общественно полезной деятельности человека…
Решая в своих произведениях те же задачи, что и другие представители «натуральной школы», Плещеев отстаивал и принципы этой школы. Еще в 1847 году он писал: «Пускай литература, которая должна быть воспроизводительницею жизни, показывает нам этих существ (т. е. резонерствующих, непрактичных представителей племени «лишних» и «маленьких» людей.— Н. К.), но показывает вместе и причины, почему они сделались такими, какими мы видим их; недовольно быть статистиком действительности, недовольно одного дагерротипизма, мы хотим знать корень зла» [7].
Сам Плещеев в своих прозаических произведениях стремился в меру сил быть не только «статистиком действительности», но искал «корень зла» в неблагополучных условиях жизни общества…
В апреле 1849 года в числе других петрашевцев Плещеев был арестован (его арестовали в Москве, откуда он, гостивший у родственников, переслал петербургским друзьям «Письмо Белинского к Гоголю» и некоторую другую запрещенную литературу) и почти восемь месяцев находился в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. Приговоренный Военно-судной комиссией к смертной казни (в числе наиболее активных петрашевцев, среди которых был и Достоевский), замененной затем «во внимание к молодым летам» солдатчиной в Оренбургском корпусе, Плещеев 6 января 1850 года был определен на постоянное жительство в Уральск и зачислен рядовым 1-го линейного батальона. Наступила тягостная и однообразная казарменная служба, за время которой Плещеев, по его собственному признанию, «стихи писать давно отвык» и вообще в первые годы ссылки ничего, кроме писем, не писал. Единственная отрада той поры — дружеские отношения с польскими ссыльными революционерами С. Сераковским, Б. Залесским, Я. Станевичем и особенно — встреча осенью 1850 года с Т. Г. Шевченко, который в этот период отбывал солдатчину в Уральске. После отправки Шевченко в Новопетровское укрепление между русским и украинским поэтами завязывается переписка, перешедшая впоследствии (когда оба окажутся на воле) в тесное творческое сотрудничество — Плещеев одним из первых познакомил русского читателя со стихами из «захолявных» тетрадей кобзаря.
Через два с лишним года постылой муштры и шагистики Плещеев был переведен в Оренбург рядовым 3-го линейного батальона. Оренбургский период оказался для опального поэта благодаря хлопотам его матери менее тяжелым в сравнении с уральским: Плещеев стал получать увольнительные, был освобожден от несения караульной службы, получил возможность посещать дом военного губернатора, где познакомился и подружился с некоторыми представителями местной интеллигенции, офицерами, среди которых — крупный ориенталист, первый историк Средней Азии В. В. Григорьев, путешественник-исследователь среднеазиатского края А. И. Бутаков, А. М. Жемчужников — поэт, один из будущих авторов знаменитых «Сочинений Козьмы Пруткова». В Оренбурге, при добром участии и содействии одного из помощников губернатора, офицера по особым поручениям В. Д. Дандевиля и его жены, Плещеев снова вернулся к поэзии, написав 17 февраля 1853 года после многолетнего перерыва стихотворение «При посылке Рафаэлевой Мадонны».
Весной — летом 1853 года Плещеев участвует в трудном походе русского отряда на кокандскую крепость Ак-Мечеть (ныне г. Кзыл-Орда), а затем — в штурме крепости, за что был произведен в унтер-офицеры.
После недолгого пребывания в Оренбурге весной 1854 года Плещеев снова возвращается в Ак-Мечеть, переименованную в форт Перовский (в честь оренбургского военного губернатора), и продолжает там службу до июня 1856 года, а затем переводится в Оренбург (теперь уже в звании прапорщика). Осенью того же года он подает прошение о дозволении ему по состоянию здоровья перейти на гражданскую службу, увольняется с военной и устраивается столоначальником Оренбургской пограничной комиссии.
Изменившиеся условия жизни (хотя за Плещеевым устанавливается секретный надзор, ему в 1857 году возвращается звание потомственного дворянина со всеми правами) дают возможность Плещееву приступить к интенсивной литературной деятельности. К поэзии, как уже было сказано, он вернулся еще в 1853 году. В годы военной службы в Ак-Мечети Плещеев много читает, следит за всеми литературными новинками, но пишет все же сравнительно мало. Теперь же, перейдя на гражданскую службу, имея достаточно свободного времени и установив связь с печатными органами столицы (с 1856 года с журналом «Русский вестник», а позднее, благодаря поэту М. Л. Михайлову, приезжавшему в 1856 году в Оренбург, с «Современником»), Плещеев помимо стихов обращается к беллетристике, создав именно в этот, оренбургский период наиболее значительные свои прозаические произведения — повести «Наследство», «Житейские сцены. Отец и дочь», «Пашинцев», «Две карьеры», рассказы «Буднев», «Неудавшаяся афера» и ряд других.
В конце 1857 года Плещеев женится, а весной следующего года выезжает в отпуск в Москву и Петербург, хлопочет о разрешении постоянно жить в одной из столиц. За время пребывания в Москве и Петербурге в 1858—1859 годах Плещеев завязывает многочисленные знакомства с литераторами, деятелями искусства, устанавливает добрые отношения с Чернышевским, Добролюбовым, Некрасовым. А в августе 1859 года он получает разрешение на постоянное жительство в Москве, куда вскоре и переезжает с семьей.
Поселившись в Москве, Плещеев поистине воспрянул духом, несмотря на определенные превратности судьбы (с него вплоть до 70-х годов не был снят секретный надзор),— недаром первые московские годы жизни он назовет лучшими. В этот период крепнут и расширяются литературные и общественные связи Плещеева: он избирается действительным членом Общества любителей российской словесности, становится соредактором газеты «Московский вестник», активно сотрудничает в крупнейших русских журналах и изданиях. Квартира поэта открыта для старых и новых друзей: здесь бывают А. Островский, Л. Толстой, Константин и Иван Аксаковы, заезжают Тургенев, Салтыков-Щедрин, Некрасов. Восстанавливает Алексей Николаевич дружеские отношения (на первых порах по переписке) с поселившимся в Петербурге после каторги и ссылки Достоевским.
Эти годы знаменуются значительными изменениями в общественной и литературной жизни страны. После поражения России в Крымской войне общество жило ожиданием неизбежных коренных перемен, и самый больной вопрос для России — освобождение крестьянства — становится главной, насущнейшей необходимостью русской действительности.
Но предлагалось далеко не одинаковое разрешение этого вопроса: кто-то возлагал большие надежды на реформы властей, другие решительно отвергали реформистские иллюзии, и среди них в первую очередь были новые петербургские знакомые Плещеева — Чернышевский и Добролюбов.
Испытывая определенные колебания, связанные с иллюзиями «мирных» перемен в обществе, Плещеев, однако, все симпатии отдает революционным демократам,— не случайно он, сотрудничая во многих крупных журналах, отдает предпочтение «Современнику», возглавляемому Некрасовым, Чернышевским и Добролюбовым, которых считал наиболее преданными поборниками «любви и света», продолжателями дела людей 40-х годов, то есть Белинского и Герцена.
Не имея возможности встречаться с сотрудниками петербургского «Современника» лично, Плещеев поддерживает с ними постоянную письменную связь как «свой человек». Надо отметить, что он оказался чуть ли не единственным из петрашевцев, нашедшим, как говорится, общий язык с революционными максималистами из этого журнала,— ведь все активные «пропагаторы» социализма 40-х годов, пережив период реакции 50-х, не сумели (за исключением, пожалуй, M. Е. Салтыкова-Щедрина) поладить ни с Добролюбовым, ни с Чернышевским — этими самыми деятельными защитниками народа. Впоследствии в письме к двоюродному брату Чернышевского А. Н. Пыпину Плещеев признавался: «Никогда я не работал так много и с такой любовью, как в эту пору, когда вся моя литературная деятельность отдана была исключительно тому журналу, которым руководил Н. Г. (то есть Чернышевский.— Н. К.) и идеалы которого были и навсегда остались моими идеалами».
В своих критико-публицистических статьях, увидевших свет в «Московском вестнике», Плещеев восторженно отзывается о критической деятельности Добролюбова, дает высокую оценку социально-экономическим статьям Чернышевского. А в Некрасове Плещеев видел истинно народного поэта, главного выразителя народной жизни в русской поэзии. С Некрасовым, помимо взаимных личных симпатий, Плещеева связывало чувство духовного родства, общность мировосприятия, близость поэтических задач: сострадать ближнему, подавать руку помощи слабому, угнетенному, черпать силы для жизнестойкости в недрах народного бытия, неколебимо бороться с черной неправдой зла.
В 1858—1863 годах выходят три стихотворных сборника Плещеева, а в 1860 году сборник его повестей и рассказов в двух частях.
На сборник стихотворений 1858 года откликнулся обстоятельной рецензией Добролюбов, который затем (в 1860 году) написал большую статью «Благонамеренность и деятельность» о плещеевской прозе…
В прозаических произведениях 40-х годов Плещеев рисовал представителей разных слоев городского населения: то были и обыватели, которых он высмеивал, и романтики-мечтатели из интеллигентов, благородным порывам которых автор сочувствовал, но иронизировал над их непрактичностью, и «маленькие люди», на стороне которых — безраздельно авторская симпатия. В повестях и рассказах 50-х годов Плещеев обращается к провинциальной жизни русского общества (ведь большинство произведений создавались в Оренбурге), опять же не выпуская из поля зрения и представителей молодой русской интеллигенции (как дворянской, так и разночинной), и «маленького человека», монотонно тянущего служебную лямку. Чаще всего эти люди являются в определенном роде собратьями многочисленных литературных героев той поры, выведенных «в свет» Тургеневым, Писемским и другими крупными писателями, то есть большинство плещеевских персонажей — из числа «заеденных средою», как отметил Добролюбов, анализируя в упомянутой выше статье повести и рассказы Плещеева, которые критик отнес к «тургеневской школе» беллетристики.
Добролюбов, обращаясь к плещеевским произведениям, отметил, что «элемент общественный проникает их постоянно» [8] и видел в этом одно из главнейших их достоинств. В то же время критик указал на определенную ограниченность «тургеневской школы» в изображении самой «среды», которая «заедает человека», косвенно как бы приписав эти недостатки и произведениям Плещеева. Однако Добролюбов поставил в заслугу Плещееву-прозаику его возвышение над благонамеренностью своих героев, присутствие в плещеевских повестях и рассказах духа «сострадательной насмешки над платоническим благородством людей, которых так возносили иные авторы» [9].
Кто же они — эти благонамеренные герои, которых «заедает среда» и над «платоническим благородством» которых несколько иронизирует Плещеев?
Многие герои плещеевской прозы 50-х годов из тех же «лишних людей», что появлялись в произведениях писателя в 40-е годы. Все они начинают свое поприще, исполненные возвышенных намерений, а заканчивают, увы, весьма заурядно, хотя и не совсем одинаково: кое-кто (вроде Баклаева из «Наследства» или Поземцева из «Призвания») приспосабливается к жизни и становится пристойным обывателем, другие, несмотря на благородные порывы и стремления приносить пользу обществу (Городков из «Благодеяния», Костин из повести «Две карьеры» — они тоже выходцы из дворян, хотя и ведут образ жизни разночинцев), задавленные житейскими невзгодами, гордо умирают, третьи (Буднев из одноименного рассказа, Пашинцев из одноименной повести) в силу своего безволия или неспособности встать выше сословных предрассудков «среды» нравственно опустошаются.
В произведениях, где фигурируют молодые герои-интеллигенты, Плещеев со всею очевидностью высказал свои сомнения относительно способности молодого поколения из дворян противостоять «среде» (это касается прежде всего Пашинцева, Поземцева, в определенной степени и гордого, благородного, честного Костина из повести «Две карьеры»), то есть тем социально-общественным отношениям, неколебимость которых стала подвергаться сомнению в первую очередь интеллигентами из разночинцев. Правда, благородные порывы этих критиков «среды» пока еще разбиваются о прочные ее стены, а намерения таких критиков «работать, служить, приносить пользу по мере сил и способностей обществу» зачастую терпят крах,— все равно они много выигрывают не только в сравнении с пашинцевыми, но и с костиными, ибо они лучше знают потребности и запросы простого народа. Между прочим, университетский друг Костина Загарин («Две карьеры») в одном из писем делает такое признание: «Чем ближе я узнаю наш народ, тем сильнее к нему привязываюсь»,— здесь уже видится выход из той самой злополучной «среды», что нередко «заедает» плещеевских героев-дворян.
Показывая метания и разочарования своих благородных, но слабохарактерных героев, Плещеев в какой-то мере выносит приговор и некоторым заблуждениям, утопическим иллюзиям собственной молодости, а в «Пашинцеве» прямо дает понять, что времена дворянской революционности кончились, что на авансцену выходит новый тип реформатора — разночинец с «мозолистыми плебейскими руками» вроде учителя Мекешина, «энергия и прямота» которого при отстаивании своих убеждений производят сильное впечатление на окружающих: к нему открыто более чем благоволит умный и образованный дворянин Заворский (которому явно симпатизирует автор, ибо в молодости Заворский был «страстным поклонником социальных утопий», а в зрелые годы «не мог быть хладнокровным зрителем разъедающих, подтачивающих общественный организм пороков»); силу убеждений, образованность Мекешина вынужден признать и аристократ Пашинцев — человек вроде бы от природы с неплохими душевными задатками, но слабохарактерный, изрядно искалеченный сибаритскими прихотями «среды». Передовые представители дворянской интеллигенции, как Заворский, потому и «как-то особенно льнут» к людям типа Мекешина, что прекрасно понимают: именно такие люди теперь «всю душу свою положат на какое-нибудь дело», на что уже не способны романтики-идеалисты из дворян.
При всей симпатии и сочувствии к «лучшим дворянам» (здесь Плещеев опять же солидаризируется с Тургеневым, создавшим целую галерею дворянских правдоискателей во главе с Рудиным), даже при определенном стремлении кое-кого из них возвысить (того же, например, Заворского), Плещеев проницательно уловил «пришествие» новой революционной силы в лице интеллигента-разночинца и одним из первых в русской литературе «обмолвился» об этой силе в своих прозаических сочинениях,— ведь и повести Помяловского и роман Тургенева «Отцы и дети» с главными героями-разночинцами увидят свет после плещеевских произведений…
В прозе Плещеева 50-х годов значительно усиливается социально-обличительный пафос, особенно в повестях «Две карьеры» и «Пашинцев». Уже не с легкой насмешкой, а с едким сарказмом изображает Плещеев паразитирующий «высший свет» провинциального губернского города (глава «Ухабинская публика» в «Пашинцеве»), где злословие, сплетни, интриги, наушничество, стремление к роскоши, претензии на «аристократизм» сделались смыслом жизни этого «просвещенного» общества. Показав ничтожность и убожество всех этих носителей «аксельбантов, красных панталон, звезд на фраках и на мундирах, Станиславов на шее и Станиславов в петлицах… обнаженных плеч, пухленьких и тощих», писатель с большим сочувствием изобразил в повести жизнь «маленьких людей», их добросердечие, душевную открытость, доверчивость и нравственную опрятность, несмотря на их обездоленность, на все их трудности,— речь идет о чиновнике Василькове, его дочери Наде {1}, об учителе Горностаеве и им подобных…
В повести «Две карьеры», полной внутреннего протеста против любого произвола (выступление Костина в Мутноводске против телесных наказаний, его стычки с помещиком-крепостником Еремеевым, к которому Костин устраивается домашним учителем), особенно силен протест против самого страшного, узаконенного в государственных масштабах произвола — крепостничества. «Мужичку-то всего два дня на свои нуждишки дают, да и то еще, почитай, что каждую минуту для барского дела отрывают: как управляющему вздумается взять, так и есть»,— в этих словах камердинера Степана заключена горькая правда о тяжелейшей участи крестьян в дореформенной России…
А в повести «Житейские сцены. Отец и дочь» Плещеев показал потенциальную готовность к протесту и «маленького человека». Самоубийство казначея Агапова, нагло обвиненного начальником в растрате,— это не только следствие безысходного положения, в котором оказался чиновник, но в известной степени вызов той гнусной действительности, что содействует процветанию лжи, произвола, продажности, нравственному опустошению как «значительных лиц» из дворянства («его превосходительство» Тупицын), так и идущих на смену дворянству буржуазных устроителей общества (сластолюбивый хищник, бобровский капиталист Подгонялов).
В «Житейских сценах», как и в повестях «Две карьеры», «Пашинцев» и других произведениях 50-х годов, Плещеев с теплотой и состраданием показал представителей «низов»: и казначей Агапов, и его дочь Маша, и учитель Шатров — люди благородные, честные, наделенные глубоким чувством собственного достоинства.
Ряд прозаических произведений Плещеев создает и в 60-е годы: рассказ «Чему посмеешься, тому и послужишь», провинциальные сцены «Ловкая барыня» (где, кстати, чуть ли не впервые в русской литературе обозначена и называется проблема «хождения в народ» представителей интеллигенции), рассказ «Лотерея», цикл произведений, озаглавленный писателем как «Дачные романы» («Жилец», «Барышня»), рассказ «На свою шею», «Чужие письма» — основное внимание в них уделено разлагающему влиянию развивающихся буржуазных отношений на нравы людей, бездуховному прозябанию новоявленных гедонистов. Но эти произведения уступают повестям и рассказам 40-х и особенно 50-х годов по масштабности исследуемых проблем, социальной глубине, хотя, пожалуй, ничуть не проигрывают им по художественной отделке, языку, сюжетной занимательности и легкости повествования.
Надо вообще сказать, что еще современники Плещеева отмечали легкость и живость его повествовательного слога, ненатужный юмор, умную ироничность, ясность и простоту его письма. Сам Плещеев в одном из писем признавался: «Ничто не трудно, как простота. В этом отношении слог Пушкина — для меня высший образец. Его повести „Капитанская дочка“, „Дубровский“, „Арап Петра Великого“ читаются с равным наслаждением и детьми и взрослыми. До такой высокой простоты можно дойти только путем долгого труда или быть гением. Безыскусственность — вот высшее искусство» [10].
В поэтике плещеевской прозы много также гоголевского (юмор, ирония, отдельные стилистические приемы в обрисовке, например, отрицательных персонажей), не прошел Плещеев и мимо опыта своих товарищей-современников — Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Тургенева…
В 60-е годы Плещеев много сил и энергии отдает поэзии. Помимо названных стихотворных сборников, изданных в 1861 и 1863 годах, Плещеев вместе с поэтом-переводчиком Н. Ф. Бергом подготовил для детей сборник «Детская книга», в который включил ряд стихотворений о родной природе, о любви к младшим представителям рода человеческого. Плещееву вообще принадлежит виднейшее место в русской поэзии для детей, многие его стихи из сборников «На праздник» (1873) и «Подснежник» (1878), адресованные маленькому читателю, стали классическими. Обаяние, целомудренность, проникновенную сердечность плещеевской музы для детей сразу же заметили современники поэта (Достоевский, Гончаров), ее большие достоинства отмечали литераторы последующих поколений от Горького до Соколова-Микитова.
Известно, что к Плещееву тянулись те из начинающих поэтов, для творчества которых искренность, непосредственность переживаний стали основными чертами, в частности очень сильное влияние Плещеев оказал на поэта-самородка И. З. Сурикова.
В эти же 60-е годы Плещеев много переводит из немецкой, английской поэзии (Гейне, Байрон, Теннисон), пишет пьесы («Свидания», «Попутчики», «Командирша»), публикуя их на страницах редактируемых Достоевским журналов «Время» и «Эпоха». Между прочим, многие из своих пьес Плещеев тоже, как и некоторые повести и рассказы, называл житейскими сценами, так как в основе их лежали семейно-бытовые коллизии.
К сожалению, интенсивная литературная деятельность Плещеева в 60-е годы развивалась далеко не в легких условиях: в 1863 году поэта привлекают по «процессу Чернышевского», производят обыск на его московской квартире, вызывают на допросы в Петербург. А следом — тяжкий удар в личной жизни: в декабре 1864 года совсем молодой (двадцати трех лет) умирает любимая жена, оставив на руках Плещеева трех малолетних детей. Испытывая материальные затруднения, поэт вынужден был поступить на государственную службу — ревизором в Московскую контрольную палату, поэтому в конце 60-х — начале 70-х годов он не так уж много пишет и публикует, хотя его стихи, пьесы, рассказы изредка продолжают появляться на страницах журналов и газет.
В 1872 году Плещеев по приглашению Некрасова переезжает в Петербург и становится ответственным секретарем «Отечественных записок», а после смерти Некрасова в 1877 году заведует еще и стихотворным отделом журнала.
Ощущая дружескую поддержку Некрасова и Салтыкова-Щедрина, сблизившись с такими видными литераторами, сотрудниками журнала, как Н. К. Михайловский, А. М. Скабичевский, Г. З. Елисеев, Г. И. Успенский, Плещеев вновь с молодой горячностью целиком уходит в литературную работу, где только и считал себя «способным к делу». В этот период Плещеев особенно много занимается популяризаторской, переводческой и публицистической работой. Он пишет монографии о Прудоне, Стендале (еще раньше одним из первых перевел на русский язык роман «Красное и черное»), Диккенсе, статьи, очерки о культурной жизни Европы и России, публикует и оригинальные стихотворные и прозаические произведения, пьесы «Примерная жена», «Жилец» и другие.
Лучшие порывы своей души посвящает Плещеев в эти годы воспитанию подрастающей смены литераторов, особенно в период, когда после закрытия «Отечественных записок» в 1884 году он переходит сотрудничать в журнал «Северный вестник». Здесь, с 1885 по 1890 годы заведуя беллетристическим и стихотворным отделами, Плещеев стремится привлечь к сотрудничеству в журнале лучшие литературные силы страны и самое большое внимание уделяет «возне» с молодыми прозаиками, поэтами, драматургами. Среди этих молодых — В. Гаршин, С. Надсон, К. Станюкович, драматург И. Леонтьев-Щеглов. Все они в той или иной степени обязаны Плещееву своим вхождением в литературу. Об этом с чувством глубокой признательности написал Вас. И. Немирович-Данченко в дни, посвященные 40-летию литературной деятельности Плещеева (1886 год):
«Всегда и везде чуждый эгоизму, высокомерию, самомнению, Вы не только ободряли, Вы отыскивали молодые таланты — шли им навстречу, и если история русской литературы отведет Вам, в чем нет сомнения, высокое место в ряду наших писателей, она оставит за Вами еще и почетное имя крестного отца многих наших молодых поэтов» [11].
Говоря о «многих поэтах», надо иметь в виду литераторов вообще, ибо к Плещееву тянулись не только поэты. Более того. Один из величайших писателей земли русской А. П. Чехов тоже очень многим обязав Плещееву на стезе своего «серьезного» творчества: начав работу над первым своим крупным произведением — повестью «Степь», Чехов просит Плещеева в письме «…быть крестным батькой». Не преувеличивая значения рекомендаций и советов, которые Плещеев-редактор давал молодому прозаику Чехову, надо все-таки не забывать, что Чехов всегда очень чутко и внимательно прислушивался к плещеевским замечаниям и зачастую принимал их при переработке своих произведений — например, при переделке повестей «Огни», «Скучная история», рассказа «Именины». Надо отметить, что и свой несостоявшийся единственный роман (он был только-только начат) Чехов, как можно судить по его письмам, намеревался посвятить Плещееву в знак особой признательности…
Скончался А. Н. Плещеев в сентябре 1893 года в Париже, где он остановился проездом, направляясь по рекомендациям врачей на один из европейских курортов. Прах его был перевезен в Москву. Похоронен Алексей Николаевич на Новодевичьем кладбище…
M. Е. Салтыков-Щедрин в сказке «Приключение с Крамольниковым» создал интересный образ писателя-демократа, сказав о нем слова, которые можно поставить эпиграфом к жизни и творчеству Плещеева:
«Все силы своего ума и сердца он посвятил на то, чтобы восстановить в душах своих присных представление о свете и правде и поддерживать в их сердцах веру, что свет придет и мрак его не обнимет. В этом, собственно, заключается задача всей его деятельности».
Что же касается собственно плещеевской прозы, то теперь очевидно: на фоне выдающихся произведений русской литературы она занимает скромное место. В то же время художественная правда, гражданский пафос, обличение всего косного, рутинного, бездуховного и безнравственного в самодержавной российской действительности, с одной стороны, и устремленность к идеалам добра, справедливости и социального равенства, сострадание простому человеку, звучащие со страниц лучших плещеевских повестей и рассказов,— с другой, думается, не утратили своего культурно-исторического и эстетического значения и для наших дней.
Н и к о л а й К у з и нДРУЖЕСКИЕ СОВЕТЫ
I Встреча и грезы
Случилось это в августе. Наступили сумерки. Петербургские сады и скверы мало-помалу запестрели народом. Жители, которых «жестокий рок» счел недостойными дачи, обрадовались, что солнцу надоело, наконец, немилосердно печь их, и вышли из душных своих жилищ — подышать более или менее свежим воздухом, посмотреть на пыльную зелень. Некоторые, однако ж, предпочитали жиденьким акациям и красному песку монотонных, правильных дорожек просто широкие плиты тротуаров и наслаждались природой на Невском проспекте, который в сумерки, между шестым и седьмым часом, принимает какой-то чудный, успокоительный колорит. Между таковыми-то господами, вдыхавшими в себя запах смолы от торцовой мостовой, в полном убеждении, что они вдыхают свежий и чистый воздух, можно было заметить молодого человека в легоньком, шоколадного цвета с искрой, пальто с длинными темными волосами, довольно живописно выбивавшимися из-под белой пуховой шляпы, и с добрым, меланхолическим выражением лица. Он шел тихо, лениво, несколько переваливаясь с ноги на ногу, заложив руки в карманы пальто и напевая «Aurora-valzer» {2}, вещь весьма не новую, но, право, весьма хорошую. Поравнявшись с одним магазином, на каменном крыльце которого итальянец, с угловатыми, загорелыми чертами и небритой бородой, продавал гипсовые статуэтки, расставленные под рост на деревянном лотке, молодой человек остановился. Почувствовал ли он сострадание к оборванной, тощей фигуре уличного Фидиаса или вдруг пришла ему фантазия приобресть изображение какого-нибудь великого человека, но только он подошел к лотку и начал рассматривать грубо выделанные вещицы, прицениваясь к ним и устремляя от времени до времени пристальный взор в черные глаза итальянца. Минут с пять простоял он тут в колебании: кого бы выбрать, Блюхера или Фанни Эльслер {3}, Моцарта или Крылова, или Наполеона Бонапарте. Наконец, он остановился на Моцарте и, запрятав его, головой книзу, в глубокий карман пальто, стал расплачиваться. Пока он вынимал кошелек, вышитый розовыми и зелеными полосками, из дверей магазина показался седой старик под руку с молоденькой девушкой. Старик посмотрел на статуэтки, девушка на молодого человека. Молодой человек сначала не заметил их, занятый своей расплатой; но когда они, сойдя на тротуар, также подошли к лотку, он поднял голову и вспыхнул, как серная спичка. Девушка это заметила и не могла скрыть улыбки; это еще более сконфузило юношу, в котором родилось неодолимое желание поторговать еще изображение какого-нибудь великого человека… Он посторонился, дав старику и девушке ближе подойти к статуэткам, но сам не уходил и прислонился к железной решетке, окружавшей спуск в мелочную лавочку.
Старик снимал каждого гения с деревянной палочки и внимательно разглядывал. Приценившись ко всем и посоветовавшись несколько раз с девушкой, он, наконец, нашел, что итальянец уж чересчур дорожится, и отошел прочь. Уходя, девушка опять бросила на молодого человека бойкий, проницательный взгляд и опять заставила его покраснеть. От итальянца, казалось, не ускользнула эта немая сцена, и насмешливая улыбка скользнула на губах его; может быть, он вспомнил при этом иную сцену на своей дальней и знойной родине, вспомнил немой, но выразительный разговор иных очей, черных, как ночь, и сверкающих, как сталь при огне, вспомнил, как и его загрубелые щеки подернулись страстным румянцем, как все было решено в этот миг… и сколько горячих, сладостных поцелуев истрачено было потом на долгом и тайном свидании… а может быть, ему просто было смешно, что старик только переглядел статуэтки и не купил ни одной?..
Молодой человек несколько секунд смотрел вслед удалявшейся паре и потом тихо пошел за ней, решившись не выпускать ее из виду.
Долго шел он таким образом, в почтительном расстоянии от старика и молодой девушки, строя в голове своей бог знает какие воздушные замки, и незаметно очутился у Летнего сада… В продолжение этого пути девушка два раза быстро оглядывалась, и два раза серенькие, живые глазки ее встречали пальто шоколадного цвета.
— Это, однако ж, далеко,— сказал себе молодой человек, повертывая за своими незнакомыми проводниками на Цепной мост.— Впрочем,— прибавил он, постояв минуту на одном месте,— если уж я столько прошел…
В это время девушка опять оглянулась; это придало решимости молодому человеку, и он опять тронулся с места.
— Она заметила меня, непременно заметила! — воскликнул он так громко, что сам сконфузился, и обернулся, чтоб посмотреть, не подслушал ли кто сзади. Но сзади оказался только разносчик с вареной грушей, который, судя по строгому выражению физиономии, был занят чем-то гораздо более важным, нежели подслушивание чужих фраз.
Сердце молодого человека обмерло, когда старик, при повороте в Фурштадтскую, стал нанимать извозчика; но опасение было напрасное: он не сошелся с извозчиком в цене. Пройдя еще несколько шагов, он начал торговаться с другим, потом с третьим — результаты были одинаковы: извозчики были так же дороги, как и великие люди. Старик не решился взять ни одного и через полчаса благополучно достиг, как говорят русские люди, на своих на двоих — до Песков. На Песках, неподалеку от Таврического сада, они вошли в ворота старого деревянного домика. Измученный молодой человек, проводив их глазами, прислонился к забору, чтоб отдохнуть.
— Далеко! очень далеко! — сказал он.— Но надо следить до конца, нужно узнать, кто она. Боже ты мой! Что это за прелестное личико!.. Да если б она жила втрое дальше, то и тогда бы я не отказался ходить сюда каждый день…
После этого монолога он позвонил у ворот серенького домика. На звонок не отвечал никто. Он позвонил еще. К нему вышла девка весьма невзрачной наружности, с нечесаной головой, без всякой талии и косая.
— Кого вам? — спросила она, осматривая его исподлобья.
— Позвольте спросить, это чей дом-с?..— сказал молодой человек вкрадчивым голосом и даже несколько приподымая с головы шляпу.
— А вам чей нужно? — отвечала девка, нимало не смягчась.
— А мне нужно…
И молодой человек сказал какую-то дикую фамилию, первую, какая ему пришла на ум.
— Не знаю,— произнесла девка отрывисто и пошла прочь, ворча себе под нос: — Мазурики! ишь лукавый их носит!
«Ну, много же я узнал,— подумал молодой человек.— Завтра приду опять. Да, кажется, тут и дворника нет… хоть бы в лавочке узнать… глупая девка!»
Но в лавочку идти он не решился, будучи довольно робкого десятка. Он опасался такого же приема, какой был оказан ему со стороны девки, и потому побрел домой, рассудив, что ему ведь в сущности-то дела нет никакого до имени, что имя тут ничего не значит, что главное — нужно видеть незнакомку почаще…
Дорогой он имел время обдумать план будущих действий, потому что жил не совсем близко от Песков, а именно в шестой линии Васильевского острова, на Среднем проспекте. Мечтая о своей встрече и изыскивая разные средства, чтоб познакомиться с существом, пленившим его, молодой человек совершенно забыл свою усталость. Он ни разу не покусился нанять извозчика и возвратился домой уже в десятом часу. Скажем здесь о нем несколько слов. Василию Михайловичу Ломтеву было двадцать три года; он вел жизнь уединенную, ленивую, мечтательную. Окончив курс наук, не торопился, подобно большей части своих товарищей, отыскивать себе места; «отдохну немножко»,— сказал он, хотя отдыхать было не от чего, и стал кое-как перебиваться частными уроками русской словесности, в которой он чувствовал себя всего сильнее, да небольшой срочной работой, получаемой им от знакомого журналиста. Заработанных денег ему только что доставало на прожиток. На удовольствия не приходилось уделять ничего; но он не тужил, и если когда-нибудь у него являлось желание кутнуть немножко, сходить в театр или в другое какое веселое место, то это желание, благодаря ленивой, неподвижной натуре Василия Михайловича, быстро исчезало, не получив должного удовлетворения. В самом деле, одеваться, покупать перчатки, брать заранее билет — все это казалось ему таким ужасным, что он, после некоторых обсуждений pro и contra и после предварительного совещания с своим полосатым кошельком, решался отложить лучше всякое попечение о веселье и принимался по-прежнему читать и курить, курить и читать. Говорят, что по библиотеке человека легко узнать его характер; не знаю, в какой степени это справедливо вообще, но что касается до Василия Михайловича, то по книгам, стоявшим на его полке, можно было составить себе, действительно, некоторую идею о его личности. Книг этих было немного, и почти все стихи: сочинения Пушкина и Жуковского, Шиллера и Гёте, еще несколько мелких немецких поэтов, «Дон-Кихот», и потом два-три французские романа, как, например, «Оберманн» и «Адольф» {4}, два-три эстетические сочинения и, наконец, «Идеи о философии истории» Гердера. Вот и все. Это были, что называется, настольные книги Василия Михайловича. Он беспрестанно перечитывал их, заучивал даже некоторые места наизусть. Пушкина и Шиллера в особенности он не выпускал из рук. Часто, в летнюю ночь, открывал он окно своего мезонина, и, смотря на колыхавшиеся при лунном свете деревья Среднего проспекта, начинал декламировать вслух строфы из Пушкина. Вообще, помечтать очень любил Василий Михайлович, и бо́льшая часть его времени проходила в мечтаниях. Разные несбыточные романы, которых он сам был, конечно, героем, складывались у него в голове; ему нравилось, по воле прихотливого воображения, запутывать и развязывать эти сказки; он так сжился с ними, так умел перечувствовать их, что порой ему даже казалось, будто он на самом деле переживает все это. Знакомых у него было немного — большею частью его прежние товарищи, которые иногда навещали его или приглашали к себе. Василий Михайлович по временам не прочь был от кутежа, но только любил, чтоб это было все эстетически. Он имел непобедимое отвращение от всего грязного и уродливого. Красота имела в нем страстного, горячего, хотя несколько рабского поклонника. Сколько раз мечтал он о хорошеньком, светлом создании, которое полюбило бы его и, несмотря на его бедность и ничтожество, подало бы ему руку на долгий житейский путь! О, чего бы не отдал он за подобную любовь! И каких жертв не принес бы он тогда любимой женщине; как бы стал он лелеять ее! как бы гордился он этой любовью! как бы возвысился он ею в своих собственных глазах!.. Тогда началась бы настоящая жизнь, полная бесконечного, невыразимого счастья. Но этого существа не находилось до сих пор по самой простой причине: Василий Михайлович весьма редко попадал в общество женщин, а если и попадал когда, то оказывался таким робким, таким застенчивым, что не произносил почти ни слова или произносил что-нибудь такое, что было вовсе некстати и только возбуждало насильственную улыбку. Бойким даром слова не обладал бедный Василий Михайлович, и это огорчало его не на шутку. Он видел, что человек хорошо говорящий, хотя и не так глубоко и сильно чувствующий, будет всегда иметь перевес над ним, концентрированным и неспособным красноречиво высказывать все ощущения, наполняющие грудь его. Товарищи Василия Михайловича очень любили его; они знали его прекрасное, доброе сердце, его необыкновенное сочувствие всему благородному и высокому, его глубокое сострадание к чужому несчастью. Он приобрел даже, в бытность свою в учебном заведении, между ними некоторый авторитет. Во всех ссорах и вообще спорных пунктах к нему обращались, как к самому добросовестному с рыцарскими понятиями о чести. Несмотря на свою бедность, он всегда готов был предложить нуждающемуся товарищу, не дожидаясь просьбы его, что имел в своем распоряжении; сам же редко прибегал к займу, потому что, как я уже сказал, не позволял себе никаких наслаждений и тратил свои маленькие доходы на необходимое. Родных у Василия Михайловича не было никого в Петербурге. Старушка мать жила где-то в провинции. Все доходы ее ограничивались небольшой пенсией после мужа, отставного капитана, умершего два года спустя после турецкой кампании, и потому сын не мог рассчитывать на ее помощь. Он хотел было сначала перевезти ее в Петербург, но она отвечала, что не желает оставлять своего родного городка, к которому уже давно привыкла, что, притом, она чувствует себя уже слишком дряхлою для такого переселения, и только просила сына почаще писать к ней, уведомляя ее о своем здоровье. Это приказание матери Василий Михайлович исполнял свято и раз в неделю аккуратно отсылал к ней короткое, почтительное послание, от времени до времени прибавляя к нему какую-нибудь безделушку в подарок, что всегда очень утешало добрую старушку; она не могла нахвалиться сыном перед своими знакомыми и только молилась богу, чтоб он не дал ей умереть, не повидавшись еще раз с ее бесценным Васей.
Василий Михайлович, в свою очередь, не прочь был даже вовсе переехать в провинцию, если б только нашлось порядочное и не слишком тяжелое место. Но как подобные места, если они существуют, не являются сами к услугам желающих, и как Василий Михайлович был слишком ленив для того, чтоб хлопотать, то этой мечте едва ли когда-нибудь суждено было перейти в действительность. А в ожидании места молодой человек продолжал курить и декламировать Пушкина, мечтать и давать уроки. Дни тянулись за днями однообразно и вяло, похожие друг на друга как братья близнецы, не унося и не принося с собой ни печалей, ни радостей…
Наконец, это невозмутимое существование начало утомлять Василия Михайловича; ему захотелось также испытать волнение, захотелось, более чем когда-нибудь, отведать любви «с ее небесною отрадой, с ее мучительной тоской», говоря словами его любимого поэта. Он всматривался в каждое хорошенькое личико, встречавшееся на улице, и спрашивал себя: «Не это ли будущая подруга моей жизни?..» Но будущие подруги проходили мимо, не обращая на молодого человека никакого внимания… и драмы любви все не было, как не было!
— Неужели я умру, никого не любя, кроме героинь великих поэтов и никем не любимый?..— восклицал Василий Михайлович, возвращаясь к себе домой после своих вечерних прогулок.
И ему делалось невыразимо грустно… Хотя, казалось бы, времени было у него впереди еще много — ему только что минул двадцать третий год, и мысль о смерти не должна бы приходить ему в голову, но у Василия Михайловича между прочими особенностями была следующая: он постоянно воображал себя больным с тех пор, как прочел какую-то медицинскую книгу, попавшуюся ему случайно под руку, в которой описывались признаки разных болезней. Напрасно уверял его знакомый доктор, что он совершенно здоров, что и пульс и язык его ясно показывают это — Василий Михайлович каждый день отыскивал у себя признаки то водяной, то какой-нибудь другой, более мудреной и сложной болезни, и погружался в хандру.
Странные, мучительные грезы приходили ему иногда в голову. Он воображал себя умирающим, одиноким; вокруг постели чужие, незнакомые люди, без участия и сострадания на лицах; это хозяева, у которых он нанимал квартиру; им неприятно, что у них будет, дверь об дверь, покойник, и они не стараются скрыть своего неудовольствия; они вслух говорят, что и похоронить-то его, может быть, придется им на свой счет… Но в этой толпе он вдруг замечает томное, меланхолическое личико, полное невыразимой прелести и доброты. Эти большие голубые глаза устремились на него с таким сожалением… ему показалось даже, что в них блеснули две слезинки… да, он не ошибся: она подносит к лицу платок… но кто же ты, милое, доброе дитя, явившееся, как ангел утешитель, к одру умирающего? Я, кажется, встречался с тобою при жизни? где же была ты? что не протянула ты мне раньше руки своей? Может быть, я не умирал бы еще теперь, потому что я еще молод… много радужных, светлых надежд, много несбыточных грез уходят со мной в могилу… Если б ты посетила меня раньше, если б я услышал из уст твоих слово любви и сочувствия, я воскрес бы душой, я не угас бы, не погиб бы так скоро…
И она, бедная и дрожащая, бросается перед ним на колени и, прерывая рыданиями слова свои, отвечает ему: «Я дочь этих людей, что были тут сейчас, я любила тебя… любила так долго и тайно, но не смела бы никогда высказать тебе любви, которой ты не замечал, живя подле меня, видя меня перед собой почти каждый день… Теперь я не в силах сдерживать своих чувств; они просятся, рвутся из груди моей… они терзают и давят меня…»
И он прижимает ее к больной груди, осыпает ее горячими поцелуями, обливает слезами и благодарит судьбу, что хоть одну минуту блаженства она даровала ему, хоть одну минуту, прожитую истинною, действительною жизнью! Но, увы! — это были только грезы; у хозяина Василия Михайловича, купца третьей гильдии, никогда не было не только такой, но и никакой дочери…
Порой ему казалось, что он лежит в гробе, что его друзья и знакомые несут его, и он читает на лицах их сожаление… что даже чья-то слеза упала ему на холодный лоб… и этот-то голос говорил над ним:
— Спи мирно! Ты был добрый, благородный человек… Жаль тебя! В душе твоей было много огня, но ты растратил его в пустыне. Много было любви в твоем сердце, но не на кого было излиться ей… И схоронил ты ее навеки в груди своей, как мы схороним тебя сейчас…
И после таких грез, продолжавшихся иногда по целым часам, Василий Михайлович чувствовал себя утомленным, как после тяжелого, неприятного дела… Нередко оказывалось, что лицо его было омочено слезами, и он, как бы стыдясь самого себя, хватался за платок и поспешно утирался.
Я забыл еще прибавить, что Василий Михайлович очень любил музыку и даже сам играл на скрипке, правда, не более как две или три пьесы, но зато это были любимые его пьесы, доставлявшие ему столько же удовольствия, сколько и чтение стихов пушкинских. Эти любимые пьесы его были: «Серенада» Шуберта, «Aurora-valzer» и «Последняя мысль» Вебера {5}. Немецкой музыке он отдавал предпочтение перед итальянской, и потому только изредка посещал оперу. Статуэтка же Моцарта была им куплена сколько из сострадания к бедному скульптору, столько же и из глубокого уважения к этому великому композитору.
Перейдем теперь к рассказу.
Я уже сказал, что Василий Михайлович вернулся домой довольно поздно. Незнакомка совершенно очаровала его, вскружила ему голову. Ее тонкие, нежные черты, ее умные, серые глазки то и дело мерещились ему: «Ну, зачем я не живописец? — говорил он себе.— Ведь вот взял бы карандаш, да и набросал бы эскиз, и любовался бы им каждый час… А то скоро ли я теперь увижу ее? Завтра, пожалуй, опять неудача будет… Господи! Если б встретить ее одну на улице…»
Нужно признаться, что это последнее желание было совершенно бесполезно, потому что заговорить с женщиной на улице Василий Михайлович никогда бы не осмелился, особенно с такой, в которую он влюблен…
В мечтах о своей красавице Василий Михайлович совершенно позабыл бюстик Моцарта, все еще лежавший головой книзу в кармане пальто; уж только тогда, когда ему захотелось поиграть на скрипке, он вздумал о нем и пошел вынимать. Там же лежал полосатый кошелек, который Василий Михайлович счел за нужное обревизовать.
«Чтоб действовать, нужны деньги,— сказал он себе,— а у меня их, кажется, очень мало».
И в самом деле, налицо оказался только целковый. Василий Михайлович задумался.
«И как назло, такое ужасное расстояние! Но ничего, была не была! Зато если она узнает, что я так далеко хожу для ее, это будет служить ей доказательством моей сильной любви!»
Василию Михайловичу не приходило в голову спросить себя, с какою целью он намерен волочиться. Он видел цель в самой любви и не заботился о последствиях; ему хотелось только, чтоб роман его подарил ему хоть несколько приятных часов. Впрочем, мысль о женитьбе не была совершенно чужда ему; но он мечтал об ней, как о каком-то недосягаемом счастье. Часто воображение рисовало ему такие картины счастливой домашней жизни: он видел себя в маленькой уютной комнатке, изящно отделанной, устланной мягким ковром, озаренной таинственным полусветом матовой лампы… Рядом с ним доброе, любящее существо, полное нежной заботливости… Светлое спокойствие дышит в чертах ее; неизъяснимою грациею проникнуты ее движения; он читает ей Шиллера, и она жадно слушает его, разделяет его восторг, указывает сама на красоты этого дивного гения; ее женственная натура так верно, так хорошо угадывает их своим эстетическим инстинктом… Он в восторге роняет книгу и прижимает к сердцу свою подругу… он счастлив, невыразимо счастлив!
Это был идеал Василия Михайловича… Прибавьте к этому какой-нибудь вальс, сыгранный в сумерки на фортепьяно, хорошенького мальчика или хорошенькую девочку, которая возится на ковре с своими игрушками, да двух добрых приятелей, по временам заходящих потолковать о том, что делается на белом свете — и больше ничего не желал бы Василий Михайлович!
Но, повторяю,— все это казалось ему недосягаемым счастьем. Он как-то считал себя недостойным его.
«Кто пойдет за меня, бедного, темного человека?.. и за что полюбит меня? — спрашивал он себя.— Ведь я никогда не выскажу всего, что происходит в этом сердце; а кто ж будет угадывать? кто поймет?.. Каждый припишет глупости мою радость, мою застенчивость».
Поставив статуэтку Моцарта на стол, Василий Михайлович вынул скрипку и стал играть одну из своих любимых пьес, потом другую, потом третью; потом опять начал сначала — и, таким образом, проиграл за полночь; после чего открыл окно, освежил вспотевшее лицо свое струями воздуха, полюбовался на чистое небо, на чудную прозрачную ночь, помечтал еще о сереньких глазках и греческом носике своей незнакомки и, наконец, лег в постель, наказав хозяйской кухарке разбудить его завтра непременно как можно раньше: он готовился опять в далекое путешествие — на Пески… Но и это второе путешествие также не имело важных результатов. Он видел свою незнакомку, сидевшую у окна, видел, как старик отправился куда-то в вицмундире и с портфёлем под мышкой — и только… Василий Михайлович пять раз прошелся мимо окон девушки, и каждый раз она подымала головку и взглядывалась на него. Наконец, когда он прошел в шестой, она встала из-за пялец и исчезла. Василий Михайлович вернулся домой с намерением повторять эту прогулку ежедневно.
II Приятель
Едва Василий Михайлович успел снять пальто и закурить трубку, как вошел к нему приятель его, Околёсин, плотный, плечистый малый, лет двадцати шести, с черными, густыми бакенбардами, которые, сливаясь под гладко выбритым, лоснившимся подбородком, образовывали около лица весьма красивую рамку. Околесин был, как это выказывалось во всех приемах его, чрезвычайно высокого мнения о своей наружности. Он не мог пройти мимо зеркала, а иногда даже просто мимо какой-нибудь гладко выполированной вещи, чтоб не посмотреться и не поправить своих воротничков. Эта уверенность в непогрешимости своей физиономии заставляла его считать себя страшным для женского пола ловеласом. Он вполне убежден был, что ни одна женщина не может устоять перед ним, и рассказывал, в подтверждение этого, тысячу более или менее неправдоподобных историй, которых он был героем. Все эти истории обыкновенно заключались какой-нибудь сентенцией, произнесенной тоном ментора, человека, прошедшего через огонь и воду и потерявшего способность увлекаться. За исключением этих слабых сторон, Околесин был очень хороший малый, умевший со всеми ужиться, слывший между приятелями за хорошего товарища и оживлявший всякую компанию своей веселой, неумолкаемой болтовней. Кроме того он был человек достаточный, имел хорошее место и связи в служебной аристократии; играл с незначительными лицами в преферанс по большой; любезничал с их женами, которым доставал французские романы и билеты в театр; устраивал пикники и, по временам, не прочь был потолковать о предметах философского содержания. Он даже хвалился знакомством своим с учеными и литераторами и иногда, поймав на лету, за хорошим обедом, какую-нибудь идейку, почитал обязанностью всюду разглашать ее, в некоторых кружках выдавал ее за свою собственную, в других же, прибавляя обычную фразу: «Как недавно выразился такой-то».
Околесин и Ломтев воспитывались в одном учебном заведении. Околесин уже был на выходе, когда Ломтев только что начинал курс. Это не мешало им, однако ж, сблизиться. Добродушное, кроткое лицо Ломтева, простота и деликатность его обращения, тихий, откровенный разговор, в котором часто просвечивала теплая, симпатическая натура, сочувствующая искусству и всем прекрасным стремлениям,— все это располагало каждого к молодому человеку с первой встречи. Околесин тотчас же понял, что Ломтев умнее и начитаннее его, и что это человек, не выставляющий каждую минуту напоказ своего ума, как это делает бо́льшая часть умных людей для удовлетворения своего тщеславия, не старающийся разбить и уничтожить ближнего для того, чтоб этим придать себе более рельефа, не взирающий с высоты своего величия на все, что хоть вершком пониже его способностями или знанием, но что, напротив, это было олицетворение терпимости, снисходительности, деликатности, ценивший себя слишком мало, но тем более ценимый другими. Околесин понял это, говорю я, и решился короче сойтись с ним, находя это знакомство и очень приятным и не совсем бесполезным, потому что, со стороны интеллектуальной, тут можно было кое-чем поживиться. Ломтев, не залезавший ни к кому сам, не имел также и обыкновения убегать и дичиться людей, искавших его знакомства, если эти люди чем-нибудь особенно неприятно не поразили его. Околесин умел жить и не навязывался нахально на шею Ломтеву, но предоставил сближение с ним случаю и сам только довольно искусно подготовил этот случай.
Ломтев, с любовью отыскивавший в человеке хорошие стороны, тотчас же нашел их в Околесине и простил ему за них дурные, которые, впрочем, его очень забавляли. Скоро они подружились. Околесину посчастливилось оказать Ломтеву какую-то услугу, которую тот, разумеется, ценил в душе гораздо выше, чем она сто́ит, и с тех пор отношения их сделались еще короче.
— Что это ты, философ, с урока или на урок? — произнес Околесин звучным, здоровым баритоном, входя в комнату и протягивая Ломтеву руку.
— А! Околесин! как я тебе рад… друг мой! — отвечал Василий Михайлович, ставя трубку в угол.— Нет, я не с урока и не на урок.
— Что ж? уж не отвык ли носить дома халат?.. душа моя!
— Нет не то; я ходил со двора… только не на урок! — с улыбкой сказал Василий Михайлович.
— Куда ж так рано? не места же искать? Об этом, кажется, только мне стоит сказать два слова — и мигом будет философу место славное, по характеру!
— Благодарю тебя за участие, Околесин; только я не об месте; тут совсем другое дело… Любовь, Околесин, любовь!..
— Э? Давно ли?.. Три дня тому назад я видел тебя; ты еще был здоров, в своем уме…
— Уж я знал, что ты будешь смеяться… Только, право, теперь это не поможет.
— Да с чего же ты берешь, что я смеюсь?.. Я говорю очень серьезно; только это моя теория, уж извини: любовь — это временное помешательство; а над такими вещами грех смеяться. Лечить я готов… Ну, хочешь лечиться? Отвечай на мои вопросы… Во-первых, давно ли обнаружился недуг?
— Вчера вечером, друг мой, вообрази…
— Погоди, погоди! Какие признаки?..
— Признаки… Сердце мое замирает… я чувствую как бы электрическое сотрясение, когда вспомню об этом удивительном, ясном, поэтическом личике… Я бы охотно отдал три четверти своей жизни за то, чтобы она принадлежала мне остальную четверть…
— Бред есть? — спросил Околесин, прерывая приятеля.
— Вчера целый вечер я не в состоянии был ни за что приняться. Всю ночь блистали передо мной, как звезды, ее чудные глазки… и сегодня чуть свет я отправился туда опять.
— Куда туда? Ты узнал, стало быть, где она живет? И ведь небось даль страшная?..
— Да… то есть не совсем далеко… на той стороне.
Василий Михайлович не смел признаться Околесину, что он два раза ходил на Пески.
— Ну, что ж дальше? ты узнал… ну, говорил с ней; что ж она?..
— Говорил!.. уж ты хочешь бог знает чего с первого раза. Как я мог заговорить, когда она сидела у окна?..
— А ты гулял мимо. Рыцарь ты Тогенбург!
— Ну, да… ну, что ж?.. Рыцарь Тогенбург был с сердцем, умел любить; ты, может быть, скажешь, что и тот рыцарь был сумасшедший, который достал перчатку своей возлюбленной чуть не из львиной пасти…
— Сумасшедшие, братец, все сумасшедшие! Я знаю, что и ты готов в огонь и в воду броситься… Да это все вздор; это все только, покуда не узнал предмета своей страсти… Поверь ты мне, поверь моей опытности в этом деле, предметы нашей страсти только издали кажутся очаровательными; узнать их — это единственное средство вылечиваться от сумасшествия… Через неделю тебе так надоест твоя пассия, что уж ты вспомнишь меня. Я испытал это… (Околесин поправил воротнички и манжеты и, как будто без намерения, посмотрелся в полированный стол, который стоял перед ним.)
— Не знаю, о каких ты женщинах говоришь, Околесин,— возразил Василий Михайлович,— может быть, тебе и приходилось встречать таких; но я головой поручусь, что эта девушка другого разряда: в чертах ее, в движениях столько наивной прелести…
— Ну, как хочешь!.. Умоляю тебя только, действуй, действуй скорей. Мне ужасно хочется видеть тебя здоровым… Ну, что ж, она заметила тебя, улыбалась, делала глазки?..
— Заметить-то заметила, еще вчера заметила, когда я провожал их до дому…
— Их… то есть она с кем же была?..
— Верно с отцом… старичок такой в вицмундире. Сегодня я видел, как он пошел куда-то с портфёлем…
— Браво! это чудесно! значит, в должность уходит. Ну, ты, разумеется, сейчас письмецо…
Околесин подмигнул правым глазом.
— Нет, я не успел… то есть, правду тебе сказать, мне и в голову не пришло передать письма… а это ты хорошую мысль подал.
— Да как же, братец! уж я все это знаю. Письмо, письмо самое жаркое; стихов туда натолкай; восклицательных знаков побольше; бумажку какую-нибудь возьми парфюме, на облатке, чтобы тут espérance [12] была эдакая… и l'affaire est bâclée [13].
— Да, да… хорошая мысль! — говорил, ходя по комнате, Василий Михайлович и уже сочинял в голове своей страстное письмо.— Только как же… через кого передать?..
— Ну, уж это просто срам. Ты точно новорожденный младенец: на что ж дворники-то и кухарки?..
— Ну, а если ответа мне не будет?
— Второе письмо, третье, четвертое посылай, бомбардируй письмами. Ведь не Трафальгар же она…
— То есть Гибральтар…
— Ах! что я! не Гибральтар же… Ну, уж если, паче чаяния, письма не помогут, так еще средство есть… Я зайду к тебе понаведаться, как ты… Да есть ли, брат, у тебя деньги? ведь эти, эти… как бишь его…
— Кого?
— Да ну, этого мифологического божка, что у Юпитера на рассылках был…
— Меркурий…
— Ну, да… так я говорю, что ведь эти Меркурии деньги любят…
— У меня есть… мало, правда; да я завтра за уроки получу.
— Смотри, не продиктуй какому-нибудь ученику вместо образцовых стихов, что ли — любовного письма… ведь от вас, философов, это может статься.
— Ну, вот еще!
— Так деньги тебе не нужны?..
— Нет, благодарю.
— Ну, прощай же. Желаю поскорей выздороветь. Смотри же, бомбардируй письмами, опомниться не давай… одно за другим. Нужно, этак, все четыре в один день…
— А если на первое ответят? Впрочем, нет… такого счастья я не смею и ждать…
— Не дожидаясь ответа, братец, второе письмо валяй! Adieu! [14] Посидеть бы подольше, да не могу — еду к начальнику с докладом на дачу, там и обедать, верно, останусь. А если ты не рано опять ложишься, я бы на обратном пути заехал узнать, как и что…
— Заезжай, пожалуйста, сделай милость… мы поговорим…
— Хорошо. Ты бы черновую рукопись письма-то спрятал — мне показать; мне хочется, знаешь, полюбопытствовать, как вы, философы, там выражаетесь…
Околесин вышел.
«Добрый малый! — сказал себе Василий Михайлович, оставшись один.— Только хочет показаться разочарованным, а на самом деле не прочь и влюбиться… знаю я его!»
Василий Михайлович, тотчас же по уходе Околесина, взял лист почтовой бумаги, очинил перо, придвинул к окну маленький столик и принялся сочинять письмо.
Известно, что русский язык не совсем еще выработался до той легкости, которая потребна для билье-ду {6} и вообще для любовных объяснений; а потому Василий Михайлович был в большом затруднении, как писать: милостивая государыня или просто сударыня, или совершенно ничего не выставлять наверху письма и начать прямо с дела. Наконец, он решился на последнее. Послание сочинялось долго, очень долго. Василий Михайлович писал и драл, драл и писал, так что пропустил даже час урока, что бывало с ним весьма редко, и решился послать к ученику свою записку, в которой говорилось, что учитель внезапно занемог и что, находясь в крайне стеснительном положении, покорнейше просит доставить ему следующие за десять или хоть только за пять уроков деньги. Записка была отправлена с кухаркой, а в ожидании ответа Василий Михайлович стал переписывать свое послание. Он до такой степени углубился в него, что не слыхал, как воротилась кухарка, как положила возле него запечатанный пакет, пробормотав что-то себе под нос, как, наконец, принесен был той же кухаркой обычный обед из трех блюд, которые все успели простыть, пока Василий Михайлович выставил в конце страницы заглавные буквы своей фамилии.
Несмотря, однако ж, на такой усиленный труд, письмо Василия Михайловича вышло довольно бессвязно, и круглоты периодов не было решительно никакой.
«Простите мне мою дерзость,— писал влюбленный юноша,— простите, что я осмелился к вам писать… Я знаю, что не имею на это никакого права, но что же мне делать, когда невыносимая, страшная тоска мучит сердце мое… когда сдавленное в груди чувство так и просится наружу… Я не в силах больше сдерживать его… я не могу ни за что приняться: ваш светлый, небесный образ преследует меня всюду… Ради самого бога, не отвергайте меня! Позвольте видеться, говорить с вами; это все, чего я желаю… Умоляю вас, не откажите мне… Одно только слово, и я счастлив, невыразимо, бесконечно счастлив… Скажите мне, где могу я вас встретить опять, когда услышу звуки вашего голоса, увижу ваш взор, от которого так тепло становится на сердце… О, не оставляйте же без ответа это письмо… Еще раз умоляю вас!.. Одно… только одно слово, написанное рукой вашей…» etc. etc…
Сложив это письмо очень искусно вчетверо и запечатав его в пакет, Василий Михайлович стал одеваться. Когда он натягивал на себя свое шоколадное пальто, ответ ученика попался ему на глаза.
— А! совсем забыл! — произнес Василий Михайлович и потом наивно прибавил, вынув из пакета деньги:
— Странная вещь! Если напишешь — пришлите десять или пять, так уж непременно пришлют пять; это всегда так бывает, я заметил…
После этого глубокомысленного и верного замечания, достойного даже более практического ума, чем каков был Василий Михайлович, он отправился на Пески.
Невзрачная девка, вызванная опять молодым человеком и пришедшая было при виде его в свирепую ярость, скоро смягчилась, почувствовав на ладони холодное прикосновение благородного металла. Письмо было вручено ей, и в ожидании ответа Василий Михайлович стал прохаживаться мимо окон своей возлюбленной. Он не видел ее у окна, из чего заключил, что она читает письмо где-нибудь в глубине комнаты, и ждал. Так прошло четверть часа… полчаса. Наконец, он начинал приходить в нетерпение и решился — еще позвонить. Невзрачная посланница возвратилась на этот звон и, озираясь вокруг исподлобья, сказала сквозь зубы:
— Взяла.
— Взяла! Ну, а ответ?
— После, слышь; некогда, устамши.
Пройдясь еще несколько раз мимо серенького домика и не видав никого у окон, Василий Михайлович, грустный, направил стопы восвояси.
— Даже не видел ее! — говорил он дорогой…— Попробую еще письмецо; авось-либо!
Околесин сдержал обещание и часу в одиннадцатом вечера заехал к своему приятелю. Он застал его лежащим на диване с трубкой в зубах.
— Вот и я! Ну, что? удалось? — спросил Околесин, садясь подле Ломтева на диване.
— Нет…
— Не отвечала? Ну, это известная тактика!..
— Мне даже не удалось ни разу взглянуть на нее… Это просто ужасно! И как я устал!
— А! видно, красавица-то очень далеко живет!
— Да, далеко.
— И не хочешь сказать… ведь этакой! боится, чтобы я не отбил!! — самодовольно произнес Околесин.— Не бойся, душа моя, я уже больше не пускаюсь на это, предоставлю вам, молодежи, мечтателям. Я, брат, скоро совсем остепенюсь… жениться хочу.
— Ты?.. Жениться?.. В самом деле? Ты не шутишь?
— Честное слово.
— А как же ты давеча против женщин так восставал?
— Да что ж! ведь я и не влюблен; невеста влюблена в меня по уши, жить без меня не может… Добрая девочка такая… Ну, думаю, была не была! Потомство иметь хочется, вот что главное. Ну, да знаешь, женатый человек как-то в обществе тоже больше веса имеет…
— Счастливец! завидую тебе, Околесин! Подле тебя будет всегда любящее существо.
— Э! полно, братец! Я тебе говорю, что это вовсе не по любви делается, а так… Ну, хозяйка будет в доме, с детьми возиться будет. Тут даже и некогда о нежностях думать.
— Ну, а вот я так иначе думаю…
— Да… ну! Оставь это в покое… Только обещай, что шафером у меня будешь.
— Охотно.
Они пожали друг другу руки.
— Ты о себе-то мне скажи… Ну, что ж, завтра еще письмо?
— Да, еще письмо.
— Что ты такой задумчивый, рассеянный?..
— Мне грустно, что я не увидал ее… то есть, кажется бы, не свел глаз с нее!
— Эк тебя! Да послушай, Вася, брось письма: что тут долго возиться? Приступай к делу решительнее…
— А как же?
— Да просто явись, скажи — так и так, простите, что осмелился… Ну, разумеется, простит!
— Нет, я, кажется, никогда не решусь на это, Околесин! Под каким предлогом?.. Да и не пустят меня.
Околесин захохотал.
— Помилуй! Какие тут предлоги? Да первый, какой на ум взбредет…
— Однако ж… я, право, не изобретателен. Это странно, ей-богу! Ведь сидишь дома, бывало, каких глупых историй не выдумаешь, а тут, вот что хочешь делай, не лезет ничего в голову…
— Да просто приди и скажи, что из департамента от папеньки…
— Ну, уж это слишком нагло.
— Чем смелее, тем лучше… От папеньки да и только. Скажи, что ваш папенька, сударыня, очки забыл… ну, вот и предлог. Она сконфузится, станет очков искать, а ты в это время бух на колени — и кончено дело. Там уж не мне учить тебя, что говорить.
— Околесин, друг мой! — воскликнул Василий Михайлович, вскочив с дивана и схватив Околесина за руки.— Ты мой избавитель…
— Твой из-ба-ви-и-и-тель! — запел Околесин из «Роберта».—Так и решено: ты идешь за очками…
— Иду! Не знаю, право, хватит ли у меня духа… страшно, Околесин!
— Выпей рюмку хереса перед тем…
— Да не лучше ли еще письмо…
— Вот уж и начал отступать…
— Ах, я не знаю, что будет со мной! Я не сомкну нынче глаз, я это чувствую… Боже мой! если б только это удалось…
— Удастся, удастся! Женщины это любят; и я понимаю их… я бы на их месте тоже любил… Это значит человек не боится препятствий, для любви пойдет на все… Это Испанию напоминает… Как женюсь, поеду в Испанию; это будет очень романически…
— Да ведь ты не влюблен…
— Да я так поеду, чтобы страну видеть, нравы оригинальные… Конечно, не для жены… Je ne suis plus d'âge pour cela [15], состарился… Это любопытно, однако ж, мой юный гидальго; чем-то кончится твое похождение… а, кстати, бруль-он {7} письма оставил?..
— Да, вот оно.
Околесин положил его в боковой карман и встал с своего места.
— Для чего ты берешь?
— А так, при случае…
— Что при случае?..
— Тоже какому-нибудь приятелю помочь, пригодится. Прощай, Ломтев.
— Ты уж идешь?.. Погоди, поговорим еще… Я что-то хотел спросить у тебя…
— Вспомни и спроси завтра; я заеду утром, а теперь спешу домой. Ужасно много работы: вот целые три дня даже невесты не видел — так занят… До свиданья!
Василий Михайлович сказал правду: он действительно почти всю ночь не мог сомкнуть глаз; ворочаясь с боку на бок, кряхтя и жмурясь, он представлял себе завтрашнюю сцену в бесконечных видоизменениях. Воображение рисовало ему его возлюбленную в разных костюмах и разных положениях: то сидящую у окна за пяльцами, то ищущую очков, то встречающею его на пороге своей комнаты с закрасневшимися щечками и улыбкой на устах. Он придумывал разные фразы, которые собирался сказать ей, перешел даже, в мечтах своих, за сцену объяснения — и, к рассвету, уже сидел с подругой своего сердца в той светлой, уютной и теплой комнатке, что, помните, мелькала ему в тумане будущего, как высший идеал счастья. Он даже ласкал у себя на коленях белокурого кудрявого мальчика, как две капли воды похожего на мать. Резвый мальчишка смеялся и, хватая его своими маленькими, пухлыми ручонками за лицо, кричал во все горло: папа, папа, папа!
Наконец, ему кое-как удалось заснуть; но через два часа он вскочил с постели и со страхом взглянул на часы.
— Девять часов! Слава богу, не поздно.
Василий Михайлович особенно позаботился на этот раз о своем туалете; он причесал голову глаже обыкновенного, выпустил воротнички, довольно большие и лежачие, как носят их в Германии ученые и поэты, и надел перчатки. Посмотревшись в зеркало, он изумился бледности своего лица: бессонная ночь оставила на нем печать свою. Действительно, нервы его были расстроены и глаза блестели несколько лихорадочным блеском.
Он отправился.
Когда он ступил на крыльцо, сердце его забилось так сильно, что можно было заметить это сквозь сюртук его. Он остановился, не смея взяться за ручку колокольчика. «Не вернуться ли, не бежать ли?» — подумал он. Дрожь пробежала у него по спине. Наконец, бодрость на мгновение возвратилась к нему; он воспользовался этим мгновением и дернул за колокольчик; за дверью послышались шаги.
Василий Михайлович раскаялся, что позвонил.
Знакомая ему девка отперла дверь и вытаращила на него глаза.
— Что это вы? куда вы?
Он сунул ей в руку целковый.
— Доложи барышне, что пришел чиновник от папеньки из департамента, за очками.
Василий Михайлович даже позабыл осведомиться, не дома ли папенька.
— За очками? — повторила девка, продолжая глупо смотреть на него.
— Ну, да, поскорей…
Она не двигалась с места и, казалось, хотела возражать, но не нашла что. Он дал ей еще какую-то монету, и она пошла, покачивая, в сомнении, головою.
Василий Михайлович вошел в переднюю, но не простоял там минуты, как нежный, тоненький голосок произнес в соседней комнате: «Проси сюда».
Девка прибежала в переднюю, моргнула глазом и дала знак головой, чтоб молодой человек проходил в залу. Он мигом сбросил с себя пальто и очутился перед своей незнакомкой.
У него позеленело в глазах; все предметы, стоявшие в комнате, заходили вкруг него вверх ногами, и посреди этого хаоса мелькало белое кисейное платьице и черная прозрачная пелеринка на голых плечах… Девушка была восхитительна в этом простом и изящном наряде.
Взглянув в лицо молодого человека, она вспыхнула — догадалась в чем дело — и робким, сконфуженным голосом произнесла:
— Папенька не оставлял очков; он, может быть, потерял их дорогой… а, впрочем… я поищу…
Она сама не помнила, что говорила, и хотела убежать в другую комнату, но у Василия Михайловича откуда ни взялась храбрость: он бросился к ней и загородил ей дорогу… Все фразы, заготовленные им для этого случая, были забыты…
— Ради бога… я не за очками… это не папенька… простите меня…— бормотал он, совсем потерявшись, и вдруг, вследствие ли бессонной ночи, расстроившей его нервы, или потрясенный слишком сильными ощущениями, побледнел как полотно и прислонился к косяку двери…
— Что с вами? — воскликнула с участием девушка, вперив в него боязливый и сострадательный взгляд.
Не отвечая ни на этот вопрос, ни на этот взгляд, он бросился на стул, стоявший неподалеку и, закрыв руками лицо, зарыдал… С ним сделался нервический припадок.
Девушка вскричала и побежала из комнаты. Не прошло минуты, как она вернулась с стаканом воды…
— Выпейте… полноте…— говорила она, подойдя к молодому человеку.
Он все не открывал лица. Наконец, она отвела его руки и тихо отерла своим платком лицо его.
Василий Михайлович, в свою очередь, схватил маленькую, белую ручку девушки и горячо прильнул к ней губами, потом прижал ее к голове, потом к сердцу…
— Перестаньте… папенька может прийти… Он сказал, что вернется раньше…
— Не выгоняйте меня! Сжальтесь надо мной! Скажите мне что-нибудь… одно слово… вы не сердитесь на меня?..
— Нет… нет…— отвечала она отрывисто и робко осматриваясь,— но, ради бога… право, я боюсь… если папенька…
— Я не уйду, прежде чем вы не скажете мне, где могу я вас видеть… но только скорей… сегодня же… Я хочу говорить с вами, высказать вам все, что у меня на душе… прошу… умоляю вас…
— Хорошо… завтра… но только теперь уйдите, сделайте милость.
— Где же?.. когда?.. О! не обманывайте меня! назначьте мне место, час…
— Ну, завтра… вечером, в Таврическом саду…
— В котором часу? где именно?..
— В шесть… где хотите…
— У пруда…
— Хорошо, хорошо… уходите скорей…
— Вера Николавна, Вера Николавна! — послышался из передней голос девки, бежавшей к ним впопыхах,— кажись, барин…
— Ну, вот видите! Скорей, скорей, пройдите здесь…
И она толкнула его в маленькую дверь, которая вела в коридор. Он еще раз поцеловал второпях ее ручку и, прошептав: «Завтра!» бросился в кухню, откуда и вышел на свежий воздух. Описывать восхищение Василия Михайловича я не стану. Не стану говорить, как он вернулся домой и что делал весь этот день. Кто не угадает, не поймет этого сам; кто не перешел через подобные ощущения?
III Свидание, письмо и отъезд
Еще не было шести часов, а Василий Михайлович уж давно расхаживался около пруда в Таврическом саду. Грудь его волновалась от нетерпения; он беспрестанно оглядывался во все стороны, не покажется ли в глубине какой-нибудь длинной, тенистой аллеи знакомое белое платье, и повторял про себя: «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты» и проч. Вдруг кто-то сзади тихо прикоснулся к плечу его; он оглянулся, Вера Николаевна (которую мы будем впредь называть просто Верочкой) стояла перед ним в том же костюме, в каком он видел ее вчера, с маленьким зонтиком в руках. В довольно почтительном расстоянии от них, между зеленью, мелькала невзрачная и вечно угрюмая физиономия Верочкиной прислужницы.
День был ясен и тих; листья не шевелились; по бледно-голубому небу кое-где летали разрозненные беловатые облачка; зелень Таврического сада была как-то менее запылена, нежели прочая петербургская зелень; близость воды придавала прохладу воздуху; воробьи, весело чирикая, скакали на дорожках. Вся эта обстановка могла, пожалуй, за неимением лучшего, заставить даже и не такого мечтателя, как Василий Михайлович, на минуту отвлечься от города и позабыть его душную, пыльную атмосферу и его здания, давящие вас своей громадностью; но для Василия Михайловича этот сад, с его бледною зеленью и полузаплесневевшею водой, превратился в сущее Эльдорадо: все казалось ему свежее и ярче; он чувствовал, что праздник настает для души его и она наполняется светлой, торжественной радостью…
— Я опоздала немножко,— сказала с улыбкой Верочка, подавая Василию Михайловичу руку, которую он сжал крепко в своей, но, однако ж, не осмелился поцеловать.
Они пошли по одной из аллей. Многое хотелось сказать в избытке чувства Василию Михайловичу, и он не знал, с чего начать. Верочка, читая смущение на лице его, заговорила первая.
— Я боялась, чтоб вы не занемогли,— сказала она,— вы вчера были так больны… так больны… вы сильно меня напугали…
— О, это ничего, ничего, Вера Николавна… теперь я совсем здоров… я так счастлив, что не в силах высказать вам; моего счастья, кажется, было бы довольно, чтоб исцелить умирающего… О, если бы вы только знали, в каком сомнении я находился со вчерашнего утра! Мне все казалось, что вы не придете, что вы назначили мне это свидание для того, чтоб отделаться от меня, что, может быть, вы сердитесь за мою дерзость…
— Полноте! — говорила Верочка потупившись.— Я видела вашу искренность… я почувствовала к вам такое сильное участие, что не могла не прийти, хоть бы единственно для того, чтоб узнать, тут ли вы, не сделалось ли чего с вами… Знаете ли, однако ж, я не должна приходить сюда больше! Это свидание должно быть последним…
При этих словах, произнесенных тихим прерывистым голосом, она подняла на него свои глаза, в которых выражалось какое-то боязливое сожаление: она боялась огорчить молодого человека и, казалось, хотела вычитать на лице его, прежде чем он успеет ответить, впечатление, произведенное ее словами.
— Последнее? — повторил Василий Михайлович.— Так-то всегда бывало со мной! — прибавил он, махнув рукой.— Думаешь, что вот нашлось, наконец, счастье, а оно и ускользнет от тебя, как тень, как призрак…
— Так вы были несчастны? — спросила Верочка с участием.
— Несчастен, потому что я никогда не любил и не был любим; а это, может быть, еще больнее и тягостнее, чем потерять любимое существо…
— Это странно, однако ж; я думала совсем напротив… что вы очень влюбчивы… Но скажите, отчего же это так? Разве вы не встречали ни одной женщины по себе? Или, может быть, вы влюблялись, но любовь ваша проходила так скоро, что вы не хотите и назвать это любовью…
— Нет, нет, Вера Николавна! Даже малейшей вспышки, минутного увлечения не способны были родить во мне те две-три женщины, с которыми я был знаком. Между мною и ими было так мало общего, и они, казалось, поняли это с первой встречи… потому-то и показали ко мне нечто вроде презрения… Я тоже понял еще прежде их и, не чувствуя в себе охоты насиловать для них свою природу, подчиниться для них условиям, постоянно и глубоко возмущавшим меня, бежал из их общества… и стал по-прежнему вести уединенную жизнь, однообразную, не согретую ничьим участьем, не оживляемую никакими тревогами, но, по крайней мере, свободную. Нет, я знаю, чувствую, что сердце мое способно любить, и если этот запас любви, наполняющий его, погибнет или растратится даром, то не моя вина…
— Почему же вы думаете, что я не из тех же женщин, для которых, как вы говорите, не стоит приносить ничего в жертву?..
— Почему? почему? Я и сам не мог себе дать отчета почему, но только, увидев вас, я испытал совсем не то чувство, какое испытывал при встрече с другими женщинами. Какой-то неведомый голос как будто говорил мне: «Она поймет тебя; многое, что волновало тебя, изведало ее сердце; вы не чужды друг другу». И я не обманулся, я это чувствую, я вижу… Это свиданье, этот разговор служит тому доказательством, и он не может быть последним… Нет! нет!.. Ради бога, Вера Николавна, не отвергайте меня; позвольте мне чаще встречать вас; узнайте меня короче…
— Мне грустно, поверьте мне… но… как же мне быть?.. Я выхожу замуж.
— Замуж?.. Боже мой! Боже мой! Зачем я не встретил вас раньше? Может быть, я был бы навеки счастлив…
— Я расскажу вам все откровенно. Вы увидите, в каком я положении и что мне делать… У меня есть семейство: отец, брат и замужняя сестра. С некоторого времени несчастия одно за другим поражают нас. Не знаю, как пережил их мой отец, который уже довольно дряхл… С него самого начались они. Он служит и жалованьем содержит почти всех нас. Других доходов нет у него. Домик, в котором мы живем, хотя и наша собственность, но ничего не приносит нам, потому что мы сами живем в нем — и еще требует беспрестанных поправок. Это очень старый дом, доставшийся папеньке после старшего брата его. Настали для нас разные грустные обстоятельства; между прочим, с папеньки стали взыскивать значительную сумму, которую он должен был внести за другого по поручительству. Бог знает, чем бы это кончилось, если б не познакомился с нами, случайно, один молодой человек, богатый и имеющий, кажется, обширное знакомство. Он видел меня на одной вечеринке; мне вовсе не хотелось танцовать, потому что на сердце у меня было так тяжело, грустно… Только неотступные просьбы хозяйки дома, нашей доброй знакомой, заставили меня поехать на этот вечер, на котором я, однако ж, решилась пробыть не более двух часов. Как увидите, эти два часа были употреблены с пользой. Молодой человек также почему-то не танцовал или, по крайней мере, танцовал очень редко, и одне кадрили; мы случайно разговорились, сначала о пустяках: он спросил меня, отчего я с таким упорством отказываю всем мужчинам, меня ангажирующим. Я отвечала, что не расположена веселиться и что если б согласилась танцовать, то усыпила бы своего кавалера. «Советую и вам беречься,— прибавила я,— чувствую, что я сегодня слишком нелюбезна, даже глупа». Но, несмотря на мое предостережение, он продолжал говорить со мной, всячески стараясь развлечь меня. В другое время он, может быть, и успел бы, потому что говорил не глупо, но на этот раз я только принужденно улыбалась на все его остроты. «Боже мой! — воскликнул он наконец.— Что бы я не дал, чтоб иметь возможность помочь вашему горю!..» Это восклицание было услышано хозяйкой: «А вы знаете это горе?» — спросила она молодого человека, подходя к нам и взяв меня за обе руки. «Нет, я еще не мог заслужить такого доверия…» — отвечал он. «Ну, так я вам расскажу его,— сказала хозяйка,— и вы, может быть, в самом деле поможете… у вас такие связи!» Она увела нас в другую комнату и рассказала молодому человеку все папенькино дело. Он обнаружил большое, непритворное участие, обещал хлопотать и просил позволения сперва приехать к нам, чтобы переговорить с папенькой. Молодой человек сдержал свои обещания, ездил, просил и хлопотал; но денежное взыскание с папеньки остановлено быть не могло. Откуда нам было взять эти деньги? Папенька ходил совершенно убитый. Мы не знали, к кому бы прибегнуть. Друзья в этих случаях обыкновенно щедры только на советы. Хоть в воду кинься — такое было положение… Однажды молодой человек является к нам и застает папеньку в припадке ужасного отчаяния. Я тоже плакала горько… Последняя надежда наша пропала. Мы обратились к одной богатой помещице, жившей в провинции и которой папенька некогда оказал большие услуги — он выиграл процесс, от которого зависело все ее состояние,— она несколько раз помогала нам, когда мы были в нужде. Правда, это были почти всегда небольшие деньги, но мы могли надеяться, что она, зная честность папеньки и помня его услуги, не откажет и в более значительной сумме. На наше несчастье, помещица умерла, и письмо, посланное к ней, было возвращено нам назад уж наследниками. Молодого человека тронуло положение наше, и он предложил папеньке нужные деньги. Мы не знали, как благодарить его; но он тотчас же уехал, сказав, что деньги будут доставлены вечером. На прощанье я крепко пожала ему руку и, вся в слезах, сказала ему: «Этого я не забуду, пока жива!»
Но этим еще не кончились услуги нашего нового знакомца, потому что не кончились наши несчастия… Я сказала вам, что у меня есть еще брат девятнадцати лет. Он поступил в армейский полк; там, упустив из виду, что мы живем в постоянной нужде, начал он вести жизнь, далеко превышавшую его средства. Папенька узнал это со стороны, от одной старушки, нашей дальней родственницы, приезжавшей оттуда в Петербург помещать куда-то маленького сына. Это несказанно огорчило папеньку… Однажды утром мы получили от брата письмо. Папенька был на службе. Я узнала по адресу руку брата, но предчувствуя что-нибудь недоброе, решилась распечатать письмо и прежде прочесть его сама, с твердым намерением — не показывать его батюшке, если оно будет содержать в себе какое-нибудь грустное известие. Так и случилось: брат писал, что он сделал две тысячи рублей долга и дал честное слово заплатить его через десять дней (от того дня, как послал к нам письмо: именно столько времени требовалось на то, чтоб получить от нас ответ). Что было делать? Обращаться опять к молодому человеку было бы неделикатно, щекотливо, как вообще занимать у лица, которому не заплачен старый долг. Одно средство находилось в нашем распоряжении — мы могли продать свой домик, самим нанять где-нибудь уголок и жить процентами с остальных денег. Но скоро ли найдешь покупщика? А брат требовал немедленной присылки. Однако ж письмо я не тотчас показала папеньке и несколько приготовила его; он, казалось, ждал подобного удара и на совет мой продать наше последнее достояние — дом не возражал ни слова. В тот же вечер приехал к нам молодой человек. Он нашел нас обоих опять печальными, потому что как я ни старалась скрыть горе, но не могла. Лицо мое изменяло мне… Мы решились просить молодого человека поискать покупщика. Он вызвался с удовольствием, но, уходя от нас, отозвал меня в сторону и сказал: «Послушайте, Вера Николаевна, скажите мне откровенно, что заставляет вас продавать этот дом, к которому вы привыкли и который еще вовсе не так ветх, как вы говорите с папенькой? Эта мнимая ветхость только предлог: я вижу, тут что-то кроется. Если вы имеете ко мне хоть малейшую дружбу, если считаете меня достойным вашей доверенности, объясните мне настоящую причину вашего решения…» Я рассказала ему, в чем дело, и даже дала прочесть письмо брата. Он ничего не отвечал и только молча покачал головой; потом подал мне руку и произнес: «Постараюсь обделать дело как можно скорей. Благодарю, что вы обратились ко мне». Между тем я написала к брату письмо, чтоб успокоить его, и просила только не ставить нас снова в такое затруднение. Три дня не являлся к нам молодой человек, и о покупщике не было слуха. Мы начинали беспокоиться, как вдруг получаю я от него, на мое имя, письмо. Он писал, что из-за двух тысяч не стоит продавать дом, что он в эти три дня успел достать их и уже отослал в Т… на имя брата. Признаюсь вам, хоть это письмо меня и очень обрадовало, потому что мне было крайне жаль расставаться с нашим домиком, где я выросла и воспитывалась, но в то же время оно заставило меня задуматься… Мне было как-то странно, удивительно, что этот молодой человек до такой степени добр к нам, услужлив. Две услуги его, оказанные нам, могли даже назваться благодеяниями… И неужели все это делается без всякой отдаленной цели, единственно из доброты сердечной? Но какую же постороннюю цель мог он иметь? Какие виды?.. Я читала много романов и часто судила по ним о людях, сравнивала встречавшиеся в жизни лица с героями этих романов, применяла свое положение к разным вычитанным положениям, и потому, очень естественно, заключения мои и образ действия бывали, по большей части, ошибочны. На этот раз я тоже в голове своей создала что-то в роде романа; не знаю от чего мне вообразилось, что молодой человек имеет намерение стеснить впоследствии папеньку и заставить меня выйти за него замуж… Иногда мне казались смешны мои собственные мысли, тем более, что последние две тысячи были даны даже без векселя, но тем не менее я не могла от них отделаться. Молодой человек продолжал к нам ездить, был по-прежнему предупредителен и ласков и со мной, и с батюшкой; он проводил у нас целые вечера и оживлял своим веселым характером нашу монотонную жизнь. Он избегал всякого случая говорить об оказанном нам одолжении. Если речь заходила о людском эгоизме, о том, как редко сохраняют в нужде друзей своих, он тотчас переменял разговор. Его деликатность заставила меня краснеть за мои глупые мысли. Узнав его короче, я увидела, что это в самом деле добрейшая душа в мире, хоть он и старался иногда прикидываться, по какой-то очень забавной странности, эгоистом, практическим, жестким человеком…
Наконец, ему удалось одолжить нас еще раз. Сестра моя, бывшая замужем за одним спекулятором и аферистом, всю жизнь хлопотавшим, как бы нажить себе огромное состояние и прожившим на разных акциях то, которое имел, овдовела. После покойника осталось столько разных долгов, что для уплаты их оказалось необходимым продать все его движимое и недвижимое имущество, да и того еще было мало, так что сестра осталась совершенно без приюта и без куска хлеба. В надежде отыскать себе впоследствии какое-нибудь место, она на время поселилась у нас. Сестра моя — женщина добрая, трудолюбивая, серьезная, самой строгой нравственности. Молодой человек познакомился с ней и не прошло двух недель — нашел ей место классной дамы при каком-то благотворительном женском заведении, место, совершенно обеспечивающее ее существование. Благодарность папеньки за все эти поступки нашего знакомого была невыразима. Он привязывался к нему с каждым днем больше и больше. Прибавьте к этому разные мелкие услуги, которые часто ценятся не менее больших, потому что показывают внимание и уважение к вам. Молодой человек доставал папеньке разные книги, привозил нам билеты в театр, играл с папенькой по самой маленькой в преферанс и всех привязал к себе своей снисходительностью, своим легким откровенным характером. Но папеньку беспокоила мысль — как расквитаться с этим кредитором; чем он был деликатнее, тем скорее папеньке хотелось заплатить ему. Занимая, он имел в виду откладывать ежегодно половину своего жалованья на уплату этого долга, и для этого решился сократить некоторые расходы. Но одно обстоятельство ускорило уплату. По вскрытии духовного завещания помещицы, которой, как я вам говорила, папенька выиграл огромный процесс, оказалось, что она оставила нам участок земли, стоивший по крайней мере тысяч пятнадцать серебром. Какой-то сосед помещицы узнал об этом, тотчас сделал нам предложение продать ему участок, смежный с его имением. Мы, разумеется, были очень рады, и деньги были немедленно, по совершении купчей, возвращены молодому человеку… Но услуги его были так важны для нас, папенька так полюбил его, что ему ужасно хотелось чем-нибудь выразить свою благодарность. Он призвал меня и стал советоваться, что бы подарить на память в именины нашему бывшему кредитору; я вызвалась вышить ему сонетку. Сонетка была очень хороша, и когда я отдала ему ее, то он был так рад, так рад, что я даже удивилась: неужели такая ничтожная вещь может доставить столько удовольствия мужчине, и довольно солидному мужчине, а не мальчику? Он начал меня уверять, что эта вещь не расстанется с ним, что с ней будет связано воспоминание о лучших днях его жизни: словом, наговорил мне таких вещей, каких мне от него никогда не приходилось слышать и которые казались как-то странны на языке у человека, никогда не упускавшего удобного случая посмеяться над сентиментальностью. Правда, я иногда подозревала, что он лжет, что он говорит не от души, потому что мне случалось заметить два-три взора его, брошенные на меня украдкой, когда он сидел с папенькой за картами, а я работала или читала в другом углу: эти взоры были так нежны, так сладки, что мне всегда приходила после охота спросить у папеньки, не проиграл ли его партнер, и папенька отвечал мне: «Ремизится… {8} страшно ремизится!».. Не знаю, зачем люди хотят казаться не тем, что они есть… и даже самые хорошие люди…
Итак, принимая от меня сонетку, он чуть не объяснился мне в любви; я отделалась шуткой и не придала особого значения словам его, хотя тон, каким они были сказаны, уже изумил меня. После уже они стали для меня яснее. Вечером я получила от него формальное письменное объяснение в любви, в котором говорилось, что он давно любит меня, но не смел открыть мне, и притом он находился в таких щекотливых отношениях к нам, что сделать это предложение раньше казалось ему неделикатным: значило, как будто требовать благодарности за оказанное одолжение, и проч. Потом он просил меня сказать ему откровенно, положа руку на сердце — каковы чувства мои к нему и согласна ли я быть женой его. Я показала это письмо папеньке, который очень обрадовался; эта мысль, казалось, давно уже была у него на уме; но он не высказывал ее, ожидая, не сделает ли кто-нибудь из нас первого шага. «Что ж ты ответишь, Вера?» — спросил потом папенька, гладя меня по голове и устремив на меня пытливый взгляд. «Я сама не знаю,— отвечала я,— подумаю, папенька». Это предложение сделано так неожиданно, что мне в самом деле нужно было хорошенько подумать, взвесить, разобрать свои чувства. На другой вечер папенька пришел в мою комнату, посадил меня подле себя на диван, обнял и тронутым, дрожащим от волнения голосом спросил, надумалась ли я. Казалось, по торжественным приемам его, что он собирается сказать мне что-то важное и серьезное. Действительно, на ответ мой, что нет еще, он стал уговаривать меня не отказываться от этой партии; говорил, что он уже стар и желает видеть меня пристроенной; что у меня нет впереди блестящей будущности; что бедной девушке не должно быть слишком разборчивою на женихов и что поступок человека, предложившего мне свою руку, очень благороден. Потом он прибавил, что этот случай представляет нам возможность достойно выразить ему нашу благодарность за все, что он для нас сделал. Папенька заключил свою речь следующими словами: «Впрочем, дитя мое, я не принуждаю тебя; ты не ребенок и можешь сама рассудить. Говорю тебе, что, согласившись на это предложение, ты истинно утешишь своего старика отца, ибо это докажет, что ты добрая, благодарная девочка!» Я была очень взволнована речью папеньки. Ему самому хотелось бы подольше не расставаться со мной, но он желал мне счастья и думал, что тот, кого судьба посылает мне, может сделать меня счастливой. Я обещала дать решительный ответ через час и сдержала свое обещание: через час я пришла к папеньке с готовым письмом в руке, в котором изъявляла молодому человеку свое полное согласие.
Папенька крепко поцеловал меня и прослезился от радости. Старик был очень счастлив в эту минуту; я тоже была счастлива.
Любила ли я моего жениха, люблю ли я его — я не буду… я не могу отвечать на это, потому что и сама не знаю… Знаю только, что я уважаю этого доброго, благородного человека, что он всегда будет иметь во мне друга, что если даже я не люблю его еще, то полюблю… постараюсь любить…
Через две недели наша свадьба.
Вот моя история. Она, может быть, наскучила вам, но я хотела, чтоб вы знали мое положение. Видеться с вами мне невозможно; не требуйте от меня этого…
— Боже мой! да как же это? Неужели мы решительно нигде не должны встретиться, Вера Николавна?.. О! Зачем я вас не встретил раньше?.. Но, впрочем, к чему бы это повело?.. И тогда ваш теперешний жених имел бы надо мной преимущество… Он богат и мог оказать вам не одну услугу; а я… кроме участия, кроме любви, у меня ничего бы не было… Так вы решились выйти за него, не любя его, решились выйти из благодарности…
— Нет, не из одной благодарности. Правда, я не чувствую к нему страсти, но он и не требует ее… Я буду уважать его… любить как друга, как брата…
— Но этого мало для счастья целой жизни. Время придет… и если вы до сих пор не любили, то должны будете кого-нибудь полюбить, и тогда-то увидите, как неосторожно поступили.
— Я подавлю, затаю в себе эту любовь, и никто не узнает о ней. Что же делать, если такова моя участь?.. Но не предвещайте мне этого; может быть, моя дружеская привязанность к жениху разрастется до страсти…
— Едва ли это бывает так.
— Но что же делать? Я дала слово… и не могу изменить ему.
— Так это последнее наше свидание…
— Последнее… Прошу вас, не старайтесь со мной видеться.
— Зачем же вы пришли сегодня? Зачем не выгнали вы меня, когда я явился к вам в первый раз?.. Это свидание останется в моей памяти для того, чтоб говорить мне, что и я мог бы быть счастлив… Но, послушайте, Вера Николавна, позвольте мне только изредка видеть вас, говорить с вами: и это будет уже для меня наслаждение… Пускай вы не хотите любви моей, но чем же это мешает нам видеться?..
— Нет… нет!.. прошу вас… Это нужно… вы сделаете это, если любите меня…
— Если люблю вас? Вы слишком хорошо знаете, что это слово может заставить меня все сделать… Я исполню ваше требование.
— По крайней мере, на время… Потом мы можем встретиться опять… и будем друзьями… Тогда многое изменится… То, что вы называете любовью ко мне, охладеет, пройдет…
— Никогда!.. никогда!..
— Однако ж, для нашего общего счастья, нам должно забыть друг друга…
— Забыть? А разве это зависит от человека? Вы думаете, что, перестав с вами видеться, я забуду вас… Вы ошибаетесь, Вера Николавна, вы не знаете меня! Вам это легко сделать, потому что… знакомство мое не оставит в вас ничего…
— Почему вы знаете? — быстро прервала Верочка.— Если б это было так, зачем бы мне запрещать вам видеться со мной?..
— Что вы говорите?.. Неужели вы чувствуете, что могли бы полюбить меня?.. Скажите мне это еще раз, Вера Николавна! Мне, может быть, так послышалось… Я расстроен…
Верочка отвечала ему молчаливым пожатием руки. Он также сжал ее руку, медленно поднес к губам и потом сказал:
— Если это нужно для вашего спокойствия, я готов, как бы мне тяжело ни было…
— Да… да!.. я не могу поручиться, что не полюбила бы вас, а этого не должно, не может быть… Но мне давно пора… меня ждут… Прощайте. Сдержите же свое обещание, не старайтесь со мною видеться… Прощайте…
— Надолго ли? — произнес Василий Михайлович.
Верочка молча пожала плечами. Он еще раз поцеловал ее руку и пошел по аллее, которая вела к выходу.
По возвращении домой Василий Михайлович нашел у себя на столе письмо от матери из провинции и повестку на небольшие деньги. Старушка писала сыну, что она опасно больна, что, может быть, ей скоро придется умереть, и просила его приехать на время к ней. Предвидя, что у него могло не случиться денег, она заняла у своих знакомых небольшую сумму, которую посылала ему на проезд.
Василий Михайлович призадумался над письмом. Оно его опечалило, потому что он любил мать.
— Сама судьба,— произнес он помолчав,— заставляет меня исполнить желание Веры.
В эту минуту вошел Околесин.
— Ну что? каково дела идут?..— сказал он, протягивая руку Василию Михайловичу.
— Эх! все как нельзя хуже…
— Почему?
— Вот письмо от матушки. Старушка бедная занемогла, просит меня приехать к ней.
— Ну, а любовные дела?
— Тоже худо…
— Ты не решился пойти за очками! Я так и знал!
— А вот и ошибся. Не только за очками ходил, но и сейчас был на свиданье, да все это ни к чему не привело.
И Василий Михайлович принялся рассказывать свои похождения за очками.
— Не знаю, что со мною сделалось, брат Околесин, но я расплакался, упал в обморок. Ей, видно, стало меня жаль, и она решилась назначить мне свидание… но зачем…
— Известно зачем, чтоб целые два или три часа врать пустяки, сантиментальничать и целоваться…
— Нет, ты опять ошибся; мы вовсе не сантиментальничали; она, как пришла, объявила мне, что наше свидание должно быть последним…
— Ну, разумеется. Когда ж бывает иначе? Нужно же поломаться, пококетничать…
— Нет, она говорила искренно… Если б ты только видел, как она чужда всякого кокетства, как мило она призналась мне, что она «не ручается, чтобы она не полюбила меня»…
— Она сказала это, и ты…
— Да постой же! Дай мне все рассказать. В том-то и дело, что она не должна любить меня… потому что выходит замуж…
Околесин расхохотался.
Василий Михайлович продолжал:
— Она пришла из сожаления, из сострадания ко мне; пришла с тем, чтоб просить меня не преследовать ее. Это благородная, прекрасная девушка… Она рассказала мне всю историю свою; она очень обязана своему жениху, который не раз помогал ее семейству, и потому она не хочет изменить данному слову, не хочет обманывать этого человека. Я дал ей слово и не изменю ему, да и притом я дня через два уеду.
— Ну, уж как ты себе хочешь, а я, право, твоего рыцарства не могу понять. Ты идеализируешь девочку, которая просто с тобой пококетничала, в полной уверенности, что ты на другой же день опять потребуешь у ней свидания…
— Она уважает своего жениха, и если почувствует страсть к другому, то затаит ее в глубине сердца, употребит всю свою волю на то, чтоб противиться этой страсти, бороться с ней…
— О, да я вижу, это страница из романа!.. По моему мнению, так уж если ей, действительно, не хочется, чтоб ты ее преследовал, то это разве покуда… Может быть, ей в самом деле хочется выйти замуж, и она боится, чтоб жених как-нибудь не пронюхал о ваших свиданиях и не отказался. В тебе же она не слишком еще уверена; ты ей предлагал одно сердце — а об руке и помина не было. И притом ты, верно, имел неосторожность сказать, что ты беден; а жених, коли он помогал ей — значит, богат… так вот она и рассудила, что выйду замуж… нечего выпускать из рук синицы, когда еще журавли в небе летают…
— Воля твоя, а я не считаю ее способною на такие расчеты… Это чистая натура, еще не испорченная светом.
— А где ты мог узнать ее?.. Ты влюблен, потому и говоришь так. Послушай-ка лучше моего совета, воспользуйся обстоятельствами.
— Какими?..
— Слушай. Ты должен ехать не сегодня, так завтра. Напиши к своей возлюбленной горячее письмо, в котором требуй последнего свидания. Подчеркни три раза слово: последнее; скажи, что ты навсегда уезжаешь, исполняя ее требование…
— К чему эта ложь?
— Скажи, что ты навсегда уезжаешь, исполняя ее требование. Пусть это докажет ей, что ты готов пожертвовать для нее всем — своими знакомыми, своими привычками, своей карьерой… Сколько ты намерен пробыть в провинции?
— Не знаю, как здоровье матушки…
— Ну, положим, месяц или два… Через два месяца ты возвращаешься сюда, отыскиваешь свою возлюбленную, бросаешься на колени и говоришь, что ты боролся с своей страстью, но не в силах был подавить ее — и, наконец, решился снова явиться сюда, чтоб быть любимым или умереть! Тебя, разумеется, не допустят умереть — и великодушно простят.
— Нет, обманывать так я не способен. Я напишу к ней только письмо, в котором потребую последнего свидания… и на этом свидании объясню ей все как есть… Я хочу видеть ее еще раз перед отъездом. Бог знает, встречу ли я ее когда-нибудь опять…
— Если воротишься сюда, то, конечно, встретишь.
— Может быть, она уедет куда-нибудь… Может быть, я сам останусь в провинции.
— Это как?
— Да так. Во-первых, для моего здоровья здешний климат не годится: грудь у меня слаба (Василий Михайлович кашлянул для подтверждения своих слов). Притом же матушка желала бы не расставаться больше со мною; ей уже недолго остается прожить… Наконец, если я останусь здесь, то не отвечаю за себя и, может быть, не сдержу своего обещания…
Околесин пожал плечами и ничего не отвечал на эти доводы. Обменявшись еще несколькими словами, друзья простились.
— Когда ж ты уезжаешь? — спросил Околесин.
— Да если найду билет в дилижанс, то через два или три дня.
— Надеюсь, что мы не раз еще увидимся. Ты не поверишь, как мне досадно, что ты не будешь у меня шафером.
На другой день Василий Михайлович взял в дилижанс билет и потом тотчас же написал к Верочке записку. Вот ее содержание:
«Я уезжаю отсюда, Вера Николавна… может быть, навсегда. Позвольте же мне еще раз вас видеть. Это будет последний; я не нарушу более вашего спокойствия. Молю вас, не откажите мне… Пускай останется у меня на сердце, по крайней мере, одним светлым воспоминанием больше. Жду вас там же, где мы были вчера, и какое-то тайное предчувствие говорит мне, что жду не напрасно».
Покуда известная посланница носила записку своей барышне, Василий Михайлович пошел в сад. Через десять минут Верочка тоже явилась туда. Она пришла торопливо. Щечки ее разгорелись от ходьбы, и Василий Михайлович нашел ее лучше, чем когда-нибудь. Он бросился к ней навстречу.
— Вы писали мне, что уезжаете,— сказала Верочка, протягивая ему руку,— и я не могла не прийти сюда; но дома жених мой; и он и папенька думают, что я у себя в комнате… а потому я должна как можно скорее воротиться… Но, ради бога, скажите, куда вы уезжаете…
— В провинцию, там у меня больная старушка-мать, которая просит меня приехать…
— Отчего вы пишете «навсегда»? Разве вы не вернетесь сюда?..
— Может быть, нет; на это есть так много причин…
Верочка посмотрела ему в лицо… Он потупил глаза.
— Я угадываю вас: это жертва, которую вы хотите принесть девушке, почти незнакомой вам… и которой, может быть, она недостойна…
— Нет, нет! Вы достойны не такой жертвы, Вера Николавна! Эта жертва слишком ничтожна для меня. Жить здесь и не видеть вас… не все ли равно, что уехать отсюда? Я ничего не оставляю, что бы привязывало меня к Петербургу. Притом и мать моя будет рада, если я поселюсь с ней, да и здоровье мое выиграет; здесь я постоянно страдаю грудью. Не говорите же мне, что это будет жертва…
Нужно сознаться, что Василий Михайлович нарочно упомянул о своем постоянном и мнимом недуге для того, чтоб показаться более интересным… Несколько минут они молчали… Василий Михайлович шел подле Верочки, опустив голову и ощупывая один за другим зеленые листья, которые он срывал по дорожке. Наконец, он остановился и сказал:
— Вам пора… я задержал вас… Благодарю, что вы не отказали мне в моей последней просьбе… Будьте счастливы, бесконечно счастливы… будьте любимы… и когда-нибудь вспомните обо мне…
Сердце Василия Михайловича сжалось; он схватил обе руки Верочки, пристально посмотрел на нее, как будто любуясь ее красотой, и ему показалось, что в глазах девушки сверкнули две слезинки, но он не смел верить себе: он думал, что ошибался, что, может быть, это просто — солнце…
— Прощайте! — произнесла она голосом, в котором выражалось волнение.— До свидания!.. {9}
Через два дня Околесин, провожая своего друга в контору дилижансов, давал ему, по обыкновению, разные советы, как должно вести себя с женщинами, особенно в провинции, где так скоро всех женят, и просил остановиться у него, когда Василий Михайлович вздумает воротиться.
IV Два письма
Письмо Веры Николаевны к одной приятельнице.
Декабрь 18…«Не сердись, ради бога, не сердись на меня, бесценный друг мой, Аннета, что ты столько времени не получала от меня ни строки. Твое письмо и огорчило, и обрадовало меня. Огорчило, потому что ты считаешь меня способной забыть подругу своего детства, ту, от которой у меня не было тайн и которая сама постоянно делилась со мной всеми печалями и всеми радостями; обрадовало, потому что в этих меланхолических строках, в этих нежных, незлобных упреках, я вижу новое подтверждение, новое доказательство твоей ко мне привязанности, заставляющей меня гордиться. Помню, как еще в пансионе все добивались дружбы добренькой, хорошенькой Аннеты и как эта дружба вдруг пала на меня—и возвысила меня в моих собственных глазах так же, как и перед другими. Быстро пронеслись эти счастливые, эти беспечные дни… Но кто из нас позабудет их, кто не сохранит своих первых связей? Мне случалось читать в разных книгах множество нападок на женскую дружбу; но они мне всегда казались несправедливыми; это писали или люди вовсе не знающие женского сердца, или судящие о всех женщинах по двум-трем дурным, которых им удавалось встречать. Редко бывает, чтоб отношения, существовавшие между пансионскими подругами, изменялись впоследствии, даже при совершенном неравенстве в общественном положении.
Между мужчинами, напротив, редко бывает иначе… Мы можем служить примером тому, что я сказала о женской дружбе. Все мы разошлись в разные стороны, по предсказанию Сашеньки А*, написавшей мне в альбом стихи, которые, помнишь, оканчивались так:
И разбредемся мы, mesdames, По всем российским городам.Одни разбогатели, сделались знатными дамами, другие трудом поддерживают свое существование, а между тем все по-прежнему любят друг друга, ничего не скрывают одна от другой, находятся в деятельной переписке. Это все я говорю затем, чтоб ты не верила никаким скептическим выходкам, никаким клеветам на женское сердце. Если я так давно не писала тебе, это значит только, что я была слишком полна различными, беспрерывно сменявшими одно другое, ощущениями, которые решительно не давали мне ни на минуту опомниться. Но даже и в это время я несколько раз принималась за перо, чтоб высказать тебе все, что тяготило, тревожило, волновало меня… Но ни одно письмо не кончала я: все письма до такой степени были бессвязны, до такой степени походили на бред больного, расстроенного воображения, что, перечитывая их, я сама приходила в ужас и тотчас же бросала их в печку. Теперь, когда я несколько осмотрелась вокруг себя, когда мало-помалу улеглись в душе моей чувства, внезапно встревожившие ее, и я стала спокойнее, могу, наконец, рассказать тебе все, что было со мной, могу начать свою исповедь, свои confidences [16]. Имей только терпение читать.
Да, добрая моя Аннета, в это короткое время я много пережила, многое перечувствовала… может быть, даже более, чем во все мои семнадцать лет. Мне кажется, я, наконец, узнала это чувство, к которому все бывшие подруги мои, исключая тебя, считали меня неспособной; помнишь ли, как все они влюблялись, кто в учителей, кто в сына доброй содержательницы нашего пансиона, мадам Декруа, тогда как я была постоянно равнодушна и к застенчивому математику, и к болтуну историку, и к красивому, белокурому, но невыразимо глупому Жоржу?.. Я даже с удивлением спрашивала, что можно находить в них? И как на меня сердились за это! Какими эпитетами не закидывали меня, так что, наконец, слыша беспрерывно и со всех сторон название бесчувственной, холодной девочки, я и сама стала сомневаться, есть ли у меня сердце. Отчего, в самом деле, думала я, все девушки одного со мной возраста ощущают такую потребность любить? Пускай выбор их падает на людей не совсем симпатичных и которых они стараются сами идеализировать — это происходит только оттого, что они не видят других мужчин; но все-таки значит, что в сердце их больше любви, чем в моей, что эта любовь просится наружу, ищет себе выхода и, faute de mieux [17], устремляется на Жоржа… И мне было больно, досадно, что я не испытывала этого чувства, что подруги не хотят открывать мне своих тайн, думая, что я не в состоянии понять их! Одна ты, мой несравненный, единственный друг, Аннета, не доверяя боязливому, ребяческому характеру других подруг и прочтя на моем лице следы печали, которая начинала серьезно мучить меня, только ты пришла ко мне, подала мне руку и, открыв мне свое сердце, просила, чтоб я в свою очередь ничего не скрывала от тебя, постоянно рассказывала тебе причины всех радостей своих и огорчений… С этой минуты я была вся твоя, почувствовала к тебе безграничную симпатию — и дала слово исполнить твое требование… Ты знаешь, осталась ли я верна этому слову?
Слушай же, слушай меня, Аннета! Я сказала тебе, что, кажется, это чувство, давно желанное, давно ожиданное, наконец, пришло ко мне… но, увы, пришло слишком поздно… Впрочем, я и сама не могу дать себе отчета, люблю ли я или нет… Это сделалось так странно и так внезапно; тут столько непонятного, необъяснимого для меня… Расскажу тебе все, все, мой друг; может быть, ты поможешь мне разрешить мои сомнения.
Я писала тебе, в каком плачевном положении мы находились все некоторое время, как мы от него избавились с помощью одного доброго человека, который в настоящую минуту зовет меня женой своей. Когда он совершенно неожиданно сделал мне предложение, я совсем стала в тупик и не знала, что отвечать. Я чувствовала к этому человеку расположение… дружбу; если хочешь, была ему очень благодарна за все его одолжения, но мне никогда не приходило в голову, что я могу сделаться его женою. Связать себя на всю жизнь с человеком, к которому не чувствуешь страсти, в котором, несмотря на его добрые стороны, замечаешь несколько довольно резких, шокирующих недостатков, очень извиняемых в знакомом, но уже менее извиняемых в муже… До сих пор я не обращала внимания на то, что могло не нравиться мне в нем; но когда он изъявил желание сделаться моим мужем, я стала тщательнее, подробнее анализировать характер его, смотреть на него в микроскоп, отчетливо и ясно представляющий мне каждый оттенок, каждый изгиб его сердца, едва заметный для простого глаза… Положительно могу сказать, если б я была совершенно независима от посторонних обстоятельств, то не решилась бы на этот брак. Но мое положение (оно хорошо известно тебе, и ты войдешь в него, я уверена), неизвестность, ожидающая меня в будущем, старость папеньки и его неотступные просьбы заставили меня согласиться. Долго потом обсуживала я свой поступок. Мне казался он не совсем благородным… Может быть, думала я, этот человек надеется найти во мне горячую, страстную привязанность и, вместо этого, встретит только уважение, только благодарность… Притворяться я не могу, не умею — и знаю, что с первых же дней он увидит насквозь мое сердце и прочтет в нем настоящее название того чувства, которое я питаю к нему… С другой стороны, я сама хорошенько не знала себя. Пансионская жизнь пришла мне на память: я вспомнила упреки моих подруг в холодности, в неспособности любить… и сказала себе: откажу я этому человеку, потому что мне кажется, я не довольно люблю его; но если я не в состоянии больше любить никого, если, основываясь на том же предлоге, откажу я и другому и третьему, то мне не трудно будет остаться и старой девой… а ничто так не ужасало меня постоянно, как эта мысль! Однако ж я готова была скорее принести в жертву самое себя, чем сделать несчастным другого. Я решилась прежде всего объясниться с моим женихом, высказать ему откровенно, положа руку на сердце, свои к нему чувства, и если он не захочет требовать больше, то согласиться на его предложение. За одно могла отвечать я ему, что жена его будет верна своим обязанностям… и этого, кажется, было ему довольно. Когда я все сказала ему, все, что хотела, он взял меня за руку и отвечал, что если я не чувствую к нему ненависти, отвращения, если только не боюсь быть с ним несчастливой, то он, с своей стороны, совершенно довольствуется моей дружбой. Я заметила даже самодовольное выражение на лице его; казалось, он внутренно говорил себе: «Коли есть дружба, то ручаюсь, что она превратится впоследствии в страсть…» Если б это случилось так!..
Но слушай дальше, Аннета. Нас помолвили, поздравляли… Папенька был вне себя от восхищения. У меня также, после моего объяснения с женихом, отлегло от сердца. По крайней мере, я поступила не эгоистически… и не обманула его. На третий день после нашей помолвки, когда жениха моего, ездившего к нам каждый вечер, задержали дома дела — он большой делец, все возится с разными бумагами,— мы пошли с папенькой гулять. Мне нужно было купить перчатки и еще кое-что, и потому мы отправились заодно на Невский. При выходе из одного магазина встретили мы молодого человека, который покупал на крыльце чью-то статуэтку… какого-то музыканта или живописца. Я заключила тотчас же, что он должен быть сам артист. Почему мне это вообразилось, право, не знаю: как будто простой человек не может покупать статуэток великих артистов? Впрочем, друг мой, у него такое поэтическое, такое нежное лицо, что я невольно вспомнила героев своих любимых романов и довольно пристально посмотрела на него. Если б ты знала, как я раскаивалась потом в этом взгляде!.. Но, клянусь тебе, ни малейшего кокетства не было в нем… Он, однако ж, заметил его, сконфузился, покраснел и не двигался с места; это показалось мне так смешно, что я не удержалась от улыбки. Сделав несколько шагов, я по какому-то безотчетному чувству оглянулась назад: мне хотелось знать, все ли он стоит на том же месте и отчасти посмотреть еще раз на это лицо… Он все стоял. Через две минуты я опять оглянулась — на этот раз он шел за нами и сам устремил мне в лицо такой нежный, умоляющий взгляд, что мне вдруг перестало быть смешно… и сердце мое сильно замерло. Я тотчас же отвернулась, но он не переставал идти за нами и преследовал меня вплоть до нашего дома (как тебе покажется это путешествие?); он сделал это так искусно, что папенька вовсе не заметил его, тогда как я постоянно его видела. Ты скажешь мне, что я сама виновата, что я не должна была ни пристально смотреть на него, ни улыбаться, ни оглядываться назад… Так, мой друг, чувствую, что это все справедливо, что много неосторожности было с моей стороны, но только, повторяю тебе, кокетства не было тут ни на волос. Хоть он и мог подумать, что я поощряю его преследование, но все движения, и улыбка, и пристальный взгляд — были невольны, безотчетны…
Возвратясь домой, я стала к окну. Он несколько раз прошел мимо. Я слышала потом, как он позвонил у ворот; Анисья вышла к нему. Он хотел узнать мою фамилию, но это не удалось ему, потому что Анисья, как тебе известно, не отличается большою деликатностью в обращении, особенно же с незнакомыми. Когда я спросила ее, кто звонил, она отвечала мне: какой-то «шаромыжник», сам не знает кого ищет. Я думала, что этим все кончится; но как же я ошиблась! На другой день эта же самая Анисья подала мне письмо, сказав, что принес — «не знаю какой человек» и ответа просит. Адреса не было. Если б я увидела на нем незнакомую руку, я бы тотчас возвратила письмо, не читая, потому что подозревала, от кого оно; но я распечатала его, и делать было нечего… Пробежав письмо, я бросила его на окно и прогнала Анисью, строго запретив ей принимать вперед письма от неизвестных людей. Но когда она вышла, я не могла удержаться и снова взяла это письмо: мне любопытно было посмотреть, как он пишет; что́ он пишет — я знала заранее. Прочтя письмо, я была поражена необыкновенной искренностью, с которой оно писано. Оно вовсе не походило на те любовные объяснения, которые мне случалось встречать в романах и которые всегда казались мне немножко напыщенными… Впрочем, прилагаю тебе копию с него — и ты можешь судить сама. Мне стало жаль моего бедного преследователя… Весь этот день я продумала об нем. Когда приехал жених, я была рассеянна, отвечала невпопад на все его вопросы и, наконец отговорившись головною болью, ушла к себе в комнату раньше обыкновенного. Там я опять принялась перечитывать это письмо… Я ощущала при этом какое-то невыразимо приятное чувство, которое я не в силах растолковать тебе; мне нравилось вникать в эти строчки, придавать им особенный, загадочный смысл и по ним создавать себе биографию лица, писавшего их. Каких романов я только не придумала! Наконец мне самой стало это смешно… Я оставила письмо и раскрыла первую попавшуюся мне под руку книгу… Это был «Вертер», Гёте, по-французски. (Мне подарил его мой жених вместо кипсека {10}, потому что тут превосходные картинки.) Никогда еще не читала я с таким жадным наслаждением этих страстных, восторженных страниц…
Чувствую, что ты будешь бранить меня, назовешь легковерной, мечтательницей, une tête exaltée [18]; но, несмотря на это, продолжаю. Я хочу, чтоб ты знала все… Побереги же свои упреки: им еще будет место.
Это был только пролог, моя добрая Аннета,— на другое утро начался самый роман…
Папенька, по обыкновению, отправился в должность. Не прошло часа после его ухода, как мне докладывают, что он прислал из департамента какого-то чиновника за очками. Я думала, что, может быть, очки в самом деле остались дома, тем более, что папенька поздно встал и очень торопился. Я велела попросить чиновника в залу… Представь себе мое удивление, мое замешательство, когда я увидела перед собой его… моего преследователя! Меня рассердил поступок его, и я намерена была произнесть что-то очень грозное и самым повелительным тоном, но необъяснимая робость напала на меня — и как ты думаешь, чем разразился мой гнев?.. Тем, что я пробормотала: «я поищу очков» и бросилась было вон из комнаты, но он стал у дверей, схватил меня за руку и дрожащим, едва слышимым голосом стал мне говорить, в чем дело… Если бы ты видела его в эту минуту, Аннета! Он был бледнее этой бумаги, на которой я пишу к тебе. Я испугалась, взглянув ему в лицо, не помню, что отвечала и даже отвечала ли, но… он бросился на стул и зарыдал. Да, милый друг мой, Аннета, он плакал!.. Я в первый раз видела мужчину плачущего… и еще как! Это не могло не подействовать на меня… Скажи мне, что бы ты стала делать на моем месте? Я нашла самым лучшим — принесть ему воды и утереть его слезы своим платком. Сострадание к нему вытеснило в эту минуту все другие чувства из моего сердца. Я не в силах была рассуждать, мне было его так жаль, так жаль… Он, верно, прочел на лице моем это сожаление, потому что взор его выражал бесконечную благодарность. Он горячо целовал мои руки, шептал какие-то бессвязные, непонятные полуфразы… Я не могу понять, Аннета, как можно влюбиться так с одной встречи! Где-то читала я, что самая сильная любовь та, которая родилась беспричинно, вдруг… Правда ли это? Но, может быть, такая любовь зато и проходит скоро… Когда он пришел немножко в себя, я просила его уйти, потому что папенька мог воротиться. Он отвечал мне, что не уйдет, пока я не назначу ему свидания… и несколько минут продолжал неотступно просить об этом. Наконец, чтобы отделаться от него, я согласилась. В это время папенька был уже на лестнице, и я поскорей толкнула моего влюбленного в коридор, который ведет на черный выход. Вижу… вижу, какое строгое выражение принимает лицо твое при чтении этого письма, бесценный друг мой, Аннета! Вижу, как ты покачиваешь головой и готовишься отечески, любовно пожурить меня… «Надеюсь, ты не была на этом свидании?» — скажешь ты мне… О! ради бога, не брани, не обвиняй меня! Знаю, что рассудок должен был запретить мне идти, но я не в силах была посоветоваться с рассудком, а если б и посоветовалась, то все-таки не послушалась бы его, я могла повиноваться только сердцу, а оно говорило мне: «Иди, хоть для того, чтобы узнать, не болен ли он после вчерашнего волнения!» Я пошла и всей душой желала, чтоб он был там… Если б он не пришел, я бы все думала, что́ с ним сделалось? может быть, он умирает, и тайно мучилась бы, не имея об нем никаких известий… Я не знала и до сих пор не знаю, кто он, где он живет. Однако ж он явился; казалось, он был очень счастлив… но я тотчас разрушила это мгновенное счастье: я рассказала ему откровенно всю свою историю и потребовала, чтоб он не преследовал меня больше… Я видела, как тяжело ему было дать мне это обещание; но он дал его… Выслушав рассказ мой, он понял, что иначе не может, не должно быть. Он очень робок, застенчив; я удивляюсь даже, как у него достало твердости на это романическое похождение с очками… И зато слезы его показали, что ему это стоило! Он сказал мне, что никогда еще не любил, что ведет уединенную жизнь, что он чувствует себя не созданным для света и ни одна из тех женщин, с которыми он сходился, не нравилась ему… Мне кажется, он не мог лгать… В нем есть какое-то добродушие, какая-то задушевность, заставляющая верить на слово и невольно располагающая к нему…
На другой же день после нашего свидания я получила от него записку, в которой он говорил, что уезжает отсюда и, может быть, навсегда. Перед отъездом он хотел видеть меня еще раз и умолял прийти опять туда же.
В этот вечер был у нас жених мой. Анисья вызвала меня жестами из другой комнаты и подала эту записку… Я сказала папеньке и жениху, что пойду к себе в комнату написать письмо к тебе, Аннета, а сама ушла на это последнее свидание. Он ждал меня. Получив известие из провинции, что мать его больна, он решился ехать к ней… Я спросила его, зачем же он писал мне, что едет навсегда, и из ответа его поняла, что это жертва, которую он приносит мне, моему спокойствию: он чувствовал, что, оставаясь здесь, не в силах будет исполнить своего обещания…
Я не знала, что думать об этом человеке. Он жертвует всем для женщины, которую видел всего два раза?.. Или он обманывал, надеясь тронуть меня, или в самом деле это глубоко любящая натура, которая для счастья любимого существа способна отречься от своего собственного счастья… Во мне есть какое-то тайное, необъяснимое убеждение, что он не лгал, что он в самом деле уехал. Вот уже два месяца, как я нигде не встречала его. Может быть, я никогда не встречу его больше, никогда не узнаю, что это был за человек… Странный эпизод в моей жизни, неправда ли, Аннета? Теперь я замужем; муж очень любит меня; он ласков, предупредителен со мной, исполняет, угадывает все мои желания; старается всеми силами, чтоб я как можно больше веселилась, потому что скука, по его мнению, причиною всех супружеских несчастий. Он и не подозревает, как скучны все эти удовольствия, которые он так заботится доставлять мне! Если бы он знал, как бы я ему была благодарна за несколько часов дружеского, откровенного разговора, за какую-нибудь хорошую книгу, прочитанную друг другу вслух, за переданное или разделенное впечатление! Но, увы! С тех пор как я замужем, мы еще, кажется, ни одного вечера не были дома. Знакомые Бориса Михайловича — так зовут моего мужа — приглашают нас к себе наперерыв и сами ездят к нам с визитами. Этими знакомыми нужно дорожить: они все люди полезные… Борис Михайлович даже находит их очень милыми.
По утрам муж мой в должности, в разъездах по разным делам, и возвращается только к обеду. За обедом или после обеда он рассказывает мне разные городские сплетни, а вечером мы куда-нибудь едем… Так проходят все дни наши. Когда я остаюсь одна, на меня часто находит какая-то хандра; не хочется ни за что взяться, шитье валится из рук, начну читать — ничего не понимаю. Не знаю, чему приписать это — расстроенным ли нервам или непривычке к своему новому положению. И бог знает о чем я думаю… Сама не могу дать себе после отчета. Мысли без связи, без последовательности, сменяют одна другую в голове. Часто вспоминаю я о своем детстве, о нашей пансионской жизни; о тебе почти всякий день! Как бы дорого я дала, чтоб ты теперь была подле меня, чтоб я могла обнять тебя, прижать к своему сердцу! Многое хотела бы я тебе еще высказать, чего невозможно передать в письме… Не приедешь ли ты к нам погостить, Аннета? Неужели ты не можешь хоть на один только месяц покинуть своих воспитанниц? Им приищут на это время другую гувернантку…
Папеньке тоже очень хочется тебя видеть. Он приезжает к нам через день обедать и скоро совсем переедет, потому что хочет продать свой серенький домик, в котором одному ему скучно. Каждый раз он осведомляется, не имею ли я от тебя известий… Помнишь, как он, бывало, поручал тебе смотреть за мной, чтоб я не баловалась и не шалила, когда ты по праздникам приходила к нам из пансиона? Он и теперь часто повторяет: «Аннета славная была девушка, скромная, солидная. Дай бог ей счастья!» Дай бог тебе счастья! — это и мое искреннее, горячее желание: будь счастлива и не оставляй твоей старой подруги, которая так часто нуждается в твоих советах, в твоей помощи…
Недавно как-то папенька заехал ко мне совсем неожиданно, утром, и попал на одну из этих минут безотчетной тоски, одолевающей меня по временам, как я уже тебе сказала. Ты не можешь представить себе, как я была рада его приезду! Я с восторгом кинулась ему на шею и прижалась к груди его… Я знала, что подле моего сердца бьется в эту минуту другое, горячо любящее меня, и мне стало так легко, так отрадно… Радостные слезы полились у меня из глаз. Папеньку удивило это; он сжал мои руки, крепко поцеловал меня и спросил, что значат эти слезы, эта бледность, это изнеможение на лице моем? Я напрасно старалась убедить его, что это ничего больше, как раздражительность нервов. Он сомнительно качал головой и требовал, чтоб я откровенно сказала ему, не несчастлива ли я, не огорчает ли меня чем-нибудь муж. Я поспешила его разуверить, отвечала, что муж мой превосходнейший из людей, и дай бог, чтоб все мужья были таковы, но что мне просто вдруг сделалось скучно — сама не могу понять отчего.
«Это романы, романы все! — произнес со вздохом папенька, погрозив мне пальцем,— они вас, молоденьких бабенок, с толку сбивают!» И вслед за этим прочел мне целую тираду о назначении и обязанностях женщин, которую опять завершил крепким и звучным поцелуем.
Эта тирада, нужно признаться, была не совсем кстати… и даже несколько неосторожна: никто не сознает лучше меня обязанностей женщины, и мысль о борьбе с ними не приходила мне в голову…
Когда возвратился домой муж, папенька сказал ему, что я без него скучаю, и советовал реже оставлять меня одну… Борис Михайлович был, кажется, очень доволен первым, и дал слово с неделю не ездить по делам, рапортовавшись больным. Это в самом деле превосходный человек; любит он меня без памяти; нет, кажется, жертвы, которую бы он не был готов принесть мне; я бы должна быть очень счастлива… что я говорю… но разве это в самом деле не так?.. разве мне недостает еще чего?.. Отчего же так ноет мое сердце? Отчего эти тоскливые дни, эти бессонные ночи?..
Если б ты знала, какие я все вижу сны, Аннета! Каждый раз он (ты понимаешь, о ком я говорю) является мне. Еще вчера мне снился опять тот сад, где было наше свидание… Я углубилась в самую густую аллею; вдруг кто-то схватил меня за руку… я вскрикнула. В эту минуту тучки, закрывавшие месяц, рассеялись, и он осветил знакомое лицо… Это он стоял передо мной — грустный, задумчивый, как тогда. Он посмотрел на меня и тихо сказал: «Ты требовала, чтоб я уехал для твоего спокойствия. Я исполнил твою волю. Скажи же мне, скажи искренно, ничего не тая от меня, была ли ты без меня спокойна, счастлива?..» Я дрожала от волнения и страха, хотела отвечать, но не могла: слова замирали у меня на губах, слезы готовы были брызнуть из глаз. Он обнял меня, и я почувствовала на щеке страстный, жаркий поцелуй…
Я проснулась и долго еще не могла опомниться: сердце мое сильно билось, голова горела. Этот сон не выходил у меня из головы целый день. У меня явилось невыразимое желание увидеть еще раз этого человека… я любила его в этот день, я это чувствовала. Несколько раз вынимала я его письма и с жадностью перечитывала их, обливала слезами. «Сумасшедшая!» — скажешь ты… Да, мой друг, мне кажется самой, что я до сих пор в каком-то болезненном припадке… Когда вернулся домой Борис Михайлович, мне было стыдно смотреть на него, как будто я сделала какое-нибудь преступление: я покраснела до белков, когда он, по обыкновению, подошел поцеловать меня.
Долго ли еще будет длиться это мучительное, невыносимое состояние?.. Если б у нас была деревня, я попросила бы мужа увезти меня; может быть, чистый деревенский воздух принес бы мне пользу, освежил бы мою обезумевшую голову… Я езжу по вечерам и балам, чтоб развлечься, но смертельная скука находит на меня и там… Раз в неделю я слушаю оперу, и это еще доставляет мне всего более наслаждения: неопределенность музыки дает возможность подлаживать под нее всякое ощущение…
Вот уже два дня, как муж мой не ездит в должность и сидит со мной. Наскучив болтать о разных городских новостях, о разных историях, случившихся в свете, который вовсе меня не интересует, я предложила как-то Борису Михайловичу сыграть ему что-нибудь из Мейербера или Россини… {11} Он с удовольствием принял мое предложение и, закурив сигару, расположился на диване слушать. Я едва была на половине пьесы, как он уж заснул. В другое время я, может быть, рассмеялась бы и, не обращая внимания, продолжала бы играть; но на этот раз я с сердцем встала из-за фортепьяно и ушла к себе в комнату. Не поверишь, как я стала с недавних пор раздражительна: не знаю сама от чего; каждая малость, каждая неловкость моего мужа бесит меня. Некоторые привычки его, на которые я прежде смотрела совершенно равнодушно, кажутся мне теперь смешными, безобразными. Он замечает мои капризы, мою неровность и, к чести его должно сказать, сносит их с истинно британской флегмой. Иногда мне становится совестно за себя, а иногда его хладнокровие сердит, оскорбляет меня: мне кажется оно пренебрежением ко мне. Он как будто считает меня недостойною внимания, думаю я, как будто хочет сказать: ну, что с ней спорить? сумасбродная женщина! ребенок! всего лучше оставить ее в покое; сама уймется!..
На другой день после того, как он заснул под музыку, мы опять сидели вдвоем, и Борис Михайлович, вероятно, желая угодить мне, взял с этажерки Пушкина и начал читать вслух. Для меня нет наказания хуже, как слушать человека дурно читающего. Нужно было слышать, что сделал Борис Михайлович с чудным, гармоническим стихом Пушкина! Вообрази себе, Аннета, он никак не может соблюсти метра и беспрестанно ставит ударение не на том слове, где следует. То есть, в нем решительно нет никакого поэтического чувства! Досталось же от него бедному Пушкину! Я не могла этого вынести, взяла из рук его книгу и сказала, что не лучше ли ему идти к себе в кабинет и читать дело, из которого ему велели составить экстракт: это будет для него интереснее и полезнее. А как он занят собой, если б ты знала! Сколько времени он каждый день стоит перед зеркалом! Право, его туалет длится гораздо дольше моего, и не муж меня ждет, а я должна ждать его, когда мы собираемся ехать куда-нибудь вместе.
Слышу, что ты говоришь мне: «Должно быть снисходительнее к этим мелочам, особенно в муже: у каждого есть свои недостатки… и на солнце есть пятна…»
Знаю, мой друг, знаю и верю, что муж мой est un exellent homme au fond… [19] Мне самой больно и досадно на себя, что я стала такой капризной, сварливой, придирчивой! Но как же быть мне? Как освободиться от всех этих качеств, не только неприятных, даже отвратительных в женщине? Куда бежать от гнетущей меня невыносимой тоски?.. Ради бога, подай мне совет, мой единственный, мой добрый друг, Аннета! Умоляю тебя, пиши ко мне скорее, что ты думаешь обо всем этом. Не заставь меня долго ждать, не заставь сомневаться в твоей готовности помочь мне. Каждая минута ожидания будет для меня веком. Любящая тебя беспредельно
В е р а.P. S. Когда я прочла это письмо, я увидела, как оно длинно и как бессвязно. Я писала его в несколько приемов. Меня не раз отвлекали от него, и потому ты простишь меня… Боюсь одного, разберешь ли ты, будешь ли ты иметь терпение докончить это маранье…»
Письмо Василия Михайловича к Околесину.
«Пишу тебе немного, любезный мой Околесин, потому что скоро надеюсь сам увидеть тебя. Матушка, как тебе уже известно, скончалась, и мне нечего больше делать здесь; однако ж и в Петербурге намерен пробыть недолго. Я писал уже тебе, что я сошелся здесь с одним добрым, прекрасным человеком, в семействе которого жила моя матушка, и был принят как родной. Это старик Т***. Он недавно получил наследство на юге, в Малороссии, и предлагает мне ехать с ним туда, в качестве домашнего учителя его маленьких сыновей, и так же для того, чтоб помогать ему, сколько могу, в управлении имением. Я принял это предложение с охотой, хотя на последнее дело не чувствую в себе большой способности. Я это сказал ему; он отвечал, что если это мне наскучит, то он тотчас же оставит меня в покое, и только умолял не отказываться ехать с ним. Он очень меня полюбил, не знаю за что. Это редкий старик: несмотря на то, что ему скоро пятьдесят лет, душа его сохранила много юношеского, много теплоты и сочувствия ко всякому благому делу. Жена у него — простая, добрая женщина, которую муж далеко опередил в образовании, но у которой есть верный женский инстинкт, умеющий отличать истину и многое заменявший ей в жизни. Существо в высшей степени любящее, она посвятила себя воспитанию своих детей, и стоит только взглянуть на них, чтоб тотчас же понять, что воспитание их слишком разнится от того, которое дается в большей части русских семейств, особенно живущих по деревням и в провинции. Нужно было видеть, как эти превосходные люди приняли горячо к сердцу мое горе. Правда, они сами все очень любили мою покойную матушку. Жена Т***, еще до своего замужества будучи очень бедной девушкой, сиротой, познакомилась с матушкой, жила у ней и была ей несколько обязана. С тех пор они постоянно находились в самых дружеских отношениях. Воспитанница Т***, Катенька Горева, резвая пятнадцатилетняя девушка (я и забыл тебе сказать о ней), находящаяся у него под опекой, также обнаруживала к матушке во все продолжение ее болезни самую нежную заботливость, самое непритворное участие. Она не отходила от постели больной, подавала ей лекарства, старалась утешать ее и развлекать веселыми росказнями. Катеньку нельзя было узнать во все это время; она так умела переломить свой бойкий, веселый характер, что я удивился ее твердости. Обыкновенно она прыгает, скачет, хохочет без умолку, дразнит попугая или собаку — словом, шумит с утра до ночи. Недели за две до матушкиной кончины ее вдруг стало вовсе не слышно: она совершенно притихла, и по целым часам сидела за книгой или пяльцами. Когда матушка умерла, она плакала о ней, как можно только плакать о самом близком существе. С этих пор я помирился с Катенькой; но прежде она решительно надоедала мне: бывало, не даст ничем заняться, непременно постучится в дверь и вбежит под каким-нибудь предлогом; то ей нужно карандаша, то она забыла свои часы завесть и пришла посмотреть сколько на моих, то просит книжку почитать и непременно стихов, которые она потом заучивала наизусть и пресмешно декламировала мне. Не знаю почему, но в присутствии этого ребенка робость моя совершенно исчезает: я забываю, что я с глазу на глаз с женщиной, сам шучу и болтаю разные пустяки. Это, я думаю, именно оттого, что она еще ребенок. Опека ее кончится не прежде, чем через полтора года. Богатая невеста будет… Я думаю, женихи не заставят ждать себя, особенно если ее перевезут в Петербург.
Итак, друг мой Околесин, мы скоро увидимся… Ты ведешь теперь уже не ту безалаберную, кочующую жизнь, какую вел, когда мы расстались: ты женат, несмотря на свой скептицизм в отношении к прекрасному полу, и, как из письма твоего видно, доволен своей участью. Завидую тебе, тысячу раз завидую. Я бы тоже был доволен своим теперешним существованием и не прочь бы остаться в этом городке, где нахожусь, если только подле меня так же было постоянно любящее, милое моему сердцу создание… Но, видно, этим мечтам не суждено перейти в действительность!.. А что-то делает моя незнакомка? Она тоже, может быть, замужем, и почти наверное. Счастлива ли она? Оставил ли в ней наш трехдневный роман хоть маленький след, хоть какое-нибудь воспоминание?.. Иногда я целые дни просиживаю в раздумье об ней. Кажется, мне никогда не забыть этого светлого, грациозного образа, на миг озарившего светом любви мое бедное, темное существование… Тоска нестерпимая находит на меня по временам… Боже мой! Если б я мог еще раз встретить ее, когда вернусь в Петербург! Едва ли… Я пробуду там не более недели и притом я связан словом, дал обещание — не стараться даже видеть ее. Я выезжаю отсюда через неделю, несколькими днями раньше семейства Т***, которое хочет еще заехать по дороге куда-то в деревню, к каким-то родственникам. Мы сойдемся в Петербурге и отправимся все вместе. Прощай, мой любезный и добрый друг. Нетерпеливо жду минуты, когда опять пожму тебе крепко руку.
Преданный тебе навсегда и всем сердцем
Василий Ломтев».V Маскарад
В Большом театре давали «Соннамбулу» {12}, эту оперу влюбленных и мечтателей по преимуществу, где душа чахоточного маэстро, кажется, вылилась вся в страстно-меланхолических звуках. Хотя уже не было магического, глубоко-потрясающего голоса Рубини {13}, но знаменитое questo pianto [20] не утратило своего влияния на слушателей и отдавалось страшным, глухим рыданием в их замирающих сердцах… Василий Михайлович, только что возвратившийся из провинции, тоже сидел в креслах. Он внимательно слушал беллиниевскую музыку, но глаза его смотрели на сцену: через несколько кресел от него в бенуаре сидели две женщины, одна пожилая, другая очень молоденькая. Первая, казалось, очень мало обращала внимания на то, что происходило на сцене, и то и дело наводила огромную костяную трубку на разных зрителей, помещавшихся в партере, преимущественно же на эполеты. Вторая, напротив, не спускала со сцены глаз и сидела неподвижно, подперев щеку рукою. Одета она была очень просто, и простота эта еще рельефнее выдавалась подле вычурного, безвкусного наряда ее приятельницы, которой короткие рукава и открытый лиф обнаруживали не совсем роскошные, не поражавшие особенной белизной руки и плечи. На молодой женщине было розовое шелковое платье, robe montante [21]; чепчик с белыми лентами сидел так кокетливо на голове ее и отличался необыкновенной грациозной и легкой формой. На плечах у нее накинута была черная бархатная мантилья; белая лайковая перчатка обтягивала маленькую ручку, державшую золотую с эмалью лорнетку. На эту-то женщину устремил Василий Михайлович пристальный неподвижный взгляд, и по выражению лица его можно было заметить, что созерцание это не только не мешает ему слушать музыку, но что каждый аккорд, каждая нота глубоко вонзаются в его сердце и причиняют ему какую-то сладостную боль…
Василий Михайлович узнал в молодой женщине Верочку. Он не искал этой встречи: должен ли он был видеть в этом какое-то таинственное предопределение и, уступив влечению страсти, изменить своему обещанию, подойти к этой женщине, заговорить с ней, напомнить о себе или бежать вон из театра, пока она не заметила его?.. Как человек слабый, без воли, Василий Михайлович не решился ни на то, ни на другое, а выбрал среднее, т. е. решил не заговаривать, но и не уходить из театра.
Занавес упал при громких криках и аплодисментах густой толпы. Василий Михайлович один сидел в прежнем положении. Верочка обернулась в его сторону; глаза ее рассеянно скользили по лицам, ее окружавшим, и вдруг остановились на нем: она узнала его… Румянец вспыхнул на щеках ее; она быстро отвернулась по какому-то невольному, инстинктивному движению и заговорила со своей соседкой… Я бы желал подслушать, что говорится в подобных случаях: это очень любопытно… Верочка сказала, может быть, что «Соннамбула» прекрасная опера или что в театре чрезвычайно жарко. Соседка ее, казалось, не сочла слов этих даже достойными ответа, потому что кивнула ей слегка головой и продолжала смотреть на шумный партер.
«Она даже не поклонилась мне! — подумал Василий Михайлович,— ее рассердило мое появление… не уйти ли?..»
И между тем взоры его как будто были прикованы к Вере Николаевне: он уже не видел лица ее, потому что она встала и, повернувшись к партеру спиной, начала разговаривать с каким-то молодым человеком в палевых перчатках и круто завитым, который только что вошел в ее ложу.
Василию Михайловичу сделалось досадно, зачем она разговаривает с молодым человеком… «Впрочем, может быть, это муж!» — произнес он про себя и тотчас же устремил на него свою маленькую черную трубку.
«Что ж? — продолжал он внутренно рассуждать сам с собой.— Он молод, хорош… только, кажется, должен быть фертик такой; едва ли он сделает ее счастливой… Странно, однако ж: она описывала мне его на первом свидании нашем человеком солидным, деловым, а это фигура вовсе не делового человека…»
Тут у Василия Михайловича явилась мысль узнать, как фамилия Верочкина мужа, и он потихоньку, осторожно пробравшись по своему ряду и несколько раз извинившись, хотя ровно никого не задел, отправился в кассу. Во все время, пока он шел к выходу, не спускал он глаз с заветной ложи. Василий Михайлович страх боялся, чтобы Вера Николаевна как-нибудь не уехала, пока он пойдет осведомляться о ней… Ему так хотелось хоть один раз еще полюбоваться на это милое личико!..
«Подожду только, пока она обернется,— уверял он себя в продолжении всего спектакля,— взгляну на нее еще и потом сейчас же уеду…»
Она обертывалась, он глядел — и потом опять оставался.
В кассе сказали Василию Михайловичу, что эта ложа взята баронессой Г***.
«Баронессой Г***,— повторил Василий Михайлович, возвращаясь к своему креслу.— Так вот оно как — баронесса!.. Может быть, оттого-то она и не поклонилась… Боже мой! Неужели в этом светлом, в этом прелестном создании столько мелочного тщеславия?.. Нет, не верю, не верю! Она просто меня не заметила, не узнала…»
Все это, однако ж, весьма грустно настраивало Василия Михайловича. Он погрузился еще в бо́льшую задумчивость и, слушая «Perche non posso odiar ti» [22], чуть не плакал.
По окончании оперы Василий Михайлович пошел за Верой Николаевной и ее приятельницей на подъезд, закрыв себе лицо воротником шинели, так что его нельзя было узнать. Он поместился за колонной позади обеих женщин, с намерением шмыгнуть к дверям, когда закричат карету баронессы, чтобы в последний раз взглянуть хоть на профиль Верочки.
В ожидании кареты между дамами завязался разговор. Василий Михайлович прислушался.
— Вы заедете за мной завтра? — сказала Верочка, обращаясь к своей спутнице.
— Непременно. A quelle heure irons nous? [23]
— A quelle heure ça commence? [24]
— Да, кажется, в 11. Аллегри {14} будет разыгрываться в 12. Я приеду в половине первого.
— Хорошо. Я буду ждать.
— Et votre mari? [25] Неужели и он с нами?
— Нет, он не любит… Да бог знает зачем и я еду… если бы не вы…
— Уж я ручаюсь, что вам будет весело.
— Еще, может быть, я передумаю…
— Ну, вот! Нет, вы непременно должны ехать, вы дали слово… не то j'enlève votre mari [26], чтоб не входить одной.
— Пожалуй… et puis je me sens mal aujourdhui… [27]
— Э! Это пройдет…
— Карета баронессы Г***! — раздался голос жандарма.
— Allons, allons [28],— сказала Верочка, схватив свою спутницу за руку и таща ее к дверям.
Верочка прошла мимо Василия Михайловича, не заметив его.
Он вышел вслед за ней и побрел домой. Василий Михайлович только утром того дня возвратился в Петербург. Он остановился уже не на Острову, а в одном отель-гарни {15}, в котором еще прежде нанимал комнату. Он думал было воспользоваться приглашением Околесина и остановиться у него, но, вспомнив, что тот женился и что, следовательно, ему придется быть постоянно в женском обществе, струсил и отправился к своей прежней знакомке, отдававшей внаймы нумера. Притом же он думал, что, может быть, это приглашение Околесина было только обыкновенной учтивостью и что присутствие постороннего лица может стеснить женатого человека. Вследствие всех этих рассуждений он положил не переезжать к Околесину, но через два часа после приезда пошел к нему повидаться. Околесина не было дома. Василий Михайлович не велел человеку говорить о себе, намереваясь на другой день опять зайти к своему приятелю. Завернув на обратном пути в кондитерскую, он увидел на афише, что итальянцы поют вечером «Соннамбулу», и как эта опера была одной из любимых его опер — он даже играл из нее лучшие места на скрипке,— то и решился ее послушать. Как назло, билетов в галерею пятого яруса, куда Василий Михайлович обыкновенно отправлялся, не оставалось уже, и он принужден был взять себе кресло. Застань он Околесина дома, он, верно, пригласил бы его вечером, и Василий Михайлович вовсе не пошел бы в театр. Найди он билет в галерею, он не увидел бы Верочки. Известно, что холодность любимого предмета, так же как и всякие другие препятствия, только сильнее воспламеняет человека и делает его способным на такие похождения, на которые бы он, при обыкновенном ходе вещей, никак не отважился. Так случилось и с Василием Михайловичем: ему страх захотелось узнать — отчего ему не поклонилась Верочка… Если она сердится на него, думает, что он обманул ее и вовсе не уезжал, то следовало оправдаться. Если она просто не заметила его, то все-таки он бы очень желал знать, как бы она поступила в таком месте, где бы нельзя было не заметить его… Нужно еще как-нибудь встретиться с ней… Василий Михайлович никогда не ходил в маскарады, и уж одна мысль о белых перчатках, которые нужно было для этого натягивать, о живой и, вероятно, весьма насмешливой болтовне масок, которые решительно поставили бы его в тупик, если б вздумали с чем-нибудь адресоваться к нему,— одна уже эта мысль бросала его и в жар и в холод. Но на этот раз Василий Михайлович начал колебаться, не идти ли ему в маскарад, начал задавать себе вопрос: имеет ли он право быть в маскараде, он, пренебрегающий светскими наслаждениями, и не оскорбит ли уже одна его смиренная, меланхолическая фигура веселой толпы, стремящейся в маскарад, чтобы позабыть, посреди интриг и интрижек всякого рода, все маленькие и большие житейские неприятности, все скучные и серьезные дела?.. Долго, подобно Гамлету, задавал он себе классический вопрос — быть или не быть, и не мог решиться. Он сделал карандашом на клочке бумаги расчетец, во что может стоить ему этот вечер, с извозчиками и с покупкой белых перчаток, и увидел, что сумма денег, потребных на все издержки, не выходила из пределов возможного, придумал несколько весьма удачных фраз, которые бы он отпустил, если б к нему подошли какие-нибудь резвые маски с обычным приветом: «Я тебя знаю», взвесил все шансы pro и contra, и, однако ж, все еще не чувствовал в себе довольно сил, чтоб разрешить трудную задачу, чтоб произнесть окончательно: да или нет!.. Нужно было для этого другое, постороннее беспристрастное лицо; это лицо он нашел в хозяйке своей, добрейшей немке. Да не подумает кто-нибудь, что он поведал ей все тайны своего сердца — нет! он сделал ее только орудием жребия, глашатаем его воли, т. е. дал доброй немке в руки три конца своего красного носового футляра, на одном из которых завязан был узелок, и, зажмурившись, дернул…
Узелок означал да, и Василий Михайлович, выдернув его, решился ехать.
В каком-то опьянении, не помня сам себя, купил белые перчатки, подстриг и немного подвил свои волосы и, проходив два часа по Невскому, возвратился к себе домой. Тут раздумье взяло его снова…
«Зачем я иду? — спрашивал он сам себя.— Я не увижу ее, если она и будет там: маска скроет от меня прелестные черты ее. А если она сама подойдет ко мне, заговорит со мной… О! за один час разговора с ней я готов пожертвовать всем — не только какими-нибудь привычками, но и всей жизнью моей!.. Да, я не верю, чтоб она заметила меня в театре… Может быть, она позволит мне явиться к ней… может быть, позволит мне называться ее другом? Разве этого уже не довольно? Разве для этого я не готов отказаться от поездки своей?.. Да! Решено. Я буду, я должен быть там…»
В одиннадцать часов Василий Михайлович был уже в маскараде.
Он пришел очень рано; в зале прохаживались только несколько масок, с которыми, покручивая усы, любезничали черкесы. Василию Михайловичу сделалось очень скучно; он сел и, убаюканный звуками военного оркестра, погрузился в мечты. «Каким образом мне узнать ее, когда она войдет? — думал он.— Правда, их войдут две… но ведь мало ли масок входят по две?.. Мне кажется, сердце должно подсказать мне… и притом ее ручка не имеет себе подобных… Я сейчас же узнаю эту дивную ручку… Боже мой, как быстро, однако ж, прибывает народ!.. Ну, что, если эта зала наполнится вся?.. Меня опять могут не заметить в толпе… Зачем я пришел сюда?..»
Зала, действительно, с каждой минутой наполнялась все больше и больше. Маскарад начинал оживляться. Повсюду смех, шум, говор… Василий Михайлович был выведен из задумчивости довольно забавным, хотя и очень коротким разговором, происходившим у него под самым носом. Какой-то смуглый, черноволосый молодой человек, в очках, с добродушной, открытой физиономией, и толстый не по летам, прохаживался один, заложив правую руку за свой белый жилет и беспрестанно кивая головой разным знакомым, которых у него оказалось гибель. Вдруг какая-то маска в довольно изящном домино, но с морщинистой и набеленной кожей на полуоткрытом лбе, тихонько ударила его сзади по плечу и произнесла:
— Я тебя знаю…
Толстый молодой человек посмотрел на нее и очень серьезно отвечал:
— Это не делает тебе чести, потому что я незнаком с порядочными женщинами.
Маска отошла, пробормотав: «Mauvais sujet» [29], при общем смехе окружавших молодого человека приятелей… Василий Михайлович тоже рассмеялся и, поднявшись с места, пошел бродить, стараясь по каким-нибудь признакам узнать ту, для которой пришел, и мимоходом подслушивая отрывистые, летучие фразы. Он обошел два раза вокруг залы и уже хотел подняться наверх, чтоб посмотреть, что делается в фойе, как столкнулся с Околесиным, который влек за собой маску в голубом атласном домино…
— Боже мой, Ломтев! — воскликнул Околесин остановись.—Вот забавно! Да как ты здесь? Давно ли приехал?..
Маска между тем лорнировала Василия Михайловича, который совсем сконфузился…
— Да… я вчера только приехал; я был у тебя, но не застал дома…
— Заходи завтра, пожалуйста, да только вечером: по утрам меня не бывает… До свидания… Встретимся еще?
Эти последние слова Околесин произнес, уже отойдя от своего приятеля на несколько шагов и делая ему рукой прощальный жест…
«Это, верно, жена его,— подумал Василий Михайлович,—должно быть, очень хорошенькая, сколько можно судить по нижней части лица… и такая стройная талия… Счастливец. Околесин!»
Василия Михайловича опять начала одолевать хандра, и он решился, пройдя раз по фойе, отправиться домой.
На площадке было рассеяно несколько групп… Какие-то две маски очень маленького роста, схватив под руки белокурого юношу с миниатюрной, сладенькой физиономией и которого они называли Колей, бежали к буфету.
— Дай мне лимонаду, Коля! — пищала одна.— Я так вспотемши!..
— А мне яблока, Коля! — говорила другая…
Какая-то маска, довольно плотного и, должно быть, весьма сантиментального свойства, таща за собой молоденького моряка, которого
…ланиты Едва пух первый оттенял,говорила ему жеманно и нараспев:
— Я вижу, воспитанник бури, что сердце твое еще не испытывало любви?..
Молодой человек, казалось, не совсем довольный эпитетом воспитанника бури и, заметив на губах Василия Михайловича, шедшего подле них, улыбку, от которой тот не мог удержаться при словах маски, сказал:
— Убирайся ты, маска, со своей чепухой…
— Ах, боже мой! — возразила маска, закрываясь в порыве стыда рукой.— Какой недоступный…— И потом, устремив на Василия Михайловича сладкий взор, прибавила что-то, как будто мимоходом…
Василий Михайлович, как видно, не чувствовал большого расположения продолжать разговор и повернулся было к дверям, как вдруг черное домино с пунцовыми лентами взяло его за руку и тоненьким, едва слышным голосом сказало:
— Пойдем в залу… здесь холодно… я хочу говорить с тобой…
Сердце Василия Михайловича сильно забилось. «Это она,— подумал он,— непременно она: как она ни старается переменить голос, я узнаю ее».
— Тебя давно не было видно,— сказало домино, когда они пришли в залу.— Правда ли, что ты был влюблен?..
— Может быть,— отвечал смущенный Василий Михайлович,— только «был» тут не нужно.
— А! Ты влюблен до сих пор? Это, впрочем, немудрено было отгадать по твоему грустному виду: ты бродил целый вечер один, бледный, как статуя командора.
— А вы меня давно заметили?..
— Во-первых, в маскараде не говорят вы… Пари держу, что ты не любишь маскарадов, никогда не бываешь в них и сегодня пришел, потому что она назначила тебе здесь rendez-vous?
— Первое справедливо: я не люблю маскарадов; но свидания не назначал мне никто…
— Зачем же ты пришел сюда?..
— Надеюсь ее встретить…
— Но как же ты узнаешь ее под маской?..
— Я и сам не знаю… Какой-то таинственный голос шептал мне: «Иди, ты увидишь ее…» И я решился пойти…
— Вы давно не видались?
— Давно… потому что меня не было в Петербурге.
— А! Ты уезжал! Я предчувствую, что тут целый роман. Знаешь ли, я большая мечтательница и люблю создавать себе разные романы. Иногда мне случалось угадывать… Посмотрим, не угадаю ли я теперь. Та, которую ты любишь — девушка…
— Первая ошибка! Теперь она замужем.
— Ну, верно, была еще девушкой, когда ты влюбился в нее?
— Да…
— Какие-нибудь обстоятельства разлучили вас… воля родителей, может быть, недостаток состояния с чьей-нибудь стороны…
— Этот роман случается слишком часто, однако ж это не мой роман. Препятствия были, но она сама причиной их…
— Так это любовь безнадежная… она не любит тебя?
— Не знаю. Впрочем, на что вам… на что тебе знать все это?
— Может быть, я могу помочь тебе… Я страсть как люблю помогать влюбленным… Скажи же мне, отчего ты уезжал…
— Оттого, что меня призывали домашние дела.
— Так не любовь заставила тебя уехать?
— Поводом к этому была не любовь, но я ухватился за случай и хотел вовсе не возвращаться сюда или возвратиться только тогда, когда пройдет эта любовь, чтоб не нарушить спокойствия любимой женщины…
— Однако ж ты возвратился… Я не могу понять тебя… если ты возвратился, значит — любовь твоя прошла, а ты мне сказал уже, что ты влюблен до сих пор.
— Я здесь только на несколько дней и потом навсегда или, по крайней мере, очень надолго уеду опять…
— Она знает, что ты здесь?
— Нет, и дай бог чтоб не узнала!.. Я уже раскаиваюсь, что пришел сюда…
— Славный комплимент твоей маске! — сказала домино, засмеявшись…
— Нет, я не так выразился,— возразил смущенный Василий Михайлович.— Я хотел сказать, что мне не следовало являться сюда… потому что я дал обещание не преследовать ее: пусть же она, по крайней мере, не знает, что я изменил обещанию… Больше нам негде встретиться…
— Почему же ты думал, что она будет здесь? Разве она так любит маскарады?
— Нет, я узнал случайно… Вчера я встретил ее в опере; она не поклонилась мне, не хотела узнать меня. Из этого я заключил, что она или сердита на меня, или успела уже позабыть обо мне. Если она сердита, если она думает, что я вовсе не уезжал, что обманул ее, то мне хотелось разуверить ее; я не хочу, чтоб она унесла обо мне дурное воспоминание. Если ж она позабыла обо мне, значит, я могу оставаться в Петербурге. На подъезде я подслушал разговор ее с другой дамой и узнал, что она будет в маскараде. Долго колебался я — идти или нет и, наконец, решился. Предчувствие меня не обмануло. Она, вероятно, здесь, но не хочет заговорить со мной… А если б она только знала, как много счастья может дать мне одно слово, один взгляд ее!..
— Так ты остаешься в Петербурге? — спросила маска помолчав.
— Не знаю еще… не думаю. Впрочем, меня зовут ехать на юг России, дают мне место…
— Когда же ты хочешь ехать?
— Может быть, скоро… через неделю или через две.
Маска молчала несколько минут и потом тихо, голосом, выражавшим душевное волнение, спросила:
— И ты бы очень хотел ее видеть еще? Говорить с ней?..
— О! Чего бы не отдал я за это счастье! Я хотел бы только сказать ей, что я все еще люблю ее, что свято помню данное слово, что готов для нее на все: спросил бы, счастлива ли она с тем, кого судьба послала ей спутником в жизни; напомнил бы ей еще раз, что она имеет во мне верного друга, которому может протянуть руку во всех несчастиях, который радуется всем ее радостям… Но я слишком увлекся грезами… я не увижу ее до отъезда.
— Послушай, что, если я возьмусь помочь тебе?..
— Ты?
— Да. Тебе не верится?
— Да ты не знаешь еще, кто она, и я тебе не могу сказать этого по самой простой причине — потому что и я не знаю.
Маска усмехнулась.
— Я не требую… я знаю сама и говорю, что доставлю тебе случай видеть ее, говорить с ней…
— Как?.. Но нет, я не решусь явиться еще раз никуда. Если я не видал ее сегодня, то пусть так и останется. Притом же, где бы я ни встретил ее, я сам не осмелюсь заговорить с нею; а ждать, чтобы она заговорила сама, невозможно, потому что она имела случай сделать это сегодня — и не сделала.
— Если я поручусь тебе, что она подаст тебе руку и скажет: «Я не могу разделять любви вашей, потому что связана долгом, обязанностями, которые должны быть для меня святы, но я прошу вас быть моим другом, как я буду вашим; если вы в самом деле любите меня и дорожите моим спокойствием, то не будете никогда говорить мне о своей любви; мы будем видеться, встречаться, как старые знакомые; я даже представлю вас своему мужу, если вы захотите этого, но дайте мне слово исполнять мои условия?»
Эти слова были произнесены уже не пискливым, поддельным голосом: маска изменила себе, и Василий Михайлович услышал знакомый, серебряный голосок, полный такой задушевности, такого искреннего участия… Он крепко сжал руку своей маске… Она прибавила:
— Что бы ты отвечал этой женщине?..
— Я отвечал бы, что она делает меня счастливейшим из людей, что я остаюсь здесь и клянусь ей никогда, ни одним неосторожным словом не возмущать ее спокойствия…
В эту минуту они вошли в одну из зал фойе. Там было пусто. Василий Михайлович воспользовался этим случаем, чтоб с жаром поднести к губам руку своей маски…
— Что это? — сказала она ему.— Ты, кажется, вообразил себе, что она говорит с тобой и говорит именно то самое, что придумало мое воображение…
— Да! Я говорю с ней, я не ошибаюсь — и я счастлив, невыразимо счастлив… Если б я только мог увидеть эти черты…
— Полно, полно! Уверяю тебя, что ты ошибся.
Маска старалась принять свой прежний тон, но он не удавался ей; смех ее дышал притворством.
— Нет! Никто не разуверит меня. Мне слишком хорошо известны звуки этого голоса, знакома эта рука… И как могло постороннее лицо знать мой роман?..
— Нечего было знать — ты сам все рассказал мне; немного нужно было воображения, чтоб отгадать самой все остальное… А от нее разве я также не могла узнать всего этого? Разве она не могла показать мне тебя здесь и поручить мне?..
— Нет, нет, нет, Вера Николавна! Полноте…
Он не успел договорить, как в залу вошло голубое домино, которое Василий Михайлович встретил несколько времени назад с Околесиным; оно обратилось к даме Василия Михайловича и сказало:
— Votre mari vous cherche… il part… restez vous? [30]
— Non, non… [31]
Она пожала руку Василия Михайловича и тихо произнесла:
— В четверг я опять буду здесь…
— Но до четверга — целая неделя! — возразил было Василий Михайлович, но его уже не слыхали. Он простоял с минуту на одном месте, и когда маски исчезли у него из глаз, пошел в сени отыскивать шинель, довольный тем, что не попусту был в маскараде.
На другой день вечером он отправился к Околесину и нашел его сидящего в прекрасно убранном кабинете, перед камином с сигарой в зубах.
— А! Ломтев! — воскликнул он, вскакивая с места и обнимая приятеля.— Как мне жаль, что вчера я не успел хорошенько поговорить с тобой! Давно ты здесь?
— Только два дня.
— Зачем же ты не остановился у меня?..
— Благодарю тебя, но я боялся быть тебе в тягость.
— Какой вздор! Я был бы очень рад, и жена тоже; у нас есть комната совершенно лишняя, хоть в наймы отдавай; ты бы мог прекрасно в ней расположиться. И нам очень бы весело было втроем… Переезжай-ка!
— Нет, уже не стоит, зачем же? Я здесь, может быть, не долго останусь.
— Э? Так ты принял предложение этого старика… как бишь его… о котором ты мне писал?
— Да… то есть, вот видишь, я еще не совсем решился… особенно со вчерашнего дня решение мое несколько поколебалось.
— Не с маскарада ли? Как это туда тебя занесло? Ты, братец, меня так поразил… Ломтев в маскараде! Да никто из твоих знакомых не поверит этому, если рассказать.
— Я и сам дивлюсь, как у меня достало духа… Впрочем, я не раскаиваюсь…
— Уж не завел ли ты в эти два дня какой-нибудь интрижки? Может, в губернии-то ты пообтесался…
— Нет, это продолжение моей старой истории… помнишь?..
— Старой? — произнес с расстановкой Околесин, припоминая, о чем говорит Василий Михайлович.— А! Вспомнил; это та девочка-то, к которой ты за очками ходил?..
— Да, только она теперь замужем.
— А знаешь ли что? Я по твоим письмам думал, что ты влюблен в ту девочку, которая за твоей матерью, во время ее болезни, ходила…
— В Катю? Нет! Я не переставал думать о той…
— Ну, что же, рассказывай; она подошла к тебе сама, была, конечно, очень довольна, что ты уезжал для нее,— ведь, надеюсь, что ты сказал, что ты для ее спокойствия уезжал — и еще больше довольна, что ты скоро возвратился… «будучи не в силах долее выносить с ней разлуку». Так ли?
— Ты совсем не так смотришь на вещи. Это отнимает у меня охоту тебе рассказывать.
— Нет, нет, продолжай. Мне очень любопытно знать развязку этого приключения.
— Да развязки-то еще нет… и не будет. Это добродетельнейшая женщина в мире; она не изменит своим обязанностям…
— Ты в этом убежден?.. Не просила ли она тебя опять уехать?
— Нет, я вижу, что она не хочет, чтобы ей приносили жертвы; она позволяет мне остаться, позволяет быть ее другом, но требует, чтобы я никогда не возмущал ее спокойствия словом любви… и я затаю ее в глубине души…
— Да уж коли она сама начала говорить тебе, коли предлагает тебе дружбу, так уже кончено! Ну, может ли существовать дружба между молодым человеком и хорошенькой женщиной?.. Ну, подошла ли бы она к тебе, если б была в самом деле добродетельнейшая женщина в мире, как ты говоришь?..
— Это ровно ничего не доказывает. Если она чувствует ко мне хоть немножко любви, то очень понятно, что ей хотелось знать, отчего я так скоро воротился, не охладела ли совершенно страсть моя или не обманывал ли я и не оставался ли в Петербурге… Притом же она вела разговор осторожно, не высказывалась долго и, наконец, не могла выдержать…
— Все это тебе так только кажется…
— Что же, по-твоему, мне делать должно?..
— Бухнуть при первом же свидании любовное объявление, сказать, что не чувствуешь себя способным к дружбе.
Долго еще Околесин давал Василию Михайловичу подобные наставления и, наконец, прощаясь с ним, сказал:
— Не советую тебе, любезный друг, пренебрегать и поездкой на юг: это здоровью твоему сделает пользу. Да и Катенька-то… знаешь, ведь богатая наследница, брат! Нужно быть практическим человеком…
— Неужели ты считаешь меня способным жениться из-за денег?..
— Да не из-за денег… кто ж тебе говорит?.. А понравиться может, как и всякая другая. Деньги же, право, ничему не помешают… Напротив, дадут тебе средство осуществить многие из твоих задушевных помыслов, которые ты до сих пор считал мечтами. А эта женщина стоит ли, чтоб для нее жертвовать будущим?.. Кокетка… уж по всему видно, что кокетка… Ну, скоро ли ко мне завернешь? — прибавил Околесин, когда Василий Михайлович был уже в передней и надевал шинель.— Мне жаль, что я тебя нынче не мог жене представить: она занемогла, бедняжка,— простудилась вчера в маскараде проклятом…
— А она тоже с тобой была в маскараде?.. Это голубое домино…
— Нет, нет — это одна ее знакомая… Ну, прощай… А, право, переселился бы ко мне… хоть и ненадолго, все равно. По крайней мере, чаще будем вместе…
— Хорошо, я посмотрю… не говорю наверное.
Они пожали друг другу руки.
Неделя для Василия Михайловича прошла в томительном ожидании, в непрестанном обдумывании плана своих действий. Он в первый раз колебался, не послушаться ли ему советов Околесина, которых он до сих пор никогда не считал серьезными. Боязнь показаться действительно смешным в глазах молодой женщины, недоверие к своему знанию жизни — все это очень смущало и тревожило бедного Василия Михайловича…
Роковой день маскарада застал его еще в раздумье. Наконец, он отдался на волю судьбы и, не гадая ничего заранее, решился действовать так, как настроят его впечатления.
VI Браслет
Выдержка из дневника Верочки
«Боже мой, боже мой! Какой тревожный, мучительный сон! И как я рада, наконец, своему пробуждению! Долго, может быть, целую жизнь не позабыть мне этих тягостных ощущений, положивших меня, наконец, в постель… Но я встала победительницей — и на душе так легко, так светло и отрадно! Тихая сладкая грусть заменяет теперь мрачную тоску, раздиравшую мое бедное сердце. Я могу гордиться своей победой; я смело и без стыда смотрю в глаза мужу; ласки его не заставляют меня больше содрогаться, не вызывают из глубины души язвительных упреков совести; поцелуи его не жгут меня, как раскаленное железо. Еще несколько дней — и, может быть, прежнее спокойствие совсем возвратится ко мне…
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сегодня первый день, что я чувствую себя хорошо, но все еще слаба, и доктора запретили мне много ходить по комнате или долго чем-нибудь заниматься: они говорят, что я была очень плоха, что они боялись нервной горячки. Теперь опасность совсем миновала… Да, я сама сознаю это лучше их… Бедный муж мой был в отчаянии, он не отходил от меня. Сколько горя я причинила ему! Он приписывал всю болезнь мою простуде и проклинал маскарады… Если б он знал, как он был прав, проклиная их!
Я не решилась писать к Аннете обо всем, что случилось в последнее время. А она, бедненькая, так перепугалась за меня, так умоляла меня в последнем письме своем ничего не скрывать от нее!.. Когда она приедет ко мне, я перескажу ей все. Однако ж все эти чувства, все эти мысли, так волновавшие меня, не давая мне ни минуты покою, просились наружу… Я не могла схоронить их в себе; я должна была кому-нибудь передать их — и начала вести дневник… Но вот уже две недели как я не дотрагивалась до его листов. И как-то странно перечитывать мне все написанное… Теперь только вижу, в каком я была бреду…
Со дня представления «Соннамбулы» этот бред идет все crescendo. Помню, какой трепет пробежал по моим жилам, когда я увидела его, сидящего в партере, с глазами, устремленными на меня.
Я не имела духа даже поклониться ему и невольно отворотилась.
В продолжение всего спектакля я была в каком-то опьянении. Я не слушала музыки, хотя и не отводила со сцены глаз… Мне казалось, что все окружающие замечают мое смущение, что они даже знают причину его и смотрят на меня с язвительными улыбками. Как я рада была моему глупому вздыхателю N, когда он вошел в нашу ложу! Я думаю, он пришел в восторг от моей приветливости, от моей с ним любезности — с ним, которого я всегда немилосердно преследую своими насмешками. Он не заметил моих лихорадочных судорожных движений, бессвязности моего разговора, даже беспрестанного повторения одних и тех же вопросов, на которые он отвечал с таким редким терпением — и с такой редкой глупостью!
Мне страшно хотелось узнать — какая причина возвращения в Петербург этого человека. Охладел ли он ко мне и потому считал свое присутствие здесь безопасным? Но взгляд его говорил другое: я не могла не прочесть в нем любви. Или не в силах он был оставаться долее в разлуке со мной и привязанность к матери не могла вытеснить из его сердца других привязанностей? Наконец, не обманывал ли он меня просто, говоря, что уезжает отсюда, чтоб выманить от меня лишнее свидание?..
Кто мог отвечать на все эти вопросы?.. Он один. Но как заставить его быть искренним? Для этого нужно было третье лицо — а я никому не хотела высказать своей тайны. Я встретила его на другой день в маскараде. Сердце мое замерло, когда я увидела его… Я долго колебалась, подойти к нему или нет,— и, наконец, решилась. Изменив, сколько могла, свой голос, я заговорила с ним, я старалась казаться равнодушной, даже несколько насмешливой, но обыкновенно это тогда и не удается, когда об этом стараешься. Я не думала, однако ж, что он ждал меня, что он пришел сюда для меня. Почему он мог думать, что я там буду? Я спросила его; он отвечал, что подслушал в сенях театра мой разговор с баронессой. Я попалась впросак: он мог подумать, что я заметила его в сенях и нарочно заговорила с баронессой о маскараде, в надежде, что он услышит и сочтет это за косвенный зов… Но делать было нечего, я стала допытывать его.
Он узнал меня, но тем не менее его слова были искренни. Не знаю почему, но я не могу не верить этому человеку. Какое-то тайное убеждение есть у меня, что он не лжет. Он сказал, что приехал сюда не надолго, что опять уедет куда-то на юг и уже бог знает когда возвратится; но перед отъездом ему хотелось видеть еще раз ту, которую он так внезапно и так сильно полюбил и для спокойствия которой готов на всякую жертву…
Мне стало жаль его; мне стало досадно на себя, что я так жестоко поступала с ним до сих пор… Нет, сказала я себе, если он так великодушен, что считает для себя законом волю любимой, но еще ничем не доказавшей ему любви своей, женщины, какие бы жертвы ни заставляла его приносить эта воля, если он так великодушен, то и я должна быть достойна этого великодушия, должна иметь столько мужества, чтобы лицом к лицу бороться с опасностью и не лишать его последнего утешения, которого он вымаливает у меня, позволить ему видеться со мной, предложить ему свою дружбу…
Я решилась — и просила его не уезжать.
Наш разговор был прерван; баронесса сказала, что муж мой едет домой и она тоже. Я не могла оставаться одна и шепнула своему влюбленному: «До следующего маскарада, в четверг!»
Этот второй маскарад решил все…
Пробило двенадцать. Мне нездоровилось. Я несколько простудилась в сенях после первого маскарада и всю неделю не выезжала. Однако ж, преодолев себя и не желая изменять данному обещанию, я отправилась. Он встретился мне, едва я вошла в залу. Я удивилась бледности и расстроенности его лица, спросила его, что с ним, здоров ли он. Он отвечал, что провел всю эту неделю в мучительном беспокойстве и нетерпении, думал, что не будет конца его ожиданиям: так хотелось ему скорее увидеть меня, говорить со мной… Я сняла маску, и мы сели в ложу.
Этот вечер напомнил мне сцену в нашем старом домике, на Песках, когда он явился за папенькиными очками. Он был так же бледен и в таком же волнении… весь дрожал, слезы катились по лицу его, что-то лихорадочное было заметно в его глазах и движениях. Говорил он с жаром, с увлечением, но бессвязно… Я старалась успокоить его и сказала: «Вы больны… В другой раз, когда вы будете спокойнее, я буду отвечать вам; теперь вы не в состоянии меня слушать; уезжайте… Когда-нибудь мы опять увидимся».
— Я умру… если вы отвергнете меня! — воскликнул он.— Сжальтесь! Меня никто не любил еще…
Наконец, чтоб кончить как-нибудь эту сцену, терзавшую меня, я сказала:
— Послушайте. Я не отвергаю вас… но, ради бога, ради вашей любви ко мне, кончимте теперь этот разговор… Я не запрещаю вам видеться со мной, но теперь вам нужно успокоиться…
— Когда же мы увидимся и где?..
— Завтра утром, в час, в нашем старом домике, помните, где было наше первое свидание… я буду ждать вас…
Сказав это, я поспешно вышла из ложи.
Возвратилась домой я встревоженная, больная и всю ночь не могла сомкнуть глаз. Мысль о завтрашнем свидании бросала меня то в жар, то в холод. Я не знала, идти мне или нет; несколько раз решала я, что не пойду; но бледные черты его, дышащие такой глубокой грустью, таким ужасным страданием, увлажненные глаза представали мне снова… я слышала его мольбы и рыдания: «Меня никто еще не любил! Я умру, если вы отвергнете меня!» раздавалось в ушах моих, и я изменяла решение… Изнеможенная этими ощущениями, этой тяжелой борьбой, я заснула только под утро, но через два часа проснулась опять и, увидев себя в зеркало, испугалась: меня поразило страшно болезненное выражение моего лица…
Муж хотел послать за доктором; я просила его не делать этого, что к вечеру все пройдет. «Я говорил тебе, что не нужно было ехать в маскарад, сегодня тебе хуже…» — сказал он. Он даже не хотел ехать в должность, но я отговорила его, и он уехал. Оставшись одна, я опять стала думать о предстоявшем свидании, беспрестанно взглядывая на часовую стрелку… Оставался еще час… Сердце мое сильно билось, грудь подымалась, голову давил как будто железный обруч, жилы на висках бились сильно и тяжело… Наконец, в каком-то безотчетном порыве бросилась я к письменному столу, вынула лист почтовой бумаги и начала писать…
Это было письмо к нему… Что заключалось в нем, мне трудно припомнить теперь; я помнила только, пока писала; когда же письмо было готово, я все позабыла… Знаю только, что я послала ему на память браслет с миниатюрным портретом моим, а дома сказала, что потеряла его в маскараде…
Я отослала письмо с прежней моей горничной туда, где назначено было сойтись. Она знает его в лицо и умеет молчать. Когда пробил час, у меня как будто отвалил камень от сердца. Но от беспрерывных и сильных потрясений я к вечеру слегла в постель… Приехал доктор и объявил, что у меня может открыться нервическая горячка.
Я пролежала три недели и, как говорят, в первые дни болезни была в сильном бреду. Муж не отходил от меня; я боялась, не высказала ли я ему своей тайны… До сих пор, однако ж, я не слыхала от него ни малейшего намека. Когда я на обычный вопрос: «Каково тебе?» отвечала: «Лучше», лицо его приняло такое радостное выражение, какого я еще никогда не видала на нем, и, поцеловав меня в лоб, он произнес сквозь слезы: «Ну, слава богу!»
Мне стало жаль моего бедного мужа. Если б он знал, какая гроза собиралась над головой его!
А он? Уехал ли он отсюда? И что с ним теперь?..»
Неделю спустя после свидания Ломтева с Околесиным, описанного мной в предыдущей главе, и на третий день после маскарада, который был причиной болезни Верочки и о котором читатели имеют понятие из ее дневника, Василий Михайлович снова явился к своему приятелю.
Околесин был что-то не в духе. Он по-прежнему очень обрадовался Василию Михайловичу, усадил его в покойные кресла, предложил трубку, но не торопился закидывать его вопросами об его интриге, не хохотал и вообще говорил как-то тише обыкновенного. Несколько минут разговор тянулся вяло и о таких предметах, которые, по-видимому, не интересовали ни того, ни другого. Околесин отвечал на вопросы Василия Михайловича рассеянно, часто не слыхал, что ему говорят, и от времени до времени поглядывал на дверь в соседнюю комнату.
Наконец, после некоторого молчания Околесин сказал Василию Михайловичу:
— Ах, да! Я и забыл расспросить тебя… Ну, что маскарад? Послушался ты моих советов?..
— Да, но они ровно ни к чему не повели. Я остаюсь при своем прежнем мнении, что это добродетельнейшая из женщин, и уезжаю через несколько дней. Семейство Т*** должно приехать сюда на этой неделе.
— Э? Счастливого пути, любезный друг! Хоть я бы и желал, чтоб ты еще пожил с нами, да делать нечего! Эта поездка будет тебе полезна — уж вспомни меня. Ну, а как же твой идеал? Твоя красавица?..
— Она назначила мне на другой день свидание — и не явилась…
— Может ли быть? Это, верно, только уловка, по всему видно, что она страшная кокетка…
— Перестань, Околесин, ты оскорбляешь эту женщину, оскорбляешь мою любовь. Брось свои понятия о женщинах, если понятия эти, действительно, таковы. Когда бы ты прочел письмо, которое она написала мне, ты бы не отзывался так о ней…
— Ну-ка, прочти, может, я и переменю свои понятия…
— Да что читать! Я знаю ответ твой заранее. Ты скажешь, что она хочет заинтересовать меня препятствиями, ты не поймешь всей искренности этого письма, всей глубины чувства, диктовавшего его, или, лучше сказать, не захочешь понять.
— Нет, совсем нет! — самодовольно улыбаясь, возразил Околесин.— Я не скажу этого… Я знаю, что много есть исключений… Ну, прочти же…
Василий Михайлович вынул из бокового кармана письмо и прочел:
«Я не могу, я не должна прийти на это свидание. Не обвиняйте меня… Постарайтесь меня забыть и, верьте, что я буду страдать, может быть, не менее вас. Что делать! Судьба так хотела; она свела нас слишком поздно; мы оба могли быть счастливы, если б встретились раньше… Умоляю вас, забудьте меня!.. Если вы в самом деле любите меня, то не преследуйте меня больше… Я и так поступила слишком неосторожно… я не должна была делать этого… Но пусть это, по крайней мере, послужит вам доказательством моей симпатии к вам… Я не так поступила бы с человеком, к которому ничего не питала бы. Прощайте… прощайте навсегда!
Возьмите на память портрет мой: пусть он иногда напоминает вам ту, которая от полноты сердца желает вам счастья».
Слезы дрожали в голосе, которым Василий Михайлович прочел это письмо.
— Да,— произнес Околесин,— видно, что женщина с чувством писала… А я бы все-таки на твоем месте продолжал преследовать…
Василий Михайлович махнул рукой, как бы говоря: «Неисправим, хоть брось!»
— Ну, а портрет с тобой? Меня, брат, ужасное любопытство берет взглянуть…
— Уж позволь тебе не показывать.
— Отчего?.. Да что ты, боишься, что ли, чтоб я не встретил ее да не проговорился бы… Я могу тебе слово дать, если ты сомневаешься в моей скромности. И притом, чем же можно ее компрометировать? Она поступила хорошо: осталась верна своему долгу… значит, добродетель за ней…
— Она, конечно… Пожалуй, я покажу тебе: это браслет с миниатюрой.
Василию Михайловичу, как и всем влюбленным, самому очень хотелось услышать от кого-нибудь похвалу предмету своей страсти, и, вынув завернутый в бумажку браслет с миниатюрным портретом, он вручил его Околесину. Околесин взглянул на портрет и вдруг побледнел… Сердце его сильно билось, руки дрожали; он уронил браслет на пол…
— Ах! — сказал Василий Михайлович, удивляясь этой неловкости своего приятеля.— Как ты неосторожен! Мог разбить.
— Барыня просят вас к себе, Борис Михайлович,— доложил в эту минуту Околесину человек, входя в кабинет.
— Сейчас, сейчас,— пробормотал Околесин, вставая с места.— Извини,— сказал он, обращаясь к Ломтеву,— жена очень больна, простудилась на маскараде, доктора боятся, чтоб нервическая горячка не сделалась… я все с ней сижу… извини…
— Помилуй! — отвечал Василий Михайлович, также направляясь из кабинета.
— Так ты уезжаешь… и скоро?..
— Я думаю…
— Ты твердо решился?..
— Да.
— Прекрасно сделаешь, уверяю тебя, прекрасно сделаешь… это очень тебе будет полезно!.. Да и женщина-то эта в самом деле, кажется, сто́ит…
— А! Наконец-то и ты заговорил так!.. Видно, тебя пленила ее красота… Но я тебя задерживаю, ступай к жене… До свиданья.
— До свиданья! Так ты едешь непременно?
— Непременно.
— Это благородно, мой друг, вполне благородно.
Он крепко пожал руку Василию Михайловичу.
«Каков же я-то! — говорил себе Околесин, идя в спальню жены.— А? давал ему какие советы… и на свою шею! Беда на волоске висела… Дамоклесов меч, да и только! О, болван, болван!»
И он в благородном негодовании колотил себя по лбу.
На возвратном пути от своего приятеля домой Василий Михайлович зашел в кондитерскую и, пока ему готовили чашку кофе, открыл попавшиеся ему под руку «Ведомости». Пробегая, без внимания, разные объявления, он вдруг остановился на одном из них, окруженном толстым черным бордюром. Оно было такого содержания:
«Сего *** декабря утрачен в маскараде, в Большом Театре, браслет с миниатюрным женским портретом. Кто оный доставит (туда-то), получит 25 рублей серебром награждения».
Василий Михайлович остолбенел, прочтя это объявление. Он вспомнил смущение Околесина, вспомнил выроненный на пол браслет — и догадался, в чем дело…
Дня через три или четыре он уехал в губернию, а через год женился на Кате, о которой, помните, писал в письме к Околесину.
Говорят, он совершенно счастлив и собирается ехать в «классическую страну миртов и апельсин», куда так давно стремились его мечты…
ЖИТЕЙСКИЕ СЦЕНЫ. Отец и дочь
I
Губернский город Бобров (на географических картах он называется иначе) ни в чем не отставал от других губернских городов нашей России; по отдаленности своей от обеих столиц он даже сохранил в себе несколько более патриархальной простоты нравов, столь справедливо восхищающей противников всяких нововведений. Все в городе Боброве было основано на чистейшей любви. Каждый почти знал за своим соседом грешки, но никому и в голову не приходило обличать их даже намеком. Все граждане были пропитаны сознанием слабости человеческой природы и тою неопровержимою аксиомой, что «ведь свет не пересоздашь, а следовательно, и толковать об этом нечего». Физиономия города Боброва была тоже из самых обыкновенных. В нем, как и повсюду, можно было найти присутственные места, окрашенные охрой, губернаторский дом с венецианскими окнами и балконом, клуб, где по субботам играли в карты, а по четвергам танцовали; кафедральный собор с протодиаконом, изумлявшим все православие своими легкими; две каланчи, откуда обиженные от природы солдаты пожарной команды видели всегда весьма зорко, где не горело, и, напротив, как-то не замечали, где пожар; заведение, куда взъерошенные и небритые чиновники, со спинами, вечно запачканными в белом, каждое первое число являлись менять благородный металл на согревающие жидкости. Словом, все было как и следует в благоустроенном городе…
В этот-то уголок я и попрошу читателя заглянуть со мной. История, которую я взялся передать ему, случилась очень давно; нынче такие истории не случаются, и многим она может показаться несбыточною, но смею уверить, что хотя я не был очевидцем ее, но знаю о ней из самых достоверных источников.
На одной из узких и немощеных улиц Боброва стоял серенький домик с зелеными ставнями и мезонином. Домик этот занимал казначей одного присутственного места Василий Степанович Агапов. Внизу помещался он сам, а две верхние комнаты состояли в распоряжении семнадцатилетней дочери казначея Маши, хорошенькой девушки с голубыми глазами, несколько выдавшеюся вперед нижнею губкой и такой стройною талией, что так и хотелось охватить ее рукой. При входе в маленькие комнатки казначеева жилища у каждого становилось как-то легко и весело на душе. Так ласково глядели они, так было в них уютно, тепло и светло. И голубенькие обои, на которых переливались после обеда золотые солнечные лучи, и мебель, обитая черною волосяною материей, и шторы с швейцарскими пейзажами, в которых преобладали желтый и зеленый цвета, и стенные часы с розаном на белом циферблате — все нравилось посетителю, все, бог знает почему, навевало на него какое-то тихое, успокаивающее чувство. Словно делался он добрее, переступая за порог этого домика. Тайна этого впечатления, которому подчинялись даже и самые черствые, как морской сухарь, чиновничьи натуры, заключалась в том, что здесь жила женщина, женщина с любящим, добрым сердцем… Во всем сказывалось присутствие этого сердца. Видно было, что не наемная рука заботилась о порядке и чистоте казначейской квартиры. Изысканности, вылощенной чистоты, холодной симметрии здесь не было места. Хотя пыль не сидела на мебели и полы были чисто вымыты, но вам не пришло бы в голову, как приходит иногда при виде других квартир, что хозяйка, верно, воевала за эту чистоту целое утро с заспанною прислугой. Если говорят, что можно судить о характере человека по его библиотеке, то, мне кажется, не менее верное заключение можно сделать и по квартире, да, пожалуй, еще по прислуге. Много раз мне случалось подметить, что у доброго и радушного господина прислуга весело смотрит и рада гостям. Так было у казначея. Шинели снимала обыкновенно с приходящих горничная Маши, Василиса, здоровая и румяная девка, с платком на голове и какими-то желтыми бусами на шее; и исполняла она эту обязанность с таким добродушным видом и такою сияющею физиономией, что казалось, каждая черта ее говорит: «Милости просим! что редко жалуете?» Но добродушие Василисы было ничто в сравнении с тою детскою, наивною радостью, которая читалась в глазах самого хозяина, когда он выходил навстречу гостю в своем мерлушковом тулупчике, покрытом темною нанкой, и в черных козловых туфлях. Как чувствительно жал он вашу руку, как ласково улыбался! И ничего в этой улыбке не было заискивающего, приторного, пресмыкающегося. В этой улыбке, в серых и чистых глазах просвечивала вся честная, тихая, безвредная жизнь старика, прослужившего более тридцати лет в одном городе, в одном присутственном месте и которого хоть и помяла нужда в своих жестких лапах, но не успела сделать ни желчным завистником, ни мелким домашним тираном. Ни у сослуживцев, ни у домашних Василья Степаныча не повернулся бы язык сказать про него дурное слово. Довольный своею скромною долей, не лез он туда, где видел себя не на месте. Много пережил он начальников, много проглотил распеканок, но никогда не дерзал произнести хулу ни на одно значительное лицо. Казалось, он был убежден, что значительное лицо не может не распекать, хотя бы на то не было никакой основательной причины,— что это уж так самим богом положено, что без этого значительному лицу и быть нельзя. Много видел старик на своем веку и своей братии, мелких чиновников, надувавшихся, как лягушка в басне, чтобы походить на какого-нибудь значительного вола, и лопавшихся от натуги; но и их не порицал Василий Степаныч, как будто не его дело. А если и подтрунивал кто над ним в его присутствии, он только вздыхал и произносил: «Ох! Ох! Ох! Немощен человек!» — или же ровно ничего не произносил. Учился Василий Степаныч на медные деньги. Чиновничью лямку начал тянуть с самых ранних лет, и потому немудрено, если круг его понятий ограничивался тем мирком, где он вращался. Хоть он и не прочь был узнать из газет, что делается на свете божьем, но рассуждать о прочитанном никогда не пускался и всему напечатанному безусловно верил. Более, однако же, чем политика, интересовали его производства, даже и не знакомых ему лиц, и также известия, что в таком-то городе выпал в июне град с голубиное яйцо или что такая-то река вскрылась двумя неделями раньше, чем это предполагали старожилы. Над подобными известиями он обыкновенно глубоко задумывался и говорил про себя: «Вот оно что, скажите!.. а? двумя неделями раньше… отчего бы это так?..»
Тридцати лет Василий Степаныч женился на поповской дочке, довольно смазливенькой, но с прегадким норовом, мечтавшей выйти за офицера и дважды обманутой в своих ожиданиях, что сделало ее крайне раздражительною. В первый раз надул ее прапорщик, норовивший обделать дело нашаромыжку, для чего и писал ей страстные послания на серой бумаге, обертывая в них купленную в лавочке сухую пастилу, до которой его красавица была большая охотница. Пастилу она кушала и послания читала, но положительного ничего не обещала. «Думает пастилой отделаться,— говорила она себе,— нет, брат, шутишь! Женись, так пожалуй; а иначе ничего не возьмешь». Провздыхав понапрасну два месяца и издержав на пастилу три целковых, прапорщик благоразумно ретировался.
В другой раз приударил за поповою дочкою штабс-капитан. Этот был посолиднее и не такой поджарый. Хоть пастилы он не покупал и посланий не сочинял, но от женитьбы был не прочь. Только на приданое чересчур напирал,— кремень был. Как ни красноречивы ему казались проповеди его будущего тестя, в которых тот говорил, что богатство есть суета сует,— однажды штабс-капитан даже прослезился, слушая их,— но когда дело дошло до женитьбы, стал требовать наличных. Оказалось, что за невестой отец давал только дюжину ложек польского серебра, самовар ведерный, перину да святцы в кожаном переплете с медными застежками. Штабс-капитану, как человеку походному, перина показалась вещью излишнею, а именины свои он и без святцев знал, а потому он, так же как и прапорщик с пастилою, повернул оглобли.
Злость овладела девчонкой; она решилась презирать всех военных и направила свою артиллерию на присутственные места, которые, не выдержав долгой осады, сдались на капитуляцию. Все чиновники перевлюблялись в хорошенькую дочку попа, но не многие удостоились ее внимания. Два канцеляриста чуть не утопились с горя. Один почтенный советник, вдовец, имевший трех дочерей, Нимфодору, Митродору и Агафоклею, предложил ей свою руку. Но она отвергла всех. Канцеляристы были уж слишком глупы, только что помадились да сигары копеечные курили; советник был стар и плюгав, да притом Нимфодора, Митродора и Агафоклея по целым дням ругались между собою и даже не раз доходили до потасовки. Самым представительным женихом оказался Василий Степаныч, у которого водились тогда небольшие деньжонки, оставленные ему отцом, и физиономия была приличная, да и ходил он опрятно, чистенько. Она решилась. Девичья жизнь ей наскучила, а женихов других не предвиделось. Любви особенной она к Василью Степанычу не чувствовала, но он и не отталкивал ее от себя. Больше всего было ей по сердцу то, что нрава он кроткого, мухи не обидит. Этим драгоценным свойством она не преминула воспользоваться и приняла Василья Степаныча в ежовые рукавицы. Он был влюблен, как кошка, и подчинился молодой жене совершенно. Уступчивость его в первое время обезоруживала жену, но впоследствии она все больше и больше становилась капризна, притом начала щеголять страшно и все мужнины деньги проматывала на наряды. Василий Степаныч не жаловался и, кроме своей обычной работы, стал заниматься переписыванием, чтобы добыть несколько рублей лишних. Всему покорялся безропотно муж, даже и тому, что жена начала опять заглядываться на военных, к которым, видно, прошло презрение, и только молил бога, чтоб он наградил его потомством. Три раза рожала жена Василья Степаныча, и все три раза дети умирали в первый же год. Наконец она перестала вовсе рожать, и Василий Степаныч отчаялся уже иметь потомство, как вдруг она совершенно неожиданно, четыре года спустя после смерти первого ребенка, опять почувствовала себя беременною. На этот раз родилась девочка, и рождение ее стоило жизни ее матери. Василий Степаныч остался один с своею дочкой. Нельзя и описать, как лелеял, пеленал и пестовал он своего ребенка. Возвращаясь из должности, он целые дни проводил над его колыбелью: сам убаюкивал его, пел всевозможные песни, какие только оставались еще в голове его, невытесненные разными предписаниями и отношениями. Только и света в глазах у него было что Маша. Сколько разных планов создалось в уме его насчет ее будущего, чего не сулило ей отцовское сердце! Любовь Василья Степаныча к дочери доходила чуть не до безумия; для нее только он хотел жить, хотел бы разбогатеть. Похвалить его Машу значило приобресть полное право на его расположение. Доброе, мягкое сердце чиновника чувствовало потребность к кому-нибудь привязаться. Матери он не знал: она умерла, когда ему не было еще четырех лет. Отец никогда не ласкал его и умел внушить ему более страха, нежели любви. Отец Василья Степаныча держался того мнения, что ласки и нежности — дело бабье, и потому питал сына преимущественно нравоучениями. Хотя Василий Степаныч и не имел к родителю особенной привязанности, однако же, когда его не стало, он почувствовал себя еще более одиноким. Мысль, что никому-то до него нет дела на белом свете, что каждому он чужой, часто наводила на него непритворную тоску. Просидев целый день над бумагами, он возвращался домой безо всякой радости; он знал, что никто не ждет его и что не с кем перемолвиться ему задушевным словом. Дружбы, столь воспеваемой поэтами, тоже не испытал Василий Степаныч. Попробовал было раз сдружиться с одним помощником столоначальника, но последствия этой дружбы оказались крайне печальными. Помощник действительно ходил к нему каждый день, и обедал у него, и чай пил, и разные благоразумные советы ему давал, как себя держать в обществе, ибо считал себя человеком светским, на том основании, что жена квартального надзирателя была к нему неравнодушна и вышила ему ко дню рождения подтяжки шелком. Но одно обстоятельство положило предел этим посещениям и советам. Светскому помощнику понадобились часы, чтобы блеснуть на каком-то вечере. У Василья Степаныча были серебряные, с цепочкой, хоть и не последней моды, то есть не плоские, но все-таки часы изрядные, пятнадцать целковых стоили. Он не колеблясь предложил их своему Пиладу и еще пожелал ему при этом, лукаво подмигнув глазом, успеха в сердечных делах. Неизвестно, сбылось ли это желание и победил ли кого помощник часами, но только, взяв их, он целых пять дней пропадал без вести, несмотря на все поиски городской полиции, к которой его начальство нашлось вынужденным обратиться. На шестой день он сам явился к должности, и хотя без часов, но с каким-то украшением под глазами. Где он скрывался, осталось навеки тайной между небом и им; некоторые из его сослуживцев, впрочем, выражали догадку, что, должно быть, у жены квартального надзирателя в каком-нибудь чулане был спрятан, и по тому самому не нашла его городская полиция. Но только это предположение в область достоверных фактов не перешло. Одно лишь не подлежало сомнению во всей этой истории, что часы Василья Степаныча, по выражению чиновников, ухнули, и помощник с тех пор старался тщательно избегать встречи с своим прежним другом. Огорченный друг только махнул рукой и отказался как от часов, так и от дружбы. Познав тщету этого чувства, Василий Степаныч остался опять одиноким. Но скоро подоспела на выручку любовь, исходом, как мы видели, имевшая женитьбу. Как ни яростно был на первых порах влюблен Василий Степаныч, но не мог не видеть, что любимое существо далеко не разделяет его страсти, и потому хотя de jure он жил сам-друг, но de facto оставался все-таки одинок. Понятно, что он желал приращения своему дому. Любовь отеческая была последнею ступенью его сердечных привязанностей, последним проявлением жившего в груди его чувства. Все это таилось в сердце, подавленное гнетом житейских нужд и обстоятельств, все рванулось наружу и сказалось в этой любви старика к дочери. С какою радостью накупал он девочке обновки, с каким терпением учил ее азбуке, в какой неподдельный восторг приходил от ее детских вопросов; с какою гордостью посматривал он на посторонних, если она при них говорила наизусть какую-нибудь басенку про лебедя, щуку и рака! Василий Степаныч так уютно убрал ее комнатку, заказал для нее маленькую мебель, уставил ее окна цветами. По целым вечерам готов он был кататься и кувыркаться с ней по ковру, делать гримасы, смешившие ребенка; прятаться под столы и диван, заставляя его искать себя. Если Маша занемогала, Василий Степаныч был сам не свой; он опрометью бежал за доктором, со слезами на глазах умолял его спасти девочку, хотя спасать было не от чего, потому что у нее оказывалась легкая простуда. Он не спал тогда ночи, терял аппетит; в должности делал непростительные промахи, забывал не только, где нужно ставить е и где ѣ, но даже титул его превосходительства писал с маленькой буквы. Чиновники все уж знали, какая причина этой рассеянности, и говорили между собой: «Видно, дочка-то у Василья Степаныча прихворнула». Когда же Маша выздоравливала, он, отслужив молебен, делал приятелям пуншик и, садясь за бумаги для искупления своей бывшей опрометчивости, изобретал такие шрифты и выводил такие хвостики, что его писанье хоть сейчас в рамку да за стекло. Между тем девочка подрастала. Когда ей наступил тринадцатый год, крестная мать ее, супруга одного из бобровских сановников, предложила Василью Степанычу посылать к ней дочь для занятий вместе с ее детьми. Василий Степаныч был вне себя от подобного предложения. И вот каждое утро, отправляясь в должность, он брал с собою дочку и сам отводил ее к благодетельнице. У благодетельницы был свой расчет. У ней тоже была дочка, но такая ленивая и тупоумная, что учителя не знали, что с ней и делать. Пригласив Машу, сановница надеялась возбудить в дочери своей соревнование; а как учитель брал ту же цену с двух, что и с одной (ему предварительно внушили, что Маша бедная девушка et qu’il s’agit d’une bonne action [32]), то благодеяние это было не убыточно. Но Василий Степаныч тем не менее считал это великою для себя милостью. Соревнования Маша не возбудила в дочери своей покровительницы, но сама воспользовалась всем, чему их учили. Она была любознательна, имела хорошую память и много охоты учиться. Учителя оставались ею очень довольны и не могли нахвалиться отцу. Он с видимым удовольствием слушал эти похвалы, но когда ему говорили, что Маша способнее и прилежнее во сто раз своей подруги, он никак не хотел верить и отвечал: «Ну уж способнее-то не будет… где ж ей против такой особы… это вы меня только утешить хотите, Андрей Борисыч; как можно, чтобы способнее! Да и на том, что есть, спасибо…»
Важная особа, видя, что науки для ее дочери все равно что к стене горох, решилась прекратить уроки и везти ее в модный пансион, словно пансион был какая-нибудь лечебница от идиотизма. Впрочем, она хорошо сделала, потому что дщерь ее приобрела там весьма разные манеры и пропасть разных talents agréables [33], которые, конечно, для успеха в свете гораздо полезнее образования. По отъезде покровительницы Василий Степаныч впал в раздумье. Пригласить тех же учителей, что занимались у крестной матери Маши, было не по средствам, оставить девочку на произвол судьбы было больно отцовскому сердцу. К счастью, один из учителей, Андрей Борисыч Шатров, предложил ему свои услуги бесплатно. Ему так понравилась Маша, что он не хотел бросить ее. Это был молодой человек с добрым и благородным сердцем, года четыре, не более, как кончивший курс в университете и потому еще полный тех восторженных помыслов и чистых стремлений, той готовности служить истине и добру, которые составляют неотъемлемую принадлежность и лучшее украшение юности. Развить молодое существо, вселить в него свои убеждения, пробудить в нем сознание, указать ему великое назначение женщины,— эта цель казалась юноше так прекрасна и возвышенна, что для достижения ее не должно щадить ни сил, ни времени…
И не в самом ли деле такова была эта цель? Не улыбайтесь насмешливо, мой читатель, преждевременно поникший под гнетом суровой действительности… Не бросайте камнем в эти святые грезы, некогда волновавшие и вас, но преклонитесь перед воспоминанием о них, как перед могилой, где похоронена лучшая часть души вашей… Со слезами обнял старик доброго учителя и поручил ему свою дочь. Надобно сказать, к чести Шатрова, что рвение его не остыло после первых начинаний, как остывает у многих, слишком горячо берущихся за дело. Он преследовал свою цель с терпением, он трудился над развитием своей ученицы с любовью. Хотя ему в первый раз еще выпала на долю такая задача, но он принялся за нее с уменьем. Если ему самому недоставало опытности в подобном деле, зато он видел не раз, как брались за него другие; и эти примеры, удачные и неудачные, послужили ему в пользу. Наконец он много читал и думал, и там, где не было опыта, являлись на помощь мыслительная способность и энергия молодой свежей натуры, не испорченной болезнями века. Он принадлежал к тем немногим молодым людям, которым удается избежать как болезненной мечтательности, так и сухого, узкого реализма.
Он старался отстранить от своей ученицы все, что могло слишком воспламенить ее воображение и развить его в ущерб другим способностям. Он не упускал случая внушить ей, не в форме сухой морали, а в живой, из сердца льющейся речи, что не счастье и наслаждение цель этой жизни, но что долг и самоотвержение — вот к чему нужно готовить себя человеку. Если бог посылает нам счастье, мы должны принять его с благодарностью, но в то же время должны быть непрестанно готовы к борьбе со злом и искушениями; что сохранить свое человеческое достоинство, какие бы трудные обстоятельства ни встретились в жизни,— вот назначение наше. Он говорил ей, что женщина создана для семейства, что и самое образование должно ей служить к тому, чтобы выполнить достойным образом обязанность дочери, сестры, жены, матери… что если грех зарыть в землю данные от бога способности, то не менее преступно и пренебрегать своими обязанностями во имя какой-нибудь отвлеченной цели. Любите ближних, но начинайте с окружающих вас. Не ищите себе деятельность далеко, она у вас всегда под рукой, и какой бы ни был круг, в который замкнула вас судьба, служение ближнему и добру в нем всегда возможно.
Внимательно слушала молодого человека ученица, устремив на него свои голубые, полные ясной, спокойной души глаза, и глубокое сочувствие к говорившему выражалось в ее чертах. Случалось, что он не мог выносить ее пристального взгляда, и невольно потуплялся. В сердца учителя и ученицы, нежданно и неведомо для них самих, заронилась искра божественного, всесогревающего огня…
II
В то время, когда начинается эта история, Василий Степаныч уже три года как правил должность казначея в присутственном месте, где протекла его служебная деятельность. Маше было семнадцать лет. Шатров все так же часто посещал их и продолжал руководить занятиями молодой девушки. Они любили друг друга; отец знал об этой любви и в душе благодарил искренне бога, что его Маше пришелся по сердцу такой хороший человек, как Андрей Борисыч. А Андрей Борисыч ждал только небольших денег из Петербурга от брата, служившего в каком-то министерстве, чтобы сыграть свадьбу.
Было воскресенье. Старик Агапов ушел к обедне. Маша, у которой разболелась голова, осталась дома и хлопотала над самоваром, чтобы не заставить отца по возвращении долго ждать чаю. Несколько раз прислушивалась она к звону колоколов, желая узнать, скоро ли отойдет обедня. Вот отзвонили «достойную», вот и народ рассыпался по улицам пестрыми толпами. Служба кончилась, а Василья Степаныча все не было. Маша поминутно подбегала к окошку, не видно ли старческой фигуры доброго казначея в старомодной, с несколькими капюшонами, шинельке синего цвета,— но напрасно; вот и совестный судья прокатил на дребезжащих дрожках, почему-то называемых калибром, с визитом к губернатору. Вот промчалась и предводительша в новомодной тогда коляске, с сиденьем для лакея; мимо окон прошел откупщик, умильно взглянув на Машу и заставив ее отскочить от окна, потому что вид этого человека раздражал молодую девушку и любезности его подымали в ней желчь. Много еще прошло и проехало знакомых и незнакомых мимо казначейской квартиры, а отец Маши все не являлся.
«Разве зашел куда,— подумала она.— Да он бы сказал заранее; а то уходя просил, чтобы чай был готов. С ним никогда не случалось такой неисправности…»
Не успела она докончить в уме своем этой фразы, как дверь отворилась, и вошел Шатров. Бледное, продолговатое лицо его было выразительно. В глубоких и черных глазах его просвечивала мысль; густые волосы от природы вились.
— Ты не меня ждала, Маша,— сказал он, увидев удивление на лице своей невесты.
— Я жду отца и не могу понять, куда он девался. Обедня кончилась.
— Я могу тебя успокоить, друг мой, но с уговором, чтобы мне позволено было поцеловать эти хорошенькие глазки…
— Кажется, это и без уговора делается не редко… Ну, где же отец?
— Он у его превосходительства.
— У Тупицына? Зачем? Разве прислали?
— Его превосходительство увидели Василья Степаныча у обедни и приказали прийти к себе; кажется, я довольно почтительно выражаюсь, Маша, а Василий Степаныч все корит меня в излишней резкости. Давай же глазки.
— Не хочешь ли сперва чаю?..
— Сперва глазки.
Он подошел к Маше, взял ее обеими руками за плечи и поцеловал глаза ее.
— Меня тревожит, Маша, что я так долго не получаю от брата ответа на письмо мое,— сказал Шатров, садясь к чайному столу.
— Как ты скоро хочешь,— отвечала Маша,— давно ли послано письмо твое?
— Мне кажется, что уж целый век. Ну, Маша, квартира совсем почти готова. Какой миленький, уютный будет у нас уголок! Недостает в ней теперь только хорошенькой хозяйки, без которой все теряет цену. Если бы ты знала, друг мой, сколько планов и предположений родится каждый день в голове моей о нашем будущем! Кажется, я никуда не выйду из дому, так мне будет там хорошо, тепло! Теперь я рад, когда не вижу долго своей квартиры; пусто, скучно в ней, чувствуешь сильнее свое одиночество, как сидишь у себя дома; и как-то хочется потолкаться в толпе, хоть знаешь, что мало у тебя с ней общего, что и там ты одинок. Но по крайней мере при виде пестроты, при этом движении и шуме внимание отвлечено от самого себя. А когда ты будешь подле меня каждую минуту, мне ничего больше не надо, и возвращаться домой будет так отрадно. Знаешь, что ждет тебя существо, которому можно передать все, что накопилось на сердце в продолжение дня, с полною уверенностию, что тебя выслушают с участием. Да и хозяйка-то ты у меня будешь такая славная, что любо-дорого.
— Господи! Какую ты мне похвальную речь произнес, Андрей! — сказала Маша.— Ты нынче как-то особенно расположен превозносить меня. А знаешь ли, мне как-то грустно становится, когда ты чересчур меня хвалишь…
— Это почему?
— Когда ждешь от чего-нибудь слишком многого, на деле всегда выходит хуже…
— Да разве я тебя со вчерашнего дня знаю?
— Положим, что ты знаешь давно, но все-таки ты не видел меня перед собой каждый час, каждую минуту. Как знать, что не найдется в моем характере таких мелочей, неровностей, слабостей, капризов, которые могут бросить тень на поэзию домашней жизни, и порой бывают даже несноснее больших огорчений для того, кому приходится их терпеть?..
— Я знаю наверное, что у тебя их нет, Маша, а если б даже… Разве ты во мне предполагаешь такую нетерпимость к чужим слабостям? Но на это и самый безукоризненный человек не имеет права… не только я… Это обличает страшную сухость сердца. Нет того недостатка, которого бы я не простил тебе, Маша…
— За те великие достоинства,— перебила его Маша, смеясь,— которые есть во мне… опять та же история. Нет, Андрей! Вся моя надежда на тебя… Разве ты будешь стараться переделать, исправить меня…
— А так как за мной водится тоже не одна слабость, не один недостаток, то мы прибегнем лучше к теории взаимных уступок; но полно толковать об этом… Поговорим, как будет проходить у нас день…
— Во-первых, мы весь день будем заняты — ты уроками, я хозяйством или работой; ты думаешь, я забыла твое правило, что труд прежде всего, что чем больше человек занят, тем дальше от него дурные помыслы и дурные дела.
— Ты уж и теперь применяешь к делу мою мораль…
— Знаешь ли, Андрей, я часто думаю: что было бы со мной, если бы не ты? Из меня бы вышла самая пустая, ветреная девчонка. В природе моей много дурного. До тебя я была упряма, ленива, завистлива. Когда я ходила учиться к моей крестной матери, роскошь, которую я там видела, совсем было меня отуманила. Возвращаясь домой, я все находила не по себе. Мне становилось скучно дома; я не хотела видеть, что отец из последнего бьется, чтоб утешить меня чем-нибудь; роптала, зачем он не покупает мне таких же нарядных платьев, таких же дорогих безделушек, какие у дочери моей покровительницы. Мне досадно было, что он незнаком со знатью, что не возит меня на детские балы, в театр. Работать на себя, шить мне казалось унизительным для дочери чиновника. Хоть я и училась охотно, но часто думала: к чему мне учиться? Разве я вижу кого-нибудь, кроме исправника Тихона Фомича да священника, которые ходят к отцу по воскресным дням? Словом, всякого рода нелепых мыслей лезло в голову. Ты открыл мне глаза… и, однако ж, Андрей, в характере моем столько дурного, что даже слова твои, которые всегда дышали таким искренним убеждением, лились прямо из сердца,— едва ли бы переработали меня, если б… если б я не полюбила тебя…
— Вот видишь, Маша, стало быть, ты вовсе не мне обязана, но чувству, которое возникло в душе твоей; а оно приходит часто безотчетно и совсем не потому, чтобы тот, кто внушил его, был его достоин…
— Нет, я полюбила тебя не безотчетно, я привязалась к тебе за твою доброту, за твое бескорыстное участие к отцу, за все, что о тебе слышала. Я знаю, что не мы одни тебе обязаны. Разве ученики твои не говорили несколько раз при мне, что ты готов пособить каждому из них, чем только можешь, что ты только ищешь случая сделать добро? Вот за что я полюбила тебя, а когда полюбила, все остальное само собой сделалось, я невольно приняла твои правила и привыкла смотреть на жизнь, как смотришь ты сам. Однако ж ты слушаешь, что я тут болтаю, а стакан твой совсем остыл.
— Я не могу не заслушаться тебя: ты такая умница, такое добренькое, милое создание…
— Ты начал говорить о том, как мы будем проводить время. По вечерам будем читать вместе, за круглым столиком, при лампе. Чего я не пойму, ты мне растолкуешь. Иногда будем ездить к знакомым. Много знакомых незачем заводить. Андрей, так ли, а? Дома два-три, и будет.
— Иногда поедем в собранье: ведь ты поплясать не прочь.
— Поплясать-то, пожалуй, я люблю. Только ездить на бал дорого стоит. Грешно было бы с моей стороны и нечестно убить на одно платье то, что ты выручаешь в месяц с таким трудом.
— Ах, Маша, Маша? Зачем я не богат, мое сокровище! Клянусь тебе, я никогда никому не завидовал, не роптал на судьбу, что она послала мне скромную долю труженика. Но теперь, теперь я бы желал разбогатеть, Маша, чтоб окружить тебя всем, что делает жизнь приятною, легкою, веселою… Еще давеча, взглянув на комнатку, которую я приготовил для тебя, я сказал себе: не так бы я хотел убрать ее…
— Э! полно, Андрей! Может быть, в такой комнатке, о какой ты мечтаешь, сами-то мы с тобой сделались бы другие…
— Богатство отстраняет так много искушений, богатому легче быть честным и больше средств у него делать добро. Кто поручится за себя, что он, под гнетом нужды, не утратит частицу своего человеческого достоинства? А добрые дела? Бедный остается только при желании делать их. Иногда видит близкого ему человека на краю гибели и не может прийти к нему на выручку.
— Перестань, Андрей. Ты не то говорил прежде… и если любовь ко мне причиной этих мыслей, то мне больно. Нет! богатство как раз превратит людей в эгоистов, и, разбогатей мы с тобой, мы, пожалуй, делали бы гораздо меньше, чем делаем теперь. Половину наших добрых намерений перезабыли бы… А отец-то все не идет,— прибавила Маша, взглянув на часы; потом подошла к Андрею, сидевшему в раздумье, облокотясь на стол, взяла его за голову, посмотрела ему с минуту в лицо и поцеловала его в лоб.
В это мгновение старик отец вошел в комнату. Пойманная на этом братском поцелуе, Маша вспыхнула.
III
— Хе! хе! хе! — смеясь и растягивая слова, произнес казначей.— Ай да дочка! Хорошо! Чуть проводила отца и целуется с молодым человеком. Что? Покраснела небось, как брусника? Ну, ступай же, за это поцелуй и меня, старика.
Маша крепко обняла отца и исполнила его желание.
— Где это ты пропадал, отец? Я ждала, ждала тебя с чаем.
— Ну да! ждала… Сама рада-радешенька, что может с женихом с глазу на глаз покалякать; ты со мной не хитри; знаю я вас, вертушек: все как одна.
— Да полно тебе! Скажи лучше, чаю хочешь?
— Чаю? а что ж, разве выпить еще стаканчик?.. Нет, не хочу.
— Разве уж пил где-нибудь?
— Да еще какой чай-то пил! Такого мы с тобой, дурочка, и во сне не видали. Цветочный, целковых в десять фунт; а? как тебе это кажется? Вот как нынче отец-то твой кутит. Знай наших. Теперь я на твой чай и глядеть не стану.
— Знаю, что ты заходил к Тупицыным.
— Ишь какая, все знает. А кто тебе это сказал? — небось вот кто,— он указал пальцем на Андрея,— чутьем узнал, чутьем, мошенник, что его превосходительство меня потребовали, и сейчас шмыг сюда! То есть черт их знает, этих влюбленных, как они пронюхают все, что им нужно. Ведь вот я сам точно такой же был… Ты что, егоза, смеешься?.. Думаешь, что я всегда такой старый был, как теперь? Врешь, еще получше твоего жениха был. Бывало, как припомадишься, да завьешь себе кок, да манишечку наденешь это глаженую, да как станешь в храме господнем на клиросе, так ваша сестра, девчонки, то и дело на меня искоса поглядывают… Сама поклон в землю кладет, а глаза-то все в сторону смотрят. Да что вы у меня, в самом деле! Вот я вам покажу себя, женюсь. Да еще на ком? На Фекле Фоминишне женюсь, на заседательской дочери. Вот и будешь знать, как над отцом смеяться, как мачеху наживешь.
— Ты что-то нынче особенно в духе, отец. Не награду ли тебе обещал Тупицын?
— В самом деле,— вмешался Андрей,— я редко вас вижу таким веселым. Верно, что-нибудь есть такое…
— Да еще какое! Что дашь, Маша? Скажу тебе радость. Сигар десяток купишь отцу?
— Ну говори, что такое?
— Нет, ты скажи, купишь?
— Да они вон на лежанке, куплены еще давеча… Говори же.
— Ай да дочурка, молодец девочка. Ну, теперь можно, так и быть. Слушай же: его превосходительство, в день рождения своей супруги, то есть в следующий четверток, изволит давать торжественный бал.
— Мне-то что ж до этого бала?
— Погоди, погоди, не торопись. Не сейчас к докладу,— и Василий Степаныч расхохотался своей остроте.— Приглашение по билетам рассылают… Вообрази же ты себе, что вдруг ты получаешь от их превосходительства печатный билет, наравне с какою-нибудь вице-губернаторшей,— ты, казначейская дочка! Ну что! Каково? А? А ведь получишь, дурочка, ей-богу, получишь! Ее превосходительство сама мне изволила сказать: надеюсь, говорит, что вы вашу Машеньку привезете. Впрочем, я, говорит, ей билет пригласительный пришлю. Слышь, Маша? А? Билет! Да мы этот билет в рамочку вставим, пусть он в твоей комнате и висит. Ведь тебе в своей жизни, может быть, другого приглашения от вельможи не случится получить.
Маша и Андрей засмеялись.
— Что, рады? То-то же. А все я, я! Мне этим обязаны!
Маша подошла к отцу, положила ему на шею свою руку и сказала с улыбкой:
— А я не поеду на бал.
— Что-о-о? К их-то превосходительствам не ехать? Да ты это меня, видно, морочить захотела? Стар я, брат Машута, не надуешь. Вижу я, что у тебя в зрачках-то делается, вон, вон, так и бегают глазенки. А в душе-то, чай, во все колокола звонят.
— Не шутя говорю, не поеду. Что мне там делать?
— Как что? Известно, что делают,— танцовать будешь. Или разучилась? Небось с Андреем Борисычем-то немало по зале кружитесь.
— Ужасно весело танцовать с незнакомыми. Дам и девиц тоже у меня не будет там знакомых. Не с кем слова сказать… Если б Андрей поехал, другое дело.
— Что ты, Маша? — возразил Шатров.— Захотела, чтоб учителя на такой знатный бал приглашать стали… Разве ты не помнишь, как губернаторша говорила, что в собрании никого дам не было. Кто ж танцовал? — спрашивает прокурор.— Учительские жены!
— И сколько хлопот для этого бала!
— Ну, уж как хочешь, а поезжай… Что же я скажу-то ее превосходительству? Ведь меня, Маша, просто сочтут свиньей неблагодарною. Эдакую честь делают темному, маленькому человеку, а я воспользоваться ей не умею… Нет, Маша, как хочешь, воля твоя, и не моги отказываться, не огорчай ты меня…
— Ну, пожалуйста, отец, скажи, что я занемогла.— Она поцеловала отца.
— Что ты, господь с тобой, Маша! Болезнь на себя накликать! Этого и не думай. Я во все время службы своей никогда не отговаривался болезнью… Ни, ни! ни в каком разе. За это за самое бог-то и карает. Вот у нас Хлопушкин, канцелярист, закутил и перестал в должность ходить; болен, мол, лихорадка трясет. Лихорадка-то и пришла в самом деле, да вот с полгода его, голубчика, и трясет. Накликал, значит, лихую болесть. Нет, нет! Ты у меня этого и не затевай.
— Да что это им вздумалось меня приглашать?..
— Денег, видно, опять у Василья Степаныча просили,— заметил Андрей.
— Ах, отец, как это ты даешь казенные!
— Что ты, что ты! Его-то превосходительству отказать! Да кому же после этого и поверить… Слава богу, жалованье не маленькое получают; да и крестьяне свои есть. Будет чем отдать… Люди они благороднейшие, ведь уж не в первый раз даю. Другому, конечно, сохрани боже!.. скорее повесить себя позволю… или сам чтобы когда… нет! этого нет!.. Ну, а начальнику как же не дать? Известно, расходов у них много. Шутка ли, прислуга одна чего стоит, четыре повара на кухне. Опять лошадей тоже восемь содержат; кучера, конюхи там разные. Ну, гости каждый день; чай, сахар… все это пудами небось выходит… а чай-то видишь какой. Да и нельзя иначе, место такое занимают. Надобно себя показать; одно слово — вельможа.
— Смотрите, будьте осторожнее, Василий Степаныч!
— Господи боже мой милостивый! Ведь не в первый раз даю, говорят тебе. Всегда самым благороднейшим образом разделывались. Да слыханное ли это дело, чтоб особа, в генеральском чине, слову своему изменяла. И ведь как вежливо изволят просить: не можете ли, мол, почтеннейший Василий Степаныч, сделать мне одолжение? Слышишь… сделать одолжение генералу! Я же делаю одолжение… маленький-то, темненький-то человечек. Да ему приказать бы стоило только…
— Ну, приказать-то он не имеет права,— сказал Шатров.— Не имеет, не имеет… Ну да, хоть, положим, и не имеет, да прикажет, и исполняй; а не исполнишь, так разве трудно нашего брата в три погибели согнуть? А на мое-то место, чай, сколько людей зарятся… взял да сменил, и конец делу…
— Получили ли вы хоть расписку?
— Его превосходительство всегда изволили сами предлагать расписку…
— Ну, а нынче?
— И нынче хотели дать, да наехали гости… ну, и нельзя было; приказали после зайти.
— Эх, Василий Степаныч! Человек вы не молодой, а такие промахи делаете. Ну, как что случится? Мало ли… разве мы можем отвечать за один час наш?
— А бог-то на что?
В эту минуту в передней хлопнула дверь, и кто-то с шумом стал снимать калоши.
Шатров выбежал в залу взглянуть, кто был гость.
— Подгонялов,— произнес он шепотом.
Маша быстро вскочила с места и побежала в другую комнату. Шатров последовал за ней, старик остался один.
Вошел Подгонялов. Это был маленький человечек, лет «пятидесяти, лысый, но с гладко примазанными висками, в виде гусиных лапок. Физиономию его никогда не покидало сладкое, заискивающее выражение, подобное тому, какое бывает на лице таможенного чиновника, деликатно разрезывающего перочинным ножичком подкладку вашей шинели, чтобы посмотреть, не скрывается ли там контрабанды. Улыбка, глаза, вечно слезившиеся неизвестно по какой причине, должно быть по слабости нервов, казалось, так и говорили: ей-богу, ведь я прекраснейший человек; конечно, есть злые языки, называющие меня мошенником, но это клевета, сущая клевета. Нужно было очень немного проницательности, чтобы за этим сладким выражением увидеть не совсем рыцарские свойства. Впрочем, в бобровском обществе капиталист Подгонялов слыл за обязательного и милого человека, который, конечно, своей выгоды не упустит, но кто ж себе враг? Известно, своя рубашка к телу ближе. Жандармский штаб-офицер, одаренный от природы шекспировским сердцеведением, говорил, что Геронтий Петрович Подгонялов — благонамереннейший человек, которого только он встречал в жизни, и полицмейстер тоже утверждал, что он — праведная душа. Только разве самые отчаянные скептики, большею частью молодежь из кончивших курс в разных заведениях, да учителя гимназии, пропитанные тем, что Фамусов называет завиральными идеями, иронически улыбаясь, слушали похвалы, расточаемые губернскою знатью капиталисту. Носились даже темные слухи, что когда Геронтий Петрович служил в таможне, то он похитил некий таинственный ящик, куда пускали свою лепту все таможенные чиновники, пользовавшиеся кое-какими безгрешными доходами, и, таким образом, приобрел довольно значительный куш, делившийся обыкновенно, по истечении года, между всеми чиновниками поровну или соразмерно труду и усердию каждого к приращению общей кассы. Преследовать Геронтия Петровича, конечно, не могли, потому что деньги, которые вмещал в себя заветный ящик, были не совсем законно приобретены. Но, обманувши так неожиданно доверие людей, еще веривших в святое чувство товарищества, он не мог уже оставаться долее при таможне, да и сам он не находил в этом нужды. Будущность его была обеспечена, и с тех пор началась блистательная эпоха его существования. Он участвовал в откупах, в золотых приисках, в разных промышленных предприятиях, и всегда с успехом. Капитал его все увеличивался. Он пускал его в рост под большие проценты, и в то время, когда происходит рассказ мой, владел в Боброве едва ли не самым большим каменным домом и старался завести завод сальных свеч. Впрочем, повторяю, историю о таинственном ящике рассказывали только отчаянные скептики, которые, черт их знает, как все умеют пронюхать, что вовсе до них не касается. А потому я и не выдаю ее за нечто достоверное, не подлежащее сомнению.
Капиталист одевался крайне прилично. Сюртук у него всегда был новенький, не затасканный, сапоги отлично вычищенные, на руках блестело множество перстней. Целая связка сердоликовых печаток болталась на его довольно круглом брюшке, свидетельствовавшем, что ящик пошел впрок и что никакие болезни века не тревожили почтенного Геронтия Петровича. Впрочем, он тоже подчас был не прочь потолковать о благонамеренности и до глубины души возмущался, если слышал, что какой-нибудь чиновник взял с просителя благодарность, или лекарь в рекрутском присутствии, искусно запустив руку в рот здоровому парню, как будто пробуя его челюсти, находил там совершенно нечаянно золотой и потом, обращаясь к приемщику, говорил: «Не годится…»
Василий Степаныч недолюбливал Подгонялова, не зная, впрочем, и сам, по какой причине. Так, просто не лежало сердце. Но Геронтий Петрович был так вежлив, так предупредителен к казначею, так обязательно предлагал ему разные услуги, то тарантасика, прокатиться за город, то пару зайцев, затравленных на последней охоте, то дыню для Маши, что Василий Степаныч поневоле старался подавить в себе неприязненное чувство к капиталисту. Притом же было еще одно обстоятельство, побуждавшее казначея платить Геронтию Петровичу за его обязательность тем же и отчасти смягчавшее дурное впечатление, которое всегда производила на душу старика сладкая мина капиталиста. Господин Тупицын, в распоряжении которого состояло все существо Василья Степаныча, не только принимал к себе Подгонялова по воскресным и табельным дням и чувствительно жал ему, при всей бобровской публике, руку, но даже и запросто приглашал его на чашку чаю, а губернатор так ни с кем охотно не садился играть в карты, как с Геронтием Петровичем.
«Ведь не стали бы с дурным человеком такие особы дружбу вести,— думал про себя Василий Степанович,— а что у меня к нему сердце не лежит, так еще этого ему в укор поставить нельзя. Что я за колдун такой, чтобы человека насквозь видеть».
Что же касается до толков об ящике, то Василий Степаныч решительно не хотел им верить, зная, что не найдется в мире ни одного существа, про которое бы злые языки дурно не говорили. А на всех и сам бог не угодит.
IV
— Многоуважаемому Василью Степановичу мое душевное почтение,— произнес капиталист еще на пороге гостиной, весьма ловко сунув под мышку свой бобровый картуз, дабы иметь возможность протянуть обе руки хозяину.
— Милости просим, Геронтий Петрович, милости просим, прошу садиться.
— Сядем-с,— отвечал Подгонялов, опускаясь в кресло и искоса поглядывая на дверь, куда скрылась Маша. Он вынул из заднего кармана фуляр, с изображением поезда по железной дороге, и отер им свое чело.— Изволили, кажется, в соборе литургию слушать-с? — спросил он казначея.
— Да-с, Геронтий Петрович, был-с; а вас, кажется, не было, или не досмотрел я…
— Нет-с, я в своем приходе, у Симеона-столпника; там, знаете, попросторнее, а в соборе-то уж очень тесно, потеешь, потеешь, потом рубашку хоть выжми: какая уж тут молитва, прости господи!
— Это точно что так-с, справедливо изволите говорить, жарконько… Я потому более в соборе, знаете, что благолепие такое, величие!.. ну и поют архиерейские певчие отменно, словно ангельский клир.
— Преосвященный служил?
— Как же-с, преосвященный. Ведь нынче табель, разве забыть изволили?
— Да! Так… так… Ну, а Марья Васильевна не были, видно, пропочивали?
— Она к заутрени, Геронтий Петрович, ходила. Нет, она у меня благодаря господа не лентяйка, нет. В страхе божием воспитана и в будни так даже иной раз ходит.
— Именно примерная девица. Можно в образец поставить. Ведь вот подумаешь, Василий Степаныч, дома воспитание Марья Васильевна получили, и средства-то ваши не то чтобы бог знает какие… а ведь почище нынешних-то модниц, что в пансионах образовываются, вышли-с. Вот оно что значит, как душой-то кого господь бог голубиною одарит. Да и глаз-то родительский много значит; нет, кто что ни говори о нынешнем воспитании, а родительский глаз — великое дело. Ну что проку, что по-французски научат, когда тут-то главного нет,— капиталист показал на сердце.— По-моему, всего важнее нравственность; это первая и святая вещь.
Геронтий Петрович вздохнул, и глаза его заслезили. У Василья Степаныча тоже просияла физиономия от похвалы его Маше.
— Не могу гневить бога, Геронтий Петрович, не могу роптать на дочь: послушная, кроткая, умница. Не потому, что я отец ее, так говорю, а и со стороны тоже, я думаю, вот хоть бы вы теперича похвалить изволили…
— Поверьте, мой почтеннейший, поверьте, что не я один, все одинаково о Марье Васильевне отзываются, все в образец благонравия их поставляют. Я не льстец бездушный, не кружева плету, не придворный какой человек, сами знаете, трудами копейку нажил, но уж не могу умолчать. Добродетельная девица, одно слово. Нынче, Василий Степаныч, добродетель не уважается,— прибавил капиталист самым искренним, добродушным тоном,— нынче книги превыше всякой добродетели вознесли. Такой век пошел. Но мы с вами не так рассуждаем. Старого покроя люди. Ох, ох, ох! Что из этих из книг-то вычитают…
— Это действительно, Геронтий Петрович, что нынче не такая строгость, как в старину-с.
— Куда, почтеннейший! Вот хоть бы я теперь; холостой человек, не знаю сам, зачем на свете божьем маюсь; не знаю, кому и добытое честным трудом, в поте лица добытое, оставлю. Сирота как есть, ни роду, ни племени.— При этом глаза его не только заслезили, но и заморгали, и вся поза выразила величайшее смирение, пальцы, переплетаясь, лежали на желудке, а голова склонилась набок.— Часто думаю себе: господи боже мой! Если б найти подругу, которая бы, так сказать, усладила путь жизни… Вот бы истинное-то было блаженство. Да нет; страшно всё; такие девицы-то нынче пошли… все мне не по сердцу, нет в них этого…— он тихо покачал головой,— всё одни увеселения их прельщают.
— Что же, Геронтий Петрович, если благую мысль возымели, не все же одинаковы; есть и скромные девицы.
— Эх, милейшая душа! Где они, эти скромные? Откровенно скажу, Марью Васильевну первую и единственную вижу…
— Вы уж слишком ее, Геронтий Петрович, изволите жаловать.
— Я слишком? Нет, Василий Степаныч! Нет! И в писании сказано — кесареви кесарево. Прямо, по откровенности, скажу; ведь у меня что на уме, то и на языке, не придворный человек, не политик. Прямо, прямо скажу, Василий Степаныч, что лучшей жены не желал бы, как перед богом.
Василий Степаныч сидел молча и потупясь.
— Послушайте, глубокоуважаемый Василий Степаныч. Я, собственно, к вам в этом самом намерении и явился. Соблаговолите! Человек я, как вам небезызвестно, непьющий, состояньице кругленькое; не молод, конечно, да ведь это, смею думать, для такой благоразумной девицы служить препятствием не может. Не дряхлый же я старичишка опять какой-нибудь; благодаря бога еще в своих силах! Я, если можно так выразиться, к ним более отеческое чувство питаю… Это попрочнее будет, смею сказать, милейший Василий Степаныч, нежели теперича у какого-нибудь ферлакура кровь одна играет. А уж в каком Марья Васильевна будут удовольствии жить; я им все имущество свое предоставлю.
Казначей совсем смутился и, не зная, что отвечать, сдувал со стола пыль, которой не было.
— Что же вы, дорогой Василий Степаныч, как на этот счет рассудите? Может быть, в чувствах Марьи Васильевны сомневаетесь; так что ж? Поговорите с ними. Я обожду, лишь бы в надежде быть.
— Конечно, Геронтий Петрович,— начал, заикаясь, казначей,— конечно, это честь вы нам изволите делать, какой мы и ожидать не смели-с; мы, конечно, люди маленькие, темные.
— И, полноте, милейший! И сам-то я не в парче взрос. В такой же люльке, как и вас, мамка качала, еще и похуже, пожалуй. Только что взыскан господом.
— Это так-с, Геронтий Петрович, но все же можно сказать — честь неожиданная. Только уж вы меня простите великодушно. Отцовское сердце вы знаете какое… Я не могу, Геронтий Петрович, видит бог, не могу принуждать Машу…
— Да кто же о принуждении и говорит, милый друг. Вы только сообщите Марье Васильевне, что вы желаете этого. Они, вероятно, и слова не скажут в противоречие воле родительской.
— Нет-с, Геронтий Петрович, как я теперь известен о том, что она другого любит…
— Другого-с?
— И как уже я и сам обязался…
— Вот как-с! — Глаза капиталиста замигали сильнее.— Так уж Марья Васильевна просватаны-с? За кого же это, позвольте осведомиться?
— За Шатрова, за Андрея Борисыча. Вот после рождества и свадьба будет-с. Только письма от братца Андрей Борисыч дожидается.
— Гм! опоздал, значит. Что делать! Только позвольте, Василий Степаныч, что же вы в этом браке видите такого особенно выгодного?
— Да я за выгодой не гонюсь, Геронтий Петрович, где нам! Мы люди не бог весть какие. Была бы счастлива Маша. Благо, нашелся человек хороший, понравился, и слава богу.
— Конечно-с, конечно-с, кто говорит! Только в кармане-то у него, чай, жиденько?
— Не умрут с голоду, Геронтий Петрович; он малый-то с головой, не лентяй, не праздношатайка какой; тоже хлеб-то себе трудом добывает. Не пропадет, Геронтий Петрович.
— Так-с, так-с. Только ведь жалованье-то им не больно крупное идет. Знаю я тоже…
— Будет с него. К роскоши не привык, да и Маша моя тоже. Ну, братец еще у Андрея Борисыча есть, в министерстве служит, любим начальством, может, в случае, о местечке похлопотать…
— Так это, оно выходит, вы мне карету подали?
— Уж вы извините, Геронтий Петрович. Сами изволите знать, слово святая вещь для всякого, до кого ни доведись.
— Ну, конечно! Не сдержите слова перед учителем, так ведь он вас с лица земли стереть может,— хе, хе, хе! Вельможа! — иронически произнес Подгонялов.
— Не в том сила, Геронтий Петрович, а для самого себя слову изменить перед богом грех.
— Знаю, знаю. Ведь это я только так, шучу. Мое истинное почтение, Василий Степаныч. Извините, что обеспокоил.
Подгонялов встал с своего места и откланялся. Василий Степаныч пошел проводить его до передней и не мог не заметить на лице его сильного неудовольствия, как ни старался он скрыть этого за сладкою улыбкой. Но улыбка эта тотчас же исчезла, как только капиталист вышел за ворота. Он принялся на чем свет стоит ругать казначея.
— Ах ты, старый пес! — говорил он вслух, скрипя калошами по снегу.— Казначейское твое рыло! Каково? Карету подал! А? За учителя просватал, за оборванца, который, я чай, с семи лет в одном белье щеголяет… Да ты бы, тряпка чернильная, не только в пояс мне поклониться должен, а еще пойти да Николе свечку поставить, мошенник эдакой! Отцовское сердце! Скажите! Туда же разнежничался, барин какой! Да постой, ведь мы с Тупицыным-то закадычные, водой не разольешь; вексель-то его у меня в кармане. Еще мы найдем случай скрутить тебя, голубчик, постой! Руки-то не стоило бы об тебя марать, плюнул бы на тебя, на подошву старую, да девчонка-то больно хороша! Писаная точно! Я еще таких и не видывал. Плечики такие пухленькие, беленькие…
И на губах Геронтия Петровича показалась снова самая сладкая улыбка. Он прервал монолог свой и предался приятным мечтам о том, как хорошо иметь госпожу Подгонялову с такими пухленькими и беленькими плечиками. Но спустя несколько минут произнес опять с прежним азартом:
— Погоди, шельмец! Скручу, как свят бог, скручу! Будет моя Машутка, будет!
V
Бал у господина Тупицына удался как нельзя лучше. Весь город плясал до одышки. Дамы были в восхищении от вкуса, с каким хозяин дома убрал комнаты, от новых полек, выписанных им нарочно для этого случая из Москвы; мужчины всего более остались довольны ужином, за которым подавали такие фрикасе, что иной чиновник и во сне ничего подобного не видал. В свой черед господин Тупицын совершенно растаял от лестной похвалы, которую изрекли уста градоначальника, когда хозяин дома провожал его до дверей передней.
— Поздравляю, mon cher, поздравляю; вы задали такой бал…— произнес градоначальник, целуя кончики пальцев своей правой руки.
Какой именно бал, он не договорил, но по лицу его можно было видеть, что он даже не подберет приличного эпитета для подобного бала. Хозяин, положа руку на сердце и наклоня голову несколько на сторону, тоже не находил, что сказать, и только улыбка говорила о восторженном настроении души его. Зрители были растроганы этой сценой чуть не до слез.
Ночь после этого бала господин Тупицын провел такую, какой, по сладости чувств, его волновавших, он не проводил с самой свадьбы своей.
Госпожа Тупицына сдержала свое слово и прислала Маше билет. Несмотря на все сопротивления, Маша наконец должна была уступить просьбам отца. Одевшись в белое кисейное платье и убравши свою русую головку гирляндою из голубых цветов, она отправилась тоже на бал, в возке, который выпросил для нее Шатров у жены директора гимназии. Не знаю, много ли удовольствия доставил ей этот бал, где не было ее жениха, но зато Василий Степаныч находился в неизъяснимом восторге. Прижавшись где-то в уголке, он не спускал глаз с своей Маши, и если ее приглашал танцовать кто-нибудь из губернских львов, старик самодовольно поглядывал на окружающих и, казалось, старался вычитать на их лицах то восхищение, которым так полно было его собственное сердце.
Две недели прошло после бала. В течение этих двух недель Василий Степаныч заходил раза три к господину Тупицыну за распиской, но все как-то неудачно: то гости были у него, то самого его не было дома.
В одно ноябрьское утро господин Тупицын был внезапно опечален письмом, полученным с почты. Круглое, как тарелка, лицо его, обнесенное черными густыми бакенбардами и редко принимавшее озабоченное выражение, если он не был занят государственными делами, вдруг помрачилось. Перечитав письмо раза три, от «вашего превосходительства» до «покорнейший и преданнейший слуга», он сложил его и бросил на стол, а сам принялся шагать из угла в угол по кабинету, размахивая шнурками своего великолепного халата из тармаламы {16}.
Кабинет господина Тупицына, подобно всем кабинетам деловых людей, был завален книгами и бумагами. На шкафу с книгами стоял даже бюст Сократа.
Путешествие по кабинету продолжалось добрых десять минут, по истечении которых господин Тупицын дернул сонетку и приказал вошедшему затем человеку в сером фраке и красном жилете попросить в кабинет барыню.
Барыня не заставила себя долго ждать. Madame Тупицына была довольно полная дама, лет тридцати восьми, с какими-то желтыми пятнами, проступавшими по лицу (впрочем, совершенно незаметными при свечах, по уверению бобровских граждан), с несколько томным выражением в глазах серого цвета, с крупными губами и немножко вздернутым носом. Старички, знавшие ее в цветущую пору жизни, говорили, что она была очень пикантна, и по секрету прибавляли, что ей вовсе не тридцать восемь лет, а сорок два года. Она вошла в белом пеньюаре, с маленьким флакончиком в руке, который она то и дело подносила к носу. Аматер со стороны женской красоты, вроде моряка Жевакина {17}, не без удовольствия заметил бы приятную полноту рук, видневшихся сквозь тонкие рукава пеньюара, а также и весьма изящный выгиб шеи, несколько наклоненной вперед.
— Ou avez vous Michel? vous paraissez agite? [34] — спросила она, увидев облако печали на олимпийском челе супруга.
Она была нежная жена и при виде этого облака совсем забыла неудовольствие, которое было овладело ею, когда человек, позвав ее в кабинет, отвлек от чтения Поль-Февалевых «Amours de Paris» [35] {18}, и заметьте, что она остановилась на самом интересном месте.
Господин Тупицын продолжал ходить по комнате и только бровями указал жене на лежавшее на столе письмо, промолвив:
— Прочти, матушка.
— Mais au nom du ciel [36], что такое? Я не разберу этого барбульяжа… {19}
— То-то, барбульяжа! — произнес господин Тупицын, и в тоне его проглядывал упрек, хотя, собственно, упрекать жену больше чем самого себя не было никакой причины.— Вот что ты заговоришь, как Лукошкино-то с молотка продадут.
— Dieu de miséricorde! [37] Как это с молотка?..
— Так! Уж оно описано; наш поверенный, Игнатий Парфентьич, кое-как успел вымолить у председателя, чтоб отсрочить продажу. Если мы не пошлем с этою же почтой денег, все будет кончено: опекунский совет не ждет,— это не лавочник какой-нибудь.
— Ну, что же, надо послать.
Мишель горько усмехнулся.
— Давай, если есть, матушка,— сказал он, продолжая шагать по кабинету.
— Как давай? Да разве у нас нет?..
— Разве нет! Хм! Откуда же им быть-то, ты об этом подумала?
— Ах, Мишель! Я готова на все, но что я могу, я женщина! Возьми мои брильянты.
— Ей-богу, ты, матушка, точно какое дитя пятилетнее. Возьми ее брильянты! Какие? — спрашиваю я. Брошку, что ли? Ведь, кажется, должна бы помнить, что в фермуаре давно брильянты не существуют, а вместо брильянтов вставлено черт знает что. В прошедшем году, не позже, дело происходило. Нужно было обед дать, в день твоих именин, ну и… еще были кое-какие обстоятельства… мог и места лишиться, если бы не… Да я тебе все это излагал тогда же!..
— Ах, Мишель! Я совсем потеряла голову при этом известии… J'ai tout oublié [38].
— Да еще это не все, матушка…
— Как! Неужели еще что-нибудь? Ах! Как замирает сердце; говори скорей, Мишель!
Тупицына сделала мину, приуготовительную к слезам.
— Донос на меня какой-то подлец сделал.
— Quelle infamie! Une délation! [39] — могла только воскликнуть генеральша.
— Одно очень важное лицо едет ревизовать губернию и преимущественно должно обратить внимание на мою часть…
— Ну что ж? Разве в твоей части есть что-нибудь такое?
Господин Тупицын махнул рукой, как бы желая выразить, что с бабами толковать — только время попусту тратить.
— Эх, матушка, по-женски ты говоришь…
— Ну что ж! — возразила, обидевшись, madame Тупицына,— конечно, по-женски, certainement [40], я женщина; как же я могу иначе судить: je ne suis pas versée dans ces sortes d’affaires [41].
— Ну, вот и прогневалась. Хоть бы ты меня пощадила! Видишь, кажется, что на мужа со всех сторон бедствия, а ты еще тут обижаться выдумала. Вот ты лучше придумай, как тут обернуться… Ведь я знаю, что у этих господ первое дело в суммы свой нос совать.
Помолчав немного, он прибавил:
— Донесли, что я на казенные деньги обеды даю.
— И кто это донес, боже мой! — отозвалась madame Тупицына, смягчившись.
— Кто? Мало ли у меня здесь друзей, доброжелателей! Я думаю, это шельма Сеновалов. Ему хочется на мое место попасть. С прокурором они душа в душу… А у того весь Петербург родня…
— Что же делать, Мишель?
— Ума не приложу! В голову точно кто кулаками стучит. И ведь как нарочно, еще недавно взял из сумм больше тысячи целковых. Нужно было с этими мошенниками купцами разделаться, а то они ничего отпускать не хотят. Ну и бал тоже, ты сама знаешь, недешево обошелся. Нельзя же не поддержать себя… Ездим, ездим ко всем, а самим одного бала в год не дать…
— Верно, этот старикашка казначей проболтался, что ты у него берешь.
— Вот еще! Смеет он. Он сам отвечает. Нет. Может быть, это людишки мерзкие подслушали… Я давно говорю, что нужно квартиру переменить… Кабинет подле самой лакейской. Вот негодяй Степка теперь к прокурору подступил. Со зла, что я ему за три месяца денег не отдал, плетет, чай, там всякий вздор, а тот и рад, это ему на руку… Ведь это настоящая салопница, баба старая, всему верит, только сплетнями и живет. Это называется прокурор! Только на пакости его и хватает.
Господин Тупицын находился в сильном волнении.
— Занять, во что бы то ни стало занять нужно,— приговаривал он, махая так сильно шнурками халата, что чуть не задел бедного Сократа.— Разве за купцами послать… Да ведь это скареды, иуды. Половиков еще сговорчивее. Да я ему и без того целые два года должен за кучерские кафтаны и за басан {20} к карете. Такой уж город подлый! Я думаю, во всей России подобного не найдешь. Нет, чтобы кто подал ближнему руку, если видит его на краю бездны; еще, напротив, все норовят, как бы утопить тебя. А тоже христианами себя называют! К обедне по воскресеньям ходят!.. Когда это только господь вынесет меня из этого омута?
— Ах! Michel, quelle idée m’est venue! [42] К Подгонялову обратиться!
— Нашла кого! Он и то мой вексель чуть ко взысканию не подал. Этот хуже купцов. С теми по крайней мере не церемонишься. Сделает борода ребенка, поедешь к нему крестить, ну, он и доволен и ждет год. А эта скотина к себе уважения требует… Как же! Нельзя! Таможню ограбил.
— Попробуй, однако же. Может быть, нельзя ли как через губернаторшу на него подействовать; он, кажется, ее очень уважает… считает ее grande dame,— иронически прибавила madame Тупицына.— Хороша grande dame, горничных девок в наказание около постели своей плясать заставляет! C’est impayable [43].
— Он вообще к женскому полу слаб,— заметил господин Тупицын.— Ужасно безнравственное животное.
— Ну, хочешь, я с ним пококетничаю, Мишель? Может быть, и отопрет свои сундуки.
— Эх, матушка! Кабы ты такая теперь была, как тогда, когда я за тебя сватался, ну другое дело. Тогда бы ты хоть кого так разнежила. А теперь мы уж с тобой старики.
Madame Тупицына, казалось, не слышала этой фразы и, подойдя к зеркалу, охорашивалась. Видно, Александр Дюма-отец справедливо замечает, что у женщины в сердце есть всегда уголок, в котором она не стареется.
— Ну, что ж, Мишель, решаешься послать за Подгоняловым?
— Толку-то в этом мало будет.
— Уж предоставь мне… je me mettrai en quatre [44], и увидишь, что сладим дело.
— Ну, пожалуй, попытаться можно.
— Ты меня смотри не ревнуй, Мишель,— прибавила Тупицына с обворожительною улыбкой.
Мишель только махнул рукой.
Madame Тупицына вышла и вскоре отправила казачка к Подгонялову с записочкой, написанною на палевой бумажке, с кружевными à jour обводочками, вложенною в самый изящный, миниатюрный конверт и запечатанною облаткой с каким-то французским девизом около летящего голубка. А сам господин Тупицын между тем, уперев локти в письменный стол и держа над глазами руки в виде зонтика, старался вникнуть в каждое слово лежащего перед ним письма. В письме этом ясно значилось, что ревизор выехал уже и должен быть скоро.
Подгонялов не замедлил явиться на зов госпожи Тупицыной. Не буду в подробности передавать читателю всех средств, употребленных светскою, образованною дамой, чтобы тронуть загрубелое сердце собственника. Мольбы, слезы, вздохи, нежные взгляды — все было пущено в ход. Madame Тупицына оделась с необыкновенным вкусом, приняла позу, какую принимают всегда героини русских повестей, изображающих высшее общество; то есть она предстала капиталисту полусидящею, полулежащею на кушетке. Бледная ручка генеральши то и дело подносила к глазам батистовый платок. В будуаре были опущены розовые шторы, отчего лицо госпожи Тупицыной казалось не так желто, как обыкновенно, и несколько моложе. С искренностью, доходившею до наивности, рассказала она капиталисту плачевные обстоятельства своего Мишеля и проболталась даже, что он взял значительную сумму из казенных денег, причем заметила, что это могло погубить казначея, а мягкое и великодушное сердце ее супруга ничьей гибели не желает. Капиталист был действительно тронут доводами светской дамы и хотя сначала крепко заартачился, прикинувшись лазарем, у которого, хоть весь дом обыщи, ни гроша не найдешь, но потом обещал подумать и поспросить у одного знакомого, дававшего деньги в рост. От госпожи Тупицыной он прошел в кабинет ее супруга.
VI
— А-а-а! Добрейший Геронтий Петрович! — воскликнул Михаил Максимыч Тупицын, как будто явление капиталиста было для него совершенной неожиданностью.
— Мое всенижайшее почтение вашему превосходительству. Изволили меня требовать-с?
— Требовать?.. Да, да!.. Видите ли, мой почтенный… вы… вы видели жену?
— Сию секунду только от Антонины Семеновны-с.
— Жена вам ничего не сообщала?
— Как же-с, то есть это насчет займа-с.
— Ну да, ну да! Выручи, голубчик Геронтий Петрович,— сказал господин Тупицын, пожимая руки капиталисту.— Хоть за мной и есть… там… но уж все вместе отдам, в самом непродолжительном времени. Вот из Петербурга должен получить месяца через три порядочный куш. Тяжба там у меня, ну и совсем решено в мою пользу. Только теперь-то вот обернуться нечем, как рыба об лед бьюсь. Пожалуйста, выручи, Геронтий Петрович! до зарезу нужно.
И при этом Михаил Максимыч сделал известный жест, как будто перерезывает себе горло.
— Отчего же, ваше превосходительство, и не выручить ближнего-с; это даже и долг христианский повелевает-с.
— Я никогда, почтенный мой Геронтий Петрович, не сомневался,— произнес самым задушевным тоном господин Тупицын,— что у тебя в тысячу раз больше христианского чувства, чем во всех здешних тузах… Только на словах они все друзья… покуда их обедами кормишь.
— Это точно бывает-с, ваше превосходительство! Нет-с, я не так… Отчего же, коли можно, отчего не извлечь из бедственного положения-с, тем более что вы не кто другой-с, ваше превосходительство.
— Так я могу рассчитывать, почтенный Геронтий Петрович, а?
— Постараюсь, постараюсь, ваше превосходительство. У меня в настоящее время, ей-богу, ни копейки не найдется-с, кроме разве того, что на мое скудное существование оставлено-с. Но уж я для вашего превосходительства постараюсь, все силы употреблю.
— Постарайтесь, голубчик Геронтий Петрович! Век не забуду вашего одолжения.
— Только изволите ли видеть, ваше превосходительство, у меня тоже к вам будет всепокорнейшая просьбица-с.
— Что такое, что такое? — быстро спросил господин Тупицын.— Я все… изволь… что только от меня…
— От вас, единственно тут вас, ваше превосходительство, иначе бы и затруднять не осмелился.
Михаил Максимыч очень обрадовался, что и капиталист в нем имел нужду. Ему казалось, что сам бог устраивает все это так кстати.
— Все мы, как ваше превосходительство изволили сами выразить, обязаны, по долгу христианскому, взаимно помогать друг другу. Это в писании так значится.
— Ну да, ну да! В чем же дело?
— Не оставьте, ваше превосходительство. В ваших руках, смею доложить-с, счастие целой жизни моей находится.
— В моих руках?
— В ваших, и ничьих более. В законный брак вступить имею вожделение-с.
— Вот как! Ну, что же, посватать, что ли? Или посаженым отцом быть? Изволь, изволь, Геронтий Петрович: будь у меня дочь, я бы тебе ее с руками отдал.
— Много признателен, ваше превосходительство,— отвечал Подгонялов, низко кланяясь.— Только я не насчет того, чтобы в посаженые отцы ваше превосходительство просить-с; тут совсем иного рода казус вышел-с. Казначея Агапова изволите знать, ваше превосходительство?
— Ну, как же! Ну…
— Так вот его дочка-с… Сильно зацепила ретивое, ваше превосходительство.
— Ну и прекрасно! Это доброе дело, коли ты за богатством не гонишься. Отец, чай, и во сне не видал такой партии, радешенек!
— То-то и удивительно, ваше превосходительство, что в нем-то главная загвоздка и есть, главное-то препятствие.
— Что-о-о? Неужели не хочет?
— За другого, изволите видеть, просватал-с; за Шатрова, за учителя.
— Какая глупость!
— Истинно не могу в толк взять, ваше превосходительство, какие он при этом виды питает?
— Странно, очень странно. Но что ж я-то тут могу? Семейные дела до меня не относятся.
— Оно действительно, ваше превосходительство, не относятся, но опять с другой стороны если взять, то и относятся-с.
— То есть как же это с другой стороны? Я что-то не понимаю.
— Да со стороны, если можно так выразиться-с, начальственной-с. Потому, как вы ему теперь начальник будете, ваше превосходительство, то в вашей власти ему всегда приказать: сделай, мол, то-то; я тебе приказываю.
— Но как же приказать дочь-то выдать? Это ни с чем несообразно, Геронтий Петрович.
— Как несообразно, ваше превосходительство? Ведь его судьба некоторым образом вся от вас зависит. Конечно, все мы в руцех божиих, но после бога — в начальнических.
— Конечно, я могу употребить свое влияние, положим, это так. Ну, а если не согласится, что ж я с ним буду делать? Ведь не на костре его жечь… отдай, да и только! Ведь мы не во времена инквизиции живем.
— Жечь не жечь, ваше превосходительство; зачем жечь? а припереть его эдак хорошенечко к стенке не помешает! Осмелюсь повторить, ваше превосходительство, ведь он в вашей совершенно власти, как есть в вашей. Ведь на волоске одном висит от гибели. Если вам только благоугодно будет, можете его хоть сейчас под суд-с. И солдатом будет-с. А пятидесяти-то лет начинать лямку тянуть, оно не так-то аккуратно…
— Да что ты мне тут поешь, Геронтий Петрович, под суд, в солдаты?.. Да за что же я его?..
— Как за что, ваше превосходительство? Антонина Семеновна сами мне изъяснять изволили, что у него в казенных деньгах сильный недочет-с,— сказал Подгонялов, переминаясь и вертя в руках картуз.
Господин Тупицын вытаращил глаза. Он понял, что его супруга брякнула капиталисту даже то, чего и не следовало.
— Недочета нет, это вздор,— возразил он, сконфузясь.— Я у него брал, это так, но я надеюсь,— прибавил он с чувством собственного достоинства,— что вы не считаете этих денег пропащими.
— Сохрани меня творец всевышний иметь подобную мысль! Как я осмелюсь, ваше превосходительство, помилуйте! Я только полагал, что, может быть, к приезду-то ревизора вы не изволите успеть пополнить-с, так как теперича нуждаетесь в капиталах; сумма тоже немаловажная-с.
— Так если б я не пополнил, я отвечать буду, не кто другой,— продолжал гордо господин Тупицын.
— Точно так-с, конечно-с… если расписки есть у него-с.
— Разумеется, есть.
— А мне Антонина Семеновна выразили, что вот, мол, добрый какой казначей, без расписки дал, а его вдруг погубить теперича… Так я поэтому только и осмелился заметить.
— Если я не дал еще расписки, так единственно потому, что не успел. Я дам, непременно дам сегодня же.
— Это, конечно-с, время не ушло. Только не лишнее ли это будет, ваше превосходительство? Во-первых-с, давать он не имел ни под каким видом права; а во-вторых, не все ли одно, что вы словесно объясните при ревизии, что деньги вами взяты, что он расписку предъявит. Впрочем, мое дело сторона-с. Так вашему превосходительству не угодно будет снизойти на мою всепокорнейшую просьбицу-с?
— Я все-таки не взял в толк хорошенько, чего вы именно желаете?..
— Дело простое, ваше превосходительство. Вы его только постращать при чиновниках извольте-с. Ведь это не то что погубить,— постращать только, что если, мол, ты не найдешь денег к такому-то сроку, так я, мол, тебя под суд. Ну, а уж я тем временем дельце-то обделаю. Скажу, хочешь, Василий Степаныч, выручу, отдай дочку. А не отдашь — пропадешь. Наденут амуницию.
— Да, помилуйте, как же я постращаю его, когда деньги я сам брал?
— Да кто же это знает, ваше превосходительство, что вы изволили взять? А может, он и сам растранжирил. Ведь документа нет-с.
— Да ведь это подлость! Ведь он мне в лицо плюнуть может!
— Вашему-то превосходительству? Что это вы, господь с вами, ваше превосходительство, да виданное ли это дело-с! И подлости тут тоже никакой я не вижу, осмелюсь доложить… Ведь мало ли что нынче подлостью называют-с! Так на все и смотреть-с! Уж нынче век такой-с, только и смотрят — как бы тебя подлецом обозвать. Эдак, пожалуй, и жить совсем нельзя будет, если всего бояться… Ведь говорят же вот, что обеды давать, а купцам не платить по счету тоже подлость. С просителя благодарность взять — подлость; от казны чем ни на есть попользоваться — подлость. Так много ли после этого, сами вы рассудить извольте, ваше превосходительство, честных людей на свете божием останется? А впрочем, как вашему превосходительству будет угодно, только уж и я насчет своего содействия к уплате недоимок в опекунский совет обнадежить не могу, если со стороны вашей не последует такого же желания оказать мне ничтожное одолжение.
Капиталист произнес последние слова твердо и решительно. Прежнее унижение и подобострастие вдруг исчезли. Он говорил, как с равным. Господин Тупицын взглянул на него исподлобья и стал ходить по комнате. По физиономии его можно было догадаться, что в нем совершалась борьба.
«И ведь дернул же черт жену все выболтать этому мошеннику,— думал он про себя,— ну к чему было изъяснять, на что деньги. Сказала бы, что в совет нужно послать. А почему он там знает, много ли на мне недоимки».
Но обстоятельства сильно прижали господина Тупицына, а выхода не представлялось. Он отпустил Подгонялова, сказав, что подумает.
— Вы только это сообразите, ваше превосходительство,— заметил, откланиваясь, капиталист,— что ведь вы не вред ему, а добро некоторым образом делаете-с. Своего счастья не понимает. Да у меня его дочери такое житье будет, что и принцесса иная не отказалась бы… А за учителем она что увидит?.. Гол как сокол.
Оставшись один, господин Тупицын долго думал. Сперва он изыскивал в уме своем все средства, как бы выйти из своего положения без помощи капиталиста. Он перебрал в памяти всех знакомых, на которых могла бы быть хоть какая-нибудь надежда. Но всем им он оказался уже должен; а многие роптали на него и даже тревожили его просьбами об уплате. Получить он ниоткуда не ждал, по крайней мере в скором времени. Тяжба у него действительно была в Петербурге, но в его ли пользу или в пользу противника она решится, это оставалось еще во мраке неизвестности. Круто, больно круто приходилось почтенному сановнику города Боброва. Ясно было, что патриархальность нравов и чистейшая любовь, связывавшая когда-то всех граждан этого города, начинали испаряться и уступать место общественному разладу и враждебному столкновению интересов, свирепствующих в странах цивилизованных. С одной стороны — доносчики, с другой — кредиторы. Каждый сует свой нос куда не следует, каждый подкапывается под твое спокойствие, под твое домашнее благосостояние. Плохо! Очень плохо! Когда все предположения занять у знакомых оказались неосуществимыми, он приступил к основательному анализу подгоняловского проекта. Сначала проект этот до глубины души возмутил господина Тупицына. Но потом, вникая глубже в сущность дела, он нашел, что тут действительно не было ничего такого, особенно заслуживающего порицания. Ведь казначея только постращают. Ничего больше. А для дочери его, конечно, гораздо выгоднее быть за капиталистом, чем за каким-нибудь мальчишкой. Если она в него влюбилась, это еще не беда. Любовь — вздор. Родители сами должны делать выбор своим детям, а потворствовать романическим склонностям глупо… Родители, которые не видят, где счастие их детей, которые слабы с ними, недостойны великого названия родителей. Если б, например, у его превосходительства были дети, он бы знал, как себя держать с ними. Его бы не упрекнули в слабости. Слабость не любовь. Любовь должна быть разумна, основательна, положительна. Господину Тупицыну, по мере того как он переходил от рассуждения к рассуждению, стало даже казаться, что он делает казначею благодеяние, что играет роль провидения в отношении к нему. Ведь все это острастка, ведь это только комедия, ведь деньги-то все-таки господин Тупицын внесет… когда будут, конечно. А между тем устроится судьба девушки. Сам казначей, бедный старик, будет обеспечен. Он уж довольно служил, ему нужно провести эти несколько лет, что ему осталось жить, в довольстве. Решительно Михаил Максимыч Тупицын будет виновником его счастья. Он сам будет его благодарить впоследствии. А для благородного сердца так неизъяснимо отрадно быть виною чужого счастья!
Михаил Максимыч утешился и даже был очень рад, что не дал еще расписки. Когда вошла в кабинет Антонина Семеновна, чтоб узнать, чем кончилось совещание с капиталистом, муж хотел было распечь ее за неуменье вести переговоры, но передумал и решился лучше предложить на ее суд предложение Подгонялова. Не без запинки, не без замирания сердца начал он излагать дело; но потом, по мере того как входил в предмет свой, речь его становилась все плавнее и плавнее и наконец получила даже некоторый оттенок высокого красноречия. Госпожа Тупицына любила вообще, когда хорошо говорят, в особенности когда оратором был ее супруг, и потому невольно поддалась обаянию этой речи; французские романы развили в ней любовь к хорошему слогу.
Сказать по правде, она не совсем поняла, в чем именно состояла эссенция изложенного ее супругом, умевшим облечь свой рассказ в весьма витиеватую форму; но так как тут была замешана девушка, которой участь нужно устроить, являлось затруднительное положение, из которого нужно выбраться, и как Михаил Максимыч нарисовал даже трогательную картину старости казначея, окруженного всеми земными благами, изливающимися из сундуков капиталиста, то Антонина Семеновна осталась очень довольна, и ей показалось даже, что она читала что-то подобное у Гандракура или Фудраса {21}.
Получив совершенное и полное согласие супруги действовать по своему усмотрению, господин Тупицын окончательно успокоился, и нежная чета, после очень долгого и сладкого поцелуя, рассталась в том приятном расположении духа, какое овладевает человеком, внезапно избегнувшим опасности или уплатившим долги, из которых он не мог выбраться всю жизнь.
VII
Весть о близкой ревизии стукнула молотком в сердца чиновников, подведомственных господину Тупицыну. Все взволновалось, закопошилось, принялось судить и рядить. Молодежь, не любившая Тупицына за его частые распеканки и особенно за придирчивость к длинным волосам, которые он считал поползновением к вольнодумству, признаком буйства и непокорности, преисполнилась надежды, что кабан слетит, как они выражались. Мужи, украшенные пряжками и неразлучною с ними опытностью во всех делах административных, приняли известие с подобающим достоинством. Видали они на своем веку разных ревизоров. Сходило с рук прежде, сойдет и теперь. Казначея приезд важной особы тоже смутил сначала, но, полный неколебимой веры в строгость правил господина Тупицына, он вскоре успокоился и только на другой день осмелился снова зайти за распиской. Его почему-то не допустили к Михаилу Максимычу.
Между тем господин Тупицын объявил, что он намерен ревизовать сумму. Казначей был в полном убеждении, что Михаил Максимыч или вынет из бокового кармана недостающие деньги, или как-нибудь так ловко сочтет, что они все окажутся налицо.
Он обманулся. Ни того, ни другого не последовало. Господин Тупицын, не досчитавшись денег, устремил на казначея один из тех недоумевающих, вопросительных взглядов, которые для подчиненного хуже, чем для жида-контрабандиста ружейный выстрел.
Вся физиономия господина Тупицына выразила из себя знак вопросительный. Казалось, так и хочет она сказать: что это значит? А? Отвечайте мне, что это значит, а? Немой вопрос господина Тупицына был страшнее всякого карающего слова. Чиновники с трепетом и замиранием сердца посматривали друг на друга. Казначей был бледен, как лист бумаги. Когда он заикнулся было, что его превосходительству известно, где деньги, господин Тупицын вскипел благородным негодованием и разразился потоком самых страшных укоризн. Он даже усомнился, в здравом ли уме находится казначей, и вопросительно взглянул на чиновников, которые в свою очередь взглянули на казначея. Заключил всю сцену господин Тупицын очень драматически, воззванием к своим подчиненным, прося, чтоб они сказали, считают ли его способным на похищение казенной собственности… Им отдавал он на суд свою совесть, ничем не запятнанную в течение тридцатипятилетней службы!
Молодые чиновники с длинными волосами, называвшие его кабаном, хотя и очень бы желали сказать: «Считаем», но, будучи храбры более в бильярдной, чем в присутствии господина Тупицына, тоже отвечали выразительным пожатием плеч и киванием головы.
Господин Тупицын взмиловался над казначеем и приказал ему в течение недели пополнить сумму или не ждать уже от него пощады.
Возвратился домой казначей сам не свой. Бледность, холодный пот, проступавший на лбу, выражение глубокой скорби в чертах, все это страшно встревожило бедную Машу, платившую отцу за его безграничную привязанность привязанностью не менее сильною. Первый ее вопрос был: «Не болен ли ты, отец, не напоить ли тебя горячим?» Но старик только молча покачал головой. Маша продолжала допрашивать, что с ним, но не добилась никакого положительного ответа. Он отделывался общими фразами: «Так, что-то устал, долго проморили в присутствии». Нелегко было обмануть девушку; сердце говорило ей, что тут что-то не ладно. Она всматривалась в глаза старика и ясно читала в них тяжкую, мучительную думу. Зная, что он бессилен против ее ласк, она обнимала его, прижимала лицо свое к его морщинистым коричневым щекам, умоляя не скрывать от нее, что было причиной положения, в котором он находился. Старик искусственно, напряженно смеялся, приговаривая:
— Вот пристала, дурочка,— да что ты в самом деле нашла во мне такого?.. Каким господь создал красавцем, такой и есть.
Но улыбка, сопровождавшая эти слова, так не шла к ним, что больно было смотреть на нее. Она как-то судорожно подергивала губы старика. Страх и тревога все глубже и глубже закрадывались в сердце Маши… Видя, что старик решительно не поддается на ее вопросы, она хотела послать за Шатровым, в надежде, что, может быть, ему удастся лучше, чем ей, выведать, в чем дело. Но старик ушел к себе в комнату, сказав дочери, что хочет часик-другой соснуть. Оставшись одна, Маша впала в раздумье. Предположения и вероятные и несбыточные одно за другим теснились в уме ее. «Не распек ли его начальник,— думала она, между прочим,— но за что же? Кажется, они жили в ладу, и старик делал Тупицыну одолжения, на которые не всякий решится». Часто в наших догадках мы очень близко подходим к истине, а она все-таки ускользает от нас. Так было и с Машей. Но, впрочем, трудно, чтобы чистая, неопытная в знании людей душа ее могла допустить предположение о том, что случилось на самом деле с ее отцом.
Немало передумал и старик, лежа на своей постели с закинутыми за голову обеими руками и взором, неподвижно устремленным в потолочную балку. То ему представлялось все происходившее с ним каким-то безобразным сном, и он не верил себе, точно ли это случилось действительно; то он старался убедить себя, что его превосходительство только пошутили, что это все не более как комедия. Не может же серьезно произойти такое страшное дело! Он надеялся, что господин Тупицын завтра же пришлет за ним, или даже сегодня, и скажет: «Ты, братец, на меня не сердись… Это я так только, у меня, видишь, не нашлось денег еще, но через неделю я вложу; а что я тебя распек, это ничего! Это я только так, по наружности, я тебя за то к награде представлю». Голова бедного казначея трещала от вторжения в нее разных мыслей. Наконец он не выдержал, украдкой вышел из своей комнаты, чтобы не видала Маша и не стала бы опять допрашивать, набросил на плечи шинелишку, самым осторожным образом надел калоши и пошел к его превосходительству, где надеялся окончательно разрешить свои сомнения. Господина Тупицына не было дома, а ее превосходительство почивали, потому что не так здоровы. Долго бродил он после этого визита по городским улицам, без цели и мысли, как помешанный. Он опомнился только, когда миновал заставу, и там уже, где кончались дома и начинались длинные заборы и огороды, повернул домой.
В отсутствие его явился к нему в дом Подгонялов. Узнав, что хозяина нет дома, он пожелал увидеться с Марьей Васильевной. Маша не приняла бы его в другое время, чувствуя к нему неодолимое отвращение, но надежда узнать что-нибудь об отце заставила ее выйти к гостю.
Капиталист скорчил самую плачевную мину, к чему его физиономия оказывала большую способность. Маша тотчас угадала, что он является недобрым вестником.
— Достойнейшего Василия Степаныча нету дома-с,— произнес Подгонялов каким-то жалобно-пискливым голосом, держа, по обыкновению, голову несколько набок.
— Я и не видела, как он вышел,— отвечала Маша.— Верно, по делу какому пошел. Он в эту пору редко уходит.
— Не позволите ли, многоуважаемая Марья Васильевна, пообождать немножечко-с, ибо я имею до них самонужнейшее, нетерпящее отлагательства дельце-с.
— Подождите.
Она указала на кресло. Подгонялов сел, глубоко вздохнув. Маша поместилась у окна за работой.
— Не ожидали, надобно полагать,— произнес Геронтий Петрович, помолчав с минуту,— Марья Васильевна-с, такого примерного, можно сказать, несчастия-с с вашим достойным батюшкой-с.
Маша побледнела. Она чувствовала, как будто ножом кто-нибудь хватил ее в самое сердце. Дурные предчувствия начинали сбываться: но она притворилась, что знает все, чтобы заставить Подгонялова высказаться.
— Что делать,— произнесла она дрожащим от волнения голосом,— видно, так богу угодно…— И в эту минуту мысленно обратилась к тому, чье имя произнесла: «Господи, не дай мне услышать что-нибудь ужасное, спаси моего бедного отца!»
— Ведь бывают же такие изверги-с,— продолжал Подгонялов,— воспользоваться доверием, добротою честнейшего человека-с и расставить ему эдакие тенета-с. Подлинно, нет нынче правды на земле-с! В ком и искать ее после этого!
Маша молчала, смутно догадываясь, в чем дело.
— Что теперь предпринять? — сказала она наконец едва слышно.
— Да что, Марья Васильевна, осмелюсь доложить-с, предпринимать тут нечего-с, как только внести, всею полностью, сумму-с. Поверите ли-с, весь город соболезнует, всякий, конечно, уверен-с, что не батюшка же ваш воспользовались этим кушем, им на что-с! Известно, в чьи лапы все пошло-с, только что выражать-то это открыто многие опасаются-с.
Маше все стало ясно. Еще недавно Шатров в ее присутствии уговаривал отца ее быть осторожнее относительно денег.
— Господи, господи! Где это отец возьмет? Он погиб, погиб совершенно!
Слезы хлынули из глаз девушки.
— Действительно, найти трудновато-с. Народ нынче не податлив на деньги стал. Если б еще под залог, под серебро, например, или другие какие ценные вещи, так можно бы, а то нет, трудновато-с.
— Чем же все это может кончиться, скажите мне, если отец не добудет?
— Конец очень неблагоприятный может быть для родителя вашего-с, Марья Васильевна, таить не стану-с, ибо к чему?
— Ну, что же, что с ним сделают, говорите?
— Да под суд пойдут; от должности, следовательно, отрешены будут. Должны теперь в заключении все это время находиться. А потом… Ох! Ох! Ох! — Он возвел к небу глаза.— Потом уж лучше и не думать, Марья Васильевна-с. Такое может произойти бедствие-с… в солдаты, а то и хуже-с…
Закрывшись руками, Маша горько плакала.
— Вы не извольте так себя убивать, Марья Васильевна,— сказал Подгонялов,— еще бог милостив,— может, как и поправится дело-с.
— Как, как поправится? — говорила Маша сквозь слезы. Потом отерла лицо и прибавила: — А что, если я пойду сама к этому злодею, если выскажу ему, что его поступок низок, бесчестен, подл; может быть, мои слова его усовестят, ему стыдно будет смотреть на мои слезы…
— Эх, Марья Васильевна, полноте-с! Какой тут стыд-с. Да разве у таких людей есть стыд? Да вас, смею доложить, и не допустят к ним-с.
— Я буду стоять у них в сенях до тех пор, пока не увижу его. Весь день, всю ночь простою. Выйдет же когда-нибудь, уж я добьюсь этого.
— Не дозволят-с, Марья Васильевна, не дозволят-с. Швейцар не дозволит в сенях стоять.
— Так научите же, дайте совет; вы старше меня, опытнее. Что же мне делать? Я на все пойду, чтобы спасти отца.
— Если вы так изволите говорить-с, то действительно средство есть-с и в ваших руках находится-с, Марья Васильевна.
— В моих руках? Так что ж вы давно не говорили, что ж вы меня мучили понапрасну? Коли в моих руках, стало быть, отцу нечего бояться.
— Не посмел-с, Марья Васильевна, не посмел, а средство есть. Я сам готов внести за родителя вашего…
— Вы? — Она устремила на него пристальный взгляд, стараясь вычитать, что скрывается за этим предложением. Она знала, что даром он ничего не сделает.
— Точно так-с, я-с.
Он умильно посмотрел на Машу, и этот взгляд сказал ей все.
— Я понимаю,— произнесла она, встав с места,— вы хотите, чтоб я вышла за вас, тогда вы выручите из беды отца. Хорошо. Если никакого другого средства не сыщется, я согласна. Я сказала уж, что я готова на все для отца, и не отопрусь от своих слов. Но только, повторяю, одна крайность может заставить меня выйти за вас. Я сперва употреблю все средства, все усилия, чтобы помочь ему иначе, потому что видеть меня женою вашей будет ему почти так же больно, как быть опозоренным, не сделав ничего бесчестного. К какому дню он должен внести деньги?
— Через неделю, Марья Васильевна, через неделю беспременно-с. Через десять дней ревизора ожидают-с.
— Накануне назначенного дня вы узнаете мой ответ.
Она вышла. Подгонялов постоял еще несколько минут на одном месте, кусая себе губы, и потом также отправился восвояси.
«Теперь не уйдешь, голубушка,— говорил он себе, сходя с крыльца.— Поищи-ка других-то средств. Прытка больно! Дай срок, приберем тебя к рукам, шелковая выйдешь!»
Маша между тем послала за Шатровым. Когда он явился и она рассказала ему, он, во всем безусловно ей веривший, на этот раз усомнился в справедливости слов ее и начал уверять, что до нее как-нибудь неверно дошла эта история, что этого быть никогда не может. Хоть он и не глядел на действительность сквозь розовую, идиллическую призму, но ему казался, однако же, несбыточным такой случай. Маша сначала скрыла от него предложение Подгонялова, но когда Шатров продолжал настаивать на своем, что тут что-нибудь да не то, она нашлась вынужденной передать ему от слова до слова свой разговор с Подгоняловым. Кровь бросилась в лицо молодому человеку от негодования. Он увидел вдруг все в ином свете. То, чему он сначала не хотел верить, сделалось для него вдруг возможным. Это непременно устроено Подгоняловым, чтоб овладеть Машей, подумал он, и злость закипела у него в сердце.
В первые минуты волнения, при каком-нибудь известии, возмутившем глубоко душу нашу, мы никогда не в состоянии придумать действительных мер, чтобы помочь горю. Мы теряем голову и исключительно поддаемся возникающему в нас чувству. Так и Шатров в пылу негодования хотел бежать к Подгонялову и, под дулом пистолета, заставить его отказаться от своих намерений, хотел опозорить перед целым обществом Тупицына, и когда Маша, долго сидевшая молча, прервала его, кротко и нежно произнесла:
— Ты слишком встревожен, Андрей, ты не помнишь себя… Это все не поможет… У нас с тобой есть одно только средство…
Он не выдержал… Мысль, недосказанная Машей, вызвала на глаза его слезы, и, бросившись перед ней на колени, он с отчаянием воскликнул:
— Я не уступлю тебя никому, моя Маша! Никому, никогда!
— Полно… успокойся,— шептала Маша, сама глотая слезы и прижимая голову его к груди своей.
Приникнув лицом к коленям ее, он несколько минут оставался недвижим. Дыхание сперлось от слез в груди его. Он не в состоянии был сказать слова.
Наконец он встал, отер лицо свое и, стараясь казаться спокойнее, произнес:
— Прости меня, ради бога, друг мой! Вместо того чтоб успокоить тебя, подать тебе совет, я еще больше навожу на тебя тоску своим малодушием, своим ребячеством… видно, я годен на словах только проповедовать твердость…
В дрожащем голосе Шатрова еще слышались следы слез.
— Нет, Андрей, я знаю, я убеждена, что ты не отступишь и на деле от тех правил, которые внушал мне… Если нужно будет, ты сумеешь отказаться от меня. Ты поймешь, что я должна пожертвовать нашим счастьем — счастью отца.
— Не говори ты мне этого, Маша, молю тебя ради всего, что для тебя дорого; мы найдем средство… добудем денег…
— Где?
— Я обегаю весь город.
— И нигде не найдешь. Деньги не ничтожные; кто даст, кто поверит нам?
— Бог поможет…
— Стоим ли мы того, Андрей?
— Он с теми, кто сильно любит…
— Но мы должны быть ко всему готовы, Андрей… До срока осталась неделя, и если мы не найдем денег…
— Найдем, найдем, может быть, брат пришлет…
— Так скоро нельзя ждать, ревизор должен быть через десять дней.
— Не теряй надежды до последней минуты, Маша! Авось все устроится.
Разговор их был прерван приходом отца. Увидев покрасневшие от слез глаза Маши и волнение на лице Шатрова, старик понял, что им все известно. В первый раз еще увидел он дочь свою, убитую горем, и сердце его болезненно защемило. Думая ее успокоить, он принялся шутить:
— Ну, что вы тут, а? Никак, горевать вздумали; не сметь у меня, ни, ни!.. Видно, вам вздору натолковали, а вы и взаправду поверили, это все шутка, слышите…
— Полно, отец,— сказала Маша.— Не обманывай нас. Вместе мы, может быть, лучше придумаем что-нибудь.
— Что придумывать? Нечего. Я тебе говорю, ничего не будет. Его превосходительство пошутили.
— Ты считаешь меня ребенком, отец, не имеющим ни капли твердости, и боишься высказать предо мной правду…
— Ну вот! Дурачок ты эдакой. Говорят тебе, нет тут ничего такого. А хоть бы и случилось что… все господь бог посылает, он же и выручает, коли на него надеяться будешь; только надейся, вот что! Не унывай только. Ну, отдадут под суд. Ну, что ж? Мало разве под судом находятся и безвиннее нас? Может, и оправдаюсь, так места лишусь, вот и все. Ну что ж? С вами жить буду; дадите отцу-старику приют да хлеба кусок.
Хотя старик, говоря эти слова, старался придать своему голосу тон беззаботности, но это не удавалось. Видно, и самому ему тяжело стало наконец играть эту комедию, потому что, потолковав еще несколько минут, он отправился к себе. Вскоре ушел и Шатров.
Оставшись одна, Маша пошла взглянуть, что делает отец. Дверь в его комнату была заперта. Она приложила к ней ухо, и до нее достиг шепот молитвы, прерываемой земными поклонами и порою всхлипываньем…
VIII
Напрасно Шатров бросался во все стороны, чтобы найти денег. Только советами да соболезнованиями угощали его те, к кому он прибегал. Напрасно ломал он себе голову, изыскивая других способов помочь беде. Выхода не представлялось никакого. Он похудел в эти дни. Мрачное чувство отчаяния, овладевшее им при мысли, что ему придется отказаться от Маши и видеть ее за существом, ненавистным ей, могло сравниться только с тем разве, что должен испытывать человек, которого хоронят заживо, который слышит, как заколачивают крышку гроба, и не может пошевельнуться. И в самом деле, он чувствовал, что присутствует при похоронах своего счастья, лучших надежд своих. Назначенный срок между тем приближался. Оставалось только два дня. Подгонялов не являлся в дом казначея и ждал, с полным убеждением, что его не минуют. Он уже успел пронюхать, что Шатров не добыл денег, и потому видел себя близким к предположенной цели. Его не обманули ожидания…
В понедельник ждали ревизора, а в субботу было назначено Тупицыным последнее, окончательное свидетельствование суммы, после которого казначей уже не мог рассчитывать на снисхождение начальника.
В четверг вечером Маша вошла в комнату отца. Ему нездоровилось. Он не выходил целый день и сидел в покойном кресле. Перед ним на столе открыта была какая-то церковная книга в кожаном переплете с медными застежками.
— Я к тебе, отец! — сказала Маша, стараясь сообщить более твердости голосу, изменявшему ей.
— Что, Машуточка, скажешь? Что, родная моя? — отвечал старик, повернувшись к ней лицом.
— Я пришла сказать тебе о своем решении.
— О каком это об решении, голубчик мой?
— Подгонялов был у нас как-то без тебя, сватался за меня… Я ему дала слово.
Старик, взволнованный этими словами дочери, быстро отодвинулся на своем кресле.
— Что ты, что ты, Маша, господь с тобой! В здравом ли ты рассудке? Как это слово дала?.. Я не знаю… ты это шутишь, что ли?
— Нет, отец, не шучу, я решилась твердо.
— Как? Как решилась? А Андрей-то Борисыч, ты что это, Машенька?
— Андрей… что ж? Погорюет, погорюет, да и забудет.
— Да полно, Маша, как забудет… Он такой хороший человек, учил тебя, и всё… Да и сама ты его крепко любишь, не знаю я разве?
— Мало ли что! Обживусь и к Подгонялову привыкну.
— Ни, ни, ни, Машуточка! На это и благословения моего тебе не будет.
— Это нужно, необходимо нужно, отец. Я тебе говорю, что я слово дала, а изменять слову, ты сам знаешь, грешно.
— А разве Андрею Борисычу слова не дано? Ты это не так что-то говоришь, Маша.
— Он согласен, чтоб я взяла назад свое слово.
— Машенька, голубчик, душенька!..— Старик сделал было движение, чтобы встать, но Маша удержала его и села у ног его, на шкатулку, которую выдвинула из-под стола.— Я знаю, я вижу, родная ты моя, это ты для меня… Это Подгонялов нашим горем пользуется и склонил тебя, что вот, мол, для отца…
— Ну, что ж, если и так… разве я не дочь тебе? Разве бог послал бы мне счастье, если б я отдала тебя на погибель?
— Да какая же тут погибель, Машенька?
— Перестань, теперь незачем хитрить; ты видишь сам, что это не шутки Тупицына; так не шутят. Он гадкий человек. Посмотри на себя в зеркало, ведь ты в эти дни совсем другой стал; тебя истомила кручина, а ты говоришь, что ничего. Ведь нам неоткуда ждать спасенья…
— Ну, что ж, ну, под суд! Так лучше в каторгу пойду, а твоего века загубить не дам Подгонялову. Ведь ты не любишь его, не любишь, а?.. Я знаю…
— Живи не так, как хочется, а так, как бог велит.
— Да разве бог велит родную дочь, детище свое, на жертву отдать. Ни, ни, и не думай, Машуточка!
— Я решилась, отец, я тебе сказала. Чем же ты меня на жертву отдаешь? Я сама иду за Подгонялова, не ты принуждаешь. Сначала, я сама знаю, мне тяжело будет, горько, ну, а потом привыкну… Господь меня поддержит; не одна я не по любви выхожу. Многие из-за богатства и без всякой нужды идут.
— Да он не под пару тебе. Ты у меня не алчная на деньги была. Я не чужой тебе, знаю, какова ты есть.
— Я только долг свой исполняю; так господь велел. «Чти отца твоего…»
— А ты думаешь, мне лучше, что ли, будет, чем под суд-то идти, смотреть, как старый муж твой век заедает. Нет! Машуточка, я такого греха на душу и брать не хочу. Ведь он старик, Маша; ведь он в отцы тебе потрафит.
— Ну, что ж, пускай любит меня, как отец… как ты любишь…
Она поднесла руку его к губам своим, потом, встав с места, сказала твердо:
— Дело кончено. Я должна быть его женой, хоть бы ты и не дал своего согласия. Я решилась.
И вышла из комнаты отца.
Разговор с дочерью лег камнем на душу старика. Мысль, что он будет причиной несчастия дочери, которою он жил и дышал, которую любил так, как только способна была любить душа его, и которая одна в целом мире любила его,— мысль эта терзала, мучила, рвала бедное старое сердце. Он не сомкнул глаз во всю эту ночь. Образ дочери, бледной и заплаканной, то и дело стоял перед ним, и внутренний голос шептал ему: «Ты убил ее, ты сгубил ее молодые годы». Он вскакивал с кровати, зажигал свечу и принимался ходить по комнате, то молча, то рассуждая сам с собой, задавая себе вопросы и отвечая на них. Порой он бросался вдруг на колени и молил, чтобы бог вразумил его, чтобы не допустил дочь его до страшной жертвы.
— На заклание веду агнца, на заклание,— шептал он про себя.— Взмилуйся надо мною, господи! Спаси ее, мою ненаглядную, мое сокровище!
Не легче было и бедной Маше. Она боялась и подумать о том, что ждет ее в будущем. Ей страшно было приподнять уголок этой завесы, за которою скрывалась картина ее семейной жизни с Подгоняловым. Только одно горе, злое, безвыходное горе предвидела несчастная девушка. Но она покорилась судьбе своей и готова была на все. Несколько раз порывалась и она молиться, но молитва не шла на уста ее. Слишком едкую, жгучую боль ощущала она в сердце. Словно змея впилась в него и сосала из него кровь. Только от времени до времени устремляла Маша полный мольбы и отчаяния взор на строгий, божественный лик спасителя, как бы прося пощады своей молодости, своей любви.
Долго, долго сидела она в раздумье, не чувствуя, не замечая, как слезы текли по лицу ее. Наконец, опомнясь, она придвинулась к письменному столу и взяла перо. Нелегко было ей писать, и не раз она покушалась оставить до утра свое намерение, но преодолела себя — и к рассвету были готовы два письма: одно к Подгонялову, извещавшее его, что она принимает его предложение. Другое… но вот это другое целиком.
«Вместе с этим письмом я отправляю письмо к Подгонялову. Я согласна на его предложение. Оно одно может спасти отца. Все кончено для нас; как ни тяжело, как ни больно отречься от самых любимых, самых святых своих помыслов, я должна это сделать. Ты не упрекнешь меня, мой дорогой, мой несравненный, добрый Андрей… Нет! Ты бы сам перестал уважать меня, если б я поступила иначе.
Я помню слова твои, ты бросил их не на ветер: «Не в счастье цель жизни, а в том, чтобы сохранить свое человеческое достоинство, чтоб оставаться верным долгу, какая бы судьба ни постигла нас, что бы мы ни встретили на пути своем». Вот что ты говорил, но ни ты, ни я, мы не ждали, что так скоро придется нам применить это правило в жизни. Прощай, мой Андрей! Люблю тебя горячо, безгранично, как никогда никого не любила и не буду любить. Постарайся забыть меня, хоть я и знаю, что не легко тебе это будет. Благодарю тебя за все, за все и за те бесконечные светлые минуты, которые мне подарила любовь твоя, и за все заботы твои о моем воспитании. Тебе я обязана тем, что у меня достанет теперь силы принести эту жертву. Храни тебя пресвятая заступница! Ей и день и ночь буду молиться, чтобы зажила скорее рана, которую нанесет тебе наша разлука. Для меня не может быть теперь счастия. Я не проживу долго, я это знаю, чувствую, Андрей! Человек, которому я отдаю себя, мне ненавистен. Если б я должна была выйти за него не для спасения отца, я бы кинулась скорее в воду.
Не приходи больше к нам, Андрей, нам будет еще мучительнее, еще больнее… Если можешь, оставайся недолго в этом городе, уезжай отсюда совсем. Еще раз прощай, мой друг, мой брат, моя жизнь, мое счастие, возлюбленный мой Андрей! Крепко, крепко целую тебя, прижимая к сердцу.
О! Если бы ты мог только прочесть, что делается в моей душе… Как я сильно, глубоко, беспредельно люблю тебя!»
Подгонялов, получив согласие Маши, немедленно явился в дом казначея и требовал, чтобы вечером же была помолвка. Маша не противилась. Вскоре после ухода его пришел, несмотря на запрещение Маши, Шатров. Он тихонько прокрался с черного крыльца и, встретив служанку, запретил ей говорить о своем приходе барышне; он чувствовал неодолимую потребность еще раз увидеть Машу, выплакать у ног ее все свое горе, а потом уже обещал себе избегать встречи с ней, как она хотела этого.
Он вбежал по лестнице, ведущей в мезонин, и очутился в комнате Маши.
Непритворное, глубокое отчаяние Шатрова потрясло Машу до основания. Она чувствовала, что изнемогает под тяжестью мучительных впечатлений — и не имела духа прекратить это свидание. Между тем старик отец, не зная, что Андрей наверху, также направился к комнате дочери. Дверь была не совсем притворена, и он еще на лестнице мог слышать их разговор, прерываемый глухими, сдержанными рыданиями.
До него долетели следующие слова:
— Но за что же, за что же,— говорил Андрей,— судьба карает тебя? Ну пусть я не стою счастия, я не купил на него права своею глупою, бесполезною жизнью, потраченною бог знает как… Но за что же губит она твою молодость?.. Ты не изведала жизни и должна от нее отречься, потому что жизнь с таким существом хуже смерти!
— Перестань, полно, Андрей! — слышался тихий голос Маши.— Ропотом не помочь горю; покоримся, бог сжалится надо мной, может быть, я не проживу долго… Уходи, уходи, отец может услышать нас, это еще больше его встревожит. Он и без того ходит как убитый… Бедный, бедный отец! Ему жаль меня! Он видит, что не на радость я иду…
Старик не мог слушать дольше. Он вернулся с половины лестницы назад и, сойдя вниз, долго, долго, как истукан, стоял посредине комнаты, устремив неподвижно глаза в угол…
О чем он думал? Он желал в эти минуты, чтобы лучше его не было на свете.
IX
Вечером состоялась помолвка. Маша так изменилась, что страшно было глядеть на нее. Казалось, она не видит, что делается вокруг нее, и машинально исполняет все, что ей говорят. Подгонялов, хотя и видел мертвую бледность ее лица, ее впалые, осунувшиеся щеки и покрасневшие, опухшие от слез веки, но тем не менее не щадил ее и, усевшись при ней, осаждал ее всякого рода любезностями. Она ничего не слыхала и наудачу отвечала то да, то нет. Ответы ее были почти всегда невпопад. Относительно денег, которые следовало внести, Подгонялов сказал казначею, что на другое утро, чем свет, они будут доставлены.
Когда Василий Степаныч и Маша остались вдвоем, старик подошел к дочери, сидевшей молча на диване, и, гладя ее густые мягкие волосы, произнес:
— Ты не сокрушайся, Машенька, это ничего, что помолвка была: мало ли и после помолвки расходятся! Это все ничего, не горюй, голубчик. Я приискал теперь в уме такое средство, что мы Подгонялова спровадим.
— Полно,— с грустною улыбкой отвечала Маша,— полно, отец; все кончено,— ты напрасно думаешь, что я так сокрушаюсь. Я предала себя воле божией.
— Нет, ты этого не говори, Маша, что все кончено. Еще господь милостив, все в его руках; а что ты сокрушаешься, я это вижу, отцовское сердце не солжет, Маша; я все вижу. Только опять-таки я тебе говорю, погоди, увидишь; уж есть средство такое; и под суд не пойду и за Подгоняловым не будешь.
Маше показалось в эту минуту, что лицо старика приняло какое-то странное выражение, какого она прежде не подмечала: выражение грусти и решительности в то же время.
— Тебе нужно успокоиться, отец,— сказала она, помолчав,— ты все эти дни был сам не свой и нынче спал мало, усни хорошенько; теперь беда миновала.
— Миновала, да! — повторил он в раздумье, покачивая головой, потом прибавил: — Ты и сама устала крепко, бедняжечка. Немало надрывалась от горя; ступай, моя родная, к себе, ступай. Только дай проститься с тобой, Машенька, да перекрестить тебя.
Он прижал ее голову к груди своей; потом поцеловал ее в лоб, в глаза; целовал ее руки, волосы, шею, целовал и крестил, крестил и целовал.
Хотя Маша привыкла к ласкам отца, но на этот раз он был, казалось ей, нежнее, чем когда-либо. Как-то крепче и дольше целовал он ее и с такой бесконечною любовью смотрел ей в глаза.
Ночью, когда Маша, утомленная, обессилевшая от горя и слез, заснула наконец, старик на цыпочках подкрался к ее постели и снова долго глядел на нее и крестил над ней воздух.
На другое утро Подгонялов с верным человеком прислал будущему тестю деньги. Маша спала еще, но Василий Степаныч, как можно было судить по лицу его, и эту ночь не ложился. Посланный, нечто вроде приказчика, с волосами в кружок и в длиннополом нанковом сюртуке, ожидал, казалось, сильных изъявлений радости со стороны казначея и даже, может быть, награды за доставление пакета; но был несказанно озадачен, когда Василий Степаныч, возвращая ему конверт нераспечатанным, сказал:
— Доложи, что не надо, мол.
— Как-с? — начал было посланный.
— Так просто, не надо, мол; доложи.
— Больше ничего приказывать не изволите-с?
— Ничего, ступай с богом.
Посол несколько секунд постоял в раздумье и, видя, что казначей скрылся, решился тоже уйти.
В десять часов должен был явиться господин Тупицын для освидетельствования суммы. Чиновники все уже давно собрались и разделились, в ожидании начальника, на группы. Пожилые толковали между собой вполголоса о том, окажутся ли утраченные деньги налицо, причем значительно поднимали брови и потчевали друг друга табаком. (Весть, что Подгонялов женится на Маше, уже была известна, и потому никто почти не сомневался, что деньги будут внесены.) Чиновники помоложе острили, передавая друг другу городские сплетни. Один юноша курил папироску, присевши на корточки и пуская дым в печку, между тем как двое его товарищей загородили его собой, чтобы такого вольнодумства не заметили старшие. Два канцелярские служителя стояли на площадке лестницы и, перевесившись за чугунные перила (присутствие было в верхнем этаже), плевали вниз, прислушиваясь внимательно к происходившему от того звуку. С казначеем, как с опальным, как-то боялись разговаривать; его, видимо, избегали. Он стоял один-одинешенек у окна, барабаня пальцами в стекло, между тем как бледные, посинелые губы его что-то шептали. Лицо его было тоже необычайно бледно.
Наконец раздался стук начальничьего экипажа. Плевавшие канцеляристы бросились со всех ног в комнаты, оставив свое невинное упражнение. Отчаянный курильщик чуть не проглотил сделанный из бубнового туза мундштучок папироски; все начали застегиваться, оправляться и покашливать.
— Ну, что же,— спросил господин Тупицын, обращаясь к Василию Степанычу, пока отпирали ящик,— внесли деньги?
— Нет денег, ваше превосходительство,— отвечал дрожащим голосом старик.
— Как нет?
— Нет-с.
— Ну, так под суд пойдете?
— Никак нет-с, ваше превосходительство, и под суд не пойду-с.
— Что-о?..
— Не пойду-с. Уж коли на то пошло, так деньги вами взяты, ваше превосходительство!
— Вы опять за старое!.. Он с ума сошел?..— обратился с вопросом к окружающим господин Тупицын.
— Да! — каким-то неестественным голосом вскрикнул казначей,— вы взяли… Вот что!.. Да! И под суд не пойду. Да!.. Не пойду. Вот вам!
И, сделав в подтверждение жест правою рукой, кинулся к дверям. Чиновники остолбенели от изумления.
Выбежав из комнаты, старик прямо устремился к чугунным перилам и с того самого места, где перед тем стояли канцеляристы, бросился головой вниз.
После этой катастрофы казначей жил еще несколько времени, но уже находился в беспамятстве. Недели две спустя Шатров получил из Петербурга от брата деньги. Их бы с лишком достало, чтоб уплатить сумму, причинившую гибель несчастного казначея, если б они не опоздали прийти. После они были употреблены на свадьбу Шатрова и Маши.
Хотя против господина Тупицына не было юридических доказательств, однако ж он вскоре лишился места. Ревизор, узнавши об этой истории, довел ее до сведения высшего начальства.
ПАШИНЦЕВ
I Гость
В кабинете, убранном со всеми затеями достатка и моды, наполненном туровскою мебелью {22} и устланном зеленым сукном, молодой человек, лет двадцати пяти, весьма недурной наружности, растянувшись в покойных креслах перед камином, курил сигару. Большие карие глаза его неподвижно смотрели на пламя, брови были нахмурены, придавая лицу озабоченный вид, мягкие темные волосы спадали несколько на лоб; склоненная набок голова опиралась на руку. Подле него, на маленьком столике, горела свеча и лежала раскрытая книга «Les vies des dames galantes» [45] Брантома {23}. Раздумье молодого человека длилось около часа и, может, продлилось бы еще более, если бы не раздавшийся в передней звонок, заставивший его приподняться и оборотить голову к двери.
Вошел лакей в ливрее с гербами.
— Господин Глыбин,— доложил он.
— Что ему нужно? — как бы про себя произнес молодой человек и, помолчав секунду, прибавил: — Проси.
Он отодвинул от себя маленький столик, сбросил с сигары пепел и, поправив рукой волосы, приготовился встретить гостя.
Гость этот был по крайней мере вдвое старше его. Густые прекрасно сохранившиеся волосы были белы как снег. Доброта, сквозившая в светло-голубых глазах его, смягчала строгое выражение лица, которого правильные и благородные черты могли бы служить образцом скульптору для старческой головы. Он держался прямо; что-то гордое замечалось в приемах его и походке; усы, такие же седые, как и голова, и застегнутый доверху черный сюртук обличали в нем отставного военного.
— Вы не ждали меня, Владимир Николаич? — сказал он, протягивая руку хозяину.
— Да, вы довольно редко меня посещаете, Павел Сергеич,— отвечал тот.— Садитесь-ка.— Молодой человек придвинул гостю кресло.— Или сюда не хотите ли, к камину.
— Нет, благодарю. Я не люблю тепла. Я приехал с намерением потолковать с вами серьезно, Владимир Николаич.
— Разве вы когда-нибудь говорите иначе? Я всегда удивлялся вам в этом отношении, как и во многих, впрочем; мне казалось, что вы никогда ни о чем не думаете, кроме серьезных вещей.
— Мне было бы и грешно заниматься тем, что тешит вас, молодежь. На все свои годы. Было и мое время. Я отдал дань молодости и давно распрощался с ее увлечениями. У меня на руках семья и несколько сот человек, за которых я несу ответственность перед богом и совестью.
— Это так, но всякий ли способен остановиться вовремя, Павел Сергеич? Всякий ли способен, во имя обязанностей, отказаться от самой привлекательной стороны жизни?..
— Вы говорите, как юноша… Эта самая привлекательная, по вашим словам, сторона жизни кажется только такою, пока не улеглись страсти, не остыла кровь, пока рассудок не вступил в свои права, которых не хочет признавать молодость. А потом на эту привлекательную сторону начинаешь смотреть совсем иными глазами и уж далеко не удовлетворяешься ею. Для старика возможно одно счастье — это сознание, что посильно исполняешь свой долг, словом,— счастье спокойной совести. Но будет об этом, скажите мне, что вы намерены теперь делать с собой?
При этих словах молодого человека несколько покоробило.
— Что делать…— отвечал он, горько улыбнувшись.— Ничего.
— Как ничего? На что-нибудь надо же решиться,— возразил гость с некоторою резкостью, и лицо его приняло строгое выражение.
— На что же, почтеннейший Павел Сергеич? Вы, кажется, меня немножко знаете; знаете мое прошедшее и можете сказать, к чему я годен… Мне остается одно из двух: или пустить себе пулю в лоб, или идти в маркеры. Вы меня застали в раздумье, на какую из этих двух мер решиться.
— Если вы хотите меня удивить хладнокровием и беспечностью в критическую минуту жизни, так вы ошибаетесь. Я давно перестал удивляться, да и пожил слишком много на свете для того, чтобы верить искренности подобного хладнокровия.
Молодой человек сделал движение, но гость тихо положил на его руку свою и, не дав ему возразить, продолжал:
— Не прикидывайтесь оскорбленным: я убежден, что вы в глубине души признаете меня правым; а лучше выслушайте меня. Вы сказали, что вы ни к чему не годны,— это вздор. Воспитание и жизнь, которую вы вели до сих пор, правда, значительно исказили вашу природу, но, однако же, не до такой степени, чтоб окончательно лишить вас воли. Хоть вы и стараетесь казаться хладнокровным, но ваши слова обличают совершенный упадок духа. Если же это только непростительная, глубоко вкоренившаяся в вас леность, то вы должны победить ее, и победите. Людей, ни к чему не годных, нет. Есть люди, которые не хотят быть ни к чему годными, это так. И, может быть, вы один из них. Стыдно, Владимир Николаич! Вы дурь на себя напускаете. Оглянитесь, в какое время мы живем. Ничего не делать — грех перед богом и ближними. Знаете ли вы, что, когда я услыхал о перемене, происшедшей в вашем состоянии, я только в первое мгновение пожалел о вас, а потом сказал себе: это, может быть, к лучшему.
— Благодарю вас за это лучшее,— насмешливо перебил говорившего молодой человек.
— Не иронизируйте, Владимир Николаич, я опять повторяю, может быть, все к лучшему. Вы оглянетесь на свое прошедшее и покончите с ним навсегда: житейские бури укрепляют человека. Вдумайтесь хорошенько в свое положение, загляните в себя самого поглубже, авось и найдете еще силу для честной и полезной деятельности. Вы еще очень молоды, Владимир Николаич, и все дороги перед вами открыты, бог дал вам ум, способный понять, что труд возвышает и облагораживает человека, что уподобляться рабу, лукавому и ленивому, зарывшему в землю талант свой, жить для одного себя и чужими трудами,— ничуть не похвально. Бог дал вам сердце, готовое любить все доброе и хорошее и отвергнуть все злое и недостойное. Но на сердце этом начала нарастать кора; не дайте ей загрубеть, разбейте ее вовремя, пока еще не поздно, и избавьте свой зрелый возраст от бесплодного раскаяния и угрызений совести, неминуемых в противном случае. Когда этот возраст придет, может быть, с ним и придет желание что-нибудь делать, да уж трудно будет превозмочь себя. Бездействие войдет в привычку, а что сильнее привычки? Если мои старческие советы не довольно убедительны, я прибавлю к ним имя, на которое, надеюсь, отзовется сердце ваше, которое должно быть ему дорого,— имя вашей матери. Да! Владимир Николаич, ее именем я прошу вас, возьмитесь за дела; перестаньте бить баклуши; будьте чем-нибудь.
— Что же мне делать, Павел Сергеевич, научите, что начать, куда броситься!..
— Так как у вас нет никакого особенного призвания, служите…
— Служить! Легко сказать, когда я не имею ни малейшего понятия о том, что такое служба. Я не сумею написать самой вздорной бумаги.
— Привыкнуть недолго. В два-три месяца, если не будете лениться, узнаете весь порядок, научитесь всем формальностям, это пустое. Была бы добрая воля.
— Но где же я найду место, какие у меня связи? Друзья моего отца, которые пили и ели у него чуть не каждый день, по смерти его не хотели на меня и глядеть. Когда я сделал им визиты, они приняли меня так важно и холодно, вероятно, пронюхав, что дела мои плохи, и боясь, чтоб я не стал просить о чем-нибудь,— что я дал себе слово больше не быть у них, а о моих собственных друзьях и говорить нечего. Вот уж две недели, как ни один носу ко мне не кажет. Да они и не могли бы для меня ничего сделать, потому что сами слишком мало значат.
— Я думаю, вам нет нужды оставаться в Петербурге; в нем хорошо с деньгами, а вы должны теперь сами, собственным трудом добывать их. Притом, самолюбию вашему придется испытывать беспрестанные толчки, неизбежные при такой перемене положения; поезжайте в провинцию.
— И рад бы, но куда?.. и как же я там найду себе место?
— За это я берусь. Поедемте вместе в Ухабинск. Я живу там пятнадцать лет, мне там все знакомы. Я представлю вас тамошним властям и ручаюсь, что вы получите место: сначала, конечно, не бог знает какое, но все же не без жалованья. Там жизнь дешевле. Квартиры вам нанимать не надо, поселитесь у меня, семейство мое будет вам радо. Мы будем считать вас своим. В Ухабинске есть люди порядочные, образованные; есть книги, с тоски не умрете. Ну, что ж, по рукам?
— Благодарю вас, Павел Сергеевич… но я, право, не знаю…
— Что же вас останавливает?..
— Когда вы думаете ехать?
— Через неделю… О дороге тоже не заботьтесь. Мы поедем из Москвы в моем экипаже. Ну, так прощайте, у меня есть дела.
— Верьте мне, что я никогда не забуду того, что вы для меня делаете.
— Без благодарности, я для вас ничего не делаю. Я помню приязнь вашей матушки, помню все, что она сделала для моей жены, а следовательно, и для меня. Оказывая вам услугу, я плачу старый долг, я благодарю бога, что представился случай заплатить его, хоть и далеко не вполне. Желаю от глубины сердечной, чтоб иная духовная жизнь началась для вас и чтоб эта жизнь как можно менее походила на ваше прошлое. Прощайте, друг мой.
Глыбин, пожав молодому человеку руку и дружески поцеловав его на прощанье, вышел.
Оставшись один, Владимир Николаевич несколько минут постоял в задумчивости на одном месте; потом продекламировал:
Пойду искать по свету, Где оскорбленному есть чувству уголок…—и, закурив новую сигару, опять поместился перед камином.
«Какой, однако же, славный человек этот Глыбин,— подумал он,— а я прежде считал его сухим педантом и гордецом. Правда, он говорит немножко высокопарно, но сердце у него отличное».
II Прошедшее Пашинцева
Отец Владимира Николаевича Пашинцева служил в молодости в гусарах, но еще поручиком вышел в отставку, вследствие каких-то неприятностей с своим полковым командиром, причиной которых, как говорили многие, была жена этого последнего, страстно влюбившаяся в Пашинцева. Слухи эти тем более казались вероятными, что молодой гусар обладал прекрасною наружностью и самыми изящными манерами. Образования он блестящего, правда, не получил, но на это обстоятельство смотрели тогда много снисходительнее, чем нынче; и притом Пашинцев, потолкавшись между порядочными людьми, приобрел такую сноровку, такое уменье скрывать свои недостатки, что никому никогда и в голову не пришло назвать его необразованным. Вообще он мог бы выбрать девизом своим: «Слыть, а не быть», потому что в свете ему приписывались постоянно качества, которых у него не было. Он умел очень мило рассказать анекдот, сострить насчет ближнего, особенно если этот ближний не принадлежит к числу сильных мира сего, умел ловко вклеить в разговор цитату из модного французского романа; и прослыл человеком умным, тогда как ум его глядел весьма недалеко. Относительно понятий о нравственности он всегда был на стороне большинства и придерживался той обыденной, уличной морали, которую можно сравнить с монетой, перебывавшею в стольких руках, что на ней совершенно изгладились все знаки, определявшие ее стоимость, но потому-то именно и успел заслужить название глубоко нравственного человека, хотя правила, руководившие им, были очень шатки и не один грешок лежал у него на совести. Ни одна лотерея в пользу бедных, ни один домашний спектакль не обходились без его участия. Он неподражаемо исполнял роли jeunes premiers [46] и имел приятный, хотя несильный тенор, приводивший дам в необычайный восторг. И вот про него говорили, что он человек с добрым, чувствительным сердцем, хотя доброты его только и хватало на публичную, гласную филантропию, а чувствительность проявлялась в одном пении французских романсов и водевильных куплетов, тогда как в душе его свил себе гнездо самый черствый, самый подленький эгоизм. С юных лет Пашинцев заботился всего более о связях. Чтобы втереться в расположение к знатным, он пускался на тысячу маленьких низостей, искательств и угождений; и в этом случае ему значительно помогала его наружность, которая делала всегда очень приятное впечатление на женщин, так что им он, кажется, преимущественно и был обязан своими успехами в свете. Впоследствии это искательство превратилось у него в хроническое и отпечаталось на всех приемах и движениях его, приобретших необыкновенную вкрадчивость. Лет тридцати с небольшим он женился на побочной дочери одной важной особы и взял за женой такой куш, который мог бы вполне обеспечить на всю жизнь и его и его потомство. Но вышло не так, он дал полный разгул своему тщеславию, получил, посредством важной особы, доступ во все салоны, давно составлявшие предмет его задушевных помыслов и стремлений, захотел явить себя достойным такого знакомства и решился жить, что называется, на широкую ногу. Балы, обеды, пикники, рауты, folles journées [47] и пр. сменяли друг друга. Играть он садился не иначе, как по самой большой, с знаменитейшими игроками клуба. В опере и во французском театре абонировал ложу; дом свой отделал так, что даже затмил своего покровителя; экипажи и лошади Пашинцева возбуждали всеобщее удивление. Словом, он показал, что умеет жить и относительно вкуса поспорит хоть с кем угодно. При подобном существовании, разумеется, не могло надолго хватить денег, взятых в приданое за женой; и Пашинцев должен был это предвидеть. Однако же он не унывал, рассчитывая, видно, на дальнейшее покровительство тестя, а может быть, и на счастливую игру или на ловкость и изворотливость своего ума. Но известно, что «жестокий рок» очень часто совершенно непредвиденным образом расстраивает самые верные людские соображения. И над головой Пашинцева разразился удар, которого он всего менее ожидал. Тесть его умер скоропостижно от апоплексического удара, прежде чем Пашинцев успел уговорить его сделать в пользу дочери духовное завещание. Имение важной особы перешло к законным наследникам, сестре и племяннику, жившим уже несколько лет за границей и находившимся с покойником в очень холодных отношениях. Пашинцев не имел даже возможности завести процесс, потому что жена его была незаконная дочь важной особы, так внезапно переселившейся в лучший мир. Как ни прискорбно было сердцу отставного гусара изменить образ жизни и расстаться с безумною роскошью, в которую он успел втянуться, но другого средства для избежания совершенной нищеты не оставалось. И вот, уплативши часть своих долгов, которых, мимоходом сказать, накопилось довольно, Пашинцев оставил Петербург и поселился в Москве. Но и тут он не мог отказаться от аристократического знакомства и английского клуба, хотя уж дом был отделан не с такою роскошью, орловские рысаки не изумляли более прохожих и ложи в итальянской опере иметь было не нужно, по неимению самой оперы. Предлогом к переселению, конечно, как это всегда бывает, послужил сын, которого Пашинцев хотел приготовлять в Московский университет. «Я хочу,— говорил заботливый отец,— чтобы сын мой получил фундаментальное образование, а Московский университет лучший во всей России». Конечно, те, кому он говорил это, недоверчиво улыбались при его словах, тем более что сыну минуло всего девять лет и, следовательно, в университет готовить его было немножко рано. Может быть, Пашинцев подчас сознавал и сам, что ему не верят, но уж так, видно, человек создан, что убаюкает себя ложью, да и успокоится. По смерти тестя Пашинцев выказал всю черствость и даже гадость своей натуришки, совершенно изменившись в обращении с женой, словно та была виновата, что он сорил деньгами для удовлетворения своего тщеславия и что расчеты его и соображения лопнули вдруг подобно мыльному пузырю. Притворная нежность и заботливость, которыми при жизни важной особы Пашинцев окружал жену и которые доставили ему в свете репутацию прекрасного мужа, заменились холодностью, порой даже грубостью и попреками. Переход этот тем глубже поразил Пашинцеву, что совершился чрезвычайно резко, без всякой постепенности. Пашинцев не считал нужным и маскироваться перед женой. Если б он мало-помалу охладевал к ней, положим, что ей было бы не легче, но она по крайней мере могла бы приписать эту холодность только непостоянству, теперь же перед ней разоблачались корыстолюбие, алчность, тщеславие и грубость мужа, и она потеряла к нему всякое уважение. Она увидела ясно, что он никогда не любил ее, что нежность его была напускная, что он из видов женился на ней, из видов обращался с нею деликатно. Слабая и болезненная от природы, она, казалось, с этим ударом утратила последний остаток сил и с каждым днем таяла как свеча. Вся привязанность ее сосредоточилась на ребенке, который, как будто инстинктивно чувствуя, кто прав и кто виноват в этом семейном разладе, происходившем перед глазами его, платил своей матери такою же нежною любовью, тогда как отца боялся, и только. Это еще более вооружило Пашинцева против жены. Но она недолго тяготила его своим присутствием. Смерть давно сторожила ее, и быстро развивавшаяся чахотка свела бедную женщину в могилу. С приличною, изящною печалью шел Пашинцев за гробом своей жены; присутствовавшие на похоронах говорили, что он до такой степени убит, что не может плакать. По смерти матери Владимир перешел под надзор гувернера, пустейшего француза, придерживавшегося крепких напитков; он занимал своего питомца преимущественно гимнастическими упражнениями. Отца ребенок видал только по утрам, когда его водили к нему в кабинет для целования родительской ручки. По целым дням Пашинцев не бывал дома. Вечера проводил в клубах или аристократических московских гостиных; обедал тоже по большей части в гостях или в ресторанах, а если и случалось ему садиться за стол дома, то только тогда, когда он приглашал к себе гостей; но ребенок в эти дни должен был оставаться у себя в детской, потому что разговоры папаши с гостями не отличались скромностью. К довершению всего, Пашинцев, наскучив вдовством, сошелся с какою-то наездницей из цирка, для которой отлично меблировал квартиру, завел низенькую карету на лежачих рессорах и задавал то и дело ужины с шампанским. Наконец настало для Владимира время вступления в университет.
Благодаря отличной памяти Владимир выдержал вступительный экзамен без труда и первое время начал было довольно прилежно слушать лекции; но это скоро ему надоело… Его занимала сначала новизна всего окружающего; мало-помалу аудитория и лица профессоров пригляделись, наука не могла иметь для него интереса… он поступил вовсе не для нее, а для того, чтобы по окончании курса получить диплом и с ним положение в обществе. Притом он сошелся с несколькими молодыми людьми знатных и богатых фамилий, которые все время свое проводили в кутеже, ездили по театрам и маскарадам и для которых ничего не делать было каким-то point d’honneur [48]. Эти господа составляли свой особенный кружок, державшийся вдалеке от студентов-тружеников, готовивших себя на служение науке и обществу. Кто рассчитывал на протекцию, кто на деньги. Примкнувши к ним, Владимир не хотел ни в чем отставать от своих новых товарищей. На лекции он стал приходить редко, и то на несколько минут. Все утро проходило у него в визитах или в игре на бильярде. Круг знакомых его сделался так обширен, что у него недоставало вечеров; и иногда в один и тот же вечер он успевал побывать в двух-трех домах. Но, выезжая беспрестанно и кутя на счет товарищей, он не мог не звать и к себе. Нужно было от времени до времени и самому задать вечеринку или обед, и на это просаживалось все годовое жалованье, получаемое от отца, так что потом оказывалось необходимым прибегать к ростовщикам. Хотя все знали, что состояние старика Пашинцева расстроено, но, с другой стороны, образ жизни его говорил ясно, что оно расстроено еще не до такой степени, чтобы какие-нибудь две-три тысячи долгу, сделанного кутилой-студентом, могли быть в тягость его родителю. Однако ж, когда пришлось платить за сына, старик вознегодовал; но Владимир красноречиво доказал ему, что, живя в кругу порядочных людей, нельзя же не делать того, что они делают, и что поддерживать это знакомство необходимо, ибо оно может пригодиться впоследствии; связи, сделанные в годы юношества, говорил он, самые прочные, самые надежные… они остаются на всю жизнь. Отец был тронут этими доводами; и так как связи были всегда его собственным коньком, то он и простил сына и внутренне даже порадовался, что он сблизился avec des enfants de bonnes familles [49], a не с какими-нибудь Ивановыми, Петровыми, Васильевыми, Dieu sait qui enfin [50] (надобно заметить, что старик Пашинцев даже думал всегда по-французски), потому что ведь в эти университеты всякая дрянь лезет; не попади он в такой кружок, он, может быть, набрался бы бог знает каких привычек, пожалуй, еще сделался бы метафизиком, либералом. C’est dans l’air aujordhut… on a beau parler contre cela! Il pleut d’esprits forts. Nous voyons des qouvernements provisoirs composés de bottiers et de tailleurs [51].
Владимир, довольный своей победой, дал волю разгулу. Связь отца его с наездницей из цирка не могла для него оставаться тайной; и он не замедлил последовать такому соблазнительному примеру.
Экзамены между тем шли своим чередом. Память постоянно вывозила Владимира; стоило ему подзаняться какой-нибудь месяц, чтобы догнать товарищей, аккуратно следивших за курсом. Вот наконец настал и выпуск. Владимир кончил курс, хоть не кандидатом, но все же кончил, и через два-три месяца по выходе из университета определился куда-то, не то чтобы служить, но числиться… Но жизнь его, в сущности, мало отличалась от той, которую он вел, нося голубой воротник. Все те же выезды, те же пирушки, то же волокитство продолжались и теперь. Разница была только в том, что он переехал в Петербург, попал в фаверы к одной знатной барыне, уже не первой молодости, но еще хорошо сохранившейся и занимавшейся литературой. Барыня эта писала водянистые стихотворения, где прикидывалась страстною, возвышенною натурой, чем-то вроде Лукреции Флориани {24}, ищущей идеала и не находящей его. На самом же деле идеальным стремлениям ее вполне удовлетворяли кирасирские и разные другие кавалерийские офицеры, а иногда и камер-юнкеры и студенты… Она ловила их, как кобчик {25} насекомых. Впоследствии барыня эта, вознегодовав на журналы, отказавшиеся печатать ее стихотворения и даже порядком ее поругивавшие, озлобилась на литературу и начала кричать о безнравственности ее направления, продолжая между тем втихомолку оказывать благосклонность, разумеется, проникнутую чистейшею нравственностью, разным юношам и преимущественно выступающим на житейское поприще.
Предаваясь с увлечением всем петербургским удовольствиям и втягиваясь все больше и больше в долги, на которые подстрекала его еще и весть, что старик Пашинцев пустился в какие-то спекуляции, выиграв в английском клубе весьма значительный куш, Владимир не помышлял о будущем и никогда не спрашивал себя: хорошо ли он делает, живя так? Никакая серьезная мысль не могла забрести ему в голову, потому что он не был почти вовсе развит в нравственном отношении. Ни одной сколько-нибудь дельной книги не прочитал он. Ничто не наводило его на мысли ни о себе, ни о том, что его окружало. Но зато мелочное самолюбие, тщеславие, желание блистать, производить эффект, возбуждать зависть с каждым днем замечались в нем явственнее. У него было незлое сердце, он слыл в своем кружке хорошим товарищем, но и эти качества по выходе его из университета значительно в нем ослабели и могли впоследствии окончательно исчезнуть при его образе жизни и замениться тем узким эгоизмом, той сердечною сухостью, которые составляли преобладающую черту в характере его отца. На всех, кто был беднее и скромнее его, Владимир уже начинал смотреть как на плебеев, которым не следует и руки подавать; а каждого человека с знаниями или даже просто читающего он называл педантом и посматривал на него враждебно. В это-то время он вдруг получил известие о смерти отца, давно уже хворавшего. Владимир никогда не любил его горячо; но смерть его заставила, однако же, юношу призадуматься, призадуматься об отношениях своих к отцу и о своей будущности. Эта смерть вызвала в нем и воспоминание о матери, начинавшее изглаживаться из его памяти. Меланхолический образ стройной и бледной женщины, с горькой улыбкой на губах, с черными думающими глазами, встал перед ним, как живой. Ему вспомнились и нежные ласки, и горячие поцелуи, которыми осыпала она его детскую, курчавую головку, вспомнились слова, до сих пор почему-то никогда не приходившие ему на ум, слова, о которых он почти позабыл и которые она сказала за несколько дней до смерти: «Будь добр, мой Володя. Люби людей, заботься о счастье близких тебе». Он не понимал тогда этих слов, и бедная женщина, так много страдавшая, может быть, произнесла их только для того, чтоб облегчить свое горе, а между тем они запали в детскую душу и отозвались в ней, когда пришло время. «Люби людей, будь добр…», а кого он любил до сих пор и в чем проявлялась его доброта? Неужели связи с камелиями можно назвать любовью? Неужели поверить в долг несколько золотых приятелю на устройство пикника, где тебя же самого напоят шампанским до положения риз,— значит сделать доброе дело? По смерти отца Владимир оказался совершенно нищим. У старика Пашинцева осталось столько долгов, что и половины их невозможно было уплатить доставшимся сыну его имуществом.
У самого Владимира тоже накопилось их немало. Спекуляции, в которые бросился его отец незадолго до своей смерти, при совершенной неспособности его к ним, лопнули. В первую минуту Владимир, не рассуждая долго, хотел пустить себе пулю в лоб; но потом одумался и начал приискивать средства к поправлению своих обстоятельств. И каких мыслей не приходило ему тогда в голову, отуманенную отчаянием! О самых гадких проделках стал он помышлять, изобретая в свое оправдание разные более или менее ловкие софизмы. То он хотел сделаться шулером, то жить на счет какой-нибудь отцветшей, но еще с неугомонившимися страстями госпожи, каких в Петербурге немало. К чести его нужно сказать, что он не остановился ни на одном из этих предположений и что никакие ловкие софизмы не успели победить природного отвращения к ним в его сердце. Мысль о труде, о службе тоже явилась у него, но он считал себя совершенно неспособным к какой бы то ни было деятельности. Отец несколько раз советовал ему сыскать себе место, но настоять не умел. Владимир откладывал со дня на день; да притом он составил себе такое понятие о всех служебных местах, что они не могли его привлекать. Хорошего места, на котором бы можно командовать, иметь подчиненных, не дадут сразу, думал он; а проходить через низшие должности, сделаться приказным, подьячим, как он выражался, было ему не под силу, оскорбляло его достоинство, его самолюбие, наконец, его эстетическое чувство. Владимир был, что называется, белоручка и думал, что природа создала людей двух сортов: первый сорт имел назначением наслаждаться жизнью, второй сорт — добывать себе хлеб насущный трудом и доставлять первому сорту средства к наслаждению. Первый обладал слабыми нервами и имел все пять чувств необыкновенно тонко развитыми, у второго нервы были немножко потоньше каната, и ни вкус, ни обоняние не были вовсе развиты. Это уж так самим богом устроено и всегда должно оставаться так.
С каждым днем обстоятельства жали Владимира все сильнее и сильнее. Он еще не мог расстаться с своим изящно убранным кабинетом, но чувствовал, что скоро туровские кушетки и этажерки пойдут одна за другою в продажу, и пойдут, вероятно, за бесценок приятелям, которые попросят уступить им «по дружбе, не слишком дорого».
В такую критическую минуту явился к нему Глыбин, которого он тоже считал педантом и который был старым знакомым его семейства. Некогда он был даже страстно влюблен в мать Владимира, но, бедный армейский офицер, он не мог надеяться получить руку дочери, хотя и незаконной, но единственной дочери важного лица, искавшего ей приличную партию. Глыбин подавил в себе эту привязанность, но навсегда сохранил светлое воспоминание о женщине, которая хотя не платила ему взаимностью, но уважала его за честную душу и была с ним добрее и ласковее всех ее окружающих. Глыбин сделался вхож к важному лицу совершенно случайно. Важное лицо и отец Глыбина когда-то служили вместе на Кавказе; но время и, главное, различие в общественном положении изменили отношения между старыми товарищами. И когда к важному лицу явился сын прежнего сослуживца его, то был принят с тою внимательностью, которая сильно отзывается снисхождением и тотчас же ставит между обоими лицами преграду, исключающую всякую мысль о сближении. Важное лицо спросило Глыбина, когда тот откланялся, не может ли оно быть ему чем-нибудь полезно? Глыбин отвечал, что ему ничего не нужно, и никогда ни с какою просьбою не обращался к важному лицу, но продолжал посещать его, чтобы видеть мать Владимира. Когда ее помолвили за Пашинцева, Глыбин перестал ходить к важному лицу. Со стариком Пашинцевым Глыбин также не мог никогда сойтись. Они смотрели на жизнь с слишком различных точек зрения.
Впоследствии роли переменились. Честным, упорным трудом, предприимчивостью Глыбин составил себе состояние, и Пашинцев-отец не раз прибегал к нему, когда был стеснен обстоятельствами. Сначала Глыбин не отказывал, и Пашинцев разделывался с ним честно; но наконец обманул его. Глыбин не искал с него, зная, что это будет напрасно, и не желая делать скандала. Он еще помнил жену своего должника и чтил ее память. Но больнее всего было для него видеть испорченность, дурное воспитание Владимира, в котором он замечал способности и который чертами лица живо напоминал свою мать.
Узнав о положении Владимира, Глыбин не замедлил прийти к нему на помощь. Неделю спустя после разговора, описанного мною в первой главе, они уж были в дороге.
III Новые лица
В маленькой гостиной, освещенной лампою, стоявшею на круглом столе перед диваном, сидели две женщины и мужчина. Одна из этих женщин, которой на вид можно было дать лет тридцать шесть, худощавая, с болезненным, бледным и добрым лицом, прислонясь к спинке дивана и закинув назад голову, казалось, находилась под влиянием какой-то сильно тревожившей ее думы. С глазами, устремленными неподвижно на одну точку, она уже несколько минут оставалась в этом положении. Другая, молоденькая девушка, наклонясь к столу, что-то работала; но работа, как видно, не поглощала всех ее мыслей, потому что она вполголоса вела разговор с помещавшимся подле нее в креслах господином, перед которым лежала на столе раскрытая книга. Слушая внимательно каждое слово своей соседки, он не спускал глаз с ее тонкого правильного профиля, со всей ее маленькой и хорошенькой головки, осененной густыми темными волосами. Господин этот имел тоже наружность довольно привлекательную. В серых бойких глазах его было много ума. Хотя смуглые, мужественные черты были неправильны, хотя нос был несколько длинен, но эти недостатки искупались живым и энергичным выражением лица, к которому, как нельзя более, шли и насмешливая улыбка, беспрестанно появлявшаяся на губах, и длинные волосы, живописно откинутые назад, и большие отогнутые воротнички очень тонкой и белой рубашки. Взглянув на этого человека, вы бы невольно сказали: «Вот физиономия, которая должна нравиться женщинам»,— и уж потому, что она была недюжинная, вы бы, может быть, сами почувствовали к нему влечение. Господин с выразительными чертами только что читал вслух своим собеседницам роман Жорж Санда «Мопра» и остановился по просьбе старшей из них, сказавшей, что мысли ее в разброде и что она не может слушать внимательно.
— Так вы говорите, Лизавета Павловна, что любить недостойное любви нельзя? — спросил смуглый господин молодую девушку, слегка улыбнувшись.
— Я в этом убеждена.
— И даже имея надежду исправить, пересоздать его, как, например, Эдмея своего Мопра?
— Даже. Прежде чем не совершится это перевоспитание, привязаться к человеку, которого недостатки резко бросаются нам в глаза, нельзя…
— Значит, нельзя и перевоспитать…
— Это как?
— Чтобы перевоспитать, нужно сперва полюбить, без любви этого не сделаешь…
— Можно любить, но иначе, не тою любовью, о которой шла речь.
— Нет, тут нужна именно та любовь, потому что такое пересоздание требует жертв, беспрестанного самоотвержения, а на него способным делает нас только страсть.
— Позвольте мне с этим не согласиться. Любовь, в смысле милосердия, способна, может быть, на жертвы еще высшие…
— Сохрани бог, в подобном случае, от милосердия… Что скажет человек, которого вы вздумаете перевоспитывать, если заметит в вас сострадание к нему, не более… Разве гордость его не возмутится? Если ему знакомо «Горе от ума», то он непременно скажет вам: «Нельзя ли пожалеть о ком-нибудь другом…» Нет-с, в том-то и дело, что иметь благотворное влияние на другое существо, стоящее ниже вас по развитию, можно только тогда, когда это существо само не замечает, что вы хотите его переделывать, когда оно подчиняется бессознательному вашему нравственному превосходству.
— Такая гордость, о какой вы говорите, возможна только в человеке очень развитом. Это гордость искусственная, до нее доходят анализом, это не гордость, а мелочное самолюбие; оскорбительного в сострадании ничего нет для простой натуры.
— А мне так кажется, что подобная гордость должна быть во всяком человеке, хотя бы он в жизнь свою ни единой книги не прочел и даже не имел понятия о том, что такое анализировать свои чувства… Впрочем,— прибавил смуглый господин,— бросимте это. Сказать вам по правде, ни в какие перевоспитания я не верю, все это хорошо в романах, а в действительности этого, кажется, никогда не бывает, вероятно, потому, что редко нас хватает на самопожертвование, не доросли мы еще до него.
— Я знаю, что вы не верите ни во что высокое в жизни.
— В героическое не верю — грешен. Что делать… как-то мало попадалось на житейском пути героев! Иной, смотришь, и начнет, пожалуй, совсем как герой, так и ждешь от него чего-нибудь великого или думаешь, что ему сужден трагический конец, а на поверку выходит, что герой оказывается такою же тряпкою, как и наш брат простой смертный. Новый салоп жене понадобился или личного врага своего доконать захотелось, вот и конец геройству, и опять вспомнишь старика Крылова с его «Волом и Лягушкой».
— Удивительный взгляд, удивительная вера в людей; а я вот хоть и не встречала героев, а все-таки верю, что они возможны, и не думаю, чтобы каждый для женина салопа готов был забыть то, что для него должно быть всего дороже,— честь! Мне досадно, когда так говорят. Еще вы, я знаю, не из дурных побуждений говорите, а есть люди, которые сомневаются в возможности благородного подвига,— единственно из оскорбленного самолюбия. Они сознают, что в них самих нет силы для подвига, и им досадно видеть ее в другом. Из зависти они готовы заподозрить все честное и высокое.
— Но согласитесь, что если они не дураки, они не станут кричать против истинного подвига, совершенного в глазах у всех, потому что каждый будет вправе обвинить их в зависти; а если они видят, что подвига нет, что есть только фразы, за которые воскуряют фимиам, как за подвиг,— естественное дело, что им станет досадно, они чувствуют, что они ничуть не хуже того, кому воскуряют фимиам, они только не говорят фраз и потому не удостоиваются его. И вот они говорят: «Посмотрим, подождем, не окажется ли и этот герой таким несостоятельным, каким оказались мы». Помните, когда мы с вами были на фейерверке, когда три ракеты отсырели и вы сами начали говорить, что, верно, и остальные отсыреют, и действительно, все отсырели.
— Но по крайней мере, если б хоть одна ракета совершенно удалась, я бы не стала подкапываться и говорить: нет, все как-то нехорошо, и эта отсырела немножко…
— В первый раз, как мы увидим совершенно удавшуюся ракету, Лизавета Павловна, посмотрите, как я буду хвалить ее.
— Я повторяю вам, что говорила не о вас, в вас еще есть немножко веры… Вы только любите прикинуться неверующим.
Яков Петрович Заворский, к которому относились слова Лизаветы Павловны Глыбиной, дочери знакомого уже вам старика, в самом деле был вовсе не скептик в душе, хотя и старался выказать себя таким. Поступки его совершенно противоречили его словам. Его можно было даже назвать энтузиастом и идеалистом. Он увлекался часто самыми несбыточными предположениями относительно блага ближних. В первой молодости он был страстным поклонником социальных утопий, от которых в зрелом возрасте отступился, но они оставили в нем глубокий след. Он не мог быть хладнокровным зрителем разъедающих, подтачивающих общественный организм пороков, не проходил безучастно мимо страждущего и привык видеть брата в каждом человеке, какое бы ни было его общественное положение, как бы ни было недостаточно его воспитание. В нем не умерло отвращение к неразумной силе и грубому произволу, не исчезла готовность к каждому истинно доброму и полезному предприятию; кроме того, кошелек его был всегда готов к услугам нуждающегося,— хотя сам он подчас кричал против филантропии и уверял, что она только поощряет леность и тунеядство. Нужно прибавить, что Яков Петрович был в высшей степени деликатен в своих добрых делах, так что человек, одолженный им, уходил от него чуть не с убеждением, что он сам сделал Заворскому одолжение, приняв услугу. Черта эта, к несчастью, довольно редко встречается в наше время, когда благодеяния по большей части делаются таким образом, что благодетели теряют всякое право на благодарность. Яков Петрович, обладая тремястами душ, принадлежал к тому меньшинству помещиков, которое любимо своими подданными, но зато, увы, не любимо своими собратьями! Впрочем, Заворский мало обращал внимания на соседей и, живя почти безвыездно в деревне, не находил нужным с ними сближаться. Он искал более общества тех людей, которые, разделяя его образ мыслей, могли быть ему полезны добрым советом в деле хозяйства. Сделать из крестьян своих хороших, предприимчивых, трудолюбивых хозяев — вот к чему он стремился. Глыбин не был его соседом, он имел поместье в другом уезде, но одинаковые цели сблизили их. Притом же Глыбин, как человек опытный и практический, во многом мог быть полезен Заворскому, еще не вполне расставшемуся с прежними мечтами и впадавшему порой в идеализм. В то время, когда происходит рассказ мой, Яков Петрович должен был по своим домашним делам находиться в губернском городе; но и здесь он выезжал очень мало. Губернские власти приходились ему не совсем по нутру. В семействе же Глыбиных он отдыхал сердцем. Жена Глыбина, Авдотья Федоровна, была женщина тихая, добрая, любившая без памяти мужа и дочь и которой вся жизнь ограничивалась тесной сферой семейного кружка. Она не получила почти никакого образования и всем, что знала, была обязана мужу. Она совершенно подчинялась ему, признавая превосходство его над собой; и, надобно отдать ему честь, он не употреблял во зло этого подчинения, а, напротив, обращением своим старался показать, что считает права жены в доме равными во всем правам мужа. Но подчинение ее было добровольное. Глыбин был ее идолом. Каждый день, проведенный в разлуке с ним, казался ей годом; вот отчего мы видели ее при начале этой главы такой задумчивой. Она с часу на час ждала возвращения мужа из Петербурга.
О старике Глыбине скажу здесь также мимоходом несколько слов. Я уже говорил, что он в молодости был военным. Раненый на Кавказе, он вышел в отставку и возымел сильную охоту образовать себя. Для этого он стал слушать университетские лекции; их слушал он в продолжение нескольких лет; прослушав курс естественных наук, он принялся за медицинский, намереваясь, если достанет сил и способности, сделаться медиком. Обстоятельства его были далеко не блестящи, и он, кроме пользы ближнему, видел в этой профессии обеспеченный кусок хлеба. Но перемена, происшедшая в его положении, помешала ему кончить курс. Ему досталось по наследству от дяди несколько сот душ и нужно было ехать в деревню. Два года после того он женился на бедной девушке, сироте, облагодетельствованной матерью Владимира Пашинцева, о которой жена Глыбина до старости не могла вспомнить без слез. Пашинцева по смерти родителей Глыбиной взяла ее к себе и окружила ласками и заботами, какие можно только ждать от сестры. Впоследствии она устроила свадьбу ее с Глыбиным, которого знала за безукоризненно честного и доброй души человека.
Яков Петрович Заворский и Лизавета Павловна были большие друзья. Хотя они часто спорили, порой даже ссорились, но это не мешало им оставаться в самых искренних отношениях. Они имели в характерах нечто общее, хотя проявлявшееся в различных формах,— это именно идеализм. Заворский маскировал его насмешкой, как будто сам иногда стыдился своей юношеской пылкости. Лизавета Павловна, напротив, не скрывала своего энтузиазма, своей симпатии ко всему страждущему. Сохраняя эту любовь как святыню, Лизавета Павловна старалась, по возможности, доказать ее на деле и не вдавалась в фразерство. Фразы она не терпела, хотя разговор ее не походил на разговоры ухабинских барышень, прославивших ее за то мечтательницей. Она, конечно, не оскорблялась этим названием, зная, что эти, чуждые мечтательности, барышни удивительно рано привыкают писать записочки своим обожателям и бить по щекам горничных, и понимая, что у нас зовется мечтателем каждый, кто не втянулся по горло в сплетни, домашние дрязги и ералаш, не дающие, конечно, воли мечтательности. Якову Петровичу доставалось еще более от ухабинского общества. Название вольтериянца, вольнодумца, «красного» пересмешника, реформатора, крикуна, опасного человека, не уважающего старших, думающего быть умнее всех, сыпались на него со всех сторон.
Горе тому, кто возвысит голос против житейской пошлости; но еще большие гонения ждут человека, который восстал против нее не одним словом, но и своими поступками показал, что он не мирится с ней, который, вместо того чтобы набивать карман и твердить при этом, что он служит верой и правдой царю и отечеству, вместо того чтобы гнуть в три погибели каждого, кого можно гнуть (а многие ли не имеют права хоть кого-нибудь да согнуть?), идет себе прямо и честно дорогой, указанной ему совестью! Как не назвать такого человека опасным и вредным?
Обращаюсь к рассказу. Лизавету Павловну, не пользовавшуюся расположением общества, боготворили зато все домашние: ради ее ласкового взгляда и приветливого слова каждый готов был в огонь и воду. Однажды, когда она опасно занемогла, прислуга вся впала в уныние, не всегда встречающееся в подобных случаях в барских домах. Оно не выражалось в приторных, лицемерных вздохах и аханьях, но ясно виделось на лице каждого; все молча бродили, как тени, порой только спрашивая друг у друга: «Каково барышне?» В доме Глыбиных на прислугу не смотрели как на низшую породу на ступенях создания, с которой нельзя говорить, не унизив чувства собственного достоинства; господин не брезгал подчас и посоветоваться с своими людьми, а русского простолюдина доброе слово, кажется, всего скорее способно привязать к вам. На водку дать, подарить на праздник целковый — дело еще не великой важности, это сделает иногда и тот, кто только что в ухо съездил. Доброе же, человеческое обращение куда как редко приходится встречать русскому простолюдину!
Образ жизни Лизавета Павловна вела скромный и уединенный. Она, пожалуй, не прочь была и повеселиться, но частых выездов не любила, как не любила тратить отцовские деньги на наряды, и хотя одевалась всегда даже с кокетливым изяществом, но изящество это не переходило в роскошь. Она довольствовалась простеньким фуляром, кисеей, а иногда и холстиной; но платье сидело на ней зато так хорошо, талия ее была так стройна, а воротнички и манжеты, вышитые ею самою, были так милы и такой снежной белизны, что, кажется, никакой пышный наряд не сделал бы ее лучше. В характере Лизаветы Павловны было несколько и отцовской серьезности. Она рано начала думать и отдавать себе отчет во всем происходившем около нее; читать ей давали не все без разбора, и благодаря этому воображение ее, от природы пылкое, не развилось в ущерб других способностей. Она очень любила музыку и целые вечера проводила, разыгрывая на фортепьяно какую-нибудь трудную классическую пьесу. Музыка сделалась для нее потребностью, такою же, как хлеб и вода; отец ее, тоже страстный меломан, боялся, чтобы после замужества, когда у нее явятся новые обязанности, она не бросила ее подобно большей части наших девушек, которых учат играть для того только, чтобы похвастаться перед публикой; он наконец совершенно успокоился на этот счет, убедясь, что Лизавета Павловна никогда, ни за что не бросит музыки. «Ведь не мешала же ей теперь музыка заниматься хозяйством, которое почти все лежало на ней,— думал старик,— не пренебрегала же она для нее прозаическими домашними занятиями! Она не любит праздности, не любит таскаться с визитами и по лавкам, не любит сидеть, сложа руки, а это главное. Бог даст, и в свое собственное хозяйство перенесет эти привычки».
— Что это Павел не писал с последнею почтой? — произнесла Авдотья Федоровна, когда Заворский и Лиза замолчали.
— Да, верно, сам едет,— отвечал Яков Петрович.
— Хорошо, как бы так, а что, если захворал!
— Ну вот, Авдотья Федоровна, вы уж начали, смотрите, завтра или послезавтра прикатит.
В эту минуту на улице раздался звон колокольчика.
Все вскочили с мест и, подбежав к окнам, стали прислушиваться. Колокольчик становился все слышней и слышней; он все приближался и наконец зазвучал в той улице, где был дом Глыбиных. Несколько мгновений спустя дорожный экипаж остановился у подъезда этого дома.
Авдотья Федоровна, Заворский и Лиза вышли на крыльцо встретить приехавшего.
IV Новая жизнь
— Вот вам гость,— сказал Глыбин, поцеловавши дочь и жену и пожав руку Заворскому, и при этих словах указал на входившего за ним в комнаты Владимира Николаевича.— Это сын Лидии Евграфовны Пашинцевой.
Услышав это имя, жена Глыбина радостно вскрикнула.
— Сын Лидии Евграфовны! — проговорила она.— Ах, скажите. Вот не думала увидеть вас здесь, молодой человек.
Владимир Николаевич ловко раскланялся.
— Подойдите-ка, подойдите-ка сюда поближе к лампе,— продолжала Авдотья Федоровна, подводя Пашинцева к свету и разглядывая лицо его.— Похож, похож! Как две капли воды. Мы с вашею матушкой очень дружны были. Я никогда не забуду того, что она для меня сделала. Она была моя благодетельница… Да,— помолчав немного, прибавила Авдотья Федоровна,— она умела заставить любить себя.— И слезы навернулись на глазах говорившей.— Очень, очень рада. Что ж вы к нам, на время или совсем?
— Все зависит от обстоятельств,— отвечал Владимир Николаевич, тронутый воспоминанием о матери.— Думаю, что скорей совсем.
— Конечно, совсем,— возразил Глыбин.— Владимир Николаевич служить здесь хочет.
— Доброе дело, доброе дело,— сказала Авдотья Федоровна.
— И жить будет у нас. Я к тебе не писал об этом, потому что некогда было. Позаботься же приготовить ему комнату — ту, что рядом с библиотекой; она ведь не занята?
— Нет, нет, не занята. Распоряжусь тотчас. Как я рада, право! — И Глыбина вышла из комнаты.
— А вот моя дочурка, Владимир Николаич,— сказал Глыбин, обнявши Лизу,— рекомендую, видите какая, только что не переросла отца.
Владимир Николаевич, поклонившись еще раз, произнес какую-то очень ловко составленную французскую фразу, смысл которой был тот, что он желал бы, чтобы семейство Лизы считало его не чужим себе и чтобы Лиза видела в нем брата, как ее мать видела сестру в его матери. Эту фразу он долго обдумывал дорогой и заучил в нескольких редакциях, прилаживая к разным обстоятельствам, которые могли, по его соображениям, сопровождать прием его у Глыбиных.
Хотя каждая из ухабинских барышень на месте Лизы непременно бы после этой фразы пришла в восторг от Владимира Николаевича и, улучив удобную минуту, выбежала бы в другую комнату, чтобы сказать своей маменьке, que ce jeune homme est charmant [52], но на Лизу слова молодого человека не сделали ровно никакого впечатления, ни дурного, ни хорошего; она только увидела, что у Пашинцева есть, как говорится, много апломбу. Заворскому, менее снисходительному, чем Лиза, фраза Владимира Николаевича положительно не понравилась. Искреннее чувство Авдотьи Федоровны, по мнению Заворского, должно было бы вызвать и со стороны приезжего менее искусственное приветствие. Впрочем, когда его познакомили с Пашинцевым, Яков Петрович довольно крепко пожал ему руку; а Лиза, после слов Владимира Николаевича, подала ему свою и произнесла тоже по-французски;
— Желаю, чтобы мы были друзьями…
Скоро подали чай, и завязалась живая, искренняя беседа, в которой, конечно, менее всего принимал участие Пашинцев, не успевший еще хорошенько ознакомиться с окружавшими его лицами. Он более наблюдал и, казалось, хотел по физиономиям угадать характеры этих людей. На все вопросы Авдотьи Федоровны о семействе Пашинцева он отвечал весьма охотно и с большим тактом; а такт в этом случае был очень нужен ему, потому что Глыбина, не зная, что привело его в провинцию, делала иногда такие вопросы, которые поставили бы другого на месте Владимира Николаевича в тупик. Глыбин несколько раз взглядывал значительно на жену при ее расспросах, но она или не видела, или не понимала этих взглядов. Владимир Николаевич, не распространяясь подробно о своих обстоятельствах, намекнул, однако же, что считает себя обязанным Глыбину, протянувшему ему руку в очень трудную минуту его жизни. Лиза ограничилась несколькими вопросами относительно петербургской жизни, оперы, которую ей очень хотелось бы послушать, и литературы. Относительно первого Владимир Николаевич вполне удовлетворил ее любопытство и сделал весьма живой очерк столичных удовольствий; об опере отзывался довольно поверхностно, но при этом очень мило сострил над своим немузыкальным ухом, так что заставил невольно простить себе поверхность своего отзыва. Что же касается до литературы, то тут он оказался совершенно несведущим. Имена лучших современных писателей наших были ему или вовсе не известны, или известны лишь понаслышке. Как ни старалась скрыть свое удивление Лиза, в простоте сердечной думавшая, что петербургскому юноше стыдно не читать ничего русского, это удивление, однако ж, не ускользнуло от Пашинцева, и он покраснел. Но еще более пришел он в замешательство, когда Глыбин завел с Заворским какой-то серьезный разговор и когда Заворский, высказав свое мнение, обратился к Владимиру Николаевичу со словами: «Как вы на этот счет думаете?» Пашинцев никогда ни о чем серьезном, выходившем из сферы его пустой и праздной жизни, не думал, и многие предметы, о которых говорили Заворский и Глыбин, как-то дико звучали в его ушах. Владимир Николаевич уже называл в душе своих собеседников, по привычке, педантами и нетерпеливо ждал, когда наконец придет время спать. Глыбин, казалось, заметил неловкое положение молодого человека, потому что всячески старался свернуть разговор на повседневные, житейские предметы, доступные Пашинцеву; но Заворский, обрадовавшись, что видит перед собой человека, только что возвратившегося из Петербурга, не переставал расспрашивать Глыбина, что говорят и думают в известных кружках о том или другом общественном вопросе, что́ гласное судопроизводство, как стоит дело об устройстве крестьянского быта, какие толки о политических новостях, какое впечатление произвела такая-то статья журнала, чего ожидают от такого-то деятеля на административном поприще. Словом, Заворский едва давал Глыбину отвечать; не успевал тот кончить, как Заворский забрасывал его новыми расспросами, и расспросам этим, казалось Владимиру Николаевичу, не будет конца. Не менее, чем весь происходивший при нем разговор, удивляло его и то, что Лиза внимательно прислушивалась к этому разговору, что ее не только не клонило ко сну, но что, напротив, в глазах ее так и просвечивалась любознательность, и они беспрестанно переходили с Глыбина на Заворского, с Заворского на Глыбина. Она даже раза два перебила разговаривавших и сделала Заворскому довольно меткое и показавшееся Пашинцеву справедливым возражение против публичного воспитания женщин, которому она решительно предпочитала домашнее… «Да это синий чулок,— подумал Владимир Николаевич,— губернская Жорж Санд». Но, несмотря на насмешку над Лизой, сложившуюся в уме его, он чувствовал некоторую досаду, что молоденькая девочка знает больше его и судит о таких вещах, о которых он понятия не имеет. Самолюбие его было задето. Ему очень хотелось знать, какое она составила себе о нем мнение… «Уж, конечно,— думал он,— такое, что я невежда, пустейший человек! Что же больше она могла вывести из моих разговоров?» Он внутренне сознавал, что она вправе была сказать это.
Наконец подали спасительный ужин; в продолжение его Владимир Николаевич был молчалив и задумчив; это, конечно, приписали усталости с дороги, чему он был крайне рад, вовсе не желая, чтоб общество догадалось о тайной причине его неудовольствия,— причине, заключавшейся в сознании своей пустоты, которое впервые пробудилось в сердце молодого человека.
— Этот господин, кажется, мелко плавает,— сказал Заворский, когда Пашинцев ушел в свою комнату.
— Как вы всегда поспешны на заключение о людях! — возразила Лиза.
— Извините, Лизавета Павловна, я не поспешен в суждениях о том, что требует времени для узнания. Я, например, не скажу, что этот молодой человек дурного характера, что он тщеславный или бесчестных правил.
— Еще бы вы это сказали! — воскликнула Лиза.
— Но согласитесь, что ум — такая вещь, которую сразу заметишь, а господин Пашинцев не сказал во весь вечер путного слова.
— Во-первых, ум очень относительная вещь, Яков Петрович, и притом часто мы готовы назвать дураком человека только за то, что он не сочувствует нашим убеждениям.
— У меня вовсе нет такой нетерпимости, но согласитесь, что он не высказал ни сочувствия, ни несочувствия никаким убеждениям.
— Наконец мы еще чаще недостаток образования принимаем за глупость. Очень может быть, что этот молодой человек мало читал, мало думал, но я решительно не нашла, чтоб он был глуп.
— Пожалуй, согласен… А вот, кстати, припомните давешний разговор наш.
— Ну, что ж?
— Да, вот вам бы взяться за роль Эдмеи,— с некоторою колкостью сказал Заворский,— и начать перевоспитывать этого господина. Славный случай поверить на деле, чье мнение справедливее, ваше или мое, то есть можно ли, не любя человека (я разумею любовь как страсть), пересоздать его… Займитесь-ка им, в самом деле!.. Советую вам.
— Пожалуйста, избавьте меня от советов,— сказала Лиза, вспыхнув,— это вы только могли бы, при вашей самоуверенности, взяться перевоспитывать человека, а я не нахожу в себе для таких подвигов ни уменья, ни силы.
— Ну, полноте, не сердитесь, я пошутил.
Лиза не отвечала.
— Ну, не сердитесь же,— повторил умоляющим голосом Заворский,— дайте ручку…
— Не дам.
— Ну, пожалуйста, дайте, не то я всю ночь не усну, а мне завтра дела пропасть, вы знаете, что у меня правило не уходить спать, рассорившись…
— Вы злой человек,— отвечала Лиза, протянув ему руку.— Вас не за что любить.
— Я знаю, что вы меня не любите,— возразил Заворский вполголоса и наклонился к Лизе, как будто для того, чтобы взять лежавшую на окне фуражку.
Лиза слегка закраснелась. Заворский заметил этот румянец и ушел очень довольный {26}.
Глыбин пользовался общим уважением в Ухабинске; он имел репутацию безукоризненно честного человека, и так как он нигде не служил, то положение его относительно губернских властей было совершенно независимое. Они смотрели на него как на равного и даже нередко прибегали к нему за советами. Некоторые отчасти побаивались его, потому что каждое злоупотребление находило в нем беспощадного обвинителя, не стесняющегося громко и резко высказывать свое мнение, на что давала ему право жизнь, не запятнанная ни одним дурным поступком. Все почитали за честь знакомство с ним и заискивали его расположения; все уверяли его в своей дружбе, хотя в предводители его и не выбрали бы, потому что он все-таки, несмотря на многие отличные качества свои, слыл между этими господами за беспокойного человека и вольнодумца. Глыбин отрекомендовал Владимира Николаевича губернатору. Это был благообразный, седой старичок с звездой на фраке и лысиной на голове, отличавшийся более добротой, чем способностями, и который, при совершенном отсутствии характера, легко подчинялся влиянию людей, более умных и энергических, чем он. Его любили за ласковое, мягкое обращение и гостеприимство, но, что называется, не ставили в грош. Губернатор обласкал Владимира Николаевича как родного и обещал сделать для него все, что может. Имея, однако же, основание не доверять этим лестным обещаниям, Глыбин счел нужным познакомить молодого человека с правителем канцелярии его превосходительства, человеком дельным и энергическим. Строгая и несколько суровая наружность его могла с первого разу внушить подчиненному робость, но, в сущности, правитель тоже был человек добрый и готов был помочь каждому, если только помощь эта не противоречила его служебным принципам. Он уважал и любил Глыбина и на просьбу его принять участие в молодом человеке отвечал, что постарается в самом скором времени приискать место, а пока посоветовал Пашинцеву заниматься под его руководством в канцелярии, чтобы попривыкнуть к делу. Тогда открывалась вакансия чиновника особых поручений при губернаторе, и правитель имел в виду убедить его превосходительство дать эту должность Владимиру Николаевичу, если только он окажется способным человеком. Относительно честности молодого человека правитель не сомневался, полагаясь вполне на рекомендацию Глыбина. На другой же день после визита правителю Владимир Николаевич отправился в канцелярию и усердно принялся за работу. Новизна положения и здесь заняла его так же, как занимало его вступление в университет.
— Ну, что, как идет работа? — спрашивал его Глыбин, когда они сходились к обеду.
— Ничего… Павел Сергеич, идет помаленьку.
— Ведь не слишком трудно? — говорил Глыбин улыбаясь.
— Гораздо менее, чем я думал.
По вечерам продолжал к Глыбиным приходить Заворский, и споры его с Лизой и отцом ее начали более и более заинтересовывать Пашинцева. Он уже менее скучал; и если что казалось ему непонятно, обращался откровенно с вопросом к разговаривавшим; какой бы наивный, ребяческий ни был вопрос его, Глыбин и Лиза очень снисходительно все объясняли ему; но только при Заворском он не пускался в расспросы, боясь насмешливой улыбки его. Делать визиты ухабинскому обществу Владимир Николаевич пока еще не порывался. Он отчасти боялся, чтобы Глыбин не подумал, что он скучает у них… да и действительно, он еще не скучал и мог обойтись без других знакомств… Лиза начинала ему сильно нравиться…
Скоро кружок, собиравшийся у Глыбиных, увеличился еще несколькими лицами; приехал на вакационное время брат Заворского, студент Московского университета, юноша еще более живой и бойкий, чем Яков Петрович, совершенное подобие того, чем был этот последний лет десяти назад; он привез с собой товарища, не имевшего родных, к кому бы можно было приехать на лето. Студент Заворский пригласил его в деревню к своему брату; а так как эта деревня лежала в нескольких верстах от города, то студенты раза два в неделю непременно отправлялись к Глыбиным. Еще бывало у них лицо, с первой встречи очень поразившее Владимира Николаевича неуклюжестью манер, мозолистыми плебейскими руками и отсутствием накрахмаленных воротничков. Это был домашний учитель Мекешин. Физиономию он имел суровую, глядел несколько исподлобья, носил всегда длиннополый синий сюртук и фуражку с козырьком, очень похожим, как казалось Пашинцеву, на навес у крыльца. По всем приемам его, по всей фигуре вы с первого раза могли угадать в нем семинариста; и говорил он даже на «о». «Черт знает,— подумал Владимир Николаевич, увидев Мекешина, вошедшего в гостиную Глыбиных,— какой народ ходит к Глыбиным». И Владимир Николаевич, презрительно посматривая на Мекешина, долго не удостоивал его словом. Тот, при незнакомом ему лице, тоже как-то ежился и, казалось, боялся высказываться. Видно было, что нужда помяла-таки этого человека и что обстоятельства не развили в нем особенной доверчивости к людям. Глыбин, как водится, познакомил его с Владимиром Николаевичем. Оба они довольно сухо поклонились друг другу, но руки друг другу не подали. Мекешин не подал потому, что не знал, будет ли это приятно его новому знакомому, о котором он заключил по его наружности, что это должен быть светский человек, и потому, что боязнь показаться навязчивым доходила у него до самой последней крайности, впадавшей в чопорность; Пашинцев же потому, что руки Мекешина произвели на него неприятное впечатление, и он был убежден, что они непременно потные. Глыбины между тем были до чрезвычайности ласковы с Мекешиным, не делая, разумеется, ни малейшего различия в обращении между ним и другими гостями. Заворский как-то особенно льнул к нему, и можно было даже подумать, что он делает это, как говорится, в пику Владимиру Николаевичу, на которого решительно не обращал внимания. В конце вечера Мекешин поободрился и сделался разговорчивее, вызванный студентом Заворским на спор о терпимости в литературе. Мекешин утверждал, что терпимость в известные эпохи вредна и что, наконец, трудно уберечься от крайностей тому, кто всю душу свою положит на какое-нибудь дело, что эти крайности свидетельствуют о страстной, энергической, до истощения сил готовой на борьбу натуре. От литературы спор перешел на историю, и здесь Мекешин доказывал, что каждая реакция влекла за собой непременно нетерпимость и крайности и что без них новые идеи никогда бы не привились обществу. Яков Петрович во всех этих спорах держал сторону Мекешина, против брата. Энергия и прямота, с которою Мекешин отстаивал свои убеждения, и его начитанность произвели впечатление на Владимира Николаевича. Когда Мекешин увлекался предметом спора, в глазах его было столько энтузиазма, щеки его так разгорались, он весь приходил в такое волнение, что к нему невольно и эти минуты лежало сердце, и он переставал быть дурным и неуклюжим. От Лизы не укрылось пренебрежение, с которым Владимир Николаевич смотрел на Мекешина, и то, что они не подали друг другу руки, как при встрече, так и на прощанье. Она тотчас угадала впечатление, произведенное на Владимира Николаевича бедным учителем, и решилась, при первом удобном случае, завести об этом речь с Пашинцевым. В настоящую минуту она ограничилась тем, что, когда Мекешин откланивался, она протянула ему свою руку, которую тот с большим чувством сжал в своей.
На другой день, после обеда, когда Авдотья Федоровна ушла к себе в спальню, почувствовав головную боль, а старика Глыбина не было дома, Лиза сидела под окошком в гостиной и читала.
Владимир Николаевич, войдя в комнату, прервал ее чтение.
— Я пришел некстати, Лизавета Павловна, помешал вам читать,— сказал Пашинцев, порываясь уйти.
— Вовсе нет; я еще двадцать раз успею кончить этот роман до отъезда маленького Заворского. (Глыбины называли студента Заворского для отличия от брата маленьким, и это название шло к нему, потому что он в самом деле был довольно миниатюрен.)
— Это он привез роман? — спросил Пашинцев, садясь против Лизы и перелистывая книгу.
— Да.
— Как вы его находите?
— Кого? Заворского или роман?
— Роман.
— А вы читали его?
— Нет. Вы знаете, Лизавета Павловна, что я почти ничего не читал.
— Прочтите. Это очень хорошая вещь… Я вообще люблю английские романы, но Диккенс, по-моему, выше всех нынешних писателей.
— Вы, кажется, сходитесь в этом с Яковом Петровичем, как и во многом.
Легкий румянец на мгновение подступил к щекам Лизы и потом снова исчез.
— Да, в наших вкусах есть кое-что общее, но далеко не все. Мы с ним часто спорим и даже ссоримся.
— Les petites querelles soutiennent l’amitié? [53]
— Может быть.
— И на этом основании мне бы тоже хотелось с вами поссориться, Лизавета Павловна.
— Эта поговорка вовсе не говорит, что люди, которые между собой не ссорятся, не могут быть дружны.
— Однако ссора скрепляет дружбу.
— Плохая дружба, которую можно скреплять искусственными средствами. Впрочем, если бы вам захотелось непременно со мной поссориться, дело за этим не станет.
— Будто? Так, значит, я только предупреждаю ваше желание?
— Да… Мне хотелось бы вас побранить немножко.
— Зачем же немножко? Уж браните больше, умнее буду.
— В уме у вас и так нет недостатка. А вот подобрее быть не мешало бы.
— Вы находите, что я зол, Лизавета Павловна. Но согласитесь, что этот упрек можно сделать скорее Якову Петровичу, который куда как не прочь кольнуть ближнего.
— Но все-таки я скажу, что он добрее вас.
— Может быть. Я действительно слышал, что он делает много добра, но если я его не делаю, Лизавета Павловна, так я в том, право, не виноват. Чем я могу быть полезен другому? Какое добро я могу сделать?
— Вы думаете, что добро делать, значит давать деньги взаймы?
— И это тоже, между прочим.
— Это добро, я уверена, и вы делали, ведь вам, конечно, случалось одолжать приятелей?
— Положим.
— А случалось ли вам когда-нибудь привязать к себе человека? Я заметила, что вы ни с кем не ведете переписки. Отчего бы это? Неужели вы не оставили в Петербурге не одного существа, с которым вам тяжело быть в разлуке, которое бы о вас жалело?
— Совестно признаться, а кажется, что так.
— Отчего же это? Значит, деньги, которые вы одолжали приятелям, не скрепляли вашей дружбы с ними? Значит, тут нужно что-нибудь другое? Единство вкусов, привычек, характеров даже, вероятно, тоже было между вами.
— Все было; но дело в том, что и я и они — мы были порядочными эгоистами и заботились только о том, как бы не скучать.
— Что вам, я думаю, также не всегда удавалось.
— И даже очень часто не удавалось.
— А удавалось ли вам когда-нибудь утешить товарища, упавшего духом, облегчить чье-нибудь горе? Вот эти одолжения — повыше денежных.
— Да, если мне не попадались ни больные, ни задавленные обстоятельствами,— сказал с насмешкой Пашинцев.
— Они не могли не попадаться,— продолжала Лиза, так значительно взглянув на молодого человека в ответ на его насмешку, что он невольно потупился,— едва ли найдется хоть один человек, у которого не было бы горя, который бы не нуждался в утешительном слове, но чтобы заслужить доверие, чтобы вызвать на откровенность и, наконец, чтобы только понять чужое горе, проникнуть в чужое сердце,— нужно любить, а вы не любили. Ваших приятелей вы любить не могли, потому что, как говорите, не уважали их, а на других людей, стоявших ниже вас по своему воспитанию и происхождению, вы смотрели свысока. Вы могли пожать только ту руку, на которой лайковая перчатка. Бедность в ваших глазах была пороком. Все, что не изящно, не вылощено, не приглажено, вселяло в вас отвращение к себе.
— Почему вы так думаете?..
— Я не думаю, я убеждена. Не далее как вчера вы смотрели с презрением на этого честного доброго Мекешина, который по уму, по благородству правил заслуживает полного уважения; разве ложный стыд не удержал вас пожать ему руку, единственно потому, что он дурно одет, что у него не аристократическая рука? Ну, признайтесь, ведь я правду говорю?
— Признаюсь вам, Лизавета Павловна, он действительно мне не понравился сначала, я смотрел на него не с презрением, как вы говорите, но с удивлением, потому что мне не приходилось встречать таких людей, зато потом, когда я увидел, что он умный и образованный человек…
— Вы стали смотреть на него снисходительнее, но все-таки, верно, говорили про себя, что с такими людьми надо держать себя на благородной дистанции; все-таки вы не обратились к нему ни с одним словом в течение всего вечера и на прощанье опять не решились подать руки ему. Напрасно, Владимир Николаич. Вспомните, что вы теперь ходите служить; что можете получить впоследствии важное место, будете иметь подчиненных, в нужды которых порядочный начальник должен вникать, а если вы не победите в себе эту брезгливость, эту ложную гордость, вы и полезны не будете и любви не заслужите ничьей.
— Лизавета Павловна, я чувствую всю справедливость слов ваших, и, верьте мне, они не пропадут даром. Я употреблю все усилия, чтобы переработать свою глупую натуру. Знаю, что я мелочен, что я тщеславен, но сложите хоть маленькую долю вины на обстоятельства, на воспитание, которое дали мне. Я не приписываю им всего, сознаюсь, что во многом виноват я сам, но и они помогли, право. Я решился твердо, Лизавета Павловна, начать совершенно новую жизнь. И чувствую, что вам обязан этим еще более, чем вашему батюшке. Вы можете вполне пересоздать меня!
— Вы приписываете мне слишком много, Владимир Николаич. Но если дружба моя может хоть сколько-нибудь значить в жизни вашей, я уж буду довольна.
— Она будет для меня всем, всем, Лизавета Павловна. Вот и теперь с вами одною я могу быть откровенен; к вам несу я все, что на сердце, не боясь ни насмешки, ни холодности. После разговора с вами как-то лучше становится. Ваша дружба возвышает меня в собственных глазах. Верьте мне, что я постараюсь сделаться достойным этой дружбы.
Лиза с улыбкой подала ему руку.
Вечером у Глыбиных опять собрались те же лица, что и накануне. Владимир Николаевич был уже совершенно другой с Мекешиным, беспрестанно с ним заговаривал, потчевал его сигарами, жал ему руку, хоть все еще не без некоторого опасения загрязнить свою. От внимания Якова Петровича, заметившего накануне холодность Пашинцева с учителем, не ускользнула эта внезапная перемена, и он тотчас же приписал ее влиянию Лизаветы Павловны.
«Таки взялась за роль Эдмеи!» — сказал он себе и никак не мог воздержаться, чтобы раза два в продолжение вечера не срезать, что называется, Пашинцева, когда тот осмелился было вклеить свое словцо в какой-то серьезный разговор. Лиза при этом, конечно, вступалась за своего protégé, стараясь придать словам его совсем иной смысл, чем находил Заворский. К счастью своему, Пашинцев выразился оба раза довольно неопределенно, и потому Лизе удалось кое-как его выпутать.
Владимир Николаевич благодаря влиянию Лизы действительно принялся приучать себя исподволь к серьезному чтению. Он вооружился терпением и целые вечера просиживал за книгой. Одолевши какую-нибудь ученую статью, он вдруг исполнялся гордости и самодовольства и уже считал для себя возможным принять участие в спорах, происходивших у Глыбина; ему страшно хотелось щегольнуть приобретенным знанием, и он начинал отстаивать какую-нибудь вычитанную мысль, приводя в защиту ее вычитанные же аргументы. Конечно, за свою смелость он бывал всегда почти наказан, потому что или Заворский, или Мекешин побивали его наголову. Но он не приходил в уныние от своего поражения, довольный уже тем, что ему удалось потолковать о предметах, вызывающих на размышление, если бы Заворский в свои возражения не вклеивал какого-нибудь едкого словца, намекавшего на то, что Владимир Николаевич повторяет чужие слова, как попугай, что он не способен заметить односторонность в вычитанном суждении, не способен взглянуть на предмет с своей точки зрения и т. д. При этих выходках, разумеется, самолюбие Пашинцева сильно страдало (он чувствовал Заворского правым), и он стал ненавидеть своего противника. «Это человек сухой, без сердца»,— говорил себе Владимир Николаевич. Но он ошибался. Заворский действовал так под влиянием чувства, заставляющего нас часто действовать наперекор добрым внушениям нашей природы, но от которого, при всем желании нашем, мы не в силах бываем отрешиться: им овладела ревность. Ко всякому другому Заворский был бы снисходительнее; но он стал замечать, что Пашинцев влюблен в Лизу и ей самой начинает нравиться. Не будь этого, Заворский готов был бы также взять юношу под свое покровительство, помочь ему добрым советом, но теперь Яков Петрович был беспощаден. Он, однако же, сам понимал, что делает дурно, выставляя на вид недостатки соперника и осмеивая его перед Лизой; он даже знал, что этим не только не выиграешь у женщины, а скорее вооружишь ее против себя и дашь противнику лишний шанс; потому что женщины вообще любят принимать сторону слабых и угнетаемых, и те, которые осмеливаются нападать на их protégés, становятся им противны. Все это понимал Заворский и между тем не в силах был воздержаться. Часто сухость с ним Лизы, ее строгий, холодный взгляд заставляли его раскаиваться в своей раздражительности: он давал себе обещание не повторять нападков своих на Пашинцева — и не сдерживал обещания.
— Я начинаю убеждаться, что я в вас ошиблась, Заворский,— сказала однажды Лиза, оставшись с Яковом Петровичем наедине.
— Очень вам благодарен.
— За что?
— Как за что? Вы находите, что я лучше, чем вы думали.
— А если хуже?..
— Эта мысль могла бы мне прийти в голову, если бы вы когда-нибудь были обо мне хорошего мнения.
— Ошибаетесь. Я всегда думала, что у вас хорошее сердце…
— У кого нынче не хорошее? Это еще не много. Нынче свет так и кишит добрыми малыми.
— Но не добрыми людьми.
— Вы считали меня всегда таким господином, для которого ничего нет святого, который ни во что хорошее не верит, потому, конечно, что судит о других по себе.
— Вы любили прикинуться таким господином, это правда, mais au fond [54], я всегда думала, что вы истинно добрый человек…
— А теперь?
— А теперь начинаю сомневаться…
— Вероятно, потому, что я часто даю щелчки самолюбию этого франтика, что ваш батюшка вывез из Петербурга?
— Тут нет ничего похвального.
— Ну, что ж тут худого?
— А хоть бы то, что вы этим можете отбить у него охоту к делу.
— Плох же он после этого, а мне казалось, что я ему пользу делаю, напротив; что мои щелчки могут заставить его трудиться с большим рвением и отучат его толковать о том, чего он хорошенько не знает; а то и выйдет из него современный герой.
Что ему книга последняя скажет, То на душе его сверху и ляжет, Верить, не верить — ему все равно, Лишь бы доказано было умно.— Знать что-нибудь для него так ново, что, право, извинительно, если ему хочется поговорить о том, что он узнал…
— Надо приучать его, чтобы он думал о том, что узнает, а не звонил с чужого слова.
— Все это придет: давно ли он начал что-нибудь делать? Вы чересчур взыскательны. Наконец, если и действительно у него бывают ребяческие выходки и вы находите нужным дать ему понять, что он не так говорит или поступает, как бы следовало, разве нельзя этого сделать поделикатнее? Ведь вы иногда просто говорите ему грубости.
— Мне кажется, деликатность в этих случаях не так действительна, жесткое словцо скорее проймет.
— Оскорбленное самолюбие может привести человека к тому, на что он иначе никогда не решился бы: разве не бывали примеры?..
— Так вы решительно хотите перевоспитать этого молодчика?
— Я вам уже сказала, что я никого не берусь перевоспитывать, а если вижу, что человек хочет идти по лучшей дороге, чем шел прежде, так уж, конечно, не стану его сворачивать на старую, это, может быть, очень человечно и благородно, но только не в моем вкусе.
— Если вам угодно, чтобы я не возражал господину Пашинцеву, если я этим успею снова заслужить в ваших глазах репутацию человека с хорошим сердцем, даю вам слово, что, хоть бы он сказал, что завтра мы проснемся все на луне, я с ним и тогда соглашусь. Не хочу уступить ему в покорности, хоть и не отличаюсь, как вы знаете, этой воспрославленною добродетелью.
— Я вас не понимаю.
— Понимаете, да не хотите сознаться; разве он не оказался самым покорным юношей? Вспомните, как он поднял было нос перед Мекешиным; а вы сделали ему внушение, и он на другой же день наичувствительнейшим образом пожал его мозолистую, плебейскую руку. Разве этого мало? Господин Пашинцев выдержал, вероятно, немалую борьбу с своими аристократическими инстинктами, прежде чем решился на подобную жертву.
— Мне кажется, что он не сошелся в первый же раз с Мекешиным, потому что не знал, что он за человек. Вы сами же говорили, что не терпите людей, вешающихся на шею каждому встречному. Значит, это говорит в пользу Пашинцева. А потом, увидев, что Мекешин умен и с благородным сердцем, он подал ему руку. Тут не нужно было ничьих внушений.
— Может быть, и так. Радуюсь, что господин Пашинцев делает все из таких прекрасных побуждений.
— В которые вы не привыкли верить…
— Если бы я не верил в них, то вы бы заставили меня поверить…
— Но ваш комплимент не заставит меня переменить мое о вас мнение. Я окончательно убеждена, что ум ваш развился в ущерб сердцу.
— Ведь это тоже комплимент, Лизавета Павловна.
— Я бы не была им довольна.
— Вот идет мсье Пашинцев, у которого развитие совершалось, вероятно, наоборот; прощайте, Лизавета Павловна. Внушите ему уж кстати, чтобы он пореже употреблял слова прогресс, цивилизация; они как-то теряют свой смысл в устах его.
— Если б я могла внушить вам, что в ваших устах любовь к человечеству тоже не совсем сохраняет свой настоящий смысл!
«Она к нему не равнодушна, это верно,— подумал, уходя, Заворский,— иначе бы не вступалась за него так горячо».
Служебная деятельность Владимира Николаевича началась довольно удачно. Ему дали обещанное место чиновника по особым поручениям. Правитель дел отзывался о его способностях с похвалой. Его превосходительству нравилось более всего в Пашинцеве то, что он un jeune homme comme il faut [55], не похожий на других чиновников его канцелярии, между которыми находились даже молодцы, сморкавшиеся без платка; а уж лайковых перчаток не носил решительно ни один. Его превосходительство очень соболезновал, что окружен такими gens mal élevés [56], и приглашал к себе служить молодых людей из Петербурга, но никто не шел, потому что Ухабинская губерния лежала черт знает где,— на краю света; да и служба у его превосходительства никому не льстила. Даже и губернаторши хорошенькой не было, через которую бы можно себе карьеру сделать. Самого его превосходительства может забрать в руки какой-нибудь дока, вылезший из приказных, и изволь ему кланяться. Так рассуждали столичные молодые люди, получавшие лестное предложение его превосходительства служить в Ухабинске, и он остался со своими чиновниками, не носившими перчаток и носовых платков. Впрочем, правитель дел носил и то и другое, и если его превосходительство не считал его вполне комильфо, то и не считал его вполне мовежанром.
Внушения правителя и разговоры у Глыбиных воспалили в Пашинцеве ярость к преследованию лихоимства. Правитель обещал ему поручить первое следствие, которое представится; но, однако же, предупредил его, что даст ему в руководители «мужа, искушенного горнилом опыта», чтобы Владимир Николаевич не сделал промаха.
Его превосходительство, отдавая должную справедливость изящной наружности своего нового чиновника и его комильфотству и ловкости, не преминул выразить свое удивление, что такой милый молодой человек вовсе не посещает общества.
— Напрасно, напрасно, mon cher,— проговорил благодушный старец Владимиру Николаевичу,— общество формирует молодого человека: никогда не надо избегать общества; чем более вы будете посещать общество, тем менее полезут вам в голову эти вредные, заразительные идеи, ces idées pernicieuses [57], которые нынче любит молодежь, croyez moi, mon cher [58], я знаю жизнь, говорю вам как отец сыну.
К этому его превосходительство присовокупил, что Владимиру Николаевичу необходимо познакомиться с ухабинскими дамами, il y en a qui sont charmantes [59], и тут же заметил, что женщины — это, можно сказать, цвет и краса создания и что кто не любит la causerie [60], тот не может назваться порядочным человеком, un homme comme il faut.
Когда Владимир Николаевич сообщил Глыбиным, что губернатор непременно желает отрекомендовать его дамам, Павел Сергеевич усмехнулся и сказал:
— Ну что ж, познакомьтесь… узнайте поближе провинциальное общество, это не мешает…
— Очень любопытно знать, какое впечатление оно сделает на мсье Пашинцева,— вмешался Заворский.— Мне кажется, оно должно ему понравиться…
— Почему вы думаете это? — спросил Пашинцев.
— Потому, во-первых, что здесь много хорошеньких женщин… а какой же молодой человек не любит хорошеньких женщин? А потом оно вам напомнит вашу петербургскую жизнь,— продолжал Заворский.
— Может быть, я вовсе не желаю, чтобы мне о ней что-нибудь напоминало, а что касается до хорошеньких женщин, то мне случалось их видеть довольно, и одна красота еще не может произвести на меня сильное впечатление.
— Видели довольно?.. Да, я думаю, прекрасное никогда не надоест видеть, сколько ни смотри; если вы вчера видели картину Рафаэля, так из этого не следует, что вам не захотелось завтра видеть Мурильо? И зачем же одна красота только… здешние дамы имеют много и других достоинств… на театре отлично играют, романы французские читают… вы так горячо стоите за прогресс цивилизации, это должно вас радовать…
— Если вы думаете, что я только в этом и вижу цивилизацию, так очень ошибаетесь…
— Чего же вам еще надо?.. Филантропии, что ли?.. И за этим дело не станет… Они у нас и ближних любят… кроме мужей, разумеется… с первого раза всучат вам дюжину билетов на какую-нибудь благотворительную лотерею. Уж не знаю, что бы и сталось с здешними бедными, если бы не наши добрые, милые дамы!
— Да перестаньте, Заворский,— перебила Лиза,— предоставьте Владимиру Николаичу самому увидеть все… гораздо лучше, если он взглянет на общество без всякого предубеждения.
— Вы правы, Лизавета Павловна,— и я молчу. Меня тоже интересует суждение господина Пашинцева о здешней публике.
— Когда же вы намерены, Владимир Николаич, выступить на светское поприще? — спросила Лиза.
— Да вот, говорят, в среду будет бал в собрании; так я и отправлюсь. Там увижу всех разом.
— И потом сделаете визиты тем, которые вам понравятся.
— Едва ли я буду делать визиты. Новые знакомства отняли бы у меня слишком много времени, а я уж и так довольно потратил его бог знает на что.
— Что ж? — сказал Заворский.— Если вы немножко отстали в знаниях, зато, вероятно, приобрели много опыта… жизнь ведь тоже учит не меньше книг.
— Есть книги хорошие, из которых научаешься уму-разуму, и есть дурные, из которых ничего не выжмешь; так точно и жизнь: бывает она бесполезная, пустая, бывает и плодотворная.
— Ну,— произнес Заворский вполголоса, чтобы Лиза не могла его слышать,— плодотворная жизнь еще у вас впереди, молодой и холостой человек.
Пашинцев вспыхнул при этом плоском каламбуре; но приход какого-то нового лица прервал разговор их.
Лиза, при вести о намерении Пашинцева познакомиться с ухабинским обществом, сначала было призадумалась. Она боялась за Владимира Николаевича, чтоб он опять не увлекся и не бросил своих занятий и службы, но потом сказала себе: «Пускай, это послужит ему испытанием; если он не поддастся, значит, желание переработать себя в нем глубоко и сильно, значит, у него есть воля. Если же напротив, то, конечно, Заворский скажет тогда, что из Пашинцева никогда ничего не выйдет». Но ей не хотелось этого допускать, притом она надеялась несколько на свое влияние. А лучше, если бы он не пускался, заключила Лиза. И в самом деле, уж если человек не надеется на свою силу, то не лучше ли ему стараться избегать тех положений, которые ставят его в необходимость бороться? Сколько есть людей, честно, без укоров совести проживших жизнь, может быть, единственно потому, что им не встречалось больших искушений? Конечно, эти натуры не внушают к себе такой симпатии и уважения, как противоположные им, отстоявшие свою независимость посреди самых неблагоприятных обстоятельств,— но что же делать? Всякому своя доля, и весь мир не может состоять из героев.
V Ухабинская публика
Был очень табельный день, и потому зал ухабинского собрания блистал ярче обыкновенного. Кроме шести люстр, постоянно зажигавшихся в простые клубные дни (ухабинская публика в течение всей зимы отплясывала в собрании каждую среду), по стенам горели повсюду свечи, отчего была нестерпимая духота. Снаружи здание тоже иллюминовали, и на улице густая толпа народа любовалась на длинные ряды плошек, украшавших балкон и тротуарные тумбочки, нисколько не боясь возвратиться домой с головною болью от чада и копоти. У подъезда обнаруживалось необыкновенное движение, кареты подъезжали одна за другой, и из них с легкостью сильфид выскакивали очаровательные ухабинские дамы в необозримых кринолинах, сопровождаемые мужьями в черных фраках и белых галстуках или в серебряных и золотых эполетах. Мужья не уподоблялись сильфам, они довольно тяжеловато и с озабоченным видом ступали по устланным ковровыми половиками ступеням лестницы; на лице многих из них можно было прочесть грибоедовский стих: «Бал вещь хорошая, неволя-то горька!» Молодые, развязные кавалеры опережали мужей и жен и спешили, сбросив с себя шинель, подойти к зеркалу, висевшему в прихожей, чтобы поправить свои помятые шляпой или каской прически. Для этой надобности лежала на столике под зеркалом щетка грязноватого свойства. Зал наполнялся быстро и начинал представлять для глаз весьма живописную пестроту: розовые, голубые, белые платья, аксельбанты, красные панталоны, звезды на фраках и на мундирах, Станиславы на шее, Станиславы в петличках, белые бурнусы на синих кафтанах, даже один гусарский доломан и один черкесский чекмень, усы, бакенбарды, лысины, убеленные сединами старцы и старицы, цветущие здравием юноши с проборами посередине головы, с проборами на затылке, с проборами сбоку, цветы, ленты, колосья, обнаженные плечи, пухленькие и тощие,— словом, было от чего зарябить в глазах, закружиться в голове. И все так изящно, прилично, нигде карикатурной фигуры, нигде допотопного чепца, нигде безвкусного сочетания цветов. Самый придирчивый столичный франт, окинув пытливым взором это многолюдное общество, сквозь вставленную в глаз лорнетку, не нашел бы ничего провинциального, отсталого; от всего веяло модой, утонченным вкусом, знакомством с столицей, словом — просвещением! Запах от различных духов, которыми были пропитаны носовые платки, как дамские, так и мужские, и от московской и петербургской помады, которою, кажется, также не брезговали оба пола, запах этот, говорю я, наполняя воздух зала, раздражал нервы и производил что-то вроде опьянения. Оркестр еще молчал, и капельмейстер, в длиннейшем белом жилете, с волнением посматривал в прихожую. В зале слышалось только жужжанье, какое бывает в жаркий летний день в комнате, когда налетят в нее шмели и осы… Ожидали его превосходительства, ибо до него никогда не начинались танцы. Дамы, пользуясь минутами ожидания, то и дело бегали в уборную поправлять туалеты. На бале они, казалось, забывали свои антипатии, свою вражду, все ссоры, интрижки и сплетни, которыми так изобилует провинциальная жизнь; обращались друг к другу с самыми ласковыми, дружескими названиями, chère madame В., душа моя Софья Ивановна, и поправляли друг другу платья, прикалывали бантики, советовали спустить пониже цветок, и все это с такою предупредительностью, с такою любовью, что вы невольно умилились бы, если бы только вас пустить в уборную. Казалось, ни малейшего соперничества не существует между ними. Каждая заботится только о том, чтобы ее приятельница была лучше ее. Ну, совершенная Аркадия! Может быть, и в самом деле между ними не было соперничества?.. Обилие кавалеров, отличавшихся на ухабинских балах, могло бы придать этому предположению большое вероятие, но нет! Уж так создан свет, что иной ловкий кавалер понравится трем дамам вдруг, бог знает за что,— ничего в нем, кажется, нет такого, только что панталоны узкие носит,— а другой как ни финти, как ни старайся пленить, а все неймет, все остается вакантным, и потому-то злые языки говорили, что эта дружба ухабинских дам продолжалась только до начатия танцев, а под конец бала выходило совсем другое. Впрочем, я никогда не верил злым языкам.
Наконец частный пристав в синих очках, стоявший у самого выхода, дал знак капельмейстеру, и оркестр грянул; мужчины столпились к дверям, дамы выравнялись в одну шеренгу против мужчин, так что образовалась улица, по которой его превосходительство, раскланиваясь и улыбаясь на обе стороны, прошел медленно и торжественно; за ним следовал Владимир Николаевич, завитой, раздушенный и в белом галстуке. Его превосходительство, однако ж, имел не совсем представительную наружность: старенький, седенький и сутуловатый, с большою лысиной на макушке, он вовсе не смотрел начальником. Ничего в нем не было олимпийского, и батальонный командир ухабинского гарнизона справедливо утверждал, что это потому происходит, что его превосходительство в военной службе никогда не служил, выправки не имеет, и при этом батальонный командир, озираясь вокруг себя для того, чтобы удостовериться, не подслушивает ли его кто, добавлял: «А уж какой это губернатор, коли ростом не вышел!.. Вот был здесь, лет десять тому назад, губернатором Максим Семеныч — ну, это начальник, нечего сказать! От одного взгляда, бывало, подчиненный, как угорелая кошка, по всем углам замечется, словно кипятком ошпарит; а уж если крикнет на тебя, так-таки тут и присядешь; из своих рук казачьих офицеров нагайками лупил. Отлупит, а потом, как гнев-то пройдет, денег даст. Зачем же теперь и начальника ставят, коли не затем, чтобы от него подчиненному трепет был? Без трепету и порядка быть никакого не может».
Трепета действительно перед его превосходительством мало чувствовали, но зато дамы были от него без ума и говорили, что они никогда не встречали такого доброго, милого старичка. И теперь они его окружили и осыпали вопросами о здоровье, о том, что пишут ему нового из Петербурга, где, как все знали, у него были большие связи, и скоро ли он намерен дать у себя бал. Некоторые, посмелее, даже приглашали его вальсировать; а одна подарила ему цветочек из своего букета и сама продела этот цветок в петличку губернаторского фрака, за что его превосходительство с чувством пожал маленькие пальчики очаровательницы. Но от вальса он положительно отказался и, воспользовавшись этим случаем, представил дамам своего нового чиновника по особым поручениям, qui valse supérieurement [61], как выразился его превосходительство, хотя он и не видел Пашинцева вальсирующим. Дамы, с самого появления Владимира Николаевича, посматривали на него с любопытством, тем более что появление его было совершенно неожиданно; никто не знал, что приехал молодой человек из Петербурга, и всех удивляло, как это подобная новость не разнеслась по Ухабинску, который, как и все провинции, был очень падок на новость. Конечно, если бы приезжий был человек не светский, если бы он притом был пожилой — с пряжкой за пятнадцать лет или крестом на шее, то он мог бы преспокойно явиться в собрание, не возбудив ничьего любопытства. Мало ли приезжает чиновников служить в ухабинские присутственные места!.. Но это совсем другое дело. Владимир Николаевич глядел совершенным щеголем. От испытующего взгляда дам не укрылись ни модные воротнички тонкой отличной рубашки, ни петербургский покрой фрака, ни даже изящный фасон сапог, не похожих вовсе на сапоги ухабинских франтов, стучавшие и с какими-то тупыми, как будто обрезанными носками. Владимир Николаевич тотчас же пригласил на вальс самую хорошенькую барыню, ту, которая подарила его превосходительству цветок, а потом и всех остальных. Дамы остались очень довольны его ловкостью, ему тоже понравились их стройные талии, свеженькие туалеты и белые плечи. Желая познакомиться с ухабинскими дамами покороче, он стал было приглашать их и на кадрили, но, к сожалению, в Ухабинске водилось обыкновение — ангажировать заранее, и потому все оказались уже разобранными, так что он едва успел найти дам на две последние кадрили; а на мазурку тоже остался без дамы.
— Ах, какая досада! — сказала маленькая, хорошенькая, живая барыня с черными выразительными глазками и несколько азиатским типом лица, которую большая часть ухабинских барынь не могла терпеть за способность подмечать их слабости и смешные стороны, другой, сидевшей около нее, довольно невзрачной, но, по мнению ухабинской публики, очень умной и ученой, читавшей даже «Фауста» на немецком языке.— Меня ангажировал на мазурку Пашинцев, а я должна была ему отказать, потому что танцую с этим вон юношей, с которым скука невыносимая, говорит все фразами из французских диалогов. Мне счастье нынче на кавалеров, нечего сказать! Первую кадриль дала милому ротмистру Амарантскому. Намедни я чуть не захохотала ему в лицо… играли кадриль на мотив «барыни»; а он говорит: как мне эта кадриль напоминает Бетховена.
— Вообще,— заметила ученая барыня,— наши кавалеры не имеют понятия, что значит causerie [62]. Один только Чижиков, молодой человек — tout à fait comme il faut… [63]
— Ну уж, Лизавета Семеновна, хорош и ваш Чижиков, помешался на какой-то аристократии казанского сочинения, толкует о связях, о знати, у которой и в передней-то не был. Он с своими аристократическими претензиями похож на Авдотью Васильевну, про которую он же сам рассказывает, будто она говорит, что ее род происходит от Минина и Пожарского и что у нее есть огромнейшая родословная, которою даже покрывали у родителей ее в кладовой кадку.
Ученая дама, читавшая «Фауста», продолжала отстаивать комильфотство Чижикова, лучше которого она действительно ничего не знала, потому что не выезжала из Ухабинска, где папа ее служил когда-то по откупам.
Разговор их прервал Чижиков, высокий, тонкий молодой человек с длинными зубами и выдающеюся нижнею челюстью, уже несколько лет безнадежно вздыхавший о камер-юнкерстве, которое не давалось ему, как клад. Он в самом деле бредил аристократизмом и беспрестанно восклицал ma foi [64], вероятно считая это высшим признаком бонтона, но, впрочем, был добрый малый, и еще один из лучших в Ухабинске. Он подошел к дамам и начал им говорить, что ему пишут из Казани о женитьбе графа З… на какой-то казанской барышне с пятьюдесятью тысячами годового дохода, но вовсе не аристократической фамилии, и при этом резко высказал нелюбовь свою к мезальянсам.
— Что нам до вашего графа З..,— сказала дама с черными глазами,— ведь мы его не знаем, пускай себе женится на ком хочет; посмотрите, Лизавета Семеновна,— прибавила она вполголоса, обратясь к соседке,— как Карачеева нынче мало декольте.
И обе захохотали.
— Elle finira par ne plus s’habiller du tout… [65]
— И друг ее, Мирхайхилидзева, в том же роде,— заметила Лизавета Семеновна.
— J’aurais donné l’une pour ne pas voir l’autre [66],— отвечала дама с черными глазками.
Заиграли кадриль. К обеим дамам подошли кавалеры; ученую взял какой-то румяный, улыбающийся, плотный господин с плоским, как лопата, лицом; а ту — кавалерист Амарантский, говоривший как-то в нос и нараспев и считавший себя необыкновенно светским, потому что в Петербурге был раз на бале у какого-то графа Вертихвостова.
У Амарантского висели на мундире два креста и медаль, которые он так искусно носил, что казалось, будто вся грудь его увешана орденами. Танцуя, он то и дело играл цепочкой и рисовался; а в разговоре употреблял самые вычурные, изысканные фразы à la Марлинский.
Владимир Николаевич во время кадрили приютился один в конце залы и смотрел в лорнет на танцующих. Он успел уже познакомиться с некоторыми мужчинами, но более с молодыми, которые все танцовали, и потому ему было бы не к кому обратиться за сведениями относительно выплясывавшей перед ним публики, если бы судьба вскоре не послала ему словоохотливого соседа, вовсе ему неизвестного, но тем не менее вполне удовлетворившего его любознательности.
Это был господин довольно некрасивый, с желчным лицом, с тонкими сжатыми губами, одетый мешковато и остриженный под гребенку. Во взгляде небольших серых глаз его нельзя было не заметить ума; но взгляд этот не привлекал; напротив, что-то отталкивающее, холодное, злое выражалось в нем. Это был некто господин Выжлятников, проживавший в Ухабинске без всякого дела и неизвестно с какою целью. Он когда-то служил; но, не уживаясь ни с каким начальством, переходил из одного ведомства в другое, пока наконец не вышел вовсе в отставку. Говорили, что у него был капитал, достаточный для того, чтобы прожить безбедно в провинции, но недостаточный для того, чтобы жить в Петербурге, куда, однако ж, стремились все его помыслы и куда он собирался уже несколько лет сряду.
Он жил скупо, не делал у себя ни вечеров, ни обедов; но любил хорошо поесть и попить на чужой счет, не упуская, однако ж, случая ругнуть за глаза тех, у кого ел и пил.
Многие боялись его за злой язык, некоторые считали его даже способным на доносы, но несмотря на это, а может быть, даже и потому именно, заискивали в нем. Сам его превосходительство побаивался господина Выжлятникова и косо поглядывал на него, что, однако, не мешало маститому старцу протягивать при встрече и при прощанье руку Выжлятникову.
«Croyez moi que c’est un homme dangereux [67],— говорил обыкновенно его превосходительство своим приближенным, когда речь заходила о Выжлятникове.— Я знаю жизнь, я довольно видел на своем веку всяких людей: это неблагонамеренный человек». Господин Выжлятников редко чем оставался доволен; нечего говорить уже о распоряжениях местного начальства, находивших в нем всегда строгого судью и порицателя, но когда речь даже шла о литературе, о театре, о каком-нибудь обеде, о дамском туалете, он во всем находил что ругнуть и не любил при этом затрудняться в выражениях; цинизм вошел у него в плоть и кровь. Молодежи он нравился потому, что выходки его иногда были довольно забавны. Она думала о нем, что это человек с оскорбленным самолюбием, которому не повезло и который потому озлобился на все и всех; и, может быть, это мнение было самое справедливое. К приезжим Выжлятников как-то особенно льнул, навязывался на знакомство и старался навязать взгляд свой на ухабинскую публику. До него уже долетела весть о появлении нового лица; он тотчас же выскочил из бильярдной, где смотрел, как гусар с каким-то штатским играл à la guerre [68], и подсел к Владимиру Николаевичу.
— Вы, кажется, недавно к нам пожаловали? — заговорил он с Пашинцевым, повертевшись предварительно на стуле и раза два крякнув.
Пашинцев окинул беглым взглядом своего соседа и вежливо отвечал:
— Месяца два.
— Уже! Как же это вы до сих пор не удостоивали своим присутствием наших общественных увеселений?
— Я никуда не хотел выезжать, у меня есть занятия…
— Занятия-с? Ученые, вероятно… Смею спросить — какою наукою изволите заниматься-с?
— Я?.. Я политической экономией занимаюсь,— отпустил Владимир Николаевич, вероятно на том основании, что недавно прочел какую-то краткую историю политической экономии.
— Гм. Так-с.— Выжлятников пытливо взглянул на молодого человека и подумал: «Врет!» — Вы, однако же, на службу поступать изволите?
— Да, я сделан чиновником по особым поручениям при начальнике губернии.
— Стало быть, так сказать, и Фемиде и Аполлону в одно время намерены посвятить себя. Прекрасно! Не изволите ли также литературой заниматься?
— Нет.
— Жаль-с.
— Почему же жаль?
— «Губернские очерки» господина Щедрина, конечно, знакомы вам?
— Как же.
— Состоя при его превосходительстве в должности чиновника по особым поручениям, могли бы много интересных и поучительных материалов почерпнуть-с. Насчет замечательных личностей, я вам доложу, город наш не уступит Крутогорску.
— В самом деле?
— Так точно-с. Положительнейшим образом можно сказать, богатый рудник для писателя. Жаль, что не тронут.
— А вы старожил здешний?
— Да-с. Лет десяток здесь маюсь.
— Так вы здесь всех знаете?
— Решительно всех-с. Почти каждого из этих лиц, беснующихся перед вами, могу сообщить полнейшую биографию.
— Вот как! Даже биографию! Ну, это вот, например, это что за лицо: старик, почтенная наружность такая, и почему он один только в длинном сюртуке, когда все во фраках?
— Это-с Семен Власьич Загородин. Ему дозволяется нашим обществом эта вольность потому более, что он здесь, так сказать, по ошибке.
— То есть как это по ошибке?
— Да такс. Его место не в Ухабинске, а подальше. Значит, несчастный человек. Как же ему не уважить?
— Я решительно не понимаю.
— Да оно для свежего человека действительно непонятно. А для нас так очень ясно. Мы люди сердобольные, сочувствуем несчастным. Он, изволите видеть, злостный банкрот и вообще всякие пакости в своей жизни выделывал, да умный человек, всегда вывернуться умел. Имение вот заблаговременно на детей перевел. Вон энта барыня — это его дочка-с. Отличное образование получила-с: «Фауста» на немецком языке читает и о разных высоких чувствах рассуждать умеет. Я вам про него, если угодно, расскажу анекдотец, которым и сам господин Щедрин не побрезговал бы.
— Сделайте одолжение, это очень любопытно.
— Первоначальное служение его было в таможне-с. Ну, таможня, сами изволите знать, какое место. Питательнее, можно сказать, на свете ничего нет. Золотых приисков иметь не нужно. Кажется, самим богом устроено для поправления человеческих обстоятельств. Ну-с, вот наш Семен Власьич и приютился туда. С управляющим душа в душу жил, и вместе они всякие эдакие дела обделывали. Только вот раз понадобился Семену Власьичу куш значительный; думал он, думал, как бы это добыть, да и выкинул штуку. Возьми да и напиши на управляющего донос. Так, мол, и так, вот мы с ним какие дела обделывали. Восчувствовал я, говорит, грешный раб, что против присяги шел, и приношу мое чистосердечное покаяние. Следствия формального просит и все доказательства представить берется. Написавши, сударь мой, этот донос, марш с ним к губернатору. Губернатор тогда был человек смирный, незлобивый и с управляющим в дружбе состоял. Жаль ему стало управляющего. Начал умаливать Семена Власьича. Тот и руками и ногами. «Не хочу, говорит, ничего слышать; совесть меня терзает». Совесть совестью, а за управляющим гонца. Является. «Что прикажете, ваше превосходительство?» Губернатор ему и изъясняет все обстоятельства. Возопил управляющий гласом великим. «Что ты, говорит, Семен Власьич, бога не боишься или старую хлеб-соль забыл?» — «Нет, отвечает, помню, да присяга выше хлеба-соли». Ну, знаете, часа два его умасливали, наконец подался. Согласился взять серебром десять тысяч и слово честное дал, что изорвет донос.
— Молодец, однако ж, нечего сказать.
— Позвольте-с, сударь мой, здесь еще не конец истории; тут еще эдакой эпизод, или эпилог, как это называется там, будет-с. Взявши деньги и поуспокоившись, таким образом, насчет присяги, отправляется Семен Власьич к полицмейстеру. Друг его был закадычный полицмейстер: всех детей у него крестил; такая же ракалия, как и он. Бывало, краденую вещь сыщет, да у себя и оставит, а сам скажет — не нашел. С вора же между тем, конечно, благодарность жирнейшую слупит. Да не в том дело… Вот-с приезжает Семен Власьич к куманьку и говорит: «Ну, брат, послал бог на шапку. Эдакой штуки и ты, при всем своем, можно сказать, гениальном соображении, не удирал»,— и рассказал всю историю. Кум только руки растопырил. «А хочешь,— продолжает Семен Власьич,— и тебе такой же куш предоставлю? Только, чур, мне половину». Ударили по рукам. Семен Власьич вручил полицмейстеру свой донос и дал инструкцию ехать с ним к губернатору и сказать, что нашел, мол, ваше превосходительство, на базаре пакет запечатанный: раскрыл и увидел донос. По долгу присяги и службы не могу такого злоупотребления попустить. Обязан отправить бумагу по назначению. Сказано, сделано. Губернатор снова за управляющим. У полицмейстера, видно, совесть была посговорчивее, недолго ломался. Зато взял не десять, а двадцать тысяч, потому десять нужно было Семену Власьичу заплатить. После такого пассажа, конечно, Семен Власьич в таможне оставаться не заблагорассудил. В откупа пустился.
— Славная история,— сказал Владимир Николаевич.— И много вы еще таких знаете?
— Достаточно-с. Томика два можно составить. Истинно соболезную, что господь бог сочинителем меня не сотворил. А впрочем, советую вам с Семеном Власьичем познакомиться, обедами угощает отличными. Вино все из Санктпетербурга.
— Покорнейше благодарю! А скажите, вот эта хорошенькая барынька, что с кавалерийским полковником танцует, кто такая?
— Карачеева-с, чиновника жена, добродетельная супруга и примерная мать, как все утверждают. Сама детей кормит.
— Кажется, полковник-то за ней крепко приударяет?
— Да он, говорят, ловкий-с. Образованным человеком слывет, все более потому, что долгов не платит. У нас это признаком хорошего воспитания почитается. Видите, как лицо-то у него напружилось? Это все оттого, что уж затянулся слишком… Нельзя-с, из гвардии. На том стоим.
— А что такое муж ее?
— Муж ничего; славный муж. Тоже служил в военной, гастроном большой, трюфели любит и на этом основании, должно быть, почитает себя за аристократа. В сущности, тряпка, колпак, ничего больше. Толстеет только, другого от него пути никакого нет. К делу решительно способности не оказывает… больше по части иллюминаций его употребляют: если где пикник устроить, блины или катанье какое-нибудь — на это мастер. И ведь как ни брюхат, а кланяться любит. Черт его знает, как это он и делает, что у него спина так гнется! Уж где подлисить, поподличать, подмазаться нужно — сделайте одолжение, лицом в грязь не ударим!.. Без мыла в душу влезет. Хоть на брюхе ерзать заставьте его сейчас по паркету, если только вы генерал, не откажется. Радешенек из себя шута корчить. Я думаю, у него от поклонов когда-нибудь позвоночный столб лопнет. Хоть бы уж поскорей лопнул, а то смотреть противно. А вот не угодно ли на группу немцев полюбоваться,— народ достойный… Шток, Шванц и Фиш. Шток с Шванцем бароны, а Фиш просто немец; Шток рыцарем слывет, честнейших правил, говорят, а такой интриган, каких свет не производил, и руку вам будет чувствительно жать, а только что отвернется, напакостит! Вон его половина; белобрысая, с буклями. Тоже, говорят, добродетельная; да кто же с эдакою рожей добродетелен не будет. Рада-радешенька, чай, что мужа сыскала. Зато, говорят, каждое утро любовные письма его перечитывает, которые он к ней двадцать лет назад написал, когда еще женихом был,— приятное занятие, а главное, трогательное. Фиш — это тонкий немец; с четырьмя губернаторами ладил и всех очаровывал. Посмотрите, как улыбается. Сладость неописанная; он всем друг, всем приятель, всех то и дело целует, словно двадцать лет не видал. Иезуит, даром, что Лютеру верует. А уж как делишки свои обделывает! Местечко, кажется, не ахти, а под городом и деревенька явилась и сыновья в Петербурге воспитываются. Видно, немецкому богу хорошо молится. Шванц — этот из злых немцев будет,— Бирон в своем муравейнике. Норовит, как бы ближнего столкнуть да на его место сесть. Я где-то читал, что лучший из немцев — из людей лучший. Не знаю; а что сквернейший из немцев есть из людей сквернейший, так это верно.
— Вы, однако же, я вижу, всех хорошо расписываете.
— Куда мне, этого ли они стоят!
— Ну, а что вы скажете про эту даму с испанским личиком?
— Помилуйте, да где же вы тут Испанию-то нашли? Калмыцкая физиономия попросту, а вы говорите испанская. Это прероманическая дама-с. Это некоторым образом Мария-с. («Полтаву» изволили читать?) Как та в Мазепу втюрилась, так и эта в старца столетнего. Старец был добрый, всё ей брильянты дарил. Ну, как же его не любить было? Притом вельможа, значит, все перед ней ничком лежало. Как уехал отсюда, она вослед ему бежать хотела, да муж не пустил. Муж у ней крут попался. Образованнейшая дама-с! По-французски так и режет, и все о любви, о чувствах. И богомольная такая, ни одной обедни не пропустит; да все, знаете, на коленях молится. Видно, господа бога просит, не пошлет ли ей еще вельможного старца с брильянтами и разными муар-антиками.
Много еще разных разностей рассказывал Владимиру Николаевичу господин Выжлятников; сообщил ему, что какой-то провиантский чиновник отбил жену у другого провиантского чиновника, что один господин продал другому медную сигарочницу за золотую, что третий хотел поступить на театр, чтобы переменить свою фамилию, которая неблагопристойна; словом, понес такую ахинею, что Владимир Николаевич уже не знал, как от него избавиться. Кадриль давно кончилась, а желчный господин все расписывал ухабинскую публику. Наконец Пашинцев, воспользовавшись тем, что рассказчик, громко чихнув, начал сморкаться, скользнул в другую комнату.
В этой комнате шла игра в карты. Около столов несколько человек, по-видимому, с участием следили за игравшими. Два штаб-офицера с красными воротниками о чем-то горячо спорили. Владимир Николаевич прислушался.
— Так вы полагаете,— говорил один с бурбонскою физиономией,— что нужно произносить вкус, а не скус?
— Разумеется,— отвечал другой, довольно красивый мужчина, перешедший из гвардии и считавший себя светским человеком,— когда же вы услышите в порядочном обществе скус?
— Нет уж, позвольте, Андрей Федорович, как вам угодно, это не так; отчего же в уставе теперича сказано: скуси патрон, а не вкуси патрон?
Владимир Николаевич, боясь расхохотаться и кусая губы, отправился далее. В комнате, смежной с залой, отдыхали после танцев дамы; туда же явились несколько старух, усевшихся вдоль стены. Владимира Николаевича занимала провинциальная публика, и он с любопытством вслушивался в ее разговоры. Старуха в белом чепце с желчною, ядовитою физиономией говорила другой:
— Когда графиня здесь была губернаторшей, так она нас любила, так была с нами хороша, что даже девкам своим запретила, чтобы не смели ни с кем знаться, кроме наших девок. Можно сказать, что мы были ею обласканы.
— Прекрасная женщина была графиня,— отвечала другая старуха, вздохнувши,— и общество тогда было здесь несравненно лучше, Надежда Андреевна.
— Какое же сравнение, Степанида Яковлевна, тогда одних генеральских домов сколько было! А теперь что! Какая-нибудь капитанша роль разыгрывает; этот старичишка перед каждою смазливенькою рожицей так и тает; ведь удивление, в чем душа держится, а туда же к юбкам поближе, греховодник эдакой! Тьфу, пакость какая!
В дверях Пашинцев снова столкнулся с Выжлятниковым.
— Скучаете, молодой человек, в нашем обществе? — спросил он Владимира Николаевича.
— Нет, я ищу свою даму; кажется, начинают кадриль.
— А позвольте узнать, с кем изволите танцовать?
— Да с тою, как ее, с Карачеевой.
— Да вон она-с… под сенью плюща с полковником разговаривает-с.
Пашинцев бросился в тот угол, куда ему указал Выжлятников, желчно усмехнувшийся ему вослед.
Владимир Николаевич заметно развеселился во время кадрили, болтал без умолку с своею дамой и остался чрезвычайно доволен как ею, так и собой. В мазурке беспрестанно выбирали его, потому что он танцовал гораздо ловчее ухабинских франтов. После бала несколько человек молодежи стали уговаривать Карачееву остаться ужинать. Ей очень хотелось согласиться, тем более что в числе просивших находился и перетянутый в струнку полковник. Но оставаться одной было неловко. Пашинцев взялся это устроить и убедил присоединиться к ней одну очень миленькую барыню с тонкими смуглыми чертами и чувствительным сердцем, очень любившую помогать влюбленным; фамилия этой дамы была Сидорова. Муж ее, постоянно ездивший по поручению губернатора на ловлю раскольничьих попов, и на этот раз был в отсутствии; стало быть, никто не мог стеснять свободы ее, и она даже очень обрадовалась приглашению Пашинцева, тем более что Карачеева состояла с ней в интимных отношениях.
Ужин прошел чрезвычайно весело. Карачеева, желая, вероятно, побесить полковника, принялась кокетничать с Пашинцевым, который, выпив стакана два шампанского, тоже не ударил в грязь лицом. Он острил, рассказывал уморительные анекдоты и, казалось, призвал на помощь всю свою развязность, чтобы очаровать свою собеседницу. Муж Карачеевой, потому ли, что был слишком уверен в жене, или потому, что был совершенный колпак, не обращал внимания на жену. Он сам врал более всех, врал довольно забавно и под конец запел даже французские гривуазные куплеты, заменяя только те строки, которые чересчур скоромны, припевом: тра-ла, ла, ла, ла. Эта вольность в обращении с дамами очень понравилась Пашинцеву; но еще более нравились ему плечи и руки Карачеевой, с которых он не спускал своих масляных глаз. Он возвратился домой очень поздно, и в голове его был совершенный ералаш. Он все напевал слышанную гривуазную песенку, коверкая текст и фальшивя.
— А что за милочка эта Карачеева,— бормотал он, закутываясь в одеяло и зажмуривая глаза, чтобы живее представить себе соблазнительные формы молоденькой ухабинской львицы.— Главное,— плечи, плечи, плечи! Впрочем, и ручки славные, и ножки такие маленькие, каких я еще не видывал.
VI Знакомства
На другой день после бала Лиза не замедлила расспросить Владимира Николаевича о впечатлении, сделанном на него обществом. Хотя оно понравилось ему, но он не высказал этого сразу, потому что слыхал в доме Глыбина нападки на пустоту и пошлость ухабинской публики. Он как будто боялся, чтобы и его самого не заподозрили в пустоте и чтобы не сказали про него, что он удовлетворяется очень малым.
— Так себе,— отвечал Пашинцев на вопрос Лизы,— вся эта публика очень прилична, я не нашел в ней ничего особенно резкого, бросающегося в глаза. По одному разу, конечно, нельзя сделать верного заключения, но, сколько мне кажется, есть люди порядочные, я встретил довольно ласковый прием.
— Ну, это не удивительно, вас рекомендовал губернатор. Что ж, вы познакомились с дамами? Рассказывайте, с кем вы танцовали и кто больше других вам понравился.
— Я познакомился со многими, но особенно никто не понравился мне.
— Согласитесь, однако же, что здесь есть очень хорошенькие.
— Очень хорошенькие не скажу, но есть действительно недурные, вот Карачеева, например, Сидорова.
— A madame S., madame D., Madame Г. ?
— Все они недурны, но в Карачеевой как-то более симпатичности.
— Я с ней была некоторое время очень хороша, она на меня сделала именно то же впечатление, что и на вас.
— А потом разошлись?
— Да.
— Почему же? Вы нашли, что она хуже, чем вы думали?
— Может быть; впрочем, я не виню ее, мне всегда казалось, что, если бы не муж, из нее бы вышла гораздо лучшая женщина, в ней есть хорошее, или по крайней мере было, но муж, вместо того чтобы постараться развить ее, дал в ней заглохнуть всем добрым качествам и повел ее по другой дороге. Он корчит важного барина и хлопочет только о том, чтобы жить на широкую ногу.
— Неужели? А знаете, он мне показался очень милым господином.
— Он врет иногда довольно мило, это правда, но и только. Меня постоянно отталкивало от него это искательство перед тем, кто посильнее, а потеряй этот сильный свое значение, свой вес, Карачеев первый обратится к нему спиной. Нет человека здесь, который бы заискивал больше у прежнего губернатора. Послушайте же, что он говорит теперь о нем и о жене его. Это тем более гадко, что он им даже несколько обязан.
— А мадам Сидорова? Она, кажется, глуповата.
— Я не согласна; она действительно боится высказывать свое мнение о чем бы то ни было; но это следы воспитания. У ней была гувернантка, говорят, очень злая, которая совсем запугала ее; гувернантка эта отвечала за нее на все вопросы и всегда прибавляла: «Это не по нашему уму, не спрашивайте нас, мы для этого слишком глупы». Согласитесь, что такая метода не придает храбрости.
— А муж ее?
— Муж ее честный человек, но мало образованный: занятый всегда службой или хозяйством, он не мог подвинуть ее ни на шаг, да и вообще здешняя атмосфера как-то не способствует женскому развитию, здесь никто ничего не читает, ничему не сочувствует, кроме сплетен, все друг на друга злословят или играют в карты.
— В злословии я уж успел удостовериться: мне встретился некто господин Выжлятников, рассказавший мне много кое-чего про здешнее общество.
— Этому господину не во всем верьте. Злость еще можно простить человеку, стоящему выше того кружка, который он бранит, человеку, приходящему в негодование от несправедливости и пошлости, с которыми он не способен помириться; но если он нападает на все и всех потому только, что его не позвали обедать к губернатору или обошли чином, то согласитесь, что он не заслуживает ни веры, ни уважения. Скажите мне, вы намерены делать визиты?
— Я думаю, нужно будет сделать некоторым, с кем меня познакомили.
— Уж если делать, то всем. Вы не знаете, как легко наживаются здесь враги. Визит еще ни к чему не обязывает; с некоторыми вы так и можете остаться на визитах: но по крайней мере вы не оскорбите ничьего самолюбия.
Владимир Николаевич так и сделал. Он поехал ко всем членам ухабинского общества, составлявшим тамошний высший круг. В Ухабинске, как и в Петербурге, как и во всех городах наших, было несколько кружков, и каждый кружок старался подражать другому, стоявшему выше его на ступенях общественной иерархии. Только один высший копировал Петербург. Выжлятников, никого не оставлявший в покое и вращавшийся во всех кружках без изъятия, в каждом кружке ругая все остальные, выражался про ухабинскую аристократию, что эта аристократия только до Трущобина (пограничный уездный город Ухабинской губернии), а чуть две версты от Трущобина отъехал, уж и не различишь, что аристократ, что холоп. Прежде всего Владимир Николаевич объездил генералов, потом дам, с которыми танцовал, а потом уж и остальных. Генералы, из которых иные едва волочили ноги от старости, приняли его очень радушно, толковали все боле о службе и о карьере и оказались все крайне недовольны разными нововведениями, проникнувшими, к их крайнему огорчению, даже и в такой отдаленный город, как Ухабинск, откуда действительно, говоря словами Гоголя, хоть три года скачи, ни до какого государства не доскачешь {27}. Дамы показались Владимиру Николаевичу так же милы, как и на бале, хотя у некоторых лица были бледнее и под глазами от утомления образовались синеватые круги. Они еще не успели отдохнуть от бала. У Карачеевой он застал перетянутого полковника. Они сидели рядом на маленьком диванчике. Она работала; он, живописно облокотясь на спинку дивана и запустив все пять коротких и красных пальцев своих в волоса, о чем-то ей рассказывал, по-видимому с большим чувством, потому что на лице madame Карачеевой, несмотря на обилие пудры, пробивался румянец. Полковник был маленький, коренастый, плотный человечек, с крупными, аляповатыми чертами лица, с красными огромными руками. Он считался в Ухабинске образцом светскости, потому что недурно говорил по-французски и с шиком, по выражению тамошней молодежи, полькировал. Он служил очень счастливо, потому что был еще молод, толковал обо всем с чувством собственного достоинства, хотя большею частью общими местами. Ума у полковника было именно настолько, насколько нужно, чтобы разыгрывать в каком-нибудь Ухабинске роль аристократа. Чтение серьезных книг не было его слабостью, он был того убеждения, что много читать — ум за разум зайдет. Вообще, после нескольких минут разговора с полковником как-то невольно приходили вам на ум эти меткие строки поэта:
То был гвардейский офицер {28}, Воитель черноокий, Блистал он светскостью манер И лоб имел высокий. Был очень тонкого ума, Воспитан превосходно, Читал Фудраса и Дюма И мыслил благородно.Ко всему сказанному можно добавить еще, что, несмотря на молодые еще лета, он, подобно генералам, едва таскавшим ноги, строго порицал дух времени и отдавал преимущество той давно минувшей поре, когда подчиненный не смел рассуждать, а должен был знать только три слова: никак нет-с, точно так-с, слушаю-с.
По лицу полковника видно было, что он недоволен приходом Пашинцева, казалось, прервавшего его на очень интересном месте разговора. Но зато madame Карачеева с тонкостью и тактом, делавшими честь ее молодым летам, нисколько не подала виду, что Владимир Николаевич пришел некстати. Напротив, она была с ним любезна до чрезвычайности. Узнавши, что он остановился у Глыбиных, отозвалась о них с большою похвалой; только когда речь зашла о Заворском, сказала: «Да, я его знаю»,— и уже ничего больше не прибавила, из чего Пашинцев заключил, что она недолюбливает Якова Петровича, и потому, разделяя сам то же чувство к нему, позволил себе раза два кольнуть его, назвав педантом, человеком с больною печенью и вследствие этого видящем все в мрачном свете. С этим madame Карачеева согласилась и даже присовокупила какое-то злое словцо от себя. Она имела в Ухабинске репутацию скромной, ни о ком дурно не говорящей женщины, но эта была репутация узурпированная. Карачеева была только осторожна и ни о ком не говорила дурно с теми, которые могли перенесть ее отзыв по назначению, а исподтишка не прочь была ужалить. Вообще, когда было нужно, она умела прикинуться совершенно овечкой, готовой уступать во всем каждому, не задевающей ничьего самолюбия, заботящеюся только о том, чтобы ее любили. И ухабинская молодежь действительно называла ее ангелом. В сущности же она олицетворяла собою русскую пословицу: «В тихом омуте черти водятся». Полковник выразился о Заворском, что, может быть, это очень ученый человек, mais non pas un homme agréable en société [69].
— Как вам понравился бал? — спросила Владимира Николаевича madame Карачеева.
— J’en suis fou, madame, что за прекрасные туалеты, et quelle quantité de jolies personnes! [70]
— Не правда ли, какая хорошенькая, например, madame Z.? — Карачеева в душе не терпела этой женщины, иногда очень метко на ее счет острившей, но ее метода была хвалить при незнакомых тех, которые ее бранят, чтобы уж вполне заслужить прозвание ангела. В интимных разговорах она говорила другое. Притом же ей теперь хотелось выпытать, не интересуется ли Пашинцев madame Z. и можно ли надеяться завербовать его в свои поклонники. Но Пашинцев был себе на уме и отозвался о madame Z. очень равнодушно. Поболтав у Карачеевой с полчаса и попросив позволения бывать у нее, отправился далее. У madame Z., дамы с черными глазками и восточным типом, он тоже просидел несколько минут с большим удовольствием, потому что она была умна и разговор ее отличался метким сарказмом. Она не следовала примеру Карачеевой — и осторожность не была ее правилом. Она высказывала свое мнение смело, a qui veut l’entendre [71]. Здесь Пашинцев, рассыпавшись опять в похвалах Ухабинску, довольно пренебрежительно отнесся к madame Карачеевой, узнавши из слов madame Z., что они между собой не ладят. Много еще сделал визитов Владимир Николаевич и заключил их одним очень скучным семейством, куда он решился положительно больше не ездить. Это была семья провиантского чиновника Тычкова. Сам господин Тычков был высокий мужчина с рыжими бакенбардами, до того тощий и болезненный, что казалось, если нечаянно задеть его пальцем, то он сейчас же упадет. Говорил он медленно, нараспев и по временам неприятно гнусил. Любимою темой для разговора служили ему воспоминания о поре студенчества его. Но, несмотря на то что подобные воспоминания придают часто свежий, поэтический оттенок словам даже зачерствевших под жизненным гнетом людей, переносят каждого из нас к счастливейшим, вечно дорогим нашему сердцу дням, рассказы господина Тычкова не навевали ничего, кроме скуки, потому что ни искры теплоты не было в этом господине, у которого на первом плане выступало всегда собственное я. Себя он считал какою-то высшею натурой, призванною к чему-то более прекрасному, чем служить по провиантской части, хотя решительно никаких данных не было к такому предположению. В сущности же это был пустейший фразер, говоривший книжным языком, языком ученых статей сороковых годов, без всякого убеждения, старавшийся примениться к образу мыслей своих слушателей, особливо если это были люди с весом и авторитетом, и к довершению всего страшный сплетник, сплетник из самых вредных, потому что, если только кто-нибудь задевал, хоть ненамеренно, его самолюбие, он готов был даже наклеветать на того самым бесстыдным образом. Биографии сотоварищей его, которые он то и дело рассказывал (замечая всегда предварительно, что это была замечательная натура или высокогуманная личность), биографии эти обыкновенно походили на его собственную и кончались тем, что гуманная личность делалась провиантским, или таможенным чиновником, или женилась на «камелии» или же наконец с кругу спивалась. В домашнем быту господин этот находился под башмаком тещи и супруги, молодой дамы иностранного происхождения, ужасно хлопотавшей о хорошем тоне, который как-то ей не давался, и любившей анализировать разные тонкие оттенки чувства, вроде Устиньки г. Островского {29}, толкующей о том, что лучше — иметь да потерять или ждать да не дождаться. И не столько жена господина Тычкова держала в доме бразды правления, сколько теща, крикливая, вспыльчивая старуха, о которой, впрочем, гуманный господин Тычков говорил, что это чрезвычайно свежая, энергическая, хоть и непосредственная натура. Когда супруга и теща возвышали свои пронзительные голоса, то не только не было слышно самого господина Тычкова, забывавшего тогда весь плутарх знаменитых личностей, которыми набита была его плешивая голова, но даже не было слышно звонка, если приезжал гость. Только одна жидовская синагога могла представить что-нибудь подобное. Пашинцев не знал, как ускользнуть из гостеприимных лап господина Тычкова, который, узнав, что Пашинцев был студент, да еще занимается политическою экономией, тотчас же пустился сообщать ему биографии замечательных натур, занимавшихся политическою экономией и кончивших провиантскою частью.
Битых два часа выдерживал Владимир Николаевич эту пытку, выслушал до двадцати тупых анекдотов и наконец, улучив-таки минуту, когда теща, не согласная с каким-то мнением господина Тычкова, громко на него прикрикнула, решился встать со своего места. Он вышел от господина Тычкова с головною болью и с потом на лбу.
Мало-помалу Владимир Николаевич стал незаметно втягиваться в общественную жизнь Ухабинска. Его звали на вечера и обеды, и он ни от одного из них не отказывался. Его вскоре посвятили во все ухабинские сплетни и дрязги; он узнал, что общество, как ни малочисленно оно было, делилось на бесконечные партии. Одна партия язвила другую; одна другую старалась затмить светскостью. Его превосходительство, имея от природы доброе сердце, не мог не соболезновать такому ходу дел; можно даже сказать утвердительно, что сплетни и дрязги занимали его гораздо более, чем административные соображения; не раз пытался его превосходительство примирить враждующие стороны, но неудачно; при нем все, казалось, живут душа в душу, а только что он исчезал за дверью, как начиналась опять пикировка. Владимир Николаевич тоже невольно как-то пристал к одной партии— именно карачеевской, что очень радовало самое madame Карачееву, во-первых, потому, что он был петербургский, а во-вторых, потому, что она любила, чтоб у нее была толпа адоратеров {30}; и чем больше их было, тем веселее глядела madame Карачеева. Владимиру Николаевичу она решительно вскружила голову, хотя, как мы увидим, и ненадолго. Несмотря на ловкого полковника, стоявшего при ней настороже и не выпускавшего ее из виду, как собака кусок говядины, ей удавалось лавировать между обоими своими обожателями. С Пашинцевым она иногда втихомолку подшучивала над его соперником, что он самонадеянный фат, а при полковнике отзывалась о Пашинцеве как о мальчишке. Если я сказал, что Пашинцеву она вскружила голову, то должен оговориться, что я отнюдь не разумею под этим серьезного чувства. Владимира Николаевича более всего увлекала пластика; относительно же ее ангельского характера он имел свое мнение, не совсем согласовавшееся с отзывами ухабинской молодежи. Он раскусил Карачееву очень скоро; но два-три ободрительных слова, брошенных ею как будто вскользь, пробудили в нем надежду на успех, а потому он начал, вопреки убеждению своему, отстаивать ее против всех дамских нападок. С полковником он не сошелся, они хотя и жали чувствительно друг другу руки, но косо посматривали один на другого. В обществе Глыбиных Владимир Николаевич стал заметно скучать, и когда Заворский, по своему обыкновению, отпускал на его счет колкое словцо, он уже не огорчался по-прежнему, но говорил себе: «Это желчный педант, которого и все общество здесь не любит, не стоит обращать на него внимания»,— и уходил сидеть к Карачеевой. Естественно, что ему нравилось лучше бывать там, где он мог играть роль, где сознавал себя не ниже окружающего по развитию и образованию, чем между людьми, беспрестанно и волей и неволей дававшими щелчки его самолюбию, в котором у него не было недостатка. Пашинцев дошел до того, что если у Глыбина заводили речь о каком-нибудь научном или общественном вопросе, то он тотчас приписывал это намерению уколоть его невежество. «Они нарочно стараются выказать свои знания,— думал он,— чтобы унизить меня»,— и нарочно посреди разговора вставал с места и отправлялся к себе с комнату. Но в ухабинских гостиных он любил тотчас щегольнуть ученостью, ввернуть какой-нибудь научный термин и вообще придать себе вид занимающегося, серьезного человека. Это случалось с ним в особенности тогда, когда ему почему-нибудь не везло у Карачеевой. Чуть он замечал, что она внимательнее к полковнику, чем к нему, как делал скучающую, разочарованную мину и начинал вслух порицать себя, что так долго не принимался за свои занятия, что ведет праздную жизнь, и при этом прибавлял, что в наше время непростительно не иметь цели в жизни, убивать ее на сплетни и карты, ибо назначение человека — приносить пользу ближним. Потом, придравшись к чему-нибудь, начинал хвалить Лизу Глыбину, которая действительно в эти минуты, когда ему не удавалось у Карачеевой, влекла его к себе и казалась ему несравненно лучшим существом, чем все ухабинские дамы. Но когда мир с Карачеевой бывал опять заключен, когда она вклеивала в разговор новое ободрительное, обнадеживающее словцо, он забывал и Глыбиных, и занятия…
Между тем Глыбины, замечая его частые отсутствия и слыша от многих, что он записался в поклонники madame Карачеевой, стали опасаться, чтоб он опять не возобновил своего прежнего образа жизни.
— Это еще не беда,— говорил старик Глыбин,— если ему нравится хорошенькая женщина; он молод, не перебесился, нельзя же требовать, чтобы из него в эти лета вышел отшельник; но я боюсь, чтобы частые выезды и знакомство с здешнею молодежью не вовлекли его в издержки выше его средств. Пожалуй, по старой привычке долгов наделает, а это бог знает к чему может повести.
— Надо бы ему как-нибудь намекнуть, папа,— сказала Лиза, задумываясь.
— Теперь еще нет ничего, и потому намек мог бы оскорбить его; такие вещи говорить щекотливо, мой друг…
— По-моему, не стоит этот мальчишка, чтобы с ним нянчиться,— вмешался Заворский.
— А знаете ли, Яков Петрович,— возражала Лиза,— вы, может быть, всему виной. Вы оттолкнули Пашинцева от нас, потому что не пощадили его самолюбия, вы оскорбляли его часто, а мне кажется, если бы вы постарались иметь на него влияние, вы успели бы больше, чем кто-нибудь. Пашинцев сознает вас выше себя, поверьте, а участие людей, которые выше нас по своим нравственным и умственным качествам, глубоко на нас действует, оно поднимает нас в наших собственных глазах.
— Вы все идеализируете, Лизавета Павловна; я так думаю, это просто прежние привычки берут верх над этим мальчиком, да и меня он не считает таким, как вы говорите. Он производит в здешнем обществе эффект,— вот и причина, почему ему там нравится.
— Ну хорошо, положим. Но я прошу вас, не повторяйте ваших нападок на него. Сделайте это для меня. Когда-то вы называли меня своим другом и говорили, что готовы для меня на все; или и вы тоже пренебрегаете маленькими жертвами и ждете, не представится ли случай для какой-нибудь огромной жертвы?
— Чтобы доказать вам противное, я отныне не только не скажу ничего, что бы могло рассердить вашего protégé, но всеми силами постараюсь не дать ему завязнуть в ухабинской тине; а если не успею, не приписывайте этого недостатку доброй воли с моей стороны. Но, право, мне немножко смешна вся эта история. Господин Пашинцев играет в ней роль Роберта, Карачеева — Бертрама, а я — Алисы {31}.
— Уж вы вечно найдете сравнение! Насмешка все подрывает у вас!
«Она не любит Пашинцева,— думал после этого разговора Заворский,— иначе ей было бы совестно просить меня, чтобы я образумил его. Она притворилась бы равнодушною, понимая, что ее легко заподозрить в ревности. Нет, в ней живет более святое, более широкое чувство; это тоже любовь, но не та. Если бы ей нравился Пашинцев, гордость ее возмутилась бы при мысли, что ей предпочитают Карачееву. Она скрыла бы от всех чувство, подавила бы его в себе. А теперь, стараясь отвлечь его от ухабинской публики, она действует с простодушием, с наивностью ребенка; эгоизм ни при чем здесь. Нет! Положительно, она к Пашинцеву равнодушна».
И при этой мысли Заворский почувствовал, что он сам полюбил Пашинцева. Действительно, с этой поры Владимир Николаевич не узнавал в нем прежнего Заворского, так он сделался с ним кроток, добр и любезен! Яков Петрович всеми силами старался заохотить Пашинцева к занятию; предложил ему прочесть вместе одну книгу и зная, что некоторые места могут казаться темны для него, не дожидаясь его расспросов, сам начинал объяснять их, но делал это так, что Пашинцеву не могло и в голову прийти, что его подозревают в непонимании. Яков Петрович, прерывая чтение, как будто высказывал мысли, на которые чтение наводит его, а между тем только развивал и пояснял прочитанное суждение. Пашинцев совершенно простил Заворскому его прежние нападки и сделался с ним откровенен. Он даже по свойственной всем влюбленным страстишке потолковать о предмете своей любви завел однажды с Яковом Петровичем речь о Карачеевой. Заворский не только не ответил ему насмешкой, но отплатил такою же откровенностью и рассказал, что до ее замужества сам некоторое время увлекался ею и чуть-чуть не сделал предложения. Но, к счастью, подвернулся Карачеев, который был гораздо богаче Заворского, и она, рассчитывая на выгодное замужество, тотчас же бросила своего прежнего обожателя, хотя и прикидывалась неравнодушною к нему. Надо признаться, что у Заворского сначала явилось было намерение подстрекнуть Пашинцева на более упорное волокитство за Карачеевой, для того чтобы отвлечь его от Лизы, но, вспомнив данное ей обещание, он тотчас же оттолкнул от себя такой нечестный помысел. Владимир Николаевич, слушая, как новый приятель его анализировал Карачееву, сознавал в душе, что он прав; но, однако же, решился добиться успеха, сколько из самолюбия, чтобы доконать полковника, столько и потому, что Карачеева возбуждала в нем чувственность.
Но вскоре он должен был отступиться. Карачеева пересказала все интимные его разговоры с ней, по секрету, мужу и полковнику, которые подняли его на смех, возвеличивая, конечно, добродетель madame Карачеевой. Когда Пашинцеву все это передали, он пришел в неописанную ярость и начал повсюду бранить свою «пассию» (как выражались ухабинские барыни), уверяя, что он ничего подобного не говорил ей и что она делает это для того, чтобы усыпить доверие мужа. После этой неудачной попытки над сердцем одной из ухабинских красавиц Пашинцев принял твердое, как ему казалось, решение опять засесть за политическую экономию, не отказываясь, однако же, при случае отомстить Карачеевой. Но в это время его послали в какой-то уезд Ухабинской губернии на следствие. «Нужно ему проветриться, зашалберничался»,— сказал правитель и прикомандировал его для узнания порядка следствий к одному опытному чиновнику. Пашинцев рад был этой поездке, она давала ему возможность рассеять неприятное впечатление, произведенное на него историей с madame Карачеевой, и отдохнуть от вихря ухабинской жизни.
«Это мое последнее увлечение,— говорил он себе, сидя в повозке подле опытного чиновника, покуривавшего из коротенького чубучка.— Я чувствую, что во мне совершился кризис! Ветхий человек умирает во мне и настает пора новой жизни».
Потом он вспоминал о Лизе, и никогда не казался ему таким привлекательным ее кроткий и ясный образ, как во время разлуки.
Лиза между тем тоже радовалась за Владимира Николаевича и стала гораздо нежнее и ласковее с Заворским, которого влиянию преимущественно приписывала перемену в Пашинцеве.
VII Надя Василькова
Пашинцев никогда еще не живал в наших мирных, спокойных уездных городках; ему случалось в них останавливаться только проездом. Сначала его очень заинтересовала тихая уездная жизнь; заинтересовало его и следствие, все эти допросы, показания и прочее, но, однако же, все это заинтересовало его ненадолго. Скоро он начал позевывать, слушая своего ментора, дававшего ему при каждом удобном случае наставления, как должно действовать, какая форма такой-то и такой-то бумаги, чего не надобно упускать из виду. Пашинцев, воображая, что изучение производства следствий поглотит все его время, привез с собой только одну книгу, которую в два вечера прочел от доски до доски. Следующие вечера он уже лежал на диване, задрав кверху ноги и мечтая то о Лизе, то о Карачеевой; о последней, однако ж, более, чем о первой. Правдивость требует, впрочем, заметить, что наконец и эта мысль ему надоела.
«Хоть бы знакомство какое завести,— говорил он себе.— Давеча, проходя мимо одного домика, я видел в окне прехорошенькую головку. Справиться бы, кто это».
Справка была на другой же день наведена. Оказалось, что домик, замеченный Владимиром Николаевичем, принадлежал отставному капитану Василькову, который уже более десяти лет проживал в уездном городке и почти никуда не показывался, потому что был человек больной. С ним вместе жили сестра его покойной жены, старая девушка, и шестнадцатилетняя дочка Надя. Все эти подробности сообщил Пашинцеву опытный чиновник, который производил следствие и который, как оказалось, не только был знаком с Васильковым, но даже, когда позволяло время, навещал его. Услышав об этом, Владимир Николаевич тотчас попросил своего ментора отрекомендовать его капитану. Ментор изъявил согласие, но с условием, что он сначала предупредит Васильковых.
— Они люди простые, небогатые, не привыкли к таким гостям, как вы. Губернаторский чиновник, да еще из Петербурга!
— Да ведь и вы губернаторский,— возразил Пашинцев.
— Ну, я дело другое. Я с Васильковым девять лет знаком, да притом же человек не светский, старого покроя, при мне им церемониться нечего, а ваша братия, нынешняя молодежь, критиковать любите…
— Я вовсе не из таких, Парфен Иваныч, и если мое присутствие стеснит семейство капитана, я лучше вовсе не пойду.
— А вот я спрошу. Да как бы вам скучно там не показалось? Люди простые, необразованные…
— Вы ошибаетесь, мне вовсе не нужно их образование; я люблю простых, но добрых и честных людей.
— Ну, как знаете. А если за дочкой приволокнуться хотите, так это напрасно.
— Вот уж вы мне сейчас бог знает какие цели приписываете. Грешно вам, Парфен Иваныч.
— Чего грешно? Молодежь, известно, к молодежи льнет. Ведь не для старика же вы туда идете!
— Положим, что не для старика; но мне просто может быть приятно в обществе молоденькой и хорошенькой девушки; зачем же непременно предполагать волокитство?
— Да, видите, трудненько удержаться. Знаем мы, сами были молоды. Только опять-таки говорю, напрасно будет; потому девчонка-то, кажись, уж просватана.
— Ну вот видите, если просватана, так тем более мне странно было бы волочиться.
У ментора на этот аргумент не вылетело из уст ничего, кроме нескольких колец дыму, которые он пускал с большим искусством, сделавши предварительно самый маленький ротик, что придавало его рябоватой серьезной физиономии очень смешное выражение.
Капитан, услышав о желании Пашинцева познакомиться с ним, покрутил свои длинные седые усы и пробормотал себе под нос: «Пускай придет». Он вообще отличался невозмутимостью своего нрава, и никто из знакомых его не помнил, чтобы какое-нибудь известие, радостное или печальное, произвело на него особенное впечатление. Если ему говорили, что такой-то обитатель города умер, он спокойно произносил: «Царство ему небесное!» — хотя бы этот обитатель был его короткий приятель и бывал у него каждый день. Если он слышал, что кто-нибудь женится, то издавал такой какой-то неопределенный звук вроде «гм!», и можно наверное предположить, что если бы один из его повседневных посетителей, квартальный надзиратель Миловзоров, или приходский священник отец Тихон, или молодой чиновник из уездного суда Сорочкин, вошли к нему в одно прекрасное утро с известием, что он получил миллион в наследство от какого-нибудь родственника, которого и существования он не подозревал, или что его произвели в главнокомандующие, он и тут бы не выпустил из рук своей пенковой трубки и не выразил бы удивления. Разве только усом седым моргнул бы, что он и без того беспрестанно делал. Очевидно, что весть о предстоящем визите Пашинцева и подавно не могла его расшевелить, как обстоятельство самое обыкновенное. Но зато женский пол эта весть совсем озадачила. Варвара Кузьминична, капитанская свояченица, так и всплеснула руками. Она отроду Петербургских не видывала. Когда-то, еще в лета ее ранней молодости, приезжал к ее папеньке, купцу третьей гильдии, просить денег под залог часов один поручик из Петербурга, ехавший в отпуск в деревню и на дороге проигравшийся; но с тех пор она о петербуржцах только и слышала, что в разговорах или читала в повестях, до которых была большая охотница, хотя много в них не понимала. Она воображала себе, что каждый столичный житель должен быть непременно франт и пересмешник, и уж заранее дала себе обет не показываться, когда явится к ним Пашинцев, а сперва посмотреть на него в щелку. Надя, дочь капитана, тоже чего-то испугалась и, закрасневшись, потупила свои светлые, голубые глазки. Она знала, что гость станет с ней любезничать, начнет ее расспрашивать о разных вещах, а она такая застенчивая, робкая, притом же такая необразованная, не умеет и отвечать хорошенько. Надя раза два видела Пашинцева в окошко; он так щеголевато одевался, носил шляпу и светлые перчатки, тогда как туземные юноши ходили в самых залихватских фуражках с длинными-предлинными кистями, а перчаток вовсе никогда не надевали; он так пристально и дерзко смотрел в окно, у которого она сидела за пяльцами, тогда как молодые чиновники уездного суда, завидя ее, конфузились и терялись. У бедной Нади от страха и сердце замерло. И какое она наденет платье, когда он придет? Ведь в серенькой холстинковой блузе, в которой она всякий день ходит, не покажешься,— стыдно; а два ситцевых, как нарочно, только что в мытье отданы. Шелковое воскресное надеть? Не смешно ли будет? В будни так разрядиться! Он тотчас же догадается, что это для него.
Все эти мысли мгновенно осадили хорошенькую головку Нади; и, поспешно встав из-за пялец, девушка отправилась к себе в комнату, подмигнув тетке, чтобы и та шла туда же. Целые два часа продолжалось там совещание. Варвара Кузьминична настаивала на шелковом платье, а Надя доказывала, что холстинковое приличнее. Так на холстинковом и решили.
— Пусть его думает, что хочет,— сказала Надя,— мы не имеем достатка, чтобы ходить каждый день в шелку. Зачем я буду перед ним рядиться? Обманывать, что ли, своим состоянием? Да зачем мне? Что он петербургский-то? А мне бог с ним! Я знакомиться с ним не навязывалась. Не понравится ему, что я в холстинковом платье, так не ходи к нам, плакать не будем.
— Нет, нет, нет, Надя, как хочешь,— возражала Варвара Кузьминична,— а шелковое лучше, ты барышня, а не какая-нибудь горничная, а барышни в больших городах всё в шелковых платьях ходят. Вот еще, чем мы угощать-то его будем? Я думаю, Наденька, кофею сварить; это всего приличнее будет. Он мужчина молодой, деликатный, с понятиями, не то что здешние чиновники; тем, конечно, что кофей! Им водочка чтоб была, главное дело.
— Что же, тетенька, не все и здешние одну водку тянут, Андрей Андреевич ее и в рот не берет.
— Да много ли таких, как Андрей Андреевич твой, наберется? Один, да и обчелся. Кто об нем говорит? Это красная девушка.
Андрей Андреевич Сорочкин, о котором шла речь, был чиновник лет двадцати трех, без памяти влюбленный в Надю и пользовавшийся ее расположением. Он каждый день приходил к Васильковым, и его считали у них в доме своим. В городе давно уже было слышно, что капитан просватал за Сорочкина свою дочку, но неизвестно почему не объявляет этого. Одни говорили, что Сорочкин ждет повышения, с которым сопряжено большее жалованье, другие — что старик Васильков нарочно отложил свадьбу на год, чтобы испытать своего будущего зятя, не ветрогон ли он и постоянен ли в своих привязанностях. Но ни те, ни другие не были правы. Андрей Андреевич, хоть и получал довольно скромное жалованье, но зная, что Надя неприхотлива, не избалована, готов был хоть сейчас же жениться; капитану тоже не приходило на ум испытывать его, он далеко не смотрел, лишь бы был человек непьющий, а до остального ему дела не было. Коли дочка сама его полюбила, так сама за него и отвечай: хорошая жена, думал капитан, должна уметь мужа к себе привязать. Коли муж с другими бабенками знается — значит, жена виновата. Следовательно, помеха шла не отсюда. Она заключалась в характере самого Сорочкина. Он никак не мог решиться высказать Наде свою любовь, хотя и был почти уверен, что она его не отвергнет. Сколько раз собирался он объясниться! Бывало, все слова дома заранее придумает, а как придет, язык точно к нёбу присох. Немало стыдил его учитель уездного училища Горностаев, которому он как задушевному другу поверял все свои сокровенные тайны; Горностаев даже учил его, как должно объясниться, советуя при этом вклеить в объяснение какие-то бенедиктовские стихи {32}; Андрей Андреевич все откладывал со дня на день. Как только свидится с Надей, вся твердость его неизвестно куда и исчезнет. Раза два даже он для куражу выпивал по рюмке мадеры, но и мадера оказывалась недействительною. Надя тоже была, как я уж сказал, нрава застенчивого и всякого разговора о любви избегала. Но ей очень хотелось, чтобы Андрей Андреевич наконец попросил руки ее. Она очень любила его и не одну ночь провела, мечтая о том, как бы они славно зажили, как бы она стала хозяйничать в своем доме и как бы крепко целовала своего мужа каждый день, по возвращении из должности. Подстрекаемый Горностаевым, а еще более своею собственной страстью, Андрей Андреевич решился наконец написать к Наде письмо и изложить подробно горестное состояние своего сердца. Приняв такое решение, он все утро не мог составить в уездном суде ни одной бумаги. Мечты его были далеко. Он двадцать раз обдумывал фразу, которой начнет письмо, и очень соболезновал, что не выписал себе письмовника, о котором недавно объявляли в газетах. В этом письмовнике находились письма на все возможные и даже невозможные случаи. Хотя Горностаев обещал помочь своему другу в сочинении рокового письма, но в этом случае Андрей Андреевич мало на него полагался, зная, что учитель слишком витиеват и, пожалуй, такое нагородит, что Надя и в толк не возьмет. Может быть, несчастный любовник продумал бы о письме еще с неделю, если бы не весть о том, что Пашинцев собирается сделать визит Васильковым. Эта весть произвела на Сорочкина самое дурное впечатление. В сердце его закипела ревность. «Зачем,— подумал он,— этот фертик хочет познакомиться с капитаном? Верно, прослышал о красоте Нади или сам где-нибудь увидел ее. Ну как вздумает за ней ухаживать!» Андрей Андреевич считал себя в таком случае заранее погибшим. Как он ни был уверен в любви Нади, но петербургский франт с модными воротничками, в накрахмаленной рубашке, с стеклышком в глазу казался ему до того страшным соперником, что бороться с ним не было никакой возможности. Уж он, верно, найдет средство понравиться неопытной девушке и оттереть бедного, смирного чиновника.
— Господи! — кричал Сорочкин, шагая по своей комнате в малиновом бумажном халате и сопровождая свои восклицания выразительными жестами.— Господи! За что наказуешь? И все сам, сам, глупая башка, виноват, уже давно бы мог мужем Наденькиным быть! Теперь сидел бы с ней, с моей душечкой, на диванчике, читал бы ей разные книжки или песни бы пел и никакого бонтона столичного к себе не пустил бы.
Сетования эти были прерваны приходом Горностаева. Наружность учителя была чрезвычайно комическая. Низенький, с огромнейшею взъерошенною головой, с короткими ногами, с руками, вечно заложенными в карманы пестрых, клетчатых шаровар, он в самом серьезном человеке вызвал бы непременную улыбку. Нужно еще прибавить, что он беспрестанно хмурил брови, желая придать своей физиономии значительное выражение, и как-то дико вращал зрачками, особенно же когда декламировал стихи, а декламировал он их то и дело. Он был малый очень добрый и от природы неглупый; но безобразная жизнь и страсть к вину совершенно испортили ему дорогу. Начальство часто делало ему строгие выговоры и внушения. Он обижался, огрызался и переходил из одного города в другой. В городе Грязнухине, где происходил описываемый мной эпизод, ему как-то удалось просидеть долее, чем во всех других городах, на своем месте. С Андреем Андреевичем их сблизила страсть к стихам и еще то обстоятельство, что Горностаев, во всю жизнь свою не умевший понравиться ни одной женщине, хотя был до них большой охотник, ужасно симпатизировал всем влюбленным и ничем не был так доволен, как ежели кто-нибудь выбирал его в поверенные своих сердечных тайн. С того дня, как Сорочкин признался ему в любви к Наде, он имел в нем преданнейшего друга.
— Скажи, о чем задумался, Алонзо? — продекламировал из какой-то драмы, напечатанной в покойном «Пантеоне», Горностаев, входя в комнату и не снимая шляпы. Сорочкин тотчас сообщил ему свои опасения.
Горностаев выслушал, глубокомысленно сдвинув брови, и потом, покачав головой, отвечал:
Оставь сомнения свои {33} В душе болезненно-пугливой, Гнетущей мысли не таи; Грустя напрасно и бесплодно, Не призревай змею в груди, И к Васильковым в дом свободно С челом… С челом… С челом… С челом бестрепетным иди.Насилу подобрал эпитет! Полно, полно, Андрюша! Как не стыдно горевать по пустому, это трусость! Ужели ты не имеешь доверия к девушке, которая любит тебя так нежно и пламенно своею первою любовью? Неужели она способна предпочесть тебе, человеку с душой, с сердцем, какого-нибудь петербургского прощелыгу единственно потому, что у него модный фрак и золотые часы, а у тебя вицмундир и часы томпаковые? Нет, я не верю, не должен, не хочу верить этому. Она неиспорченная, чистая, благородная натура.
Такие души я люблю давно {34} Отыскивать по миру на свободе, Твоя Надежда, друг мой, в этом роде.— Да полно тебе чепуху городить,— сказал обиженным голосом Сорочкин.— Я ему дело говорю, а он все стихи да стихи! Теперь мне не до стихов; ты вот лучше помоги мне письмо написать.
— Письмо? А ты еще все не написал его?
— То-то и есть, что не написал.
— Ну так давай перо и бумаги.
— Ты мне скажи, Горностаев, свое мнение: как ты думаешь, зачем этот франт знакомиться хочет с Васильковыми?
— Зачем? — Горностаев опять сдвинул брови и, помолчав, сказал: — Я думаю, что ему просто скучно здесь, привык блистать на паркетах. Может, и поволочиться, что за беда! Ведь не женится… Она ему не пара…
— Знаю, что не женится. Да это-то и худо, что он будет только так, для препровождения времени, а она, пожалуй, его полюбит. Уж кабы человек, который жениться может, ну дело другое! Как мне ни больно, да уж я скрепил бы сердце, лишь бы только она счастлива была. А он поступит так, как этот господин порядочный человек, помнишь, что мы недавно читали; только несчастие ее и мое сделает.
— Она не полюбит его!
— А как полюбит?
— Не полюбит. Она знает, что,—
ты любил ее {35}, Как сорок тысяч франтов Любить не могут…— И что это капитан пускает его к себе! Сказал бы: я человек больной, куда мне новые знакомства! А то, ничего, сидит в своих валенках да усами поводит, как прусак. Еще рад небось, что честь ему делают.
— Ха-ха-ха! Ты юмористом делаешься, Андрюша. Как прусак — это метко сказано. Но послушай, мой друг, повторяю тебе, унывать не следует. Должно принять борьбу. Скажи себе, как Алеко:
Нет! Я, не споря {36}, От прав своих не откажусь.Какая же это любовь, коли уж ты, ничего не видя, хныкать принялся? Если ты эдак упадешь духом при ней, она, конечно, тебя разлюбит: женщины не любят слабых характеров. Они любят энергию, силу…
— Хорошо тебе говорить.
Сорочкин продолжал молча ходить по комнате и наконец, махнув рукой, воскликнул:
— Будь что будет… Ты прав, нечего прежде времени убиваться. Сядем-ка за письмо. Уж коли она будет моя невеста, тогда я его близко не подпущу, тогда уж дело-то кончено. Настою, чтобы через неделю и свадьба была. Давай писать.
И друзья принялись сочинять любовную эпистолу, долженствовавшую решить участь Сорочкина.
В то самое утро, как Пашинцев явился к капитану с первым визитом, Надя получила письмо от Сорочкина. Письмо было написано очень трогательно, так что Надя чуть не прослезилась. Она тотчас же прочла его вслух своей тетке, с которою жила в большой дружбе. Варваре Кузьминичне послание влюбленного чиновника еще более пришлось по сердцу; она вспомнила, как во времена оны один юный полковой лекарь, пылавший к ней долгою и безнадежною страстью, говорил ей почти то же самое изустно в тенистой, густой аллее старого сада, при свете луны. Глубокий вздох вырвался из груди старой девицы. Она всплакнула втихомолку от Нади и внутренно пожелала, чтобы роман племянницы развязался счастливее, нежели ее собственный, потому что полковой лекарь вскоре после объяснения ушел с полком в другую губернию и там, неверный, женился на другой девице, за которою взял что-то очень много денег и каменный дом. С тех пор никто уже не признавался в любви Варваре Кузьминичне; быстро отцвела красота ее, а с нею исчезли и мечты о замужестве. К тому же и папенька обанкротился, едва успев выдать за капитана свою младшую дочку, к которой Варвара Кузьминична, осиротевши, и переехала на житье. Но роман с лекарем оставил неизгладимый след в мягкой душе ее. Он, во-первых, поселил в ней недоверие к неверным мужчинам, а во-вторых, пристрастил Варвару Кузьминичну к чтению романов и повестей, преимущественно же тех, где описывались любовные приключения. Так как и Надя имела к ним слабость, то иногда по целым ночам читала их тетке вслух. И обе они немало тужили и даже плакали, если повесть кончалась несчастливо и любовники не соединялись в ней законными узами.
— Ну что это, право, какая жалость! — говорила обыкновенно Варвара Кузьминична, утирая слезы белым бумажным платком.— Как это можно, чтобы такой прелестный мужчина, как Лидин, погиб через этого злодея Ножова!
— А мне так всего более жаль Зинаиду,— возражала Наденька. И обе они начинали толковать, как бы они устроили судьбу героя и героини, если бы были на месте сочинителя.
Надя, уже боявшаяся, как мы видели, Пашинцева, еще более растерялась при нем по причине получения от Сорочкина письма. Мысли ее так были заняты этим письмом, что она почти ничего не слышала, что говорил Пашинцев, и на все его вопросы отвечала как-то невпопад. Владимир Николаевич, видя, что молодая девушка перед ним конфузится, оставил ее в покое, намереваясь в один из следующих визитов познакомиться с ней покороче, и исключительно занялся с капитаном. Он навел разговор на Кавказ, начал описывать тамошнюю природу и боевые стычки с такою живостью, как будто видел эту природу и участвовал в этих стычках. Капитан был совершенно очарован своим гостем и как-то особенно моргал усами, выкуривая трубку за трубкой. Надя воспользовалась разговором отца с Владимиром Николаевичем и, не дождавшись окончания визита последнего, ушла к себе в комнату, чтобы еще раз перечесть письмо Сорочкина и хорошенько обдумать, как лучше сообщить о нем капитану. Хотя она была вполне убеждена, что со стороны его не будет препятствий, но все-таки сцена могла выйти довольно патетическая. Варвара Кузьминична советовала племяннице, ничего не говоря, отдать роковое письмо отцу и тотчас же припасть к ногам его. Пашинцев между тем, толкуя с капитаном о неустрашимости русских воинов и хитрости горцев, все посматривал на дверь, куда вышла Надя, не покажется ли она снова; но она не показывалась, и он, допив поданную ему чашку кофе, начал раскланиваться. Перед уходом он попросил у капитана позволения зайти иногда вечерком, на что капитан, конечно, изъявил полное согласие и даже так крепко жал при этом руку гостя в своих воинских лапах, что тот чуть не вскрикнул от боли.
— Славный молодой человек,— бормотал капитан по уходе Пашинцева, шагая по комнате,— славный, славный, славный. И вечерком обещался зайти. Не играет ли в три листика? (Три листика была любимая игра капитана.)
«Хорошенькая девочка эта Надя,— думал, возвращаясь домой, Пашинцев,— от нечего делать можно за ней приволокнуться. Конечно, без особенных целей, а так… Но какая она робкая, застенчивая; все краснеет, конфузится. Должно быть, совсем еще не развитое существо. Вот бы потрудиться над ее развитием! И занятие будет, да и доброе дело сделаю. Ведь жених ее, верно, тоже не из далеких… Право, славная мысль мне пришла в голову».
И Владимир Николаевич не шутя стал раздумывать о том, как приняться за развитие Нади. Он вспомнил о Глыбиных, о Лизе. Ему казалось, что это будет заслугой в глазах Лизы. Он уже заранее воображал, как, возвратясь в Ухабинск, он с гордостью даст отчет и ей и Заворскому о своей деятельности в уездном городе. По крайней мере его не упрекнут, что он проводил время в праздности. Кроме пользы служебной, извлеченной им для себя из этой поездки, он и сам еще принесет пользу. Мысль о развитии Нади так наэлектризовала Владимира Николаевича, что он воротился к себе домой в каком-то энтузиазме… Между тем у капитана вечером того же дня произошла помолвка. Письмо Сорочкина вручено было старику Варварой Кузьминичной. Он надел очки и принялся его читать; но, не дойдя и до половины, бросил, сказав:
— Черт его знает, какую чушь нагородил. Чего ему там надо? — Свояченица тут же объяснила чего.— Ну, так бы просто и сказал, хочу, мол, жениться, а то понес ахинею!
— Что ж, вы согласны будете, братец, отдать Андрею Андреевичу руку Нади? — спросила Варвара Кузьминична.
— Чего ж тут не соглашаться? Девка в поре. Пускай берет. Он непьющий.
Оказалось, что Наде «припадать» было незачем. Вечером явился Сорочкин, явился отец Тихон поиграть с капитаном в три листика, да заодно уж и обручил влюбленных. На вопрос Андрея Андреевича, был ли губернаторский чиновник и как Надя нашла его, она отвечала, что не сказала с ним и двух слов и даже в лицо его хорошенько не рассмотрела. Такой ответ как маслом помазал по сердцу Сорочкина.
Спустя два дня в уездном городе уж ни для кого не было тайной, что Надя помолвлена. Сорочкина поздравляли его товарищи в уездном суде и требовали непременно, чтобы он, на радостях, угостил их. Горностаев чуть не задушил его в своих объятиях и прочел ему с большим чувством длинные стихи, где говорилось о сладостных цепях Гименея. К Наде тоже собрались вечером ее подруги и нажелали ей с три короба всяких благ. Она, по обыкновению, конфузилась и краснела, но хорошенькие глазки ее блистали радостью, а на губках то и дело появлялась улыбка. Надя никогда не была так мила, как в этот вечер. Счастье сообщает и безобразному лицу какое-то привлекательное выражение, не только хорошенькому. Это, может быть, оттого, что человек в минуты счастья становится добрее.
Когда девушки наболтались вдоволь о предстоящей свадьбе, о том, кто будет шить невесте венчальное платье, откуда она возьмет цветы на голову, какую наймет жених квартиру и куда молодые поедут с визитами, начались игры. Андрей Андреевич привел с собой Горностаева, который до той поры не бывал в доме капитана, и еще двух молодых чиновников, Кошкина и Животикова, страшно напомаженных и еще более страшно занятых своею физиономией, но добрых и веселых малых. Кошкин слыл в городе ловеласом и носил на пальцах пропасть колечек с бирюзой и без бирюзы, серебряных и томпаковых, но более всего волосяных. Животиков не имел такого успеха у женщин, но зато был в городе первым танцором и отлично играл на гармонике. Без него не обходилась ни одна вечеринка, и после ужина он обыкновенно входил в такой азарт, что пускался один плясать казачка и при этом выкидывал руками и ногами самые забавные штуки, от которых все гости помирали со смеху. Подруги Нади были тоже славные девушки, особенно одна, Маничка Рукавишникова. Живая, быстроглазая, смуглая, настоящая цыганка; где была она, там непременно песни, визг, хохот, с ней никогда не скучали. Не один чиновник уездного суда, не один проезжий офицер заглядывались на ее черные огненные глаза и прекрасный бюст, не одну любовную записочку случалось ей получать. Но не трогали как-то эти записочки ее сердца, она ими обыкновенно обвертывала свечи или делала из них папильотки. Над обожателями своими Маничка очень любила подтрунить и всегда хвасталась подругам, что ни разу еще не была влюблена, чему, впрочем, подруги никак не хотели верить, особенно с тех пор, как одна из них случайно нашла у нее в комоде между бельем портрет какого-то господина с закрученными кверху усиками. Подруги не решались спросить у нее, кто был оригинал, а Маничка никогда о нем и не заикалась. Знали только, что он не из этого города, а, вероятно, из того, где ее отец был года четыре назад исправником. Другая девушка, Катенька Бульбенко, уступала Маничке в красоте и в живости, но имела необыкновенно доброе, нежное сердце и была очень влюбчива и мечтательна. К ней не писали записочек, но нескромные болтуны уверяли, будто она сама иногда писала их. Впрочем, известно, что уездные города ничем так не изобилуют, как пустыми сплетнями. И за сплетниками всегда за первыми водятся разного рода грешки.
Фанты были в самом разгаре, и Маничке Рукавишниковой второй раз приходилось целоваться с Горностаевым, который сначала не знал, куда деться со стыда, а потом вдруг расхрабрился и, ко всеобщему удовольствию, произнес самым страстным голосом:
Лобзай меня, твои лобзанья {37} Мне слаще мирра и вина! —как дверь в переднюю отворилась, и вошел Пашинцев. Веселая компания вдруг присмирела и смутилась. Особенно екнуло сердце у Андрея Андреевича. Пашинцев очень ловко и вежливо со всеми раскланялся и произнес:
— Мой приход, кажется, расстроил вашу игру.
Бойкая Маничка, прежде всех оправившаяся от смущения, видя, что у Нади язык прильнул к нёбу, тотчас же ответила за нее:
— Ничего, давайте играть с нами вместе.
Пашинцев принял это предложение с видимым удовольствием. Но Андрею Андреевичу было оно крепко не по душе.
«Ну, как ему придется с Наденькой целоваться,— подумал он.— Я ему не позволю».
Надя тоже порядком испугалась и во время ответа Манички все дергала ее сзади за платье. Но зато Катенька Бульбенко очень обрадовалась, что Пашинцев будет участвовать в игре, и внутренно пожелала, чтобы ей пришлось с ним целоваться. Пашинцев показался ей очень хорошеньким, и она предчувствовала, что непременно в него влюбится к концу вечера.
— Давайте в другую игру играть,— сказал Сорочкин.— Эти фанты уже надоели, давайте в соседи.
— Ну вот еще, какая скука! — возразила Маничка.— Вздор, вздор, давайте свое кольцо, Архип Авдеевич,— прибавила она, обратясь к Кошкину и протягивая ему платок, в который собирались фанты.
Делать было нечего. Стали продолжать игру в фанты. На этот раз пришлось Маничке целоваться с женихом Нади, а потом самой Наде с Пашинцевым. Когда он подошел к ней, она сидела ни жива, ни мертва. Катенька Бульбенко с завистью на нее посмотрела. Сорочкин, хотя и говорил себе, что не позволит, но, однако же, не сделал ни одного движения и будто прирос к месту, только губу нижнюю себе укусил крепко. Но Пашинцев скоро успокоил его; вместо того, чтобы целовать Надю в губы, на что, по условиям игры, имел полное право, он поцеловал ее руку. Андрей Андреевич был очень доволен. У Нади тоже отлегло от сердца. После фантов Владимир Николаевич предложил какую-то свою игру, очень веселую, где, однако, не нужно было целоваться. Он показал в этот вечер очень много такта, стараясь всеми силами победить в обществе, в которое попал, всякое недоверие к себе; ни малейшей принужденности, ни малейшей церемонии не проглядывало в его обращении: он дурачился и смешил девушек, но в известных границах, соблюдая приличие и деликатность; с мужчинами поставил себя на товарищескую ногу, так что постороннему никак бы не пришло в голову, что Пашинцев видит их в первый раз. Скоро вся эта компания совершенно перестала дичиться его и забыла, что перед ней петербургский франт и губернаторский чиновник.
Пашинцев сразу заметил, что, когда он подходит к Наде, Сорочкина как будто начинает коробить, и потому старался не оказывать ей особенного внимания перед прочими девушками, хотя она нравилась ему гораздо более всех. Он даже прикинулся слегка заинтересованным Маничкой, которая как ни догадлива была на все такие проделки, но на этот раз не заметила его хитрости и была очень довольна. Она тотчас же откинула с ним всякие церемонии и, когда играли в веревочку, раза два так ударила его по рукам, что они покраснели у него, как у гуся. «У этой,— подумал он,— рука еще потяжелее капитанской будет». Андрей Андреевич, видя, что Пашинцев ухаживает за Маничкой, возблагодарил небо и во весь остальной вечер был чрезвычайно весел. Раза два или три он совершенно незаметно для общества прикоснулся губами к волосам и платью Нади, что еще более усилило его радостное настроение и заставило его считать себя каким-то отчаянным смельчаком, совершившим великий подвиг. Поздно разошлись гости от капитана. Все остались весьма довольны Пашинцевым, и Горностаев сказал своему другу:
— Он, брат, как видно, отличный парень и носа вовсе не задирает. Ты напрасно его подозревал. Он, кажется, за Маничкой приволокнулся, а?
— Кажется,— отвечал Андрей Андреевич, который шел, погруженный в сладостные мечты о будущем блаженстве с Надей.
— Ну, уж только эта Манька,— продолжал Горностаев,— настоящая полежаевская цыганка
Кто идет перед толпою {38}, По широкой площади, С загорелой красотою, На щеках и на груди? Узнаю тебя, вакханка Незабвенной старины.Что это за поэтище, этот Полежаев, черт побери! Вот душа-то была, Везувий! Только жаль:
Не расцвел и отцвел {39}, В утре пасмурных дней; Что любил, в том нашел Гибель жизни своей!А уж именно, я думаю, кто полюбит эту Маню, погибнет, беспременно погибнет, потому — бес, не девчонка!
Волшебный демон, лживый, но прекрасный {40}.Всех менее остался доволен Пашинцевым сам хозяин, с которым он отказался играть в три листика. Но, однако же, капитан скоро утешился, потому что пришел квартальный офицер Миловзоров, никогда не отговаривавшийся и постоянно проигрывавший то гривенник, то двугривенный.
На другой день Пашинцев зашел к капитану утром, нарочно, чтобы не застать там Сорочкина, который до трех часов бывал всегда в должности. Поздоровавшись с хозяином и сказав с ним несколько слов о погоде, он осведомился, где Надя. Ему отвечали, что, верно, она в угловой, вышивает. Владимир Николаевич пошел в угловую. Он действительно застал Надю за пяльцами. Услышав в другой комнате шаги, она подумала, что Андрей Андреевич как-нибудь вырвался из присутствия, чтобы поболтать с невестой, но, увидев губернаторского чиновника, удивилась, однако же сконфузилась менее обыкновенного. Со вчерашнего дня она уже несколько иначе смотрела на Пашинцева.
— Здравствуйте, Надежда Львовна,— произнес Пашинцев и протянул ей руку. Она не знала, подать ли ему свою или нет; но подумав, что это, верно, так делается между знатными, решилась подать и покраснела.— Я не помешаю вам работать, если посижу у вас несколько минут? — продолжал Владимир Николаевич.
— Чем же? помилуйте,— отвечала Надя.
— Может, вы хотите быть одни, так скажите мне откровенно, не церемонясь, я уйду и приду в другой раз.
— Нет-с; я одна не люблю быть. Я и теперь Андрея Андреевича поджидала…
— Ну, Андрей Андреевич — это другое дело. Он помешать не может… Позвольте мне закурить папироску.
— Извольте-с. Я сейчас вам спичек принесу.— Она поднялась было с своего места, но Пашинцев, слегка коснувшись руки Нади, усадил ее.
— Пожалуйста, не беспокойтесь, у меня есть свои. А скажите,— продолжал он, поместившись против нее и закинув голову назад,— ведь бывают же иногда и у вас минуты, когда присутствие посторонних вам в тягость?
— Если что-нибудь такое особенное на сердце лежит, так правда, что иногда не до разговора.
— Вы были именно в таком расположении духа, когда я в первый раз приходил к вам. Не правда ли?
— Это поутру-то? Да, точно.
— Видите, как я угадал. Не будет с моей стороны нескромностью, если я спрошу вас, что вас тогда встревожило?
— Я от Андрея Андреевича письмо получила.
— А! С предложением?
— Ну да.
— Что, вы очень любите Андрея Андреевича?
— Уж, конечно, люблю. Разве я без этого пошла бы за него замуж?
— А за что вы его любите?
— Как за что? Да за все, он тихий, добрый, такой солидный. И меня любит.
— Вы прекрасная девушка, Надежда Львовна. Не ищете богатства, как большая часть барышень. Нашли доброго человека, который вас любит, и идете за него.
— Что в богатстве-то?.. Не с деньгами жить, с человеком. Да кто еще богатый-то нашу сестру за себя возьмет,— богатый найдет себе получше.
— Чем же получше?
— И красотой и образованием, всем.
— Ну, красотой-то вас бог не обидел, а насчет образования — вы еще очень молоды, перед вами целая жизнь. Была бы только охота. Скажите мне, вы любите читать?
— Очень люблю, да книжек здесь мало.
— Что ж вы читаете?
— А что попадется…
— Повести, я думаю, большею частью?
— Повести, романы. «Путешествие ко святым местам» читала.
— Откуда вы достаете книги?
— Андрей Андреевич носит. Здесь городничий получает журнал. Окружной тоже.
— Какие же журналы?
— «Библиотеку для чтения» и еще «Собрание иностранных романов».
— Ну, а статьи ученые в «Библиотеке» вы не читаете?
— Нет. Раз попробовала, да что-то не понимаю… где уж нам ученостью заниматься.
— Вы бы попросили Андрея Андреевича пояснить вам.
— Ему самому некогда читать. Целый день в должности, вечером тоже отдохнуть хочется. Вот стишков он мне читал много.
— Каких же?
— Да разных. И Пушкина и других сочинителей.
— Что ж, вам Пушкин нравится?
— Иное нравится, а иное тоже не совсем понятно. Вот мне Татьяна очень понравилась, я об ней раза три читала. Еще «Кавказский пленник» очень хорошо.
— Знаете ли, что я вам предложу, Надежда Львовна? Хотите, я буду вам вслух читать? Вы любите слушать?
— Ах! Ужасно люблю; особенно когда кто хорошо читает.
— Я хоть не особенно хорошо, но все же порядочно читаю; и если вам угодно, буду приходить к вам. У меня нет с собой книг, но я выпишу из Ухабинска, дня через четыре придут. Вечером, я думаю, вам некогда слушать, а по утрам, когда вы одни, скучаете без Андрея Андреевича, я буду вас развлекать. Хотите?
— Я буду очень рада. Только отчего же вечером не читать? Андрей Андреевич тоже любит слушать.
— Ну, и вечером, пожалуй. Но я буду просить вас об одном, Надежда Львовна: если что покажется вам непонятно, не конфузьтесь, спросите меня прямо. Я постараюсь объяснить вам. Смотрите на меня как на друга, на брата; откиньте всякие церемонии. Я человек простой; верьте мне. Может быть, вы совсем иначе думаете обо мне и считаете меня столичным франтом, который занят собой и желает блистать в свете. Вы крепко ошибаетесь, если так, Надежда Львовна. Я постараюсь вам это доказать. Я буду очень, очень счастлив, если хоть чем-нибудь успею угодить вам и оставлю в вас о себе доброе воспоминание.
Пашинцев говорил таким убедительным, искренним и ласковым тоном, что нельзя было ему не поверить. Наде эти слова были очень по сердцу, и она так же искренно отвечала, подняв на Пашинцева свои спокойные ясные глазки:
— Я вам буду очень благодарна, Владимир Николаевич. Только вот что жаль, вы ведь к нам ненадолго приехали?
— Я спрашивал нынче Парфена Ивановича, он мне сказал, что следствие еще продолжится с месяц, а может, и больше, нужны какие-то справки. Да наконец я могу подать рапорт о болезни и прожить здесь еще несколько времени.
— Вот это славно бы, если бы вы у нас подольше пожили и на свадьбу мою остались бы.
— А ваша свадьба скоро?
— Андрей Андреевич просил, чтобы поскорее, да нельзя; много еще нужно сделать из гардероба, да и квартира, которую он нанял, не опросталась. Жильцы через месяц только съедут; деньги вперед отдали. А там ее красить будут. Андрей Андреевич одну комнату еще бумажками оклеить хочет.
В эту минуту кукушка на старинных часах в капитанском кабинете прокуковала два раза.
— Однако же скоро Андрей Андреевич должен прийти,— сказал Пашинцев, вставая.— Тогда уж я буду лишний. Прощайте, Надежда Львовна. Помните же наше условие.
Он опять протянул ей руку, и на этот раз она уже смелее подала ему свою. Дойдя до дверей, Пашинцев остановился, как будто припомнив что-то, и произнес:
— Да! Я хотел еще спросить вас: кто эта Маничка, которую я вчера у вас видел?
— Это исправникова дочка. А что, она вам понравилась?
— Так себе, она миленькая. Часто она у вас бывает?
— Довольно часто.
— Гм! Прощайте.
— Прощайте, Владимир Николаевич.
По приходе Андрея Андреевича Надя тотчас ему рассказала о своем разговоре с Пашинцевым. Жених сначала нахмурился; но потом, услыхав, что Владимир Николаевич осведомлялся о Маничке, успокоился и остался вполне убежден, что он нарочно приходил для того, чтобы расспросить о ней и узнать, часто ли она ходит в дом капитана.
Сорочкин еще более повеселел, когда Надя позволила ему поцеловать в левый глаз.
Через несколько дней книги пришли, и Пашинцев начал свои чтения. Он не только выбирал статьи из русских журналов, но даже переводил разные отрывки из французских книг, которые, по его мнению, могли способствовать развитию Нади. Так, например, было у него сочинение, рекомендованное ему Лизой: «Histoire morale des femmes» [72] Легуве {41}, где действительно есть несколько недурных глав о воспитании, о супружеской жизни, об обязанностях матери и жены и о положении женщины в современном обществе. Пашинцев несколько вечеров трудился над этими главами и хоть не совсем гладко и литературным языком, но по крайней мере понятно для своих слушателей сумел передать их. Много нового открылось для Нади во всем, что читал и говорил Владимир Николаевич. Часто, прослушав его несколько часов с напряженным вниманием, она просила его оставить ей рукопись и по уходе его перечитывала опять те места, которые сделали на нее особенное впечатление, стараясь вникнуть в каждое выражение, усвоить себе каждую мысль.
Андрей Андреевич и Горностаев тоже присутствовали при чтениях Пашинцева. Первый большею частью молчал, хотя ему и хотелось подчас вклеить какое-нибудь словечко, выразить какое-нибудь суждение, но природная робость и недоверие к своим умственным способностям удерживали его. Он боялся обмолвиться, сказать что-нибудь невпопад и только кряхтел да посматривал исподлобья на Пашинцева, не скользит ли у него на губах насмешливая улыбка. Эта улыбка ужасно пугала бедного Сорочкина. Горностаев был смелее своего друга и хоть не часто, но возражал Пашинцеву. Споров, однако же, между ними не происходило, потому что оба они, и Горностаев и Пашинцев, не способны были бы поддерживать споры: Пашинцев сам не шел далее прочитанного; развить какую-нибудь мысль в своей голове было ему не под силу; иногда только, припомнив что-нибудь слышанное им от Заворского или от Мекешина, он повторял это слово в слово и приобретал, таким образом, весьма дешево репутацию умного человека в мнении своей невзыскательной аудитории.
Капитан тоже попробовал было слушать, но с первого же разу вздремнул и потом не отрывался более от трех листиков. Раз как-то Сорочкин, победив свою робость, рискнул наконец вымолвить свое слово, но — увы! — лучше бы ему было не рисковать. Надобно сказать правду, что он не совсем понял то, на что ему вздумалось возразить, но все-таки он не заслуживал такого страшного нагоняя, такого сильного щелчка своему самолюбию, какой заблагорассудил дать ему Владимир Николаевич. Между Пашинцевым и Сорочкиным повторилась та же история, которая происходила некогда между Заворским и Пашинцевым. Забыл ли наш юноша то неприятное положение, в которое ставили его резкие выходки Заворского, те глубокие раны, которые они наносили душе его, или обрадовался он случаю выместить на невинном существе свою еще не совсем зажившую боль; но только он не пощадил Сорочкина. Казалось, он выжидал только удобного времени, выжидал предлога, чтобы начать нападки на бедного чиновника. Действительно, с той поры он не переставал колоть и язвить его, намекая на его тупоумие и всеми силами старался унизить его в глазах Нади. Заворскому могло до некоторой степени служить извинением то обстоятельство, что он без памяти был влюблен в Лизу. Что же извиняло Пашинцева и для чего он старался расстроить доброе согласие между женихом и невестой? Заворский хорошо понимал, что, унижая перед Лизой человека, которого она взяла под свою нравственную опеку, он нисколько не ослабляет ее участия к нему и что только сам теряет этим в ее глазах, и потому вскоре победил дурное чувство, говорившее в нем, и сблизился с Пашинцевым. Пашинцев действовал иначе. Надя нравилась ему, но не до такой степени, чтобы Сорочкин мог возбудить в нем ревность. Он унижал его единственно из своего самолюбия. Гаденькое, эгоистическое, тщеславное побуждение руководило им. Ему было весело пустить пыль в глаза этому обществу, стоявшему ниже его по образованию (а по правде сказать, так мало ниже!); он хотел, чтоб ему удивлялись, поклонялись и, главное, чтоб его боялись. Если он хотел нравиться, то разве только одной Наде; если хотел заслужить чью-нибудь любовь, то разве ее. На других он взирал с высоты своего светского величия, и если в первый раз обошелся с ними ласково, то только с тою целью, чтобы иметь доступ к Наде и не слишком запугать ее. Он думал, что он уже подвиг совершает, развивая и просвещая эту девушку. Ни разу не пришла ему в голову мысль о том, что сталось бы с Надей, если бы удалось ему унизить в глазах ее Сорочкина, вселить к нему отвращение в ее сердце. Согласился ли бы Пашинцев заменить ей Сорочкина, жениться на ней? Жениться на бедной, ничтожной, необразованной девочке, не имеющей никакого понятия о светских приличиях, в которых он воспитан. И что сказал бы Ухабинск, что сказала бы madame Карачеева, если бы он вывез из захолустья такую жену? Обольстить девушку он считал бесчестным, низким. А назвать ее женой не хватило бы у него смелости. И потому, стараясь понравиться ей, возбудить в ней к себе привязанность, Пашинцев поступил бы как школьник, несмотря на роль ментора, которую он взял на себя. Он не мог не сознаться себе в этом. А между тем он не упускал случая сближаться с ней и, стараясь себя уверить, что действует исключительно в видах ее пользы, ее развития, поступал, однако же, не совсем чисто. Толкуя ей беспрестанно о ее прекрасной натуре, осужденной заглохнуть в душной и грязной среде, в которую бросила ее судьба, намекая ей то и дело, что Сорочкин не стоит ее мизинца, он не мог не вскружить ее голову.
Так и случилось.
Надя начала заметно охладевать к жениху; все, что он говорил, стало казаться ей как-то странным, смешным, она уже не с таким нетерпением, как бывало, ждала его прихода, а зато без Пашинцева ей становилось скучно. Когда заходила о нем речь, ее бросало в краску; то же самое бывало, если она слышала шаги его или вдруг замечала его в дверях комнаты, где сидела. Конечно, все это не могло не укрыться от Андрея Андреевича, который любил ее так, как только способен был любить. С тех пор как он сделал предложение и получил согласие, прошла его робость; он сблизился с Надей и привязался к ней еще сильнее. В огонь и в воду, казалось, готов он был за свою невесту. Ее ласковым взглядом, ее улыбкой, пожатием руки он был счастлив на целый день. Ни начальничья распеканка, ни проигрыш, ни сплетня — словом, никакая неудача не в силах была возмутить то ясное настроение, в которое приводила его уверенность в любви Нади. И вот, вдруг, она изменяется к нему, начинает от него отдаляться. Его присутствие как будто тяготит ее. Когда он заговорит в присутствии Пашинцева, ей как будто стыдно и совестно за него; она с робостью смотрит на Владимира Николаевича и, кажется, ждет, что вот он напустится на него с своею гладкою, увлекательною речью. Пашинцев в этом кружке ощущал какую-то особенную смелость; у него бог весть откуда взялся апломб; каждое слово дышало самоуверенностью, чего нельзя было вовсе заметить в нем в обществе Глыбиных. Надя смотрела на него как на необыкновенного человека, как на одного из героев тех повестей, которые она, бывало, читает по ночам вслух Варваре Кузьминичне. Ее самолюбию так льстило, что Владимир Николаевич отличил ее перед всеми подругами, что он ставит ее выше всех окружающих. И самая наружность его все больше и больше ей нравилась. Когда он читал, она украдкой взглядывала на его лицо, что-то неотразимо влекло ее к этому лицу и, взглянувши на него раз, хотелось взглянуть в другой и в третий, хотелось вовсе не отрывать взора от этих карих глаз, от этой насмешливой улыбки, от этого бледного чистого лба и смотреть и смотреть на них целые дни, целую жизнь.
И одевался он так хорошо, так просто; не носил пестрых жилетов, не повязывал цветных галстуков, не выставлял напоказ позолоченной цепочки. Рубашка на груди его была такая белая, так хорошо накрахмалена и выглажена; каждая складочка отделялась на ней так рельефно; и сзади не торчали из-за воротничка тесемочки, обличавшие присутствие манишки. Манеры Пашинцева были так небрежны и вместе так милы. Он не садился на кончик стула, поджав под него ноги; когда смеялся или был чем-нибудь удивлен, не хлопал себя по ляжкам и не приседал; никогда не хихикал, закрывши себе рот рукой; никогда не торчал из его кармана кончик клетчатого бумажного платка и никогда не свертывал он своих батистовых платков в клубочек. Что бы ни говорили, а нет такой женщины в мире, для которой внешность не имела бы ровно никакого значения. Положим, что умная женщина не увлечется одною внешностью; положим даже, что она может полюбить человека довольно не эстетической внешности, но тогда она постарается переделать его на свой лад. Она, верно, не раз во время своего увлечения скажет про себя: «Как жаль, что он так дурно одевается» или «что у него такие дурные манеры!». Человек, не вполне достойный любви, но вполне приличный, всегда скорее нравится ей, нежели тот, у кого эти свойства наоборот.
Горько, очень горько было видеть бедняге Сорочкину эту перемену к нему Нади. Много жалоб на судьбу свою вырывалось у него из сердца во время дружеских бесед с Горностаевым; много проклятий Пашинцеву, которого Андрей Андреевич возненавидел. И чего бы он не дал за то, чтобы Пашинцев поскорее отправился восвояси, в Ухабинск! Не проходило дня, чтобы он не наведался о ходе следствия, производимого ментором Владимира Николаевича. А Пашинцев между тем каждое утро являлся к Наде и сидел с нею до той минуты, пока жених возвращался из должности. Он дочитывал ей историю любви Бельтова с Круциферской {42}. Нечего говорить, что она воображала Андрея Андреевича Круциферским, Пашинцева Бельтовым, а себя героиней романа. Нечего и говорить, что оба они, и Надя и Пашинцев, задавая себе вопрос: «Кто виноват?» — решали, что виновата судьба. И не в самом ли деле судьба, которой Владимир Николаевич был только олицетворением?
Когда Пашинцев дошел до того места, где Круциферская говорит Бельтову: «Но знайте, Вольдемар, что вы любимы, бесконечно любимы», Надя, слушавшая его с напряженным вниманием и давно уже сдерживавшая слезы, не могла вытерпеть дольше и зарыдала.
Пашинцев бросил книгу и, подойдя к Наде, стал перед нею не колени.
— Надя, Надя, любишь ли ты своего Вольдемара, как любила Бельтова эта женщина? — спрашивал он, восторженно целуя руки молодой девушки.
Она, не отвечая ни слова, обвила шею его руками и, приложив свои горячие щеки к лицу его, крепко сжимала его в объятиях.
В столовой раздались шаги Андрея Андреевича. Надя быстро выпустила из рук голову Пашинцева и, вскочив со своего места, убежала в смежную комнату. Владимир Николаевич уселся на стул и притворился читающим.
Вошел Сорочкин. Он робко поклонился Пашинцеву и хотел спросить, где Надежда Львовна; но Пашинцев, не дождавшись его вопроса, сказал:
— Надежда Львовна нездорова и нынче никого не может принять.
У Сорочкина при слове «нездорова» вытянулась физиономия.
— Не тревожьтесь. Ничего нет важного,— успокоил его Пашинцев, улыбнувшись, и потом, взяв шляпу, направился к передней.
Андрей Андреевич, осведомившись еще у Варвары Кузьминичны о здоровье своей невесты и получив ответ, что у ней сильная головная боль, побрел домой опечаленный и задумчивый. Ему что-то подозрительна казалась болезнь Нади.
С этого дня Надя стала еще более чуждаться Сорочкина и всячески избегала случая оставаться с ним наедине. Ей тяжело было, казалось, взглянуть ему прямо в лицо.
— Я не могу идти за него,— сказала она однажды Пашинцеву, когда они были вдвоем.— Зачем мне его обманывать? Я ему прямо скажу, что не люблю его.
— Конечно, это благородно, Надя,— отвечал Пашинцев.— Такая девушка, как ты, не может поступить иначе. Связать себя с ним на всю жизнь, не любя его, значило бы погубить и его и себя. Правда, он человек добрый, но он не стоит тебя. Ах, Надя, Надя! Зачем я узнал тебя, зачем приехал в этот город? Может быть, я буду причиной твоего несчастья. Если бы я мог не расставаться с тобой, посвятить тебе всю жизнь… Но ты не знаешь моих обстоятельств, моего прошлого.
— Я знаю, Володя, что тебе нельзя жениться на мне, тебе не такую жену надобно, куда я гожусь! У тебя, верно, знатные, богатые родные; они не захотят и принять меня в семью свою. Нет, Володя. Я не хочу сама ссорить тебя с ними. Ты сам после раскаешься: у других твоих знакомых жены образованные, умные, а у тебя будет простая, невоспитанная девчонка, которая ни войти-то в общество не умеет, ни поклониться-то хорошенько, не только что разговор какой умный вести… Нет, нет, Володя, пускай я здесь так и останусь, так и заглохну. Я лучше здешнего города и не стою. Мне хотелось бы только, чтобы ты еще побыл со мной, не уезжал так скоро. Я не знаю, что станется со мной, когда ты уедешь.
И слезы лились, лились по щекам Нади.
— Надя, Надя, друг мой! Прости мне,— говорил Пашинцев, обнимая ее и целуя ей голову, руки, шею.
— Мне так хорошо, так хорошо с тобой. Всю бы жизнь, кажется, просидела вот так, глядя на тебя, на мое сокровище…
— Я останусь, останусь, Надя, сколько ты хочешь, только не проклинай меня, что я испортил жизнь твою.
— Что ты, господь с тобой, Володя! За что проклинать? Разве я не узнала счастья с тобой? Да я бы всю жизнь прожила с Сорочкиным — и ни одной минуты не была бы так счастлива, как теперь. Люби меня, люби, Володя, и я, кажется, до самой смерти все буду жить тобой, и уедешь ты, оставишь меня, а я все буду любить тебя, все буду и день и ночь о тебе только думать.
Владимиру Николаевичу не совсем легко было слушать эти признания наивной девочки, в которую он заронил искру любви, сам оставаясь почти равнодушным. «Великий совершил подвиг,— думал он,— будет чем похвастаться перед Лизой». Если бы он еще не старался внушить Наде привязанность к себе, если бы все это само собою случилось, некого было бы и винить. Но совесть Владимира Николаевича была далеко не чиста в этом случае.
Надя исполнила свое намерение и в первый же раз, как Андрей Андреевич пришел к ней, сказала ему дрожащим от волнения голосом:
— Андрей Андреевич, я давно хотела поговорить с вами, да все не хватало духу, но теперь пора, я больше не могу притворяться, не могу вас обманывать.
У Андрея Андреевича замерло сердце, он предвидел, к чему это клонится.
— Не сердитесь на меня, Андрей Андреевич. Я не виновата; видит бог, не виновата, что это так случилось. Я не могу быть вам женой, Андрей Андреевич.
— Как же это, Надежда Львовна,—пробормотал Сорочкин.— Стало быть, вы уже не любите меня, стало быть, я теперича и надежды никакой иметь не могу.
— Не браните меня, не упрекайте. Я вас любила, когда согласилась выйти за вас, но ведь с сердцем не совладаешь; что ж делать, Андрей Андреевич! Вы найдете себе другую девушку, которая будет любить вас, а меня оставьте.
— Не надо мне никакой другой, Надежда Львовна; это я знаю вы почему, только ведь он не будет вас так любить, он не женится на вас, увидите.
— Да кто ж вам говорит, что я хочу за него выйти? Не трогайте его, он не виноват; он и не обнадеживал меня.
— Так как же это, Надежда Львовна, неужели так-таки и все кончено теперича?
— Все! Если вы боитесь, что в городе говорить будут про вас дурно, что вот, мол, невеста вам отказала, так вы не беспокойтесь. Пускай на меня все падет. Я сама всем сказать готова, что вы от меня отказались, и вы так говорите, вам поверят: все знают, что Владимир Николаевич часто бывает у нас: многие уж заметили, может быть, что я при нем сама не своя.
— Нет, этого я не скажу, Надежда Львовна, вы не так обо мне понимаете, нет! Уж если так богу угодно, так пусть же я… пусть же вы мне откажете.
Сорочкин не мог долее продолжать. В горле у него стояли слезы, и, схватив фуражку, он опрометью пустился вон из комнаты.
Прибежав к другу своему Горностаеву, Андрей Андреевич дал волю своему отчаянию. Он кинулся на кровать и, уткнув голову в подушку, плакал как малый ребенок целые четверть часа.
Горностаев долго не мог добиться от него, что с ним сделалось, и когда наконец Сорочкин, всхлипывая, выговорил, что Надя ему отказала, учитель, по обыкновению, насупил брови и, зашагав по комнате, продекламировал:
Ты любишь горестно и трудно {43}, А сердце женское — шутя!Вечером того же дня Андрей Андреевич, запершись в своей комнате, опорожнил целые две бутылки сквернейшего лиссабонского, вследствие чего и проспал всю ночь на полу как был, в вицмундире, не раздеваясь. То же самое повторил он и на другой и на третий день, уже в обществе Горностаева, а когда в кармане у него значительно поубавилось денег и лиссабонского купить было не на что, прибег к простячку.
VIII Старая знакомая
Следствие опытного чиновника приходило к концу. Нужно было собираться в дорогу. Владимиру Николаевичу было жаль Нади, которой привязанность к нему росла не по дням, а по часам; и он несколько раз подумывал, не подать ли рапорт о болезни; но потом, обсудив хорошенько свое положение, приходил к заключению, что ведь это ровно ни к чему не поведет, что надо же когда-нибудь расстаться и что даже чем скорее, тем лучше. Ему стоило сказать одно слово, и Надя готова была ему отдаться вполне, беззаветно, но он удерживался произносить это слово, не желая иметь лишний проступок на совести, или, может быть, просто потому, что у него не хватало на это смелости. Он уж и без того боялся, чтобы слух об его отношениях к Наде не дошел до Глыбиных. В уездном городе уже ходили разные толки, не совсем благоприятные для Нади. Никто не мог довольно надивиться, что Андрей Андреевич, такой смирный и трезвый, вдруг начал пьянствовать и буянить, и когда Варвара Кузьминична по секрету рассказала гостям, что Наденькиному жениху отказали, узнавши о его дурном поведении, гости молчали и как-то недоверчиво покачивали головой, а потом, возвратясь домой, задавали себе вопрос, не от того ли жених и с пути-то сбился, что ему отказали?
Однажды утром, гуляя и проходя мимо почтовой станции, находившейся в полуверсте от города, Владимир Николаевич увидел у крыльца ее великолепную дорожную карету, в которую впрягали шестерку лошадей. Станционный смотритель в форменном сюртуке и без шапки суетился около экипажа, понукал ямщиков и даже сам перелаживал постромки.
— Кто это проезжает? — обратился к нему с вопросом Пашинцев.
— Отставной ротмистр Гагин, губернатору родственник доводится, на службу в Ухабинск едет.
— А вы почему знаете, что родственник?
— Люди сказывали-с.
— Что ж, семейный?
— С супругой.
В эту минуту из почтовой станции кто-то сильно застучал в окно. Пашинцев оглянулся и увидел молодую красивую женщину в изящной дорожной шубке.
— Господи! — воскликнул Владимир Николаевич,— Софья Михайловна! — и бросился в станционный дом.
Дама, стучавшая ему в окно, встретила его на пороге.
— Вас ли я вижу, Софья Михайловна? — с удивлением спросил Владимир Николаевич.
— Вас ли я вижу, Владимир Николаевич? — смеясь, повторила проезжая.— Что вы тут делаете в этом захолустье? Неужели служите?
— Нет, я служу в Ухабинске, а здесь на время по поручению; но вы, вы как сюда попали?
— А вот я вам все сейчас расскажу. Но сначала пойдемте, я вас представлю мужу.
— Мужу?
— Да, мужу, я опять замужем. Наскучило вдоветь. George, George! — кричала мужу Софья Михайловна.— Поди сюда, я тебе отрекомендую старого знакомого, un ancien ami à moi [73], monsieur Пашинцева.
Из-за перегородки, разделявшей комнату на две части, показалась толстая фигура с головой, обстриженной под гребенку, с круглым, добродушным лицом и густыми бакенбардами.
— Charme [74],— произнес сиплым голосом отставной ротмистр, протягивая Пашинцеву руку.
— Он тоже служит в Ухабинске,— сказала Софья Михайловна, движением головы показывая на Пашинцева,— chez votre oncle [75].
— Да, я чиновником по особым поручениям при Федоре Федоровиче,— подтвердил Пашинцев.— И вы хотите тоже к нему?
— Да, он звал меня, но не знаю, есть ли вакантное место. Покуда поживу так, ознакомлюсь с городом. Вот боюсь за Софи, она у меня к провинции не привыкла. Мне-то все равно. Я пошлялся по свету довольно.
— Расскажите, monsieur Пашинцев, что такое Ухабинск? Что там за люди? Есть ли общество?
— Как вам сказать. Можно найти дома два-три порядочных.
— Что там, веселятся, танцуют, есть балы, маскарады, театр?
— Театр плох, маскарадов и в заводе нет, а танцовать любят.
— Ну, что ж, есть хорошенькие женщины? Уж вы, верно, тут разные конкеты {44} делаете.
— Пока еще ни одной не сделал. Вы слишком много мне приписываете. Женщины есть недурные, но с страшными претензиями на комильфо, которого они в глаза не видали. Одеваются сносно.
— Ну, послушайте, вы мой кавалер на первую мазурку, которую я танцую в Ухабинске.
Пашинцев поблагодарил Софью Михайловну поклоном.
— Я думаю, какие вы туалеты везете с собой, Софья Михайловна! Вы ведь всегда славились искусством одеваться, как и многим другим.
— Ну, ну, ну, без комплиментов.
— Что ж, разве это неправда? Воображаю, как наши барыни взволнуются, узнав о вашем приезде. А что с ними будет, когда вы затмите их и красотой и туалетом! Они все перебесятся. Особенно есть там одна, Карачеева, qui fait la pluie et le beau temps [76] в Ухабинске, презавистливая персона! Нетерпеливо желаю быть свидетелем ваших дебютов в этом милом обществе.
И Владимир Николаевич начал подробно описывать всех ухабинских дам, почти в таких же чертах, в каких ему описывал ухабинских мужчин Выжлятников. Софья Михайловна заливалась самым искренним и веселым смехом, слушая его болтовню, от которой у ней вдруг возгорелось живейшее желание поскорее явиться в ухабинском обществе и возбудить зависть тамошних дам.
— Вы еще долго останетесь в этом городишке? — спросила она Пашинцева, когда он кончил.— Вы, я думаю, здесь умирали с тоски? — прибавила она, прежде чем он успел ответить.
— Да, скучал-таки порядком. Сначала мне все это было ново, но потом опротивело страшно. Теперь мое поручение кончено, и я могу ехать.
— Ах, боже мой, Жорж! Так возьмем его с собой в карете. Ведь у нас места много. Вы не в своем экипаже?
— С удовольствием,— отвечал ротмистр.
— Нет, я на перекладных. Mersi за вашу внимательность,— сказал Пашинцев,— но только вам бы пришлось долго ждать меня, я не собирался.
— Ну, что ж такое? Мы, пожалуй, подождем час-два, сколько хотите. Жорж еще будет очень рад. Он хотел непременно пить чай, но я его торопила ехать. Мне, признаюсь, ужасно наскучила дорога.
— Я, право, не знаю…
— Да что не знаете? Allez chercher vos effets [77], и дело с концом.
Владимир Николаевич колебался еще несколько секунд. Ему жаль стало Нади, которая была не приготовлена к такой скорой разлуке с ним. Но потом он подумал, что оно и лучше, коли поскорее уехать: во-первых, сцен разных избежишь, да притом и наскучило, по правде, играть добровольную роль платонического вздыхателя; пожалуй, еще как-нибудь увлечешься. И наконец ехать в великолепном дормезе с хорошенькой женщиною лучше, чем трястись на перекладных, рядом с опытным чиновником, от которого всегда несет гадчайшим табаком и водкой. И он решился.
Возвратясь домой, он тотчас велел укладывать свои пожитки, которые, впрочем, все заключались в одном чемодане. Ментор его, поглядев на него с удивлением, спросил:
— Разве вы одни уехать хотите?
— Нет, меня приглашает с собой племянник губернатора. Он тоже на службу в Ухабинск едет.
— А! Так-с. Ну, а как же, проститься разве к капитану-то не забежите?
— Не знаю, право, успею ли, ведь меня ждут… невежливо. Если уж не удастся, так вот что я вас попрошу, добрейший мой Парфен Иванович, окажите дружбу.
— Ну-с, что такое?
— Извинитесь, пожалуйста, за меня; скажите, мол, что Пашинцев бумагу получил и что немедленно его вызывают в город. Скажете?
— Сказать, пожалуй, скажу. Да вы бы забежали лучше. Ну, что вам стоит? Одну минуточку; попрощайтесь только.
— Ах, какой вы, Парфен Иванович! Я бы и рад, ей-богу, да ведь опоздаю!
— Ну, как знаете!
«А что, в самом деле,— подумал Пашинцев,— не зайти ли? Боюсь только, как бы с девочкой обморока не случилось. Ну! Была не была — зайду. А то жаль ее, в самом деле, бедненькую. Мой внезапный отъезд оскорбит ее. Не написать ли разве письмо? Нет, уж лучше схожу. Так и быть».
— Я зайду, коли так, Парфен Иванович.
— Ну, ладно.
Пашинцев простился с опытным чиновником и вышел. Парфен Иванович посмотрел ему вслед и, затянувшись, флегматически произнес:
— Ветрогон мальчишка! Только сбил девку с толку.
Надя сидела, по обыкновению, у окна с книгой, когда вошел Владимир Николаевич. Она не ждала его и вздрогнула.
— Надя,— решительно произнес Владимир Николаевич, делая над собой усилие.— Я еду сейчас же.
Надя побледнела, как лист бумаги.
— Что ты говоришь, Владимир? — прошептала она чуть внятно.
— Я получил бумагу. Меня требуют безотлагательно по делам службы в Ухабинск.
Надя закрыла лицо руками и откинулась в кресло.
— Я зашел проститься, Надя,— несмело произнес Владимир Николаевич.— Лошади готовы.
Надя сидела неподвижно, только грудь ее тяжело дышала.
— Надя, Надя! Полно, друг мой,— говорил Владимир Николаевич, между тем как глаза его невольно взглянули в угол, где стояли на деревянной тумбочке старинного фасона бронзовые часы.
Он подошел ближе к Наде и отвел руки от лица ее. Оно было все мокро от слез.
— Надо проститься,— сказал он.— Я приеду, Надя, верь мне.
— Когда? — спросила она, остановив на нем свои заплаканные глаза.
— Скоро. Губернатор должен ехать на ревизию. Он возьмет и меня с собой.
— Правда ли это, Володя? Ты только хочешь утешить меня.
— Клянусь тебе.
— Господи, как я буду ждать тебя! Володя! Володя! Если бы ты только знал, как я тебя люблю!..
И, снова залившись слезами, она повисла у него на шее. Пашинцеву самому сделалось грустно. И у него готовы были выступить на глазах слезы. «Что бы, право, жениться на ней! — подумал он.— Едва ли кто-нибудь будет любить меня больше».
Видя, что Пашинцев плачет, Надя сделала над собой усилие и в свой черед принялась утешать его, потом перекрестила и произнесла твердо:
— Поезжай с богом, будь счастлив!
Пашинцев еще раз крепко обнял ее, поцеловал и выбежал из комнаты. Надя без чувств опустилась в кресло.
— Ну что, совсем? — встретила Владимира Николаевича вопросом Софья Михайловна, сидевшая с мужем за чаем.— А мы еще не готовы. Не налить ли и вам чаю?
— Нет, благодарю вас,— отвечал Пашинцев и молча придвинулся к столу. Наденька еще не вышла у него из головы, и он думал о своем романе с ней. Он не мог не сознаться, что поступал ребячески, глупо, нечестно, хотя и старался оправдать себя тем, что заронил в нее зерно сознания.
Но, впрочем, задумчивость его скоро прошла. Он опять сделался говорлив и весел. Он ощущал даже какое-то довольство при мысли, что вырвался из этого захолустья и что кончились все эти тяжелые, слезливые сцены. Несколько минут спустя все трое уже ехали по дороге в Ухабинск. Чем ближе подъезжал к нему Пашинцев, тем менее думал о Наде. Она начинала испаряться из его памяти, и вся эта история стала казаться ему каким-то сном, смутным и безобразным, но в котором были, однако же, два-три отрадных мгновения. Ухабинск с его дамами, сплетнями и балами наконец овладел исключительно его мыслями. Ему припомнилась нелепая история с Карачеевой; и он, сидя против хорошенькой, ласковой и смеющейся Софьи Михайловны, преисполнился таким презрением, такою ненавистью к предмету своей бывшей страсти, что решился непременно отомстить ей за свое унижение. А чем же лучше отомстить, как не полным и совершенным невниманием и ухаживанием за другой? Он уже заранее воображал себе, как, идя визави с Карачеевой в кадриле, будет бросать на нее насмешливые взгляды и острить на ее счет с своею дамой, с милою и элегантной Софьей Михайловной; как Софья Михайловна будет смеяться его остротам и как Карачеева, догадываясь, что смеются над ней, будет краснеть и кусать себе губы с досады. Пашинцеву очень льстило, что Софья Михайловна, которая должна занять в Ухабинске par droit de conquête et par droit de naissance [78] (т. е. как родственница губернатора и как петербургская дама) первое место, будет иметь его своим постоянным, неизменным чичероне и что он возбудит к себе зависть во всех ухабинских кавалерах.
«Карачеева думает,— говорил себе Владимир Николаевич,— что я ужасно огорчен предпочтением, которое она оказывает передо мной полковнику; так пускай же посмотрит, как я огорчен!» О, если бы она могла видеть его теперь, едущего в одной карете с Софьей Михайловной!
Приятные мечтания его расстраивало только порой опасение, чтобы Глыбины не проведали о его проделке с Надей и Сорочкиным. Впрочем, что ж? Разве он поступил бесчестно? Надя готова была все принести ему в жертву, но он не воспользовался этим, хотя был уверен, что одно слово его могло подвинуть ее на такой шаг, который бы погубил ее репутацию, ее честь. Она, наверное, сохранит о нем воспоминание как о благородном человеке. Она может повторить ему слова Татьяны Онегину: «Вы поступили благородно». Но он был милостивее Онегина. Он не прочел Наде морали; Владимиру Николаевичу как-то уже не приходило теперь в голову, что разбить сердце бедной, неопытной, не знающей людей девушки тоже не совсем честное дело и что как-то странно человеку превозносить себя, например, хотя бы за то, что, оставшись один в комнате, он не украл часов, имея полную возможность украсть их.
По приезде в Ухабинск Пашинцев нашел некоторую перемену в семействе Глыбиных. Перемена эта состояла в том, что в отсутствие его Лиза и Заворский еще более сблизились. Заворский почти не выходил от Глыбиных, и так как это возбуждало в городе толки, на которые, однако же, Яков Петрович не обращал внимания, то Пашинцев и заключил, что, вероятно, дело близко к свадьбе. Его приняли по-прежнему ласково и радушно; но расспросы Лизы об уездном городе и о том, как Пашинцев проводил там время, возбудили в нем подозрение, не знает ли она чего об отношениях его к Наде. Подозрения его превратились в уверенность, когда Лиза осведомилась, не встречал ли он некоего Горностаева, который был товарищем Мекешина и даже изредка с ним переписывался.
«Горностаев писал обо всем Мекешину,— подумал Пашинцев,— а этот передал Глыбиным».
И он положил при первом удобном случае оправдаться перед Лизой. Не знаю почему, он сам не мог дать себе в этом отчета, но только мнением Лизы он дорожил более, нежели чьим-либо из всего кружка Глыбиных. Что бы он ни делал, она беспрестанно стояла у него перед глазами с своим испытующим взглядом. Она была чем-то вроде совести, не дававшей ему покоя. Перед другими он еще вывертывался, лгал подчас, но перед ней до сих пор приходил в подобных случаях в совершенное смущение. Может быть, в этом заключалась причина, почему он не мог влюбиться в Лизу, хотя был по природе влюбчив и хотя наружность Лизы ему с первой же встречи очень понравилась. Он чувствовал, что она была бы к нему очень строга и что он всегда находился бы у ней в нравственном подчинении. А это было бы оскорбительно для его самолюбия. Ему хотелось бы самому подчинять.
На другой день, выбрав минуту, когда Заворского не было, он пришел к Лизе.
— Как вы провели эти два месяца, Лизавета Павловна? — спросил он.
— Так же, как проводила и прежние.
— Много читали?
— Нет, меньше обыкновенного. Зато музыкой занималась много. Ужо сыграю вам бетховенскую сонату, которую без вас разучила.
— Merci. Я тоже много занимался, только не музыкой.
— Службой?
— Нет, и не службой.
— Чем же?..
— Сказать вам, смеяться будете.
— Вы знаете, что насмешливость не в моем характере.
— Целые вечера я сидел за переводами…
— Что это? Уж не хотите ли вы работать для журналов?
— Нет. Мне хотелось прочесть кое-что людям, которые не знают французского языка.
— Это доброе дело.
— Вам не смешно, что я брался за роль учителя, тогда как мне самому еще нужно так много учиться?
— Вы, верно, брались за то, что сами хорошо усвоили себе?
— Мне казалось так.
— Ну, что же, вам, вероятно, были благодарны?
— Более чем сколько я мог ждать! Лизавета Павловна! Вы когда-то желали, чтобы мы были друзьями и позволили мне быть с вами откровенным… В отсутствие мое вы не изменились ко мне?
— Разве можно измениться без причины только потому, что человек не подле нас?
— Так согласитесь выслушать меня. Может быть, вы уже что-нибудь знаете о том, что я хочу рассказать вам. Может быть, Мекешину писали…
— Я решительно ничего не слыхала, Владимир Николаевич, и не знаю, что вы хотите рассказать мне.
Лиза говорила так искренно, что нельзя было усомниться в справедливости слов ее. «Напрасно же я начал»,— подумал Пашинцев. И, пользуясь тем, что Лиза ничего не знала, он рассказал ей историю свою с Надей не совсем так, как она была. Если бы Лизе заранее было все известно, он покаялся бы чистосердечно, обвинил бы себя в легкомыслии и мог быть уверен, что Лиза по своей доброте не осталась бы равнодушною к его раскаянию, которое сочла бы за половину исправления; даже приписала бы его поступок неопытности, незнанию женского сердца, увлечению и бог знает еще чему — словом, постаралась бы оправдать его в своих глазах. Но теперь, когда она ничего не знала, у Владимира Николаевича явилось непреодолимое желание похвастаться, порисоваться, и он рассказал, что, встретив девушку, способную к развитию, старался убедить ее в необходимости учиться и читать, старался изменить ее взгляд на жизнь, на отношение к людям; но когда заметил в этой девушке маленькое расположение к себе, то тотчас же удалился, чувствуя, что не может платить взаимностью, и чтобы не расстроить ее с человеком, которого она уже называла женихом своим. Словом, он изобразил себя таким, каким бы ему следовало быть в этом случае, а не таким, каким он, к сожалению, оказался.
Он еще в первый раз солгал перед Лизой, и ему стало страшно после своего рассказа, особенно когда Лиза протянула ему руку и сказала, что отныне они более друзья, чем когда-либо.
— Не всякий бы сделал это на вашем месте, Владимир Николаевич,— прибавила Лиза.— Мне случалось видеть, как молодой человек, единственно потому, что замечал расположение к нему женщины, сам начинал прикидываться влюбленным в нее, хотя этого вовсе но было на деле. Нужно много честности и чистоты душевной, чтобы не поддаться самолюбию, которое обыкновенно сильнее всего над нами. Женщин, которые стараются завлечь мужчину, не любя, чтобы потом, поиграв со страстью, бросить его, называют кокетками. Для мужчин, делающих то же самое, еще не придумано названия. Впрочем, нет! Женщины называют их низкими, бесчестными, сухими эгоистами. Если вы, вместо того чтобы стараться завлечь эту девушку и унизить ее жениха (что было бы вам очень легко, потому что он уступает вам, конечно, во всем), внушили ей, напротив, что истинное назначение женщины делать счастливыми окружающих ее, быть хорошею женой, умною матерью, способною хорошо воспитать детей своих, сделать из них детей в истинном смысле этого слова; если вы, вместо того чтобы развить в ней гордое презрение к окружающим ее людям, которым обстоятельства мешали развиться или которых бог создал менее способными и восприимчивыми, чем ее, пробудили, напротив, в ее сердце участие, сострадание, любовь к ним,— вы сделали благое дело, и влияние ваше навсегда оставило в этой девушке глубокий, благотворный, неизгладимый след. Она вспомнит о вас, вспомнит не раз и с благодарностью, хотя бы вы больше никогда не встретили ее!
Пашинцев, слушая эту восторженную тираду Лизы, не спускал с нее глаз. Ему хотелось подметить, не выражает ли лицо ее тонкой иронии; но ни в чертах, ни в голосе Лизы не было ни тени ее. Лиза говорила от полноты души и без всякой затаенной мысли. Но ненадолго удалось Пашинцеву обмануть Лизу. На другой день Заворский, который, если помнит читатель, незадолго до отъезда Владимира Николаевича довольно близко сошелся с ним, войдя к нему в комнату, сказал:
— Скажите мне, пожалуйста, Пашинцев, если только этот вопрос не слишком нескромен с моей стороны, что у вас была за история в N… с какою-то молоденькой девочкой? Вы рассказывали Лизе Глыбиной дело совсем иначе; Мекешину пишут черт знает что… будто вы завлекли эту девочку, рассорили ее с женихом, который спился с горя, и что вообще погубили ее репутацию.
Пашинцев покраснел, как малина.
— Если какая-нибудь сплетня заслуживает в ваших глазах больше доверия, чем мои слова, так что же я буду отвечать вам?
— Да вы не горячитесь, а толком скажите. Если бы я больше доверял сплетням, так не стал бы вас и спрашивать. Я именно хочу, чтобы вы объяснили мне дело; потому что мне грустно, что о вас распускают подобные слухи.
— Я даю вам мое честное слово, Яков Петрович,— смягчившись, произнес Пашинцев,— что я не обольщал этой девушки. Это не в моих правилах.
— Не обольщали… это еще не все. И не обольщая, вы могли запятнать ее репутацию в мнении того общества, где она живет. Ну, а жених-то — правда это?
— Что за инквизиторство, Яков Петрович? Я даю отчет в моих действиях только совести.
— Желаю от всего сердца, чтобы она всегда оставалась чиста,— отвечал Заворский и переменил разговор. Однако же подумал про себя: «Что-нибудь да напроказил молодец».
Опытный чиновник и бывший ментор Владимира Николаевича тоже распускал под рукой слухи, совершенно тождественные с теми, которые дошли до Мекешина. Все это заставило Заворского и Лизу усомниться в справедливости рассказа Владимира Николаевича. Лиза была огорчена этим; но, не зная, однако же, подробностей всей истории, она не подавала Пашинцеву и виду, что не верит ему. Но всего более поколебало в ней доверие к словам его то обстоятельство, что Пашинцев вдруг начал избегать их общества. Чувствуя себя виноватым перед Лизой, он действительно как-то стеснялся ее присутствием; все казалось ему, что она смотрит уж на него иначе, считает его хвастунишкой, лгуном; и в словах, сказанных ею без всякого особенного намерения, начал видеть намеки на себя. Вскоре он почти совсем отшатнулся от Глыбиных и целые дни проводил у Софьи Михайловны.
Приезд петербургской дамы действительно взбаламутил всю ухабинскую публику. Прежде чем Софья Михайловна успела появиться в обществе, Пашинцев уже распустил слух о ее красоте, любезности и необыкновенном умении одеваться, прибавляя, конечно, к ее описанию в виде «нотабене»: «Я ее давно знаю: мы в Петербурге были с ней друзьями, когда она еще не выходила за Гагина». Ухабинские львицы, чтобы не ударить перед ней лицом в грязь, тотчас же пустились заказывать себе новые платья, так что единственная в городе модистка madame Полин едва успевала шить. Некоторые дамы выписали себе куафюры из Казани, куда моды достигали ранее, чем в Ухабинск. Одна дама, не отличавшаяся особенною образованностью, хотя имела мужем астронома и химика и читала обыкновенно русские повести с карандашом в руках для каких-то заметок, изъявила искреннее сожаление, что между Ухабинском и Казанью не существует телеграфа, ибо по телеграфу могли бы скорее прислать куафюру; и при этом с большою язвительностью отозвалась о варварстве, в котором до сей поры находится Россия. Madame Карачеева прежде всего осведомилась: умна ли Софья Михайловна? Красота и туалет не пугали ее, но ума в соперницах своих она почему-то страшно боялась. Независимая барынька с азиатским типом лица спросила: не важничает ли эта петербургская львица? И если важничает, то дала себе слово держаться от нее как можно дальше. Одна полковница, в молодости сильно пошалившая, полюбопытствовала узнать — не слишком ли строгих правил приезжая дама и можно ли при ней рассказывать скандалезные анекдотцы; одна старуха ехидного свойства заранее очень обиделась, что какая-то капитанша будет в Ухабинске играть роль, по родству с губернатором, тогда как первою дамой должна быть непременно генеральша. Мужчины были заинтересованы не меньше дам. Хорошенькое личико, как известно, не только в Ухабинске, но и повсюду, не исключая Чукотского носа, заставляет сладостно трепетать мужские сердца, как холостые, так и женатые. Ухабинский лев, платонически вздыхавший о камер-юнкерстве, Чижиков, тотчас же купил себе стклянку крепчайших духов и полдюжины разноцветных перчаток и сшил восхитительные панталоны неопределенного цвета, со штрипками, сидевшие в обтяжку, намереваясь пленить этими вещами приезжую даму. Высокий и тощий корнет Серебрицкий, вечно рассказывавший о своих бывших связях и знакомствах с польскими графами и графинями и имевший страшную претензию на репутацию «mauvaise langue» [79], готовился при первом же свидании с Софьей Михайловной страшно отбрить ей все ухабинское общество. Двое юношей, служивших в губернской канцелярии, белокурый в очках и черноволосый без очков, но с pince-nez, тоже хоть были не из самых любезных, но не отчаивались в возможности понравиться. Адъютант бригадного командира, распоряжавшийся на балах всеми танцами и кричавший при этом как на плацу во всю глотку: «Chaîne, grand rond, promenade, saluez-vous dames» [80], имел всех более надежды сделаться постоянным кавалером губернаторской родственницы. Надежды свои он основывал, во-первых, на том, что сам когда-то служил в Петербурге, что говорит по-французски с особенным шиком (любимое выражение ухабинских франтов) и что, наконец, носил единственные в Ухабинске аксельбанты. Он уж заранее косо поглядывал на штафирку Пашинцева и давал себе слово уничтожить его в глазах Софьи Михайловны. Адъютант был довольно богат и не щадил денег на маленькие угождения дамам. Его самоуверенность чрезвычайно как обижала одного офицера с серебряными эполетами и с чрезвычайно узеньким воротником у мундира, господина чистенького, тоненького, приличного до бесцветности. Офицер этот был постоянным прихвостнем ухабинской аристократии и задирал нос перед всеми, кто к ней не принадлежал. Желчный, самолюбивый, обидчивый, он не мог терпеть ничьего первенства в обществе; во всем видел себе оскорбление, намек на его личность и тому, кто намеренно или случайно задевал его самолюбие, готов был напакостить самым подлейшим образом. Распустить самую низкую сплетню, оклеветать даже человека было ему нипочем. Он пресмыкался перед сильными мира сего, подобно гаду; но если сильные теряли вдруг, вследствие игры случая, свою силу, он первый оборачивался к ним спиной и лягал их, как известное животное в известной басне умирающего льва. Про него рассказывали, что однажды он, как-то по ошибке, не попал в список приглашенных на генерал-губернаторский бал. Это так глубоко взволновало его, что он тотчас же бросился к генерал-губернатору и со слезами спрашивал, чем он успел заслужить такую немилость его высокопревосходительства, что не удостоился приглашения. Его высокопревосходительство поспешил успокоить его, объяснив, что тут произошло недоразумение; но, желая вознаградить бедняжку за этот неумышленный афронт и поощрить его патриотические чувствования, приказал представить его немедленно к Станиславу четвертой степени. Даже полковник, ухаживавший за madame Карачеевой, и тот в душе питал злое намерение перебежать под чужое знамя, хотя весьма искусно таил это намерение от всех и преимущественно от Карачеевой. Итак, появление Софьи Михайловны произвело в Ухабинске сильную ферментацию. Общие ожидания не обманулись. Она в две недели покорила себе сердца всей мужской половины Ухабинска, не исключая двух юных чиновников губернаторской канцелярии и солидного офицера с серебряными эполетами, и успела заслужить самое строгое осуждение половины женской. Эта последняя громко начала поговаривать, что обращение Софьи Михайловны с мужчинами слишком вольно, что платья у ней чересчур декольте, нога до безобразия велика, что даже в чертах ее ничего нет особенного и бог знает чем она привлекает к себе мужчин, разве только одною беззастенчивостью да тем, что она новое лицо в городе.
Пашинцев, как и следовало ожидать, был ее безотлучным спутником. Потому ли, что она прежде была с ним знакома, или что он ей нравился более прочей ухабинской молодежи, но только она отдавала ему перед ней заметное предпочтение, которое чрезвычайно льстило Владимиру Николаевичу и бесило его соперников, в особенности адъютанта Бычкова. Адъютант всеми силами старался затмить Пашинцева и французским акцентом, и неистовым криком grand rond, и тысячею разных услуг, которые он вызывался оказывать не только Софье Михайловне, но и ее мужу. Отставной ротмистр принадлежал к числу самых снисходительных и добрых мужей. Он предоставлял жене полнейшую свободу действий и даже был очень доволен, что у нее столько поклонников. Сам же он проводил все вечера свои в клубе за картами, играя, впрочем, по маленькой, потому что приехал в Ухабинск для поправления обстоятельств, сильно порасстроенных поездкой с молодою женой за границу и зимой, проведенной в вихре петербургских удовольствий. Он ожидал места, которое должно было скоро открыться, и надеялся, что, просидев на этом месте годика три-четыре, будет опять в состоянии катнуть если не в чужие края, так в Петербург. Софья Михайловна, как благоразумная женщина, покорилась своей участи и в чаянии грядущих благ старалась по крайней мере извлечь из жизни в Ухабинске все, что она может дать. Она была очень веселого нрава: сидеть дома и скучать за работой или за книгой куда не любила и положила себе во что бы то ни стало расшевелить ухабинскую публику. Балы, вечера, folles journées [81], пикники должны были следовать в ее предположениях одни за другими. Она заставила его превосходительство, своего сановного родственника, дать два бала; подстрекнула Карачеева, подстрекнула еще двух-трех господ не отставать от губернатора и наконец затеяла маскарад. Но это нововведение не имело успеха в Ухабинске. Дамы ухабинские совсем не умели интриговать (в маскарадном смысле) и даже голоса своего никак не могли изменить. Все узнавали их с первого слова. Но, кроме того, маскарад кончился очень забавной историей. В числе масок явились актрисы тамошней труппы. Дамы это пронюхали и пришли в такое благородное негодование, что начали требовать, чтобы все сняли маски, и ежели между присутствующими действительно окажутся актрисы, то чтобы они были с позором изгнаны. Мужчины вследствие этого разделились на партии. Одни соглашались исполнить требование дам, другие утверждали, что в маскарад имеет право явиться каждый. Решились обратиться за советом к Софье Михайловне. Она, разумеется, оказалась на стороне последних. Тогда дамы покорились ее авторитету и остались; но некоторые отстояли независимость своих мнений и тотчас же уехали. Две дамы, узнав о присутствии актрис, даже упали в обморок, и мужья должны были отливать их водой.
Маскарад этот долго составлял предмет разговоров в Ухабинске. Софья Михайловна нажила им себе много врагов. К числу самых горячих ее защитников, конечно, принадлежали Пашинцев и Бычков. Оба лезли из кожи, чтобы доказать, что она была права. Пашинцев горячился в особенности потому, что против Софьи Михайловны высказалась Карачеева, которую он не упускал случая язвить и колоть; а так как ей все пересказывали специалисты по части сплетен (каждая [провинция] {45} изобилует подобными господами, но Ухабинск в особенности), то она сделалась первым его врагом.
Но еще более криков поднялось на разбитную Софью Михайловну, когда она однажды зимнею ночью, забрав с собой всю молодежь, отправилась с нею на тройках куда-то за город и возвратилась к рассвету. Мужчины были все сильно навеселе и, громко распевая песни, разбудили некоторых дам, имевших слишком чуткий сон. Такой скандал был делом непривычным в мирном Ухабинске, где если и пошаливали, то келейно, семейным образом. Забавнее всего в этой истории казалось ухабинской публике то обстоятельство, что муж Софьи Михайловны во время ее ночной прогулки за город спал у себя дома весьма спокойно, и, вероятно, сон его не был так чуток, как сон тех дам, которых разбудили песни, потому что ротмистр ничего не слыхал. Даже его превосходительство, узнав об этой истории, сделал племяннице своей замечание, впрочем, очень легкое, полушутливое. Он не мог быть строг ни с кем вообще, а с хорошеньким женским личиком и подавно.
После этого катанья дамы даже съезжались на совещание, на котором был серьезно предложен вопрос, можно ли ездить к Софье Михайловне и принимать ее у себя? Голоса, по обыкновению, разделились. К баллотировке же не прибегли, за неимением шаров, ибо бильярдные оказались слишком велики, да и число их было недостаточно; так дело ничем и покончилось или покончилось вот чем: Софья Михайловна три дня спустя сделала вечер, и дамы были на нем в полном сборе. Это последнее обстоятельство подало Пашинцеву повод не без основания заметить, что ежели дамы и горячились, то единственно потому, что Софья Михайловна не пригласила их участвовать в катанье. Карачеева же утверждала, что она без мужа ни за что на свете не поехала бы и что это катанье — c’est une horreur! ça n’a pas de nom! [82]
Посреди этих удовольствий Пашинцев вовсе забыл о Глыбиных. Он не видал их иногда по два и по три дня, и когда являлся к ним, то не более как на четверть часа. Казалось, он только хотел, чтобы на совести у него не лежал визит к ним. Живя в одном доме, нельзя же было совсем прекратить посещения. Но потребности видеть Глыбиных, говорить с ними он не ощущал. Софья Михайловна совсем вскружила ему голову. Он был совершенно счастлив в ее присутствии и вполне доволен тем, что отомстил Карачеевой за свое унижение. За дело, разумеется, Владимир Николаевич ни за какое не принимался.
Но всего хуже было, конечно, то, что он вел жизнь не по средствам, втягивался в издержки, начинал делать долги. Желая ни в чем не уступать Бычкову, он покупал Софье Михайловне дорогие букеты, устраивал на свой счет пикники, проигрывал в пари разные дорогие безделушки, которые приходилось иногда выписывать из Москвы или Петербурга. Он начал сперва занимать небольшие деньги у знакомых, с обещанием возвратить их в первых числах месяца; потом прибегнул к ростовщикам и стал давать векселя. Очень часто обедал с веселою компанией в клубе, и если кто ставил бутылку шампанского, он ставил их три; обеды писались на счет, который в три-четыре месяца вырос до колоссальных, по-тамошнему, размеров. В театре он потчевал дам конфетами, платя за красивые бонбоньерки втрое против их настоящей цены. Иногда он занимал на целый день щегольскую коляску или пролетки, чтобы сопровождать Софью Михайловну за город, и платил за это удовольствие чуть не половину своего месячного жалованья. По необширности Ухабинска Пашинцев легко мог бы сделать свои визиты пешком; но он совестился отстать в этом случае, как и во всех других, от Бычкова, подъезжавшего всегда к крыльцу ухабинских аристократов в отличном экипаже. В нем проснулась старая жизнь. Тщеславие заговорило с прежнею силой. Купцы, извозчики, эконом клуба — все верили Пашинцеву в кредит, потому что не знали его состояния, но, видя его близкие отношения с племянником губернатора и со всею аристократией города, считали его человеком достаточным. Во-вторых, он жил у Глыбина; многие принимали его за родственника их, что он очень хорошо знал и в чем не старался разуверять; а Глыбин пользовался таким доверием в городе, что каждый купец готов был ему дать по первому его спросу любую сумму под одну только расписку или даже на честное слово. До Глыбина начали доходить слухи о мотовстве его протеже; он даже встретил однажды у себя на дворе двух кредиторов Пашинцева и заплатил им по счетам, запретив, однако же, говорить ему об этом. При первой же встрече с Владимиром Николаевичем старик решился подать ему совет на тратить так много денег. Пашинцев выслушал доброе, ласковое увещание Павла Сергеевича и сконфузился. При всем желании обидеться, обидеться было невозможно, потому что увещание не имело в себе и тени упрека и вовсе не отзывалось нравоучением. Поблагодарив Глыбина за совет и за уплату кредиторам, Пашинцев обещал воздержаться и при первой возможности возвратить деньги. Придя в свою комнату, он сел к столу, взял карандаш и клочок бумаги и стал считать долги свои. Их оказалось гораздо больше, чем он ожидал. Он призадумался. Жалованье маленькое, надежд никаких: ждать неоткуда. У него защемило сердце. Он машинально раскрыл первую попавшуюся книгу; это были «Записки охотника», и случайно наткнулся на следующие слова Радилова: «Нет такого положения, из которого бы нельзя было выйти». Пашинцев закрыл книгу и, встав с места, произнес решительно: «Конечно, нет. Надо попробовать все средства. Поищу счастья в игре!» Вечером он пошел в клуб, после ужина начался ландскнехт. Пашинцев пустил свои последние пятьдесят рублей. Ему повезло. Он выиграл около пятисот. В другой раз он выиграл тысячу и повеселел. Он тотчас же уплатил часть долгов, чтобы снова иметь кредит. Несмотря на обещание быть воздержнее, несмотря на собственное желание не входить больше в долги, он не в силах был сладить с своею вечною страстишкой блеснуть, пустить пыль в глаза. Выигрыш был для него пагубен. Он дал ему легкомысленную веру в счастье. У Пашинцева начало возникать убеждение, что судьба всегда выручит его из самых трудных положений. Он с каждым днем все больше и больше пристращался к игре.
Между тем правитель канцелярии, которому Глыбин рекомендовал Пашинцева, видя его беспорядочную, рассеянную жизнь, возымел намерение занять его чем-нибудь, отвлечь от этой траты времени, сил и денег в пустых удовольствиях. К тому же и его превосходительство, наслышавшись от Софьи Михайловны о редких качествах молодого человека, захотел повысить его, дать ему средства отличиться на поприще служебном и сообщил об этом правителю. Правитель, призвав Пашинцева, сказал ему, что, может быть, скоро ему дадут довольно важное поручение и что он должен постараться оправдать доверие начальства. Пашинцев поблагодарил, но в душе не совсем был этим доволен. Он боялся, чтобы Бычков без него не втерся в интимность к Софье Михайловне, которая уж начала благоволить к адъютанту и не раз говорила Пашинцеву, что он не отдает должной справедливости этому господину. Неделю спустя после разговора с правителем канцелярии Владимир Николаевич отправился вечером к Бычкову, справлявшему именины. Он застал там всех ухабинских мужчин высшего круга, женатых и холостых, служащих и неслужащих, военных и статских. После ералаша и толков о городских сплетнях сели за ужин. Вина было вдоволь. Хозяин в военном сюртуке, нараспашку, без эполет то и дело бегал с откупоренными бутылками и подливал гостям. Пашинцев порядком-таки выпил, и в голове у него зашумело.
— А что, господа,— сказал он,— будет после ужина банчик?
— Еще бы нет,— отвечал хозяин.— Непременно.
— Кто заложит, вы?
— Пожалуй, хоть я, или вы не хотите ли?
— Нет, уж я стану понтировать.
После ужина раскрыли ломберные столы — и банк начался.
В нем приняли участие очень многие; хозяин заложил банк, который с тысячи целковых скоро вырос до десяти. Те, у кого в голове играл хмель от шампанского, горячились и много спустили. К ним принадлежал и Пашинцев. Он яростно гнул углы, устраивал куши вовсе некстати, держал мазу ко всем картам других понтеров; и после каждого проигрыша все более и более выходил из себя. Вдруг отворилась дверь, и совсем неожиданно для него явился Глыбин. Появление его на холостой вечеринке требует пояснения. Незадолго до того дня он имел с Бычковым сделку, а именно: купил у него несколько десятин земли около Ухабинска. Это было для Бычкова поводом к знакомству. Он на другой же день поехал с визитом к Глыбину, пролюбезничал целых два часа с Лизой и возвратился в восхищении от всего семейства. Потом два раза приглашал старика Глыбина к себе на именины, раз через посланного, а другой раз сам. Но Глыбин, несмотря на все это, едва ли бы отправился к нему, если бы не проведал, что у него также Пашинцев. Старик знал, что у Бычкова бывает всегда сильная игра; предвидел, что все общество подопьет, и боялся за Владимира Николаевича. До него уже дошли слухи о его счастливой игре в клубе. Зная по опыту, как завлекает выигрыш, он желал предостеречь Пашинцева и заехал именно потому так поздно, чтобы попасть на банк, который обыкновенно происходил в конце вечера.
Хозяин, увидев Глыбина, встал с места и, держа в руке колоду, хотел было идти навстречу гостю, но тот взял его за плечи и усадил.
— Не беспокойтесь, ради бога, я присяду и посмотрю, как молодежь сражается. Извините, что я так поздно, были дела, а не хотелось изменить обещанию.
— Vaut mieux tard que jamais [83], Павел Сергеевич,— любезно сказал адъютант.— Prenez place ici [84]. На диване покойнее.
— Merci, mersi,— отвечал Глыбин,— мне здесь прекрасно,— и поместился около Пашинцева.
Владимир Николаевич дорого бы дал, чтобы избавиться от этого соседства. Сначала он хотел было уменьшить куши вообще и играть осторожнее, но ему пришло в голову, что присутствующие могут это заметить и приписать трусости перед Глыбиным, на которого и без того глядели, как на какого-то опекуна Пашинцева. Он продолжал прежнюю игру. В этот вечер несчастье решительно преследовало бедного молодого человека.
Видя, что он страшно проигрывается и воспользовавшись минутой, когда карта его была бита, Глыбин спросил его:
— Вы не будете ставить другой карты в эту талию?
— Нет.
— А до новой талии еще далеко; пойдемте, мне нужно сказать вам два словечка.
Пашинцев встал из-за стола. Глыбин взял его под руку и пошел в другую комнату.
— Поедемте домой, Владимир Николаевич, вы проиграетесь в пух. Расплатитесь и поедемте.
— Нет, я хочу отыграться.
— Знаете поговорку: «Играй, да не отыгрывайся»? Вам не везет нынче, поедемте лучше.
— А может, еще повезет, почему вы знаете?
— Послушайтесь дружеского совета. Ну, если вы проиграете большой куш, что тогда?
— Я найду средство заплатить, будьте уверены.
— Займете опять? Остерегитесь, Владимир Николаевич. Подумайте о себе. Может дурно кончиться.
Пашинцев был в раздражительном состоянии вследствие своего проигрыша; да и пары шампанского тяжело легли на мозг его, и ему показались оскорбительными слова старика, несмотря на кроткий тон, каким они были сказаны.
— Увольте меня, прошу вас, от этой опеки,— ответил Пашинцев довольно громко.— Если я вам обязан, то это еще не дает вам права стеснять меня в своих действиях. Я не мальчик и знаю, что делаю. Сделайте одолжение, оставьте меня!
И, повернувшись к Глыбину спиной, он возвратился к своему месту. Глыбин побыл еще несколько минут и потихоньку вышел, не замеченный хозяином. Он был глубоко опечален выходкой Пашинцева. Игра продолжалась до света. Пашинцев проиграл пять тысяч серебром. Он подождал, пока разошлись все гости, и стал просить Бычкова рассрочить эту уплату денег. Бычков согласился взять с него вексель и ждать два месяца, но не более, сказав, что деньги ему крайне нужны.
Пашинцев возвратился домой убитый. Не раздеваясь, кинулся он на постель, но не мог ни на минуту сомкнуть глаз. Как ни думал он о средствах выпутаться из беды, а их не предвиделось. Немало досадовал он также на себя за грубый ответ Глыбину, у которого ему теперь неловким казалось оставаться жить. Была минута, когда он готов был на другой день пойти к Глыбину и извиниться. Но ложный стыд и мелкое самолюбие удержали его, он счел это для себя унизительным.
Два дня он ходил повеся голову. Попробовал еще поиграть в клубе и опять проиграл Бычкову, и тоже не заплатил. Через неделю правитель дел, призвав его к себе, сказал, что ему готово предписание ехать в Глиновецкий уезд для производства следствия по жалобе рабочих и заводчика Мытарева, делающего им притеснения и не удовлетворяющего их заработною платой.
Пашинцев рад был освежиться на время, вырваться из Ухабинска. Он надеялся, что новые впечатления хоть несколько рассеют тоску его.
Перед отъездом ему захотелось проститься с Лизой. Он знал, что по возвращении, может быть, уже не найдет ее в Ухабинске, потому что если она выйдет за Заворского, то поедет с ним сначала в его деревню, а потом на зиму за границу.
Пашинцев боялся встретиться с стариком Глыбиным. К счастью, он отлучился дня на два в деревню; и, пользуясь его отсутствием, Владимир Николаевич исполнил свое намерение; но у Лизы в этот день сильно болела голова, и она не встала с постели. Пашинцева не приняли. Он приписал это своей размолвке с Глыбиным; но все-таки велел сказать, что заходил проститься.
Вечер он просидел у Софьи Михайловны, которая, узнав, что он рано утром на другой день уезжает, с соболезнованием воскликнула: «Неужели так скоро!» и, пожелав ему как можно меньше скучать, заговорила о постороннем, кажется, о том, с кем она должна в следующем клубе танцовать мазурку.
Возвратясь домой, Владимир Николаевич нашел у себя записку Лизы. Он быстро распечатал ее и прочел:
«Вы заходили проститься, Владимир Николаевич, и мне очень грустно, что я не могу вас видеть. Сильная головная боль и жар заставляют меня не выходить из комнаты. Но я хочу хоть в письме пожелать вам доброго пути и успеха в вашей деятельности. Мне говорили, что вам дали важное поручение: что от вас будет зависеть участь многих бедных людей, угнетенных и задавленных неправдой. Завидую вам. Вы явитесь к ним утешителем, вы облегчите их страдания. Благослови вас бог. От полноты сердца, дружески протягиваю вам руку. Возвращайтесь скорее к нам и не забывайте искренно уважающую Вас Л. Г.».
— А славная эта Лиза! — произнес Пашинцев.— Дай бог ей счастья! — и спрятал ее записку в бумажник.
В дороге Владимир Николаевич действительно несколько позабыл о своем положении; но по приезде на место следствия снова напала на него страшная тоска. Тоска эта парализовала его деятельность, подтачивала его энергию. Вместе с ним производил следствие чиновник постороннего ведомства. Но, будучи по природе ленив и с первых же дней захворав лихорадкой и притом находясь в приязненных отношениях с ухабинским губернатором, он не хотел мешать его чиновнику и предоставил все делать ему одному, а сам только подписывал, где нужно. Присутствовал также при следствии и жандармский офицер, молодой человек, но он еще менее вступался в дела и очень сошелся с Владимиром Николаевичем. Заводчик оказался действительно отъявленным разбойником, но так умел хоронить концы, что уже несколько лет безнаказанно поступал самым противозаконным образом. Сначала Пашинцев повел дело как следует, и бедные рабочие ожили. У них явилась надежда избавиться от своего притеснителя. Но когда однажды Владимир Николаевич получил от Бычкова письмо, напоминавшее ему об уплате денег и в котором адъютант угрожал ему подать вексель ко взысканию, а за клубный долг выставить его на черную доску, он пришел в решительное отчаяние и почувствовал себя совершенно неспособным ни к какому делу. Скорыми шагами ходил он по своей просторной, но грязной и сырой комнате, кусая губы. Он не заметил, как нагорела сальная свеча и в комнате становилось все темней и темней. В трубе завывал ветер; собака где-то вдали жалобно и пронзительно выла. Все располагало к унынию, и сердце Пашинцева сжималось болезненно. «Ну, что ж,— думал он,— коли нет другого исхода, так пулю в лоб, да и дело с концом. Выставит, мерзавец, на черную доску, опозорит. Что скажет Софи! Карачеева как обрадуется с своим безмозглым полковником! А гнусная вся эта публика… не стоит она тех страданий, которые я теперь выношу единственно потому, что имел глупость дорожить ею, ее мнением, что принимал к сердцу ее пошленькие интересы. Если бы можно было не возвращаться больше в Ухабинск!»
Вдруг скрипнула дверь, и в ней показалась длинная фигура, в длиннополом сюртуке, обстриженная в скобку, с красным лицом, на котором выражалось лукавство и вместе подобострастие.
— Кто ты такой? Кого тебе? — быстро спросил Пашинцев.
— От Трофима Савельича, ваше благородие, к вашей милости-с.
— От какого Трофима Савельича?
— От Мытарева-с; приказчик ихний.
Пашинцев нахмурился.
— Что ему от меня нужно?
Длинная фигура робко осмотрелась кругом и, подойдя к Пашинцеву, произнесла вкрадчиво:
— Трофим Савельич наказывали попросить ваше благородие…
— Что такое, о чем попросить?..
— Да нельзя ли как, то ись насчет ихнего дельца порадеть, а что уж от них благодарность какая угодно будет вашему благородию.
— Вон! — крикнул Пашинцев.— Не то я кликну людей и тебя обыщут.
Длинная фигура юркнула в дверь.
Владимир Николаевич снова зашагал из угла в угол.
«Судьба искушает меня!» — сказал он про себя и, задумавшись, остановился посреди комнаты.
Между тем длинная фигура, притаившись в передней, все чего-то ждала.
Владимир Николаевич лег на жесткий диван и пролежал битый час. Чье-то покашливанье вывело его из задумчивости. Он встал и пошел в переднюю.
— Что же, ваше благородие? — начала было опять длинная фигура.
— Так ты еще не ушел, каналья? — крикнул Пашинцев.
Длинная фигура мгновенно исчезла.
Пашинцев беспокойно провел эту ночь; он то ложился на диван, то опять вставал и ходил, несколько раз вынимал из бумажника записку Лизы и перечитывал ее.
Через неделю пришло новое письмо от Бычкова, довольно наглое, где он говорил, что напоминает в последний раз и что ежели не получит удовлетворительного ответа, то ему будет ясно, с кем он имеет дело, и он тогда отбросит всякую деликатность, могущую существовать только в отношениях с порядочным человеком.
На другой день по получении Пашинцевым этого письма длинная фигура снова появилась у него в комнате и уже не так быстро исчезла. А заводчик Мытарев после этой аудиенции своего приказчика с чиновником губернатора вдруг, неизвестно отчего, поднял голову, которую было повесил в последнее время, и снова заговорил с рабочими на два тона выше.
«А, видно, славное поручение дали Пашинцеву,— рассказывал ухабинской публике Бычков.— Я от него получил шесть тысяч, которые он мне оставался должен; а ведь малый-то был гол как сокол». Между тем правитель канцелярии получил из Глиновецка письмо от своего приятеля, уездного лекаря, очень честного и почтенного человека. Он, между прочим, пенял ему, что прислали на следствие чиновника, который повел дело лицеприятно и, как кажется, взял с заводчика, потому что отправил через уездную почтовую контору, вероятно по неопытности, в Ухабинск шесть тысяч серебром. Оправдать, прибавлял лекарь, он никоим образом не может заводчика, но, вероятно, постарается выставить его проделки в более мягком свете, а это будет тяжкий грех, потому что бедный народ терпел от него самые страшные, невероятные утеснения. Вслед за этим письмом пришел о том же самом предмете и формальный донос на имя губернатора.
Правитель канцелярии тотчас приехал к Глыбину и передал ему все эти сведения.
— Если это окажется справедливым, его нужно будет предать суду,— прибавил правитель.
— Хотя я не должен бы просить за него, потому что он поступил бесчестно,— отвечал Глыбин,— но если это возможно, пощадите его молодость. Пускай он будет уволен от службы по прошению. В общественном мнении он уже опозорен. Может быть, это заставит его опомниться и исправит. Ведь он еще очень молод, ему двадцать семь лет, не больше.
Правитель, не давая слова, обещал, однако же, сделать все, что от него будет зависеть.
IX Заключение
Представьте себе хорошенький, уютный дамский кабинет, обитый голубыми обоями, с голубыми портьерами и занавесями на окнах, уставленный цветами и устланный мягким, дорогим ковром. Над диваном висит прекрасная копия с одной из мадонн Мурильо, две этажерки сверху донизу наполнены сочинениями лучших русских и иностранных писателей. В углу покойный диванчик и перед ним на круглом столе, покрытом ковровою салфеткой, фарфоровая лампа, которая ярко и весело освещает комнату. Каждая безделка, каждый уголок в этой комнате говорят вам, что в устройстве ее участвовала не пустая прихоть, но нежная внимательность человека, старающегося окружить любимое существо спокойствием и довольством. Убрать так комнату может только тот, кто в награду за свои хлопоты и заботы надеется увидеть на дорогом ему лице светлую, ласковую, благодарную улыбку, проливающую в его сердце бесконечное, глубокое счастье. Не удивляйтесь, если, введя вас в этот кабинет, я скажу вам, что вы находитесь в деревенском доме Якова Петровича Заворского. Вот и сам он, довольный, веселый, радостный, сидит на угловом диване подле жены своей, которая положила ему руку на плечо и, устремив на него любящий, ясный, как весеннее небо, взгляд, о чем то спрашивает его. Поодаль старики, его тесть и теща, глядят на молодую чету, счастливые ее счастьем. Но на их лицах в то же время вы прочли бы и какую-то тихую, затаенную грусть. Не мудрено, хотя они теперь все вместе, но старики уже знают, что завтра, или послезавтра, или через неделю они возвратятся в свой дом одни, и та, которая веселила их старческие дни, как иногда веселят на мгновение блеснувшие лучи солнца суровый ландшафт северной природы, та, при которой они сами становились моложе, расцветая отживающим сердцем, не будет уже с ними, что не на них одних сосредоточена теперь ее привязанность, но есть уже существо, которое, может быть, стало дороже их, и дом их для нее уже не свой дом. Она сама жена, сама хозяйка. А потом и надолго придется расстаться. Молодые сбираются за границу. Возвратясь, застанут ли они стариков в живых? Ведь старческие дни сочтены. Вот что, глядя на детей своих, думали Глыбины и что нагоняло облако грусти на их лица.
В комнату вошел человек и подал Лизе письмо.
— Ко мне? — спросила Лиза, удивясь.— От кого бы это! рука незнакомая.
Муж, смотревший все время, пока читала, на лицо ее, как бы опасаясь, чтобы какая-нибудь грустная, тревожная весть не смутила их молодого счастья, заметил, что при последних строках письма у Лизы выступили слезы.
— Что такое, ради бога, Лиза? — с беспокойством спросил Заворский.
— Я прочту вам вслух это письмо,— тронутым голосом произнесла Лиза и прочла следующее: — «Взглянувши на подпись этого письма, вы, может быть, бросите его и не станете читать. Знакомое имя не вызовет в вас ничего, кроме глубокого презрения. Я бы и не смел писать к вам, Лизавета Павловна, если бы не знал наверное, что через два дня, а может, и через день, меня не будет в живых. Вам пишет умирающий; и вы не можете его не выслушать, вы, ангел доброты, более чем кто-нибудь способный прощать. Да! Я умираю в тесной, душной, грязной каморке на станции, окруженный чужими, равнодушными лицами, на которых я читаю только желание избавиться поскорее от больного, что им накачала на шею судьба. Поблизости нет и лекаря. Какой-то лекарь приезжал вчера и, посмотрев меня, ничего не сказал, только покачал головой. А после его отъезда мне предложили, не хочу ли я причаститься. Я собрал последний остаток сил, чтобы написать к вам. После отрешения моего от должности, убитый и опозоренный, отправился я куда глаза глядят, не имея ничего в виду, не зная, чего мне искать, чего желать. Сначала я хотел пустить себе пулю в лоб; но и на это не хватило сил. Я стал утешать себя какими-то несбыточными надеждами. Я говорил себе, что я еще способен к перерождению, могу еще сделаться честным человеком и долгими годами покаяния и труда искупить свой проступок, свое падение. Вздор! Никогда бы из меня ничего не вышло. Я бесхарактерное, слабодушное существо. Если вы своим теплым участием, своею чистою дружбой не могли восстановить меня, чего же я мог надеяться! Хорошо сделала судьба, что послала мне болезнь, которая должна свести меня в землю. Но перед смертью я хочу вымолить у вас прощение. Чего бы я не дал, о боже мой, чтобы услышать его из уст ваших, чтоб еще раз взглянуть на вас, чтобы ваша рука закрыла мне глаза! Но я не стою этого счастья, как не стоил дружбы вашей при жизни. Храни вас господь! Да не помрачит ни одно облачко вашей жизни; да найдете вы полное, беспредельное счастье, которого вы заслуживаете! Благодарю вас за светлые мгновения, подаренные мне вашею дружбой, за ваше желание поднять меня из этой грязи, куда втолкнули меня и моя слабость, и мое нелепое воспитание. Ведь оно тоже отчасти виной моего падения, не так ли? Как ни много я виноват, но все же мне кажется, что если бы с детства повели меня иначе, я бы еще мог быть порядочным человеком. Не всех же создает бог сильными, и не все же слабые так падают. Не знаю почему — но мне верится, что вы простите меня, что вы будете заступницей моею и перед окружающими вас, которых суровый упрек я так заслужил, и перед всеми, кто захочет бросить камень осуждения в мою память. Мне верится также, что вы исполните и еще последнюю просьбу умирающего. Вот она: в уездном городе *** есть девушка, перед которою я тоже много виноват, которой существование я, может быть, навсегда испортил. Повидайтесь с ней, скажите ей слово утешения и передайте ей о моем раскаянии, попросите, чтобы и она и жених ее простили меня. Я знаю, как много значит слово утешения, сказанное вами! Прощайте, моя добрая, мой светлый гений, мой бывший несравненный друг! Навсегда прощайте.
Владимир Пашинцев».Лиза едва могла дочесть это письмо и глотала слезы.
— Мне жаль его, Яков,— сказала она, обратясь к мужу, спрятав на груди его свою хорошенькую головку.— Если бы не его прошедшее…
— И если бы не эта подлая среда,— отвечал Заворский с раздражительностью, ясно показывавшею, что письмо Пашинцева задело за живое и его,— которая вместо того, чтобы поддержать человека, вывести его на честный путь, сама толкает его в пропасть. Если бы ухабинские женщины были похожи на тебя, Лиза, если бы благородное ухабинское общество, вместо того чтобы сплетничать, плясать и обыгрывать друг друга в карты, занималось делом и руководилось не пошлою, ходячею моралью, он, конечно, не пал бы.
Лиза исполнила просьбу Пашинцева и виделась с Надей. Во все время отсутствия Пашинцева у ней не вырвалось ему ни одного упрека; а смерть его глубоко ее опечалила. Красота Нади начинает блекнуть, и, кажется, ей суждена та же доля, что и ее тетке, то есть остаться старой девушкой.
ДВЕ КАРЬЕРЫ
(С. Н. Федорову)
I
В одном из тех немногих петербургских кварталов, где еще водятся деревянные домики с мезонинами, где весной пробивается на улицах травка, а в длинные зимние ночи господствует совершенная темнота, нанимал года четыре тому назад небольшую комнатку с мебелью и столом некто Виктор Иванович Костин.
Это был еще молодой человек, недавно простившийся с университетскими скамейками и не имевший в виду никакой определенной карьеры. Отца он не помнил, лишась его в детстве. Старушка мать, жившая где-то в глуши, незадолго до выхода своего Виктора из университета тоже отправилась на тот свет. Таким образом Костин остался один-одинешенек и мог произвольно располагать своей участью. Не было семьи, которую бы нужно поддерживать, которая бы искала в нем утешения и опоры. Долго думал о своем будущем юноша. Сердце его отзывалось на все хорошее. Он полон был весь этих пылких мечтаний, которыми так богата и так привлекательна молодость. Самое далекое и неосуществимое казалось ему таким близким, что, по его словам, стоило бы только какой-нибудь горсти честных и энергических людей дружно взяться за дело,— и все будет кончено. Он не шутя сердился, когда какой-нибудь скептик, помятый жизнью, называл его утопистом и говорил, что правнукам внуков его не дождаться того, что он надеялся сам увидеть. Восторженный молодой человек, может быть, действительно слишком иногда увлекался и мог показаться смешным тем солидным и черствым людям, которые как будто забывают, что и сами они были когда-то нечерствые и несолидные. Но все же эта детская вера в лучшие дни, этот шиллеровский энтузиазм, эти романтические порывы — не лучше ли они, чем пошлое разочарование, которым во время оно у нас щеголяли с легкой руки Печорина, или так называемая практичность, тоже стремящаяся, конечно, к общему благу, но никогда, однако ж, не до такой степени, чтобы упустить из виду свои собственные личные выгоды?
Натура Костина, впечатлительная и нервная, была способна к крайностям и увлечениям. Резкие суждения часто навлекали на него беду еще в стенах университетских. Но хорошие способности вывезли его, несмотря на выставленные ему на пути рогатки. Товарищи его очень любили, исключая, однако, тех, которые, имея за собой знатное происхождение и богатство, считали неблагородным всякое занятие, кроме волокитства за французскими актрисами, картежной игры да пьянства, и нагло смеялись над честными тружениками, преданными науке, но не имевшими средств носить батистовые рубашки и золотые часы. Костин не стеснялся выражать при них свое мнение об их образе мыслей и действий, что было им крепко не по зубам. Еще завидев его издали, они сворачивали с дороги, чтобы не встретиться с этим сапожником, как они говорили, который черт знает что о себе думает. Сапожником они называли каждого, кто — не граф и не князь и не поит их шампанским; но они были неправы, говоря, что Костин был высокого о себе мнения. Не было, напротив, человека менее самоуверенного, менее считавшего себя способным на какие-нибудь великие подвиги, и часто, подметив в себе какую-нибудь дурную черту, какое-нибудь мелочное поползновение, он горько сокрушался и называл себя ничтожнейшим и презреннейшим из людей. Нужно сказать, к его чести, что эти порывы раскаяния не оставались бесплодными и что он всеми силами старался перебороть себя. На дружбу товарищей он отвечал искренней, теплой привязанностью, которую всегда готов был доказать на деле.
Бюрократическая карьера никогда слишком не привлекала Костина. Притом же у него перед глазами были товарищи, определившиеся в разные департаменты и канцелярии. Одни из них горько жаловались, что должны по целым дням сидеть за перепиской бумаг, не представляющей голове никакой работы; другие так втягивались в рутинную чиновничью колею, так свыкались с тупой, кропотливой, механической деятельностью, что мало-помалу утрачивали свое человеческое достоинство и делались какими-то безличными, апатическими существами. Незаметно для них самих суживался их умственный кругозор; в них начинало свивать гнездо мелочное честолюбие, желание наград и повышений. Но повышения они добивались не потому, что оно влекло за собой больший простор для деятельности или представляло им более средства к применению своих убеждений. Нет, они видели в нем только прибавку жалованья или унижение соперника, метившего на это же самое повышение. Сделаться учителем Костин тоже не чувствовал особенного призвания; он уже давал уроки, чтоб поддержать свое существование, но исполнял свои обязанности далеко не так, как бы хотелось ему. Он понимал, что знать предмет и передавать его другим — две вещи разные… Он страстно любил литературу и постоянно следил за всем, что печаталось на родном языке. Обладая от природы эстетическим чувством, он возымел мысль посвятить себя искусству, в котором видел не забаву, а такое же служение истине и человечеству, каким должна быть и всякая другая общественная деятельность. Он никому не показывал своих юношеских опытов и не мог решить, есть ли у него талант. Тайный голос говорил ему только, что все эти опыты еще слишком незрелы, чтобы увидеть свет; и Костин, не торопясь печататься в каких-нибудь малочитаемых журнальцах, положил приняться за серьезный труд, где бы высказались все его задушевные помыслы и стремления… Целый год просидел он над повестью, и когда она была готова, решился, прежде чем нести ее к редакторам журналов, прочесть одному писателю, которого столько же почитал за его высокий талант, сколько и за доброе, любящее сердце. С писателем этим Костин случайно сошелся у кого-то из своих бывших профессоров, и потом часто ходил к нему. И в самом деле, трудно было представить себе личность более симпатическую. Даже наружность его неотразимо влекла к себе. Кто видел хоть раз это умное, благодушное лицо, к которому так шла преждевременная седина,— тот не забывал его. Чуждый педантизма и литературного генеральства, которым, к сожалению, бывают заражены писатели, имеющие несравненно меньше таланта и знаний, но гордо величающие себя творцами, он имел дар очаровывать каждого. Даже люди, враждебно относящиеся к литературе и поглядывающие на литераторов как-то искоса, словно боясь их,— не могли отказать ему в уважении. Он много думал, много читал, много видел… и потому знал, чего можно требовать от жизни и сколько она может дать. Отсюда, может быть, происходила его снисходительность к слабостям и недостаткам людей; но эта снисходительность никогда не переходила в индифферентизм, невозмутимо взирающий на попрание самых святых человеческих прав и унижение достоинства человека. Всякий низкий поступок находил себе в нем строгого, беспощадного судью. Негодование его было глубоко и сильно, но без трескотни и эффекта, свойственных людям, мало испытавшим в жизни или неискренним… Отпечаток этой высокогуманной натуры лег и на все литературные создания ее… По прочтении их каждый невольно произносил: «это писал превосходный человек!» А согласитесь, читатель, что в наше время, когда ни один фельетон не может обойтись без разглагольствований о добре и правде,— трудно писателю вселить в вас подобное убеждение…
Писатель был обрадован, услыхав от Костина, что он принес к нему повесть, и внутренне пожелал, чтобы она оказалась чем-нибудь замечательным. С биением сердца принялся молодой автор за чтение. Писатель выслушал его внимательно, не прерывая, и когда он кончил, несколько мгновений сидел молча… Костин тоже не смел заговорить, с трепетом ожидая себе приговора. Он знал, что этот приговор должен окончательно решить его участь, потому что не завистью, а разве излишней снисходительностью к чужим трудам грешит иногда судья его, и если бы он остался недоволен повестью Костина, то значило, что она никуда не годится. Наконец писатель встал и, подойдя к молодому человеку, ласковым голосом, в котором не звучало ни одной покровительственной нотки, высказал ему все, что думал об его произведении…
Сущность этого суждения была такая: повесть написана умно и бойко; лучшее в ней — это молодость, бьющая всюду живым ключом. Все, что говорит сам автор,— благородно и справедливо, хотя не ново. Но творчества в ней нет следа; в ней не живые люди, а ходячие идеи: ни одной черты, выхваченной из жизни, ни одного душевного движения, верно подмеченного.
«Если вы любите искусство,— заключил писатель,— и не считаете его забавой,— перестаньте писать, изберите другую деятельность, или пишите ученые статьи, если чувствуете себя довольно подготовленным к тому. Я говорю с вами искренно, зная, что в вас нет раздражительного самолюбия и что вы способны воспользоваться советом, данным вам от сердца. От другого я, может, отделался бы каким-нибудь общим местом».
Костин сидел, как убитый; он сознавал, что ему говорили правду, и, как она ни была горька, он в душе благодарил за нее своего судью. Придя домой, он бросил тетрадь в огонь и простился навсегда с литературной деятельностью. Чтобы писать ученые статьи, нужно быть специалистом или, по крайней мере, обладать бо́льшим запасом сведений, чем какие были у него. Увеличивать же собой число компиляторов, берущихся за каждую книгу, какую укажет редактор, он не имел охоты.
Долго потом Костин ходил, повеся голову.
Прошел месяц после неудачной попытки молодого человека. Он все еще как будто не пришел в себя. Больно ему было расстаться с одной из лучших надежд своих… Но делать нечего: приходилось покориться и подумать о другой карьере. Нельзя же так небо коптить, говорил он: нужно работать, служить по мере сил и способностей обществу. И вот опять вспоминал он о своих бывших товарищах, поступивших в разные департаменты, палаты и канцелярии, и сильно не хотелось ему идти по следам их. Ему было известно, что получить должность, где есть что делать, кроме переписки бумаг или сочинения рапортов и отношений да наведения справок,— трудно, что для этого нужно иметь связи, протекцию… А если сначала придется лет пять — не служить, а прислуживаться… Куда как тошно!
Однажды в сумерки, когда он сидел под окном своей комнаты с книгой в руках, в передней раздался звонок.
Костин положил книгу и пошел отворять.
Чтение подвигалось у него вяло, он весь был поглощен мыслью о своей будущности, да и денег в кошельке оставалось немного. Он очень обрадовался, что пришло живое существо, с кем можно было потолковать и хоть на минуту забыть о своих обстоятельствах.
У него не было докучных знакомых, отнимающих только время и наводящих зевоту, знакомых, которых посещение было бы ему в тягость. К нему ходило несколько товарищей, разделявших его образ мыслей, один художник, собиравшийся ехать на казенный счет в Италию, да музыкант Волчков, не кончивший курса в университете и не отличавшийся большими способностями, но очень добрый и простой малый, всем сердцем преданный Костину, который часто помогал ему в нужде.
Вот почему, отворяя дверь с веселой миной, Костин и надеялся встретить кого-нибудь из этих лиц; но обманулся в своих ожиданиях. Это был почтальон, который, подав ему письмо и взяв обычную гривну, отправился дальше. Костин ни с кем не переписывался, и получение письма его удивило… Быстро взломав печать, он посмотрел на подпись. Там стояло имя одного из его университетских товарищей, уехавшего по окончании курса к себе в деревню с целью заняться устройством своих крестьян.
Вот что писал Костину этот товарищ:
«Любезный Костин! В последний вечер, проведенный нами вместе в Петербурге, на вопрос мой: что ты намерен сделать из своей особы? — ты отвечал мне, что еще сам не знаешь. С тех пор прошел год, и ты уж, верно, куда-нибудь да пристроился, какую-нибудь деятельность да избрал. Ведь ты без дела сидеть не любишь или по крайней мере не любил, пока был в университете. Если пристроился, то я хочу знать — хорошо ли тебе, доволен ли ты своим положением. Не простое любопытство и даже не бесплодное участие побуждает меня обратиться к тебе с этими вопросами. Если ты недоволен, то я намерен сделать тебе предложение. Дядя мой, Пафнутьев, назначен губернатором в Мутноводск. У него есть вакантное место чиновника по особым поручениям, на которое, как водится, много охотников; но ни один из них не по сердцу дяде. Ему бы хотелось иметь человека честного, дельного и неленивого. Я говорил ему много о тебе, и он был бы очень рад, если бы ты пошел служить к нему. Хотя я не знаю коротко служебной деятельности моего дяди, он мне всегда казался человеком порядочным, т. е. добрым и благонамеренным (принимай это слово в новейшем смысле). В случае согласия подавай не медля прошение. Жалованье, конечно, не бог знает какое — 500 р., но ведь и жизнь в провинции дешевле. Зато на этом месте ты будешь иметь возможность принести иногда действительную пользу… Тебя будут посылать по губернии на следствия… Ты поближе посмотришь русскую жизнь, и в таких сферах, куда до сих пор тебе не приходилось заглядывать… А это, право, не мешает нашему брату… Ведь мы знаем Русь только понаслышке, из обличительных повестей. Я тем более буду доволен, если ты примешь это место, что Мутноводская губерния смежна с той, где мое имение, значит, тебе легко будет взять отпуск и приехать повидаться со старым товарищем. Или тебе жаль расстаться со своим Петербургом? А я так сердечно радуюсь, что оставил его… Чем ближе я узнаю наш народ, тем сильнее к нему привязываюсь… и ни за что не променяю его на петербургских франтов и барынь средней руки, в обществе которых мне пришлось вращаться, вследствие моих связей и родства.— Твой Загарин».
— Fatum! — произнес Костин, прочитав письмо.— Так угодно судьбе!.. Бог с ним, с Петербургом… везде можно жить, везде есть люди. Может быть, мне и действительно удастся что-нибудь сделать… Загарин прав,— русскую жизнь посмотреть поближе недурно… Добрый он человек, не забыл о товарище… и счастливец — сейчас напал на настоящую дорогу… нашел себе полезную деятельность!
Вот каков только этот дядюшка? — прибавил Костин, почесывая затылок и сделав гримасу.— Не очень я доверяю благонамеренности таких господ!.. А впрочем, может быть, он принадлежит к этой молодой администрации, стремящейся искоренять злоупотребления…
На этой утешительной мысли Костин был прерван новым звонком.
«Кто это? — подумал он…— Не Степанов ли: вот бы потолковать-то с ним, посоветоваться…»
Он опять бросился к двери. Но судьбе решительно угодно было поражать его неожиданностями.
На крыльце стояла молоденькая хорошенькая девушка, в розовом кисейном платье, в большом платке и с черной косынкой на голове.
— Саша! — воскликнул Костин, делая шаг назад.
— Что — не ждали? — спросила девушка, входя в комнаты…
— Никак не ждал, мой дружочек! И как ты вздумала завернуть в наши края? Садись-ка, да вот сюда в кресла — здесь покойнее.
Саша развалилась в кресле, стоявшем у окна, и закинула назад хорошенькую головку.
— Ух! как хорошо… совсем утонешь; вот так кресло!
— Как ты похорошела, Саша!.. Надо тебя непременно показать Сорневу (так звали знакомого Костину художника, собиравшегося ехать в Италию): он с тебя портрет снимет.
— Да зачем ему мой портрет; что он с ним будет делать?..
— У него альбом есть такой, куда он рисует все хорошенькие головки, которые ему попадаются… И ни одной нет такой, как у тебя…
— Ну да, конечно! Ах вы — надсмешники…
— Вовсе нет, ну посмотри сама.
Он взял со стола круглое зеркальце, служившее ему туалетом, и поднес к глазам Саши. Она засмеялась и отодвинула зеркало рукой; однако ж украдкой, искоса бросила в него взгляд. Костин подметил это.
— А все-таки посмотрелась,— сказал он.— Плутовка!
Саша покраснела.
— А врете… Вот вы бы лучше конфетами поподчивали. Я так давно конфет не ела, ужасть!
— Саша! — воскликнул Костин, вытряхивая перед ней кошелек, из которого посыпалась медь, и несколько двугривенных покатилось по столу: — Вот мое достояние…
— Что так? аль прокутились…
— Как быть! Завтра получу за уроки — так куплю, сколько хочешь. А теперь не велеть ли чайку, а?
— Ну, пожалуй, хоть чайку…
— А пока ставят самовар, ты мне расскажешь, что ты делала с тех пор, как мы не видались… Ты все у швеи у этой живешь?
— У ней,— да сходить хочу…
— А что — жить дурно?..
— Да, все лается день-деньской: то́ не так да другое не так… тихо, говорит, шьешь да чистоты нет… Вчера мужскую рубашку немножко спалила гладимши,— так что́ крику было!.. А за что? Совсем крошечное пятнышко, даже чуть заметно. Никогда, говорит, из тебя хорошей швеи, девка, не выйдет,— тебе бы все только в окошко глазеть…
— Э, да какая она у тебя строгая, и в окошко посмотреть нельзя.
— Так и гонит прочь, как только подойдешь: все боится, чтобы не сманили нас… Да уж смотри — не смотри, а коли кто захочет… Знаете, говорится: шила в мешке не утаишь — девушки под замком не удержишь.
— А ты, чай, любишь у окошечка посидеть?..
— Да еще бы не посидеть. Все шить да шить — глаза заболят. А мимо такие славные кавалеры ездят…
— И за тобой волочатся?
— Как же, непременно!.. Там и получше меня есть. Вот Полинька Костяковская, недавно к нам поступила,— барская она, помещицы Костяковой,— просто картинка писаная! Глазки томные, знаете, брови дугой. Прелесть! Уж кабы я мужчиной была, беспременно бы влюбилась… Если теперь ее одеть хорошенько — получше иной барыни будет.
— А я все-таки не советовал бы тебе от швеи отходить.
— Почему так?
— Да покамест будешь другое место искать, от работы отвыкнешь, а там уж и вовсе не захочешь на место поступать.
— Небось не отвыкну…
В эту минуту мимо окон проскакала щегольская пролетка, в которой сидел мужчина с дамой, очень пестро одетой,
— Эх, как закатывают! — воскликнула Саша.— Что это, господи — хоть бы немножко пожить в свое удовольствие, как господа живут.
— Погибшее, но милое созданье! — смеясь продекламировал Костин.— Так ты решительно отойдешь от места? — прибавил он.
— Отойду, ведь хозяйка говорит, что из меня хорошей швеи не выйдет — так что ж мне пальцы-то понапрасну мозолить?
— Ну, и что ж — в модный магазин поступишь?..
— А не знаю… как придется… Нет, в магазин не поступлю; я ихнему рукоделию тоже не учена.
— Чему же тебя отец с матерью выучили?
— Ничему не выучили, только шить кое-как. Ведь родятся же такие счастливые, которым работать не надо!..
— Ты ленива, Саша,— это дурно…
— Хорошо ли, дурно ли — уж про то я знаю. Что же делать, когда такой бог создал. Уж мне себя не переиначить. Подайте-ка нищенке — вон под окошком просит. Авось за меня помолится, чтоб меня какой-нибудь богатый барин за себя взял!
Саша захохотала; и потом, взяв со стола пятак, свесилась за окно и бросила нищей.
Принесли чай.
— Вы сколько жалованья получаете? — спросила Костина Саша, мешая в стакане ложечкой.
— Мало, Сашенька, очень мало… немножко больше, чем ты у швеи.
— А родители разве не присылают вам?
— Да их нет, душа моя.
— Как! таки никого нет?
— Никого решительно.
— Значит, вы — сирота, как и я? У меня тоже все померли,— прибавила Саша, вздрогнувши.— Мой папенька тоже чиновник был — на Выборгской свой дом имел.
— Куда ж он девался?
— Продали… еще я маленькой была, как продали. Отец-то пил ужасно и до того под конец дошел, что одежду с себя пропивал.
— А мать после него умерла или прежде?
— Прежде. Он ее в гроб-то свел… дня не пройдет, бывало, чтобы не поколотил… А знаете Настеньку, что к Коровину ходила? — начала вдруг Саша, переменив грустный тон на веселый.
— Ну, знаю.
— На содержание попала, да к богачу к какому — в каретах ездит! Я ее намедни на гулянье встретила, бурнус на ней бархатный, шляпа с пером… я думала — графиня какая!
— Что ж, тебе завидно?
— Разумеется, завидно. Чем она лучше меня?
Во время чая пришел Степанов, один из приятелей Костина. Это был высокий, худощавый человек с белокурыми волосами, с насмешливым выражением лица и бедно одетый. Он слушал медицинский курс и готовился в доктора. Костин обрадовался его приходу и тотчас же показал ему письмо Загарина.
— Ну, что скажешь? — спросил Костин, когда Степанов, прочтя письмо, положил его в стол.
— Что сказать? Загарин — хороший малый, но людей не знает. Он считает своего дядю за порядочного человека, а бог весть, каков тот на самом деле.
— Я уж об этом думал.
— А в глушь заехать — тоже не шутка; хорошо, как будет на что назад уехать, коли не понравится.
— Так ты советуешь не ехать?
— Если есть в виду что-нибудь другое…
— Ничего нет.
— Плохо. А ждать нельзя?
— Трудно… Уроками кое-как промышляю. Едва хватает на содержание, книг не на что купить. Да и учить детей четырем правилам арифметики — куда невесело! Еще добро бы приготовлять какого-нибудь юношу к университету, трудиться над его развитием, передавать ему свои убеждения…
— Так поезжай, авось не совсем дурно будет. Без борьбы ведь нигде не прожить — сам знаешь.
— Знаю и готов бороться, пока сил хватит.
— Только мне почему-то сдается, что ты карьеры не сделаешь,— сказал улыбаясь Степанов.— Хоть убей, не могу себе представить, чтобы из тебя когда-нибудь вице-губернатор вышел или что-нибудь в этом роде. Не так ты скроен…
Костин засмеялся и, подойдя к зеркалу, сказал:
— И в фигуре ничего нет такого внушительного.
— Это-то ничего, осанка приобретается; только вообрази себе, что у тебя на шее крест, сейчас голова сама собой подымется кверху.
— Ну ее, брат Степанов, карьеру! Хоть бы раз в жизни на что-нибудь порядочное пригодиться — вот чего я желаю!
— А вот она сделает карьеру,— сказал Степанов, указывая на Сашу,— я по глазам вижу. Такие не пропадают.
— Какая это такая карьера? — спросила Сашенька.
— Это значит,— отвечал Костин,— что желания твои сбудутся, что тебе не придется работать. Когда сделаете карьеру, Александра Петровна,— прибавил он смеясь,— не забудьте нас грешных со Степановым. Ведь нынче через камелий чего не делается! Степанов же — человек нужный, доктор… может и вам быть полезен.
— Да что это вы на меня болесть накликаете! — возразила Сашенька.
— Сохрани бог. Желаю тебе от всей души и здоровья и счастья.
Саша встала и начала собираться.
— Куда же ты? посиди,— удерживал ее Костин.
— Нет, пора, я в гостиный двор отпросилась.— Так вы, значит, скоро едете?
— Скоро. Надеюсь, что зайдешь проститься, душа моя.
— Отчего же. Я, может, еще завтра забегу…
Она нагнулась к его уху и что-то шепнула.
— Хорошо,— отвечал Костин вслух.— Только поцелуй меня.
Саша поцеловала его и, простившись со Степановым, вышла.
— Что, денег просит? — спросил Степанов по уходе ее.
— Да,— отвечал с усмешкой Костин.— Только не много. Я сказал ей, что получу завтра за уроки. Она, впрочем, не жадная. Я ее знаю. Мне жаль бедную девочку: совсем пропадет; а виновата ли она, учить ее ничему не учили; работать тоже не привыкла. И сколько таких!..
— Уверяю тебя, что эта не пропадет,— сказал Степанов.— У нее слишком бойкие глазки…
Разговор вскоре перешел на письмо Загарина, и приятели протолковали за полночь, делая разные предположения о своем будущем.
Еще два дня раздумывал Костин и наконец на третий день послал прошение об определении его чиновником по особым поручениям к Мутноводскому гражданскому губернатору; а через шесть недель определение это состоялось.
Настал и час отъезда. Приятели Костина сошлись проводить его. Тут был и Степанов, и художник Сорнев, носивший непомерно длинные волосы и какой-то коротенький плащ, который, по его словам, имел два достоинства: никогда не промокал и был очень живописен; и еще два товарища: один — немец из Остзейских губерний, добрый и флегматический малый, другой — поляк, отличнейший душа и страшный энтузиаст, от которого, когда он говорил, все сторонились, потому что он любил выразительные жесты и беспрестанно задевал за стоявшие на столе стаканы и чашки; наконец музыкант Волчков, очень грустный и со слезами на глазах. Пришла и хозяйка дома, старушка в белом чепце и черном платье, желавшая тоже проститься с таким смирным постояльцем. Куплена была в складчину бутылка шампанского. Когда до отъезда оставалось уже четверть часа и бокалы были наполнены, явилась Сашенька; ей в ту же минуту подали бокал, и она тихим, печальным голосом произнесла: «Счастливого вам пути, Виктор Иваныч!» У ней тоже на глазах засветились слезинки.
Немец предложил в воспоминание студенческой жизни спеть Gaudeamus; поляк требовал, чтобы спели что-то другое; но пока спорили и кричали, пришло время ехать. Все начали обнимать Костина. Поляк благословил его на какие-то подвиги, Степанов пожелал скорей с ним свидеться, а Волчков, не говоря ни слова, повис у него на шее и залился слезами. Наконец привели извозчиков. Дворник втащил на одного из них чемодан Костина, на других уселись его приятели, и поезд двинулся к дебаркадеру железной дороги. Сашенька постояла еще с минуту на крыльце и, кивнув головой обернувшемуся к ней при повороте в другую улицу Костину, побрела домой.
«Добрый этот Костин,— думала она.— Жаль, что такой бедный».
II
Второй год доживал Костин в губернском городе, и нельзя сказать, чтобы был особенно доволен своим положением.
Сначала он с любопытством присматривался к явлениям этой новой, незнакомой ему действительности… Многое в ней забавляло его, многое приводило в искреннее негодование. Жизнь еще не научила молодого человека скрывать свои чувства и мнения в известных случаях, и потому он готов был высказать каждому, кто только хотел его слушать, все, что оскорбляло и возмущало его впечатлительную натуру. Это пришлось не по вкусу мутноводским гражданам.
Одни из них при первом же споре с Костиным озлобились на него нешутя; другие ограничились тем, что пожали плечами и покачали с видом сожаления головой, как бы говоря: «молодость! угомонишься и ты, любезный, как поживешь с нами годок, другой, третий».
Угомонился ли Костин? Были минуты, когда бесплодное, донкихотовское ратование за свои любимые убеждения утомляло его и он, махнув рукой и глубоко вздохнув, произносил: «Нет, видно, этих господ не переуверишь» — и делал шаг к примирению с мутноводским обществом: решался с стесненным сердцем на некоторые уступки для того, чтобы в свой черед получить уступку… Но вскоре он заметил, что утрачивал более, чем приобретал… Примиряясь, стараясь смотреть сквозь пальцы на то, что при иных обстоятельствах он, не колеблясь, заклеймил бы названием подлости, Костин невольно, почти незаметно для самого себя, втягивался в эту грязную, таинственную провинциальную жизнь, с ее мелочными, узкими интересами, с ее сплетнями и интригами, с ее мертвящим застоем, с ее заразительной ложью, с ее мещанской моралью, за которой скрывается глубочайшее и полнейшее нравственное растление… Забывая постепенно великие общественные вопросы, волнующие и потрясающие мир, забывая нужды и потребности своего собственного отечества, он начинал горячо принимать к сердцу какую-нибудь ссору Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, проходившую у него перед глазами… Мишурный блеск провинциальной жизни стал было кружить ему голову… Он не без внимания слушал рассказы о том, как его превосходительство, г. начальник губернии, подал руку такому-то и не удостоил даже киванием головы такого-то; как две юные дамы поссорились за то, что на благородном спектакле в пользу бедных одной хотелось танцовать русскую пляску в голубом сарафане, а другой в пунцовом, тогда как дирекция, по настоянию первой, сшила для всех голубые… И Костин нешутя принял сторону пунцового сарафана… Дама, жаждавшая облечься в него, была такая хорошенькая брюнетка и пунцовый цвет так шел к ее смуглому личику!
Другого рода разговоров в мутноводском обществе нельзя было слышать… Литература, политика, искусство — все это нисколько не занимало его… Правда, некоторые получали русские журналы и читали в них повести, отходя ко сну; но на другое утро даже содержание этих повестей испарялось у них из головы; а если не испарялось, то суждения о прочитанном состояли только в сожалении, зачем повесть кончилась так, а не иначе, зачем герой не женился на героине и т. п. Гораздо более, чем к политике, литературе и искусству, имели мутноводские обитатели влечение к картам… Шлем, онёры, леве, бескозырная — вот слова, которые чаще всего можно было услышать из уст их. Даже молоденькие барыни, даже барышни любили зеленый стол… Впрочем, этих последних нельзя обвинять. Мутноводские кавалеры были до такой степени вялы и пусты, и скучны, что по справедливости могли себе присвоить эпитет снотворных. Чтоб спастись от этих наркотических юношей, нужно было поневоле искать убежище за картами: тут, по крайней мере, никто не придет и не спросит — возможна ли дружба между женщиной и мужчиной; благородное ли чувство ревность, или что лучше — ум без красоты или красота без ума… Костин, долго воздерживавшийся от карт, тоже по настоятельному требованию одной очаровательной хозяйки дома решился было попробовать себя на этом поприще; но по неумению ли, по рассеянности ли наделал столько промахов, что с тех пор ни очаровательная хозяйка, ни другие, менее очаровательные, хозяева не стали ему подносить карточки…
Однако ж этот мир Костина с провинциальной жизнью оказался только перемирием. Скоро он сбросил с себя добровольно надетые цепи и заперся от всех на замок. Одна минута раздумья заставила его протрезвиться… В нем не умерла привычка анализировать себя — и однажды, когда он, снедаемый какой-то непонятной тоской, находящей иногда беспричинно даже на людей, наименее способных к мечтательности, предался этому душеспасительному занятию,— он увидел у себя под ногами бездну и с ужасом отскочил от нее… Ему вспомнились слова поэта, сказавшего про эту бессмысленную, всюду царящую ложь, что
Она страшней врагов опасных {46}, Страшна — не внешнею грозой, Но тратой дней и сил напрасных В безмерной пошлости людской! —и Костин, схватив себя за голову, горько заплакал.
Когда Костин приехал в Мутноводск, губернатор встретил его приветливо, но не без свойственной своему сану важности. Григорий Модестович Пафнутьев был человек еще не старый, но уже со значительной лысиной, которую тщательно прикрывал рыжеватыми, цвета мокрой мочалки, волосами. Лицо его не представляло ничего особенного. Мне всегда казалось, что будь он простым смертным, а не губернатором, он был бы решительно никому не в состоянии внушить своей наружностью не только страха, но даже и уважения. Сам Лафатер {47} едва ли бы прочел на лбу его те свойства, за которые обыкновенно уважают людей; а Галль {48} нашел бы у него только шишки тщеславия и честолюбия достаточно развитыми… Прошедшее его скрывалось в тумане неизвестности. Как прошла его служебная деятельность, что́ помогло ему достичь так скоро до чина действительного статского советника (ему не было еще пятидесяти лет) — никто не мог этого сказать положительно. Знали только, что первоначальная деятельность его не была ознаменована никакими особенными заслугами отечеству, и имя его, появляясь в приказах о производстве, оставалось никем не замеченным. Доходили темные слухи до Мутноводска, что какая-то Шарлотта Иванова сильно способствовала его возвышению, но и это было так же ничем не доказано. Получив известие о его назначении, мутноводцы терялись в догадках: кто он, откуда, каких качеств человек? Он долго был причислен к министерству и ездил с разными поручениями в дальние губернии — вот все, что о нем писали из Петербурга некоторым мутноводским чиновникам их знакомые…
Неизвестность эта пугала многих. «Уж если бы знать по крайности,— говорили они,— какого полета птица, так уж можно бы сообразно этому и принять его; а то, черт знает, пожалуй, и в беду влопаешься». Всего более опасались найти в нем представителя юной администрации, которая чиновниками как картами тасует, по выражению мутноводских же жителей. Начнет, пожалуй, ломать все, просвещение вводить, злоупотребления искоренять; на место старых взяточников посадит новых, Надимовых {49} каких-нибудь… в самом деле страшно! Хотя каждый и был убежден, что только новая метла хорошо метет; но все-таки, по крайней мере первые два-три года, пришлось бы многое потерпеть. Однако ж Григорий Модестович не замедлил всех успокоить. Он вовсе не принадлежал к новой школе, и о «Губернских очерках» господина Щедрина, бывших тогда свежей новостью, отзывался очень невыгодно, говоря, «что в отношении литературном они не выдерживают критики, ибо изображают грязную сторону жизни, а литература должна брать только одни возвышенные чувства и благородные страсти; в отношении же общественном — они положительно вредны»… Почему именно они положительно вредны — этого Григорий Модестович не объяснял, вероятно, затем, чтобы не оскорбить проницательности мутноводских чиновников, которые и без объяснения должны понять это.
Вскоре в Мутноводске все пошло как по маслу. Новый губернатор ничего не ломал, никого не сменял, никого даже не стращал сменой. Он только произносил в табельные дни, когда к нему являлись чиновники с поздравлением, весьма красноречивые речи, заранее им написанные, в карамзинском стиле (Григорий Модестович никогда не говорил слог, всегда стиль, и также проекты называл прожектами), который он решительно предпочитал стилю новейших писателей, впадающих в тривиальность. Осанка его была очень важная, грудь высокая, голос звучный… и потому речи его производили всегда внушающее впечатление. Один чиновник, из образованных, даже заметил, что родись его превосходительство в Англии — он был бы непременно знаменитым оратором в палате лордов. Григорий Модестович вопреки обыкновению новых начальников даже не привез с собой из Петербурга никаких фаворитов, кроме одного правителя канцелярии; да и его он взял потому только, что старый правитель умер и место оставалось вакантным.
Новый правитель, как видно, знал хорошо натуру своего патрона, любившего, кроме речей в карамзинском стиле, еще и спокойную, комфортабельную жизнь. Он умел отдалить от него всякие трудные, головоломные задачи, приняв их решение на себя. Никакие дрязги, никакие жалобы не достигали генеральского уха… Можно было сказать, что Григорий Модестович тут только так, для парада стоит. Правитель же сосредоточил в себе все власти, законодательную и исполнительную, и действовал именем губернатора, часто даже не спросясь его. Правитель был признан губернией за гениальнейшего и притом справедливейшего человека. Если я говорю здесь губернией, то отнюдь не разумею под этим каких-нибудь мещан, небогатых купцов, а еще менее крестьян… Правитель канцелярии хорошо понимал, что не он существует для этой мелюзги, а она для него, и старался только заслужить доброе мнение образованного сословия. Это-то почтенное сословие я и разумею под словом губерния.
Итак, Григорий Модестович наслаждался безмятежным спокойствием в кругу нежнолюбимого им семейства, совершенно довольный вверенной ему губернией и пользуясь взаимно ее расположением. Не раз, будучи отзываем для личных объяснений с высшими лицами в Петербург и умилительно прощаясь с подчиненными и с господами помещиками, он с удовольствием видел, что бортище украшенного звездою фрака его орошалось признательными слезами. «Я могу сказать,— говорил он потом, возвращаясь в недра своего семейства,— что меня любит дворянство, и горжусь этим…» Особенно проливал слезы, прощаясь с начальником, губернский секретарь Затыкаев, заведовавший редакцией губернских ведомостей, никогда не упускал случая тиснуть в них об отъезде его превосходительства самую трогательную статейку. Григорий Модестович был вдов; он лишился супруги своей, дочери какого-то генерала, за два года до своего назначения губернатором. Она оставила ему (говоря слогом Затыкаева) двух прелестных малюток — мальчика и девочку, воспитанием которых занималась его теща, проживавшая с ним в Мутноводске. Эта теща была чрезвычайно довольна, когда Григорий Модестович предложил ей поселиться в его доме. Она всю жизнь мечтала о том, чтобы играть в обществе важную роль; а так как Мутноводск остался без губернаторши, то Прасковья Петровна Грызунчикова и вступила в права первой дамы… К ней ездили на поклон все городские власти; к ней приносили купцы с заднего крыльца разные кулечки, набитые необходимыми для домашнего обихода продуктами; перед ней клеветали и сплетничали одна на другую мутноводские дамы; для нее устраивались пикники, танцовальные вечера и обеды; составлялась всегда особенная партия из одного генерала, одного статского советника и жены предводителя дворянства. Трудно было найти более холодное, сухое и властолюбивое создание, чем Прасковья Петровна. Она постоянно мучила всех домашних… Муж ее, отставной генерал, отличавшийся суровостью и даже жестокостью с нижними чинами, делался в ее присутствии кротким агнцем и только в могиле освободился от ее капризов. Дочери до такой степени были подавлены ее деспотизмом, что шагу не смели сделать без ее позволения. Они даже редко осмеливались говорить при ней. На все они должны были смотреть глазами своей дражайшей маменьки и за каждое суждение, несоответствовавшее ее образу мыслей, подвергались строгому выговору. Боязнь навязать себе на шею такую тещу отталкивала от несчастных девушек женихов. Григорий Модестович женился на младшей Грызунчиковой, когда ей было уже за двадцать лет; и все знакомые Прасковьи Петровны не могли надивиться его храбрости. Григорий Модестович и сам не отважился бы, может быть, на такой подвиг, если бы не десять тысяч серебром, которые Прасковья Петровна давала за своей дочерью. Григорий Модестович был тогда еще только надворный советник и о высших должностях не смел помышлять… Десять тысяч серебром были ему очень кстати… Теща, как и следовало ожидать, тотчас же прибрала его в руки и так повела дело, что даже, когда он овдовел, перешла к нему жить. У нее была еще дочь, mademoiselle Жюли — лет двадцати пяти, очень некрасивая, очень недальняя, но довольно добрая девушка, с весьма развитым бюстом. Сделавшись quasi-губернаторшей, Прасковья Петровна прежде всего начала заботиться о судьбе Жюли. Надо было ее пристроить. Правитель канцелярии, обязанный своим местом ее рекомендации и советовавшийся с ней обо всех наиболее важных административных делах и о назначениях чиновников в должности, явился деятельным помощником генеральши и в деле устройства судьбы ее дочери. Он доставлял ей сведения о всех служащих в городе лицах, холостых и вдовых. Она знала, таким образом, весьма обстоятельно, у кого из них какое состояние, какие связи и родство и какие душевные свойства… Но ни один из губернских женихов не приходился ей по́ сердцу. Приходились ли они по́ сердцу Юлии — об этом не спрашивали. Несмотря на свои двадцать пять лет, она не имела права свободного выбора и считалась чем-то вроде несовершеннолетней.
Один из наших писателей очень удачно разделил провинциальных невест на два разряда: невест для приезжающих и невест для домашнего обихода… Барышни, принадлежащие к губернской аристократии, всегда ищут себе женихов — не между туземцами, которых предоставляют в распоряжение среднего кружка, а между приезжими из Петербурга или Москвы чиновниками и офицерами. Прасковья Петровна, как аристократка по преимуществу, тоже не хотела видеть свою Жюли за туземцем; она же знала, что те из них, которые годились бы в женихи, были люди несостоятельные и, главное — не отличающиеся светскими, комильфотными манерами… Но петербуржцы и москвичи редко заглядывали в Мутноводск. Что же оставалось делать чадолюбивой генеральше? На ее счастье, один из чиновников по особым поручениям ее зятя вышел в отставку, и она, пользуясь этим случаем, начала бомбардировать Григория Модестовича просьбами — не назначать нового чиновника из туземцев, а выписать лучше из Петербурга, и притом непременно холостого… В это время племянник губернатора, Загарин, предложил на вакантное место своего бывшего товарища Костина, кончившего курс в университете. Прасковья Петровна, без совета которой не делалось и не предпринималось решительно ничего, уцепилась за это предложение с неожиданной радостью. Восторг ее, впрочем, упал, когда Загарин сообщил ей, что это человек, не имеющий никаких средств к жизни; но раздумав хорошенько, она все-таки пришла к заключению, что уж лучше отдать Жюли за бедного петербуржца, чем за бедного туземца. «Он кончил курс в университете,— размышляла она,— стало быть, образованнее здешних… его можно будет скорее вывести в люди… le pousser en avant [85]».
Приезд молодого чиновника из столицы произвел некоторую сенсацию и между всеми мутноводскими дамами… Они старались разведать, молод ли он, хорош ли, говорит ли по-французски, хорошо ли танцует… Особенно интересовались всем этим две дамы: одна молоденькая m-me Хлопакова, у которой муж был в постоянных разъездах и которая долго вздыхала по одном заезжем улане, безжалостно ей изменившем; а другая пожилая, но еще хорошо сохранившаяся, m-me Зориг, жена командира гарнизонного батальона. Эта дама, впрочем, интересовалась всеми мужчинами, без разбора — были бы только мужчины. Исключение она делала только для своего мужа, которым вовсе не интересовалась. Молодежь мутноводская инстинктивно побаивалась приезжего, сознавая свою несостоятельность по части волокитства за дамами и предчувствуя, что петербуржца всегда предпочтут туземцу.
Но Костину суждено было обмануть всеобщие ожидания, преимущественно же ожидания Прасковьи Петровны, которую мутноводцы — за ее искусство устраивать свои и чужие делишки — единогласно прозвали министром.
Григорий Модестович, как я уже сказал, принял молодого человека вежливо, но с достоинством; пустив в ход карамзинский стиль, он сказал Костину речь о высоком призвании гражданского чиновника вообще и чиновника по особым поручениям в особенности, коснулся слегка прогресса, удачно намекнул о любви к нему дворян, которую он заслужил справедливостью и неусыпной заботливостью о благе общем, и наконец заключил этот винегрет какой-то сентенцией вроде того, что чиновник — как гражданский, так и военный — должен не только добросовестно исполнять свои обязанности, но и вести себя в обществе благонравно.
По окончании этой речи Прасковья Петровна, находившаяся также в кабинете его превосходительства и не перестававшая лорнировать Костина с самого его прихода, обратилась к нему с расспросами на французском диалекте,— откуда он родом, кто его родные, любит ли он дамское общество и нравится ли ему Петербург. На все это Костин отвечал очень коротко, так что генеральше не удалось поддержать разговора, как она об этом ни хлопотала.
На прощанье Григорий Модестович подал Костину два пальца правой руки, а Прасковья Петровна просила бывать у них вечером запросто.
И зять, и теща произвели на Костина какое-то нехорошее впечатление, в котором он и сам еще не мог себе дать вполне отчета. Он почувствовал только, что не будет у него лежать к ним сердце — и ему вдруг сделалось очень грустно.
«Он, кажется, пустой фразер… а от нее веет холодом»,— думал он, возвращаясь домой…
Он не мечтал об идиллически-ласковом приеме начальника; не желал, подобно многим благонравным юношам, сделаться у него в доме своим; но он ждал найти в Григории Модестовиче, по крайней мере, более дельного человека; генеральша же неприятно поразила молодого человека с первого раза отсутствием простоты, спесивым тоном и претензией на великосветскость.
Правитель канцелярии принял его в халате. Это был человек старого покроя. Толстенький, красненький, кругленький, беспрестанно нюхавший табак из серебряной с чернью табакерки, он бойко и проницательно осмотрел вошедшего с головы до ног, и на каждую его фразу только кивал головой и произносил: «так-с, так-с».
Он спросил Костина, что слышно новенького в Петербурге и дорого ли там жить; на оба эти вопросы получил очень неудовлетворительные ответы, потому что Костин, не зная хорошенько, какие именно новости интересуют правителя, почел за нужное отвечать, что ничего не слышно; что же касается дороговизны, то так как он не жил своим хозяйством, то и на это не мог обстоятельно отвечать. Такое незнание, по-видимому, дало правителю очень невыгодное мнение о новом чиновнике, и он уже более ни о чем его не расспрашивал и стал хвалить губернатора, говоря, что лучшего начальника и желать не надо и что губерния под его управлением процветает и благоденствует. Посидев у него минут с пять, Костин встал и раскланялся.
«Из ученых, видно,— подумал правитель, смотря в окошко, как Костин садился на извозчика.— Всё книги читал… и в делах, чай, так же, как и в хозяйстве, ни аза не смыслит… Ну, да в женихи Юлии Антоновне годится… мущина бравый…»
И понюхав табаку, правитель отправился к себе в комнату, что-то напевая.
Генеральша тоже оказалась не совсем довольна новым чиновником своего зятя: он слишком мало выказал желания с ней разговориться, был неловок, серьезен, на лице его не было заискивающей улыбки, которую она так любила, и вообще он глядел каким-то бирюком… Она сообщила свои наблюдения зятю и выразила при этом желание выдрессировать молодого чиновника, как видно, еще вовсе не видавшего порядочного общества…
Когда она возвратилась на свою половину и m-lle Жюли, узнав, что у Григория Модестовича был приезжий, спросила свою родительницу, как она нашла его,— та отвечала:
— Молчалив слишком… сидит, как пешка: «да, нет» — больше ничего не добьешься. Я вечером звала его к нам. Может, развяжется. On voit qu’il n’a pas encore vu la société… [86] Хоть бы ты занялась им… Ведь уже не маленькая, кажется,— можешь о себе подумать. Может быть, он человек способный: в университете воспитывался. Надо только дать ему этот лоск… ce verni [87]. Ничто так не образует молодого человека, как общество. Немудрено, что он такой… Родители его бог знает кто были… состояния нет… Ну, да это все ничего… Непременно возьмись за него — слышишь?
— Хорошо, maman,— отвечала покорная m-lle Жюли, у которой на лице во все время монолога не выразилось решительно ничего, кроме тупого внимания.
Однако ж Костин не торопился воспользоваться приглашением генеральши. Ему почему-то казалось, что там должно быть очень скучно; молодого человека могло бы еще подстрекнуть любопытство увидеть m-lle Жюли; но общий голос говорил, что она вовсе нехороша собой… Некоторые дамы, у мужей которых Костин побывал с визитом, отзывались насмешливо не только о ее наружности, но и об умственных качествах.
Первый месяц своего пребывания в Мутноводске Костин сидел почти безвыходно дома. Пока ему не дали служебного дела, он перечитал почти весь небольшой запас книг, привезенных им из Петербурга. Наконец однажды он получил приглашение на обед к одному из важных сановников города, у которого тоже были две дочери на возрасте. Как бы человек ни любил книги, каким бы он домоседом ни был, а все-таки и на него находят минуты, когда ему хочется поговорить с живым человеком и он должен избрать себе непременно среду. Эта потребность общества, врожденная человеку, заставляет его часто смотреть снисходительно на окружающее и отыскивать в людях неразвитых, даже дурных, хоть какую-нибудь черту, на которой бы можно с ними примириться, ради которой можно простить их пороки и недостатки. То же было и с Костиным. Ему наконец захотелось взглянуть поближе на мутноводское общество.
Обед у сановника был неофициальный, неторжественный, а только для избранных, коротких знакомых. Пригласив Костина, сановник хотел показать, что желает с ним сблизиться.
В числе обедавших находились: директор гимназии, предводитель дворянства и прокурор.
Дочери хозяина, недурные собой и в пух разодетые, отличались застенчивостью и во все время обеда сидели под прикрытием толстой и краснолицей маменьки, делая хлебные шарики и почти не вмешиваясь в разговор. Да и разговор был такого рода, что им трудно было вмешаться. Сначала зашла речь о разных местных служебных вопросах: о неудачном преследовании какого-то раскольничьего попа, о жалобе мужиков на окружного, дважды собравшего с них деньги и дважды их прокутившего, и т. д. Потом разговор как-то свернул на гласность, на неизбежные «губернские очерки» и наконец на предполагавшееся освобождение крестьян. Костин внимательно прислушивался к толкам и, пока рассказывались факты, представлявшие для него, по новости своей, много любопытного, тоже не принимал участия в разговоре; но когда на сцену выступили общественные вопросы, когда прокурор стал с жаром порицать гласность и всякого рода реформы, когда предводитель дворянства иронически отозвался об освобождении крестьян, которое неминуемо должно было, по его мнению, повести к упадку значения благородного сословия дворян и ко всякого рода беспорядкам — анархии и своеволию,— Костин не мог воздержаться от возражений. Сначала он возражал хладнокровно, стараясь убедить своих противников логикой; но видя, что на логические доводы у них всегда готов один ответ: что это все теория, а на практике этого нельзя и что тот не любит своего отечества, кто может так рассуждать,— невольно вышел из себя и стал говорить довольно резкие вещи… Особенно был оскорблен его выходками прокурор, сказавший в заключение спора, что выносить сор из избы считалось искони нехорошим делом и что люди, обличающие других, видят в этом только средство отвратить внимание власти от своих собственных проделок…
— А я так думаю совершенно напротив,— возразил, горячась все больше и больше, Костин.— Что те, которые потакают злоупотреблениям и скрывают их, делают это потому, что боятся, чтобы их самих не потребовали к отчету… Это значит, что и руки и совесть у них нечисты… Такие люди, конечно, не станут выносить из избы сора… Они привыкли к нечистоте и грязи. Но, слава богу, теперь встречается больше людей, желающих жить в чистой избе… Обличитель, открывающий глаза обществу на его больные места, этим самым доказывает, что желает его исцеления и дает обществу право судить его собственные дела. Будьте уверены, что непризнанный обличитель — человек, противоречащий на деле тому, что он так красноречиво проповедует на словах,— не долго будет пользоваться уважением… Общественное мнение сумеет сорвать с него маску и уличить его в нравственном безобразии… Но не менее беспощадно будет это общественное мнение и к тому, кто, прикрываясь ложным патриотизмом, хочет неправды, застоя, невежества, способствующих ему набивать карманы и утеснять слабых и беззащитных…
Прокурор побагровел от злости, но, закусив свои тонкие губы, не отвечал ни слова и только, махнув рукой, обратился к барышням, катавшим хлебные шарики, с вопросом, давно ли они танцовали… Хозяин, желая изгладить дурное впечатление, произведенное на прокурора ответом Костина, переменил разговор и начал хвалить прокурорских лошадей, выписанных им недавно из Вятки.
Но директор гимназии, который, по-видимому, тоже разделял мнение прокурора,— потому что во все время, пока он говорил, кивал одобрительно головой,— снова коснулся современных идей, но в сфере больше ему близкой, в вопросе о воспитании.
— Вот тоже толкуют теперь о недостаточности воспитания, о кротких мерах и тому подобном,— сказал директор с сильным ударением на о, обличавшим в нем бывшего семинариста.— Все это пустословие, не более… По моему мнению, не столько самое знание важно, сколько важна нравственность… У меня будь воспитанник гений, но если он не имеет полного балла из-за поведения, я никогда не выпущу его первым. Благонравие — вот на чем зиждется здание государственное… И опять-таки — этого благонравия невозможно достичь одними кроткими мерами… Наказание, и именно телесное наказание, необходимо для укоренения в детях доброй нравственности и повиновения начальству. Я говорю не как теоретик… Я на опыте удостоверился в справедливости излагаемого мною мнения. И впоследствии сам воспитанник остается признательным своему наставнику за побудительные меры, употребленные им в то время, когда влияние их наиболее действительно. Ибо пороки должны быть искореняемы с малолетства, в нежном, так сказать, возрасте. Если же теперь телесные наказания необходимы для исправления нравственности детей, то тем более они полезны взрослым, в коих пороки уже глубоко вкоренились,— людям загрубевшим, каковы, например, мужики и солдаты… А между тем господа нувеллисты проповедуют, что и с этим народом не следует прибегать к крутым мерам. Забавно!
Костин, которого в продолжение всей этой речи коробило, как на горячих углях, готов был выскочить из-за стола, наговорив директору дерзостей… Он чувствовал, что в нем кипит желчь, что раскаленные молотки бьют ему в голову… Хозяин, по выражению лица его, угадавший, что в нем происходит, совершенно сконфузясь, налил ему стакан холодной воды, который Костин тотчас же и опорожнил.
— Я не стану вам возражать,— произнес молодой человек прерывающимся голосом, в котором слышалось тщетно сдерживаемое негодование.— Кто прожил всю жизнь в известных убеждениях, того не заставят покинуть их никакие доводы, особливо же если эти доводы исходят из уст такого неопытного теоретика, как я, который отроду никого не сек и никогда не был сечен своими наставниками… Мне остается только скорбеть, что здесь еще спорят о подобных вещах… И кто же? — Люди, которым правительство и общество вверяют воспитание детей, считают побои полезным и даже необходимым делом… а вы совершенно правы с своей точки зрения! Розгами можно вселить и в ребенка и в зрелого человека все эти качества, которые вы называете чистейшей нравственностью: ложь, лицемерие, рабство, подобострастие, отсутствие чести и человеческого достоинства… Да, вы истинный христианин, и побои — истинно христианское средство…
Вижу, что мой читатель насмешливо и даже презрительно улыбается при этой юношеской филиппике… Но пусть он оглянется на свое далекое, невозвратимое прошлое и припомнит: нет ли в нем также неосторожных, безрассудных порывов?.. Если нет — то тем хуже для моего читателя…
После обеда, не желая продолжать разговор с городскими чиновниками и считая невежливым тотчас же уйти домой, Костин подсел было к барышням; но они как-то ежились и сторонились от него, как будто чего-то боясь, и только выразительно переглядывались друг с дружкой… Им было в самом деле страшно в обществе человека, осмеливающегося возвышать свой голос перед сановниками, которым мутноводское юношество не смело иначе отвечать, как с прибавлением к каждому слову частички с и с заискивающей улыбкой.
— Я думаю, вам наскучили наши разговоры? — спросил Костин старшую дочь хозяина.
— Нет-с, почему же…— отвечала она, потупясь.
— Все это, вероятно, очень мало интересует вас.
Старшая дочка молча взглянула на сестру, как бы вызывая ее отвечать; но та бессмысленно улыбнулась и не произнесла ни слова.
Костин, сделав еще два-три незначительных вопроса и допив свою чашку кофе, взялся за шляпу…
— Прошу бывать,— сказал хозяин, провожая его до дверей, и как-то нерешительно. Казалось, он боялся, чтобы не услышали его приглашения гости.
Директор гимназии и прокурор, состоявшие в наилучших отношениях с правителем губернаторской канцелярии, не преминули ему сообщить о вольнодумном образе мыслей и дерзости Костина; и правитель с своей стороны донес о том генеральше… Выслушав его внимательно, Прасковья Петровна пожала плечами и отвечала:
— Они нынче все такие, мой милый Кузьма Васильич. Либеральничать в моде… Поверьте мне, я сама жила в Петербурге и знаю… там бог знает что говорится…
— Я полагаю, ваше превосходительство,— заметил правитель, что они это так только сначала, пока еще в маленьких чинах находятся… А потом угомонятся и выбросят дурь-то из головы.
— Ну, конечно, выбросят; но мне все-таки жаль, что этот молодой человек, занимая такое место, неприлично ведет себя. Это может компрометировать Григория Модестовича в глазах общества. Подумают, что ему нравятся эти идеи…
— Помилуйте, ваше превосходительство, кто же может это подумать?.. Уж они не в таких летах и не в таком чине находятся, чтобы это им могло нравиться-с.
— Не говорите, не говорите, мой милый Василий Кузьмич {50}. Я знаю одного губернатора, который точно таких идей… И что удивительно,— вообразите,— уж пожилой человек, едва ли не старше Григория Модестовича!.. Окружил себя молодежью… университетскими… и вертит всей губернией.
— Бывает-с, ваше превосходительство, конечно-с; что и говорить,— бывает-с. Но все же, я полагаю, долго не усидит такой-с…
— Бог знает,— иронически улыбаясь, произнесла генеральша.— Нынче такое время: все о прогрессе толкуют… К чему только служит этот прогресс, не знаю.
— Уж именно, ваше превосходительство, к чему только он служит!..
Но генеральша была не столько недовольна дерзкими речами Костина, сколько тем, что он, ни разу не явившись к ней на вечер, осмелился пойти обедать к сановнику, имевшему двух дочерей. Она боялась, чтобы чиновника, выписанного нарочно для m-lle Julie, не подцепили другие мутноводские барышни. И в тот же день Костин получил приглашение генеральши.
Предчувствие не обмануло его: тоска на генеральшином вечере была непроходимая. Здесь тоже собирался кружок избранных генеральши, переносивших ей все, что происходило в городе. От самой квартиры генеральши, просторной, меблированной весьма роскошно, хотя и без всякого комфорта, веяло скукой… Не было ни одного уютного уголка, который бы манил вас к себе и располагал к задушевному разговору. Гости явились сюда как будто бы по обязанности… и те, которые не были заняты картами, блуждали, подобно теням, или рассматривали разложенные на круглом столе посреди комнаты кипсеки… В зале стоял рояль, но за него не дозволялось садиться на вечерах, чтобы не развлечь играющих в карты. Хозяйка дома также играла, что не мешало ей, однако ж, прислушиваться ко всем разговорам, происходившим в комнате, и это было для нее тем легче, что живого, быстрого разговора не заводили. Изредка кто-нибудь рискнет сказать слово; ему ответят, да тем и кончится.
Григорий Модестович выходил на эти вечера часов в 10 или 11, хотя они начинались в 8. Как человеку, занятому важными государственными делами, ему невозможно было являться раньше… При его появлении начиналось в комнате двиганье стульев и вообще обнаруживалась какая-то суетливость. Все подымались со своих мест, даже дамы, и ожидали с сладкой, несколько подобострастной улыбкой присутствия начальника. Он вежливо и с достоинством раскланивался мужчинам, пожимал руки дамам и не упускал случая сказать каждой из них какой-нибудь комплимент, относящийся к ее красоте или туалету. Так как эти комплименты говорились всегда вполголоса, почти на ухо, то было некоторое основание предположить, что часто две-три дамы выслушивали одно и то же. Потом его превосходительство садился на мягкий диванчик и начинал шутить с m-lle Julie, которую обыкновенно находил бледной и озабоченной, и приписывал это сердечным страданиям. M-lle Жюли отнекивалась, а окружающие считали долгом осклабиться и тем заявить удовольствие, причиненное им генеральской шуткой. Замечательно, что одно и то же повторялось на каждом вечере, без малейшего изменения. Ужинать гостям не давали, потому что Прасковья Петровна как петербургская дама считала ужин чем-то провинциальным, мещанским… Но, однако ж, услыхав стороной, что обычные партнеры ее, предводитель дворянства и военный генерал, неоднократно соболезновали, что у губернатора никогда не подадут выпить, хоть до утра сиди за картами,— сделала уступку этим законным требованиям генеральских желудков, и на вечерах ее начала появляться водка с закуской в виде икры и сыра.
— Эти провинциалы,— говорила она потом одной приближенной даме,— никак не могут обойтись без водки. Надеюсь, по крайней мере, что молодежь не пьет.
Слова эти были переданы кому следует, и молодежь, несмотря на то, что крепко придерживалась рюмочки, на губернаторских вечерах только похаживала около водки, бросая на нее искоса страстные взгляды; но налить себе никогда не осмеливалась и ограничивалась только маленьким кусочком икры или сыра.
Те же из молодых людей, которые желали прослыть наиболее комильфотными и особенно угодить Прасковье Петровне, не прикасались даже ни к икре, ни к сыру. Само собой разумеется, что на вечерах Прасковьи Петровны не дозволялось курить… Впрочем, Григорий Модестович составлял исключение из общего правила и являлся иногда с благовонной гаванской сигарой, конечно испросив на то предварительное разрешение у дам. Если же какой-нибудь юноша, чересчур привыкший к табаку, чувствовал неодолимую потребность выкурить папироску, то убегал незаметно в комнату дворецкого и там исполнял желаемое. Но зато, совершив это преступление против светских приличий, во все остальное время тщательно избегал разговора с Прасковьей Петровной, имевшей весьма тонко развитое обоняние…
Костин явился на вечер, когда там уже собралось довольно много гостей. В глазах его запестрели розовые, голубые и темные платья дам; и он долго искал глазами хозяйку. Наконец она сама увидала его и подозвала к себе. Он неловко раскланялся, зацепил за стул и совершенно сконфузился. Прасковья Петровна прочла ему легонькую нотацию за то, что он до сих пор у нее не был, и представила его своей дочке, на которую выразительно взглянула исподлобья. M-lle Жюли поняла этот взгляд и крепко уцепилась за Костина… Она не пускала его от себя целый вечер. Напрасно старались m-me Хлопакова и m-me Зориг заманить его куда-нибудь к стороне, чтобы разговориться с ним; m-lle Жюли была тут как тут. О чем только она не расспрашивала свою бедную жертву — и о театрах, и о музыке, и о танцах, и о маскарадах… Но — увы! — бедный молодой человек так немного мог ей сообщить интересного обо всех этих заманчивых предметах! Он вел в Петербурге такую однообразную, труженическую жизнь… Как ни любил он оперу, но должен был посещать ее очень редко, по недостатку средств. И если б могла только вообразить Жюли, откуда тот, кого она старалась теперь заманить в свои сети, слушал эту оперу… если б она увидела его там, в бытность свою в Петербурге, и если б кто-нибудь мог шепнуть ей: m-lle Жюли! — этот юноша с длинными волосами, неистово вызывающий в райке Гризи {51} и беспрестанно отирающий с лица пот — будущий предмет если не страсти вашей, то ваших исканий. О, в какое негодование пришла бы она, и еще более ее родительница… Но что делать! Те, на кого мы бросаем высокомерные взгляды в Санктпетербурге, делаются в провинции нашими хорошими знакомыми, хотя потом снова перестают быть ими, явившись в Санктпетербург. Так уж, видно, на свете устроено!
Но и здесь не повезло бедному Костину, и здесь суждено ему было вступить в горячее прение с мутноводским обществом. Он увидел на рабочем столике m-lle Жюли раскрытую книгу и полюбопытствовал взглянуть не ее заглавие.
— Это роман Фредерики Бремер {52},— сказала m-lle Жюли.— Как вы находите эту сочинительницу?
— Я прочел один только роман ее «Соседи»; это такое фальшивое, нелепое создание, что я дал себе зарок больше не читать Фредерики Бремер.
— А она очень интересно пишет,— заметила нерешительно m-lle Жюли.
— Я не знаю того романа,— поспешила ей на выручку маменька, не покидая карт,— о котором вы говорите; но все, что я читала Фредерики Бремер, прекрасно… и главное — в высшей степени нравственно.
— Но ведь это пошленькая, узкая мораль, какую мы находим в прописях,— возразил Костин,— и которая говорит: будь добродетелен, будь доволен малым, умеряй себя…
— У кого же, по-вашему, лучше нравственность,— продолжала генеральша,— не у Жорж Занда ли?..
Тут Костин, принадлежавший к горячим поклонникам первых произведений автора «Жака» и с восторгом встречавший их, начал с запальчивостью доказывать, что Жорж Занда несправедливо называют безнравственною, что ей навязывают идеи, которых она никогда и не думала проповедовать, и что если бы даже она иногда увлекалась, как и все увлекаются, то ей можно простить это, вспомнив ее жаркое, энергическое заступничество за слабых, страдающих, угнетенных; за попранные права женщин и проч…
Справедливость требует сказать, что Костин в своем панегирике Жоржу Занду, коснувшись вопроса о браке, высказал несколько таких вещей, которые не принято высказывать при барышнях, хотя бы они, подобно m-me Жюли, достигли двадцатипятилетнего возраста.
Прасковья Петровна, исполненная негодования, сделала ремиз… Хотя Жюли не могла видеть лица ее, так как она сидела к разговаривавшим спиной, но заметила, что у нее тряслась голова, что было верным признаком гнева,— и совершенно упала духом. Она знала, что ей же придется быть виноватой и отвечать за чужой проступок. Маменька постоянно изливала на нее свое негодование, кем бы оно ни было возбуждено. Одна m-me Хлопакова, по простоте душевной не предчувствовавшая грозы и в продолжении всей речи Костина томно и нежно посматривавшая на него, воскликнула:
— Ах, Жорж Занд… прелесть! Я ее обожаю.
M-me Зориг тоже была восхищена всем, что говорил Костин, хотя мало поняла смысл его слов… Она только слышала, что Жорж Занд восстает против злоупотреблений брака, и не могла поэтому не симпатизировать знаменитой писательнице, имея мужа, который, как неслись слухи, поколачивал иногда свою дражайшую половину… Но всего более ей нравились рост и наружность Костина.
Появление Григория Модестовича с его неотразимою любезностью отвлекло внимание дам и всей публики от неосторожного юноши.
Суждения Костина и неумение его приноравливаться к обществу, с которым он имел дело, сильно начинали вредить ему. Прасковья Петровна даже просила Григория Модестовича намылить своему чиновнику голову и запретить ему выражаться так резко, что и было исполнено губернатором, хотя не совсем удачно. Костин, озадаченный его величавым и туманным приступом к головомойке, слушал сначала молча и внимательно; но потом, когда речь коснулась дорогих убеждений молодого человека, он стал возражать, и так загонял несчастного Григория Модестовича, что тот решительно не находил, что отвечать, и, раскрасневшись, как рак, отпустил его, сказав весьма жалобным тоном: «Вы на меня не сердитесь, молодой человек; я желаю вам искренно добра… Вы увлекаетесь… вы… я знаю… вы образованны, умны и основательно поймете меня… Оцените мое расположение… Ступайте с богом». Почтенный сановник совсем запутался в своем красноречии и был радехонек, что Костин наконец убрался.
Кроме этой распеканки, следствием неосторожности Костина было и то еще, что ему, как свободомыслящему человеку и, следовательно, принадлежащему к беспокойным и недовольным, не хотели давать никакого серьезного поручения; и занятия его ограничивались составлением каких-то ничтожных докладов под руководством правителя канцелярии. Хотя и представлялись раза два следственные дела, но правитель каждый раз настаивал, чтобы производство их возложить на других чиновников. Он боялся, что Костин станет рассуждать и поведет следствие не так, как нужно… то есть не так, как требуют того интересы Василия Кузьмича.
Такое положение было крайне неприятно для Костина, приехавшего в Мутноводск с намерением действительно служить, то есть делать дело, а не числиться да являться на губернских вечерах. Всюду встречал он какие-то кислые мины; все сторонились от него, жались и оглядывались, когда он заговаривал с ними, как будто боясь, чтобы высшее начальство не заподозрило их в дружеских отношениях с беспокойным человеком, бог знает что проповедующим и не уважающим мнения старцев, убеленных сединою и умудренных опытом. Попадались в Мутноводске и такие господа, которых можно было считать барометрами, показывающими степень расположения или гнева начальнического к каждому служащему лицу… Если подобный господин заискивал вас, жал вам руку, осыпал вас при встрече всякого рода любезностями, то это было верным признаком, что начальство благоволит к вам. Если же, напротив, он отворачивался от вас и сухо отвечал на вопросы ваши,— значило, что начальство недовольно вами. И какое-то собачье чутье было у этих господ! Еще никто не знал об отношениях к вам начальства, а они уже пронюхивали эти отношения… Прислушиваться, выпытывать, приглядываться к выражению начальнической физиономии, уловлять по ней игру теней и света составляло их специальность, которой они предавались с любовью, со страстью, с увлечением всем существом своим… Они никогда не боялись смены властей, уверенные в своем искусстве жить, исполненные благородного сознания своих сил… Вот начальнику изменило счастье, и его отзывают: эти господа отворачиваются от него первые, они даже готовы сделать ему оскорбление, если представится случай. Снисходительность и сожаление, пробуждающиеся в каждом порядочном человеке при падении власти, если даже он имел причину быть ей недоволен, когда она была могущественна — незнакомы для таких личностей… Является другой начальник, и посмотрите: они уже пресмыкаются перед ним, рассыпаются мелким бесом,— их спины гнутся, уста улыбаются… И что всего страннее, они продолжают пользоваться расположением — не только новой власти, которая всегда, к несчастью, несколько доступна лести, да и не имела времени еще хорошенько их разгадать, но и всех членов общества, видящих их насквозь…
Костину сделалось так скучно, так противно смотреть на весь этот театр марионеток,— коверкающихся, скучающих, вертящихся колесом и кувыркающихся по воле антрепренеров, дергающих за кулисами ниточки,— что он опять засел дома и принялся за книги.
Однажды вечером он зашел к почтмейстеру, страдавшему какой-то хронической болезнью и потому никуда почти не выезжавшему. Костин время от времени навещал больного и одинокого старика и давал ему читать книги. Почтмейстер был человек честный, хотя воспитанный в старых понятиях и мало образованный. Он отличался от прочих мутноводских старцев тем, что не смотрел на молодое поколение враждебно и не порицал нововведений. Он всегда радовался приходу Костина и тем более привязался к нему, что это был единственный из молодых людей, не скучавший в его обществе.
— А, Виктор Иваныч, милости просим,— обратился к входившему гостю почтмейстер.— Вот доброе дело сделали, что пришли к старику поскучать; а вам же, кстати, кое-какие журналы присланы. Один-то я, с вашего позволения, распечатал и читаю.
— Сделайте милость, Трофим Степаныч. У меня есть пока что читать… Ну, что нового пишут?
— Да вот об откупах статейка… Говорят, что откупа больше одного четырехлетия существовать не будет. Дай-то бог, дай-то бог… Пора, пора этому злу конец положить… Помоги господь нашему правительству. Уж как народ-то бедный за это его благословит. И врут те, которые говорят, что когда вино и дешевле, и лучше будет, так наш народ еще больше пьянствовать будет. Не знают они и не любят русского мужика… Вот я около него довольно на своем веку потерся, и имениями управлял, и исправником был… Эх! кабы не старость моя да не болезнь! А знаете, Виктор Иваныч, имей я литературный слог, я бы об этом предмете мог статеечку тиснуть… Иногда просто так руки и зудят, как прочтешь какие-нибудь этакие лжеумствования. Да не имею слога…
— Что ж, напишите, Трофим Степаныч, слог-то вместе поправим. Тут ведь не в слоге дело…
— Ну да… есть, я думаю, вам время чужое маранье исправлять… Чай, и без того работы много; вам, я слышал, думу ревизовать поручили…
— Это дело я кончил. Нет, добрейший Трофим Степаныч, мне, напротив, никакой работы не дают.
— Что так! Али уж все так устроено, что и делать нечего? Губерния-то не маленькая, кажись… Я сколько дел знаю, которые бог весть с которых пор вперед не подвигаются, и все оттого, что никому приняться за них путем не хочется. Вот и застряли; за справками, мол, вся остановка…
— Не по́ сердцу я начальству здешнему, Трофим Степаныч: серьезного ничего не поручают. Неспособным, что ли, считают или другие причины какие есть, только это так. Я часто себя спрашиваю: неужели вся моя деятельность здесь должна ограничиться разглагольствованиями о вреде взяточничества или тому подобных вещах, о которых бы давно пора перестать спорить?
— Эх, Виктор Иваныч,— молоды вы, батюшка мой, горячи больно. Вот это разглагольствование-то всему причиной и есть… Слышал я, как намедни у председателя казенной палаты директору гимназии да прокурору конфект поднесли… Переуверили вы их, что ли? Нет, уж от этих людей ждать нечего!.. Надо подождать, пока просвещение разольется да новых людей подготовит побольше… А вот они вам при случае и напакостят…
— Все это правда, Трофим Степаныч, да что же мне делать? Нельзя же равнодушно слушать, когда такие вещи проповедуют… Поневоле из себя выйдешь. Надо рыбью кровь иметь. Понимаю, что ребячество — горячиться с таким народом; да не совладаешь с собой… так и подмывает тебя вмешаться в разговор.
— Нужно себя обуздать маленечко. Как быть-то… свет на хитрости держится. Потакать, конечно, не следует; а махнуть рукой, да свое дело делать…
— А вы думаете, что если бы я махнул рукой, это бы к чему-нибудь повело?..
— И очень бы повело.
— Ну, дали бы мне дело, в надежде, что я поведу его, как им хочется… а потом увидали бы, что они во мне ошиблись, и уж в другой раз бы мне не дали.
— Зато хоть раз бы да что-нибудь сделали, а теперь и этого не удастся… А может быть, дельце такое попалось, что и осчастливить могли иного… слабого защитить… Эх, Виктор Иваныч! Да если и раз-то в жизни господь бог сподобит какое ни на есть добро ближнему оказать, так за это нужно быть благодарным — вот что-с… Вы человек хороший, доброжелательный, стало быть, вы должны это в рассуждение взять.
— Оно так, Трофим Степаныч, да хитрить-то я не мастер. Что же мне делать с собой!..
— Вот то-то и беда. Вам бы все хотелось, чтобы рукой достать можно было. Спросили бы вы меня, с какими я зверями дело имел, да с божьей помощью одолевал и их… Бывало, раз ничего не сделаешь, другой раз ничего; и горько, да как быть… ну, а на третий-то раз и сделают… Нет, напролом-то идти — ничего не возьмешь: где волчий рот, а где лисий хвост… Уж кто себя добрым делам обрек да цель себе какую в виду поставил, так уж и держись ее… Коли нельзя к ней большой дорогой подойти, обойди проселками — оно, может, не так скоро, да споро выйдет.
— Вы считаете, стало быть, всякие средства позволительными, лишь бы достичь цели?
— Ну, нет, зачем всякие… Тот, кто в виду добро имеет, на подлости пускаться не может… Пожалуй, иной, чтобы в люди выйти, готов всякого, кто ему помешает, в овраг столкнуть и ни перед каким мерзким делом не остановится… Дай, говорит, власти достигну — там буду добро делать. Так этакому человеку разве можно верить? Врет он, самому себе он только добра желает. Уж кто половину жизни зло творил, тот и на другой половине, коли представится случай, сделает… Конечно, мы видим, что и святые многие великими грешниками сначала были, а потом покаялись и к богу обратились… Да уж зато их наша суета и не привлекала: они в пустыню куда-нибудь удалялись… или мученичество претерпевали… А подите-ка, эти люди готовы ли за правду гонения претерпевать? Небось они только хлопочут, как бы на месте своем усидеть… Нет, Виктор Иваныч! Я не говорю вам: идите на низкие дела, чтобы иметь потом силу на добрые… Нет!.. А что можно иногда свои страсти в жертву принесть — это так… особенно от разговора бесполезного удержаться…
— Попробую не горячиться, Трофим Степаныч.
— Попробуйте-ка, да… Откровенность хорошая вещь — бесспорно. Кто против этого? да не в таком мы свете живем! Ничего еще, если мы откровенностью-то себе только вред причиним; а как и другим тоже?.. Положим, вы человек правдивый — лжи не терпите; да ведь, если бы такой случай вышел, что вы ложью многих, по вашему убеждению, людей спасти можете,— разве вы и бухнете так правду? А такие случаи выходят. В мире так все перепутано, что прямо и действовать невозможно… Спаситель один прямо действовал, да зато он бог был.
Долго еще учил практический Трофим Степанович пылкого юношу осторожности и благоразумию; и хотя Костин не во всем соглашался с ним, однако ж решился попробовать сойтись с мутноводским обществом, призвав на помощь всю толерантность {53}, какая была у него в запасе. К этой-то поре и относится его перемирие с окружающей средой, о котором мы говорили в начале главы. Сперва он только иронически улыбался, слушая повествования мутноводцев о разных проделках, казавшихся им необыкновенно ловкими и похвальными, но которые в сущности были довольно грязны; потом начинал привыкать к этим рассказам и с каждым днем становился равнодушнее ко всему происходившему перед его глазами. Мутноводское общество как бы в благодарность за это тоже сделалось к нему снисходительнее, хотя все еще подозрительно на него поглядывало и не совсем искренно пожимало ему руки. На вечера Прасковьи Петровны он являлся очень редко; но m-lle Жюли продолжала его преследовать: он то и дело получал приглашение сопровождать ее на прогулках и на катаниях. Дурное впечатление, произведенное нападками Костина на Фредерику Бремер, как видно, начинало изглаживаться из памяти генеральши, и она однажды сказала с улыбкой своему фавориту Кузьме Васильевичу:
— Кажется, наш молодой человек сделался теперь скромнее?..
— Кажется, ваше превосходительство, притих немножечко-с,— отвечал, посмеиваясь, правитель.
Вскоре после этого разговора Костина потребовали однажды утром к губернатору.
— Я хочу дать вам поручение, мой милейший,— сказал Григорий Модестович, протягивая ему по обыкновению два пальца правой руки.— Вы поедете на следствие в Турухтанский уезд. Кузьма Васильевич сообщит вам, в чем дело… Надеюсь, что вы оправдаете доверие начальства. Можете быть уверены, что я с своей стороны не оставлю ваших трудов без поощрения.
Костин отвечал, что лучшей для него наградой будет сознание, что он честно исполнил возложенное на него поручение,— и вышел. Когда он был в передней, лакей доложил ему, что его просит к себе генеральша. Костин отправился на ее половину.
— Bon jour [88], m-r Костин,— приветствовала молодого человека Прасковья Петровна.— Prenez place… je vous prie [89]. Я хотела с вами поговорить.
Костин сел.
— Я слышала,— продолжала генеральша,— что вы едете на следствие.
— Григорий Модестович только что объявил мне об этом,— отвечал Костин.
— Вы знаете, какое это дело?
— Нет еще. Мне должен объяснить правитель канцелярии.
— Ну, да. Я знаю, что это такое. Какой-то купец или мещанин подал жалобу на городничего, будто бы засадившего его несправедливо в острог; кроме того, в этой жалобе говорится о разных притеснениях, которые делает городничий всему уезду, о том, что он покровительствует ворам и прочее. Прилепили даже какое-то убийство, бог знает когда сделанное. Но я убеждена, что это все неправда.
— Почему же вы так убеждены? — спросил, слегка улыбнувшись, Костин.
— Потому,— отвечала Прасковья Петровна несколько оскорбленным тоном,— что я знаю этого городничего. Это прекрасный, преблагородный человек, у которого пропасть врагов. И наконец, разве можно давать веру какому-нибудь мещанину?
— Отчего же не давать веры? Мещанин может быть тоже честным человеком.
— Вы говорите так потому, что вы неопытны. Это всё плуты, ябедники… Я столько слышала о них от Григория Модестовича,— а надеюсь, что его нельзя обвинить в несправедливости или в пристрастии.
— Впрочем, из следствия окажется,— произнес Костин.
— Ну, да, конечно, окажется… И я уверена, что окажется именно то, что я говорю. Но я хотела все-таки попросить вас, m-r Костин, чтобы вы сделали для этого почтенного человека — я говорю о городничем — все, что от вас зависит. C’est vraiment un brave homme… [90] Очень жаль его бедного. Уж быть запутанным в грязную историю, и то неприятно. Il a une nombreuse famille… [91] Пожалуйста… Из христианского чувства вы не должны отказать мне. Я очень хорошо знаю, что много зависит от того, как взглянуть на дело.
— С этим я совершенно согласен, и вы можете быть уверены, что я не поступлю против совести.
— Я в этом не сомневаюсь; au revoir donc, merci [92], что вы зашли ко мне…
Прасковья Петровна даже протянула руку Костину, что она делала вообще весьма редко. Этой милости удостаивались только самые близкие к ней люди.
Правитель канцелярии, передавая Костину, в чем должно состоять возлагаемое на него поручение, тоже выразил очень лестное мнение о городничем и презрительно отозвался об этих негодяях, осмеливающихся жаловаться на начальство, прибавив, что их нужно раз навсегда отвадить от этого.
— А может быть, городничий действительно виноват? — заметил Костин.
Правитель проницательно посмотрел на Костина и потом, опустив глаза в лежавшее перед ним толстое дело, начал его перелистывать.
— Благополучного пути вам желаю,— сказал правитель, пожимая ему руку.— Нет, вы уж о городничем, того… не беспокойтесь… Это отличнейший человек и к исполнению своих обязанностей ревностный.
— Посмотрим.
— А его превосходительство обещали — коли вы это поручение как следует исполните — к награде вас представить. Я думаю, вы чина более желаете?.. Или крестик, а?
— Я, право, вовсе не забочусь о наградах,— отвечал сконфуженный Костин, торопясь уйти.
«Это все пахнет какими-то плутнями,— думал он, уходя домой.— И слова генеральши, и обещания награды… Видно, городничий им всем угодил. А впрочем, посмотрим».
Прибывши на место следствия, Костин вскоре удостоверился, что жалоба на городничего была вполне справедлива. При отобрании показаний обнаружилось еще много таких вещей, о которых не было упомянуто в этой жалобе и за которые городничий подлежал, по крайней мере, разжалованию в солдаты. Давно уже турухтанские жители стонали в тисках его и тайно служили молебны об избавлении от него, как от моровой язвы. Можно себе представить их радость {54}, когда они услыхали, что приехавший к ним следователь вовсе не похож на всех прежних, состоявших с городничим в самых приятных отношениях, и что, судя по тому, как он повел дела, городничему не миновать суда. Но — увы! — недолговечно было веселие турухтанцев. Городничий, должно быть, имел в Мутноводске своих агентов, поспешивших уведомить обо всем генеральшу и правителя канцелярии, у которых он стоял под непосредственным покровительством. И вот в одно прекрасное утро приехал другой следователь, которому Костин поручил предписание передать немедленно следствие… Сам же он по какой-то экстренной надобности вызывался в губернский город. Когда он полюбопытствовал узнать, за чем именно его вызвали, ему отвечали, что его превосходительство действительно имел намерение дать ему другое поручение, гораздо важнейшее, чем то, для которого он был послан в Турухтанск; но что, вследствие полученных с последней почтой бумаг из Петербурга, в этом поручении уже не оказалось надобности.
Между тем в отсутствие Костина к m-lle Жюли посватался какой-то проезжий армейский майор, которого разбирала страшная охота жениться и который в течение жизни своей сватался девять раз и всё безуспешно. Этот майор очень сошелся с правителем канцелярии и ходатайствовал у него за своего племянника, когда-то служившего прежде становым, по разным неприятностям уволенного от службы за болезнью и теперь проживающего где-то в уездном городишке без места. Майоровскому племяннику было обещано место Костина; а этому намекнули, что лучше бы ему было подать в отставку и предаться ученым занятиям, к которым у него, кажется, большая склонность…
Спустя два месяца после этого Костин снова пришел к почтмейстеру, скучный и задумчивый.
— Ну вот, Трофим Степаныч, и ваша политика не вывезла,— сказал он, входя.— Что-то я теперь с собой сделаю? Служебная карьера кончена!
Почтмейстер с сожалением покачал головой.
— Плохо, Виктор Иваныч, плохо. Да неужели же только и свету в глазах, что в Мутноводске? Толкнитесь в другое место… Может быть, и получше что выпадет.
— Вы думаете, это легко?.. Нужно иметь связи, протекцию, которых у меня не бывало. Нашего брата, искателей мест, так и кишит в Петербурге. И это-то я получил случайно, благодаря одному товарищу. Пойду в учителя… Я в Петербурге давал уроки.
— Ну, что ж — и с богом! Разве это поприще менее полезно?
— Не то,— пользу на всяком поприще можно принести, была бы охота да уменье. Первое-то у меня есть; а вот второго-то хватит ли?
— Полноте. Вы человек умный, с понятиями… Нужно только в этой должности терпение иметь. Знаете, дитя неразумно: ему нужно все разжевать да в рот положить. Да постойте-ка… недели две тому Налимов, Яков Иваныч, судья здешний, искал учителя для какого-то знакомого помещика. Только каков этот помещик, не могу вас заверить. А хотите, я справлюсь; может, он еще не нашел.
— Вы меня много обяжете.
— А как условия?
— Да как хотите. Я не знаю: что дадут.
— Ну, хорошо… Завтра же дам вам знать.
— А ведь турухтановский городничий опять, шельма, вывернулся,— сказал почтмейстер, стоя на пороге передней, между тем как Костин надевал пальто.— А уж как было бедные жители-то обрадовались, что его спровадят…
Дня через два почтмейстер уведомил Костина, что учителя еще не нашли и что если он желает занять это место за тысячу рублей ассигнациями, то ему в скором времени будут высланы из деревни лошади. Деревня помещика Еремеева, куда должен был отправиться молодой человек, была в ста двадцати верстах от города Мутноводска. Костин согласился.
III
Семейство Никанора Андреича Еремеева сидело за вечерним чаем, когда к крыльцу господского дома подкатилась небольшая повозка, или лучше телега с верхом, запряженная парой тощих крестьянских лошаденок.
— Учитель! — крикнул, вставая с своего места и бросаясь к окну, старший сын помещика Ванечка, ходивший, несмотря на свои шестнадцать лет и вовсе не отроческую толщину, в курточке и отложном воротничке.
Младший сын, Петя, мальчик лет девяти, только поглядел боязливо на дверь, в которую должен был войти приехавший, и не издал никакого восклицания. Девочка Соня — самая маленькая из всех, сидевшая за столом на высоком стуле, заболтала ножонками и также прокартавила: уцытель! Жена Никанора Андреича, бледная и худощавая молодая женщина (он был женат в другой раз) и сестра его — старая дева, с оливковым цветом лица и подвязанной щекой — не сказали ни слова: но и их взгляды обратились по направлению к передней. Самого Никанора Андреича не было в комнате, и его кресло за чайным столом оставалось пустым; он находился на заднем дворе, где у него производились какие-то постройки, и толковал с плотниками.
Костин, сбросив с себя пальто, вошел в залу, где пили чай, и молча раскланялся всей компании.
— Очень рады,— слабым голосом произнесла хозяйка.— Не угодно ли чаю с дороги?
И как будто она сказала или сделала какую-нибудь непростительную глупость, покраснела, смешалась и потупила глаза в полоскательную чашку.
— Как, чай, не хотят… дорога не ближняя,— вымолвила старая дева, ни к кому не обращаясь особенно.
Ванечка бросился подставлять учителю стул.
— Не беспокойтесь,— пробормотал в свою очередь сконфуженный Костин, пожимая Ванечке пухлую красную руку, на которой каждый палец глядел каким-то Собакевичем.
И хозяева и приезжий несколько минут помолчали.
— Дорогу-то, я думаю, ужасно как размяло дождями,— сказал наконец Ванечка, стоявший за стулом учителя.
— Да, дорога плоха! — отвечал Костин, принимая от хозяйки чашку.
— Теперь за грибами идти можно,— заметил снова Ванечка.
— Позвольте узнать,— спросил Костин, обращаясь к хозяйке,— кто здесь мои будущие ученики?
— Вот Ванечка и Петя тоже,— отвечала хозяйка, указывая на обоих движением головы.— Ванечка в юнкера готовится, а Петю в корпус хотят отдать.
— Мне говорили, что младший сын ваш поступит в гимназию?
— Да, прежде так думали… Я просила Никанора Андреича, чтобы его по штатской службе пустить; он сначала хотел, а потом передумал.
— Братец желают, чтобы он инженером был,— вмешалась старая дева, которую называли Дарья Андреевна, неся в рот ложечку с медом: она по средам и пятницам постилась.
— Мне кажется,— возразил Костин,— что нельзя назначать мальчика заранее к тому или другому поприщу. Нужно сообразоваться с его наклонностями. Они впоследствии сами скажутся, а до тех пор полезнее для него общее, не специальное образование.
Костину хотелось выведать образ мыслей на этот счет хозяйки, которая понравилась ему с первого взгляда. Кроткое, доброе лицо ее и большие синие глаза, в которых сквозила какая-то затаенная скорбь, действительно способны были внушить невольную симпатию к Анне Михайловне.
Но она промолчала на возражение Костина и продолжала перетирать чашки. Зато старая дева не замедлила отозваться.
— Как это можно, помилуйте, на наклонности детские обращать внимание! Да мало ли у них к чему наклонности могут явиться. Они глупы. Разве им можно собственным рассудком жить? Они должны воле родительской повиноваться. На что родители их обрекут, тем они и должны быть. Родители уж, верно, зла своим детям не пожелают…
Костин, по своему обыкновению, хотел было ответить и на такую мудреную речь горячими юношескими опровержениями, да к счастью воздержался; но с этой же минуты почувствовал сильную антипатию к Дарье Андреевне как к существу черствому и глупому.
Между тем вошел Никанор Андреич в грязном, замасленном халате, когда-то желто-золотистого цвета, с длинным черешневым чубуком в руке. Как маленький Петя своим болезненным видом и робким взглядом напоминал мать, так физиономия Ванечки представляла живое подобие родительской физиономии, только несколькими десятками лет моложе. На красном и одутловатом лице господина Еремеева можно было ясно прочесть, что он не любил умерять страстей своих. Узкий лоб его, до половины заросший лесом черных с проседью и перпендикулярно стоявших волос, не обнаруживал признаков особенного ума. Отвисшая нижняя губа, черные глаза навыкате и большие усы придавали ему суровый вид.
— А, господин учитель! — сказал Никанор Андреич, входя.— Мое почтение. Давно вас ждали.
Костин встал со своего стула и, держа в одной руке недопитую чашку, раскланялся с хозяином.
— Вы ведь, кажется, в Мутноводске проживали?
— В Мутноводске.
— На службе состояли?
Костин назвал должность, которую занимал.
— И из этакой должности в учителя пошли? Знать, не поладили с правителем?
— Да, не поладил.
Костину начинали становиться скучны эти допросы.
— Такс. Правитель там дока. Знаю я его. Продувная бестия… Он по-настоящему и губернией-то управляет; а губернатор ничего не значит… Это тряпка. Да вот еще теща его… У! даром что баба, а во все входит. Вот этого уж я, признаюсь, не понимаю,— чтоб бабе позволить себе на шею сесть… Ну, уж правитель другое дело… в законах, значит, собаку съел, чернильная строка. А баба? Скажите на милость, что баба понимать может? Ее дело за провизией смотреть, чтобы выходило не больше, чем следует — вот ее дело… а в свободное время подушки гарусом вышивать. Уж это нужно черт знает каким ротозеем быть, чтобы бабы слушаться, да еще и бабы-то старой.
У Никанора Андреича, пока он ораторствовал таким образом, потухла трубка. Подув несколько раз безуспешно в чубук, он обернулся назад, чтобы зажечь бумажку, но не найдя приготовленной, крикнул, как в пустую бочку:
— Прошка!
Перед ним, как из земли, вырос казачок с босыми, грязными ногами, с красными патронами по обеим сторонам груди и обстриженный в кружок.
— Опять, каналья, бумажек не заготовил!.. а? А ты чего смотришь? — обратился Никанор Андреич к старшему сыну.— Сказано тебе, чтоб ты смотрел за Прошкой… Ведь он в твоем распоряжении состоит? Тебе уже шестнадцать лет, слава богу, не все барчонком быть… Вы курить не хотите ли? — спросил Костина, переменив тон, Никанор Андреич.
— Вот папироски-с… дюбек крепкий; я сам делаю,— старался подслужиться учителю Ванечка и вынул из кармана засаленный porte-sigares, набитый самодельными папиросами, тоже носившими на себе следы грязных рук.
Костин, поблагодарив, отказался.
В это время хозяйка встала из-за стола и вышла в другую комнату. Никанор Андреич зашагал по комнате, потом остановился перед Костиным и продолжал:
— Да, батюшка! плохие времена переживаем… От своих душ да нанимать на всякую работу народ придется. Теперь бабе за то, что полы вымоет, и то должен буду платить… Какой же я после этого господин в своем имении!..
Костин, не желая далее слушать разглагольствования хозяина, под предлогом головной боли попросил указать ему комнату, где бы он мог отдохнуть от дороги.
Никанор Андреич сам повел его в маленький флигель, весь спрятанный в густую и темную зелень сада, прилегавшего к заднему фасу господского дома.
— Вот ваше жилище,— сказал Никанор Андреич, отворяя дверь во флигель и вводя Костина в небольшую, но чистенькую комнату, где стояли кровать, письменный стол и несколько стульев, обтянутых черной волосяной материей.— Ложитесь; еще до ужина успеете выспаться. Мы ужинаем в десять часов.
Костин отвечал, что никогда не ужинает.
— Не ужинаете? Значит, по-петербургскому привыкли… Ну, как хотите. Спокойной ночи.
Он было ушел, но, сделав шагов с десяток, опять воротился.
— Я и забыл вам сказать. Я приставил ходить за вами Степку… Можете им распоряжаться, как угодно. Вы взыскивайте с него хорошенько… не давайте спуску, а то сейчас заленится. Уж это такой народ!
Костин, утомленный, повалился на кровать и, закинув обе руки над головой, начал было приводить в порядок в уме своем впечатления этого дня, как вошел приставленный к нему помещиком человек Степан.
— Раздеваться не изволите еще? — спросил он Костина.
— Нет, братец, спасибо; я сам разденусь,— отвечал Костин, поворотив голову в ту сторону, где стоял Степан, и стараясь рассмотреть его лицо. Во флигеле от ветвей, нависших над окнами, становилось уже темно.
— Больше ничего не прикажете-с? — опять спросил Степан.
— Потрудись только приготовить графин с водой да принести сюда спичек.
Степан вышел. Ему можно было дать на вид лет сорок. Смуглое лицо его, честное и серьезное, не носило на себе отпечатка подобострастия, которым с детства обыкновенно пропитываются дворовые. Но глаза глядели как-то недоверчиво. Спустя несколько минут он принес все, что требовал учитель, и уже хотел совсем удалиться, как Костину пришло на мысль порасспросить немножко Степана о житье-бытье в Еремеевке.
— Подожди-ка немного, друг мой,— сказал он ему, вставая с кровати,— если у тебя нет никакого спешного дела.
— Никакого нет, сударь,— отвечал Степан.— Я теперича к вашей милости камендирином приставлен; если изволите приказать, я и спать здесь могу лечь. Может, на первый-то раз вам здесь боязно.
— Нет! Что ты, чего же бояться… Ты где себе хочешь, там и ложись; а я вот только хотел с тобой немножко потолковать… Садись-ка, Степан…
— Зачем же, я постою-с…
— Нет, садись, сделай одолжение. Я ведь не из важных господ и не люблю, чтобы передо мной стояли навытяжку… Садись.
Степан сел. Костин зажег свечу и сам поместился против него на кровати.
— Что, много у вашего барина душ?
— Душ четыреста или около того будет, сударь.
— На барщине или на оброке?
— При старом барине, говорят, оброчными были, а этот на барщину посадил.
— А ты отца-то его не помнишь?
— Я ведь не ихний, сударь… Я за барыней в приданое отдан.
— А-а! Барыня ваша, кажется, добрая должна быть.
— Ангел во плоти, сударь. Эдакой барыни поискать надобно. Теперича вы каждого мужика о ней спросите,— кроме как хорошего никто ничего не скажет. Чуть где прослышит, что больной есть,— так тотчас пошлет или лекарства какого… а иной раз и сама потихонечку от барина навестит. Воли-то ей горемычной нет… за ней глаз да глаз имеют…
— Кто же это? значит, не один барин?
— И, какой один! Много тут их, соглядатаев-то.
— Гм! Ну, барин-то уж вовсе на нее не похож, кажется.
Степан молчал.
— Ты что боишься. Степан? Я тебя не выдам; будь спокоен.
Степан поднял глаза, которые до сих пор держал опущенными, и проницательно взглянул на Костина; потом тотчас же опять потупился.
— Что говорить, сударь… Сами изволите увидать.
— Оно так; но все же мне хотелось бы заранее знать… Признаться, он крепко мне не понравился. Должно быть, крестьянам не больно хорошо житье у него.
— Какое хорошо, сударь! Мужичку-то всего два дня на свои нуждишки дают, да и то еще, почитай, что каждую минуту для барского дела отрывают: как управляющему вздумается взять, так и есть.
— Так тут еще и управляющий есть? Видно, сам-то в хозяйстве мало смыслит.
— А ничего не смыслит…
— А управляющий плут?
— Да еще какой плут-то! Мужичков-то совсем разорил. У кого было две лошаденки, теперь ни одной не осталось. А пожаловаться не смей.
— Что ж он, крепостной или наемный?
— Крепостной-с.
— Как же он так умел к барину в душу влезть?
— Знаем мы, сударь, чем он и в силу вошел, чем и теперича держится; уж давно бы ему несдобровать, кабы поддержки у него на барском-то дворе не было.
— Какая же это поддержка, Степан? Да говори, не бойся.
— Так уж вы мне, сударь,— с позволения сказать,— по сердцу пришлись; с первого, то есть взгляда, я к вам пристрастие почувствовал и разговор ваш давеча с барином тоже слышал; и тут же подумал: этот, мол, на нашего не похож. Отчего это, сударь, вот вы мне скажите, доброму человеку господь богатство не посылает?.. Или уж в царствии божьем добрым-то сторицею воздастся? Сколько я на своем веку добрых господ ни видывал, все они достатка своего не имели. Вот хоть бы и вы теперича,— вы на меня не извольте сердиться, что я так рассуждаю: я человек темный, конечно, и мне про эвти дела, может быть, вовсе судить не приходится, а ведь, чай, имей вы достаток, тоже бы по чужим людям не пошли?
— Учить детей не пустое дело, Степан; есть люди и с достатком, которые на это себя определяют.
— Оно так-то так, сударь, что против этого говорить? А ведь все-таки, будь у вас, например, крестьяне, вы бы ими, чай, тоже сами управлять стали.
— Разумеется; только ты напрасно думаешь, что все помещики на вашего похожи. Есть и добрые, которые о мужичках своих заботятся.
— Так-с, конечно, есть и такие…
— Так какая же у управляющего на барском дворе поддержка?
Степан оглянулся на дверь и, нагнувшись к Костину, начал шепотом:
— Дочка его тут, Матреной зовут, проживает. Она Никанора-то Андреича к себе ровно приколдовала, всем домом вертит, как хочет.
— Неужели всем домом; ну а барыня знает это?
— Как не знать! Да сколько она от этой Матрешки грубостей приняла… раз даже и барину на нее жаловалась.
— Ну, что же он?
— Что? Ничего. Матрешку же правой сделал. Ты, говорит барин-то, только попусту кляузы строишь. Матрена резонно тебе говорит; ты ее слушать должна, потому что она в хозяйстве больше тебя смыслит; а тебя, говорит, твой папенька только хныкать да книжки читать научил.
— Скотина! — воскликнул Костин.
— Барыня-то после этого целую неделю больна была; так он хоть бы во время болезни-то к ней разик заглянул проведать — что, мол, с ней делается… и того нет. Матрешка не допустила: что, дескать, ее баловать, барыню-то.
— И давно она, бедная, за этаким мужем мается?
— Десятый год пошел. Да сначала-то — нечего греха на душу брать, доложу вам по справедливости — он не в пример лучше с ней обходился. А уж потом, как имение все ее протранжирил, в карты проиграл в клубе да на цыганах промотал,— и пошел, и пошел. Редкий день обходился, чтобы она, сердечная, с незаплаканными глазами к столу вышла. Ну, а как уж в деревню жить переехали да Матрешка эта скулатая подвернулась, тут уж просто житья барыне нашей не стало. Да вот еще ведьму-то старую видели, Улиту-то Роговну?
— Это — сестру-то его?
— Ну, да. Эта еще почище Матрешки будет и заодно с ней против Анны Михайловны действует. Она у брата-то из милости проживает; свой капитал весь в какого-то любовника просадила. Он, слышите, жениться хотел на ней, да уехал. Так вот она теперь к Матрене-то и подлаживается. Боится, что не ровен час, мол, пожалуй, братец-то за что-нибудь осерчает, да и со двора сгонит. Ну, а Матрена-то заступница верная, смерть любит, коли кто к ней с поклоном идет.
— Однако ж плохое житье бедной Анне Михайловне; кажется, и пасынок-то ее тоже в папеньку пойдет.
— И! Еще хуже будет. Одначе, я думаю, сударь, вам почивать пора ложиться, вас, чай, дорогой-то растрясло. Спокойной ночи, приятного сна.
— Прощай, Степан, спасибо тебе. Да вот возьми-ко, брат, себе.
Костин подал ему целковый.
— Зачем это, сударь? — сказал Степан.— Нет, благодарю покорно. Когда заслужу — ну, тогда так, а теперь нет, не возьму.
Несмотря на все настояния Костина, Степан таки не взял денег и, простившись с ним еще раз, ушел к себе.
«Вот что значит молодость-то,— думал Степан по выходе от Костина,— у самого за душой-то жиденько, а другим жертвует. Простой барин, видно, дай ему бог здоровья».
А Костин долго еще не мог заснуть под влиянием всего слышанного от Степана.
«Ну,— говорил он себе,— счастливая моя звезда — нечего сказать! В какой вертеп грязи, разврата она опять привела меня».
Он подумал было даже, не уехать ли ему на другой же день из Еремеевки, но кроткий, печальный образ Анны Михайловны неотразимо влек его к себе. Ему хотелось покороче узнать эту бедную женщину.
Скоро Костину удалось и самому удостовериться во всем, что передал ему Степан. Хотя в присутствии его все были по видимому вежливы с Анной Михайловной, но по временам вырывались у окружающих ее какие-то темные намеки, которые посторонним лицом, конечно, могли быть не замечены или пропущены без внимания, но для Костина, уже предварительно посвященного в тайны этого дома, подобные намеки не представляли ничего загадочного. Он видел, как язвили и кололи несчастную женщину, вся вина которой состояла в том, что она была мачеха Ванечки. Безответная, запуганная, забитая, могла ли она кому-нибудь причинить вред, если бы даже имела к тому охоту? Но по понятиям родственников ее мужа и близких к нему, мачеха должна непременно питать враждебные чувства к своему пасынку. И вот в каждом ненамеренном слове, в каждом легком замечании, клонившемся часто к пользе самого пасынка, видели ненависть, злобу, желание восстановить против него отца.
Анна Михайловна была развитее всех этих личностей, которыми судьба окружила ее, она была деликатнее их; но деликатности этой никто не ценил и не хотел даже замечать, а, напротив, за нее платили самыми грубыми выходками, вызывавшими яркий румянец негодования на щеки бедной женщины. Анна Михайловна была очень худа и постоянно кашляла; но Костин ни разу не видел в доме Еремеева доктора, и когда однажды выразил на этот счет свое удивление при Никаноре Андреиче, он отвечал весьма равнодушно:
— Это у ней давно. Доктора только пачкают; что от них прибыли? Да и денег на них не напасешься.
Такая уж, видно, судьба была Костина, что и на новом месте, как в Мутноводске, он в самое короткое время вооружил против себя самых могущественных и влиятельных лиц. Но на этот раз не резкие суждения и отзывы были тому причиной, а поступки, не согласовавшиеся с принятым в Еремеевке порядком. Правда, что первое впечатление, сделанное им на самого помещика, уже не клонилось к выгоде учителя. Он осмелился сказать слово в защиту эманципации. А ничем нельзя было более прогневить Никанора Андреича. Но это впечатление могло бы впоследствии изгладиться, если бы Костин умел попасть в тон еремеевского общества и постарался заслужить его расположение. К несчастью для него, он действовал совершенно наоборот.
Прежде всего он подвергся опале Матрены, или Матрены Карповны, как называла ее вся прислуга,— бариновой фаворитки, у которой в распоряжении находились ключи от погребов, кладовых и амбаров, а также и девичья, состоявшая из многочисленных горничных, по большей части босоногих. Матрена Карповна, по-видимому, вовсе не расположена была сначала враждовать с учителем, а, напротив — желала состоять с ним в самых мирных, приятельских отношениях, а может быть, даже и более. Она всячески ему услуживала, заискивала перед ним, угождала всеми зависевшими от нее средствами… даже не раз сама носила ему во флигель кофе, которое, как она узнала, учитель очень любил. При встрече с ним она как-то особенно приятно улыбалась и поводила глазами. Проходя мимо него, она старалась коснуться своим платьем его одежды; часто, увидав его где-нибудь одного, сама начинала с ним разговор, изъявляла непритворное сожаление, что ему должно быть очень скучно на чужой стороне, с незнакомыми людьми. Какой прекрасный случай представлялся Костину — воспользоваться этой предупредительностью и овладеть личностью Матрены Карповны, овладеть в то же время браздами правления в Еремеевке! Все бы делалось по его желанию… Он бы даже мог принести известную пользу…
Но как человек мало практический, которому советы доброго старика-почтмейстера решительно не пошли впрок, он очень сухо отвечал на все расспросы Матрены Карповны, очень холоден остался к ее искательству и хотя никогда не позволил себе оскорбить ее никаким жестом или просто невежливым словом, но ничем и не поощрял ее к продолжению дружественных отношений.
Матрена Карповна сначала приписывала неразговорчивость учителя молодости и застенчивости, но потом, когда увидела, что он общество Анны Михайловны и разговор с ней видимо предпочитает обществу и разговору Матрены Карповны, что он не делает шагу, чтобы заслужить внимания последней, как будто не зная, какую важную роль играет она в доме; когда заметила, что учитель даже питает к ней что-то вроде невольного отвращения, которое он напрасно старается скрыть,— чувство оскорбленной гордости заговорило в Матрене Карповне. Она была очень недурна собой; ее круглое, чисто русское лицо, дышавшее свежестью и здоровьем, ее черные огненные глаза, ее стан, несколько полный, но еще не лишившийся талии, наконец вздернутый носик и лукавая улыбка, сообщавшие всей ее физиономии известную пикантность, могли нравиться не одним старикам. Многие из соседских помещиков приволакивались за ней, но никого не удостаивала она своим вниманием… Даже офицеры, стоявшие по уезду, несмотря на красивые усики некоторых из них, уходили от нее с носом. Имел, правда, успех, как носились слухи, один молодой поручик по фамилии Ляжкин, да чего ему этот успех и стоил! Целые три месяца слонялся поручик в окрестностях Еремеевки; сколько одной бумаги извел на любовные записки, в которых клялся застрелиться, если жестокая Матрена Карповна отвергнет его предложение, или застрелит Никанора Андреича… Сколько помады, духов и мыла, сколько конфект и наконец башмаков, материй на платья преподнес пламенный любовник предмету своей страсти!.. А тут вдруг мальчишка, не только не подаривший ей ни одной пары башмаков, но не сказавший ей даже ни одной любезности, осмеливается сам отвергать любовь ее, на которую она всячески ему намекала!..
«Погоди ж ты у меня, золотой кавалер! — говорила она себе.— Видно, мужнюю жену прельстить хочешь!.. Я вам обоим и с кралей-то твоей дам себя знать. И что нашел в ней хорошего, прости господи,— рожа-то точно мукой обсыпана… А милый, одно слово — милый! — прибавляла Матрена Карповна, подумав.— Уж эдакого бы соколика точно полюбить не стыдно… На что был мой Вася пригож, ну а этот, кажись, еще пригожей».
Другое лицо, возненавидевшее учителя, был Ванечка, к которому Костин был очень строг и взыскателен. Тупой и ленивый Ванечка вообще не терпел ученья. Костин никак не мог заставить его приготовлять уроки и, главное — не учить их наизусть. Сначала Костин путем коротких внушений старался отучить его от разных дурных привычек, но видя, что слова решительно ничего не действуют, прибегнул к методе взысканий, состоявших в лишении непокорного разных удовольствий; но и это также не имело результатов.
Учитель пытался подействовать на самолюбие Ванечки и часто стыдил его при младшем брате, которого ставил в образец; но Ванечка исподтишка смеялся над увещаниями Костина и после класса принимался дразнить брата, называя его бабой, который поддается учителю, и даже часто угощал его пинком. Бедный мальчик терпеливо сносил оскорбления и хоть плакал подчас втихомолку, но никогда не ходил жаловаться,— да жалобы едва ли бы к чему-нибудь и повели. У Ванечки была сильная протекция… Он всегда мог рассчитывать на заступничество Матрены Карповны и союзницы ее, старой девы Дарьи Андреевны. Но всего более возмущала Костина в Ванечке — это привычка лгать, увертываться и лицемерить. Хотя бы даже его уличили в чем-нибудь дурном, он не сознавался и выдумывал самые нелепые истории. Лгать на каждом шагу и часто безо всякой нужды ему ничего не стоило… Костину никогда почти не случалось встречать такой испорченности в таком еще молодом существе.
Впоследствии он узнал, что трудно было Ванечке не испортиться. До 14 лет жил он без всякого надзора в деревне у своего дяди, родного брата его матери, который выпросил его у Никанора Андреича, когда тот вздумал во второй раз жениться. Никанор Андреич очень рад был сбыть его с рук, живя то в Петербурге, то в Москве, никогда даже не осведомлялся о сыне. Он почему-то почел нужным даже скрывать от Анны Михайловны, прося руки ее, что у него был сын. Она узнала это гораздо позже, и на все ее просьбы взять Ванечку от дяди Никанор Андреич отвечал: «Да на кой черт его брать? Ему там хорошо. Дядя — богач, может его наследником сделать».
Но Никанор Андреич ошибся в расчете. Дядя оставил свое благоприобретенное имение какому-то побочному сыну, о существовании которого и не подозревал Никанор Андреич.
Когда до него дошла эта весть, он принялся ругать своего шурина всеми ругательствами, какие у него только были в запасе; и злобу свою выместил наконец на Ванечке, которого в первый же день приезда отодрал, что называется, на обе корки, за какую-то шалость. Экзекуция эта повторялась довольно часто и впоследствии, потому что Никанор Андреич не питал к Ванечке ни малейшей привязанности. Это могло бы показаться со стороны очень странным; но дело в том, что помещик жил с первой женой своей, как кошка с собакой, и, несмотря на свой крутой нрав, не мог до самой смерти обуздать ее. Он знал, что она ему неверна, и даже подозревал, что Ванечка не его сын… Отсюда эта нелюбовь к нему Никанора Андреича. В деревне дяди Ванечка гонял голубей и играл в бабки с мальчишками; по переезде к отцу он тоже продолжал было практиковаться этим занятием, но Никанор Андреич вздумал отучить его розгами и окончательно испортил нравственность мальчика, так что когда кто-нибудь из слуг останавливал его, говоря «папенька увидит», он отвечал: «А пусть увидит… что ж будет? Выдерет только — так мне не в диковину». Анна Михайловна, которую возмущало это обращение отца с сыном, не раз пыталась за него вступиться, но Никанор Андреич не только не обращал на ее заступничество внимания, но даже говорил ей при этом грубости.
Ванечка, однако же, не чувствовал к мачехе благодарности, а, напротив, ненавидел ее и приписывал ее влиянию жесткость отца. Причиной таких отношений его к Анне Михайловне была Дарья Андреевна, употреблявшая все зависевшие от нее средства, чтобы восстановить против молодой женщины не только пасынка, но и мужа ее. За что же Дарья Андреевна ненавидела жену своего брата, не оскорбившую ее никогда ни словом, ни делом? За то, во-первых, что та была моложе и лучше ее и что она без Анны Михайловны могла бы сама стать хозяйкой в братнином доме; а отчасти и просто по причине своего желчного темперамента, более способного к ненависти, чем к любви… Со вступлением Матрены Карповны в звание и права бариновой фаворитки улучшилась судьба Ванечки… Чего не могла над Никанором Андреичем жена, к которой он давно охладел, да которую, по правде сказать, и любил-то единственно за ее приданое,— то удалось фаворитке, успевшей совершенно взять его в руки как человека крайне сластолюбивого. И вскоре между Матреной Карповной, Дарьей Андреевной и Ванечкой образовался наступательный и оборонительный союз, удаливший бедную Анну Михайловну на второй план.
Учитель особенно вооружил против себя Ванечку одним поступком. Увидев раз, что этот юноша дернул за бороду седого почтенного старика, осмелившегося ему заметить, что нехорошо швырять палкой в домашнюю птицу, Костин, весь дрожа от злобы, бросился на Ванечку и, освободив старика из рук его, так сильно оттолкнул своего ученика, что тот упал на землю.
— Вы не смеете толкаться,— завопил Ванечка, вставая и обшлагом вытирая пыль с колен.
— Я задушу тебя, негодный мальчишка! — вскричал, подходя к нему с сжатыми кулаками, Костин.— Да знаешь ли ты, что этот человек во сто раз честнее, умнее и лучше тебя!.. Что он трудом добывает себе и семье своей хлеб, тогда как ты умеешь только развратничать!
— Да что я развратничаю… Разве вы видели?
— Я все знаю!.. Становись сейчас на колени и проси у этого человека прощенья!
— Что? Перед мужиком?.. Да вы в уме ли?..
Вместо ответа Костин подошел к Ванечке и, взяв его за плечо, стал нагибать к земле. Ванечка кричал и барахтался, но Костин был сильнее его и не выпускал его из рук.
— Проси прощенья,— говорил Костин.
— Не хочу,— задыхаясь кряхтел Ванечка.
— Оставь его, кормилец,— вымолвил старик, удивленный заступничеством Костина.— Господь ему судья…
Но Костин добился, однако ж, что Ванечка пробормотал: «виноват, не буду» и тогда уж пустил его.
Ванечка скрыл этот случай от Никанора Андреича, не вполне уверенный, что отец одобрит поступок его, тем более что он сам вызвал старика на замечание своими шалостями. Но Матрена Карповна и Дарья Андреевна тотчас обо всем узнали. Ванечка сообщил им, как учитель принуждал его просить прощенья, и тут не преминул солгать: он хвастался, что убежал от Костина, сделав ему рожу и показав кукиш.
— Это уж я не знаю, что такое,— сказала Дарья Андреевна, выслушав Ванечку.— Чтобы дворянин, помещик, да просил прощенья у мужика… Это надо беспременно до братца донести.
— Вот я при случае скажу барину,— отвечала Матрена Карповна…
— Да ты бы, Матрешенька, теперь,— торопила старая дева.
— Нет, теперь зачем, барышня? Пожалуй, Никанор Андреич ему сейчас и откажет… А про что мы говорили-то с вами… позабыли?..
— Ах, да… Правда твоя, Матрешенька, погодить нужно…
— То-то же… А я — что еще сегодня слышала!
— Что, что такое?
Матрена Карповна нагнулась к уху старой девы и что-то шепнула ей, так чтобы не слыхал барчонок, находящийся тоже при этом совещанье.
— Что ты! Ах, бесстыдница! — воскликнула старая дева, качая, как маятником, со стороны на сторону головой.— Ну, уж только! Вот она, скромность-то!.. И еще, говорят, воспитанная.
Между тем Костин сближался с Анной Михайловной… Она присутствовала иногда при уроках, которые он давал Пете,— не для того, чтобы следить, добросовестно ли исполняет учитель свои обязанности, в чем она не имела повода сомневаться, но скорей, чтобы видеть, каковы способности ее ребенка и усваивает ли он то, что преподают ему. После класса она заговаривала с Костиным, стараясь узнать его взгляд на воспитание детей вообще, спрашивала его советов относительно воспитания своей девочки, которую ей хотелось бы оставить при себе, а не отдавать в учебное заведение. Но она боялась, что и этому желанию ее, подобно очень многим другим, не суждено сбыться… Никанор Андреич был полным властителем в семье и не позволил бы Анне Михайловне ничем распорядиться по своему усмотрению. И потому бедная женщина невольно задумывалась после слов учителя и грустно смотрела на своих малюток, как бы внутренно допрашивая судьбу,— какую она готовит им участь? Часто разговор переходил на книги о воспитании; Костин рассказывал содержание тех сочинений, которые ему довелось прочесть, и предлагал ей все, что было по этой части в его маленькой библиотеке. Когда книга была прочтена, они вместе судили о ней, касаясь при этом разных общественных и религиозных вопросов. Анна Михайловна, по-видимому, любила читать и многое передумывала, оставаясь сама с собой… А оставалась она часто, потому что Никанор Андреич скучал ее обществом и находил более удовольствия в беседе с своей фавориткой или с приезжавшими к нему соседями. Но она не получила основательного образования; в том, что она читала в течение своей жизни, не было никакой системы, и романы занимали в этом чтении едва ли не самое значительное место… Но ведь и романы развивают, особенно женщин, многое угадывающих сердцем. С мыслящими и образованными людьми она мало сталкивалась и потому не привыкла к последовательному, продолжительному спору: способность к диалектике не была развита в ней; недоставало ей также смелости в суждениях, приобретаемой только посещением общества и при частом размене идей. Она не доверяла себе, боялась высказаться. Человеку, желавшему ее вызвать на откровенность, нужно было прежде всего быть добрым, не иметь ни малейшей тени педантизма и самодовольства. Костин понял это и с такою мягкостью, с таким простосердечием и отсутствием поучительного тона отвечал на ее часто детские вопросы, что скоро внушил ей полную к себе доверенность… И он увидел, что ум Анны Михайловны был хотя не обширный и не глубокий, но прямой и здравый, от которого нелепые предрассудки и светские извращенные понятия не успели скрывать истины, и смотревший на вещи ясно и просто. Костину нравилась даже ее робость, ее застенчивость, вследствие которой она никогда не говорила громких фраз или общих мест о предмете, недоступном ее пониманию. Говоря с этой женщиной, он невольно удивлялся, как уцелела она такой среди этой смрадной атмосферы Никанор-Андреичей, Ванечек и Матрен, окружавших ее.
Все утро до самого обеда Никанор Андреич сидел обыкновенно дома, выкуривая трубку за трубкой и ничего не делая: только изредка ездил осматривать полевые работы, в которых не знал толку, и потому Костин, окончив занятия свои, тотчас удалялся во флигель, избегая беседы с помещиком. Обедать же учитель должен был непременно в доме и после обеда, по крайней мере полчаса, приходилось волей или неволей слушать приятные разговоры и остроумные шутки Никанора Андреича. Но потом, когда он уходил в кабинет свой соснуть, а Ванечка отправлялся любезничать в девичью или играть с дворовыми мальчиками в лапту, Костин оставался вдвоем с Анной Михайловной. За вечерним чаем тоже не обходилось без присутствия Никанора Андреича; когда он был в духе, то предлагал детям разные игривые вопросы, вроде того: когда будочник бывает цветком, или когда маменькины платья из травы? Если дети не успели отвечать, он сам разрешал задачу, говоря: «Тогда бывает цветком, когда не-за-будкой! тогда из травы, когда из-мяты!» И после этого заливался хохотом. Если же дети отвечали удовлетворительно, он обращался к Костину и благодарил его за то, что он печется об их образовании. Никанор Андреич был неистощим на вопросы этого рода. Каждый день являлись у него новые; казалось, он всю жизнь занимался только собиранием их. Костину и Анне Михайловне они не совсем были по сердцу, но зато Ванечке доставляли неисчерпаемое удовольствие. О действительном же воспитании детей Никанор Андреич мало заботился и как будто только для очищения совести нанимал им учителя. Он мог учить их, чему хочет, хоть даже вовсе не учить — родителю это было решительно все равно. Когда же Костин спросил Никанора Андреича, почему он непременно положил себе отдать Петю, имеющего очень мало способностей к математике, в инженеры, он отвечал: «Потому, что служба выгодная; дороги проводить будет, мосты или там здания разные строить,— есть чем поживиться, всегда лишний грош в кармане будет».
На такой неотразимый аргумент возражать было, конечно, нечего.
После чаю Никанор Андреич приказывал закладывать себе дрожки и отправлялся в гости к соседям или за четыре версты на водяную мельницу. При этой мельнице стоял небольшой домик, который был трианоном Никанора Андреича. Туда являлась Матрена, а иногда и кто-нибудь из коротких приятелей помещика: исправник Фомин или отставной ротмистр Пентюхин, и ночь пролетала быстро в служении Вакху и Афродите. Возвращаясь домой сильно навеселе, Никанор Андреич шел, спотыкаясь, к себе в кабинет, и не проходило пяти минут, как в доме раздавался его богатырский храп.
Пользуясь частыми отсутствиями помещика, Костин целые вечера просиживал с Анной Михайловной. И многое переговорили они, многое перечитали вместе.
Для Анны Михайловны как будто началась новая жизнь. Давно, очень давно таила она в глубине души каждую мысль, каждое чувство, в ней зарождавшееся; теперь было кому их высказать в полной уверенности, что на них отзовутся с теплым участием.
Для Костина эти вечера имели тоже много привлекательного и поэтического. Он в первый раз еще был в обществе порядочной женщины… До той поры ему попадались или гризетки, подобные Сашеньке, или барыни и барышни вроде жен и дочерей мутноводских чиновников.
Эти часы, проведенные с Анной Михайловной, заставляли Костина забывать все мелочные дрязги дня, всю возню с Ванечкой, все грязные, отвратительные личности, то и дело вертевшиеся у него перед глазами. Случалось, однако ж, что Костина и Анну Михайловну намеренно стесняла присутствием своим Дарья Андреевна, которая являлась в гостиную с работой, как будто желая послушать интересное чтение, но на самом деле для того, чтобы наблюдать за учителем и невесткой. Но привыкшая рано ложиться спать, старая дева не могла высидеть долее, как до десятого часу, и сперва начинала клевать своим длинным красноватым носом принесенное с собою вязанье, а потом и вовсе удалялась на покой, не преминув, впрочем, при выходе из комнаты постоять с минуту у дверей и послушать. Костин и Анна Михайловна предугадывали это и поэтому всегда остерегались говорить что-нибудь про Дарью Андреевну.
Еще настойчивее старой девы было семейство соседа Еремеевых Кубарева, наезжавшее по временам — хоть и не часто, но зато на целый вечер — к Анне Михайловне. Это семейство приводило в истинное сокрушение и ее и Костина, потому что было до крайности противно и скучно. Сам старик Кубарев служил прежде где-то советником и по выходе в отставку поселился в деревне, которую успел приобресть в течение своей долговременной служебной карьеры. Говорили, что у него немало денег и что он мог бы прилично жить даже в столице, несмотря на огромное семейство, но ему мешала, во-первых, скупость, во-вторых, какая-то странная боязнь, чтобы не стали доискиваться, откуда явилось у него состояние… Как будто этого когда-нибудь в самом деле доискиваются!.. Давал бы только человек вечера да обеды, а до источника его богатства никому не может быть дела, а тем более людям, которых он поит у себя и кормит. Но Кубарев рассуждал, вероятно, иначе и зажил в деревне с четырьмя дочерьми, из которых три были уже старые, отцветшие девы, а четвертая только что начинала отцветать.
Зимой вся эта ватага отправлялась месяца на два в уездный город веселиться и искать женихов… Барышни Кубаревы были очень дурны собой (исключая, однако ж, младшей, слывшей в семье за красавицу на том основании, что она немного получше остальных) и пропитаны непомерными претензиями… Все они много читали и выписывали русские журналы, но чтение что-то не шло им впрок; мозг их как-то ничего хорошенько не переваривал, и от разных романов и журнальных статей образовалось в нем что-то вроде непережеванной каши. Но тем не менее они пускались судить обо всем с необыкновенным апломбом… Особенно считалась в семействе умницей младшая дочка Леночка, развитием которой занимался очень тщательно сначала какой-то юнкер, из поляков, очень красивый малый, выпускавший из-за борта своей шинели длинную золотую цепочку и научивший Леночку петь известный романс Мицкевича, кончающийся словами: цаловать, цаловать, цаловать! Потом юнкера заменил студент, из русских, тоже не менее красивый, но очень еще молодой и неопытный, и потому читавший ей ученые критики в полном убеждении, что она в них что-нибудь понимает, тогда как она, слушая их, думала, что очень бы хорошо, если бы этот студент женился на ней по окончании или даже до окончания курса.
Но, увы! — студент, как водится, по окончании вакации уехал, окончил себе преспокойно курс, сделался деловым человеком и позабыл о Леночке, как забывал о разных Машеньках и Вероньках, за которыми ему случалось ухаживать в вакационное время. Юнкер тоже пропал без вести, и Леночка, оставшись без обожателей, начала переводить с горя об обязанностях человека Сильвио-Пеллико {55}, которого считала великим мыслителем. Остальные барышни Кубаревы перестали давно ждать обожателей и тоже сидели — кто за прошивками и гарусными подушками, кто за романами. Судили они всегда громко и резко, особенно Леночка; и без толку бросали на ветер разные вычитанные фразы… Они готовы были восхищаться чем угодно… Долго бредили они каким-то переводным романом «Герта», который потому пришелся им очень по вкусу, что там была выставлена семья, подавленная деспотизмом отца. Папеньку своего, старика Кубарева, они повсюду выставляли тираном, загубившим в уездной глуши их девичий век. Но дома не давали этому тирану разинуть рта без того, чтобы не поднять его на смех всем хором.
«Что это вы какие пошлости говорите, папенька» — восклицала нецеремонно Леночка, и остальные сестрицы заливались истерическим хохотом. Анну Михайловну считали барышни Кубаревы за низкую, не умеющую сочувствовать ничему высокому и прекрасному, способную только ходить на кухню да возиться с детьми, и страшно задавали ей тону. Леночка, исполненная чувства своего превосходства, начинала нести такую чепуху, что постороннему так и хотелось сказать ей: «зарапортовалась, матушка!» Любимых писателей своих она называла всегда душками, прелестью и тому подобными лестными названиями: «Душка Гончаров! прелесть Тургенев! восторг Григорович!.. Я обожаю их…» Увидев однажды на столе Анны Михайловны том Пушкина, заключавший в себе историю «Пугачевского бунта», Леночка важно и глубокомысленно заметила, что Емельян Пугачев был великий реформатор! Эту фразу, иронически сказанную каким-то писателем, она приняла за чистую монету и повторяла при всяком удобном случае. Кроме претензии на ученость, девицы Кубаревы имели еще два неоцененных качества — зависть и страсть к сплетничанью. Каждая женщина лучше их лицом или богаче или пользовавшаяся перед ними какими-нибудь преимуществами, неминуемо подвергалась их злоязычию. Если в бытность их в городе являлось туда новое лицо и не делало им визита, они тотчас же единогласно объявляли его дрянью, с которой не стоит знакомиться; или ограниченным, пустым человеком, не понимающим даже, какой великий реформатор был Емельян Пугачев. Если же кто приволакивался за Леночкой,— будь он тупейшая башка на земном шаре, будь он канцелярский писец или армейский прапорщик,— он тотчас же превращался в гениального человека или светского льва высшего круга.
Была у барышень Кубаревых и еще сестрица, по прозванью Лидия, которой как-то удалось поймать на удочку одного очень доброго и честного, но больного человека и выйти за него замуж. Эта Лидия тоже по временам приезжала гостить к своим и была едва ли не хуже прочих сестриц своих. Томная, закатывающая под лоб зрачки, она постоянно толковала, что она разочарована… Этим разочарованием напитал ее какой-то юноша à la Тамарин {56}, в которого она была долго и безнадежно влюблена и который, поволочившись за нею с год, тоже оставил ее на бобах. Даже вышедши замуж, она не переставала прикидываться несчастной жертвой судьбы. Однажды она даже начала петь Никанору Андреичу, за неимением лучшего конфидента, что это страшное безвыходное положение — быть обреченной на жизнь с человеком апатическим и холодным, не умеющим понять пылких порывов души нашей… Никанор Андреич, выслушав ее и покрутив усы, брякнул спроста:
— Это вы, Лидия Павловна, я знаю про кого говорите,— про Петра Иваныча (так назывался бедный муж Лидии),— только вы это напрасно… Он прекраснейший человек и мне очень нравится.
Непонятая Лидия прикусила язык. Однако же эта жертва, это страждущее и угнетенное существо выказывало подчас большую энергию… в расправе со своей прислугой…
Но наиболее отвращения к себе внушал братец девиц Кубаревых, армейский майор, стоявший со своим батальоном в том же уезде и находившийся постоянно на хлебах у одной старой, шестидесятилетней вдовы, у которой он очень много занимал денег. Этот майор был до того туп и глуп, что с ним нельзя было проговорить долее десяти минут. В десять минут он разоблачался весь. Глупость майора не мешала — а может, и была причиной — его жестокости. Подчиненные его ненавидели. Природа, так скудно оделившая всю семью Кубаревых интеллектуальными способностями, не поскупилась вложить в них всякого рода претензии. Майор Кубарев тоже не был лишен их. Воображая себя художником, он малевал портреты, ландшафты и вообще всякого рода картины, которыми хвалился перед своими знакомыми. Но что это были за картины!.. Человека трудно было отличить на них от лошади и собаки, собака и лошадь походили на дерево… Как ни подгуляли физиономии его сестриц,— все одаренные длинными носами и суровым видом,— но на портретах братца они являлись еще хуже. Это были какие-то Квазимодо, в круглых соломенных шляпках и в юбках… Но истинной жертвой бездарности плешивого майора (он, несмотря на молодые еще лета, лишился уже всех волос) был денщик его. По целым часам заставлял его ярый художник лежать голого на полу, рисуя с него Адама, соблазняемого Евою. Напрасно бормотал несчастный: «Отпустите, ваше высокоблагородие, пить хочу…» Пощады не было, и Адам не смел пошевелиться, пока не наступали сумерки.
Можно себе представить негодование майора-художника, когда один знакомый при виде его картины, изображающей «Грехопадение», вдруг спросил:
— Скажите мне, для чего тут месяц?.. Ведь картина изображает день?
— Где вы нашли месяц? — отозвался удивленный художник.
— А вот…
И знакомый показал пальцем на яблоко, висевшее между первым человеком и первой женщиной. Говорят, майор навсегда рассорился с этим ценителем.
Таково-то было единственное семейство, посещавшее Анну Михайловну; другие соседи были все холостые да вдовые или же слишком далеко жили от Еремеевых для того, чтобы часто к ним ездить. Притом и сама Анна Михайловна была домоседка и редко платила визиты, что, как известно, вменяется в большое преступление в провинции.
Надобно сказать правду: визиты Кубаревых мало радовали Анну Михайловну и прежде, а с прибытием Костина они стали для нее еще тягостнее. Костин также не мог равнодушно видеть подъезжавшей к крыльцу линейки, усаженной, как грибами, огромнейшими соломенными шляпками à l’enfant [93]. Эти шляпки действительно были куплены еще в детстве и потом неоднократно подвергались расширениям и переделкам. Но всего более боялся Костин услышать топот верховой лошади, ибо это означало, что майор сопровождает своих сестриц.
Услышав, что к Еремеевым уже с неделю как приехал новый учитель,— молодой человек, университетский, из Петербурга,— семейство Кубаревых взыграло радостью… Преимущественно же Леночка. Она взбаламутила всех сестриц своих, требуя настоятельно, чтобы они сейчас же собирались ехать, и сама пошла одеваться. Ставши перед зеркалом и спустив с плеч мантилью, она несколько минут вглядывалась в свое лицо, на котором уже начали показываться признаки увядания, в свою фигуру, утратившую легкость и стройность весенней, девической поры. Развивавшие ее юнкер и студент пришли ей на память… в ушах звенела нота: «цало́вать, цало́вать, цало́вать…» И Леночке стало скучно, очень скучно. Более чем когда-нибудь показались ей скучны ученые критики, и еще сильнее захотелось ей мужа…
— Мужа! мужа! мужа!..— произнесла она даже в каком-то забвении…
О, если бы студент и юнкер могли в эту минуту взглянуть, как грациозна, как сознательно-хороша была Леночка!
Братец также поехал сопровождать девиц Кубаревых в Еремеевку.
Семейство Кубаревых и Костин с первой же встречи почувствовали друг к другу антипатию. Бессмысленное фразерство Леночки и желание ее показаться эманципированной, сплетни и пересуды остальных девиц Кубаревых и непроходимая глупость братца — все оттолкнуло от них Костина. Притом же от него не могло укрыться презрение, проглядывавшее в тоне, каким они говорили с Анной Михайловной. Ему стало больно за эту тихую, скромную женщину. Он хорошо знал, что у ней больше ума и сердца, чем у всей этой орды старых и безобразных дев, и ему ужасно захотелось отмстить за Анну Михайловну. Случай скоро представился. Когда Леночка начала распространяться о назначении женщины, обращаясь к Костину и делая тонкие намеки на бедность натуры Анны Михайловны, он отвечал, что предпочитает хорошую жену и хорошую мать семейства всем этим так называемым эманципированным барыням и барышням, нахватавшимся разных вершков, говорящим вычитанными фразами и смотрящим на вещи сквозь очки какого-нибудь заезжего франта, который успеет им нажужжать в уши всяких современных идей, тогда как и сам-то дошел до них не путем опыта или мышления, а просто принял их на веру от другого такого же господина, как он, да и стал звонить: это, это — мои убеждения.
— Нет,— заключил Костин,— хоть грустно, а надо признаться, что как-то дико прививается к нашим женщинам эманципация… Они видят ее или в куреньи папирос и в утрате всякой женственности и стыдливости, составляющей лучшее украшение их пола, или в бестолковом повторении непереваренных ими фраз!.. И всегда-то подобные женщины, кричащие о своем презрении к светским предрассудкам и общественному мнению, чуть только дело дойдет до применения своих убеждений на деле, обращаются вспять и даже без малейшей борьбы приносят их в жертву самому пошленькому тщеславию. Сколько мне случалось видеть барышень, проповедующих против брака по расчету и бросающихся на шею первому старику с деньгами, особенно когда красота начинает увядать.
Леночка переглянулась с остальными сестрицами. Между ними в этот миг было решено, что учитель без памяти влюблен в Анну Михайловну и, уж конечно, она в него. Братец пробовал было заговорить с Костиным об искусстве и выразил мнение, что в России нельзя написать никакой, самой посредственной картинки, потому что, во-первых, небо всегда слишком серое, а во-вторых, и сюжетов нет никаких для художника.
— В Италии, например,— сказал он, как-то картавя сквозь зубы,— вы идете по улице… итальянка! смуглая… черные волосы… несет кувшин или там что-нибудь этакое,— все это грациозно, прекрасно; а у нас идет баба… мужик… все грязно, скверно…
— А мне кажется,— отвечал Костин,— что талантливому живописцу нечего ездить за сюжетом в Италию, он найдет их на каждом шагу дома, а бездарный и в Италии ничего не напишет. Это вам скажет всякий школьник.
Братцу тоже этот ответ не понравился. Он был очень обидчив и слово бездарный принял на свой счет…
С этого же дня семейство Кубаревых принялось честить учителя, где и как только могло. Каждый, кто приезжал к ним, мог услышать, что Костин невежда, педант, отстало́й и что он, кажется, неравнодушен к Анне Михайловне. Нерасположение это перешло в злобу, когда Дарья Андреевна, похаживавшая к ним по воскресным дням, сообщила им, что Костин тоже не очень лестно об них отзывается.
Отставной ротмистр Пентюхин, участвовавший в трианонских увеселениях Никанора Андреича, также узнал в числе других посетителей Кубаревых, что учитель ухаживает за Анной Михайловной. Пентюхин говорил про себя, что он человек военный и открытый, у которого что на уме, то и на языке. А потому естественно, что он не мог удержаться, чтобы не передать такую курьезную новость своему другу и приятелю. Никанор Андреич в первую минуту закипел негодованием и стукнул изо всей мочи кулаком по столу, поклялся уничтожить молокососа и неблагодарную изменницу, обманывающих его. (За что́ именно Анна Михайловна должна была питать к нему благодарность, он не мог бы, я думаю, и сам дать себе отчета.) Но потом, прийдя несколько в себя, раздумал, что ведь, может быть, это только сплетни. Кубаревы — известные тараторки и выдумщицы. Самолюбие никак не позволяло ему допустить мысли, чтоб Анна Михайловна осмелилась обманывать его, она, которая чуть не дрожала при одном взгляде его. На минуту как будто пробудилось в нем даже что-то вроде совести. Он сознался перед собой, что был неправ к жене и, предпочтя ей фаворитку, мог всегда ожидать, что его самого оставят… Но последнее рассуждение так противоречило всем понятиям его об отношениях мужа к жене и жены к мужу, что Никанор Андреич тотчас же постарался отогнать его от себя.
— На то я мужчина! — воскликнул он.— Я могу… Мне ни на что нет запрета. А баба — другое дело… Баба должна покоряться… Ей ничего, если я на стороне себя потешу… А она вздумала таскаться, так меня все соседи на смех подымут, пальцами на меня показывать станут… Ишь, рога отрастил, скажут. Однако ж нужно хорошенько разведать,— прибавил Никанор Андреич,— да если правда, так накрыть их… Тогда уж не отвертятся, голубчики,— же ву при пардон!
И он тотчас потребовал на мельницу сестру и Матрену для совещания. И та, и другая явились немедленно.
— Что жена делает? — спросил Никанор Андреич, когда обе женщины вошли в небольшую низкую комнату, где он ждал их. Перед ним на столе стояла фляжка с наливкой и серебряная чарка, к которой он беспрестанно прикладывался.
— Что ей делать? — развязно отвечала Матрена.— С учителем любезничает…
Никанор Андреич нахмурил брови.
— А, уж и ты знаешь, лебедка? — сказал он Матрене.
— Еще бы не знать!.. Да всякого мальчишку спросите, так и тот вам скажет.
— А ты, сестра, замечала что?
— Как, братец, не замечать!.. Страм-страминский!.. Так-таки не отходят друг от дружки.
— Так что же ты молчала до сих пор? Языка, что ли, у тебя нет? Или тебя задарил учитель?.. На всякую сволочь меня променять готова.
— Что это вы, братец, как вам не грех! Могу ли я вас на кого променять?.. Разве я милостей ваших не чувствую? По гробовую доску вами обязана…
— То-то, обязана. Где, так у тебя язык долог…
— Да что вы накинулись на Дарью Андреевну! — вступилась Матрена.— Жена загуляла, а он на сестру накинулся. Да она чем причиной? Если хотите знать, так она сколько раз собиралась до вас довести, да я ее отговорила.
— А зачем — нельзя ли спросить?
— А затем, что нечего без толку-то молоть: надо их накрыть сначала.
— Ну, что ж, накрыли теперь?
— Больно скоро хотите… Дайте срок — накроем…
— Ну, смотри же, Матреша, и ты, сестра,— не плошайте. По платью обеим будет. Я этакой мерзости у себя в доме не потерплю.
— Уж на что хуже этого, братец!
— Я его так нагайками отпотчую, что он у меня до новых веников не забудет.
— Да он нечто виноват? — сказала Матрена.— Она его соблазнила… Мужчина, известно, рад, коли наша сестра сама на шею вешается.
— Обоим достанется… Ну, ты, сестра, можешь домой ехать. Да смотри, ни гугу до поры до времени…
— Спаси господи, братец! да разве у меня две головы! — наивно воскликнула старая дева.
— А ты, Матрешенька, останься… Я у тебя еще кое-что поспрошу.
Но какого же рода отношения существовали на самом деле между Костиным и Анной Михайловной? Им было ясно, что они любят друг друга, хотя роковое слово не было еще произнесено ими. Но разве один взгляд, одно движение не говорят иногда яснее всяких слов? Сколько раз признание было на языке Костина, но какая-то тайная, неодолимая сила удерживала его, и он уходил к себе, молчаливый и задумчивый. Там, в этой маленькой комнатке, окруженный зеленью, отдавался он мечтам, иногда светлым и радужным, иногда тяжелым и мрачным. Хотя он был уверен, что его любят, но ему так хотелось слышать это из уст любимой женщины!.. Он отдал бы, кажется, половину жизни за то, чтобы иметь право остальную жизнь прожить у ног ее, покрывая их слезами и поцелуями, смотря на ее нежные, кроткие, дышащие такой любовью черты… Но когда рассудок возвышал свой суровый голос и разгонял эти юношеские, страстные грезы, грудь его сжималась мучительной, неизъяснимой тоской… «Какую будущность приготовит любовь твоя этой женщине? — твердил ему рассудок.— Сегодня ты здесь, завтра тебя не будет, и в сердце ее останется глубокая, неисцелимая рана, и изойдет оно кровью — это бедное, полюбившее тебя сердце! Если б еще ты мог вырвать ее из этой смрадной, ядовитой среды, отравляющей каждый миг ее существования, если б мог посвятить ей всю жизнь свою и непрестанными ласками, попечениями, заботами вознаградить ее за жертву, которую она принесет тебе! Но у нее есть дети… И следуя за тобой, она должна оставить этих несчастных на дикий произвол грубого, невежественного отца, который возненавидит их за проступок матери. И если бы даже не было у нее их,— какую жизнь ты бы дал ей?.. Окружил ли бы ты ее спокойствием и довольством,— ты, бесприютный бедняк, трудом добывающий свой насущный хлеб?.. Разве не разорвалось бы твое сердце при виде, как эта женщина преждевременно отживает под бременем голода, холода и всяких лишений, на которые ты обрек ее? Беги, беги отсюда, пока есть еще время, чтобы тяжелым камнем не легло упрека на твоей совести».
Костин сознавал, что рассудок был прав, но не мог подчинить его приговору сердца, и оставался; и каждый день, каждый час искал встречи с любимой женщиной, привязываясь к ней все сильней и сильней, все глубже и глубже…
Что же касается Анны Михайловны,— она сначала боялась своего чувства и даже самой себе избегала в нем сознаваться. Дома старалась она уверить себя, что любит Костина как брата, как друга, как учителя детей своих,— не более; но эта беспрестанная борьба с сердцем, жаждавшим и просившим иной привязанности, это насилование своей природы скоро утомило слабую женщину, и она сбросила маску и, зажмурясь, пошла, куда вела ее судьба. Она видела близко пропасть, но шла к ней, влекомая неведомой доселе силою, по временам останавливалась, с робким, трепетным замиранием оглядывалась назад и снова продолжала идти… Было что-то притягивающее к себе в этой бездне, поглощающей даже натуры более сильные…
Девять лет живя подле грубого, развратного, нелюбимого мужа, за которого она пошла против воли, повинуясь деспотической власти отца,— она хоронила на дне души каждый живой порыв, каждую грезу, каждое чувство и желание, самое естественное и законное, и ей казалось уже, что она начинает привыкать к этой тупой, исключительно внешней жизни; что апатическим равнодушием заменились все требования ума, все стремления духа; что она уже неспособна никого любить, кроме детей своих… Даже в любви к ним являлось у ней сомнение… Но вот таившееся под золой мнимого равнодушия пламя вспыхнуло… вспыхнуло ярко, широко, неудержимо и разлилось по всему существу молодой женщины.
Сеть шпионства окружила Костина и Анну Михайловну. Ей нельзя было сделать из дому шага, чтобы за ней не следили несколько глаз; и в числе этих глаз всегда находились зеленые, кошачьи глаза Дарьи Андреевны. Девочка, ходившая за Анной Михайловной и преданная ей, предупредила свою барыню, что за ней следят и что Матрена Карповна что-то все шепчется с Дарьей Андреевной. При этой вести как будто кто молотом ударил в сердце Анны Михайловны.
Она при первом же свидании с Костиным передала ему это по-французски, чтобы не могли понять ее аргусы, стоявшие у всех дверей.
— Они, верно, передают моему мужу каждое слово наше,— сказала она,— и, может быть, уж бог знает, что насказали ему… Я знаю их… Они ни перед чем не остановятся, чтобы погубить меня. Надо видеться реже,— прибавила она задумчиво.
— Зачем? — отвечал Костин.— Будем всегда говорить по-французски… Они не поймут.
Анна Михайловна помолчала с минуту и потом решительно произнесла:
— Будь что будет!
Сыщики немедленно уведомили Никанора Андреича, что учитель с Анной Михайловной постоянно начали объясняться по-французски и что это, верно, недаром.
Никанор Андреич, горевший нетерпением застать учителя на коленях перед женой своей или в какой-нибудь другой сентиментальной позе и видя, что подсматриванье и подслушиванье не ведут ни к какому положительному результату, сделался очень суров и стал еще грубее обращаться с женой. Раз даже, подпивши в трианоне и застав ее еще за чтением, не удержался, чтоб не намекнуть, что ему известна любовь ее к учителю; и прибавил, что ей несдобровать.
Анна Михайловна вспыхнула и хотела ему отвечать, но он, не дождавшись ее ответа, вышел из комнаты и отправился спать.
— Я угадала,— сказала Анна Михайловна на другой день Костину.— Мужу донесли на меня. Он уже вчера попрекнул меня моими отношениями к вам.
— Анна Михайловна,— отвечал Костин,— если для вашего спокойствия нужно, чтобы я уехал — скажите одно слово… Я не буду ждать отказа вашего мужа…
— Нет, нет, ради бога, Виктор Иваныч, не уезжайте… Разве мы можем в чем-нибудь упрекнуть себя? Пусть со мной делают, что хотят… но, по крайней мере, при вас из детей моих не выйдут Ванечки… Слезы показались на глазах ее.
— Пока вы сами с ними, этого не может быть,— возразил ей Костин.
— Если б вы знали,— продолжала она,— как сжимается мое сердце, когда я гляжу на этих детей… Какая их будущность? Что ждет их? Мне не прожить долго, я это знаю… А без меня, страшно подумать… Эта женщина будет тиранить их, бить…
Голос Анны Михайловны прервался от слез.
— Полноте, полноте, что за мысли… Вы слишком молоды, чтобы думать о смерти.
Тронутый Костин не знал, как утешить ее; он понимал, что все, чего она так боится, к несчастью, слишком возможно.
— Нет, Костин, эти люди убьют меня… Говорю вам, что я это чувствую… Если вы снова будете в Петербурге и моего Петю увезут туда, вспомните о нем, навестите его когда-нибудь. Его некому приласкать, приголубить.
— Вам грешно и говорить мне об этом… Или вы не верите, что я предан вам бесконечно, предан навеки, что, как бы далеко от вас ни бросила меня судьба, преданность моя останется та же? Подле вас я знал единственные светлые дни… и пока жив, буду вам за них благодарен. Какой бы труд, какая бы тяжелая, неравная борьба ни выпала мне на долю, я буду думать, что вы смотрите на меня, ободряете меня доброй улыбкой, теплым дружеским словом,— и в этой думе о вас найду силу и мужество…
— Друг мой,— вы подняли меня в моих собственных глазах… До вас я считала себя ничтожнейшим существом, не стоящим ничьей привязанности и не способным к ней, а теперь…
Анна Михайловна вдруг остановилась, как будто испугавшись, что сказала слишком много.
— А теперь,— повторил вполголоса взволнованный Костин и, не имея сил дольше владеть собой, страстно прибавил,— теперь ты любима и любишь… Не так ли?
Анна Михайловна вздрогнула.
Это было после обеда. Они шли полем и не заметили, как отдалились от дому. По обеим сторонам росла рожь; облитая горячим светом послеобеденного солнца, она тихо наклоняла тяжелые, зрелые колосья, как бы приветствуя и благословляя влюбленных…
— Теперь никто не сторожит нас, никто не видит,— говорил в восторге Костин.— Скажи же, скажи это слово, которого я так долго и так мучительно жду.
Она оглянулась вокруг и потом, быстро схватив его руку, прижала к своему сердцу…
— Пока оно бьется,— сказала она твердо, открытым и ясным взором смотря ему в лицо,— я твоя! навсегда твоя!
Костин плакал от счастья; он готов был, несмотря на то, что его могли подстеречь и даже увидеть из дому, схватить ее хорошенькую головку и целовать эти глаза, волосы, губы, целовать без конца… Но стук колес, раздавшийся позади, заставил его опомниться. Обоим невольно пришла мысль, что за ними гонится Никанор Андреич, но это был какой-то мужичок, ехавший с мальчиком в телеге. Костин и Анна Михайловна посторонились, мужичок снял шапку, поклонился гуляющим. Сердце Костина было так полно, что он охотно кинулся бы ему на шею.
— Пора домой,— произнесла Анна Михайловна,— нас, может быть, уже хватились.
Они повернули назад.
Перед ними предстал господский дом с флигелями и службами, стоявший на возвышении и окруженный зеленью садов; вправо блестело озеро, обсаженное с одной стороны старыми, густыми деревьями. Вдали виднелись меловые горы, поросшие кустарником. И все это глядело так весело, так приветливо и светло.
— Как хорош божий мир! — воскликнула Анна Михайловна.— Отчего же нам приходится подчас так горько?.. Хоть бы детям нашим было получше нас!
— Что это вы, господин учитель, в моей деревне как барин распоряжаетесь? — сказал однажды Никанор Андреич Костину, садясь за обед.
Костин побледнел; лицо Анны Михайловны выразило испуг и недоумение.
— Что вы хотите этим сказать,— спросил Костин,— и в чем вы заметили вмешательство мое в ваши дела?
— А в том, например, что вы затеяли деревенских мальчишек грамоте обучать! Я, кажется, для детей своих нанял вас.
— Что ж, вы находите бесполезным для крестьян знать грамоту?
— Не бесполезным, милостивый государь, а вредным. Мужик должен знать соху да борону, а не книжки читать…
— Я думаю, что и для вас — для помещика — грамотный крестьянин всегда полезнее,— начал было возражать Костин.
— Ну, нет-с, увольте! покорно вас благодарю. Вы это так понимаете, а я иначе. Вам меня не переучить. Вы еще не родились, а уж я собственными крестьянами владел. Научи-ка их грамоте — да они барина и в грош тогда ставить не будут. Черт знает чего наберутся, кляузниками поделаются, прошения писать станут. Знаю я их… Вот мне Пентюхин сказывал, что он и в газетах где-то читал, что из грамотных девять десятых негодяев выходит. Это один помещик сам высчитал. Стало быть, вред!
— Пентюхин невежда и сам не понимает, что говорит. Это мнение, действительно кем-то высказанное печатно, встретило такие опровержения со всех сторон, что тот, кому оно принадлежит, и сам отрекся наконец от слов своих и старался перетолковать их иначе.
— Во-первых, Пентюхин мой хороший приятель, и потому прошу вас покорнейше не отзываться о нем при мне таким образом. Он и в целом уезде образованным слывет; а что касается до опровержений, так знаем мы, кто их делает: такие же вот, как вы, то есть у кого ни одной души своей не бывало; и никогда я не поверю, чтобы этот помещик взял слова свои назад.
Костин хотел отвечать, но Анна Михайловна, видя по лицу его, что ответ мужу готовится не слишком мягкий, умоляющим взором взглянула на молодого человека, и он, воздержавшись, проговорил только:
— Мы с вами никогда не поймем друг друга и потому нам лучше не спорить.
— Я вас и не прошу спорить, а перестать у меня мальчишек портить — я от вас решительным образом требую, милостивый государь. Вот будут вольные, так пускай чему хотят учатся, хоть звезды с неба хватай… А пока мужик — мой, я не допущу, чтоб он у меня из повиновения вышел.
Костин не возражал, и весь остальной обед прошел в каком-то натянутом молчании. Никанор Андреич косился на учителя. Дарья Андреевна и Ванечка бросали исподлобья насмешливые взгляды на него и на Анну Михайловну, а она сидела, потупясь и боясь отвести глаза от тарелки. На сердце у нее было неизъяснимо тяжело. Она предчувствовала, что Костину не придется долго оставаться в этом доме, и что с ее стороны было бы эгоизмом — требовать от него подобной жертвы. Ей хотелось поскорей встать из-за стола и слезами облегчить горе, кипевшее на душе.
Вечером того же дня, сидя на террасе с Костиным, она сказала ему:
— Это долго не может так продолжаться. Я чувствую, Виктор, что мы скоро расстанемся. И тебя начали оскорблять…
— Я могу перенесть его грубость,— отвечал Костин.— Я знаю, что она происходит от невежества; но мне больно, что он отнимает у меня средство быть хоть сколько-нибудь полезным этим добрым людям. Что делать! будем терпеть до последней крайности. Я чувствую, что у меня нет сил покинуть тебя.
Анна Михайловна несколько минут молчала, закрыв лицо руками.
— Я не стою жертв, Виктор,— произнесла она наконец.
— О каких жертвах ты говоришь? Разве здесь жертва? Я не могу поступать иначе. Повторяю: расстаться с тобой выше сил моих.
— Зачем мы сошлись, зачем ты полюбил меня?.. Пускай бы я одна страдала… не привыкать мне было. Всю жизнь я была под гнетом, всю жизнь была рабой и умереть бы мне так.
— Перестань, перестань, не говори этого… Не на такие муки готов я, лишь бы ты любила меня… Разве одна минута счастья не может вознаградить за все?.. Когда я с тобой, для меня ничего больше не существует… Убеждение, что я любим, способно дать силу на все.
— Знаешь ли, что мне пришло в голову за обедом, когда шла речь об этих мальчиках?.. Я буду учить их.
— Ты думаешь, что мужу твоему не перенесут этого тотчас же?
— Я буду сама ходить к ним. Никто не увидит.
— Это отнимет у тебя слишком много времени. Отсутствие твое станут замечать… Эти мальчики ходили ко мне поодиночке, в разные часы дня, как кому можно… мне особенно жаль одного из них — сына Ивана Онуфриева Васю. Я редко находил детей более способных и любознательных.
— Ну вот, я попытаюсь сперва заняться им…
— У тебя славное сердце, друг мой! — воскликнул с нежностью Костин.
Анна Михайловна на другой же день принялась за осуществление своего плана, и чтобы отлучка ее не возбудила подозрений ее аргусов, она в то время пошла в деревню, когда Костин был занят уроком с маленьким Петей.
Несколько дней Никанор Андреич действительно ничего не знал о занятиях жены. Но однажды случилось следующее.
Был воскресный день, и Костин, пользуясь досугом, пошел с утра на охоту. Когда Никанор Андреич, плотно пообедавши, ушел к себе спать, Анна Михайловна отправилась в избу Онуфриева к своему маленькому ученику, который очень ей нравился своим бойким, понятливым умом и который сам в короткое время успел привязаться к своей новой учительнице. Но она не заметила, входя к Онуфриеву, что в нескольких саженях оттуда стоял Ванечка, в кругу деревенских мальчиков, пускавших змея. Увидев мачеху, вошедшую в крестьянскую избу, он тотчас же оставил и змея и мальчиков и со всех ног бросился домой — дать знать об этом Матрене и тетке. Те, конечно, не думая долго, порешили, что Анне Михайловне назначено в избе свиданье с учителем. Его же не было дома. Матрена немедленно разбудила Никанора Андреича и передала ему эту весть. Никанор Андреич всегда бывал очень сердит, если ему помешают выспаться… Можно судить, в какой степени возмутилась душа его в настоящую минуту, когда не только прервали сон его, но еще и сообщили ему неприятность. Он вскипел и, натянув на себя поскорей архалук и взявши нагайку, отправился по направлению к избе Онуфриева. Ванечка стал пробираться туда же, но окольным путем, чтоб не быть замеченным родителем. Матрена и Дарья Андреевна остались в доме и, чувствуя тайную робость, старались победить ее разными прибаутками и смешками.
— Ну, что-то будет, барышня,— говорила Матрена, обращаясь к Дарье Андреевне.— Нашла коса на камень.
— Ох! уж не говори, Матрешенька… Меня что-то страх берет.
— Какие тут страсти! Ведь нас с вами не оттаскают за косу,— возразила, смеясь, Матрена.
— Ох! да как бы учитель-то чего с братцем не сделал…
— Вона! что сказали! Да Никанор Андреич с дюжиной этаких справится. Он на одну ладонь его посадит да другой прихлопнет, так только мокренько останется.
Между тем Костин, возвращаясь с охоты, усталый и почувствовав жажду, зашел напиться молока к своему приятелю, старику Онуфриеву, с которым часто толковал, любя его за здравый, чисто русский ум и за честную душу. Он застал там Анну Михайловну, учившую Васю. Костин понимал, что оставаться долго в крестьянской избе с Анной Михайловной неловко и может, пожалуй, возбудить подозрение, а потому, выпив молока и шутя осведомясь у молодой женщины об успехах ее воспитания, хотел выйти. На пороге он столкнулся носом к носу с Никанором Андреичем.
— Эге! — сказал с иронией помещик голосом, в котором слышалась душившая его ярость.— Да у вас здесь, господин учитель, рандеву назначено, как я вижу?
— Вы с ума сошли,— отвечал Костин, стараясь сохранить хладнокровие.— Вы видите, что я с охоты.
— Вижу, что ты негодяй и что у вас с этой распутной женщиной было все зараньше придумано,— заревел Никанор Андреич, подняв нагайку над головой Костина.
Тот мгновенно отступил в другой угол избы и прицелился в помещика из двустволки, которую держал в руке.
Анна Михайловна пронзительно вскрикнула и как подкошенная травка повалилась на землю.
— Убить, убить меня хочет,— вопил Никанор Андреич, протягивая вперед руки, чтобы заслонить лицо свое.— Видели, видели?.. на жизнь мою покушается,— обратился он к старику и мальчику, стоявшим в избе.
Бабы все давно разбежались и попрятались — кто в клетушке, кто под телегой, кто в чулане…
— Вы убьете жену свою,— сказал Костин.— Скорей воды, воды, старик…
Старик кинулся за водой.
Костин нагнулся было к Анне Михайловне, не выпуская из руки ружья.
— Вот я ее подыму,— продолжал кричать Никанор Андреич, делая шаг вперед.
— Если ты тронешь ее хоть пальцем, я всажу в тебя пулю,— произнес Костин и снова принял оборонительное положение.
— А! заступаться… хорошо… посмотрим!.. Хорошо…— бормотал потерявшийся от страху Никанор Андреич и пошел вон из избы.
На дворе он увидел прижавшегося к плетню Ванечку.
— Ты что здесь делаешь, сволочь? — воскликнул помещик и вытянул его нагайкой.
Ванечка с криком пустился бежать.
Выйдя на улицу, Никанор Андреич несколько пришел в себя и, встретив какого-то мужика, велел ему собирать людей и оцепить избу Ивана Онуфриева. Но приказание это исполнялось довольно медленно, и Костин успел возвратиться к себе, между тем как Анну Михайловну на руках принесла прислуга, высланная Никанором Андреичем из дому.
Час спустя несчастная женщина лежала в постели, совершенно больная; а к крыльцу учительского флигеля подъехала запряженная парой телега, в которую Степан с печальным видом начал таскать пожитки Костина.
IV
Однажды, в зимние сумерки прошедшего года шел по Невскому проспекту молодой человек, очень бедно одетый. Тоненькое на вате пальто с потертым бархатным воротником, казалось, мало грело его, потому что он беспрестанно подымал кверху плечи. Лицо его имело болезненное выражение и начинало синеть от холода. В магазинах кое-где уже вспыхивал газ… Проходя мимо одного из них, молодой человек остановился и стал смотреть на вывешенные в окне эстампы, переминаясь с ноги на ногу, чтобы согреться. Постояв минуты две, он отправился было далее, но вдруг снова остановился, подумав о чем-то и повернув назад, вошел в магазин эстампов.
— Кажется, я наконец куплю ее..,— сказал он про себя, отворяя дверь магазина.— Только бы не запросили много.
— Что стоит эта женская головка с надписью sensitive? [94] — спросил молодой человек приказчика.
— Пять рублей,— отвечал тот, как-то недоверчиво поглядывая на этого бедного покупателя.
— Дешевле не уступите? — сказал молодой человек, не отводя глаз от эстампа.
Приказчик посмотрел на оборотную сторону гравюры, помолчал, как будто считая про себя, и наконец отвечал:
— Четыре с полтиной можно взять; но ничего меньше.
Молодой человек вынул из кармана порт-монне и, высыпав все, что в нем было, начал отсчитывать. За уплатой приказчику у него остался только полтинник.
В то время, когда гравюру завертывали в бумагу, дверь магазина отворилась, и вошла молодая, хорошенькая женщина в бархатном салопе цвета oreille-d’ours [95], с собольим воротником и в белой шляпе с пером.
— Что, рамка к портрету Штрауса готова? — спросила она приказчика и, подойдя к столу, где были разложены гравюры и литографии, стала перебирать их.
— Нет еще, завтра будет готова,— вежливо отозвался приказчик.
Молодому человеку показались, как видно, знакомы и черты этой женщины и звук ее голоса, потому что он долго смотрел на нее; наконец, взяв покупку и натянув перчатки, хотел уже выйти из магазина, как молодая женщина, сначала не заметившая постороннего лица, обернулась, и из уст ее вырвалось восклицание:
— Ах, Костин!..
— Александра Петровна! — в свою очередь воскликнул молодой человек.
Она протянула ему руку.
— Как давно мы не виделись, кажется, ведь три года будет?..
— Будет…
— Скажите, пожалуйста, вот не думала… Что это вы купили?
— Так… Головку одну…
— Ах, господи! как я рада… Вы, однако ж, ужасно как похудели и постарели. Что, вы давно воротились в Петербург?
— Нет, с месяц.
— И где же вы живете?.. Все там же, помните?
— Да, около тех мест…
— Что, разве обстоятельства не поправились?.. Да что я тут с вами болтаю… Нашла место!.. Вы теперь куда?
— Домой пробираюсь.
— Хотите, я вас довезу. Я в карете…
И при этих словах она улыбнулась.
— Зачем же… Я вас стесню.
— Ну вот — какое стеснение. Пожалуйста, сядемте… Мне хочется с вами поболтать. Знаете что? Поедем ко мне… будем пить чай, толковать…
— Вам не совестно звать к себе гостя, так плохо одетого?..
— Ах, господи… что это вы?.. Я все такая же; не знаю, как вы… Так едем?
— Пожалуй, если вы этого хотите.
— Известно — хочу. Только вот что я вам скажу… мне нужно еще магазина в два заехать. Вы меня подождите в карете. Ведь вам ничего… а не то со мной выйдете, если вам не скучно. Я мигом, я не люблю торговаться…
— Охотно…
Они вышли из магазина. На крыльце ждал Александру Петровну лакей в ливрее, обшитой гербовым бисоном. Он громко крикнул кучеру «давай», и Костин увидел щегольскую маленькую карету, запряженную парой серых с яблоками коней, которые храпели и били копытом мостовую.
Лакей ловко подсадил Александру Петровну и хотел было помочь также Костину, но он отклонил от себя эту честь и, сконфуженным голосом сказав «не надо», сам влез в карету. Александра Петровна действительно скоро обделала дела свои в магазинах. Костин дожидался ее в карете. Наконец лакей скомандовал «домой!», и кони понеслись стрелой по Невскому, заворотили на Литейный и у подъезда одного высокого дома остановились. В продолжение всей дороги Александра Петровна не переставала болтать…
Квартира старой знакомой Костина была не велика или, может быть, казалась такой оттого, что была слишком наполнена разного рода мебелью и вещами.
— Неправда ли, хорошенькая квартирка? — сказала самодовольно Александра Петровна.— Уютная?
— Очень…— отвечал Костин.
Действительно, комнаты были весьма комфортабельно и роскошно убраны. Ковры, дорогие обои, лампы, зеркала, этажерки с разными безделушками, статуэтки, бронза, фарфор, покойные диванчики, кресла и кушетки всяких фасонов и, наконец, в углу залы, в великолепной клетке попугай, который, как только вошла хозяйка, крикнул: «Здравствуйте, Александра Петровна».
— Попочка, миленький!..— сказала Александра Петровна, подойдя к нему и просовывая в клетку палец,— давай я почешу тебе головку.
Явилась горничная, одетая в шелковое платье и с очень красивым личиком, и стала снимать с Александры Петровны теплые, изящные ботинки, отороченные мехом.
— Вели зажечь лампу в гостиной, Настя, и давай чай,— сказала Александра Петровна горничной.— Да чтоб был ром. Ведь вы озябли?..— обратилась она к Костину, который поблагодарил ее движением головы.— Сядемте вот сюда, в этот уголок; это мой любимый… я всегда тут сижу с самыми короткими знакомыми.
— А много их у вас?
— Нет, вовсе не много… А знаете, я не люблю, когда очень светло. Мне лучше нравится, когда горит вот этот цветной фонарик… Ах, нет! лучше надо камин затопить, не правда ли?
— Это недурно,— сказал Костин.
Александра Петровна позвонила и велела затопить камин, что было очень скоро исполнено.
Костин и Александра Петровна придвинулись к камину. Она положила на решетку свою довольно маленькую ножку и закурила пахитос, а Костину предложила отличную сигару.
— Помните… как провожала вас,— сказала Александра Петровна,— и тот вечер, когда был Степанов; еще вы письмо получили от какого-то приятеля, который вам предлагал место. Помните?..
— Все помню,— произнес молодой человек задумчиво.
— А ведь с тех пор много воды утекло?..
— Да…— И Костин, как бы желая отогнать от себя какое-то тяжелое воспоминание, прибавил шутя: — Как пророчество-то Степанова сбылось: вы сделали карьеру…
— А вы отчего не сделали?
— Не повезло… Да и вообще наш брат — не то что вы… В три года и самые счастливые мало чего добиваются. Расскажите-ка мне про себя-то… Меня это очень занимает.
— Пожалуй, да долго-то рассказывать нечего. Помните, ведь я у швеи жила, как вы уехали.
— Хотели от нее уйти, потому что она вас бранила и не позволяла вам смотреть в окошко на хорошеньких мужчин…
Александра Петровна засмеялась.
— Да, да,— вот вы не забыли небось… Ну, я и отошла — и с месяц на квартире жила у одной знакомой у своей.
— Которая вас познакомила с одним своим знакомым.
— Вы почему знаете?
— Я ничего не знаю, только догадываюсь…
— Ну, да. Так точно… Я этот месяц, что жила у ней, очень нуждалась… даже платья свои заложила. Места не находила… Куда ни приду — все говорят: есть у нас довольно вашей сестры… А одна немка, должно быть злющая-презлющая, посмотрела мне в лицо да и говорит: больно смазлива, голубушка! где тебе работой заниматься… Ищи себе другого занятия… Так бы я ее и разорвала!
— За что ж? Ведь она правду сказала; вы и сами всегда завидовали тем, кто не работает.
— Да этого ведь она не знала… Зачем же облаять человека понапрасну? Что ей до моей красоты за дело? А на поверку-то что оказалось… У ней муж молодой и все за мастерицами волочился. А она-то урод уродом, и говорит-то — во рту точно каша…
И Александра Петровна стала дразнить немку.
— Ну-с, далее.
— Далее… увидел меня однажды у этой самой знакомой моей один человечек…
— Хорошенький?
— Нет. (Александра Петровна захохотала.) Старичок… почтенный такой, граф, и важную должность занимает. Знакомая-то моя отпущенница его была. Вот и спрашивает он ее: что это, мол, такая за девушка?.. Ну, та меня и отрекомендовала: бедная, говорит, сирота… в монастырь хочет идти, жить нечем. А я и не думала совсем… так даже чуть не расхохоталась, как она сказала это. Он-то ко мне и подсел и начал меня уговаривать: зачем это я красоту свою губить хочу; что она не для того сотворена, чтобы ее от людей прятать — и много еще мне пел разных разностей… С той поры редкий день проходил, чтобы он у нас не был. Только я все ему — ни да, ни нет. Думаю себе: надо тебя, голубчик, сначала хорошенько помучить — ты тогда податливее будешь… А знакомая мне все твердит: «Ты не упусти, Сашенька, своего счастья. Он богач престрашный и холостой; ему, значит, денег девать некуда. Коли ты сумеешь взять его в руки — он для тебя ничего не пожалеет. Будешь графиней жить… А я всегда думала, как бы пожить хорошенько… Ну и так он наконец врезался в меня, что просто на стену лезет. Смешно вспомнить даже… чуть в обморок раз не упал.
Александра Петровна опять засмеялась.
— Наконец я дала свое согласие; только наперед выговорила, чтобы он в ломбард на мое имя капитал положил и чтоб у меня было все такое же, как у Настеньки. Помните, что к Коровину ходила?..
— Помню… Вы и тогда ей завидовали…
— Она уж слишком нос стала задирать кверху… Встретится, бывало, со мной, отворотится… Постой же, я думала, будет и на моей улице праздник… Пущу и я тебе пыль в глаза. Так и вышло… Теперь сама заискивает; и как пришла ко мне один раз — так просто от зависти губы все себе искусала. Такой квартиры ей и во сне не снилось…
— Что ж, вы до сих пор у этого графа?
— У него… Да кабы не деньги его, я бы давно его бросила; надоел,— ревнивец такой, что ужас.
— Как же вы не боитесь принимать у себя?..
— Его теперь нет. Поехал в Москву по делам на неделю.
— А люди могут ему рассказать…
— Сделайте милость! Люди все на моей стороне. Они от меня получают не мало. Попробуй-ко кто ему рассказать. Я сейчас прогоню. А где они такое место найдут? Да знаете что? Я все пристаю к нему, чтобы замуж выдал.
— Что вам вдруг захотелось? Я думаю, так свободнее…
— Хочу остепениться… В губернию поеду; буду ролю разыгрывать… Повеселилась здесь довольно. У меня на примете и жених есть.
— Ну, что ж?
— Да вот со стариком своим не слажу… А жених славный, не старый еще… солидный человек; бакенбарды такие и крест на шее, штатский советник.
— Вот как! Что ж, он влюблен в вас?
— Кто его знает! Я так думаю — просто он потому сватается, что мой хорошее место доставить может… Да и пронюхал, что у меня деньги в ломбарде лежат.
— Смотрите, не попадитесь в руки тирану.
— Не такого полета птица,— сказала Александра Петровна, кивнув головой,— извините… Ну, вот видите, я вам все рассказала, а вы мне ничего не хотите…
— Да мне нечего и рассказывать… Служил, не поладил с начальством и вышел — вот и все.
Лакей принес чайный прибор и поставил на стол.
— Так вы теперь без всякого места? — спросила Александра Петровна, разливая чай.
— Без всякого.
— И жалованья не получаете?
— Не получаю.
— Как же это? Чем же вы живете? Или на службе что приобрели?
— Ничего не приобрел,— смеясь ответил Костин.— Опять уроки даю, переписывать беру бумаги.
— Скучно, я думаю, вам?
— Не совсем весело.
— Что вы не женитесь?.. Я вам купчиху богатую найду.
— Нет, уж бог с ней, с женитьбой.
— Не хотите? Ну, место вам выхлопочу… хорошее место, с большим жалованьем. Мне стоит только сказать моему. Уж я двум места доставила.
— Спасибо вам; только мне и места не надо.
— Какой вы, право… Ну, денег у меня займите… У меня много.
«А доброе существо, однако ж,— подумал про себя Костин.— И если выйдет за своего статского советника с бакенбардами да уедет в какой-нибудь Мутноводск, верно, будет лучше генеральши Грызунчиковой…»
Потом он произнес вслух:
— Еще раз и от души благодарю вас, драгоценная моя Александра Петровна, но и от денег отказываюсь…
— Да вы, может быть, потому не берете, что не надеетесь скоро отдать… Так не беспокойтесь — отдадите когда-нибудь. Ведь я не забыла, что вы тоже меня одолжали… Помните?..
— Полно вам вспоминать об этом вздоре. Что это за одолжение!..
— Дорого яичко к Христову дню, Виктор Иваныч!..— перебила Александра Петровна.— Все же вы меня не раз из нужды выручали. А вот теперь не хотите, чтоб я вас выручила.
— У меня правило: не занимать никогда.
— Ну, бог с вами… А где теперь Степанов и другие ваши друзья, которые вас тогда провожали?..
— Степанов где-то в Крыму служит городским врачом… Живописец еще не вернулся из чужих краев; немец в свое поместье уехал, в Курляндию. Поляк — тоже не знаю, куда девался.
— Кто же к вам ходит теперь?
— Никто почти. Один только Волчков; вы его помните, верно?
— Какой же это Волчков?.. смуглый, брюнет, в очках?
— Нет, напротив, белокурый, такой скромный, тихий малый… На скрипке еще играет.
— Ах, помню, помню… И как славно, бывало, играет!.. Он что же теперь?
— Он бросил службу и занялся музыкой. Теперь в театральном оркестре сидит. Однако ж вы, должно быть, тоже охотница до музыки — Штрауса портрет себе купили? — улыбаясь, спросил Костин.
— Ах, Штраус! просто прелесть, душка! Как он мило подскакивает, когда управляет музыкантами!.. А вы что это за картину взяли, чай, портрет актрисы какой-нибудь?
— Нет, так, головку…
— Не может быть… Покажите.
— Да зачем вам?
— Ну, пожалуйста, я вас прошу.
Костин, видя, что нельзя отделаться, развернул гравюру…
— Какая хорошенькая! Прелесть! — воскликнула Александра Петровна.— А это что подписано по-французски?
— Это название цветка, перед которым она стоит. Есть такой цветок — не тронь меня называется.
— Не тронь меня? Вот чудное прозвание!
— Да… Если его тронуть рукой, он сейчас свернется и завянет…
Костин долго смотрел на купленную им гравюру, не говоря ни слова. На лице его отражалась глубокая скорбь… По какому-то странному случаю эта женская головка необыкновенно напоминала Анну Михайловну, что и заставило Костина отдать за нее последние деньги…
Наконец он свернул гравюру и, бережно завернув ее, стал прощаться с Александрой Петровной.
— Да куда же вы?.. посидите…
— Нет, Александра Петровна, у меня что-то болит голова и горло…
— Я велю отвезти вас в карете.
— Не надо, ради бога, не надо… Тут недалеко, доеду и на извозчике…
— А послушайте, я когда-нибудь к вам заеду посмотреть вашу комнатку… Старину вспомнить…
— Заезжайте… милости просим… Только заранее предупреждаю вас, что после этой квартиры она покажется вам куда убогой!.. Вы уж отвыкли от таких комнаток и скоро там соскучитесь.
— Ничего, ничего, не соскучусь… Смотрите же, ждите меня.
Она подала ему руку, и он, пожав ее, вышел.
— Какой это у вас гость такой был? — спросила бойкая Настя Александру Петровну по уходе Костина.
— Старый знакомый, Настя… Мы с ним когда-то вместе горе мыкали…
— Должно быть, не из богатых.
— Бедняк совсем; а добрый человек, Настя,— и такой чудак. Я ему деньги взаймы давала — не берет; невесту богатую хотела сосватать — не хочет; место бралась достать — отказался.
— Подлинно чудак!.. Да, может, одумается, придет.
Прошел месяц. Александра Петровна не собралась посмотреть житье-бытье Костина. Она даже почти забыла о нем. Приехал ее покровитель и вдруг сильно захворал. Воспользовавшись этим, она стала умолять его, чтобы он пристроил ее при жизни своей… Покровитель разжалобился, выхлопотал статскому советнику очень видное место и помолвил с ним свою фаворитку, выговорив себе право в случае выздоровления по-прежнему посещать ее… За несколько дней до свадьбы Александра Петровна вспомнила свое обещание посетить Костина. Ей хотелось сообщить ему о близкой перемене судьбы своей и попенять, что он совсем забыл старую знакомую.
Она поехала одна, без человека, и насилу отыскала дом, где жил Костин. Ее повели по узкой, крутой и темной лестнице. Отворив дверь, она была поражена спертым воздухом, пропитанным запахом лекарств. Перегородка, не доходившая до потолка и оклеенная самыми дешевыми, пестрыми обоями, разделяла комнату на две части. Одна часть была совсем темная и служила передней. В ней-то и очутилась разодетая, раздушенная Александра Петровна. Ее встретил Волчков и сперва был озадачен появлением такой нарядной барыни; но потом, вглядевшись в черты ее и вспомнив, что Костин рассказывал ему о встрече с бывшей Сашенькой, узнал ее и воскликнул, застегивая сюртук, потому что был без жилета и в ситцевой рубашке:
— Ах! Александра Петровна…
— Узнали меня? — сказала та, улыбаясь.— Что, Виктор Иваныч дома?
— Дома-то дома, да теперь спит.
— Ничего, разбудите его…
— Нельзя-с, Александра Петровна, доктор не приказал.
— А разве Виктор Иваныч болен?
— Крепко болен-с. Не знаю, встанет ли…
— Да что же с ним, давно ли это? — спрашивала Александра Петровна, у которой лицо выразило искреннее соболезнование.
— Да почти с того самого дня, как был у вас.
— Ах, боже мой! Да, я помню, он жаловался, что у него болит голова и горло.
— Простудился, видно-с; тифозная горячка сделалась…
— Ну что ж, доктор ездит?
— Как же, ездит… Степанов сюда приехал.
— Степанов! Ну, слава богу… Да есть ли деньги на лекарства? А то постойте, я вам дам.
— Нет-с, зачем, не извольте беспокоиться… Степанов лекарства сам берет-с, на свой счет. А за стол и квартиру заплочено…
— Да все же, может быть, пригодятся…
— Нет-с, зачем же…
— Нельзя ли мне хоть взглянуть на него?
Волчков отворил осторожно дверь перегородки, и Александра Петровна вошла в комнату, где лежал больной. Она была очень бедна и в беспорядке. Повсюду валялись книги, бумаги; на столике пред кроватью больного стоял сальный огарок в медном подсвечнике и стклянки с лекарством; прямо перед глазами Костина, на противоположной стене, висела sensitive… Это был первый предмет, на который падал взор его, когда он просыпался.
Александра Петровна едва не вскрикнула, увидав лицо Костина… Так оно было худо и желто!.. Все черты его как-то вытянулись и заострились. Голова была повязана бумажным пестрым платком.
Александра Петровна постояла несколько минут молча; потом отерла тончайшим батистовым платком, обшитым кружевами, две слезинки, выкатившиеся из глаз ее… и вышла.
— Поклонитесь ему от меня,— сказала она Волчкову, провожавшему ее по лестнице.— Да скажите, что я замуж иду…
Не один физический недуг сломил Костина… Его одолевала нужда с своими вседневными серенькими, копеечными заботами… подтачивало горе, сознание своего бессилия, даром гибнущей молодости, бесполезной и не озаренной даже надеждой на лучшие дни.
По отъезде из Еремеевки он еще имел два места: одно — у какого-то помещика, обуреваемого страстью писать нелепейшие хозяйственные статьи и проекты, и даже повести, в которых он выставлял соседей; он заставлял Костина исправлять в этих произведениях своей досужей фантазии слог. Но видя, что все-таки журналисты не соглашаются их печатать, обвинил в этом Костина и отказал ему, порядком измучив его в несколько месяцев. Потом бедный молодой человек определился учителем к одной барыне, имевшей бесчисленное множество детей; но барыня эта требовала, чтобы он не только преподавал им все науки, но чтобы учил их и танцам, и клеил им коробочки по воскресным дням. Наконец, когда один из ее сыновей упал с голубятни и вывихнул себе ногу, она приписала эту катастрофу несмотрению учителя, хотя ему решительно не было никакой физической возможности усмотреть за всеми девятью чадами в одно время,— и Костин получил увольнение. Он поехал было в деревню к Загарину, чтобы посоветоваться с ним относительно своей будущности, но тот отправился за границу для покупки каких-то агрономических машин; и Костин, найдя наконец попутчика, решился возвратиться в Петербург — поискать счастья. Там он сначала толкнулся было к журналистам, но дела ни у кого не нашлось: каждый имел своих постоянных сотрудников, которых лишать работы для нового неизвестного лица было бы странно…
Костин снова стал давать уроки и даже брал на дом переписывать бумаги. Кто-то обещал ему найти место в частной компании; но и там нужна была протекция. Директоры компаний, из коих некоторые то и дело прославлялись в фельетонах за свои гуманные воззрения, смотрели на являвшихся к ним искать места без рекомендательных писем от сильных мира сего с высоты величия не хуже иного директора департамента. Перебиваясь со дня на день и в сильные морозы щеголяя поневоле в тоненьком истертом пальто, Костин в одно прекрасное петербургское утро схватил горячку. Волчков, который также был очень беден, отдавал последние деньги за лекарства и скоро очутился сам без гроша. Но, к счастью, подоспел к нему на подмогу Степанов, переведенный на службу в Петербург, и избавил Волчкова от одного из главных расходов — платы доктору за визиты.
Незадолго до болезни своей Костин встретил на улице майора-художника Кубарева, который объявил ему, что нарочно взял отпуск в Петербург за тем, чтобы рисовать в Эрмитаже с великих мастеров.
— Имеете известие от Еремеевых? — спросил майор Костина, тщетно желавшего ускользнуть от его беседы.
— Нет, не имею никаких,— отвечал Костин, у которого при этом замерло сердце. Он боялся услышать что-нибудь недоброе и не ошибся.
— Ведь Анна-то Михайловна вскоре после вас на тот свет отправилась. Детей еще при жизни ее Никанор Андреич отправил в Мутноводск в пансион; там одна родственница генеральши Грызунчиковой, приезжая из Москвы, очень образованная дама, пансион открыла. Отличный пансион, под особенным покровительством губернатора состоит… Всем помещикам было циркулярно предложено, чтобы детей туда отдавать… Многие отдали, и Никанор Андреич тоже.
Костин оставил майора, даже не простясь с ним, что его весьма удивило.
— Они разлучили ее даже с детьми,— говорил Костин, идя домой.— О, бедная, бедная страдалица!
Он чувствовал, что как будто тяжелый камень взвалили ему на грудь. Слезы подступали у него к горлу, он едва мог дышать. Давно уж он ждал этой вести, давно был приготовлен к ней, но тем не менее она поразила его глубоко и в самое сердце.
С этого дня он только и жил воспоминанием об Анне Михайловне. И чего бы он не делал, чтобы взглянуть еще хоть на портрет ее! Велика была его радость, когда он в одной гравюре, выставленной в окне магазина, нашел случайное сходство с этой женщиной, которую ему уже не дано было видеть. Он бы тотчас купил гравюру, но у него не было денег… И он довольствовался тем, что каждый день ходил смотреть на нее. И во время болезни он не спускал с нее глаз и велел повесить ее перед собой. Однажды он попросил Волчкова сыграть ему элегию Эрнста {57}, также написанную на смерть любимой женщины. Волчков исполнил тотчас же его просьбу; он глядел на картину и слушал, и в памяти его воскресло все прошлое: и долгие вечера, проведенные вдвоем с любимой женщиной, и этот вечно-памятный день, когда при блеске июльского солнца, при тихом шуме колосьев, она сказала ему, приложив его руку к сердцу: пока оно бьется — твоя, навсегда твоя!
Александра Петровна уже сделалась статской советницей Псалмопевцевой и ехала с супругом на другой день свадьбы к своему бывшему покровителю. При повороте на Невский им встретилась бедная похоронная процессия. На дрогах, запряженных парой, стоял голубой гроб, покрытый полинявшим церковным покровом. Впереди шел в черной ризе священник. Позади — ни одной кареты, ни одних дрожек — только Волчков да Степанов следовали за гробом. Лицо Степанова было сумрачно. Волчков утирал глаза платком.
— Ах, господи! — воскликнула Александра Петровна, спуская окошко кареты и высовываясь в него; потом перекрестилась и прибавила: «Царство ему небесное, моему голубчику!»
— Что это, знакомый кто-нибудь умер? — спросил басом супруг.
— Да, добрый был человек, я его давно знала.
— Видно, бедный?
— Очень бедный…
— Служил где-нибудь?
— Служил, да что-то не поладил с начальниками, так вышел.
— А! верно, был из нынешних,— заметил супруг.— Они нигде не уживаются… всё идеи! Закрой, душенька, окошко: снег идет.
Снег в самом деле повалил сильней и скоро покрыл мокрыми белыми хлопьями и прохожих, и крыши домов, и великолепную карету сделавшей себе карьеру Александры Петровны, и бедный гроб не сделавшего себе карьеры Костина…
‹Общие комментарии› (Н. Г. Кузин)
А. H. Плещеев выступил как прозаик во второй половине 40-х годов XIX века, опубликовав первый рассказ «Енотовая шуба» (с посвящением Ф. М. Достоевскому) в журнале «Отечественные записки», 1847, № 10. В 1848—1849 годах он опубликовал рассказы «Папироска» (Современник, 1848, № 1), «Протекция» (С.-Петербургские ведомости, 1848, № 50—59), повести «Шалость» (Отечественные записки, 1848, № 11), «Дружеские советы» (Отечественные записки, 1849, № 3).
Вернувшись к литературной деятельности в 50-е годы (в Оренбурге), Плещеев публикует на страницах петербургских и московских журналов и газет повести «Наследство», «Житейские сцены. Отец и дочь», «Пашинцев», «Две карьеры», «Призвание», рассказы «Буднев», «Ломбардный билет», «Неудавшаяся афера», «Благодеяние», «Чиновница», «Ловкая барыня», «Чему посмеешься, тому и послужишь», «Литературный вечер», «Лотерея».
При жизни Плещеева выходили два сборника его прозаических произведений: первый — в 1860 году («Повести и рассказы А. Плещеева». В двух частях), второй — в 1880 году («Житейское»). В этот сборник вошли повести «Две карьеры», «Пашинцев» и рассказы, написанные в конце 60-х годов: «Жилец», «Барышня», «На свою шею», «Чужие письма».
Наиболее полное издание беллетристических произведений А. Н. Плещеева было осуществлено в 1896—1897 годах («Повести и рассказы А. Н. Плещеева». В двух томах. Под ред. П. В. Быкова).
В наше время две плещеевские повести — «Житейские сцены. Отец и дочь» и «Пашинцев» — издавались в книге: П л е щ е е в А. Н. Избр. Стихотворения. Проза. М., 1960.
Дружеские советы
Впервые напечатана в журнале «Отечественные записки», 1849, № 3, март.
Вместе с другими русскими писателями 40-х годов (Достоевским, Салтыковым-Щедриным, Гончаровым), в центре внимания которых были представители различных городских слоев общества, Плещеев включается в обсуждение острой проблемы русской действительности: о месте личности.
Будучи одним из активных посетителей «пятниц» Петрашевского, Плещеев, как и другие петрашевцы, придерживался взгляда, что бедность является «непосредственным препятствием к развитию человека и общества» [96], что в некоторой степени определило идейно-художественный замысел этой повести и выбор ее молодых героев.
Житейские сцены. Отец и дочь
Впервые опубликована в журнале «Русский вестник», 1857, № 11 {58}, октябрь, кн. I. Подписана криптонимом А. П.-въ.
Написана в Оренбурге, в пору, когда Плещеев, уволившись из военной службы, устроился канцелярским чиновником в Оренбургскую пограничную комиссию.
Анализируя плещеевские произведения в статье «Благонамеренность и деятельность», Н. А. Добролюбов отозвался о «Житейских сценах» довольно кратко, но с одобрением — за живое и верное изображение среды и за тот мотив социального протеста, который проглядывается в поступке казначея Агапова, «маленького человека», одного из тех, в ком «можно видеть, что при всей видимой апатии и неразвитости этих людей, есть и у них… смутное сознание неудовлетворенности своего положения» (Д о б р о л ю б о в Н. А. Избр. философ. произв., т. 2. М., 1948, с. 353).
Пашинцев
Впервые опубликована в журнале «Русский вестник», 1859, № 21—23, ноябрь — декабрь {59}.
Это произведение Плещеев считал наиболее удачным среди своих беллетристических сочинений, хотя и писалось оно, по признанию автора, «в минуты глубочайшего омерзения к окружающему, и оттого она (повесть.— Н. К.) действительно вышла несколько желчной», как заметил Плещеев в письме гражданскому губернатору Оренбурга Е. И. Барановскому (Шестидесятые годы. М.—Л., 1940, с. 457).
Едкое высмеивание ничтожности «высшего света» губернского города Ухабинска (то есть Оренбурга, где была написана повесть) оренбургская знать встретила с возмущением,— об этом Плещеев сообщил Н. А. Добролюбову в письме от 25 февраля 1860 года: «…Я бы желал, Николай Александрович, если это будет вам не в тягость, чтобы вы прочли также и повесть, напечатанную в „Р. Вестнике“ («Пашинцев»), за которую я предан анафеме в Оренбурге,— и высказали бы о ней свое мнение» (Русская мысль, 1913, № 1, с. 145).
С публикацией повести в «Русском вестнике» тоже были осложнения, о которых Плещеев писал в другом письме Добролюбову: «На днях продал я в „Р. Вестник“ большую повесть на три номера. И не хотел туда давать — да деньги понадобились… ну и отдал. Да уж не рад и деньгам. Эту редакцию Вестника обуял дух какого-то евнушеского целомудрия. Пристают ко мне — то вычеркни, да другое вычеркни — неприлично… Как будто литература для барышень существует… Нет! Уж в другой раз лучше Краевскому или Дружинину пошлю, а не в „Р. Вестник“» (Русская мысль, 1913, № 1, с. 138—139).
В статье «Благонамеренность и деятельность» Добролюбов особо не выделил повесть среди других плещеевских произведений и разговор о ней вел в плане общей идеи статьи — развенчать «платонический либерализм и благородство» литературных героев, «заеденных средою», и видел основное достоинство повести в авторской позиции, возвышающейся над таким «платоническим благородством».
Две карьеры
Впервые опубликована в журнале «Современник», 1859, № 12, декабрь, т. 78, с. 323—414.
Повесть написана Плещеевым в Илецкой Защите (ныне г. Соль-Илецк) Оренбургской губернии. Посвящена С. Н. Федорову — тогда начинающему литератору, служившему в кадетском корпусе в Оренбурге. Плещеев оказывал ему всяческую поддержку, способствовал публикации его произведений в столичных изданиях, а в 1860 году посвятил ему рассказ «Неудавшаяся афера».
Среди произведений «оренбургского цикла» в повести «Две карьеры», пожалуй, сильнее, чем в других, ощущается перекличка с ранней прозой автора, в частности с той же повестью «Дружеские советы», если иметь в виду романтический идеализм главных героев обеих повестей, тот самый, про который Плещеев с сочувствием говорит на первых страницах повести «Две карьеры»: «Но все же эта детская вера в лучшие дни, этот шиллеровский энтузиазм, эти романтические порывы — не лучше ли они, чем пошлое разочарование, которым во время оно у нас щеголяли с легкой руки Печорина, или так называемая практичность…»
H. A. Добролюбов в статье «Благонамеренность и деятельность», напротив, иронизировал по поводу героев-романтиков: «Да спрашивается,—что они могут делать-то, тщедушные и кабинетные люди? Мечтатели они все, а не деятели и даже не прожектеры. Мечтают они очень хорошо, благородно и смело; но всякий из нас может сказать им: „какое нам дело, мечтал ты или нет?“ — и тем покончить разговор с ними. Рассуждая психологически, конечно, нельзя не уважать прекрасных свойств души Костина и Городкова; но для общественного дела, смеем думать, от них так же мало могло быть толку, как и от других юношей, о которых рассказывает г. Плещеев в других повестях» (Д о б р о л ю б о в Н. А. Избр. философ. произв., т. 2. М., с. 338).
Впрочем, Добролюбов считал, что и в повести «Две карьеры» Плещеев возвышается «над поклонением благонамеренности своих героев» и симпатизирует им только потому, что «более выдержанных практически типов… до сих пор еще не представило русское общество».
Примечания
1
М а й к о в В. Критические опыты, т. 1. Спб., 1891, с. 132—133.
(обратно)2
Литературный архив, вып. 6. Л., 1961, с. 212.
(обратно)3
Ч е р н ы ш е в с к и й Н. Г. Полн. собр. соч., т. 14. М., 1949, с. 64.
(обратно)4
Русский инвалид, 1846, № 228.
(обратно)5
Пантеон и репертуар русской сцены. Спб., 1848, № 5, с. 72.
(обратно)6
Щ у р о в И. А. А. Н. Плещеев. Жизнь и творчество, Ярославль, 1977, с. 106.
(обратно)7
Русский инвалид, 1847, № 228.
(обратно)8
Д о б р о л ю б о в Н. А. Избр. философ. произв., т. 2. М., 1948, с. 333.
(обратно)9
Там же, с. 353.
(обратно)10
Письмо А. Н. Плещеева к В. П. Острогорскому. ИРЛИ, ф. 599, № 229-а.
(обратно)11
Г а р а н и н а Н. Литературно-критическое наследие А. Н. Плещеева.— Вестник МГУ. Сер. 7, 1961, № 3.
(обратно)12
Надежда (фр.).
(обратно)13
Дело сделано (фр.).
(обратно)14
Прощай (фр.).
(обратно)15
Я уже не в том возрасте, чтобы это делать (фр.).
(обратно)16
Признания (фр.).
(обратно)17
За неимением лучшего (фр.).
(обратно)18
Чересчур экзальтированной (фр.).
(обратно)19
Прекрасный, в сущности, человек (фр.).
(обратно)20
Это страдание (ит.).
(обратно)21
С закрытой шеей (фр.).
(обратно)22
Почему не могу ненавидеть тебя (ит.).
(обратно)23
В котором часу мы пойдем? (фр.)
(обратно)24
В котором часу начинается? (фр.)
(обратно)25
А ваш муж? (фр.)
(обратно)26
Я похищаю вашего мужа (фр.).
(обратно)27
И потом я себя плохо чувствую сегодня (фр.).
(обратно)28
Пойдемте, пойдемте (фр.).
(обратно)29
Человек с дурной репутацией (фр.).
(обратно)30
Ваш муж вас ищет. Вы остаетесь? (фр.)
(обратно)31
Нет, нет… (фр.)
(обратно)32
И что речь идет о добром деле (фр.).
(обратно)33
Очаровательных талантов (фр.).
(обратно)34
Что с вами, Мишель? Вы взволнованы? (фр.)
(обратно)35
«Парижская любовь» (фр.).
(обратно)36
Но во имя неба (фр.).
(обратно)37
Боже милосердный! (фр.)
(обратно)38
Я все забыла (фр.).
(обратно)39
Какая подлость! Донос! (фр.)
(обратно)40
Конечно (фр.).
(обратно)41
Я не сведуща в таких делах (фр.).
(обратно)42
Мишель, какая мысль мне пришла! (фр.)
(обратно)43
Это презабавно (фр.).
(обратно)44
Я потрачу четверть часа (фр.).
(обратно)45
«Жизнь галантных дам» (фр.).
(обратно)46
Первых любовников (фр.).
(обратно)47
Увеселения (фр.).
(обратно)48
Вопросом чести (фр.).
(обратно)49
С детьми из хороших семей (фр.).
(обратно)50
И бог знает кем (фр.).
(обратно)51
Сейчас это носится в воздухе… сколько говорят об этом! Он вольнодумец. Мы видим временные правительства, состоящие из сапожников и портных (фр.).
(обратно)52
Что этот молодой человек очарователен (фр.).
(обратно)53
Милые бранятся — только тешатся (дословно: маленькие ссоры утверждают дружбу — фр.).
(обратно)54
Но в сущности (фр.).
(обратно)55
Светский молодой человек (фр.).
(обратно)56
Плохо воспитанными людьми (фр.).
(обратно)57
Эти гибельные идеи (фр.).
(обратно)58
Верьте мне, мой дорогой (фр.).
(обратно)59
Среди них есть хорошенькие (фр.).
(обратно)60
Непринужденный разговор (фр.).
(обратно)61
Который превосходно вальсирует (фр.).
(обратно)62
Непринужденный разговор (фр.).
(обратно)63
Совсем светский (фр.).
(обратно)64
Ей-богу (фр.).
(обратно)65
Кончится тем, что она совсем оголится (фр.).
(обратно)66
Я бы отдала одну, лишь бы не видеть другую (фр.).
(обратно)67
Поверьте мне: это человек опасный (фр.).
(обратно)68
Как на войне (фр.).
(обратно)69
Но в обществе человек неприятный (фр.).
(обратно)70
Я поражен, сударыня,…и как много прелестных женщин! (фр.).
(обратно)71
Во всеуслышание (фр.).
(обратно)72
«История женской морали» (фр.).
(обратно)73
Моего старого друга (фр.).
(обратно)74
Очень приятно (фр.).
(обратно)75
У вашего дядюшки (фр.).
(обратно)76
Которая делает погоду (фр.).
(обратно)77
Идите за вашими вещами (фр.).
(обратно)78
По праву власти и по праву происхождения (фр.).
(обратно)79
Злоязычник (фр.).
(обратно)80
Цепочка, большой круг, прогулка, поклон дамам (фр.— фигуры бальных танцев).
(обратно)81
Увеселения (фр.).
(обратно)82
Это ужас! этому нет названия! (фр.)
(обратно)83
Лучше поздно, чем никогда (фр.).
(обратно)84
Садитесь здесь (фр.).
(обратно)85
Продвинуть (фр.).
(обратно)86
Видимо, он еще не видел общества (фр.).
(обратно)87
Придать блеск (фр.).
(обратно)88
Добрый день (фр.).
(обратно)89
Сядьте, я прошу вас (фр.).
(обратно)90
Это в самом деле славный человек (фр.).
(обратно)91
У него большая семья (фр.).
(обратно)92
Итак, до свидания, спасибо (фр.).
(обратно)93
Ребенок, дитя (фр.).
(обратно)94
Мимоза, недотрога (фр.).
(обратно)95
Медвежьего уха (фр.— травянистое растение).
(обратно)96
Этот тезис особенно последовательно отстаивал критик Валерьян Майков, рекомендуя беллетристам «заняться основательным изучением экономического мира» (см. М а й к о в В. Н. Соч. в 2-х т., т. 1, Киев, 1901, с. 177—183, 190—191).
(обратно)Комментарии
1
В печатном издании ошибочно: «Нади». Далее замеченные неисправности в тексте печатного издания (за исключением отдельных случаев, которые могут быть интерпретированы как устаревшее написание) устранены, как правило, без каких-либо указаний на это.— Примеч. ред. электронной версии издания.
(обратно)2
«Aurora-valzer» — «Вальс утренней зари» — сочинение немецкого композитора Вебера.
(обратно)3
…кого бы выбрать, Блюхера или Фанни Эльслер…— Блюхер Гебхард Леберехт (1742—1819) — прусский генерал-фельдмаршал, в 1813—1815 годах командовал прусской армией в войне с Францией, успешно действовал в сражении при Ватерлоо; Эльслер Фанни (1810—1884) — австрийская балерина, одна из выдающихся представительниц романтического балетного искусства, в конце 40-х годов гастролировала в Петербурге и в Москве.
(обратно)4
…два-три французские романа, как, например, «Оберманн» и «Адольф»…— «Оберман» — роман французского писателя Этьена Сенанкура (1770—1846), открывающий серию образов разочарованных молодых людей, находящихся в разладе с обществом. По мотивам романа Ф. Листом написана музыкальная пьеса «Долина Обермана». «Адольф» — роман французского писателя и публициста Бенжамена Констана де Ребека (1767—1830).
(обратно)5
«Серенада Шуберта»… и «Последняя Мысль» Вебера.— Шуберт Франц (1797—1828) — австрийский композитор. Создатель романтической песни-романса, лирико-романтических симфоний и песенных циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь»; Вебер Карл Мария фон (1786—1826) — немецкий композитор и дирижер. Основоположник немецкой романтической оперы («Вольный стрелок», «Эврианта», «Оберон»), создатель многих вокальных и других сочинений.
(обратно)6
Билье-ду — любовная записка (фр.). (В печатном издании: «…билье-ду…». Здесь и далее поясняемые фрагменты в комментариях приведены к стандарту оформления цитат перед примечанием (Мильчин А. Э., Чельцова Л. К. Справочник издателя и автора. М., 1999).— Примеч. ред. электронной версии издания.)
(обратно)7
Бруль-он — черновик, первый набросок (фр.).
(обратно)8
Ремизится…— ремизиться — поставить реми́з, быть в недоборе взятки (карточный термин).
(обратно)9
До свидания!..— В печатном издании без выделения. В первоисточниках повестей «Дружеские советы» (Отечественные записки. 1849. № 3. — ) и «Пашинцев» (Русский вестник. 1859. № 24. — ru.wikisource.org/wiki/Русский_вестник/1859#.D0.A2.D0.BE.D0.BC_24) имеются иные выделения курсивом, несущие смысловое усиление,— кроме тех, которые присутствуют в печатном издании. В этой электронной версии печатного издания восстановлены те из них, которые не потеряли актуальности.— Примеч. ред. электронной версии издания.
(обратно)10
Кипсек (устарев.) — роскошно изданный альбом гравюр, преимущественно женских головок, иногда с текстом.
(обратно)11
…сыграть что-нибудь из Мейербера или Россини.— Мейербер Джакомо (1791—1864) — композитор, создатель ряда героико-романтических опер («Пророк», «Гугеноты» и др.).
(обратно)12
В Большом театре давали «Соннамбулу» (Сомнамбулу)…— опера итальянского композитора Винченцо Беллини (1801—1835), крупнейшего мастера искусства бельканто — вокального стиля, отличающегося певучестью, легкостью, красотой звучания.
(обратно)13
Рубини Джованни Баттиста (1794/95—1854) — итальянский певец (тенор), один из лучших исполнителей партий, особенно героических, в операх Дж. Россини, В. Беллини, автор лирических песен.
(обратно)14
«Аллегри» — будьте веселы (ит.) — надпись, делавшаяся на пустом билете лотереи; лотерея, в которой розыгрыш производится сразу после покупки билета.
(обратно)15
Отель-гарни — меблированный отель; меблированные комнаты (фр.).
(обратно)16
Тармалама — прочная шелковая или полушелковая ткань (тюрк.).
(обратно)17
…вроде моряка Жевакина…— Жевакин — персонаж комедии Н. В. Гоголя «Женитьба».
(обратно)18
…от чтения Поль-Февалевых «Amours de Paris»… — Поль Феваль (1816—1887) — французский писатель.
(обратно)19
Барбульяж — пачкотня (фр.).
(обратно)20
Басан (правильнее басон) — плетеное изделие (шнур, тесьма, бахрома), идущее на украшение мебели, одежды, драпировок и др.
(обратно)21
…читала что-то подобное у Гандракура или Фудраса.— Гандракур (1816—1876), Фудра (1810—1872) — французские писатели, авторы романов из великосветской жизни.
(обратно)22
…наполненном туровскою мебелью…— туровская мебель — мебель, выпускаемая известными мебельными мастерами второй трети XIX века А. и К. Тур. Фирма Тура вместе с другой известной фирмой Гамбса была основным поставщиком мебели для петербургской знати.
(обратно)23
…лежала раскрытая книга… Брантома.— Брантом Пьер де Бурдейль (1540—1614) — французский писатель-мемуарист.
(обратно)24
Лукреция Флориани — героиня одноименного романа французской писательницы Жорж Санд (1804—1876).
(обратно)25
Кобчик — хищная птица семейства соколиных, уничтожает насекомых и грызунов.
(обратно)26
Здесь и далее в повести «Пашинцев» восстановлены присутствующие только в первоисточнике (Русский вестник. 1859. № 24) пробельные строки, имеющие характер «немых» заголовков.— Примеч. ред. электронной версии издания.
(обратно)27
…говоря словами Гоголя, хоть три года скачи, ни до какого государства не доскачешь.— фраза городничего из первого действия комедии Н. В. Гоголя «Ревизор».
(обратно)28
«То был гвардейский офицер…» — цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Прекрасная партия».
(обратно)29
…вроде Устиньки г. Островского…— Устинька — героиня комедии А. Н. Островского «Праздничный сон до обеда».
(обратно)30
Адоратер — поклонник (фр.).
(обратно)31
Роберт, Бертрам, Алиса — герои оперы «Роберт-Дьявол» композитора Джакомо Мейербера.
(обратно)32
…какие-то бенедиктовские стихи…— Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807—1873) — русский поэт. Его сборник «Стихотворения» (1835) имел шумный, но кратковременный успех.
(обратно)33
«Оставь сомнения свои…» — перефразированная цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Когда из мрака заблужденья…».
(обратно)34
«Такие души я люблю давно…» — перефразированная цитата из поэмы М. Ю. Лермонтова «Сказка для детей».
(обратно)35
«…ты любил ее…» — перефразированные слова Гамлета («Я любил ее, как сорок тысяч братьев любить не могут…») из трагедии В. Шекспира «Гамлет».
(обратно)36
«Нет! Я, не споря…» — слова Алеко, героя поэмы А. С. Пушкина «Цыганы».
(обратно)37
«Лобзай меня, твои лобзанья…» — цитата из стихотворения А. С. Пушкина «В крови горит огонь желанья…».
(обратно)38
«Кто идет перед толпою…» — цитата из стихотворения А. И. Полежаева «Цыганка».
(обратно)39
«Не расцвел и отцвел…» — цитата из стихотворения А. И. Полежаева «Вечерняя заря».
(обратно)40
«Волшебный демон, лживый, но прекрасный.» — строка из стихотворения А. С. Пушкина «В начале жизни школу помню я…».
(обратно)41
…было у него сочинение… Легуве…— Легуве Эрнст (Габриэль Жан Батист Вильфрид) (1807—1903) — французский драматург, автор пьес «Луиза де Линьероль», «Дамская война» и др.; проповедовал устойчивую семейную мораль.
(обратно)42
…историю любви Бельтова с Круциферской.— Бельтов и Круциферская — герои повести А. И. Герцена «Кто виноват?».
(обратно)43
«Ты любишь горестно и трудно…» — слова Старика, героя поэмы А. С. Пушкина «Цыганы».
(обратно)44
Конкеты (от французского conquête) — завоевание, освоение, покорение, победа.
(обратно)45
Неисправность унаследована из изд.: Русские повести девятнадцатого века 40—50-х годов. Том 2. 1952; пропущенное слово восстановлено по первоисточнику (Русский вестник. 1859. № 24. Декабрь. Кн. 1. С. 660.— Примеч. ред. электронной версии издания.
(обратно)46
«Она страшней врагов опасных…» — есть предположение, что автором стихотворения является сам Плещеев. В его поэтических сборниках оно отсутствует.
(обратно)47
Лафатер Иоганн Каспар (1741—1801) — швейцарский писатель, автор популярного трактата по физиогномике «Физиогномические фрагменты…».
(обратно)48
Галль Франц Йозеф (1758—1828) — австрийский врач, создатель френологии — лженауки о влиянии внешних форм черепа на психические способности людей.
(обратно)49
Надимов — герой комедии «Чиновник» русского писателя В. А. Соллогуба (1813—1883), тип пустозвона, либерального фразера, его имя стало нарицательным, неоднократно использовалось и в русской критике (например, в статье Н. А. Добролюбова «Губернские очерки»).
(обратно)50
Описка автора. Правитель канцелярии и далее в тексте фигурирует то как Василий Кузьмич, то как Кузьма Васильич.
(обратно)51
…неистово вызывающий в райке Гризи…— вероятно, Джулия Гризи (1811—1869) — итальянская певица, сопрано, средняя из сестер Гризи, знаменитых представителей искусства бельканто.
(обратно)52
Бремер Фредерика (1801—1865) — шведская писательница, автор романов «Соседи», «Родной дом», «Жизнь братьев и сестер» и ряда других; в творчестве Ф. Бремер ощутимы морализаторские тенденции.
(обратно)53
Толерантность — терпимость к чужим мнениям и поступкам (лат.).
(обратно)54
…их радость…— В печатном издании эти слова заключены в угловые скобки как восстановленный пропуск, однако в источнике, по которому печатается текст повести (Современник. 1859. № 12, декабрь. Т. 78 С. 363), они присутствуют.— Примеч. ред. электронной версии издания.
(обратно)55
Пеллико Сильвио (1789—1854) — итальянский писатель, карбонарий. 15 лет провел в крепости. Автор трагедии «Франческа да Римини», автобиографических записок «Мои темницы».
(обратно)56
Тамарин — герой одноименного романа русского писателя М. В. Авдеева (1821—1876).
(обратно)57
Эрнст Генрих Вильгельм (1814—1865) — чешский композитор и скрипач, автор «Патетического концерта» для скрипки с оркестром, концертино, полонеза и других пьес, фантазий на темы из опер «Отелло» Верди, «Пророк» Мейербера.
(обратно)58
В печатном изд. ошибочно: № 19.— Примеч. ред. электронной версии издания.
(обратно)59
Сведения неверны. Повесть опубликована в т. (№) 24 журнала (1859) за ноябрь (кн. 1. С. 106—146; кн. 2. С. 429—480) и декабрь (кн. 1. С. 645—672).— Примеч. ред. электронной версии издания.
(обратно)
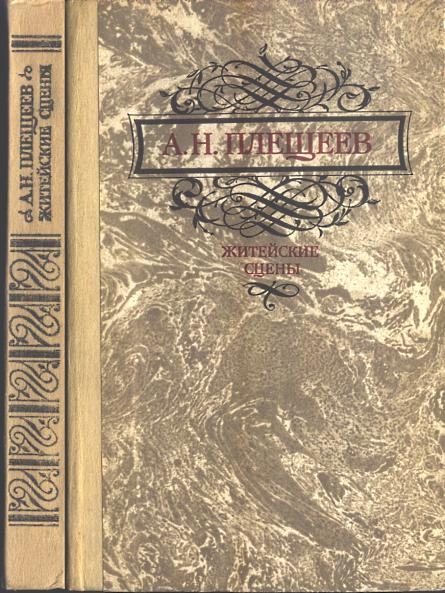

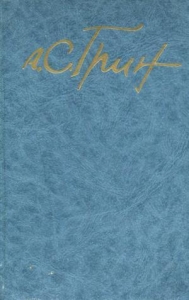

Комментарии к книге «Житейские сцены», Алексей Николаевич Плещеев
Всего 0 комментариев