А. С. Погорелов
Мрак
I
Было тусклое, дождливое осеннее утро. В господском доме Верх-Камышинского завода с покосившимися полами, обвалившеюся штукатуркой лепных потолков, с голыми, ободранными стенами, на которых блестело кое-где золото некогда дорогих обоев, угрюмо ходил из конца в конец по длинному ряду комнат управляющий Камышинскими заводами горный инженер Псалтырин. Он был мрачен, как туча, и нервно крутил свои тощие тараканьи усы. Что-то чрезвычайно скорбное, страдальческое ютилось в резких складках его измученного лица и в больших серых глазах, упорно смотревших, но ничего не видевших перед собою. Иногда он подходил к окну и, заложив за спину руки, долго стоял, не двигаясь и почти не сознавая окружающего.
Дождь монотонно отбивал беспрерывную дробь, и водяные струйки, как бесконечные слезы, торопливо сбегали вниз по стеклу, перегоняя друг друга. Из окна сквозь серую мглу смутно виднелась заводская площадь и раскиданные по ней безобразные развалины заводских строений: кричная фабрика с рухнувшею внутрь корпуса крышей, развалившаяся и размытая дождем доменная печь, покачнувшееся набок здание бывшей заводской конторы с зияющими окнами без рам, голые черные остовы истлевших заводских сараев. Правее тускло мерцала поверхность обмелевшего пруда; дальше, за ним, мерещились неясные, едва заметные очертания гор.
Камышинские заводы давным-давно бездействовали (производительность их умерла вместе с крепостным правом) и представляли собою печальное зрелище. Заводские строения, потеряв всякую ценность, превратились в груды развалин, громадные пруды обмелели, рудниковые шахты засыпались землей и обросли лесом, навсегда умолк перекрестный стук кричных молотов, грохот машин и могучие вздохи доменных печей. Всех заводов было пять, и весь Камышинский горный округ с сотнями тысяч десятин земли раскинулся на три уезда губернии. Это громадное имение с тысячами крепостных рабочих принадлежало когда-то большому барину, жившему постоянно в Петербурге и за границей, потом за миллионные долги сохранной казне было взято в казенное управление. Для казны заводы оказались, однако, сущею обузой, от которой она тщетно старалась отделаться. Из года в год заводы продавались с торгов, но охотников купить их не находилось. Между тем казна не только не получала с заводов никаких дивидендов, но ежегодно несла убытки, достигавшие в последнее время, даже для казны, весьма значительной цифры. Доходы от продажи леса и сдачи в аренду оброчных статей были настолько ничтожны, что далеко не окупали земских налогов и расходов по управлению. Впрочем, несмотря на невероятно низкую оценку камышинских земель для обложения (леса, например, были оценены по 1 рублю десятина), земские налоги не платились заводами с основания земства, и в результате образовалась колоссальная недоимка в сотни тысяч рублей. Все усилия губернского и уездных земств к взысканию недоимки не привели ни к чему. Поэтому земство так же, как и казна, было заинтересовано в скорейшей продаже камышинских имений. Не раз возбуждались ходатайства о продаже их по частям, небольшими участками, основываясь на выгодности такого способа для казны, для земства и для местного населения, но все ходатайства не имели успеха: казна непременно хотела продать заводы в одни руки. Между тем вероятность такой продажи все уменьшалась, потому что земская недоимка, с каковой суммы назначались торги, возрастала, а ценность заводов быстро падала. Не предвиделось конца этой сказке о белом бычке, между тем заводы влачили жалкое существование. Постоянное безденежье давно стало хроническим недугом заводоуправления. Служащие, начиная с заводских смотрителей и кончая лесными сторожами, не получали жалованья по нескольку месяцев, иногда по нескольку лет. Естественно, они превратились в хищную шайку грабителей. Расхищались последние остатки заводского имущества, безжалостно истреблялись леса, громадные пруды превращались в грязные лужи от порчи плотин, все шло к одному концу — к разорению и гибели.
Псалтырин считался, однако, честнейшим человеком. И действительно, он не участвовал в расхищении, хотя в то же время не принимал никаких мер к искоренению этого зла. Решив, что другие порядки невозможны, он давно на все махнул рукой: как идет, так и иди, лишь бы с формальной стороны, на бумаге, все обстояло благополучно. Временами он проклинал свое положение, свое бессилие, нелепые казенные порядки, неподатливость горного начальства, своих подчиненных, нагло расхищавших казенное добро, но дальше речей, полных желчи и раздражения, не шел. В сущности он уже давно ко всему привык, пригляделся, обленился и постепенно опускался все ниже и ниже.
Жил Псалтырин в губернском городе, в заводах же бывал лишь наездом, по нескольку раз в год, и часто совершенно не знал, что там творится.
На этот раз он прибыл в Верх-Камышинский завод по причине одного не особенно значительного обстоятельства, жил здесь уже целую неделю, изнемогал от бездействия и скуки, брюзжал, наводя тоску на всех служащих, и никак не мог придти к тому или другому решению. А дело было вот в чем. Три месяца тому назад в заводе произошел крупный пожар: сгорело 256 крестьянских дворов. Земство ходатайствовало перед казной о бесплатном отпуске из заводской дачи по сту дерев на каждого погорельца. Ходатайство было уважено, причем указание места для вырубки предоставлено было усмотрению горного начальника, горный начальник предоставил это Псалтырину, а последний в свою очередь заводскому смотрителю Голубеву. Голубев назначил Соболевское урочище в тридцати верстах от селения, совершенно недоступное для вывозки леса. Погорельцы через ходоков жаловались управляющему. Псалтырин, выслушав ходоков, раскипятился и обещал лично разобрать дело на месте. Приехав в завод, он, однако, сразу почувствовал совершенную невозможность придти к правильному и справедливому решению: дачи он совсем не знал и боялся быть обманутым, с одной стороны, мужиками, с другой — смотрителем завода Голубевым. Несколько дней велись скучные и бестолковые разговоры с погорельцами, которые толпами ходили в господский дом и все говорили одно и то же: "будьте добры, сделайте божескую милость, заставьте за себя вечно бога молить"; плакали, кланялись в ноги, бранили смотрителя и превозносили добродетели Псалтырина, наконец, стали грозить жалобой исправнику, губернатору и "вышнему правительству". Псалтырин брезгливо и недоверчиво относился к причитанию мужиков о бедности и нужде, тем более, что между ними действительно были и такие, которые не нуждались в пособии, и соображал, что если дозволить им, как они просили, вырубку из Сухого лога, то они непременно заберутся и в Епанчин бор, а Епанчин бор он берег пуще глаза и всегда, подъезжая к заводу, издали любовался им. Он не знал, что Епанчин бор давно уже вырублен, и осталась в целости одна лишь опушка со стороны большой дороги. С другой стороны, он был убежден, что если отказать мужикам и отвести Соболевское урочище, по указанию смотрителя, то вырубка все равно будет произведена не там, а в ближайших местах, может быть, в том же Епанчином бору, с ведома и разрешения Голубева, который, как он узнал стороной, уже и цену назначил — по 20 рублей с двора за право рубить где угодно и сколько угодно.
Находясь в таком безвыходном положении, Псалтырин прикидывал так и этак, говорил и советовался со всеми: с волостным писарем, старшиной, с мужиками, с самим Голубевым. Последний, впрочем, на все был согласен и даже, к удивлению Псалтырина, советовал удовлетворить мужиков.
— Да ведь тогда они весь Епанчин бор вырубят! — возражал ему Псалтырин.
— Уж это как есть, — вяло и равнодушно соглашался Голубев.
— Что как есть?
— Вырубят.
— Так что же ты толкуешь — Сухой лог?
— Можно уберегчи.
— Что?
— Можно стражу поставить в бору. Не хитрость уберечь эко место.
Псалтырин пристально смотрел на Голубева с намерением угадать его сокровенные мысли, но лицо последнего ничего не выражало.
"Он, кажется, не сомневается, мерзавец, что все выйдет по его желанию, — думал Псалтырин: — А вот отведу Сухой лог, нарочно Сухой лог отведу". И говорил вслух:
— Ну что ж, отводи Сухой лог.
— Слушаю-с, — отвечал Голубев и безжизненною походкой удалялся из комнаты.
Но через час Псалтырин отменял свое решение. Как только он оставался один, в его голове оказывалось столько аргументов против Сухого лога, что он звонил, звал Голубева и говорил ему: "Погоди, я еще подумаю".
Наконец, утомившись всею этою бестолковщиной и собственною своею нерешительностью и придя в сквернейшее состояние духа, Псалтырин распорядился не пускать к себе мужиков. Мужики целыми часами стояли без шапок у ворот, мокли на дожде и все-таки давали о себе знать, посылая к управляющему в качестве представителей и ходатаев старшину, старосту, писаря или кого-нибудь из влиятельных обывателей.
II
Дождевые струйки тоскливо одна за другой ползли по стеклу. Псалтырину казалось, что и мысли его, такие же скучные, бесцветные и однообразные, вяло ползут беспорядочною вереницей. А в сердце гнездилась тоска, ноющая, как зубная боль.
Заслышав осторожные шаги в коридоре, Псалтырин вздрогнул и быстро отошел от окна к столу, несколько раз провел руками по лицу, стараясь стереть с него скорбное выражение, и, что-то насвистывая, стал перелистывать бумаги с притворно-деловым видом.
В дверях показался Голубев, или Ирод, как его называл Псалтырин, и почтительно вытянулся, дожидаясь, когда его заметит управляющий. Тот, не поворачивая головы, как человек, не желающий отрываться от занятий, спросил:
— Чего тебе?
— Старшина пришел.
— Ну?
— Просится к вам.
— Пусть войдет.
— Айда! — сказал Ирод, обернувшись назад. Вошел старшина, солидный и благообразный мужчина лет сорока пяти, в длинном сюртуке, с знаком на груди. Помолившись на иконы, он низко поклонился, тряхнул головой и, переступив с ноги на ногу, откашлялся. Псалтырин с веселым, почти беззаботным видом шутливо обратился к нему:
— Тихону Иванычу! Его степенству! Здравствуй, здравствуй!
Старшина еще раз поклонился.
— Как ваше драгоценное?
— Слава богу, живем помаленьку.
— Ну, что скажешь? Голубев, подай стул.
Голубев подал стул. Старшина покосился на него, но не сел.
— Садись.
— Не беспокойтесь.
— Садись, садись.
Старшина крякнул, переставил стул ближе к двери, раздвинул фалды сюртука и осторожно присел на край стула.
— Ну, что скажешь?
— Да что, все насчет того же.
— Насчет чего?
— Насчет тех делов.
— Каких делов?
— Насчет, то есть… извините… насчет лесу.
— Что же насчет лесу?
— Желают охлопотать у вашей милости… народишко… Плачутся — главная статья… Жалость смотреть!.. Сделайте божескую милость, будьте настолько добры!
При этом старшина встал и низко поклонился.
— Скорбь — вот главная причина, — продолжал он:- Сами подумайте — эдакое господнее наказание!..
— Скорбь? Какое пристрастие к жалким словам!.. Скорбь!..
— Сделайте божескую милость! Строиться как теперь надо, время идет. По чужим дворам таскаются, по три, по четыре семьи жмутся в одной избе, — жалость смотреть, а не то ли что…
— Ну, ладно: таскаются, скорбь. Так я-то что же?
— Просят бедность ихнюю пожалеть.
— Ну, жалею и скорбь вашу разделяю. Понимаешь, — жалею, скорблю?
— Конечно… за это благодарим.
— Ну, а дальше что?
— Будьте милостивы до конца, прикажите насчет леску.
— Вам было сказано: рубите, возите, стройтесь на даровщину, грабьте казну с разрешения высшего начальства.
— Так-то так, только ежели с Соболевского, так это что ж? Все одно что ничего. Единого бревна не вывезут: нет туда летом проезду.
Псалтырин пожал плечами.
— Посмотрели бы вы, — продолжал старшина, — как люди живут: кто в бане, кто в амбаре, кто в шалашике из досок, так ведь это — боже ты мой!.. Да с малыми-то ребятишками на холоду, под дождем. Питаются Христовым именем. Ни дела, ни работы, — вся душа изболела. Ведь это надо посмотреть.
Искренние нотки в речи старшины раздражали Псалтырина. "Мерзавец, как заливается, — думал он, — а сам первый мироед".
— Бабы-то совсем изошли слезами, — продолжал старшина, — мужики сами не свои, ходят как оглашенные.
— Захаров, небось, тоже слезами изошел! Мужик бедный: тысяч двадцать в банке лежит.
— Не о Захарове речь, не за него прошу.
— Нет, уж ты меня извини, Тихон Иваныч, не верю я твоим жалким словам, вовсе не такой ты жалостливый человек, каким прикидываешься. А кто тому же Захарову выдал пособие, не ты ли? Добрые люди собрали по подписке для нищих погорельцев, а ты что сделал? Кому ты эти деньги роздал? Разделил по дворам, а у Захарова четыре дома, так ты сколько ему отвалил? Беднякам полтинники да четвертаки, а Захарову рубли? Выдал Смирнову, выдал Ситникову, Живодерову, Волокитину, которые тысячными делами ворочают. А? Правду ли я говорю?
Старшина был ошеломлен таким неожиданным оборотом в разговоре. Он вдруг вспотел, беспокойно зашевелился на месте и виновато заморгал глазами.
— Что, не правду ли я говорю?
— Ах, господи, как тут судить! Просили, как и мы, говорят, погоревшие, и нас бог убил… чтоб безобидно всем… по-божьи. Мне что ж? Подумал, подумал я — ежели совесть позволяет, пусть берут.
— И тебе не стыдно? Пусть берут. Да ведь тебе, а никому другому была поручена раздача пособий нуждающимся? Понимаешь, нуждающимся? А ты кому роздал? Захаров нуждается? Живодеров нуждается? Эх, Тихон Иваныч, Тихон Иваныч! Ведь те деньги, что достались Захарову и другим, ты отнял у бедняков, у тех самых бедняков, что теперь голодные и холодные мыкаются без приюта. Как же ты их не пожалел? Как ты, такой жалостливый человек, милостыню, поданную бедным людям Христа ради, перехватил и отдал Захаровым и Живодеровым, которые сами, если б захотели, могли бы всех прокормить, а?
Старшина, красный и потный, ежился и без всякой нужды сморкался в платок. Псалтырин, взволнованный собственными словами, ходил по комнате.
— Берите, коли совесть не зазрит? Глупая, бессмысленная отговорка. Что тебе до их совести? Ты бы свою совесть спросил. Да и какая у них совесть? Воры, грабители, кровопийцы, у них совесть, где она? У них совести столько же, сколько вот у этого Ирода (Псалтырин кивнул головой в сторону Голубева). Посмотри на это деревянное лицо, — есть у него совесть? Он человека задушит, и совесть в нем не пробудится, потому что ее нет. Зверье! Да, впрочем, ты даже и этого не сказал, что, мол, коли совесть вам позволяет, — нет, ты говорил: надо и вам, потому и вы погоревшие, надо по-божьи, разделить по дворам — святое дело, вот что ты говорил. А тут "скорбь, смотреть невозможно", жалостный вид на себя напустил. Эх, ты! А эти деньги? Ты думаешь, что богачи их жертвовали? Не беспокойся. Миллионер Сумов отвалил два рубля да Мотыгин — три, только и всего. Остальные все мелкота. Иной последний рублишко подписал. А ты этот рубль отдал Захарову, мерзавцу, грабителю, которого повесить мало.
— Дал маху, что говорить! — молвил старшина.
— Вот почему я не верю, чтоб ты хлопотал о бедняках. Нет, не о них ты хлопочешь, а все о тех же Захаровых, Ситниковых, Живодеровых.
— Ну, уж это…
— Погоди, погоди. Во-первых, получить даром сто дерев — не баранья рожа, но не в этом дело. Захарову надо не сто, а тысячу. Где он их возьмет? Надо купить, а тут он получит их даром. Несчастные мужички, которые теперь с горя голову потеряли и потому развевают грусть-тоску по кабакам, получат по сотне дерев для себя, а повезут к Захарову, Захаров им только за перевозку заплатит. 250 дворов, по сотне — 25 тысяч дерев, а вывезут втрое больше — уж это верно, и все Захарову, Ситникову, Смирнову, Живодерову, а беднякам лишь так, кое-что, крохи перепадут. Ты думаешь, я не знаю ваших порядков? Очень хорошо знаю. Пошел бы ты просить да кланяться, да жалкие слова говорить за голытьбу — как же! Они тебя, может быть, и просили, да ты на них наплевал. Нет, не для них ты пришел сюда. Говори прямо: Захаров да Живодеров послали тебя? Они тебе сказали: ступай, сходи к старому выжиге, что как волк на сене сидит — ни себе, ни людям, попроси хорошенько, не пожалеет ли голытьбу? Не так ли?
Старшина косил глаза и тяжело дышал.
— Ну, по совести: просил тебя Захаров?
— Просить-то просил, скажем, да только что… — начал было старшина, но Псалтырин не дал ему договорить.
— Ну вот! Ну вот! Я так и знал! — вскричал он торжествующе и затем прибавил тоном глубокой укоризны: — Эх, вы, люди, люди.
Старшина не пытался более возражать. Наступило продолжительное молчание. Псалтырин, как маятник, ходил из угла в угол. Старшина несколько раз откашливался, как бы сбираясь начать говорить, но ограничивался тем, что встряхивал головой и вздыхал. Голубев точно прирос к месту и бессмысленно хлопал глазами: казалось, он не слыхал ни одного слова и стоял тут только потому, что ему не разрешали уйти.
— Ну, надо это дело покончить! — наконец, проговорил Псалтырин, сморщившись, как от зубной боли. — Не нравится вам Соболевское урочище, выбирайте другое. Ну вот, например… Ирод, дай карту.
Голубев, как тень, неслышно отделился от стены, подошел к шкафу, достал громадной величины план дачи и развернул его на полу.
— Ну вот, вся дача перед тобой, как на ладони, — говорил Псалтырин, — отводи места, выбирай любое, — полная тебе воля. Ну, что же ты?
Старшина глядел на план и молчал.
— У Черного камня, — продолжал Псалтырин, — вот здесь, смотри: ты знаешь это место, — не возьмете, скажете: далеко, дорог нет, да я и сам вас туда не пущу… У Бобылька вырублено, на Сосновке выгорело, по берегу Тунтора ни одного бревна не найдешь, — все начисто разворовано, при благосклонном содействии заводского смотрителя. Не так ли, Ирод?
— По Тунтору лесу быть не должно, так точно.
— А куда он делся?
— Вырубили-с.
— Кто вырубил?
— Вам хорошо известно. Я всегда докладывал своевременно.
— Докладывал, своевременно! Действительно, докладывал, только не своевременно. Боже мой, самовольные порубки в 20, в 30, в 100 тысяч дерев, неизвестно кем учиненные! Чудеса! Строили барки, плотили плоты, работали сотни рабочих, и обо всем этом только тогда стало известно, когда барки и плоты уплыли, рабочие разбрелись по домам и всякие следы исчезли, кроме пней да голого места. О, господи! Как земля тебя носит, Ирод? Ну, хорошо. Дальше. Черная речка — тоже для вас не годится. Где же?
Старшина думал, что можно бы указать Ванькину гарь, Медвежий лог и тому подобное, однако молчал и тоскливо смотрел на ярко раскрашенную карту дачи. Молчание его начинало производить странное действие на Псалтырина: мысли его невольно возвращались к Сухому логу, о котором просили мужики, и ему стало казаться, что нет решительно никаких оснований отказывать в их просьбе и что все доводы за отказ лишены всякого смысла. Впрочем, если б старшина не молчал, а настаивал, Псалтырин нашел бы опять тысячу возражений.
— Ну, что же ты молчишь?
— Воля ваша.
— Ну, однако?
— Да что… как хотите, так и делайте.
— Странный ты человек, Тихон Иваныч! Ну, а ты как думаешь, Ирод? — обратился Псалтырин к Голубеву:- Можно им Сухой лог отвести?
— Отчего нельзя? Можно.
— Да ведь сам же ты говорил, что они тогда весь Епанчин бор перепортят?
— Можно сторожей для охраны поставить.
— Сторожей, сторожей. Это мошенников-то, воров, негодяев? За штоф сами себя продадут. Будут пьянствовать, безобразничать, обирать мужиков — вот и все. Уж именно приставить козла караулить капусту.
— Как угодно. Мое дело сторона.
— Будто бы? А, говорят, кто-то уж и цену объявил по 20 рублей со двора, а?
Голубев чуть-чуть покраснел и несколько глухо проговорил:
— Какую цену?
— За право вырубки леса из ближайших мест, а?
— Не знаю-с.
— Не слыхал?
— Не слыхал-с.
— А ты не слышал, Тихон Иваныч?
— Насчет чего-с?
— Насчет того, что кто-то с погорельцев просил по двадцати рублей за вырубку леса?
— Не знаю-с… не слыхал-с. Кто бы это? Не знаю-с.
— Так, так. Не слыхал, не видал, знать не знаю, ведать не ведаю. Ох-хо-хо! Да, да.
Псалтырин опять сморщился, как от физической боли, и замолчал.
— Так вот что, Тихон Иваныч, — сказал он, наконец, точно пробуждаясь от сна:- ты подумай еще, посоветуйся, а подумаешь, приходи… ну, хоть завтра утром часов в десять. И я подумаю.
— Слушаю-с.
— Пока до свидания.
— Будьте здоровы.
— С богом!
Старшина и Голубев вышли на крыльцо.
— Эко погодье! — сказал старшина.
Голубев посмотрел на серое небо, на мокрые крыши и ничего не ответил.
— Что это, господи, измаял расспросами, — начал старшина, — докудова это?
— Прощайте, — лениво сказал Голубев и хотел идти.
— Погоди-кось, постой на минутку, — удержал его старшина. — Ты бы того… что ли… этого…
— Чего?
— Как-нибудь того бы, а? Какого лешего в самом деле.
— О чем ты?
— Да ты бы того… сбавил маленько, а?
— Чего сбавил?
— Ну вот! Ведь мы один на один. Ты бы по-божьи… по пяти рубликов, а? Чудесное бы дело!
— Десять, меньше ни копейки.
— Ну?
— Верно. Прощай.
— Да ты постой!
— Нечего стоять. До свиданья.
— Погоди-кось, постой, говорю!.. Пять бы.
— Некогда мне.
— Да ты погоди! Какого ляда. Больше шести не дадут.
— Дело ихнее.
— Ей-ей, не дадут, ни-ни.
— Я и не прошу.
— Знаю, что не просишь. Видишь, какая статья…
— И десять дадут, и двадцать дадут.
— Ни-ни, жаловаться хотят, вот, друг ты мой, какая оказия.
— Я не боюсь.
— Знаю, что не боишься. Только опять же прикажет управляющий Сухой лог отвести — вот и все. Тогда, брат, сам знаешь… А тут бы сегодня же и дело все порешили.
Голубев вдруг засмеялся сухим, деревянным смехом, причем кожа на его лице растянулась и сморщилась в какие-то странные и нелепые складки.
— Пускай отводит, — сказал он, — мне все равно. Не мытьем, так катаньем. Я их протоколами доеду.
Старшина в недоумении развел руками.
— Как же так, братец мой?
— А так.
— Ну, не знаю.
— А вот узнаете.
— Это ведь тоже, брат… как тебе сказать…
— Андрюшка в тюрьме отсидел?
— Ну, отсидел, это верно.
— А Пикараев? А Марчев? А за что? Не фордыбачь! Протокол, другой, третий — раз, два, три, и готово! "Я и в лесу не бывал". Врешь — был. Вот что. Понял?
— Так-то так.
— Прощай.
— Нет, постой-кось. Погоди, говорю, слушай-ка. Вот что… видишь ли… ты бы поопасался маленько того.
— Чего поопасался?
— А того… такая штука, что разговоры идут нехорошие.
— Какие разговоры?
— Сам знаешь, какой у нас народ… самый отчаянный.
— Ну?
— Ну вот, и идут разговоры. Говорят: "Что Ионычу было, то и ему будет". Это про тебя, значит.
Голубев побледнел: Ионыч был вальдмейстер, которого убили.
— Вот, братец ты мой, — продолжал старшина: — Тоже и с народом надо сноровку. Сам знаешь, какой у нас народ отчаянный, сущие разбойники, будь они прокляты, варнаки!
— Кто это говорил? — помолчав, спросил Голубев.
— Мало ли кто.
— Я подам явку.
— О чем?
— А вот что ты говорил.
— Перекрестись! Я тебе ничего не говорил. Ничего не слыхивал, знать не знаю, ведать не ведаю.
Голубев подумал и сказал:
— Восемь.
— Ни-ни!
— Как хотите.
— Пять рублей и по рукам.
— Семь.
— Нет, и не говори.
— Ну, черт с вами!
— По рукам?
— Ладно.
Голубев и старшина ударили по рукам и дружески распростились. Затем Голубев скрылся у себя во флигеле, а старшина, выйдя за ворота, зашагал под дождем через площадь.
III
На другой день утром Псалтырин проснулся разбитый и больной. Заснув лишь в третьем часу ночи, он спал плохо и тревожно. Хмурясь и охая, он едва поднялся с постели. В окно глядело хмурое, ненастное утро. Шумел ветер, в окно хлестал дождь.
Маленький худенький старичок с безбородым лицом старой бабы, по прозванию Марыч, внес самовар. Марыч занимал при заводе совершенно фантастическую должность заводского чертежника, на самом же деле служил на побегушках, в качестве не то лакея, не то рассыльного. Поставив на стол самовар, Марыч низко, по-старинному, поклонился и пожелал Псалтырину доброго утра.
— Здравствуй, здравствуй, Марыч, — рассеянно сказал Псалтырин.
Марыч подал ему платье и тщательно вычищенные сапоги, затем занялся приготовлением чая. Исполнив все, он по-бабьи подпер щеку рукой и с благочестивым видом стал у порога в ожидании разговоров. Против обыкновения, Псалтырин, не сказавши ни слова, уселся за чай. Согнувшись, — с выражением душевной муки в неподвижно устремленных глазах, он рассеянно мешал ложечкой в стакане и машинально прислушивался к прихотливо-тоскливой песне потухающего самовара. На улице завывал ветер.
— Старшина дожидается, — сказал, наконец, Марыч, не выдержав тягостного молчания.
— А? — переспросил Псалтырин.
— Старшина пришел.
— Старшина? Какой старшина?.. Ах, да… Ну, пусть войдет.
Через минуту вошедший старшина помолился на икону, поклонился и сказал:
— Чай с сахаром!
— Здравствуй, — холодно отвечал Псалтырин. — Ну, что?
— Ничего-с. Приказали придти.
— Да, да, да… Ну, что ж ты придумал?
— Да что… На вашу милость положились.
— Ты говори толком.
— Во всем без препятствия.
— Ничего не понимаю.
— Согласны сделались мужички… Стало быть, ежели на Соболевском, к примеру, и на то согласились из вашей воли не выходить.
Псалтырин посмотрел на него с недоумением.
— На Соболевском? Из моей воли не выходить? Что ты говоришь?
— Так точно.
— Что это значит? Как на Соболевском, ежели туда проехать никак невозможно?
— Уж, стало быть, стараться будут как-нибудь.
— Черт знает что!
Псалтырин, почуяв опять какую-то каверзу, взволнованно заходил по комнате. Лицо его покрылось пятнами.
— Что это значит? Скажи хоть раз в жизни правду без подвохов! — звонким голосом закричал он.
— Говорят: ежели на Соболевском, и на том без препятствия.
— Да ты скажи мне: можно туда проехать?
— Кто его знает, можно ли. Конечно, я, например, не езжал.
— Стало быть, нельзя?
— Кто знает! Может, и проедут, благословясь.
— Да как проедут, когда нет дорог? Скажи мне по совести, отчего такая перемена?
— Разве их поймешь! Хомутаются, хомутаются. Сами знаете, какой у нас народ. Галдят, галдят безо всякого толку. Так и тут: пошумели, пошумели, а теперь "спасибо, говорят, и на этом". Сами знаете, вам хорошо известно о нашей необразованности.
— Все ты врешь. Не верю я тебе ни на один вершок. Марыч! Позови ходоков, что были у меня, Куприянова и Киселева. Живо!
— В волость беги, они в волости сидят, — прибавил старшина.
Вскоре явились ходоки, несколько встревоженные.
— Что у вас случилось? Какая вас блоха укусила? — накинулся на них Псалтырин.
Ходоки тревожно переглянулись, вопросительно взглянули на старшину и спросили:
— Насчет чего это?
— Старшина просит отвести Соболевское урочище, — так, говорит, общество желает. Верно это?
— Верно.
— Но почему? Что это значит?
— Время не терпит, — сказал Куприянов:- Докудова тянуть? Ждали-ждали, просили-просили, конца-краю не видно! Осень на дворе, — не до зимы тянуть.
— Так. А если я вам Сухой лог отведу, как вы сами просили, тогда как? Ладно?
— На что лучше… — скороговоркой начал было Киселев, но Куприянов не дал ему договорить.
— Погоди, не мели! — сказал он сердито и затем обратился к Псалтырину: — Не путай ты нас ради Христа, отводи Соболевское: и тебе по нраву, и нам по душе. Мы теперича согласны, больше ничего.
— Чудеса! Вчера слышать не хотели, а сегодня просите — что это такое? Объясните мне ради бога.
— Чего тут объяснять, барин? Ты сам нас уговаривал на Соболевском. Мы согласны — больше ничего.
Псалтырин, неожиданно рассердившись, вышел из себя.
— Мерзавцы! — закричал он звонким голосом, сверкая глазами. — Предатели! Вор на воре, мошенник на мошеннике. Кому верить, кого слушать? Сам черт не разберет!.. Я, впрочем, знаю, чьи это штуки! Я разберу! И я вам все-таки Сухой лог отведу, мерзавцы!
Мужики, опустив глаза, притихли и съежились.
— Все-таки Сухой лог отведу. Да, так и знайте!.. Марыч, позвать ко мне Ирода! Позови этого негодяя!
Марыч скрылся.
— Я знаю, чьи это штуки!.. Предатели! Друг друга съесть готовы, мошенники!.. Есть ли у вас хоть что-нибудь человеческое! — кричал Псалтырин, как исступленный.
Вернувшийся Марыч доложил, что Голубев рано утром уехал на мельницу.
— Ara!.. Знает кошка, чье мясо съела!.. Ну да хорошо, хорошо… не отвертится. А вы, милые люди, — обратился Псалтырин к мужикам, — можете убираться вон, нам рассуждать больше не о чем! С богом!.. с Иродом в стачку вошли — ясное дело. Вон!
Испуганные старшина и ходоки поспешно удалились.
Псалтырин, бледный, с перекосившимся от гнева лицом, остался один среди комнаты. Руки его нервно дрожали, глаза горели лихорадочным блеском. В комнату неслышно вернулся Марыч с злорадно-торжествующей улыбкой на лице. "Как он их!.. Так и надо, так и надо!" — думал он.
— Неужели я так малодушен и подл, что еще оставлю на службе этого наглого негодяя? — говорил Псалтырин вслух. — Вор, мошенник, грабитель!.. Никогда. А ходоки? А старшина? Каковы негодяи!.. Боже мой, какая подлость, какая грязь! Можно с ума сойти!.. Ну-ка ты, старая крыса! — обратился он к Марычу: — рассказывай, как дело было…
Марыч просиял. С таинственным видом и фамильярной улыбкой сообщника он подошел ближе и заговорил, понизив голос до полушепота:
— Такое дело. Главная статья — запугал он их протоколами. "Все одно, говорит, нам из его воли не выйти, так ли, сяк ли, а он нас доймет".
— Кто это он?
— Старшина это про Ирода говорит: "Запужает он нас, говорит, протоколами: кто, говорит, больше кричал, с того и зачнет".
— Какими протоколами?
— А по лесной части. Страсть они их боятся! Был, не был в лесу, тут всегда можно погубить человека. Ну вот, они и напуганы.
Псалтырин нашел, что в этом нет ничего невероятного. Он вспомнил, как год тому назад был привлечен к суду за самовольную порубку человек, давно умерший; как крестьянин Пустышев, проживши несколько лет в другой губернии и вернувшись на родину, оказался по такому же делу приговоренным к тюремному заключению и, за пропуском всяких сроков, должен был отбыть это наказание; вспомнил и многое другое.
— Ужасно, ужасно! — бормотал Псалтырин.
— На шести цалковых порешили, — рассказывал между тем Марыч: — пятнадцать просил, десять просил — не дали, уперлись. Ну, он и согласился на шесть.
"Съехал, однако, на шесть, — с злорадством подумал Псалтырин, — а не будь меня, и двадцать содрал бы".
— Ироду-то только по пятишне пришлось, — повествовал Марыч, — а цалковый волостным за хлопоты.
— Однако по пяти рублей — тысячу двести восемьдесят рублей. Ну, да хорошо, посмотрим, как ты их получишь, дьявол!
— Чего! Уж он получил. Вчера вечером и деньги отдали; им страховка из земства вышла, так из страховки. Теперь в расчете.
Псалтырин был поражен.
— А ты не врешь? — спросил он, остановившись перед Марычем со сверкающими глазами.
Марыч перекрестился.
— Вот, ей-богу… Разрази меня на месте… Лопни мои глаза!..
— Следовательно, сам старшина из волостного сундука выложил деньги Ироду? Не может быть!
— Провалиться на месте!
— Великолепно! Я их всех под суд отдам, подлецов. Сходи за старшиной.
Марыч, увидев, что дело принимает серьезный оборот, струсил.
— Не погубите… не выдайте меня… Узнают, что я рассказал, — беда!.. — забормотал он жалобно.
Взбешенный Псалтырин цыкнул на него, как на собаку, и Марыч, проглотив какое-то слово, выбежал из комнаты.
Марыч очень долго не возвращался. Надо думать, что он принужден был все рассказать старшине, старшина совещался с писарем. Псалтырин метался по комнате, как зверь, в нетерпении заглядывая в окно, и даже выбегал на крыльцо. Наконец, явился трепещущий Марыч, за ним шел старшина. Последний был несколько бледен, но холоден и суров, как человек решившийся.
— Садитесь, садитесь, почтеннейший, — насмешливо обратился к нему Псалтырин.
— Не беспокойтесь. Мы постоим.
— Скажите, пожалуйста, страховые деньги уже выданы погорельцам?
— Так точно, выданы.
— Когда?
— Вчерашнего числа.
— Полностью?
— Все на очистку.
— Без всяких вычетов?
— Так точно. И расписки есть на всю сумму.
— Так-с, и расписки есть. Прекрасно. Теперь слушай, что я тебе скажу. Ирода я увольняю сегодня же. Относительно взятки, которую ты ему выдал и себе взял из страховых денег, будет произведено дознание. Я думаю, что мужики не будут покрывать Ирода и скажут правду, когда он уже не будет страшен. Тем паче, что я им отвожу Сухой лог, как они сами просили. Понимаешь?
Старшина страшно побледнел, однако сумел сохранить на лице выражение некоторой твердости.
— Так-то, почтеннейший, — продолжал Псалтырин язвительно, — не миновать тебе суда, не миновать. Ирод скажет: не бирал, не знаю, и писарь останется в стороне, а вот уж ты-то — как кур во щи! Обделали тебя, как дурака. И стоило ли огород городить? Из-за чего? Много ли на твою долю досталось? Во всяком случае, пустяки, — рублей пятьдесят, самое большее — сто… Дурак ты, дурак!
Старшина, сделав несколько нетвердых шагов вперед, вдруг повалился Псалтырину в ноги.
— Не погубите!.. — крикнул он странным голосом. Псалтырин испуганно отшатнулся.
— Перестань!.. Как тебе не стыдно! — сказал он, подавляя в себе брезгливое чувство. Но старшина выл и причитал как баба. Бессвязно и глупо выкрикивал он что-то о своем сиротстве, о малых детях и жене, о своем неразумии и темноте, ползал, рыдал, бился головой об пол. Когда, наконец, вняв настойчивым приказаниям Псалтырина, он поднялся с полу, по лицу его текли непритворные слезы, смешанные с грязью, а лицо было измято и красно. Он продолжал всхлипывать и бормотать о прощении, о божеском милосердии, о малых детках.
— Ступай! Уходи, уходи! — говорил ему Псалтырин, отворачиваясь. Но старшина снова бросился в ноги и снова заголосил.
— Я тебя вывести прикажу! — уже не владея собой, крикнул Псалтырин.
Старшина медленно поднялся, перестал причитать, утер лицо и, шатаясь, пошел к двери.
— Вон! — вслед ему закричал Псалтырин, выходя из себя от подступившего чувства жалости.
Старшина, выйдя на воздух, долго стоял на крыльце без шапки в каком-то оцепенении. Потом еще раз утер глаза и лицо, нахлобучил шапку и направился во флигель узнать, когда вернется Голубев. Сверх всякого ожидания, Голубев оказался дома. Взглянув в расстроенное лицо старшины, он сказал коротко:
— Ну, рассказывай.
Старшина, пересыпая речь сетованиями и упреками, рассказал события сегодняшнего утра. Голубев, не перебивая, выслушал все с совершенным спокойствием.
— Бить тебя некому, дурака, — сказал он в виде успокоения. Старшина в самом деле успокоился в значительной степени.
— Как же теперь? — спросил он.
— А все так же.
— Как?
— А так.
— Как же так?
— Да ты в самом деле думаешь, что он меня уволит?
— Сегодня же, говорит.
— Ну!
— Не уволит?
— Он у меня, как муха в тенетах. Поершится, покричит, поскачет, да с тем и останется.
— Стало быть, ничего не будет?
— Не беспокойся.
— Ну?.. Ах, подь он к лешему! Как напугал!
— Скоро запьет.
— Ну?
— Верно. Уж я примечаю.
— Ах, шут те!..
— Запьет, опять начнет куралесить.
— А и задал же он мне баню! Такую задал баню, что ну! Думаю, окончательно теперь под суд, на скамью подсудимых! — уже совсем весело говорил старшина. — Стало быть, без сумления?
— Ступай с богом!
— Ах ты, господи!.. Ведь совсем было я испугался… Ах, шут те!.. Ну!..
И успокоенный старшина в наилучшем настроении духа вернулся домой.
IV
В пылу гнева Псалтырину представлялось увольнение Ирода таким простым, необходимым и справедливым делом, что он не думал о его последствиях, но по мере того, как раздражение его проходило, начали выступать разного рода препятствия и неудобства. "Не уволишь, не уволишь, — ехидно шептал ему насмешливый голос, — где тебе! Без Ирода ты, как без рук… Начнется томительная передача имущества, которая протянется недели, месяцы… Ирод будет тянуть, путать, запутает и тебя… Откроются такие вещи… Тут только копни, как пойдет сюрприз за сюрпризом, и бог знает еще, чем это может кончиться… Ирод — делец, он все помнит, все знает, а ты ленив и отвык от труда, — где тебе с ним бороться? А теперь ты с ним как у Христа за пазухой…" "Действительно, дьявольская память, башка! — думал Псалтырин и через минуту опять твердил: — И все-таки необходимо уволить…" Вдруг он вспомнил, что Ирод не получал жалованья за пять лет, что при увольнении надо его рассчитать, а касса пуста; вспомнил, что в кассе не хватает трех тысяч, растраченных им, Псалтыриным, в разное время на неотложные надобности, и что, если бы случилась внезапная ревизия, самому Псалтырину не миновать суда. Вспомнил, как не раз в подобных случаях выручал его Ирод, вкладывая свои деньги…
"Ну, хорошо, положим, прогнать — немудреная штука, но кем я его замещу? Кто пойдет на триста рублей в год? Писцы больше получают!.. Извольте найти толкового и честного человека за триста рублей!.. Найдутся охотники, слов нет, но ведь такие же мерзавцы и еще, кроме того, дураки… Вор… Но как не воровать при таком содержании? Разве возможно человеку семейному прожить на триста рублей хоть сколько-нибудь по-человечески?.. И чего жалеть добро, которое никому не принадлежит, о котором никто не заботится?.. Смешно изображать собаку на сене бог знает для кого и для чего!.. Говорят, Ирод притесняет народ. Но ведь это сущий вздор!.. Будь здесь настоящий хозяин или хоть честный смотритель, взвыли бы все в один голос, потому что благодаря Ироду население пользуется многими льготами, и контрибуция его не столь обременительна… Он сам живет и дает жить другим… Он будет уволен, кому станет лучше? — Никому. Вор, вор… Но кто теперь не вор? Где они, эти честные люди? Ирод — мелкая сошка, нуль, ничтожество, без воспитания, без образования, разве можно его строго судить? Есть покрупнее его мерзавцы, и мы пожимаем им руки, свидетельствуем им свое глубочайшее почтение, знакомство с ними считаем за особую честь… Да, да, это вовсе не так просто".
Псалтырин ходил по комнате, лежал на диване, курил и бормотал с негодованием: "Ну не мерзавец ли? Рвать с нищих, с погорельцев, с несчастных, отнимать последнюю рубашку", — то думал через минуту: "Разве он один? Разве не везде одно и то же: грабеж, насилие без стыда, без совести, без малейшей жалости к человеку?.."
Вечером неожиданно явился Голубев и, поклонившись, скромно стал у дверей. Псалтырин страдальчески нахмурился, съежился и не знал, что сказать. Голубев сам начал разговор.
— Я до вашей милости, — сказал он.
— Что такое?
— Пришел посоветоваться. Меня Дубинин на службу зовет. Шестьсот жалованья, место хорошее. Уж вы меня извините, хочу от вас уходить.
— Что такое? Что ты городишь? — вскричал Псалтырин с испугом и побледнел. — Почему? Что за причина?
— Причины никакой, а только что боюсь хорошее место пропустить. Сами знаете, я здесь только триста рублей получаю.
"Финтит, мерзавец", — мелькнуло у Псалтырина в голове, но он сейчас же подумал: "А если в самом деле уйдет? Отчего ему не уйти, если место хорошее?"
— Привык я здесь, положим, на родительском месте, — продолжал Ирод кротким голосом. — Что жалованье маленькое — и это бы ничего, только что нету больше никакой моей возможности.
— Какой возможности?
— Грозятся убить. Сами знаете, какой здесь народ: пропадешь ни за копейку. Уж лучше уйти от греха.
— Убить?.. Что за нелепость? За что? Почему?
— За что? Известно, за мое за усердие. Разве мало у нас неприятностев? Из-за одного лесу, из-за покосов, из-за росчистей, — сущая беда! Я казенные интересы соблюдаю, так они меня за это съесть готовы. Вон теперь говорят: "Убьем, говорят, как собаку".
Псалтырин стал его уговаривать.
— Послушай, Ирод, ведь это же пустяки. Ты не первый год служишь, мало ли что говорят! Конечно, я тебя держать не могу: твоя воля, как хочешь, но если нужен мой совет, то не советую. Что такое Дубинин? — Кулак, самодур, бог его знает, как он там. А здесь ты дома, привык к делу и к тебе привыкли… Впрочем, как знаешь.
— Не придумаю, что и делать, — говорил Ирод, разыгрывая роль беспомощного человека. Наступило молчание. Псалтырин в задумчивости ходил по комнате, Ирод терпеливо стоял у дверей.
— Я понимаю, что триста рублей — ничтожное содержание, — начал Псалтырин. — Ну, я постараюсь прибавить… ну, четыреста, пятьсот, может быть…
Ирод молчал.
— Подумай. Я не советую, а там, как знаешь.
— Вчера мне человек один говорил: поберегайся, говорит, так и так, что Ионычу было, то и тебе.
— Вздор какой, — пробормотал Псалтырин, бледнея.
— Уж вы отведите им Сухой лог, прошу вас из милости: дело будет без греха. Хотелось мне поберечь это местечко, но теперь сам прошу.
Псалтырина точно что кольнуло. Он забыл и о Сухом логе, и о погорельцах, и теперь, вспомнив, нахмурился.
— Насчет Епанчина бора не беспокойтесь, укараулить его — пустяшное дело.
— Ты мне ручаешься? — спросил Псалтырин, хотя хотел спросить другое.
— Будьте покойны. Сам наблюдать буду.
— Ну, ладно. Делай, как знаешь.
Псалтырин вдруг почувствовал страшную усталость и в изнеможении опустился на стул. Ирод молчал, но не уходил.
— Вот вы все недовольны мной за разные непорядки, — начал он каким-то фальшивым голосом, — и точно, я виноват, потому действительно непорядки. А только возможно ли за всем углядеть? Дача большая, сторожей мало, как тут быть? Хоть разорвись, ничего не поделаешь.
— Знаю, знаю…
— Опять же, изволите говорить, сторожа мошенничают… Я не скрываю, действительно не без греха, но как быть?.. Жалованье маленькое, восемь рублей с лошадью, тут рука не подымется взыскивать с человека по закону.
— Да, да…
— А сколько напраслины терпишь, сколько разговоров!.. Боже мой!..
Псалтырин страдальчески сморщился и тоскливо глядел в черную темноту ночи. Ему не нравилась необычная болтливость Ирода, и резали ухо фальшивые интонации его речей. Голубев постоял еще минуты две, поклонился и вышел. Псалтырин, съежившись, бледный, худой, усталый, казался таким жалким, больным, беспомощным существом. Долго сидел он, погруженный в пучину мелочных и вздорных мыслей, наконец, сказал:
— Ну ладно. Не все ли равно? Наплевать!
И вдруг почувствовал облегчение, обрадовался, что теперь он на свободе и может ехать домой. "Завтра же утром на лошадей и к вечеру дома", — думал он, и перед ним промелькнули на мгновение широкие, правильные улицы большого города, светлая, уютная столовая, жена, дети.
V
Псалтырин не уехал, однако, ни на другой, ни на следующий день. Ему не хотелось двинуться с места. Его грызла тоска, та безотчетная тоска, которая по временам давила его, как кошмар, и которую он всегда пытался потопить в вине. Он мало спал, почти не прикасался к пище, предаваясь мрачному отчаянию, и не пускал к себе никого. Присутствие людей его раздражало и малейшее противоречие приводило в ярость. Под влиянием почти физического ощущения страшной пустоты все казалось ему отвратительною бессмыслицей. Тщетно перебирал он в уме одно за другим, что могло бы возбудить в нем теплое чувство, на чем с отрадой могла бы остановиться его измученная мысль, — все представлялось холодным, пустым, бессмысленным, безотрадным, как могила, а в голове, помимо его воли, возникали скверные мысли, только усиливавшие хандру. Он пытался вспомнить свою молодость, свое детство, но воспоминания не доставляли ему ни отрады, ни утешения. Он просто как-то представить себе не мог, что он был когда-то молод, весел, остроумен, смел и жизнерадостен, исполнен благих намерений и блестящих надежд впереди. Надежды, относившиеся к благоденствию человеческого рода вообще и местного населения в частности, казались ему теперь возмутительным лицемерием и самообманом, скрывавшими самое жалкое тщеславие. Надежды не сбылись, но не потому, что население оказалось не столько облагодетельствованным, сколько обездоленным, а потому, что сама иллюзия разрушилась и распалась на свои составные части, блиставший светоч оказался простою гнилушкой, прошла молодость, и с нею все потухло, помертвело, и впереди один мрак и пустота. Если бы теперь удалось ему, даже без всяких усилий, одним своим словом облагодетельствовать все население, десятки тысяч людей, чтобы не было голодных, озлобленных, темных, обиженных и несчастных людей, — он чувствовал, что это не доставило бы ему никакого удовольствия. Что они ему? Они будут сыты, довольны, — чем ему от того будет легче? Разве рассеется от того безотрадная пустота и эта гнетущая душу тоска? Да и зачем им быть сытыми? Разве не все равно, сыты они или голодны? Разве не все равно, честные люди населяют землю или подлецы?
"Честность, честные люди, — думал он, — какие лакейские бестолковые слова, придуманные фарисеями для безмозглых дураков и рабов! И где они, эти честные люди? Видел ли ты за всю свою жизнь это чудо света, хотя бы одного поистине честного человека? Нет, ни разу за всю свою жизнь, хотя мир кишит так называемыми честными людьми. Я тоже ведь честный человек, потому только, что, живя, как тунеядец и паразит, не украл ни одной копейки с грубостью и наглостью мелкого вора. Многие тысячи рублей израсходовало общество на мою великолепную особу. За что? За гнусную комедию, которая на фарисейском языке называется беспорочною службой. Но, может быть, помимо службы, как образованный и просвещенный человек, я внес в общество хоть каплю добра? Нет, из жалкой трусости, по непростительному равнодушию я сознательно и бессознательно вредил благородным стремлениям и хорошим делам и, плывя по течению, потворствовал подлецам, лгал, драпируясь в тогу бескорыстия и благонамеренности, тогда как во всем руководился лишь мелкими и пошлыми мотивами, хвалился своими мнимыми заслугами, а все плохое, что нельзя было скрыть, приписывал деятельности других людей или общим условиям жизни… Лгал всю жизнь и буду лгать впредь до самой смерти… Дойдя до последней степени падения, я, однако, не утратил права называться честным человеком и смотреть прямо людям в глаза… Был ли я по крайней мере хорошим семьянином и старался ли в детях воспитать людей? Нет, и здесь, как во всем остальном, я лицемерил и лгал. Я трепетал от страха при одной мысли, что из моих детей могут выйти истинно честные люди, и сделал все, чтобы в самом зародыше убить в них искру божию. Глупейшие предрассудки и ложь я внушал им, как святыню, а те немногие истины, в которые верил, прятал, как вредное заблуждение…"
И вдруг ему страстно захотелось упасть во прах и, признавши все свое ничтожество, молить о прощении, об очищении и обновлении духа… "О, если б наверное знать, что есть высшее существо, высшая справедливость и разум, что, помимо людской, есть высочайшая милость и правда!" — шептал он побледневшими губами и, став перед образом на колени, долго молился, стукаясь лбом о холодный пол. Но молитва ему не помогала: он попрежнему чувствовал себя оставленным, брошенным, одиноким и, поднявшись с полу, корчился в муках и ломал руки. В окна глядела безмолвная, черная ночь. Ему становилось страшно. Его пугала темнота растворенной двери, пропадавших в тени углов громадного дома и мрак глядящей в окна ночи. В ней мерещились ему неуловимые, но страшные призраки. Страх смерти и чего-то таинственного, неизведанного, и жуткое опасение, что вся усвоенная им иллюзия миросозерцания, условного знания мира может исчезнуть в одно мгновение, и перед ним предстанет то, что действительно есть, чего он не знает, но смутно предчувствует, что оно ужасно, нелепо и безобразно, противно его человеческой природе, — оставляли в нем ощущение холода. Широко раскрытыми глазами, в оцепенении смотрел он перед собою и переживал странное ощущение, будто все вещи видит в первый раз.
Минуту спустя припадок проходил, и он в страшном изнеможении, обливаясь холодным потом, опускался на стул, чувствуя, что надо скорее, как можно скорее чем-нибудь занять себя, забыться, отвлечься от тех ужасных образов, какие лезли в голову, и выйти из этого состояния холодного ужаса, уйти от самого себя. Он с усилием пытался думать о приятных и веселых вещах: о семье, о клубе, о городских увеселениях, о последнем концерте, но все представлялось ему отвратительно пошлым, безобразным, чудовищным… Клубная зала представлялась мрачною, грязною, как последний трактир, с запахом гнили и керосина, звуки оркестра — каким-то диким завыванием, и всюду пошлые, глупые лица не людей, а скотов… Он видел жену и детей, но они казались ему чужими, и когда он мысленно пытался отыскать в них знакомые и милые черты, в груди вдруг подымалась острая боль презрительного сожаления. "Разве я их люблю? — бормотал он. — Боже мой! Я их ненавижу!.. Я их презираю… Говорят, у меня прекрасная жена, эта воплощенная кротость и долготерпение… прекрасная жена… Да, она прекрасная жена, прекрасная мать… Она любит меня и детей, во всем свете только меня и детей… Она обожает нас, как язычник обожает солнце… А если б она знала одну сотую, одну тысячную часть всех мерзостей, какие я совершил, если б только она знала, может быть, она с отвращением отвернулась бы… впрочем, нет… она бы весь мир обвинила, только не меня, я остался бы прав и только несчастлив и потому еще более достоин любви, — такова логика идолопоклонства… О, господи, господи!.. А дети? Я любил их, пока они были малы и наивны, а с тех пор, как выросли и возмужали, во мне засело скрытое недоброжелательство к ним, ненависть, зависть… я не знаю, что это такое… Я ненавижу Катю за то, что она и душой, и телом так поразительно похожа на мать… Она читает романы, вышивает по канве, танцует на вечерах и там ведет с кавалерами поразительно глупые, но безукоризненно приличные разговоры, потом выйдет замуж, станет верною женой и матерью-наседкой, с куриным умом, с куриными хлопотами и заботами, с наивным эгоизмом. Пойдут дети, начнутся мелкие ссоры с мужем, дрязги… Танцы, наряды, милые пустяки и любезные речи кавалеров должны будут уступить другой, более скучной материи, но все же они, только они, навсегда останутся единственною поэзией жизни… Боже мой! Какая страшная нелепость!.. А сын, этот умеренный и аккуратный Митя, который так прекрасно учится? Ему нет еще девятнадцати лет, а он уже на втором курсе горного института… Рассудительный, сдержанный, строго отличающий приличное от неприличного, должное от недолжного, он не попадется в студенческую историю, не заведет рискованных знакомств, напротив, он уже теперь умеет заводить полезные связи, этот мальчишка. Поразительно невежественный и самоуверенный, он обо всем судит с кондачка, довольствуясь общими местами, всегда холоден, ровен, как человек уже поживший. Мое родительское сердце должно бы радоваться, — ведь это осуществляется мечта моей, жизни, ведь я всегда желал его видеть таким, застрахованным от всяческих увлечений, между тем отчего же сознание, что этот молодой старик, этот Молчалин — мой сын, наполняет мое сердце горечью и холодным озлоблением?.. Я его ненавижу, я его презираю, этого чистенького, гладенького, надменного и ограниченного барчонка, эту тупицу без сердца и без мысли… да, ненавижу, ненавижу… О, боже! Как мне все опротивело и надоело!.. И зачем эта ужасная, разрывающая душу тоска?.."
Он знал, что это болезнь, приближение запоя, — знал, что он неизбежно наступит, но еще боролся и надеялся, авось, пройдет. Будь под руками водка, он бы немедленно запил, но водки не было, за ней надо было посылать, а что это значит — все знали, и он боялся подавленных улыбок Марыча и прислуги и той особенной торопливости в исполнении его приказаний, которою хотят показать, что они ничего не знают и не подозревают о том, что с этого момента начнется нечто безобразное и унизительное. Когда наступит время, он, после многих терзаний, скажет Марычу возможно непринужденным тоном: "Вот что, Марыч, возьми на столе деньги и купи водки". Марыч растеряется на минуту, заморгает глазами, потом суетливо ответит: "Слушаю-с, сколько прикажете-с? На все-с?" — и с особенною поспешностью в движениях, не глядя на него, выйдет. Потом явится Ирод с графином и закуской. "В кабаке водка нехорошая, — скажет он смущенным голосом, — не угодно ли, у меня первый сорт", — и так же, не глядя в лицо Псалтырина, чтобы не видеть на нем краску стыда, поспешно уйдет.
— Нет! — вскричал Псалтырин с исказившимся от страдания лицом, — врете вы, изверги! Не позволю над собой издеваться! Не позволю!..
Но припадок бешеного протеста быстро проходил, и Псалтырин со стоном в изнеможении бросался вниз лицом на кровать, подавленный горьким сознанием, что с роковою неизбежностью он должен будет всю чашу унижения выпить до дна.
VI
Псалтырин запил. Красный, опухший, с безобразными щелями вместо глаз, с мутным, блуждающим взором, немытый, нечесаный, полураздетый, он пил без просыпу уже пятые сутки.
Окно было завешено, в комнате был страшный беспорядок: по полу валялись окурки, крошки хлеба, всюду грязь, пыль, сор. Из-под кровати глядели пустые бутылки, под столом стояла початая четверть водки, на столе графин, рюмка, черный хлеб и соль. Псалтырин в припадке самоуничижения не позволял ни к чему прикасаться.
— Пусть грязно, пусть грязно… Не трогать, не нужно! Чем больше грязи, тем лучше, так и подобает… Свинство так свинство! — кричал он охрипшим голосом, размахивая руками и блуждая бессмысленным взором по сторонам.
Он выкрикивал грязные ругательства, горланил песни, рыдал, кулаком бил себя в грудь и плакал пьяными слезами; в промежутках пил, закусывая одним черным хлебом с солью. Он гнал всех и выносил только Марыча, который ему прислуживал.
Ранним утром, когда было еще почти темно, во двор въехала повозка, запряженная тройкою лошадей. Из нее вышла жена Псалтырина и сын Митя. Их встретил Голубев с грустным лицом и помог барыне выйти из экипажа. У ней было измятое и заплаканное лицо,
— Ну, что? — спросила она.
— Не извольте беспокоиться.
— Спит?
— Не могу знать. Едва ли-с.
— Ах, я позабыла вас поблагодарить!.. Благодарю вас, благодарю вас.
Барыня протянула руку Голубеву, который сконфузился и пробормотал:
— Помилуйте-с… счел долгом уведомить…
— Я вам так благодарна, так благодарна. Митя, иди осторожнее: он, может быть, спит.
— Едва ли-с, — повторил Голубев.
Барыня, Митя и Голубев осторожно вошли в прихожую.
— Кто там? — послышался хриплый голос Псалтырина.
Спавший у дверей на тюфячке Марыч проснулся и смотрел на них дикими, недоумевающими глазами. Барыня быстро прошла мимо него и вошла в комнату. Митя разделся в прихожей при помощи Голубева и вошел твердым, решительным шагом. Голубев не посмел войти и остался в прихожей.
Псалтырин лежал на диване. Увидев жену, он приподнял голову.
— Ага! — сказал он, с усилием поднимаясь. — Донна Анна!.. Откуда ты, о донна Анна?.. Донесли! Доложили!.. Ага! И Митька здесь. Ну, полюбуйся, полюбуйся на родителя.
— Здравствуй, Саша! — сказала барыня, скоро и весело подходя к нему, и хотела его поцеловать. — Мы совсем тебя потеряли и так соскучились, что, не предупредив, решились приехать. Притом ты ничего не писал, мы так беспокоились.
Псалтырин грубо отстранил ее рукой.
— Незачем! — вскричал он и дрожащею рукой налил из графина водки, расплескав ее по столу. — Незачем! — повторил он, выпивая рюмку и делая странные гримасы. Водка текла у него с бороды на открытую волосатую грудь.
— Ты бы оделся, Саша, ты такой непрезентабельный.
— Незачем! — с пьяным упорством твердил Псалтырин. — Вот запил… видишь? Ну, смотри, любуйся, какие на мне узоры написаны!.. Грязен, как свинья! Ну и что же?.. Так и надо, так и надо.
— Мы хотели тебе сделать сюрприз, — приехали, не предупредив, — говорила между тем жена с беззаботным видом, но едва сдерживая слезы.
Псалтырин захохотал.
— Сюрприз? Покорно благодарю.
— Мы хотели тебя звать домой, ведь Митя на днях уезжает.
— С богом!
— Мама, разденься, — сказал Митя.
— Ах, да, да… Хорошо, хорошо.
Барыня суетливо стала снимать с себя шаль, шубу и калоши.
— А ты зачем здесь, щенок? — обратился Псалтырин к сыну, который упорно, строго и презрительно-холодно смотрел на отца. Митя пожал плечами и ничего не ответил.
— Не одобряете-с? — продолжал отец. — Вижу, вижу, Митенька Козелков… Знаю, что вы неумолимо строги, господин Козелков, будущий помпадур… Ну, что делать? Что делать? Не взыщите!
— Дайте нам чаю, маме необходимо согреться, — распорядился Митя, обращаясь к Ироду. На слова отца он не обратил никакого внимания.
Вскоре подали самовар, сливки, масло и белый хлеб. Митя молча, с видимым аппетитом, принялся за чай. Барыня, не переставая говорить, растерянно хлопотала около самовара. Руки у ней дрожали и голос прерывался от подступавших слез, хотя говорила она все о веселых и безобидных вещах: о городских новостях, о каком-то Петре Степаныче, который у них был с визитом, о театре, о забавных приключениях в дороге. Псалтырин, казалось, впал в состояние отупения и не слушал. Когда руки его машинально протягивались к графину, у жены вырывалось подавленное восклицание, и она как-то вся опускалась, но, быстро овладев собой, опять начинала весело и беззаботно болтать.
Напившись чаю, Митя заявил, что пора ехать домой.
— Дни короткие, дорога плохая, — сказал он, — и так к вечеру едва поспеем домой.
Мать с укоризною взглянула на сына.
— Погоди, дружок, нельзя же так вдруг, — шепотом возразила она.
— Нечего тут миндальничать, — ответил он громко.
Она испуганно взглянула на мужа и с стремительною быстротой заговорила о чем-то постороннем.
— Маточка! — заговорил Псалтырин, точно пробуждаясь от сна. — К чему ты тараторишь? Как горох сыплешь… к чему?.. Зачем эта ложь? Что я, ребенок, что ли?.. Ты за мной приехала, так и говори: поедем, довольно безобразничать, а то "сюрприз"… Ох, боже мой!..
— Что же, поедем, голубчик!
— А вот не поеду!.. Ни за что!..
— Как не поедешь, Саша?
— Не поеду!
— Положим, ты поедешь, отец, — вмешался Митя, бледный, с блестящими от гнева глазами.
— Что-о?!
— Я тебе говорю, что ты поедешь.
— Ты говоришь?.. Что же, ты силой меня повезешь, а?
— Если понадобится, то и силой.
— Митя, Митя! — с ужасом заговорила мать. — Ради бога, ради создателя!..
Псалтырин поднялся на ноги и, сжав кулаки, весь затрясся от гнева.
Барыня бросилась к мужу и, обнимая его, говорила:
— Ради бога… Саша!.. Милый!.. Успокойся… Митя, уйди!
Но Митя не уходил и упорно смотрел на отца, гипнотизируя его взглядом.
— Уйди, уйди! — кричала ему мать.
— Мама, вспомни, что мы с тобой говорили.
— Уйди, уйди!
Между тем Псалтырин рвался из рук жены, размахивал руками и выкрикивал ругательства.
— Негодяй!.. Щенок!.. Как ты смеешь?.. Я тебя ненавижу, ненавижу!.. — кричал он в исступлении.
Размахнувшись, он нечаянно ударил жену по лицу и, заметив, что она со стоном ухватилась руками за ушибленное место, сразу опомнился. С внезапною нежностью он обнял и ловко посадил ее на диван.
— Прости, милая, — говорил он, целуя ее руки. — Тебе больно?.. Ну, прости, прости… Ну, я свинья… Господи! Что это?
— Ничего, ничего, пустяки, — отвечала она сквозь слезы, счастливая, что он ее приласкал.
Мите были невыносимы эти "телячьи нежности", и, насупившись, он отвернулся к окну.
— У тебя, маточка, все же доброе сердце, доброе сердце, — говорил Псалтырин расслабленным голосом, лаская жену.
— Поедем, голубчик, — говорила она.
— Поедем, поедем, мне все равно… все равно… Меня только этот возмущает… Митька. У-у, зелье!.. Ты меня извини, я выпью… должен выпить… необходимо…
— Не пей, Саша.
— Нет, нет… только одну, только одну… уж ты позволь…
Псалтырин выпил рюмку и хотел налить другую, как вдруг Митя взял графин со стола и переставил на окно, сказав: "Довольно!"
Барыня страшно побледнела, ожидая, что сейчас разыграется дикая сцена. Однако все обошлось неожиданно благополучно. Псалтырин как-то тупо посмотрел на рюмку, на переставленный графин, попытался что-то сказать, но вместо того махнул рукой.
— Ну, хорошо… Ну, довольно, — пробормотал он, откидываясь на диван.
Через полчаса Псалтырины сидели в экипаже.
— До свиданья, до свиданья, — кивая головой и приветливо улыбаясь сквозь слезы, говорила барыня Голубеву, который без шапки стоял подле экипажа и кланялся.
— До свиданья, — машинально повторял Псалтырин, также кивая головой и блуждая бессмысленным взглядом.
— Трогай! — скомандовал Митя.
Лошади дернули. От толчка голова Псалтырина мотнулась, как у новорожденного ребенка. Жена уложила его на подушку. Непролазная грязь, темносинее, хмурое небо, холодный, насквозь пронизанный сыростью ветер, мокрые заборы, мокрые крыши, черные стаи галок на колокольне, хмурые лица встречных мужиков и баб — все казалось проникнутым безнадежною тоской, скукой, хандрой. Когда проезжали мимо толпы мужиков, собравшихся около волостного правления, Псалтырин вдруг высунулся из экипажа и закричал: "Смотрите, православные, управляющего везут! Смотрите…"
Он не докончил фразы, потому что сильным ударом в грудь был отброшен назад, вглубь экипажа. Ударившись затылком о твердый остов повозки, он смотрел на сына помутившимся взором, в котором отразился такой чисто животный испуг, что Мите стало совестно и неловко. Барыня переполошилась, заохала, но, взглянув на кучера, опять сделала вид, что ничего особенного не произошло, и поспешила замять происшедшую неприятность разговором.
Так они ехали довольно долго. Псалтырин молчал и, казалось, о чем-то думал. Барыня поболтала и, наконец, умолкла. Митя, нахмуренный и строгий, сидел как истукан. Перед глазами расстилались желтые поля и зеленеющие полосы озими, мимо быстро мелькали обнаженные деревья и кусты. Повозка стала тихо спускаться с горы. Вдруг проглянуло солнце и яркими потоками света залило дорогу, грязные лужи, деревья, поля и синеющую впереди даль. Картина изменилась в одно мгновение, вся окрестность словно очнулась от сна, внезапно приняв веселый, смеющийся, радостный вид.
— Ах, солнышко, солнышко! Боже мой! Солнышко! — пронзительным и детски-радостным голосом воскликнул Псалтырин, простирая руки, и, упав головой на подушку, всхлипывая, зарыдал, как дитя.
Между тем солнце скрылось, и кругом опять все потускнело, приняв прежний уныло-безотрадный, нахмуренный облик.
ПРИМЕЧАНИЯ
А. ПОГОРЕЛОВ (А. С. СИГОВ)
А. Погорелов — литературный псевдоним Алексея Сергеевича Сигова, талантливого писателя-уральца, печатавшегося в столичных журналах 90-900-х годов.
А. С. Сигов родился 10 февраля 1860 года в Перми. Отец его был крепостным Всеволожских, владевших несколькими заводами на Каме, и работал конторщиком, а затем правителем дел в Майкорском заводоуправлении.
Детство писатель провел в захолустных заводских поселках и в Красноуфимске, где отец его занимал должность мелкого служащего уездного земства. Десяти лет А. С. Сигов начал учиться во втором классе городской школы, а в 1875 году перешел во вновь открытое Красноуфимское реальное училище, с 1878 года писатель продолжал образование в Пермском реальном училище. Здесь он не только содержал себя, давая уроки ученикам младших классов, но и помогал семье.
Мировоззрение будущего писателя складывается под воздействием раннего народничества. Захваченный стремлением к освобождению народа, он едет в Петербург — центр общественного движения 70-х годов. А. С. Сигов учится в институте гражданских инженеров после разгрома правительством революционной организации народников, в условиях жестокой политической реакции. Несмотря на это, он устанавливает связи с остатками партии "Народной воли", в частности, с известным поэтом П. Ф. Якубовичем-Мельшиным, и ведет революционную работу среди студенчества.
В 1883 году А. С. Сигов уехал из Петербурга, спасаясь от полицейского преследования, и поступил на работу техником в городе Балахне Нижегородской губернии. В декабре того же года он был арестован и заключен в знаменитой Пугачевской башне в Нижнем Новгороде. Здесь он провел 8 месяцев. Из-за отсутствия улик дело его было прекращено, репрессии ограничились высылкой на родину под надзор полиции.
В 1885 году Сигов работает техником по распланировке селений при Красноуфимской уездной управе, а затем переходит на должность заведующего таким же отделом в Пермском губернском земстве.
Двадцатилетняя работа в земстве, связанная с постоянными разъездами по деревням и заводам Урала, дала А. С. Сигову большой материал для его литературного творчества. Писатель часто выступал защитником рабочих и крестьян Урала в, их земельных спорах с заводоуправлениями и пользовался популярностью как ходатай по делам бедняков.
Творческая деятельность А. С. Сигова началась в 1885 году, когда в журнале "Русская мысль", где печатались А. П. Чехов и молодой А. М. Горький, был опубликован первый его рассказ "Мрак". В 1897 году в том же журнале напечатан рассказ "Среди ночи".
С 1899 года А. Погорелое публикует свои произведения в народническом журнале "Русское богатство". У него устанавливаются дружеские связи с В. Г. Короленко, занимавшим в журнале более прогрессивную демократическую позицию, чем другие руководители "Русского богатства". В этом журнале писатель помещает большой роман "Перед грозой", отмеченный В. Г. Короленко в статье "О сложности жизни". Далее следуют повесть "Омут" (1900), рассказы и очерки "Мохов" (1901), "Впотьмах" (1902), "Аликаев камень", "Тишина" (1905), "Мать" (1906).
В 1900 году рассказ "Мрак" и роман "Перед грозой" были выпущены отдельной книгой в издании С. Дороватовского и А. Чарушникова.
В 1905 году А. С. Сигов переехал в Петербург, рассчитывая закрепить литературные связи. Служба в уральском земстве стала невыносимой, так как радикальные элементы в нем преследовались. В столице писатель, чтобы прокормить семью, вынужден поступить на службу в тарифный отдел Акционерных страховых обществ.
Отрыв от уральской действительности, которая давала материал для творчества, перегруженность на службе, новизна исторической обстановки, в которой писатель не мог разобраться, — все это привело к тому, что творческая деятельность его после революции 1905 года прекратилась.
Великую Октябрьскую социалистическую революцию А. Погорелов встретил совсем больным. Он умер от рака легкого 19 января 1920 года в Ставрополе.
В 1917 году издательство "Задруги" предприняло выпуск собрания его сочинений. Первый том был отпечатан в типографии Московского Совета солдатских депутатов. Последующие тома не вышли.
* * *
В литературе 90-х годов, когда в нее вошел А. Погорелов, крепло реалистическое искусство, ведущее борьбу с декадентством. Усиление лучших традиций великой русской литературы было определено переходом страны к новому этапу революционного освободительного движения, выдвинувшему социалистический пролетариат в качестве главной исторической силы.
А. Погорелов с первых же шагов выступает как писатель-реалист. Он чужд того натурализма, к которому скатывалась в этот период либерально-народническая беллетристика.
Хотя некоторые идеи народничества, близкие автору, иной раз мешали остроте его зрения и снижали силу и яркость изображения "м действительности, однако реалистический художественный метод, верность боевым, общественным традициям предшественников, живое внимание к жизни определили те достижения А. Погорелова, которые позволили ему занять место среди демократических писателей эпохи. Ему оказалась недоступной революционная теория марксизма, он не понял исторической роли пролетариата. И все же его резкая критика социально-политических порядков, основанная на глубоком знании жизни многих классов общества, вливалась в общий решительный протест демократии против самодержавия и капитала в период нарастания революции 1905 года.
Его внимание привлекали значительные, исторически важные процессы жизни. Он пытливо анализировал развитие социально-экономической действительности, стараясь понять, что же она несет человеку, как этот человек живет и может ли он так жить.
В сравнительно небольшом литературном наследии писателя отчетливо выделяется несколько основных тем, действительно важных для периода 1895–1905 годов. Одной из главных тем, в разработке которой А. Погорелов продолжает Мамина-Сибиряка, была тема развития русского капитализма. Он разрабатывает ее в романе "Перед грозой", очерке "Мохов" в одно время с Куприным, выступившим в 1896 году с повестью "Молох".
Значительное внимание А. Погорелов уделяет разоблачению самодержавно-полицейского произвола и политической реакции, что также характерно для многих его современников.
Обе эти темы были тесно связаны с темой народа и интеллигенции. Особенно волновал Погорелова вопрос об интеллигенции. Он настойчиво пытался осмыслить ее положение в современном ему обществе, определить ее гражданскую ценность.
Еще в 1897 году писатель выступил с программным рассказом "Среди ночи". Самое заглавие его символично. Русская интеллигенция, о которой идет речь, живет в мрачное для нее время, когда кругом ночная тьма. Аллегоричен и заключительный пейзаж — рассвет, разгоняющий мрак ночи.
Во многих произведениях Погорелов обнажает несостоятельность народнических представлений о ведущей роли интеллигенции в истории. Об этом говорят объективные картины, написанные Погореловым. Сам писатель, несомненно, рассматривал свои произведения как призывающие к идейному и нравственному обновлению "культурного слоя".
В композиции произведений Погорелова организующими сюжет чаще всего являются образы интеллигентов. Но писатель при этом привлекает большой материал о бытэ народа и социально-экономических явлениях жизни России. Иной раз этот материал настолько разрастается, что в рассказе легко обнаруживается художественный просчет: композиция произведения становится рыхлой, различные темы оказываются связанными лишь в той мере, в какой жизнь народа в сложных условиях буржуазных отношений служит предметом размышлений интеллигента, определяет его мечтания.
Погорелов рисует заводскую уральскую интеллигенцию на новом этапе исторического развития. Когда-то в произведениях Кирпищиковой был показан процесс формирования демократической интеллигенции, связанной с народом и по происхождению и по бесправному положению. Кирпищикова раскрывала гуманность этих людей и, не преувеличивая их значения в общественном развитии, создавала образы народной интеллигенции Урала.
В творчестве Погорелова мы встречаемся с потомками интеллигентов 60-х годов. Произошли громадные изменения. Эти люди стали одним из звеньев цепи, сковывающей народ. Их деятельность антигуманна. А от своих отцов они унаследовали мысли о народе, которые ни к чему не обязывают и никуда не ведут, лишь изредка заставляя "болеть их совесть".
В рассказе "Мрак" (1895) инженер Псалтырин, управляющий заводским округом, чувствует раздвоение между "идеалами" и настоящей его жизнью. Он сам в минуты самоанализа говорит: "Везде одно и то же: грабеж, насилие, без стыда, без совести, без малейшей жалости к человеку… Я тоже ведь честный человек потому только, что, живя, как тунеядец и паразит, не украл ни одной копейки с грубостью и наглостью мелкого вора". Связанность буржуазного интеллигента практикой капиталистической эксплуатации, обусловленность его действий не идеальными представлениями о "разумной норме", а местом в обществе, раздираемом противоречиями, нарисована в рассказе с незаурядной художественной силой. Этот человек хоть изредка еще чувствует угрызения "больной совести".
В романе "Перед грозой" дается другой вариант такого интеллигента. Земский агроном, либерал Толмачев, проделывает эволюцию от защиты "справедливости, добра, народных интересов" к прямому предательству, озлоблению против народа. Он становится земским начальником горнозаводского округа и послушным орудием в руках управляющего. Такое классовое самоопределение буржуазной интеллигенции — живо схваченное писателем явление самой действительности. Но вместе с тем А. Погорелов, очевидно, придает этому слишком большое значение. Его это возмущает, он старается понять сам процесс превращения "честного" интеллигента в бесчестного помощника тех, кто угнетает народ. Он растягивает заурядную историю на целый роман. Личность же героя ничтожна, его помыслы и действия мелки.
Положительный образ интеллигента Чагина, сохранившего свою оппозиционность по отношению к капиталистическому хищничеству и самодержавию, — не удался Погорелову.
Марксист Салмин, в том же романе, обрисован как энергичный, знающий, целеустремленный человек. Но писатель, не понимавший марксизма, приписал ему циническое отсутствие заботы о нуждах рабочих, деятельность лишь во имя отдаленных целей.
В романе встречаются яркие эпизодические образы: крупный буржуа Смолин, деревенские ходоки, губернатор. Особенно живо воспроизведены сцены заводской жизни, в которой автор замечает новое — стремление к смелому, самостоятельному решению рабочими вопросов жизни.
В рассказе "Аликаев камень", напечатанном в 1905 году, Погорелов изображает интеллигента инженера Конюхова как человека, вполне осознающего враждебность народу и лишь маскирующего свое лицо лживыми разговорами о единстве интересов мастеровых и заводчиков. Это исторически было верно. Растущая сила рабочего класса вызывала к жизни такие теории, рассчитанные на то, чтобы ослабить его движение.
Интеллигент Кленовский, "помогающий народу", совершает предательство, спасая собственную жизнь, а затем становится прокурором. В качестве положительного героя выведен слабовольный, уставший, бездействующий Светлицын. Притом в этом образе нет ни последовательности, ни логики: человек, не имеющий в начале рассказа почти никаких убеждений, в конце становится чуть ли не единственным носителем идейности и порядочности. Правда, в рассказе есть еще одно эпизодическое лицо, в котором намечен тип новой марксистской интеллигенции, последовательно отстаивающей народные интересы. Это образ Кати, погибшей в ссылке. Но этот образ не играет почти никакой роли в сюжете рассказа.
После революции 1905 года А. Погорелов делает попытку нарисовать образ революционера в рассказе "Мать". Но идейно-политическое содержание деятельности сына-революционера почти не раскрыто. Писателя здесь интересует мать, ее самоотверженная любовь к сыну и к правде, во имя чего она благословляет его на подвиг и на гибель. Неопределенность революционного подвига, представление о неизбежности гибели лучших накладывает на рассказ отпечаток эскизности, недосказанности, неполноты мысли, объясняющейся недостаточно ясным пониманием новой пролетарской революционности. В этом рассказе есть правда жизни, но отсутствует глубокое понимание содержания исторического процесса.
Для писателя Погорелова характерно стремление нарисовать широкую картину экономического и политического положения народа в условиях буржуазного общества.
Рабочие и крестьяне Урала ограблены и ежечасно ограбляются сворой хищников, связанных общими интересами и круговой порукой. В рассказе "Мрак" решение вопроса о выделении погорельцам леса на постройку новых домов оказывается страшно сложным, так как на народном несчастье хотят нажиться и смотритель завода Голубев, и старшина, а управляющий заводом инженер Псалтырин целиком находится в их руках.
В романе "Перед грозой" раскрывается механизм двойной эксплуатации уральских мастеровых. Они получают ничтожную плату и, кроме того, их обсчитывают, продают им материалы втридорога, они опутаны сетью заводской тайной полиции. Потрясающие картины разорения обезземеливаемых заводских крестьян нарисованы Погореловым в рассказе "Впотьмах". Рассказ "В глуши" раскрывает картину бесконечного угнетения деревни кулаком.
Все эти картины, как сказано, не составляют композиционного центра произведений. Это связано с тем, что народ чаще всего выступает в качестве объекта авторского сострадания. Однако в ряде рассказов Погорелов показывает рост возмущения рабочих и формы коллективного, энергичного отпора хозяевам. В рассказе "Впотьмах" — это осада рабочими дома управляющего. В романе "Перед грозой" заводские мастеровые выносят на сходе решение убрать управляющего. Они торжественно вывозят ненавистного администратора на тройке разномастных кляч с шутовски наряженным кучером. В "Аликаевом камне" рабочие энергично расправляются с заводской администрацией, которая при помощи полиции арестовала было представителей, выделенных коллективом для переговоров.
А. Погорелов показывает организованные коллективные действия рабочих, но он не видит в рабочем классе силы, способной к исторической борьбе против капитализма, силы, которая сметет строй порабощения. Народнические идеи препятствуют ему видеть это.
Погорелов в своих произведениях рассказывает читателям о том историческом периоде, когда русская буржуазия утверждала себя не только экономически, но и в качестве политической реакционной силы.
Художественно законченный образ кулака-мироеда, превращающегося в крупного капиталистического дельца, писатель нарисовал в очерке "Мохов". Все махинации этого дельца находят юридическое и нравственное оправдание со стороны интеллигентов, пресмыкающихся перед его богатством.
Новый тип буржуа раскрывается Погореловым и в большой повести "Омут". Купец Бутылин всю жизнь подчинил целям наживы. Это стремление привело к распаду семьи. Его сын оказался босяком, опустившимся человеком, совершенно чуждым интересам отца. В повести герой показан в момент, когда по ряду обстоятельств он, подобно горьковскому Фоме Гордееву, начинает критически воспринимать окружающую действительность. Это дает возможность писателю создать глубоко типические картины жизни буржуазного общества, жизни страшной, гнусной и мерзкой. Погорелов, конечно, не считает, что купец-самодур способен переродиться. Нетипическая, исключительная ситуация используется писателем для острого критического анализа исторически значительных процессов жизни, хотя критика действительности ведется и не с позиций передового революционного класса.
При наличии ярких черт действительности, выраженных в художественных образах, повесть оказалась несовершенной в композиционном отношении. Писатель не смог отобрать материал, так как четкая идейная задача, соответствующая историческим потребностям, у него отсутствовала.
Сатирические картины политической реакции, губительной для народа, рисуются Погореловым в рассказе "Тишина".
Талант Погорелова был незаурядным. Он умел видеть людей в связи с большими явлениями социально-политической жизни. Он хорошо воспроизводил разнообразные психологические состояния героев и создавал индивидуализированные портреты, запоминающиеся, выражающие суть характера. Он неплохо владел художественным словом. Тематика его произведений была актуальной. Но Погорелов постоянно испытывал давление не изжитых до конца народнических идей. Это ограничивало его возможности, приводило к известной недоговоренности, композиционной рыхлости его произведений, нечеткости самих художественных образов. Тем не менее писатель-реалист явно не мог целиком подчиниться фальшивым доктринам. Живая жизнь была сильнее. Критика Погореловым капитализма, самодержавия, буржуазной интеллигенции помогала пониманию истинного направления исторического развития и помогает современному советскому читателю, сравнивая прошлое и настоящее, с особым чувством гордости за свою страну ощутить совершенство новой, социалистической эпохи.
МРАК
Рассказ первоначально опубликован в журнале "Русская мысль", 1895, № 12. Печатается по изданию: А. Погорелов "Мрак" и "Перед грозой", (из жизни Приуралья). Изд. С. Дороватовского в А. Чарушникова. М. 1900.
Стр. 7 Кричная фабрика — цех на старом уральском заводе, где горячей ковкой под водяными молотами из чугуна получали железо.
Стр. 8 Сохранная казна — банковское учреждение (народн.)
Стр. 17 Штоф — старая мера жидкостей, 1/10 ведра, то есть около 1,2 литра.
Стр. 33. судить с кондачка — судить легкомысленно, не имея оснований.
Аликаев камень
I
Солнце садилось за горы. Последние багряные лучи его медленно угасали на кресте видневшейся из-за леса колокольни. Над прудом поднимался тонкий и прозрачный, как дымка, туман. Луга потемнели. Сосновый бор, незадолго перед тем сверкавший яркими красками, потух, потускнел, стал как будто меньше и ниже, казался нахмуренным и печальным.
Павел Петрович Агатов, отставной заводский лесничий и местный историк, собиратель старинных грамот и рукописей, сидел за письменным столом на своей "заимке" и через раскрытое окно наблюдал, как постепенно менялись краски в саду и все тускнело кругом. С дальнего конца сада доносились веселые детские голоса. Со двора слышалось мелодическое треньканье балалайки. Из-за цветочной клумбы виднелась красивая русая головка — это взрослая племянница Павла Петровича, Катя, дочь его покойной сестры, лежа в траве, читала книгу.
Агатов только что окончил докладную записку о нуждах уральской горной промышленности, составленную им по поручению управляющего Бардымскими заводами Конюхова, и, чрезвычайно довольный своей работой, улыбался и весело потирал руки.
"Тонко подведено, — размышлял он, вглядываясь в порозовевшее небо, — стройно, логично, комар носа не подточит… Историческое освещение дает широту, перспективу… И анекдотцы-то кстати пришлись… Концы с концами сведены, одно само собой вытекает из другого. И тон благородный… главное, благородный тон… Да-с, старик Агатов еще постоит за себя, не совсем еще вышел в тираж погашения… В нем заискивают, да-с… сам управляющий приезжал — это что-нибудь значит!.. Самолично просил, даже выражал комплименты: "у вас, говорит, имя, опытность, знание местных условий и литературный навык…" Вот как!.. А то фу-ты ну-ты, полное невнимание, точно перед пустым местом… мертвый-де, отживший человек… Ха-ха! А на поверку выходит, что еще жив курилка… Да-с!.."
— Катя! — закричал он в окно. — Конец, и богу слава! Поставил последнюю точку.
Катя подняла голову, обнаружив тонкое, красивое лицо, с большими черными глазами.
— Не хочешь ли, прочту, а?
— Нет, — отвечала Катя, с детской суровостью сдвигая брови, — я не одобряю ваших намерений, поэтому и слушать не хочу.
— Ну, ну!.. Еще бы!.. Ведь вы — народники или как вас там… Матушка моя! Я сам за народ, только с другой точки зрения… Вы-то уж бог знает куда заноситесь… неосуществимо-с.
— То есть, кто мы?
— Ну, вообще современная молодежь… народники там и прочее…
— Вы ошибаетесь, дядя: мы не народники.
— Господь вас разберет!.. Если хочешь, душа моя, я тоже народник и даже сортом повыше… Из народа вышел, из крепостных, и знаю, что ему нужно… А нужна ему прежде всего хорошая палка, ежовые рукавицы… Вот!.. Поверь, что он сам это отлично понимает, — поговори-ка с ним… и жаждет палки, которую от него отняли, жаждет!.. Так-то, мать моя.
— Перестаньте, дядя!.. Хоть вы и шутите, а все-таки неприятно… А уж эта записка ваша… я не знаю… не могу понять, не могу вообразить…
— Чего, собственно, душа моя?
— Как могли вы взять на себя такое поручение, и притом добровольно, из любви к искусству!.. Эдакую… извините… я не знаю… эдакую подлость!..
— Милая моя, я старый человек.
— Что ж, дядя… я серьезно говорю. Сочинить заведомо фальшивую, облыжную записку! И для кого? Для заводовладельцев. Для чего? Чтобы обездолить и без того обездоленных! Чтобы выудить из казны в пользу хищничества еще несколько миллионных подачек! И ведь все это из народных средств — не забывайте!..
— Вздор, вздор!.. Вздор городишь!.. Эк тебя подмывает!..
— Нет, не вздор. И без тебя все к их услугам, сверху донизу… А кто мужикам записку напишет? Ах, дядя, дядя! Вот если бы ты помог мужикам!..
— Матушка моя, я старый служака, я тридцать пять лет его сиятельству прослужил, понимаешь ты это или нет? От него жить пошел, — как же мне идти против его сиятельства?.. Вздор, вздор!.. Да и вообще вздор!.. Ты не понимаешь главного, не понимаешь того, что заводы и население — одна душа и одно тело, что они связаны общими интересами… Да-с, вот чего ты не хочешь понять, потому что у вас ум за разум зашел… Вы смотрите на журавля в небе и не видите синицы в руках, а журавль-то еще бог его знает… в облаках он, душа моя, в облаках!.. в том-то и дело-с…
— Это какая же синица?
— А такая! И диви бы только вы, лоботрясы, но ведь и мастеровые такое же дурачье!.. Подкапываются под заводы, рубят тот сук, на котором сами сидят! Что может быть глупее этого?.. Хоть лоб разбей — не понимаю!.. И ничему не верят! Ничего не хотят знать!..
— Еще бы, когда их целые десятки лет обманывали!.. Они не верят, потому что вы все лжете…
— Эк тебя разбирает!.. Перекрестись, мать моя… о чем ты?..
— Да, лжете направо и налево… И вы, дядя, лгали и лжете… да, вы, вы… разве это неправда?
— Нет-с, неправда. Комбинировать факты, давать им то или иное освещение — разве это ложь?
— Но для чего? Чтобы скрыть истину, запрятать ее подальше, напустить туману, ввести в заблуждение?
— Мать моя! Что есть истина? Какая, где она, для кого, для чего?.. Хе-хе!.. мы знаем только человеческие заблуждения и человеческие аппетиты… Истина! Она всегда имеет две стороны…
— Если так, то о чем же нам говорить? Не о чем.
— А я и не навязываюсь, душа моя, как тебе угодно… Мне, видишь ли, не в чем оправдываться…
— Однако вы сами начали разговор.
— Я предложил только прочесть записку — больше ничего.
— А я ответила, что не желаю.
Катя сердито уткнулась в книгу. Агатов, слегка надувшись, умолк, собрал свои бумаги, исписанные мелким, бисерным почерком, и вышел на террасу.
— К нам кто-то едет, — сказал он, увидев скачущего по дороге всадника.
— Где? — спросила Катя, отрываясь от книги.
— Посмотри.
Катя, поднявшись на цыпочки, заглянула через плетень.
— Это Петя, — сказала она равнодушно.
— О… в самом деле? — обрадовался Павел Петрович и в знак приветствия махнул платком.
Петя, шестнадцатилетний мальчик, подняв высоко над головой свою гимназическую фуражку, сломя голову проскакал мимо изгороди. Через минуту он был в саду.
— Катя, собирайся! — еще издали закричал он: — скорее!
— Куда? В чем дело? — остановил его Павел Петрович. — Чаю не хочешь ли?
— Ах, какой чай! Что вы, дядя!.. Катя, пожалуйста, поскорее!..
— Да что скорее-то? Скажи, сделай милость.
— Ах, дядя, вы, ей-богу, всегда… Во-первых, Катя пусть собирается… Во-вторых, едем на Аликаев камень — вот и все!.. Но только, пожалуйста, там ждут… поехали прямой дорогой…
— Кто? Когда? Зачем? Не захлебывайся, объясни толком.
— Чего ж еще объяснять? Ведь я сказал: на Аликаев камень… Ах, господи, но ведь там ждут! И самое интересное мы пропустим… Вот вы, дядя, всегда, ей-богу.
Павел Петрович захохотал.
— Ладно, — сказал он, — я буду допрашивать тебя по пунктам. Ты говоришь — на Аликаев камень, зачем?
— Как зачем?.. Странное дело!.. Так просто… странное дело!..
— Ну, однако?
— Да что, ей-богу… ну, для прогулки… для развлечения…
— Так-с. С кем?
— Со мной.
— С тобой? Но какого черта вы там будете делать, ночью-то?
— Ну, ей-богу!.. Да ведь я же говорил, что там ждут. Целое общество: папа, мама, Анна Ивановна, Софья Петровна… Надя, Митя… Иван Петрович… человек тридцать… Там и ночуем… огни зажжем… пушку увезли… песни будем петь… Мне еще утром велели съездить за Катей, да я опоздал…
— Ну, глупости и больше ничего!
— Что глупости?
— А то, что, на ночь глядя, ехать за десять верст… лес, глушь… Работнику недосуг, а ты дороги не знаешь.
— Я не знаю? Отлично знаю: ехать прямо, потом направо, потом…
— Ну, ладно. Катю я не отпускаю — поезжай один.
Петя вытаращил глаза и, заикаясь, с запальчивостью заговорил:
— Ну, это ерунда, это глупости!.. Вы всегда так, вы просто деспот, эгоист… и, наконец, там ждут… и, наконец, это я не знаю что… Это, наконец, ерунда…
— Чудак! Да ты спроси Катю, поедет ли она… к обманщикам и эксплоататорам народа…
— Не все обманщики, — улыбнувшись, отвечала Катя, — там будут и честные люди…
— Например?
— Например, Иван Петрович Светлицын, Николай Кленовский и многие другие.
— Не знаю-с… может быть… Может быть, пока они и честные люди… до поры до времени… Впрочем, твое дело.
Петя захлопал в ладоши.
— Браво! — закричал он. — Значит, решено и подписано! Ну, Катя, живо!.. Ай да дядя!.. Вот это хорошо!..
Но Павел Петрович недовольно нахмурился.
— И все-таки там будет заводская челядь, — сказал он, — имей это в виду.
— Ах, да! — вскричал Петя, — забыл сказать: ведь там будет еще этот… как его?.. Ну, этот известный геолог или химик… черт его знает!.. Генерал… бывший профессор Полянский… он с управляющим приедет…
— Как? Разве он уже здесь?! — воскликнул Павел Петрович.
Он весь всполошился и стал расспрашивать Петю: когда, с кем и надолго ли приехал генерал Полянский. Петя ничего не знал и давал самые бестолковые ответы.
— Но по крайней мере кто эту прогулку устраивает? Кто именно?
— Как кто?.. Все… мало ли… я не знаю…
— Но кто тебя послал?
— Ах, ей-богу!.. Ну, мама… ну, Иван Иванович.
— Почему же так поздно?
— Господи! Да ведь я же говорю, что опоздал… и вообще вышла тут ерунда…
— А про меня тебе ничего не говорили?
— Ничего.
— Не упоминали о записке?
— О какой записке?
— Ну, вообще…
— Нет, не упоминали.
Павел Петрович пожал плечами.
— Ну, господь с тобой! Катя, вели заложить Голубчика. Да вот что: скажи Конюхову, что записка готова, остается только переписать. Я думаю, в день, самое большее — в два, ее перепишут.
II
Петя энергически воспротивился, чтобы с ними ехал работник Андрюшка. Он божился, что знает дорогу, как свои пять пальцев, что до Аликаева камня не десять, а всего восемь верст и что они доедут отлично. Павел Петрович не возражал. Когда лошадь была готова, Катя поместилась в тележке, а Петя взобрался на козлы. Павел Петрович, держась за железную скобку облучка, озабоченно давал последние наставления, которые Петя легкомысленно прерывал нетерпеливыми восклицаниями:
— Вот странно… будто я не знаю!.. Ну, дядя, чего еще разговаривать!..
Наконец, тележка бойко покатилась по дороге, оставляя за собой тяжелое облако пыли.
— Под гору осторожнее! — кричал вдогонку Павел Петрович.
— Ладно, ладно! — отвечал Петя, ухарски задрав фуражку на затылок и как бы говоря: "разговаривай теперь!"
— Ох, уж это мне старичье! — продолжал он, обращаясь к Кате: — чудаки, право! Дядюшка еще туда-сюда, а вот моя почтенная мамаша…
— Ну, Петя! — укоризненно остановила его Катя.
— Да что, право… точно бог знает что!.. ей-богу!..
Миновав поле, они спустились в овраг, пересекли выкошенную лощину и вступили в лес, где охватило их теплой, пахучей сыростью. Сумерки быстро сгущались. В лесу было уже почти темно. Тележка неровно катилась по извилистой, узкой дороге, натыкаясь на кочки и пни. Ветви деревьев сходились над ними, образуя темный узорчатый свод, и сквозь просветы его виднелось бледно-голубое небо с слабо мерцавшими редкими звездами. Катя смотрела то на небо, пронизанное отблеском потухавшей зари, то в сумрак леса. В лесу все было загадочно и странно, а небо казалось веселым, понятным и знакомым.
— Ну, ну, милая! — покрикивал Петя на лошадь.
— Да ты, Петя, в самом деле, знаешь ли дорогу?
— Ну вот! Отлично знаю. Сначала Крутой лог, потом Майданова гора, потом повернуть направо. Я знаю.
— Но здесь ты никогда не бывал? Да? Правда?
— Положим. Да это глупости! Крутой лог, повернуть направо — вот и все.
Лошадь пугливо фыркала, натыкаясь на ветви. Дорога круто пошла под гору. Впереди показалась мутная, белесоватая полоса.
— Это вода? — спросила Катя.
— Нет, это туман. Это и есть Крутой лог… а там и Майданова гора.
— Как славно! — сказала Катя.
— То-то и есть! — хвастливо возразил Петя. — Я говорил, что будет хорошо.
— А если разбойники нападут?
— Ах, вот бы отлично! Задал бы я им жару!..
— Ну, уж…
— Ты что думаешь? У меня с собой револьвер. Вот он. Ты не думай.
Невидимая дорога шла все под гору. Белая полоса растянулась и ушла вправо. Впереди виднелись какие-то неясные, расплывающиеся, серые и темные пятна, тучи, деревья или горы — нельзя было понять.
"Где мы едем? — думала Катя: — может быть, здесь никто никогда не бывал, и мы сейчас увидим что-нибудь необыкновенное". У Пети было совсем другое направление мыслей. Он прежде всего полагал, что ему решительно все известно. "Крутой лог проехали, — размышлял он, — сейчас должна быть Майданова гора, потом повернуть направо, а там и Аликаев камень".
— Ах… зарница! — сказала Катя.
— Гроза, — поправил Петя. — Зарница та же гроза, только отдаленная, — так в физике сказано.
— А Матрена говорит, что это калина зреет.
— Ну, что Матрена!.. Смотри, вон Майданова гора, видишь?
— Да это туча.
— Нет, это Майданова гора. Ах, месяц! Посмотри, посмотри!
— Где? где?..
— Вон… ну, теперь уж не видно… красный, красный… Вон, вон, смотри…
Из-за темной массы показался месяц, огромный, багровый, без блеска и без лучей. Он висел в красновато-буром тумане, где-то значительно ниже горизонта. Это казалось очень странным.
— Посмотри, он точно в воде плавает… как низко!..
— Мы на горе, оттого так, — пояснил Петя. — Ну, дорогу мы теперь найдем!
Катя с тревожным любопытством глядела на странную луну, и ей казалось, что она вспоминает какую-то давно позабытую волшебную сказку.
— А я сегодня в Верхний завод ездил, — сказал Петя с выражением хвастливой таинственности.
— Зачем?
— Так. К рабочему одному. От студента Кленовского с запиской.
— И Кленовский, конечно, не велел тебе говорить об этом?
— Да, не велел.
— Зачем же ты говоришь?
— Ну!.. Тебе-то чего же!.. Вот еще!
— И мне не нужно было говорить… вообще не нужно болтать.
— Вот! Разве я не знаю!.. Рабочего зовут Иваном Костаревым. Он очень образованный, ей-богу, хотя весь в саже и лицо испеклось от огня… И не молодой уж, лет под сорок… Знаешь, они что-то затевают, но Костарев говорит, что все это чепуха… Не с того конца, говорит…
— То есть, что именно?
— Я не знаю. Все, говорит, уповают на милость… остатки, говорит, рабского состояния…
— Это он тебе говорил?
— Нет, не мне, а тут другому какому-то. Я слышал их разговор.
— Однако ты, Петрушка, болтлив, как баба.
— Странное дело, но ведь это я тебе… Я понимаю, что дело секретное.
Гора кончилась, тележка плавно покатилась по ровному дну ложбины. Белая полоса исчезла. Месяц спрятался. Опять обступил их со всех сторон лес, высокий, темный, загадочный. Опять ни впереди, ни по сторонам ничего нельзя было понять в живом колеблющемся мраке, и только вверху, высоко-высоко, с темносинего неба любовно и кротко сияли звезды.
— Здесь все горы кругом — страсть! Дикое место, — сказал Петя.
— Ты поворот не прозевай.
— Я и то смотрю, да плохо видно. Должно быть, поворот еще впереди.
Выехали на какую-то прогалину, окруженную темными массами, непохожими ни на деревья, ни на кусты. Снова показалась луна, все такая же красная, но уже значительно выше.
— Тпру!.. — крикнул Петя, внезапно сдерживая лошадь.
— Что случилось?
— В гору пошло: неладно едем.
Соскочив с облучка, он стал шарить руками по земле.
— Дороги нету… целиком едем… вот оказия!.. — говорил он и вдруг замолк. Его поразила странная, необычайная тишина. Было так тихо, что слышалось биение пульса, и казалось, воздух с жадностью ловил малейший звук. Все кругом было странно и необыкновенно: и пестрая, переливающаяся, точно живая темнота, и чуткий воздух, влажный и ароматный, и дыхание лошади, и небо со звездами, и трепетное биение сердца, и тот загадочный, едва уловимый шорох, какой бывает слышен в лесу в тихие июльские ночи. Вдруг оба вздрогнули от внезапного испуга.
— О-го-го-го-ооо!.. — дико и страшно нарушил тишину чей-то нечеловеческий голос. — О-го!.. о-го!.. у-у-у!.. — гулко пошло по лесу, замирая и снова откликаясь уже откуда-то из необъятной дали.
— Что это? — несколько мгновений спустя, после страшной паузы, прошептал Петя, чувствуя, что именно теперь настало время проявить все свое мужество.
— Не знаю, — вся похолодев, таким же трепещущим шепотом отвечала Катя.
— Это птица такая есть…
— Не знаю, только это не человек.
Через минуту другой голос и уже с другой стороны снова прервал воцарившееся безмолвие, и опять ему ответило эхо и разнесло по всем концам леса: у!.. у… у-у-у!..
— Это люди, конечно, люди…
— Да, кажется…
Потом первый голос крикнул что-то протяжно, ему ответил второй, но уже не так громко, после чего в лесу послышался гул обыкновенного разговора.
III
Успокоившись, Петя и Катя сели в тележку и поехали наугад. Отъехав с полверсты, они увидели в стороне огонек.
— Надо спросить дорогу, — сказала Катя.
— А если разбойники?
— Ну, какие здесь разбойники!
— А вот посмотрим! — отвечал Петя и побежал на огонь.
Пробежав под гору шагов сто, он заметил, что расстояние как будто не уменьшается. Он оглянулся назад. Позади был один мрак: ни тележки, ни Кати не было видно. Он побежал еще прытче, попал в лужу и промочил ноги. Луна скрылась, вскоре и огонек исчез. Спотыкаясь, Петя все бежал по одному направлению и, наконец, поднявшись на какой-то бугор, вдруг очутился у костра, вокруг которого сидели и лежали люди. Кто-то с сальной свечкой в руках громко читал. Остальные внимательно слушали.
"Это разбойники", — подумал Петя и ощупал в кармане револьвер. Приблизившись к костру, он театральным жестом приподнял фуражку и сделал общий поклон.
— Здравствуйте, добрые люди! — сказал он, едва переводя дух от волнения и усталости.
Двое или трое испуганно вскочили; другие, оставшись лежать и сидеть на земле, оглянулись на него сурово и подозрительно.
— Постой-кась, что это?.. Подожди! — обращаясь к чтецу, тревожно проговорил черный мужик в красной рубахе, атаман, как подумал Петя. — Откудова этакой взялся?..
Снова вежливо приподняв фуражку и отставив одну ногу назад, как это делают певцы на сцене, когда им приходит время петь, Петя объяснил, что он путешественник, с товарищами (это слово он подчеркнул), сбился с дороги и принужден обратиться к великодушию добрых людей, которые, конечно, не откажутся указать ему путь.
— Да ты откудова? — спросил его тот же черный мужик.
— Из завода.
— А куда тебе надо?
— На Аликаев камень.
— Зачем?
— Так, нужно…
— Для разгулки, стало быть? С господами?
— Да…
— Крюку дали… верст пять.
— Да вы не Петр ли Миколаич будете? Чего-то, гляжу я, ровно вы? — спросил молодой белокурый парень, в котором Петя тотчас же узнал знакомого Николку-охотника.
Петя хотел было спросить его, зачем он ушел в разбойники, но из деликатности удержался. Николка между тем дружески тряхнул ему руку и вызвался быть провожатым. Он объяснил, что они стерегут лошадей, и Петя в самом деле увидел выступавшие из мрака лошадиные головы и хвосты.
— А кто тут кричал давеча?
— Это наши в лесу ходили.
Между тем чтец, вскочив на ноги, хлопнул Петю по плечу.
— Петрушка! — закричал он. — Сбившийся с дороги путешественник! Ты зачем здесь?
— Господи!.. Кленовский!.. это вы?.. — с изумлением отвечал Петя: — как вы это?.. зачем?
— По кляузным делам, вроде подпольного адвоката. А ты заблудился, бедняга?
— Да, темно… сбились с дороги.
— Ты туда, на пикник, что ли?
— Да, да.
— Подожди, и я с тобой, только вот с клиентами разделаюсь. Ну-с, господа, прошу внимания: будем продолжать, — сказал Кленовский мужикам, которые все еще косо и недружелюбно посматривали на Петю.
— Вот что… послушай-кось… не погодить ли, Миколай Миколаич?.. — послышались нерешительные голоса.
— Чего погодить? Зачем?
— До предбудущего времени… переждать малость…
— Да вы его, что ли, боитесь? Петьки-то?.. Ха-ха!.. О вы, сермяжные конспираторы, собирающиеся ниспровергнуть существующий строй! Чудаки! Да ведь вы только прошение подаете, самое простое прошение, — к чему же вся эта таинственность?
— Эх, Миколай Миколаич!.. Как ты, ей-богу… сам хорошо понимаешь… говорили мы тебе… Дело требует аккурату…
— Ну ладно! Петьки, во всяком случае, стесняться нечего — не выдаст. Петька! Обо всем, что ты здесь видишь и слышишь, никому ни гугу!.. Ну, слушайте!..
Кленовский стал читать.
— Ну что же? Ладно, что ли? Правильно? — спросил он, окончив чтение.
— Все правильно… как есть… — заговорили мужики:- Спасибо! Господь тебя не оставит… Уж ежели и это не в силу закона, то уж и не знаем…
— Хорошо. Подписывайтесь.
Первым подошел высокий, худой мастеровой в пиджаке, тот самый Иван Костарев, которому Петя отвозил записку. Примостившись у доски, положенной на землю, он бойко подмахнул свою фамилию и передал перо соседу. Тот недоверчиво осмотрел перо, вздохнул, перекрестился, сказал: "В добрый час!.. благослови, царица небесная!", потом лег животом на землю и медленно стал выводить безобразные каракули, напрасно стараясь удержать судорожные движения руки. За ним, так же крестясь, серьезно и степенно, по очереди, стали один за другим подходить остальные. Среди ночной тишины слышались только сокрушенные вздохи и пыхтенье подписывавшихся.
— Итак, значит, сегодня, на Аликаевом камне, — нарушая напряженное безмолвие, заговорил Кленовский: — через депутацию и при самой торжественной обстановке… Вот-то, я думаю, удивится ученый генерал!.. Ну, не чудаки ли вы? Не проще ли было придти на квартиру, по-человечески поговорить и по-человечески передать прошение?
— Не допустят нас… Господи, боже мой! Разве мы не знаем!.. Обыщут, просьбу отберут, в чижовку посадят… Это бы наплевать, да просьба пропадет без последствия… Только бы в руки ему передать, а там уж… чего ж… наше дело правое!..
— Пошлите почтой.
— Ну! Почтой!.. Знаем мы… Сколько разов по почте-то посылали, все без последствия… Не доходит!.. Писали, писали, а все либо становой, либо писарь постановляют решение: без последствия, и все тут!.. Известно, у них и на почте свои люди… рука руку моет…
— Дайте мне, я передам.
— Нет уж, зачем же… неладно… надо нам поговорить с им… не поверит еще тебе… молоденек ты…
— Гм!.. А по почте не дойдет?
— Не дойдет. Пробовали.
— Все это, други мои, чепуха! Неправдоподобно!.. А просто-напросто просьбы ваши оставляются без внимания. И я вам объяснял — почему… И теперь ничего не выйдет, уж это как бог свят. Закон на вашей стороне, да что толку! Не в законе сила… Вы должны, наконец, понять, что вам надеяться не на кого… только на себя надейтесь… Ну, да об этом уже было говорено двадцать раз… Вы представляете себе какого-то сказочного генерала, отца, благодетеля, который, как только узнает правду, сейчас же пожалеет вас, осчастливит, облагодетельствует… Таких генералов, други мои, не бывает, не было никогда и не будет, а если и случился бы такой, так ничего он не сделает, потому что много других, и все генералы… Во всяком случае, желаю успеха. До свидания!.. Петька, идем.
— Где у вас лошадь? — спросил Николай, когда они втроем, оставив за собой освещенное огнем пространство, вошли в темноту.
Петя крикнул:
— Катя, ау!
— Здесь! — ответил звонкий девичий голос из непроглядной тьмы.
— Вон где, — сказал Петя.
Спотыкаясь о неровности почвы, они торопливо побежали на голос.
— Кто это? — вдруг остановившись, испуганно закричал Петя.
— Где? Кого ты увидал?.. — спросил Кленовский.
— Вон там… кто-то загородил мне дорогу… Человек какой-то, ей-богу… Я видел, как он бросился туда, в кусты…
— Погодите… я сейчас… — произнес Николай и исчез в темноте.
Петя и Кленовский слышали некоторое время его торопливо удаляющиеся шаги, потом все смолкло. Кругом была тьма, только костер ярко горел позади; перед ним, заслоняя его, беспокойно бегали тени.
— Нету! — сказал внезапно вынырнувший из темноты Николай. — Притаился где-то, подлец. Все кусты обшарил.
— Кто ж это, ты думаешь?
— Кто? Известно, кто.
— Да тебе, может быть, Петька, показалось?
— Нет, нет, я видел фигуру человека… она юркнула туда… ей-богу…
— Ну, наплевать!.. Кто бы ни был… эка важность, наплевать!
Вскоре Николка сидел на козлах рядом с Петей, а Кленовский в тележке с Катей. Кленовский оживленно рассказывал Кате о предприятии мужиков.
— Ну, Петр Миколаич, — говорил между тем Николка, — важно ехать теперь: мотри, месяц из-за горы лезет.
Минут пять спустя, когда выехали на дорогу, он вдруг придержал лошадь.
— Поезжайте одни, — сказал он, понижая голос, — дорога прямая, а я побегу… надо нашим сказать…
— Что сказать?.. О чем?..
— Глянь-кось вон туды… кто-то за нами на вершной следит… урядник либо не знаю кто… вон за кустом притаился.
Однако ни Петя, ни Кленовский не могли ничего рассмотреть… Вдруг свистящий удар нагайки прорезал воздух, и кто-то поскакал под гору вправо от дороги… На миг что-то металлическое сверкнуло при луне; дробный топот копыт отдался в горах и замолк… Снова все стало тихо.
Николка, соскочив с козел, скрылся.
— Фу-ты!.. Неужели в самом деле полиция? — проговорил Кленовский. — Чего ей надо?
Петя и Катя молчали. Лошадь сама тронулась и лениво поплелась в гору.
— Однако что же это?.. — продолжал Кленовский. — Неужели уж до такой степени?.. Неужели жалобы нельзя написать без выслеживания?..
— У них своя сыскная полиция, а кроме того, и такая всегда к услугам, — сказала Катя.
— Ах, черт возьми!.. Напугают мужиков… Но, в конце концов, что же они могут сделать? Чего они хотят? Чего им надо?..
— Можно всего ожидать…
— Ну, черт их бей!.. Увидим, узнаем.
Вдруг опять послышался конский топот. Все насторожились. Кто-то скакал им навстречу. Темный силуэт всадника промелькнул через мертвенно освещенную луной поляну и скрылся в тени.
— Петруха, это ты? — раздался вслед затем из темноты чей-то густой, очень приятный голос.
— Я, я! — отвечал Петя и прибавил, обращаясь к Кате: — Это Иван Петрович Светлицын.
— Ага! — проворчал Кленовский, — господин химик и лаборант… маркиз Поза, Дон-Жуан… Знаете что, — обратился он к Кате: — вы не очень-то доверяйтесь этому франту…
— Почему это?
В голосе Кати слышалось негодование.
— Да уж так… нестоящий человек!..
— Кленовский! Стыдитесь!..
— А что?
— Вы попробуйте сказать ему это в глаза.
— Говорил уж… Да он ничего… соглашается…
— Вы заблуждаетесь, Кленовский… он хороший, хотя, может быть, и бесхарактерный человек…
— Положим, я хватил через край, но все-таки он ненадежный… не тверд в упованиях и притом в плену у царицы Тамары.
— Здравствуйте! Где вы пропадали? — выдвигаясь из тени, заговорил всадник.
— Это вы, Иван Петрович?
— Я. Живы ли?
— Как видите.
— Слава богу!.. Там из-за вас переполох. Меня командировали учинить розыск. Что случилось?
— Заблудились.
Иван Петрович засмеялся.
— Я так и знал, — продолжал он, — а все Петька… Мы уж давно там. И ученый генерал пожаловал. Сидит, как сыч, молчит, а наши вокруг него увиваются… Посмотрите, какая ночь!..
— Да, да… собственно, мы чудо как прокатились.
— А это кто с вами? Кленовский, ты?
— Собственной персоной.
— Ты-то как здесь? Я думал, ты давно уже там, на камне.
— Буду и там.
— Где ж ты был?
— На митинге. Петицию мужики подают. Но ты уже, конечно, знаешь об этом.
Светлицын некоторое время молча ехал рядом с тележкой.
— Знаю, — наконец, промолвил он. — Слышал от Конюхова.
— Ага! Ему, стало быть, уже известно?
— Известно.
— Каким образом?
— Не знаю.
— Что же именно известно?
— Да, кажется, все известно.
— Так-с.
Сквозь чащу сосен и елей замелькали огни; высоко, точно повиснув в воздухе, показался ярко горевший костер; послышался издалека серебристый женский смех и веселый говор, потом вдруг грянула песня.
— Наши поют! — закричал Петя и, приподнявшись на козлах, погнал лошадь. Вскрикивая и дрожа от нетерпения, он оглядывался назад и, захлебываясь, говорил:
— Ну, ребята, славно прокатились!.. Ей-богу!.. Отлично!.. Эх, катай-валяй, Ивановна!.. А ведь молодцы мы, ей-богу, право!
Песня звучала очень стройно, но Пете было досадно, что там поют без него, и он все продолжал нахлестывать лошадь.
— Петька! Тише! Голову сломишь, сумасшедший! — кричал ему Кленовский. Но Петя не слушал и гнал, как на пожар.
Вдруг над вершинами темных елей показался Аликаев камень, дикая скала, у подножия которой с мелодическим журчаньем несется по камням горная речка Саранка. Весь облитый лунным светом, он казался призрачным воздушным замком на черном фоне хвойного леса. На вершине его и ниже, на одном из уступов, горели костры, и оттуда-то неслась песня.
Петя круто сдержал лошадь перед темными высокими воротами, за которыми виднелись старинного вида постройки с остроконечными крышами. Ворота отворились, и они въехали во двор, усыпанный мелким песком и обсаженный кругом кустами акации. Здесь стояли экипажи и лошади, ходили какие-то люди.
— Возьмите лошадей, — распорядился Светлицын, после чего все трое вышли за ворота.
Петя совсем потерял голову и метался, как угорелый. Когда песня смолкла, он, поставив руку, закричал что было силы:
— Эй, вы!.. Господа!.. ого-го!..
Вверху на камне заговорили: — Ведь это Петя?.. Он, он… — и чей-то зычный голос крикнул: "ты, Петя?!" так, что эхо в горах повторило раз пять: "Петя… Петя… ты, Петя…"
Петя звонко ответил: — Я! — и это так же ответило: "я… я… я!.." Вверху раздались аплодисменты и крики: "браво, браво!.." В горах также зааплодировали и закричали: "браво, браво!.."
— Идем! — сказал Светлицын, и они пошли сначала лощиной в тени кустов, потом круто в гору по узкой каменистой тропинке.
IV
На широком уступе скалы, под соснами, лепившимися в расселинах камней, была раскинута большая пестрая палатка с флагами и разноцветными фонариками. Под ее полотняным сводом и кругом расставлены были столы с самоварами, винами и закусками, разбросаны попоны и ковры. Здесь размещалась исключительно солидная часть общества. Молодежь, как стадо диких коз, прыгала по камням, оглашая воздух веселым шумом свежих, молодых голосов.
В центре палатки, окруженный плотным кольцом нарядных дам и почетных лиц, по-турецки подобрав под себя ноги, сидел генерал Солянский. Его обрюзгшее бритое лицо с потухшими глазами, легкий клетчатый пиджачок и пестрая шапочка на голове делали его похожим на старого, но еще молодящегося актера. Он рассеянно слушал управляющего заводами Конюхова и смотрел вниз, в просвет палатки, где сквозь лилово-голубую мглу виднелось дно освещенной луною долины и наполовину серебряная, наполовину темная извилина реки. Хотя он путешествовал в качестве простого туриста, но было известно, что ему поручено выяснить на месте кой-какие важные обстоятельства, собрать сведения, в чем-то лично убедиться и представить свои соображения. Население везде ожидало его с нетерпением и возлагало на него несбыточные надежды. Поэтому по всем заводским округам даны были в отношении его указания и соответствующие инструкции. Утомленный суетливо проведенным днем и вообще своим путешествием по Уралу, Полянский был весьма недоволен настоящей прогулкой по диким местам к дикому месту, от которой он не имел мужества отказаться. Его очень тяготили почести, которые ему оказывались. Везде, куда он ни приезжал, ему устраивались неофициальные, но весьма торжественные встречи, с речами, хлебом-солью, с воскурением фимиама его ученой и административной деятельности, в его распоряжение отводились княжеские апартаменты с многочисленной прислугой, высылались навстречу рессорные экипажи, давались в честь его обеды, балы, вечера, устраивались экскурсии, увеселительные прогулки. Он жил, как в чаду, не имея времени ни для отдыха, ни для работы, и не раз бранил в душе чрезмерность русского гостеприимства.
— У нас, ваше превосходительство, край патриархальный, — говорил Конюхов, и его длинная, сухая фигура с деревянным, неподвижным лицом и солдатскими усами была исполнена почтительности. — Пресловутая конкуренция, эксплуатация труда и тому подобное — для нас пустые слова. У нас нет ни эксплуатации, ни конкуренции, а есть вот что. Вырастает детина в сажень ростом, и сейчас же подавай ему работу; он лезет за ней, как в собственный карман, — давай! И дают. Если нету, — придумывай! И придумывают. Все отношения, таким образом, построены на филантропических началах. На первый взгляд это кажется невероятным, а между тем это факт!.. Осмелюсь спросить, какое у вашего превосходительства сложилось представление?
Генерал тускло посмотрел на собеседника сквозь золотые очки и ничего не ответил.
— Притом же, конкуренцию у нас немыслимо допустить, — продолжал Конюхов, — потому что, помилуйте, тогда мастеровые очутились бы в безвыходнейшем положении, могу вас уверить!.. и могло бы выйти бог знает что… У нас же благодаря патриархальности, слава богу, все спокойно… Посмотрите, рабочие едят пшеничный хлеб, молоко, мясо; у всех по праздникам пироги, у каждого парня непременно гармоника… всем назначается божеская плата… Одним словом, могу засвидетельствовать, что благодаря непрестанным попечениям владельца население ни в чем не терпит нужды… Например, такой факт…
Остальные гости погружены были в благоговейное безмолвие и, почтительно слушая разговор, не спускали глаз с генерала. Один только главный лесничий, седовласый старик, похожий на Дарвина, Николай Ипполитович Кленовский, человек честолюбивый и злобный, которого боялись все за доносы и интриги, позволял себе изредка односложные реплики.
Дамы, окоченевшие от скуки, тоскливо переглядывались и украдкой шептались, неодобрительно посматривая на хозяйку, Анну Ивановну Конюхову, которая, по их мнению, приняла с генералом слишком непринужденный тон. Анна Ивановна, молодая, красивая брюнетка, с черными ласкающими глазами, стройная и грациозная, несмотря на свою полноту, в противоположность супругу, отличалась необыкновенной подвижностью, развязными манерами и неистощимым весельем.
— Факт тот, — засмеявшись и перебивая мужа, заговорила она, — что его превосходительству смертельно надоели твои факты: все факты да факты — без конца… Надо же, наконец, отдохнуть и поговорить о чем-нибудь человеческом… Ваше превосходительство, как вам нравятся наши северные пейзажи? Не правда ли, дико, сурово, но не лишено своеобразной прелести?
— О да! — благодарно улыбаясь, ответил генерал: — чудные места!.. Да вот хоть бы это, где мы теперь… я все смотрю вниз, в долину — какая прелесть!.. Извините, я позабыл, как называется этот утес?
— Аликаев камень.
— Да, да. Почему он так называется?
— Был атаман разбойников Аликай, по его имени назван этот камень. О нем существуют в народе сказания и легенды. Говорят, например, что он влюбился в жену тогдашнего управляющего и похитил ее.
— А! это весьма интересно, — промолвил генерал.
— Говорят еще, что здесь где-то зарыт клад — десять бочонков с золотом, — вступился Конюхов, — только он никому не дается: слова не знают. То свечка горит, то казак стоит с ружьем на часах, то черная собачка бегает, а подойдут ближе — ничем-ничего! Станут рыть — плита, под плитой десять бочонков; как жар горит золото, а взять его нельзя: чуть притронутся — оно в землю уходит.
— Очень любопытно.
— Так и до сих пор клад лежит. Там внизу, у речки, все изрыто, роются, говорят, еще и теперь, но пока безуспешно.
— А какие же существуют сказания?
— Если вам не будет скучно, я могу кое-что рассказать.
— Пожалуйста, будьте добры.
Конюхов, усердно занимавшийся археологией, раскопками курганов и чудских городищ, разборкою заводских архивов, кроме того, собирал сказки и народные песни и очень гордился этими своими занятиями. Как самоучка, непричастный к школьной науке и вышедший в люди из конторских писцов, он любил щегольнуть при случае своими знаниями и знакомством с историей местного края.
— Сказание состоит, собственно, в следующем, — начал Конюхов.
В это время, цепляясь за камни, со смехом и шумом спустились на площадку Светлицын, Петя, Катя и студент Кленовский. Приблизившись, они примолкли и, чтоб не мешать разговору, тихонько сели в сторонке позади Анны Ивановны. Следом за ними спустились еще две девицы и другой студент и так же скромно уселись в сторонке.
Анна Ивановна жестами пригласила их пересесть по-ближе и распорядилась дать им чаю.
V
— Сказание заключается в следующем, — повторил Конюхов, строго посмотрев на молодежь. — Впрочем, прежде надо сказать несколько слов о фактической или, вернее, исторической его подкладке. Во-первых, следует иметь в виду, что Аликай — лицо вовсе не мифическое, а действительное. Во-вторых, и жил-то он не так давно, не более шестидесяти лет назад, следовательно, старики должны его помнить. В то время заводами управлял знаменитый на Урале Спиридон Карпович Золин из вольноотпущенных, человек огромного ума, непреклонной воли и необычайной энергии, прославившийся небывалой, даже для того времени, жестокостью в обращении с рабочим людом. Это был зверь в полном смысле слова, не знавший ни жалости, ни пощады. Он насмерть засекал людей, бросал ослушников в доменные печи, сгонял за сотни верст приписанных к заводам крестьян, и те гибли в рудниках и куренях от голода, лишений и непосильной работы. Зато в несколько лет он увеличил выделку железа вдвое, а добычу золота в пять раз. В 1824 году Урал посетил император Александр Первый. Двое мастеровых возымели неслыханную дерзость подать жалобу государю, но Золин приказал расстрелять их. Мастеровых казнили на площади в присутствии горного исправника и взвода казаков. Это была настоящая публичная казнь со всеми атрибутами тогдашних казней: был священник с крестом, эшафот, позорная колесница, палач в красной рубахе. Разумеется, после этого никто уже не дерзал помышлять о жалобах. Золина представили государю в качестве выдающегося деятеля горной промышленности, и он очаровал его умом, красноречием, смелостью и благородством суждений. Государь советовался с ним о приведении казенных заводов в такое же цветущее состояние, как Бардымские, и говорил потом, что часовая беседа с Золиным была поучительнее для него, чем все путешествие по Уралу. Золин был обласкан, осыпан милостями и щедро награжден. Однако вскоре случилось одно обстоятельство, которое повлекло за собой неожиданные последствия. Штейгер Колков случайно проговорился об расстрелянии мастеровых чиновнику, командированному из Петербурга. Об этом было сказано к слову, вскользь, между прочим, но чиновник заинтересовался, навел справки и обо всем написал в Петербург. Сообщение это произвело большое впечатление, и для раскрытия злодеяний Золина командирован был флигель-адъютант граф Костров. То, что обнаружилось на месте, превзошло всякое вероятие. Граф Костров пришел в ужас и круто принялся за дело. Сгоряча он приказал арестовать Золина и сам начал следствие. Однако очень скоро дело застряло в трясине канцелярской волокиты. Местное чиновничество, начиная с губернатора и главного начальника уральских заводов, оказывало графу открытое противодействие: его распоряжения не исполнялись, выкрадывались из-под печатей бумаги и компрометирующие документы, исчезали вещественные доказательства, перехватывалась переписка; самый арест Золина существовал только на бумаге: в действительности Золин проживал в своем городском палаццо, принимал гостей, задавал пиры, отдавал распоряжения и даже ездил на заводы. Граф горячился, терял голову, выходил из себя, писал донесения в Петербург. На него, в свою очередь, сыпались жалобы от главного начальника с предупреждением, что легкомысленное поведение графа может поднять весь Урал. Разумеется, не дремали и влиятельные покровители Золина. Кончилось тем, что графа отозвали в Петербург, и дело пошло обычным приказным порядком. В расследовании Кострова усмотрены были какие-то упущения, началась нескончаемая переписка по поводу разных второстепенных обстоятельств, арест Золина был признан преждевременным, а вслед за тем и самое дело, наполовину утерянное, за недостатком улик было прекращено. Золин снова воцарился на заводах. Тогда началась расправа с недовольными. Десятки людей были засечены до смерти, многих сдали в солдаты, Других сослали в Сибирь. Каждый из уцелевших дрожал за свою судьбу. В это-то время и выступает на сцену Аликай.
— Отсюда, стало быть, начинается уже легенда?
— Да… или, вернее, изустная история… Аликай считался в народе колдуном, про него говорили, что он "знает"; лет десять он находился в бегах и в последний раз пришел откуда-то с Волги. По рассказам, появление его было эффектно. Он пришел утром, в праздник, когда наказывали конокрада Степана Баталова. В красной кумачной рубахе, в плисовых шароварах, в шляпе с алою лентой, здоровый, бравый, саженного роста, черный, как жук, вышел он на середину площади перед народом и весело, соколом, осмотрелся кругом. Его узнали, и гул радостного изумления прокатился в толпе. Исправник приказал взять его, но никто не тронулся с места: все, даже казаки, стояли в оцепенении, как очарованные. Аликай, растолкав людей, стоявших в строю с шпицрутенами, вошел в зеленую улицу, отрезал Баталова от крестовины и голого, без рубахи, повел за собой в толпу. Народ молча улицей расступился перед ним. Едва он исчез, произошла невообразимая суматоха. Обыскали весь завод, но Аликай как в воду канул. Впрочем, через неделю его вместе с Баталовым накрыли в кабаке, заковали в цепи и посадили в каземат. На другой день, утром, нашли в каземате только брошенные в угол кандалы, кисет с табаком да вывороченную из окна решетку, — заключенные исчезли. Говорят, Аликаю понравилась эта скала, и он здесь поселился. К нему собралось десятка два головорезов, и они устроили настоящую молодецкую заставу, откуда держали в повиновении всю округу. Случалось, что разбойников ловили, но благодаря "знанию" Аликая, их не держали никакие затворы. Рассказывают, что однажды Аликая посадили в каменный мешок. Он ослабел и попросил напиться. Ему дали ковш с водой. Аликай перекрестился, нырнул в воду и вынырнул уже версты на три ниже завода из речки Саранки и скрылся в горах. Другой раз он начертил мелом на полу лодку; откуда ни возьмись — весла, разбойники сели, запели песню и уплыли. По требованию Золина против Аликая было выслано войско. Солдаты три дня плутали по лесу, ночью их напугал леший, и, когда они, наконец, добрались до камня, там никого не оказалось. Золин, не боявшийся ни бога, ни людей, не страшившийся черта, решительно спасовал перед Аликаем. Он присмирел, окружил себя стражей, никуда не показывался. Население в первый раз вздохнуло свободно. Аликай открыто появлялся в народе, гарцевал на лошади перед господским домом, переругивался с казаками. Дело дошло до того, что ему приносились жалобы, он вмешивался в распоряжения конторы, диктовал условия, наказывал ослушников. В одно прекрасное утро исчезла у Золина молодая жена, которую он вывез откуда-то издалека. Она жила затворницей, как птица в клетке, не видя людей. Решили, что она утопилась, и долго искали ее в пруду, но Аликай прислал сказать, что она жива и находится в сохранном месте. Тут Золин еще раз проявил свою страшную энергию: сбил до тысячи человек народа и устроил на Аликая облаву. Десять дней люди не выходили из лесу, голодали, не спали ночей; сам Золин похудел, одичал, волосы его побелели. Обыскали все окрестности, но Аликая не нашли. Когда вернулись домой, оказалось, что управительский дом сгорел дотла. Тогда Золин в припадке бешенства поджег фабрику, магазины и контору. Огонь перебросило на обывательские дома, и к вечеру от селения осталось только черное, дымящееся поле. Золин скрылся и больше никогда уже не возвращался в заводы. Рассказывают, что он поселился в Соловецком монастыре, где и умер.
— А что же Аликай?
— Он тоже прожил недолго. По рассказам, значительную часть своих сокровищ он роздал народу. Но вскоре и его постигла божия кара: захворала и умерла его любовница, жена Золина. Схоронив ее под камнем, Аликай поседел в одну ночь и целые сутки лежал на ее могиле, как мертвый, потом распустил шайку, щедро наделил ее деньгами, остальное зарыл, затем поднялся на вершину, бросился вниз и разбился о камни.
— Гм!.. Да, были нравы! — сказал генерал и поднялся с места.
— Да, было да прошло… и слава богу!..
VI
Слегка прихрамывая на левую ногу, генерал вышел из палатки. За ним потянулось все общество.
— Какая прелесть! — сказал он, осматриваясь кругом.
— Да, да!.. прелестно!..
Дамы кокетливо взвизгивали, заглядывая в пропасть, на дне которой белели крупные и мелкие камни и чернела узкая излучина реки.
— Ух, костей не соберешь!.. Ринуться с такой высоты — это ужасно!
— А ночь-то, ночь!.. Ваше превосходительство, посмотрите, от росы луг кажется белым…
— А слышите, как журчит река… она точно лепечет о чем-то…
Горевший неподалеку костер то вспыхивал ярким пламенем, освещая колеблющимся светом деревья и камни, то разливал вокруг себя ровный, багрово зловещий свет. Около него копошились подростки и прислуга, приготовлявшая ужин. На вышке скалы опять хором запели песню, от которой все ожило, и мерцавшая в лунном сиянии даль получила какой-то загадочный смысл.
— Очень, очень мило, — говорил генерал. — Это молодежь поет? Очень, очень мило!..
— У нас иногда составляется большой хор… Сегодня еще не все.
Конюхов, заложив за спину руки, длинный и прямой, как палка, стоял почти у самого обрыва и смотрел вдаль своими бесцветными оловянными глазами.
— Дядя просил передать вам, — обратилась к нему Катя, — что записка готова, остается только переписать.
Конюхов, не меняя позы и все смотря куда-то вдаль, слегка качнул головой в знак того, что он слышит. Это была его обычная манера обращения в разговоре с людьми низшего ранга.
— Завтра или послезавтра перепишут, — прибавила Катя.
— Надо прежде прочесть, что он там написал, — процедил Конюхов сквозь зубы.
— Но дядя хочет подать записку от себя.
Конюхов удивленно приподнял брови, помолчал и, наконец, смотря куда-то вдаль, произнес тем же ровным голосом:
— Старик с ума спятил. Записка должна быть подана от меня. Передайте ему это.
— Пожалуйста, потрудитесь передать ему сами, — сказала Катя сердито и отошла.
Конюхов, не сделав никакого движения, продолжал стоять все в той же позе.
Кто-то нашел большую, засохшую на корню пихту с красной хвоей и поджег ее. Ослепительно белое пламя вихрем взвилось кверху и с шумом обняло дерево, осветив все далеко кругом. Небо вдруг стало темным, луна побледнела. Неожиданно и странно изменилась вся картина, обнаружив невидимые до сих пор подробности: сидящую в траве собаку, белые камни в ложбине, громадного роста сосну по другую сторону рва… Катя заметила внизу, по ту сторону ущелья, недалеко от тропинки, каких-то людей полувоенного вида и между ними в белом кителе офицера. Очевидно, их испугал внезапный свет: они беспокойно задвигались и стали прятаться в низкорослые кусты можжевельника. Пока пламя с ревом пожирало сухую хвою, молодежь в восторге кричала и хлопала в ладоши, подростки визжали, прыгали и кружились вокруг огня. Но хвоя быстро сгорела, свет погас, и только раскаленные сучья слабо светились, жалобно потрескивая, отламываясь и падая вниз. Кругом опять все потемнело, небо стало синим, и на нем с прежнею яркостью светила луна.
Конюхов предложил подняться на самую вершину камня, откуда открывался вид на все четыре стороны. Генерал выразил согласие и, хромая, но стараясь ступать твердо, пошел рядом с ним. Общество зашевелилось, все стали осторожно подниматься вверх по тропинке, по осыпающимся мелким камням, между уродливыми глыбами скал, освещенных луной.
— Подождите! — шепнула Светлицыну Анна Ивановна Конюхова, тихонько касаясь его руки и вглядываясь в его лицо, покрытое черной тенью: — Нам надо поговорить.
Светлицын, нахмурившись, замедлил шаги и пошел вслед за нею. Несколько минут они шли молча, прислушиваясь к удаляющимся голосам гостей. Когда голоса смолкли, Анна Иванова остановилась, прячась в тени.
— Ты сердишься? Да? — сказала она, привлекая его к себе.
Светлицын молчал.
— Ты сердишься и нарочно ухаживаешь за Катей, чтоб позлить меня? да? Но я никогда не поверю, чтоб тебе могла нравиться эта ходячая пропись.
— Почему же?
— Фи!.. Что в ней?
— Она мила, умна, образованна, красива…
— Она невоспитанна, груба… ведет себя, как семинарист в юбке… Но не в этом дело… На что ты сердишься?
— Могу тебя уверить, нисколько.
— Разве я не вижу!.. Надо тебе сказать, что уже все замечают и говорят про нас бог знает что…
— Гм!.. И тебя это беспокоит?
— Еще бы!.. Ты странный человек! Я не понимаю, чего ты от меня хочешь?
— Ничего… ровно ничего.
— Нельзя же компрометировать себя…
— Конечно!
— С тобой невозможно говорить!.. Мы слишком у всех на виду, и простая осторожность требует, чтоб свидания наши были как можно реже. Ты должен это признать.
— Охотно признаю.
— Перестань!.. Не злись!.. в чем же ты меня обвиняешь?
— Ни в чем… я вполне с тобой согласен…
— Говори тише… везде народ… Тогда в чем же дело?
— Не знаю… кажется, ни в чем.
— Это несносно!.. Пожалуйста, не ломайся!.. Ты ревновал меня к этому уроду — вот в чем дело!.. Не отпирайся, не отпирайся… к этому расслабленному баричу…
— Это к которому же?
— Ах, отстань!.. Ты отлично знаешь, о ком я говорю… Но должен же ты понять, что это нужно было для дела… Мой Петр Саввич такой опехтюй, а тут нужна дипломатия… Нужный человек… как же иначе?.. Он личный секретарь князя.
Светлицын засмеялся.
— Чему ты? — удивилась Анна Ивановна.
— Меня забавляет твоя наивность… как все это просто: нужный человек!..
— Пожалуйста, не продолжай: я наперед знаю, что ты скажешь… Но только это глупости… ведь не влюбилась же я в этого идиота!.. Поухаживал да уехал… экая важность!.. Зато теперь наше положение так прочно, как никогда… Милый мой! ты самых простых вещей не понимаешь, а умный человек… Все так делают… чего тут особенного?.. Надо уметь жить… Ну, не сердись же, милый.
— Ей-богу, я нисколько не сержусь.
— Нет, нет, ты злишься, разве я не вижу?..
Она стала ласкаться к нему, но он вяло и неохотно принимал ее ласки.
— О чем ты думаешь, милый?
— Ни о чем… никаких дум в голове… скоро совсем оглупею, ей-богу. Скука, все надоело… Я серьезно подумываю бежать от вас.
— Как? — удивилась Анна Ивановна. — Бежать? Зачем?.. что значит бежать?
— Так… уехать.
— Куда?
— Куда глаза глядят.
— Какие глупости!
— Не век же мне здесь оставаться… надо жить, работать, учиться, пробивать дорогу… Я еще молод, вся жизнь впереди, а оставаться здесь — значит, заплесневеть, обрасти мохом…
Анна Ивановна вдруг замолчала.
— Скучно здесь, — продолжал Светлицын, — и, знаешь, противно… Удивляюсь, как здесь с ума не сходят… пьяниц много, а сумасшедших нет… удивительно!.. Не жизнь у вас, а тюрьма… и нравы каторжные… Воздуху нет, дышать нечем…
— Ты меня не любишь — вот что! — прошептала Анна Ивановна. — Ты разлюбил меня?
— Не знаю… не в этом дело.
— Нет, в этом, в этом!.. Я не верю тебе… Ни одному твоему слову!.. Чем здесь нехорошо? Чего еще надо?.. Ты можешь сделать карьеру… Скука… но везде скука. Может быть, где-нибудь в Париже… но и там скучают. И что это за вздор: воздуха нет? Какого воздуха?.. Нет, нет! Никуда ты не поедешь!.. Куда? Зачем?.. Как это глупо!.. И не отпущу я тебя, так и знай!..
— Будто? Но к чему тебе меня удерживать?.. Место мое недолго останется пустым, я и теперь тебе почти не нужен.
— Нет, нужен, нужен…
Светлицын пожал плечами. Анна Ивановна неожиданно заплакала.
— Я без тебя жить не могу…
— Какой вздор!.. Перестань, что за новости!..
— Нет, не вздор… не вздор!.. Милый!.. Прости меня. Ну, я виновата… ну, я винюсь перед тобой… чего же еще! Ах, эти идут сюда, противные!.. Отойди от меня… шляются, шляются — нет ни минуты покоя!.. Но видеться нам необходимо сегодня же…
— А где ж его превосходительство?! — пыхтя, как паровик, кричал, поднимавшийся в гору заводский лекарь Ожегов. За ним тяжело тащился земский врач Веретенников. Оба были уже на втором взводе.
— Эки чертовы горы! — пробасил Веретенников и плюхнулся на землю в совершенном изнеможении. — Уф!.. больше не могу!.. ноги подкашиваются… сердце стучит, как молот… А где же генерал и прочие?
— Впереди. Мы идем на вершину камня.
— Добре, добре!.. А мы с Иваном Осиповичем клад искали… черт знает! И ведь не нашли!.. И свечку видели, и солдата на часах, а клада нет как нет!.. Отложили до другого раза.
— Да, не везет нам, — вздохнув, подтвердил Ожегов и сел рядом с Веретенниковым. — Ну и хорошо же, черт побери!..
— Вы не пойдете дальше? — спросила Анна Ивановна.
— Нет, куда тут!.. Сердца у нас с Иваном Осипычем не в порядке…
— Ну, тогда до свидания. Идемте, Иван Петрович.
— Опять воркуют голубки, — сказал Ожегов, когда Светлицин и Анна Ивановна скрылись.
— Да… лафа этому парню… как сыр в масле… даже зависть берет… Приехал на практику, да вот и застрял… второй год околачивается… и ведь место хорошее, подлец, занимает. Рожа смазливая и ловкач!.. Что значат бабы-то, а?
— Да, брат, бабы — они того… имеют свое значение… А барынька объяденье!.. Ай люли!.. И умна же… проведет и выведет. А тот пентюх ничего не видит… А впрочем, черт его разберет!.. Ты не смотри, что он истукан… тонкая штука!..
— Ну, где там!.. Просто осел!.. Ну-ка, не осталось ли еще пороху в пороховнице?
— Есть!
— Дав-ай! Выпить на чистом воздухе да при этакой декорации — это, брат, я тебе скажу, целая поэма… Ишь, луна-то, черт ее побери! Хоть письма пиши… Небось, оттуда стянул?
— Само собой. Как ушли, я сейчас — цап! Черта ли на них смотреть! Не ихние, заводские денежки плачут. На генерала три тысячи ассигновано. Хо-хо!.. По крайней мере на свободе с приятелем выпить… черта ли!.. При публике-то оно не того… важничают… терпеть не могу!.. И генерал этот… чучело гороховое.
— Шут с ним! Ему важничать можно: генерал да еще с особыми полномочиями.
— Изобиходят его в лучшем виде!
— Конечно!.. Вокруг пальца обернут. Ну-ка, еще по единой… Эка благодать-то, а?.. Посмотри вон там… фу-ты, какая роскошь!..
— Да, брат… и погода кстати пришлась… для генерала-то… еще одно приятное впечатление.
— Хе-хе!.. А и верно. Сегодня утром его в больницу ко мне привезли… для приятного-то впечатления. Хо-хо!..
— Ну и что же?
— Ничего. Бутафория у нас чудесная: блеск, чистота, паркет, простыни, ореховая мебель… Умилился: "Превосходно, говорит, но почему же так мало больных?" Время, говорю, такое, ваше превосходительство.
— Значит, больные-то все-таки были?
— А как же! Нарочно для этого случая приспособили… долго ли!.. Живым манером. "Какой, говорит, у них здоровый вид!" Выздоравливающие, говорю, ваше превосходительство. А у них и дощечка, и скорбный лист — все как следует!..
— Молодцы! Умеете товар лицом показать.
— Мы мастера на это. Ну-ка, остатки сладки, допивай, а пустую бутылку к черту! Что в ней, в пустой-то?.. Терпеть не могу!..
Описав в воздухе полукруг, бутылка с жалобным звоном покатилась вниз. Приятели долго прислушивались к ее падению.
— Ну, а воинство зачем? — помолчав, спросил Веретенников.
— Какое воинство?
— Как же!.. Разве ты не заметил?..
— Не знаю… должно быть, на всякий случай… мало ли… кляузный у нас народ, озорной. Генерала охраняют… а впрочем, не знаю… дело не наше.
— А не пойти ли нам к студентам? Песни больно хорошо поют, шельмецы.
— Что же, к студентам, так к студентам. Песенки-то они воспевают, да и еще кой-чем занимаются… да-с… известно об этом, известно-с…
VII
Об ужине решено было известить гостей пушечным выстрелом. Медная пушка, странной формы, с раструбом, стояла заряженная, наготове. Около нее, весь в поту суетился кучер Антон. Ему подали сигнал к выстрелу
— Ну, братцы! — закричал он, вытаскивая из костра раскаленный прут: — Конченное дело! Шабаш!..
Публика с криком брызнула в разные стороны и с замиранием сердца, щуря глаза, стала ждать выстрела. Порох вспыхнул, раздался выстрел. Звук его, жидкий и слабый, не оправдал общих ожиданий, все разочарованно смотрели на белый дымок, расползавшийся в воздухе над обрывом. Вдруг с неожиданной силой выстрел отгрянул в горах, и вся окрестность всполошилась от грома перекрестной пальбы. Казалось, сотни бомб летели с невероятной силой, ударялись в горы, отскакивали, разрывались на части и снова летели. Отголоски уходили все дальше, замирали, делались едва слышными, сливаясь в странную гармонию, замолкали и снова неожиданно откликались уже откуда-то из страшной дали, пока не замолкли совсем. Ошеломленная публика молчала, все еще ожидая чего-то.
— Фу-ты! — воскликнул Ожегов. — Чудеса в решете!.. Вот оказия-то!..
Публика стала шумно выражать свой восторг. Архипу приказали снова зарядить пушку, но в суете потерялся порох, и его никак не могли найти. На выстрел со всех сторон начали стекаться проголодавшиеся гости.
Когда прогремел пушечный выстрел, Светлицын и Катя одни сидели на краю обрыва.
— Все так, Екатерина Павловна, — говорил Светлицын, и слова его звучали для Кати, как музыка: — это ясно, как день… Но к чему все-таки этот суровый аскетизм? Зачем жертвы? Зачем это оскопление души? Неужели, кроме долга, нет никаких других радостей? И почему эти радости запретны? Зачем добровольное отречение от самого себя?.. Этого я не понимаю. Все люди имеют право на жизнь, полную и всестороннюю. Имеем его и мы. Посмотрите, как хорошо кругом, как хороша природа, как хороша наша молодость!.. Неужели все это не говорит вам ни о чем, кроме мести и печали?..
— Во-первых, — отвечала Катя, — бывают времена, когда всесторонняя жизнь немыслима, а радости жизни почти преступны. Во-вторых, печаль, негодование, ненависть, борьба — разве это не жизнь?.. Они способны также захватить всего человека.
— Положим… но я только против такой исключительности…
— Исключительность определяется моментом, в который мы живем.
— И это, может быть, верно… Мы мудры, как змий, мудрость ваша подавляет меня… В самом деле, перед вами я точно школьник. Положим, надо еще доказать, что именно таков настоящий момент, а доказать это нельзя. И все-таки я хотел бы оправдаться. Пусть я раб лукавый и ленивый, но ведь не все же таланты зарыты в землю, все впереди, и ничего не потеряно. Вы находите, что у меня знаний мало, — приобрету! Курса не окончил — окончу! Не сделал ничего в известном направлении — сделаю!.. Я не согласен с вами, будто я исключительно занимался зарыванием талантов… Я разбрасывался, — это правда, но, кажется, и это на пользу. Я не отвращал лица своего от жизни, и это дало мне опытность, которая еще пригодится.
— Нет, Иван Петрович, — мягко возразила Катя: — не отрицайте, что вы ничего не сделали и ничему не научились. Вы даже не познакомились с народом, а это непростительно. Что же касается опытности, то что она вам дала?.. Я не знаю, о какой опытности вы говорите. Я знаю только, что вы опустились, выучились пить и убивать время… Вы даже книги разучились читать.
— Ах, боже мой! Но ведь не в книгах же заключена вся премудрость!.. Ну хорошо, пусть так… пусть все, что было, одни ошибки, промахи, глупость, дурость… оно и верно. Но ведь не пропащий же я, в самом деле, человек!..
— Кто говорит об этом!..
— Ах, Екатерина Павловна! — вдруг страстно заговорил он, приподнимаясь. — Все еще впереди, вся жизнь! И как это хорошо!.. Если б знали вы, как я люблю ваши суровые глаза и власть их над собою!.. Хотите, я сброшусь вниз, туда… скажите только слово!.. Ей-богу!.. С наслаждением, с восторгом!..
— К чему же это? — улыбаясь, с загоревшимися глазами спросила Катя.
— Так… не знаю… чтоб доказать свою преданность и любовь… Но вам это непонятно: вы холодны, как льдинка, и рассудительны, как сама старость.
— Этого я, действительно, не понимаю.
— То-то и есть. 8ы не понимаете, что за один миг, за один порыв можно отдать душу и богу и черту. Вот чего вы не понимаете.
— Нет, может быть, и понимаю… но лучше этого не понимать! — тихо заметила Катя и тотчас же переменила разговор.
— Дайте слово, что вы к осени будете в Петербурге, — сказала она. — Вам необходимо пожить там, необходимо.
— А вы не верите мне?
— Нет, верю, верю… но все-таки.
— Весьма охотно. Обещаю и клянусь. Клянусь я первым днем творенья и так далее.
— Спасибо! — сказала Катя и поднялась.
— Куда же вы? — спросил Светлицын.
— Пора. Пушка прогремела, все спешат к ужину.
Светлицын неохотно встал и пошел с ней рядом.
Коперник целый век трудился,-
запел он чистым, приятным баритоном.
— У вас и голос прекрасный, — сказала Катя, — сколько у вас талантов!
— Мне серьезно советовали поступить в консерваторию. Но в том-то и беда, что много талантов, и ни одного настоящего.
В стороне от палатки горячо спорили о чем-то студенты. В споре принимали участие Ожегов, Веретенников и два молодых инженера. Но больше всех горячился Кленовский. Его резкий голос покрывал другие.
— Это идиотство! — кричал он. — Это непонимание элементарнейших приемов тактики!..
— Барин! А, барин!.. Вас спрашивают, — уже несколько раз говорил ему какой-то мужик, притрагиваясь к его плечу.
Наконец, Кленовский с досадой обернулся и увидел конюха. Тот стоял перед ним, испуганный и бледный, с растерянными, виновато бегавшими глазами.
— Чего тебе?
— Спрашивают вас… там… папенька, что ли… не знаю.
— Кто?
— Так что тятенька ваш, стало быть… требуют вас… туда-с…
— Куда?.. Зачем?.. Какой тятенька?.. Тятенька — вон он стоит… что ты врешь?..
— Не знаю-с… позови, говорят… вас спрашивают…
— Ну ладно, отстань!.. Ну-тя к черту!.. Это идиотство, игнорировать требования самого народа! — возвращаясь к спору, опять закричал Кленовский. — В этом вся суть, вся сила, почва и опора!.. Какая глупость!..
— Барин, — не отставал конюх, — сделайте милость, пожалуйста… будьте настолько добры… надо-с… пожалуйте, барин! — уже настойчиво, почти грубо заговорил он.
— Фу-ты, черт!.. Вот привязался!.. Чего тебе? Отстань, сделай милость!..
— Барин, никак невозможно… пожалуйте, как хотите…
— Ах!.. Ну хорошо… Я сейчас, господа… куда?..
— За мной пожалуйте.
— Куда ты меня ведешь? К кому? — спрашивал Кленовский, спускаясь вниз по тропинке.
— Вон туды-с… сию секунду-с…
Сойдя с горы, Кленовский заметил поджидающего их человека в военной форме. "Каким образом здесь офицер? — мелькнуло у него в голове. — Откуда? Зачем?"
— Вы господин Кленовский? — вежливо, прикоснувшись к фуражке, обратился к нему военный.
— Да. Что вам угодно?
— Николай Николаевич?
— Да.
— Весьма рад, давно желал познакомиться, — задушевно и чрезвычайно просто сказал офицер и назвал свою должность и фамилию.
"Вот так клюква! Что это значит?" — подумал Кленовский, чувствуя неприятные мурашки по всему телу.
— Не беспокойте себя, — продолжал успокоительно офицер, — не тревожьтесь.
— Я не беспокоюсь, но в чем дело?
— Не угодно ли следовать за мной?
— Куда?
— О, пока весьма недалеко. Несколько шагов.
— Но что это значит? Зачем? Пока вы не объясните, я не тронусь с места.
— Очень жаль. Но к чему такое недоверие? Даю вам слово, что это необходимо.
— Я не пойду… Зачем? Кто вы такой? Что вам надо?..
— Маталасов! — позвал кого-то офицер, и тотчас же из кустов выступили три жандарма и молча обступили Кленовского. Кленовский постоял с минуту в нерешительности, пробормотал ругательство и, не сопротивляясь более, пошел с ними.
— Пожалуйста, будьте спокойны, — все так же вежливо и ласково говорил офицер, — дело обыкновенное-с… с молодыми людьми часто случается.
Через минуту они скрылись в тени кустов. Вскоре колокольчики залились веселым малиновым звоном и смолкли в лесу.
В тот же вечер столь же таинственно исчезли с пикника еще два студента и один гимназист, но отсутствия их никто не заметил. Веселье шло своим чередом. Была уже полночь. Луна стояла высоко. Костер догорал. У большинства мужчин головы кружились от вина. Языки развязались: теперь уже все чувствовали себя совершенно непринужденно. Подали шампанское, стали провозглашать тосты за науку, за генерала, за Россию, за процветание края, за уральскую горную промышленность. Кто-то из молодых инженеров предложил тост за народ, и он был встречен дружными аплодисментами и криками "ура".
VIII
К Конюхову среди шума несколько раз прокрадывался какой-то рыжий, невзрачный молодой человек, в коротеньком сюртучке, и таинственно докладывал ему о чем-то. Конюхов говорил с ним вполголоса, по обыкновению отвернувшись в сторону, что-то приказывал, и молодой человек так же незаметно исчезал.
— Ну? — спрашивала Анна Ивановна, озабоченная встревоженным видом мужа.
— Прозевали! — отвечал он, хмуря брови:- Захватили народищу тьму, а депутацию проморгали. Ищут теперь, дурачье, по всему лесу… ослы!..
— Какая досада!..
— Забрали сейчас одних болванов, да не тех… Жалоба должна быть у Барсукова, а его-то и нет… Подлецы!.. распугали народ, шуму наделали… кособокие!.. Вообще выходит безобразие!..
— Ну, ничего… не волнуйся… Бог даст, устроится…
— И это называется: негласно… тьфу!.. вот наши дурацкие порядки!.. До генерала дойдет — сущий скандал!
— Этого не может быть!.. А если бы и так, то что ж? Мы тут ни при чем, мало ли производится дознаний и прочее. Наше дело сторона.
Снова откуда-то вынырнул рыжий молодой человек и, почтительно переждав разговор, подошел к Конюхову.
— Осип Павлович вас просят, — доложил он:- туды-с.
— Хорошо, — сказал Конюхов и пошел за ним.
В укромном местечке их поджидал Осип Павлович, тучный, упитанный человек, с бритой головой и красным лицом, затянутый в мундир.
— Здравия желаю! — проговорил он хриплой октавой. — Многая лета!..
— Здравствуйте. Ну что?
— Слава богу… Готово-с
— А бумага?
— Готово-с.
— Дайте-ка мне.
— Невозможно. Она там… приобщена к делу.
— Но мне нужно непременно. Что написано? Кто писал?
— Писали господин Кленовский.
— Как?!
— Студент-с, а не господин лесничий, конечно-с.
— Ага!.. Вот мерзавец!.. Я так и знал.
— Уже и они… ау! До свиданья!..
— Когда? Что вы толкуете! Я сейчас его видел.
— Никак нет-с… ау-с!.. изъяты из обращения.
— Туда и дорога!.. А жалоба мне нужна…
— Да вы не беспокойтесь, Петр Саввич: она приобщится к делу и дальше не пойдет, а другой, надеюсь, не напишут… Нет, уж теперь погодят… Если угодно, я копию сниму.
— Пожалуйста.
— С полным удовольствием. Имею честь кланяться. Многая лета!..
Конюхов вернулся к обществу, все такой же деревянный, но проницательная Анна Ивановна заметила, что настроение его изменилось.
— Ну, что? — спросила она шепотом.
— Все хорошо. Накрыли.
— Видишь, я говорила. Слава богу.
Молодежь между тем снова образовала хор. Мало-помалу к ним присоединились и старшие. Ожегов, по-мужицки схватившись за голову, пел с большим чувством. Пел Веретенников, пели инженеры, и песня всех хватала за сердце, будя золотые воспоминания о минувшей студенческой жизни. Даже Конюхов, вытянувшись, как жердь, подтягивал козлиным тенорком:
Волга! Волга! Весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великою скорбью народной
Переполнилась наша земля…
Когда запели "Забытую полосу" и дошли до куплета: "и шагает он в синюю даль", то всем до слез стало жаль неизвестного пахаря, идущего по Владимирке "за широкий, за вольный размах" и вспоминающего свою заброшенную полоску.
Голос Светлицына покрывал весь хор.
— Какой чудный бархатный бас! — заметил генерал. — Не споет ли молодой человек что-нибудь один?
Тотчас же все приступили к Светлицыну с тою же просьбой. Он согласился и, поднявшись на небольшой камень, как на эстраду, шутливо раскланялся с публикой. У ног его, точно алмазная пыль, светилась роса, покрывавшая бугры седого мха, а внизу, в глубине пропасти, сквозь синеватую мглу темнела река и серебрился кустарник, отбрасывая от себя короткие черные тени. "Надо что-нибудь мощное, смелое", — подумал он и запел "Утес".
Е-есть на Волге уте-ес…-
начал он и заробел, чувствуя, что голос его, не имея опоры, бессильно расползается в пространстве. Он прибавил звука, и, когда пробудилось дремавшее в горах эхо и запело вместе с ним, голос его окреп и зазвучал уверенно и могуче.
Ему много и дружно аплодировали и требовали повторения, но он отказался и сошел вниз. Потом еще пели "Проведемте, друзья", "Вперед без страха и сомненья" и другие песни. Генерал находился в самом благодушном настроении.
— Меня в особенности трогает, господа, ваше дружное, согласное общество, — говорил он:- Вы как будто, одна семья, связанная кровными узами. Это так редко и потому так приятно. Я вижу здесь не начальников, не подчиненных, а добрых товарищей одного большого, общего и полезного дела. Это хорошее товарищеское отношение, говорят, распространяется и на младших сотрудников ваших — на рабочих, и я этому охотно верю, потому что вообще допускаю такую возможность… Я верю в дружеский союз тружеников, ибо в единении сила. Я поднимаю свой бокал, господа, за единение, за силу союза и его благие результаты…
— Ура-а! — диким голосом закричал Ожегов и полез к генералу целоваться.
— Урра!.. Урра-а! — дружно подхватили восторженные голоса.
— Ах, ваше превосходительство!.. Как вы хорошо сказали! Как выразили… Мы в самом деле, как одна семья… кровная, задушевная семья! — захлебываясь, говорил Ожегов. — Ей-богу! Мастеровые — наша семья. Живем, слава тебе господи… ладно живем. Наш меньшой брат — товарищ, сотрудник — совершенно верно…
— Могу засвидетельствовать, что для населения делается все возможное, — также очень растроганный, сказал Конюхов:- князь не щадит средств… Придите на помощь, дайте нам железную дорогу, и тогда мы оживем…
— Дорогу вам дадут… без сомнения, — говорил размякший генерал. — Даю вам слово…
— Однако это чересчур! — пробормотал Светлицын, и глаза его задорно сверкнули.
— У нас, действительно, дружная семья, — громко обратился он к генералу. — В доказательство позвольте привести один маленький эпизод. В прошлом году врач Дратвин дал неудобное на суде показание.
— Ну, понес, — перебил его Ожегов, — вот уж не кстати!.. Нашел о чем говорить!
Конюхов с тяжелым изумлением остановил на Светлицыне свои оловянные глаза. На лице Анны Ивановны изобразился испуг. Гости беспокойно зашевелились.
— В качестве эксперта он утверждал, что речка Бардымка, из которой пьет воду население Верхнего завода, систематически отравляется отбросами газовых печей. Вода была, как сусло, но он не захотел признать ее чистой и прозрачной, как кристалл. На него ополчилась дружная семья, и он в двадцать четыре часа был уволен.
— Околесная!.. все извращено!.. — кричал Ожегов. — Ты с ума сошел, что ли?.. Идиот!..
— Это неправда! — произнес побледневший от гнева Конюхов. — Дратвин был уволен, но по другой причине. Я сошлюсь на всех присутствующих.
— Неправда!.. Конечно, неправда!.. — заговорили хором крайне взволнованные гости.
— Неправда?.. Вы это утверждаете? — звонким голосом переспросил Светлицын, чувствуя, что он стремительно летит куда-то в пропасть. — Ах, господа, господа! но ведь это только ничтожнейшая частица правды, которую еше никто не раскрыл. Если рассказать все, что здесь творится…
— Довольно!.. Будет!.. — как исступленный, наседал на него Ожегов. — Что ты мелешь!.. Собачий черт!.. Все ты врешь… довольно, я тебе говорю!..
— Довольно! довольно!.. Это неприлично, наконец!.. — угрожающе подхватил хор.
Светлицын засмеялся и махнул рукой.
— Ив самом деле, довольно, — сказал он с неожиданным добродушием. — Господа, я пасую… Где ж мне устоять против такого дружного натиска!.. Не скажу больше ни слова… но предлагаю все-таки выпить за правду. За все пили, за правду не пили. Итак, господа, за правду!..
— Ого!.. Давно бы так!.. Это дело… пить, так пить… — мгновенно меняя тон, отвечал Ожегов. — А то понес околесную… охальник!.. Пей, друг, за правду, ничего! Сколько влезет!.. И мы выпьем: это не вредит. Пей, да поменьше ври! Держи язык за зубами! Кто против правды? Никто, мы все за нее горой. А то, брат, аллилуйя на постном масле… ни более, ни менее…
Скандал был, однако, настолько велик, что все чувствовали себя, словно ошпаренными. В разных концах начались притворно непринужденные разговоры, кто-то предложил снова составить хор, но, разумеется, предложение не было поддержано. Изумленный, сбитый с толку и всеми оставленный, генерал растерянно мигал глазами. Анна Ивановна, бледная, но улыбающаяся, старалась успокоить мужа. Она говорила ему что-то очень быстро, стараясь как можно больше наговорить слов.
— Прогнать его, как подлеца, как сукина сына! — хрипел Конюхов.
— Да, конечно… но теперь ты должен успокоиться. Разумеется, мы его сплавим, но пока не нужно подавать вида. В сущности ничего особенного. Генерал не обратит внимания… Уволили докторишку… какая важность!.. Возьми себя в руки… не показывай вида… молчи… угощай вином…
— Мерзавец!.. Неблагодарный скот!.. — прошипел Конюхов и с окаменевшим видом вернулся к гостям.
Между тем Ожегов, уцепившись за Светлицына, говорил ему:
— В сущности я понимаю… верьте чести!.. И если б не мое положение, я бы… ох! я бы разделал их под орех!.. Одним словом, на меня вы можете положиться.
— Ну вас! Пустите! — отводя его руку, наконец, огрызнулся Светлицын, который после своей выходки начинал чувствовать себя очень скверно.
— Иван Петрович! — громко позвала его Анна Ивановна. — Подите сюда, я вам уши нарву!.. Ну, идите же, идите!.. И вам не стыдно, а?.. Ты с ума сошел! — заговорила она быстрым шепотом, увлекая его в сторону. — Какая злая и низкая месть!.. Как подло! как глупо!..
— С последним я, пожалуй, согласен, — насильственно улыбаясь, ответил Светлицын.
— Противный злюка!.. как не стыдно!.. Ты нисколько не жалеешь меня!.. Какой срам! Какой скандал! Какая гадость!.. Тебя презирать, тебя ненавидеть надо… Но вот что: ты знаешь старую дачу у реки?.. Это с полверсты отсюда. Приходи туда, когда все угомонится… Чтоб ты знал, я выстрелю из револьвера, на это никто не обратит внимания. Я буду там. У, противный!.. Что ж ты молчишь?.. И еще вот что: ты должен извиниться… непременно, непременно!.. Ты всех расстроил, оскорбил…
— Ну, уж нет!..
— Непременно, непременно!.. Это необходимо. Ты мне обязан, и ты должен, должен.
— Отвяжись, пожалуйста!.. Я сказал правду. Может быть, не нужно было говорить, но раз сказано, я не возьму своих слов обратно.
— Ты негодяй после этого… Неблагодарный, скверный мальчишка!..
И Анна Ивановна, рассердившись, ушла.
— Ваше превосходительство, — через минуту говорила она генералу. — Светлицын очень просил меня извиниться перед вами… сам он стесняется. Он очень сожалеет, что погорячился. Дратвин — его друг, и это вполне естественно…
— Ничего-с, ничего-с, — сдержанно отвечал генерал, скрывая зевоту. — Все мы были молоды.
— Если вашему превосходительству угодно, то постель готова, — сказала Анна Ивановна, заметив усталый вид генерала. — Скажите, и вас проводят.
— Да, пожалуй, пора уж.
Обрадовавшись предлогу удалиться, он тотчас же простился с хозяйкой, пожелав ей спокойной ночи. Генерала пошел провожать сам Конюхов.
IX
Вскоре между гостями распространился темный слух о закулисных событиях этой ночи. Начались таинственные разговоры, расспросы, шушуканье… Говорили, понижая голос, под величайшим секретом, как будто дело касалось тайны, которую все обязаны были свято хранить. Многие с сожалением смотрели на старика Кленовского, который, ничего не подозревая, собирался ехать домой и искал сына.
— Николку своего потерял, — говорил он, улыбаясь, — не знаете ли, где он?
Кто знал об участи Николки, те виновато косили глаза, молчали или отзывались незнанием, другие говорили:
— Сейчас здесь был… Мы только что его видели…
Мало-помалу в сердце старика заползла тревога: он не мог не заметить уклончивых ответов и странного поведения своих знакомых. Не найдя сына на камне, он спустился вниз, стал расспрашивать конюхов и прислугу. Те так же прятали глаза, давали странные, уклончивые ответы. Наконец, дачный сторож, хромой и безрукий старик, решился сказать ему правду.
— Увезли твоего соколика, — прошамкал он беззубым ртом, — посадили в темную повозку и укатили. Пропала удалая головушка!..
У Кленовского подкосились ноги, он сел на лавочку подле сторожа и странно засопел носом. Тот говорил ему еще какие-то жалостливые слова, но он их не слышал. Так пробыл он минут пять, потом встал, спокойно и обстоятельно расспросил подробности и пошел к Конюхову.
Конюхов без пиджака, в ночной рубашке, сидя на кровати, стаскивал с себя сапоги. Увидев лесничего, он вопросительно устремил на него свои холодные глаза.
— Вы? Каким образом? — удивленно спросил он. — Что вам угодно?
— Где мой сын?
Конюхов сделал жест недоумения и приподнял брови.
— Ваш сын? — переспросил он. — Как я могу знать? Я мало интересуюсь вашим сыном.
— Где мой сын? — настойчиво повторил Кленовский. — Куда вы его дели?
Конюхов не торопясь надел на себя только что снятые сапоги и выпрямился во весь рост.
— Вы изволите шутить, многоуважаемый Николай Саввич? Что значит ваш вопрос?.. Мне до вашего сына, как до прошлогоднего снега.
Кленовский издал звук, похожий на стон, сел на кушетку и, согнувшись, опустил голову.
— Мне сказали, — с усилием произнес он, — что сын мой взят…
— А! вот что… Может быть, знаете за что?
— Нет. Я об этом пришел спросить у вас.
Конюхов засмеялся, и смех его холодной сталью отозвался в сердце Кленовского.
— А мне как знать! — сказал он. — Не я слежу за поведением вашего сына. Так, допрыгался молодец! Этого нужно было ожидать.
— Оставим это… будем говорить начистоту. Что сделал мой сын? Вы это знаете.
— Гм!.. что сделал ваш сын?.. Во-первых, связался с известными смутьянами, вроде Безменова, Васьки Киселева и других. Он вел агитацию против заводской администрации. Во-вторых, участвовал в незаконных сходбищах какого-то, повидвмому, тайного общества… читал книги, брошюры… произносил речи. В-третьих, составил коллективную жалобу на манер петиции… В ней он не пощадил ни князя, ни меня, ни вас…
Кленовский опустил голову.
— Вы понимаете, что жалеть его не приходится. Он сам не пожалел даже родного отца. Может быть, и еще что-нибудь найдется — я не знаю, там разберут.
— Он у меня один, — после долгого молчания горько промолвил Кленовский, — один!.. У меня нет никого больше. Вы должны мне его вернуть.
Конюхов пожал плечами.
— Но при чем тут я?
— Вы должны это сделать… Это в ваших руках…
— Друг мой! Такими делами ведает государственная власть, а не частные лица…
— Полноте!.. Не морочьте меня, не прячьтесь в кусты. К чему?.. Ведь я-то уж знаю! Государственная власть!.. Господи боже мой! При чем тут государственная власть! Какое ей дело до наших проделок, до наших злоупотреблений? Разве она призвана охранять их? Разве для того она существует?.. Тайные общества… незаконные сборища… все страшные слова, а существо-то? Ведь оно касается только нас. Разумеется, можно состряпать политическое дело из чего угодно, и не раз стряпались такие дела по вашему мановению, потому что те скоты, в угоду вам, готовы на все. Но ведь существо-то, существо-то!.. Разве есть в нем хоть капля политики?.. Ваше это дело, оно все в ваших руках. Вы сына моего захотели погубить!.. Неужели вы думаете, Что я оставлю это без протеста?.. Я пойду на все, я не допущу, я не позволю вам это сделать…
— Вы чудак!.. Допустим даже, что инициатива была моя, ну, а дальше-то? Дальше все идет своим чередом: машина пущена в ход, ее не остановишь.
— Полноте, не морочьте меня… Мне ли не знать этих дел!.. Достаточно одного вашего слова… О, я знаю, зачем вам понадобился мой Николка: вы метились в меня и выбрали самое больное место!.. Стрела угодила в цель, но ведь я-то еще жив… Я буду требовать, просить… приму все меры… Не лучше ли нам покончить добром?..
— Не просите и не требуйте: бесполезно! Дело приняло слишком серьезный оборот.
— Я не верю этому. Поговорим спокойно… Мы старые враги… Да, уже много лет… мы не упускали случая вредить друг другу. И вот вы меня, наконец, сковырнули, ударили в самое сердце. Признаю себя побежденным и сдаюсь… сдаюсь на вашу милость… Отныне я раб ваш, ваш слуга…. я на коленях умоляю вас… я, ваш недруг, старик, смиренно умоляю: пощадите!..
— Перестаньте, не ломайте комедии!..
— Не губите!.. Ведь он для меня все!.. Один он у меня, один…
Кленовский упал на колени.
— Я униженно прошу вас: отдайте мне сына!.. Отдайте, отдайте!..
— Нет! — с внезапной злобой отвечал Конюхов. — Я палец о палец не ударю для этого молодца, этого змееныша!.. Никогда!..
Кленовский вскочил, как ужаленный. На бледном лице его, точно два угля, горели черные глаза с расширенными зрачками. Он весь трясся от оскорбления, ненависти и злобы.
— А! Так вот как!.. Хорошо… хорошо… — бормотал он, заикаясь и глотая слова. — Но вот что я тебе скажу, подлая предательская душа! Мы оба с тобой пропадем… оба!.. Мне нечего терять… пропадай все!.. Мы враги, но помни, что мы и сообщники! Вместе грешили, вместе грабили, обманывали и губили народ!.. Вспомни-ка все-то… ага!.. Так вот, знай же, подлец, что я сам на себя донесу!.. Сам напишу тот донос, которого ты так боишься… опишу все!.. И не этому сопляку, Полянскому, а повыше… доберусь до корня, пойду напролом!.. Раскрою все карты!.. Пусть узнают!.. Пусть узнают все, всю уголовщину!.. вот!.. знай это!.. Иуда, дьявол, аспид, искариот!..
И он, всхлипывая истерическим смехом, направился к двери.
— Постойте! — остановил его Конюхов. — Вы с ума сошли. Постойте, говорят вам.
Он схватил его за плечо.
— Вот… вот!.. Знай это!.. Пусти, не тронь меня, дьявол!.. — бормотал, как помешанный, Кленовский, стараясь вырваться из рук Конюхова.
Конюхов насильно усадил его в кресло.
— Успокойтесь, — сказал он, — поговорим толком.
Но Кленовский вскочил и закричал:
— А помнишь Ивана Петрина, Степана Брюхова, Семена Ивойлова, Митьку Бобина… где они?.. Помнишь Колю Снигирева?.. Прелестный мальчик, как херувим… где он?.. Мы всех упечатали, сгубили, стерли с лица земли… И много, много… счету нет… Помнишь фельдшерицу Степанову?.. А учителя Коршунова?.. Где они?.. Мы злодеи, сам дьявол сидит в нас… давно сатане служим. Мы боимся света, как огня, и возлюбили тьму и подлость… только в нее веруем… и всего боимся… книжки боимся, грамотности боимся. Читальню открыли, и мы уж трепещем!.. Библиотека была наш враг, мы ее искоренили!.. Мы офеней и книгонош ловили, как преступников. Мы насаждали низость и пьянство. Мы пугали всех и сами всего пугались.
— Успокойтесь же, наконец. Фу-ты, господи, боже мой!
— А помните старшину Волокитина?.. Писаря Петрова?.. Где они?.. А Федор Копылов? Начитанный, богобоязненный мужик… ведь мы и его упечатали!.. И вот дети, собственные дети, поднимаются на нас!..
— Ну, будет, будет!.. Довольно, наконец!.. Причитаете, как баба.
— Николка! Николка!.. Веселый, непокорный, отважный мальчишка… дуралей!..
Кленовский вдруг зарыдал и, всхлипывая, опустил голову на руки, опершись локтями в колени.
— Фу-ты!.. Выпейте хоть воды, что ли. Что мне с вами делать? Успокойтесь… даю вам слово, что Николка ваш будет цел и невредим.
— Да… а помните наивного, добродушного инженерика Павлова?.. Как мы его-то слопали?.. Какую механику подвели… а?.. И все это для охраны нашего грабежа… нашей системы. Какое безумие!.. Да и нужды-то никакой небыло, а так уж… искореняли мы все живое. А если есть загробная жизнь, а? Что тогда?.. Ну-ка?.. Приходило это вам в голову?..
— Я уже обещал вам… чего же еще?.. Довольно! Достаточно я наслушался ваших причитаний. Идите спать.
— А другие мальчики?.. Не один Николка, ведь и другие…
— Ну, уж других мальчиков вы оставьте в покое, не ваше дело. Довольно, идите спать… вдоволь наговорились. Идите, идите.
— Хорошо… я пойду… я, пожалуй, пойду.
Кленовский с усилием поднялся, утер глаза, разгладил растрепанную бороду и, шатаясь, вышел из комнаты.
X
Некоторые из гостей остались ночевать на камне под открытым небом. Сюда принесены были тюфяки, кошмы, одеяла, простыни и подушки. Когда дамы удалились на покой, Ожегов, Веретенников и молодые инженеры уселись в кружок, и началась попойка. Они пили и спорили, кричали, ссорились, мирились, пели песни, рассказывали анекдоты, целовались, объяснялись друг другу в любви, говорили трогательные слова, смеялись и плакали.
Светлицын, не принимавший участия в попойке, долго сидел один, прислушиваясь к галденью пирующих, потом лег и стал смотреть в бледнозеленое небо. Неподалеку от него уже храпело несколько человек, укрывшись одеялами. Рассеянные и смутные мысли осаждали его. Он представлял себя то уральским магнатом, перед которым все раболепствовало и преклонялось, то министром, водворяющим другой порядок вещей, то героем, умирающим за свободу родины, то писателем, то великим певцом. И все его славословили, имя его гремело. Услужливое воображение рисовало картину за картиной. "Какая чепуха!" — наконец, сказал он и завернулся в сырое от росы одеяло. Слабый звук отдаленного выстрела, как удар бича, раздался внизу и, откликнувшись в горах, мелкой дробью промчался в долине. Светлицын прислушался и снова лег. "Пали себе, сколько угодно!" — сказал он с досадой и перевернулся на другой бок, собираясь заснуть.
В большом доме дамы долго и шумно размещались на ночлег, во втором часу ночи оттуда еще слышались взвизги, смех и перекрестная болтовня. Пожилые дамы уже лежали в постелях, раздетые, и ворчали на молодых, которые сновали по комнатам взад и вперед или с неистовым хохотом бегали по террасе и коридорам, гоняясь друг за другом.
Катя и еще две девицы "попроще" устроились на веранде. Катя напрасно старалась заснуть. Нервы были взвинчены, тревожные думы одолевали ее. Широкий простор, смотревший в окна, раздражал и точно манил к себе, суля что-то несбыточно-прекрасное. Пока в доме продолжалась возня, Катя смирно лежала, стараясь заснуть, потом тихонько, чтоб не разбудить спящих, отворила дверь и села на ступени веранды, глядя на темные кусты и поднимавшийся над рекою туман. Прямо в лицо ей глядела луна, черные тени тянулись навстречу. Долина, вся серебряная, сверкающая, уходила вдаль, теряясь у горизонта. На камне все еще не спали, и оттуда доносилось нестройное пение. От ступеней шла белевшая при луне тропинка, и Катя пошла по ней. Миновав аллею и перешагнув через упавшую изгородь, она пошла по мокрому скошенному лугу и остановилась у берега.
Внизу говорливо плескалась река, дремал серебряный от росы кустарник. Все было тихо. Ночь, казалось, спала с открытыми глазами и дышала ровным, спокойным дыханием. Короткий, отрывистый выстрел прервал тишину, и звук его понесся по реке, разбудив дремавшие берега. Катя вздрогнула и оглянулась. Боже мой, как хорошо кругом!.. Убегавший вдаль от высоких прибрежных скал широкий простор, казалось, говорил ей о чем-то, и она силилась разгадать значение его безмолвной речи. Повидимому, он говорил о необъятной широте жизни, о таинственных возможностях будущего, о неустанной борьбе и о вечном покое, о близком торжестве всемирной гармонии. Перед ее взором раскрывались вдохновенные перспективы. Мгновениями ее охватывало странное восторженное желание потонуть в этом хаосе и воскреснуть для какой-то новой жизни.
Луна отошла вправо, склоняясь к закату, тени стали длиннее и передвинулись влево. Опять одинокий выстрел промчался по долине и рассыпался дробью в горах. И снова тишина охватила собою все. Прислушиваясь к ней, точно стараясь разгадать таинственный смысл безмолвия, Катя машинально побрела вдоль берега. Вскоре над нею сомкнулись вершины ветвистых осокорей, и она очутилась в глубокой тени. Впереди виднелась освещенная луной поляна; Катя решила дойти до нее и вернуться. Поляна оказалась пологим бугром с выступающими на нем острыми белыми камнями. В стороне от него, внизу, у самой реки, виднелся старый дом, весь черный от покрывавшей его тени. Над его крышей висела уже начинавшая желтеть луна. Окна без стекол глядели угрюмо, точно пустые впадины черепа. Катя посидела на камне, потом стала осторожно спускаться под гору и вдруг остановилась: в доме ей послышался тихий говор. Вслед за тем белая фигура показалась в дверях и, оглянувшись, быстро сбежала по ступенькам на тропинку. Выбравшись из тени, она начала проворно подниматься в гору. "Анна Ивановна!" — с удивлением прошептала Катя и невольно отступила в кусты. Анна Ивановна, вся белая от луны, поднялась на площадку и стала поджидать кого-то. Вскоре из тех же дверей вышел Светлицын и, так же осмотревшись кругом, пошел по тропинке. Катя видела, как Анна Ивановна, обхватив его шею руками, прильнула к нему.
— Ты мой… — говорила она странным, новым, незнакомым ей голосом: — Мой, мой!.. И никуда ты не поедешь и никому я тебя не отдам…
Потом они скрылись за деревьями.
У Кати перестало биться сердце. Она долго стояла, пораженная изумлением, потом тихо вышла на освещенную поляну и медленными шагами поплелась обратно по той же дороге. Ей казалось, что все в ней замолкло и омертвело. Ночь потеряла свою красоту, кругом стало сумрачно и пусто. В лунном свете заключалось что-то мертвенно скорбное; даль уже не манила к себе и казалась безжизненной и пустынной; тени пугали своей темнотой. Какая-то ночная птица пролетела над рекой, и крик ее, резкий и неприятный, отдался в горах. Катя не помнила, как она добралась до постели, но зловещий этот крик навсегда запечатлелся в ее памяти. Вся разбитая, она упала головой на подушку и тотчас же заснула, точно погрузилась на дно глубокой реки.
Утром ее разбудило солнце. Она проснулась с смутным сознанием какой-то беды, случившейся накануне, и долго не могла понять, отчего у нее тяжелый камень лежит на сердце, но вдруг вспомнила и поспешно стала одеваться.
Было еще очень рано. Обильная роса покрывала траву и кусты. Над рекой расстилался густой, белый, как вата, туман, из которого, точно затопленные наводнением башни, поднимались прибрежные скалы. В доме все еще было погружено в глубокий сон. Без мыслей в голове, повинуясь одному неудержимому желанию бежать отсюда как можно скорее, Катя пошла через сад по мокрой траве и, встретив конюха, попросила его запрячь лошадь.
Голодная лошадь, которую никто не позаботился накормить, с большим рвением побежала домой. Катя не видела ни великолепного леса с яркозелеными просветами, ни прозрачно-голубых теней, которые лежали в колеях дороги, тянулись от деревьев и наполняли глубокие овраги, ни золотисто-зеленых вершин, уходивших в синеву неба, ни внезапно открывавшихся далей, подернутых прозрачной мглой. Она вся была погружена в свою душевную смуту. Все происшедшее казалось ей таким чудовищным и бессмысленно жестоким, что она гнала от себя мысли, как тяжелый кошмар.
XI
На другой день на заимку Агатова приехал Светлицын. Он почему-то не сразу вошел в дом и долго говорил на дворе с кучером Тимофеем.
— Дома ли барин? — спросил он, наконец.
— Дома, дома. Вот он идет.
Павел Петрович очень обрадовался гостю.
— Вот кто!.. Иван Петрович!.. Очень рад, очень рад, — заговорил он. — А что на свете-то делается, а?.. Ведь это ужас!.. жить нельзя!.. А Катя вас ждет. Она у себя, идите к ней. Что-то она нездорова или хандрит…
Светлицын побежал в дом. Катя, очень бледная, встала ему навстречу и молча подала руку.
— Ну что? — спросила она. — Что еще нового произошло? Расскажите.
Светлицын стал рассказывать. Нового, действительно, было много. Пострадало до шестидесяти человек, и все беднота. Некоторые из эпизодов были очень комичны, но вместе с тем и ужасны.
— Что же теперь делать? — спросила Катя. — Не мешало бы сообщить генералу Полянскому, который, кажется, один ничего не знает: он должен вступиться, если он человек порядочный.
— Да, да… Это мысль!..
— Поезжайте к нему, поезжайте сейчас же… пожалуйста.
Катя говорила нервно, точно сквозь слезы. Никогда Светлицын не видал ее такой и смотрел на нее с недоумением.
— Что же… пожалуй. Я вечером его увижу и расскажу.
— Нет, не откладывайте. Поезжайте сию же минуту. Я очень прошу вас об этом.
— Хорошо, хорошо. Но вот что, моя дорогая…
Катя вся вздрогнула, выпрямилась и еще больше побледнела.
— Не говорите так… нет, нет, не нужно! — с болезненным усилием произнесла она.
— Почему?.. Что с вами?..
— Ничего… Я случайно видела вас вчера с Анной Ивановной. Не будемте говорить об этом…
У Светлицына потемнело в глазах и, чувствуя, что он весь холодеет и пол колеблется у него под ногами, он схватился за спинку стула. "Боже, какой ужас!" — подумал он, видя перед собой, как во сне, бледную, болезненную улыбку Кати. Он сделал движение, хотел что-то сказать, но Катя с испугом замахала руками.
— Молчите, не говорите. Не нужно, не нужно ничего. Это все кончено. Поезжайте к генералу…
— Выслушайте меня…
— Нет, нет!.. Не сейчас!.. Ради бога! — закричала она, и чувствовалось, что еще минута, и с нею начнется припадок. — Ради бога, поезжайте… уходите…
Светлицын, будучи не в силах сразу уйти, посмотрел в окно, за которым взъерошенные кусты черемухи бились, как в лихорадке, постоял с минуту в нерешительности и, наконец, вышел. На дворе крутилась пыль, забирая с собой солому и пух, где-то истерически кричали куры, скрипел колодезный журавль, шумели деревья в саду. Светлицын посмотрел перед собой рассеянными глазами и вдруг решительно зашагал под навес, где стояла его лошадь. Вскочив в седло и не простившись с Павлом Петровичем, который говорил ему что-то, он бешено погнал по дороге в гору.
Прискакав в завод и бросив лошадь, он побежал в господский дом на половину генерала.
— Дома? — спросил он у сидевшего в передней лакея.
— Дома-с. Из музея сейчас вернулись, завтракать собираются.
Светлицын вбежал на лестницу и без доклада вошел в кабинет.
— Извините, — обратился он к изумленному его внезапным появлением генералу, — мне нужно по очень важному делу…
— Чем могу служить? Присядьте, — отвечал Полянский с холодной учтивостью.
Светлицын сел и тотчас же возбужденно и торопливо заговорил. Генерал с тем же холодным изумлением на лице уселся против него и стал слушать. Однако после первых же фраз он обнаружил явные признаки испуга и тревоги: он густо, пятнами, покраснел, потом побледнел и, судорожно передернув плечом, дрожащей рукой потянулся за папиросой. Только под конец, очевидно, придя к какому-то решению, он овладел собой; глаза его прояснились, на лице заиграла снисходительная улыбка.
— Да, да, — сказал он, когда Светлицын умолк. — Все это очень странно… и очень характерно. Но зачем вы это мне рассказали?
— Чтоб вы прекратили это беззаконие…
— Прекрасно… но каким образом?.. К несчастию, я не имею ни малейшего права. Я совершенно бессилен. Да и так ли оно, как вы рассказываете? То есть я хочу сказать, можем ли мы положительно утверждать это? Дыма без огня не бывает, стало быть, что-нибудь было еще. А этого вполне достаточно, безусловно-с.
— Вам стоило бы сказать только слово… хоть тому же Конюхову…
— Гм!.. но при чем тут Конюхов? То есть, опять-таки с формальной стороны… И по какому поводу я мог бы заговорить с ним об этом?.. Согласитесь, что это было бы и неловко, и неудобно.
— Да вы попробуйте только, намекните, этого достаточно.
— Допустим. Но ведь, если Конюхов не совсем младенец, он постарается отстранить всякое участие свое в этой истории. Да и вообще этот анекдот настолько щекотлив и касается таких струн, что не лучше ли оставить его в покое?.. При том же ведь и не потерпят нашего вмешательства. Я же, поверьте мне, здесь только частный человек — не более, и никакой власти не имею. Извините, я тороплюсь, — прибавил генерал, поднимаясь с места.
Светлицын встал.
— Простите за беспокойство, — сказал он, — но я считал нужным поставить вас в известность. Я сказал, а остальное уже дело вашей совести.
Генерал слегка побледнел, однако любезно проводил посетителя до дверей.
Возвращаясь от генерала, Светлицын неожиданно столкнулся с студентом Кленовским, который шел по улице, веселый и оживленный.
— Ты?.. Каким образом? — удивился Светлицын.
— Как видишь! Свободен, как ветер… Ерунда… Я и тогда говорил, что ерунда. Одна ночь в клоповнике — это не важность!.. Прелюбопытная, однако, история в общем.
— А те? Остальные?..
— Остальные пока еще не того… Но, разумеется, скоро и они тоже… вообще чепуха. В сущности преглупейшая вещь… Отец с перепугу чуть с ума не сошел и вообще, кажется, натворил ерунды. А, знаешь, жалобу-то ведь отобрали. Ха-ха! Комики! Будто нельзя написать другую!.. С отцом у меня что-то неладно: уж больно присмирел, велит мне ехать к тетке в Саратов, но, пока каша не расхлебается, не поеду.
Светлицыну показалось, что Кленовский как будто смущен чем-то и чрезмерной развязностью старается скрыть свое смущение.
— Ты куда же теперь? — спросил он.
— К Обориным: они, говорят, совсем приуныли. Успокоить насчет этой чепухи. Потом к Хомяковым. Да и мужиков надо ободрить: носы повесили… Вообще, черт знает!..
Проходя мимо фабричного двора, Светлицын услышал оттуда необычайный говор множества голосов. Он остановился и увидел перед главным корпусом толпу человек до пятисот. Толпа была без шапок, но волновалась и шумела. У растворенных настежь ворот стояла пролетка управляющего. Кто-то в сюртуке, без шляпы, стремительно выскочив из ворот и промелькнув перед самым носом Светлицына, скрылся на противоположной стороне улицы в дверях управления.
Светлицын хотел войти, но его сердито остановил совершенно неизвестный ему старик с револьвером на шнурке и в военных сапогах со шпорами. Он нагло, без малейшей почтительности, с угрожающим видом наступал на него, преграждая дорогу.
— Куда лезешь! — закричал он грубо.
— Что такое?.. Пусти!
— Не приказано пущать!
— Ты ослеп, любезный! Я заводский служащий и могу входить на фабрику, когда мне угодно.
— Говорят тебе, не приказано!.. Чего разговариваешь!..
Светлицын двинулся, чтобы пройти, но сторож с свирепой решительностью схватился за револьвер.
— Ты с ума сошел, подлец! — закричал Светлицын и, оттолкнув его, вошел в ворота. Раздался выстрел. Сторож выстрелил в упор, но промахнулся: пуля шлепнулась в каменную стену.
Светлицын вдруг пришел в страшную ярость и бросился на сторожа. В один миг он подмял его под себя и стал наносить ему удары. Сторож пыхтел и вращал налившимися кровью глазами, стараясь сбросить с себя Светлицына, но тот со всего размаха ударил его по голове, отнял револьвер и, ругаясь, поднялся на ноги.
Вдруг толпа во дворе заревела, зашевелилась, раздались свистки, и Конюхов, без фуражки, с распластанным воротом, вышвырнутый из толпы, бледный, как смерть, спотыкаясь и нелепо перебирая сгибавшимися в коленях ногами, побежал к воротам. За ним, преследуемые свистками и хохотом, бежали управитель и два молодых инженера. Конюхов бросился к экипажу, но споткнулся и упал, растянувшись поперек тротуара. Волосы его были растрепаны, на щеке виднелась кровавая полоса.
— Из брандспойта их! — завопил он срывающимся голосом, очутившись в пролетке, — из пожарной кишки жарь!.. Пшшел!
На него навалились управитель и инженеры. Пролетка рванулась и понеслась. Управитель, не успевший сесть, упал и, не подбирая фуражки, слетевшей с головы, побежал за пролеткой, мчавшейся уже далеко впереди.
Толпа затихла и стала расходиться. Вдруг ударили в нее водой в три струи из большой пожарной помпы. Несколько человек попадало на землю. Толпа снова заревела, раздались крики, потом хохот, и рабочие, нажимая друг на друга, со смехом устремились к воротам.
Светлицын пытался расспросить проходивших мимо рабочих, но они взволнованно отвечали короткими, отрывистыми фразами, из которых ничего нельзя было понять, и спешили дальше. Наконец, ему удалось остановить знакомого мастера и заговорить с ним.
— Разбойничают, чего больше!.. — кричал мастер, и его красное, как кирпич, обожженное огнем лицо все прыгало и дергалось от нервного возбуждения, а руки нелепо жестикулировали. "В гроб вколочу!.." Эка!.. И без того в гробу живем… давно все померли. "В тюрьме сгною!.. В каторге не бывали!.." Нет, бывали!.. И в тюрьме сиживали!.. Будет!.. достаточно!.. довольно над нашим братом издеваться!.. Заперли ребят в каменные палаты… за что?.. Ну-ка, а?.. Ироды!.. Христопродавцы!..
— Что вам говорил управляющий? Из-за чего шум вышел?
— Из-за чего?.. Просто сказать, из-за баб. Прибежали бабы, зачали реветь, причитать, голосом выть… Ну, известно, бабы!.. Зачали, подлые, собачиться: из-за вас, говорят, из-за каторжных страждем. Как так? Что такое?.. Стали мы расспрашивать. А оказывается, вот что!.. Второй день, говорят, мужья дома не бывали, а слух идет нехороший. Побросали мы работу, давай следство производить: как, что, почему, в какой силе?.. Инженеришки забегали туда-сюда, зачали материться, на работу гнать. Мы говорим: своих у нас недостача, где такие-то?.. У-у! светы мои, что началось!.. Бунт, говорят. Прилетел управитель… опосля того сам управляющий. "Как вы смеете касаться!.." Почал нас с большой матери… думал, испужаемся. А мы оборот сделали: где, мол, такие-то? В какой силе закона? Покажи горный устав!.. Ну, уж тут он… ох, братец ты мой!.. Уж тут он весь позеленел! Орал-орал, матерился-матерился, ногами топал!.. Посля того давай нас каторгой пугать… А мы все свое: подавай нам таких-то! Высыпали на двор изо всех корпусов. Бунт, республику сделали… Ванька Патрин, злющий парень, с управляющим зуб за зуб… Тот его в рыло, а он его. Не трожь!.. Ну, зачали и мы наступать… Он туда-сюда… "В остроге сгною!!" — "Гнои! и без того гноишь!.." Ну, тут которые, действительно, дали ему раза два. Завизжал поросенком. В волость теперь идем. Пусть начальство рассудит. Приговор даем — выпустить… Выручать надо, потому из-за нас страждут. Господи, боже мой!.. Жизнь анафемская!.. Бежать надо, некогда растабарывать-то!..
Расставшись с мастером, Светлицын зашел в управление. Там была всеобщая суматоха. В передней сидели стражники и курили махорку. В канцелярии, отпыхиваясь, слонялся из угла в угол толстый, с опухшим от пьянства лицом, становой пристав.
— Ивану Петровичу многая лета! — пробасил он, здороваясь. — Слышали? А? Черт возьми! Ну-ка, чем это пахнет!.. Уж я ли их, подлецов, не жучил!.. А?.. Вот подите! не понимают!..
Управляющий вместе с другими заводскими заправилами, запершись в кабинете, держал военный совет. Оттуда то и дело выбегал потерявший голову делопроизводитель, торопливо рылся в шкафах и снова исчезал, нагруженный книгами. Трещали звонки телефонов, спешно вызывались из соседних заводов наличные силы лесной стражи, летели телеграммы в губернию. Конторские писцы и другая мелкая сошка без пути толклись в коридорах, испуганные и вместе с тем злорадствующие. Низменный, животный страх объединял все сердца. Самые добродушные, кроткие люди высказывались за беспримерную жестокость расправы. Не было такой кары, которая могла бы их удовлетворить вполне.
— Распустили вожжи… волю дали… испотачили… мало им шкур-то спустили — еще захотелось… окаянным… к расстрелу бы их, подлецов!.. — то и дело слышалось в разговорах.
— А что, собственно, случилось? — спрашивали вновь прибывшие.
Но никто толком ничего не знал. Слово "бунт", однако, было у всех на устах.
— Что?.. Бунт — больше ничего. Управляющий ваш без фуражки прискакал — чего еще!.. В этаком виде!.. Оплеуху, говорят, ему, подлые, закатили… до чего осмелились!.. Да им что!.. Известно, каторжники, отпетые! Им что тюрьма, что Сибирь — все едино! Они рады тюрьме-то: на казенном хлебе. Что тюрьма! В землю бы закопать подлецов!.. Нет, вон прежде, как живьем в доменные печи бросали, тогда не бунтовали, небось!.. Тогда шелковые были… Картечью! Вот весь с ними разговор. Да, когда не понимают!..
Через контору, озабоченный и бледный, важно прошел старик Кленовский, за которым только что посылали. Перед ним почтительно расступились и смотрели на него с надеждой: "этот придумает".
На каланче ударили в колокол, которым, по старинному заводскому обычаю, собирали людей на сходки. Этот звон, столь привычный и обыкновенный в обыденное время, теперь звучал тревожно, как набат, и наводил ужас. "Начинается!" — думал каждый, прислушиваясь к тонкому звуку медного пятипудового колокола.
Генерал Полянский, о котором все позабыли, на своей половине поспешно укладывал чемоданы.
К вечеру перед волостью собралась тысячная толпа соединенного схода под председательством волостного старшины. Вместо сбежавшего писаря на возвышении перед крыльцом сидел у стола грамотей из рабочих. Сход постановил ходатайствовать об освобождении заключенных и теперь же послать депутацию к генералу. Об этом составлен был краткий приговор, прочитанный во всеуслышание волостным старшиной, после чего началась длинная процедура рукоприкладства. Избранные в депутацию, два старика из мелких торговцев и рабочий из Верхнего завода, Иван Постарев, уже собирались было двинуться в путь под прикрытием трех сельских старост и нескольких десятских, как вдруг в дальнем конце толпы что-то тревожно закричали. Оглянувшись, депутация увидела мчавшегося через плотину генерала, за которым верхами скакали становой и несколько стражников. Сотни голосов отчаянно возопили: "Стой!.. стой!.." Генерал испугался, и видно было, как он беспокойно заметался в экипаже; ямщик ударил по всем по трем, и тройка, вскачь поднявшись в гору, скрылась из вида. Толпа ахнула от разочарования, которое через минуту разрешилось громким хохотом. Послышались шуточки, ругательства, насмешливые замечания, и рукоприкладство спокойно продолжалось до поздней ночи.
Подписав приговор, сход разошелся по домам. На другой день мастеровые в обычное время вышли на работу.
Однако история этим не кончилась. Вскоре началось так называемое "усмирение". Через два дня с музыкой и песнями вступило в завод победоносное русское воинство, а еще через день прибыл губернатор с многочисленной свитой. Перед крыльцом управления собрали народ. Губернатор, в блестящем мундире, увешанный орденами, в сопровождении чиновников и заводской челяди, торжественно вышел на крыльцо. Безмолвная, немая толпа поспешно обнажила головы. Только десятка два молодых парней имели мужество остаться в картузах, — их тотчас отметила полиция.
— На колени! — скомандовал губернатор.
Но вся толпа, угрюмо понурив головы, осталась на ногах.
Настроение толпы, очевидно, было "мятежное", и через полчаса на площади свистели розги: перед развернутым фронтом наказывали "зачинщиков".
А через полгода был суд.
XII
Десять лет спустя Аликаев камень, весь желто-розовый в лучах заходившего солнца, так же гордо возвышался над долиной. Зато кругом все изменилось. Вместо векового леса торчали черные пни; между ними, как щетина, пробивалась молодая поросль густого осинника. По всей долине виднелись обнаженные глинистые пространства, и тянулась песчаная насыпь вновь строящейся железной дороги.
Была ранняя весна. Листва только что распускалась, яркозеленая трава покрывала луга. Но на камне все еще было мертво; сухой прошлогодний бурьян скупо торчал из расселин. На камне сидели двое: Петя, теперь уже Петр Алексеевич, молодой инженер, и Иван Петрович Светлицын. Оба молча смотрели, как багровое солнце садилось за далекие горы.
Петя, с усами и бородой, в очках, имел вид солидного, знающего себе цену человека. Он курил и довольно равнодушно смотрел на заходившее солнце.
Светлицын сильно поизносился и постарел. На висках уже пробивалась седина, около глаз пестрели морщинки, он сгорбился, раздался вширь, утратив былую стройность; движения отяжелели; на шее видны были некрасивые жирные складки, на лице читалось утомление. Подперев рукой подбородок и тоскливо прищурившись, он смотрел вниз. Смутные воспоминания шевелились в нем.
— Прежде отсюда славный был вид, — промолвил он, — помните? А нынче все стало мелко, буднично, обыкновенно…
— Да, да, — рассеянно отвечал Петя. — Впрочем, и теперь ничего. Только лес вырубили, а остальное все то же. Помните, как мы здесь веселились?
— Да, но кончился пир наш бедою.
— Разгром был основательный, что говорить!.. И после того сколько было недоразумений, а дело и теперь все в том же положении.
— И сколько народу погибло!.. Где-то теперь они?..
— По разным концам вселенной. Многие умерли. Я помню, вы пели тогда. Неужели у вас совсем пропал голос?
— Да, ничего не осталось.
— Жаль: хороший был голос.
— Мало ли чего не было! Было, да прошло!
Светлицын засмеялся. И смех у него был тоже не прежний: неискренний, привычно невеселый.
Они помолчали.
— А что Катя, Екатерина Петровна? — спросил Светлицын.
— Померла. Разве вы не слыхали?.. В ссылке… Два года тому назад. Я думал, вы знаете.
Светлицын ничего не ответил, только потупился.
— А помните Кленовского?.. Он товарищем прокурора в Казани… специализировался по политическим делам. Скоро, говорят, прокурором будет.
— Да, люди меняются, — глухо промолвил Светлицын.
Петя зевнул и посмотрел на часы.
— Ну, мне пора, — сказал он, вставая.
— Идите… Я еще останусь… давно не бывал здесь…
Когда Петя ушел, Светлицын долго сидел в угрюмой задумчивости, потом встал и пошел искать то место, где они когда-то сидели и говорили с Катей в голубую лунную ночь. Найдя его, он упал на землю и приник головой к холодным камням. Ликующая, лучезарная молодость, со всем ароматом свежих сил, с живым откликом на все живое, с живой верой в прекрасное будущее, вдруг встала перед ним с такой яркостью, с такой поэзией прошлого, что грудь его, казалось, разорвется от рыданий. Она была опять тут, с ним, и молодые иллюзии снова жили, снова были так властны, что он не верил промелькнувшим годам, и они казались ему тяжелым, кошмарным сном.
Он плакал долго и горько, вспоминая о том времени, когда сердце его, не скованное старческим равнодушием, трепетало радостью, гневом и любовью и порывалось вперед, и о своей бесплодно заглохшей жалости к людям, и об исчезнувшей юности, и о Кате, и о своей мимолетной любви к ней, и о напрасно растраченных силах, и о своей увядающей жизни.
Солнце закатилось, запылала багровая заря. В долине потемнело, как на дне глубокого колодца; оттуда потянуло сыростью и туманом. Утомленный Светлицын сел на камень и стал утирать платком мокрое от слез лицо.
"Катя, Катя!.." — твердил он, и это имя будило в нем все, что было лучшего в его жизни, и сама Катя, отошедшая в вечность, представлялась ему мечтой, видением, вся юная, как сама юность, полная сверкающей жизни и поэзии.
Наступила ночь; серый мрак окутал горы, на западе чуть брезжилась узкая полоса умиравшей зари, а Светлицын все не мог оторваться от места, исполненного для него столь горестных и вместе сладких воспоминаний. Его пугала пустота, которая наступит для него, когда он покинет это место, и то равнодушие, которое снова охватит его мертвым кольцом.
Наконец, потух и последний отблеск зари: долина вся скрылась в серой мгле, только ближайшие камни зловеще белели во мраке. Спотыкаясь среди темноты, Светлицын ощупью стал спускаться вниз по крутой каменистой тропинке.
ПРИМЕЧАНИЯ
Рассказ первоначально опубликован в журнале "Русское богатство", 1905, No№ 1 и 2. Печатается по тексту отдельного издания: А. Погорелов. Аликаев камень. Изд. Вятского товарищества. СПБ, 1906.
Стр. 86 на своей заимке — см. примечание к рассказу "Впотьмах".
Стр. 98 Становой — становой пристав — полицейский чиновник, начальник стана, административного подразделения уезда.
Стр. 100 Маркиз Поза. Дон-Жуан. Маркиз Поза — герой драмы Шиллера "Дон Карлос", муж-народолюбец в переносном смысле, здесь — человек, говорящий о народе, его благе, но не действующий. Дон-Жуан — в мировой литературе образ мужчины, постоянно влюбленного и покоряющего женщин.
Стр.]06 Спиридон Карпович Золин — под именем Золина Погорелов вывел историческое лицо — Григория Зотова, управлявшего Кыштымскими заводами в 20-х годах XIX века, славившегося своей зверской жестокостью. Даже царский флигель-адъютант Строганов писал, что "Зотов по всему хребту Уральскому известен бесчеловечным обращением его с заводскими людьми". Против него было возбуждено судебное дело, но, как и рассказывает Погорелов, оно кончилось ничем.
Стр. 112 Опехтюй — мужиковатый, неповоротливый.
Стр. 130 Офени — бродячие торговцы, продававшие в деревнях мануфактуру, галантерею, книжки и т. д.
А. Г. Туркин
Туркин (псевд. Гаврилович) Александр Гаврилович [1870, В.-Уфалейский з-д (по др. данным — пос. Архангело-Пашийского з-да Пермского уезда Пермской губ.) — дек. 1919, близ Новониколаевска (ныне Новосибирск)], поэт, прозаик, 1-й профес. писатель Чел. Широко печатался в местных, всеурал. и всерос. изд. Занимался организацией нар. чтений в Чел., работал в «Обществе попечения о начальном образовании». В теч. ряда лет являлся постоянным ведущим рубрики «Челябинская жизнь» в газ. «Уральская неделя» (Екатеринбург). В дек. 1915 возглавил газ. «Голос Приуралья». Активно помогал становлению молодых писателей и поэтов Чел.: Ю. Н. Либединского, В. Т. Юрезанского, П. Котельникова, М. Е. Чучелова, Г. Булычева. Первый поэт. сб. «Утренник» вышел в Чел. в 1918 со вступит. ст. Т. под назв. «Свежие зерна». Детские и юнош. годы Т. прошли в пос. В.-Уфалейского з-да. Т. работал делопроизводителем в заводской конторе. С 1900 жил в Чел., сдал экзамены на звание частного поверенного, занимался адвокатской практикой. В том же году совершил поездку в Париж на Всемирную выставку. Корреспонденции о поездке печатались на страницах «Уральской жизни». Первое произв. — стих. «Умерла ты рано…» — было напечатано в 1889 в газ. «Екатеринбургская неделя». В нач. 1890 там же появились рассказы: «Рудокоп», «Крест не выдал», «У костра», героями к-рых были заводские рабочие и служащие. В 1896 очерк Т. «Страничка из прошлого» был опубл. в ж. «Русское богатство», возглавляемом В. Г. Короленко. В 1902 вышел сб. рассказов Т. «Уральские миниатюры». С 1906 Т. начал систематически печататься в столичных ж.: «Русское богатство», «Современник», «Современный мир», «Журнал для всех». В 1914 в издат. товариществе писателей в Петербурге вышла 2-я кн. рассказов Т. «Степное». Т. написано св. 400 художеств. — публицистич. произв. Только в газ. «Екатеринбургская неделя» с 1890 по 1896 были опубл. 38 рассказов, стих., миниатюр; 33 произв. — в газ. «Урал» и «Голос Приуралья». Становлению писателя содействовали его знакомство и переписка с М. Горьким, Короленко, А. П. Чеховым, С. И. Гусевым-Оренбургским, Д. Н. Маминым-Сибиряком, П. Ф. Якубовичем (Мельшиным). В сов. время произв. Т. переиздавались неск. раз. В 1935 в Свердловске вышел сб. «Избранные произведения», в 1937 — в Чел. Часть произв. вошла во 2-й т. «Рассказов и повестей писателей Урала» (1956), сб. «Душа болит» (1960) и др. По свидетельству В. А. Весновского, Т. умер во 2-й пол. дек. 1919 «на одной из станций между Новониколаевском и Мариинском от тифа».
Э. Б. Дружинина
Вага
(Встреча)
Это был рудничный рабочий. Звали его все почему-то Вагой, хотя у него было совершенно другое имя. На заводах вообще часто дают прозвища, иногда очень меткие. Назовут — и пойдет это имя гулять по улице…
Вага, положим, нисколько не обижался на свое странное имя. Он даже слегка удивлялся, когда, бывало, какой-нибудь рабочий забудется и скажет:
— А ну-ка, Федя…
— Какой я тебе Федя? — говорит Вага. — Зови, как все зовут, и баста…
Высокий, неимоверно худой, с рябым лицом, на котором постоянно билась какая-то напряженная мысль, он мне казался вечным странником в жизни. Все чего-то он точно искал, чего-то добивался, и эта тревога духа во всем и везде у него сказывалась. Каждый газетный клочок, каждая книга, какие попадались на руднике, прочитывались им с жадностью по несколько раз, но это мало, повидимому, его удовлетворяло. Под вечер, бывало, завернет ко мне в казармы и спросит:
— А сегодня газеты нет, Иваныч?
— Нет, Вага…
Помолчит и мнется на месте.
— Хоть бы старую какую нашли…
— Да ведь ты все читал, Вага…
— Все равно… Я еще раз прочитаю…
Сначала я недоумевал и думал, — не самый ли процесс чтения его только занимает. Но когда я в первый раз поговорил с ним об его чтении, я вынес огромное наслаждение. Мне открылась мятущаяся душа, одаренная какой-то особенной силой жалости и гнева. На каждый описанный случай — в простой ли заметке хроникера, или в рассказе — у него сразу откликались все струны, на которых билась, как раненая птица, горячая мысль. Он скорбел о замерзшем на улице мальчике, об умершем алкоголике, об избитой бабе, о нетопленной школе. Все это он собирал у себя где-то там, в самой душе, и целыми вечерами, бывало, выкладывает передо мной эти жизненные саркофаги…
— Так нельзя, Иваныч…
— Чего это, Вага?
— Как же! Прочитайте-ка! Вся деревня выгорела, народ помирает, а никто ничего!
— И мы тоже ничего, Вага!..
— Я про всех и говорю! Люди тоже называемся! Или вот тоже эта война… За что, спрашивается, людей режут? Я вон прошлый раз зайца подстрелил и то две ночи не спал… Как открою глаза — он тут… Лежит, бьется и плачет, как ребенок… И морда в крови. Нет, Иваныч, все мы здоровые свиньи!
— Не все одна скверность на свете, Вага.
— Ну, и хорошего мало, Иваныч! Все больше пишут такое, что хоть ложись и помирай. А напрасно, Иваныч, развелись на свете эти разные газеты и журналы!
— Почему это?
— А так. Сидел бы сиднем на руднике и не о чем думать бы. Нажрался бы и спать! Все, мол, прекрасно на этом свете! А тут как прочитаешь — как перцу хватишь! Долго у тебя в горле-то саднит. А тут еще штейгер кричит… Что, говорит, тебе за чтение! А я так думаю, Иваныч: отними у меня газету или книгу, я не знаю, что сделаю!
— Что ты это?
— Да. Я этим живу. Я раскусил теперь эту штуку! Мне нужно знать — что на свете делается… Это зараза, Иваныч… Хуже, — это запой! Я прочитаю на сон грядущий и думаю: спи, Вага! Жизнь у тебя, Вага, неказистая, а все же есть еще неказистей… Есть еще такие люди, которых я могу пожалеть…
И долго так волнуется Вага. Говорит, курит, смотрит куда-то в сторону своими неспокойными глазами… Как бесконечны на руднике осенние ночи!
Свинцовый мрак как трауром задернет казармы, где брезжат дрожащие огни в окнах, и лес, и молчаливые горы. Выйдешь на двор, и жутко делается. Лес где-то тут, близко, и ты слышишь его тяжелое дыхание. И кажется, что к тебе угрюмо тянутся мохнатые ветки, мокрые от дождя. Где-то завывала собака, где-то скрипнула калитка. Чей-то голос прорезал промозглую темноту, — и опять как в аду: ни света, ни звука…
В такие ночи дорого присутствие живого существа, особенно такого, как Вага, ибо его пытливый и гневный ум уносил на время куда-то далеко из казармы. Часто он оставался ночевать у меня в казарме, помогал мне в моем письменном деле, а когда мы с ним ложились на нары, тогда делалось еще лучше. Мы грезили с открытыми глазами.
Мы представляли себя замурованными, затерянными в глухом лесу, в стороне от жизни, которая билась и неслась где-то за этими бесконечными лесами. Когда в нашей казарме среди глухой полночи потрескивали в чувале огни, мы с Вагой вздыхали, ворочались и направляли свое воображение далеко за пределы рудника. Я все думал о будущем. Все мое существо поднимала одна мысль: уйти отсюда. Уйти! Уйти от проклятой конторской атмосферы — уйти от корчившихся под землей людей, уйти от визгливого скрипа снастей и деревянных воротов! В то же время я думал, что мысли у меня скверные, и что я тоже должен тянуть свою работу… Я завидовал в душе Ваге, ибо он был сильнее меня духом. Он проводил дни за тяжелой работой, рылся под землей, а вечером еще мог говорить о живых явлениях, о чьих-то страданиях на земле!..
И долго этими ночами я вздыхал, ворочался, думал, а утром опять тупо и равнодушно принимался за свою работу.
В один день, когда рудник засыпало снегом, мне передали письмо. Я прочитал, и у меня захватило дыхание. Письмо пришло издалека, от одной компании, которая приглашала меня на службу.
Недолго думая, я привел дела в порядок, послал своему начальству отказную и начал собираться. Сборы были недолгие.
На руднике скоро узнали, что я уезжаю. Вечером пришел Вага, мрачный и сосредоточенный. Не смотря на меня, он молча сел на нары и начал лихорадочно курить…
— Хочешь, Вага, чаю? — говорю я.
— Пожалуй, стаканчик… — бурчит он.
— А я, Вага, уезжаю завтра…
— Слышал…
— Пиши мне, Вага…
— Ладно. Только… что это вам не жилось с нами?..
— Надо пожить в другом месте…
— Гм… А книги все с собой увозите?
Я молча подал ему связку книг, отобранных для него. Он взял, и лицо его сразу просветлело.
— Вот это хорошо. Спасибо вам, Иваныч. А то уезжает человек, и никакого об себе поминка! А теперь я каждый день буду поминать: был, мол, у нас Иваныч…
Он пытался что-то пошутить, но на этот раз у него ничего не выходило.
На другой день я уезжал. Печально выглядел рудник, весь засыпанный снегом. Угрюмо охватил его мертвый и неподвижный лес. Кучка рабочих обступила меня. Я прощался, а в горле отчего-то давило…
Вага сел со мной и проводил меня версты две. Потом вылез и подал мне руку.
— Ну?
— Ну?
Больше мы ничего не могли сказать друг другу. Я видел, как дрогнуло у него лицо… Потом он махнул рукой и быстро зашагал обратно.
Через год мне писал один знакомый штейгер, что Вага кончил печально. Возвращаясь из завода на рудник сильно выпившим, он упал на дорогу и замерз. За пазухой у него нашли полбутылки водки и несколько штук книг…
1903
ПРИМЕЧАНИЯ
Рассказ первоначально опубликован в газете «Пермский край», 1903, 14 сентября.
В шесть часов вечера
В шесть часов вечера рабочие выходят из фабрик и, прежде чем выйти на улицу, они заходят в будку, где подвергаются самому тщательному и подробному осмотру.
В этой крошечной будке, с ее запахом гари и рабочего пота, каждый вечер происходили унизительные и тяжелые сцены. Сторож Иван Данилов, высокий, худой, с длинными седыми усами, подходил к каждому рабочему и медленно, как хирург с ножом, залезал во все внутренности рабочего костюма. Он шарил под рубахой, под зипуном, в лаптях, в шляпах, шарил мучительно-медленно, с каким-то точно наслаждением в душе и с удивительным спокойствием на худом и строгом лице.
Двадцать лет подряд сторож Иван Данилов занимается этим ремеслом обшаривания. В огромной заводской семье он стоит как-то особняком. Про него говорят обыкновенно с ненавистью и насмешкой. В течение двадцатилетней его службы у него сожгли два дома, несколько раз его били до полусмерти, два раза он лежал в больнице по полугоду от побоев. С ним избегают говорить, а если говорят, то смотрят на него враждебно и холодно.
В глазах заводского начальства Иван Данилов стоит высоко. Его называют «верным человеком», ему дают часто награды, ему на заводской счет построили каменный дом. В больнице его лечили внимательней и кормили лучше, чем других. С ним всегда говорят ласково.
— Ну, как дела, Федотыч? — весело спрашивает управитель, проходя через будку.
Иван Данилов молча показывает книгу, где записывается «случай».
— А-а-а… Опять попался Степан Осипов? Ме-р-р-за-вец. Кусок бакаута[1]… С-с-к-к-отина…
Управитель вынимает из кармана карандаш и пишет около «случая»: «Составить протокол».
А в шесть часов вечера Иван Данилов опять невозмутимо лазит по пазухам и по армякам. Осмотры почти всегда происходят молча. Рабочие избегают говорить с этим высоким, неумолимым человеком. Но бывает изредка, что кто-нибудь не выдерживает.
— Разогни ногу… — говорит отрывисто сторож рабочему Карпу Архипову.
Тот протягивает ногу.
— Хорошенько разогни…
— Ну, чего еще тебе… Ворона старая… — не выдерживает Архипов.
— Разогни хорошенько…
Архипов нехотя протягивает, и сторож вытаскивает у него из прорехи штанов два новых подпилка.
— Это чего у тебя?
— А у тебя не видят шары-то? Записывай знай…
— Нашел-таки, дьявол… — несется откуда-то шепот.
— Ведьма полосатая…
— Крючок…
— Подожди, голубчик…
— Снесут башку-то…
Из всех углов будки несутся какие-то свистящие, полные ненависти звуки… Но Иван Данилов точно не слышит и заносит в книгу кражу…
Однажды Иван Данилов, пропустив всех рабочих, сидел один в будке и старательно выводил каракули в книге о кражах. Не отрываясь от книги, он взглянул на дверь и увидел тринадцатилетнюю Агашку, которая робко и нерешительно пробиралась к выходу. Обыкновенно, девчонок сторож пропускал почти без осмотра, особенно маленьких, работающих при сортировке или при правке железа. Но на этот раз его удивила нерешительность девчонки, и старый коршун впился глазами в ее фигурку.
— Стой!
Агашка остановилась и страшно побледнела.
А он медленно поднимался со скамьи и, казалось, пронизывал девочку насквозь своим холодным и безжалостным взглядом. Потом он подошел к ней вплотную и пробежал слегка руками по ее бокам. Немного спустя, он усмехнулся и проговорил насмешливо:
— Так не украдешь… Выкладывай!
Агашка не шевелилась.
— Выкладывай, говорят!..
Агашка, дрожа всем телом, полезла за пазуху и вытащила кусок английской стали.
— Хм… губа-то не дура… Где бог дал?
— Я нашла, дяденька…
— Нашла… Хи-хи-хи!
Он сел и как-то беззвучно засмеялся. Агашка не шевелилась.
— Ну, ступай с богом… Больше тебя не требуется…
Агашка стояла и судорожно теребила рукав.
— Ступай, миленькая… Хи-хи-хи! Нашла, говоришь? Хи-хи-хи! Да, много на улице стали валяется! Хм… А ты бы подальше спрятала… За пазуху… Хе-хе-хе!
— Дяденька…
— Чего такое, любезная…
— Прости, дяденька…
— П-р-ости? Хм… Выдумала…
— Прости, дяденька…
— Ну, ступай, милая… Не мешай.
Он опять взялся за перо.
— Дяденька…
Он не отвечал. В печке потрескивали дрова, с улицы доносился шум и вой ветра. Вечер был темный и жуткий.
— Дядень…
— Ты уйдешь или нет?
— Уйду.
— Ну, и убирайся.
Через минуту он поднял голову и посмотрел на Агашку. Она сидела в углу на лавке и судорожно всхлипывала в колени.
— Много я видел слез-то, любезная…
— У-у… нас… е-е-сть… н-н-ече-во… — донеслось до него.
— Хм… есть нечего? Так-с, а где родитель-то у тебя?
— В о-стр-о-о-о-ге…
— В остроге? Так-с… Дочка-то, значит, по родителю пошла… Хи-хи-хи!
— Дяденька!
— Ну?..
— У нас восьмеро… мамка не может одна…
— Ну, так и воровать?
— Прости… ради бога…
— Не могу, любезная. У меня, милая моя, служба. А тебе не советую просить. Ты тоже за родителем пойдешь на казенное содержание. Хи-хи-хи!
— В острог, што ли, дяденька?
— А то куда же. Да ты не бойся. В остроге-то ведь тоже люди сидят. Окошечки там узенькие, за решеточкой железной. И солдатики под окнами ходят с ружьям. Не убежишь, любезная… Хи-хи!
Агашка быстро встала и пошла к выходу… На самом пороге она на секунду остановилась и крикнула во всю будку:
— Будь ты… проклят!
Потом хлопнула дверью и скрылась,
Иван Данилов встал, отпер дверь и посмотрел вслед Агашке. Но он ничего не увидал, кроме промозглой темноты. Ветер ударил ему в лицо и взметнул пламя лампы. Сторож запер дверь на крюк. Потом взгляд его упал на кусок стали. Иван Данилов опять усмехнулся.
— За пазуху… Хи-хи-хи!
И он начал писать…
1901
А. Г. ТУРКИН
Александр Гаврилович Туркин родился в 1870 году в поселке Верхне-Уфалейского завода на Урале. Его отец был мелким заводским конторщиком. Будущий писатель не получил систематического образования. Он кончил в Челябинске городское училище и после окончания школы вплоть до 1900 года тянул лямку мелкого служащего заводской конторы на родине, а затем в Пашийском заводе. Жажда знаний, любовь к литературе помогли развиться дарованиям юноши. Тесное общение с народом, при острой наблюдательности и активном отношении к жизни, было не менее важной школой писателя.
В 18S9 году девятнадцатилетний А. Г. Туркин напечатал первое свое литературное произведение — стихотворение «Умерла ты рано…» в газете «Екатеринбургская неделя». В начале следующего года он выступил уже как прозаик. В той же газете появляются его первые рассказы «Рудокоп», «Крест не выдал», «У костра». Участие его в местных газетах становится постоянным. В 1896 году его очерк «Страничка из прошлого» напечатал журнал «Русское богатство». В 1900 году писатель переехал в Челябинск, где сдал экзамен на звание частного поверенного и стал заниматься адвокатской практикой. В том же году он побывал на Всемирной выставке в Париже. Его корреспонденции о поездке в Париж печатались на страницах «Уральской жизни».
С этого времени творческая деятельность А. Г. Туркина усиливается. В 1902 году в Екатеринбурге вышел сборник его рассказов «Уральские миниатюры». С 1901 года Туркин переписывается с В. Г. Короленко, посылая ему свои рассказы и внимательно прислушиваясь к его советам. «Уральские рассказы» обратили на себя внимание А. М. Горького, собиравшего тогда демократические силы литературы. Великий писатель поддержал провинциального автора.
Революция 1905 года, всколыхнувшая всю страну, внесла много нового в творчество Туркина: новые темы, новые образы.
С этого времени он начинает систематически печататься в столичных журналах. В 1906 году в «Русском богатстве» В. Г. Короленко опубликовал четыре рассказа Туркина и среди них «Как он запел» — о революционных событиях 1903 года в Златоусте.
В этом же журнале в 1910 году была напечатана повесть «Исправник». В 1911–1913 годах его рассказы появляются в журналах «Современник» («Душа болит», «На вечное владение»), «Современный мир» («Десятина», «Культура», «Учитель», «Ночь»), в «Журнале для всех» («Падают листья»). В 1914 году в Издательском товариществе писателей в Петербурге была выпущена вторая книга рассказов А. Г. Туркина «Степное».
А. Г. Туркин выступал как писатель-реалист, человек демократических убеждений, сохранивший их и в пору реакции после революции 1905 года. Но он не видел исторической роли пролетариата и не был связан с его революционным движением. Великая Октябрьская социалистическая революция не была понята им. Размах народных сил в революции испугал писателя, ранее выступавшего в защиту интересов народа. Во время гражданской войны он уехал из Челябинска в Сибирь и здесь умер от тифа на одном из полустанков, между Новосибирском и Минусинском, в декабре 1919 года.
* * *
Первые рассказы Туркина были посвящены изображению жизни трудового народа: Просто и безыскусственно этот самоучка рассказывал о рудокопе, бьющемся на работе, чтобы прокормить семью («Рудокоп»), об углежоге, у которого украли лошадь («Крест не выдал»). Он рисовал картины бесправного положения человека в условиях угнетения, раскрывал трагедию рабочей семьи, разрушенной произволом тех, кто господствует («Тетушка Василиса»}. В рассказах его была трезвая правда жизни и нежелание мириться с бесчеловечными условиями существования. Многое было несовершенным и незрелым в этих первых произведениях начинающего писателя: и неумелая композиция, при которой центральный эпизод тонул в обрамляющих его деталях, и натуралистическое воспроизведение фонетических особенностей речи героев, и налет наивного христианского морализирования. Но все-таки они привлекали непосредственностью, страстным желанием разобраться в жизни и ее сложности.
Книжка рассказов 1898–1901 годов «Уральские миниатюры» свидетельствовала о росте мастерства, об определении общественной и литературной позиции писателя, о расширении круга тем, которые волновали его.
Почти все рассказы сборника сначала были опубликованы в екатеринбургских газетах «Рудокоп», «Уральская жизнь» и в «Пермском крае». Работа писателя в газете приучала делать рассказы сжатыми, находить такие сюжетные положения, в которых полно раскрылся бы жизненный социальный характер.
Большинство «Уральских миниатюр» посвящено жизни уральских рабочих и мелких конторских служащих заводоуправления. В рассказах нашли отражение существенные стороны социально-экономического положения населения большого промышленного района, каким был Урал. Писатель раскрыл перед читателями тяжесть и томительность существования людей, человеческое достоинство которых постоянно подвергается унижению. Но в этих же рассказах, где с грубоватой простотой воссоздавались картины заводской жизни, жила авторская мечта о возможности других отношений, о человеке, который когда-нибудь станет смелым, гордым, способным противостоять угнетению. В самой действительности он замечал ростки сопротивления, активной защиты человека. Во многих рассказах А. Г. Туркина заводская рабочая масса и отдельные ее представители выступают как угнетенные фабрикой-зверем. В рассказе «В одну темную ночь» он говорит, что машины казались ему «владыками, тянувшими за собой раба», — человека. «И он, этот раб, стонет от них, — продолжает автор, — молчаливый, покорный и заживо испеченный». Но писатель понимает, что угнетение создается людьми, системой экономического и внеэкономического принуждения. В этом порабощенном положении человека он видит причину раскрываемых им частных конфликтов. Цинично издевается барский прислужник, обыскивая рабочих, страдающих от нищеты («В шесть часов вечера»). Остаются без работы десятки людей, судьба которых не волнует управляющего, занятого мыслью о прибылях («Машину привезли»). В рассказе «Дерзости» раскрывается глубокий антагонизм рабочих и капиталистической фабрики.
Подобно другим писателям-реалистам 90-х годов Туркин еще не видит созидающую самого человека силу труда.
В ряде рассказов рисуются темные стороны быта, уродливые отношения между людьми, возникающие на почве нищеты и бесправия. Нельзя без содрогания читать рассказ о мальчике, единственном работнике в семье, который впервые наелся досыта в день смерти долго болевшего отца, ибо одним едоком стало меньше («Митька»), Дешево ценится человеческая жизнь, которую ничего не стоит загубить, охраняя господское добро («Верный человек»). Не задумываясь, мимоходом губит жизнь девушки «культурный управляющий» («Побаловался»).
Писатель рисует картины затхлой, монотонной, недостойной человека жизни мелких служащих («Мы», «Первое января», «Глухо») и рабочих («Софрон», «Павел Иваныч» и другие). Но герои «Уральских миниатюр» уже начинают сознавать, что изменение скверного положения трудовых людей — дело самого человека. Это представление еще очень смутно и формулируется отвлеченно. Однако и писатель и его герои понимают, что человек «ничтожен потому, что он бессилен от тех условий, в которые сам себя запер, как попугай в клетку». «Кажется, жизнь изменить можно, но для этого надо сделать героический шаг, переломить себя и бросить все это», — думает один из персонажей рассказа «В сумерки». Как это произойдет, кем и какой героический шаг должен быть сделан, писателю неясно; он уже видел, что старая народническая интеллигенция, в которую он раньше верил, дискредитировала себя: «идеалы», «народ», «свобода» оказались в ее устах красивыми, легкими словами. Сейчас эта интеллигенция участвует в ограблении и унижении народа («Побаловался», «Оргия»).
Не видя реальных путей борьбы, Туркин и его герои противопоставляют дисгармонии общества мир природы, поэзию романтических порывов от тусклой повседневности, серой жизни к героике сопротивления, героике прекрасной и величественной.
Туркин показывает подлинно поэтическое восприятие природа рабочим («Беспокойный»), передает общее стремление к «воле», чувствующееся в жизни завода («В сумерках»), создает апофеоз силы коллектива в рассказе «На работе».
Писатель рассказывает легенду о силе любви людей, разделенных социальными предрассудками, о гибели прекрасной девушки, своей смертью утверждающей волю к жизни, но не к покорности («Легенда»). Эта же мысль о героическом начале как прекрасном звучит в словах человека, который «готов на бой со всей силой вражьей».
В рассказах писателя-реалиста есть отблеск подъема рабочего движения в начале XX века. Но не столько в картинах, где внимание обращено преимущественно на забитость и порабощенность людей, сколько в романтически приподнятой, взволнованной авторской интонации. В авторском освещении этих картин мы видим и порыв от тусклой жизни, и поэзию мечты, и сентиментальность гуманистической любви, не знающей, как же помочь человеку, и робкую веру в достоинство и силы людей.
С «Уральскими миниатюрами» А. Г. Туркина в 1904 году познакомился А. М. Горький. Он послал автору книжку со своими пометками на полях, критикуя и ободряя его. Из ответного письма А. Г. Туркина видно, что главным недостатком рассказов молодого писателя Горький считал их сентиментальность. В пору приближения первой русской революции великий пролетарский писатель призывал «не унижать человека жалостью». Он хотел видеть у своих младших собратьев по перу больше твердости, мужества, призыва не к состраданию, а к ненависти и борьбе.
А. Г. Туркин был глубоко тронут вниманием всемирно известного писателя. Он отвечал: «Заключение, выведенное Вами в конце книги, встряхнуло и подняло дух мой! Не думайте, однако, что я задеру голову. Нет — я буду учиться, я буду работать, ибо стоит это теперь, после слов ваших! Спасибо Вам, Алексей Максимович! Сочувствие Ваше и отклик мне бесконечно дороги».
Обещание учиться и работать Туркин выполнил. Творческая деятельность его усиливается. Он требовательнее относится к себе, внимательно прислушиваясь к советам близкого ему по духу В. Г. Короленко, в частности, к его наставлению «поглубже вглядеться в то новое, что пробивается среди обыденности».
А. Г. Туркин и дальше идет вместе с теми писателями-реалистами, демократами, которые противостоят декадентской литературе и, чутко откликаясь на явления народной жизни, разрабатывают темы, властно подсказываемые самой действительностью.
В период революции 1905 года одной из таких тем была тема деревни, к ней обращается писатель-уралец в новых рассказах («Задушил», «Ходатель», «В деревню приехал» и др.). Он реалистически рисует голодающую деревню, изнывающую от беспросветной нужды, угнетаемую кулаком и урядником, бесправную и темную. Туркин также видит в деревне и другое: гнев, страстное желание взять жизнь с бою и неумение найти формы борьбы. Крестьяне, посылая «ходателя» в город, наставляют его: «Прямо за глотку бери». Но страх, трепет перед начальством все еще силен в сознании изнемогающего мужика, все еще живет «вера в властных и сильных, никогда не видевших человеческого страдания». Туркин показывает бюрократическое и враждебное отношение «власть имущих» к народу, к мужику.
Туркин сознает, что так продолжаться не может. Но вместе с тем он мечется от мысли о росте возмущения деревни до горького признания безысходности страшного круга деревенской жизни, неподвижности и застоя деревни. Идут века, а жизнь крестьянина неизменна, и «над деревней попрежнему висит старое, как это небо, горе», — говорит писатель в рассказе «В деревню приехал».
Город рассматривается Туркиным с позиций мировоззрения крестьянства, как место гиблое, где все люди — равнодушные, сытые, жадные, чуждые народу и человеку. Он рисует несчастных девушек, бегущих из голодающей деревни в город на заработки и становящихся там «живым товаром» жадных к деньгам и холодных к людям мещан («На краю города», «Встреча», «Про одну», «У фонаря»).
Ему кажется иногда, что жизнь в городе, бессмысленная жизнь в труде на сытых и самодовольных мещан, может быть брошена во имя самостоятельного деревенского хозяйствования и близости к природе. В это время писатель склонен забыть о том, что в других рассказах он блестяще показал всю призрачность «самостоятельного» крестьянского существования. Так появляется рассказ «Как они сговорились». Но, кроме сюжетной стороны, значителен подтекст этого небольшого рассказа. В поэтизации свободы и независимости выражались стремления крестьянства к свержению старых властей, к освобождению от полицейского гнета и кулацкой кабалы.
В разработке крестьянской темы Туркиным проявилась не только неотчетливость его политической позиции, но и сложность идеологии крестьянства, сочетавшей давнишнюю ненависть с созревшим стремлением к лучшему.
Близкой была Туркину и горьковская тема окуровской Руси. Он хорошо чувствовал враждебную силу провинциального мещанства, людей, живущих праздной, нудной, однообразной и серой жизнью, людей, не знающих и не желающих знать нужды и отчаяния, гнев и ожесточение стомиллионного русского народа. Этой теме посвящены рассказы «Болото» и «Семья».
Но среди интеллигенции, связанной с рабочим движением, находил писатель незаметных героев, и они вызывали в нем чувство уважения и гордости (рассказ «Сын»).
Революционная эпоха 1905 года отразилась и в освещении прежней главной темы Туркина — темы жизни рабочих. Он рисует теперь непримиримый антагонизм рабочих и господ. Скромность желаний рабочего, вся жизнь которого была борьбой с нуждой, сытые организаторы промышленности воспринимают как человеческую примитивность (рассказ «Руда»). Сатирические штрихи находит писатель для изображения «хозяев», вызывая к ним презрение и ненависть. Всем строем образов писатель протестует против издевательства над народом. Он напоминает, что в рабочем человеке зреет сознание своей бедности и силы организованного коллектива. В рассказе «Смута» он пишет: «Там, где гремят тысячепудовые молоты, в воздухе, трясущемся от этого грохота, прекрасным и ярким цветком поднимается молодая, сознательная жизнь… Яркая мечта о свободе и воле».
В рассказах Туркина о рабочих периода 1905–1906 годов отразились некоторые конкретные события эпохи. Так, в рассказе «Как он запел» изображено выступление златоустовских рабочих в 1903 году, кровавая расправа царского правительства с ними. Туркин лучше знает и поэтому изображает в рассказе самые отсталые слои рабочих, согнутых изнурительным трудом и бедностью. Но с тем большей силой здесь утверждалась правда, во имя которой выступал пролетариат. Даже в среде забитых и непросвещенных рабочих растут силы борьбы, зреет радость от сознания этой силы. Он пишет о герое рассказа: «…Шаг его становится тверже, сердце бьется сильней, и горячая отвага, никогда еще не испытанная им» вдруг потекла по жилам.
В 1911 году А. Г. Туркин печатается в журнале «Современник», в котором активно участвует А. М. Горький. Журнал не отличался передовым направлением, тон в нем задавал Амфитеатров, буржуазный либерал, прокладывающий дорогу реакции. Журнал принадлежал П. И. Левину — издателю «Уральской жизни». Беспринципный коммерсант, сколотивший на Урале газетно-издательским делом большой капитал, он открыл журнал в столице, рассчитывая составить себе имя. Учитывая дух времени, он прежде всего съездил на Капри и договорился с А. М. Горьким о его сотрудничестве в «Современнике». Певин же — это его заслуга — привлек к участию в журнале писателей-уральцев.
Произведения Туркина печатаются теперь и в «Современном мире», одном из распространенных буржуазных журналов, который тоже из «моды» предоставил страницы таким революционным писателям, как Демьян Бедный.
Рассказы, опубликованные в этих журналах, и повесть «Исправник», напечатанная в «Русском богатстве», вошли в новую книгу писателя «Степное», изданную в 1914 году в Петербурге. Там же продолжалось издание еще одного сборника.
В связи с выходом книги в свет Туркин писал: «Я пролезал в большую литературу сам, сидя в Челябе, я не просил и не заискивал, как это делают многие. Я всем обязан только себе, и это меня удовлетворяет» [2].
Книга «Степное» — итог значительного и наиболее интересного периода творчества писателя.
В ней получает дальнейшее углубление тема деревни. Рассказ о кулацкой «политике» в крестьянском обществе «Душа болит» — превосходный художественный документ эпохи. Туркин разоблачает кулака Лушникова, опутывающего деревню паутиной экономических крепей, маскирующего грабеж и издевательство елеем ласковых слов, прикрывающего хищное стяжательство лицемерным причитанием: «душа болит».
Но теперь в деревне более отчетливо выражаются ее революционные силы. Один из героев рассказа говорит: «Лушникозых будут бить, жечь, душить по ночам. И поверьте: землю у них вырвут обратно, с глоткой вместе. Вырвут. И придет новая деревня — только не нами созданная». Рассказ свидетельствует о том, что Туркин уже ясно видел и понимал, что спасение деревни не в «народолюбцах», махавших красными флагами в 1905 году и трусливо дезертировавших в период реакции. В самом крестьянстве зреют ненависть и сила. Каковы качества этой силы, каковы пути революционного переустройства деревни, писатель не представлял. Но голос его звучал в общем хоре демократических писателей, показывавших не только темную и забитую деревню, но и деревню гневную, собирающую силы.
В этом рассказе Туркин отходит от известной эмпиричности и эскизности, характерной для него раньше, и поднимается до большого художественного анализа существенных процессов социальной жизни.
В реалистической литературе 1910-х годов под влиянием А. М. Горького разрабатывается еще одна важная тема — тема национальная, тема содружества русского и других народов России. Туркин много раз сообщал А. М. Горькому свои наблюдения над жизнью башкир, и его письма уже представляли своеобразные очерки, а позднее писатель создал цикл рассказов под названием «Степное».
Тонко воспроизводя национальное своеобразие жизненного материала, Туркин рассказывает о башкирском народе, о его нищете, о тройном гнете, который лежит на плечах башкир, о светлом гуманистическом характере лучших представителей нации.
Он избежал этнографизма и эстетского обыгрывания экзотики «первобытной» культуры. Почти во всех рассказах цикла реалистическая манера письма использована не только для показа тяжелой жизни угнетенных, но и для того, чтобы отметить радостное, волнующее, героическое начало в свободолюбивом народе.
С возмущением пишет Туркин о «носителе культуры» — русском исправнике, презирающем народи творящем насилия (рассказ «Культура»). Он находит теплые краски сочувствия, изображая бедного башкирского юношу и его трагическую гибель (рассказ «Десятина»)
В рассказе «Ибрагим» им нарисован обаятельный образ человека с ярко выраженным национальным характером, обладающего широтой души, гуманным пониманием интернациональной дружбы.
В рассказе «Грех» по-горьковски развивается тема любви, которая сильнее унижения, страха, скорби.
Одно из самых значительных произведений Туркина — повесть «Исправник». Здесь Туркин ставит своего героя в совершенно необычные условия, причем эти условия реалистически мотивированы.
Исправник Крысин, прослуживший в полиции 20 лет, растратил казенные деньги и стал арестантом. Это новое для него положение заставило по-иному увидеть себя, оценить антигуманность своей жизни, лишенной какого-либо содержания. В тюрьме Крысин боится уголовных преступников, которых он когда-то сам сажал за решетку. Он пытается убедить их, что теперь он, Крысин, будет совсем другим, почти веря в это. Но приближающаяся свобода снова настраивает его мысли на привычный лад, снова автоматизм сытого и бездумного существования начинает брать верх.
Туркин и не ставил целью показать нравственное перерождение человека, полицейского чиновника. Он понимал, что дело не в душевной очерствелости отдельных исполнителей государственной власти, а во всей системе социальных отношений. Накануне выхода из тюрьмы исправник был убит, ибо посаженные им в тюрьму считали, что в нем олицетворяется система насилия и произвола. Смысл этого финала не оставляет сомнения в идейной направленности произведения.
В 1914 году А. М… Горький, как вспоминает С. П. Туркина, в письме к Туркину указывал, что его рассказы правдивы, у него есть талант, безусловный талант, что он уже многого достиг, самого главного — правды в описании жизни [3]. Эта оценка была значительной и высокой. Сам писатель в том же году в письме к С. П. Туркиной говорил о тех побудительных причинах, которые вызвали к жизни его рассказы, о своих настроениях и мечтах.
«…Душа болит: за злую русскую жизнь, за людей, что бьются во мраке сотни лет, за дорогие идеалы, что растоптаны бывают. Хочется мучительно света, счастья народного, солнца и борьбы за грядущее!»
Далекий от пролетарского революционного движения, Туркин не знал и не показал в своих произведениях истинных путей к осуществлению идеала свободы. Но вместе с другими писателями-реалистами, объединяемыми А. М. Горьким, он сыграл свою, пусть маленькую роль в движении нашего народа к свободе и социализму.
В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА
Рассказ первоначально опубликован в газете «Пермский край», 1901, № 54. Печатается по тексту книги: А. Г. Туркин. Уральские миниатюры. Рассказы и очерки. Изд. П. И. Певина. Екатеринбург. 1902.
notes
Примечания
1
Кусок бакаута — кусок особо твердого дерева.
2
Подлинник письма хранится в Челябинском областном архиве.
3
Воспоминания С. П. Туркиной-Бруштейн хранятся в Литературном музее им. Д. Н. Мамина-Сибиряка.
У фонаря
В зимнюю ночь хорошо иногда пройтись по улицам, особенно если кругом все заснуло. Звучно раздаются в воздухе ваши шаги, снежная пыль слегка засыпает вас, и вы, бодрый и напряженный, шагаете по мертвым улицам, где днем билась и сверкала будничная жизнь, где шли и ехали сотни людей. Теперь эти люди спят крепко. Борьба за существование завтра опять позовет всех на улицу зычным голосом. Полный месяц смотрит сквозь легкие облака на землю и мечтательно улыбается. Спят люди, и вы идете вперед, властелин над этой ночью, и звучные шаги ваши сливаются с снежным шорохом морозной и ясной ночи…
Ночной сторож Иван Костин тоже на улице, но, видимо, он вышел сюда не для своего удовольствия. Одетый в огромную шубу, подпоясанный шарфом, с замерзшими ресницами и бородой, тяжело скрипя ногами, он уже несколько раз прошел по улице, постукивая деревянной колотушкой, и звучные удары терялись где-то в шорохе зимней ночи. Наконец, он выбрал себе место около одного дома, сел на скамейку и, закрывши глаза, попробовал немного вздремнуть.
Однако это ему не удалось. Холод, как острие ножа, пробирался сквозь очвинную шубу и покалывал тело. Иван Костин вздрагивал, ежился и иногда похлопывал рука об руку. Потом опять прошелся по улице, пустил своей колотушкой какую-то трель, сел снова на скамейку и задумался…
Мысли его почему-то сначала перенеслись через улицу, к каменному дому, который, освещенный месяцем, сверкал своей железной крышей и высокими трубами. Дом казался каким-то средневековым замком, и иллюзию довершал большой сад, который окружал этот дом. Деревья сливались в неясном воздухе морозной ночи и были неподвижны, как изваяния.
Иван Костин вспомнил, что в том доме живут богатые господа.
Ему не раз случалось видеть, как чистокровный рысак выносил из глубины барского двора жирного господина с двойным подбородком, неподвижного и грузного, всего закутанного в дорогую шубу. Иногда чистокровный рысак выносил со двора и барыню, красивую, широкую, с черными бровями и свежими, точно малиновыми губами. Что теперь делают эти господа? И Ивану Костину почему-то кажется, что грузный барин лежит теперь на спине, храпит, раскинув кругом мясистые руки, и дрожит у барина его жирный подбородок… Спит и барыня, подложив под щеку пухлую нежную руку, и шепчут что-то во сне малиновые губы…
Иван Костин вдруг вздрагивает от холода, встает с места, и в морозном воздухе опять несутся короткие, методичные удары. Иван Костин стучит и думает, что хорошо теперь где-нибудь в тепле, около печки, где гудит и играет пламя…
Он еще раз взгремел колотушкой, прошел по улице и сел снова на скамье.
И опять задумался…
Широко раскинулась зеленая степь, и яркое солнце брызжет кругом лучами. Высоко в воздухе звенят жаворонки, звенят и, как дети, кувыркаются в синеве. Далеко-далеко, где степь почти кончается, встают, как бледные тени, высокие курганы, которые тянут к себе мягкою и нежною гранью своих вершин. Воздух душист и прозрачен. Сколько кругом света жизни, сколько кругом молодости и какой-то неудержимой отваги, с которой хочется бросить всему свету вызов и загреметь:
— Я живу! Прочь все с дороги.
Двадцатилетний Иван Костин широко шагает по дороге, которая, как черно-серая змея, вьется по необозримой степи. Костин торопится на работу. Время стоит сенокосное, время горячее, и Костин отлично понимает это. Но он не боится работы, ибо он молод и силен, как резвая степная лошадь.
В одном месте он останавливается, набирает в себя воздуху и кричит во всю мочь:
— Авд-о-о-тья!..
Кругом тихо. И опять кричит Костин:
— Авд-о-о-тья!..
Немного погодя, где-то в стороне, чуть слышно, откликнулся женский голос. Потом вдали вынырнула из травы какая-то фигура. Ближе, ближе… Вот красное платье… Сверкнули бусы на шее… Вот черные брови и зубы, сверкающие из-под румяных губ… Ближе, ближе… Подошла к нему сажен на пять и остановилась, заложив назад руки:
— Тебе чего надо?
Он молчит и тяжело дышит.
— Тебе чего надо, дьявол?
Спрашивает, — а сама дрожит от смеха…
— Чего тебе, леший?..
— Я не леший!
— Нет, леший!..
Тогда он сразу срывается с места и летит к ней. Она бросилась от него, и степь, казалось, дрогнула от топота молодых ног. Оба бегут бешено, как враги, но оба наполнены каким-то безумным, неудержимым восторгом. Стой! Держи ее! Наконец, она валится на траву, обессиленная, и чувствует, как никнут к ней горячие губы…
Осенью, когда степь вся пожелтела, Иван Костин женился на казачке Авдотье. Хорошо жили сначала, но потом его угнали в солдаты.
Угнали его далеко, на окраину, и когда он вернулся — его ждало большое горе… Авдотья связалась с каким-то мещанином и ушла совсем из села…
С той поры Иван Костин сделался другим человеком. Он стал пить, забросил хозяйство, все пропил и, наконец, окончательно опустился. Прожил он в деревне лет десять, и когда у него ничего не стало, — он ушел в город и нанялся ночным сторожем. И живет он так уже три года…
Мороз на улице крепнет. Казалось, по городу идет громадный старик с снежной бородой и ледяным взором. Идет и дышит инеем. Идет — и бросает в воздух холодом… И все трещит…
Иван Костин тяжело поднимает голову и вслушивается. Где-то в конце улицы звучат человеческие шаги. Должно быть, запоздалый пешеход… Однако надо дать знать о себе. И Костин стучит в колотушку…
Немного погодя мимо него прошел человек, скрипя по дороге. Человек сильно шатался. Очевидно, он пьян и нужно последить за ним. Человек дошел до конца улицы и вдруг остановился у фонаря. Фонарь не был зажжен, и стекло на нем отливало холодным блеском луны.
Иван Костин с минуту подумал и направился к человеку, стоявшему у фонаря, постукивая колотушкой. Кто его знает — что за человек? А вдруг еще замерзнет?
Он подошел близко к фонарю и крикнул:
— Кто такой? Ступай своей дорогой!
Человек попрежнему бормотал. Тогда Иван Костин подошел вплотную и всмотрелся в бормотавшего незнакомца. Это оказалась женщина. Она была сильно пьяна, и по ее бессмысленному, пьяному лицу отчего-то градом текли слезы. Текли и тут же замерзали на воротнике обтрепанной шубенки…
— Ступай, ступай, матушка!.. Здесь нельзя стоять!
Женщина бессмысленно смотрела на него и бормотала:
— Избил… избил меня! И пятьдесят копеек взял у меня! Спой, говорит, мне песню «Во долинушке стояла — калину ломала»!.. Спой, говорит… А я пела! Пела! Пела! А он избил… Проклятый… И деньги отнял… А я пела! Пела! Пела! «Во долинушке стояла — калину ломала…»
Иван Костин взял ее за плечи и повернул.
— Ступай!
Лунный свет обливал ее лицо, и месяц, казалось, беззвучно смеялся… И вдруг Иван Костин страшно вздрогнул.
Сквозь пьяные, бессмысленные черты проступило чье-то другое лицо, и Иван Костин дрожит всем телом… Дрожит — и смотрит…
— Авдотья!
Она подняла на него глаза и замерла… И сразу отрезвилась…
Он еще ниже наклонился к ней и спросил:
— Ты, что ли?
— Я… А ты… Иван?
— Я…
Оба молчали. Угол одного дома гулко громыхнул от мороза.
Она вдруг сжалась, закрылась воротником и быстро пошла от фонаря. Он остался на месте и смотрел ей вслед. Смотрел до тех пор, пока ее фигура не пропала в морозной мгле ночи и пока не замерли ее шаги.
Еще выше поднимается месяц, еще звонче громыхает мороз и еще ярче сверкают беспокойные звезды. Спит город, спят все люди, спят собаки…
Но деревянная колотушка плачет…
1902
ПРИМЕЧАНИЯ
Печатается по тексту публикации в газете «Уральская жизнь», 1902, № 319, 24 ноября.
Тетушка Василиса
Жаркий июльский день кончился. Солнце садится далеко за горами, и его последние лучи золотят ровную поверхность заводского пруда. Жар свалил. Дышится легко, кажется, это чувствует все. Чувствуют это люди, чувствуют деревья, с истомленными от зноя листьями, и ласточки, ныряющие в синем и прозрачном воздухе.
Хорошо. Я лежу под тенью развесистой березы и смотрю кругом. Весь организм охватывает чувство беспредельной неги, и весь мир кажется таким прекрасным. Бывают такие редкие минуты, когда человек, с глазу на глаз с природой, и счастлив, и доволен. В такие редкие минуты человек становится действительно человеком. Вся эта гармония жизни, которая звенит вокруг него в звучном аккорде, приближает усталое сердце к правде, и никакая черствая душа не устоит перед ясным и чистым взглядом природы.
Против меня, на скамье, сидит тетушка Василиса и вяжет чулок. Я смотрю на это старое доброе лицо с молодыми глазами, и мне почему-то становится весело, наверное, потому, что лицо у тетушки Василисы такое славное, такое доброе, со складками добродушной иронии около губ. Она быстро перебирает спицами и в то же время зорко осматривает свои владения. Владения же эти самые скромные: крошечный домик, крошечный огород, которым старуха кормится, и маленький садик, в котором мы теперь с ней находимся.
Здесь все перед глазами: и домик, где один себе хозяйничает рыжий кот, и садик, а к садику примыкает и огород, сплошь покрытый разной зеленью. Тут и горох, и бобы, и картофель, и свекла. Над всем этим местами возвышаются пестрые подсолнечники и огненные головки мака. Все гряды содержатся тщательно, везде чистота и порядок.
В общем, огородик очень хорошенький, хотя он немного и портится «пугалом», которое придумала тетушка от воробьев. Посредине огорода стоит длинная палка, на которую надета какая-то пестрая кацавейка, а к кацавейке пришиты разноцветные ленточки. В тихое время это пугало имеет довольно жалкий вид. Но когда налетит ветерок, пугало мгновенно преображается. Кацавейка надуется, как еж, и беспорядочно захлопает рукавами, ленточки заиграют в воздухе и сплетутся между собою, как змейки. Тетушка Василиса уверяет, что воробьи очень боятся этой штуки, а воробей, по ее мнению, большой озорник.
На заводе и стар и млад знает эту добрую старушку. Собственно говоря, тетушка Василиса играет огромную роль во всех закоулках нашего местечка. Затевается ли где свадьба, хоронят ли кого, родился ли кто, идет ли кто в солдаты — везде и всюду нужна бывает тетушка Василиса, это делается как-то уже по привычке, которая сложилась в десятки лет. В ином месте, кажется, и совсем бы не нужна тетушка Василиса, а, смотришь, бегут за ней. Словом, у ней огромная практика жизни.
Надо и то сказать, что нет, кажется, такой «оказии», где бы тетушка не была полезна. Она умеет лечить от грыжи, править вывих и живот, умеет «подкурить» больную корову, во-время «принять» новорожденного, заговорить от «лихоманки», вспрыснуть от родимчика или от дурного глаза, залечить девичье горе, урезонить пьяницу-мужика, успокоить избитую бабу. Все это делается ею по большей части бескорыстно. Бывало, целый день таскают старуху по селению. Запрет свой домик на замок и уйдет. Придет к вечеру усталая, но, видимо, довольная. Но бывали случаи, когда тетушка Василиса наживала себе врагов. Это было как-то не так давно, и, надо сказать, это была любопытная история. В наш глухой уголок проникло культурное «веяние» в образе молоденькой фельдшерицы, которая только что со школьной скамьи собиралась послужить «народу». Правду оказать, девушка была славная, хотя немного горячая и нервная. Ей почему-то казалось, что тот «народ», о котором она так много читала и в стихах и в прозе, сразу поймет разницу между разумной и первобытной жизнью. Этот народ, по ее мнению, «добрый и простой народ», непременно должен был понять и оценить того, кто истинно служит ему. Это была огромная уверенность, вынесенная из школы, из горячих бесед о народе, из прекрасного далека молодости и обаяния жизни, из маленькой комнаты, куда врываются душистые ветки сирени и откуда несется страстная строфа поэта. Да, это была огромная уверенность… Первое «зло», которое усмотрела в нашем углу фельдшерица, была тетушка Василиса. По ее мнению, «эта старуха» занималась вовсе не своим делом. Разве ее дело, например, стоять у постели рожающей женщины, когда тут такая масса частностей и осложнений, от которых, при таких бабках, бедные матери мрут, как мухи? Разве ее дело лечить корчившегося в судорогах ребенка? Да, это зло, огромное зло, которое нужно было непременно устранить. И вот девушка начала внушать бабам, что тетушка Василиса отжила свое время и что теперь есть разумная наука, которая гораздо действительнее всех этих вспрыскиваний и глупых нашептываний. Господи, что поднялось! Все бабье царство ощетинилось… Как! это тетушку Василису не пускать к себе, это ту тетушку, которая на своих руках выносила почти всех мужиков и баб в местечке, без которой ни одна трудная минута в жизни не проходила!.. И старые традиции взяли верх. Тетушка Василиса торжествовала, а бедная фельдшерица первое время плакала, но потом успокоилась: она вышла замуж.
Я всегда любил заходить изредка к тетушке Василисе. Поражало меня ее знание народной жизни, верное определение того или другого течения этой жизни. Большинство семей она знала как себя, и весь духовный мир мужика с его незатейливой внешней обстановкой в рассказах тетушки вырисовывался как на ладони. Она вовсе не принадлежала к тем старухам-сорокам, которые подчас болтают разный вздор. У тетушки Василисы была большая вдумчивость, знание характеров и верная оценка их.
И вот я лежу под березой и смотрю на тетушку Василису.
— А как ты думаешь, тетушка, — спрашиваю я. — Отчего Матренин муж сделался такой буян? Ведь он раньше совсем другой был, и мне кажется, что он человек хороший?
Тетушка смотрит на меня сквозь очки и смеется.
— Хороший, говоришь? Не скажи, голубчик ты мой, этого на базаре, а то пряниками закормят…
Мне смешно. Тетушка иногда любит «ковырнуть словечком».
— Так отчего же? — допытываюсь я.
— А оттого, что он всегда был дураком. Я его маленьким знала. Все, бывало, пакость норовит сделать. Мне самой как-то в квашню дохлую кошку засадил; было сраму-то… Спервоначалу, как старик-то был жив, ему воли-то не больно давал, чуть чего и драть, бывало… Конечно, драть нехорошо, да ведь, батюшка мой, дай-ко потачку… Молодо-зелено, по всем швам расползется… А мужик одну науку знает: ежели его во-время сократил и ладно, значит… Вот и Матренин муж… Старик его во-время драл, во-время женил, ну и смирился было парень. А как отец помер — он и взял свое, и опять за старое… Такой человек, батюшка мой, всегда возьмет свое, отвернись только от него. Уж коли что в него вложено с самого рождения, уж коли он что всосал с материнским молоком, так свое возьмет.
— Ну, иногда можно исправить такого человека, тетушка…
— Редко, кормилец… Он, пожалуй, на время, по доброму слову и сократится… А как отвернулся — пиши с концом. Это есть такие собачки: ее гладишь да кормишь, а она ест и за руку все норовит укусить…
Молчим. Спицы у тетушки вертятся, а глаза то и дело бегают по грядам. Толстый шмель покружился над нашими головами и потом прильнул к душистому лепестку мака.
— Я тебя все собираюсь спросить, тетушка, — опять говорю я. — Как сама-то ты жила на свете?..
— Как? А так. Ни шатко, ни валко, ни на сторону… Проболталась на свете божием, а теперь, пожалуй, и на покой пора…
— Сколько тебе лет?
— А, кажись, восьмой десяток идет… Сперва считала, а теперь забыла…
— А ведь ты, тетушка, еще очень бодрая…
— Ну, бегаю помаленьку… А уж болят же кости. Иной раз очень хочется на покой.
— А ты не боишься смерти, тетушка?
— Вот те на! Да чего же ее бояться? Ведь я уже пожила…. Вот ты — совсем другое дело, может, и боишься, потому человек молодой. А все же и тебе, если придется, не следует бояться… Ты ведь писание-то, чай, знаешь? Все мы прах и уйдем в прах… Только душенька пойдет скитаться… Охо-хо-хо… Пойдет она, голубушка, в темны края и будет она скитаться по темным краям…
Я молчу и не нахожу, что сказать.
— У тебя большая семья была, тетушка?
— А только муж был да дочь. Немного у меня семьи было, голубчик… Все убрались, вот только я осталась, грешница…
— А от чего они померли, тетушка?
— Ишь ты, какой любопытный! Ну, расскажу, только старое горе надо тревожить.
— Так не надо, тетушка…
— Ну, ничего… Рассказывать немного… А иной раз расскажешь, так будто легче станет…
Я совсем было приготовился слушать, но тут случилось нечто неожиданное.
Тетушка Василиса вдруг швырнула чулок, живо вскочила на ноги и закричала:
— А-ах ты, разбойник этакий! Вот погоди, голубчик ты мой!..
Я взглянул на огород и понял, в чем дело. Какой-то карапузик, не заметив нас, пробрался через изгородь и приготовился было сорвать самый большой подсолнечник. Тетушка Василиса на бегу схватила тычинку из-под гороха, двинулась в атаку. Карапузик так оробел от неожиданности, что первое время замер на месте, но потом сообразил, бросился к частоколу и начал карабкаться на него с легкостью белки. Еще минута — и мальчуган бы удрал, но тетушка Василиса подоспела, и в воздухе раздался звучный шлепок. Мальчуган перевернулся через тычинник, как мячик, и побежал. За ним бросились его компаньоны, которые наблюдали из-за изгороди, и немного погодя воздух огласился звонким детским смехом. Тетушка Василиса вернулась, вся запыхавшись, и ее доброе лицо дрожало от смеха.
— Ведь вот озорники… Ну, что бы попросить добром… А то все изорвут да потопчут…
Немного погодя, успокоившись, тетушка заговорила:
— Так вот, батюшка… Семья была маленькая… А споженились мы с покойным Иванушкой по душе да по доброй совести. А споженились мы с ним в те времена, когда людей, кормилец мой, считали хуже всякой животины. Вот в этом самом заводе правил тогда всем приказчик. Звали его Федором Иванычем, и был он из себя такой, что как увидишь во сне, испугаешься. Был он росту саженного, черный, толстый, как бык, и глотка на всю улицу хватала… Нрав у него хуже был звериного… Господи ты мой батюшка, что тогда было… Чего только не натерпелись люди… Теперь как-то не верится самой, когда вспоминаешь это… Вот слушай, батюшка, чего он творил. Ежели кто прошел мимо его двора да шапки не снял — сейчас ведут на конюшню и порют до смерти. Идет, бывало, мужичок мимо барского дома и весь-то он сердечный изогнется, а шапка в руках ходенем-ходит. Ежели откуда едет или куда поехал наш барин, — на церкви звонят во все колокола. Раз не понравился ему звон, велел звонаря сбросить с колокольни… И ничего — сошло. А уж кому всех больше доставалось от него — так это нашему брату — бабе. Больно был охотник до женского полу. Ежели увидал на улице смазливую — пиши кончено. Будь она девушка молодая или мужняя жена — все ему было равно: достанет и начнет пакости делать. И баб этих, и девок у него полон дом всегда находился. И по ночам каждый раз бабий рев слышался.
Вот в такие-то времена и жили мы с Иванушкой. Мужик он был у меня смиренный и работящий и самому Федору Иванычу был по нраву. Был он у меня хорош по слесарной части, и чуть, бывало, у самого Федора Иваныча в доме поломается — сейчас бегут за Иваном. А жили мы с ним душа в душу. И только, бывало, наказывает мне: ты, Василиса, пуще всего берегися барина, на глаза ему не попадайся на улице… А детей с ним у нас была одна только дочка Машенька… Охо-хо-хо…
Тетушка вдруг замолчала и понурила голову. Но потом оправилась и опять заговорила;
— Вот с этой-то моей Машеньки и горе началось… Было ей уже пятнадцать годов и была, кормилец ты мой, как птичка поднебесная: целый день, бывало, что-нибудь напевает. Какая-то у меня она вышла, точно не мужицкого роду: тоненькая, беленькая, чистенькая… И была она работящая да кроткая… Берегли мы ее пуще глазу своего. Никуда не выпускали, а вот и выйди тут горе…
Раз надела моя Машенька белое платьице да и вышла в праздничный день за ворота, хоть одним глазком взглянуть на улицу. Села она на завалинку и сидит себе попевает, И вдруг, откуда ни возьмись из-за угла тройка лошадей, и выкатил сам Федор Иванович. Сравнялся с нашим домом и кричит зычным голосом: «Стой!» Лошади остановились, а он смотрит на Машеньку и смеется… Смотрит и смеется… А у Машеньки в глазах помутилось и с места двинуться не может… А Федор Иванович и кричит: «А поди-ка сюда, красавица!» Вскочила с места Машенька, бежит в избу и кричит: «Мама! Мама!» Я выбежала к ней, а она только на улицу рукой указывает да трясется, как листик осиновый. Я на улицу выбежала, лошади все еще стоят на одном месте, и Федор Иванович все посмеивается. Я взглянула, да и бегу назад, а кучер гикнул, свистнул, и Федор Иванович укатил дальше.
Вечером пришел с работы Иванушка и такой сердитый да сумрачный, «Что, говорит, вы теперь наделали? Призывал меня, говорит, к себе Федор Иванович и приказал привести Машеньку… Мне, говорит, нужна девушка горничная, а я, говорит, и не знал, Иван, что у тебя дочка такая красавица. Приведи, говорит, сейчас же, а если, говорит, не исполнишь, то знаешь… И зубами скрипнул».
Ох, как помню я эту ноченьку… Только мы сели ужинать — вдруг в избу четыре мужика… «Мы, говорят, за тобой, Иван… Драть тебя, говорят, велено…» А сами смотрят в пол и шапки в руках мнут… Встал Иванушко из-за стола, побелел, как скатерть, начал искать шапку. Я к нему бросилась, а он отвел меня рукой и говорит: «Не мешайся, жена… Пусть дерут, только бы Машенька…» Не договорил, хлопнул дверью и пошел с мужиками. Только что ушел, вдруг бросилась ко мне Машенька. Глаза как у полоумной, вся дрожит… «Мама, говорит, я пойду… Не дам, говорит, драть отца…» Я остолбенела. А она накинула на себя платочек и все в том же беленьком платьице и выскочила на двор. Я было за ней бросилась, да вдруг упала и осталась на месте…
Пролежала я, говорят, три недельки, а я ничего не помню. А как очнулась — гляжу кругом: на лавке сидит Иванушко и держит голову книзу. Поманила его рукой, говорить не могу. Он смотрит на меня и плачет… А где, мол, Машенька?.. Он махнул рукой и говорит: «У него…» И после этого я опять была как во сне…
Неделю спустя начала поправляться, а в доме у нас как будто покойник: тоскливо и сиротливо. Как-то раз ложимся спать, вдруг стук в окно… Я вскочила — и к окну… А там стоит моя Машенька и шепчет: «Мама, мама!» Побежала я, отворила дверь и пустила ее в избу. А она, как пришла, слегла и через недельку душу богу отдала… А за ней, немного сгодя, и Иванушко помер… Вот и осталась я одна.
Тетушка Василиса замолчала и старается смотреть куда-то в сторону, но я отлично вижу, как сквозь ее старые очки что-то сверкнуло и покатилось по щеке… У меня на душе сразу потемнело, и весь этот нежный и страстный колорит чудного вечера вдруг потерял свое обаяние. А впрочем, что за дело природе до того, что у человека на душе? А все же в эту душу просится мысль: отчего так прекрасно это небо, отчего так чист и прозрачен воздух и зачем молчит этот благоуханный лес, когда на свете пронеслось это горе, прошумело, как крупные капли дождя, и опять все своим чередом идет: опять жизнь и горе, опять солнце и опять это безмятежное небо… А если бы все это говорило человеческим языком? Что бы рассказала мне эта старая береза, под которой я лежу, и что бы нашептал мне этот тихий ветер, от которого чуть дрогнули истомленные зноем листья?..
Сумерки надвигаются и, как флером, окутывают землю… За ними плывут образы прошлого, глубоко загадочные и безмолвные, как кресты на старых могилах… И мне чудится, что вот сейчас, в этих душистых сумерках, белеет измученное девичье лицо и слышится тихий, мучительный шепот:
— Мама, мама!
1897
ПРИМЕЧАНИЯ
Печатается по тексту публикации в газете «Урал», 1897, No№ 135 и 136, 21 и 22 июня.
Руда
Всю жизнь как-то не везло рабочему Ивану Соколову. Когда он женился после смерти отца и матери, то вышло так, что жена его на свете прожила недолго. Женщина была высокая, худая и часто кашляла. Иван любил ее и пробовал лечить всячески. Звал старух-знахарок, поил жену разными снадобьями и сам, собственными руками, втирал ей в грудь и спину какое-нибудь лекарство. Раз даже попробовал пригласить доктора, когда тот приехал из соседнего завода к управителю. Прикатил доктор, мрачный, тяжелый человек, страдавший сильной одышкой. Не снимая пальто, он постучал пальцами в грудь больной и приложил ухо. Лицо у него сделалось багровым, и он прохрипел:
— Баста!.. Скоро карачун…
Сказал и уехал. А больная долго сидела после этого, бледная, как мел, и молчаливая. Ивану было страшно жаль жену, и он старался успокоить ее:
— Ты думаешь, это он правильно? Это ему скоро карачун, язвило бы его!.. Слышала, небось, как дышет, холера. Это они только управителя да его жену как следует лечат… Потому день и ночь жрут там, да вино разное пьют…
Так или иначе, а жена у Ивана чахла, как подснежник, охваченный внезапной стужей. Весной, когда снег бежал с гор, когда звонко перекликались тревожные ручьи и мучительно хотелось жить, — она слегла в постель и умерла. Пришли соседки, обмыли ее, а Иван, угрюмый, как ночь, целый день пилил и стругал на дворе — делал крест и гроб. Потом понесли ее и похоронили в том месте у пруда, где стояли высокие сосны. И день тогда выдался славный… Бежала торжествующая жизнь в потоках солнца, пели птицы, в вершине пруда кричали с прилета лебеди и стояли стройные сосны, душистые, высокие и молчаливые. И точно берегли они людей, лежавших под белыми крестами…
С год после этого Иван Соколов прожил один. Поддержать его было некому, и начал он часто выпивать. Работу на заводе забросил, завел какую-то тяжбу об избе, и кончилось тем, что из избы Ивана выселили. Купил себе, с грехом пополам, Иван старую баню, переделал ее на жилье и начал жить бобылем. И чувствовал мужик, что окончательно сбился…
Выручил случай.
Как-то весной, в числе других рабочих, Иван нагружал железо на барки, которые готовились уплыть по вздувшейся реке. Народу работало много, были женщины и девицы. В воздухе пахло уральской весной, сдержанной и неяркой, но могучей в своей накопившейся страсти… Пруд очистился, горы обнажились от снега, и солнце смеялось с неба, точно оно впервые увидало людей. На пристани, где нагружали барки, кипела жизнь. Звенело железо, нестройный гам несся в смолистом воздухе, фабрики дышали грузно и хрипло, а на реке, как белые молодые птицы, выстроились к отходу барки.
Во время работы Соколов познакомился с Дарьей — высокой, некрасивой и рябой женщиной. Несмотря на эту неказистость, лицо у Дарьи дышало энергией, взгляд был смелый и прямой, а работала она на пристани за мужика. К ней не приставали с прибаутками и шуточками, как к другим, и, видимо, побаивались ее сурового взгляда.
Иван разговорился с ней и узнал, что она вдова. Это навело его на некоторые размышления. Он начал часто задумываться, скреб в затылке и часто посматривал в сторону бабы. Однажды, когда Дарья стояла в ожидании очереди за расчетом, Иван подошел к ней и поздоровался. Лицо его казалось смущенным, и он нервно потеребливал свою козлиную бородку.
— К расчету? — спросил он.
— Да…
— Куда теперь думаете?
— Да хочу на Громатуху… Говорят, дрова сплавляют… Работа хорошая… Думаю туда…
Иван усиленно тянул себя за бороду и смотрел в землю. Рука его заметно дрожала. Проклятая робость, точно паук, захватила его и сжала в своих лапах. И ему пришло в голову, что он круглый дурак: надо бы выпить… Тогда бы он сразу перескочил через все…
Потоптавшись немного на месте, он вдруг сказал сдавленным голосом:
— А что, Дарья Митревна… Отойдем немного в сторону…
Слегка удивленная, Дарья подумала и согласилась. Оба отошли от людей, и здесь Иван, вытаращив на нее свои добрые глаза, корчась и замирая, изложил суть своего решения. И нес он страшную околесицу…
— Конечно… Чего, мол, тут… Баба, мол, ровно ладно… До бани добился… В бане живу… Телка была хорошая… Куриц покойница держала… Лошадь промотал… Тьфу, язвило бы меня!..
В конце концов Дарья его поняла. Подумала и ответила, что через три дня даст ответ. И кончилось тем, что Дарья вышла за Ивана Соколова.
В первый же год после этого события дела у Ивана стали поправляться. Дарья оказалась хорошей и дельной хозяйкой. Мужу насчет выпивки спуску не давала, завела птицу, огород и подумывала о корове. Лошадь еще казалась отдаленной мечтой, но Дарья, видимо, рассчитывала и на это. Каждый грош Ивана, каждый его заработок подвергался самому тщательному учету. Иван иногда с грустью подумывал, что блаженные времена «шкаликов» а «стаканчиков» прошли, но, в общем, сердце у него радовалось. Как слабохарактерный человек, он нуждался в сильной и твердой руке.
К лету Дарья заставила Ивана взять в конторе билет на покос. Отвели им место верст за семь от завода. Дарья сама целые дни торчала здесь и выворачивала пни да колодник, чтобы очистить место. Иван устроил земляной балаган у маленького ручья, который только весной, забившись в черемуховые кусты, трепетал тоненькой поющей нитью. Летом же он пересыхал.
Во время самой страды, между делом, Иван вздумал на покосе вырыть колодец. Выбрал низкое место и начал рыть. Когда он вырыл яму аршина в два, то натолкнулся на камни, которые и начал было выворачивать ломом. Однако камней оказался целый пласт, и Иван решил бросить это место. Пришла посмотреть Дарья, спустилась вниз, подняла один камень, осмотрела и промолвила:
— Да ведь это руда…
Взял Иван камень, осмотрел, поскреб ножиком и согласился, что это, действительно, руда. А Дарья, слегка побледневшая, смотрела куда-то вдаль затуманенным взглядом. Иван глядел на жену и ждал.
— Надо заявку сделать в конторе… — вдруг быстро сказала Дарья.
Иван потоптался на месте и откликнулся, как эхо:
— Надо…
— Может, дадут чего… Тогда бы можно и лошадь… — соображала Дарья.
— Можно бы и лошадь…
Дарья отобрала несколько камней и положила их в мешок. Колодезь решили вырыть в другом месте.
На другой день Дарья отправила мужа в контору показать руду. Провожая Ивана, она снабдила его некоторой инструкцией.
— Ты с ними много-то не разговаривай… Они ведь жулье все… На лошадь, мол, дадите, так покажу место… Слышишь?
— Слышу…
Пришел Иван в контору и спросил смотрителя рудников Худышкина. Тот оказался в конторе и, увидав Ивана, вдруг прыснул со смеха…
— А… Соколов… Ха-ха-ха… Взял другую бабу, так и глаз не кажешь… Го-го-го… Ну, что?
Веселый вид смотрителя ободрил Ивана. Впрочем, Худышкин и так считался самым смешливым человеком на заводе. Маленький, кругленький, розовый, он ежеминутно прыскал. Бывало, какой-нибудь мрачный конторский счетовод, страдавший от вчерашней выпивки, вдруг бросит в сторону перо и скажет соседу:
— Ваня…
— Что?
— Сходи к Худышкину…
— Зачем?
— Покажи ему палец…
— Для чего это?
— А заржет непременно…
И счетоводы, в свою очередь, хохочут. Маленький эпизод этот точно рассевает облака табачного дыма и гонит на минуту усталость.
Ободренный Иван вытащил куски руды и подал смотрителю.
— Это что?
— Руду нашел.
— Где?
— Пока не скажу… Дарья не велела…
Смотритель покатился со смеху.
— Баба не велела? Ха-ха-ха… Вот это я понимаю!.. Слышите, Петр Иваныч? Ему баба не велела!.. Гы-гы-гы… Вот оно, что значит баба…
Он вдруг сделал серьезное лицо и сказал Ивану:
— Ну-с, милый человек… Я поговорю с управляющим… А потом мы отправим руду в лабораторию… Сделаем анализ… Понял?
— Понял…
— Через недельку приходи… Я скажу тебе окончательно. А теперь ступай и скажи своей Дарье, что, мол, так и так, все трефи козыри… Го-го-го! Баба, говорит, не велела!..
Иван ушел и рассказал все Дарье. Та сначала выразила некоторое сомнение в намерениях Худышкина, но потом успокоилась. Решили подождать…
Через неделю Иван опять стоял перед Худышкиным. Тот на этот раз не смеялся и казался озабоченным.
— Ну, Соколов, руда, видимо, ладная… Железа 56 процентов… Теперь, брат, вот условие: ты должен поехать со мной и показать место… Иначе я ничего не могу…
Иван почесал в затылке.
— Что? Опять нельзя без бабы? Гы-гы.
— Да, надо бы спросить…
— Ступай, спроси…
Дарья разрешила ехать Ивану. В один прекрасный день поехали смотритель, Иван, молодой техник с инструментами и несколько человек рабочих. Измеряли, рыли, осматривали место двое суток. В конце концов смотритель Худышкин положительно сиял: в земле лежало нетронутое богатство.
Когда закончили совсем работу, Худышкин с техником выпили. Угостили рабочих и Ивана. Лежа на траве и закусывая икрой, Худышкин ежеминутно ржал, рассказывал скабрезные анекдоты и под конец окончательно развеселился.
— Ну, Соколов… Руды, брат, хоть отбавляй… Гы-гы… Ну-с… а сколько ты с нас возьмешь за эту находку?
— Не знаю…
— Опять, видно, у Дарьи спрашивать… Го-го…
— Придется…
— Смотри, дорого не бери.
Худышкин наклонился к уху техника и прошептал:
— Тысячу рублей ассигновано за подобную заявку… Положительно выработали все рудники… Еще год — и мы без руды… Но эта штука нас воскресила… Главное, близко!
Через день после этого Иван стоял в кабинете управляющего, где находился и Худышкин, стоящий в почтительной позе. Управляющий, бледный и худощавый инженер, с холодным выражением на лице, читал доклад Худышкина относительно заявленной руды. Окончив читать, он откинулся на спинку кресла, прищурил глаза и спросил Соколова:
— Сколько желаете получить за заявку?
Иван затоптался. Его смущал холодный взгляд инженера. Подергивая бородку, он испытывал такое же чувство, как было при сватаньи Дарьи. И опять он начал отдаленно:
— Оно, конечно… Сами знаете, ваше благородие… Конечно, как вы по совести… Вот тоже лошади нет… Кобыла была хорошая… Каряя кобыла… Добился… до бани добился!..
Инженер молчал, и его холодные глаза смотрели на Ивана так же безразлично, как на кусок руды. Круглые изящные часы мелодично ударили полчаса. У Худышкина спирало в животе от хохота, но он сдерживался…
— Ну-с, так сколько?..
— Не знаю…
— Пятьдесят рублей будет?
Иван вздрогнул от радости. Дарья наказывала просить не меньше двадцати пяти рублей. А тут…
— Покорнейше благодарим…
Управляющий взял листок бумаги, написал несколько строк и, подавая Ивану бумажку, произнес:
— Ступайте в бухгалтерию… Там выдадут.
Иван отвесил поклон и вышел из кабинета. Сердце его стучало от радости. Все выходило так, как велела Дарья.
А управляющий посмотрел на Худышкина, усмехнулся и произнес, слегка покосившись вслед Ивану:
— Ду-р-р-р-ак!
1906
ПРИМЕЧАНИЯ
Печатается по тексту первой публикации в журнале «Русское богатство», 1906, № 6.
Как они сговорились
Крестьянин Спиридон Белкин три года уже живет в городе в качестве водовоза. Ремеслом этим он занимается не от себя лично, а от мещанина Кириллова, который несколько лет подряд доставляет воду обывателям и находит, что они должны быть ему «по гроб благодарны», так как вода всегда доставлялась всем исправно и вовремя.
— У меня, брат, дело поставлено… Хоть на себя лей… И в баню бери и в комнаты… Это, сделай милость, всегда во-время… И работники у меня народ подходящий… Все молодцы!..
Если кто-нибудь ему осторожно напоминал, что бочки у него гнилые и что нужно их переменить, — тогда мещанин Кириллов краснел, как рак, вплоть до самой шеи и говорил:
— Понимаете вы, с позволения сказать, столько же, сколько черт в ладане!.. От новой бочки вода всегда пахнет… Нда-с… И чаю вы никогда не попьете как следует… Мы, слава те господи, самой игуменье воду доставляем, да хоть бы что когда… Новую бочку захотел… Чудаки!
Вот у этого Кириллова и служил в работниках крестьянин Белкин три года. Был он человек высокий, сильный и кривой. Говорил крайне мало, беспрестанно сосал трубку и, когда ему давали на чай, он угрюмо дотрагивался до шапки и бурчал:
— Благодарим…
Мещанин Кириллов дорожил им. Раз, под веселую руку, когда у него сидели гости, он сказал:
— Спиридон у меня золото… Работник хоть куда. А главная причина, друг мой, в том, что он молчит… Ты его хоть заругай до смерти, хоть дай ему в рожу — ухом не ведет… Курит и молчит. Другой ведь супротивник, дьявол! Ты ему раз — он тебе два, ты ему слово — он тебе десять! А от этого и раздражение можно получить и здоровью вред нанести. Этак я от одного работника чуть в гроб не ушел, чуть паралич меня не хватил… Нда-с… Ну-ка, Спиридон Карпыч, выпей рюмочку.
Спиридон молча взял рюмку, выпил и пробурчал:
— Благодарим… А в рожу все-таки не дамся, хозяин…
Мещанин Кириллов удивился:
— Как это так?
— А так… Времена ныне не те стали… Сам тяпну — только держись.
Мещанин Кириллов понурил голову, долго молчал и, наконец, проговорил:
— И этот где-то испортился… Ловко ответил, да еще при гостях хватил… Хорошо вот гости-то свои люди: а то бы сконфузил… Ну, времечко пришло!
Обыкновенно Спиридон вставал рано, чуть свет запрягал старого, изъезженного мерина и выезжал на целый день. Возвращался вечером усталый, угрюмый и молчаливый. Поест — и тотчас же ляжет спать. Утром рано опять запрягает мерина. Так шла жизнь.
Однажды ему пришлось возить воду в новое место. Воды сюда требовалось для чего-то много, мещанину Кириллову платили вдвое, и Спиридон обыкновенно ездил сюда с водой два раза в день.
Воду из бочки вытаскивала девица, на которую Спиридон невольно почему-то обратил внимание. Ей было лет тридцать пять, она была здорова, широка в плечах и красива. Вытаскивая раз воду из бочки, она спросила вскользь Спиридона:
— Из какой деревни будете?
— Из Зубровки…
Она остановилась и покраснела.
— Земляк, стало быть, будете…
— А вы откуда? — спросил Спиридон.
— Из Коневой… Рядом с Зубровкой… Всего три версты…
Лицо у Спиридона просветлело. Он усиленно затянулся из трубки и спросил:
— Давно в городе живете?
— Три года…
— А как вас зовут?
— Василисой…
— А по батюшке?
— Ивановной…
Помолчали.
— Тоска иной раз бывает… — заговорила Василиса, глядя в ведро. — Не знаю, как вас, а меня так домой тянет… По веснам как-то больше…
Она посмотрела на крыши, где свистели скворцы, и добавила:
— У нас теперь, наверное, река пошла…
Спиридон улыбнулся.
— Чего говорить… Здесь вот, в городе, и весна совсем не такая… Гниль какая-то… Эх, как она у нас теперь играет!..
— У вас, что же, родные есть? — спросила Василиса.
— Один… Как есть бобыль!.. А у вас как?
— Я тоже одна… Никого у меня нет… Ну, до свиданья!..
— До свидания!..
После этого случая Спиридон с особенным удовольствием завертывал с водой в новое место. На дворе он старался быть дольше, и Василиса заметно не торопилась таскать воду на кухню. Земляк, видимо, ей нравился, несмотря на его угрюмый и неказистый вид. Они подолгу говорили о своих деревнях, и Василиса откровенно заявила, что ее страшно тянет домой, но только не находится подходящего «попутчика».
В середине мая, когда весна была в полном разгаре, когда особенно тянуло куда-то на волю, Спиридон однажды сказал Василисе, что сегодня он воду привез в последний раз и что он идет…
— Куда же это вы?
— А куда-нибудь… Может, и лучше найдем место… Возишь, возишь воду у этого дьявола!.. Все здоровье измызгал… А он только ругается. И я дурак: ведь плотничье ремесло знаю… Привязался к этому дьяволу!.. Нет, уйду… Кончено!..
Василиса вдруг начала тяжело дышать. Спиридон, заметно, тоже сильно волновался, отчаянно курил и старался не глядеть на Василису.
— Так как же это, Спиридон Карпыч? Идете?
— Иду…
Василиса вздохнула.
— Ну, что ж… С богом… Видно, я только…
Она не договорила и вдруг заплакала.
— Тоже целый день маешься… С утра до вечера… Это подай, то неладно… Три года маюсь тоже… Сама-то целые дни на кровати лежит… Кроме дуры, никакого названия не имею… Кабы попутчик!..
— Так вы что, Василиса Ивановна! Идем вместе…
— У меня никого нет…
— И у меня нет… А если… того… к примеру… да в церковь: сразу двое и будет… Оно, конечно, и у меня никого нет… Вот тогда сразу двое и будет… Вот и родня будет…
Василиса вспыхнула.
— Я ведь уж не молодая, Спиридон Карпыч…
— Гм… И я ладно… Вот глазу одного нет… Это ничего… Так идем, Василиса Ивановна?
— Что же… Хорошо… Не брезгуете, так я согласна…
Дня через три после этого, в яркое утро, Спиридон и Василиса шагали за городом с котомками за плечами. Солнце заливало молодые листья деревьев золотым потоком, звонко чирикали птицы, и людские голоса на дороге сливались с звучным грохотом колес. Версты за четыре от города начиналась степь, длинная и пахучая, влажная, с могучим и вольным ветром. Потонувшая в цветах и птичьих песнях, она звала к себе безграничным простором и блеском, гордой жизнью и волей… И хотелось жить, хотелось бороться с кем-то и бодро шагать вперед — к лучезарной и влажной степи…
В одном месте Спиридон не вытерпел. Остановился, дохнул трубкой и звучно ударил Василису по плечу. И крикнул ей оглушительно и весело в самое ухо:
— Отделались! На свои харчи идем!
И оба радостно захохотали…
1906
ПРИМЕЧАНИЯ
Печатается по тексту публикации в журнале «Рубин», 1906, № 1.
Как он запел
Кочегар Онисим Петров сидел за столом и, склонив низко лохматую голову, тоскливо слушал, как за грязными и оборванными ширмами стонала его жена. Баба третью неделю валяется в постели, губы у ней потрескались, а глаза засели далеко, точно их туда вдавили силой. Временами она говорит про себя, и — странная вещь — весь ее разговор, все ее тяжелые мысли сводятся к одному предмету — к семье. Тихо и жалобно просит она кого-то затопить печь, посмотреть за коровой и сходить на фабрику — унести Онисиму обед. Положив на тощую грудь худую, желтую руку, на пальцах которой от работы выело ногти, Анна шептала про себя молитвы, вздыхала и крестилась правой рукой. И Онисим Петров чувствовал, что кто-то, сумеречный и строгий, забирается в самую его душу и говорит глухо:
— Отчего ты ее не лечишь?
Не лечишь? Странная штука! Разве он получает сотни рублей, чтобы каждый день звать доктора, который и так был два раза? Но что сделал доктор, этот жирный барин, который для какого-то дьявола вывесил на своих дверях, что он «бедных принимает бесплатно»? Разве Онисим когда-нибудь забудет эту кислую рожу в золотых очках?..
Между тем болезнь Анны — не шутка. В избе стало как-то мрачно и бездомно, дети, как призраки, бродят без смеха, вечно голодные. Их двое, и старшему минуло восемь лет. Что он может сделать? Правда, в избу забегает по утрам (дай бог здоровья!) соседка Марья. Затопит печь, поставит кой-какое варево, иногда накормит детей, но все это не то, не то, не то! Жизнь как-то сразу осеклась, точно ее подкосила горячка. Когда, на днях еще, Онисим громоздил и ворочал адский огонь в фабричной печи, — ему все казалось, что Анна, быть может, уже не дышит, что она умерла и перестала шептать бессвязные слова в горячей постели… И он не выдержал. Отказался от работы и пятый день сидит дома. Конечно, заработка нет, но ведь не вечно же это будет. Поправится Анна — тогда опять за дело…
Больная за ширмами тихо застонала. Онисим на цыпочках, стараясь не греметь большими сапогами, заглянул туда. Жена, видимо, узнала его. Слабая тень улыбки пробежала по ее лицу. Губы Анны зашевелились, и Онисим наклонился к ней.
— Пить…
Осторожно приподняв голову больной, Онисим напоил ее. Какая она сделалась легонькая! Лопатки на спине выдвинулись и торчат, как две деревянные доски… В волосах много седины, а разве можно назвать человека стариком в тридцать лет?.. И Онисим опять почувствовал, что тоска залезает ему в душу и прежний проклятый голос язвительно говорит:
— Отчего ты ее не лечишь?
Он тихо пошел от Анны. Она закрыла глаза и, видимо, уснула. Онисим постлал детям постели, покормил их, уложил, а сам долго сидел у окна. На улице брызгала слезами осень, ставень скрипел жалобно и тоскливо. Онисим почему-то вспомнил фабрику. Там теперь все дышит огнем и железом. Бегают, как в урагане, сотни людей, кричат охрипшими глотками, градом льется пот по грязным телам. Адской силой дышут машины, блестят и вьются их стальные мускулы и давят железо… Боже мой! Вся жизнь его, молодая и здоровая, прошла в огне и пожаре, около чудовища, которое вечно было голодно и вечно пожирало топливо… Ему нет еще и сорока лет, а разве он не развалина? Руки на вид громадны и черны, как уголь, но в них нет упругой, молодой силы, и они бесчувственны, как камень: прижми к ним горячий уголь — и ничего! А лицо? Красное, но это не здоровый румянец. Просто оно испечено, как яблоко. Тело по ночам ноет и ломит, а глаза почти совсем не видят… Жизнь как-то испеклась и скорчилась берестой на огне. Впереди — ничего! Вот скоро выйдут деньги, и тогда капут, если Анна не поправится…
Он вздохнул, еще раз заглянул за ширмы, погасил огонь и лег рядом с ребятами. В избе сделалось тихо. И слышно было только, как за окном, в мертвом и неподвижном мраке, плакала и брызгала слезами бездомная осень…
Как-то вскоре к Онисиму зашел его приятель по фабрике, слесарь Ежов. Он был, видимо, навеселе. Пришел, крякнул и поздоровался. Была у него одна особенность — страсть говорить в рифму.
— Ну, как живешь, душа моя? — загудел Герасим. — Говорят, жена у тебя хворает? Дело от этого страдает?
— Да, больна… Ну, садись, рассказывай, чего там у вас на фабрике…
— Фабрика, брат, загуляла, работать перестала…
— Как так?
— А так… Будет уж господам владельцам карманы набивать, нашего брата прижимать…
И Герасим уже серьезным тоном начал рассказывать Онисиму, что все цехи неделю бастуют. Управляющий сносится телеграфом с хозяевами, но пока толку мало. Рабочие устраивают собрания, обсуждают свои требования совместно с начальством. Два цеха — катальный и доменный — удовлетворены отчасти: заработок увеличили на треть. Теперь вопрос о других цехах. Слесарный, кроме того, требует смены учетчика Брена, потому что человек этот — известная скотина. Вообще без шуму не обойдется, должно быть. Вчера солдаты прикатили…
— Солдаты? Зачем?
— Черт их знает!.. Должно быть, пугнуть хотят… Хотя мы все мирно… Положим, на одном собрании Ванька Еремин назвал управляющего в лицо скотиной, так ведь его сейчас же и вытащили товарищи…
— Значит… может, и прибавят…
— Обязательно!.. Добьемся!.. Эти, брат, господа владельцы… свиньи порядочные… Ну, прощай!.. Коли что случится, навещу — и все обязательно сообщу…
И Герасим ушел, пыхтя трубкой.
Онисим пошел за ширмы и сообщил жене о забастовке фабрик. Анне, видимо, было легче. Глаза у нее глядели веселее и сознательнее. Она внимательно выслушала мужа и тихо проговорила:
— Дай бог им… здоровья. Пусть добиваются… Жить ныне трудно на гроши…
Дня через три после этого вдруг стремительно ворвался в избу Ежов и крикнул Онисиму:
— Живо одевайся!
— Куда?
— Не разговаривай! Демонстрацию сочиняем!.. Идем!..
Онисим быстро оделся и выскочил за Ежовым на улицу. Его поразило странное зрелище.
По широкой улице, в бледном свете осеннего дня, двигалась громадная толпа людей. Не слышно было ни крика, ни шума, и только мерные шаги тысяч людей отдавались в сумрачном воздухе гулким, порывистым стуком. Далеко впереди тянулась толпа, и казалось, что люди справляют какой-то небывалый праздник…
— Куда? — спросил Ониоим.
— Молчи! — отрезал Герасим. — Пойдем!
И Онисим двинулся рядом с Герасимом.
Сначала он испытывал некоторое беспокойство. Но чем дальше шел, тем больше и больше сознавал, что шаги его становятся тверже, сердце бьется сильней, и горячая отвага, никогда еще не испытанная, вдруг потекла по жилам. Высоко подняв кверху свое испеченное лицо, он думал, что эти сотни людей — рабочие, что жизнь их сурова и печальна, и всех их загрызла нужда… Прибавка нужна, — иначе они подохнут… Он это чувствовал раньше, но не смел думать об этом один. А теперь он первый готов швырнуть всем горькую правду в лицо. Все в нем перегорело: руки, лицо, суставы и самая душа перегорела. Что он видел в жизни, кроме железного рычага и адского блеска в печи, где лопается и трескается сталь? Что он видел, кроме пота, грязи, вони, что он слышал, кроме звона, грохота, которыми можно разбудить мертвого? Га! Теперь им можно сказать кой-что: пусть послушают… Подожди, Анна, — прибавка будет, и тогда заживем… Заживем, Анна!
Вдруг в толпе выделился звучный мужской голос. Он поднялся, понесся вширь — и запел. Тысячи мужских и женских голосов сразу подхватили, и понеслась, как гудящая волна весны, широкая песня. Боже ты мой! Как они поют, и какой мороз бежит по спине Онисима!.. Что это? Молитва или песня? Эх, Анна!.. Как жаль, что хвораешь: вот бы послушала… Отчего так захватило сердце и отчего так сжимаются руки? И Онисим раскрыл рот и запел, запел хриплым, простуженным басом, не зная слов и приноравливаясь к мотиву. И когда он взглянул на Герасима, идущего рядом, то увидал, что тот тоже разинул рот и поет. И вновь Онисим подумал:
«Эх, Анна… Послушала бы ты…»
Вдруг люди остановились, и сразу — как-то сразу это вышло — наступила страшная тишина. Где-то далеко-далеко впереди жалобно и звонко запел рожок. Еще раз. Потом что-то грохнуло и оборвалось. И опять треск…
Онисим почувствовал, что в его широкую грудь что-то впилось и выскочило сзади. Он хотел заметить об этом Герасиму, но тот, к удивлению его, лежал на спине и смотрел в небо каким-то остывающим и вопрошающим взглядом. Тогда Онисим догадался, что это стреляют солдаты. Он хотел бежать домой и сказать об этом Анне, но в горле у него вдруг зашипело и захлюпало, как мокрая тряпка. Страшная слабость овладела им. Кто-то опять рядом упал. Дикие крики, вой… Господи! Если бы только сказать Анне, что это ничего, что он дойдет… А то она… реветь начнет…
Онисим встал на колени и прошептал, сплевывая густую кровь:
— Экая… оказия… в людей… стреляют…
Он вдруг повалился на бок и замолчал.
1906
ПРИМЕЧАНИЯ
Печатается по тексту первой публикации в журнале «Русское богатство», 1906, № 6.
Ибрагим
…Родился он в зимнюю полночь, когда степная пурга, как пьяная, плясала по сугробам, взметывала снежные курганы, выла в сухих камышах — вместе с голодным волком — и плакала, как ребенок, над жалкой башкирской деревней… О, какая это была дикая и злая метель. Может быть, она примчалась в эту длинную ночь с мохнатого и нелюдимого Урала, быть может, ее создали в степи невидимые, жестокие боги… Никто не знал об этом, но она сразу охватила и сжала степь, закутала ее в белый саван и сама, с визгом и плачем, закружилась… Из снежных таинственных тканей она лепила в воздухе загадочные и странные тени. Вот кто-то, высокий и белый, как мрамор, вдруг поднимался из хаоса снежных образов и бежал-бежал вперед, страстно протянув дрожащие, ледяные руки… Или шла тихо по мерзлым пашням белая, чистая девушка, вся закутанная, как грезой, дымкой из волнистых снежинок… А то кто-то, уродливый и огромный, круглый, как мяч, прыгал тяжело по сугробам, мял сухой бурьян и с сердитым воем пропадал в перелеске, согнув в дугу, мимоходом, стройную печальную березу… Много было здесь непонятных образов, созданных дикой и гордой метелью, много рождалось звуков, то гулких, как выстрелы, то жалобных и звенящих, как порванные струны…
Избу башкира Закира Галеева потрясало от ветра, когда жена его, Итбика, спавшая в углу на нарах, вдруг завозилась и протяжно застонала. Потом она закусила губы от боли, и опять раздался в избе глухой и протяжный стон. Недалеко, на нарах, храпел Галеев, и Итбике сначала не хотелось будить мужа. Но вот снова что-то рвануло у ней внутри, и Итбика не выдержала.
— Закир!.. — позвала она.
В окно заглянула пурга, четко и бегло прошуршала она по стеклу мерзлыми когтями и взгремела в чувале[1]… Итбика сделала страшное усилие, села на нарах и громко позвала опять:
— Закир!
Спящий зашевелился и пробормотал:
— Что тебе?
— Ой, худо мне, Закир…
Итбика вдруг заплакала… Закир быстро вскочил с постели, разыскал спички и зажег дрожащими руками маленькую жестяную лампу. Огонь вспыхнул, и свет, бледный, точно озябший, пробежал по углам… В избе было холодно, в чувале давно все остыло, и ветер, врываясь в трубу, поднимал временами в чувале легкое облако золы. Итбика сидела в углу на нарах и корчилась от боли.
— Ой, Закир…
Слегка побледневший, Закир понял, наконец, в чем дело, и беспомощно развел руками. Итбика собиралась родить, роды предстояли первые, и перепуганный Закир не знал, что делать. До крови прикусив губы, Итбика хрипло произнесла:
— Айда за Фатимой. Айда скорей… Ой-о-о, аллах…
Закир сорвался с места, как заяц, схватил на бегу шапку и в одной рубахе выскочил на улицу.
С громким, торжествующим воем обняла его пьяная пурга, но Закир, низко нахлобучив шапку, почти одним прыжком перекинулся на другую сторону улицы и громко постучал в окно у избы, где жила старуха Фатима. Минут через пять он уже возвращался с Фатимой, и это время показалось Итбике огромным, как вечность… Она была бледна, точно стена, и губы ее, дрожащие и искусанные, на белом фоне лица казались черными от крови…
Старая и бесстрастная, как судьба, Фатима взглянула равнодушно на Итбику и коротко приказала Закиру затопить чувал. Скоро огонь вспыхнул, и в избе стало ярко и тепло. Итбика попрежнему стонала, корчилась и со страхом смотрела на Фатиму огромными, неподвижными глазами, в которых сверкали крупные слезы. Наконец, старуха произнесла сурово:
— Не кричи. Скоро будет…
Она приготовила воды и вытащила из грязного платка какие-то инструменты. Закиру она опять отрывисто приказала выйти из избы, и он, одевшись, покорно вышел на двор. Там ветер сбрасывал гнилую солому с крыши, и на сердце у Закира закипала тоска. Прислонившись к стене, он стоял и чутко прислушивался. Он любил свою молодую Итбику, и страдания ее резали его по сердцу.
Долго так стоял неподвижно. Гулкие голоса метели кричали над деревней, и казалось, что жизнь вымерла совсем в бедных избах… Ночь тянулась долго-долго, как ночь приговоренного к смерти. Закиру было холодно и жутко…
Внезапно в избе раздался пронзительный вопль, и сразу все смолкло. Ужас сковал все существо Закира, и он начал читать про себя молитвы, какие знал. Что, если умрет Итбика? Что будет с ним? Когда он на ней женился, то дал себе мысленно клятву никогда не брать вторую жену. За Итбику он, положим, заплатил крупный калым[2] — двух лошадей и жирного быка… Все хозяйство тогда у Закира треснуло по швам, но он не жалел об этом. Жена попала и красивая и работящая. Вечно она хлопотала по хозяйству, сама рубила дрова, была весела и здорова. Сам Закир больше лежал на нарах, пил много чаю и наедался доотвала баранины, если она случалась. Умрет Итбика — он погибнет…
Дверь избы вдруг отворилась, показалась на секунду голова Фатимы, и раздался ее голос:
— Киль[3], Закир.
У Закира в сердце что-то точно ударило. Он почесал затылок и нерешительно двинулся в избу. И ярко резнул вопрос:
«А что если… Итбика умерла?»
Он вошел в избу, впустив за собой крылатое, морозное облако. Итбика лежала в углу неподвижно, с закрытыми глазами. Фатима подбрасывала в чувал дрова, и попрежнему лицо ее казалось бесстрастным. Она бегло взглянула на Закира, и что-то похожее на улыбку пробежало в глубоких и желтых морщинах…
— Малый родился… — произнесла она.
«Сын!» — вихрем промчалось в голове у Закира. Он тихо подошел к нарам. Около Итбики, завернутое в тряпье, что-то возилось… Осторожно, с громко бьющимся сердцем Закир наклонился и неловко открыл лицо у ребенка. И когда он увидел старческое, сморщенное в красное лицо, то опять не выдержал:
— Малый. Это — хорошо… Аяй, как хорошо…
Он радостно засмеялся. Итбика открыла глаза и страдальчески улыбнулась мужу. И Закир почувствовал, что с души его свалился огромный, тяжелый камень…
Фатима все прибрала. Потом, несмотря на позднее время, она лаконически приказала Закиру поставить ей самовар. А когда вскипел самовар, Фатима принялась пить чай. И пила она долго, откусывая сахар крошечными кусочками. Пот выступил на ее желтом, морщинистом лбу, и она вытирала лицо грязным, засаленным рукавом. Потом она потребовала себе денег, и Закир отдал ей последний рубль. На этот рубль Закир рассчитывал купить чаю и баранины для муллы, который должен был дать имя ребенку. Фатима осталась довольной, слегка улыбнулась и сказала:
— Якши[4].
Закир проводил ее за ворота. Пурга утихла, и голоса ее, звонкие и отчетливые вначале, теперь падали в степи неясным, замирающим гулом.
Пошел снег, и сухие снежинки щекотали лицо…
Через неделю, когда Итбика оправилась совсем, Закир порешил, что необходимо позвать муллу и дать ребенку имя. У Закира не было денег, и пришлось продать воз пшеницы, хотя в этом году хлеб уродился в обрез, Закир съездил в город, продал воз пшеницы, купил чаю, сахару и еще что-то пестрое — на платье Итбике. Приехав домой, он купил у богатого старосты Ахунова барана. Итбика, уже вставшая с постели и бродившая по хозяйству, приготовила все к угощению. И тогда позвали муллу…
Пришел мулла, высокий и красивый старик, с седой бородой, но с черными молодыми бровями. Голову его обвивала белая чалма, и тонкие бледные губы были сжаты важно и сосредоточенно. От него пахло тонким, пряным ароматом мускуса. Мулла принес с собой священные книги, сел на пол, на разостланный дешевый ковер, который хранился у Закира для торжественных случаев, и начал читать молитвы. Итбика скрылась за занавес у стены, а Закир так же, как мулла, сел на пол и проводил по лицу ладонями рук, вздыхая и шепча что-то про себя… Мулла гнусаво читал речитативом молитву, покачивался, закрывал глаза, и тогда лицо его, с черными бархатными бровями, казалось безжизненно красивой маской. Наконец, он кончил и с минуту сидел неподвижно… Потом он взял книгу и спросил Закира — как он желает назвать сына? Закир поскреб в затылке и ответил робко:
— Ибрагим…
Мулла записал в книгу, подошел к ребенку, наклонился и громко крикнул ему в правое ухо:
— Тебя зовут Ибрагим. Ибрагим. Ибрагим.
Обряд кончился. После этого мулла с Закиром пили много чаю и ели жирную, вкусную баранину. Угощал сам Закир: Итбике нельзя было показаться постороннему мужчине. После еды потный и разгоряченный мулла гулко икнул несколько раз, чем обыкновенно выражалось удовольствие хозяину за сытое угощение. Закир ответил тем же, и когда мулла собрался уходить, Закир заплатил ему пять рублей. Мулла торопливо и жадно схватил деньги и одобрительно кивнул головой.
Закир проводил его до улицы, кланялся ему вслед, и на улице мулла еще раз икнул гулко и протяжно.
Жизнь семьи опять пошла серой, тягучей лентой. Итбика больше работала по хозяйству, а Закир бездельничал и по целым дням иногда лежал на нарах. Только когда острая нужда, как когтями, захватывала семью, тогда Закир немного просыпался. Он скреб в затылке и думал о том, что пшеницы в амбаре осталось совсем мало, но нет чаю и сахару. Без баранины, положим, можно было обойтись, хотя для Закира это было очень тяжело, но есть еще выход: можно купить где-нибудь старую, негодную лошадь и варить из нее махан[5]. Итбика иногда осторожно напоминала мужу, что у него есть две лошади и можно было бы поискать где-нибудь работы, чтобы пробиться зиму и не тратить свою пшеницу. Но Закир в глубине души считал женщину вообще рабочей скотиной, которая всем обязана мужу, своему господину. Она должна все сделать: нарубить дров, затопить чувал, сварить махан или баранину и… молчать. Так предрешил пророк. Поэтому, когда раздавался тихий и грустный голос Итбики о работе, Закир сердился. Обыкновенно в такие минуты он громко сопел и говорил жене:
— Молчи. Не твое дело… Где я достану работы?
— Можно дрова с Урала возить, — робко вставляла Итбика.
— Молчи. До Урала 40 верст… Вон Сулейман возит, и одна лошадь у него подохла…
— Сулейман не кормит лошадей…
— Молчи.
Шея у Закира наливалась кровью. И Итбика, тяжело вздохнув, замолкала…
* * *
Маленький Ибрагим рос так же, как растет дикий бурьян в степи. По целым дням он валялся, заброшенный, на нарах, ревел во все горло по часам, жадно сосал засохшую корку хлеба или рвал кусок мяса от старой кобылы и спал под заунывный вой башкирских собак. Зимой босиком выбегал на улицу, а летними днями, когда пекло солнце, он валялся полунагой, наравне с другими, на зеленой малоезженной улице. Рядом бродили лошади или жеребята и мирно дремали остромордые худые собаки.
Пяти лет Ибрагим уже крепко цеплялся за косматую гриву мерина и учился ездить верхом. Наравне с другими подростками он лихо мчался по улицам или по дороге за поскотину, где кротко и безмолвно лежали тихие поля. В рваной рубахе, почти черный от солнца, с тюбетейкой на голове, издавая пронзительно гортанный крик, мчался Ибрагим к полям, где шептались болезненные колосья пшеницы и реял в безоблачно синем небе мощный и дикий туйдуган… И вольно и весело было у Ибрагима на душе…
Когда Ибрагим научился ловко и смело ездить верхом, тогда отец стал брать его с собой на свадьбы, где устраивались скачки. Обыкновенно было так, что на свадьбах даже самый бедный жених жертвовал на приз для скачек молодого жеребца или жирного барана, а богатые, что бывало редко, выставляли по нескольку лошадей. И со всей округи съезжались наездники, чтобы поспорить быстрыми конями и своей удалью. В этом проявлялась давно придавленная и заглохшая степная отвага забитого народа…
И это было оригинальное и красивое зрелище. Толпа взрослых и детей, звонко и гортанно лопоча, окружала место у деревни, где были намечены скачки. У столба, от которого должны были поскакать лошади, обыкновенно выставлялся приз — баран или лошадь. Выбирались судьи, тщательно осматривались лошади, и наездниками выбирались наиболее легкие и ловкие мальчики. И когда было все готово, — судьи командовали:
— Айда!
И сразу брали с места худые, но крепкие башкирские лошади. Низко пригнувшись к их шеям, сверкая смуглыми ногами, мчались молодые башкиры, а вслед им гремел и переливался дикий и страстный крик толпы:
— А-а, го-го-го… А-ю!
Но вот всадники, потонувшие в глубине зеленой степи, скачут обратно, и тогда рев толпы растет и поднимается выше. Широко выпучив глаза и разинув рты, следят башкиры зоркими, ястребиными глазами за наездниками и ревут… Вот ближе белые точки… Вот кто-то вместе с лошадью кувыркается, падает, вскакивает, как резиновый мячик, и опять летит вперед. И стон стоит в воздухе, когда взмыленные лошади, самые дикие и страстные, стрелой подлетают к призу…
Но свадьбы случались редко, и обыденная жизнь, такая мертвая и нелепая, снова вступала в свои права. И было только одно существо, которое каждый год, больше зимой, появлялось на несколько дней в деревне и вносило в ее дикую жизнь что-то волнующее и странное…
То был старый Аллаяр.
Откуда приходил старый Аллаяр? Этого никто не мог сказать определенно. Обыкновенно в зимний короткий день, когда около деревни уже реяли серые сумерки, на улице вдруг появлялась фигура старого Аллаяра. Он шел, звонко ударяя о дорогу палкой с железным наконечником, старый-старый, с трясущейся головой, с слезящимися глазами, в мохнатом малахае на голове и в худых изорванных ичигах. И первый, кто видел Аллаяра на улице, обыкновенно радостно кричал:
— Аллаяр пришел!
— Аллаяр, киль… киль…
И Аллаяр сворачивал с дороги и шел в избу — по первому приглашению. И те, кто узнавал о приходе Аллаяра, сходились в избу, где останавливался старик, весело с ним здоровались и чмокали от удовольствия губами.
Аллаяра сажали на самое почетное место на нарах, угощали чаем и маханом. Старый башкир пил, отогревался, и его грустные слезящиеся глаза все время смотрели куда-то в пространство. Отдохнув и согревшись, он развязывал узелок, который всегда носил с собой, и с важным видом доставал потертый курай — старую музыкальную дудку из дерева. Тщательно вытерев инструмент, Аллаяр, сделав строгое, задумчивое лицо, вдруг извлекал из курая первый трепетный, заунывный и протяжный звук.
И внезапно наступало молчание…
В бедную и жалкую избу, где жил придавленный и порабощенный дух, вместе со стройными и печальными звуками курая входил кто-то ясный и чистый, с бледным лицом, на котором застыли слезы тайного страдания за людей… Он, неведомый и грустный, садился у чувала, где трепетали и бились искры, и пел вместе с старым Аллаяром о том, что есть на свете люди, они жалки и бессильны, и нет руки, которая протянулась бы к ним…
Много играл старый Аллаяр… Может быть, играл о гордом, мохнатом Урале, где сосны кричат гулко и протяжно, о бесплодных пашнях, о степи, о смуглой башкирской девушке, которая так плачет перед выходом замуж за старого, сладострастного башкира. Может быть, в песне вспоминались прежние гордые батыри, их резвые кони и острые, певучие стрелы. Куда девалась широкая свобода былых дней, лихие наезды и былая отвага умирающего народа?
И когда кончал играть старый Аллаяр — в избе, казалось, долго еще бились нежные звуки, реяли тени, и долго никто не решался заговорить первый.
Обыкновенно Аллаяр жил в деревне с неделю, ходил из избы в избу, везде играл свои грустные песни и потом уходил. С трясущейся головой, в мохнатом малахае, звонко ударяя посохом о дорогу, уходил Аллаяр куда-то дальше, и вместе с ним, казалось, нога в ногу, уходили щемящие и стройные образы курая…
* * *
Время шло, Ибрагиму исполнилось 16 лет. И был он стройный, сильный, красивый юноша, с черными, как У газели, глазами. Все домашние работы теперь исправлял Ибрагим, он же работал в поле, а отец его, Закир, обрюзглый и еще более ленивый, по целым дням валялся на нарах или ездил куда-нибудь в гости. Итбика, преждевременно увядшая от работы, была попрежнему молчаливо покорна и вечно бродила по хозяйству. После Ибрагима у нее был еще один выкидыш, а потом она уже не рожала. Иногда Закир, еще сильный и сладострастный человек, думал про себя, что хорошо было бы взять молодую и свежую жену, но боялся сказать это, а главное, он был беден и не мог дать за невесту калым. Но мечты о молодой жене, с гибким и упругим телом, часто дразнили его ленивый мозг, и ему приходило в голову в это время, что Итбика скоро состарилась, она костлява, у ней желтая, дряблая кожа, и ей следовало бы уступить место другой жене.
Поехал раз Закир Галеев на сельский сход, где предполагалось выбрать новых старшину и старосту. Волость находилась от деревни в десяти верстах, и к вечеру, когда в степи загулял буран, Закир уехал.
Вернулся он домой на другой день пьяный и очень веселый. Громко гогоча и икая, он вошел в избу и, пошатываясь, заявил Итбике и Ибрагиму, что его выбрали старостой. Это было так неожиданно, что Итбика сначала задрожала, а потом засмеялась от радости. Староста в деревне — начальство, и каждый башкир в глубине души мечтал об этой должности. Пришибленные и задавленные, эти дети степей видели в старосте сочетание силы, власти, сытости и почета. Закир, несмотря на свою леность, считался умным и хитрым башкиром и давно метил в старосты.
Покачиваясь и смеясь, Закир приказал Итбике поставить самовар, вытащил из-за пазухи бутылку водки и велел Ибрагиму позвать в гости двух соседей. Те пришли, узнали, в чем дело, и с заметной завистью на лицах уселись на нары. Закир угощал гостей водкой и чаем, громко хохотал от радости и старался придать лицу строгое и важное выражение. Потом заявил, что на днях он должен получить «знак» и что земский собственной рукой похлопал Закира по плечу и дал слово скоро утвердить приговор общества. Гости слушали, не скрывали зависти и говорили сквозь зубы:
— Аяй… Якши. Закир староста… Якши.
И когда гости ушли, Закир долго еще бормотал о той высокой роли, какая выпала ему в жизни. А потом, ложась спать, он вдруг почти взвизгнул от радостной мысли, какая ему пришла в голову. Чмокнув толстыми губами, он сказал жене:
— Якши. Теперь можно взять другую анай[6].
Итбика побледнела, как воск. Ибрагим угрюмо поднял на отца свои прекрасные глаза и ответил за мать:
— Ты этого не сделаешь, атай[7]…
— Почему? — хрипло спросил Закир.
— Инай[8] будет плакать. Ты всю жизнь с ней прожил.
— Она стара… — смеясь, заметил отец.
— И ты уже не молод, атай. Нехорошо, атай. Мать будет плакать. И я буду с ней плакать.
— А мне наплевать, — резко ответил Закир и отвернулся к стене.
Через минуту он уже храпел, а Итбика долго-долго сидела у чувала, смотря на огонь потемневшими глазами… Ибрагим ворочался в постели и украдкой следил за матерью. Глядя на ее мокрое, желтое, рано увядшее лицо, Ибрагим кусал губы и думал, что в жизнь их вливается что-то неясное и тоскливое. И гнев, острый и жгучий, сжимал сердце Ибрагима…
После этого дня Закир каждый день начал ездить в волость по делам.
Обыкновенно ленивый и неповоротливый, Закир точно переродился, и какая-то важная, самодовольная складка залегла у него на лице. Утром Ибрагим запрягал ему лошадь, он выходил и садился в сани, сохраняя на лице новое, важное выражение. На встречных башкир-однодеревенцев Закир начал смотреть несколько свысока и даже покрикивать по-своему…
Через месяц земский утвердил приговор общества, и Закир окончательно сделался старостой. Получив медный «знак», Закир опять позвал гостей, напялил на себя «знак» и так сидел на нарах, громко гогоча от удовольствия. Гости пили водку, ели махан, стараясь поддерживать настроение хозяина, но у каждого в глубине души было завистливое, сосущее чувство…
Пошли дни, лучшие для Закира. У него начали появляться деньги, но зато он больше стал пить водку. При каждом удобном случае он брал взятки и нисколько не скрывал этого от людей, считая это естественным для должностного лица. Иногда Ибрагим, чуткий и грустный, говорил осторожно отцу:
— Атай, зачем берешь с бедных?
— Молчи! — грозно рычал Закир. — Не понимаешь ты. Земский берет, становой берет и старшина Якупов берет. Все берут… А я хуже их?.. Щенок ты.
И Ибрагим больше не говорил… А Закир развернулся вовсю. Свой надел в тридцать десятин, который он не умел и не мог сам обработать, он порешил сдать в аренду соседним крестьянам. Ибрагим, пораженный этим, сказал отцу:
— Атай, у тебя теперь есть деньги… Можно будет купить семян, нанять работников и самим сеять… Я буду работать, атай. Зачем отдавать землю?
— Молчи, шайтан! — опять грубо крикнул Закир. — Не твое дело.
И, помолчав немного, добавил цинично: — Другую бабу мне надо… Калым платить…
Он говорил, и скверная, плотоядная усмешка кривила его лицо… Ибрагим побледнел, закусил губы, а за красным пологом, где была женская половина, билась в беззвучных рыданиях Итбика.
* * *
Мысли о новой жене крепко засели в голове Закира. Наезжая в село, где находилась волость, Закир пробовал почву насчет женитьбы и наводил справки. У одного зажиточного башкира — Габидуллы Хасанова была молоденькая дочь, резвая, черноглазая Ханисафа, и Габидулла был непрочь породниться со старостой. Как это было обыкновенно у башкир, отец совсем не считался с желанием и мыслями невесты, а мечтал только о большом калыме. Дочь для отца была доходной статьей, лакомым куском для жениха. И девические мысли резвой Ханисафы в расчет совсем не принимались…
Габидулла дал понять Закиру однажды, что дочь можно выдать за него, но условия он ставил такие: триста рублей деньгами, трех лошадей, жеребенка и двадцать штук баранов. Это был большой калым, и Закир начал торговаться. Габидулла долго не уступал, но потом изменил условия: двести рублей деньгами, две лошади и десять баранов. Мулле за венчание должен заплатить также Закир.
И Закир согласился… Но нужно было достать весь калым. И Закир приналег на взятки.
И вышло, наконец, так, что Закир сколотил денег для выкупа невесты. Дома он рычал зверем на жену и сына. И скоро женился. Как безумная, плакала молоденькая, стройная Ханисафа, рвала на себе волосы, но воля отца была непреклонна… Закир отдал условленный калым, заплатил старому, хитрому мулле и женился на Ханисафе… Тесть его, Габидулла, уступил ему еще избу за особую плату, и Закир поселился в ней с новой женой. К Итбике и сыну почти не приезжал. Ибрагим сам старался работать и был рад, что отец живет в другом месте…
* * *
Однажды в глухую осеннюю полночь, когда мелкий дождь царапал и стучал в окно, а ветер гудел в чувале звонким плачем, Ибрагим проснулся от странного и неясного шума… Приподняв голову с постели, он вслушался. Гудел ветер, но временами слышался чей-то глухой крик у ворот. Громыхали злобно собаки и, казалось, напирали на кого-то. И слышно стало под конец, что кричит человек, и кричит так, как будто зовет на помощь…
Ибрагим быстро натянул ичиги и выскочил на двор. Сквозь свист и хохот дикого степного ветра он услышал злобный лай собак и протяжный вопль человека у ворот. Ибрагим отворил ворота и осторожно выглянул на улицу, где гулял черный, всепроникающий мрак… Собаки вплотную напирали к заплоту, где едва маячила чья-то темная фигура.
Ибрагим зыкнул на собак, они попятились и скоро замолчали. Человек у заплота стоял неподвижно… Ибрагим подошел ближе и спросил по-русски:
— Кто тут?
Мрак зашевелился, раздался голос:
— Я, милый человек… Проходящий, значит… Проходящий… Ну и собачки, прости господи. Экая прорва их. Одна за штаны, гликось, хватила… А какая это деревня будет, божий человек?
Ибрагим назвал.
— Башкуры, значит?
— Башкиры… — поправил Ибрагим.
— Так… так… Башкуры, значит… Махмедова вера поэтому… Ну, что же… И они люди… Все твари божьи, хороший человек…
Ветер рычал, и слова проходящего едва можно было различить. И Ибрагим крикнул:
— Айда в избу.
— Спасибо, родимый, спасибо… Теперь далеко не уйдешь в такую ночку… Ну и ночка. Шел я, как слепой, по дороге… И жуть такая берет, милый человек… И-и.
— Айда, айда…
Ибрагим пропустил прохожего и затворил ворота. В избе он зажег лампу, и огонь осветил избу. У порога стоял прохожий и озирался по углам: он искал глазами икону. Но спохватился и заговорил опять добродушным, слегка гнусавым голосом:
— Эх, Антип, — дурья голова… Знамо, какая здесь икона. Башкуры… Свои, значит, боги тутотка имеются… А мне и невдомек… Ну, да ладно: и на старуху бывает проруха… Так, значит, и переночевать можно, господин хозяин?
— Можно, можно…
— Вот за это благодарим… Ах ты, батюшки, и собаки у вас. Прямо на горло лезут, псины. Ну, думаю, положу я свои животы тутотка…
Прохожий начал снимать с плеч тощую котомку, и Ибрагим с любопытством смотрел на него. Это был мужик лет сорока, широкий, костистый, с рыжеватыми волосами и добродушным лицом. Его белесоватые глаза смотрели просто и вдумчиво. Какая-то неясная, благодушная улыбка шевелила его губы, и от этого лицо принимало мягкое, доброе выражение.
Прохожий снял котомку и серый заплатанный армяк. Потом пригладил рукой волосы и заговорил опять:
— Ну, вот весь мой и багаж, милый человек… В руках палочка, а на крыше галочка… Хе-хе. Обеспокоил же я тебя, господин хозяин… Теперь, значит, и на покой можно… Ну и собачка у вас. А, положим, как без собак? У меня дома тоже пес злющий остался… Серым зовут… Невозможно без собаки, особливо ежели хозяйство… Ты ложись, господин хозяин… Я вот только маленько закушу, да и на боковую…
Прохожий порылся в мешке и достал краюху хлеба.
— Вот бы маленечко мне водички, господин хозяин… И готово дело… Пан бы был… Хе-хе. Ранее приходилось работать с вятичами. Так они говорят: ежели бы мне эти рукавицы да обмакнуть в деготь — так я бы царь был… Хе-хе. Всякий по-своему… А народ хороший эти вятские… Так водички бы…
— Можно самовар… — сказал Ибрагим.
Ему решительно нравился этот словоохотливый, добродушный с виду человек.
— Самовар? Оно, конечно бы, хорошо это, да ведь поздно… Да и чаю у меня нет…
— Ничего… Свой дадим, — проговорил Ибрагим и быстро начал ставить самовар. Подбросив дров в чувал, Ибрагим разжег угли, и веселый, пляшущий огонь заметался в чувале. Прохожий присел на нары. Скоро забурлил самовар, и Ибрагим заварил чаю. Потом он принес хлеба, молока и пригласил гостя:
— Садись. Ашай[9]…
Прохожий, который все время смотрел задумчиво на огонь в чувале, встрепенулся и ответил:
— Вот спасибо, милый человек… Спасибо… Ведь вот и не знаешь, где найдешь хороших людей… Башкуры, а получше наших хрестьян, прости господи.
Он перекрестился и сел за чай. Пил он степенно, не торопясь, откусывая крошечные кусочки сахара и бережно смахивая на ладонь крошки хлеба. Ибрагим налил себе чаю и посматривал на прохожего. Наконец, не вытерпел и спросил:
— Куда идешь? Далеко?
Мужик усмехнулся.
— Куда глаза глядят, милый… Я ведь штрафованный. На два года из своей губернии выслали… Из России, значит…
— Зачем? — удивился Ибрагим и, усмехнувшись, добавил: — Коробчил разве что?
— Как?
— Украл разве что?
— Мы этим не занимаемся, милый… Слава те господи, на пятой десяток повалило, а этого не бывало…
— Зачем тебя выслали?
— Зачем? Не меня одного… За бунт, милый, за бунт…
— Какой бунт?
Прохожий опять усмехнулся.
— Ничего ты не знаешь, видно… Да и вам што, башкурам. Шел я даве, днем, и смотрю кругом: господи ты, боже, — сколько земли у вас. И мало, значит, населения совсем… Житье, видно, у вас ничего себе… Вот у вас сколько земли?
— У отца тридцать десятин.
— Тридцать… Ах ты, господи, боже мой. У нас на тридцати десятинах, почитай, десять семей навалило… Друг на друге сидим. И земля что? Вся изношена, как тряпье, сколько ее не умасливай… А у вас земли дикие, вольготные, к рукам бы их… И урожаи, поди, хорошие?
— Всяко бывает…
— Конечно, от себя больше… Как работать… Тридцать десятин. Ах ты, господи, боже мой…
Прохожий замолчал и смотрел на огонь добрыми, слегка слезящимися глазами.
За окном играл ветер и гуляла по улице мокрая, холодная осень. Бездомная и угрюмая, она несла с собой мертвый, торжествующий мрак и брызгала по крышам мелким дождем…
— Меня вот в вашу губернию на два года. Да… Искал я работы в городе, да что там. Много нашего брата, голытьбы, шатается… На фабрику не сподручно, потом там привычка другая нужна… Поколол в одном месте дров, заробил полтинник, и только пока. А потом и думаю: двину я куда-нибудь в деревню да наймусь пока хоть в работники… Обживусь, а там и бабу с сыном вытребоваю. Скучно, милый, без семейства. Ах ты, господи, боже мой… Ну, благодарим покорно за чай, господин хозяин… Пожалуй бы, и на боковую… Утром пораньше двинусь куда-нибудь…
Прохожий замолк… Ибрагим молча убрал самовар с нар и пригласил гостя спать. Он дал ему войлок, подушку и еще подбросил в чувал дров.
Прохожий с видимым удовольствием растянулся, зевнул, перекрестил рот и заметил:
— Пожалуйста, господин хозяин, разбуди пораньше… Вишь, здесь, у тебя, меня разогрело: просплю, пожалуй…
— Ладно… А тебя как зовут? — спросил Ибрагим.
— Антипом, милый человек… Антипом… А тебя, господин хозяин?
— Ибрагим…
— Гм… чудное имя… Ну, да ведь всякие народы по-своему…
Антип замолчал и скоро засвистел носом. Спал он на спине, положив широкие, волосатые руки на грудь. Ибрагим долго ворочался. Ветер гасил пламя в чувале, и тяжело дышала за окном одинокая осень.
Утром, чуть свет, Антип проснулся и начал собираться в путь. Проснулись Итбика и Ибрагим. Пока Антип собирался, Ибрагим долго шептался о чем-то с матерью. А потом, с странно веселым и смущенным лицом, он вдруг пот ложил руку на плечо Антипа и сказал:
— Подожди, знаком. Чай пить будем…
— Некогда, милый… Спасибо…
— Айда, живи у нас…
— Как это, милый?
— Работником… Работать будем вместе…
Лицо Антипа просветлело…
— Что же… Я не прочь… Народ вы, я вижу, хороший…
Они поговорили и условились в цене: семь рублей в месяц и десятину посева на выбор. Ибрагим рассчитывал в этом году сеять.
Антип остался.
Подходила весна…
Башкирская деревня под лучами яркого солнца как будто ожила. В роще, где стояли высокие, сильные березы, как безумные, кричали грачи и ткали из крика зовущую и страстную жизнь. Вылезали из изб одичалые, полуголодные люди, грелись на солнце и лопотали повеселевшими голосами. После тяжелой и длинной зимы, после дней, пустых и холодных, наступило время, когда жизнь вызывала к жизни даже больные, истощенные голодом, смуглые тела.
Ибрагим готовился к посеву и много работал. Еще зимой, когда до весны было далеко, Ибрагим вместе с Антипом возили в город от подрядчика дрова и бревна с Урала, потом — сено с лугов и даже с месяц жили в городе, где возили камень. Зато к весне Ибрагим прикупил семян и уговорил отца не отдавать в это лето пашни в аренду. Закир, попрежнему живущий взятками, махнул рукой и отдал землю сыну. К старой семье он почти не заглядывал, разжирел, пил много водки, ругался на сходах «по-русски» и часто бил свою молоденькую Ханисафу. И Ханисафа таяла, как охваченный снегом цветок…
Однажды к Ибрагиму приехал башкир и заявил, что Закир умирает.
Ибрагим вскочил на лошадь и помчался к отцу, он ни разу не был у него в новой избе. Закир лежал на нарах, хрипел, страшно закатывал глаза, и грудь его была обмочена кровью. Ночью, когда Закир возвращался пьяный из гостей, кто-то выстрелил в него, и пуля попала в грудь. У Закира было много врагов.
Ибрагим сел около отца и долго смотрел ему в лицо. Страшно ворочая белками глаз, отец хрипел, и слышно было далеко его свистящее дыхание. В груди у Закира что-то клокотало, и на губах появлялась иногда кровавая пена. Увидев сына, он что-то хотел сказать ему, но из горла вырвался только один странный, шипящий звук:
— Хрчш…
Ибрагим не выдержал, взял за руку отца и заплакал. В углу, вся завернувшись в красное широкое покрывало, сидела безучастная и молоденькая Ханисафа. Иногда из щели покрывала сверкал взгляд черных, агатовых глаз, и этот взгляд, мгновенный и короткий, дышал ненавистью.
Закир промучился сутки и умер. Обрядили его на скорую руку. Пришел мулла, прочитал молитвы, и Закира стащили на кладбище. И шел за его телом только один Ибрагим и приехавшая вскоре Итбика. И старая жена, брошенная Закиром, горько рыдала над могилой мужа. Молоденькая Ханисафа забрала свое имущество и ушла к отцу. Ибрагим и Итбика вернулись в свою деревню.
Весна ширилась и охватывала страстно мятущуюся и жадную землю. Зеленели деревья, пели птицы, и люди готовились к посеву. Ибрагим с Антипом все время были на пашне. Антип, всегда веселый и работящий, с весной сделался как-то мрачен и неразговорчив. Ибрагим участливо следил за ним и спросил однажды:
— Что, Антип? Хворал, что ли?
Антип хмуро посмотрел куда-то в сторону и ответил:
— Что-то тоскливо, хозяин. Что грех таить: на родину тянет. Баба да сын остались. Вишь, кабы здесь они были.
— Сюда их надо… — сказал Ибрагим.
— Легко говорить, милый человек. Далеко ехать сюда. Да что им здесь делать? Кабы земля своя была.
Ибрагим промолчал и задумался…
А Антип еще больше тосковал. Похудевший и угрюмый, он молча возился с работой, и видно было, что он сильно страдает.
Как-то раз, когда они были вместе в поле, Ибрагим вдруг тронул молча его за руку. Антип взглянул в лицо Ибрагиму и удивился.
Красивое лицо смуглого юноши было озарено какой-то странно ликующей улыбкой.
— Айда за мной, — коротко сказал Ибрагим. Антип молча повиновался…
Легко, как горная коза, шел впереди гибкий и стройный Ибрагим. Удивленный и озадаченный, неуклюже шагал сзади Антип. Взойдя на небольшой холм, откуда развертывались вспаханные поля, голубой простор и серебро сверкающего вдали озера, Ибрагим остановился и, протянув вперед смуглую руку, сказал:
— Это все моя земля. После смерти осталась… Видишь?
— Вижу, — уныло ответил Антип, весь охваченный невольным чувством зависти. — Ах ты, господи, боже, сколько земли. Ну и башкуры. Благодать одна господня. И сколича ее лежит напрасно, землицы-матушки этой. У нас бы наперли на нее…
— Моя земля, — гордо повторил Ибрагим. Загадочно улыбнулся и добавил тихо:
— Теперь тащи сюда бабу и сына…
— Зачем?
— Так… я дам земли… Работай… Бери пять, десять десятин… Можно заимка строить… Мне одному много земли… Тебе одному скучно… Я все вижу… Живи два, три года… Десять лет… Сколько хочешь…
Антип просиял…
— Ах ты, господи, боже мой. Вот человек-то. Этак, пожалуй, можно и писать жене, чтобы ехала?
— Пиши… Денег дам вперед… Им надо много ехать сюда…
— Ах ты, господи, боже, — лепетал Антип, весь охваченный бурным приливом радости.
Ибрагим отвернулся и пошел обратно. По дороге он сорвал тонкую ветку и хлестал ею по ичигам. Сзади него шел человек, разводил руками, бил себя по бедрам и почти выкрикивал нелепые, отрывистые слова:
— Ах ты, господи, боже. Шутка ведь, дядя. Башкур. Душевный человек. Мне хоть бы эти два года пробиться… Вместе с семьей, значит… А там… бог впереди… Может, и у нас тогда земля будет… Бабу и Андрейку сюда пока… Веселей. Ах ты…
Антип выкрикивал, разводил руками, а Ибрагим хлестал бешено веткой по ногам и старался заглушить в себе чувство свежей, молодой и бурной радости.
1910
ПРИМЕЧАНИЯ
Рассказ впервые опубликован в «Альманахе „Уральской жизни“ 1910, кн. II, стр. 5-22.
Печатается по тексту книги: А. Туркин. Степное. Издательское товарищество писателей. СПБ. 1914.
notes
Примечания
1
Чувал — глинобитный очаг.
2
Калым — выкуп, вносимый женихом родителям невесты у некоторых народностей.
3
Киль — иди.
4
Якши — хорошо.
5
Махан — конина, конское мясо.
6
Анай — жена.
7
Атай — отец.
8
Инай — мать.
9
Ашай, ашать — ешь, есть.
Ходатель
На Егорьевском станичном сходе горланили на этот раз особенно свирепо. Никто решительно не желал слушать других, и каждый, широко разинув рот, гневно сверкая глазами, выбрасывал, будто камни, тяжелые, иногда обидные слова… Молчаливым слушателем был только атаман станицы Гусев — грузный, красный казак, с длинными пушистыми усами. Все смотрели на красное, крепкое, как репа, лицо атамана, на его жирный, гладко выбритый подбородок и упрямо, назойливо кричали все разом, бросая слова, кованые гневом…
Станичный писарь Ивашкин, обращавший на себя внимание сизым и пухлым носом, делал вид, что пишет, но — на самом деле — рисовал на бумаге почему-то крупную блоху… И мучительно размышлял о ревизии, которую собиралось делать войсковое хозяйственное правление…
А сход все сильней волновался. Послушные до этого люди кричали так, что атаман пугливо сжимался, а писарь Ивашкин еще ниже склонялся над огромной расплывшейся блохой…
— Скоро строевых лошадей будем продавать.
— И продадим.
— Черт с ними.
— На войну, так первых нас?
— А теперь издыхай с голоду?
— Лошадей всех смотали. На ком весной пахать должны?
— Атамана запряжем: сможет.
Не надолго смолкли, умаялись. Атаман воспользовался этим и проговорил робко:
— Ссуды будут разрешены всем… Откроются столовые…
Опять, как порох, вспыхнули разом:
— Жди эти ссуды окаянные!
— К весне придут — когда подохнем!
— С нас так скоро дерут!
— В одну секунду.
— Постановить приговор — чтобы сейчас помогали.
Кричали еще долго и составляли приговор, где постановили просить кого следует о немедленной помощи казакам. И в приговор всем хотелось вписать обидные, гневные, страстные слова, но писарь Ивашкин ловко смягчал выражения, и приговор вышел деликатным и почтительным. Молча подписывали и уходили, как волки, злые и упрямые, готовые на все… Атаман следил неподвижно, а писарь звонко скрипел пером на бумаге…
Начальство собиралось уходить, когда дверь медленно отворилась и в правление, вместе с морозным облаком, вошел высокий, костлявый мужик с робким и несколько наивным лицом. На этом лице не было совсем растительности, и голубые глаза смотрели доверчиво и кротко.
Мужик низко поклонился атаману, потом писарю, потер большие, изветренные руки и потоптался на месте, моргая ясными, доверчивыми глазами. Атаман, надевая шубу, покосился на мужика и коротко спросил:
— Зачем?
Мужик полез за пазуху, достал какую-то бумагу, подал атаману и сказал тоненьким, совсем бабьим голосом:
— Мы по доверию, значит…
— По какому доверию?
— От общества, значит… по доверию… Ходатель, значит.
Атаман подал бумагу писарю. Тот пробежал и ухмыльнулся. И сказал мужику:
— Айда с господом богом.
— Да в чем дело? — спросил атаман.
— Тоже ссуду и хлеба просят. Это — разночинцы, Иван Миколаевич; живут на казачьей земле… Мы здесь ничего не можем сделать.
— Конечно, Тебе надо к земскому… Вы — не казаки. Нам своих бы прокормить… На какой статье проживаете?
— На вашей, на казачьей…
— Да где это?
— Три версты отсель: на Козьем.
— Знаю. Сколь домохозяев?
— Десять, значит, дворов…
— Хм… К земскому надо; вы не казаки…
Мужик взял бумагу, сложил ее аккуратно, сунул за пазуху и развел руками:
— Диковина. Нигде не принимают нас. Ровно не одному царю служим.
— Ну, айда со Христом, — махнул рукою писарь. — Иди с богородицей…
— Уйду, почтенный, уйду… Тоже вот ись хочем…
— Все разве слопали? — спросил атаман.
— Все зачистили — теперь у всех свистит. Скотину, значит, кончили еще осенью… Дров порубить на продажу нельзя: ваш лесок… У кого корма остались — пока этим и держатся; продают в городе. Скоро и это зачистим… Беда. Совсем беда. И не знаем — куда обратиться: везде, значит, не принимают нас. А за землю много лет платим вам… В аккурат платили.
— Вишь, вы не казачьего сословия…
— Брюхо-то у всех одинаково, господин атаман: ись просит.
— Иди, иди.
Мужик вышел из правления и медленно направился к гнедому мерину, привязанному у столба. Мерин стоял неподвижно, закрывши глаза пушистыми ресницами, отвесил нижнюю губу и дремал… Его впалые бока, острый, измызганный хребет, покрытый снежинками, и низко понурая голова с отвислой губой — точно подчеркивали, что впереди, в пляске и свисте метелей, идет черная, костлявая нужда, цепкая и нахальная, как пьяная, бесстыжая женщина. Что страшно далеко еще до ясных, солнечных дней, до кудрявой зелени, до росистых ночей в полях, когда гибкое, веселое ржание, как звон металла, дрожит за зелеными перелесками…
Мужик отвязал мерина, ласково заглянул в его грустные, слезящиеся глаза и сказал вслух странно упавшим голосом:
— Айда, Гнедко… Бают, надо к земскому…
Сел в сани и заворотил лошадь. Гнедко тяжело и не-уклюже поворачивался и, кажется, думал:
«Не привыкать, хозяин: всю жизнь ездим по начальству…»
Легонькой трусцой добрались до квартиры земского. Как раз земский принимал прошения, хриповато ворчал на то, что люди «вечно судятся», и сам он, худой, как щепка, с землистым лицом и острым кадыком на тонкой дряблой шее, производил гнетущее серое впечатление… Точно кто-то, такой ненавистный и склизлый, раздуваясь от жадности, сидел внутри человека и сладострастно высасывал кровь, краски, звучный голос, молодой нежный смех…
Когда дошла очередь, мужик подал бумагу земскому. Тот мучительно сдвинул брови, долго всматривался близорукими, глубоко впавшими глазами в написанное и, наконец, пожал худыми, костлявыми плечами:
— Не понимаю. Что это?
— Это доверие, ваше благородие: ходатель я.
— Какое доверие?
— От общества, значит, полномочие, ваше благородие… На пропитание домохозяев хлопочу. Доверие, значит, мне, Антипу Ветошеву…
— Не понимаю.
Настоящая неподдельная тоска звучала в голосе у земского. Как будто совсем не читал прошения, не вдумывался в слова мужика, а все мучительно слушал, как тот пухлый и жадный, притаившийся внутри, сосал жизнь по каплям и сушил, как зной раскаленный — степь, — молодость, смех звонкоголосый… Слушал и как лунатик спрашивал:
— Вы… крестьянин?
— Так точно. Из хрестьян будем… Вятской губернии…
— Вятской?
— Так точно.
— Как зовут?
— Антипом, ваше благородие, Антипом, а фамилия — Ветошев…
— Вы просите помощь?
— Так точно. Потому, значит, скоро караул будем кричать: ни хлеба, ни кормов. А до весны еще тю-тю, ваше благородие…
— Так. А где вы живете?
— У казаков на статье… На казачьей, значит, земле: на Козьем.
Земский взглянул на мужика немного прояснившимся, понимающим взглядом и сказал:
— Надо у казаков просить: вы на казачьей земле живете…
— Просили — отказывают…
— Почему?
— Вы, дескать, не казаки, а хрестьяне и прочие: разночинцы, значит… Отказали.
— Так ведь и я ничего не могу сделать — поймите. Нам приказано кормить только своих крестьян, своей губернии и уезда…
— Мы давно все здесь живем, ваше благородие: которые лет двадцать. И все хозяйство, значит, здесь и деньги за землю здесь платим… С родины, значит, мы берем только пачпорт и подати туда взносим…
— Нельзя нам. Вы Вятской губернии?
— Так точно.
— Вот там и обязаны дать вам ссуду и кормить… Вот туда и поезжайте.
— Давно не живем там, ваше благородие. И хозяйства там нетути…
— Ничего не могу.
— Так… помирать, что ли, нам?
— Все умрем…
И серая тоскующая тень опять набежала на землистое лицо земского. Сухо кашлянул в руку, подал бумагу обратно и почти прошептал:
— Обратись в уездный съезд: там, быть может, разберут это… А я не могу. Поймите — не могу: со своими тошно становится.
Повернулся и тихо побрел куда-то, в глубину комнат, сгорбленный, хилый, с острыми плечами.
Антип хлопнул руками и вышел к лошади. Долго стоял на месте, опять хлопнул себя по бедрам и проговорил:
— Н-н-ну. Прямо… сироты. Ни отца, ни матери…
Гнедой слушал, грустно мигал слезящимися глазами и качнул головой, точно поддакнул:
«Да, сироты…»
На Козьем заволновались крепко, когда узнали, что Антип приехал ни с чем. И нельзя было подумать, собственно, что в этих старых избах, брошенных кучей в степи, все-таки горят человеческие жизни, звучат страстные голоса… О, как хотелось злой, степной пурге засыпать снегом все живущее здесь. Рыхлыми, снежными днями, такими скучными и сонными, пурга коварно пряталась где-то в перелесках, слегка шуршала мерзлыми прутьями и вспыхивала за снежным курганом… Все искала радость жизни земли, чтобы задушить эту радость, но крепко спала измученная земля и грезила о звонком и свежем. И пурга, злая от этого, набиралась силами к ночи, собирала вокруг себя ветры, куталась в кружевные снежные ткани и, как женщина, охваченная сладострастьем, плясала и кружилась в степи… Сшибались молчаливые деревья в перелесках, гудели пьяные голоса вихрей, но в старых избах, брошенных кучей в степи, все-таки переливалась человеческая жизнь.
Да, на Козьем заволновались сильно. Все почти собрались в избе у Антипа и жадно слушали то, что говорил «ходатель». Слушали — и серые измученные лица бороздились гневом. А железная печка, точно не зная ничего, бурно рокотала веселым, пламенным звоном и, раскаленная докрасна, кричала в длинную трубу о чем-то своем — и странно сживался этот огненный крик с хохотом безумной метели.
— Так. Значит, мы не люди, — первым отозвался Яков Бубнов и свирепо затянулся махоркой из коротенькой трубки. Поковырял в трубке прожженным пальцем и продолжал:
— Вот я, к примеру сказать, мещанин города Сызрани — по отцу еще приписан. Отец умер на хлебопашестве, хотя и земли своей не имел… Я пошел по этой же пути и двадцать лет вот здесь держу аренду у этих чертей ленивых — у казаков… Мало переплатил я денег? А вина было мало им споено? А теперь — убирайся к черту. И земский хорош: поезжай по своим, значит, родинам да там и проси хлеба. Будто взял с собой прутик, да и пошел засвистел. А домашность? А семейство? А условие с казачками? А деньги, если отданы вперед за землю? Ну, ладно: пошел я в Сызрань… А там и спросят: «Ты, дяденька, зачем пришел?» А я: «Ись, братцы, хочу, ись». Да опять спросят: «Ты кто такой? Где живешь?» А я: «Бубнов, мол, я — мещанин, а живу у казаков…» Н-н-н-у, и спровадят: «Ступай, дяденька, к казакам — мы тебя не знаем». Это что же такое будет?
Молчали. Гудела звонкоголосая печка, метала искры и жила песнями, заодно с пургой. С полатей свесилась голова кудрявой Аниськи — десятилетней дочери Антипа. Девочка внимательно следила за выражением угрюмых лиц и временами взметывала руками с полатей.
— Да, похерили, — разрядил молчание старик Ветошев, отец Антипа, сидевший на лавке. — Похерили. Скоро семьдесят лет будет мне, а этот год круто запомним: прямо ложись да помирай. Зима только началась, а у кого хлеб?
— Это не может быть! — вдруг почти рявкнул Степан Сажин, жилистый и корявый. — Не может быть. Правду искать надо…
— Пока ищем ее — подохнем, — иронически заметил Бубнов и потонул в табачном облаке.
— Искать надо. В город надо отрядить кого-нибудь.
— А там что?
— В съезд этот надо закатить, про который земский толковал.
— Может, земский зря это: чтобы отвязаться.
— Надо что-нибудь делать.
Долго надумывали, кричали, спорили. Небольшой худощавый паренек, сидевший все время молча у самой печки, выбрал время, когда затихли голоса, и сказал:
— Вот, я читал в газете одной, что из-за голоду часто бунты бывают. Не верил я раньше этому, а теперь, пожалуй, и поверишь: с голоду всякий может забунтовать.
Все внимательно посмотрели на парня. А он смотрел куда-то в сторону и продолжал:
— В других государствах, пожалуй, никогда не слыхать про голод. И образованность там другая, чем у нас. Там мужик за милую душу живет, а земли куда меньше нашей. Нам вот только муки добиться бы по пуду, дадут этот пуд Христа ради на душу — мы еще в ноги накланяемся. А в других государствах не так: там, брат, подай, ежели невмоготу становится. А у нас что? Давно ли розгами драть перестали?
Странная дрожь переливалась в голосе парня, и слова он выдавливал с трудом из горла… И щипал худыми, тонкими пальцами белесоватый пушок над подбородком.
— Это верно, — поддержал старик Ветошев. — Сам не бывал под розгами, бог миловал, а много видел, как раньше секли… Э, мало ли что пришлось видеть на веку.
После этого опять покричали, подумали и решили на том, что Антип завтра же утром поедет в город и доберется до помощи в уездном съезде. Высчитали могущие быть расходы, набрали кое-как один рубль пятьдесят копеек, которые и вручили торжественно Антипу. И напутствовали — каждый по-своему:
— Прямо за горло бери.
— Подыхаем, мол.
— Вам, мол, хорошо самим, тепло.
— Что, сироты, что ли? Одному богу молимся.
— Животную, и ту жалко.
— У них там собакам лучше живется.
На прощание крепко жали руку Антипу. Что-то общее, решительное паяло все лица в одно выражение, и каждый чувствовал подъем духа, точно помощь уже была взята с бою. И Антип, охваченный общим и волнующим, говорил тоненько-возбужденно:
— Постараюсь, миряне, постараюсь. Шибко хайло разину, как только можно шире: дело не шутка. Постараюсь.
— С богом.
Ушли, и все пела железная печка, раскаленная злым огнем. Билась над крышей пурга, тянулась призраками к окну и странно волновала душу… Точно про жизни человеческие пела, когда маленький ночью пугливо жмется к матери, старик на печи ловит в памяти молодые были, а девушка, с бьющимся сердцем, грезит о нежном и ласковом, что прозвенело когда-то поющей струной…
Как всегда, Антип лег на полатях, рядом с женой и Аниськой. Говорил по привычке об одном: как протянуть эту мучительную зиму? И муж и жена знали, что помощь, если и будет, то придет не скоро, но боялись говорить об одном важном, что было решено раньше… Оба чувствовали, что это важное необходимо разрешить сейчас, но каждый старался обойти на время тяжелые, решающие мысли. И подходили к главному издали:
— Скоро вот рождество… — говорил Антип.
— Скоро…
— А у нас… ни муки, ни мяска…
— Муки только квашни на две… — поддержала жена.
— Чаю и сахару тоже надо будет…
— Надо…
Помолчали. Необходимо было решить главное, что намечено было раньше. Но опять у обоих слова завязли, точно тряпка, хотя оба чувствовали, что подошли немного к главному. И все-таки началось опять отдаленно:
— Ничего не поделаешь. Придется что-нибудь продать… — робко сказал Антип и намеренно-равнодушно зевнул.
— Кого продашь? — сурово спросила жена.
Сама отлично знала, кого придется продать, но хотелось зло и упорно не понимать мужа. Хотелось до боли упрямо и долго отстаивать то намеченное к продаже, о чем говорилось раньше. Хотелось защитить родное, близкое бабьей душе и мстить кому-нибудь за злую, непогодную жизнь на земле. И опять громко гневно спросила:
— Кого продашь?
— Сама знаешь… — почти шепотом ответил Антип и зажмурил в темноте глаза, точно ждал удара.
— Телку! — неожиданно прозвенела Аниська и взметнула руками.
— Молчи! — прошипела мать и ударила Аниську. Девочка сжалась в комочек и прижалась к отцу.
А мать уже гневно сверлила мрак страстным и плачущим речитативом:
— Я ли не кормила, не холила ее? Ох ты, нужда проклятая, окаянная. Ведь она с теленочком третий месяц ходит. Ведь она взялась, да и доморощенная. А теперь задарма отдать? За десятку не отдашь. Ох, лучше бы пропасть мне самой навеки. Ведь она теленочка в утробе носит.
Много кричала, захлебывалась от душивших слез, но потом стихла.
— Ну и продавайте.
Антип молчал, но в душе точно ковыряли чем-то тупым и заржавленным… Аниська прилипла к нему, и он слышал, как скоро и четко стучит детское сердце. За окнами, насквозь промерзшими, попрежнему хохотала пурга и кричала, что все в мире — жизнь и краски, радость и солнце — все берется только в борьбе… Кричала об этом, заламывала трепетные белые руки, царапала стекла, кружилась в плясе и под конец с тоненьким детским плачем металась безумная в степи…
Нарождался мутный рассвет, когда Антип уже запрягал лошадь, чтобы поехать в город. Жена кормила кой-чем на прощанье пеструю годовалую телку, которую решено было продать. То, что вчера ночью бороздило у бабы душу гневным и упрямым, — сегодня, с бледным и мутным рассветом, странно затихло, точно пришибленное. Ибо холодный, нарождающийся день вел за собой будни — серые, склизлые, голодные — и тушевал густо то острое, гневное и страстное, что трепетало в душе у людей ночью… Ибо человек — раб властного дня и бог по ночам — в пламенных мечтах своих.
Муж и жена, будто сговорившись, молчали. Телку связали и с трудом положили в глубокий, плетеный короб. И в молчаливой работе двоих чувствовалась затаенная, саднящая тоска…
Точно боясь раздумать, Антип живо собрался, сел в передок коробка, около головы мычавшей, испуганной телки, и хрипло бросил:
— Отворяй ворота.
Жена медленно отворила ворота, Антип тронул Гнедого, телка отчаянно забилась в коробке. Не оглядываясь, Антип ударил лошадь и слышал, как у ворот тоненько и жалобно заплакала жена:
— И-и-и…
Еще ударил Гнедого, не оглядывался, на сердце сосало что-то и хотелось забыть об этом. Выехал на большую дорогу, ведущую в город, и только тогда оглянулся, когда избы в степи едва маячили темными силуэтами.
Стояла в полях торжественная тишина.
И пурга намаялась за ночь. Бледная и волнистая, как женщина с тихим плачем, перед утром она ушла в глубину безжизненных равнин и спрятала в межах и перелесках разодранные снежные ткани. Увела, властная, за собой ветры, наметала на пути белые курганы и, сжатая тихой грустью, оглянулась назад и растаяла, как мечта, с жалобным, звенящим криком, в рассвете пугливого утра зимы…
Антип торопил лошадь, временами дружелюбно разговаривал с затихшей телкой и посматривал по сторонам. Летел через тихие снежные поля черный ворон и хрипло, задушенно каркал. Что-то мертвое и вещее несла с собой черная птица, и Антип, с странно тосковавшим сердцем, следил за ней до тех пор, пока не слилась она с мутной гранью горизонта. Может, сядет где-нибудь в роще, на тихом погосте, где едва маячат засыпанные могилы, и будет хрипло кричать о том, что на земле идет все та же мертвая, голодная жизнь, люди бьются, хрипят бессильно, и солнце не может сжечь ненавистный мрак… Что любо ему, черному ворону, одиноко и веще летать по равнинам, хрипло каркать у могил и резать упругий мрак смелым и сильным крылом…
До города считалось двадцать верст, и Антип торопился, чтобы сделать обдуманное: продать телку и сходить в уездный съезд. Гнедко точно понимал настроение хозяина и спешно ковылял разбитыми, наезженными ногами, стараясь не доводить до кнута. Замечая движение Антипа, лошадь встряхивала головой и наддавала ходу, а в хороших, торных местах прыгала тяжелым, неуклюжим галопом. Телка лежала смирно, пыталась даже лизать хозяина, и грустно-покорно смотрели ее темносиние глаза.
В город Антип приехал к десяти часам утра и, не заезжая на постоялый двор, направился к скотному базару.
Здесь торчали большие, краснолицые, здоровые мясники и покупали дешевый скот.
Бегло осмотрели телку Антипа, спросили цену и, точно сговорясь, заржали:
— Ха-ха! Пятнадцать рублей!
— Го-го… Ты в уме, мужик?
— Твою телку полгода надо кормить, чтобы зарезать на мясо…
— Обнимись с ней.
— Получай пятитку, да и то богу помолись за нас.
Антип стоял на месте и сконфуженно скреб в затылке. И, точно оправдываясь, сказал наивно:
— Она — с теленочком… С Николая Иваныча быком взялась…
Опять звучно заржали:
— Хоть с Марьи Ивановны быком — нам что.
— Го-го. Чудак…
— Он, братцы, из вятских.
— Это видно.
— Наверно, из тех, что в трех соснах заблудились?
— И корову на баню садили. Гы-гы.
Долго торговался Антип. До боли хлопали у него по рукам и в конце концов продал телку за восемь рублей. Что-то слепило глаза, когда брал деньги за родное, близкое простой мужичьей душе… Поехал от мясников, не оглядываясь, купил два пуда муки, чаю, сахару и пряников Аниське на пятак. Заехал на знакомый постоялый двор, напился наскоро чаю и пошел пешком искать уездный съезд. Шел, и в памяти ярко чеканились слова мирян:
— Прямо за глотку бери.
— Скоро, мол, подохнем.
Странно приподнятый этим, чувствовал, что ему поручили большую, важную роль, которую необходимо выполнить добросовестно. И охваченный этим сознанием, бодро и уверенно шел в уездный съезд, где должны непременно понять его…
Но уже у крыльца, где толпился народ, у Антипа сразу упала душа… Старый вековой враг — нелепый страх — язвительно стучался в душу и царапал ее когтями, как черная, мохнатая кошка… И точно шептал язвительно, что дитя рабских веков, прожженных одним страданием, не может быть сильным и смелым.
В здании уездного съезда Антип долго бродил по коридорам и робко заглядывал в двери «отделений». Но там все очерчивалось, как в тумане, чужие, равнодушные лица, скрипели перья, или металлически-холодно стучали пишущие машины, точно давая понять, что здесь нет места никаким просьбам и словам. Что здесь, в серо-линялой атмосфере, где поблескивали форменные пуговицы, живет одно деловое, бумажное, скрипучее и ритмичное, как маятник.
После долгого, томительного ожидания и хлопот Антипу удалось добраться до секретаря съезда, который сидел в старом, потертом кресле и курил дешевую сигару. Курил, сипло кашлял и таращил при этом большие выпуклые глаза с кровяными жилками на белках.
Взглянул на Антипа безразлично и спросил:
— Что тебе?
Хотелось начать сильно, убежденно и горячо, хотелось мучительно-страстно чем-нибудь огненным очертить нужды «мирян», идущего зверя — голод, отчаяние заброшенных в степи людей, но… болтался, как тряпка, бессильно язык, и тоненько закапали малозначащие пугливые слова.
— Явите божескую милость… Ходатель я… Потому, значит, доверие дадено мне… От общества, значит…
Подал «доверие» секретарю. Тот пробежал и усмехнулся. Погладил бороду справа, потом — слева. И все его серое, полинялое лицо, отцветшие пуговицы на старом сюртуке — все говорило о том, что человек сидит страшно далеко от настоящей жизни.
— Разночинцы… гм… — сипло проговорил секретарь. — Ничего нельзя сделать.
— Явите божескую милость.
— Ничего. Насчет разночинцев в уездном съезде нет циркулярного предписания. Мы кормим только своих крестьян.
— Общество тоже ись хочет, ваше благородие…
Секретарь пыхнул сигарой и сказал строго:
— Какое у вас «общество»? Ни старшины, ни старосты… Разночинцы вы — и больше никаких. Иди.
— Как теперь?
— Как угодно. Пишите губернатору: велит кормить — будем… Возьми свое доверие и иди.
Антип взял бумагу и тихо побрел из комнаты. Хотелось завыть волком или броситься и душить кого-нибудь… Но старый вековой враг — черная, подлая кошка сидела внутри и царапала когтями душу…
Вышел из уездного съезда и бессильно остановился на одном месте. Недалеко стоял плечистый малый, с цыганским лицом, и крутил цыгарку. Антип подошел к нему и спросил:
— Не знаешь ли, почтенный, человека?
— Какого?
— Прошенье губернатору написать… От общества, значит…
— Знаю: Иван Федосеич тут есть. К самому царю может написать.
— Нельзя ли до его милости меня направить?
— Можно за сотку…
— За каку таку сотку?
Малый затянулся из цыгарки и ответил:
— Сотка-то? Это — маленькая такая бутылочка: булькнул из нее раз-два, и готово. Всего одиннадцать копеек стоит…
Антип понял, усмехнулся и достал узелок, где хранилась «общественная» сумма. Бережно отсчитал одиннадцать копеек и подал малому. Тот живо схватил и весело гаркнул:
— Идем к Ивану Федосеичу…
Пошли. Долго ныряли по окраинным улицам города. На пути малый забежал в казенку, ловко вышиб пробку из маленькой бутылки, выпил водку единым духом и грустно сказал Антипу:
— Вот и все.
Пришли, наконец, к избе, где жил Иван Федосеич. На гнилых покосившихся воротах висела большая железная доска, на черном фоне которой жирно и крупно было выведено белым:
«Всякие прошения соченяю»
И внизу добавлено помельче:
«Здеся же продается чернило»
Малый уверенно отворил ворота и так же уверенно вошел в сени, отворил двери, заглянул в комнату и бросил Антипу:
— Они у себя: иди.
Антип снял шапку еще в сенях и вошел за малым, который тотчас же сел на стул и начал вертеть цыгарку, чувствуя себя отлично. Посредине комнаты стоял сам Иван Федосеич — совершенно лысый человек, лет тридцати, с узким шишковатым лбом, с крошечными, точно просверленными глазками и с подвязанной щекой, за которую он часто хватался и делал болезненные гримасы. Правая нога его, странно скрюченная, почти волочилась по земле. От этого Иван Федосеич не ходил, а ковылял, как утка, и весь он, сгорбленный и бесцветный, напоминал старую поломанную развинченную куклу…
Антип начал рассказывать про свое дело. Иван Федосеич слушал, болезненно морщился и смотрел куда-то в сторону мутными глазками. Когда Антип кончил, Иван Федосеич посмотрел на малого, сидевшего на стуле, показал на голову и сказал:
— Болит.
Малый сочувственно качнул головой и ответил выразительно:
— Поправить надо.
Антип не понимал, в чем дело, и спросил наивно:
— Хвораете, значит, господин хозяин?
Иван Федосеич грустно посмотрел на него и ответил:
— Хвораю по своему желанию, деньгу добываю…
Антип удивился и поднял брови. Иван Федосеич ковыльнул по комнате и продолжал:
— Хорошо иногда попадает. Вот в прошлом году купец Морозов, пьяный, с полчаса бил меня биллиардным кием… Натешился и говорит: «Ну, бери двадцать пять рублей». Нет, говорю, голубчик. Подаю на него на другой день в суд по статье сто тридцать пятой устава о наказаниях. Получил он повестку — ко мне. Прямо на паре вороных прикатил и молит: «Брось, Федосеич, возьми 50 рублей и прекрати дело». Нет, говорю, мало, давай радужную… И отдал.
— А вчера, значит, тоже было? — спросил малый.
— Было, Аверьян Карпыч два раза по скулам хватил. Ну… тоже дешево не отделается, а давал уже четвертной билет. Шалишь: сегодня прошеньице на него приготовил — меньше сотни не сдамся на мировую.
Антип слушал и удивлялся. Не вытерпел и спросил деликатно:
— И ножку таким же манером повредили вам?
Иван Федосеич точно обрадовался вопросу, странно помолодел и улыбнулся так, как улыбаются люди, вспоминающие что-нибудь красивое из детства.
— Это — первое мая встречали… Ванька Пономарев, торгующий по бакалейной части, напился и кричит мне: «Федосеич, залезай на березу, на самую вершину, и чебурахнись на землю: плачу за это пятьдесят!» Я, конечно, его обставил, как следует, свидетелей тут выставил и все такое прочее… Н-ну… залез на березу и качнул на землю. Часа два со мной отваживались, водой отливали, ничего — сошло, только ногу повредил… Тут же все полсотни получил. А то еще случай был: купец Андрей Петрович поехал к девицам, взял меня с собой к говорит дорогой: «Федосеич, голубчик, тяпнись сейчас, на ходу, о телеграфный столб — плачу двести». Я, конечно, извозчика в свидетели… Разогнал извозчик лошадь, нарочно мимо столба самого поехал, а я приноровил — и хвать лбом. Помню только — искры везде брызнули, часа полтора без памяти был. Отдал Андрей Петрович две сотни… Очень эти купцы боятся суда — вот и бью на это.
— Как же насчет прошенья-то, господин? — робко прервал хозяина Антип.
Иван Федосеич как-то сразу потух, схватился за щеку и ответил:
— Можно. Сколько заплатишь?
— Общество набрало полтора рубля… Одиннадцать копеек я отдал вот этому провожателю…
— Гм… маловато. Писать ведь губернатору надо.
— Да, ему…
— То-то. Целое общество, а набрали гроши.
— Год трудный, господин.
— Ну, да ладно. Я только с богатых деру, а с бедных и это ладно… Вот еще купцу Анисимову подставлю как-нибудь рыло: меньше сотни не отделается. Ну, садись и рассказывай, а я писать буду…
Антип сел и начал рассказывать, и опять очерчивалось в душе все острое, наболевшее — грядущие голодные дни, тоска заброшенных в степи людей. Все вспыхнуло в ярких, простых, понятных ему образах, но слабо передавал язык волнующее и родное… Иван Федосеич, поддерживая щеку, скрипел пером и выводил кривые узорчатые слова:
«Хлебных запасов и прочих кормов для скота уже несколько месяцев не имеем. Дети наши и вся протчая домашняя тварь должны погибнуть от голодной смерти. Между тем всем известно, что мы тоже люди по Образу и Подобию Божетцкому».
Много написал и закончил прошение словами:
«А посему припадаем к Стопам Вашего Превосходительства и слезно просим выдать приказ о наделении всех наших душ способием от Казны как хлебом, так и деньгами до будущего урожая».
Внушительно после этого прочел прошение Антипу и спросил сурово:
— Ладно?
— Очень даже хорошо. Чувствительно благодарим…
— Грамотный?
— Нет…
— Гм… Вот, Корней распишется за тебя…
Он показал на малого, который все время дымил цыгаркой. Тот предупредительно встал, расписался и сказал Антипу:
— За расписку еще на сотку…
Антип почесал голову и расплатился за все. Иван Федосеич запечатал прошение в конверт, написал адрес и сказал:
— Валяй на почту — успеешь сдать. Помни одно, раз я написал — выйдет.
— Покорнейше благодарим.
Вышел на улицу. Что-то бодрое, радостное охватило душу, и странно-доверчиво смотрел все время на конверт. В серой бумаге таились людские надежды, вера во властных и сильных, никогда не видавших человеческого страдания. И старый, вековой страх — черная кошка в душе точно затихла где-то в углу, поблескивая зелеными зрачками…
На почте сдал пакет заказным, получил квитанцию и, выйдя на улицу, тщательно завязал квитанцию в платок. И думал:
«Обществу ее представлю… Прямо, мол, пошла бумага к губернатору… Может, и даст чего-нибудь бог?..»
Пришел на постоялый двор, посмотрел у корма лошадь, еще раз попил основательно чаю, полежал на полу и решил с вечера ехать домой. Когда на небе уже сверкали крупные звезды, Антип запряг лошадь и пошел в избу рассчитаться с хозяином. Хозяин — высокий, тучный старик, с багровым лицом, несколько удивленно посмотрел на Антипа и спросил:
— Неужели ночью поедешь?
— А что?
— Ныне грабежей много под городом: голодный год.
Антип усмехнулся.
— Ну, бог с нами: чего с меня взять?
— Ныне за полтинник убивают…
— Ничего.
— Как хочешь… — сказал хозяин, почесался и равнодушно зевнул.
Антип рассчитался и поехал. На улицах горели фонари, шли люди, и четко звучали человеческие голоса в ясном, морозном воздухе. Отдохнувший Гнедко бодро бежал вперед, точно знал, что поехал к дому. За городом сразу стало тихо, впереди маячила наезженная дорога, и пели о чем-то телеграфные столбы…
Антип тоненько покрикивал на лошадь и временами смотрел на небо. Там, в бездонной синеве, шел звездный пир… Горели, трепетали и смеялись милые звезды, а далеко впереди, перечеркнутый тонким, кружевным облаком, поднимался золотой месяц. Снег по сторонам горел алмазами, переливался и заодно с звездами нес в душу красивую сказку о тайнах молчаливых равнин…
Верстах в четырех от города маячила мельница, около которой поднимался небольшой березовый лесок. Дорога шла через лесок, и здесь было уже не так светло, как в полях. Антип немного заробел и ударил кнутом Гнедого, который бежал попрежнему ровно. Гнедой тряхнул головой, прибавил шагу, но вдруг сразу вздыбил, захрипел и остановился…
Антип выглянул из короба и обмер… Один, большой и черный, держал лошадь за узду, а другой, в башлыке, с длинным горбатым носом, подошел вплотную к Антипу и резко сказал:
— Вылезай.
Не слушались ноги, подкашивались, но вылез из коробка и трясся… Горбоносый сверкнул чем-то в руке и бросил опять резко:
— Давай деньги.
— Ничего нет… поч-ч…
— Давай.
Опять сверкнуло что-то в руке горбоносого…
Стуча зубами, Антип вытащил платок, где было около двух рублей, и подал. Горбоносый взял, потом повернул Антипа и тщательно обыскал у него карманы и за пазухой. А затем быстро, точно по команде, двое вскочили в коробок, с силой ударили по лошади и мызнули куда-то в сторону, в самый лесок… Черкнули между деревьями и скрылись…
Задыхаясь и хрипя, Антип бросился догонять, но вязли ноги в снегу и спирало в груди, где бешено колотилось сердце… Бежал, падал и кричал тоненько:
— А-а-а…
Молча, как убитая, ночь сверкала нарядными огнями, и пировали звезды в небесном чертоге. Смотрел холодно из-за леса бесстрастный месяц, маячила бледная дорога впереди. Антип не мог больше бежать. Остановился, упал лицом в снег и заскулил, как щенок…
1914
ПРИМЕЧАНИЯ
Печатается по тексту книги: А. Туркин. Степное. Издательское товарищество писателей. СПБ. 1914.
Грех
Суров и грозен старый мулла Салимов, три раза побывавший в Мекке. Когда он идет по улицам к старой и горделивой мечети, после того как уже кричал на молитву гнусавый азанчей[1], — тогда все живое покорно и почтительно жмется по сторонам, торопливо давая дорогу… А он, высокий и седой, с молодыми бархатными бровями, важно и медленно, глядя в землю, идет по улицам, сверкая белоснежной чалмой… Идет и четко ударяет посохом о дорогу, тем самым, с которым три раза ходил в Мекку и которым часто бивал непослушных сынов священного корана[2]… Идет старый мулла — и все живущее смиренно склоняет голову… Мужчины смотрят трусливо, как зайцы, а женщины, торопливо кутая лица, быстро скрываются с улиц… Перестают горланить полунагие башкирята, и даже собаки, злые и тощие, поджимают книзу волчьи хвосты. И слышно, как за муллой несется гортанный, полузадавленный говор:
— Ишан! Ишан![3]
Да, суров и грозен старый мулла Салимов, и выше всего на свете он ставит священные страницы корана… Поэтому, должно быть, старый мулла полупрезрительно и важно смотрел кругом, на жалкие, собачьи конуры, где прятались полудикие люди — верные сыны ислама, где жили болезни и гулял вечный мрак… И, когда люди гнулись перед ним покорно, как собаки, старый мулла был доволен, ибо это так нужно было по смыслу, который окружал только его… Ибо он побывал три раза в священной Мекке, он знал наизусть великие, огненные страницы корана, и было бы нелепо допустить, чтобы эта жалкая человеческая орава не гнулась смиренно перед ним, как приозерный тростник от могучего всполоха ветра…
Довольство и почет окружали старого муллу. Ни у кого в округе не было таких богатых табунов лошадей, таких стройных и легких, как степной ветер, кобылиц и таких богатых, красивых ковров в доме… Никто не пользовался таким почетом; ни к кому, кроме муллы, не ездили такие важные и чиновные гости, как становой, земский или даже исправник… А волостной старшина Карымов, дряхлый и дряблый, как столетний пень, изглоданный червями, ни одного дела не мог решить в волости без того, чтобы не попросить совета у муллы… И если нужно было кому-нибудь повести дело в свою пользу, — тот неизменно шел сначала к ишану, кланялся ему в ноги, целовал большую, жирную руку и клал деньги на богато убранные нары. И тогда дело решалось в его пользу…
Много видал на своем долгом веку старый мулла. Был два раза в самой столице, в той самой, где живет царь. Рассказывал потом прихожанам, что был у царя два раза, в самой его спальне, где стоят стройные, золотые колонны… Что долго говорил каждый раз с царем, и он обещал сделать муллу Салимова ахуном[4] в губернском городе… И обещал никогда не трогать вольные башкирские земли, что рассыпались у ног гордого, темносинего Урала. Что царь вышлет на это золотую грамоту, и она будет для всех так же священна, как страницы великого корана…
Так часто рассказывал старый мулла Салимов. Все жадно слушали его речи, чмокали губами и чесали бритые затылки… И точно выше от этого делался мулла, суровый, в белоснежной чалме, с молодыми бархатными бровями.
Однажды пришел к мулле старый и дряхлый старшина Карымов. Провел ладонями по лицу, подобострастно припал к рукам муллы и прикоснулся к ним синими, безжизненными губами. Мулла молча показал на нары, где лежали пышные ковры. И старшина сел.
Молчали долго.
Первым должен был заговорить мулла, лежавший на нарах с полузакрытыми глазами, над которыми четко и странно молодо изогнулись черные брови… Карымов смущенно скреб в затылке, отодвинув в сторону аракчин. И вздыхал.
Наконец, мулла поднял молодые брови и спросил тихо:
— Тебе что, Ахмет?
Старшина опять поскреб в голове, пожевал синими губами и ответил робко:
— Хочу жениться, мулла…
Опять помолчали. Взгремела на улице собака, за ней другая — и скоро дружная стая их бросилась за кем-то по дороге. Когда затихли, мулла спросил коротко:
— Зачем?
Карымов опять пожевал синими губами. И ответил:
— Хозяйство большое… Сам знаешь!.. Ханисафа стара стала… Хозяйство большое… Разреши, ишан!..
— Невеста есть?
— Есть, ишан…
— Кто?
— Дочь старосты Садыкова. Бибинор…
— Но ведь она еще молода?
— Ей скоро шестнадцать…
— Так по закону нужно…
— Скоро, ишан… Месяц остался до шестнадцати… — Опять замолчали. Мулла Салимов задумчиво смотрел в окно, где играли краски молодой, едва нарождавшейся весны. На подоконнике возились и страстно ворковали голуби…
— А Садыков согласен за тебя отдать дочь?
— Он согласен, мулла… Не знаю, как Бибинор.
Мулла строго сдвинул молодые брови и сказал презрительно:
— У нас с женщинами не разговаривают! Ты это знаешь?.. Если отец отдаст — ульган[5]! А с женщинами не разговаривают… О калыме говорил с отцом?
— Да…
— Много просит?
— Десять лошадей, полсотни баранов и триста рублей деньгами…
— Ты согласен?
— Да, ишан… Конечно…
Карымов облизал синие, сухие губы и усмехнулся. В старческой, дряблой памяти пробежала, как легкая горная коза, высокая, тоненькая Бибинор, с черными, смоляными глазами… И Карымов еще раз облизал свои синие, как у мертвеца, губы, а руки его, худые и тонкие, как плети, странно передергивали костлявыми пальцами…
— Ну, так что? Якши!.. Начинай свадьбу… — проговорил мулла и устало закрыл глаза.
Карымов встал, порылся в кармане. Вытащил бумажный сверток и положил на нары. Мулла не шевелился. Карымов низко поклонился и тихо вышел, чуть поскрипывая новыми, сафьяновыми ичигами.
Как невеста, наряжалась степь…
Кто-то большой и сильный, весь пронизанный радугами света, дни и ночи шел по степи, небрежно роняя за собой цветы и песни… Одевалась в зеленые жемчужные ленты степь, веселилась, пьяная, заодно с солнцем и бросала в воздух музыку птичьих голосов. Сверкали полноводные озера, шептался радостно тростник, синел вдали горный Урал и ломал в воздухе четкие грани вершин.
Широко и богато играл свадьбу старый, дряблый старшина Карымов. Издалека съехались гости, пили молодой кумыс, досыта ели баранину. Гулко и протяжно икали, потом опять ели и запивали пенистым белоснежным кумысом. Со всей округи съехались лихие, ловкие наездники на скачки, чтобы получить призы, выставленные богатым женихом, старшиной Карымовым. Целый день, при громком, восторженном реве толпы, скакали наездники, с места брали все вместе, а потом тонули в степи на вытянувшихся, как стрелы, лошадях. И возвращались так же бешено, при восторженном реве толпы…
В доме старосты Садыкова смуглые, черноглазые девушки наряжали невесту, молоденькую, стройную Бибинор. Гортанными голосами пели смуглые девушки печальные песни, и заливалась слезами молоденькая Бибинор. Не радовал ее богатый кафтан, опушенный горностаем, и яркие, тяжелые монеты, заливавшие упругую, полудетскую грудь… Плакала горько Бибинор, и все чудились ей дряхлые, синие, бескровные губы и тощие, как палки, сухие руки жениха. Сквозь крупные слезы смотрела она в окно, на улицу, где гремела толпа, где скакали лихие наездники, и взгляд черных глаз ее не раз останавливался на молодом и стройном Якупе — одном из лучших и ловких, ездоков. И Якуп, проезжая мимо, бросал соколиный взгляд на окно, а потом бешено, с странно искаженным лицом мчался наряду с другими в волны изумрудной степи…
Плакала Бибинор, а смуглые девушки пели печальные степные песни… Бросалась Бибинор на нары, лицом вниз, судорожно вздрагивала всем телом и тоненьким, хрустальным голосом пела:
— …Унеси меня, степной ветер, в далекие края к милому… Спрячь меня, зеленый камыш, от судьбы горькой… Пойте, птицы лесные, песни венчальные! Я пойду в урман, до самого Урала, и буду кричать долго-долго… Милый откликнется мне звонко и протяжно, а птицы будут петь песни венчальные… Спрячь, схорони, урман, навеки с милым!.. Река, унеси мое горе…
Пела, дрожала всем телом, и плакали молодые подруги… А там, за стеной, хохотал с гостями пьяный отец — староста Садыков и громко хвастался полученным калымом. Чмокали толстыми губами завистливые гости, пили водку, кумыс, ели баранину и орали гнусавыми голосами песни, величая жениха и хозяина. И не было никому дела до тоненькой Бибинор и до ее слез… А в глубине своего дома, осматривая пышные брачные нары, жадно лизал синие губы жених и потирал тонкие, дряблые руки…
Два случая, как два враждебных вихря, налетели на деревню и взволновали старого, сурового муллу Салимова…
Во-первых, приезжали межевые инженеры и к мулле не заехали. Взяли старшину, старосту, понятых и целую неделю мерили земли и проехали по граням. Составляли новые планы, а потом заявили старшине, что часть башкирских земель отойдет в казну… Чесали затылки ошеломленные башкиры, горланили что-то на сходе хриплыми голосами и порешили в конце, что не отдадут они вольные башкирские земли, подаренные им навечно, вплоть до синего Урала… Приходили потом все к мулле Салимову, и он, гневно сдвинув молодые брови, сверкая белоснежной чалмой, кричал, что это приезжали «урус дунгузы»[6], что царь обещал ему золотую грамоту на земли и что царь никогда не обманет старого муллу, три раза побывавшего в Мекке… И он клянется священными листами корана и кровью своей отстоять родные влажные пашни и степь, покрытую изумрудной зеленью… И слушали успокоенные башкиры слова старого муллы Салимова, легче от этого становилось на душе, и все расходились по избам… Но мулла Салимов долго не мог успокоиться, и его давила мысль, что приезжавшие чиновники даже не заглянули к, такому почтенному и уважаемому мулле, у которого часто бывал сам исправник…
Вечером к мулле зашел старшина Карымов. Мягко скрипел ичигами, опять кланялся и целовал пухлую руку муллы. Еще безжизненней было его старое, сморщенное, как у мертвеца, лицо, еще синей казались бескровные губы. Сел на нары и низко-низко опустил седую, бритую голову, с боку которой проходил старый, безобразный шрам…
— Тебе что? — отрывисто спросил мулла, все еще гневный от дум.
Ниже опустил голову старшина и проговорил хрипло:
— Горе, ишан… Горе!
— Что?
— Бибинор… изменила мне…
Точно ужаленный, с побледневшим лицом вскочил с нар мулла Салимов и бешено крикнул:
— Что ты говоришь, старый дурак? Разве мусульманская женщина может изменить мужу? Где это слыхано? Ты ошибся, старый мерин! Или пьян? Я знаю — проклятые урусы и сюда затащили водку… Ты выпил?
— Нет, мулла… нет… — шептал Карымов.
— Ну, значит, не проспался… Разве ты видел с кем-нибудь Бибинор?
— Ханисафа видела… Когда я ездил с чиновниками…. Она…
— Ну?
— Она видела… как Бибинор уходила ночью в степь… И с ней…
— Ну?
— И с ней вместе ходил Якуп…
— Асянов?
— Да…
Замолчали. Багровые жилы надулись на лбу муллы. И долго так молчали, а маленькие стенные часы быстро и проворно чеканили:
— Да… да… да…
— И ты… не убил Якупа? — почти беззвучно спросил мулла.
— Нет…
— Ступай, трус! — резко крикнул мулла и, точно обессиленный, лег на нарах. И на бледном лице его, как бархат, запрокинулись черные брови…
В пятницу в мечети, когда было много молящихся, мулла Салимов после обычных молитв, опершись на посох, взошел на мехрап[7]. Сурово повел глазами. Заговорил тихо, но голос рос молодо и сильно. И зазвенел, как медная труба.
Он говорил о том, что проходит то время, когда ничем не были запятнаны чистые страницы корана и когда душа великого пророка мирно нежилась в райских садах с белоснежными девами… Пришли новые дни, страшные, черные дни, когда слуги пророка начали пить водку, а жены начали изменять мужьям. Горе! Горе! Гремят в могилах кости старых праведных сынов. Горе! Горе! Пришло подлое новое племя и топчет святыни, так бережно хранимые веками… Разве нет для них пенистого кумысу, жирных баранов и степи, потонувшей в бархате весны?.. Разве не стало птиц, резвых коней, зеркальных озер? Где вера и бог? Нет, он не допустит до того, чтобы шаталась, как от ветра ракита на берегу, вера отцов, заснувших там, между старыми березами, где кричат грачи… Он проклянет безумцев, переступивших грань завещанного! Он накажет их по шариату, и гнев пророка вырвет языки и сердца всех неверующих собак!.. Горе преступившим заповеди пророка! Горе неверным женщинам-рабыням! Горе обольстителям!..
Он прокричал последние слова и пошел из мечети. Мертвая тишина шла за ним следом… И четко угрожающе двигалась рядом с ним его длинная тень…
…Было на улице странно суровое зрелище, когда старый мулла наказывал молоденькую Бибинор и стройного, чернобрового Якупа…
По приказанию муллы, Якупа и Бибинор запрягли в дряхлую телегу, которая гулко пронзительно скрипела немазанными колесами. Обвешали Якупа и Бибинор гнилым тряпьем и старой вонючей обувью. Стоял на улице высокий суровый мулла Салимов с гневно сдвинутыми молодыми бровями. И громко приказывал:
— Айда… шайтаны!
И тронулись они, двое, молодые и бледные. Гулко заскрипела телега, а плотная толпа людей дико завыла и побежала наравне. Кидали комьями грязи, камнями, свистели, гоготали… Старые апайки, как ведьмы, отвратительные в своих лохмотьях, забегали вперед и плевали в нежное лучистое лицо Бибинор. Она прятала лицо, и глаза ее, широко раскрытые, были глаза смертельно раненной газели… Бледный и красивый, напрягая стальные мускулы, вытянулся стройный Якуп и легко грохотал телегой, стараясь защитить Бибинор. Далеко отшвыривал старых апаек, они валились на землю, вскакивали, визжали, как дьяволы, и старались плюнуть Бибинор в лицо, а Якупу выдрать глаза… Точно мстили за свои старые жизни рабынь, за черные дни в вонючих ямах, все изжитые без красок, без лучей, без звуков… Кто-то маленький и старый, весь сжатый в комочек, спотыкаясь и падая, бежал сзади всех и плакал надорванным хриплым голосом… То была старая мать Бибинор…
Объехали несколько улиц. Вернулись опять туда, где стоял грозный мулла. Он ударил посохом о землю и крикнул:
— Довольно!
Остановились, все странно затихшие. Отпрягли людей. Шатаясь, плотно закутав лицо, пошла Бибинор в дом старого мужа, который смотрел в окно и лизал дряблые, синие губы. Гордый и прямой, как стрела, с горящими глазами, Якуп тихо направился за деревню, где волновалась степь… Все молча смотрели ему вслед и разошлись, стараясь не смотреть друг на друга. Только долго был слышен на улице хриплый, надорванный плач старой апайки, свернувшейся в комочек у дверей.
Ночь подошла тихая, страстная, с шепотом молодых трав, с безумной отвагой жизни… Горели кроткие звезды. Шепталась дружная трава, завороженная песнями земли. Чертили по улицам вкрадчивые тени. Молчали собаки и не залаяли, когда высокий, стройный человек крался к дому старшины…
Крепко спал старый мулла Салимов, и снился ему великий пророк, говоривший с неба:
— Ты задушил грех, ишан! Я возьму твою душу сюда, где идет вечный, надзвездный пир жизни…
Болезненно кашляя и сипя, спал старшина Карымов. Снилась ему молоденькая Бибинор, молившая простить грех… Жмется упругим телом к хилому, и алые, нежные губы льнут к синим, бескровным… И сладострастно чмокает старшина во сне…
Спит деревня. Плетут кружева на улицах шальные тени. Где-то тихо скрипнули двери. Стройная белая тень поплыла от ворот старшины Карымова, к ней быстро подошла другая… Схватились за руки и побежали туда, в темносиний, упругий мрак, где задыхалась от счастья степь…
1914
ПРИМЕЧАНИЯ
Печатается по тексту публикации в книге: А. Туркин. Степное. Издательское товарищество писателей. СПБ. 1914.
notes
Примечания
1
Азанчей — прислужник в мечети.
2
Коран — священная книга мусульман.
3
Ишан — святой.
4
Ахун — старший мулла.
5
Ульган — конец.
6
Урус дунгузы — русские свиньи.
7
Мехрап — возвышение в мечети.
Душа болит
Судебный следователь Зайцев ехал на вскрытие трупа в село Коровье, которое находилось от станции железной дороги в тридцати верстах. На станции, где был буфет, Зайцев плотно закусил, выпил водки и чувствовал себя превосходно. Покуривал и иногда, слегка дрожащим, жидким тенорком, затягивал:
Вот мельница — она уж развалилась…
Дальше Зайцев не помнил, что нужно петь, но ему было вполне достаточно того, что он знал, и мурлыкал одни и те же слова. Ямщик, в меховой татарской шапке, в валенках, но в плохом, заплатанном зипуне, изредка покрикивал на лошадей и скашивал глаза в сторону «барина» весьма деликатно, точно давал понять, что барину «завсегда» можно петь, как и подобает «всякому начальству»…
Стояла ранняя, но холодная весна. По бокам дороги тянулись черные пашни, с глубокими, точно проржавленными, межами. Иногда попадались чахлые березовые рощи, среди которых — на случайно уцелевших больших и сильных березах — чернели грачиные гнезда. Но перелески попадали редко, все тянулись пашни и луга, с желтой, прошлогодней отавой. Кое-где можно было видеть тощий скот, бродивший недалеко от заимок, мужика, возившегося со старым плугом, брошенным около пашни с прошлой осени. Иногда резал воздух жалобный крик пигалицы — ранней гостьи печальных равнин. И странно все это бороздило душу… В природе не хватало жизни, как не хватает красок в бледно исполненной картине. Не было птичьих песен, бодрых человеческих голосов, мощно кипящего труда. Все казалось недосказанным, сжатым тенью тоски и неволи, точно небо и земля остро подчеркивали, что там, где человек бродит вечным рабом, — там жизни не может быть!
Но Зайцев чувствовал себя превосходно и все тянул одни и те же слова, хотя мысли странно прыгали где-то совсем в стороне. Вспомнил, что дома жена, вероятно, заказала сшить для него брюки, так как всем этим она лично заведовала и всегда давала ему понять, что он «не практик». Потом вспомнил, что с ямщиками иногда разговаривают, и решил приступить к делу. Закурил, солидно откашлялся и слегка дотронулся до спины возницы. Тот моментально задержал лошадей и повернул к Зайцеву рябое, испитое лицо, с противным, заискивающим выражением. И широко осклабился:
— Чего изволите? До ветру?
— Н-н-нет… Ну, как у вас тут?
— Чего-с?
Зайцев и сам не знал, что, собственно, нужно спросить, но поддержать разговор было необходимо. Сохраняя солидный вид, он начал:
— Ну, как у вас тут? Хлебопашество?
— Так точно!
— Гм… Ты разве в солдатах был?
— Никак нет!
— Так зачем… отвечаешь по-военному?
— А это, изволите видеть, ваше благородие, натура-с! Потому как мы завсегда видим начальство — так хозяин приказал нам завсегда отвечать по-солдатски…
— Хозяин?
— Так точно!
— Так… А что… родится у вас тут хлеб?
— Так точно! Лони по сотне пудов снимали с десятины…
— Что?.. Крупчатку?..
— Никак нет! Пшеницу и овес…
Зайцев немного сконфузился и вспомнил опять, что жена ядовито дает ему понять каждый раз, что он «не практик».
Замолчал и думал о том, что сотни раз он видел золотистые колосья, но почему-то никогда не интересовался узнать, что, собственно, растет на полях. И вообще жизнь как-то шла по одной узкой плоскости, точно огромный мир состоял из одних протоколов, дознаний, прокурорских предписаний и винта в клубе. И сотни человеческих трупов пришлось видеть, но в то время, когда нож доктора гулял по мертвому телу, на душе все было как-то странно — размеренно и узко. Смотрел, курил и слушал, как врач, работая ножом, ронял заученно: «…в шейную область, слева под нижней челюстью, нанесена острорежущим орудием рана, длиною в полтора вершка, повредившая дыхательное горло, левую яремную вену и левую сонную артерию…» Смотрел на мертвые, иногда искаженные черты лица, и никогда не приходила мысль в голову, что под ножом легла многогранная, цветная человеческая жизнь… Не думал никогда об этом, записывал свое, что нужно, острил с доктором и говорил ему:
— А вечером, доктор, смастерим винтик?
…Не хотелось думать о чем-то таком сложном, на что требовались пытливые, гибкие мысли, и Зайцев опять спросил возницу:
— А в Коровьем отводная квартира есть?
— Так точно! Плохая, ваше благородие…
— Плохая? Чем плохая?
— Тесно. Да и хозяин не в порядке…
— А что?
— Пьет!
— Пьет?
— Да.
— Так, как же?
— А я вас, значит, доставлю к Якову Семенычу…
— Это кто?
— Торгующий тут: Яков Семеныч Лушников.
— Так, удобно ли? Может, я стесню его?
— Никак нет! Яков Семеныч сам наказывал: ежели какое начальство — ко мне доставляй. Потому, он любит всякое начальство… вот недавно становой у него останавливался: очень довольны остались его благородие…
— Ну… хорошо. Мне все равно…
Говорить больше не хотелось, и Зайцев, откинувшись на подушки, замурлыкал старое. У самой поскотины повстречались со странником. Высокий, худой старик, без шапки, совсем лысый, с мешком за плечами, — странник метнул в сторону Зайцева странно-враждебным взглядом и точно черкнул мимо экипажа. Казалось все это простым и обычным, но невольно хотелось оглянуться назад и узнать — кто он, молчаливый путник холодной степи?
От поскотины, которая развернулась версты на четыре, ясно виднелось село Коровье. Выступала церковь, белая, как лебедь, и поблескивала крестами. Отсюда можно было сосчитать дома, покрытые железом, остальные, больше крытые соломой, сливались в общем, однотонно-сером. В поскотине пасся деревенский скот, и мальчишка-пастух звонко пощелкивал длинным ременным бичом. Скот был больше тощий, вялый и точно подчеркивал своим безжизненным видом, что, наконец, провалилась холодная, бескормная зима, которую всем было пережить нелегко: и людям, и животным…
Скоро доехали до села. Солнце уже садилось низко и мягкими бликами играло на соломенных кровлях. На улицах бегали босоногие мальчишки, что-то кричали вслед, но колокольчики, сразу заигравшие гуще, заглушали детские голоса. Доехали до церковной площади, и ямщик круто завернул лошадей к двухэтажному дому, который резко выделялся среди остальных своей крепкостью, солидностью и сравнительной нарядностью. На воротах высился новенький раскрашенный скворечник, пока пустой, а в нижнем этаже помещалась торговая лавка. На дверях лавки густо расклеены разного рода «рекламы», причем особенно выделялся ярко раскрашенный, франтовато одетый господин в цилиндре, который «рекомендовал» покупателю папиросы какой-то «самой лучшей фабрики в мире». Господин курил папиросу, и на его раскрашенном, глупом лице «почтеннейшая фирма» усиленно постаралась изобразить сладостно-умиленное выражение, которое должно было получиться от курения папиросы… В окнах верхнего этажа четко сверкали белоснежные шторы, собранные к подоконникам широкими розовыми лентами…
— Это что? К Якову Семенычу? — спросил Зайцев.
— Так точно!
Колокольчики взыграли в последний раз у ворот и замерли. Из лавки, брякнув стеклянной дверью, живо выскочил сам Яков Семеныч Лушников. Круглый, жирный, с белыми пухлыми руками, с густо сросшимися бровями и черной бородой, он тонко изобразил на лице почтительность, подошел к экипажу и низко поклонился. Зайцев подал ему руку и сказал небрежно:
— Я — судебный следователь. Знаете: хотел на отводную квартиру, но ямщик…
Он не договорил. Яков Семеныч, с приятной улыбкой, зазолновался и начал сыпать, как горохом:
— Помилуйте, ваше высокородие! Да мы завсегда! Весь, можно сказать, век прожил с начальством. Пожалуйте! Степан, заезжай прямо на двор. Эй, Гришка!
Из лавки вышел чумазый малый, вытер нос рукавом и остановился.
— Живо! Помоги вынести вещи его благородия. Знаешь, в угловую? Пожалуйте! Милости просим! Мы по-русски: милости просим!
Отворили ворота и въехали. Везде было все прочно, солидно. Под навесом стояла крытая повозка с застегнутым кожухом, и в отверстие выставилась детская голова. Сытый, огромный пес, очень лохматый и серьезный, медленно вылез из балагана, брякнул цепью и хотел залаять, но раздумал, почесал за ухом лапой, сладострастно оскалив зубы, и так же медленно убрался в балаган. Зайцев вылез из экипажа, а Лушников забежал вперед и сыпал:
— Пожалуйте! Сюда пожалуйте, ваше высокородие! Наверх милости просим…
Поднимаясь по высокой, крашеной лестнице, устланной цветной дорожкой, Зайцев думал сентиментально:
«Странно! В печати много кричат о том, что русский мужик измельчал, огрубел, часто готов на преступление… Вот вам образец истинного русского добродушия, гостеприимства… Да… Есть еще люди. Есть!»
Поднялся наверх, а впереди, как из земли, опять вырос хозяин:
— Сюда, ваше высокородие! Сюда пожалуйте! Эй, Гришка! Сюда вещи его высокородия…
Зайцев, улыбаясь, вошел в отведенную для него комнату и приятно удивился. Чистая кровать с белоснежной простыней, большое дорогое зеркало, мраморный умывальник, шторы с розовыми лентами. Потолок и стены покрыты масляной краской, и на нежнолазоревом фоне разбросаны зеленые букеты. Над самой кроватью висела олеография в золоченой раме, где был изображен Фауст, подкарауливший у окна Маргариту. И Фауст и Маргарита друг другу улыбались, а коварный Мефистофель, сзади Фауста, корчил рожу и для чего-то высунул огненно-красный язык…
Зайцев медленно раздевался и думал, что в этой приятной обстановке он чувствует себя превосходно, «как дома».
— Хорошо у вас тут… Вот мне бы теперь умыться…
— Сию минуту, ваше высокородие.
Яков Семеныч исчез, точно провалился, а через несколько минут пришла плотная, босоногая баба с ведром воды. Налила в умывальник и сказала певуче:
— Пожалуйте…
Зайцев с наслаждением умывался, фыркал, чистил зубы, и сзади резко выступала его слегка загорелая, жирная шея. Долго стоял перед зеркалом и нашел, что еще «очень сохранился». Надел чистое белье и подумал, что недурно бы теперь выпить чаю.
С улицы надвигались в окна нежные полутени сумерек — милые дети ранней северной весны. Прижимались к окнам и, робкие, точно жаловались на то, что слишком медленно идет весна и мучительно хочется звуков и солнца. Что там, за перелесками, где чернеют истомленные ожиданием пашни, еще холодно по ночам, и звонко отдается мерзлая земля. Что все там — и земля, и деревья, и луга, где реют туманы по ночам, живет и дышит радостью ожидания жизни, сотканной из песен без слов, из жгучих лучей и человеческих голосов, что будут звучать рядом с золотистыми колосьями…
Пришла опять босоногая, плотная баба и принесла зажженную лампу с синим стеклянным абажуром. Поставила на стол, быстро метнула на Зайцева глазами и вышла. Почти тотчас же появился Яков Семеныч, погладил бороду и пригласил:
— Чайку милости просим. С дорожки…
— Да ведь я бы и здесь напился: чай и сахар у меня есть…
— Помилуйте! Ежели не брезгуете…
— Я с удовольствием. Я — человек простой…
— Приятно слышать!..
Еще немного полюбезничали, и Зайцев направился за хозяином. Прошли в большую, такую же расписную комнату, посредине которой стоял круглый стол, накрытый скатертью с массивными кистями. Задорно шипел пузатый никелированный самовар, стояли вазы с вареньем разных сортов, и заманчиво выделялся пухлый пирог с яблоками. На соседнем столе помещалась «выпивка» с закусками.
Из-за стола поднялась дородная женщина, очень белая, рыхлая, свежая, с голубыми глазами и небольшим, пухлым и нежным ртом. Жеманно потупила глаза, а Яков Семеныч рекомендовал:
— Моя супруга — Анна Ивановна…
Зайцев деликатно шаркнул ногой и пожал руку у Анны Ивановны. И невольно подумал, что его собственная рука, также пухлая и белая, как у женщины, погрузилась на секунду в подушку…
Помолчали. Чай наливала Анна Ивановна, и Зайцев заметил, что руки у нее немного дрожали, что она краснела и волновалась, а высокая грудь ее, под просторной кофтой, переливалась студнем.
Яков Семеныч вдруг спохватился, встал с места и, указывая на бутылки, пригласил:
— Ваше высокородие! С дорожки…
— Гм… Я ведь плохо, Яков Семеныч, на этот счет.
— По маленькой… По баночке.
— По баночке?
— Да-с…
— Хе-хе! В первый раз слышу: по баночке! Ну, хорошо… А хозяюшка?
— И она выпьет… Анюточка! Поддержи коммерцию.
Хозяйка, краснея, встала, зашуршала платьем.
И Зайцев, опрокидывая рюмку водки, косил глаза на Анну Ивановну и думал про хозяина:
«Недурно устроился, шельма'»
Пили чай, разговаривали, прикладывались к «еще по единой», и мысли у Зайцева, розовые и праздничные, сходились в одном: что хозяин, несомненно, хороший человек, гостеприимный, и та грань жизни, где слабо очерчивались черные мужицкие тени под серыми соломенными кровлями, тушевалась в приятной обстановке, где шумел никелированный самовар, а чай разливала пышная женщина с пылающим лицом и наливной грудью… Думал об этом и невольно поморщился, когда вспомнил, что там, в звонкоголосом городе, осталась жена, которая недавно вынесла трудную операцию и походила на выжатый лимон. Вспомнил ее прозрачные, костлявые руки, с тонкими, бескровными пальцами, заостренный нос и вечное болезненное нытье, в котором выступало одно выпукло, что он — лично — в жизни «не практик». Невольно в душе сорвалось мысленно-злобно:
«Гимназию окончила… На курсах была… А что, собственно, она мне доставила в жизни? Вечные болезни, операции, заостренный нос и погоню за практическими понятиями… Черт бы их забрал, всех этих умных, практических женщин! Ведь вот сидит женщина сейчас: здоровая, непосредственная, без фраз, без рисовки… Н-да!..
Хотелось думать о другом, и Зайцев спросил хозяина:
— Вы что? Исключительно торговлей занимаетесь?
Яков Семеныч вытер платком потное лицо и ответил:
— Все помаленьку: и торговля, и хлебопашество… Сепараторы вот поставил недавно…
— А это что такое?
— А это масло сливочное выделываем… Это недавно, ваше высокородие… Постараюсь доставить вам маслица…
— Ну… я ничего не беру!..
— Это так, ваше высокородие: гостинец… Для нас ничего не стоит…
— А много засеваете?
— Десятин сто…
— О-го! Арендуете землю?
— Нет, своя собственная…
— Так. А торговля идет?
— Плохо: беднота все больше… С хлеба на квас перебивается. И все в долг больше даю…
— Отдают?
— Ну, не всякий раз. Иной просит подождать до осени, до уборки хлеба, значит, а затянет года на два. Ну и ждешь. Судиться я не люблю, ваше высокородие, а все честью: отдадут — ладно, не отдадут — жду… Не поверите: есть долги рублей на двести.
— Так… ведь это вам убыточно?
Яков Семеныч взглянул на икону, широко перекрестился и сказал проникновенно:
— Господь не оставит. Мы больше на господа надеемся… Вот ныне летом хочу в Верхотурье сходить — к мощам Симеона праведного. И даю в долг почему? Я уж вам по правде…
— Пожалуйста!
— Душа болит, ваше высокородие! За всех у меня душа болит — это вам и моя супружница скажет. Придет в лавку бабенка али мужичок — и в ноги: батюшка, такой-сякой, отпусти чаю-сахару и прочего… Да ведь вы, говорю, старое не отдали? Опять в ноги: все отдам осенью! Душа не камень, ну… и раскиснешь! Запишешь в книгу лавочную карандашом, а ныне, говорят, в судах такие книги в расчет не принимаются… Надо, значит, чтобы книги были по форме и чтобы расписка покупателя в книге была собственноручная… А нам где это? Ежели по-настоящему книги заводить — с разными там формами да с письмоводителями — так сам, извините за выражение, без штанов останешься!..
— Яшенька! — кокетливо-укоризненно протянула Анна Ивановна.
— Хе-хе! — отозвался Зайцев. — Это ничего, хозяюшка: Яков Семеныч — русак. Хе-хе!
— Именно русак-дурак, ваше высокородие! Правильно сказали: русак-простак всякому верит, потому что душа у него такая. Ну, вот так и живем день да ночь — сутки прочь… А сам трудолюбие всякое люблю: не могу без дела. Приступал к делам без ничего, можно сказать, а теперь, слава всевышнему! Бывало, покойная жена, Елена Ивановна…
— Вы разве на второй женаты? — спросил Зайцев. Яков Семеныч узенько прищурил масленые глаза, погладил бороду и ответил:
— Третью изнашиваю. Хи-хи-хи!
И все засмеялись: Яков Семеныч с тонким визгом, Зайцев жидким тенорком, а супруга опустила глаза и беззвучно колыхала наливной грудью.
Яков Семеныч хотел говорить дальше, но в комнату вошла плотная, босоногая баба, что приносила Зайцеву воды, и сказала:
— Яков Семеныч! Вас спрашивают там.
— Кто?
— Дарья.
Пушников странно заволновался, вскочил с места, но опять сел и обратился к Зайцеву:
— Ваше высокородие, дозвольте: тут до вас одна женщина большую нужду имеет…
— В чем у нее дело? По убийству?
— А это… я объясню вам.
— Что же… пусть зайдет сюда…
— Зови Дарью сюда! — приказал Яков Семеныч бабе.
Баба ушла и через минуту, тихо-тихо, как серая тень, робко вошла женщина и остановилась у двери. Долго крестилась на икону, точно проржавленными пальцами, низко поклонилась всем и хрипло произнесла:
— Чай да сахар милости вашей…
Все трое молчали и смотрели на бабу. Она стояла у двери, высокая, костлявая, черная, с жуткими, ничего не говорящими глазами в синеве. Тонкие, сухие губы истрескались: она часто облизывала их и, заметно волнуясь, дрожащей рукой сжимала другую.
— Вам что угодно, голубушка? — мягко, с сознанием права и силы, спросил Зайцев и тотчас же сделал „казенное“ лицо.
Баба сделала шаг вперед и беспомощно взглянула на хозяина. Яков Семеныч прижал руки к груди, повернулся всем корпусом к Зайцеву и произнес нежно:
— Позвольте объяснить, ваше высокородие: они — народ темный…
— Пожалуйста.
— Дело в том, видите ли… Эта самая, значит, женщина — вдова, имеет четырех детей малолетних. От покойного мужа ее остался надел в шесть десятин земли с угодой…
— Как с угодой?
— Ну с угодьями разными: удобная, значит, земля, лес и прочее…
— Так. Дальше.
— Ну, значит, надел этот общество пока, до передела, оставило за Дарьей. Но сами судите, ваше высокородие: может ли баба заняться хлебопашеством? Ведь ребята малые у ней да домашность… Выходит, что ей с землей некогда валандаться, да и сил нет…
— Так…
— Ну… а сам я слышал и справочки наводил, что и вдова может завсегда выйти из общины. Весь надел, значит, этот укрепить за собой по закону его императорского величества от 9 ноября… Я наводил справочки. И может, после этого, продать надел кому угодно… Ведь, ежели двести дадут — деньги не малые-с! Положила их на сирот — и живи себе в свое удовольствие: работай только по домашности. А с денежками еще и жених найдется. Хе-хе!
— Гм… Так я что же тут могу помочь?
— А то, ваше высокородие: научите нас, как ей приступить к делу повернее. Душа болит! Ведь, право, жрать нечего — к чему ей надел, дело женское — неподходящее к этому. Не поверите: по книге лавочной задавал ей в долг на 87 рублей 64 копейки по первое число апреля месяца… Ведь так, Дарья?
— Так, — чуть слышно ответила баба.
— Ну, помни: при личности его высокородия подтвердила, что должна мне 87 рублей 64 копейки. Так и помни!
— Я помню… — почти шептали иссохшие губы.
Зайцев сосредоточенно нахмурил брови, сделал очень серьезное лицо. О наделах, о выходе из общины, о хуторах он знал смутно. И, смотря на огонь лампы с значительным выражением на лице, он произнес неуверенно:
— Это, кажется, можно. Гм… вдова… А почему бы ей не обратиться к адвокату?
— Эх, ваше высокородие! Ведь адвокату нужны денежки, а у ней, извините за выражение, кроме вшей, ничего нет. Ходила она и к адвокату — есть у нас по соседству, в селе Ильинке. Пришла она к нему — он и спрашивает: „Тебе по какой книге прошенье писать: по маленькой али по большой? По маленькой — 3 рубля, а по большой — 5 рублей“. Сказал он это и указал на книги — две у него имеются, уже не знаю, законы это у него али песельники… Она, дура этакая, продала телку, пошла и выдала пятитку: пиши по большой книге!.. Необразованность! Написал он ей, а толку никакого не вышло…
— Ну, это… подпольный адвокат, — строго сказал Зайцев.
— Повидимости, так. Да разве она поймет это?
— Надо было жалобу на него: это караемо… — опять строго произнес Зайцев.
— Куда там! Суд, да дело, ваше высокородие… И так теперь поучена будет: брякнули пятиткой по карману — будет помнить! А мне, значит, уплатить по книге лавочной — все нет…
Баба стояла у дверей, молчаливая, с каменным лицом, и смотрела в землю, как в чем-то виноватая. Может, перебирала в памяти все цепкое, тусклое и серое в прошлом, от чего врезались в лицо глубокие борозды, такие же черные, как на заброшенной пашне. Может, проклинала себя в тяжелых, неуклюжих мыслях за то, что родилась на свет божий, где некогда было смотреть на солнце, на небо, где не знала яркого, звонкого смеха, ласковых речей, шелеста листьев…
— Так можно, ваше высокородие, ей хлопотать о выделе? — помолчав, спросил Яков Семеныч.
— Я думаю, что можно. Хотя… у меня лично своя специальность — уголовщина, а здесь дело гражданское. Я могу рекомендовать поверенного…
— На поверенного у ней денег не будет…
— Я устрою. У меня есть хороший знакомый — присяжный поверенный, который для меня устроит все бесплатно…
Зайцев сделал ударение на словах „для меня“ и посмотрел внушительно на хозяйку. Яков Семеныч как будто повеселел и сказал кротко:
— Для души сделайте, ваше высокоблагородие, для души: она с ребятами малыми помолится за вас и семейство ваше. Так, слышишь, Дарья: вот они обещают тебе все сделать — слышишь?
— Слышу…
— Благодари!
Баба, все с тем же каменным лицом, подошла к Зайцеву и молча бухнула в ноги. И сделала она это как-то мертво, точно подчеркнула, что так кланяться в жизни приходилось бесконечное число раз и, если люди позволяют так делать, то, очевидно, это необходимо… Зайцев, немного сконфуженный и тронутый, отодвинул стул и сказал:
— Ну… зачем же это? Сделаю и так, раз Яков Семеныч просит… Ступай с богом!
Поднялась, повернулась и вышла. У Якова Семеныча было очень веселое лицо, и он попросил Зайцева:
— Ваше высокородие. По единой…
— Ну, нет: я и так выпивши…
— Помилуйте! Анюточка… поддержи!..
Опять выпили и закусили. Зайцев все время смотрел на хозяйку. Потом решил, что необходимо кончить все это и отдохнуть с дороги. Его уже не удерживали, и, благодаря „за угощение“, Зайцев долго держал в своей руке мягкую, пухлую руку хозяйки. Яков Семеныч проводил его до комнаты, пожелал спокойной ночи и мимоходом спросил:
— Вы по убийству Катерины Коркиной приехали?
— Да. Кто, по-вашему, ее ухлопал?
— Известно всем, ваше высокородие, это муженек. Первый разбойник, сукин сын, извините за выражение!..
— Неужели?
— Первый разбойник! На меня несколько раз угрозы делал: сожгу, говорит, Лушникова или зарежу!..
— Да за что?
— За мою доброту, должно быть… И просьба у меня, ваше высокородие: зверя этакого на поручительство не отпускайте.
— Почему?
— Зарежет! Ему теперь все равно…
— Ну… там увидим. Спокойной ночи…
Хозяин ушел, Зайцев разделся и лег. Горела голова от выпитого, и мысли прыгали, как полевые кузнечики. Думал о жене, об ее прозрачных, бескровных руках, а рядом вставала белая, здоровая, с высокой грудью и жгучими глазами. Думал об Якове Семеныче и о том, что в личной жизни его не хватает чего-то свежего, солнечного, красивого. На улице взгремели колокольчики, и Зайцев решил, что едет уездный врач Мандель на вскрытие трупа. И, уже засыпая, улыбнулся чему-то, вздохнул глубоко и засопел носом.
На другой день вскрывали труп убитой Катерины Коркиной. Резал фельдшер, молчаливый и лысый человек в очках, а врач Мандель — курчавый и тучный еврей — следил за вскрытием, записывал в протокол и, по привычке, ронял вслух заученно: „твердая мозговая оболочка в затылочной части, равно, как и мозг, в соответствующей доле — найдены в двух местах разорванными осколками костей“.
Зайцев курил и смотрел в самое лицо убитой. Она была еще молода, и странно тянули к себе сурово-красивые черты застывшего навеки лица. Резко очерченные крупные губы были сжаты, а из-под век, на одном из которых краснело кровяное пятно, чуть-чуть мерцали незрячие зрачки.
Зайцев смотрел и думал сентиментально:
„Эх, жизнь! Вот умерла — молодая, красивая…. Жить бы, да жить! И все темнота народная: напился, мерзавец, и жену бить. Где это сказано: „будет бить тебя муж“? Решительно все забыл… А жаль: молодая, красивая…“
А мертвая презрительно поблескивала незрячими зрачками и точно подтверждала, что жизнь, действительно, не шутка.
После вскрытия, когда все было оформлено, Зайцев допрашивал в волости обвиняемого — Корнея Коркина, который пока содержался под стражей при волости. Мрачный и красивый, Коркин сознался, что бил жену „в пьяном виде“, но убить совсем намерения не имел. И говорил хрипло:
— Грех такой вышел… Знать, на роду заказано — каторги испробовать. Ну, что ж! Все равно…
И это „все равно“ дышало чем-то, действительно, равнодушным ко всему на свете.
— За что вы ее, собственно, били? — допытывался Зайцев.
— Это… мое дело! — отрезал обвиняемый.
— Вас придется отправить в тюрьму…
— Все равно: я в ваших руках…
— Вы в руках закона… правосудия…
Коркин чуть заметно ухмыльнулся и сказал:
— Конечно… по закону вон людей вешают…
— Я вас прошу не касаться этого!..
— Я к тому сказал, ваше благородие, что закон не может знать, что у меня есть на душе… За Катерину я пойду в каторгу по своей совести… Сам желаю этого!
Зайцев посмотрел на него внимательно и подумал: „Тоже… душа болит…“
Закончив допрос обвиняемого и свидетелей, Зайцев медленно шел к дому Якова Семеныча. После холодных весенних дней, что были до этого, сверкало ослепительное солнце, было тепло и празднично, точно весна, чувствуя себя виноватой, надумала сразу бросить везде и звуки, и краски. Встречались мужики и кланялись. Неизвестно почему, Зайцев всем козырял по-военному, и что-то точно пело у него в душе при мысли, что он — сила здесь, что золоченые пуговицы внушительно поблескивают, а толстый портфель подмышкой дополняет солидное впечатление…
Пришел на квартиру и приятно удивился. На столе оказалась записка от доктора Манделя с извещением, что местный батюшка, отец Василий Гонибесов, приглашает вечерком „посидеть“ и сыграть в винт. В конце доктор добавил, что „батюшка очень приятный и радушный человек“.
Зайцев решил вечером сходить к батюшке и думал:
„Завтра утром уеду — успею домой. Очень хороши эти внезапные знакомства: необходимо знать людей шире — пригодится…“
Пообедал заодно с Яковом Семенычем и женой его. Все было приготовлено вкусно и обильно, но сама хозяйка выглядела днем не так заманчиво, как при огне. Обрисовались крупные морщинки около глаз, и шея казалась уродливо-жирной.
Зайцев, плотно пообедав, решил поспать до вечера. А вечером, когда гасли последние лучи солнца, оделся, долго стоял перед зеркалом, внимательно изучая лицо, и решил опять, что выглядит „молодцом“.
Дом, где жил священник, оказался недалеко, тут же на церковной площади. Выделялся стройкой и садом, где росли тополи, березы, черемухи и, точно сирота, чернела одинокая, крупная сосна. В саду были пчелиные ульи, дорожки, усыпанные песком, и беседка в старинном вкусе. Зайцев осмотрел все это сквозь редкую изгородь и подумал:
„Недурно: что-то тургеневское…“
Парадное крыльцо со звонком выходило на улицу, и Зайцев, надавив кнопку, одобрил:
— Современно!..
В прихожей его встретил сам батюшка, дородный и свежий человек, с большой бородой, румяными губами, и пригласил густо:
— Добро пожаловать! Весьма рады! Прошу покорнейше…
В зале, куда вошел Зайцев, сидел уже Мандель и беседовал с матушкой — маленькой и полной женщиной. Мягкая мебель, ковры, драпировки у дверей и диван, над которым в золоченой раме висела картина, изображающая „Море ночью“. Моря, собственно, не видать было, а из синевы фона резко выделялись паруса какого-то судна да огромный месяц, почему-то ужасно желтый, легкомысленно усевшийся на самом кончике торчавшей мачты.
Познакомились. Поговорили обо всем понемногу: о семьях, о ранней весне, о посевах. Батюшка рассказал, мимоходом, такой анекдот из семинарской жизни, что матушка не выдержала и вышла „по хозяйству“. Пришел молчаливый и лысый фельдшер в очках, приготовил стол с закусками и винами. После предварительной выпивки засели за карты. Батюшке не везло, Зайцев выигрывал, а молчаливый фельдшер после каждой игры подходил к столу и выпивал. Доктор Мандель больше проигрывал, но был совершенно спокоен и посвистывал.
В разгар игры в залу вошли еще двое: высокий, сухопарый семинарист с прыщеватым лбом, толстым носом, но умными серыми глазами, и девушка — полная, смуглая, с слегка розовыми щеками. Батюшка взглянул на Зайцева и произнес:
— Это мои дети: Семен и Людмила.
— Очень приятно…
Семинарист небрежно ткнул Зайцеву руку и произнес октавой:
— Гонибесов…
— Очень приятно!.. Судебный следователь Зайцев.
Помолчали. Зайцев наклонился к батюшке и спросил любезно:
— Вероятно, дети ваши учатся?
Отец Василий усмехнулся и ответил:
— Да, учились, а теперь изгнаны…
— Неужели? За что?
— Спросите их. Говорят, что ныне в училищах режим невозможен. Сынка вытурили из шестого класса семинарии, а дочку из епархиального… Господь послал утешение на старости лет: обрадовали! А я, можно сказать, ночей не досыпал и все думал: вот окончат ученье и в люди выйдут… Не тут-то было!
Людмила густо вспыхнула, повернулась и вышла из залы. Семинарист не моргнул глазом, спокойно уселся около бутылок и налил себе рюмку водки. Выпил, закусил и еще налил.
— Ты бы, Семен… того!.. — внушительно оглянулся на него отец Василий.
— Не беспокойтесь, папаша: вашего достоинства не уроню!..
— Я не об этом…
— Не беспокойтесь!..
Батюшка замолчал. Откуда-то выплыла матушка, тихо подошла к сыну и что-то прошептала ему на ухо. Семинарист налил третью и произнес сочно:
— Не беспокойтесь, мамаша!..
Матушка опять беззвучно уплыла куда-то. Семинарист закурил папиросу и начал смотреть на играющих. Чтобы несколько разрядить атмосферу, Зайцев спросил отца Василия:
— Вам, батюшка, знаком Яков Семеныч?
— Лушников?
— Да.
— Еще бы: церковный староста, не скуп на благолепие храма и имеет благословение от евладыки. Превосходный человек!
— Я думаю так же. Притом замечательно гостеприимный субъект!.. Я у него остановился и — представьте — сам пригласил…
— Весьма приятный человек! — подтвердил батюшка.
— И, кажется, добрый?
— Душевный человек!
Семинарист прозвенел рюмкой и прорычал октавой:
— Первый… м-м-м-ерзавец!
Все затихли.
— Г-р-р-р-абитель! Мироед!
Зайцев разинул рот, чтобы возразить, но семинарист бросил опять:
— Ати-л-ла!
— Но, позвольте, молодой человек…
— Нет, вы позвольте!..
— Семен! Так со старшими не говорят, — строго произнес отец Василий.
— Я не умею деликатничать, папаша, уж извините! Не понимаю: зачем представлять людей в розовом виде, если не знаешь их досконально… Яков Семеныч… Приятный человек… Малина… мармелад, печенье! Благословение от владыки… Тьфу! Вы, господин судебный следователь, не читали Шиллера?
Зайцев слегка покраснел и ответил:
— Читал когда-то…
— Ну-с, так у Шиллера есть такие слова: „О, вы, фарисеи, исказители правды, обезьяны божества!..“ Это в „Разбойниках“ у него… Вот папаша говорит: „благословение от владыки…“ А мне хочется ответить: „о, вы, обезьяны божества!..“
— Замолчи, Семен! Не оскорбляй, хоть при людях…
— Не беспокойтесь, папаша: не замараю!..
Выпил еще, закурил и близко подошел к Зайцеву. Что-то злое и насмешливое прыгало в его серых глазах. Зайцев остановил игру и вежливо повернулся лицом к семинаристу.
— Вы позволите сказать вам несколько слов?
— Пожалуйста, молодой человек.
— Вы не обижайтесь, пожалуйста: у меня такая манера говорить…
— Я… нисколько.
— Вот даве папаша рекомендовал меня и сестру — изгнаны из училищ. Репутации, значит, подмочены. Так! Я и сестра не обижаемся, хотя, конечно, это и… ранит немного душу. Но мы извиняем отца, ибо у него свои убеждения на этот счет, у нас свои… И… постараемся с сестрой не висеть у отца на шее…
— Семен! Это к делу не относится… Это — семейное.
— Относится, папаша. Если вы, с одной стороны, всем и каждому кричите о своих детях изгнанных, то, с другой стороны, вы обязаны, папаша, доказать, что ваши дети изгнаны по их собственной вине. Вам этого никогда не придется доказать, а у меня и сестры совесть на этот счет спокойна-с!
— К чему ты это, Семен? — прервал побледневший отец Василий.
— К тому, чтобы вы все-таки на следующий раз не издевались, папаша, особенно при людях. Ну, это кончено! Теперь об Якове Семеныче — благодетеле сирых, убогих, в душу раненных… Да будет ему легко, как пух лебяжий, благословение владыки!
— Семен! Выйди!
— Я не лакей, папаша! И сейчас избавлю вас от сына блудного… Так вот, Яков Семеныч… Виноват: вы сегодня резали Катерину Коркину?
— Да… — ответил Зайцев.
— Знаете, кто настоящий убийца?
— Муж: он сознался…
— Так. Муж тольке орудие, а убийца Лушников…
— Как это?
— Очень просто. Морально убийца — Лушников. Изволите видеть, Коркин — солдат и недавно вернулся в деревню. У него был надел полный — прекрасный надел с речкой, лесом и хлебородной землей. Так вот, теперь на сцену выступает Яков Семеныч: во-первых, этот сладострастный павиан соблазнил Катерину и прижил с ней ребенка… Не знаю — благословлял ли его на это владыка, но только был ребенок и умер. Во-вторых, Яков Семеныч уговорил Коркина выйти из общины и купил этот надел за триста рублей, а надел стоит тысячу на худой конец. Триста рублей Коркин живо просадил, земли нет, а когда узнал, что Катерина без него рожала, — запил, и теперь вот вам финал!..
— Может, это слухи?
— Извините, — это все знают, только папаша умышленно закрывает глаза. Теперь дальше: по новому закону покупать землю можно только крестьянам, но не больше 30 десятин. Яков Семеныч давно использовал это право, но у него есть подставные лица, на которых и совершаются купчие. Таким манером у него закуплено в собственность более ста десятин по ничтожной цене, в среднем — по 25 рублей за десятину. Недавно богатые хохлы предлагали ему уже по 200 рублей за десятину, но Яков Семеныч ухмыляется и говорит: „Подождем еще!“ И выждет свое, ибо цены на землю все выше и выше растут… Может, он вам говорил про свою торговлю?
— Говорил… — согласился Зайцев.
— И „душа болит“?
— Да… — засмеялся Зайцев, внимательно следя за злым и умным лицом семинариста.
— Ну вот… А торговля у него — петля для живых людей. Понимаете, вроде этакой мыльной удавки. Товарец у него антик с гвоздикой — гниль преотменная!.. И дает он в долг всем сирым, бедным, обездоленным „ради господа“, по „своей цене“, но только тем, у кого есть наделы. Засосет человека так, что он и не услышит, и все старается, чтобы должник вышел из общины, а там уж земля наверняка останется за Лушниковым. При расчете за землю, изволите видеть, он вычтет долг лавочный и додаст одни слезы… По-моему, это страшный человек! Были кабатчики в деревне, вампиры разные, кровососы, но лушниковы страшнее: ибо впились они в самое ценное, кровью вспоенное — в землю!
Семинарист побледнел, подошел к столу, выпил водки и добавил мрачно, смотря куда-то в сторону:
— Но лушниковых будут бить, жечь, душить по ночам!.. И поверьте: землю у них вырвут обратно, с глоткой вместе. Вырвут! И придет новая деревня — только не нами созданная! Ну, извините, господа, — надоел да и папаша сердится…
Он вышел. Отец Василий упорно смотрел в карты, и было заметно, как подергивалось у него лицо. И, как бы оправдываясь перед гостями, тихо проронил:
— Н-да, детки!
— Молодость… — отозвался доктор. — Молодость, господа! Знаете, как хороший квас: будоражит и пенится… По-моему, очень сознательный молодой человек — ваш сын.
— Даже чересчур сознательный… — горько усмехнулся отец Василий. — Прошлый раз становой говорит мне тихонько: „А у вас, отец Василий, в доме красненьким пахнет: по-дружески предупреждаю“. И немудрено: сам еще влопаешься!
— Да чего здесь особенного? — удивился доктор. — Становым вообще мерещится везде „красненькое“.
— Они — народ с нюхом. Сынок мой, видите ли, частенько с мужиками якшается, что-то много говорит им, и не в руку хотя бы Якову Семенычу, который из-за этого и ходить ко мне перестал. Молокососы! Рано бы учить других… И слова не скажи, хотя бы сыну — сейчас на дыбы! Выписал себе „Положение о крестьянах“, какие-то еще книжонки и мутит мужиков: „Из общины не выходите, наделов не продавайте!“ Да ведь что? Про меня, отца родного, мужикам внушает: „Батя у меня ничего, сравнительно, но поблажки давать не следует и зря не платите, ибо поповский карман не набьешь!..“ Каково? Не поверите: доход сильно сократился. Бывало, матушка поедет собирать по приходу даяния — так телеги полные везет всякого добра! До десяти тысяч одних яиц накапливали, масла пудами! А ныне — куда тебе! Все рыло воротят да еще кричат: „Смотри — обиралы едут!“ Это матушке в самые глаза — каково ей бывает? Приедет и плачет, а сынок ржет, как жеребец стоялый, и разные нравоучения читает… Наш народ, дескать, целые века жил для попов да чиновников — теперь будет! Откуда сие? Несомненно, там, в городах, нахватались, а самое ученье по боку. Про себя скажу: кончил семинарию, женился, и дали мне самый бедный приход. Света не взвидел от радости, когда в алтарь зашел господний, и думал: „велика сия милость от вышнего!“ А ныне попробуйте: редкий идет в священники — все куда-то надо в светскую сторону. Уходи, пожалуйста, не мути народ! И девчонку, Людмилу, сбил: была тише воды, ниже травы, а теперь тоже нос кверху… Мы, дескать, всякие идеи понимаем — к чему слушать отца с матерью? Да, наказал бог, наказал!..
Все молчали, и игра как-то не клеилась. Батюшка еще что-то жаловался, и гости, точно сговорившись, встали и начали прощаться. Хозяин пробовал удержать, но делал это вяло и равнодушно, расстроенный и точно осунувшийся немного. Доктор пытался утешить, но выходило все тускло и деревянно…
Зайцев и доктор пошли вместе. Проходя мимо сада, они оба внезапно остановились…
Там играли на гитаре и пели. Рядом с бархатной октавой и рокотом звенящих струн выделялся тоненький, дрожащий девичий голосок. В саду, сквозь редкую изгородь, неясно очерчивались двое, сидевшие рядом, — брат и сестра…
Четко и задушевно, точно зная человеческие думы, рокотала гитара заодно с голосами людей. И плыла-плыла красивая песня, волнующая душу… Тоненький девичий голосок, как бледные цветы на черный могильный крест, ронял образы о ранних жизнях, погибших в неравном бою. И бархатная октава, с силой вливаясь в упругий мрак, где северная весна беззвучно ковала жизнь, — пламенно звала грядущие зори и святое счастье борьбы!..
Зайцев и доктор слушали, молчали, и оба одинаково чувствовали странное в сердцах. Точно по руслу давно обмелевшей реки, где торчало всякое гнилье, вдруг хлынули свежие, сверкающие волны, запели звонкоголосые струи и далеко отшвырнули на берег гнилое и смрадное… Но песня оборвалась — и Зайцев с доктором тихо пошли по серой молчаливой площади…
Доктор в одном месте остановился, взял Зайцева за пуговицу пальто и сказал странно-дрожаще…
— Знаете, дорогой!.. Молодость, звонкая молодость! И у меня сейчас, как у вашего Якова Семеныча, душа болит… Да, болит! И знаете что? Мы с вами резали и обследовали сотни человеческих трупов, но настоящих живых людей мы как-то не замечали. Согласитесь, что мало для живого человека казенной службы, винта и этих вечных проклятых протоколов! А вот тут, рядом что-то молодое, дерзкое, а главное, новое…
— Позвольте, доктор: и мы были молоды…
— Это так, но… рано мы угасли, хотя, впрочем, по-настоящему и не горели… Были порывы, мечты, слова нарядные, но никогда не было дела! Наша молодость — сумерки, может, и красивые из окна комнаты, но не было в них ни одной ранней грозы и молний, которые прорезали бы мрак… Я, например, рано думал о дипломе и о праве занять подобающее „положение“ среди людей, и — только. Занял место и сижу, знаете, как заржавленный гвоздь, раз навсегда вбитый хозяином-мещанином в стену… Вот было так. называемое „движение“, когда дрогнула страна… И стыдно вспомнить сейчас: в окно, из-за косяка, я махал на улицу красным флажком. Понимаете: жили до Этого больными раками, что едва ползают на дне, а тут вдруг „платформа“ и разные, наскоро схваченные слова! Позор один! Сотнями, быть может, лет настоящие живые люди, мученики светлые, нам еще неведомые, гнившие в казематах и крепостях, точили по капле это скромно, мужественно, молча умирая, если нужно… А мы… просто присосались к случаю и ревели: „свобода!“ Не зная, в сущности, в чем она и откуда… Позор! Кричали о „платформе“ сегодня, а завтра уже струсили и, наскоро подтянувшись, крадучись, залезли опять в стену проржавленными гвоздями, чтоб совсем уж не вылезать!..
Он замолчал, посмотрел на небо, где трепетали звезды, и быстро пошел… Зайцев косил глаза на его короткую, толстую фигуру и думал о своем, что осталось в прожитом. И не было там ничего такого, что роднило бы душу с дерзко-свежим и интересным, от чего звенело бы, как сталь, сердце, сверкало небо и пели струны в саду…
1911
ПРИМЕЧАНИЯ
Рассказ первоначально опубликован в журнале «Современник», 1911, № 8. Печатается по тексту книги: А. Туркин. Степное. Издательское товарищество писателей. СПБ. 1914.
Колотовкин Иван Флавианович
Около золота
Бурным потоком лихорадочно спешной, горячей работы кипит залегшая между гор еще недавно не видевшая ноги человеческой золотоносная равнина. Когда-то девственно пышная дремучая тайга уцелела лишь по неприступным утесам и кручам. Жалкий и безобразный вид представляет собой подножие царственных гор: лес уничтожен, по всем направлениям тянутся, как зияющие раны, траншеи, канавы, разрезы; когда-то вольные бешеные потоки закованы цепью плотин. Всюду высятся громадные корпуса, изрыгающие неописуемый грохот железа, адский треск дробящегося камня, тяжелое, огневое дыхание машин, смешанные с непрерывным, пронзительным свистом сигналов и гамом людских голосов. Горный воздух дрожит и стонет от этого дикого хаоса звуков. А налетевшие, бог весть откуда, людские полчища неутомимо идут все далее и далее в своей разрушительной работе, и что-то стихийное чудится в их неутомимом стремлении. Как движимая невидимой рукой искусного стратега, сказочная рать гномов, тысячи выстроенных стеною человеческих фигур медленно и неотразимо крушат недоступные твердыни природы, шаг за шагом уступающей заветные недра силе и разуму человека.
Вдруг прервано наступление; люди врассыпную бегут из разреза, мгновенно очищая поле действия, а через минуту сосредоточенного выжидания там грохнул громкий удар, гулко отдавшись в далеких ущельях и выкинув в высь колоссальный столб брызг воды, камней и осколков вдребезги разнесенной скалы. Новый приступ, новые трофеи победы в виде бесконечной вереницы нагруженных драгоценной добычей вагонеток. Чем-то мирным, отрадным среди этой адской сутолоки и разрушения веет от приютившейся в стороне "бабьей" промывки. Сотня ярких пунцовых, зеленых и лиловых фигур, выстроенных лицом к лицу по обеим сторонам длинных "американок", плавно и методично, как по команде, то подается вперед, налегая на длинные скребки, то откидывается назад, будто отталкиваемая противоположной шеренгой, или все вдруг начинают очищать грохота, дружными взмахами откидывая через плечо накопившуюся обмытую гальку.
Ни одного неловкого движения, ни одного неверного шага: все идет гладко, рассчитанно, как хорошо срепетованный балет. Сотня проворно движущихся скребков, как серебряная, сверкает на солнце; стоголосая, как степь, привольная, как море, безбрежная песня покрывает их лязг и волной разливается по долине.
Солнце поднялось уже на полдень, ослепительно яркими лучами заливая всю эту движущуюся панораму до нестерпимого зноя накаливая спертый в глубокой лощине воздух, пропитанный запахом смолистой хвои сосны, кедра и пихты.
Совершая обычный утренний обход работ, владелец промыслов по своей привычке взобрался на высшую точку целой горой возвышающегося отвала и с самодовольной улыбкой наблюдает оттуда кишащий муравейник прииска, любовным взором провожая тянущиеся к промывкам обозы с богатой добычей. Собственник нового прииска — не старозаветный золотопромышленник — бородач в картузе, что, бывало, не отличишь от рабочей братии, покамест он не начнет, минуя всякие "правила" и "таблицы штрафов", собственноручно учить пьяницу и лентяя или, подгуляв с пудовой намывки, заставит людей петь песни и примется пригоршнями разбрасывать в толпу сотни рублевиков, — нет, это промышленник новейшего времени: уже почтенного возраста капиталист, в рыжих бакенах, с выбритым подбородком и олимпийским величием в надменном взоре.
Окрестные золотопромышленники втайне завидуют его состоянию и умению вести дела; собственным рабочим внушает он трепет и страх своей неумолимой строгостью на почве различных взысканий, вычетов и штрафов; в ревизоре он вызывает сплошное неудовольствие как своею манерою кланяться, не сгибая шеи, и протягивать мизинец руки, не выпуская сигары, так и аккуратным соблюдением всех циркуляров, исключающим счастливую возможность "визитных". Ему нравится русский рабочий своей выносливостью, нетребовательностью. Но он избегает всяких общений с народом вне дела, исключая "бабьей" промывки, приятной ему прежде всего своей дешевизной "со всякой стороны".
Зорко оглянув открытые работы разреза, где согнутые залитые потом спины, ничего, кроме усталости и изнеможения, не выражающие лица, эти мелькающие в воздухе заскорузлые, напряженные руки и шлепающие в леденящей ключевой воде едва обутые ноги представляли мало красивую картину для эстетического ока, — владыка прииска направился уже было в сторону песни, как заметивший его смотритель вырос будто из-под земли, спрашивая, не будет ли каких приказаний.
— Осторошно, пожалюста, работать… Никого не убиль, а то большой штраф и неприятность получаем! Они нарочно руки и ноги подставляль… Что с пятой линии?
— Слабо. Идут пески, но пока только знаки…
— Фуй, стид! Не нужно знаки, нужно золото!
— Постараемся, ваше превосходительство.
— Что постарался, когда фон Громышев мне пустой земля продавал? Знаки, знаки!..
На "бабьей" промывке издали еще заметили приближающегося хозяина, и хотя здесь он бывал всегда даже чересчур ласков, но тем не менее по привычке все подтянулись. Девки спешно пообдернули свои несколько вольно подобранные юбки, оправили растрепавшиеся косы и поплотней застегнули кумачовые рубахи. Песня вдруг начала слабеть, распадаться, а потом и совсем оборвалась. Слышно лишь только мерное шарканье скребков да шум воды. Нарядчик Мартын Яковлевич плюнул на недокуренную цыгарку и, подбодрившись, стал, без всякой нужды к тому, покрикивать на свою пеструю команду, а потом, отвесив поклон хозяину, ретировался в сторонку, — барин не любил свидетелей при посещениях промывки.
— Здрасте, милые! — ответил он на поклоны с слащавою, плотоядною улыбкою. — Фуй, как вас много… И все такой румяной, красивой девушки… — Зоркий глаз его сразу приметил стоявшую с края "новенькую", робкую, застенчивую Настьку, с смуглым кругленьким личиком, темными глазками под пушистыми ресницами и с тяжелой, пышной косой. — Что ты, душечка, переставаль петь? Вот покраснела! Ничего, не бойсь… — Он уже протянул было свою руку к пышному, девственно-прекрасному стану девушки, как вдруг случилось нечто неожиданное. Испугавшись непрошенных ласк, Настька дрогнула всем телом и, как встревоженная лань, так быстро отпрянула в сторону, что, потеряв равновесие, старый селадон сунулся обеими руками в эйфеля, выпачкав свой светлый костюм и сронив с носа пенсне. Промывка замерла. Настька, бледная от обиды и страха, виновато смотрела кругом полными слез глазами. Мартын Яковлевич первый бросился на помощь барахтающемуся патрону, силясь замять неприятный инцидент.
— Известно, в лесу родилась, пню молилась, — лепечет он: — вот не может хорошего-то человека от своей братии отличить… Обращения, значит, не понимает…
— Совсем не понимает… И такая злая, и вон башмаки какие — деревянные… — соглашается переконфуженный ловелас, воззрившись почему-то на истрепавшиеся Настькины лапти. — Такой девушки дружок никогда не будет, и ботинок ей никто не купит… — заключил он, удаляясь с промывки под руку с Мартыном Яковлевичем и слегка прихрамывая.
На машине заревел обеденный гудок и положил конец поднявшимся пересудам. Работы моментально прекратились. Люди побросали скребки, лопаты, привычные лошади не хотели идти далее и распрягались на полпути. Большая часть рабочих с "бабьей" промывки шумной ватагой потянулась в сторону казарм; остальные, вместе с Настькой, чтобы не терять времени, расположились тут же, подле вашгердов. Прошло несколько парней, на иждивении которых состояло большинство красавиц, хлопотавших теперь около котла жиденьких щей с солониной и крупой. Предметом нескончаемых балагурств, шуток и россказней явилась Настька. Парни хвалили, девки искренне сожалели о случившемся и на все лады порицали неопытную подругу.
— Да ты дура али нет? — наступает на Настьку кипящая участливым негодованием франтиха в плисовой кофточке и с богатырскими формами, в то время как смущенная девушка не знала, что отвечать на такой щекотливый вопрос и лишь тоскливо улыбалась на все стороны. — Навек бы себя устроила, может… Тут уж не целковыми пахнет; пятаки да десятки бы получала! Да я бы, кажись, на части разорвалась да ползком бы за ним поползла, кабы поманил он меня; плюнула бы тогда на этих охаверников, что за всякий четвертак надсмеются над тобой на целковый, а ты… У! деревня сермяжная! Другая бы коровой ревела, что экому счастью попустилась, а она хоть бы что!..
— Да уж ты у нас что и говорить! — кольнула говорившую другая, одетая попроще и из себя не столь авантажная. — Все бы за себя взяла… А тут девка новенькая… Другие тоже ведь и совесть имеют…
— А тебе что тошно? Туда же: "совесть". Поди, так она в тебе и не ночевала… Знаю я твою совесть-то. Кто перед пьяным татарином, почитай, вверх ногами плясал? Другая хоть из-за хлеба с одним кем, а ты… Тьфу! Я ведь что? Я ведь ее же жалеючи говорю, потому все равно не удержится, ни за что ни про что пропадет с каким-нибудь голодранцем… Вот ботинки да еще, может, платок ситцевый — вся пожива будет, тем и отъедет он, прощелыга, а она ступай, майся! Чай, ведь и в самом деле думает, что сама-собой проживет, ха-ха! Смехотушки да и только… Вот проробила неделю — рубль двадцать, а по книжке, гляди, за хлеб да чай-сахар полтину отдать причитается; да ведь, поди, один-от чай лишь кишки промывает, охота и похлебать; глядь — из всей-то заработки остался один двугривенный! Тут тебе и ботинки, все прочее. Ежели человек с понятием, так и рассудит, что нельзя тут нашей сестре прожить! Это вот она разве не знает, так пусть бы уж падала в море, а не в лужу; с деньгами-то девка и в деревне завсегда пристроится; не поглядят, что с новинкой, тем море не погано, что пес налакал!
Чуя жестокую правду в речи озлобленной женщины, сбитая с толку, Настька тихонько всхлипывала, оплакивая свою участь. Что-то, действительно, обидное, всеми понимаемое, но всеми умалчиваемое и терпимое, кроется в этом "двугривенном" бабьем заработке; точно так же мирятся люди с облеченным в законную форму и приобревшим гражданское право злом и пороком, алчностью сильного и попранием права слабого.
— Эй, Настька, не тужи! — утешает какой-то приисковый сердцеед в "трековой" жилетке, с наглым лицом и громадным носом, что "смотрит в рюмку". — Утешим по всем статьям, не хуже барина… Денег у нас нет, что ли, али долгу мало! Дура, что ревешь-то?
— Тьфу ты, пес! — загоготали кругом: — туда же с барином равняется, шпана несчастная… Да кто ты супротив него-то? Одно слово — туес некрашенный, право!
— Он, братцы, два раза подходил, как носы раздавали, — решил вставить свое слово все время молчавший, какой-то придурковатый и рябой парень из крестьян.
— Вот уж не из тучи-то гром! — посыпалось на него отовсюду: — гляди, твой пай получил к своему в придачу! Уж сидел бы да молчал, коли свиным рылом украшен.
— А по мне, так какая мужьска красота, — вступилась за курносого давно приглядывавшаяся к нему белобрысая девица: — лишь бы кони не боялись…
— Ну, уж ты тоже… — прыснули на нее более далекие в своих эстетических стремлениях щеголихи. — Вывезла не лучше пряжи! Что скажет, так на обух не наколотишь… Нечего сказать, пара — сыч да гагара! — Довольно откровенные двусмысленности, балагурства сыпались, как из решета; неудержимый смех так и реял над этой жалкой толпой.
— Эк вас разбирает! Набили брюха-то, так заржали… — ворчит подошедший Мартын Яковлевич, — стыда на вас, девки, нету! Связались с этими процимбалами-то; уши вянут слушать вас… Ну, Настька, наделала ты делов; барин и посейчас не очухается, ловко его саданула, право!
— Да почто он, дяденька, с руками-то лезет… Тоже ведь стыдно… — сквозь слезы оправдывается та.
— Вот ты и вышла как есть дура! — отрезала какая-то воструха: — что, позолоту он с тебя смажет, что ли? Старичка и уважить можно; не убыло бы тебя, а глядишь ботиночки бы завела… Ежели с умом делать, так и соблюдать себя можно, да и фарт от себя не отпускать!
— То-то ты и соблюдаешь себя. Небось, тоже за поглядку ботиночки-то получила! Заприметил бы тебя барин-от, поди, не брыкалась бы?
— Да уж известно! Что я ваксы объелась, что ли, от своего счастья отвертываться…
— Счастьем зовет, срамница! — горько усмехнулся Мартын Яковлевич: — совесть да стыд порастрясла, верно, на кофты да разные балянтрясы, а ведь тоже, поди, отец-мать были, не тому учили… Ох, девки, девки! Дуры вы, воистину — сосуд скудельный, слабое место… И почто вас сюда пускают? Самое это последнее дело, вся-то цена вам тут двугривенный, промышляй, значит, более, как знаешь… Стыд! А попала которая сюда, все равно как утонула: какая уж после этого будет замужница, мать детям?
Редкостный человек этот Мартын Яковлевич. Замечателен он не удивительным постоянством, с каким уж лет пятнадцать выпивает с горя, оплакивая участь своей погибшей дочери, а заслуживает уважения тем, что среди загрубелых людей сумел снискать к себе чувство всеобщей привязанности своей бескорыстной, трогательной и высокой любовью ко всем обреченным на скитания по казармам вдовам, чужим дочерям и сестрам. Всю свою жизнь полагает он на постоянные заботы о них, великодушно тратит все заработанные гроши, чтобы спасти и поддержать заброшенных в эту трясину порока и разврата молодых, неопытных и беспомощных среди тысячи соблазнов существ, горько сокрушаясь и болея сердцем за каждое новое падение. А скольких падений он был свидетелем! Счет им давно потерян.
— Ох, Настька, сирота ты бесталанная! Горькое твое дело… — вздыхает старый нарядчик. — И неуж нигде не нашлось тебе иного угла да другого куска хлеба, что сюда бросилась? Дорог здешний-ет хлеб вашей сестре, ой-ой как дорог! Да не убивайся очень-то; тоже и здесь люди живут… Только не гляди ты на этих модниц-то, не слушай их… Чего они тут тебе наговорили? Вот всякая из них локоть-то кусает, да уж поздно; вот храбрятся, сами себя только утешают, а совесть-то не утешишь кофтами да ботинками этими, совесть-то она живуча, да! Иная как пораздумает над собой, наипаче подвыпимши еще с обиды, так волком воет, волосы на себе дерет и рождение свое проклинает!.. Насмотрелся уж я тут всяких… А пуще всего берегись ты этих лоботрясов-то, не слушай басен-то их, ой, берегись! Здесь тебе оставаться не след; барин осерчал и рассчитать велел; так поставлю тебя в разрез сцепщицей, он туда не заглядывает. На глаза ему не суйся. Ничего, проживешь! Много ли одной надо… Ох, жалко мне тебя, девка, жалко! Вот и моя такая же была, кроткая да ласковая… Извели ее, ласточку мою, сгубил ее окаянный инженеришка заезжий, — буры у нас тут ставил, не посмотрел, что ребенок еще, почитай, была… Опоил ее чем-то, надсмеялся! С месяц не в себе была, в рассудке помутилась, не признает никого и все бежать рвется… Только прозевай, бывало, а она уж в казарме: с парнями, как самая последняя это, стыд вовсе потеряла… на всякого вешается, ругаться скверно ее научили… Галились, тешились над ней всей казармой; спрячут ее иной раз да дня два не показывают, а я уж с горя да с обиды и сам с ума сходить начинал! Связывал я ее спервоначалу-то, бил, прости меня, господи, а все не помогает; совсем без ума сделалась, все к парням бежит… Надоумили добрые люди, стали мы ее лечить, и бог пристал… Все задумываться стала: сидит иной раз целый день на одном месте и будто что вспомнит да спросить хочет, а никак не вспомнит… Потом всех признала, и уж не знаю, кто ей про все поступки ее рассказал; а тут еще из избы вышла, и какой-то безбожник, по старой памяти, слово ей такое сказал, что помучнела она вся и нивесть что с ней стряслось: забьется в угол и не откликается; от еды отбилась, слова не скажет ни с кем, а то столь-то горько заплачет! Извелась совсем… Стал я с ней на родину собираться; обрадовалась она, засмеялась даже, по домашности хлопочет, совсем как раньше было… Радости-то у меня было! Да не надолго: в последнюю ночь сбежала она из избы да в прорубь… и не утонула, — вода-то низко стояла; застряла она и замаялась, сердечная, дитятко мое… До следствия в амбаре держали, а тут крысы ее поели… Господи, мученица ты моя!.. — Скудная старческая слеза скатилась по морщинистому лицу Мартына Яковлевича и расплылась на грязном, затасканном рукаве.
— А Дунька вчерась самородку подняла, — прервала нависшую тягостную тишину одна из поденщиц: — тридцать золотников вытянула…
— И ведь возле самой-то меня стояла! Просто зло берет, ослепла я на ту пору… — досадует другая.
— Домой отправляется… Замуж хочет идти… Как-то ведь людям везде счастье!
— Ну, и слава богу… Она девка степенная, дай бог… — сочувствовал нарядчик.
— Айда скорей на машину! — Издали еще кричит стремглав несущаяся на промывку бледная, перепуганная сцепщица: — неладно там шибко, Мартын Яковлевич! Аниску шкивом задернуло; не знаю, жива ли… Ужасти просто!
— Как? Где? Какую Аниску? — посыпалось со всех сторон на вестовщицу. Все вскочили, позабыв недоконченный обед, тесным кольцом окружив прибывшую.
— Аниску с Херувимовки… Воды из котла нацедить она хотела, а колесо-то у водокачки за юбку ее как ухватит, да кверху, да ногами об вагу! Только хрусткоток пошел… Беги скорей, Мартын Яковлевич, никого там нету, за фершалом убежали! Дышит ровно еще, а кровь так фонтаном и хлещет, и хлещет…
— Господи Исусе! Сегодня еще вместе на раскомандировке были, еще с Елеской она ругалась… Господи…
— Да как же это так… Вот грех какой! Как же это она… Дай-ка скорей мне правило! Картуз где-то запропал… — мечется впопыхах встревоженный Мартын Яковлевич: — Вот еще напасть-то где! Оборони, царица небесная, всякого крещеного. Айда, беги скорей, по-за кузнице-то беги, ближе!..
— И я! И мы! Айдате все… — всполошилась команда, кинувшись вслед спешно удаляющемуся нарядчику.
— У-у-у! — властно и повелительно заревел гудок, призывая бегущих к продолжению прерванной, бесконечной работы, и, повинуясь этому мощному, безучастному ко всем людским бедам и горю бездушному зову, остановилась двинутая влечением сердца толпа, берясь за скребки и лопаты. Смутный страх и гнетущий ужас обрушившегося несчастья написан на этих сосредоточенных, безропотно покорных лицах, и песня до самого вечера не звенела уж над дешевою "бабьей" промывкой…
ПРИМЕЧАНИЯ
И. Ф. КОЛОТОВКИН
Иван Флавианович Колотовкин родился в 1878 году на Урале, в поселке Березовский завод, в семье чертежника заводской конторы. Флавиан Яковлевич выбился "в люди" из крестьян. Желая дать детям образование, он переехал в Екатеринбург. Здесь Иван Флавианович окончил начальное училище. Попытка продолжать образование в горном училище оказалась неудачной, отказали "за недостатком мест для лиц непривилегированного сословия". Осталось одно — поступить на службу. Иван Флавианович уезжает на Исовские золото-платиновые прииски, где служит конторщиком. В течение двух лет работы на приисках он усиленно занимается самообразованием, а с 1899 года начинает литературную деятельность. В местной печати появляются его первые фельетоны и очерки.
Переехав в Екатеринбург, Колотовкин завязывает тесные связи с редакциями уральских газет и журналов ("Урал", "Уральский край", "Уральская жизнь", "Голос Приуралья" и др.). Отдельные рассказы печатает и в других провинциальных изданиях ("Волжские вести", "Белорусская жизнь"). В 1905 году он выпустил сборник рассказов "За горами", а в 1919 году подготовил второй — "На чужой стороне".
Так и не став писателем-профессионалом, Колотовкин продолжал работать в различных учреждениях Екатеринбурга. Длительное время служил он в конторе компании Зингер и принимал активное участие в забастовке служащих компании. Затем переехал в Пермь, работал в кооперации.
Только в 1917 году он, наконец, получает возможность вплотную заняться журналистской деятельностью, редактирует и издает журнал "Известия потребителей" — орган Союза потребительских обществ Северо-Восточного района.
В 1919 году у Колотовкина начинаются приступы тяжелой болезни. С этого времени он уже ничего не пишет. Болезнь выбила его из рабочей колеи. 28 мая 1922 года И. Ф. Колотовкин скончался.
А. Г. Туркин, современник и личный друг Колотовкина, в одном из писем к нему (июнь 1910 г.) так охарактеризовал дарование и самую личность своего собрата по перу:
"По скромности своей (это, положим, хорошо — скромность) Вы даже и не подозреваете, Иван Флавианович, какой, в сущности, вы талант! Берегите в себе это сокровище, нежно и любовно воспитывайте его… И от этого ваша жизнь, быть может, одинокая — будет согрета близким и чистым другом…"
По характеру своего творчества Колотовкин — лирик. Нет ни одного рассказа, где бы не проявлялось авторское отношение к изображаемым фактам и явлениям. По его произведениям можно проследить всю гамму чувств и настроений представителя той части русской интеллигенции, которая искренне ненавидела существовавший в России самодержавно-полицейский и буржуазно-помещичий строй, искренне желала "великой перемены" в общественной и государственной жизни России. По своей писательской манере Колотовкин стремился продолжить традиции Чехова.
Основной герой Колотовкина — маленький человек. Его мысли и чувства, его горькая судьба все время в центре внимания писателя. Больше всего Колотовкина занимает проблема социального, положения маленьких людей, проблема социальной несправедливости. Рельефно изображает он быт простых людей, не скатываясь при этом к плоскому бытописательству и натурализму, и в героях своих он умеет выделить их социальную сущность.
С горячей симпатией рисует Колотовкин фигуры протестующих против "житейской" несправедливости. Бунт "маленького человека" анархичен и обычно кончается его гибелью, но это не значит, что писатель не видел другого пути борьбы — революционного. Тема революции притягивала писателя в период наибольшего расцвета его творчества с 1905 по 1910 год. Прямо или косвенно Колотовкин касается этой темы в рассказах: "Голодные и пресыщенные", "Олесь", "Ночью", "Рыцарь на час", "Утишье" и др.
Два враждебных лагеря встают перед нами со страниц этих рассказов, интересы их противоположны и непримиримы. Колотовкин не был организационно связан с революционным авангардом рабочего класса. Но он был свидетелем его героической борьбы на родном Урале. Вместе с ним пережил он и горечь поражения. Написанные в 1907 году рассказы "В тупике" и "Рыцарь на час" освещены пламенем последних баррикад. Колотовкин показывает политических ссыльных, живущих мыслями о свободе ("Шестеро"), заключенных, которые, рискуя жизнью, совершают побеги из тюрем ("Ночью"). Однако содержание самого революционного подвига остается вне рассказа. Автора больше интересует психология человека, лишенного свободы, тоскующего и в конце концов бесплодно гибнущего.
Нельзя все же переоценивать значение этих рассказов. В художественном отношении они значительно ниже рассказов на бытовые темы. Этим, в частности, объясняется отсутствие их в сборнике.
Социальная тематика творчества Колотовкина широка и разнообразна. Если он в своих рассказах часто касался таких вопросов, как безработица, правовое и экономическое положение рабочих, то не могла его не заинтересовать и жизнь уральской деревни.
Крестьянское разорение, усиленное неурожаями, гонит из родных мест хлеборобов. "Никто, милый ты человек, от хорошего житья со своей родной земли не двинется, никто! — резюмирует замухрышистый, испитой, неопределенного возраста мужик, в армячишке заплата на заплате. — Нужда, голод да холод гонит… Ведь как живем? О, господи! Земли, прямо сказать, с рукавицу, лесу — не по нашим зубам… Огородиться нечем! Избенка — на веретене встряси, из осинок, зимой тут и сам с семьей и телята да овечки…" ("На вокзале").
Творческий путь Колотовкина был недолог, но он ярко отразил эволюцию взглядов и настроений демократической интеллигенции, противоречивость ее мировоззрения, ее колебания.
Период с 1900 по 1905 год закончился выпуском сборника "За горами". В этом сборнике, построенном целиком на материале наблюдений над бытом и нравами приискового населения, писателю удалось подметить не только кровавые драмы, моральное одичание, но и рабочую солидарность, удалось показать тип нового рабочего, готовящегося к борьбе за лучшую жизнь.
Печален рассказ старого шахтера об аварии в шахте ("На отлете"). Еще печальней история Настьки с "бабьей" промывки, — обыкновенная история работницы на приисках ("Около золота").
При всей точности и меткости наблюдений сборник в целом натуралистичен и в литературном отношении не доработан. Особенно это заметно в языке, сухом и вялом.
Следующее пятилетие явилось новым этапом в творчестве Колотовкина, характеризовавшим дальнейший рост его, как писателя. Это чувствуется в более глубокой разработке тем, в более широком охвате социальных явлений, в точности и в тонкости психологического рисунка, богаче становится язык, разнообразней литературные приемы. В рассказах этого периода есть и лирический монолог, и сатирическое изображение, и социальная символика.
С 1910 по 1915 год Колотовкин пишет меньше, но больше работает над своими произведениями. Он создает цикл лирических миниатюр ("Эдельвейс", "Ночные тени", "Дождь шумит" и др.). В этом цикле писатель отдал дань тем настроениям пессимизма и отчаяния, которые овладели после поражения революции 1905 года широкими кругами интеллигенции. В миниатюрах этих лет мы видим стремление автора уйти от общественности в "темную пещеру" собственного "я", желание "заснуть навсегда", "чтобы все забыть, никогда более ничего не чувствовать". Любимыми эпитетами становятся: "черный", "унылый", "бледный", "холодный".
Несмотря на эти колебания, а иногда и прямую зависимость от господствовавших в дореволюционной литературе декадентов и символистов, все же господствующей и ведущей в творчестве Колотовкина была здоровая реалистическая и демократическая струя. Лучшие его рассказы посвящены трудящемуся и эксплуатируемому люду и являются художественной иллюстрацией тех процессов, которые предшествовали Великой Октябрьской революции. Рассказы согреты чувством человечности, озарены светом передовых идей эпохи — идей демократизма и гуманизма.
Тема "маленького человека" перерастала у Колотовкина в тему одинокого человека. На кучера Еремея свалилась большая беда: "в одночасье захворала и через двое суток отдала богу душу баба". Не с кем поделиться Еремею своим горем. Он идет в трактир и изливает перед случайным собутыльником наболевшее сердце ("Гуси").
Писатель ведет нас в сырые подвалы "с плесенью и мокрицами", где "пирогов никогда не пекли и дров не имели" ("С голоду"). Душно жить и в опрятных комнатках, с геранями на подоконниках, с граммофоном и птичьими клетками. "Вот уже настоящее счастье выпало девушке!" — в один голос твердили Танечке, когда она стала женой официанта Андрея. А в чем же заключалось счастье? Считали деньги, гуляли по Сухаревке, играли в шестьдесят шесть, мечтали о собственной столовой и даже о маленьком ресторанчике ("Будни").
Задыхается в этом мещанском раю хорошая девушка Таня, зато благоденствуют такие, как торговец Архип Фролыч ("Благодетель"). "В церковь он приходит ранехонько, вместе со старухами, к часам". А за прилавком "будто крест на себя принимает из христианского снисхождения к человеческой греховной слабости".
Из деревенских рассказов Колотовкина нужно отметить такие, как "В деревне", "Обида", "Новое", "В люди вышел".
Тяжелой тоской веет от последнего рассказа. Старуха-мать собралась проведать сына. Сын "устроился" в городе и сумел-таки "в люди выйти". Драматизм рассказа достигает своей кульминации в сцене встречи матери с сыном. Для сына эта встреча — неприятный "суприз". Пестрядинная юбка и деревенские "коты" родительницы компрометируют его перед сослуживцами, напоминают о былой бедности.
В литературном наследии Колотовкина следует выделить жанр сатирических рассказов. К этой категории относятся: "Житейское", "Сокровенное", "Недоразумение", "Своя своих", "Кровью своего сердца" и др.
Лучшими из вещей этого жанра являются рассказы "Своя своих" и "Кровью своего сердца". В первом из них писатель высмеивает "власти предержащие", готовые поступиться всеми прерогативами, когда им предстоит столкновение с теми, в чьих руках деньги, — то есть настоящая власть.
"Кровью своего сердца" — очень злой шарж. Читая его, невольно вспоминаешь острые тирады Горького в адрес изолгавшегося, исподличавшегося русского интеллигента.
Колотовкин умер в расцвете творчества. Он не смог вырасти в крупную литературную силу. Но он был правдивым писателем-демократом, создателем бытовой новеллы, проникнутой социальными мотивами, и это является вкладом его не только в уральскую, но и в общероссийскую литературу.
Печатается по тексту книги: Ив. Колотовкин. "За горами" и другие рассказы. Екатеринбург, 1905, с незначительными сокращениями.
Стр. 256 в эйфеля — в мягкую породу, остающуюся после промывки золота.
Стр. 258 Фарт — удача.
Стр. 260 самородку подняла — на Урале самородок золота называют самородкой.
Стр. 261 об вагу — поперечное поддерживающее бревно.
В ЛЮДИ ВЫШЕЛ
I
Еще с осени бабушка Феоктиста запоговаривала о поездке к сыну. Дорога к нему была дальняя, в своей деревне старуха безвыездно изжила век, и было немного страшно покидать родные места на старости лет. Поэтому она первое время не решалась серьезно думать об отъезде, не смела высказать свое желание, а только все чаще заводила речь об этом издалека.
— Ох-хо-хо! Что бы Калистратушка надумал попроведать меня… Умру, внучек своих не доведется поглядеть. Здоровьем-то нынче стала что-то больно скудаться, — жаловалась она соседкам.
Дочь ее, Марья, и зять при этом упорно молчали, не желая понимать, к чему заговаривает старуха. Разве уж когда Феоктиста шибко разноется, жалуясь на обуявшую ее тоску по сыне и внучатам, намекая при этом, что родной сестре нужды нет, жив ли, здоров ли братчик, Марья не вытерпит и с сердца скажет другой раз:
— Мы, слава богу, сыты своим крестьянским куском, нечего нам из его рук-то выглядывать! Не больно он нас-то помнит да чествует… Богат, видно, больно стал, а нам тоже нет большой нужды богатству его кланяться!
— Ну, что заскулила! — прикрикнет на Марью муж, тоже никогда не вспоминавший про шурина. Все замолчат, а Феоктиста после этого начинает сердиться на дочь и на зятя, с особым ожесточением накидываясь на работу. У нее тогда гремят горшки и ухваты, потом она начинает всхлипывать и отказывается садиться за стол.
— Бабушка, иди обедать, а бабушка! Иди! — теребят ее внучата, когда не удавалось дозваться Марье,
— Не хочу я, дитятки, не хочу! Садитесь сами-то… Поила-кормила детонек, растила, а чего дождалась, — ворчала она вполголоса, чтобы слышали дочь и зять. Начинались извинения Марьи, зять тоже упрашивал, и Феоктиста не могла устоять, садилась за стол и уж здесь давала волю своим слезам и жалобам.
— Мне то что его богатство! Не за богатством я гонюсь… Тоже ведь сын, сердце-то у меня об нем, поди, тоже болит али нет? По мне оба равнаки, хошь сын, хошь дочь, палец-то, который не укуси, все больно! — пеняла она, всхлипывая и сморкаясь в уголок передника.
После одной из таких сцен размолвки и примирения зять как-то сказал Феоктисте:
— Что же, мать, нешто мы держим? Поезжай, попроведай, увидишь там… Поглянется — останешься, а тоскливо будет — Калистрат тебя отправит. У нас завсегда тебе угол найдется…
Марья присоединилась к мужу, а старуха расплакалась, на этот раз уже от радости. Никогда еще, кажется, не работала Феоктиста с таким проворством, как в эту зиму. На масленице она внесла в избу кросна, основала и с чистого понедельника принялась за тканье.
— Нет, уж я оботкусь сперва, с огородами вам управлюсь, а там, бог даст, и к сыночку отправлюсь! — заявляла она Марье на ее уговаривания ехать в город теперь же. Старуха от сна отбилась, из рук не выпускала работы, чтобы скоротать время и выказать дочери с зятем свою благодарность за их сочувствие к ее материнской тоске по сыну.
Петухи уж пропоют, бывало, проснется Марья, а Феоктиста все сидит за своими кроснами, и мелькает-мелькает челнок, стучит бёрдо под ее сухими, старыми руками.
— Мама! Что это ты до коей поры сидишь, — окликнет дочь.
— А! — встрепенется старуха, — да вот цевку докончить охота… Ты спи, я вот сейчас тоже ложиться стану… Спи, Марьюшка, спи!
Проснется поутру Марья, а Феоктиста уж печь затопила, хлебы месит, скотину поит. Когда она спала — неведомо. Управится по дому — и опять за кросна. Ткет и думает о том, как она поедет к сыну, как будет глядеть на него, сидеть да говорить с ним. Как сноха ей обрадуется да обласкает, а внучаты полезут к ней на колени. Феоктиста хитрила, говоря об одинаковой любви к детям, Калистрата она любила больше Марьи. Дочь была еще совсем неразумное дитя, когда Феоктиста осталась с двумя сиротами на руках после покойника мужа. Калистрату же шел тогда девятый год, и рос он мальчишкой смышленым, толковым, судил с матерью о горести их положения и все утешал, что скоро подрастет и будет им с Машуткой подпорой. Мать подумала было взять его из школы, он разъяснил ей, что без грамоты ему никак не можно, и Феоктиста во всем с ним соглашалась, работая по чужим людям для пропитания себя и сирот. По тринадцатому году отдали Калистрата в подручные мучному купцу в город, по совету приходского батюшки и по просьбе самого мальчугана, мечтавшего стать настоящим человеком и помогать матери.
Шли годы. Изредка Калистрат присылал домой трешницы и пятишницы, заходили соседские ребята и читали Феоктисте его письма, а она заливалась горькими слезами. Раз под рождество приехал и сам он, бравый, красивый паренек, одетый по-городскому, и привез матери шаль и фунт чаю, а сестре на платье. Все соседи тогда приходили глядеть на Феоктистина сына, а он показывал им свои наряды, часы с серебряной цепочкой и удивлял рассказами о благородном городском житье купцов и приказчиков. Прожил он тогда два дня и уехал, жалуясь на деревенскую скуку.
Когда к Марье присватался жених, Калистрат прислал на свадьбу тридцать целковых и отписал, что сам приехать не может, потому что хозяин назначил его старшим приказчиком. После того письма и деньги приходили от него редко, и Феоктиста частенько забегала в волость справляться, не чая уж и получить вести от сына.
Наконец, пришло страховое письмо и при нем фотографическая карточка, на которой Калистрат снялся с какой-то нарядной барышней в буклях и с корзинкой цветов, в руках. В письме он писал, что это невеста его, хозяйская дальняя родственница; мать и сестру с мужем он приглашал на свадьбу, но о деньгах на дорогу старухе не заикнулся. Старуха была вне себя от радости и всем показывала карточку, а Марья и зять, едва взглянув на фотографию, избегали говорить об этом. После того Калистрат еще раз наезжал в деревню, отписываться от общества, но пробыл недолго: напился чаю, подарил матери пять рублей, пообещал выписать ее поглядеть на внучку и уехал на земской паре.
С тех пор миновало три года, и от Калистрата было получено несколько писем, одно с уведомлением о родившемся у него сыне. Последнее письмо заронило в душу Феоктисты пламенное желание повидать сына и его семью.
Прошел великий пост, миновала святая. Прилетели скворцы, мужики выехали в поле. Баушка Феоктиста подняла на вышку кросна и принялась за огород. Близко Николина дня она покончила все работы и приступила к окончательным сборам.
— Уезжает наша Феоктиста Тихоновна, — глядя на ее сборы, горевали то и дело завертывавшие к ней соседки, — умрешь в городе-то, схоронят на чужой стороне и на могилку к тебе побывать не доведется!
— Прощай, милая соседушка, последняя моя подруженька! — причитала полуслепая Матрена.
— Ну, не на век уезжаю, что прощаться-то! — храбрилась Феоктиста, хотя и у самой на сердце кошки скребли от таких речей, да уж больно охота взяла любимого сыночка повидать. — Бог даст, вернусь, — утешала она.
— Где уж вернешься! У сына-то, чай, почет да спокой… Заживешь одна рука в меду, другая в патоке… Город, так уж город, что говорить… — Марья в таких разговорах не принимала участия, делалась угрюма и принималась бесперечь бегать из избы в сени, и беда, если кто подвернется к ней под руку.
— Куды! Куды лезешь, подлая тварь! — И было слышно, как она палкой вымещает свое сердце на пакостливой телушке.
Рано утром зять запряг лошадь, поставил в телегу сундучок, положил мешок с хлебом, и бабушка Феоктиста начала прощаться. Марья не вытерпела, наконец, и завыла, обхватив мать.
— Ну, где вы еще там? Опоздаем на чугунку-то! — крикнул со двора зять, прилаживаясь на облучок.
Феоктиста отцепила от себя дочь, внучат и уселась на телегу, тоже очень растроганная.
— Ну, благословляйте! — сквозь слезы сказала она.
— С богом! Отпиши, как приедешь-то, слышь!
Мужик хлестнул по лошади. Бабы долго еще стояли посреди улицы, глядя вслед громыхающей телеге. Вскоре она скрылась за косогором.
II
Феоктиста оставила свой сундук на вокзале и отправилась, с белым холщовым щелгунком за плечами, разыскивать лавку купца Тулупьева.
Ей указали на громадный хлебный амбар, с широко раскрытыми дверьми, на манер ворот. Внутри него белелись стены и коридоры из мешков с мукой, а около входа сидели лицом к лицу двое сытых, здоровых мужчин в серых от муки куртках и играли в шашки. Они были очень, заняты игрой, громко посмеивались друг над другом и по временам от души хохотали так, что лица у них наливались кровью. В одном из них Феоктиста признала Калистрата, и сердце у нее занялось от подступившей неудержимой радости.
— Здорово живете, — тихонько молвила она, остановившись около двери.
— Что скажешь? — не подымая головы, ответил вопросом на ее приветствие Калистрат, весь занятый игрой.
Она промолчала. Он вскинул голову, с минуту глядел широко раскрытыми, испуганными глазами, и все лицо его вдруг залил неестественный пунцовый румянец. Он так растерялся, что не догадался даже подняться с места, а когда встал, наконец, то не знал от замешательства, что дальше делать и что говорить. Но по мере того, как проходил столбняк, на лице Калистрата вместо испуга все резче обозначалось выражение крайнего неудовольствия и с трудом сдерживаемой злобы.
— Вон что, вон что… — повторял он таким тоном, в котором под удивлением очень ясно проглядывала досада и чуть ли не угроза. — Аль приключилось что, экую даль притащилась? Сидеть бы, ровно, а она путешествовать! — насильно рассмеялся Калистрат, но шутка не удалась, потому что в голосе звучала уже явная злоба.
— Денег надо, так написали бы… Вот сюрприз-то!
— Стосковалась, Калистратушка! Какие там деньги, внучаток поглядеть охота… — виновато пробормотала старуха, озадаченная таким приемом.
— Вон что: стосковалась! Ну, нам здесь тосковать, родная моя, некогда…
— Что, никак родительница прибыла, Калистрат Осипович? — спросил другой приказчик, насмешливо наблюдая затруднение Калистрата.
— Пожаловала, она самая! — усмехнулся и тот, густо покраснев, и еще более рассердился на мать, одетую в пестрядинную юбку и деревенские коты.
— Ну, что ж! Приехала, так уж не воротишь… Зачем сюда-то? Ехала бы прямо на квартиру! — крикнул он ей, как глухой нищенке, зашедшей с чистого крыльца, и позвал дежурившую у амбара ломовую телегу. Феоктиста взобралась на нее и поехала.
В доме купца Тулупьева жили и другие его служащие с женами, немало порадовавшиеся между собой, что зазнавалу — старшего приказчика при всем рынке оконфузила деревенская лапотница-мать.
— Что это, Антонина Ивановна, к вам гостьюшка дорогая прибыла? — ехидно спрашивали жену Калистрата то и дело забегавшие дамы тулупьевского двора. — Да где же она? Покажите, душечка! Аль с дороги спать уложили?
Антонина Ивановна бледнела, краснела от злости и, зная, что правда уже все равно всем известна, принялась жаловаться, что свекровь грязная, глупая, деревенская старуха, которую она дальше кухни бесчестным считает провести.
— Да неужели! — ужасались приятельницы. — Вот удивительно-то! Калистрат Осипыч такой господин великатный, вы сами, можно сказать, совсем даже из благородной семьи, а тут вдруг маменька в паневе! Ужасно как неприятно…
— Недаром уж говорится, что самые лютые только три болезни и есть: зубная, глазная да третья — деревенская родня! — заключила Антонина Ивановна, проклиная в душе свекровь.
А Феоктиста как приехала на квартиру сына, то кое-как ее впустили даже и на кухню-то.
— Да ты кто же доводишься Калистрату-то Осипычу, что к нему в гости пожаловала? — допытывалась у нее прислуга.
— Мать буду… родная мать Калистратушке-то…
— Мать? — выпучила глаза баба. — Вот еще где чудь-то! Так уж ты все-таки, сделай милость, обожди, я сперва барыню спрошу… Вот оказия-то, прости господи! — переполошилась она, убегая в комнату, где пробыла недолго, и, выскочив обратно, возвестила, таинственно прикрывая дверь за собой:
— Разболокайся… Обрадовала, маменька, нечего сказать! Барыня-то посейчас в память придти не может… Сам-то, чай, тоже обезумеет, больно уж высоко себя ведет, мне другого имени нету, как только дура сиволапая, в зубах всем барство-то его навязло, а вот тебе и барин! — злорадствовала баба, гремя посудой.
Феоктиста смирнехонько сидела, как пришибленная, почти не слушая словоохотливую стряпуху, а та, даже и не думая считать гостью хозяйской родственницей и полагая ее на одном положении с собой, продолжала костить на чем свет стоит Калистрата и его жену.
— Уж такие-то выжиги, такие выжиги, что не приведи царица небесная! Как двужильная воротишь у них, а все мало им! Я им стряпаю, и за скотиной хожу, стираю, ребят ихних в ванной мою, да все, все делаю, а они даже досыта-то другой раз не накормят, вот тебе святая икона! Все с весу выдает подлая, ложки мне не остается… Отдельно мне обрезь да шеину покупает, язва! Капитал составляют, над всякой копеечкой дрожат да все в банку, все в банку кажинный-от месяц возят…
Феоктиста молча вздыхала, а на сердце ей навалился тяжелый-тяжелый камень, к горлу подступали горячим клубком затаенные слезы. Прошло часа три, как она на кухне. Уж баба перемыла посуду, нагрела воды и вынесла пойло коровам, наставила самовар и не раз сбегала в комнаты на стук в стену. Ни сноха, ни внучата не думают к ней выходить или к себе звать. "Вот ужо сам из лавки придет, позовет…" — думает старуха.
Стряпка снесла самовар и вернулась, ругаясь.
— Долго кипит! Ды что мне самой в него садиться, что ли? Подождите, не велики господа-то… Уж нет того хуже, матка, как у этаких жить, право, ну! Вылезут в люди из нашего брата, так они — не они, изъезжаются над прислугой…
Уже смеркалось. Стряпка успела подоить коров и принесла из комнат остывший самовар.
— Эвона! Да он уж с коей поры дома-то, чаю напились, — рассмеялась баба: — не видела разве, самовар-то я подавала? Теперь мы с тобой пить станем, сахару тебе послала сама-то; у меня ведь свой, а чай-то ихний допиваю. Разве что не хватит двоим-то? Пойду попрошу на запарочку да по пути про сундук-то твой скажу…
"Не позвал! Погнушался… на кухне… сахару два куска…" — вертелось в голове Феоктисты, и она чувствовала, как тоскливо сжимается и ноет у нее сердце, в груди что-то колотит, как смола жжет, душит, и от этого хочется выть, рвать на себе волосы, биться головой об пол…
На другой день был праздник, и Калистрат не торговал, а уехал с женой к обедне, не показавшись Феоктисте. После обедни на кухню вышла Антонина Ивановна в шелковом лиловом платье, с кольцами и браслетами на руках. Едва взглянув на старуху и брезгливо кивнув головой на ее поклон, она взяла блюдо с горячими ватрушками и удалилась, кинув прислуге сопровождаемое подозрительным взглядом:
— Что-то как будто мало вышло у тебя?
— Хватит тебе подавиться-то! — прошипела та. После чая вышел на кухню Калистрат.
— У тебя там что еще за сундучок, сказывают? — встревоженно обратился он к матери. — Уж ты не со всем ли имением, не на жительство ли сюда приехала, а?
— Где же, зачем на жительство… Повидаться только охота было, Калистратушка, детонек твоих поглядеть… Сам знаешь, с коей поры-то не виделись… — робко ответила Феоктиста.
— То-то, — благосклоннее взглянул он. — У меня ведь жить негде, своя семья, тесно… Гостить гости, сделай милость, хлеба не жалко: готовый едим. Когда домой-то думаешь?
— Не знаю… — упавшим голосом прошептала она.
— Ох-хо-хо! Беда с вами, со старухами, — будто устыдившись немного, вздохнул он для смягчения своего вопроса. — За сколько верст притащилась! Деньги на обратную дорогу есть ли? На вот тебе пять рублей. Дал бы больше, да сам не при деньгах сейчас, здесь жизнь ведь дорога, не то, что в деревне. Все ли там у вас здоровы? Ну и ладно. Кланяйся им от нас… Да ты пила ли чай-то? Пей, а то обедайте. Ну, гости, гости, коли охота, хлеба не жалко! — заключил он, уходя, но в дверях обернулся и добавил: — Пойдем, покажу уж тебе внучат, что с тобой поделаешь!
Внучат ей показали у порога чистой комнаты. Сама Антонина Ивановна сидела у окна, капризно надув губы, и даже не шевельнулась в сторону свекрови. Калистрат держал на руках мальчугана, крепкого, розового, а подле него жалась, глядя исподлобья, девочка лет трех. Феоктиста хотела было приласкать ее, но та дичилась и пятилась, держась за отца.
— Я тебя не любу… Ты нехолосая, бяка… — откровенно призналась она, уставившись на морщинистое лицо и худые, темные руки старой бабушки.
Феоктиста глядела на эти красивые комнаты с картинами и цветами, на этого важного господина с нарядными детьми, на чванную барыню в шелках, — и никак не могла проникнуться сознанием, что это близкая ей семья родного сына. Ничего она не чувствовала к ним родственного, все здесь казалось ей таким чужим, далеким, холодным, а в душе накипала скорбная, неутолимая жалость к безвозвратно пропавшему где-то любимому сыну.
Облегченно вздохнула Феоктиста, покинув на третий день этот чужой дом, где ближе всех была ей только добродушная стряпуха.
К своим вернулась она такая убитая, жалкая, будто даже сразу одряхлевшая. С первого взгляда на вернувшуюся так скоро из города Марья с мужем поняли, что с ней случилось там что-то потрясающее, и не расспрашивали. Молча вылезла Феоктиста из телеги, молча вошла в избу и стала раздеваться при том же подавляющем, жутком безмолвии, какое рождает кругом себя человеческое страдание изнывающей души.
Вот Феоктиста опустилась на скамью, обвела замутившимся взглядом выжидательно воззрившиеся лица родных, и вдруг из груди у нее вырвался долгий, наболевший, отчаянный вопль. Все тело ее задрожало от прорвавшихся, долго таимых в себе рыданий, по лицу потекли быстро-быстро крупные слезы. Она упала на стол, билась об него головой и, захлебываясь слезами, кричала страшно, неистово и пронзительно, как от нестерпимой, жестокой пытки:
— Маменька! Что ты? Полно терзаться, полно, — перепугалась тоже принявшаяся плакать Марья. — Что у тебя приключилось-то? Скажи хоть словечко!
— Нету! Нету у меня больше сыночка-а! Нету моего ясного сокола! Не приголубит он меня, старую, не утрет слезу мою горячую-ю! Ой, тошно мне, горемычной! Тошно, тошноо-о..- надрывалась Феоктиста, как над покойником.
А сын для нее и в самом деле умер, как навсегда похоронила его заживо…
ПРИМЕЧАНИЯ
Печатается по тексту газеты "Голос Приуралья", 1907, 16 июля.
Стр. 317 Бердо — принадлежность ткацкого станка, гребень для прибивания утка к ткани.
Стр. 317 Цевка — шпулька, на которую наматывается нитка утка, идущая поперек основы.
Стр. 320 Щелгунок — котомка, мешок для хлеба и припасов в пути.
Стр. 321 Панева — домотканная клетчатая материя, женская одежда, сшитая из такой материи.
Стр. 322 разболокайся — раздевайся.
КРОВЬЮ СЕРДЦА СВОЕГО
Из молодых, но на удивление талантливый и плодовитый писатель Захар Корытников, пишущий под псевдонимом "Наркис Гиацинтов", чрезвычайно любим публикой и популярен в литературных сферах. Все его хвалят, исключая, конечно, бездарных завистников.
— Бесценный человек! Изумительная способность чувствовать момент… бьет всегда в самое живое, больное место… Удивительно! — с умилением отзывались редакторы провинциальных газет.
Читатели… Бог мой, сколько пышных комплиментов приходится выслушивать от них Наркису Гиацинтову!
— У вас благоухающее, нежное дарование… сколько задушевной теплоты, искренности!.. Вам тяжело, верно, жить с таким чутким сердцем?
— Вы избранная натура, оттого и владеете толпою, что пишете кровью своего сердца, это чувствуется!
Такое внимательное отношение общества ободряет молодой талант, воодушевляет. Правда, всеобщие похвалы часто кружат юные головы, но Гиацинтов и тут счастливое исключение: успех не вселял в него ни сомнения, ни пагубного пренебрежения и лени. Молодой беллетрист от этого только чувствовал в себе все возрастающие, неиссякаемые силы, все более проникался благоговейным уважением к своему таланту и горел жаждою самоотверженного служения добру и красоте. Сколько им сделано для святого дела очеловечения этих жестоких двуногих животных! Не спрашивайте, чего это стоило чуткому, нежному писателю: недаром говорят, что он пишет кровью своего сердца.
Да, он не жалеет сил. Не далее, как в три последних дня, им написаны четыре рассказа, три новеллы, шесть миниатюр — все для праздничных номеров самых распространенных газет. Пусть читают, пусть не говорят, что Гиацинтов зарывает свой талант в землю!
Правда, после столь напряженного художественного творчества он почувствовал такую ломоту в спине, точно его молотили в четыре цепа, и заснул, как пожарный после жаркого дела, но сколько блаженного упоения в высоком сознании совершенного подвига! Сегодня проснулся в одиннадцать утра в детски счастливом настроении.
Слава богу, развязался! Можно и отдохнуть после такой титанической умственной работы. Талант, конечно, принадлежит обществу, но носитель этого божественного дара, как хотите, все-таки человек. Как хорошо! Пройдет неделя, и тысячи, десятки тысяч людей будут читать вдохновенные строки Наркиса Гиацинтова. Если даже только половина воспримет, сколько святых слез исторгнется! Да нет! Что половина? Никто не устоит. Восторженные взгляды толпы, застенчивые похвалы почитателей…
— Барин! Вам письмо газетчик принес. — Гиацинтов поморщился, будто его прямо с Олимпа потянули грязными руками в канцелярию частного пристава.
— Что еще там такое? — простонал он, но едва начал читать письмо, лицо его сперва побледнело, потом исказилось страдальческою гримасой. — Вот проза жизни! Вот шипы наших роз! Проклятые барахольщики, помнят, что за мною авансы…
Письмо было от редактора прогрессивной газеты "Осиное жало"; тот убедительно просит доставить к завтрему праздничный рассказ.
— Но у меня для них ничего нет! Что же теперь делать? Что?! Может, пренебрегу? Не починка же это галош с ручательством, черт возьми! Даже срок назначили… А не дать нельзя, никак нельзя… И как я мог забыть об этом треклятом "Жале"! Но что же написать? Что? Положительно ничего не осталось в голове…
Вконец расстроенный, Гиацинтов отказался от кофе, долго метался из угла в угол, потом в изнеможений прислонился к окну, устремив на улицу одурелый, бессмысленный взгляд.
"Жандарм влюбился в политическую арестантку, помог ей бежать, сам сделался террористом-революционером… Нет, не то! Старушка-мать пошла в тюрьму ночью, впоследние прижать к сердцу своего сына, а за городом на нее напали волки и съели. Тоже не годится! Что ж? Возьму и заморожу мальчика у ярко освещенного окна магазина… Нет, нет! Тысячи мальчиков художественно заморожены великими мастерами, я не хочу повторений, пошлых перепевов!"
По переулку, корчась от мороза, бежали солдаты, лошади все превратились в белых, мужики в дровнях кутаются в косматые собачьи дохи. Солнышко светит на той стороне, такое желтое, холодное… Гиацинтов заглянул на градусник — двадцать восемь! Вздохнул, хрустнул пальцами.
— Что это? Боже мой! Неужели? Ну да, ты нашел себя, схватил тему, вот же она, вот! Ведь это для обывателя просто пьяный рабочий, весь в снегу, выписывающий мыслете, а для художника с творческою фантазией? О-о! Благодарю тебя, небо!
Гиацинтов, весь дрожа мелкою дрожью восторженного экстаза, с выступившим румянцем, жадно следит сверкающими глазами за пьяным, беспомощно цепляющимся за гладкие стены.
— Да он же не дойдет до дому! Он не держится на ногах… сейчас упадет, вот-вот… пал!!
Он стремглав кидается к письменному столу, хватает бумагу, от волнения едва попадает в чернильницу, и вот уже перо его с непостижимою быстротою забегало, заскрипело, спотыкаясь и садя кляксы.
"Мрачный, тюремного вида, сырой подвал… По стенам зеленая плесень… Изможденная, прежде времени увядшая женщина ломает руки в безысходном отчаянии и муке. Сердце несчастной страдалицы терзают вопли голодных детей. "Милая мама! Мы умираем от голода! Дай нам хоть черствую корку хлеба! О, зачем вы нас произвели на свет?" — стонут несчастные малютки. Адские страдания искажают бескровное лицо матери, острые ножи вонзаются в ее сердце. Ножи, ножи!.. Обездоленные существа, вечерние жертвы жестоких социальных условий! Напрасно льются святые ангельские слезы, тщетно лепечут невинные уста: "Скоро ли придет наш папа? Он, верно, принесет французской булки и шоколада?" Напрасно, напрасно… Знаете ли вы желто-зеленые вывески? О, не читайте, не смотрите этих желто-зеленых вывесок, если они вам еще незнакомы! Кровью ваших матерей и жен написаны они, дьявол писал эти вывески. Дьявол! Дьявол! Жертва буржуазного строя, он шесть долгих дней изнывал над работой, чтобы получить эти несколько рублей. На крыльях радости стремился к возлюбленной жене-другу, к дорогим малюткам, ободряемый счастливою мыслью: "Они будут кушать суп и кофе с сдобными булками, у них будет тоже праздник…" Леденящее дыхание морозного ветра пронизывает его ветхую одежду, члены его коченеют… О, искушение! Желто-зеленая вывеска… Печальное наследие предков, мучеников и рабов капиталистического строя сказалось, парализовало его волю, заглушая добрые чувства, он остановился. Огненная влага расплавленным свинцом ожгла его внутренности, отуманила его мозг… Мозг, мозг! Внутри горело, точно наелся кайенского стручкового перца, жажда мучила тем сильнее, чем больше он пил… О, смотрите вы, у которых сердце крокодила, прожорливость акулы. Вы хотели отнять у человека и те гроши, что кинули за его обесцененный труд? Вы отняли. Торжествуйте! Вы сначала одурманили, потом ограбили человека, но вас за то не повесят, даже в тюрьму посадят не вас, а его же, если с голода он украдет колбасу, вытащит кошелек… Вот он идет, у которого вы отняли образ человеческий, окоченевший, в рубищах… Несчастный употребляет последние усилия сохранить равновесие, но тщетно: он упал".
Гиацинтов, не выпуская пера, бросается к окну, жадно смотрит на упавшего минуту-другую, опять садится на табурет и скрипит пером.
"…Упал в глубокий сугроб. Шапка свалилась с головы, ветер треплет волосы… Облегающая испитую фигуру легкая куртка распахнулась, сквозь расстегнутый ворот розовой рубашки видно голое, истощенное тело. Вот он силится встать, упираясь голыми, красными от мороза руками в сыпучий снег, но, едва поднявшись, бессильно переваливается на другой бок…"
Опять выглянул в окно, снова, с удвоенным рвением строчит страницу за страницей.
"…Он весь осыпан снегом, он возбуждает насмешки наивных школьников. Жестокосердые дети! Жертвы суровой нищеты и невежественного воспитания, вы не виноваты, если ваши несчастные родители дали вам такое печальное детство, заглушившее все свойственное вашему возрасту нежное и чувствительное.
Вы не виноваты, если за счет отнятого у вас кто-то воспитывает своих детей вдали от нужды, грязи и прозы жизни!
Но вот несчастный, выбившись из последних сил, падает навзничь… пытается спрятать обмерзшие руки в узких, полных снега рукавах куртки… не может… Вот он перестал двигаться, только белый пар вылетает из груди часто-часто… может, засыпает… Сорок градусов мороза!"
Гиацинтов весь не свой почти поминутно бегает к окну, от пытающейся что-то сказать горничной свирепо отмахивается обеими руками. Молчит и курит, курит и строчит.
В комнате зелено от дыма, с пепельницы валятся окурки.
"…Лежит неподвижно. Вот поравнялась с ним какая-то сердобольная мещанка с корзиной на руке, что-то говорит, склонившись, трясет за рукав… Напрасно! Проехали господин с дамой, закутавшись в дорогие меха, обернулись в его сторону… Добрая мещанка что-то хочет объяснить им, жестикулируя, но сытые буржуа не хотят остановиться, едут дальше. Простолюдинка, мещанка! Вот у кого надо нам учиться человечности — у непосредственных детей народа. Рвущаяся к неотложной работе, от которой зависит ее существование, убивалась над несчастным, будто над своим кровным. Ушла, бессильная помочь, и долго оглядывалась. О, добрая женщина! Много тебе простится за это…"
— Барин! А барин! Супротив нашего дома, глядите, пьяный свалился… Как бы не застыл: спит, а мороз — дух захватывает! Чтобы не вышло чего опосля… Место глухое, ни дворников, ни городовых, как пить дать — смерзнет…
— А? Что? Боже мой! Сколько раз говорить, чтобы не мешали, когда я работаю? Ну, что тебе до пьяного? Не наше дело! Мы платим, кажется, все налоги — и на полицию, и на больницы, достаточно платим! Не нести же еще натуральную повинность по призрению падающих на улицах… Иди, иди!
"…Он лежит уже три часа. О, где, где ты, милосердный самарянин? Он уже дышит все реже, все слабее, едва заметно вырываются легкие клубы пара из его наболевшей груди. Вот скрещенные на груди натруженные руки с узловатыми пальцами из красных превратились в белые, лицо тоже подернулось мертвенной белизной… Что ему снится? Может, белокурые головки детей, кушающих кофе с сдобными булками, благодарные взгляды счастливой матери, любимой жены? Лежит, весь побелевший от мороза… Пускай лежит! Ведь это же окраина. Разве он своей неприличной позой оскорбляет этическое, эстетическое чувство господ жизни? Тут никто порядочный не ходит. Ведь окраины существуют, чтобы с них собирать сотни тысяч на полицию, которая оберегает покой аристократических центров! Пускай замерзает несчастный пролетарий, этого никто не видит. Вот офеня, с кипою красного товара на салазках, остановился подле этого не то трупа, не то еще живого человека, потрогал ногой. Его маленькая собачонка боязливо обежала стороною, ощетинилась и залаяла. Две вороны уселись на заборе и чистят носы, чуя поживу… А в подвале, вдоволь наплакавшись, заснули голодные дети, несчастная мать в изнеможении распростерлась перед иконой, роскошные черные волосы рассыпались по грязному полу…"
Неохотно вообще сходя с реальной почвы действительных наблюдений, Гиацинтов оставил на грязном полу несчастную, раскосматившуюся женщину и кинулся к окну. Хотел было в одну секунду схватить наловчившимся взглядом все характерные изменения обстановки, даже и остановился-то далеко от окна, вытянувшись на одной ножке, но увидел нечто превзошедшее все ожидания. Ошеломленный, встал уже на обе ноги, полуоткрыв рот, вытянув шею… Но в следующую минуту уже пришел в себя, с удвоенным жаром взялся за перо и заскрипел:
"… О, не помогут молитвы! Не просыпайтесь, голодные сироты! Не терзайся безутешная вдова, они из твоего страдания и слез сделают себе зрелище, в тайниках истекающего кровью сердца схорони свои муки от взоров толстокожих! Все кончено… Запряженная парою саврасых полицейская карета остановилась посреди переулка, два городовых подхватили несчастного, один за голову, другой за ноги, и тот уже не гнулся… Не гнулся, не гнулся! Пять с половиною часов лежал он, ожидая человека, который бы умилосердился над его страданиями. Не дождался! Вы, сытые, праздные, с булыжником вместо сердца, примите на себя позор этой возмутительной, преждевременной гибели благородного пролетария! Проклятие на ваши головы, убийцы! Проклятие обездоленной женщины, которая теперь, верно, продает вам свое тело, этой голубки-девочки с золотыми локонами, на которую уже горят плотоядным огнем ваши бесстыдные глаза, невинного мальчика, обреченного на волокиту за нищенством и на истязания в исправительном доме малолетних преступников… Проклятие! Проклятие! Проклятие!.."
— Барин! Пьяный-то ведь замерз, совсем застыл, как ледяшка… Говорила я вам, все-таки живая душа. Будете сегодня обедать-то, что ли? Скоро шесть часов…
Гиацинтов только досадливо отмахнулся, весь погруженный в чтение написанного. С чувством, с упоением перечитывал, ритмически покачивая головой, плавно жестикулируя руками, а в сильных местах даже стуча по столу ладонью.
Кончил, с блаженной улыбкой сложил исписанные листы, томно закатил глаза.
— Боже, какая эффектная, красочная вещь. И только подумать, что напечатается она в какой-то несчастной "Жале"! Кто будет читать? Кто оценит? Никто по достоинству… Разве эти люди способны понять, какая исключительная, глубокая вещь для них написана, ведь я писал с подлинной смерти, передо мной наяву угасала человеческая жизнь, это не вымысел. Что я пережил, переболел, перестрадал сердцем в эти шесть часов? Никто не поймет. Заплатили три копейки за номер и только. Вот их оценка авторских переживаний: три копейки! Трехкопеечные душонки! Бедный Наркис, бедный Наркис…
ПРИМЕЧАНИЯ
Печатается по тексту газеты "Голос Приуралья", 1908, 23 сентября.
С ГОЛОДУ
Переулок был из так называемых "аристократических". Как все подобные ему, он когда-то, видимо, знавал и лучшие времена, а теперь более всего походил на "последнего в роде" промотавшегося барина, что из всех сил тянется, чтобы поддержать фамильные традиции, и больше огня боится быть смешанным с плебеем, с хамом и выскочкою.
Как и тот "обломок славного рода", спесивый переулок силится пустить пыль в глаза древними гербами и довольно аляповатыми, впрочем, изображениями неизменных львов на воротах, усердно подмазывая и подкрашивая эти памятники былого величия. Тут же можно наблюдать не столько пышные, сколько жалкие своей претензией на великолепие выезды, все аксессуары которых свидетельствуют о почитании потомками памяти своих титулованных предков: в карете, верно, ездили еще прабабушки, ливрейные слуги пестовали дедушек, а лошади добросовестно дотаскивают на своих разбитых ногах не менее как третье поколение угасающей фамилии. Но увы! — как ни отгораживаются эти родовитые переулки от вульгарной улицы, а последняя все ближе подбирается к гниющим дворянским гнездам, и как ни натирают тускнеющие гербы, а жизнь, знай себе, втягивает их чванных обладателей в общий круг, и все чаще приходится им спускаться с генеалогических высот к низменным мещанским расчетам. То и дело на месте барских особняков воздвигаются разночинцами пятиэтажные дома-гостиницы, сверху донизу набитые всяким сбродом, а потом кое-где и на дворах истых бар пустующие каретники, кладовые и прочие затеи стали потихоньку приноравливаться для отдачи в наем. Что делать: львами да гербами не проживешь по нынешним временам…
И вдова генерала Лобастова тоже предалась мещанской прелести, весь капиталец покойного мужа употребив на то, чтобы приспособить для жильцов лишние надворные постройки, а кроме того, воздвигнула солидное здание с десятью чистыми квартирами. Генеральша женщина бездетная и могла бы существовать на пенсию и проценты без особых для себя лишений, но она отличается редким благочестием, очень заботится о спасении своей души, и в этих видах вся ее жизнь наполнена молебнами и акафистами по часовням, вкладами в монастырь, хлопотами о позлашениях, ризах и пеленах на раки угодников. Известно, что все эти и другие, не менее полезные для души, вещи стоят немалых денег, тут одними грешными молитвами не отъедешь, потому боголюбивая вдова мало-помалу все подвалы обратила в доходную статью и очень зорко следит за платежами жильцов, не терпя просрочек и неисправностей.
Дворнику Николаю, загнанному в какую-то собачью конуру подле ворот, где он не может даже вытянуться на своем прокрустовом ложе, почти ежедневно достается от генеральши за послабления и нерадение в сборе квартирных денег.
Вот и сегодня то же.
— Ну хорошо, за официантом я еще подожду три дня, — сказала она. — Но с картузника чтобы сегодня же было получено! Он должен быть благодарен, что ему за девять рублей сдают помещение, которое всякий возьмет за двенадцать, а он еще не платит в срок… Бесчувственные скоты! Ты, верно, вместе с ним водку распиваешь, вот и мирволишь, — укорила под конец.
Николай слушал и молчал почтительно, но ему очень хотелось бы дать раза почтенной болярыне или хоть плюнуть в лицо.
"Уж этот ему картузник! Было бы за что ругань принимать, а то за здорово живешь… Водку распиваешь! Выпьешь с ним, жди! Одна только канитель… Тьфу!"
Выйдя от хозяйки, Николай с озлобленной решимостью направился вглубь заднего двора, где в полуподвале ютился злополучный картузник. По каким-то непостижимым соображениям архитектора в это логово нужно было сперва подняться по трем ступенькам между каменных стен двух амбаров-домов, а затем, открыв дверь, по пяти ступенькам спуститься вниз. Четверть этого сводчатого подвала с плесенью и мокрицами по стенам занимала русская печь, роскошь совершенно излишняя, ибо пирогов здесь никогда не пекли и дров не имели, а жгли антрацит в железной печке. На ней картузник грел утюги и варил клейстер для своих наполовину сшитых, наполовину склеенных изделий, по воскресеньям сбываемых крещеному люду на Сухаревке. Амбразуры двух крохотных окон были глубоки по-тюремному и только когда солнце стояло низко, его лучи ненадолго заглядывали сюда, упираясь в пол двумя короткими, косыми полосками; потом эти полоски быстро суживались, уходя в сторону, и пропадали.
Было еще третье такое же окно, но его отделили дощатою, не доходившею до потолка переборкою, и образовавшийся угол-комнатку картузник сдавал от себя за три рубля одинокой жиличке.
— Гляди, опять дворник прет… Два дня просрочили, так они уж пороги обили, ариды!.. — сердито проворчала жена картузника, заметив подходившего Николая.
Картузник нахмурился и промолчал, доставая картошку из стоявшего на столе чугуна.
— С хлебом жрите, хитрованцы! — щелкнул он пятилетнего сынишку, который, уталкивая одной рукой картофелину, тянулся другою к чугуну, не в силах вымолвить слова. Он быстро отдернул ручонку и смотрел на отца испуганными, увлажнившимися глазами; хотелось зареветь, но рот был набит, и мальчуган только краснел все сильнее. Матери стало жаль сына.
— Что ты руки-то вверху носишь! Виноват нешто ребенок-то? Гляди, нивесть за что ударил парнишку! У тебя ведь руки-то не баливали. Меньше бы по трактирам ходил, не пришлось бы и с дворником валандаться!
— А вы бы жрали помене, одному на вас не наработаться!
— Не плодил бы, коли прокормить мочи нет. Говорила, оставь деньги дома, так нет! Боле рубля упынкал с какими-то дьяволами, а теперь на ребят кидается…
— У людей жены помогают, а у нас все с мужа, знай; тянем…
— Куда я от них? Найми не то няньку для ребят, вот и все!
Дворник сердито рванул дверь, поскользнулся на ступеньке, озлился еще больше и выругался.
— Шляйся тут к вам по десять раз! От простой поры мне, видишь… Квартиранты тоже! Прямо барыня приказала, чтобы сегодня было заплачено, не то в участок станем жаловаться!
— Что с голоду умирает, что ли, барыня-то твоя? Диво глядеть на нее: два дня каких-то промешкали, так уж ей и не спится! Не пропадут ваши деньги, вот сдам работу и принесу, нечего и бегать ко мне по десять раз на день…
— Это не твоя печаль, нуждается она в деньгах, нет ли. Может в печку бросить, а коли ты должен — отдай! Тоже и генеральша на дороге деньги не собирает, платить не станут жильцы, чем жить станет?
— Тьфу ты! У нас с тобой, гляди, на хлеб попросит… Тысячу рублей, знать, получаешь с нее, что этак распинаешься-то? Чтобы своего брата, бедного человека, пожалеть, а он за сквалыгу барыню хлопочет, ходит да из людей душу вытягивает!
— А будь вы все с белого света прокляты от меня, анафемы, и с барыней-то вместе! — обозлился дворник. И ушел, хлопнув дверью и ругаясь.
— Четырнадцать рублей! Да что я каторжный в самом деле, что ли? Ни днем, ни ночью спокою не знаешь, как двужильный какой, а тут еще за чужие деньги срамят тебя, позорят, будто жулик, прости ты, господи!
Отбоярившись от дворника, картузник уселся за машину, свидетельствовавшую прежде всего о сметке русского человека и о загубленном гениальном механике в лице ее владельца. Она была, верно, одним из первых экземпляров славного изобретения, пожалуй, даже именно первая модель, — так она первобытна и примитивна по своей конструкции; от времени гибли стальные части, и картузник заменял их костью, деревом и кожей. Иногда это чудо, в которое картузник вложил часть собственной души, становилось упрямо, как он сам, тогда на сцену выступал клейстер, и вещи выходили не менее изящны и прочны, чем если бы их вырабатывала такая машина.
Жена картузника, наставив самовар, подсела к мужу помогать в его работе. Супруги редко и мало говорили между собой, каждый прекрасно зная, о чем думает и как думает другой.
— Надо тоже обдумавши языком брякать. Угостил я Панфила на рупь пятнадцать, верно, и сам с ним угостился, так ведь мы у них два раза с ребятами выгостились… Водка там, закуска, сдобные баранки к чаю, по-хорошему нас угощали, дома-то, гляди, у нас в ту пору харчи сохранились, а сам Панфил с бабой к нам не однова не бывали…
— Хорошо угощали, — с умилением вспомнила картузница и примиряюще шмыгнула носом, давая понять, что соглашается с доводами мужа и считает вопрос о пропитом рубле исчерпанным.
— Ежели у нее попросить? — помолчав, искоса посмотрел на жену картузник: — До срока уж недалеко…
— Не даст. Ничего у нее нету… — вздохнула та, зная, что речь идет о жиличке. — Тоже бьется человек, как рыба об лед, видно; бегает по городу, высуня язык, а все без толку… Лиха беда сорваться с работы, а там ищи-свищи, меряй дороги-то от фабрики к фабрике. Ох-хо! И чем только жива? Еще третьего дня два фунта ситника купила, да и тот, почитай, весь собачонке своей докармливает.
— Туда же, собачонку держит!
— Бог ее знает. Как судить-то… Никого, сказывает, у нее на свете нету, кроме собачонки. Поверишь. Все-таки живая тварь, ластится к ней, все понимает…
— Это верно. Люди-то хуже собак! — согласился картузник.
II
Ядвига Боржесская — круглая сирота, и никого у нее нет на свете, кроме собачки Нормы. Лет пять назад приехала она сюда со старушкой-матерью из Варшавы и поступила работницей на парфюмерную фабрику. Жилось бедно и тяжело, но, когда Ядвига вспоминает теперь то время, ей кажется, будто была она тогда самый богатый и счастливый человек на всем свете.
О, боже ж милостивый! Разве она когда желала себе чего лишнего? Разве сделала кому какое лихо, что господь отнял у нее все? У людей же есть красивые наряды, большие светлые комнаты, для них выставлены в магазинах всякие чудные вещи, но она никогда им не завидовала, а только каждое воскресенье ходила в костел со своей старушкой и благодарила бога. Очень благодарила за все: и за свою маленькую комнатку, и за ежедневный кофе с свежими булками, за все же, за все! А теперь нет ничего и никого… Только собачка Норма осталась, и, когда Ядвига умрет с голода или бросится под трамвай, Норма одна будет жалеть ее и тосковать…
Старушка умерла год назад, и с ней умерло все маленькое счастье Ядвиги, за которое она благодарила бога каждое воскресенье.
О, будь проклят час, в который она впервые перешагнула порог кабинета господина директора! Пусть бы умер без святого причастия этот человек и пусть бы собственные дети отвернулись от него на том и на этом свете!
Он дал ей тогда на похороны матери, дал. Такой добрый, лысый и красивый, как обернувшийся черт, он пожалел ее, назвал сиротинкой, — и она не обиделась даже, когда он погладил ее по волосам и поцеловал в щеку. Она тогда была такая глупенькая Ядвига, совсем, совсем дурочка была и поверила тому человеку, что хотел быть вместо отца и брата бедной сиротке.
А потом она поняла его и все поняла, но было уже поздно, и ее не пускали более к господину директору. Ей было очень стыдно подруг, что недавно еще ластились к ней, а теперь смеялись за ее спиной, называя "отставной директоршей", и спрашивали, отчего она стала такая полная.
Потом у нее родился сын. Крошечный мальчик с черными волосиками и синими, как васильки, глазками…
Ясек, зачем ты умер, сердце мое? Цветочек мой, птичка моя! Это ничего, что отец твой подлый, совсем подлый, как собака, нам с тобой никого бы не надо… Ничего и то, что все стали бы надо мной смеяться, что ксендз не отпустил мне этого греха, ничего, Ясек! Солнце мое, коханый мой, зачем ты умер?
За нее тогда заплатили в больницу и за гробик Ясека тоже заплатили, а когда она пришла на фабрику, то выдали деньги за целый месяц вперед и более уже не пустили работать.
Тогда потянулись дни, такие черные и тяжелые, как комья сырой земли, что медленно падают в глубокую могилу и душат, хоронят под собой живого человека. Ядвига стала ходить проситься на другие фабрики, но встретила там столько таких же безработных девушек, и они все так враждебно смотрели одна на другую, что Ядвиге сделалось безнадежно страшно и хотелось лечь в землю подле своего Ясека. Потом она нанялась в услужение к дантисту, но тот стал приставать к ней, и она ушла, имея всего семь рублей денег.
— Мы вам доставили хорошее место, что же вы не стали жить? — сказали ей в бюро и запросили новые деньги.
Ядвига не дала им денег, а сняла угол у картузника и опять стала искать работы по фабрикам.
Как-то раз, утомленная бесцельными скитаниями, возвращалась она через загородный парк. Стоял конец августа. Прощальные ласки полуденного солнца были тихи и нежны, лепет увядших листьев и запах последних, умирающих цветов навевали кроткую грусть и думы о чем-то, что незамеченным прошло и более никогда не повторится. Тонкие, блестящие нити паутины плавали в воздухе, и такою же тонкою, едва уловимою сквозь темные ласки солнца струйкою осеннего холода тянуло из тенистых уголков парка. Ядвига сидела на скамейке большой дорожки, а вдали, со ступенек павильона, рисовал расцвеченную осенними красками аллею художник; больше никого не было. Потом на дорожке появился молодой человек, идет медленно-медленно и читает книжку. И казалось, что, кроме них троих, нет никого на свете, что они навсегда ушли от людей или люди ушли от них куда-то далеко-далеко и унесли с собой все горе, все зло, все мучения. Остались только они трое, простые, чистые и близкие солнцу, родные наивному лепету поблекших мотивов. Какими были до встречи с людьми.
Вот молодой человек поравнялся с Ядвигой и ласково посмотрел на нее, оторвавшись от книжки; он совсем юный, у него розовые щеки, свежие и яркие, как спелая земляника, губы.
— Барин… прогуляемтесь в кусточки… — раздался робкий, заигрывающе лукавый голос где-то слева.
И было в этом голосе что-то жуткое: будто говорившему сдавило горло и хочется застонать, а он улыбается, говорит бесстыдные слова.
Молодой человек вздрогнул и остановился, потом весь вспыхнул, боязливо оглядываясь кругом, и быстро-быстро ушел по аллее.
Ядвигу тоже будто больно хлестнуло кнутом. Повернувшись на голос, она поняла, что это сказала очень грязная, оборванная женщина, приблизительно одних лет с нею.
Подогнув под скамью босые ноги, она смотрела вслед молодому человеку виноватым, жалким взглядом прибитой собачонки, и Ядвига хорошо разглядела у ней на глазах слезы. Та вдруг обернулась к ней, и на лице ее выразилась уже вызывающая злоба. Ядвиге стало стыдно, будто она подслушала, подглядела за человеком, что тот хотел забыть и навсегда спрятать даже от самого себя. Женщина вдруг подошла к ней и попросила три копейки.
— На хлеб… ничего не ела со вчерашнего дня…
Ядвига торопливо достала и дала пятикопеечную монету.
— Спасибо. Может, отдам… да нет уж! Так… ради Христа пойдет… За ваше здоровье и родителей ваших!
— У меня нет родителей, никого нет. Вот одна собачка…
— А у меня и собачки нет… и угла своего нет… Вся здесь!
— Но где же вы живете? — удивилась Ядвига. Оборванка как-то недоверчиво покосилась исподлобья, помолчала, а потом усмехнулась.
— Тут и живу, в парке. Не одна я, разве не знаете? Не слыхали о леснушках, что ли? Много нас… Вот полиция сделает облаву, убавится на время, а потом новые придут. Когда я работала на табачной фабрике, я жила как все люди, но это уже было давно, очень давно! Теперь меня уже не возьмут на фабрику, и нельзя мне этакой показаться в городе.
У Ядвиги холодные мурашки побежали по телу и волосы зашевелились под платком.
— На фабрике… вы работали на фабрике? — прошептала она……. .
— Ну да, на табачной. Хоть верьте, хоть нет… — вдруг обиделась девушка. — И одевалась как все, и была приличной девушкой. А потом все проела, и нечем стало платить за угол… Это уж конец, если человек не имеет угла, тут уж пропал, не выцарапаться! Схватит городовой, и погонят с арестантами…
Ядвига уже не слушала. Заткнув уши, с ужасом в глазах бежала она, как помешанная, — дальше от босой, бездомной женщины.
"Это уж конец, если не имеешь угла, конец, конец…" — молотком стучало в висках, ужасом чего-то неотвратимого, более страшного, чем смерть, холодило душу.
По временам ей казалось, что земля уходит из-под ног, и она стоит над черной пропастью, а грубые руки городовых уже тянутся к ней и хотят столкнуть туда, к ворам, убийцам и поджигателям.
Из оставшихся у нее четырех рублей Ядвига отложила три, чтобы отдать их потом за следующий месяц картузнику, и поклялась скорее умереть с голода в своем углу, чем издержать эти три рубля и очутиться на улице с бездомными бродягами.
Сперва она покупала себе, кроме хлеба, еще сахару и чаю, потом стала есть один хлеб, запивая горячею водою. Но и при такой бережливости у нее скоро вышел тот рубль, а работы и не предвиделось. Пришлось уже продать татарину крестик, колечко и шелковый шарфик.
"А что же будет потом? Когда нечего станет продать?" — часто среди бессонной ночи вставал перед ней страшный вопрос, бросая в холодный пот. Тогда Ядвига вскакивала с постели и до изнеможения, до судорожных всхлипываний молилась перед распятьем.
Вечно голодная, она не могла без физических страданий видеть в витринах- магазинов соблазнительно расставленные закуски, лакомства, не могла без жгучей душевной боли смотреть, как спешат на работу занятые люди. Завидовала метельщикам улиц, готова была взять какую угодно грязную работу за грошовую плату.
Находили минуты, когда изголодавшееся тело отказывалось бороться далее. Ядвига доставала заветную трехрублевку, давно изученную, потертую и с большим чернильным пятном, разглядывала ее и начинала мечтать вслух.
— Да, Норма, бедная моя собачка, мы пойдем и купим себе краковской колбасы… и молока купим, сыру, да… Мы с тобой очень голодны, правда? Зачем нам хранить эти деньги? На что нам угол, когда все равно с голода умереть можно на улице, на бульваре. Не гляди так, мой песик, вот пойдем и купим всего, всего…
Но вставал грозный призрак бездомной, затравленной женщины, ночующей в парке, и трехрублевка пряталась на свое место.
— Но мы еще, может, и не умрем, Норма! Ведь есть же на свете добрые люди… Это воровать стыдно и грешно, а просить милостыню вовсе не бесчестно, вовсе! Разве мне лень работать?
Ядвига принималась тихонько плакать за дощатою переборкою, а собачонка беспокойно взвизгивала, заглядывая ей в лицо, и лизала у нее руки.
И несколько раз девушка готова была протянуть руку за милостыней, но в последнюю минуту находила робость, и язык не шевелился, будто чужой. Люди с удивлением замечали, как странно смотрит на них эта бедно одетая и истощенная девушка, будто хочет о чем-то спросить; но та молчала, и они проходили мимо.
— Нет… не могу… не могу! — с отчаянием признавалась Ядвига.
Оставалось несколько копеек, на которые она купила хлеба, разделив его на три куска, по одному на день. Теперь стало страшно думать, и она более не думала.
Утром сегодня, когда Ядвига нагнулась обуться, у нее потемнело в глазах, задрожали ноги, и она потеряла сознание. Очнувшись, почувствовала слабость, лихорадочные то жар, то озноб, но все это вовсе не было страшно, как раньше казалось, было даже приятно: в ушах колокольчики, а по комнате плыли не то во сне, не то наяву знакомые лица — матери, Ясека, господина директора и молодого человека с книжкою в руках…
А подле Ядвиги свернулась голодная Норма; у нее горячий, сухой нос, и она тяжело вздыхает, как человек.
III
В сумерках картузник решил сходить к своему гостеприимному приятелю Панфилову и занять у него денег до воскресенья.
— Чего доброго, еще в самом деле станет жаловаться в участок, волокита одна, — ворчал он, озабоченный угрозою дворника.
Жена с некоторым колебанием посмотрела на него и промолчала, проводив недоверчивым взглядом. Она успела склеить не одно украшение на чьи-то несчастные головы, вскипятила самовар, а мужа все нет как нет. Мучимая подозрением, баба уже собиралась на поиски, но тут вышла из-за переборки жиличка с чайником для кипятка, вышла укутанная в шаль и едва держась на ногах.
— Батюшки, да никак ты захворала! Землей, гляди, обметалась…
Ядвига наклонилась, чтобы нацедить в чайник, но вдруг пошатнулась и сунулась ничком на пол. На все расспросы и хлопоты картузницы она только бормотала что-то совсем невнятное и глядела помутневшим, остановившимся взглядом.
Картузница бросилась к дворнику, но, знакомый с порядками, тот невозмутимо заявил, что в участок и соваться нечего: из квартир полиция больных на себя не берет, а обязан поместить в больницу сам наниматель квартиры.
— Да ведь умирает ежели человек! Сделай милость, устрой, а я уж отблагодарю, вот святая икона… Дьявола-то моего нет, как нарочно.
— Надоели вы мне все, анафемы! Чистый дворник, барский дом, — передразнил он кого-то: — а на деле хуже ночлежки, с участком делов не оберешься…
Условившись о двугривенном, Николай согласился покривить душой и представить больную по начальству, как якобы упавшую на улице неизвестную. Надев фуражку с бляхою, он приказал покрыть голову Ядвиги платком, взвалил бесчувственную девушку на извозчика и двинулся в путь.
Картузник вернулся вскоре после этого, вернулся трезвый, но из кармана предательски торчала красная головка полуштофа. Выслушав сетования и жалобы жены на стрясшееся без него, он с некоторым разочарованием произнес:
— Вот оказия-то! А я хотел у нее вперед попросить, Панфил-то всего два рубля дал… Ну, да царство ей небесное. — И перекрестился.
— Очумел ты, что ли? Человек живой, а он за упокой поминает, — даже попятилась от него баба.
— Умрет! — безапелляционно решил тот. Уверенность его даже передалась его жене.
— А такая-то уветливая была, ласковая… — тоже уж как об умершей вздохнула она. И в десятый раз описывала случившееся, припоминая все новые и новые подробности.
Опустевшая, незапертая комнатка вдруг сделалась притягательно заманчива: даже без всякой корыстной цели хотелось заглянуть, дотронуться, поискать. Просто подкупала, раздражая любопытство, самая безнаказанность запретного, его доступность. Сперва они только заглядывали, не переступая порога, потом стали заходить на минутку, под конец не вытерпели и, будто по уговору, начали с лампою обшаривать каждый угол.
— Молитвенник, должно, с крестом… не по-нашему написано… Помада, гляди, живой об живом и думает…
— А там что? В корзинке-то… Вижу, полотенце! Под ним-то, говорю, что? Подыми…
— Да карточки! Никак, она с матерью… Что это?!
Из пачки фотографий выпала трехрублевка, старая, с большим чернильным пятном. Будто испугавшись мелькнувшей у обоих мысли, сразу все спрятали на свое место и ушли пить чай. Пили и перебрасывались короткими фразами, с большими паузами, не глядя один на другого.
— Два рубля дал Панфил-то… нету, говорит, больше…
— Стало, и нету. Дал бы, не тот человек, чтобы врать.
— Не тот. А надо бы хоть четыре с половиной, чтобы за полмесяца.
На этот раз помолчали дольше. Только ребятишки стонут во сне.
— А ведь пропадут, коли умрет. Опишут барахло, а деньги прикарманят.
— Прикарманят. Ведь и до срока-то пять ден всего, слова бы не сказала…
Потом деньги были взяты, и чай допивали в глубоком молчании.
Пришел дворник запереть комнатку Ядвиги.
— Намаялся за чужие грехи… Давай двугривенный-то! Голодный обморок, сказали, с голоду. А в себя не пришла, горячка, говорят, должно, нервная какая-то…. Придумают!
Он получил двугривенный и четыре с половиной за квартиру.
Известие о голодном обмороке произвело, видимо, удручающее действие на картузника. Спосылав за селедкой, он откупорил бутылку и стал пить чайной чашкой. Угрюмый и мрачный.
— С голоду, стало быть… А? Слышь? О, господи, господи!
— Говорю, давно я примечала. Третьего дня ситника купила два фунта да больше не покупывала…
Тихо. Дети стонут спросонок, вдали звенит трамвай, гудит мостовая. Он все пьет, жадно пьет и морщится, будто у него болят зубы.
— С голоду… как есть сирота… Ну, сказала бы! Неуж бы не накормили? Хлеб да картошка все есть, чего другого… О, господи!
— Что заладил: с голоду да с голоду… Без тебя слышали! Будет трескать-то, оставь к завтрему, заходишь опять как непокаянная душа! С какой радости жрешь-то? — ругалась жена.
Он все пил, мучимый огневой жаждой, а когда не осталось в бутылке, снес куда-то свою венскую гармонику и принес новую бутылку.
— С голоду… а я украл у голодного человека, у покойника, почитай! Ну, сказала бы, ведь хлеб есть, а то с голоду…
— Да будет тебе, пьянюга! Налакался до чертяков, злочасть моя, пропаду на тебя нету…
— И на что украл-то? Добро бы тоже на хлеб, а то для толстопузой лягушки-генеральши! Свезет к Пантелеймону али Иверской, а там монахи пропьют с девками… А я украл у голодного человека!
На другой день было рождение генеральши, и после обедни к ней приезжал приходский священник с дьяконом. Батюшку оставили на чашку кофе, но он торопился на закладку дома к одному купцу и, извинившись, откланялся. На подъезде он разжал руку и показал опасливо косившемуся на нее дьякону:
— Трешница… Да и какая потрепанная, в чернилах вся, пожалуй, неходячая… о люди, люди!
Какой-то растерзанный человек вышел из-под ворот, нетвердо держась на ногах, и приблизился с дерзким и вызывающим видом.
— Батюшка! От голоду она, а я украл… Можете вы чувствовать, батюшка? Обжоры вы, живоглоты толстопузые! Может, она вам ее отдала, трешницу-то, а я украл… О, господи!
— Иди себе с богом, иди… — отмахнулся батюшка, усаживаясь в экипаж: — Иди… О, люди, люди!
ПРИМЕЧАНИЯ
Печатается по тексту газеты "Уральский край", 1908, No№ 191 и 193, 3 и 5 сентября.
Стр. 291 Ариды (просторечное) — ироды.
БУДНИ
I
— Вот это уж настоящее счастье выпало девушке! Вот это значит в сорочке родиться! И чем взяла-то! Глядеть не на кого: худенькая да щупленькая, лицо как у кошки, одни только глаза и есть на нем… Век надо бога благодарить за такую долю!
Это в один голос твердили Танечке, когда она была еще в невестах, то же слышала она ото всех, сделавшись женою Андрея, так что под конец сама стала думать чужими мыслями и поверила в свое счастье. Подойдет, бывало, к зеркалу, сама удивится: и за что в самом деле Андрей выбрал ее, такую невзрачную, нищую сироту? Озолотил, осчастливил… За что?
— Ах, надо очень ценить этакого мужа, надо в глаза ему глядеть! — И она глядела в глаза Андрею, готовила его любимые кушанья, чистила ему бензином фрак, ухаживала за его канарейками и старалась одеваться изящнее, причесываться замысловатее, чтобы он не разглядывал ее лица. И в свое "некрасивое лицо" она уверовала непреложно тоже с чужих слов.
— Ведь всякому кажется, будто он хорош, а другим виднее. Все говорят, что во мне только кожа да кости… Вон глазища-то какие!
Из опасения потерять свое счастье, служила молебны У Иверской, у Пантелеймона и раздавала нищим копейки. Оттого муж не только не замечал ее недостатков, но день ото дня пуще любил и холил, а в квартирке их царило невозмутимое семейное счастье, с вареньем, с конфетами, с фикусами и канарейками.
Андрей с юных лет служил официантом в одном из шикарных ресторанов, хозяин которого друг-приятель управителя имением, где сиротою выросла Танечка, дочь умершей экономки, устроил и женитьбу своего верного слуги. Из дома Андрей уходит в десять часов утра и возвращается в два ночи, но имеет свободными два воскресенья в месяц.
— Я поставила, Андрюша, сдобное тесто, думаю кулебяку с капустой… А то, может, еще пирожки из блинов? — спрашивала Танечка накануне свободного дня, хлопоча и волнуясь: ведь Андрей так любит поесть дома, наскучившись ресторанной кухней.
В самое воскресенье, очень рано, на цыпочках пробиралась к плите, двигалась осторожно, не хлопая дверью, толкла сахар и молола кофе на черной лестнице, чтобы ле разбудить Андрея.
И все торопилась, торопилась…
Да-да, Андрей любит видеть ее уже одетую, а на столе все уже готовым… Пожалуй, лучше надеть опять ту кофточку, что он в прошлый раз похвалил? И часы и колечки… О, ей есть во что нарядиться! Что это? Уж не встает ли? Нет, так пошевелился…
После кулебяки и кофе Андрей всегда поцелует ее и скажет:
— Ну, куда мы сегодня, Танечка? Я думаю, на Сухаревку, а?
— Куда хочешь, Андрюша… — замирая от удовольствия предстоящей прогулки, соглашается Танечка.
Садились в трамвай и ехали, такие нарядные, важные, совсем как господа. На ней модный сак и шляпа с пунцовыми маками, он в котелке, ярком галстуке и желтых перчатках.
На Сухаревском базаре долго гуляли, покупая иногда гипсовую статуэтку, японский веер из бумаги. Случалось, вместо Сухаревки ехали на Трубную площадь, где смотрели голубей, покупали канарейкам семя, баночки для питья, камышовые жердочки.
Счастливые, довольные всем на свете, возвращались обедать.
— Уж гулять, так гулять: не отправимся ли, Танечка, на Воробьевы горы? Вечер хороший, народу много будет, поглядим… — предлагал после обеда Андрей. Не раздеваясь, собирались и ехали на Воробьевку смотреть публику, великолепные экипажи, ослепительные наряды.
Если было ненастье, то ложились спать, вечером долго играли вдвоем в шестьдесят шесть. Зимою тоже спали, но после шли в электрический театр, где целый час смотрели интересные картины, слушая заводное пианино, где столько огней, нарядов и шума.
Но самое приятное, правда, дорогое и потому редкое удовольствие было, когда у них собирались гости. Андрей тогда приносил кулек с винами и закусками, сам сервировал стол, а к чаю заказывали торт у Филиппова за три рубля.
— Фрося в прошлый раз весь вечер носилась с своими конфетами: от Абрикосова, да от Абрикосова… Думает, удивила, не едали люди! Пусть вот у нас поглядит… — предвкушала Танечка великолепие пиршества и; посрамление чванной подруги.
— Ну, где им! Квартира-то какая? И ничего не умеет, в фаршмак и вдруг вилку воткнула, дура этакая…
Танечка надевала лучшее платье, навешивала свои драгоценности и без нужды много бегала по комнатам, прислушиваясь к шелесту шелковых юбок.
Приходили всякий раз три-четыре официанта с женами и брат одного из них, которого и свои, и чужие звали просто Сережей.
Этот Сережа очень молод, очень красив, служит артельщиком, носит поддевку с серебряным поясом и бриллиантовое колечко. Он не играет в карты с мужчинами, не поддерживает их разговора, но и с дамами, которых занимает смешными анекдотами и игрою на венской гармонике, держится с какою-то учтивою, легкою пренебрежительностью и среди разговора с ними думает о чем-то своем.
— Какой же он официант? — слышатся горячие споры в мужском кружке: — Разве ему место в таком ресторане?
— Ну вот! Слышите, Полинарья Яковлевна, я же вам говорила… Это их новый-то, помните? Еще у Троегубовых все за Манечкой ухаживал…
— Что вы, Фрося, остатки надо покупать на Сретенке, обязательно!
А Сережа сидит подле, тихонько наигрывает на гармонике и чему-то своему улыбается задумчиво. Вместе с ним часто молчала, рассеянно прислушиваясь, черноглазая, смуглая красавица Груша.
О ее странном романе с Сережей много судят и возмущаются подруги, которых больше всего злит ее равнодушие к толкам, высокомерное презрение к тому, что о ней думают и говорят.
Когда все бывало съедено и выпито, переговорено о ресторанных делах и дешевых распродажах, гости мирно расходились по домам.
— Ну, Танечка, отличились мы с тобой! Борис и Василий глазам своим не поверили, не знают, чего взять… — самодовольно усмехался Андрей, проводив гостей и перейдя в спальню.
— Да… — изнемогая от счастья, откликалась Танечка, развешивая свои шелковые юбки до следующего знаменательного дня.
— А знаешь, Андрюша, эта Аграфена вовсе рехнулась, глаз не сводит с Сережи! Хоть бы людей постыдилась, глядит, как кошка на рыбу.
— Подлая она. А муж, знай, зеленеет, в картах путается и слов не понимает, за ней следит… Да ведь говорят, Танечка, между ними и нет ничего: Сережа будто прямо ей заявил, что не любит ее. А она мужу в глаза говорит: "Ненавижу я тебя, собакой поползу за Сережей, только позови он…" И все это при Сереже ведь и преподносит мужу. Сумасшедшие все трое какие-то, больше ничего…
— Конечно, подлая! И неправда, что нет ничего, разве не видно?
Танечке почему-то хотелось, чтоб это была неправда, и она настаивала.
Потом опять шли будни. Андрей уходил в ресторан, она чистила в клетках у канареек, садилась шить, варила обед, опять шила, пила чай и ложилась спать. В два часа приходил Андрей и высыпал из жилетного кармана чаевые деньги. Танечка вставала, накидывалась шалью и принималась считать вместе с мужем, раскладывая стопками двугривенные, пятиалтынные.
— Шесть рублей сорок. Хорошо сегодня! Больше тридцати за неделю…
Ложились спать и долго вслух подсчитывали, сколько теперь на сберегательной книжке, мечтали о собственной столовой или даже небольшом чистеньком ресторанчике.
"Господи, какая я счастливая!" — думала Танечка, засыпая с блаженной улыбкой. И во сне ей виделся ресторанный зал, хрусталь блестит на столе, пальмы, бегающие среди гостей официанты, а она стоит за кассой и все получает, получает…
II
Так прошло три года. Считали деньги, гуляли на Сухаревке, играли в шестьдесят шесть. Попрежнему и все тех же созывали гостей; так же мучилась и наслаждалась в своей бесплодной страсти красавица Груша, страдал от ревности и неразделенной любви чахоточный муж, о чем-то своем думал и загадочно улыбался красавец Сережа.
Только Танечке исполнилось уже двадцать два, а ее мужу сорок три года. Она уже не так часто смеется, не так радуется на свои наряды и не всегда охотно встает по ночам, чтобы отпереть мужу.
О чем-то задумывается, считая двугривенные, а порою и вовсе не притронется к ним: поглядит на серебряные стопки, переведет глаза на измятое лицо Андрея, на его лысину, вздохнет, нахмурится.
— Ну, будет уж… спать я хочу, туши огонь…
Уж не мечтает о собственном ресторане и ни одним словом не поощряет этого в Андрее.
— Знаешь, мне кажется, Груша просто несчастна, — сказала она раз, проводив гостей. — Между нею и Сережей, пожалуй, действительно ничего нет грязного, я даже уверена… И притом ей, оказывается, всего двадцать пять лет, красавица, а муж полуживая развалина! Сережа красавец… бедная!
Случилось, что будучи не в духе, Танечка резко ответила мужу, даже испугалась сама. Но Андрей боязливо вздрогнул, весь день виновато заглядывал ей в глаза. С тех пор она часто стала покрикивать на него, молчать целыми днями и отказываться от прогулок на Сухаревку и Трубную.
— Какая ты стала раздражительная, недовольная… — выбрав добрую минутку, робко и осторожно заметил Андрей, — оно еще придет, ты не печалься, Танечка, право… Я понимаю, что тебе недостает… Ну, там известно! Ведь все женщины хотят иметь детей…
— Что?! — гадливо вздрогнула она: — этого только недоставало! — и засмеялась грубо и зло, сверкая глазами.
Дни теперь были для Танечки, как унылые черные камни в мертвой пустыне, которых не обойти, не сбросить с пути: перелезешь через один, там уже точь-в-точь такой же другой, третий… И шла, не зная куда и зачем, то с тупым равнодушием, то с проклятиями, вглядываясь в бесконечный ряд скучных дней.
В праздник оденется, напьется кофе, и нечего больше делать, не о чем больше думать. К одному окну подойдет, поглядит на улицу, у другого — поговорит с канарейкой: "Скучно тебе, моя птичка? Заперли тебя? Ну, что глядишь-то так? Да, там солнышко светит, люди идут, радуются, смеются… А мы с тобой только сыты… только!"
Потом заведет граммофон, сунет какую попало пластинку. Не даст доиграть и защелкнет пружинку. Остановится у канареек: "Что, проклятые, засвистели? Жрать только знаете, надоели вы мне, окаянные, сколько годов за вами хожу?" Опять выглянет в окно. На лихаче кавалер с дамой проехали: он молодой, красивый, обнял ее и что-то говорит, а она откинулась и смеется…
— Проклятый… милые… Господи, как есть в тюрьме сидишь!
Танечка падает на постель и плачет. И рвет на себе шелковую кофточку, и кусает подушку.
— Не могу я больше этак, — с мрачною решимостью заявила она мужу: — с тоски тут подохнешь одна, не то заберется кто да зарежет еще. Сдам угловую, ни к чему она нам. Что? Старушка? Я еще не сошла с ума, мне еще не пятьдесят лет ходить за богадельщицами!
Она как-то даже и не подумала, что комнату может снять жилец, поэтому, когда стали заходить, как нарочно, одни только мужчины, Танечка испугалась и стала отказывать под разными вымышленными предлогами. Покамест не пришел этот полуюноша, полувзрослый с дорожною сумочкой через плечо.
— Можно посмотреть комнату? — взглянул он на нее своими усталыми, глубокими и печальными глазами.
— Пожалуйста, — не раздумывая, ответила она.
Почему-то сердце колотилось шибко-шибко, горело лицо и дрожали руки. Как во сне отвечала на вопросы и улыбалась сама, когда он с улыбкой попросил убрать портреты генералов. Только оставшись уже одна, пришла в себя и с удивлением глядела на оставленный им золотой, не понимая, как все это могло случиться.
— Ну, что ж! Сдала комнату и сдала, что тут особенного?
А сердце все колотилось, и кто-то шептал, что теперь начнется другая жизнь, пришло то, долгожданное, чего недоставало, по чему тосковала и томилась… Выбежала на парадную лестницу, постояла зачем-то; потом кинулась через кухню во двор, огляделась и крикнула возившемуся под навесом дворнику: "Максим, я сдала свою комнату!" Мужик удивленно поглядел, и она удивилась на себя, зачем это сказала. Потом вернулась в дом и о чем-то заплакала. Но это были уже не те слезы, когда она мучилась от тоски и кусала подушку, не те…
Взмыла нежданно налетевшая хмельная волна, подняла на самый гребень и понесла с ликующей песнью о любви и счастье в какое-то волшебное, как сон, царство. И не было теперь ни дней, ни ночей, а только одна песня жизни, похожей на волну, из звонких серебряных струй, из тихой лазури и солнечных переливов.
— Милый, тихий мой, светлый! — шептала Танечка, прибирая его комнату. Благоговейно дотрагиваясь до его картин, целовала поставленные им в стакане цветы, со слезами восторга и счастья на глазах касалась лицом краев его полотенца.
— Вам письмо! — едва владея голосом, стучала в заветную дверь. Быстрые шаги, звон ключа, тихая, благородная улыбка. И она уже счастлива…
"Вот он теперь читает письмо и радуется, и ему хорошо. А потом вспомнит, кто подал ему письмо, и улыбнется, подумав: какая она хорошая… Ведь может быть это, может?"
Раз в воскресенье утром принесла ему к чаю своей стряпни. От смущения едва пробормотала в оправдание, что, верно, человек должен скучать в чужом городе по мелочам домашней обстановки.
Он с удивлением и нерешительно посмотрел, потом совсем по-детски обрадовался чему-то, стал сбивчиво и горячо благодарить, точно она принесла ему несметные сокровища.
— Это от матери, — как-то по-родственному, дружески улыбнувшись, сообщил он ей на другой день, принимая письмо, будто хотел сказать, что тоже не считает ее совсем чужою.
"За что обласкал-то? Что пирожками угостила, о доме напомнила… Милый! Да если бы знал, что больше-то моего никто его и не любит во всем свете, что в огонь, в воду пойду за него с радостью…"
Но Танечка все менее чувствовала себя счастливою: уже не плакала от восторга, не улыбалась, вызывая в памяти его лицо, сказанное им приветливое слово, не целовала более его цветов. Все, что вначале радовало и волновало смутною надеждой на какую-то новую, светлую и настоящую жизнь, теперь несло с собой муку безнадежной неудовлетворенности и тоску. Больно было входить к нему, больно отвечать насильною улыбкой на его шутку, а если касалась нечаянно его руки, вся вздрагивала и бледнела.
"Чего ждала-то? Чему радовалась? — с тоской прислушивалась она к оживленному, непонятному ей разговору жильца с товарищами. — У него своя жизнь, особенная… На что ты ему? У всех своя жизнь, да не для тебя… А ты наряжайся, тешь своего плешивого мужа, он тебе за то трактир откроет, за стойку станешь! Это вот твоя жизнь! О, господи, ничего бы мне не надо, голубчик ты мой, любить только тебя, рабой твоей быть, уведи только отсюда…"
Танечка совсем не думала об Андрее, не замечала его как-то и забыла, как все на свете. Только когда приехала из деревни выписанная им тетка и стала издали заговаривать о пагубных увлечениях молодых женщин, она вспомнила о муже. И с озлоблением, с ненавистью излила на него всю наболевшую горечь своей неудачной, печальной жизни.
— Да как ты смел?! Что я, развратная какая, что надсмотрщица ко мне понадобилась? Духу чтобы ее не было, или я уйду от тебя, слышишь? Ревность тоже! Не женился бы на девчонке, облезлый пес, старая швабра! Другая бы давно кучу чужих детей нарожала… ноги должен целовать, а не караул приставлять… Не с кем, а коли бы пришлось, скрываться да обманывать не стану, принимай бы тогда свои шелковые юбки — и счастливо оставаться, вот что!
Перепуганная старуха уехала обратно, а Андрей плакал, просил прощенья и все хотел знать, за что Танечка его не любит.
— Отстань, замолчи! Говорю замолчи… не то в петлю залезу!
На другой день жильца до вечера не было дома. В сумерки он вернулся и, не раздеваясь, сказал Танечке, путаясь и краснея:
— Вы меня извините… мне у вас очень нравится, но некоторые обстоятельства… уж, извините… очень жаль самому…
Смущался, сердился за это на себя, хмурился и еще больше краснел.
Танечка прислонилась к стене спиною, заложив руки назад, и следила своими потухшими глазами, как он увязывал вещи. Не сказала ни слова. Только когда вошел извозчик, чтоб вынести узлы, ей стало страшно расставаться так, ничего не сказав.
— Вы, верно, слышали… поняли все? Не сердитесь на меня… не судите…
Больше ничего не могла сказать и потупилась.
— Что вы! Я, напротив, очень благодарен… всегда буду вспоминать… — пробормотал он, торопливо прощаясь, глядя куда-то мимо нее.
И чувствовалось, что все это ему только неприятно и хочется поскорее уехать от этих тяжелых, скучных и непонятных ему людей.
Уехал. Танечка заперла за ним дверь, прошла в опустевшую комнату, посидела. Потом тихонько засмеялась чему-то, покачивая головой, и вышла. Достала бутылку вина, выпила залпом стакан и завела граммофон. Еще выпила и опять засмеялась, все громче и громче, а по лицу текли слезы, такие спорые, крупные.
— Вот и кончилось все… первое и последнее… Узнала счастье! Теперь-то что же? Ведь уж никогда больше, ни-ко-гда… Грушенька! Осуждала я тебя, подлая, дура я была тогда! Что ж, опять, значит, двугривенные считать? Любимый, светлый ты мой! Никогда уж больше, все закончилось… Ни-ко-гда…
Нет, уж, видно, не придется
Солнцу красному греть меня…-
полным жалобы и тоски звуками вторит граммофон. Точно чья-то душа билась и изнывала в безнадежной муке. И не было ей отклика в безмолвной, унылой и мертвенной пустыне.
ПРИМЕЧАНИЯ
Печатается по тексту еженедельника "Заря жизни" (приложение к газете "Уральский край"), 1909, № 41, 19 октября.
НИМФА
Надо сознаться, что и другие, начиная с самой хозяйки Настасьи Егоровны, не отличались строгой нравственностью и добропорядочным поведением, но эта охальница Фроська вовсе даже "стыда решилась", как всеми было признано.
Начать с того, что она не знала времени, когда надо выпить, а выпивши становилась задорна, срамно ругалась и все норовила съездить а физиономию или вцепиться в косы товаркам. Утром еще туда-сюда, встанет на работу, как прочие, будто ведь и утюга из рук не выпускала, ан глядишь, невесть где и как, она уже клюкнула! Пыхает папиросой, а сама фыркает, ту толкнет, другую изругает.
— Что пхаешься, язва? Успела налить зенки-то? Я тебя самое так пхну, так разлюминую утюгом твою комедьянтскую морду, что до новых веников не забудешь! — огрызался на нее кто-нибудь.
— Это я-то комедьянтская морда? Я? — наступала Фроська.
— Ну и ты, кто боле? Тронь, тронь, попробуй…
Присоединялись остальные, и ссора готова бывала перейти в свалку, но Фроська, должно быть, вспоминала, что теперь было бы вовсе некстати ходить "разлюминованной", а потом в такие минуты появлялась из своей клетушки хмурая, злая после вчерашней попойки Настасья Егоровна.
— Это что за скандалы, а?! Марш по местам! Какую безобразию завели… Ты на каких радостях, сударка, спозаранок-то накачалась?
— Не ты поднесла, тебя не спросилась…
— Я тебе поднесу! Ты не больно у меня фордыбачь, красавица: порога не заденешь — вылетишь…
— Сама уйду! На кой черт дались вы мне все-то, пропади вы пропадом! Была нужда!
— Фуфыра какая, подумаешь! Уйдет она! Не надолго уйдешь, здесь же будешь… В чем пойдешь-то? Ботинок купить не может, локти вылезли, а туда же: уйдет она!
Собственно, и без Фроськи ругань разгоралась тут каждое утро и висела в воздухе до вечера, потому что злились все, и коли еще не сорвать сердца, не развлечься перебранкой, то все от скуки подохли бы в этом темном, вонючем подвале, средь мокрого пара от щелока, среди лоханей и запаха грязного белья, горячих утюгов. И выпить после вчерашнего тоже все очень бы не прочь, но опохмелиться дозволялось только за обедом, а напиться по-настоящему — после работы, вечером. Фроська, таким образом, лишь задавала тон своей строптивостью, другие радовались и подхватывали. Своими ранними выпивками она, конечно, нарушала традиции, это уж правда.
Вечерами, впрочем, все становились добрее, ругались мало, да и то неохотно. Одни уносили чистое белье и возвращались довольные, запасшись на полученные чаевые косушкою, к Настасье Егоровне приходил дворник, которого она за что-то, случалось, била, называла погубителем, плакала и угощала водкою, а тот не сердился и даже гармонику не выпускал из рук, получив оплеуху, только чуть качнется на сторону. Фроська сидела дома за крайним расстройством гардероба, зато к ней являлся гость Сенька-"комедьянт", посещения которого всем чрезвычайно нравились, потому что парень он был развеселый, балагур и процимбал. Теперь Сенька работает полотером, но считает это занятие нестоящим, так, пока что, себя называет артистом и часто говорит: "Когда мы с Фросей работали в Аркадии…" или что другое вроде.
Фроська угощала его водкой, иногда он и сам приносил, но это случалось много реже.
— Мы, Фрось, нигде не пропадем. Нам что полотеры али там прачечная, мы — артисты! Сегодня без сапог, завтра полны карманы и сами пьяны! — несколько своеобразно характеризует Сенька артистический мир, к которому себя относит.
— Разумеется! — попыхивая папиросой, небрежно кивает Фроська, в душе полная торжества и самодовольной гордости.
— Помнишь, как нас принимали в "Отраде"? О-о! Только выйдем, публика ревом ревет. Чистых нам тогда шестьдесят целковых осталось…
— Еще бы, помню… — уже не столь решительно подтверждает она.
— Погоди, еще неделя какая-нибудь, и ангажемент, аванс и все прочее! Конечно, нет у меня нынче собачки, сдохла, проклятая, да мы и без собачек… Вот погляди! Уж я говорил кое с кем — везде зовут. Дело самое верное…
— Куплю я себе все платье и в горничные на хорошее место поступлю, нынче уж обязательно.
— А я — фрак и в официанты! Заживем, Фрось, у-ух, как! И обвенчаемся, Фрось! Я беспременно хочу обвенчаться.
— Ну да… и это можно будет, — вся вспыхивала, млея от сдерживаемого восторга.
— И ребенка из воспитательного обратно возьмем. Это можно, я уж толковал с знающим человеком… все можно! — мечтает вслух разошедшийся артист.
Фрося при этом глубоко затягивается папиросой, делает вид, будто от этого только вслух и не может ответить, потом не спеша утвердительно кивает головой, а на глазах у нее, должно быть, от табачной затяжки, вдруг навертываются слезы. Она принимается кашлять…
В такие минуты товарки прощали Фроське ее сварливость и буйный нрав, забывали свои обиды от нее и, пьяненькие, без зависти, жадно слушали о таком хорошем будущем своей подруги, как чистая жизнь, муж, ребенок…
А когда через неделю, также вечером, Сенька-комедьянт пришел, широко распахнув двери, кинул Фроське красненькую и крикнул молодечески задорно: "Вот! Получай аванс", то этим окончательно завоевал всеобщие симпатии и уважение. Стали прощаться с Фроськой совсем дружески, причем некоторые, выпив уже, прослезились.
— Сама знаешь, какая наша жизнь… не сердись, коли что…
Даже Настасья Егоровна вышла от своего дворника и милостиво сказала:
— Ну, давай тебе бог, Фрося! Недокуда тебе мыкаться… А коли что — у меня завсегда тебе место. Давай бог!
С полден, сейчас же после обедни, к "полю народных гуляний" тянулась уже наименее терпеливая публика: мальчики-подмастерья всяких цехов, мальчики из лабазов, контор и бань, наконец, мальчики привилегированных сословий и молодые приказчики попроще. Словом, кому жгли руки случайные праздничные деньги, попавшие и праведным, и не совсем безгрешным, быть может, путем.
А затем уже через каждые четверть часа праздничные толпы все росли, принимали все более пестрый вид, пока, наконец, вся большая улица обращалась в сплошной человеческий поток, тысячеликий, тысячеголосый. Извозчики, опьяненные, должно быть, впечатлением праздничного шума, нетвердо сидели на козлах и если не давили народ, то благодаря лишь кроткому нраву своих рысаков, миролюбиво останавливавшихся на каждом шагу, чтобы пропустить шмыгавших под самыми их мордами пешеходов. Конки более звонили, чем подвигались вперед, так что нервные люди выскакивали, попускаясь пятачку, и обгоняли вагон, который престарелые кони продолжали невозмутимо тянуть с таким видом, точно хотели сказать: "кума с возу — куму легче!"
Но самое разливанное море шума, веселья и праздничного возбуждения — на "поле народных гуляний". Кого и чего тут нет! Разнаряженные, упитанные, степенные купцы и купчихи, едва прикрытые, пьяные, разухабистые гуляки-мастеровые, солдаты, гимназисты, девицы в платочках и девицы в ярких шляпочках, франты в пальто и котелках, молодцы в картузах и поддевках, юные кадеты, дворники в желтых тулупах и опять солдаты, солдаты…
— Сбитень, горячий сбитень!
— А вот пирожки! С пылу, с жару…
— Яблоки, виноград, всякий им будет рад!
— Орехи для потехи, мармалады, шоколады для женской услады!
Вертятся карусели, сверкая на солнце стеклярусными подвесками, мелькают каски, желтые овчины, яркие бархаты, в сплошной гул сливаются стоны шарманок, трубный рев военных оркестров, взвизгивания и лязг полозьев на ледяных горах, пение и выкрики клоунов на балаганах, говор и смех толпы. Безудержное веселье!
Но уж где яблоку некуда упасть, где ребра трещат от давки и жулики в чужих карманах распоряжаются, как в своих собственных, так это все подле народных театров. Впрочем, это вовсе не значит, что публика стремится туда, совсем даже нет! Прежде чем заманить в театр, артисты добрых полчаса поют, играют и пляшут на подмостках даром, а потом антрепренер долго выкрикивает:
— Начинаем, господа, начинаем! Экстравагантное, пикантное, элегантное галла-представление! Получайте билеты, не теряйте дорогое время!
А когда отрезвленная таким призывом, только что на даровщинку выглядевшая всю труппу публика шарахалась от кассы, почтенный предприниматель хватался за последнее средство, отдергивая входную занавесь, за которой солдатские трубы уже наигрывали галопы, и кричал:
— Вот они! Начали, начали! Первый номер!
Опять, давя друг друга, кидались, чтобы задаром выглядеть, но вход уже закрыт, и снова охлаждающее:
— Получайте же билеты! Не теряйте время!
Уже по одному этому антрепренеру нельзя было отказать в знании человеческой натуры и умении спекулировать на ее слабостях: многие не выдерживали искушения полуоткрытой занавески и в последнюю минуту тянулись за билетом.
"Народный театр "Услада", как называла его водруженная на шестах вывеска, подходил под общий тип целого ряда вытянувшихся подле других: "Фантазия", "Разгуляй", "Очарование" и тому подобных многообещающих и заманчивых наименований. Снаружи те же ярко намалеванные холсты, где астрологи, алхимики и всякие волшебники в острых колпаках магическим жезлом повелевают над козлоподобного вида чертями, рубят головы, из которых рекой хлещет кровь, вновь приращивают их, а какие-то коричневые люди глотают огромных, как осетры, рыб, причем вся эта живопись своей наивной безыскусственностью не уступает египетской, времен фараонов. Как и в прочих театрах, в "Усладе" есть свой "гвоздь", о чем возвещает афиша.
Чудо! Читайте! Чудо!
Живая морская нимфа!
Половина рыбы, половина женщины!
Фурор во всех странах света!
Вот в нем только что кончили шестое с утра представление, публика медленно и неохотно движется к выходу, солдаты, красные от натуги, развинтили и чистят свои трубы.
Закоченевшие артисты, пользуясь минутной передышкой, бегут в крошечную теплушку-уборную, где топится железная печка.
— Скорее, скорее! Сейчас опять начинать, брр…
Накинув на плечи рваное пальтишко, придвинулся к самой печке вихрастый, с худеньким и давно немытым лицом, мальчик-гимнаст. Из-под пальто смешно высунулись его мешковато обтянутые заплатанным трико дико-розового цвета ноги и дрожат частою, мелкою дрожью.
— Выпей, Сашка! — предлагает ему фокусник и шпагоглотатель в затасканном фрачишке и бумажном воротнике.
— Верно, согреешься, — поддержал безобразно накрашенный клоун в пестром ситцевом костюме и войлочном колпаке.
Оба они торопливо, жадно глотали из стоящей на столе бутылки и прямо зубами рвали куски от разбросанных по столу воблы и колбасы. Мальчик дрожал и не обернулся.
— Ну, дьявольская стужа! Пальцы прищипало… — трясется одетый в пестрядинную рубаху и лапти Сенька-комедьянт с балалайкою в руках. Он тоже пьет из горлышка.
— Этакие морозы, помню, были в позапрошлом году… — сквозь чавканье замечает "партерный акробат", человек уже немолодой и несчастного вида погибшего пьяницы.
Входят девицы в якобы малороссийских костюмах, с истрепанными, грязными тряпичными цветами и лентами на головах. Они посинели и тоже наперерыв тянутся за бутылкой, а некоторые, в ожидании, с дикой алчностью кусают и жуют с кожурой соленые огурцы.
— Нету больше, пустая… Эй, хозяин! Давай водки! Что мы, околевать для тебя должны? Скорее!
Сознавая всю свою зависимость от труппы, старик-хозяин в коричневом сюртуке и нелепом сером цилиндре выездного лакея, беспрекословно подает, заискивающе улыбаясь:
— Холодновато, господа… Грейтесь, да и за дело…
От печки вдруг слышатся всхлипывания, сперва тихие, потом громкие и захлебывающиеся: плачет мальчик-гимнаст.
— Сашка! Ты что это? — рванулся к нему партерный акробат.
— Я… я уйду… не могу больше… — прорывается почти истерическими слезами бедный мальчуган.
Все несколько смущены, окружают Сашку и участливо гладят по голове, утешают.
— Выпей! Пусть он согреется, выпьет… — решает фокусник.
— Нет, нет! Не надо ему… Сашка, глупый ты… какой дурень!
— Ты, Сашка, грейся, грейся пуще… — с таким горячим участием и неуклюжею нежностью даже суетится подле юного коллеги пьяница-акробат, укутывая его, что всем удивительно и даже немножко неловко.
— Собачья жизнь! — шумно вошла Фрося, она же "каскадная певица, любимица московской публики" и "живая нимфа", что, впрочем, уже составляло закулисную тайну "Услады".
Появилась она раздраженная, хлопнула дверью и, ни к кому не обращаясь, залпом выпила чашку водки. Потом тут же наскоро подобрала распущенные волосы нимфы и поверх зеленой кофточки накинула черное платье с блестками, перебросила через плечо золотой веер и приколола огромную шляпу с пунцовыми розами. Все в стиле "Услады" — жалкое в своей претензии на шик.
— Ты бы не очень налегала на монополию-то, еще работать надо долго… — несмело заметил Сенькако-медьянт.
— Не твое дело! — сверкнула глазами, отбросив загрызанный огурец.
При ее появлении вдруг почувствовалось какое-то замешательство, все замолчали. Может, и из почтения к блеску примадонны, а больше потому, что смутно и тревожно ожидали чего-то очень скандального. Дело в том, что в интимной жизни "нимфы" и Сеньки-комедьянта свершился разрыв, что Фрося очутилась далее, чем когда-либо, от осуществления мечты о "хорошей жизни", ибо Сенька-комедьянт забрал вперед за себя и за нее, не ночевал дома и вернулся без копейки. Объяснения их после того — семейная тайна, только "нимфа" сегодня все запудривает синяк под глазом, пьет на отчаянность и держит себя вызывающе задорно. Все ее поведение не предвещает ничего доброго, отсюда всеобщая настороженность, скрытое уныние.
— Господа, в "Фантазии" и "Очаровании" кончили! Пожалуйте! — оповестил старичок в сером цилиндре.
Все заспешили, ринулись из уборной: предстояло поддержать престиж "Услады". Хотя, казалось бы, какое им дело до хозяйского кармана. Но тут стояло на карте реноме всей труппы и каждого в отдельности.
И вот все уже на подмостках, насквозь пронизанные холодным двадцатиградусным ветром, но — веселые, смеющиеся…
Выходила вперед всех Фрося в своей шляпе с замызганными ситцевыми розами, улыбалась, строила глазки и пела сиплым голосом:
Мой костер в тумане светит…
Потом, разводя руками, кокетливо подбирая платье, плясала, притопывая каблуком, вздрагивая плечами:
Чудо, чудо, чудо,
Чудо, чудеса-а…
— Господа! Не теряйте время, получайте билеты!
Когда, посинелые, трясущиеся, спускались с подмостков, Сенька дернул Фросю за рукав и шепнул виновато, тихонько:
— Не сердись, Фрось! Еще пять дней, еще все можно, ей-богу.
— Пшел от меня к чертям!
Затрубили солдаты, подняли занавес.
— Вот, господа, живая человеческая голова! — величественным жестом указывает старичок в коричневом сюртуке на открытый со стороны публики ящик, в постаменте которого сидит партерный акробат, высунув в ящик свою голову.
— Она моргает. Голова, моргни!
Акробат поднимает веки, несколько раз зверски поводит глазами.
— Она может и курить. Голова, покури! — сует разожженную трубку.
Акробат с удовольствием затягивается и пускает колечки.
— Браво, браво, браво-о!
— восхищается публика.
Опять ревели трубы. На трапеции изгибался мальчишка Сашка-гимнаст, с заплаканным лицом, посылал воздушные поцелуи и улыбался.
— Браво, браво-о!
Колесом ходил партерный акробат, пел, кривлялся и бренчал на балалайке одетый в лапти и пестрядину Сенька:
Барыня угорела, много сахару поела…
— Ого-го-го-о! браво, браво!
Выходила Фрося в черном платье с веером, пела шансонетку, дрыгала ногой, задирая юбки, фокусник ловил из воздуха двугривенные, вынимал из наволочки яйца, глотал шпагу.
— Браво, браво, браво!..
— Браво, браво, браво!..
Потом занавес опустился. Старичок в цилиндре вышел и оповестил почтеннейшую публику о предстоящей демонстрации живой нимфы. Трубы заиграли что-то вроде вальса.
— Торопись, Фросенька, торопись… — робко заглянул в теплушку антрепренер.
— Подождешь, старый сморчок! — грубо засмеялась в ответ, скидывая черное платье и на ходу уже отпивая из бутылки.
Опять нагнал Сенька и шепнул вкрадчиво:
— Не скандаль, Фрось, еще все можно! И ребенка из воспитательного можно, ей-богу…
— Ладно, запляшете вы у меня… — совсем по-волчьи лязгнула зубами и угрожающе засмеялась.
— Ну, теперь все пропало! — махнул рукой Сенька-комедьянт.
— Фросенька, публика требует, не задерживай… — мягким шариком подкатился старичок.
— Что пристал? Публика, подумаешь… всякая сволочь. Подождут!
Не торопясь, подобрала юбки и влезла до пояса в картонный, раззолоченный рыбий хвост. Облокотилась.
— Ну, показывай, что ли, седая кикимора!
Занавес поднялся. Хлопки и крики в публике разом смолкли, оборвался и солдатский вальс.
— Живая, говорящая нимфа, пойманная в Средиземном море. Половина рыбы, половина женщины. Нимфа, скажи, сколько тебе лет?
— Семнадцать! — досадливо, со зла кинула Фрося, лузгая семечки.
— Нимфа, кто твои родители? — растерянно и опасливо спрашивает вдруг заробевший старичок.
— Гм! Черт их знает, кто они были! В воспитательном выросла, потом по прачечным пошла, никаких родителей не знаю! — к ужасу антрепренера, уже совсем не по программе ответила Фрося.
В публике ропот, одобрительный смех, шиканье и свистки.
— Желающие могут убедиться, что здесь нет обмана, что это действительно живая, говорящая нимфа! — спеша потушить скандал, лепечет заученные фразы обезумевший старик.
Когда "желающие" обступили вплоть и бесцеремонно разглядывали и ощупывали, Фрося по привычке состроила томное лицо, протянула руку вперед и заигрывающе, умильно вымолвила:
— Пожертвуйте…
— Вот тоже! Что они дурачат честной народ?! — вдруг громко выкрикнул какой-то молодец в бешмете и бобровой шапке.
— Нимфа! Да я эту потаскуху за двугривенный со всей ее требухой куплю!
— Господа, господа… — завертелся старичок в сером цилиндре.
— Что?! Это я-то потаскуха? Меня за двугривенный? — мигом вылезла из рыбьего хвоста Фрося. — Это, может, жена твоя по двугривенному идет, паршивец ты этакий, а у меня ребенок есть, я тебе не потаскуха!
И прежде чем могли опомниться, она со всего размаху влепила обидчику звонкую затрещину.
Поднялся невообразимый гвалт, рев, шум.
— Это разбойничье гнездо! О-о! А-а!
— Бей их! Обман! Деньги назад!
Кто-то ударил Фросю, и по лицу у нее течет кровь, кто-то изорвал на ней кофточку, дергали, толкали… Антрепренер скрылся, а откуда-то выбежал бледный, перепуганный Сашка-гимнаст, и его ударил по голове купец в лисьей шубе.
— Бить нельзя! Эй, нельзя бить! За что бьешь мальчонку?
— Полицию надо сюда! Зови полицию!
С улицы напирала любопытная толпа, верещала, как под ножом, кассирша, отстаивая хозяйские деньги; надрываясь, жалобно и тревожно плакал полицейский свисток.
Через десять минут порядок был восстановлен. На сцене "Услады" распоряжался околоточный и чинил допрос.
— Ты кто такая? — строго обратился к Фросе.
— Не больно тычься, я тебе не родня! — ответила та, сморкаясь кровью и глядя на полицейского чина насмешливо и враждебно.
— Что?! Кто ты, у тебя спрашивают?
— Не фыркай! Почище видали, да редко мигали… Нимфа я.
— Я тебе дам нимфу! Я тебе покажу! Паспорт есть?
— Это она, вашескородие! Которая нанесла мне оскорбление… словами и действием, она… — подсказывал молодец в бешмете.
— Знаю. Это еще что за шут гороховый?
— Позвольте представиться… антрепренер-с… простите, такое досадное происшествие…
— Знаю. Айда все за мной! В участке разберем!
С этого вечера театр "Услада" был закрыт, к вящей радости конкурентов.
О труппе его ничего неизвестно.
ПРИМЕЧАНИЯ
Печатается по тексту газеты "Уральский край", 1909, 25 декабря.
СВОЯ СВОИХ
Тому бы, известно, по дружбе объясниться келейно, посоветовать приятелю не говорить напредки непотребных слов, за которыми, как ему было известно, и крамолы-то никакой не таилось. Так вот поди ж ты! Не знаешь, где упадешь. Законность какая-то на ту пору обуяла, служебное рвение… Ох, если бы да знать тогда! Не знал.
Вот и приехали на промысла хорошие гости: мундирчики с иголочки, шпоры позвякивают, все-то на них блестит, сверкает. Красота! Приняли отменно: бал, ужин с шампанским, музыка, дамы… Уехали, очарованные сами и всех очаровав. Долго воздушными поцелуями обменивались. Управляющий после того так полюбил военных, что стал свято чтить не только царские дни, а и все кавалерийские праздники. Даже флагов нашили в большом изобилии.
Только господин исправник после ближайшего первого числа не получил с промыслов традиционного конвертика с лаконическим: "в собственные руки". Изумился, подождал недельку.
"Может, забыли просто… Хотя, как забыть? Ну да мало ли! А вдруг да… Нет, нет!" — сам испугался мелькнувшей догадки.
И неделя, другая прошла, а конвертика нет как нет.
— Господи, неужто? Конечно, по закону не обязаны, просить нельзя… Да разве одни писаные законы? Освященный веками обычай стоит закона, уважение его не менее обязательно…
Пришло следующее первое число и опять не принесло ничего. Выходило уже — не забыли, а наоборот, — припомнили.
— А, вы вот как! Хорошо же, посмотрим. Пока не трогали закона, жили да радовались:
— Ах, что и за исправник! Ему бы губернатором…
— Вот это — управляющий… Не копеечник! Сейчас видна натура, размах… Белая косточка!
А как попутал лукавый в недобрый час на законы опереться, и пошло:
— Хапуга! Держиморда! Я ему покажу, полицейской крысе…
— Выжига, вор, нигилист! Ему в остроге сгнить мало!
И чинили один другому всякие каверзы, пакости.
Событие исключительной важности, задолго оповещенное в "Ведомостях" и взволновавшее уездные сферы далекой окраины: едет "по епархии" преосвященный. Трепетали батюшки, морщились церковные старосты и монастырские казначеи.
— Понимаете: сам владыка! Особа! — внушительно подымал палец озабоченный исправник, раздавая инструкции. И становые пристава сломя голову летели сгонять народ для починки дорог.
Одновременно с этим вздумал обозреть свои владения какой-то Шляхтин, личность неизвестная; по крайней мере газеты о поездке его не обмолвились, никаких распоряжений на сей предмет от начальства не последовало.
— Мало ли тут директоров всяких компаний, владельцев и золотопромышленников ездит! Видали этого добра…
Так, разумеется, думал и владыка; вернее — совсем не думал, что поездка какого-то Шляхтина и его собственное путешествие могут составлять равноценные события, одно на другое влиять.
И однако на первой же после железной дороги почтовой станции пришлось услышать неожиданное:
— Каки теперь лошади! Все с Шляхтиным убежали.
Владыка, узнав о причине задержки, вопросительно, с тихою укоризною поглядел на сопровождавшего его исправника.
— Это недоразумение, ваше преосвященство… не извольте беспокоиться… — забормотал, краснея. И выбежал во двор.
— Что?! Да знаешь ли, что я могу с тобой сделать? — накинулся на почтосодержателя. — Кто едет-то? Как ты осмелился!
— Воля ваша, — развел тот руками, — только вон две пары стоят, потому, ежели для казенной надобности, без коней тоже нельзя…
— Я с тобой после разделаюсь, — зловеще прошипел исправник, — доставай скорее вольных!
— Нету вольных, восемнадцать троек под Шляхтиным ушли. Начисто! Подождать, не иначе, придется…
Точно вдруг потеряв способность речи, исправник несколько секунд стоял, выпуча глаза. Мужик, потупясь, ковырял в носу. Потом точно кто плашмя ударил лопатой по чему-то мягкому. Раз, другой… Мужик покачнулся.
— Ваше скородие, владыка требуют!
Мужик как ни в чем не бывало высморкался кровью в подол рубахи, покрутил головой, ухмыляясь хитро и самодовольно всей физиономией, и отправился куда-то по хозяйству.
— Так-таки и нет лошадей? — коротко спросил преосвященный. Исправник, заикаясь, принялся со страха в чем-то оправдываться.
— Ну что же, я подожду, да… — проникновенно поглядел владыка.
Выехали только через семь часов, на измученных обратных лошадях. На всех следующих станциях повторилось то же самое; почти сказочные подробности рассказывались о проследовавшем поезде Шляхтина.
— Кто же вам коней оставит? Он по три целковых на водку дает, по десятке за тройку с перегона!
— И секлетари с ним, и доктора, и повара, а камердин весь в медалях да прозументах… Одних генералов, чай, до десятка!
— Нет, ведь это пренебрежение, насмешка какая-то… Я буду жаловаться! Так нельзя… Не мне, скудоумному и убогому, а сану моему довлеет, за себя я все прощаю, но здесь оскорблен представитель…
— Простите, владыка! Я в отчаянии… я, видит бог, всей душой…
— Я вас и не обвиняю. Понимаю, вижу, как вас убивает. Тут золотой телец… Да кто же, этот муж?
— Владелец промыслов… еврей, ваше преосвященство… Сейчас узнал, что царский прием на границе его владений оказан, священник похвальным словом приветствовал…
— Как? Православный священник? Иудея? Кто же этот иерей?
— Из его имения, Феогност Купелин! — с готовностью подсказал исправник, родственницу которого этот самый отец Феогност сжил с места учительницы.
— Возмутительно! Православный священник… иудею! Надменному гордецу, из-за которого епископ терпит надругательства… Нет, я буду требовать правосудия!
— Смею ли просить, владыка, вашей защиты и представительства пред господином губернатором? Я все делал…
— Вполне, всеконечно, можете располагать моим покровительством! И от себя, и за вас стану протестовать против дерзкого неуважения к власти…
По приезде в городишко преосвященный отправил жалобу в губернию, а отцу Феогносту отрешение от должности с предписанием немедля явиться пред владычные очи. Отсюда же, ободренный архиереем, исправник почтительно, но властно потребовал из управления промыслов сведений: какими видами на жительство располагают прибывшие туда лица и имеют ли вообще право жительства в губернии, будучи иудейского вероисповедания? Торжествующе улыбался, потирая руки.
С триумфом, действительно, невиданным, въехал Шляхтин в свое имение, в котором могло бы вместиться все царство Польское. И дом, над которым день и ночь работало несколько сот человек, был похож на дворец в этих дебрях: до тридцати комнат, с великолепною мебелью из столицы, с дорогими материями по стенам, ливрейные слуги, флаг на кровле…
Все это понадобилось для месячного, первого и последнего, конечно, пребывания на промыслах их владельца.
Странную, невероятную бумагу от исправника получил управляющий. Даже из рук выронил, как прочел, испарина прошибла. Побежал за советом к личному секретарю Шляхтина.
— Извините, не смею доложить его превосходительству сам… Вот видите, исправник… грубый и невежественный человек, конечно…
Секретарь отнесся совсем необычайно. Читая, все выше подымал брови, улыбаясь, а кончив, вздернул плечи и громко, весело захохотал.
— Черт возьми! Хорошо, я доложу… — сквозь смех едва мог ответить. — Для курьеза, само собой! У него — паспорт?.. Нет, каково! Доложу обязательно… Паспорт! А? Курьез, курьез…
Едва ушел управляющий, как прибежал встревоженный, запыхавшийся отец Феогност и просит непременно личного свидания с владельцем. Очень доступный вообще, тот сейчас же принял.
— Ваше превосходительство! Защитите, помогите! Семеро детей… Что же я такого сделал? Ваше превосходительство! — взывал обескураженный попик, потрясая архиерейской бумагой.
Перед обедом лакей Шляхтина принес в контору депешу, объяснив, что приказано отправить с нарочным.
"Видно, губернатору", — подумал управляющий.
Но, прочитав адрес и текст телеграммы, разинул рот и замер в благоговейном ужасе.
После богослужения в соборе владыка проследовал к градскому голове. К обеду съехалось все, что было именитого, богатого, чиновного. Когда зашла речь о неудобствах дорог, преосвященный пожаловался на сугубые тяготы и лишения, испытанные по милости какого-то проезжего Шляхтина.
Это вызвало среди гостей неловкое замешательство. Разговор на минуту оборвался, кое-кто переглянулся.
— Вашему преосвященству, вероятно, неизвестно, что это тот самый… известный, не только русский, а общеевропейский банкир, обладатель колоссальных богатств? У него огромные связи. Очень жаль, что вам пришлось претерпеть, но… тут уж всякая власть, к несчастию, бессильна! — заметил один из гостей.
— Да-а… До ста миллионов состояние! — вздохнул другой.
— По всем дорогам экстренный министерский поезд подают!
— Губернаторы встречают, а коли изволит почивать, губернатор ни с чем возвращается, только на вагон посмотрит…
— Еще бы! Тут и с министрами не очень почтительны, должники и клиенты есть повыше… По всему свету владения, сто миллионов! За достоверное известно, ваше преосвященство, что на балах у него бывают…
Тут следовали имена, от которых владыку хватило холодком, а когда вспала на память отправленная жалоба, бросило в жар.
— Из сего, мнится, можно заключить, что… что эта персона занимает до некоторой степени официальное положение в высших сферах? — прерывающимся голосом вымолвил он.
— О да! в самых высших, ваше преосвященство… Крупнейший жертвователь, благотворитель, почетный член и глава всяческих обществ, учреждений…
Тут следовал, вместо ошеломляющих имен, цикл анекдотов и легенд о Шляхтине, от которых волосы становились дыбом.
— Понимаете, среди бала сама пошла собирать в пользу раненых… Ну, кто откажет? Триста, пятьсот рублей вынимают… А он вырвал листок из записной книжки, пописал что-то карандашиком, подает: в любом банке, говорит, получите… Сто тысяч! Тщеславие, конечно, эксцентричная выходка, но какой эффект!
Владыка почувствовал себя утомленным и отбыл в монастырь. Там ожидала его срочная телеграмма: "От имени его высокопревосходительства господина… предлагаю, а от себя лично убедительно прошу извинить за причиненные беспокойства и отменить, буде возможно, ваше распоряжение в отношении священника Феогноста Купелина, чем предотвратите многие серьезные мне и, вероятно, другим неприятности. Доброжелательный к вам губернатор".
Точно камень с плеч. Вместо недавней усталости — радостное возбуждение и потребность действовать, действовать… Владыка, почти не обдумывая, без остановок написал обширную, братски нежную телеграмму губернатору, пространно продиктовал отеческое прощение отцу Феогносту, наградил его скуфьей и еще чувствовал в себе избыток силы и благоволения. Но когда доложили об испрашивающем аудиенции исправнике, он вдруг сделал недовольное лицо и объявил:
— Болен. Не принимаю.
Служка, однако, вскоре опять вернулся, смиренно кланяясь и что-то зажимая в руке:
— Очень просят, преосвященнейший владыка!
— Ну, пусть войдет… Что еще там у него?
Принял холодно, глядя совсем в другую сторону, куда-то за окно. И морщил лоб.
— Ваше преосвященство… заступитесь! Без объяснения причин, без суда и следствия… без права поступления навсегда уволен! — из глубины растерзанной души воззвал готовый расплакаться исправник.
— Ну, что ж вам от меня угодно? Я не по вашему ведомству, ничего не могу, кажется, ясно! Не приемлю на себя смелости судить, но… верно, заслужили! Оставьте же меня…
— Вашему преосвященству известно… единственно в интересах ваших, усердствуя за престиж высшей власти… Вы же обещали свое высокое покровительство, ваше преосвященство! — с отчаянием гибнущего выкрикнул забывшийся чиновник полиции.
— Ах, полноте об этом! — вдруг, в свою очередь раздражаясь, повернулся к нему владыка. — Вы воспользовались моей слабостью, греховным побуждением… это стыдно, недостойно! Надо прощать обиды, это долг христианина… И потом… вы ввели меня в заблуждение, да! Сказано: несть эллин и иудей… Это великая, святая заповедь. Вы обманули, вы скрыли от меня высокие добродетели этого человека! Вы солгали, умолчали!
— Ваше преосвященство!
— Я вам это прощаю и… более ничего не имею сказать! Господь с вами… — благословил он и вышел из комнаты.
С тех пор утекло немало воды. Управляющий промыслами Шляхтина получает свои восемнадцать тысяч в год, владыка занимает где-то архиепископскую кафедру, и даже отец Феогност давно увенчан камилавкою. Только злополучный исправник, спившийся с круга, оборванцем шляется по канцеляриям и ищет "попранную справедливость". Над ним все смеются, а знававшие его прежде иногда дают гривенник.
ПРИМЕЧАНИЯ
Печатается по тексту газеты "Приуралье", 1909, 1 марта.
НА ВОКЗАЛЕ
Зал первого класса узловой станции. Одной из тех станций, встречающихся на российских дорогах, что одним названием нагоняют жуть и нудную тоску на путешественников, познавших все прелести пересадок с "приятными" десятичасовыми ожиданиями поезда.
— Второй звонок! Поезд на Ряжск, Тулу, Москву! — с какою-то сдержанной злобою оповещает пробегающий сторож, потрясая колокольчиком: кажется, ему доставляет удовольствие оторвать этих, опротивевших ему людей от еды и питья, сунуть в душные вагоны.
Засуетились, задвигали стульями, спешно расплачиваются, направляясь к выходу.
— А скоро придет почтовый? — цепляется за сторожа дама с страдальческим выражением на лице.
— Опаздывает на четыре часа! — непочтительно, с тупым злорадством кидает он на ходу и кричит уже вдали;- на Ряжск, Тулу, Москву!..
У дамы обиженный вид. С ненавистью глядит вслед удаляющимся счастливцам, что вот сейчас сядут и поедут, куда хотят.
— Затворяйте, пожалуйста, дверь! Тут — дети! — желчно обрушивается на них, поджимает губы и садится с видом невольной покорности затравленного человека.
В наполовину опустевшем зале зажжены яркие калильные фонари в люстрах, лампы на столах, убранных хрусталем, цветами, фруктами. Кое-кто из ожидающих располагается поудобнее на плюшевых диванчиках и дремлет, другие нервно шагают взад-вперед, хмурясь и шумно чиркая спичками. Официанты с равнодушно-тоскливыми лицами движутся бесшумно или стоят у буфета, точно спят с открытыми глазами.
С края за общим столом сидит упитанный старец с библейской, белой, во всю грудь бородою и жирно смазанными, еще совсем темными волосами. Лицо у него разогрето, крошечные плутоватые глазки затуманились. Откинувшись на спинку стула, он благодушно улыбается, время от времени крестясь широким истовым крестом, благоговейно шепча:
— О, господи! Прости нас, грешных… — И выпивает при этом рюмочку из поставленного перед ним графинчика, закусывает балыком и икрой.
Дальше, какой-то средних лет, необычайно важный и властный с лакеями, джентльмен, а по речи и манерам коммивояжер-купец из "интеллигентных", угощает офицера сигарами, кофеем и ликерами.
— Это мне обходится рублей шестьсот, ну и пускай! Зато ведь хор какой! Разве только в Москве такие… Мне преосвященный тогда за обедом и говорит…
Офицер держится холодновато, с большим достоинством, и хотя принимает угощение, но ухитряется делать это так, что становится ясным со стороны: не ему оказывают любезность, а он удостоивает чести случайного компаньона и дорожного знакомого.
— Господи меня благослови! — все крестится и выпивает набожный старичок. Опорожнил графинчик и пальчиком помаячил официанту насчет другого. Потом выразительно помахал платочком, отгоняя табачный дым.
— Вот стоит по печатному написанное, что курить за столом воспрещается, а промежду прочим, не соблюдают сего, — кинул как бы в пространство.
Офицер разом обернулся в его сторону.
— Извините, пожалуйста, мы вас, кажется, беспокоим? — галантно поклонился, готовясь потушить сигару будто бы.
— Что вы, господин! Нисколь даже, курите себе, курите! — не хочет уступить в вежливости польщенный таким тонким обращением деликатного человека: — Я только к слову, а то что же, помилуйте! Сделайте одолжение…
— Верно, раскольник! Они всегда так: дыму табачного не выносят, а водку пить с двуперстными крестами — сколько угодно… — почти вслух обронил джентльмен гостинодворского пошиба, досадуя, должно быть, что отвлекли внимание собеседника от его повествований о знакомствах с высокими персонами. Правда, офицеру давалось понять о социальном положении его случайного компаньона в совсем не хвастливой форме, а этак вскользь и даже в иронически-снисходительном тоне — надоело, мол, и нисколько даже не занимает! — но, видно, все-таки…
— Господи благослови! — знай старается над вторым графинчиком патриархальный старец, не замечая шпильки.
Впуская клубы морозного воздуха, в зал то и дело входят новые пассажиры. Долго толкутся в дверях, пролезая с картонками и узлами.
— Затворяйте двери! Как не понимать, что тут дети… — всякий раз встречает пришельцев нервозная дама.
Одна прибывшая компания оказывается знакомой тому именитому коммерсанту, что угощает офицера. Трое мужчин и дама.
— А-а, здравствуйте! Вот не узнал!
— Богатым быть, хе-хе… Милости просим!
Требуется новый запас ликера, шоколад для дамы.
Офицер чуточку отодвинулся и держится в кругу новых, нежданных знакомых с еще более осторожной, слегка высокомерной учтивостью. Похоже, его начинает шокировать это общество, где сразу завязались разговоры о хитро проведенных и, кажется, не совсем чистых сделках с векселями, замаскированно хвастливые повествования о беседе запросто с губернатором, а все это вперемежку с неуклюжими остротами, пошлыми любезностями по адресу дамы, смачными гастрономическими прениями.
— Докладывают ему, конечно: потомственный почетный гражданин…
— Нет, вот мне раз привезли осетра — это была рыбина!
— Ну, чем удивили, батенька! У меня бывали стерляди с вашего осетра, ей-богу… Во! Аршина полтора!
Совсем уж осовевший благообразный старец разглядывает плакаты по стенам, размышляя вслух:
— И все жиды, армяне да немцы… Ни одной русской фамилии! О, господи…
— Но, позвольте! Как это "не дается", когда я даже и подписываюсь всегда потомственным почетным гражданином?
— Извините, я не спорю, мне только помнится… Может, ошибаюсь, может, и за личные заслуги, кроме духовенства, дается потомственное, может быть… — почти презрительно соглашается офицер, отодвигаясь еще дальше.
— Забыли господа бога и заповеди его, вот он и наслал, как древле саранчу, всякую инородную нечисть по грехам нашим, — изливается в гражданской скорби благочестивый старец.
Все новые и новые пассажиры… Заняты все диванчики, все стулья. Дамы, укутанные в дорогие меха, увешанные золотом, с птицами, звериными мордами и лапами на головных уборах, похожи на каких-то языческих идолов и, повидимому, гордятся этим. Кажется, они с удовольствием вдели бы себе в нос и губы какие-нибудь красивые рыбьи кости, но еще нет такой моды…
— Ах, какая досада: столько ждать… Говорила, спросить по телефону надо было. И лошадей отпустили. Фу, какая глупость!
— Ну, что ж? Все к лучшему! Успеем поужинать. Эй, человек! — сделал строгое лицо только что ухмылявшийся пижон.
— Только стерлядь сварить обязательно в белом вине, иначе я не ем! Есть у вас сотерн? Ах, я такая капризная!
— А мороженое фисташковое, слышите? Непременно фисташковое, непременно!
— Что это? — свирепо уставился на официанта какой-то важный чиновник, приготовившийся покушать:- Как подаешь, спрашиваю я тебя?!
— Извините-с… — заробев, лепечет недоумевающий "человек".
— Дурак… Пшел! — с гадливой миной делает пренебрежительный знак рукой.
Упитанный буфетчик прислушивается в священном трепете и встречает несчастного официанта; как ястреб свою жертву, гневно шипит, сверкает глазами на его неслышные оправдания и долго с тревогой приглядывается к сановитому, грозному господину. А тот, довольный нагнанным страхом на безответного лакея, успокоился уже и кушает, аппетитно чавкая.
— Гинет матушка Россия, гинет… — скорбно кивает головой осушивший второй графинчик богобоязненный старец и глядит на официанта с кроткою укоризной: — Так нет, говоришь, растегаев?
— Нет-с. Вот по карте — что угодно.
— М-м… Кансоме да штенглицы какие-то, нерусское все… Все и везде… О, господи!
— Он мне: не могу, дескать, вот ежели по полтинничку…
— А я его тут и пристукнул своей накладной! Как, мол, нравятся мои тридцать вагончиков? И на гривенничек, говорю, дешевле вашего, расторговаться-де хочу… Ну, тут другой разговор, конечно! Полный рублик, только проезжай дальше, голубчик мой!
— Дайте шампанского! Да чтобы холодное, слышите!
— И фруктов! Ах, если бы здесь были персики…
— А мне жареного миндаля. Шампанское и миндаль — прелесть!
Буфетчик, насторожившись, заметался, как акула подле корабля, почуявшая бурю и поживу. Засуетились, забегали официанты…
Зал третьего класса — что-то вроде длинного и грязного манежа — едва полуосвещают мерцающие лампы на чугунных колоннах. С первого взгляда похоже, будто попал на бранное поле после горячей сечи, точно и пройти невозможно средь этой сплошной массы повергнутых тел, где в беспорядочных кучах перемешались головы и руки, лохмотья овчин, ноги в лаптях и валенках, солдатские шинели и белые холстяные котомки. И нельзя понять при виде этой человеческой груды на заплеванном каменном полу, которые кому принадлежат перепутавшиеся руки и ноги; кажется, случись переполох, и сами обладатели их не скоро разобрались бы. А над всем этим — тяжелый, отравленный, спертый воздух…
Только осмотревшись, удается разглядеть отдельные лица: мужские и женские, старые и молодые, устало-равнодушные и озабоченно-грустные. И как увядающие полевые цветы средь свежескошенного сена, выделяются детские личики из этой грязной кучи оборванных людей и их нищенского скарба. Истомленные, печальные личики.
То и дело хлопают входные двери, клубы морозного воздуха далеко ползут по низу, обволакивая продрогших, скорчившихся на полу людей.
Вновь прибывающие пробираются тихонько, чтобы не наступить на чью-нибудь голову или руки, долго высматривают, где бы приткнуться.
Только жандармы ухитряются как-то свободно расхаживать взад-вперед средь самой гущи, кидая вокруг пытливо-настороженные, точно ощупывающие взгляды.
Вдали у стены, сквозь табачный дым и испарения тысячи человеческих тел, мерцают лампады, поблескивают оклады икон и подсвечники. Дежурная монахиня борется со сном, покачиваясь над раскрытою книгой. Большие тяжелые очки ее сползают по носу все ниже-ниже…
— Купить что желаете? — встрепенувшись, оборачивается изредка к рассматривающим от скуки крестики, образки и всякие монастырские рукоделия.
Спрашиваемые торопливо и молча отходят. Матушка опять начинает дремать.
— Куда прешь? Не видишь: нельзя?.. — сердито, спросонок окликают солдаты, оберегая свободный уголок с поставленными в рогатки винтовками.
— Отодвиньтесь, освободите… Перейдите, говорю! — хлопочет елейной наружности плюгавенький человечек, отпирая книжный шкаф с душеспасительной литературой и надписью: "Здесь же запись в члены союза русского народа за 25 копеек".
Около шкафа сбирается толпа. Держатся поодаль. Старец в енотовой шубе, что с молитвою опорожнил два графинчика в первом классе, перебирает брошюры.
— Что вы мнетесь? Это никому невозбранно, нарочно и выложено, чтобы смотрели, — ободряет мужиков:- Купишь, нет ли — с тебя не взыщут, а поглянется книжечка, тебе же польза: соберетесь на досуге да почитаете, оно и занятно и от пьянства отвлекает мужика. Вот и в члены можете записаться, это, по вашему крестьянскому делу, священный долг, можно сказать…
— А какая, к примеру, чрез это льгота будет, ежели членом? — выступил мужичок посмелее.
— Станешь посещать собрания, где обсуждаются разные вопросы, — с готовностью оборачивается продавец, как бы сбираясь уж уловить в свои сети.
— Ну, это нам неспособно, чтобы рассуждать… Понятнее таких у нас нет… — разочарованно пятится мужик.
— А вот на то и союз, чтобы ваш брат не входил в настоящее-то понятие! — неожиданно ввернул какой-то, должно быть, видавший виды молодец в нагольном тулупе.
— Это в каких же смыслах? — подозрительно покосился в его сторону продавец.
— Все в тех же! — насмешливо посмотрел тот: — Небось, коли на собраньях-то ваших да мужики насчет барской земли настоящее понятие иметь захочут, закудахтают ваши бары да богатеи! Это только для тумана все: "член, дескать, равный со мной, хоть и армячишка на тебе, а у меня шуба в три сотни…" Лестно!
Толпа подвинулась ближе, навострив уши. Продавец глянул уже тревожно и обронил медовым голоском угрожающе:
— Напрасно ты, умный человек, этакие смущающие слова выражаешь, да-с… За это не хвалят, друг.
— Это он от своего бараньего тулупа шубе моей позавидовал! Прощалыга какой, не иначе…
— Нам ладно и в овчине. Не больно завидно тоже, коли шуба соболья, а голова-то баранья будет! — задорно кинул парень, отходя прочь.
— Это он к чему же? — хлопая глазами, оглядел всех почтенный старец. Потом вдруг вспыхнул. — А вот взять да и представить жандарму за такие речи! Кто таков есть? Сицилист, видно, — политик, жулик! Где он? Куда девался?
При слове "жандарм" толпа шарахнулась, и подле киоска сразу опустело.
У стены на полу, среди сундучков и мешков, какой-то болезненного и хмурого вида рабочий приподнял за плечи горящую в лихорадке женщину и поит с блюдечка чаем.
— Может, хлеба бы съела?
— Нет, не хочу… — поглядела ласковыми, благодарными глазами и опустилась на узел, плотнее кутаясь в какое-то грязное и рваное тряпье.
— Откудова едете? Куда? — любопытствует сосед в крытом синей пестрядиной кафтане.
— Домой, в Россию. А жили далеко, за Кавказом.
— Что же, какая там будет жизнь? Насчет заработков, скажем, ежели.
— Жить можно. Только климат там для нас вредный. Полгода вот лихорадкой маялися, оттого и домой едем.
— А-а… Ну, а коли, к примеру, по плотничьей части? Проелись, прямо сказать, до крохи, двинулся вот сам не знаю куда… — поближе присаживается мужик.
— Какая плотничная работа? И лесу-то нету… — болезненно усмехнулась женщина: — Заплетут вицами да глиной обмажут, вот тебе и дом…
— Жердь, вот в эту бутылку, копеек тридцать, — добавляет рабочий. — А топят навозом…
— О-о! Гляди же ты… Детей-то нету?
— Нет. Трое было, там схоронили чрез эту же лихорадку, вдвоем остались опять…
Женщина вдруг начинает беспокойно ворочаться. Рабочий, точно спохватившись, хмурится еще больше и заботливо спрашивает:
— Может, молока испила бы?
— О, господи… — вздыхает мужик и отодвигается подалее.
Паренек лет двадцати то и дело заглядывает в обшитый холстом ящик, что все время держит на коленях, и не может из-за него прилечь.
— Что у тебя там ворошится-то?
— А голуби. Голубь с голубкой… Вот боюсь: довезу ли? Пятые сутки в пути да еще ден семь ехать. В Сибирь везу, далеко…
— Вот оказия! Что, голубей там нет, что ли? Чудак!
— Таких нет. Это — курские, с своей стороны… Ездил вот, хочу памятку с родины иметь. Переселились мы в Сибирь-то, да я только пока что не останусь там!
— А как по тамошним местам, спросить, подходяще?
— М-м… Все одно, ежели без денег… Нет, не лучше! Двинуться некуда, ворочаться не к чему, все разорено дома, вот и живут пока что… Нет, не подходяще! Плачем да живем… Нешто подойдет на чужой стороне?!
У бабы в углу все время надсадно, захлебываясь, плачет ребенок. Она совсем выбилась из сил, стараясь унять его: качает на руках, сует в рот прокисшую коровью соску, приговаривая нараспев:
— Ну-ну, бог-от с тобой! Ну, касатик ты мой… Вот огонек, погляди на огонек… О, господи батюшка! Согрешила я с тобой, моченьки моей нету…
Одни спят как мертвые, другие ворочаются и сердито ворчат:
— Что за беспокойный ребенок… Окормила ты его чем, что ли? Гли-ка, чисто заведенный, без утиху ревет…
Женщины снисходительно соболезнуют, советуют.
— Пуп грызет, говоришь? Эко ты дело! Не иначе, грызет: вишь, вьется-то как…
— А ты лютиком-то попой, слышь, оно хорошо! Этак на ложечке-то давай и давай…
— Дедонька, поесть охота… А, дедонька-а?.. — тянет мальчуган в рваном, с чужого плеча, полушубке и такой же шапке, налезающей ему на глаза. И тихонько теребит за рукав старика, что долго делал вид, будто спит, что не слышит, потом с деланно суровым видом завозился, ворча:
— Что еще придумал? Какая ночью еда? О, господи… И все-то бы ел только… Давеча ели уж, чего еще?
И когда развязывает котомку, то становится понятным, что это не поблажка только не знающему времени для еды мальчонку, что, пожалуй, и в самом деле давненько ели, что и сам он не прочь перекусить.
Мальчик жадными, как у голодного волчонка, глазами следит за краюхой хлеба в руках старика. А тот с минуту глядит в какой-то нерешительности, будто у него рука не подымается на это сокровище, будто измеривает, взвешивает черствый ржаной ломоть, что-то рассчитывает, соображает.
— Ну, на! — подает, наконец, отложив кусок для мальчика, другой как-то виновато, украдчиво — для себя.
И оба, старик и ребенок, одинаково медленно, важно и почти благоговейно откусывают, долго жуют, подбирая падающие крошки…
— Ежели все наши слезы собрать, река протекла бы! Всего не расскажешь… А какая наша вина? И по закону, по самому императорскому указу мы действовали ведь: свобода совести… "Вы, говорит, господствующую церковь поносите на своих собраниях!" — "Нет, отвечаем кротко, никого мы не поносим, а только идем и будем идти к господу тем путем, какой совесть наша указывает…" — "А вот я, возлютовал на нас, покажу вам пути!" И тут мы с твердою кротостью отвечали: "Ты, мол, всепрощаем… Господа нашего и апостолов гнали, так нам ли не прощать?"
Рассказчик, старик в белом суконном архалуке, с лицом удивительно спокойным и ясным, замолчал, сам похожий на апостола.
— Это верно. Господь терпел и нам велел… — кто-то отозвался из кучки слушателей.
— Тоже вот, к примеру, скопцы, опять же и хлысты…
— Это другое. Мы — просто братья во Христе, живем по заповедям евангелия, исповедуем бога, как он вложил нам в душу…
— Это уж на что лучше известно… По всему выходит, дело ваше правое, должно вам выйти прощение, как разберут там вашу бумагу…
— А что же, спросить, будет какое способие вам, ежели вот по ошибке, скажем, заставили вас хозяйство позорить, но тюрьмам там держали, в чужие края посылали?
— Мы о том не просим. Мы правды одной ищем только…
Молоденький казак с отчаянным вихром волос из-под высокой мерлушковой шапки, в шароварах с синими лампасами под коротким казакином, переобуваясь, говорит своим соседям:
— Завтра к вечеру приеду, от станции только шестьдесят верст… Сын еще при мне родился, теперь уж ему третий год давно… А серебряные пояса — это у сотников, у есаулов, верно… Можно и нам, коли богатый, а я еду совсем даже бедняжка: только лошадь со мной, и ту надо кормить. Дома ничего нет, отец старый и один; что можно тут с землей сделать? А потом, погорели… Все как есть сызнова теперь надо начинать…
— Да ты не русский, что ль? — любопытствуют, уловив в речи казака чужой акцент.
— Нету, я русский… Казак я, как не русский?
Он хотя и повествует о таких безрадостных вещах, что "совсем бедняжка", что заново предстоит создавать разрушенное хозяйство, но все это — беспечным, веселым тоном, скаля белые зубы. Оттого, должно быть, что "завтра к вечеру", что "через три года"…
— Нет, ты не русский… — упрямо стоит кто-то на своем.
— Абалаканец я. Слыхал?
— А нагайками нашего брата, мужика, дул там?
— Н-нет… Что казак? Ты думаешь, казаку хорошо? Все равно, что и твоему сыну в солдатах. Казак — тоже мужик… крестьянин… — перестал улыбаться, потом добавил: — Служба для всех одна: мне прикажут, буду бить нагайкой, твоему сыну велят, станет стрелять…
Замухрышистый, испитой, неопределенного возраста мужик — армячишко заплата на заплате — раздирает зубами гнилую воблу и все твердит, убедительно и жалостно, своему соседу:
— Никто, милый ты человек, от хорошего житья с своей родной земли не двинется, никто! Нужда, голод да холод гонит… Ведь как живем? О, господи! Земли, прямо сказать, с рукавицу, лесу — не по нашим зубам… Огородиться нечем! Избенка — на веретене встряси, из осинок, зимою тут и сам с семьей и телята да овечки… свалится другой ребенок с лавки-то и вместе с ягненком на соломе спит, правду говорю!
— Знаю, знаю… И избы-то все у вас непокрытые, видал.
— А это по весне в частом быванье, верно! Лошаденку там али корову охота до отавы-то дотянуть, а соломы-то где у нас? Вот и кормим с крыши…
К баку с водой то и дело подходят, ступают чуть не на ноги старухе в заячьем шушуне, но она ничего не замечает, вся уйдя в рассказ.
— Вижу это я, смертонька подходит… Хоть бы, мол, словечко-то услышать еще от него! Одно-то бы словечко… А он все без ума, мечется, не узнает. Ну, плачу это я, плачу, а он как затихнет, поглядит этак на меня да говорит:
"Мамонька! Так бы я молочка и испил…" И обрадовалась я в те поры и испугалась-то: "Сейчас, дитятко, говорю, сейчас…" А откудова молоко? Во дворе-то ни шерстинки, ежели к суседям кинуться, так и там шильцем его хлебают, а опять же ночь… Призамялась, видно, я о ту пору, а он заприметил да и говорит: "Ну, завтра, мамонька, нету ведь у нас своего-то…" Задремал этак, распустился, водички испил, а к утру-то и душу богу отдал… И никогда-то я на сиротство свое, на нужду да работу вековечную не жаловалась, а тут согрешила и возроптала господу богу. И до сей поры на сердце: для кого ж трудилась, недоедала да недосыпала, как не для моего дитятка, а в предсмертной-то час его душеньку не могла порадовать… "Так бы, говорит, и испил…" И ведь молочка-то бы всего с чашечку надо!
Среди куч народа вдруг начинается движение.
— Билеты дают… Эй, дай выйтить-то!
— Что это, посадка, никак?
— Не лапься, не лапься! Ты где стоял?
Жандарм, сонно хлопая глазами, водворяет порядок.
— Очередь держи… Ты! Становись в затылок…
СОКРОВЕННОЕ
Пришел он еще с осени в село Глинянку и бог весть отколь, этот странный божий человек с клеенчатою котомочкой за плечами, с посохом в руке, опоясанный веревочкою поверх старенького подрясничка, в скуфейке, с жиденькими косицами полуседых-полурыжих волос, с тихой, уветливой и по-загадочному непонятной речью, все больше от писания.
Сперва было и не заметили. Мало ли богомольцев проходит через Глинянку в монастырь и обратно! Только попрошайничают, норовят даром поесть да переночевать, а копейки свои монахам несут…
Припомнили его уж после, когда услышали, что в овражке за выгоном, в густом ельнике выкопал и покрыл он себе землянку, расчистил родничок, поставил голубец с медным складеньком, начал сбирать кусочки один раз в неделю, в землю кланяясь за каждое подаяние, позвякивая веригами.
— Подвижник объявился, молитвенник… — заговорили по селу, а потом и дальше окрест.
Началось паломничество к землянке. Отшельник выходил навстречу пришедшим, молча кланялся в ноги за приносимые подаянья: ржаной хлебник с пшенной кашею, за кузовочек картошки… Яйца и все скоромное отвергал.
Многие утверждали, что видели его стоящим голыми коленями на камнях в его хижине перед образами.
А народ все валит, день ото дня больше.
Стал раскрывать свои запечатанные уста:
— Оружие прошло душу, вижу… Молись! Курица-то ходила гуляла, а тут ей и конец приспел, да… Где ковш-то? Вычерпать горе-то надо, вычерпать…
А не то вдруг ляжет на скамье, руки на груди сложит, холстиной прикроется, как есть покойник… Потом вскочит да крикнет вдруг:
— Боимся смерти-то, окаянные! А она уж близ, на гряде, да… А господь-то кроток да милостив, нечего бояться-то! Ждет уж: приди, дескать, ко мне, трудница вечная, мученица моя безвестная… Он все знает! Стены-то высокие, белые да каменные, сиди да плачь, не перескочишь, не увидишь…
И выходили смятенные, растроганные.
— Прозорливец! Как он про смерть-то, а? Умрет моя касатка, знаю, умрет… И сама вижу — не жилица она, одно званье уж только осталось, а этот, гляди, как в кол колонул! Вижу уж, не жилица она, нет!
— А про горе-то мое? Ковшом, говорит, не вычерпаешь… Как на ладони расписал!
— Что уж, праведник! В сердце-то так и читает… Насчет стен-то высоких, каменных, прямо обо мне ведь! Ездила я лонись в город-то, так слезьми изошла, как сидела на пригорочке подле острога-то… Не перескочишь их, верно…
— Все верно! Как в руку положил…
Молва прошла широко о прозорливом старце.
Приходский священник Глинянки, отец Николай, первое время будто и хмурился, удерживал от обольщения, а потом, раза два побывав у старца Егория, сам предложил обществу выстроить над ключиком часовню.
— Это праведной жизни человек, молиться же нам никогда не лишнее, ибо в беззакониях погрязаем… — говорил.
Над ключиком вознеслась некая сень, а по карнизу батюшка отец Николай сам вывел замешанной на керосине сажею: "Освяти мене и воды, вземляй мира грех".
И тут же объявил, что ежели прихожане али кто из посещающих старца Егория пожелают служить в часовне молебны, хоть малые, хоть большие с акафистами и водосвятием, то он во всякое время готов.
Все больше да больше стало стекаться благочестивых христиан в Глинянку. Вокруг имени прозорливого Егория создавался цикл легенд, достигавших уже и губернского города. Находились люди, что уверяли даже, будто старец стоит, когда молится наедине, "земли не дотыкаясь", что подглядели его, нечаянно, стоящим "на воздусях", самые достоверные люди и собственными глазами.
А в глубине ключика так уж и сотни богомольцев видали, как наклонятся да вглядятся, сверкающий образ богоматери с ангелами и архангелами, которые порхают вокруг и только что не трубят в трубы.
Правда, другие видевшие оспаривали: будто вовсе не ангелы, а Никола-угодник, не то Пантелеймон-целитель, или даже — Варвара-великомученица с Парасковеей-пятницей витают вкруг царицы небесной, но эти незначительные разногласия не только не охлаждали религиозного чувства, а вызывали еще больший приток ищущих чуда.
Глинянцы не знали уж, что и взять за ночлег со странников, самовары подавали по пятаку с человека. Начали уж и скотинку прикупать, а которые даже и о новых избах поговаривали.
— Старцем поправились, им только и дышим, дай господь ему долгого живота, доброго здоровья, — переговаривались промеж собой.
То и дело останавливались середь улицы толпы стариков и старух, баб с холщовыми мешками на спине, в лаптях и опорках, с батожками в руках.
— Тут, что ли, старец Егорий? — спрашивали.
— Здесь, здесь! Как же, тут он, наш батюшка… Заходите, обогрейтесь! Самоварчик прикажете? Изба-то теплая, на печке али на полатях, онучи ли высушить — раздолье…
Уж не в диковинку стало, что и на почтовых приедут, из кошевы-то такая барыня вылезает, что, поди, одна шуба на ней, подчас, рублей с тысячу… А то и всей семьей, которые из купечества, наезжали, случалось. Этих уж на расхват рвали еще у околицы, потому отец Николай возлюбил принимать таких гостей у себя.
— Пожалуйте… В горницу-то проходите, вот сюда… Приступочек тут, господин, приступочек, ножку-то поберегите… Пожалуйте! Может, баньку угодно, так у нас истоплена… Хорошая, сухая да жаркая, и занавесочки на окошке…
— Правда, что ль, будто старец тут предсказывает, святой будто?
— Ох, уж такой-то святой! Наскрозь видит и все возвестит… Батюшка отец Николай даже руки поломимши и сами в преклонении пред его святостью! Да вам, барыня-матушка, сливочек не потребно ли? Све-еженькие! А то курочку для деток не сварить ли? Молодушечки, жирненькие да мякенькие они у нас, курочки-то…
— Что ж, можно и курицу… А вот ехали теперь мимо монастыря, спрашивали, а говорят, будто не знают и не слыхивали такого старца.
— А-а! Гляди же, что придумали-то! Брешут монахи, никуда он не девался, зависть их берет… У самих распутство да пьянство, вот святой человек и стал поперек горла!
Отец Николай уж и не успевал с молебнами, малых уже не совершал:
— Только время отымают… А вы лучше постолкуйтесь между собой, да большой общий и отслужим, можно и с крестным ходом, со звоном колокольным, — советовал осаждавшим его богомольцам и странникам победнее.
А когда приглашали приезжие "благородные", перехваченные у него на постой в крестьянские дома, начал и поторговываться:
— Время-то у меня все, требы… А идти за околицу тоже не близко, акафист там, водосвятие, глядь — часа два и отымет…
— Не откажитесь, батюшка, мы отблагодарим…
— Да не в том дело-то! Времени-то нету. Не в рубле суть… Что рубль! Я, может, и двух не возьму: требы!
— Понимаем мы это! Почто же рубль? Не обидим…
— Ну, да уж для вас только разве!
Задумались о старце Егории и в монастыре, когда наезжающие из города богатые люди, едва опнувшись в монастырской гостинице, начали спрашивать:
— Где тут деревня Глинянка? Сказывали, версты три всего, старец там один, Егорий, блаженный и прозорливец…
Съездят в Глинянку и выезжают обратно, только что разве за самовар да за номер заплатят, только и всего.
Отец игумен сперва и во внимание не брал, а после призадумался.
— Да что это за человек есть? — спросил как-то у отца казначея на утреннем докладе. — Будто жил он у нас три дня по осени, речи там произносил, пророчества всякие?
— Точно, жил… Многие помнят…
— А мне ничего не было известно! — укоризненно поглядел игумен. — Что ж он там, в Глинянке?
— Прорицает. Народ валом валит туда, мимо нашей обители, только и расспрашивают, где Глинянка…
— Не давать никаких указаний! Увещевать богомольцев, внушать, что это обманщик, проходимец и жулик беспаспортный, которого-де не сегодня-завтра по этапу ушлют…
Простодушный отец Герасим, что уж вот лет десять сидит привратником, не умудрившись проникнуть, сколь должны сокрушать настоятельское сердце эти мимо проходящие вереницы богомольцев, всегда готов был от скуки побеседовать с ними, рассказать, что сам слышал, у них расспросить о глинянском отшельнике.
На этом его застал вышедший от игумена отец казначей и уж так-то возлютовал:
— Ты в пастухи захотел, что ли? Смотри, угодишь! На то тебя обитель призрела, чтобы ты урон, всякие пагубу и бесчестье ей, вместо сыновней любви, причинял? Никакого ты старца не знаешь отселе, понял? Коли допытываться станут, был, мол, какой-то побродяжка, да увезли-де его давно в острог за воровские дела…
— Слушаю, ваше преподобие… — кланялся старик.
Он до того был напуган, что только руками махал после того на спрашивающих и даже уверял, будто и Глинянки никакой нет тут, что и не слыхивал он этакого села вовсе.
— А эвон, за пригорком, церковь виднеется, какое-то будет село?
— Не знаю, православные! Да вы, ежели помолиться, в обитель бы… Акафисты у нас пред царицей небесной, матушкой-троеручицей, велелепие!
Но ничего из этого не выходило. Все чаще лишь стало случаться такое, что, поравнявшись, прохожие и проезжие только перекрестятся на монастырские главы, да и мимо, прямо в Глинянку. И уж никакого от них монастырской казне прибытка.
С Афанасьева дня солнышко стало подыматься повыше, светить ярче, а когда чуть и пригреет даже уж. Сидит у святых ворот отец Герасим, засунув руки в рукава дубленого тулупа, нахохлился, — как старый воробей, а голуби подбираются к самым его ногам, клюют набросанные им крошки. Изредка звякнет о медное блюдо копейка, старик привстанет и поклонится. Потом опять задумается о своем: что скоро будет тепло сидеть, что отец рухальный всучил ему вовсе никудышные, гнилые сапоги, но, может, и не доживет до настоящей весны, не понадобятся и эти…
— Что, все идут? — раздается подле.
Это отец казначей. Озабоченно глядит на дорогу, на кучки проходящих в Глинянку богомольцев.
— Идут, ваше преподобие, — встает, кланяется.
— Ну, ну, сиди уж… Стар ты, брат, скоро и в землю, пожалуй… Сколь годов-то? — рассеянно спрашивает, глядя мимо.
— А и не знаю. В обители близ сорока годов уж…
— Та-ак… — тянет отец казначей, глаз не сводя с дороги и думая о чем-то своем. — Да еще и нас переживешь, наверно! Ваш брат живучи, — вдруг оборачивается, точно проснувшись, и уходит, затяжно кашляя, злобно отхаркивается и бормочет: — О господи! Что это такое… Кха, кха…
Отец Николай, проведенный в игуменскую гостиную услужливым келейником, расчесал волосы, сел, запахнув рясу, огляделся и подумал с горькою завистью:
"Как живут-то! Бархаты, ковры, цветы, канарейки да аквариумы… Фисгармония-то рублей четыреста, поди?"
Пощупал обивку на мебели. Вздохнул.
— А-а, это вы, отец Николай! Милости просим, — вышел отец игумен, радушно приветствуя гостя.
Подали чай, корзинки с печеньем, графинчики с ромом, с коньяком.
"Живут-то как…" — опять заныло в сердце отца Николая.
Сперва поговорили о том о сем: какой мудрый новый владыка, сколь трудно управлять обителью и как тяжело живется белому духовенству по деревням…
Все вокруг да около, совсем по-дипломатическому.
— Приглашали по делу, ваше высокопреподобие?.. — первый решился отец Николай, выдавливая лимон в стакане.
— Ах, да! Оно не то, чтобы дело, видите… Прозорливец и чудотворец у вас там объявился, так вот и интересно, знаете! Какою то есть силою прорицания откровения эти? Потому, бывают вон тоже всякие волхователи и лжепророки, коих церковь не приемлет, ну, и служителям ея, конечно, не довлеет покровительствовать сим еретикам и обольстителям…
— Это вы ежели о старце Егорие, так тут никакого колдовства или еретичества нет, а разве что юродство во Христе. Отрешился человек вся мирские прелести, живет в нищете, в скудости и отдалении, что же тут особенного? Ведь и вы, монашествующие, вся черная братия, тот же великий обет дали идти во след Христу, жить средь лишений всяческих… Трудно соблюсти, конечно, ибо дух бодр, плоть же немощна, и совершен только он един… — не без ядовитости, как бы невзначай, окинул взглядом отец Николай все убранство игуменских покоев, не миновав и графинчиков с винами.
— Да-да, все грешны, конечно, — воздел очи горе отец игумен, позвякивая четками. — Но искушать верующих всякими прорицаниями, знаете… Соблазн, как хотите!
— Я не вижу тут соблазна, ваше высокопреподобие. По моему разумению, куда больший соблазн, коли вон в одной обители скрали из какой-то старообрядческой часовни икону троеручицы, поставили на сосне, да и наняли мужика, будто тот коней искал, да и был ослеплен светом необычайным середь ночи от той иконы… А местный-то народ знает, и мужики те живы, коих нанимали в монастыре, чтобы натужились из всех сил, подымая крошечную икону при крестных ходах; никуда, дескать, из обители не хочет двинуться троеручица… И ведь недавно это было, знаете! Вот это, по-моему, действительный соблазн… Что это, никак простудились вы, ваше высокопреподобие?
На отца игумена в самом деле вдруг напала перхота.
— Кушайте чаек-то, отец Николай… Да, продуло где-то, знаете… Вы с коньяком-то! Не то рому плесните… Ох, прохватило, никак форточки открывают в церкви… — совсем насильно уж кашлял, ерзал на диванчике.
Расстались с виду мирно, любовно. Совсем два министра, корректные и выдержанные, оба прекрасно сознающие, что дипломатические сношения прерваны, что начинается война, но надо соблюсти приличие.
— Да не провожайте, ваше высокопреподобие! Совсем застудитесь…
— Ну, помилуйте! Этакого редкого гостя и не проводить…
Уже стояла пора с теми яркими солнечными полднями пробуждающейся весны, когда почерневшие дороги, неумолчный воробьиный гам, воркование голубей и пролегающие по снежным полям синие пятна волнуют и радуют душу смутными надеждами. И — когда над обителью нависает особенно мрачная, давящая тоска мертвенной безнадежности…
Чем свет, уже зовут унылые покаянные звоны, низшую братию — на работу, заслуженных старцев и все привилегированное иночество — на молитву. Первым — вывозить дрова и сено с куреней да покосов, навоз на поля и в парники, садиться в швальни, чтобы обуть и одеть всех… Другим — выстаивать скучные, долгие службы с монотонным чтением, с бесконечными земными поклонами, когда унесены для чистки подсвечники, сняты паникадила, и в церкви голо, пустынно и тоскливо-тоскливо…
Но потом молящиеся придут в чистенькие кельи, закусят маринованными грибками, покушают пирожка с вязигой, когда разрешается рыбное, в другое время — попьют чайку с липовым медом, прилягут…
А для работающих, теперь как-то особенно длинные, недели уставного сухоядения без трапезы — квас да хлеб… В другое время — горох, картошка, редька да капуста с ржаным хлебом, у которого корки в два пальца, впору разжевать только тигру.
Ох, как скучно в обители об эту пору!
— Дон, дон, дон… — стонет неумолчный колокол. С утра до вечера.
Прежде хоть богомольцы оживляли. В странноприемной черный люд, в гостинице все номера полны говеющими из чистой публики. А нынче, гляди, первая неделя к концу доходит, стечения верующих и в помине нет! Идут мимо, в Глинянку.
"А мне все едино… Я свое отслужил уж…" — думает сменивший тулуп на засаленный ватный подрясник отец Герасим, сидя у святых ворот.
— Гуль, гуль, гуль… — шамкает, любовно подманивая сизых подорожных голубей, разбрасывая крошки хлеба.
Улыбается, когда те копошатся у его ног, взлетают и садятся к нему на колени, на плечи.
— Н-ну, пошли вон, кыш-кыш…
Замечает, как мало снегу осталось на полях, как с каждым днем все ослепительнее сверкают под солнцем ручьи…
— Дон… дон… дон… — зовет вечерний колокол.
— Ну, я не пойду, могу и здесь помолиться… Господь-от видит, простит, все поймет… Сорок годов ведь, а? Бывали рога в торгу, можно и на покой уж… Гуль, гуль, гуль.
Как-то после вечерен одного из таких скучных дней у игумена долго сидел отец казначей. Оба говорили с таким увлечением, что келейник Евтихий почел возможным под шумок убрать со стола вместе с опорожненною посудою и едва початый кувшинчик ликера, что ему вполне и удалось.
Под конец беседой завладел гость.
— Нужны меры экстренные и решительные, да! Вы меня простите, отец настоятель, а только должен я сказать, ревнуя о благочестной обители нашей, что вы тяжкодумны непозволительно! — заключил он свою до того пламенную речь, что даже в горле у него пересохло и, схватив первый попавшийся под руку стакан, начал жадно пить, точно спешил залить сжигающий его огонь священного возмущения.
— Не пей, это я сейчас зубы выполоскал, — спокойно, мимоходом, предупредил отец игумен, как спокойно, пощипывая бороду, выслушал и всю долгую обличительную тираду пылкого инока.
И так же невозмутимо ровным тоном продолжал:
— Не годится, отец, что ты толкуешь, не согласен я с тобой. Ну в консисторию? Сейчас тебе отец следователь, значит… Вот куда они садятся, эти отцы — следователи-то, знаешь, небось! — постучал себя по шее.
— Да, еще кабы сейчас! А то почнут дело волочить полгода, доить и нас, и отца Николая. А толк-то какой в том? Ну, вышлют, удалят старца…
— Этого мошенника, да!.. — рванулся было отец казначей, пытаясь опять пуститься в словесный бой.
— Старца, по всему видно, достойной жизни, духом прозорливости от господа одаренного, — как бы не слыша, но более внушительно продолжал отец игумен: — нам же от того никакой пользы… Опять же и отцу Николаю, ежели рассудить…
— А и его турнуть! За хвост, да и на мороз потатчика, корыстолюбца бесстыжего! — снова поспешил выпалить вертящийся, как на шиле, отец казначей, полагая, что теперь-то уж он уловил нить игуменского мышления.
— И отцу Николаю, брату во Христе и благородному, административного ума человеку, зачем чинить неприятное! — снова пропустил мимо ушей отец игумен, но еще более твердым и слегка повышенным голосом подчеркивая и как бы ставя на вид невоздержанному собеседнику его бестактное поведение.
Совсем сбитый с толку, отец казначей отставил стакан портера и глядел, разинув рот, очень похожий на выкинутого на берег судака. И представлял собой очень смешную картину, должно быть: по крайней мере отец игумен сквозь все свое величие не мог скрыть своей, несколько плутоватой, улыбки.
— У меня, отец, другое на уме… Может, и не глупее твоего!
И, когда неторопливо, обстоятельно изложил свой план, отец казначей мог только воскликнуть:
— Соломон! Нет, мудростию превзошедший Соломона!
Хватил, конечно, через край, но почтенный иеромонах вообще не признавал меры ни в чем, что мог бы засвидетельствовать и смиренный послушник Евтихий, едва успевавший убирать пустые бутылки.
А на другой день у отца игумена был званый и необычайный гость: становой пристав. Приняли его отменно, с великою почестью, как архиерея, но без колокольного звона, однако. Достоверно известно было из поварской, что варили, жарили, извлекая все сокровенное из погребов и кладовых, даже до полуночи.
Келейник Евтихий рассказывал после на трапезной, будто речь велась потаенная, но ему, якобы нечаянно, удалось подслушать, что говорили о глинянском юродивом Егоре, будто становой то и дело обещал: "Будьте спокойны, после моих увещаний на все согласится…"
— Тут отец настоятель взялись за ключи от шкатулки и меня из покоев выслали, — заключал свои повеетвования Евтихий. И при этом всякий раз почему-то вздыхал горестно, будто становой и настоятельская шкатулка странным образом ассоциировались у него, рождая элегическую грусть о каких-то прекрасных и несбыточных мечтаниях…
На "Алексея, божия человека, — с гор вода", в самом деле, выпала такая ростепель, что и ночью нисколь не подстывало, капель не унималась, а в полдень уж катились целые потоки талой воды. По всему выходило — быть ранней весне.
Об этом думает и древний привратник отец Герасим, грея на солнышке свои старые кости. Приглядывается мутными глазами к черным буграм оттаявших полей, прислушивается к звону ручьев, к птичьему гомону, ведет ласковую беседу с докучными сизарями.
— Ну, что, тепло учуяли, а? Ишь, вы… Ну-ну, пошли, что на руки лезете! Еще крошечек? А вот и не дам, да… Ну, нате уж! Да что крыльями-то прямо по глазам хлещете? Обрадовались… Ну-ну, ладно, озорные, право…
Улыбается. Потом забывает о голубях, смотрит вдаль слезящимися глазами и думает:
"Стар уж, стар… Пожалуй, и не дожить до другой-то весны… А и то сказать, пора уж костям на покой, ох, пора! Все-то болит да ноет… Коли по правде, и верно рассудил отец рухальный: на что добрые сапоги? Ноги-то уж все равно не ходят? Не ходят, да… Отходили!"
Что-то далекое вспоминается от этих теплых солнечных ласк, слабо и смутно, жалостно-бессильно. Будто разворошили до земли забытый, сгнивший без толку зарод, а под ним уж давно заглохли, умерли все корешки трав и цветов, и уж ни одна-то былинка не проглянет, не зазеленеет под животворными лучами весеннего солнышка.
— И памяти прежней не стало, рассудка, настоящего чтобы, нету… Непонятно все как-то, словно пеленой какой застилает…
Много непонятного вдруг подымается в старой голове отца Герасима, и ничего не развяжешь, не разберешь. Будто рыбу руками ловит: вот тут она, стоит, пригретая солнышком, уж совсем твоя, только взять, а сунулся — и нет ничего, только вода еще больше замутилась…
Много непонятного. Вот наказывали сперва говорить богомольцам, будто еретик и побродяжка старец Егорий, а как-то утречком, по-приморозу, привез его в обитель отец казначей и приказал говорить, что праведник и прозорливец.
— Не стало понятия, не стало…
Особую келейку в монастырской роще срубили, сам отец игумен посещает. И он, отец Герасим, тоже заходил к Егорию.
Две барыни у него в келье стояли о ту пору, смиренно так, а тот почто-то, едва вошел Герасим, поклонился ему земно, дал ягодку-черносливинку, облобызал, а барыням совсем неподобное показал из перстов…
— К чему это возвещает? Непонятно все…
Солнышко греет жарче да жарче, ручьи сверкают, пахнет землей и лесом, грачи галдят в роще, голуби воркуют и шмыгают под ногами, взлетают и садятся на голову, на блюдо с копейками.
— Кыш, вы! Кыш!
Не то дремлется, не то думается… Вспоминается.
— Тогда еще не Герасим был, а Григорий-послушник. Ох, и силы же было! Пахать ежели, лошадь не успевает, сам один, почитай, плуг-то и ведешь… Блаженные памяти игумен Ианнуарий всегда говорил: "Голиаф". Прост был: настоятель, а сам невода тянул, после уху варил на берегу с прочей братией… Все было просто и понятно, все…
Голуби порхают, звякают о блюдо медные двушники, шлепают растрепанными лаптями богомольцы, отряхивая грязь, прежде чем войти в святые ворота. Порою с грохотом подкатит барская бричка.
Встает отец Герасим, кланяется и сейчас же, — не по чину это, положим, — садится. Восьмые десятки в доходе, ноги-то худо слушаются чина да устава…
— Ну вот, отец, теперь и нас не обходят? А-а? — раздается подле знакомый голос отца казначея. Только теперь в этом голосе звучит довольство и сдержанный смешок, какой-то скрытый и заигрывающий. Смотрит на дорогу, как тогда, а в глазах — плутоватые, веселые искорки. И уж не кашляет.
— Не обходят, ваше преподобие, точно… — кланяется отец Герасим.
— Да, не обходят! Понимаешь ли ты сие, однако, а? Ох, старо место, гляжу я на тебя… В землю смотришь, в настоящее-то понятие и взять не можешь уж?
— Не могу, ваше преподобие, что таить… — кается отец Герасим.
— Ну-ну, сиди тут пока что… — уходит, покровительственно усмехнувшись.
А старик как-то по-виноватому смотрит себе под ноги, будто хочет одолеть что-то неукладывающееся в его голове. И голуби, взлетая ему на плечи, воркуют, шумят, точно хотят утешить:
— Это ничего, что не понимаешь, ничего! Мы тоже не понимаем у них, у людей, а ты, хоть и человек, все равно что мы…
— Непонятно, все непонятное пошло… Ох, пора в землю-матушку, видно, пора!.. — недоуменно покачивает головою отец Герасим.
Голуби все вьются подле него, хлопают крыльями.
ПРИМЕЧАНИЯ
Печатается по тексту газеты "Уральский край", 1911, 10 апреля.
Стр. 308 Келейник — прислужник при игумене, при старшем в монастыре.
Стр. 312 Отец рухальный — монах, ведающий монастырским движимым имуществом.
БЛАГОДЕТЕЛЬ
Архип Фролыч — самый благочестивый прихожанин во всем селе, против этого уже и заклятый враг его не мог бы ничего возразить. А врагов у Архипа Фролыча не занимать стать, потому что не любят грешники видеть постоянно в лице его укор всей жизни не по заповедям господним.
И в самом деле, когда мужики, то по лености, то за мирскими суетами, по неделям не посвящают и нескольких часов молитве в храме, Архип Фролыч не пропускает ни одной воскресной и праздничной службы. Ровно за полчаса до колокольного звона к обедне он запирает лавку, торопливо выпроваживая покупателей.
— Ну, уходите, уходите, некогда мне с вами… О, господи! Все серебро, крупа да мука, чай да сахары, суета одна… Для мамону все, а о боге-то когда? Душу свою погублю я с вами, право, — вздыхает он сокрушенно.
В церковь приходит ранехонько, вместе со старухами, к часам. Благообразный, с умасленною головою и бородою во всю грудь, не торопясь, чинно снимает свое, добротное такое, городское драповое пальто, укладывает на подсвечник. После кладет поклоны перед каждой местной иконой и ставит свечки, осторожно ступая на носочки скрипучих лаковых сапог. И всю обедню молится истово, прижав руки к сердцу, подпевает дьячку и крепко ударяет лбом в пол. Когда батюшка говорит проповедь, Архип Фролыч подвигается к самому амвону, прикладывает ладонь рупором к уху и умиленно кивает головой на каждое слово, возведя очи горе.
— С праздничком, Архип Фролыч… — уступая дорогу, низко кланяются мужики, когда он с просфоркою и поминальником в руках спускается после обедни по ступенькам паперти, весь такой просветленный, "по-божественному" спокойный и строгий. Отвечает на поклоны степенно, с достоинством и с какой-то проникновенною, всепрощающею кротостью во взоре: видно, что человек еще весь в боге, еще не вернулся к суетной и греховной земле.
Дома с супругой съедали просфору, благоговейно подбирая крошки, потом принимались за пирог, скушивали добрую гору жирных ватрушек и пили чай с топленым молоком до тех пор, что уж из самовара не потечет.
Тогда поднимался из-за стола, долго крестился в передний угол, отирал пот с лица и говорил тоном измученного подвижника:
— О, господи, царь небесный… Пойти, что ли? Вишь, около окошек вьются, заглядывают… Все жратва у людей на уме! Теперь бы слово божие почитать, о душе пораздумать, а как отвергнешь: может, голодны… Грех!
У Архипа Фролыча всегда все с молитвою, с покаянным воздыханием. Ранним утречком, выйдя с ключами в руке, прежде всего долго крестится на церковный купол, а, отперев лавку, еще молится и на икону. Потом уже со вздохом встает за прилавок, будто крест на себя принимает из христианского снисхождения к человеческой греховной слабости.
На веревочках под потолком развешаны полотенца, сапоги, гармоники, тканые скатерти, фуражки, расшитые рубахи — все просроченные заклады, выставленные на продажу.
Начинается спозаранок и на весь день обычная история.
— С прибылью торговать, — заискивающе ласково говорит баба, как-то виновато отводя глаза. И мнется несколько секунд.
— Бог спасет. Что скажешь? — скучающе отворачивается от нее хозяин.
— Архип Фролыч… полпудика бы, сделай милость… — она вывязывает из платка трубку холста, пестрый сарафан, три мота льняной пряжи.
— Ох, господи! Душу свою потопил я с вами, право… — тяжело вздыхает, как бы с брезгливостью разбирая принесенное, а в глазах уже сверкнул соответствующий елейному тону жадный огонек, крючатся сухие, цепкие пальцы, будто ястребиная лапа.
— Гм… десять фунтов еще туда-сюда, можно… — и отодвигает вдруг заклад: — Не надо бы вовсе, много у меня этого хламу! Ну, да уж сказал ежели, не отопрусь… жалеючи…
— Десять фунтов! Архип Фролыч, побойся ты бога-то. Ведь выкуплю, неуж попущусь?
— Ты мне этих слов не говори! Я господа бога завсегда памятую, оттого только, может, вам и благодетельствую, а вы как за благостыню мою? Лонись как заверяла: десять ден стану жать, говорила, только дай, а о самую страднюю пору рожать вздумала… Все вы таковы, обманщицы, лукавки, только бы стеребить, обмануть доброго человека…
— Батюшка, Архип Фролыч! Да ведь ежели нет силы-мощи?
— Ну, это уж меня не касательно. Пятнадцать фунтов, пожалуй, дам уж, и то только бога для… (Копейка с гривенника в месяц… Некогда мне с тобой! — досадливо обрывал, оборачиваясь на звонок входной двери.
— Ладно… — подавленно вздыхает баба, озираясь на входящих, и подставляет мешок поскорее, будто не хочет "на людях" просить да вымаливать.
— Ох, согрешил я с вами, — по щепотке подбрасывает Архип Фролыч и зорко следит за стрелкой: не дать бы "похода"…
— Здорово… Что скажешь? — отвечает через плечо на приветствия новых покупателей. И тычет последнюю щепотку так, что весы сразу показывают "поход".
— Отпускайте, обождем, Архип Фролыч, — отвечают как-то по-виноватому, заискивающе. И прячут под полою принесенные овчины, самовары, узлы; прячут стыдливо от добрых людей свою нужду, как и те тоже скрывают свою, хотя те и другие все понимают друг о друге доподлинно.
— До вашей милости, Архип Фролыч… Вызволь! Вот-те истинный Христос! В срок рассчитаюсь… Тулуп-то, гляди, не поныхнулся, что есть новенький…
— Да ты что думаешь? Сам я кую деньги-то, что ли? Не надо мне твоего тулупа, полна клеть их у меня, и денег я тебе не дам… Даже и припаса не отпущу, вот что!
— Архип Фролыч! Два-то целковых?
— И пятака не дам. Ты вон бога не побоялся, оболгал меня, будто лишнее я с тебя взял… Все знаю. А как так лишнее? Сказано было гривенник с рубля в месяц, а? Вот то-то и оною… А выкупил ты, заместо десятого, тринадцатого числа, да… Вот и рассуди, коли ум в голове, что на другой месяц, стало быть, три дня перешло, а мне все едино; день один, месяц ли полный… У меня все по совести, по уговору, не то, чтобы на обман, по-вашему! По-божески взял я с тебя тридцать копеек-то, да… Только для бога, для души и возжаюсь с вами, а заместо благодарности вы только гадите, на это вас и стать есть. Бога вы забыли!
Вбегает справно одетая молодуха, смело протискивается сразу вперед, с шиком ударяет о прилавок полтинником.
— Два фунта баранок, какрамели тоже на гривенник! Да поскорее, Архип Фролыч… Некогда, гости там ждут!
— Сей минут, Пелагея Потаповна, — кидается, забывая о закладчиках, и улыбается медоточиво.
Мужики и бабы почтительно отступают, глядят на молодуху и ее полтину с несказанным уважением: есть же, дескать, такие богатеи, что обладают экими капиталами и гостей потчевать могут…
— Гости, это хорошо… Проезжие, говорите? Паче того, — юлой вьется Архип Фролыч, из всей силы кидая на весы баранки и поспешно снимая.
— Это по-божески, да… Сказано потому в святом писании, что странного прими… — тянет вовсе уже нараспев, подбирая сдачу.
— Так как же, Архип Фролыч, скажешь? — выступает обдерганный мужичонка, комкая поярковую шапчонку.
— Да ты все еще тут? Ох, господи, царь небесный! Сказал уж, хошь, бери пятишку… И то лишь из жалости к нужде твоей, для детенышей твоих, а то бы и даром не надо, потому много у меня скотины и без того, с руками, с ногами съели… Разорюсь я из-за своей добродетели к вам, право!
— Архип Фролыч! Да ведь нетель-то какая, на племя бы только! Ну, хошь, вместо десяти целковых, по осени за пятнадцать обратно возьму? Вот тебе крест, не обману…
— Это мне несподручно, чтобы перепродавать. Ежели с концом только, вот последнее слово две трешны…
— Архип Фролыч, батюшка! — впопыхах возвращается богатейка-молодуха:- Ведь вместо пятака-то ты мне старинный двушник дал, гляди-ка… Заест меня мужик!
Уж нет медоточивых улыбок, вкрадчивых, ласковых речей: глядит спокойно, обиженно-строго и равнодушно.
— Помилуйте-с! Как это можно? Мы не мошенники какие… Верно, дома перемешали… У нас тоже крест на шее!
— Да окромя того полтинника, и нет ничего! Вы ссчитайте-ка.
— Нечего считать. Проверять сдачу надо у выручки, а то вот экое и возводите на человека… Бога в вас нет! Идите себе со Христом… Покорыстуюсь я вашими тремя копейками!
Молодуха уходит ни с чем, перебирая на ладони медяки.
— Батюшка, Архип Фролыч, да ты погляди! Это еще не стоит семи гривен, а? Ведь яичко к яичку, свеженькие!
— Мне их не есть, хоть золотые будь. Вот сказал, сорок копеек, хошь, — бери, не хошь, — иди, милая, с богом…
— Архип Фролыч! Да ведь в городу-то рупь семь гривен…
— Ох, господи! Душу погубил я из-за суеты вашей…. Ну, вези в город, продавай, может, два целковых дадут! И дай бог на сиротство твое… Царица небесная! Ведь только для души, вашего нищенства ради, жалеючи и возжаюсь вот… Ну, возьми полтину, Христос с тобой уж, все равно, сирота ты ведь! — При перекладывании яиц он поучает, что корыстолюбие — великий грех и что курочек кормить надо лучше, тогда они и яички станут нести крупнее.
— Что уж, какой наш корм, известно… — вздыхает старуха.
— А вот ты и слукавила! Думала, считать не стану? Пятка недостает до полсотни-то… Может, невольно, а согрешила, да…
— Да, Архип Фролыч! Три раза считала, нешто бесстыжая я какая? Еще одно яичко лишнее накинула пра всякий случай…
Глядит строго, но уветливо да скорбно столь на старуху. — Ты что же, думаешь, — обсчитал я тебя, а? Э-эх, люди! Им добро делаешь, а они… Не надо мне твоих яиц в таком разе!
— Да не серчай ты, Архип Фролыч, может, неравно и просчиталась… Что уж велика наша грамота, вам виднее…
— Ну, уж Христос тебя простит… и скину я с полтинника всего две копейки, бедность твою уважаючи… Богу на свечку, не себе, нет! Ты не жалей для бога-то, он тебе невидимо пошлет на сиротство-то твое.
С раннего утра до ночи этак. Что называется, дверь на пяте не стоит.
— Ох, господи! Согрешенье одно… А как отвергнешь? Куда они без меня? Для души уж только, для души… — Архип Фролыч долго крестится на церковь, заперев лавочку и пощупав еще раз замки.
Спустив цепную собаку, ощупает еще все засовы на дверях амбаров и клетей, обойдет весь двор и накажет работнику:
— Ты не больно-то спи… поглядывай… На людей не больно ведь полагаться причитается, им добро творишь, а они ворогом глядят на тебя… Прости их, господи!
За самоваром долго считает выручку, щелкает на счетах, пишет намусленным карандашом в грязных книгах, а потом, надев очки на нос, читает на сон грядущий псалтырь, сокрушенно, со слезой в голосе:
— Господи! Перед тобою все желания мои и воздыхания мои, от тебя не утаюсь…
А лик спаса смотрит с иконы по-новому, ночному, будто сурово. И божественные персты, кажется, не благословляют, а грозят…
ПРИМЕЧАНИЯ
Печатается по тексту журнала "Уральское хозяйство", 1912, № 5.
Стр. 273 для мамону все — мамон (просторечие) — утроба, желудок; грубые чувственные наслаждения.
Стр. 275 Лонись (диалектное) — в прошлом году.
БЕЛОРЕЦКИЙ (Ларионов) Григорий Прокофьевич (19(31).01.1879, Белорецкий з-д, Уфим. губ. — 06 (19).1913 г. Скопин, Рязан. губ.), писатель, фольклорист. Род. в семье приказчика. Окончил с золотой медалью Уфим. гимназию (1896) и Военно-мед. акад. в Петерб. (1901). Служил военным врачом. Первая значительная публ. — статья "Заводская частушка" (газ. "Ур. жизнь", 1901). Всего Б. записал более 500 заводских и бытовых частушек. В рассказах и очерках из нар. быта У. ("Страдалец", "Юбилеи", "Поздней осенью" и др.)вывел галерею героев, разочаровавшихся в жизни. Пов. "На войне" (1905) и ряд примыкающих к ней рассказов обобщили впечатления русско-японской войны и вызвали цензурные преследования. Последние годы жизни служил военным врачом в разл. гарнизонах.
В СУМАСШЕДШЕМ ДОМЕ
"Привел меня Бог видеть злое дело…"
I
Это был очень хороший вечер — теплый, тихий, задумчивый и грустный. Широкая равнина, окутанная вечерней мглой, засыпала тихо и мирно; за день ее утомили горячие ласки солнца, и теперь она, удовлетворенная и усталая, была охвачена только одним желанием — успокоиться, отдохнуть, уснуть… А на небе зажигались одна за другой кроткие и грустные звезды, задумчиво и любовно глядевшие на землю…
В поле мелодично перекликались перепела и монотонно дергал свою единственную ноту коростель. И эти звуки не нарушали общей гармонии, не тревожили засыпающей степи, — они, такие родные и близкие ей, казалось, убаюкивали ее и делали общий колорит картины еще более грустным и мирным.
На деревне прозвенела было нескладная рулада гармоники, но тотчас же смолкла, как будто поняв свою неуместность и сконфузившись.
Мы — земский доктор, и я, студент, исполняющий обязанности его помощника, — сидели на выходившем в поле крыльце своей больнички, расположенной у околицы маленькой степной деревеньки, и думали. Я был молод, и потому мне хотелось любви и счастья, и я думал, что моя молодость проходит очень грустно и скучно и что ее, мою молодость, может согреть и оживить одна только женская любовь. А доктор? Он был тоже не стар и тоже, вероятно, думал о близкой женщине, о любви.
Мы сидели и молчали. Ночь надвигалась бесшумно и: незаметно. Только темнее становилась степь да ярче разгорались звезды.
— Ночь… — неожиданно констатировал факт доктор. — Как тихо… и как грустно… В хорошие летние ночи как-то яснее и потому больнее чувствуется, что жизнь уходит… Ужасно грустно… Вы когда-нибудь испытывали такую грусть, такую тоску, когда не разберешь, тоска это или физическая боль в груди?
— Да. Испытывал.
— Ужасно грустно… Какая-то глупая, беспредметная тоска… Вы когда-нибудь любили?
— Да. Впрочем, еще гимназистом, глупо.
— У меня и того нет. Всю молодость проморгал… Гимназистом и студентом рачительно занимался, бегал по урокам, врачом — работал так, что не до любви было. А теперь вот жаль… и кажется, что молодость погибла… Да, выражение "погибшая молодость" не всегда кажется пошлым… Что может быть ужаснее одиночества?.. Ужасная тоска… Впрочем, все это происходит, вероятно, оттого, что устал я и в дело не верю.
Он помолчал.
— Я десять лет таскаюсь вот по таким норам, — он показал на деревеньку, — идее служу, "оздоровлению деревни…" Как это пошло и глупо!.. Им просто хлеба надо, а не наших жалких микстур. Мы вместо хлеба даем им не камень, что было бы откровеннее и честнее, а черт знает что… На что я ухлопал эти десять лет, лучшие десять лет моей жизни? Черт возьми, и я ведь имею право на личное счастье, право любить, не быть одиноким… Ужасно грустно… Слышите, как перепела кричат?.. А понимаете вы, о чем они кричат?.. Вот крикнул самец — и страстно, и немного нетерпеливо… А вот отвечает ему самка. Слышите, как у ней это выходит томно и нежно?.. Чем не "песнь торжествующей любви", а?
Он замолчал. А ночь плыла, торжественная, спокойная, грустная…
…Вдруг где-то близко-близко раздался странный и страшный крик. Кто-то, зверь или человек, крикнул протяжно и пронзительно, — и в этом крике было и какое-то дикое торжество, и смертельный ужас. Крик пронесся над степью и замер вдали. Звезды тревожно задрожали, в все звуки ночи притихли.
— Что такое? — вскочил доктор.
Крик повторился — такой же страшный и непонятный. Было ясно, что кричат в деревне, где-нибудь недалеко от больницы.
— Фу, черт, какой ужас… — пробормотал доктор. — Что бы это могло значить? Как будто это в деревне…
Мы обернулись к деревне и напряженно всматривались в темную кучу крестьянских изб. Послышался топот босых ног по гладкой дороге, — и из улицы деревни показалась какая-то белая фигура. Она быстро приближалась к нам, и, когда она была уже совсем близко, мы увидели, что это бежал изо всей мочи нагой человек. Он вихрем пронесся мимо нас, нагнув вперед голову и неистово махая руками. Бежал он по дороге, ведущей в степь, и быстро исчез в темноте ночи…
А тем временем и в деревне началась какая-то суматоха: до нас долетели обрывки торопливого и испуганного говора, стук открываемого окна, скрип ворот. Из этого хаоса звуков опять отчетливо выделилось шлепанье босых ног по накатанной дороге, — это бежало несколько человек по тому же направлению, по которому пробежал и голый. Когда толпа сравнялась с нами, кто-то из нее крикнул:
— Не видали?.. Не пробег?..
— Пробежал.
— Куды?.. Туды?..
— Да, по дороге. Кто это такой?
— Бешеный убег.
И толпа пустилась бежать по дороге.
— Какой бешеный?! — крикнул вдогонку доктор, но ему не ответили. — Какой бешеный? — повернулся он ко мне. — Я никакого бешеного в деревне не знал.
Все это продолжалось каких-нибудь две-три минуты. Затем опять наступила тишина, и опять в степи задергал коростель, и перепела возобновили прерванную беседу. Но вот из деревни показалась новая толпа крестьян. На этот раз шли тихо, возбужденно и громко разговаривая. Кто-то нес фонарь, неверный и трепещущий свет которого придавал толпе вид фантастического пестрого пятна на фоне черной ночи. До нас доносились обрывки разговора.
— Ему бес помогает, — возбужденно и торопливо говорил чей-то старческий голос. — Говорил я, приковать надо. А то вот теперь, поди, лови его… Набедокурит где-нибудь, а кто в ответе? Обчество, — почто не блюли.
— Обчество не при чем, — отвечали ему спокойно и рассудительно. — Кузьма виноват, с Кузьмы и спрос.
— Ну, чего там зря болтать, — перебил новый голос. — Прикуй или не прикуй — с бесом не совладать.
— Ох, прогневали мы господа бога…
— Беда…
Доктор и я подошли к толпе. Крестьяне остановились и замолчали. Их было человек десять. Все они были без шапок и босые, в одних рубахах и портах. Они, вероятно, только что вскочили с постелей и не вполне еще успели очнуться от тяжелого и крепкого сна после длинного трудового дня.
— В чем дело? Кто это пробежал? — спросил доктор.
Крестьяне молчали. Старик, стоявший впереди с фонарем в руках, что-то пробормотал было, но осекся и уставился глазами в землю. Толпа, казалось, была в затруднительном положении и не знала, как ей выбраться из него. Наконец, кто-то нашелся:
— Так это… Убег тут один…
— Да кто "убег", я вас спрашиваю?! — уже с оттенком раздражения в голосе крикнул доктор.
Толпа казалась пойманной с поличным. Крестьяне смущенно переминались с ноги на ногу, кашляли, вздыхали.
— Да так… Один тут человек…
И опять молчание. Кто-то вздохнул громко и глубоко, ему ответили тем же, еще и еще.
— Ох, грехи наши… — пробормотал старик с фонарем. — Пожалуй, на спокой пора… Поздно… Прощевай, ваша милость.
Он поклонился доктору, то же проделала и вся толпа и быстро повернулась назад.
— Нет, ты, брат, постой, — ухватил доктор старика за рукав. — Говори, в чем дело. Все равно узнаю — не сегодня, завтра… Не чужой я вам, черт вас дери…
— Оно точно что… Так что…
Толпа остановилась. Старик поставил фонарь на землю, высморкался и обтер руки о штаны. Мы ждали.
— Безумный убег, — проговорил, наконец, он. — Иван Петров. Кузьме, значит, брат… Старшой брат.
Я знал Кузьму Петрова, но существования его брата, да еще сумасшедшего, я и не подозревал.
— Разве у Кузьмы Петрова есть брат?
— Есть. Он, значит, и убег… Подрыл, значит, под дверь нору и убег.
— Сумасшедший, ты говоришь?
— Да… Бешеный, значит… Так что не в своем уме.
Доктора, видимо, происшествие очень заинтересовало.
В этой деревне с какими-нибудь 50–60 дворами он жил уже второй год и знал решительно всех ее обитателей от мала до велика. А с Кузьмой Петровым он был уже совсем на короткой ноге: Кузьма много лечился, доктор очень часто бывал у него в избе и очень охотно и часто говорил с ним. Этот угрюмый и молчаливый мужик, живший очень замкнуто, очень интересовал его. Интерес к Кузьме могло возбудить одно то обстоятельство, что в нашей деревне, население которой составляли сплошь отчаянные пропойцы, он один был трезвенником. Словом, доктор был очень хорошо, до мельчайших подробностей знаком с жизнью и всей деревни вообще, и Кузьмы Петрова в частности, — и вдруг оказывается, что в деревне живет сумасшедший, которого запирают и о котором доктор решительно ничего не знает, и притом живет у Кузьмы… Было ясно, что сумасшедшего прятали, и только его побег выдал и его и крестьян.
Старик отвечал сначала на наши вопросы крайне неохотно, туманно и сбивчиво, но потом, когда доктор убедил его, что теперь все равно нам все известно и скрывать дальше не имеет смысла, он сделался более разговорчивым. Оказалось, что Иван Петров сошел с ума два года тому назад, а так как он буянил и был опасен, его заперли.
— Ну, конечно, держали в секрете, — рассказывал старик, — а то ведь упрятали бы его в желтый дом… Совсем бы человеку капут был.
— Почему, "капут"? Там лечат.
— Оно, конечно, лечат, а только что… Нехорошо в сумасшедший дом бешеных сдавать… В ем, в бешеном-то, бес сидит, а мы его в сумасшедший дом. Как же можно!.. Тут мы, може, его и отчитаем, а в сумасшедшем доме чего уж и ждать. Был тут у нас один бесноватый, годов пять назад… Не уберегли — становой усмотрел. Ну и забрали в сумасшедший дом. Потом, слышим, через две недели без покаяния помер, а евонного отца да брата в каторгу ни за что, ни про что закатили…
— Как в каторгу? За что?
— Били, говорят. А как его не бить? Не его били, беса били… Мы-то так это самое дело понимаем: не за бешеного сослали, а за беса. Слуги бесовские подвели.
— И Ивана били? — спросил я.
— Не Ивана били, беса били… Беса выгоняли… И отчитывали, и били, и крест накладали. Уж оченно в ем бес упрямый… Не простой, должно.
— Где же вы его прятали?
— В хлеву. Наше дело бедное, другого подходящего места нету… Да ему, Ивану-то, все равно ведь, — нешто он теперь что понимает? Опять же беса держать в горнице не гоже.
Мы решили посмотреть хлев, в котором сидел сумасшедший. Старик повел нас к избе Кузьмы Петрова. Толпа шла за нами. Деревня проснулась вся, — в окнах мелькали огни, на улице толпился народ. К толпе, которая шла за нами, присоединялись все, кто попадался навстречу, и, когда мы вошли на двор Кузьмы, народу набралось так много, что двор не вместил всех, — больше половины осталось за воротами. На дворе запрягали в телегу лошадь.
Старик подвел нас к низенькому и маленькому дощатому хлеву, находившемуся в глубине двора. Он отворил дверь, вошел в него с фонарем, а за ним вошли и мы. Нашим глазам представилась такая картина. Маленькая в две-три кубические сажени клетка, сколоченная очень крепко из толстых досок, прибитых к массивным столбам по ее углам, была донельзя загрязнена и запакощена. Больного не выпускали из нее даже для отправления известных потребностей, и потому весь пол был покрыт экскрементами — хлев, должно быть, не чистили по крайней мере три-четыре месяца. Хлевы, в которых держат скотину, показались бы очень приличными жилищами в сравнении с этой ужасной норой. Зловоние в хлеве было невыносимое — и только теперь я сообразил, чем объясняется тот тяжелый запах, который был на дворе Кузьмы Петрова и который я замечал и раньше… На полу валялся обгрызанный кусок хлеба, весь выпачканный. Посередине хлева в землю был вкопан невысокий столбик; к нему была привязана короткая и толстая веревка.
— Это зачем? — указал доктор на столб и веревку,
— Бешеного привязывали, — объяснил старик. — Приковать надо было… Нешто веревкой беса удержишь? Ишь, как перегрыз.
Он поднял конец веревки. Он был весь измочален, — видно было, что недешево стоило сумасшедшему перегрызть веревку.
Под дверью, ведущей в хлев, была выкопана свежая яма, позволявшая выбраться из него даже когда дверь была заперта. Комки свежей и черной земли можно было видеть во всех углах хлева. Сумасшедший, очевидно, работал с неистовой поспешностью и усердием. Никакого орудия, которым можно было бы выкопать яму, не валялось поблизости, — работа производилась голыми руками… В одном углу была отодрана от столба доска — и на ней я заметил следы крови…
— И давно его тут держали? — спросил доктор.
— Без малого два года.
— И зимой?
— И зимой.
Зимой в хлеву, вероятно, было невыносимо холодно: его дощатые стены не могли служить защитой от мороза.
— Однако… Как же он не замерз?
— Снегу, значит, снаружи-то нагребли… Под снегом оно тепло… Дюже тепло… Зимой-то он, ровно медведь, в берлоге жил.
Доктор молча повернулся и пошел со двора. Я шел за ним. В воротах он остановился и крикнул толпе:
— Как поймают, пусть приведут в больницу. Там ему пока будет помещение.
Мы шли сначала молча. Ночь была темная, но в ней уже не было прежнего спокойствия, — поднялся ветер, звезды скрылись за набегавшие облака.
— Это черт знает на что похоже, — заговорил доктор. — Толкуют, кричат о деревенском семейном патронаже для душевнобольных, как о наиболее рациональном способе их призрения… Это при таких-то воззрениях народа на болезнь. Оно, может быть, где-нибудь в Англии, в Голландии и хорошо, а у нас… у нас возможен только такой патронаж, какой мы видели… И это ведь не здесь только так "пользуют" больных, — это везде, по всей России. Воображаю, сколько сидит теперь, вот сейчас, когда мы с вами перепелов слушаем и толкуем о женской любви, как о необходимом условии сносной жизни, сколько сидит на цепях, на веревках, в ужасных помещениях несчастных "бешеных"!.. Ведь и в газетах часто встречаются описания подобных этому фактов. И если вы читали эти описания, вы помните, что везде "бешеные" открывались случайно. Сколько их еще ждет своего случая… Нет, какой уж у нас патронаж… А помните вы дурака Ерошку? Этот Ерошка, страдавший тихим помешательством, бродивший по деревням и питавшийся подаянием, месяца два назад утонул в луже посредине нашей деревни: его напоили мертвецки пьяным потешавшиеся над дурачком мужики…
Доктор сделал паузу в полминуты и, неожиданно повернувшись ко мне, тихо произнес:
— И мы с вами жестоко ошиблись, — народу нужны не врачи… Ему нужна не микстура, а хлеб и знание, а мы только отнимаем у него этот хлеб… И причин сему — легион.
Когда мы пришли к себе, я долго не мог уснуть. Вопиющее безобразие и нелепость ужасной конуры и ужасного существования "бешеного" человека мучили меня, требуя себе объяснения и оправдания. Не находя их, я пытался убедить себя, что "я тут ни при чем", но… факт грозно и неумолимо стоял перед моей мыслью, как холодный и жестокий заимодавец, настойчиво сующий мне свой вексель, подлежащий немедленной оплате и не допускающий ни малейшей отсрочки… И я никак не мог отвязаться от ужасных, похожих на кошмар, образов, которые рисовала мне фантазия, — и неожиданно вспомнил другой случай, аналогичный этому и не менее ужасный.
Это было в противоположном углу России — на глухом севере, куда меня занесла моя страстишка странствовать и наблюдать. Как-то в зимний вечер, в жестокий мороз, сковывавший все живое, всякое движение, даже самую мысль, мне пришлось с случайным спутником остановиться на ночлег в глухом, но довольно большом селе. Помню, что мы долго не могли заснуть в душной, снабженной с избытком жалящими и кусающими насекомыми комнате, и только было начали забываться, засыпать, как нас разбудила какая-то глухая возня за стеной. Там точно боролись или дрались несколько человек. Были слышны и иные звуки, похожие на подавленные крики и стоны… Мы решили узнать, в чем дело. Нам это недешево стоило — нас ни за что не хотели впустить в комнату, откуда доносились подозрительные звуки. Когда мы, наконец, проникли в нее, мы увидели мрачое, сырое и зловонное помещение. Оно было наполнено тяжелым и вонючим дымом, от которого слезились глаза и было трудно дышать. Было очень холодно, — стекла в окне были разбиты в нескольких местах и заткнуты грязными и замерзшими тряпками…
На полу лежал, распластавшись всем телом, человек, покрытый грязным и жалким отрепьем. Вокруг пояса он был обвязан веревкой. Два конца ее были привязаны к кольцам, ввинченным в противоположных стенах. Это позволяло привязанному делать всего лишь два-три шага вдоль комнаты…
Оказалось, что перед нами был "бешеный" и что сейчас ему производили одну из многочисленных операций изгнания беса — ему прижигали железом пятки…
Я живо помню крепкую и сильную фигуру старика-раскольника, хозяина дома и отца "бешеного". Он смотрел на нас горящими злостью глазами и злобно шамкал:
— Ваше дело… Антихристову печать наложили на сынов… Одного потом в солдаты забрили, а другой — вот… Ваших рук дело, любуйтесь…
II
На другой день утром, до обычного приема больных, мы освободили и приготовили для "бешеного" небольшую комнату, которая служила помещением для аптеки. А аптеку перевели в мою комнату. Больничный сторож тем временем сходил в деревню узнать, привели или нет больного, и вернулся с отрицательным ответом.
— Теперь его не поймать, — добавил он к своему рапорту. — Что беса поймать, что бешеного — все едино.
— А ты знал, что на деревне есть сумасшедший? — спросил его доктор.
— Знал… У нас все обчество уговор составило — не выдавать… А мы, можно сказать, с Иваном Прохорычем дружки были.
— Значит, ты знаешь, как он и с ума сошел?
— Да кто его знает, как… Кто говорит, от пьянства, кто — от дурной болести. А по-моему — горд был, ну, ангел господень и отступился, бесу-то, значит, слобода… Чего-чего с ним только ни делали, чтобы беса выгнать, денег сколько на него рассорили — страсть! Из Обиралова чтеца выписывали, один он двадцать рублев сгрел. А проку никакого: читал, читал, не мог отчитать… А жаль мужика-то, — молодой еще человек, сорока годов ему нету… Вот она, гордость-то наша.
— Что же, у него семья есть?
— Жена евонная в монастырь опосля этого случая ушла, а детей у него нет — мертвыми все рожались… Ох, господи, господи…
После приема больных пришел в больницу старик, который вчера показывал нам хлев. Он спросил доктора и, когда его впустили в нашу комнату, брякнулся ему в ноги.
— Не губи, ваше благородие…
— А разве я собираюсь губить кого-нибудь? — засмеялся доктор.
— Не губи, ваше благородие… Всем миром просим — не губи…
— Вот заладил… Говори толком, что тебе надо?
— А насчет бешеного… Не выдай, кормилец… По гроб жизни…
Оказалось, что старик пришел просить от лица крестьян не выдавать их тайну и не настаивать на том, чтобы сумасшедший был отправлен в больницу. Крестьяне боялись повторения того случая, о котором нам рассказывали вчера, и не хотели беспокаянной погибели "бешеного" и возможного наказания его родственников. Кроме того, боялись, что и все "обчество" за укрывательство помешанного может подвергнуться наказанию.
— Ну, "обчество"-то тут не при чем, — заметил доктор. — А все-таки больного мы обязательно отправим в губернскую лечебницу. Дома, в хлеву, держать его нельзя, а у нас, в нашей больнице, для него нет места.
Это было сказано очень твердо, тоном, не допускающим возражений, но старик продолжал кланяться, упрашивать, обещал даже "благодарность" и деньгами и живностью.
— Не обидь, ваше благородие… Заставь по гроб бога молить…
Разговор был прерван сторожем, который стукнул в окно с улицы и крикнул:
— Бешеного поймали!
Мы вышли на крыльцо. С раннего утра шел, не переставая, дождь, превративший дорогу в какое-то месиво и придавший обнаженной степи печальный и сиротливый вид. В полуверсте от нас медленно двигалась по дороге кучка людей, конвоировавших грязную и неуклюжую телеry. Заморенная кляча с трудом вытаскивала одну ногу за другой из грязи, низко-низко опустив голову. Все это шествие казалось необыкновенно печальным и жалким, — люди, без шапок, босиком, в одних рубахах и портах, насквозь промокли, озябли, устали и с трудом передвигали ноги. Их мокрые, съежившиеся фигуры были так же жалки, как и кляча с взъерошенной мокрой шерстью, с опущенной головой, с узкими боками, на которых резко выступали под натянутой кожей ребра… время от времени шедший впереди человек дергал лошадь за узду, кричал осипшим и злым голосом: "У-у, стерва!.. Но, окаянная!.." — и бил ее по бокам длинной и толстой палкой. При каждом ударе кляча поднимала голову, делала усилие и дергала телегу, но тотчас же утомлялась и опять двигалась апатично и медленно.
— Эх, жисть наша, — вздохнул старик, созерцая картину. Процессия поравнялась с крыльцом больницы. Люди, лошадь, телега — все было забрызгано грязью.
— Привезли… — хрипло сказал Кузьма, шедший впереди всех. Он подошел к крыльцу и в изнеможении опустился на грязную и мокрую ступеньку. Это был дюжий мужик, смотревший исподлобья, угрюмо и дико.
В телеге, на сене, лежал "бешеный". Его тело ничем не было покрыто, посинело от холода и дрожало мелкой дрожью. Оно совсем не походило на живое человеческое тело, — синее, грязное, покрытое местами кровью… Только дрожь, странная дрожь, начинавшаяся в конечностях, переходившая на все тело и исчезавшая, чтобы через полминуты снова проделать этот круг, показывала нам, что перед нами живой человек. Лежал он ничком, зарыв голову в сено, так что нам были видны лишь его спина и ноги.
Доктор подошел к телеге, пощупал "бешеному" пульс.
— Скверно… Несите его в больницу.
Кузьма не тронулся с места. Он положил голову на руки и сидел, съежившись и покачиваясь из стороны в сторону.
Больного с трудом вытащили из телеги, взяли на руки и понесли в больницу. Его всклокоченная голова и руки безжизненно свесились вниз. Когда поднимались на крыльцо, руки, грязные, изможденные, покрытые кровью, задевали за ступеньки…
— Легкой, — заметил один из несших больного, — отощал…
Его внесли в приготовленную для него комнату и положили на спину на скамейку. Подушки не было, и потому его голова закинулась немного назад. Лицо было мертвенно бледное, безжизненное, исхудалое донельзя. Время от времени по нему пробегала короткая судорога, приподнимавшая углы губ, — и тогда казалось, что больной хочет улыбнуться.
— Далеко догнали? — спросил доктор.
— За Осиновым переездом… В болоте завяз.
До Осинового переезда было не меньше двадцати верст. "Бешеный" пробежал это расстояние "единым духом" и, смертельно измученный, как загнанная лошадь, упал в болото и уже не мог оттуда выбраться.
Ноги больного оказались израненными, исколотыми в кровь. На правой ноге большой палец был вывихнут. На всем теле было множество синяков, кровоподтеков, старых и свежих… Мое внимание остановили два больших рубца на спине; рубцы эти пересекались под прямым углом, и таким образом получался белый крест, резко выделявшийся на синей коже больного.
— Это у него отчего? — спросил я все еще торчавшего здесь старика.
— Кровяное крещение, — сказал тот важно.
— Что это значит?
— Кожу крест-накрест сымали… Никакой бес супротив этого не состоит… А в Иване, должно, сам Верзаул — и опосля креста не вышел.
Мы вымыли дрожащее тело больного и уложили его в постель. Когда он немного согрелся, он открыл свои мутные, безумные глаза и посмотрел на нас. Это был очень страшный взгляд, — безжизненный, леденящий…
Все время, пока мы возились с несчастным, крестьяне стояли тут же, в углу. С них натекла целая лужа, и, когда они пошли из комнаты, они оставляли за собой на полу отчетливо очерченные следы голых ступней. Старик остался, заявив, что он пока посидит с больным. А потом он заявил, что, как человек незанятой, он постоянно будет дежурить при "бешеном", так как и у Кузьмы и у больничного сторожа и без того очень много дел.
— Да ты что, родня, что ли, ему? — удивился доктор.
— Нет, не родня… Для души это я.
Больничный сторож даже умилился.
— Доброй души человек, — толковал он нам потом. — Сидит дежурит, а ему этот самый Иван Прохорыч много неприятностей понаделал, когда молодой был… Дочь евонную, которая, значит, опосля того утопла, испортил, а самому старику бороду чуть не всю выдрал. Нуко-ся, кто другой нетто простил бы?
Когда, устроив больного, мы с доктором выходили из больницы (нам нужно было сделать в деревне прокол трудному водяночному больному), мы с удивлением увидели, что Кузьма все еще сидит на крыльце в той же самой позе, упершись локтями в колени и положив лицо на ладони. Оказалось, что он спал: бессонная ночь, погоня за братом и возня с ним так его измучили, что он заснул в неудобной позе, на крыльце, под холодным дождем…
— Кузьма, а Кузьма! — тронул его за плечо доктор.
Кузьма поднял голову, посмотрел на нас бессмысленными глазами, что-то промычал, медленно поднялся и, шатаясь, пошел прочь, но не в деревню, а в поле.
— Куда ты? — крикнул ему доктор. — Кузьма!.. Куда, мол, ты?
Тот остановился, опять посмотрел на нас, махнул рукой. Он только теперь пришел в себя.
— Где Ванька? — спросил он и, не дождавшись ответа, прибавил: — есть смерть охота.
Мы вместе с ним пошли в деревню. Было грязно, сыро и холодно. Кузьма дрожал.
— Лето, а какой холод, — сказал он. — Не к добру все это… Приковать надо было… Говорили люди, да жалко было.
III
"Бешеный" был очень слаб. Ему чересчур дорого обошлось его минутное торжество — недолгая свобода. Его, вероятно, утомило уже возбуждение перед побегом, копанье ямы, и его побег казался подвигом, превышающим человеческие силы. Это напряжение нервной системы, всего организма не могло обойтись ему даром. Кроме того, он очень серьезно поранил ноги и сильно избил свое и без того избитое и больное тело. А что оно было избито и раньше, о том красноречиво говорили многочисленные синяки всевозможных оттенков и, следовательно, возрастов. Судя по ним, несчастного "бешеного" били систематически, изо дня в день, настойчиво и усердно изгоняя из него беса… Веревка, которой привязывали его к столбу, оставила на его туловище ужасный след; целый ряд идущих вокруг пояса гноящихся и рдеющих язв. Одна боль от этих язв, постоянно раздражаемых веревкой, могла привести его в крайнее исступление.
Крестьяне, в том числе и Кузьма, упорно отрицали побои, а крест на спине больного объясняли нелепой и невозможной случайностью, — это, мол, сделали больному еще в молодости, в драке…
Больной проснулся только на другой день к вечеру. Его накормили, причем, к великому удовольствию доктора, он ел с изрядным аппетитом. Поев, он хотел было встать с постели, но не мог, — свежие ссадины на ногах и вывихнутый палец, повидимому, очень болели. Полежав спокойно и молча с полчаса, он вдруг заговорил, но так невнятно, что я не мог уловить ни одного слова. Говорил он точно в пространство, ни к кому не обращаясь, — очевидно, он так думал, и не мог думать молча.
— Неприятное зрелище, — сказал, глядя на больного, доктор. — Сломалась драгоценная и сложная машина, где-то в глубине механизма выпал винтик или покривилось колесо, а движущая сила все еще работает… И колеса вертятся, машина работает, но бестолково, нескладно, нелепо… А поврежденное колесо все более и более выходит из нормального положения, тянет за собой другие части механизма — и машина работает все бестолковее, пока, наконец, не встанет… Здесь это, впрочем, не скоро случится, — он еще месяца три протянет… Удивительно крепкий организм, — такая встряска для всякого другого была бы смертельной… Если бы его во-время правильно лечить, можно бы достичь очень хороших результатов.
Решено было выждать несколько дней, чтобы больной немного поправился, и тогда отправить его в земскую психиатрическую лечебницу. Отправка эта представляла очень серьезные затруднения. Через полицию отправлять больного было неудобно, так как в таких случаях буйные больные, по словам доктора, доставляются в лечебницу в ужасном виде (с ними не церемонятся дорогой), а отрывать от дела кого-нибудь из здешних крестьян не хотелось. Пришлось остановиться на такой комбинации: решили, что повезем больного Кузьма и я. Мне все равно скоро нужно будет уезжать отсюда, а Кузьме тоже не миновать ехать.
Кузьма сначала и слышать не хотел об отправке брата в городскую лечебницу. Он несколько раз приходил к нам в больницу просить доктора отдать ему брата, приходила и его жена, плакала и умоляла "не губить". Боялось чего-то и "обчество", — доктору стоило много труда убедить крестьян, что "обчеству" ничего не будет. Так как доктор был упрям и настойчив, и так как эту черту его характера все прекрасно знали, то в конце концов все устроилось по нашему желанию, и мой отъезд с Кузьмой и "бешеным" был вопросом очень недалекого будущего.
Так как физические силы больного восстанавливались довольно быстро, мы решили свезти его возможно скорее, потому что при полном восстановлении его сил опять наступил бы период возбуждения, и тогда перевозка больного оказалась бы очень сложным и мудреным делом. А пока больной был очень спокоен, и вся его деятельность заключалась в том, что он без умолку болтал несвязный вздор и не переставая перебирал руками край одеяла. Была попытка убежать, но очень скромная и мирная, — с больным справился один дежуривший при нем старик.
Накануне отъезда, утром, Кузьма привел в больницу какого-то старичка с редкой, точно выщипанной бороденкой, плешивого и с бельмом на глазу.
— Дозвольте, барин, последнее средствие сделать, — обратился Кузьма к вышедшему к ним доктору. — Старичок средствие знает.
— Точно, знаю средствие, — прошамкал старик.
— Какое средствие?
— Нечистого, стало быть, выгнать… Вода с гвоздя господня и особенная молитва. Для нечистого — смерть… Особенная этой воде сила супротив него дадена.
— Какая вода с гвоздя? Что за вздор? — возмутился было доктор.
Я вмешался в разговор и сказал ему, что в Москве в Успенском соборе, действительно, раздают или продают такую воду, — "воду с гвоздя от креста господня".
— Так точно, — поддакнул мне старик. — Этой самой водой беса выгнать — плевое дело… Одно — дорогая…
Доктор сначала и слышать не хотел о "последнем средствии", но так как отправка больного в лечебницу была для Кузьмы равносильна окончательному торжеству вселившегося в брата беса, он не мог в конце концов устоять против просьб. Кузьма, крепкий и суровый мужик, из холодных глаз которого, казалось, никакое горе не могло выжать ни слезинки, не раз плакал о брате, не стесняясь даже нашего присутствия… Ему казалось, что только по его оплошности, непростительной оплошности, "бешеный" брат был открыт нами и теперь неминуемо попадет в сумасшедший дом, то есть прямо в загребистые лапы антихриста. По его понятиям, если б он убил брата, изгоняя из него беса, это было бы неизмеримо меньшим грехом, чем тот, который он сделал, упустив "бешеного". И отчаяние его было так велико, что доктор не мог не сделать маленькой уступки предрассудку и позволил старичку, которого Кузьма почему-то называл дядей Раком, применить "последнее средствие", конечно, под условием не делать над больным никаких насилий.
Дядя Рак заперся один в комнате с больным. Сидел там более часу и все время, судя по доносившимся до нашего слуха звукам, бормотал какие-то молитвы. Ему вторил больной, который на этот раз говорил более возбужденно, чем всегда. Должно быть, присутствие возле него незнакомого старика его немного раздражало, и под конец сеанса он стал очень настойчиво требовать:
— Убирайся ты… Уйди ты…
Эти восклицания сопровождались очень крупными и энергичными ругательствами.
Дядя Рак вышел от больного обескураженным.
— Бес зело силен и упрям, — объяснил он свою неудачу. — Не иначе, как сам Верзаул… Один Верзаул гвоздевой воды не боится…
Вечером пришла монашка, жена "бешеного". Проститься с мужем, даже взглянуть на него она не пожелала — из боязни, что бес перейдет из мужа, все равно уже обреченного на погибель, в нее. Она только попросила позволения поговорить с дежурившим при нем стариком. Говорили они очень долго; монашка плакала, о чем-то просила старика и, должно быть, только тогда отпустила его, когда настояла на своем. Ушла она с довольным, хоть и попрежнему печальным видом. Потом пришел Кузьма тоже о чем-то секретно беседовал со стариком и тоже ушел домой более спокойный, чем прежде. Мне нужно было повидаться с ним, условиться относительно часа выезда назавтра, а он ушел, видимо, стараясь избегнуть встречи со мной. Я послал за ним сторожа, но Кузьма велел передать мне, что утро вечера мудренее. Было ясно, что составился какой-то заговор и что, кроме воды с гвоздя госпрдня, нашли "новое средствие". Но таинственность поведения окружающих больного лиц мне казалась очень подозрительной, и потому мы с доктором решили, что при больном эту последнюю ночь будет дежурить не старик, а больничный сторож.
Было уже довольно поздно, около одиннадцати часов вечера, когда я явился со сторожем в комнату, где находился больной. Он, казалось, спал, — лежал очень спокойно и не болтал. А старик стоял в углу на коленях и усердно, стукаясь лбом об пол, молился. Он не заметил, как мы вошли, и при нас продолжал шептать свои молитвы и, точно торопясь, отвешивал поклон за поклоном.
— Спиридон Афанасьич! — окликнул его сторож. Старик вздрогнул от неожиданности и очень быстро, совсем не по-стариковски, вскочил на ноги. Наш неожиданный визит, видимо, очень смутил его. Я объяснил ему цель нашего прихода и, разговаривая, подошел к больному. Мне хотелось пощупать его пульс.
— Не трожь! Не трожь!.. Спит он, не буди, — заволновался старик.
— Ничего, я тихонько…
Старик бросился ко мне — вероятно, с целью помешать мне посмотреть больного. Это меня очень удивило, но когда я взглянул на больного, я понял, в чем дело. Лицо "бешеного", удивительно кроткое и спокойное, хотя и мертвенно бледное, не имело на этот раз дикого и бессмысленного выражения. Оно, похудевшее, с страдальческими морщинами и складками на лбу и на щеках, дышало таким счастьем, какое может дать лишь успокоение после нескольких лет беспрерывных физических и нравственных страданий. Такое умиротворенное, блаженное лицо может быть только у мертвых… Я взял руку "бешеного", — она была холодна и безжизненна, пульс не бился.
— Никак помер? — спросил сторож.
Это было очень странно: "бешеный" физически довольно хорошо поправился за последние дни, и мы никак не могли ожидать такого быстрого исхода. Это обстоятельство, с одной стороны, и странное поведение старика — с другой, внушали очень неприятное и тяжелое подозрение. Уж не сделали ли чего с "бешеным" старик и Кузьма?
Пока я смотрел на мертвого, старик незаметно исчез из комнаты. Это тоже казалось подозрительным.
Я послал сторожа за Кузьмой. Тот пришел угрюмый, но спокойный.
— Божья воля, — буркнул он, когда я показал ему на труп. — Его теперича можно к нам перенесть?
Он избегал смотреть на меня и на мертвого и, получив утвердительный ответ, тотчас же ушел. Через полчаса он явился с тремя крестьянами. Они положили труп на носилки, сколоченные на живую руку, покрыли его рогожей и понесли. Сторож с фонарем посветил им с крыльца.
Шел мелкий, совсем осенний дождь, — ненастье все еще продолжалось. Было темно — так темно, как бывает только в беспроглядные осенние ненастные ночи. Ветер задул фонарь, и четверо крестьян с носилками на плечах точно нырнули в темноту. Шли они молча, тяжело шлепая по грязи.
Я, несмотря на поздний час и ужасную погоду, прошел к доктору. Он еще не спал.
— Да, дело нечисто, — сказал он, когда я ему сообщил о смерти "бешеного" и о своих подозрениях. — И нам с вами представляется такая дилемма: или оставить все без последствий, сиречь укрыть преступление, или закатать всю эту компанию, куда Макар телят гоняет… Если поступить согласно нашим чиновничьим обязанностям, мы должны донести, иначе мы совершим преступление по должности, а если рассуждать "по человечеству", надо укрыть… Они ведь уверены, что сделали доброе дело, и, пожалуй, проявили даже некоторый героизм в этом деле: риск попасться был им, поди, великолепно известен. А уж они во всяком случае не виноваты в том, что так запутались в суевериях, в предрассудках… Так как же, товарищ, заявим подозрение или нет?
Я не мот колебаться в решении: одно то соображение, что Кузьма всегда мог развязаться с братом, заявив полиции о его сумасшествии, и тем не менее целых два года мучился с ним и решился на преступление вовсе не из боязни наказания за истязания брата (о, в этом можно было быть уверенным!), — одно это соображение могло заставить меня ответить доктору:
— Нет, конечно…
— Руку, товарищ…
Это вышло немного торжественно, но ведь и мы рисковали.
Мы решили попытаться поговорить с Кузьмой начистоту, в надежде узнать наверняка, есть преступление или нет. И нам так хотелось выяснить это, что мы пошли к нему сейчас же, поздней ночью.
В избе Кузьмы, когда мы добрались до нее, был свет. Доктор стукнул в окно.
— Кто там? — спросил изнутри чей-то голос.
— Это мы… Доктор…
— Сейчас.
Нас впустили в избу только после четверти часа неприятного ожидания на грязной улице, под дождем.
Покойник лежал уже прибранный на столе. В его изголовье горели три тоненьких свечки. В избе никого не было, кроме Кузьмы и старика. Они были очень смущены нашим посещением и молча стояли посреди комнаты, опустив головы. Молчание длилось минуты две, — доктор не знал, с чего начать разговор.
— Слушайте, братцы, — наконец, сказал он, — мы подозреваем, что вы отравили больного. Если вы скажете нам правду, мы никому об этом не заявим… Все будет шито и крыто.
Кузьма и старик ничего не ответили. Томительное молчание, напряженное, невыносимое, тянулось долго, долго…
— Вы меня знаете, братцы, — опять заговорил доктор, — коли я обещаю, — я сделаю… Если вы скажете правду, никто, кроме нас четверых, ничего не узнает.
И опять молчание…
— Отравили, — сказал, наконец, Кузьма глухо, почти шепотом {Считаю нужным заметить, что недоверие, проявляющееся иногда в таких ужасных формах, крестьяне (да и не они одни) питают лишь к психиатрическим лечебницам. Больницы другого рода, непсихиатрические, и их врачебный персонал, напротив, приобретают все больше и больше доверия со стороны народа. Это и понятно: вся их деятельность на виду, их польза очевидна, и потому всякие сомнения в добрых намерениях врачей исчезают очень быстро, и так же быстро сознается несостоятельность 'своих средствий' в сравнении с искусством врача. Забываются суеверия, — вера в печать Антихристову, под которой нужно разуметь знаки, остающиеся после привития оспы, поддерживается теперь почти исключительно 'староверами'… С психиатрическими лечебницами дело обстоит иначе: во-первых, процент выздоровлений там так ничтожен, что крестьянину вполне позволительно сомневаться в их пользе, а во-вторых, то обстоятельство, что каждая из них обслуживает очень большой район и для жителей более или менее отдаленных от нея местностей кажется уже довольно таинственным заведением, дает возможность строить о лечебницах самые фантастические предположения.}.
ПРИМЕЧАНИЯ
Печатается по тексту публикации в журнале "Русское богатство", 1903, № 3.
В настоящем сборнике перепечатывается только первая часть повести, имеющая относительно самостоятельный, законченный сюжет. Во второй части положительный герой, через призму восприятия которого передаются явления действительности, осматривает сумасшедший дом, встречается с новыми людьми.
ЛЕТНЕЙ НОЧЬЮ
Уже поздно — одиннадцатый час, а у Спиридона Леванина только еще ужинают. За столом сидит его жена, Елена, и лядащий мужичонко Касьян, который служит у Спиридона в батраках. У Спиридона, заводского рабочего, нет времени для работы по хозяйству, и потому он в горячее время года нанимает батрака. Самого Спиридона нет, — сегодня он загулял и потому вернется домой не ранее полуночи. Елена надеялась было, что он вернется рано, и по возможности оттягивала время ужина, но потеряла надежду и решила поужинать без мужа. Она сердито ходит от стола к печке, сердито ест и так же сердито рассказывает Касьяну новости заводского дня.
— Митрий опять бабу избил… Сегодня в бане показывала, — места живого не осталось, синяк на синяке.
— Дикая сторона! — вздыхает Касьян. — Сибирь-матушка…
Касьян — из "Расеи" и потому к заводу, его населению и жизни относится с презрением. Говорит он "по-расейски", на "а", и его мягкая речь резко отличается от грубого голоса Елены, жестоко упирающей на "о".
— Арина жалиться хочет, — продолжает Елена. — Не могу, бает, больше терпеть, он меня, бает, жизни решит… Это, бает, супостат, а не муж… Да и что в самом деле терпеть от всякого идола?
Этот вопрос довольно сильно задевает и самое Елену: Спиридон во хмелю тоже дает рукам волю.
— Да на них, чертей, и управы-то не сыщешь. Вон Петровна намедни мужа с сударкой в леске накрыла. Ну, пожалилась старшине: закон, дескать, муж нарушает. "Поучи, бает, будь отец родной, посади ты его, анафему, хоть дня на три в холодную. Да и сударку-то тоже поучил бы, потому с чужими мужьями спать тоже закону нет…" А старшина и удумал: возьми и посади в темную и мужика и сударку, да обоих вместе… Ну, не язва?.. Петровна — к земскому: так и так, мол. А земский руки в боки да ха-ха-ха… Над нами же и смеются…
Физиономия Касьяна расплывается в улыбку, но он благополучно побеждает некстати охватившую его смешливость, качает головой и опять вздыхает.
— Дикая сторона… Сибирь-матушка… В Расее этого нету.
Елена рассказывает еще один эпизод из вековечной войны баб с мужьями и опять приходит к выводу, что на них, нынешних мужиков, управы нет и что бабам в нынешнее время житье — чистая каторга.
— Что же ты не ешь ничего? — перебивает ее Касьян.
— До еды ли тут… Ты думаешь, он какой придет? Зверь ведь зверем…
Трапеза приходит к концу. Касьян широко крестится и вылезает из-за стола.
— Покорно благодарю за хлеб, за соль, — говорит он. — Сибирь-матушка!.. Не люди, а звери. Ровно волки… Не то что мужики, а мальчишки-то — чистые разбойники. Его от земли не видать, а он уж что-нибудь супротив тебя злоумышляет… Намедни я еду с дровами, а мальчишка давай в меня камнями пушить. "Эй, — кричит, — расейска вошь!" Посейчас рука ноет… Проклятой от бога народ…
Касьян глубоко, от всей души ненавидит окружающий его проклятый народ. А заводская публика отплачивает ему той же монетой: "не наш, расейский". Всегда, когда Касьяну приходится сталкиваться с толпой мастеровых, из толпы обязательно раздается окрик:
— Эй, расейская вошь! Куда ползешь?
И обязательно кто-нибудь из той же толпы отвечает дискантом:
— В Черноземский — кормиться: у нас хлеб не родится…
В толпе хохот, а потом кто-нибудь сердито кричит:
— Не ходи близко! Шею намылим!.. Переломаем ребра-то…
И эти изо дня в день повторяющиеся сцены глубоко возмущают Касьяна и крепко задевают его самолюбие: как-никак, а. сюда он, действительно, пришел кормиться. Что поделаешь, коли земля не родит, отощала?.. И, пожалуй, они действительно намылят шею и переломают ребра. От них станется: не люди, а звери… И Касьян ждет — не дождется, когда он выберется с этого проклятущего Урала на свою сторонку, которой он теперь никогда не оставит. "С голоду помру, а своей стороны не спокину", — думает он. К осени, бог даст, получит он заработанные у Спиридона деньги — и поминай тогда, как его, Касьяна, звали…
Касьян садится на скамейку возле двери и энергично чешет о косяк спину.
— У вас и блоха, прости господи, злее… Рыжая…
Елена не слышит его замечания: она оперлась руками о подоконник и тоскливо смотрит в низенькое окно — в темноту ночи.
— Эх, где-то мой Спиридонушка, черт окаянный, хороводится?.. Кабы знать да ведать, нешто пошла бы замуж? Спала бы я теперь спокоичком у мамыньки, а тут вот пьяного мужа домой жди. День-деньской бьешься-бьешься, маешься-маешься, да и ночью спокою нет… А пьяный придет да ни за что, ни про что изобьет…
Елена утирает слезы.
— Что и говорить, бабье житье не сладкое, — сочувственно вздыхает Касьян.
— Хоть петлю на шею!.. — плачущим голосом продолжает Елена. — Хороводится там, леший, с какой-нибудь шлюхой… Знаю я эту сударку… Нечего сказать, хороша… Она его и растравляет на меня… Придет домой, как зверь… Ну-ка, перенеси… господи, господи!..
Елена плачет. Касьян, кряхтя, поднимается с лавки.
— Ох, грехи, грехи…
И медленно, точно нехотя, кряхтя и почесываясь, выходит из избы на двор…
На дворе темно и тихо. Слышно только легкое похрапывание и фырканье лошади да повизгивание щенка в дальнем углу. Пахнет свежим, сегодня привезенным с поля сеном. Оно тоже издает легкий шум, легкий и сухой шелест и такое же сухое и нежное потрескивание.
Касьян подходит к лошади и легонько хлопает ее ладонью по спине. Она повертывает к нему голову, спокойно глядит на него с полминуты, не переставая жевать, и отворачивается.
— Ешь, ешь с богом! — хлопает ее еще раз Касьян и лезет рукой к яслям, посмотреть, довольно ли там сена. Потом он выходит за ворота и усаживается на свое любимое место — на завалинку, где он сидит каждый вечер после ужина. Сидит и мечтает о далекой "Расее", считает дни, которые ему остается провести в разлуке с родимой сторонкой, соображает, с какими капиталами он в нее явится.
— Лето, а темень какая… И добро бы дожжа была, а то и дожжи нет и неба чистая, а темень, как у шайтана за пазухой… Самый непутевый клеймат! — озирается по сторонам Касьян, устраиваясь поудобнее на своем месте. Устраивается — и погружается в раздумье. Сначала он думает, что бабы напрасно жалобятся на судьбу и мужей, потому что и сами они не бог весть какие угодницы; потом соображает, много ли ему остается свезти с поля сена и, наконец, переходит к любимой мечте. Трудовой день кончен, о мамоне похлопотали достаточно, — можно доставить душе удовольствие.
Из "Расеи" Касьян ушел только в прошлом году, но уже и теперь она ему рисуется какой-то волшебной страной с молочными реками и кисельными берегами. И это — несмотря на то, что выжила его из "Расеи" нужда: измаяли мужики землю, разгневали и ее, и небо, и бога, и перестал бог давать благословение на урожай, и небо не давало дождя, а земля — ни трав, ни хлеба. И что ни год, то все хуже и хуже, — и жить стало невмоготу. Начались среди мужиков разговоры о переселении, и поползли они, как муравьи, в разные стороны от своей деревни. Кто навсегда, продавая землю и домашность, кто — на время, заколотив только наглухо свою избенку. Наговорил Касьяну один знакомец о том, как легко добываются в Сибири и на Урале деньги, — и Касьян тоже решил уйти из деревни на год, на два, сходить на Урал за деньгами. Тем временем и землица его отдохнет, и господь, может быть, смилостивится, и вернется он не с пустыми руками.
Ушел, добрался до Урала, который оказался вовсе уж не таким золотым, каким представлял его себе Касьян, — и затосковал. Давила его здесь природа: и эти нависшие горы, и этот колючий, серьезный и угрюмый лес, и это темное неласковое небо. Давили его и здешние люди, грубые и насмешливые: он, с его мягкой речью и странными манерами, казался им чужим и смешным. Его не любили, над ним издевались… И скоро опротивел Касьяну Урал — и он мечтал о родной стороне, как узник мечтает о свободе.
Нет, должно быть, на свете стороны милее "Расеи". Там все лучше, ласковее, роднее… Положим, Касьян — бобыль, и в "Расее" у него нет никого близких, но ведь тем более он должен сродниться со своей сторонкой.
Да, в "Расее" все лучше. "Клеймат" там чудесный, мягкий и ласковый, народ, в сравнении с здешним, — ангелы… Касьян воображает себя в своей деревеньке: тепло, хорошо, нет этакой темени, кругом не сердитые, ощетинившиеся неприветливым ельником горы, как здесь, а привольное, широкое и веселое поле. С него доносятся крики перепелов, дергача (ах, милая птица: дерг, дерг!.. здесь ее нет: "клеймат" не дозволяет), кругом — все свое, родное. Где-то вдали поют песню, не здешнюю, разбойничью, а унылую и стройную, умную песню. Поют не все хором, как здесь, а запевает сначала один, лучше всего — баба, и ее голос, сначала неуверенный и слабый, мало-помалу крепнет и звенит все громче и громче… И сколько в нем, в этом голосе, родной печали, родного томленья…
Выходили на дорогу три молодца,
Трое братьев родимыих…
Вот подхватывают мотив еще несколько голосов, мужских и женских, и песня льется широко и привольно, как льются "расейские" реки…
Смотрели они в разны стороны,
Нет дороженьке конца-краю…
Каждое коленце песни неизбежно кончается протяжной, замирающей нотой; мужской голос стелется низко-низко, по самой земле, припадая к ней и плача над ней, а женский звенит безысходной печалью под самым небом и теряется, и замирает где-то высоко-высоко в тоскливой мольбе… Слушаешь эту родную песню — пробирается до самой души печальный напев, и плачет душа, и рвется за песней… Эх, нешто здесь, на Урале, может кто понимать "расейскую" песню?
Да, в "Расее" все лучше… Вспоминается Касьяну его заколоченная избенка в конце длинной и беспорядочной деревенской улицы. Избенка покривилась немного на один бок и, как старушка, всем своим дряхлым телом налегла на костыль, чтобы не упасть. На ее крыше теперь прорастает, поди, трава; скудный забор вокруг нее, вероятно, растаскали зимой на дрова, — и стоит она сирота-сиротой, без хозяина… А хозяин ушел в чужедальнюю сторонушку поискать себе доли — и живет среди чужих людей, и вздыхает по своему углу…
Посмотрели братья на дороженьку — призадумались:
Эх, куда же ты, дороженька, ведешь?
Эх, чего бы не дал Касьян за удовольствие взглянуть, хоть одним глазком, на свою старушку-избенку, посидеть, хотя с полчасика, не на чужой, а на своей завалинке!..
Здесь, на заводе, только одно напоминает немного "Расею", — вот эти отрывистые, сухие и звонкие звуки сторожевой колотушки, доносящиеся с того конца длинной заводской улицы. Они приближаются, становятся громче, — сторож поднимается вверх по улице. Он то стучит монотонно и равнодушно — и звуки несутся ровные, один за другим, то начинает колотить нервно и торопливо — и звуки летят беспорядочно и бестолково, точно в испуге обгоняя друг друга, то слабые, то сильные…
Вот они уже совсем близко, из темноты вырисовывается сгорбленная фигура сторожа. Он подходит к Касьяну и перестает стучать.
— Сидишь, полуношник?.. Все, чай, об Расее думаешь? Доброе здоровье!
Слова сторожа звучат насмешливо и добродушно. Он привык каждую ночь находить Касьяна на завалинке и всегда просиживает с ним час-другой. Оба они — бобыли, оба — не здешние, оба — не спят по ночам, — причин взаимной симпатии много.
— Караулишь?.. Воров пугаешь? — в тон сторожу спрашивает Касьян. — Здравствуй…
Сторож присаживается рядом с Касьяном.
— Ночью что-то тихо, — говорит он. — Вчера вот, не-приведи господи, что было. Головорез-народ… Из году в год все хуже… А с кого спрос? С меня — что не углядел… Ворота кому намажут — я виноват; человека изрежут — опять я… А разве в этакую темень углядишь? Да и углядишь, не сунешься — не об двух головах… Головорез-народ…
— Сибирь-матушка…
— Ну, опять затвердила сорока Якова одно про всякого.
Молчание.
— Комар, чтоб те треснуть! — хлопает себя по руке Касьян. — Здесь и комары-то не как в Расее, — добавляет он, помолчав. — Одно звание, что комары… В Расее комар-то, что твой котенок. Как бык, гудет.
— Ну, уж ты… Понес! — улыбается сторож.
— Ей-богу, право… Уж на что паскудная тварь — лягушка, а и та в Расее чище.
Касьян немного горячится, что с ним бывает всякий раз, когда он рассказывает о "Расее" и когда ему не верят. Он и сам чувствует, что немного пересаливает, и в силу этого говорит еще с большей горячностью и даже божится, чтобы доказать хотя этим правдивость своих слов. Он вскакивает и, показывая руками невероятные размеры "расейских" лягушек, горячо говорит:
— У нас лягушки — во… По картузу, господь с ними…. По траве-то значит, как лошади сигают… Бух, бух… Ей-богу, право…
— Чего и баять, — смеется сторож. — А что огонь у вас в избе-то? — дает он разговору другое направление: разговоры о "Расее" ему почему-то неприятны.
— Спиридона нету. Загулял, должно.
— А-а… Плохо живут. У бабы-то, значит, грех был до свадьбы, — ну, конечно, Спиридону и неприятность. Му-жик-от он гордый… Как пьяный напьется, значит, так и давай бабу учить… А что уж — не вернешь… Опоздал малость с наукой-то.
— Э-эх, жисть! — вздыхает Касьян.
— Да, брат, жисть… Там дерутся, здесь ругаются, тут блудят, воруют, — тут и жисть вся. Конец, должно, скоро… Перед концом это. Народ болтает: знамение уж было… Да… Днем, значит, работают, а как ночь — и начинается. Ночью живут, потому днем не до жизни. Много я насмотрелся… и так надо говорить — жисть теперь нестоющая… По нынешним бы временам первейшее бы дело в пустыню идти, чтобы, значит, людей звания не было, да где ее найдешь, пустыню-то? Везде напакостили, везде торчат. Сторож говорит неспокойно, даже как будто сердито.
— В Расее не так, — начинает было Касьян, но не развивает своей мысли, так как уже знает, что сторож не верит в возможность хорошей жизни на земле и что разговоры о "Расее" его раздражают, хотя он ничем и не выказывает этого.
— Что там Расея… Везде одно… Довольно я насмотрелся… Жизнь прожить — не поле перейти, всего навидался… В старину, бают, лучше было, да кто знает. Тут, значит, живешь, небо коптишь, счастья не видишь, а на том свете — в ад милости просим, жил неправильно. Э-эх-ма!.. Плохо, брат Касьян.
Молчание.
— Спокой человеку надобен, — нарушает его Касьян. — И чтобы на своей стороне…
— Губы-то у тебя не дуры… спокой!.. Нет, тебе говорят, человеку спокоя ни на этом, ни на том свете. Праведники — ну, тем, конечно, другая планида, а нам, Касьянушка, лучше бы, значит, и не жить вовсе.
— Ежели бы на своей стороне, так еще туда-сюда… Можно бы…
— В пустыню бы вот, говорю, уйтить, да… У меня старший брат ходил в пустыню-то… Да, видно, кому положено от бога спастись, тот спасется, а кому не положено — тут уж как ни бейся, ничего не поделаешь… Ушел, значит, брат в пустыню, в лес, землянку себе сочинил и начал было спасаться…
— Ну?
— Ну и не выдержал: недели через две назад пришел, в мир… Искушения не выдержал: черненькие запугали. Однова, говорит, в лесу напали да давай рогами. Чуть насмерть не забодали, да, говорит, сжалился господь, привел на ум воскресную молитву… А то раз ночью приходят к нему в виде как бы две девицы. "Пусти, — говорят, — ночевать, дедушка, потому как шли и заблудились, а в лесу ночью боязно". А дело было зимой, а они чуть не нагишом… Великий был соблазн… А в дверь каждый день ломились. Да мало ли чего было… Ну и не выдержал: ежели ведь одного черта встренешь, и то, чаи, с перепугу подохнешь; а ну, как они десятками да сотнями перед тобой орудовать начнут, мудровать всячески?.. Так оно, значит, и выходит: в миру от людей не спасешься, а в пустыне — от чертей… Куда ни кинь, везде клин: в миру от людей тесно, в пустыне — от чертей. Ни к чему все выходит… Как там ни бейся, а все равно…
Где-то вдали раздаются звуки гармоники и пьяные голоса. Сторож обрывает свою неспокойную речь и прислушивается.
— Вот-те и Спиридон идет! — замечает он.
Пьяная толпа, повидимому, приближается, — звуки гармоники становятся все громче и громче. Пьяный хор на всю улицу горланит песню. Мотив у песни странный… Походит на то, как будто кому-то понадобилось в коротенькой и бойкой музыкальной фразе выразить великую и отчаянную жалобу, неисходную тоску. И потому издали песня кажется как будто веселой, а вблизи — тоскливой до холодного отчаяния. Кажется, что давно подавляемое горе проснулось в пьяных сердцах и выливается в диких и пьяных криках…
Посмотрю на свово сына,-
Сердце оборвется…
Пьяные голоса точно обрубают последнюю ноту, гармоника подхватывает мотив… Низкие минорные тоны… но они кричат и чередуются друг с другом быстро-быстро, точно в разудалой, плясовой песне… Это — пьяное рыдание, это — ужас перед судьбой, это — беспросветное, полусумасшедшее отчаяние…
А потом опять нестройно орут пьяные голоса:
Та же горькая судьбина
Ему достается…
— Спиридон и есть, — различает Касьян в хоре голос своего хозяина. — Дюже весел… Будет бабе…
Толпа с пеньем и криком проходит мимо. От нее отделяется темная фигура и, шатаясь, приближается к собеседникам.
— Кто сидит?! — раздается сердитый и хриплый окрик. Кажется, что Спиридону нужно сорвать на ком-нибудь свою злость, и своим вызывающим окриком он хочет вызвать такой же задорный и злой ответ.
— Это я… мы… — робко отвечает Касьян.
— Вы, черт вас дери… А по какому полному праву огонь в избе горит… без хозяина? — опять придирается Спиридон. Касьян молчит.
Спиридон, ругаясь, вваливается в ворота и с шумом, что-то роняя по дороге, проходит в избу. Касьяну и сторожу сначала слышно только, как Спиридон ругается, а потом до слуха доносится дикий крик Елены:
— Убил!.. Уби-ил… Добрые люди-и…
Касьян вскакивает. Он крепко струсил и дрожит.
— Убьет бабу… — шепчет он. — Дюже весел…
— Не наше дело, — спокойно удерживает его сторож. — Семейное дело… Ох, грехи… грехи! Ихнее дело… Уйтить от греха… Ишь, как кричит… Со всех печеней кричит…
Он поднимается и, побрякивая колотушкой, уходит. Крики в избе затихли: не слышно ни Спиридона, ни Елены. С полминуты тянется неприятная тишина, а потом слышно, что в избе опять начинается какая-то возня. Что-то упало с треском и звоном… Кто-то рычит, как зверь… Потом заглушённый и отчаянный стон…
Касьян в ужасе бежит в избу. На крыльце он сталкивается со Спиридоном.
— Тебя куда черт несет? — рычит он на Касьяна.
Касьян еле держится на ногах от здоровенного удара по голове. Он быстро сбегает с крыльца и выбегает на улицу.
— Господи… Упаси, господи… Борони, господи… — бормочет он. Он не знает, что ему делать, и в изнеможении опускается опять на завалинку. Немного погодя, выходит за ворота Спиридон и, тяжело дыша, садится рядом с Касьяном.
— Ничего, отдышится… не впервой, — говорит он.
Касьян, собственно говоря, тоже склоняется к этому мнению, — он живет у Спиридона почти месяц и уже четвертый раз наблюдает сцену его мести, которая повторяется, как по стереотипу, каждую субботу. "Прошлые разы отдышалась, отдышится и теперь… Бабы — народ живучий…" Тем не менее ему жаль бабы, и он робко говорит Спиридону:
— Напрасно ты ее этак… Жалко бабу-то…
— Не блуди! — отрывисто и сердито отвечает Спиридон. — Будет, нахлебался я сраму-то.
— Алена, будто, ничего живет… Честно, благородно…
— Много ты понимаешь… Честно, благородно… Когда девкой была, у управителя жила — раз. С Ванькой таскалась — два… Честно, благородно!..
Молчание. Касьян опять погружается в раздумье. Мало-помалу его мысли принимают определенное направление: на завалинке он может думать только о "Расее"… Опять встает перед его глазами заколоченная сирота-избенка, улица родной деревеньки… Спиридон сидит, тяжело дыша и вздыхая, и тоже о чем-то думает.
Где-то кричит петух. Ему отвечает другой, третий…
— Идтить уснуть, — поднимается Касьян с завалинки и уходит во двор. Там, в углу, в санях, помещается его ложе. Он укладывается спать, долго ворочается с боку на бок, но уснуть не может. Его воспоминания и мечты о далекой "Расее" перешли в тихую и сладкую грусть. Щемит сердце и как будто хочется плакать… Касьян тихонько затягивает песню. Он выводит один только мотив, заунывный, тоскливый, настоящий "расейский"… От пенья ему становится еще грустнее; он чувствует, как по его щеке пробежала слезинка. Слезы слышны и в его мелодии.
На дворе раздаются шаги. Это, должно быть, Спиридон пробирается на сеновал, тоже спать. Касьян обрывает свою песню: он не любит, когда другие замечают, что он плачет… Им овладевает дремота.
Тишина. Небо заметно побелело.
ПРИМЕЧАНИЯ
Г. БЕЛОРЕЦКИЙ (Г. П. ЛАРИОНОВ)
Григорий Прокопьевич Ларионов родился 19 января 1879 года в Белорецком металлургическом заводе на Южном Урале. Отсюда и его псевдоним — Белорецкий, которым подписаны все его произведения. В те годы Белорецка, как города, еще не было, существовал около завода небольшой рабочий поселок. Здесь и прошло детство будущего писателя. В Белорецком поселке он окончил начальную школу, получив похвальный лист за отличные успехи. Затем Г. П. Ларионов учится и успешно кончает гимназию в Уфе. В школе и в гимназии Григорий Прокопьевич выделялся своими отличными способностями. Он занимался изданием рукописного литературно-художественного журнала, в котором помещал свои рассказы, очерки и стихотворения. К сожалению, эти журналы не сохранились.
После окончания гимназии Г. П. Ларионов решает стать врачом и поступает в медико-хирургическую академию в Петербурге. Он продолжает свои литературные опыты и завязывает довольно близкое знакомство с журналом "Русское богатство" и лично с В. Г. Короленко, поэтом П. Ф. Якубовичем-Мельшиным и другими. За время учебы Г. П. Ларионов почти все летние месяцы проводит на практике на Урале и в станицах Оренбургской губернии, часто навещает родной Белорецк. Он мечтает работать на Урале. Но это ему не удается. В начале русско-японской войны его призывают в армию. Г. П. Ларионов служит в санитарной летучке при одной из казачьих частей, участвует в боях. Почти в самом конце войны он получает тяжелое ранение — пулей в грудь.
В короткие минуты передышки Г. П. Ларионов пишет очерки и рассказы о русско-японской войне. Они печатаются в журнале "Русское богатство".
После окончания русско-японской войны писатель возвращается на Урал, некоторое время живет в Белорецке, ходатайствует о получении места врача. Но местные власти отказывают ему в этом. Тогда он уезжает в Петербург, занимается подготовкой к изданию своей книги рассказов и очерков. В 1906 году его книга "Без идеи" вышла в издании журнала "Русское богатство". Но вскоре она была запрещена царской цензурой и затем уничтожена. Судя по некоторым данным, имя автора было занесено в "черные списки". Полиция устанавливает за писателем неусыпное наблюдение. Все это приводит его к тяжелому нервному расстройству. В 1913 году его мрачные настроения значительно усилились. Г. П. Ларионов видел, как ненавистное самодержавие лихорадочно готовилось к трехсотлетию дома Романовых, что оживило черносотенные настроения эксплуататорских классов. Известно стало, что дума постановила ассигновать на празднование полмиллиона рублей. Трудящиеся активно протестовали против подготовки и проведения этого праздника. В начале марта в здании Калашниковской биржи в Петербурге, а затем на улицах прошли демонстрации протеста. В связи с этими событиями были выпущены революционные листовки.
В день пышного празднования трехсотлетия дома Романовых — 6 марта (21 февраля ст. ст.) 1913 года — Г. П. Ларионов покончил жизнь самоубийством. Надломленный морально и физически, он как бы демонстративно ушел из жизни именно в день этого "праздника". Так, в самом расцвете таланта оборвалась жизнь этого даровитого писателя.
* * *
Многие очерки и рассказы Г. П. Белорецкого (Ларионова) посвящены родному Уралу, жизни и быту крестьянства и рабочего класса Оренбургской губернии. На примере Белорецкого завода, на примере деревень, затерянных в горах Южного Урала, он видел тяжелое положение народа. Молодой писатель старался понять и описать жизнь такою, какою он наблюдал ее непосредственно.
В 1901 году Г. П. Ларионов начинает активно сотрудничать в газете "Россия", издававшейся в Петербурге, и одновременно — в газете "Уральская жизнь", выходившей в Екатеринбурге. В "России" он помещает большую статью "Заводская частушка", которая затем неоднократно перепечатывалась в центральных и губернских изданиях. Перепечатана она была и в "Уральской жизни". В этой же газете он печатает статьи: "Несколько слов о заводской частушке", "Один из назревших вопросов" — о ненормально высокой смертности в России вообще и в Приуральских губерниях, в частности (статья печаталась в трех номерах газеты), "О выставке художника Денисова", рассказы "Страдалец" и "Юбилей" из цикла "Педагоги" и другие произведения.
В очерке "Сказитель-гусляр в Уральском крае", опубликованном в "Русском богатстве", вырисовывается привлекательный образ лирического героя, который во многом автобиографичен, но содержит в себе некоторые обобщенные черты молодых людей того времени, связанных с народом, не только думающих о его лучшей доле, но и вступивших в борьбу против темноты и невежества, ищущих в народе опоры и поддержки.
"Мы победим судьбу, мы общими усилиями просветим темное царство, мы не падаем духом", — старался я подбадривать себя, а в глубине души вставали грозные призраки темных препон для борьбы с темным наследием веков, и борьба казалась далеко превосходящей наши силы…" — думает герой. В это время он слышит родные мотивы народной музыки, народные песни и понимает, что именно в народе таятся могучие, неисчерпаемые силы протеста, гнева и борьбы за лучшую долю, за человеческое счастье. "И вдруг нежная, медлительная мелодия сменилась бурными и гневными, протестующими аккордами. Переполнилась чаша, и нет сил больше терпеть — и нет места кротким жалобам, когда делается последняя попытка добыть себе счастье…" Настроению героя сопутствуют выразительно написанные картины непогоды, ненастья. В этой обстановке сильнее звучит бодрая музыка, пробуждаются лучшие настроения и думы о будущем, ярким огнем вспыхивает мечта о счастье. В этом очерке интересны также образы крестьян, образ народного певца-сказителя.
Очерк "Заводская поэзия" {Впервые опубликован в журнале "Русское богатство", 1902 год. В настоящем сборнике печатается в приложении.} обладает высокими научными достоинствами, злободневностью, политической остротой. Г. Белорецкий, объясняя возникновение и происхождение заводской поэзии, глубоко и внимательно рассматривает различные стороны заводского быта. Все, о чем он пишет, он слышал и видел сам.
В дореволюционной легальной большевистской газете "Правда", выходившей под названием "Путь правды", 6 апреля 1914 года на первой странице была помещена интересная статья под названием "Рабочая поэзия". За небольшим исключением она была почти вся посвящена материалам Г. Белорецкого, собранным на белорецких заводах. "Правда" писала:
"В этом очерке мы поведем речь не о стихотворениях, вылившихся из-под пера того или иного поэта-рабочего, а о тех поэтических произведениях, которые явились продуктом коллективного творчества рабочих масс. Мы будем говорить здесь о песнях, стихотворениях и частушках, сложенных сообща неизвестными авторами.
Всякая народная, в том числе и рабочая, поэзия складывается таким образом, что начатое одними дополняется другими, изменяется третьими и заканчивается четвертыми лицами. Какой-нибудь местный житель или проезжий собиратель-этнограф записывает песни, и таким образом коллективное сочинение попадает в печать. Эти записи, помимо художественного интереса, служат весьма ценным материалом для характеристики настроения масс и их отношения к различным вопросам окружающей жизни".
Очень правильно и метко определив характер народного творчества, "Правда" раскрывала его содержание, как отражение настроений масс, именно — рабочих масс. Она подчеркивала, что "жгучие противоречия капиталистического строя, жестокие несправедливости хозяйского и начальнического произвола, все тяготы рабочего бытия — все это нашло здесь весьма выпуклое изображение".
Дальше "Правда" приводит частушки, записанные Белорецким: "Распроклятый наш завод…", "Управитель наш подлец", "Ах ты, маменька родима…" и другие. "Правда" указывает, что в этих песнях"…рабочий активно и резко протестует против чудовища-вампира, калечащего и убивающего людей", то есть против капитализма. В народных песнях не только раскрываются картины жестокой эксплуатации, но и указываются перспективы революционной борьбы. "Во многих коллективных стихотворениях и песнях, — писала "Правда", — громко звучат призывы к созданию, известными способами, светлой жизни на новых началах". В легальной подцензурной газете трудно высказаться яснее: почти все читатели понимали, что в данном случав речь идет о революционной борьбе и пролетарской революции.
К моменту опубликования очерка Г. Белорецкого на Урале и в том числе в Белорецке, Тирляне и других местах уже проводились первые нелегальные маевки, передовые рабочие активно втягивались в революционное движение. Однако в силу цензурных условий революционные мотивы не нашли отражения в очерке Г. Белорецкого.
Вероятно, они были известны Г. Белорецкому, но опубликовать их тогда в легальной печати не представлялось возможным.
К очеркам и статьям об уральской жизни тематически примыкают два рассказа Г. Белорецкого: "Поздней осенью" и "Летней ночью", опубликованные под общим названием "Уральские этюды". Они знаменуют собой новый этап в развитии творчества Г. Белорецкого, показывают рост и совершенствование его художественного мастерства.
В рассказе "Поздней осенью" писатель нарисовал колоритные картины жизни и быта углежогов, картины их тягчайшего труда. Здесь действуют четыре углежога: дядя Аким, его племянник Семен Косых с женой Марьей и нанятый на сезон работник — башкир Хайритдин.
Главный мотив рассказа — недовольство тяжёлой жизнью, тоска по лучшей доле, по хорошей жизни. Тревожное настроение создают и картины осеннего пейзажа, нарисованные уверенной рукой мастера художественного слова. Пейзаж используется автором как один из способов более глубокого раскрытия характеров и настроения персонажей рассказа. В приемах изображения пейзажа видна также авторская оценка условий жизни, его мечта о человеческом счастье, его тоска о хороших человеческих отношениях.
В рассказе "Летней ночью" нарисован выразительный образ батрака Касьяна, безземельного крестьянина, пришедшего на Урал, или, как он выражается, в "Сибирь-матушку", чтобы заработать хоть немного денег.
Образы Хайритдина и Касьяна — большая удача автора. В лице этих безземельных и обездоленных крестьян автор показал типичный путь формирования основных кадров рабочего класса на уральских заводах, как эти кадры начали складываться в конце XIX и в начале XX века. Хайритдия и Касьян еще не работают непосредственно на заводе. Но они уже вошли в среду заводских рабочих. В "Уральских этюдах" Г. Белорецкий коснулся важных вопросов жизни трудового народа. Художественно ярко и убедительно нарисовал он и картины родной уральской природы, дела и думы простых людей.
В повести "В сумасшедшем доме" Г. Белорецкий с большой любовью и вниманием описывает маленькие степные деревеньки, разбросанные по широко раскинувшемуся Оренбургскому краю. Но описание это не убаюкивает, а настораживает. В этой обычной обыденной жизни происходит необычное и страшное. Здесь показаны подлинные горести деревни, тяжкие муки и страдания. С документальной убедительностью нарисованы картины деревенской жизни, выразительно и точно охарактеризовано состояние психического больного, процесс его болезни. Больной умирает, но его смерть показана как гибель человека в результате темноты и невежества, в результате тяжелых социальных условий деревенской жизни. Высоким чувством гуманизма и сердечного сострадания проникнуты эти страницы повести.
Трагедия больного и его семьи, казалось, пришла к своему концу. Но писатель ведет читателя еще дальше. Он хочет вскрыть некоторые реальные причины того, что произошло в одной деревне. Так писатель делает естественный, логически оправданный переход ко второй части повести, посвященной описанию психиатрической больницы, так называемого сумасшедшего дома.
Внешне спокойно, сдержанно показывает писатель одну за другой картины сумасшедшего дома. Он ведет читателя из одного корпуса в другой, из палаты в палату, показывает людей разных возрастов, различных социальных групп: крестьян, чиновников, дворян. И в каждой картине, нарисованной писателем, видны накипевшие, готовые прорваться слезы, горечь и сердечная боль за судьбу человека, за все доброе и прекрасное, просто человеческое, что погибло в этих людях.
И все же повесть по существу оптимистична. Удачен в ней образ студента Иванова, будущего врача, которого не испугали страшные картины, а наоборот, еще больше закалили его волю к жизни и борьбе. По всему видно, что он не остановится на полдороге, не свернет в сторону с избранного тяжелого пути. Такие люди победят мрак и темноту, переделают жизнь. А ее надо обязательно изменить и перестроить.
Тяжелая доля народа открывалась перед Г. Белорецким во всей своей страшной определенности. Социальные условия обрекали трудовой народ на голод, нищету и болезни. Писатель-врач ясно видел и понимал всю тяжесть избранного им пути. Но то, что ему скоро пришлось увидеть во время русско-японской войны, на полях далекой Маньчжурии — все это значительно превзошло его впечатления от тяжелой горнозаводской и крестьянской жизни Южного Урала и Оренбургского края.
Основной герой его произведений о русско-японской войне — это передовой, просвещенный, демократически-революционно настроенный человек, который отчетливо видит гнилость и продажность реакционного царского офицерства, сердечно любит простого русского человека, солдата, понимает его. Герой очерков и рассказов Белорецкого много и мучительно думает, размышляет по поводу того, что он видит на войне. Ему неясны причины и истоки этой войны, кое-что он видит и воспринимает излишне односторонне или иногда даже несколько пессимистически. Его герой не видит выхода из тяжелого положения, созданного войной, думает о мирной и счастливой жизни, но не знает, как ее создать.
Обо всем этом Г. Белорецкий просто и хорошо рассказал в своем большом произведении "На войне", опубликованном в двух книжках "Русского богатства" (за февраль и март 1905 года). Это документальная очерковая повесть, написанная по горячим следам русско-японской войны, как бы записная книжка умного и вдумчивого наблюдателя-очевидца.
Повесть появилась в журнале изуродованная царской цензурой. Многочисленные многоточия внутри глав остались, как немые, но красноречивые признаки того, что здесь расправился с живым словом карандаш свирепого цензора. Только в дни революции 1905 года удалось Г. Белорецкому издать свои записки о войне, но уже под другим названием.
Книга Белорецкого "Без идеи" вышла в конце сентября 1906 года, а в "Книжном вестнике" № 39, от 3 октября, в разделе "Книжные аресты и конфискации", уже сообщалось, что "согласно определению С.-Петербургской судебной палаты конфискована изданная редакцией "Русское богатство" книга "Без идеи" (из рассказов о войне) Г. Белорецкого" {"Книжный вестник", 1906 г., № 39, стр. 910, № 40, стр. 942.}.
Сохранилось всего несколько экземпляров этого издания.
Книга Г. Белорецкого "Без идеи" — одно из серьезных литературных документальных произведений о русско-японской войне, о миролюбии и героизме русского народа. Действительные пружины сложного механизма империалистической войны 1904–1905 гг. не были поняты и вскрыты Г. Белорецким; он метался в поисках правильного ответа, но не нашел его. Но то, что он сумел запечатлеть внимательным взглядом наблюдателя и пером писателя, дает нам важный и интересный материал.
Почти во всех своих произведениях, посвященных русско-японской войне, Г. Белорецкий пишет о китайцах, о китайском народе. В рассказах "В чужом пиру", "Химера" и в других он тепло описывает жизнь и быт китайского народа, восхищается его обычаями, его гостеприимством, почетом и уважением к старшим, трогательной любовью к детям. Он неоднократно подчеркивает симпатии к простому русскому человеку, главным образом — к солдату. Он пишет о том, как китайские крестьяне неоднократно оказывали помощь нашим раненым и больным солдатам, укрывали в своих фанзах и помогали нашим разведчикам. Он видел и описал ужасающую бедность и тяжкие условия материальной жизни китайского крестьянина, которому война принесла новые лишения и невзгоды, принесла горе и разрушение. Писатель выступает здесь как настоящий друг китайцев.
Белорецкий, как писатель-реалист и демократ, внимательно прислушивался к советам В. Г. Короленко и кое в чем старался следовать им. Судя по характеру творчества Г. Белорецкого, его учителями являются А. Чехов и В. Гаршин. Белорецкий начал разрабатывать и продолжать в литературе творческую линию этих писателей, что вполне соответствовало его демократическим устремлениям. Образ писателя-врача Чехова особенно импонировал ему.
В личной жизни и литературной судьбе Г. Белорецкого есть немало сходных черт с судьбой Гаршина. И тот и другой — в разное время активные участники военных действий, посвятившие себя в основном военным рассказам. В писательской манере обоих — увлечение записками, дневниками. Оба показали войну через призму переживаний героя-интеллигента. В повести Белорецкого "В сумасшедшем доме" есть сходные мотивы с рассказом В. Гаршина "Красный цветок", тоже посвященном описанию сумасшедшего дома. Оба писателя прожили недолгую жизнь, полную мучительных тревог и лишений, и трагически закончили ее.
Гаршин — яркий, крупный, талантливый писатель, реалист по основному направлению творчества. Сильными сторонами своего творчества — демократизмом и реализмом — Г. Белорецкий тоже примыкает к Гаршину. Если Гаршин справедливо считается мастером социально-психологического рассказа, то Белорецкого можно назвать талантливым создателем социально-психологического очерка, перерастающего в рассказ и даже в повесть. Его произведение "В сумасшедшем доме" имеет подзаголовок — очерк, но это скорее социально-психологическая повесть. "На войне" — по своему жанру является документальной очерковой повестью. Идейно-художественный замысел писателя определял жанровое своеобразие произведений, их стилевые особенности.
Во всех произведениях Белорецкого на первом плане находятся душевные переживания его героя-интеллигента, его беспокойное сердце, наполненное скорбью за страдания и горести людей. Он чутко, болезненно реагирует на социальную несправедливость. Не зная и не видя близких и реальных путей для торжества человеческой справедливости, он переживает трагедию, разочаровывается в жизни. Таков в основе своей герой рассказов Белорецкого.
В условиях царской России не нашел себе места талантливый писатель Г. Белорецкий. В 1913 году наступил его трагический конец. Творческая деятельность Г. П. Белорецкого (Ларионова) напоминает о десятках и сотнях литераторов, загубленных бесчеловечным строем капитализма. Но мы с любовью вспоминаем имена этих замечательных людей, их произведения.
Коротким был его жизненный путь. Как писатель, он многого еще не успел сделать и не успел сказать, но то, что было опубликовано, свидетельствовало о больших возможностях Г. Белорецкого, как вдумчивого наблюдателя и своеобразного художника слова.
ЛЕТНЕЙ НОЧЬЮ
Печатается по тексту публикации в журнале "Вестник Европы", 1904, № 3. Рассказ здесь входил в цикл "Уральские этюды".
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
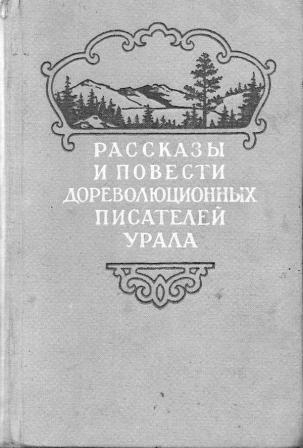

Комментарии к книге «Рассказы и повести дореволюционных писателей Урала. Том 2», Александр Гаврилович Туркин
Всего 0 комментариев