Епифанские шлюзы
I
«Сколь разумны чудеса натуры, дорогой брат мой Бертран! Сколь обильна сокровенность пространств, то непостижно даже самому могучему разумению и нечувственно самому благородному сердцу! Зришь ли ты, хотя бы умозрительно, местожительство своего брата в глубине азийского континента? Ведомо мне, того ты не умопостигаешь. Ведомо мне, что твои взоры очарованы многошумной Еуропой и многолюдством родного моего Ньюкестля, где мореплавателей всегда изрядно и есть чем утешиться образованному взору.
Тем усерднее средоточится скорбь во мне по родине, тем явственней свербит во мне тоска пустынножительства.
Россы мягки нравом, послушны и терпеливы в долгих и тяжких трудах, но дики и мрачны в невежестве своем. Уста мои срослись от безмолвия просвещенной речи. Токмо условные сигналы десятским я подаю на сооружениях своих, а они команду рабочим громко говорят.
Натура в сих местах обильна: корабельные леса все реки в уют одели, да и равнины почитай ими сплошь укрыты. Алчный зверь наравне с человеком себе жизнь промышляет, и сельские россы великое беспокойство от них держат.
Однако, зерна и говядины здесь вдосталь, и обильное питание утучнение мне учинило, несмотря на мою душевную скорбь об Ньюкестле.
Это письмо не столь подробно, как предыдущее. Купцы, отправляющиеся в Азов, Кафу и Константинополь, уже починили свои корабли и готовятся к отлучке. С ними я и посылаю эту графическую посылку, дабы она скорее достала Ньюкестля. А негоцианты спешат, ибо Танаид[1] может усохнуть и тогда не поднимет грузные корабли. А просьба моя невелика, и тебя с такого дела станет.
Царь Петер весьма могучий человек, хотя иразбродный и шумный понапрасну. Его разумение подобно его стране: потаенно обильностью, но дико лесной и зверной очевидностью.
Однако, к иноземным корабельщикам он целокупно благосклонен и яростен на щедрость им.
На устье реки Воронеж построен мной двухкамерный шлюз с перемычкой, что дало помогу починкам кораблей на суше, не причиняя им большой ломки. Устроил я также большую перемычку и шлюз с воротами, придав ему размеры, достаточные для пропуска воды. Потом устроил другой шлюз с двумя большими воротами, через которые могли бы проходить большие корабли так, что их можно бы запирать во всякое время в пространстве, огражденном перемычкою, и спускать из него воду, когда корабли войдут в него.
И в той работе прошло 16 месяцев. А с тем пришла другая работа. Царь Петер остался доволен трудами моими и приказал строить другой шлюз выше, дабы сделать реку Воронеж судоходною до самого города для кораблей в 80 пушек. И эту тягость я снес в 10 месяцев, и ничего с сооружениями моими не станется, пока свет стоит. Хотя и слаб грунт в месте шлюза и били могучие ключи. Немецкие помпы стали слабосильны от ключей, и шесть недель стояла работа от обильности тех ключей. Тогда мы изготовили машину, коя
12 бочек воды в минуту истребляла и работала без утиха 8 месяцев, и тогда мы посуху в глубь котлована пошли.
После столь понудных трудов. Петер поцеловал меня и вручил тысячу рублей серебром, что немаловажные деньги. Еще сказал мне царь, что и Леонардо да Винчи, изобретатель шлюзов, не устроил бы лучше.
А сурьезность моей мысли в том, что я хочу тебя, любимый мой Бертран, позвать в Россию. Здесь весьма к инженерам щедры, а Петер большой затейщик на инженерные дела. Самолично я услыхал от него, что есть нужда в устройстве канала меж Доном и Окою, могучими туземными реками.
Царь желает создать сплошной водный тракт меж Балтикой и Черным и Каспийским морем, дабы превозмочь обширные пространства континента в Индию, в Средиземные царства и в Еуропу. Сие зело задумано царем. А догадку к тому подает торговля и купецкое сословие, кое все, почитай, промышляет в Москве и смежных городах; да и богатства страны расположение имеют в глубине континента, откель нету выхода, кроме как сплотить каналами великие реки и плавать по ним сплошь от персов до Санкт—Петербурга и от Афин до Москвы, а также под Урал, на Ладогу, в Калмыцкие степи и далее.
Но туго царю Петеру надобны инженеры для стольного дела. Ведь канал меж Доном и Окой немалое дело, и тут потребно усердие большое и пущее знание.
Вот я и обещал Петеру–царю, что позову из Ньюкестля брата Бертрана, а сам устал, да и невесту я люблю и соскучился. Четыре года в дикарях живу, и сердце ссохлось, и разум тухнет.
Напиши против сего писания твое решение по такому случаю, а я дам тебе совет, чтоб ехать. Трудно тебе будет, но через пять лет поедешь в Ньюкестль в избытке и кончишь жизнь на родине в покое и достатке. Для сего не скорбно потрудиться.
Передай мою любовь и тоску невесте моей Анне, а через малую длительность я вернусь. Скажи ей, что я уже питаюсь только кровоточием своего сердца по ней, и пускай она дождется затем прощай меня и глянь ласково на милое море, на веселый Ньюкестль и на всю родимую Англию.
Твой брат и друг, инженер Вильям Перри».
1708 лета осьмаго Аугуста.
II
Весною 1709 года в первую навигацию в Санкт—Петербург приплыл Бертран Перри.
Путешествие из Ньюкестля он совершил на старом судне «Мери», много раз видавшем и австралийские и южноафриканские порты. Капитан Сутерлэнд пожал Перри руку и пожелал доброго пути в страшную страну и скорого возвращения к родному очагу. Бертран его поблагодарил и ступил на землю — в чуждый город, в оширную страну, где его ожидала трудная работа, одиночество и, быть может, ранняя гибель.
Бертрану шел 34 год, но угрюмое, скорбное лицо и седые виски делали его сорокапятилетним.
В порту Бертрана встретил посол русского государя и резидент[2] английского короля.
Сказав друг другу скучные слова, они расстались: государев посланец пошел домой есть гречневую кашу, английский резидент к себе в бюро, а Бертран — в отведенный ему покой близ морского цейхгауза.
В покоях было чисто, пусто, укромно, но тоскливо от тишины и уютности. В венецианское окно бился пустынный морской ветер, и прохлада от окна еще пуще говорила Бертрану об одиночестве. На прочном и низком столе лежал пакет за печатями. Бертран вскрыл его и прочитал:
«По повелению Государя и Самодержца Всероссийского, Наук—Коллегия любезно просит аглицкого морского инженера Бертрана—Рамсэя Перри пожаловать в Наук—Коллегию — в Водно- Канальное Установление, что по Обводному прошпекту помещение особое имеет.
Государь имеет самоличное наблюдение за движением прожекта по коммутации рек Дона с Окою — через Иван–озеро, реку Шать и реку Упу, — посему надлежит в прожектерском труде поспешать.
А с тем и Вам следовает быть в Наук—Коллегий наспех, однако допустив себе отдых после морского перехода, сколь с чувствами и всей телесной физикой мирно станется».
По приказу Президента, Главный Уставщик и Юриспрудент Наук—Коллегий — Генрих Вортман
Бертран лег с письмом на широкий немецкий диван и нечаянно заснул.
Проснулся он от бури, тревожно гремевшей в окне. На улице, в мраке и безлюдье, беспокойно падал влажный густый снег. Бертран зажег лампу и сел к столу насупротив жуткого окна. Но делать было нечего, и он задумался.
Прошло длинное время, и земля давно встретила медленную ночь. Иногда Бертран забывался и, резко оборачиваясь, ожидал встретить родную комнату в Ньюкестле, а за окном — ландшафт теплой людной гавани и смутную полоску Европы на горизонте.
Но ветер, ночь и снег на улице, молчание и прохлада в покоях — указывали Бертрану на иную широту положения его жилища.
И то, отчего он так долго отнекивался в своем сознании, вмиг застлало его фантазию.
Мери Карборунд, его двадцатилетняя невеста, сейчас, наверно, ходит по зеленым улицам Ньюкестля и носит в своей блузе сиреневую ветку. Быть может, другой ее водит под руку и шепчет убедительно про лживую любовь — то останется Бертрану навеки неизвестным. Он две недели плыл сюда, а что случиться может в этот срок в фантастическом безумном сердце Мери?
И разве может женщина ждать мужа пять или десять лет, растя в себе любовь к невидимому образу? Едва ли так. Тогда давно весь мир уже был бы благороден.
А ежели б в тылу имелась достоверная любовь, тогда бы каждый пешком пошел хоть на луну!
Бертран насыпал трубку индийским табаком.
— Однако, Мери была права! На что ей нужен муж–негоциант или простой моряк? Она любезна мне и умница большая… Мысли Бертрана шли стремительно, но чередуясь и соблюдая ясный такт.
— Неукоснимо ты права, маленькая Мери… Я помню даже то, как ты травою пахла. Я помню ты сказала: мне нужен муж, как странник Искандер, как мчащийся Тамерлан или неукротимый Атилла. А если и моряк, то, как Америго Веспуччи… Ты знаешь много и мудрица, Мери!.. Ты истинно права: если муж тебе дороже жизни, то, пускай, он будет интересней и редкостней ее! Иначе ты заскучаешь и несчастье тебя погубит. Бертран неистово сплюнул табачную жвачку и сказал:
— Да, Мери, слишком ты остра на ранний разум! И я, пожалуй, сам такой жены не стою. Зато как хорошо ласкать такую резвую головку! То мне отрада, что под косой жены живет горячий мозг!.. Но еще посмотрим!.. Затем я и приехал в сию грустнейшую Пальмиру! Послание Вильяма непричастно к такой судьбе, но оно сердечному решенью помогло…
Бертран окоченел и стал собираться спать. Пока он воображал Мери и умственно беседовал с ней, над Санкт—Петербургом успела рассвирепеть вьюга и, окорачиваясь у зданий, она студила покои.
Завернувшись в одеяло, укрывшись сверху морской шинелью из чертового вечного сукна, Бертран дремал, и тонкая живая печаль, не переставая, не слушаясь разума, струилась по всему его сухому сильному телу.
На улице раздался странный резкий звук, будто корабль треснул по всей обшивке от удара льда; Бертран открыл глаза, прислушался, но мысль его отвлеклась от страдания, и он уснул, не опомнившись.
III
На другой день в Наук—Коллегии Бертран знакомился с замыслом Петра. Прожект был только начат.
Задание царя сводилось к тому, чтобы создать сплошной судовой ход меж Доном и Окою, а через то — всего придонского края с Москвою и волжскими провинциями. Для сего требовалось произвести большие шлюзовые и канальные работы, к прожектерству которых и был призван Бертран из Британии.
Следующая неделя ушла у Бертрана на знакомство с изыскательскими документами, по которым следовало прожектировать работы. Документы оказались добропорядочными и составлены знающими людьми: французским инженером генералмайором Трузсоном и польским техником капитаном Цицкевским.
Бертран был доволен, ибо добрые изыскания делали способным скорое начатие строительных работ. Тайная дума Бертрана хоронилась в том предмете, что он очаровался Петром еще будучи в Ньюкестле и хотел стать его соучастником в цивилизации дикой и таинственной страны.
А тогда бы и Мери восхотела его мужем своим иметь.
Искандер завоевывал, Веспуччи открывал, а теперь наступил век построек — окровавленного воина и усталого путешественника сменил умный инженер.
Трудился Бертран тяжко, но счастливо — горе его разлуки с невестой в работе припотухало.
Жил он в тех же покоях; адмиралтейских и штатских ассамблей не посещал и знакомств с дамами и их мужьями чуждался, хотя некоторые светские женщины и искали сообщества с одиноким англичанином. Бертран вел работу, как Корабль, — осторожно, здравосмысленно и скоро, избегая теоретических мелей и перекатов в своих планшетах.
К началу июля прожект был исполнен, и планы начисто переписаны. Все документы были доложены царю, который их одобрил, а Бертрану приказал выдать награду в 1.500 рублей серебром, а впредь жалованье учредить по 1.000 рублей в каждый месяц и назначить главным мастером и строителем всех шлюзов и каналов, что Дон с Окой соединить должны.
В тот же час Петр отдал приказы наместникам и воеводам, по провинциям которых шлюзы и каналы строиться будут, дабы они оказали полное воспособление главному инженеру — всем, чего он не потребует. Бертрану же были даны права генерала и соподчинение он имел только царю и главнокомандующему.
После официальной беседы Петр встал и имел к Бертрану речь:
— Мастер Перри! Я знаю твоего брата Вильяма, тот завидный речной корабельщик и на славу водяную силу братать может искусными устройствами. А тебе, не в пример ему, поручается зело умный труд, коим мы навеки удумали главнейшие реки империи нашей в одно водяное тело сплотить и тем великую помощь оказать мирной торговле, да и всякому делу военному. Через оные работы крепко решено нами в сношение с древле–азийскими царствами сквозь Волгу и Каспий войти и весь свет с образованной Европой, поелику возможно, обручить. Да и самим через ту всесветную торговлишку малость попитаться, а на иноземном мастерстве руку народа набить. Через то я поручаю тебе к работам приступить немедля — судовому ходу тому быть!
А что сопротивленье тебе будут чинить — про то доноси мне гонцами — на живую и скорую расправу. Вот моя рука — тебе порука! Держи начало крепко, труд веди мудро — благодарить я могу, умею и сечь нерадетелей государева добра и супротивщиков царской воли!
Тут Петр с быстротой, незаконной в его массивном теле, подошел к Бертрану и тряхнул его руку.
Затем Петр повернулся и ушел в свои покои, прохаркиваясь и тяжко дыша на ходу.
Речь царя Бертрану перевели, и она ему понравилась.
Проект Бертрана Перри состоял в следующих частях: построить 33 шлюза из дикого и известкового камня; прорыть соединительный канал от деревни Любовки на реке Шати до деревни Бобриков на Дону длиною 23 версты; реку Дон прочистить и углубить для судового хода от деревни Бобриков до деревни Гай, по длине в 110 верст; кроме того, Иван–озеро, откуда Дон течет, а также весь канал — валом и земляными дамбами окружить и заулючить.
Всего, стало быть, требовалось устроить 225 верст судового пути, один конец которого был в Оке, а другой внедрялся 110-верстным каналом в Дон. Ширину каналу следовало придать 12 сажен, а глубину 2 аршина.
Строительное управление предусматривалось Бертраном в г. Епифани, в Тульской провинции, ибо в том городе сходилась середина будущих работ.
Вместе с Бертраном должны были ехать еще пять немецких инженеров и десять писцов из Административного Приказа.
День отбытия пал на 18 июля. В тот день к 10 часам утра к покоям Бертрана должны подать дорожные кареты для следования в глухой и терпеливый путь, держа маршрут на неприметный пункт — Епифань.
IV
Покуда векует на свете душа, потуда она и бедует.
Собравшись для изрядной еды, пять немцев и Перри понадеялись зарядиться пищей на сутки.
И, действительно, животы они набили круто, готовясь для долгого созерцания тогдашних немощных русских пространств.
Уже Перри в дорожный рундучок пачки с табаком укладывал — последнее дело его перед всякой дорогой. Уже немцы письма своим семьям кончали, и младший из них, Карл Берген, вдруг разрыдался от жмущей сердце неудержимой тоски по молодой, любимой еще жене.
И тут затряслась дверь от резкого стука казенной руки: так мог стучать посланный либо арестовать, либо известить о милости бешеного царя.
Но то был гонец из Почт—Приказа.
Он попросил указать ему Бертрана Перри, аглицкого капитан–инженера. И пять немецких рук, в родинках и веснушках, указали ему на англичанина.
Гонец нелепо выбросил вперед ногу и почтительно подал Перри некий пакет за пятью печатями.
— Сударь, соизвольте приять посыл из аглицкой державы! Перри отошел от немцев к окну и вскрыл пакет. «Ньюкестль, Июня, 28.
Мой славный Бертран! Ты не ждешь этой вести. Мне трудно тебя огорчать, наверно, любовь к тебе меня еще не оставила. Но уже новое чувство жжет меня. И жалкий разум мой напряжен, чтобы поймать твой милый образ, который так скорбно обожало мое сердце.
Но ты наивен и жесток — ради наживы золота ты уплыл в дальнюю землю; ради дикой славы ты погубил мою любовь и мою ждущую нежности молодость. Я женщина, я слаба без тебя, как веточка, и отдала свою жизнь другому.
Ты помнишь ли, мой славный Берт, Томаса Рейса? Вот он стал моим мужем. Ты огорчен, но признайся, что он очень славный и такой преданный мне! Некогда я отказала ему и предпочла тебя. Но ты уехал, и он долго утешал меня в моем ужасе и в моей тоскливой любви по тебе.
Не печалься, Берт! Мне так тебя жалко! Ты думал и вправду мне нужен был мужем Александр Македонский? Нет, мне нужен верный и любимый, а там, пускай, он хоть уголь грузит в порту или плавает простым матросом, но только поет всем океанам песни обо мне. Вот что нужно женщине, имей это в виду, глупый Бертран!
Две недели уже, как вышла наша свадьба с Томасом. Он весьма счастлив, и я тоже. Кажется, у меня ребенок тревожится под сердцем. Видишь, как скоро! Это потому, что Томас мой любимый и не оставит меня, а ты уехал колонии искать — возьми их себе, а я взяла Томаса.
Прощай! Не печалься, а будешь в Ньюкестле — навести нас, мы будем рады. А умрешь — мы заплачем с Томасом. Мери Карборунд—Рейс».
Перри, не помня рассудка, трижды кряду почитал письмо. Потом взглянул в огромное окно: разбить его жалко — у немцев за золото куплено стекло. Стол проломить — тяжелой вещи в наличности нет. Немцу в физиономию дать — беззащитное существо, а один из них и так плакал. Пока свирепела ярость в Перри, а он колебался своим арифметическим рассудком, его лютость сама нашла себе выход.
— Герр Перри, у вас рот не в порядке! — сказали ему немцы, — А? Что такое? — уже обессилев, и чуя грусть спросил Перри. — Вытрите рот, герр Перри! Перри с трудом вырвал трубку из впившихся в нее зубов. А зубы, сжав трубку, так уперлись в свои гнезда, что порвали десна, и из них текла горькая кровь.
— Что случилось, герр? Несчастие дома? — Нет. Кончено, друзья… — Что кончилось, герр? Ну, пожалуйста, скажите! — Кровь кончилась, а десны зарастут. Давайте ехать в Епифань!
V
Путешественники тянулись по Посольской дороге, что через Москву до Казани доходит, смыкаясь за Москвой с Калмиюсской Сакмой — татарской дорогой на Русь по правой стороне Дона. На нее и следовало путникам сделать поворот, чтобы затем через Идовские и Ордобазарные большаки и малые столбы достигнуть Епифани — своего будущего местожительства.
Встречный ветер, вместе с дыханием, выдувал горе из груди Перри.
Он с обожанием наблюдал эту природу, такую богатую и такую сдержанную и скупую. Встречались земли — сплошные удобрительные туки, но на них росла непышная растительность: худая изящная береза и скорбящая певучая осина.
Даже летом так гулко было пространство, как будто оно не живое тело, а отвлеченный дух.
Изредка в лесу обнажалась церковушка — деревянная, бедная, со знаками византийского стиля в своей архитектуре. Под самой Тверью Перри заметил даже дух готики на одном деревенском храме, при протестантском постном убожестве самого здания. И на Перри задышала теплота его родины — скупой практический разум веры его отцов, понявшей тщету всего неземного.
Огромные торфяники под лесом прельщали Перри, и он чувствовал на своих губах вкус неимоверного богатства, скрытого в этих темных почвах.
Немец Карл Берген, — тот, что плакал в Санкт—Петербурге над письмом, — думал о том же. На воздухе он отживал, возбудился, забыл на время молодую жену и объяснил Перри, глотая слюну:
— Энглянд — это шахтмейстер[3]. Рюссланд — торфмейстер! Верно я говорю, герр Перри? — Да, да, точно, — сказал Перри и отвернулся, заметив страшную высоту неба над континентом, какая невозможна над морем и над узким британским островом. Изредка, но изрядно путешественники ели в попутных селениях, Перри пил целыми жбанами квашонку, в которой он нашел немалый вкус и способствование дорожному пищеварению.
Минувши Москву, инженеры долго помнили ее колокольную музыку и тишину пустых пыточных башен по углам Кремля. Особо восхитил Перри храм Василия Блаженного — это страшное усилие души грубого художника постигнуть тонкость и — вместе — круглую пышность мира, данного человеку задаром.
Иногда перед ними расстилались пространные степи и ковыльные земли, на которых не было и следа дороги.
— А где же Посольский тракт? — спрашивали немцы ямщиков. — А вот он самый, — указывали на круглое пространство ямщики. — А сего незаметно! — восклицали немцы, вглядываясь в грунт. — Так трахт одно направление, а трамбовки тут быть не должно! Он до самой Казани такой — все едино! — поясняли, поелику возможно, ямщики иноземцам. — Ах, это знаменито! — смеялись немцы. — А то как же! — всерьез подтверждали ямщики, — оно так видней и просторней! Степь в глаза — веселья слеза! — Весьма примечательно! — дивились немцы. — А то как же! — поддакивали ямщики, а сами ухмылялись в бороду, дабы никому оскорбительно не было.
За Рязанью — обиженным и неприютным городком — уже редко жили люди. Тут шла бережная и укромная жизнь. Еще от татар остался этот страх, испуганные очи ко всякому путнику, потаенность характера и заулюченные чуланчики, где таилось впрок небогатое добро.
С удивлением вглядывался Бертран Перри в редкие укрепления с храмишками посредине. Окрест таких самодельных кремлей жили местные люди в кучах избушек. И видно было, что это — новосельные люди. А раньше все хоронились в уюте земляных валов и деревянных стен, когда татары по степному разнотравию достигали сих районов. Да и жил в тех крепостцах все более казенный народ, учиненный сюда князьями, а не полезные хлебопашцы. А теперь — разрастаются селитбища, а по осени и ярмарки гремят, даром что нынче царь то со шведами, то с турками воюет и страна от того ветшает.
Вскоре путешественники должны повернуть на Калмиюсскую Сакму — татарский ход по обочине Дона на Русь.
Однажды в полдень ямщик махнул кнутом без нужды и дико свистнул. Лошади взяли.
— Танаид! — крикнул Карл Берген, высунувшись из кареты. Перри остановил экипаж и вышел. На дальнем горизонте, почти на небе, блестела серебряной фантазией резкая живая полоса. Как снег на горе. — Вот он, Танаид! — подумал Перри и ужаснулся затее Петра: так велика оказалась земля, так знаменита обширная природа, сквозь которую надо устроить водяной ход кораблям. На планшетах в Санкт—Петербурге было ясно и сподручно, а здесь, на полуденном переходе до Танаида, оказалось лукаво, трудно и могущественно. Перри видел океаны, но столь же таинственны, великолепны и грандиозны возлежали пред ним эти сухие косные земли.
— На Сакму! — крикнул передовой ямщик. — Ухватывай ее в укос! Штоб к ночевке на Идовском большаке быть беспременно! Овсяные кони схватили и понесли полной мочью, в соучастие нетерпеливым людям.
— Окоротись! — закричал вдруг передовой ямщик и для признака задним поднял кнутовище. — Что вышло? — спохватились немцы. — Стражника взять забыли, — сказал ямщик. — Какой методой? — уже покойно спросили немцы. — За нуждой в отвершек на постое побежал — глянул, а его нету на заднем причале! — Эх ты, бурмистр бородатый! — резонно выразился второй ямщик. — Да вон он лупит степью, плешивый чин, за ширинку держится! — успокоился виноватый ямщик. И странствие тронулось, держа курс на полдень — на Идовские и Ордобазарные большаки, а оттуда — на малые епифанские столбы.
VI
Работа на Епифани взялась сразу.
Малоизвестный язык, странный народ и сердечное отчаяние низложили Перри в трюм одиночества.
И лишь на работе исходила вся энергия его души, и он свирепел иногда без причины, так что сподручные прозвали его Каторжным Командиром.
Епифанский воевода занарядил всех мужиков воеводства: кто камень ломал и к шлюзам подвозил, кто на канале землю рыл, кто реку Шать чистил по живот в воде.
— Что ж, Мери! — бормотал Бертран, бродя ночью по своему епифанскому покою, — таким горем меня не взять! Покуда есть влага в сердце — спасусь! Построю канал, царь денег много даст и — в Индию… Ах, как жаль мне тебя, Мери!.. И, путаясь в страдании, тяжких мыслях и в избыточных силах своего тела, Перри грузно и безумно засыпал, тоскуя и взывая во сне, как маленький. Около осени приехал в Епифань Петр. Он остался недоволен работами:
— Скорбь в рундуке разводите, а не тщитесь пользу отечеству ускорить, — сказал царь. Действительно, медленно шли работы, как ни ожесточался Перри. Мужики укрывались от повинности, а лихие головы сбегали в безвестные места. Охальные местные люди вручили Петру челобитные, в коих велся учет злому начальству. Петр приказал повести дознание, откуда выяснилось, что воевода Протасьев за большие поборы освобождал слободских мужиков от повинностей, а поверх всего миллион рублей себе нажил на всяких начетах и требовательных ведомостях с казны.
Петр приказал Протасьева бить кнутом, а потом сослал его на Москву для дополнительного следствия, но он там досрочно с печали и стыда умер. По отъезде Петра, когда срамота еще не забылась, другая беда нашла на епифанские работы. Карл Берген ведал работами на Иван–озере, — валом земляным его огораживал, чтобы воду в нем поднять до нужной судоходной глубины. В сентябре Перри получил от него рапорт, где указывалось:
«Пришлые люди, особливо московские чиновники и балтийские мастера, волею Божьею чуть не все лежат больны. Великий им упадок живет, а болят и умирают больше лихорадкою и пухнут. Простолюдин же местный терпит, но при всякой тяжести и спехе работы в болотной воде, коя прохладна стала близу осени, бунт норовил учинить. Заключу сие тем, что тако и далее пойдет, без начальников и мастеров мы очутиться можем. А затем жду спешных приказов главного инженера–строителя».
Перри уже знал, что балтийские мастера и техники–немцы не только болеют и умирают в болотах Шати и Упы–реки, но также и бегут по тайным дорогам на родину, ухватывая великие деньги.
Перри боялся весеннего половодья, которое грозило разрушить начатые и беспомощные сооружения. Он хотел довести их до безопасного состояния, чтобы полые воды особого вреда им не причинили.
Однако, того достигнуть было трудно — технические чиновники умирали и сбегали, а мужики того пуще мутились и целыми слободами не выезжали на работу. Одному же Бергену не управиться с такими злодеяниями и болотную мороку не залечить.
Тогда Перри, чтобы хоть одно зло усечь, издал по работам и всем окружным воеводствам приказ: под смертною казнью, чтобы иноземцев — канальных и шлюзных мастеров — нигде не пропущали и в подводы под них никто не наряжался и лошадей бы не продавали и в ссуды не давали.
А под приказом Перри поставил подпись Петра — для устрашения и исполнения: пускай потом царь поругает, нельзя же ехать к нему в Воронеж, где он флот на Азов снаряжал, чтобы подпись его получить и два месяца времени упустить.
Но и так пристрожить мастеровых людей не удалось.
Тогда Перри увидел, что зря таким штурмом он работы повел и столь многочисленных работных, служилых и мастеровых людей в них сразу втравил. Следовало бы начать работы спрохвала, чтобы дать народу и мастеровым к труду такому притерпеться и очухаться.
В октябре работы стали вконец. Немцы–инженеры клали все силы на то, чтобы людской охраной сооружения и заготовленные материалы снабдить, но и то не удавалось. Через это немцы слали с каждой оказией Перри рапорты, чтобы их он уволил с работ, ибо их царь запороть может, когда приедет, а они неповинны.
Однажды епифанский воевода пришел к Перри в воскресенье.
— Бердан Рамзеич! Каку штуку я тебе принес! Непостижное охальство! — Что такое? — спросил Перри. — А ты погляди, Бердан Рамзеич! Да ты вдумайся в документ втихомолку, а я так посижу… Штой–то дюже бездомовно у тебя, Бердан Рамзеич! Да што сказать — жен у нас по тебе нету. То я вижу и тому сочувствую… Перри развернул грамотку:
ПЕТРУ ПЕРВОМУ АЛЕКСЕИЧУ Русскому Садодержцу и Государю.
«Мы, холопы твои и крестьяншики наши, в той год у твоего, великий государь, канавного и слюзного дела приставлены неотлучно были, во время пахотное и жатвенное и сенокосное в домишках своих не были и ныне по работе ж и за тою работою озимого хлеба не сбирали, а ярового не усеяли и сеять некому и нечем и за безлошадьем ехать не на чем, а который у нашей братьи и крестьянишек наших старого припасу молоченой и немолоченой хлеб был и тот хлеб служилые и работные люди, идучи на твою, Великого Государя, службу и на Епифань на работу, много брали безденежно, а остальной волею Божьей от мышей поеден без остатку, и многое нам и крестьянишкам нашим такие служилые и работные люди обиды и разоренье чинят и девок до времени всех, почитай, оскоромили».
— Чуешь, Бердан Рамзеич? — спросил воевода. — Как это попало к вам? — удивился Перри. — А так — дуриком: у писаря моего две недели каки–то холуи чернил допытывались аль состав просили сказать за окорок ветчинный. Токмо писарь мой Жох и сам вотчинник — чернила дай, а сам в слежку, да так и дознался и грамотку проведал… Ведь окромя воеводского приказу в Епифани чернилов нету и составные краски никому неведомы!.. — Неужели мы так народ и вправду умучили? — спросил Перри. — Да што ты, Бердан Рамзеич! Эт у нас народ такой охальник и ослушник! Ему хоть ты што — он все челобитные пишет да жалобы егозит, даром што грамоте не учен и чернильного состава не знает… Вот, погоди, я их умещу в тесное место! Я им покажу супротивщину чинить и царю без угомону писать… Ведь это наказанье Господне! И зачем их слова обучали говорить? Раз грамоты не разумеют, и от устных слов надобно отучить!.. — А вы имеете донесения, воевода, с Иван–озера? Целы там те колонны пеших рабочих и подводы, коих вы из Епифани со стражниками погнали? — Каки колонны? Это што я на Спас послал? Куды тебе, Бердан Рамзеич! Стражник один, — тому десять дён, — прискакал оттыльча, сказывал, что пешие все на Яик и Хопер убегли, а семьи их, истинно, по Епифани с голоду маются. Отдыху от баб не вижу, а окромя — вояка стервь доносом норовит меня унять… Стерегусь государя, Бердан Рамзеич! Нагрянет — порке без оглядки предаст. Уж ты заступись, Бердан Рамзеич, аглицким богом тебя прошу!.. — Хорошо, заступлюсь, — сказал Перри. — Ну, а конные подводы работают на Иване?.. 12
— Што ты, Бердан Рамзеич! Кони пеших упредили: все по степям и неприметным хуторам разбеглись и утаились. Да разве сыщешь? Только то не к добру — лошади извелись на работах и к пахоте боле непригожи, а многие пали кончиной в степи… Тах–то, Бердан Рамзеич! — Да! — воскликнул Перри и сжал руками свою твердую худую голову, в которой сейчас не было, никакого утешения. — Так что ты думаешь делать, воевода? — спросил Перри. — Ведь мне рабочие нужны! Как хочешь делай, — давай пеших и конных, а то шлюзы весной смоет, а царь — мне не спустит! — Как хошь, Бердан Рамзеич! Голову мою бери — в Епифани одни бабы остались, а в остальной воеводской земле — разбой свищет. В свое воеводство показаться не могу, куды там рабочих сыскать! Мне одна тропка: от народа голову сберег — царь снесет! — Это меня не касается! Вот тебе наряд, воевода, на неделю: на Иван–озеро поставить 500 пеших, 100 конных; на шлюз, что при деревне Сторожевой Дубровке, 1.500 пеших и 400 конных; на Нюховской шлюз 2.000 пеших и 700 конных; еще на Любовской канал, между Шатью и Доном, 4.000 пеших и 1.500 конных, да на Гаевской шлюз конных 100 и пеших 600. Вот, бери наряд, воевода! Чтоб вся эта рабочая сила была поставлена в одну неделю! Не сделаешь — отправлю рапорт царю!.. — Слухай меня, Бердан Рамзеич!.. Перри перебил: — Больше не слушаю. Нечего тебе мне страдать и песни петь — я не невеста! Чтоб были рабочие, а жалобы мне не нужны! Ступай в воеводство и делай мне живых людей! — Слухаю, Бердан Рамзеич, слухаю, сударь! Токмо ни хрена не выйдет, вот тебе покойница–мать… — Ступай в свое воеводство! — раздраженно сказал Перри. — Дозволь тогда, Бердан Рамзеич, хучь камень дикий возкой до весны оставить. Он и пужает мужиков — дюже тяжесть агромадна да и ломка на Люторце неспособна… — Дозволяю, — ответил Перри, догадавшись, что сейчас ему не до новых работ, впору сделанное от разлива уберечь: — Только ты ступай, воевода! Очень ты речист, а на дело хитер без смысла! — Благодарим за камень! Прощевайте, Бердан Рамзеич! Воевода негромко выговорил еще несколько слов и удалился. Последние слова он сказал на местном языке, по–епифански, поэтому Перри ничего в них не понял. А если б и понял, то добра бы в них себе не увидел.
VII
На зиму все пять немцев–инженеров тоже приехали в Епифань. Они обросли бородами, постарели за полгода и явно одичали.
Карла Бергена грызла жестокая скорбь по своей германке–жене, но он подписал договор с царем на год, а ранее уехать было нельзя: в ту пору лиха была русская расправа. Поэтому молодой немец дрожал от ужаса и семейной тоски, и работа у него валилась из рук.
Остальные немцы тоже заплошали и жалели, что приехали в Россию за длинными рублями.
Один Перри не сдавался, и сердечная печаль по Мери находила себе исход в его лютой энергии.
На техническом совете с немцами Перри выяснил, что положение с недоделанными шлюзами грозное. Весенние воды могут начисто снести сооружения, особенно же Люторецкой и Муровлянской шлюзы, откуда еще в августе сбежали все рабочие.
По последнему наряду Перри епифанский воевода ничего не поставил: то ли злая воля в том его была, то ли правда — рабочих согнать нельзя было.
Обсудив работы, инженеры не выдумали, как уберечь шлюзы от весны. Перри знал, что царь Петр приказывал в Петербурге инженерам, которые строили корабли, чтобы они надевали черные погребальные балахоны. Если спуск и пробное плавание нового корабля проходили отлично, царь давал инженеру–корабельщику награду сто либо более рублей, смотря по емкости судна, и личными руками снимал с инженера смертный балахон. Если же корабль давал течь и кренился без причины, еще пуще того — тонул у берега, царь предавал таких корабельщиков на скорую казнь — на снос головы.
Перри не боялся утраты своей головы, однако, допускал ее, но немцам ничего не говорил.
Потянулась великорусская зима. Епифань засыпалась снегом, окрестности окончательно замолчали. Казалось, что люди здесь живут с великой скорбию и мучительной скукой. А на самом деле — ничего себе. Ходили друг к другу на многие праздники, пили самодельное вино, ели квашеную капусту и моченые яблоки и по разу женились.
Загнанный скукой и одиночеством, один из немцев — Петер Форх — женился Рождеством на епифанской боярышне — Ксении Тарасовне Родионовой, дочери богатого торговца солью. Отец ее имел свой обоз в сорок подвод, который странствовал меж Астраханью и Москвой с двадцатью чумаками, снабжая солью полночные провинции. А в молодости Тарас Захарович Родионов и сам чумачил. Петер Форх переселился к тестю и вскоре пополнел от мирной жизни и заботливого питания.
Все инженеры, под началом Перри, до самого нового европейского года усердно занимались составлением исполнительных чертежей, смет на израсходованные материалы и рабочие руки, а также прожектировали всякие способы безопасного пропуска весенних вод.
Перри написал царю рапорт, где изложил всю историю работ, указал на роковую нехватку рабочих и усумнился в конечном благополучии. В копии свой рапорт Перри направил аглицкому послу в Санкт—Петербург — на всякий случай.
В феврале в Епифань прибыл царский курьер с пакетом Перри:
БЕРТРАНУ ПЕРРИ ГЛАВНОМУ ИНЖЕНЕРУ-СТРОИТЕЛЮ Епифанских шлюзов и каналов меж Доном, и Окой реками
«Слух о твоей неспособной работе дошел до допреж твоей челобитной. Из сей незадачи я усматриваю, что тамошний епифанский народ — холуй и пользы своей не принимает, а сверх того и тебе следовает круче волю мою гнуть и утруждать сподручных втугачку, дабы никому не было под стать на ослушание решиться: будь то мастер–иноземец или черный люд.
Обсудив круг мыслей, до Епифанских шлюзов касающихся, я порешил учредительные меры на нонешнее лето.
Воеводу твово я прогнал и епитимью ему назначил — с Азова брандеры на Воронеж гнать по мелям великим. А новым воеводой посылаю тебе Гришку Салтыкова — человека твердого и ходовитого, мне известного и лихого на скорую расправу. Он тебе будет первый помощник по пешей и гужевой силе.
Кроме того, я объявляю епифанское воеводство на военном положении, а мужеское население забираю в солдаты сплошь. Затем я шлю тебе поручиков и капитанов отборного свойства, кои с ротами епифанских рекрутов и ополченцев придут на твои работы, а ты считайся полным генералом, а помощникам и сподручным мастерам также раздай подобающие чины, коих с них станет.
В иных смежных воеводствах, кои работам твоим под стать, также я военное положение учредил».
Ежели в нонешнем лете прогадаешь со шлюзами и каналами — тогда гляди сам. Что ты британец — отрадой тебе не станется».
Перри обрадовался такому ответу Петра. Успех работ после таких епифанских реформ был теперь обнадежен. Лишь бы весна особо не нагадила и прошлогодний труд не пошел прахом и убытками. В марте Перри получил из Ньюкестля письмо. Он прочел его как весть с того света, до того заржавело его сердце к своей минувшей судьбе:
Бертран
«В новогодний день умер мой первенец, мой сын. Все тело мое болит при воспоминании о нем. Ты прости, что я тебе пишу, чужому теперь человеку, но ты верил в мою искренность. Ты помнишь, я тебе говорила — кому первому отдаст женщина свой поцелуй, того она помнит всю жизнь. И я тебя помню и поэтому пишу о своем потерянном даре — маленьком сыне. Он был мне дороже мужа, дороже твоей памяти и дороже себя. О, во сколько раз дороже всех моих кровных драгоценностей! Не буду писать о нем тебе, а то заплачу и не кончу и второго письма. Первое я тебе послала месяц назад.
Муж мне стал совсем чужой. Он много работает, ходит по вечерам в морской клуб, а я одна и мне так скучно! Единственное мое утешение — чтение книг и письма к тебе, которые я тебе буду писать часто, если ты не обидишься.
Прощай, дорогой Бертран! Ты мил мне, как друг, и словно далекий родственник, в тебе мое чувство нежных воспоминаний. Пиши мне письма, я буду очень рада их получать. В жизни меня держит только любовь к моему мужу да память о тебе. Но мертвый мой мальчик в моих сновидениях зовет меня разделить с ним его мучения и его смерть. А я все живу, бессовестная и трусливая мать.
Мери.
N. B. В Ньюкестле жаркая весна. По–прежнему в ясные дни виден берег Европы за проливом. Этот берег всегда мне напоминает тебя, и оттого мне еще тоскливее бывает. Помнишь ли ты стихи, которые писал мне в своем письме когда–то!
…Возможность страсти горестной и трудной, Залог души, любимой божеством…
Чьи это стихи? Помнишь ли ты свое первое письмо ко мне, где признался мне в любви, стыдясь сказать мне в лицо роковые слова, я тогда поняла мужество и скромность твоей натуры, и ты мне понравился».
После письма Перри охватила человечность и нежное чувство покоя: быть может, он был доволен несчастьем Мери — судьба обоих теперь уравновесилась.
Не имея в Епифани близкого знакомого, он начал ходить в гости к Петеру Форху; пил там чай с вишневым вареньем и беседовал с женой Форха — Ксенией Тарасовной — о далеком Ньюкестле, теплом проливе и о европейском береге, который виден из Ньюкестля в прозрачные дни. Только о Мери Бертран ни с кем не говорил, скрывая в ней источник человечности и общительности.
Шел март. Епифанцы постились, заунывно звонили в православных храмах, а на водоразделах уже почернели поля.
Хорошее душевное расположение Перри не проходило. Мери на письмо он не ответил ничего, да и мужу ее не понравятся его письма; писать же общие вежливые слова ему не хотелось.
Немецких инженеров Перри разослал по наиболее опасным шлюзам для руководства работами по пропуску вешних вод.
Мужики теперь ходили в солдатах. А новый воевода, Григорий Салтыков, лютовал по воеводству без спуску и милости; тюремные дома были туго населены непокорными мужиками, а особая воеводская расправа, порочная хата тож действовала ежедневно. Кнутом вбивая разум в задницу мужиков.
Рабочих, и пеших и конных, теперь было вдосталь, но Перри видел, сколь это непрочно: каждый час мог вспыхнуть бунт, и не только все побегут с работ, но и сооружения будут злостно разрушены вмах.
Но весна выдалась недружная: днем текло малыми порциями, а ночами прихватывало. Через шлюзы вода исходила, как сквозь худое ведро; поэтому немцы и дежурные рабочие успевали затыкать талой землей сочащиеся щели в водоспусках, и особых разрух не происходило.
Перри был весьма доволен и чаще навещал одинокую теперь супругу Форха, беседуя с ее отцом о чумаках–солевозах, татарских нашествиях и о сладких травах старых ковыльных степей.
Наконец, разгорелась летним огнем провинциальная прелестная весна, а затем стихла молодость природы. Наступила зрелость и злоба лета, и вся жизнь по земле затревожилась.
Перри решил к осени все каналы и шлюзы закончить. Он соскучился по морю, по родине, по старику–отцу, жившему в Лондоне.
Грусть отца по сыну измерялась пеплом из его трубки: от тоски по сыну отец неугомонно курил. Он так и сказал на прощанье:
— Берт! Сколько мне табаку сжечь придется, пока я увижу тебя… — Много, отец, много! — ответил Бертран. — Да уж не берет меня никакой яд, сынок! Скоро, наверно, жевать табачный лист начну… В начале лета работа пошла спешно. Напуганные царем мужики усердно трудились. Однако, иные ветхопещерники бежали и укрывались в дальних скитах. А некоторые неуемные головы сшептывались меж собой и увлекали цельные роты на Урал и в Калмыцкие степи. За ними учреждали угон, но толку от него никогда не случалось.
В июне Перри поехал по работам. Скорость их и успешность он нашел достаточными.
А Карл Берген совсем обрадовал его. На Иван–озере, на самом низком дне, он обнаружил бездонный Колодезь–окно. Оттуда поступало в озеро столь много ключевой воды, что ее хватит на дополнительное питание каналов в мелководные сухие годы. Следует только на Иван–озере подсыпать прошлогодний земляной вал еще на сажень, чтобы собирать из колодца в озеро больше воды, а затем пускать эту воду в каналы по особому спуску. Когда надобность в том явится.
Перри одобрил изобретение Бергена и приказал тот колодезь желонкой расчистить и опустить в него большую железную трубу с сеткой, чтобы колодезь не заилился вновь. Воды тогда в озеро будет подтекать еще больше, и водный путь в засуху не обмелеет.
Страх и сомнение ужалили гордость Перри, когда он возвращался в Епифань. Петербургские прожекты не посчитались с местными натуральными обстоятельствами, а особо с засухами, которые в сих местах нередки. А выходило, что в сухое лето как раз каналам воды не хватит, и водный путь обратится в песчаную сухопутную дорогу.
По приезде в Епифань, Перри начал пересчитывать свои технические числа. И вышло еще хуже: прожект составлен был по местным данным от 1682 года, лето которого изобиловало влагой.
Поговорив с местными людьми и тестем Форха, Перри догадался, что и в средние по снегам и дождям годы каналы будут так маловодны, что по ним и лодка не пройдет. А про сухое лето и говорить нечего — одна песчаная пыль поднимется на канальном русле.
«Тогда я отца–то, пожалуй, больше не увижу! — подумал Перри. — И в Ньюкестль я не поеду и берега Европы не посмотрю!..»
Единственная надежда осталась на ключ на дне Иван–озера. Если он даст много воды, то ею можно будет прокормить каналы в суховейные годы.
Но это открытие Бергена все же не возвращало тихого покоя душе Бертрана, какой он имел после письма Мери. Втайне он не верил, чтобы колодезь Иван–озера способен был помочь обильной водой, но укрывал свое отчаяние за этой маленькой надеждой.
Сейчас на Иван–озере шла постройка особого плота, с которого подводный колодезь пробурят глубже и вставят в него широкую чугунную трубу.
VIII
В начале августа Перри получил от Карла Бергена служебный рапорт. Принес его воевода Салтыков:
— Вот, ваше превосходительство, тебе писуля пришла. Ребята мои сказывали, что мужицкая гнида вся с Татинского слюза анамеднись молчком ушла. Так я тебе спокой нащет слюза того даю: завтра баб тех, коих мужики убегли, всех сгоню на Татинку. А бегунов словлю и военно–полевому суду отдам. Снесу головы, тады поумнеют. Видно тах–то!.. — Я с тобой согласен, Салтыков! — сказал помертвевший от забот Перри. — Так стало, ты, ваше превосходительство, тады те смертные казни подпишешь? Упреждаю тебя, теперча ты тут всему делу голова… — Ладно, подпишу… — ответил Перри. — А еще, генерал, завтра у меня дочерины смотрины. Один ухажер московской, купецкий сын, мою Феклушу в дом себе примает на супружество. Так ты приходи потчеваться… — Благодарю. Может зайду. Спасибо, воевода. Салтыков ушел; Перри разодрал пакет Бергена: Конфиденциально КОЛЛЕГА ПЕРРИ!
«С 20 по 25 июля производилось бурение подводной скважины на Иван–озере — для углубления, уширения и прочистки ее. По вашей задаче, следствием должен быть сильный приток подземных вод в Иван–озеро.
Бурение остановлено на десятой сажени по причинам, сказуемым ниже.
В 8 часов вечера 25 июля желонка перестала таскать вязкую глину и вынималась с сухим мелким песком. При сей процедуре я присутствовал неотлучно.
Отчалив от бурильного плота, чтобы достигнуть берега по случайной нужде, я обнаружил торчащую траву над горизонтом воды, которой раньше не замечал. Ступив на береговое сухопутье, я услышал, что завыла собака, по местному прозвищу Плюшка, что питается с солдатского котла. Это меня немало смутило, несмотря на мою веру в Бога.
Солдаты–рабочие доказали мне, что с полудня и до сей поры вода в озере убывает. Подводная трава оголилась, и показались два невеликих островка по середине воды.
Солдаты были в ужасном страхе и говорили, что мы озерное дно сквозь продолбили трубой и озеро теперь исчахнет.
Действительно, на берегу явно был заметен вчерашний урез воды, а также нонешний, и разница была на полсажени ниже.
Воротившись на борт плота, я приказал бурение кончить и немедля начать забивку скважины. Для сего мы опустили в подводный колодезь чугунную крышку аршин в поперечнике, но ее сразу утащило в подземную глубину, и она пропала. Тогда начали забивать в скважину обсадную трубу, набитую глиной. Но и ту трубу засосала скважина, и она утащилась туда. И сосание то длится посейчас, и вода из озера гнетется туда безвозвратно.
Сему объяснение простое. Бурильной желонкой мастер пробил тот водоупорный глинистый пласт, на котором вода в Иван–озере и держалась.
А под тою глиной лежат сухие жадные пески, кои теперь и сосут воду из озера, а также железные предметы влекут.
И дальше не ведаю, что и делать, о чем и прошу ваших приказов».
Душа Перри, не боявшаяся никакой жути, теперь затряслась в трепете, как и подобает человеческой натуре. Бертран не выдержал такого роста горя и жалобно заплакал, упершись лбом в стол.
Судьба его нагоняла всюду: он утратил родину, потом Мери, теперь случилась неполадка работ. Он знал, что не выберется живым из этих просторных суходолов и не увидит больше ни Ньюкестля, ни Европы на том берегу, ни отца с трубкой, ни Мери в последний раз.
Пустая низкая комната звучала от неистового скрежета зубов и плача Перри. Он опрокинул стол и метался в тесноте, воя от хлынувшего страдания и потеряв всякий характер. Сила горя свирепела в нем и запечатлевалась как попало и без всякого надзора со стороны разума.
Смирившись затем, Бертран улыбнулся и устыдился такого бесстыдного отчаяния. Потом вынул книжку из чемодана и начал читать:
Артуръ Чемсфильдъ ЛЮБОВЬ ЛЕДИ БЭТТИ ХЬЮГЪ романъ в 3‑х томахъ и 40 частяхъ
«Сударыня! Любвеобильное сердце мое, терзаясь и стеная, взывает к вам с ангельской мольбою: предпочтите меня всем светским мужчинам или возьмите из груди сердце сие и скушайте его, как жидкое яйцо! Мрачный вихрь сотрясает своды моего черепа, и кровь пылает, как жидкая смола! Нюжли не приютишь, сударыня Бэтти? Нюжли не боишься надгробной тоски над чужеродным тебе, но верным человеком?..
Мистрис Бэтти, я знаю, что мистер Хьюг застрелит меня из старого ружья лежалым порохом, как только я приближусь к вашему дому. Пускай то случится! Пускай обличится роковая моя судьба!
Убийца я домашних очагов! Но сердце ищет милости под комбинезоном любимой, где бьется ее сердце под холмами наивных грудей!
Бродяга я неприютный! Но благосклонности прошу у вашего солидного супруга!
Мне наскучило любить лошадей и прочих животных, и я ищу любви у более квалифицированного существа — женщины».
Перри замер в нечаянном, но глубоком и свежем сне, а книга свалилась — навсегда не прочитанной, но интересной.
Наступил вечер; комната остыла, потускнела и наполнилась воздыханием неясных лучей тайного и захолустного неба.
IX
Прошел значительный год — долгая осень, длиннейшая зима и робкая редкостная весна.
Наконец, внезапно распустилась сирень — эта роза русской провинции, дар скромных палисадов и признак неизбежной деревенской мечты.
Вся группа работ, что именуется Государственным Доно—Окским Водным Ходом, была совершена.
Предстояло многолетнее плавание небольших и значительных судов, кои к лицу сухопутной стране.
Зной водворился с мая. Сначала поля заблагоухали телами юных растений, а потом, в июне, оттуда понесло прахом вянущих листьев и остротой скисающих от жаркого мора цветов: не было дождя.
На испытание шлюзов и каналов государь прислал французского инженера, генерала Трузсона, с особой коллегией при нем из трех адмиралов и одного инженераитальянца.
— Инженер Перри! — заявил Трузсон. — По приказанию государя–императора предлагаю вам через неделю весь путь от Дона до Оки привести в судоходное состояние! Я имею полномочия его величества освидетельствовать все водные сооружения, дабы обнаружить и установить их добротность и целям государя соответствие. — Слушаю! — ответил Перри. — Водный ход будет готов через четыре дня! — О, это знаменито! — провозгласил довольно Трузсон. — Исполняйте, инженер, и не задерживайте наше отбытие в Санкт—Петербург! Через четыре дня затворы водоспусков были опущены, и вода начала накопляться в шлюзовые плесы. Однако накоп был столь незначителен, что и в глубоких местах более аршина не получилось. Кроме того, когда вода, запертая шлюзами, чуть поднялась в реке, то подземные ключи перестали биться. На них налег тяжелый пласт воды и задушил их.
На пятый день вода в междушлюзные пространства совсем перестала добавляться. К тому же был зной, бездождие и из балок не было никакого подтока.
С Шати–реки от Муровлянского шлюза пущена была байдара, груженная лесом, с осадкой в пять четвертей аршина. Отплыв от шлюза на полверсты, она села на мель на самом фарватере.
Трузсон и его испытательная коллегия ездили на тройках по обочине водного пути.
Из крестьян, кроме нужных рабочих, никого не было на открытии водного хода. Мужики не чаяли, когда эта беда минует Епифань, а по воде никто не собирался плавать; может, пьяный когда вброд перейдет эту воду поперек и то изредка: кум от кума жил в те времена верст за двести, потому что сосед соседа в кумовья не брал — бабы не дружили.
Трузсон ругался по–французски и по–английски, но то была немощная ругань. А по–русски он не умел. Поэтому даже рабочие на шлюзах не пугались генерала — не понимали, чего кричал и брызгал ртом этот русский генерал из иноземцев.
А что воды мало будет и плавать нельзя, про то все бабы в Епифани еще год назад знали. Поэтому и на работу все жители глядели как на царскую игру и иноземную затею, а сказать — к чему народ мучают — не осмеливались. Только епифанские бабы жалели мрачного Перри:
— Удобен да статен, пралич, и не стар будто, а с бабами не жирует. Не то скорбь кака гложет, не то бабу свою схоронил — кто ж его знает, не сказыват… А уж дюже горемычен на лицо — аж жутко… На другой день нарядили сто мужиков мерщиками. Мужики пустились прямо вброд. Только у самых шлюзовых плотин они малость плыли, а то вброд всюду тянулись. В руках они несли шесты, и десятские зарубали на них глубины, а больше мерщики меряли голенями и потом отсчитывали четвертями, а в четверти у иных были пол–аршина. Пятипалая рука тогда имела мощный мах в пальцах и мерным работам не способствовала.
Через неделю все водные ходы были промерены, и Трузсон посчитал, что и лодка не везде пройти может, а в иных местах и плота вода не подымет.
А царь приказал глубину устроить, чтобы десятипушечным кораблям безопасно по ней плавать можно было.
Коллегия Трузсона составила испытательную ведомость и зачитала ее Перри и его сподручным немцам.
В ведомости говорилось, что каналы, а равно и шлюзованные речки, не гожи для плавания и кораблевождения по причине малости вод. Затраты и труды надо почитать напрасными и никому не впрок. Далее того предлагалось распорядиться воле царя.
— Да, — сказал один адмирал из приспешников Трузсона, — учредили водяной ход! Вечное посмешище установили, великие тяготы народные расточили!.. Испозорили, изглумили государя вдрызг, — у меня и то изжога началась от таких дедов!.. Ну, теперча гляди, немцы! И ты, агличанский чудотворец, теперь кнута жди — да это еще милость!.. Страхота сию ведомость царю доложить — морду хлобыстать почнет!.. Перри молчал. Он знал, что прожект был исполнен по изысканиям того же Трузсона, но все равно ему спасаться теперь не к чему.
На другой день, на восходе солнца, Трузсон уехал со своими людьми.
Перри не знал, куда ему деть привычную работоспособность, и гулял в степях целыми днями, а вечерами читал английские романы, но другие, а не «Любовь Бетти Хьюг».
Немцы сгинули через десять дней после Трузсона. Воевода Салтыков снарядил за ними угон, но угонные стражники еще не вернулись.
В Епифани из немцев остался только женатый Форх, как любивший супругу человек.
Воевода Салтыков учредил за Перри и Форхом неявный надзор, но то было известно и Перри и Форху. Салтыков ждал каких–то приказов из Петербурга и на глаза Перри не показывался.
Перри одичал сердцем, а мыслью окончательно замолчал. Начинать что–нибудь делать серьезное было ни к чему. Он знал, что его ждет расправа царя. Однако в кратком смысле он написал британскому посланнику в Петербург, прося его вызволить подданного британского короля. Но Перри чувствовал, что воевода не пошлет его письмо с очередной оказией или запакует его в казенную сумку и направит в Тайный Петербургский Приказ.
Через два месяца Петр прислал нарочного с секретным пакетом. Царский курьер ехал в карете, за каретой мчались мальчишки, и пыль за ними расцвечивалась радугой от вечернего солнца.
Перри стоял в тот час у окна и видел весь этот скорый ход собственной судьбы. Он сразу догадался, с чем приехал посланец, и лег спать, чтобы скоротать ненужное время.
На другой день, на заре солнца, к Перри постучали.
Вошел воевода Салтыков:
— Аглицкий подданный, Бердан Рамзеич Перри, объявляю тебе волю его императорского величества: с сего часа ты не генерал, а штатский человек и сверх того преступник. На государеву расправу ты пешеходом гонишься в Москву со стражниками. Собирайся, Бердан Рамзеич, освобождай казенное помещение!..
X
В полдень Перри шел по среднерусскому континенту и созерцал встречные травинки. За спиной его был мешок, а рядом стражники.
Дорога ожидала дальняя, и стражники были добры, чтобы не тратить зря душу на злобу.
Два стражника были родом из Епифани. Они сказали Перри, что завтра с утра начнут пороть в пыточной хате немца–остальца — Форха. Царь будто другой никакой казни ему не назначил, а только дать дюжую порку и выгнать в Неметчину.
Дорога в Москву оказалась столь длинна, что Перри забыл, куда его ведут, и так устал, что хотел, чтоб его поскорее довели и убили.
В Рязани епифанские стражники переменились. Новые стражники сказали Перри, что как бы войны с аглицкой державой не было.
— А что так? — спросил Перри. — Петр–государь, сказывают, пымал у царицы на спальных снастях полюбовника, а тот аглицким посланцем окажись! Петр–царь ему голову отруби да царице ее в шелковом чувале и пришли!.. — Неужели так? — спросил Перри. — А ты думал? — сказал стражник. — Видал нашего царя? Громадный мужчина! Сказывают, он тому посланцу руками голову оторвал, будто куренку какому! Шуточное ли дело? Только я слыхал, из женчины царь народ на войну не тронет… Под конец дороги Перри не чувствовал ног. Они у него распухли, и он шел, как в валенках. Один стражник — старик — на последней ночевке ни с того ни с сего сказал Перри:
— И куды мы тебя ведем? Может, на мертвую казнь!.. Нонешний царь горазд на всякую лютость… Я б убёг на глазах! Пра! А ты идешь цыплаком! Кровя, брат, у тебя дохлые — я б залютовал во как и в порку не дался, тем более в казнь!..
XI
Перри привели в Кремль и сдали в башенную тюрьму. Ничего ему не говорили, и Перри перестал пытать судьбу.
В узкое окно он всю ночь видел роскошь природы — звезды — и удивлялся этому живому огню на небе, горевшему в своей высоте и беззаконии.
Такая догадка обрадовала Перри, и он беспечно засмеялся на низком глубоком полу высокому небу, счастливо царствовавшему в захватывающем дыханье пространстве.
Перри проснулся сразу, не помня, как он заснул. Проснулся он не сам по себе, а от людей, которые стояли перед ним и негромко говорили, не будя заключенного, но он сам проснулся, почуяв их.
— Бертран Рамзей Перри, — сказал дьяк, вынув бумажку и прочтя имя, — по приказу его величества, государя императора, ты приговорен к усечению головы. Больше мне ничего не ведомо. Прощай. Царствие тебе Божье! Все ж ты человек! Дьяк ушел и задвинул снаружи наглухо двери, не сразу управившись с железом. Остался другой человек — огромный хам, в одних штанах на пуговице и без рубашки.
— Скидавай портки! Перри начал снимать рубашку. — Я тебе сказываю — портки прочь, вор! У палача сияли диким чувством и каким–то шумящим счастьем голубые, а теперь почерневшие глаза.
— Где ж твой топор? — спросил Перри, утратив всякое ощущение, кроме маленькой неприязни, как перед холодной водой, куда его сейчас сбросит этот человек. — Топор! — сказал палач. — Я без топора с тобой управлюсь! Резким рубящим лезвием влепилась догадка в мозг Перри, чуждая и страшная его природе, как пуля живому сердцу. И эта догадка заменила Перри чувство топора на шее: он увидел кровь в своих онемелых, остывших глазах и свалился в объятия воющего палача. Через час в башне загремел железом дьяк.
— Готово, Игнатий? — крикнул он сквозь дверь, притулясь и прислушиваясь. — Обожди, не лезь, гнида! — скрежеща и сопя отвечал оттуда палач. — Вот, сатана! — бормотал дьяк. — Такого не видал вовеки: пока лютостью не изойдет — входить страховито!
Зазвонили к «Достойно» — отходила ранняя обедня.
Дьяк зашел в церковь, взял просфорочку для первого завтрака, и запасся свечеч
кой — для вечернего одинокого чтения.
* * *
Епифанский воевода Салтыков получил в августе, на яблошный спас, духовитый пакет с марками иноземной державы. Написано на пакете было не по–нашему, но три слова — по–русски:
БЕРТРАНУ ПЕРРИ ИНЖЕНЕРУ
Салтыков испугался и не знал, что ему делать с этим пакетом на имя мертвеца. А потом положил его от греха за Божницу — на вечное поселение паукам.
Епифанские шлюзы — Впервые в журнале «Молодая Гвардия», 1927, № 6.
В письмах (1926–1927 г. г.) из Тамбова в Москву, Платонов, «губернский мелиоратор », развернувший работы по осушению болот, по очищению рек Черная Калитва, Тихая Сосна, наживший немало врагов–сослуживцев — из–за своей чрезмерной, вненормативной активности, «ненужной» талантливости! — несколько раз сообщает жене М. А. Платоновой о «Епифанах», т. е. о повести «Епифанские шлюзы», о работе, посвященной «Волгодонскому каналу Петра I». Он не обозначает жанра произведения, пишет то, «что выйдет»:
«Работаю над Епифанами…
Очень мало исторического материала, опять придется лечь на свою «музу»: она одна еще мне не изменяет…
«Епифанские шлюзы» написаны, не веришь?.. Петр казнит строителя шлюзов Перри в пыточной башне в страшных условиях. Палач — гомосексуалист. Тебе это не понравится. Но так нужно.
Нравятся тебе такие стихи:
Любовь души, заброшенной и страстной, Залог души, любимой божеством…
Спутал, забыл, очень старо, но хорошо. Это писал Перри, когда был женихом Мери Карборунд. Потом она стала женой другого. Потом прислала в Епифань из Нью—Кастля неизвестное письмо, его положил за икону к паукам епифанский воевода, а Перри умер в Москве. Шлюзы не действовали. Народ не шел на работы в глухих местах. Вот тебе Епифанские шлюзы…» («Живя главной жизнью: В кн. Платонов Андрей. Государственный житель. М., 1986, с. 552, 553–554).
В отдельном письме Платонов «вспомнит» куда более точно те стихи, что «написал » Перри в далекую Англию еще не наказанной, «догматичной, несокрушимой, как резец, как «карборунд», невесте: «Возможность страсти, горестной и трудной…» Вспоминать и уточнять, видимо, не было особой нужды: Платонов попросту досочинил цитату, вверенную им своему герою, из ранней поэмы — кого? угадать почти невозможно? — И. С. Тургенева. Да, из его ранней поэмы «Параша» (1843). Вводить ее в число источников повести неутомимого эколога планеты, певца умных машин Платонова весьма трудно, несколько непривычно. И все же…
У Тургенева эти неожиданные в платоновском космосе строчки, обращенные романтиком- гегельянцем к своей героине, варианту пушкинской Татьяны, звучат все же иначе:
Но взгляд ее задумчиво–спокойный Я больше всех любил: я видел в нем Возможность страсти горестной и знойной, Залог души, любимой божеством.
«Знойность», конечно, не входила в число добродетелей платоновской женщины, вечно антисексуальной: он сделал страсть и «горестной и трудной».
Но все остальное в повести, в диалоге, споре Перри и Мери? Странно, но перекличка мотивов действительно углублена и ужесточена.
О каком «залоге», да еще пропавшем, идет речь? Почему, на наш взгляд, именно и эти две строчки и вся драма усадебной тургеневской девушки Параши, тоже дурно распорядившейся «залогом», уникальной возможностью страсти горестной и знойной, так глубоко тронула Платонова?
Согласно тургеневской философии 40‑х годов, — а он только что вернулся из Германии, отчизны Канта, Гегеля, — в человека вкладывается божеством (конечно, гегелевским «абсолютным духом») некий дар, залог, волшебный огонь, возможность свершить подвиг любви, творчества, прожить жизнь в состоянии, как говорили романтики, «святого, благодатного страданья», не утратить, не распылить этого святого дара, частицы мировой силы любви (мирового эроса) в среде житейской пошлости, обыденности. Тургеневская Параша не стала «женщиной небывалой», предпочла обыкновенный брак, житейский расчет, обменяла свой залог на заурядно–счастливый брак. И в финале поэмы Тургенев пишет: «Но все же мне слышен хохот сатаны…» Сатана смеется над Богом, вложившим доверчивой Параше такой чудесный залог в слабую, грешную человеческую душу. От кого ты, слепец, ждал чуда, подвига, величия?
Автор слышит этот хохот, скорбит над проигрышем Бога и не хочет видеть замужнюю «Прасковью Николаевну», вполне испортившую себя:
Но — Боже! то ли думал я, когда Исполненный немого обожанья, Ее душе я предрекал года Святого, благодатного страданья!
В повести Платонова в силу разных причин «пропадают» целых два божественных залога. Вначале Мери Карборунд признается Перри, что ей нужна семья, дом, любовь попроще: «Я женщина, я слаба без тебя, как веточка, и отдала свою жизнь другому». Затем сам Перри, убедившись, что шлюзы не состоялись, тоже ощущает: и его дар гения, инженера, и его «залог» здесь, в России, тоже пропали. Не ему суждено победить судьбу под этим российским загадочным небом. Не случаен в повести образ «страшная высота неба над континентом» и сам взгляд жителей Епифани на стройку: «на работу все жители, глядели как на царскую игру и на иноземную затею, а сказать — к чему народ мучают — не осмеливались». И здесь сатана может посмеяться над Богом. Впрочем, сатана и смеется над сыном Божьим в сатанинском облике душителя, палача–гомосексуалиста, «огромного хама», обходящегося без топора: «У палача сияли диким чувством и какимто щемящим счастьем голубые, а теперь почерневшие глаза».
По сути дела в повести свершаются две трагедии, исходная причина которых односторонность, мелочное, тщеславное решение человека, его мелкие расчеты, явно разрушающие цельность души, залог божества в ней. Обе трагедии уводят мысль и чувство писателя далеко за пределы и условного Нью—Кастля, где рассчетливо–эгоистичная Мери была сурово наказана утратой того, что «дороже всех моих кровных драгоценностей» — маленького сына, — и Епифани, где честолюбец Перри, разрушитель и убийца домашних очагов, видит, как иссыхает Иван–озеро, как в скважину, неразумно пробитую трубой, вода уходит. И не просто уходит: «гнетется туда безвозвратно ».
Позднее, в статье «О социалистической трагедии», опубликованной лишь в 1991 году, Платонов скажет о неумолимом возмездии за любой эгоизм, дисгармонию, за слепую суетливую растрату самой «возможности страсти, горестной и трудной»: «Надо не высовываться и не упиваться жизнью: наше время лучше и серьезнее, чем блаженное наслаждение. Всякий упивающийся обязательно пропадает и гибнет, как мышонок, который лезет в мышеловку, чтобы «упиваться» салом на приманке. Кругом нас много сала, но каждый кусок на приманке».
Трудно согласиться с вульгарно–политизированным, измельчающим замысел писателя, систему его тревог за человеческие решения и влечения выводом, привязкой по времени, современного толкования повести: «Строительная гигантомания «отца народов» (т. е. создание Магнитки, Уралмаша, сотен машиностроительных, танковых и автозаводов — В. Ч.), стоившая жизни миллионам (?!) людей, служит самым убедительным комментарием к цитатам из Платонова» (Громов—Колли А. Заметки об исторической реальности, условном прототипе и проблематике повести «Епифанские шлюзы», в сб. «Страна философов» Андрея Платонова, вып. 2, с. 216).
Безусловно, любопытны и многие традиционные указания на первоисточники повести: реальные материалы работы англичанина, капитана Перри («Перрия») по прорытию шлюзового канала, соединяющего бассейны Волги и Дона (их собрала Т. А. Никонова в давнем «Комментарии к повести А. Платонова «Епифанские шлюзы» В кн.: Творчество Платонова. Воронеж, 1970) и произвольные версии Л. Аннинского о главном конфликте повести — о «столкновении европейского сознания с россами, которые «дики и мрачны в невежестве своем», о бездуховности европейского, точечного арифметического сознания» Т. Перри, якобы променявшего на закон свободу своего духа» (Аннинский Л. Запад и Восток в творчестве Андрея Платонова. «Народы Азии и Африки», 1967, М., с. 104–105).
Более точна оценка главного конфликта повести, данная Е. Толстой—Сегал:
«Платонов, обратившись к «петровской» теме, находит оригинальную позицию: он не склонен объяснять гибель героя — честного инженера — англичанина Перри, не смогшего осуществить смелый замысел Петра — канал между Доном и Окой, — ни действием «стихийных косных сил», ни вмешательством «европейских чуждых сил»… «Утечка» (т. е. неполная стыковка, дисгармония между европейским разумом и «азиатской » стихией» — В. Ч.) происходит в цепи передач между идеей и действительностью: идея искажается, а действительность разрушается… Фатализм Перри проистекает из того же саморазрушающего импульса, что и влюбленность в дикую страну: по сути дела, это та же завороженность дикостью, как и у «попутчика» (того же писателя Б. Пильняка — В. Ч.), вглядывающегося в «стихию», или «спеца», обольщенного размахом «преобразования природы» (Толстая—Сегал Е. «Стихийные силы»: Платонов и Пильняк (1928–1929). В сб. Slavica Hierosoly–mitana. Vol. III. Jerusalem, 1978, s. 95).
Эта традиция — оценивать повесть как героическую, «вовлеченную» в летописание славных дел Петра, как своеобразное продолжение платоновских работ по обводнению области, созданию дешевых водных путей, — мешает все же увидеть тот смысл, который заключен и в гибели Перри, и в жизненной катастрофе Мери. Почему–то комментаторы почти не обращают внимания на то, что реальный Перри вовсе не погиб в застенке, а свободно уехал в Англию. А столь злополучные каналы в повести, составляющие якобы «историческую канву событий» (Т. А.Никонова), оказывается, были успешно построены и какое–то время действовали, пропустив до 300 судов.
Андрей Платонов — лучший, не умозрительный комментатор своих произведений. Трагический финал «Епифанских шлюзов», «утечку» счастья, равновесия, возможного и свершившегося на стыке техники и природы, он объяснил предельно ясно:
«Между техникой и природой трагическая ситуация. Цель техники — «дайте мне точку опоры, я переверну мир». А конструкция природы такова, что она не любит, когда ее обыгрывают… Природа держится замкнуто, она способна работать лишь так на так, даже с надбавкой в свою пользу, а техника напрягается сделать наоборот… Мы лезем внутрь мира, и он давит нас в ответ с равнозначной силой» («О социалистической трагедии»).
Примечания
1
Танаид — древнегреческое название реки Дон. — (Прим. ред.).
(обратно)2
Здесь — консул. — (Прим. автора).
(обратно)3
Шахтмейстер — горнорабочий (нем.)
(обратно)

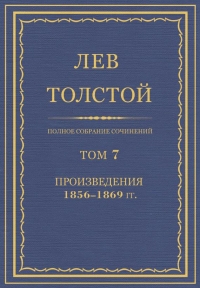
Комментарии к книге «Епифанские шлюзы», Андрей Платонович Платонов
Всего 0 комментариев