Юрий Павлович Анненков Повесть о пустяках
Глава 1
1
Божиею милостью МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ, Император и Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий Князь Финляндский и прочая, прочая и прочая… Объявляем всем верным НАШИМ подданным:
Следуя историческим своим заветам, Россия, единая в вере и крови со славянскими народами, никогда не взирала на их судьбу безучастно. С полным единодушием и особою силою пробудились братские чувства русского народа к Славянам в последние дни, когда Австро-Венгрия предъявила Сербии заведомо неприемлемые для державного государства требования.
Пpeзрeв уступчивый и миролюбивый ответ Сербского правительства, отвергнув доброжелательное посредничество России, Австрия поспешно перешла и вооруженное нападение, открыв бомбардировку беззащитного Белграда.
Вынужденные, в силу создавшихся условий, принять необходимые меры предосторожности, МЫ повелели привести Армию и Флот на военное положение, но, дорожа кровью и достоянием НАШИХ подданных, прилагали все усилия к мирному исходу начавшихся переговоров.
Среди дружественных сношений союзная Австрии Германия, вопреки НАШИМ надеждам на вековое доброе соседство и не внемля заверению НАШЕМУ, что принятые меры отнюдь не имеют враждебных ей целей, стала домогаться немедленной их отмены и, встретив отказ в этом требовании, внезапно объявила России войну.
Ныне предстоит уже не заступаться только за несправедливо обиженную родственную НАМ страну, но оградить честь, достоинство, целость России и положение ее среди Великих Держав. Мы непоколебимо верим, что на Защиту Русской Земли дружно и самоотверженно встанут все верные НАШИ подданные.
В грозный час испытания да будут забыты внутренние распри. Да укрепится еще теснее единение ЦАРЯ с ЕГО народом и отразит Россия, поднявшаяся, как один человек, дерзкий натиск врага.
С глубокою верою в правоту НАШЕГО дела и смиренным упованием на Всемогущий Промысел, МЫ молитвенно призываем на Святую Русь и доблестные войска НАШИ Божие благословение.
Дан в Санкт-Петербурге, в двадцатый день июля в лето от Рождества Христова тысяча девятьсот четырнадцатое, Царствования же НАШЕГО в двадцатое.
НИКОЛАЙ.Июльская пыль чернела над крышами Петербурга. Строительные работы были в разгаре. Взрытые мостовые громоздили свежеобтесанный торец, и красные рогатки, взбираясь по хребтам, преграждали движение; дома, зачеркнутые лесами, источали зной.
ОТ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА ОБЪЯВЛЯЕТСЯ: госпожам статс-дамам, камер-фрейлинам, гофмейстеринам, фрейлинам, господам придворным и прочим кавалерам и всем особам, имеющим приезд ко Двору.
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ВЫСОЧАЙШЕ повелеть соизволил: 20-го сего июля иметь приезд к молебствию о ниспослании русскому оружию победы над врагом, в Зимний ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА дворец, к 3 часам дня, вышеписанным особам, а также гвардии, армии и флота генералам, адмиралам, штаб- и обер-офицерам. Дамы имеют быть в высоких платьях и шляпах, кавалеры военные в летней парадной форме…
В тронной зале Император Николай II произнес:
— Со спокойствием и достоинством встретила наша Великая Матушка Русь известие об объявлении Нам войны. Убежден, что с таким же чувством спокойствия Мы доведем войну, какая бы она ни была, до конца! Я здесь торжественно заявляю, что не заключу мира до тех пор, пока последний неприятельский воин не уйдет с земли Нашей, и к вам, собранным здесь представителям дорогих Мне войск гвардии и Петербургского военного округа, в вашем лице, обращаюсь ко всей единородной, единодушной, крепкой, как стена гранитная, армии Моей и благословляю ее на труд ратный.
В булыжную пыль Дворцовой площади втекал народ тысячами, десятками тысяч. Государь с государыней показались на балконе. На приветственные клики народа царь ответил наклонением головы.
2
Действие, или — вернее — бездействие, настоящей повести протекает в Петербурге. Санкт-Петербург, вторая столица Российской Империи, резиденция Императорской Фамилии, важный коммерческий порт Балтийского моря, лежит на 59°57′ северной широты и 30°20′ восточной долготы от Гринвича. Он занимает площадь, равную 75 кв. верст<ам> без внутренних вод, с последними же — 81 кв. вер.; почти 10 % этой площади находится под садами и бульварами. Окружность этой площади исчисляется в 43 версты, причем наибольшее ее протяжение с севера на юг равно 12 вер., а с запада на восток — 11 вер.
Город расположен при устье реки Невы, на обоих ее берегах и островах, образуемых ее рукавами; Нева, вступая в город, делает дугу длиной более 12 верст. Ширина реки колеблется от 158–278 саж., а средняя глубина равна 7 саж. По руслу реки в сутки протекает 35 миллиардов ведер воды, скорость же течения колеблется от 3 ½ до 6 верст в час.
Петербург лежит в обширной котловине, окаймленной на севере Парголовскими высотами, а на юге — холмами Пулкова и Лигова. Низменность Невской дельты имеет склон к Неве и Финскому заливу; наиболее приподнята ее северо-восточная часть, наименее — юго-западная. Такое положение столицы обусловливает частые наводнения, от которых в особенности страдают ее приморские местности (Галерная гавань). Выходящими с правой стороны Невы рукавами, Большой Невкой и Малой Невой, омывается главная группа островов, зеленая часть города (там много березы, липы и рябины, но больше всего клена; ребятишки любят приклеивать на нос кленовые стручки); против центральной части города лежит Петербургская сторона, северная часть которой, отделенная речкой Карповкой, составляет Аптекарский остров. Затем Большая Невка дает от себя два рукава — Среднюю и Малую Невку, между которыми расположены Елагин остров (белые ночи в пору первой влюбленности; скамейки в уединенных аллеях; казенные дачи с холщовыми террасами; паруса Яхт-клуба, весна, серебристо-желтый залив), а также Каменный и Крестовский, разделенные между собою речкой Крестовкой. Между Большой и Малой Невой лежит Васильевский остров, небольшой северный участок которого, за Смоленской речкою, носит название острова Голодая.
Левый берег Невы — центр города — перерезан каналами. Главный канал, обтекающий центральные части Петербурга, — Фонтанка; из него берет начало Мойка, в свою очередь выделяющая Екатерининский канал. Когда на город ложится туман, Мойку можно принять за черную асфальтовую дорогу. Каналы эти впадают в Неву близ ее устья. Наконец, Обводный канал, направляющийся из Невы до реки Екатерингофки, обнимает собой почти весь город. Обводный канал омывает пустыри и заборы заводских дворов и железнодорожных построек. В этой части города туманы неизбежны. Если случается сухой день, над каналом стелются фабричные дымы, паровозная гарь. Плачут свистки.
16-го мая 1703 года царь Петр I заложил крепость на Заячьем острове и вблизи от нее — церковь во имя Св. Троицы. Момент заложения крепости освящен появлением орла над головой царя. Планировка города была выполнена французским зодчим Лебланом согласно личным указаниям Петра… От центральной части города, Адмиралтейства, радиусами расходятся главные улицы…
Зимой Петербург, с Невой и Невками, с каналами и островами, превращается в искристый леденец, сверкающий на красноватом солнце; улицы даже днем бывают устланы звездами, и по ним, по звездам, летают певучие санки.
3
Над Петербургом плывет туман. Петербургский туман похож на лондонский, как канцелярия Акакия Акакиевича на контору Скруджа. Туман порождает чудесные вещи. Дух Марлея был лоскутом городского тумана под старомодным серым цилиндром. Нос коллежского асессора Ковалева, в треуголке с плюмажем, разгуливал по Невскому проспекту и даже заходил в магазин Юнкера. Множество замечательных происшествий случалось почти ежедневно, — действие тумана не подлежало сомнению. Нынче чудес не бывает, но туман остался таким же. Его хлопья, лоскутья — серо-желтые призраки заволакивают город, медленно изгибаясь, меняя очертания, становясь все плотнее и непроницаемее. Город плывет, покачиваясь, пустой, холодный, беззвучный. Плывет воспоминание о городе, пропавшем в тумане. На Троицком мосту, в углублении на скамейке, сидит подбитый ветром и туманом человек, дымя папиросой. Приложив руку к козырьку фуражки, художник Хохлов просит разрешения прикурить.
— Ни под каким видом! — протестует человек, сидящий на скамейке. — Вас это удивляет? Не удивляйтесь. Я вот сижу, курю, а мимо ходят разные и прикуривают, кому не лень. Я решил: до десятого — дам, а дальше — определенно не позволю. Ни под каким видом! Десять человек на одну папиросу вполне достаточно, до противности. Вы одиннадцатый. Это уже не конструктивно.
Люди возникают в тумане подобно актерам из-за складок занавеса. Выходит статист в красноармейском шлеме.
— Даешь огонь! — говорит Хохлов.
— А, будьте любезны! — отвечает статист в шлеме.
Он затягивается напоследок, передает Хохлову окурок и скрывается за занавесом.
— Этот — тоже одиннадцатый, — обращается художник к сидящему. — Десять (из них десятый — вы) мне уже отказали. Категорически. Десять на одну папиросу.
Так они познакомились. Человек, подбитый туманом, назвал себя:
— Конструктор Гук. Ученый паек третьей категории.
Они пошли рядом. Конструктор Гук говорит:
— Там, на углу, на воображаемом углу, проектируемом в тумане, мы купим в складчину коробку спичек, разделим ее пополам. Потому что я тоже прикурил от прохожего. По моим наблюдениям, одна коробка спичек приходится как раз на каждого десятого курильщика. Десять человек на одну коробку. Или: одна коробка на десять человек.
Туман темнеет. Произносимые в тумане слова осыпаются у самых ног говорящего. В памяти вспыхивают, без видимой связи, лица, числа, картины, события. В своем непостижимом архиве человеческий мозг хранит их воспоминания — в беспорядке, вперемежку, извлекая наудачу одно за другим и отбрасывая их в сторону, как листки отрывного календаря. В каждую минуту настоящего вплетается случайное видение прошлого. Так ткется жизнь.
Они ходят по мертвому городу. Они философствуют, спорят, сражаются, размахивают руками. Ходят по мертвому городу. В сущности, города нет: есть туман, хранящий о нем воспоминание. Пространство и время беспредметны. Земля и небо сливаются в одно грязное, черно-желтое месиво. Они шагают по небольшой платформе, мощенной булыжником, которая передвигается одновременно с ними. Платформа окружена беспредметностью. Платформа ловит каждый их шаг, сойти с нее в беспредметность оказывается невозможным. Это доступно только встречным прохожим, неожиданно вступающим на платформу и сейчас же сходящим с нее, чтобы утонуть в тумане, за занавесом. Фонари не зажигаются. Утверждать, что платформа, мощенная булыжником, все еще ползает по животу Троицкого моста, затруднительно. Возможно, что она передвинулась на Васильевский остров. Временами загораются серные спички, купленные в складчину. События, огромные по своему объему, по глубине содержания, по драматизму, по выводам, происходят как бы в соседней комнате, за перегородкой; как бы за сеткой дождя, отвлекающего внимание и заставляющего думать о другом, о зонтике или калошах. Нераспознанные, едва уловимые близорукими глазами (люди в большинстве близоруки), распыленные, несобранные, несброшюрованные романы. Романы, рассыпавшиеся по страницам, перетасованные, как колода карт. Отрывной календарь — самый захватывающий вид чтения.
4
В один из зимних дней, сверкавших леденцами на красноватом солнце, точнее — 1-го января 1900 года, в Плуталовом переулке на Петербургской стороне Дмитрий Дмитриевич Винтиков подкатил на запорошенных звездами извозчичьих санках к подъезду двухэтажного деревянного дома.
Дмитрий Дмитриевич Винтиков, чиновник дворцового ведомства, в мундире, расшитом золотыми папоротниками, вошел в гостиную, придерживая треуголку.
Interièur:
В гостиной — пальмы, много цветов и много визитеров, всё больше мужчины. Коленьке Хохлову восьмой год, он немного старше двадцатого столетия. На Коленьке красные сафьяновые сапожки; бархатные шароварчики; бледно-голубая шелковая косоворотка, подпоясанная позументовым кушачком; Коленька курчав и светел, похож на ярославскую кустарную игрушку.
Его мать молода, стройна и очень красива, ей едва за тридцать лет. Длинное, до самого пола, шоколадное шелковое платье с необычайно пышными буфами на рукавах: от локтей к плечам они вздуваются высокими горками. Тонкая талия еще не потеряла своей гибкости. Над корсетом, облитые шоколадным блеском материи, круглятся нежные полушария груди. Каштановый аграмант, в тень, нашит по платью узорами, листвой диковинных растений с завитушками. Из-под оборок юбки выскальзывает носок бронзовой туфли.
В гостиной обои гранатового цвета. Белые гардины с гипюровыми прошивками, плюшевые портьеры и ламбрекены — цвета бордо; портьеры подтянуты и взбиты, подобно рукавам на платье хозяйки дома и Полины Галактионовны Щепкиной, забежавшей к Хохловым на минутку. Малиновая плюшевая мебель — пуфчики, козетки, еще козетки и пуфчики, множество фисташковых подушек в букетах бледно-розового, лилового и кумачово-красного гаруса, бамбуковые столики для семейных альбомов и томных, телесно-розовых раковин, портьеры, ламбрекены и скатерти — все окаймлено бахромой с кистями. Дорожка на скатерти расшита настоящими желудями… Посреди комнаты, упираясь в потолок, стоит покрытая золотым дождем и звездами елка, дышащая печальным ароматом опавшей хвои. За окнами горит январь.
Genre:
В гранатовую гостиную, в тяжелые складки плюша, в бахрому с кистями входит Дмитрий Дмитриевич Винтиков и, положив треуголку на бамбуковый столик с перекрещенными ножками, целует руки дамам; грудь сверкает звездами, как мороз на окнах, как ветви умирающей ели, — звезды Шаха Персидского, Эмира Бухарского, Султанов Турецкого и Марокканского, Магараджи Индийского, президента Чилийского и много других. Остряки ищут среди них звезду Сиамских Близнецов.
За столом, на диване, студент в зеленом сюртуке при шпаге восторженно доказывает Полине Галактионовне Щепкиной, что наступит время, когда люди будут разъезжать в автомобильных экипажах, а лошадей станут показывать в зоологических садах; в Париже, в Булонском лесу, уже можно наблюдать такие прогулки довольно часто. Студента все называют Вовкой. Полина Галактионовна жеманно и недоверчиво смеется. Над ними, на гранатовых обоях, по обе стороны дивана, висят в дубовых рамочках портреты Коленьки Хохлова с матерью, а в середине, в тонком золоченом багете с закругленными углами, автотипия Сикстинской Мадонны.
Кухарка Настасья (в то время у Хохловых еще не было горничной) зажгла в столовой висячую лампу, подышав в стекло. Сюртуки, которых много было в темно-красной, коврово-плюшевой гостиной, перебирались один за другим в столовую. — С Новым годом, с Новым веком! — провозглашали гости, опрокидывая холодные, запотевшие рюмки.
— Бувайте здоровеньки, — шутил Коленькин отец, чокаясь.
— Спич! Спич! Спич!
Вовка произнес спич в честь победоносных шагов цивилизации, в честь электрического освещения и антидифтеритной прививки («Ваши буфы меня волнуют!» — успел он шепнуть Полине Галактионовне между двумя фразами), в честь автомобильного передвижения, операции аппендицита и живой фотографии.
— Жизнь — это цепь страданий! — сказала Полина Галактионовна, подумав об аппендиците.
— За здоровье преосвященного! — воскликнул Винтиков. — Слезами все равно не поможешь.
Пухлый младенец в полумаске, с римской цифрой ХХ в руке, порхал над розовым, как он сам, йоркширским окороком, над кильками и бутылками, над анекдотами Винтикова и городскими сплетнями, прыгал в черноту почтовых ящиков и странствовал на поздравительных открытках…
Nature morte:
Из столовой доносились в потемневшую гостиную шумные голоса, смех Полины Галактионовны, звон посуды. В гостиной покоились зимние сумерки. Треуголка Винтикова раскрывалась, как большая черная раковина, и в самом сердце ее, на атласной подкладке, серебрились буквы Д. и В. Фетровая треуголка с великолепной розеткой, отдыхавшая на плюшевом альбоме семейных фотографий, бамбуковый столик с фисташковой бахромой в помпончиках — на фоне гранатовых обоев — были, пожалуй, достойны того, чтобы их перенесли в таком сочетании в вечность.
5
Биография Коленькина отца, потомственного дворянина Ивана Павловича Хохлова, страстного любителя книги и обладателя крохотной библиотеки в полтораста корешков, составленной преимущественно из бесплатных приложений к «Ниве» (Шеллер-Михайлов, Мамин-Сибиряк, Гарин-Михайловский, Мельников-Печерский, Салтыков-Щедрин, Немирович-Данченко, Щепкина-Куперник…), такова:
В 80-х годах прошлого столетия за участие в студенческих беспорядках юрист Хохлов исключается из Московского университета. В следующем году он поступает на медицинский факультет в Казани, но вскоре его увольняют и оттуда. Физико-математическое отделение Харьковского университета. Организация подпольных рабочих кружков. Высылка из Харькова. Петербург, историко-филологический факультет. Арест за распространение крамольных идей, равно как и за проживание по подложным документам. Высылка по этапу в Одессу. Восемь месяцев казарм. Новороссийский университет. Арест за тайное сношение с моряками Черноморского флота. Тюрьма. Юрьевский университет. Арест. Снова Петербург, но уже не университет, а Петропавловская крепость, одиночная камера, ночные куранты.
Там Иван Павлович Хохлов отращивает широкую бороду и пишет удивительную книгу «О дружбе с пауками различных пород», которая, впрочем, остается неизданной. Проработав около двух лет над этой рукописью, полной тончайших наблюдений, а также сочинив несколько стихотворений о положительных сторонах одиночного заключения — Хохлов был несомненным лириком, — он по этапу отправляется на поселение в Сибирь и через семь месяцев пути прибывает в Якутск.
С некоторым запозданием туда же приезжает невеста Хохлова и будущая мать Коленьки. Нестерпимо синим вечером, укутанный в полярные меха с головы до ног, пошел Хохлов далеко за город, к самой последней административной черте, встретить невесту. В звоне бубенцов, в снежной пыли проносится мимо него почтовая тройка.
— Таня! — кричит Хохлов. — Таня! Танюш!..
Кричит и машет руками, но в сумерках, в звоне бубенцов, запорошенная снегом, она не услышала его голоса и не обернулась. Хохлов бежит за санями, радостные рыдания мешают бежать, он спотыкается, падает в снег и снова бежит и машет руками.
— Таня!
Через двадцать лет старый народоволец Иван Павлович Хохлов заседал в Петербургском комитете кадетской партии. Путь не совсем прямой, но пройденный с безупречной искренностью, он доказывал, что внутренняя логика его была, очевидно, сильнее внешних несоответствий. Поэтому Хохлов не удивился, когда, оглянувшись, увидел рядом с собой бывших своих товарищей по подполью, по тюрьмам и ссылке: седеющих, полысевших, тучных адвокатов, писателей, врачей, земских деятелей, депутатов…
Хохлов возглавлял крупнейшее акционерное общество, имевшее отделения в самых захолустных углах Империи до Якутска включительно, где Иван Павлович когда-то сам открыл агентство, занимаясь делами в свободное от чинки чужих сапог время. Он уже отпраздновал пятнадцатилетний служебный юбилей, получив в подарок роскошный бювар с золотой монограммой, золотые часы с репетитором и с платиновой монограммой, ящик столового серебра, кабинет орехового дерева и зеленой кожи, «Потерянный и Возвращенный Рай» Мильтона в тисненом переплете и, наконец, увеличенную до двух аршин в длину фотографию, изображавшую юбиляра среди сослуживцев, в малиновой раме с золотыми кувшинками и лягушками. Фотография тут же была запрятана за платяной шкаф в коридоре, где довольно быстро стала приходить в негодность: сначала обломались лепные кувшинки с лягушками, потом разбилось стекло, и сквозь трещину проникла на физиономию угрюмого сослуживца пыль, за пылью — паутина. Но, вероятно, была в этом подношении некоторая доля торжественности и юбилейной грусти, потому что его так и не решились окончательно выбросить за дверь.
Хохлов носил сюртук маренго из настоящего английского сукна: Иван Павлович недолюбливал «лодзинскую продукцию», хотя и собирался в ближайшем будущем приобрести акции одного из лодзинских мануфактурных предприятий. Свою бороду, в которую уже просочилась седина, Иван Павлович подстригал теперь клинышком, а по жилету ползла тяжелая золотая цепочка с юбилейным жетоном. Жизнь Ивана Павловича была дорого застрахована в обществе «Урбэн».
Солидная квартира на Фурштадской улице (Плуталов переулок на Петербургской стороне, затем Бассейная улица у самых Песков, наконец — Фурштадская) говорила о жизни если и не богатой, то во всяком случае благополучной и независимой.
6
Год за годом нарастал быт в семье Хохловых. Чашки, прижавшись друг к другу, дремали фаянсовой дремой в обширном дубовом буфете, пестрые блюдца громоздились высокими слойками, ножи и вилки, ложки и ложечки — в удобных ящиках. Внизу, в подвалах буфета, теснились тарелки, блюла, миски, соусники. За буфетом висело холщовое чайное полотенце, вышитое петухами, и возвышался на столике самовар, похожий на кавалергарда.
Жена Хохлова добрела, ширилась, расплывалась…
Всеми своими корнями, всеми мелкими привычками, всеми запахами крепко упирается жизнь в землю. Запахи жизни разнообразны и чудесны. Запах деревянного масла еще не есть запах быта, но деревянное масло с корочкой и с ветошью — так пахнет уют (нянькин запах). Розмарин; бумажный ранет; шафранный ранет; анисовка, антоновка, грушовка; коричневое яблоко, крымское и белый налив… Прекрасно пахнет жизню калач; подковки маковые; цукатный хлеб; одесские сайки; жулики; филипповские пирожки и выборгский крендель; пеклеванный хлеб, рижский и сепик; розанчики утренние, гребешки и пышки; слойки; городские сухари; ванильные сухарики, сахарный хворост; ситник с изюмом; песочный пирог; дынный хлеб; шафранные бабы; молочный хлеб; сластены; пряники — тульские, вяземские, медовые, имбирные; коняки мятные; куличи с кардамоном; разводы, узоры цветной глазури. Земляника-клубника — ягода: Виктория, ананасная, русская, лесная, садовая… Хруст березовых дров, изразцовый блеск печей, воск, мастика с охрой и чуточку мужского, мужицкого пота — так пахло благополучие в комнатах русских городов…
Полотеры уходят, забирая ведерко и щетки. Полотеры уходят, оставляя после себя легкий запах мужицкого пота. Тогда из дальней комнатки приплетается Колина няня Афимья. Ее колени, ее мягкие туфли говорят: «Батюшки, скользко-то как! И на што такой каток разводить?» Няня любит послушать, особенно вечерами, семейные беседы Хохловых. Она прислоняется к косяку двери, устремляет взгляд в потолочный карниз и, прислушиваясь к словам, хрустит, хрустит старыми пальцами.
7
Побольше нежности, побольше нежности: входит старенькая русская няня.
В степенном возрасте няня Афимья перешла от кого-то по наследству в семью Хохловых. У няни была кофточка навыпуск, в белую горошину по синему полю, и юбка в черную горошину по белому полю, черная косынка на голове. Няня Афимья была в доме своим человеком: за старшую. Самой барыне — и той читала наставления, и барыня слушалась. Гостей встречала, здороваясь за руку, о каждом составила свое мнение, всех судила строго и обоснованно. Дети, приходившие к Хохловым, кланялись старой няне почтительно и принимали ее просто за бабушку.
Была у няни маленькая комната в конце коридора, и в какую бы квартиру ни переезжали Хохловы, всегда находилась для няни комнатка в конце коридора. В няниной комнате сильно пахло деревянным маслом, которым мазала няня свои волосы под черной косынкой, а еще пахло корицей и ветхостью: люди к старости всегда немного пахнут тлением — приготовляются. В комнате стоял длиннущий сундук, обитый снаружи цветной жестью в шашку, а внутри оклеенный пестрыми обоями: цветы, птицы и яблоки. На сундуке расстилала няня матрас и так и спала всю жизнь на сундуке под лоскутным одеялом, потому что считала кровать пустым баловством. В углу киот с Казанской Божьей Матерью, со многими святыми, с лампадкой. Лампадка тоже попахивала деревянным маслом.
Полосатый ожиревший кот целыми днями дремал на сундуке в няниной комнатке, хотя няня и не любила ни котов, ни собак, зверей комнатного обихода; особенно боялась она котов в грозу и по ночам. Няня предпочитала им бородатых козлов, к которым относилась с древним, почти обрядовым уважением, белых слонов, петухов, мышей и домовых. Лучше всего уживалась она с домовыми; их водилось видимо-невидимо, и все они были разные; называла их няня воровскими кличками: «домушники», лохматые и теплые, как медвежата, ловили мух и черных тараканов, сгребали пыль к углам, трещали в печке поленьями и вообще блюли порядок; «форточники», любители сквозняков, хлопали фортками; «карманники» насыпали требуху по карманам, воровали копеечки, прятали ключи от комодов в неизвестные места.
Случались еще домовые «подушники» — те живали под подушками, питались клопами и шутки ради, без злобы, залезали иногда под одеяло, напуская бессонницу и прочие разные напасти, — поэтому няня Афимья, отходя ко сну, обязательно крестила у себя под подушкой…
Было няне под пятьдесят, когда присватался к ней Геннадий Тимофеевич Безредько, пузатый и седобородый кучер генеральши Котенковой. Афимья каталась на генеральском выезде, брала Коленьку с собой, в солидных трактирах совместно втроем чаевничали. Дело уже как раз подходило к свадьбе, как обрушилось на нянину голову несчастье. Геннадий Тимофеевич, должно быть, с похмелья, подвалил генеральшины сани под конку на Самсоньевском проспекте (и место-то выбрал безлюдное!); генеральша Котенкова кувырнулась в снег, разорвав во всю длину плюшевую ротонду на беличьем меху. К вечеру кучер Геннадий Безредько перестал быть кучером и уехал навсегда в деревню. Наутро няня, напившись чаю, одев, умыв и причесав Коленьку, потребовала расчет.
— Ночью подушник исщипал непутем, — объявила она. — Не уживусь.
И уехала. У няни Афимьи была своя драма.
Афимья открыла на Крестовском острове прачечное дело и зажила самостоятельно. Но не прошло и двух месяцев, как, позвонив у черного хода хохловской квартиры, няня ввалилась на кухню с тюками и котомками. Младший дворник Парашин тащил на спине сундук. Барыне Хохловой няня сказала:
— Продала я свою заведению за три рубли, поклялась на извозчика и вот и приплелась. Хошь — не хошь, а принимай старуху.
Притихшие было домовые заворошились, затормошились снова в хохловской квартире, захлопали фортками, напустили сквозняков, развели мух и черных тараканов, наслали в нянин матрас клопов себе на разживу, и снова Афимья водворилась в доме за старшую.
Время залечивает раны. Годы текли, уходили. Няня поверх косынки стала носить теплый байковый платок и, забыв про Геннадия, превратилась в старушку, в бабушку.
Побольше нежности, побольше бережности: русская няня навсегда остается в доме.
8
Вначале были болота, клюква, морошка, а ближе к морю — дюны, осока и можжевельник. В те отдаленные времена на всю округу существовала единственная лавка старого Вейялайнена. Под темным ее потолком висели гирляндами финские ножи в красных, зеленых и рыжих ножнах. Пахло крупами, копченой рыбой, сосной, махоркой и сбруями. Старый Вейялайнен, глава семейства и основатель торгового дома «Вейялайнен и Сыновья», прикусив трубку, дремал у дверей, под вывеской: «Торговля всеми товарами». Был он брит, руки имел узловатые, как корни карельской березы, и волосы — цвета светлейшего кадмия.
По воскресеньям подсаживались к нему приятели, Пурви и Хирринен. Хирринен имел двенадцать рыбачьих лайб и двадцать пять человек потомства: мужчины занимались рыбной ловлей, а на масленицу приезжали в Петербург вейками, женщины коптили корюшку и вязали фуфайки. Пурви был вдов и бездетен и, потихоньку осушая свои болота, распродавал их под дачи приезжим петербуржцам — сначала по полтиннику, потом по рублю, по пяти рублей и, наконец, по десяти за квадратную сажень. Вейялайнен осуществлял торговлю, Хирринен — промышленность, а Пурви способствовал культурному процветанию края.
Дачи множились, как сыроежки; искусственные канавы пили болотную воду; морошка, клюква и комары все глубже уходили в нетронутые сырые леса, в росянку, в багульник, в кукушкин лен; песок окутывали дерном и засаживали соснами, останавливая движение дюн. За заборами множились клумбы: табак, георгины, левкои, гелиотроп, анютины глазки, львиный зев. Душистый горошек потянулся к окнам балконов; загоралась настурция. На клумбах вспыхнули под солнцем стеклянные шары, одно из самых непостижимых изощрений человеческой фантазии. В кустах богородицыной травки спрятались гипсовые гномы в цветных колпачках и разрисованные аисты. На дорогах выросли чистенькие фонари и тумбы, а поближе к вокзалу, над красным строением появилась вывеска:
«Общество Благоустройства
и Вольная Пожарная Дружина».
Гимназисты в диагоналевых брюках со штрипками, с хлыстами в руках, с папиросками; гимназистки в кисейном цветнике оборок, с бантами в длинных косах; велосипеды пятнадцатилетних спортсменов и теннисные площадки; афиши любительских спектаклей; танцевальные вечера в разукрашенном сарайчике, где снова гимназисты, кадеты петербургских корпусов, влюбленный басок шестиклассника, где расцветали розовые институтки, где студентов боялись, как дети боятся взрослых, где близорукая таперша сменяла па-де-катр на па-де-патинер и вальс на па-д-эспань, коханочку, визгливую ойру и снова вальс, гимназический, незабываемый вальс: «Ожидание», «Осенний сон», «Дунайские волны»… Несложный рокотзалива; голубые стрелы осоки; сосновый, янтарный дух, смоляной налив, золотистые волны дюн, золотистое лоно юности; песок, стволы, огни керосиновых ламп на балконах, тепло июльских вечеров, отдых, свистки паровозов, хвойная тишина, легкокрылые бабочки шелкопряды, шелкопряды-монашенки, ночницы сосновые и жуки-короеды: типограф, гравер и стенограф.
Возле своей дачи Хохловы вырыли пруд. На пруду крякали утки, ныряли, охотясь за плаунцами. Молодой весной, когда еще цвели подснежники, а по канавам курчавились сморчки, на поверхности пруда всплывала лягушечья икра. Коленька любил наблюдать, как набухали в ней черные ядрышки, превращаясь постепенно в вертлявых головастиков, как залеживались они неподвижно черными стайками на дне пруда, как разбегались веером, когда что-нибудь вспугивало их, как забавно шагал по воде водяной паук и не тонул, как играли пятнистые тритоны.
Коленька рисовал плаунцов, головастиков и крохотных лягушек в альбом, озаглавленный «Жуки, лягушки и земноводные» (к земноводным он в первую очередь причислял уток). Несмотря на все старанье дворника Доната содержать пруд в чистоте, он непреодолимо затягивался тиной и покрывался ряской, распространяя нехороший запах, а в жаркие дни высыхал окончательно: в углу оставалась лишь маленькая грязная лужа, где изнемогали на солнцепеке последние головастики. Утки перебирались в корыто. По вечерам над лужицей кружилась жужжащая мошкара и жужжала так удивительно, что, не видя ее прозрачного роя, можно было подумать: за кухонным крыльцом ласково гудит самовар.
Настал день, и пруд закопали вместе со всеми его обитателями. Кроме уток: уток зажарили и съели с мочеными яблоками и брусничным вареньем. Однажды утром Коленька увидел на месте, ще еще недавно зеленела ряска пруда, столб с гигантскими шагами. Но через год столб подгнил и расшатался, и тогда решено было утрамбовать над прудом крокетную площадку. Площадка продержалась много лет. Коленька успел отрастить усы и сбрить их, пришла война, прошла война, и красноармеец Матвей Глушков выдернул сапогом последние заржавевшие воротца.
9
Став коленками на стул и разбросав по столу цветные карандаши, Кoленька рисует лошадей, петухов, собак, кошек. Рисует долго; сосредоточенно и самозабвенно, как всё, что делают дети для собственного удовольствия. Наступает вечер. Коленька бродит по комнате, отуманенный, останавливается у темных окон. Зажигают свет. Керосиновая лампа раскидывает над столом шатер апельсинового цвета. Лошади, петухи и собаки тотчас меняют свою окраску, как будто кто-то перерисовал их другими карандашами. Коленька берет карандаши, вертит их в руках и снова принимается за работу. Краски решительно стали другими: желтый цвет почти совсем потерял свою силу и сливается с белой бумагой, синий потемнел и сделался глуше, красный превращается в оранжевый… Коленьке все это кажется странным и бесконечно интересным. Он повторяет опыт завтра и через день. Подозрение в случайности удивительных превращений отпадает. Тогда Коленька успокаивается. Иван Павлович Хохлов внимательно наблюдает за рисованием сына и однажды спрашивает его:
— Ты хочешь стать художником?
Коленька молчит, потому что вопрос ему не совсем понятен. Потом отвечает:
— Я хочу быть кучером.
Вместе с отцом Коленька едет на выставку картин, первую выставку, какую он видит в своей жизни. Держась за руки, они блуждают по залам Академии Художеств, останавливаясь перед огромными полотнами: «Три богатыря», «Витязь на распутье», «Битва», «Гамаюн», «Сирин», «Алконост»… Иван Павлович объясняет содержание картин, говорит о былинах, о древних богатырях, о вещих птицах, о сказителе Рябинине.
Но Коленька неожиданно спрашивает, вглядываясь в картину:
— А как это делают?
Теперь недоумевает отец.
Коленька несколько дней подряд рисует «Богатырей». Бросит один рисунок, начнет другой — три-четыре-пять рисунков в день. С каждым новым рисунком возрастает упорство. Коленька перелистывает рисунки Каразина.
— Ведь это не так сделано?
— Почему — не так? — удивляется Иван Павлович.
— По-другому, папочка.
Каразина сменяют буры — бурские всадники, скачущие в горах, бурский президент Крюгер с седой рыбачьей бородой и бритыми губами. Коленька рисует. Время идет. Коленька уже надел гимназическую куртку. Он уже раздумал стать кучером и уже влюблен в соседскую девочку Верусю. «Богатыри» и Каразин забыты. Буры забыты тоже. Изо дня в день Коленька множит Верусины портретики.
— Мамочка, как делают волосы?
— Очень просто: почиркай.
Коленька все реже задает вопросы; инстинктивно он начинает чувствовать: искусство есть изобретательство.
Дешевые цветы расцветают бумажным цветом в махорочном дыму.
10
В трактире «Северный Медведь», что на Песках, стриженные в скобку гармонисты, в поддевках и смазных сапогах, чинно сидят в ряд, разводя трехрядные гармоники и оглушая гостей — синепузых извозчиков, студентов, мелкий чиновный люд. Запевало тончайшим тенором врывается в общий гам:
Трансвааль, Трансвааль, страна моя, Ты вся горишь в огне. Под деревцем развесистым Задумчив бур сидит.Запевало отстукивает такт носком сапога. Лицо лоснится жиром.
О чем задумался, детина, О чем горюешь, седина? — Горюю я по родине, И жаль мне край родной. Мой старший сын, старик седой, Погиб уж на войне, Он без молитвы, без креста Зарыт в чужой стране. А младший сын, семнадцать лет, Просился на войну. Но я сказал, что — нет, нет, нет. Малютку не возьму. — Отец, отец, возьми меня С собою на войну, Я жертвую за родину Младую жизнь свою…Визжит стеклянная дверь, впускает зимний пар с улицы. Входят, выходят, пошатываясь, студенты, чиновники, девочки.
Однажды при сражении Отбит был наш обоз. Малютка на позицию Ползком патрон принес. Настал, настал тяжелый час Для родины моей. Молитесь, женщины, за нас, За ваших сыновей. Трансвааль, Трансвааль, звезда моя, Ты вся горишь во мне. Под деревцем развесистым Задумчив бур сидит.Трактирные песни — бумажные розы своего времени, — они линяют от пролитого пива, оставляя пятна на скатертях. Пьяный студент плачет навзрыд, раскидав локти по столу.
11
Когда Коленька подрос, няньке предоставили хозяйственную часть в семье Хохловых, — стала няня Афимья кем-то вроде экономки, а к мальчику пригласили немку, фрейлейн Эмму. Фрейлейн Эмма молода, полна и белокура. Вечером, когда Коленька уже лежит в постели, фрейлейн Эмма направляется в столовую пить чай с вареньем, читать немецкую книжку или вышивать саше для носовых платков. Напившись чаю, она возвращается в детскую, долго заплетает косу, плотную, как корабельный канат, раздевается при свете зеленого ночника, после чего блаженно засыпает до утра.
Февральская луна тревожит Коленькин сон; Коленька ворочается на простыне, взволнованно глядит на лунные квадраты. Фрейлейн Эмма приподнимается на локте.
— Warum schlaefst du nicht[1], Коленька?
Она откидывает одеяло и неслышно, на цыпочках, приближается к его кровати.
— Komm zu mir, du, kleines Schweinchen[2].
Фрейлейн Эмма на руках переносит Коленьку на свою постель. Постель горячая и пахнет одеколоном. Коленька чувствует, как под одеялом фрейлейн Эмма снимает с себя сорочку. Фрейлейн Эмма прижимает Коленьку к себе, перекидывает через него свою длинную, мягкую ногу, гладит, ласкает его тело под ночной рубашкой.
— Was ist mit dir, mein kleines Schweinchen?[3]
— Мне стыдно, — еле слышно отвечает Коленька.
Фрейлейн Эмма долго целует детский рот и потом медленно сползает губами к ногам. Под одеялом знойно и пахнет одеколоном…
Утром фрейлейн Эмма выводит Коленьку к чаю.
— Sag deinem Muetterlein «guten Morgen»[4], Коленька.
— Guten Morgen, — повторяет он сомнамбулически.
Фрейлейн Эмму впоследствии сменила горничная Саша. Она просто заворачивала свою юбку доверху и, щуря белесые глаза, шептала Коленьке:
— Глянь сюда, волчонок! Глянь-ко!
Вопрос о перелете птиц до сих пор остается неразрешенным. Законы, действующие в данном случае, до сих пор не совсем раскрыты. Тем не менее каждую весну прилетают грачи. Они садятся на макушки еще бурых берез, еще черных лип, вьются над зеленью петербургских крыш, над древними колокольнями Замоскворечья, отдыхают на картине Саврасова, но с полной очевидностью можно установить лишь одно: если бы по весне не прилетали грачи — весны бы не было.
Откуда, какими путями, из каких миров проникает в человеческую душу уверенность в неизбежности счастья? Но где бы ни зарождалась эта вера, — не будь ее, не существовало бы юности… Голубым весенним вечером сидел Коленька, гимназист второго класса, на подоконнике, поджав ноги, готовил урок по древней истории и глядел сквозь двойные рамы в голубую муть Плуталова переулка. Пo ту сторону его, вдоль бесконечного забора, шатаясь, плелся пьяный человек. За забором синели стволы намокших дерев. В этот вечер впервые почувствовал Коленька, что голубая муть за окном, пьяный гуляка у забора и синие клены — вернее, то, что не видимо за заборами, за мокрыми стволами, за весенней, вечерней синью — прекрасно, должно быть прекрасным, что рано или поздно оно приблизится вплотную к Коленьке, войдет в него, заполнит, затопит его сердце; Коленька ощутил близость неясного, тревожного блаженства.
В комнате хозяйничали сумерки: серые, синие, мутно-зеленые толпились тени. Тени были гостями из голубой мути Плуталова переулка. Коленька с недоуменным испугом оглянулся на них и вдруг, соскочив с подоконника, прибежал в соседнюю комнату, в оранжевый круг зажженной лампы.
— Мамочка, — зашептал Коленька взволнованно и удивленно, — мамочка, мне хорошо.
И, прижавшись к ее плечу, почти вскрикнул:
— Мамочка, мне — замечательно!
Слова означали, что Коленька вступал в юность.
12
Японская война началась для Коленьки стихотворением Винтикова. Коленька носил сизую гимназическую шинель на вырост, стриг волосы под первый номер и старательно называл Винтикова Дмитрием Дмитриевичем, а не просто Мит Митычем, как это было раньше. Дмитрий Дмитриевич Винтиков, у которого количество звезд на груди увеличилось вдвое, а нос покрылся мелкими дырочками, как будто его истыкали булавкой, написал в Колин альбом для рисования следующее:
Хотя проклятые макаки Ведут внезапные атаки И нам чинят урон большой, Но мы, воспрянувши душой, Покажем всем друзьям макак, Что значит русский наш кулак! Ведь все ж не человек макака, И вся его затея — кака.Стихотворенье Коленьке очень понравилось; он выучил его наизусть и в гимназии читал своим товарищам — Феде Попову, Темномерову Мише и всем одноклассникам, а после гимназии, дома, толстому Семке Розенблату. Товарищи заливались веселым смехом. Японская война началась для Коленьки весело. К тому же дядя Леня, брат отца, кавалерийский офицер, которого все у Хохловых считали «отпетым молодым человеком», оказался знаменитым героем. Во всех газетах сообщалось о его подвиге. Собственный корреспондент «Нивы», Табурин, «пером и карандашом» прославлял мужество и находчивость дяди Лени, изобразив его атакующим сопку. «Нива» тоже носилась в гимназию, и гимназисты смотрели на Коленьку завистливо.
Если бы в годы Японской войны существовала Государственная Дума, председатель ее, несомненно, произнес бы такую речь:
— Государю императору благоугодно было в трудный час, переживаемый отечеством, созвать Государственную Думу во имя единения русского царя с верным ему народом. Россия не желала войны, русский народ чужд завоевательных стремлений. Но жребий брошен, и во весь рост стал перед нами вопрос об охране целости и единства государства… Отрадно видеть то величавое и преисполненное достоинства спокойствие, которое охватило всех без исключения и которое ярко и без лишних слов подчеркивает перед миром величие и силу русского духа (бурные аплодисменты и крики «ура»). Спокойно можем сказать нападающим на нас: не дерзайте касаться нашей святой Руси (бурные аплодисменты)! Народ наш миролюбив и добр, но страшен и могуч, когда вынужден постоять за себя (бурные аплодисменты). Смотрите — скажем мы — вы думали, что нас разъединяет раздор и вражда, а между тем все народности, населяющие необъятную Русь, и все партии слились в одну братскую семью, когда отечеству грозит опасность. И не повесит головы в унынии русский богатырь, какие бы испытания ему ни пришлось пережить; все вынесут его могучие плечи, и, отразив врага, вновь засияет миром, счастием и довольством единая, нераздельная родина во всем блеске своего несокрушимого величия (бурные аплодисменты, «ура» в честь государя, гимн).
Но так как в то время Думы еще не было, то он (председатель) произнес эти слова лишь 26-го июля 1914 года.
В дальнейшем, однако, все перепуталось и начало принимать формы нежелательные. Коленька неожиданно получил две двойки подряд по закону Божьему, чего раньше никогда не случалось. Дядя Леня женился на сестре милосердия, Ксении Петровне Крюковой, что вызвало всеобщее неодобрение. Колина мать горячилась ужасно:
— Навязывать в родственницы какую-то особу легкого поведения, поехавшую на фронт ловить женихов, — какая наглость! Не желаю, не желаю! Имею я право не желать? Эта особа непременно увлечет Леонида в тину!
Дядя Леня писал длинные оправдательные письма, уверяя, что Ксения Петровна «зверски светская дама, хотя и не из дворянок». Между тем завоеванные когда-то дядей сопки вернулись в руки японцев. Генерал Стессель бездействовал в осажденном Порт-Артуре, питая гарнизон кониной и падалью. Броненосец «Петропавловск» взлетел на воздух вместе с художником Верещагиным. Генералы ссорились между собой, Куропаткин медлил и нерешительствовал. Участились перемещения, переназначения командующих лиц.
Весьма серьезно обдумывали, что будет лучше: А. поместить на место Б., а Б. на место Д. или, напротив, Д. на место А. и т. д.; как будто что-нибудь, кроме удовольствия А. и Б., могло зависеть от этого. В штабе армии, по случаю пререканий Кутузова со своим начальником штаба, Беннигсеном, и присутствия доверенных лиц государя и этих перемещений, шла более, чем обыкновенно, сложная игра партий: А. подкапывался под Б., Д. — под С. и т. д., во всех возможных перемещениях и сочетаниях. При всех этих подкапываниях предметом интриг большею частью было то военное дело, которым думали руководить все эти люди; но это военное дело шло независимо от них, именно так, как оно должно было идти, т. е. никогда не совпадая с тем, что придумывали люди… В штабе армии положение было в высшей степени натянутое. Ермолов, придя к Беннигсену, умолял его употребить свое влияние на главнокомандующего для того, чтобы сделано было наступление.
— Ежели бы я не знал вас, я подумал бы, что вы не хотите того, о чем вы просите. Стоит мне посоветовать одно, чтобы светлейший наверное сделал противоположное, — отвечал Беннигсен…
Тем временем Куропаткин все медлил и медлил. Его даже прозвали «кунктатором». Упорную свою медлительность он объяснял нежеланием рисковать пушечным мясом… Отступление развивалось. Армия бежала, бросая артиллерию, провиант и раненых. Дезертиры укрывались в зарослях гаоляна. У японцев впервые появились пулеметы. Немцы впервые применили разрывные пули «дум-дум». С французского фронта впервые поползли танки… Человеческая кровь не зависит от хронологии: она льется, когда ее проливают.
Отступление принимало эпический характер. Вересаев подготавливал о нем свою книгу. Андреев уже писал «Красный смех», чтобы однажды проснуться знаменитостью. Вообще писатели вдохновлялись чрезвычайно. На первой странице одной из газет появилось стихотворение Фруга-Случевского:
От Невы к Формозе дальней По поверхности хрустальной Неизведанных морей Мчится флот России милой, И ее могучей силой Веет с мощных мачт и рей… А назавтра была Цусима.Государь играл в крокет, кожа пришло известие об исходе боя. Злые языки утверждали, что государь просил отложить телеграмму в сторону, пока не закончится партия. Но это неверно. Государь тотчас прослушал донесение, выпустил из рук крокетный молоток и, страшно бледный, проследовал во дворец. Дмитрий Дмитриевич Винтиков, делавший карьеру по дворцовому ведомству, услышал о всех подробностях этого дня из первых уст и клялся, что государь побледнел необычайно. Котик Винтиков, сын Дмитрия Дмитриевича, еще безусый мичман, ушел с эскадрой адмирала Рождественского и доплыл до Цусимы, чтобы никогда не вернуться. Дмитрия Дмитриевича представили государю, и министр двора собственноручно повесил новый орден на золотые папоротники винтиковского мундира. Монархи, президенты республик, министры выезжают в места, разрушенные землетрясением, затопленные ливнями, сожженные засухой, беседуют с потерпевшими людьми, лишенными кровли, семьи, имущества, трудоспособности, жмут им руки, выражают высокое и даже высочайшее сочувствие и отбывают в столицы в собственных вагонах.
13
По-прежнему бумажные розаны — лубочные песни с надрывом — цветут алым, голубым и розовым анилином, золотой фольгой и сусальным серебром в трактире «Северный Медведь», в махорочном дыму. Стриженные в скобку гармонисты продолжают чинно сидеть в ряд, оперев на колени гармонь. Студенты и извозчики поминутно распахивают визгливую дверь. Живые цветы хранятся засушенными в гербарии, в пачке спрятанных бережно писем, в томике любимого поэта. Бумажные цветы, наивная подделка под настоящие, вызывают пренебрежительную улыбку — их жизнь особенно недолговечна: зеленые обмотки раскручиваются с проволочного стебля; проволока прокалывает чашечку, венчик, обнажая все несовершенство и убогую хитрость структуры; наступает позорная смерть — без почестей, без торжественных усыпален ботанических атласов. Но когда в лавке старьевщика или в коллекции чудака — собирателя курьезов — неожиданно оживет под стеклянным колпаком запыленный, помятый и уже бесцветный бумажный букет, — он непременно повергает зрителя, обладающего нормальным комплексом чувств, в несколько грустное и все же отрадное созерцание, более волнующее, нежели те ощущения, что возникают при перелистывании даже самых драгоценных гербариев… Одним словом, в трактире «Северный Медведь» или «Северная Звезда» — на Песках, на Лиговке, на Малом проспекте — всегда найдется подвыпивший студент, который будет плакать, раскидав свои локти по столу, от смутного сознания бренности, непоправимости человеческой жизни — под отчаянные переборы гармонистов.
Вальс «На сопках Манчжурии»
Мрачно вокруг, И ветер на сопках рыдает. Порой из-за туч выплывает луна, Могилы солдат освещает. Белеют кресты Далеких героев прекрасных, И мрачные тени, кружася вокруг, Твердят нам о жертвах напрасных. Средь будничной тьмы, Житейской обыденной прозы, Забыть до сих пор мы не можем войны, И льются горючие слезы. Плачет отец, Пла-а-чет жена молодая, И плачет вся Русь, как один человек, Злой рок судьбы проклиная. А слезы бегут, Как волны далекого моря, И сердце терзает тоска и печаль И бездна великого горя. Героев тела Давно уж в могилках истлели, А мы им последний не отдали долг И вечную память не спели. Мир вашей душе, Вы погибли за Русь, за отчизну, Но, верьте, еще мы за вас отомстим И справим кровавую тризну.14
Бедный Котик Винтиков! Он уже ждал своей очереди появиться в этой повести, но был вычеркнут из черновика. У Котика были всегда улыбающиеся глаза и такие припухшие губы, точно он только что целовался взасос. Но на самом деле он никого не целовал в своей жизни: он только собирался целовать черноглазую Надюшу Португалову. Вскоре после Цусимы Надюшу поцеловал Сережа Панкратов, тогда еще гимназист. Произошло это в январе 1905 года, в самые первые дни его, в Крещенье. А 9-го января Сережа Панкратов шел с толпой рабочих к Зимнему дворцу. Коленька гулял по улицам в гимназической шинели, повязанный башлыком, и, столкнувшись с толпой, увидел Панкратова. Коленька зашагал рядом с ним.
— Хохлик, — произнес Сережа Панкратов, — катись домой: затопчут!
Сережа был гимназистом седьмого класса, а Коленька — третьеклассником. Сережа читал Карла Маркса, а Коленька — «Жизнь животных» Брэма. Но Коленька продолжал идти в ногу с Сережей и в ту минуту, когда хотел спросить о смысле этой прогулки, с удивлением услышал щелканье орехов. Звук казался таким неуместным — очевидно было, что никто орехов щелкать не мог, что Коленька тотчас решил: это просто бросают по мостовой булыжниками. Но вокруг был глубокий январский снег. Не понимая, что происходит, Коленька повернулся с вопросом к Сереже — Сережа Панкратов, вздрагивая, лежал на снегу. Люди разбегались в разные стороны: черными пятнами по голубому. Коленька кинулся было тоже бежать, но вдруг вернулся к Сереже, упал перед ним на колени и, стесненный башлыком и неудобно подвернувшейся шинелью, стал прикладывать снег к его лбу и к его рукаву. Снег мгновенно краснел. Коленька смахивал его ладонью и накидывал свежий. В его голове не мелькало никаких мыслей, ни даже простого недоумения: все это производил Коленька механически. Он слышал топот пронесшихся в страшной близости лошадей, слышал отдельные крики, но поднялся лишь после того, как кто-то положил Сережу Панкратова на извозчичьи сани. Тогда Коленька стряхнул с себя снег и, не замечая кровавых пятен на своей шинели, пошел домой. Только к утру следующего дня он сумел заплакать.
Гимназия — это, прежде всего, директор гимназии. Директор был грек и даже составил учебник греческого языка. Но греческий язык упразднили. Директор остался директором, но жалованье ему сократили за отсутствием предмета преподавания. Директор заперся в своей квартире и выходил из нее только для того, чтобы кого-нибудь распечь, разнести и наказать. Затем, гимназия — это инспектор Солитер Панталоныч, прозванный так потому, что настоящее его имя было Фелитер Аполлонович. Преподавал алгебру в старших классах и устраивал (во всех классах) еженедельные обыски в партах. Потом — батюшка, отец Тарантас, или просто Тарань, а то и Вобла (настоящее имя Таранец); стар, сед и ко всему равнодушен. Классный наставник Николай Степаныч Блинов, преподаватель русского языка, бескорыстно влюбленный в Кантемира, Державина, Жуковского, Пушкина, Гоголя, Лермонтова и Тургенева, — остальных не читал. Немец Браун, составитель учебника по немецкому языку, учил когда-то Хохлова-отца и носил Владимира на шее. Август Валерьянович Либерман (латынь), снискавший любовь среди учеников веселыми анекдотами, степень пристойности которых была обратно пропорциональна возрасту учеников. Одевался с иголочки, ухаживал за племянницей министра народного просвещения и распространял в классе запах духов. Историк Навозов, молодой, горластый человек с руками землекопа, живший в Колпине в собственном домишке и читавший вслух ученикам «Quo vadis», за что приобрел репутацию вольнодумца и реформатора. Математик Паскудин (настоящее имя — Проскудин), с рыжей бородой и в очках, обмотанных на переносице ваткой. Швейцар Петенька, николаевский ветеран без руки, но с нашивками и медалями, сердитый лицом, добрый и ласковый сердцем, — торговал тетрадками (в линеечку и в клетку, прямую и косую), карандашами, вставками и перьями. Сторож Никон, продававший сладкие булки в младших классах, папиросы — в средних, водку и презервативы — в старших. Учитель чистописания и надзиратель Семен Семеныч (фамилия неизвестна), надписывавший готическим почерком тетрадки, купленные у Тетеньки, и водивший учеников на прогулку от Аничкова моста ло Симеоновского и обратно во время большой перемены. Учитель рисования Яков Евсеич (фамилия неизвестна), тихий, отечный человек, учивший тушевать рисунки в диагоналевую сетку и за всякое отступление от этого правила, независимо от достигнутых результатов, ставивший двойку. Яков Евсеич умер от водянки. За гробом шли три человека: заплаканная старушка (мать? жена? кухарка?) и Коленька с нянькой Афимьей. Коленьку отпустили ради этого случая на два утренних урока, но он не явился ни на один. Яков Евсеич был первым покойником, которого увидел Коленька в своей жизни; покойник вызвал в нем тошноту и непреодолимое любопытство…
Вот это и есть — гимназия. Но, кроме того, гимназия — в вечном страхе, в постоянном обмане, в зависти и фискальстве. Не следует верить чувствительным воспоминаниям о годах, проведенных в гимназии, — такие воспоминания проникнуты лучшими намерениями, но не соответствуют действительности. Гимназия — это школа пороков, тайных и явных, ложь о человеке, ложь о природе, залоснившиеся брюки, пропахшие сортиром, пальцы в чернильных пятнах, туманная Фонтанка с дровяными баржами за окнами, пожарный кран в томительном коридоре, несправедливые окрики, прыщи на лице и мечта о побеге.
15
Всеобщая забастовка. Колина гимназия бастует тоже. Коленька уже знает, что такое — революция. Иван Павлович радуется тому, что бездействует водопровод, что почтальоны не приносят почту, что по улицам ходят демонстранты, что не горят фонари, что где-то в рабочем совете сидит доселе неизвестный адвокат Хрусталев-Носарь и диктует правительству свои условия. Коленька тоже в восторге. По вечерам на улицах Петербурга можно играть в прятки, в кошки-мышки, в казаки-разбойники. Скользят, жмутся вдоль стен редкие тени прохожих; разъезжают казачьи патрули. По вечерам Коленька выходит на улицу с финским ножом в кармане; гимназическую шинель оставляет дома и наряжается в коротенькую шубку для катка. Революция похожа на игру в прятки и в казаки-разбойники. В гимназии, в гимнастическом зале, происходят сходки. Краснощекий, смеющийся восьмиклассник Подобедов ведет собрания. Гулька Бабченко, из седьмого параллельного, призывает к революционной стойкости. Коленька аплодирует и готов закричать «ура». Директор, наткнувшись на заставу из парт и кафедр, убежал в свою квартиру и в тот же вечер умер от разрыва сердца. Ученики узнали о его смерти только через неделю; кто, где и как хоронил директора — осталось невыясненным. Историк Навозов стал появляться в гимназии в косоворотке под расстегнутым сюртуком, здоровался с учениками за руку, кое-кому из них говорил «товарищ». Он поддерживал требование гимназистов о введении лекционной и даже факультативной системы преподавания, о представительстве учеников и их родителей в педагогическом совете, об отмене формы и обязательной общей молитвы, о разрешении курения в старших классах, выступал на сходках, наполняя гимназический зал грохотом своего голоса: под окнами проезжала артиллерия. Гимназисты воробьями сидели на подоконниках, на параллельных брусьях, на козлах, на трапециях.
Коленьке 13 лет. Но разве тринадцатилетние гавроши не умирали на баррикадах? С отрядом Гульки Бабченко Коленька идет в соседнюю женскую гимназию снимать учениц с занятий. Десять гимназистов в шинелях нараспашку вошли в вестибюль. Была перемена. Гимназистки в коричневых платьях и черных передниках сновали по лестнице, перекликаясь звонкими голосами.
— Товарищи! — закричал Гулька Бабченко. — Во имя солидарности с рабочим классом, борющимся за свою свободу, мы, от лица объединенного совета старост петербургских средних учебных заведений, призываем вас, товарищи-гимназистки, влиться в общее движение, захватить свои сумки и покинуть классы! Мы призываем вас, товарищи-гимназистки…русская женщина всегда стояла в первых рядах…
На верхней площадке остановилась ученица шестого класса Мэри Оболенская. Она перегнулась через перила и плеснула в лицо Гульки Бабченко из ночной посуды. Дворники выбросили Бабченко на улицу; Коленьку выволокли за ухо…
В квартире Щепкиных, сидя у пианино «Юлий Генрих Циммерман» и повернув лицо в сторону кретонового кресла, где улыбалась Полина Галактионовна, студент Вовка, который все еще был студентом, напевал:
Я — Трепов в свите, Я генерал. Я вместе с Витте Шел на скандал. Мой герб: ружье, штыки и плеть, Девиз: патронов не жалеть! Я — Трепов в свите, Bonjour, Mesdames![5] * * * Я — Куропаткин, Меня все бьют, Во все лопатки Войска бегут. Я как стратег и генерал Японцам Порт-Артур отдал… Я — Куропаткин, Я все сказал. * * * Я — Сергей Витте, Премьер-министр. Как повелитель — В решеньях быстр. Я отпечатал манифест, Пригодный для известных мест, Я — граф Портсмутский, Несу свой крест…Юноша Михайлов в Таврическом саду стрелял в адмирала. Юношу судили, он был неразговорчив, отказался назвать сообщников, и его повесили… Историк Навозов отнес в охранное отделение 15 страниц убористого письма о личных наблюдениях, сделанных в трех петербургских гимназиях, с точным поименованием всех уличенных в неблагонадежности учеников, родителей и учителей. Навозов получил назначение на пост инспектора Колиной гимназии вместо Солитера Панталоныча, отстраненного за мягкость и административную растерянность. Навозов явился в гимназию в новом мешковатом вицмундире; артиллерийский обоз прогромыхал по классам, коридорам, рекреационным залам; тяжелые кулаки землекопа стучали по столам. В первый же день историк Навозов «вышвырнул из стен гимназии свыше тридцати паршивых овец, дабы продезинфицировать удушливую атмосферу». Гулька Бабченко и Коленька Хохлов оказались в их числе. Для краснощекого, веселого Подобедова увольнение явилось уже безобидной и запоздалой формальностью: историк Навозов не подозревал, что юноша Михайлов, стрелявший в адмирала, был в действительности гимназистом восьмого класса Подобедовым.
16
Судьба Сережи Панкратова была решена. Испытав в течение нескольких дней жестокую борьбу со смертью, он поправился и вышел из больницы с исковерканной рукой и без глаза. Вслед за Котиком, хотя и по другим причинам, Сережа сходит теперь с этих страниц. Его жизнь раскрывается в двух десятках слов. Гимназии он не окончил: изуродованного, его исключили из нее с волчьим паспортом. Надюшу Португалову он больше не встречал — ему было страшно показаться ей в таком виде. Надюша также смертельно боялась этой встречи. Впрочем, уже по весне Надюшу целовал технолог Поваренных… Ненависть, нечеловеческая, животная ненависть к тем людям, которые разбили личную Сережину жизнь, осталась единственным чувством, его наполнявшим — до краев, до истерики, до исступления. Только ею, этой ненавистью, руководился Сережа во всех своих поступках. Во время войны, служа в канцелярии военного госпиталя, он дал глотнуть нерастворенной сулемы раненому корнету: корнет был графом. Вслед за февральской революцией Панкратов сделался пропагандистом в профессиональном союзе домашних прислуг. Заикаясь, размахивая искалеченной рукой, он призывал разгоряченных кухарок, судомоек и горничных доносить на своих хозяев. Первой осуществленной любовью его стала кухарка Каролина, сорокалетняя эстонка, заразившая Сережу дурной болезнью. После Октября его зачислили в Петербургскую Чрезвычайную Комиссию. Но, будучи человеком нисколь не выдающимся, он не был допущен к оперативной работе, он сидел в канцелярии и объявлял посетителям о расстреле их родственников.
Сережа Панкратов умер в 1922 году от кровавого поноса. Точка.
Зато о толстом Семке, об удивительном Семке Розенблате, будет здесь подробнейший рассказ. Семка не дрался на фронтах, он не дрался даже в гимназическую пору, он осторожно становился к сторонке, когда его приятели тузили друг друга пряжками своих форменных кушаков за оградой собора Спасо-Преображения. Семка даже не был гимназистом — он получил домашнее образование. Он мог свободно разгуливать по улицам, заложив руки в карманы и насвистывая, когда приятели изнывали от пятичасового сидения за партами. Она зубрили латынь в то время, как он скупал в табачных лавчонках почтовые марки для дурацкой коллекции. Но вот однажды он продал свою коллекцию и на вырученные деньги купил велосипед.
Как уже было сказано, Семка не бился в окопах, не отлеживался в мокрых воронках, не был ни ранен, ни убит на войне: в самые страшные ее годы он спокойно открыл на Садовой улице «Контору Коммерческой Взаимопомощи», переменив свою фамилию на «Розанов». И все же повесть его жизни необыкновенна и замечательна.
Помнит ли Семка Федю Попова?
И о нем, незабываемом Феде Попове, поведется рассказ, темный, запуганный. Федя дрался всю свою жизнь: в детстве и в зрелом возрасте, на всех фронтах, внешних и внутренних, в мировую войну и в гражданскую, и даже на тех фронтах, которые он сам создавал, если наступала невольная передышка.
17
Почти полное десятилетие, безостановочно, с одной эстрады на другую, с благотворительных вечеров на концерты студенческих землячеств (с танцами, с хоровым пеньем, с холодным буфетом и клюквенным морсом) блуждали знаменитые писатели, любимцы публики, читая отрывки из своих произведений, впитывая благоговеющие взоры молодежи, дразня недружелюбие полицейского пристава и закусывая под белую головку в артистической комнате, набитой студенческими тужурками, влюбленными девицами и распорядительскими значками. Ходотов мелодекламировал брюсовского «Каменщика» под музыку Вильбушевича. Только речи Аладьина в первой Государственной Думе могли соперничать в успехе с «Каменщиком» Ходотова!
Из трактира в трактир, от «Давыдки» на Владимирском в «Вену» на Морской, из «Вены» — в «Малый Ярославец», из «Ярославца» — в «Квисисану», из «Квисисаны» — в «Первое Товарищество», потом — снова к «Давыдке», из «Варьете» на Фонтанке — в «Знаменскую» на Лиговке и, наконец, в ночной буфет на Николаевском вокзале — слонялись искавшие популярности журналисты, газетчики, репортеры, поэты; рисовали на стенах рыбьими косточками и жареной картошкой, вырезали автографы на столах и стульях, подсаживались к чужим столикам, произносили пьяные тосты за русскую Музу, за Пушкина и за Дмитрия Цензора, травили кошек в отдельных кабинетах и те платили по счетам. Сколько девушек, приехавших оттуда — из Тулы, Воронежа, Орла, Тюмени — на Бестужевские курсы, на Высшие, на Театральные, на Педагогические, в Консерваторию, — растратили свою первую любовь в затхлых меблирашках, в «Гигиене», в «Екатерингофских номерах», в «Эрмитаже», на Карповке, и просто ночью, в извозчичьей пролетке, на Островах! Пена русской культуры кипела, переливаясь, как в физических приборах, по сообщающимся сосудам — из сборников «Знания» в альманахи «Шиповника», из «Шиповника» в альманахи «Земли», из «Зрителя» в «Жупел», из «Жупела» в «Сатирикон», отлагая тяжелые несваримые пласты в «Ниве», в «Русском Богатстве»…
Студенты (кто еще? податные инспекторы? молодые доктора? приват-доценты? помощники присяжных поверенных? лицеисты? — возможно) бежали по вечерам в театр Коммиссаржевской смотреть Метерлинка и Пшибышевского, Ибсена и Леонида Андреева. Светлый, единственный голос улетал под колосники, подымая с собой, в корзинке воздушного шара, студентов, сидевших на галерее, курсисток, приват-доцентов, помощников присяжных поверенных. Очнувшись при последнем падении занавеса, студенты спешили из театра в подвал к «Черепку» на Литейном проспекте, к «Соловью» на углу Морской и Гороховой, в пивные «Северный Медведь» или «Северная Звезда» — на Песках, на Петербургской стороне, на Васильевском — не в силах освободиться от ощущения полета. В подвале «Черепка» лакей, похожий на профессора, скользит с подносом от столика к столику. Студенты кричат ему:
— Сперанский, полдюжины «Старой Баварии»!
— Профессор, копченого угорьку!
— Сперанский, селедку с луком!
— Слушаю-с, коллега, — отвечает Сперанский по-профессорски.
В отдельной комнатке с красным диванчиком гражданец Савва Керн (по восходящей: «Я помню чудное мгновенье») читает стихи: стакан за стаканом, страница за страницей. Окурки на тарелках, чайная колбаса, салат из картошки.
По вечерам над ресторанами Горячий воздух дик и глух…Слова у Керна слега заплетаются от выпитого пива. Сперанский, с салфеткой на руке, слушает, почтительно отойдя в угол комнаты.
… И веют древними поверьями Ее упругие шелка, И шляпа с траурными перьями, И в кольцах узкая рука…Студенты в Петербурге читают «Незнакомку». Девочка Ванда из «Квиси-саны» говорит:
— Я уесь Незнакомка.
Девочка Мурка из «Яра», что на Петербургской стороне, клянчит:
— Карандашик, угостите Незнакомку!
Две подруги от одной хозяйки с Подъяческой улицы, Сонька и Лайка, одетые как сестры, гуляют по Невскому (от Михайловской улицы до Литейного проспекта и обратно), прикрепив к своим шляпам черные страусовые перья.
— Мы — пара Незнакомок, — улыбаются они, — можете получить электрический сон наяву. Жалеть не станете, миленький-усатенький (или — хорошенький-бритенький, или — огурчик с бородкой).
Гражданец Савва Керн читает. Язык его повинуется все неохотнее. Юрист Темномеров Миша, откинувшись на спинку диванчика, закрыл глаза и шепчет беззвучно любимое имя:
— Тина, Тиночка.
Коленька Хохлов рисует, рисует, рисует, и ему становится обидно, грустно и тревожно оттого, что в голову неотвязно просятся вымыслы невежественных художников Ропса и Бердслея и слабого духом Чурляниса.
18
Еще накануне, несмотря на ползшие с разных сторон слухи, все было попрежнему. Татьяна Петровна Хохлова варила на террасе варенье и читала «Крейцерову сонату». Душистая, бледно-сиреневая пенка вздымалась в тазу.
За стеклами лиловел вечереющий садик, неподвижно висел гамак меж двух осин, под зеленой перекладиной никли качели, кольца, трапеция, и дальше, сквозь красные стволы уходящих за дюну сосен, серым блеском светлел залив.
На террасу подали вечерний самовар. Горничная Поля, открыв постели, ушла гулять на вокзал. Кухарка Настасья, дворник Донат и нянька Афимья устроились на кухне играть в «свои козыри». Засаленные карты в сердцах кидались на скатерть, вздрагивала керосиновая лампа. Няня Афимья вскипала ежеминутно:
— С чего ты под мене ходишь? У тебе на руках винни, а ты — с крестей! Чернота стучалась в окна крыльями ночных бабочек. В обход выбегали мыши… На завтра были заказаны к обеду грибной суп со сметаной, тефтели по-гречески и, на третье, воздушный пирог с клубникой — воздушный пирог приготовлялся всегда на другой день после сливочного мороженого, чтобы не пропадали белки…
Завтрашний день наступил после обыкновенной июльской ночи. К утреннему чаю пришли газеты. В газетах была война. Иван Павлович Хохлов вслух прочитал приказ о мобилизации и даже обе передовицы: либеральной «Речи» и официозного «Нового Времени». Передовицы Иван Павлович читал обычно в поезде по дороге в Петербург, на службу. Но война перемешала все навыки, все взгляды и убеждения. Так в андерсеновской сказке ветер перемещал вывески. Хохлов не узнал самого себя и не знал своей жены; жена с недоумением слушала мужа, как слушают нового человека. Иван Павлович всю жизнь считал себя пацифистом, но сегодня, прочитав газету, неожиданно ощутил лихорадочный наплыв воодушевления.
— Теперь, — заявил он, — когда война стала фактом, все наши идеи, весь наш политический протест необходимо на время отбросить в сторону! Долг гражданина и, в конце концов, патриотическое самолюбие заставляют нас все внимание устремить на защиту границ. Дважды два — четыре.
— Что ты говоришь, Ваничка? Разве ты не видишь, что война — преступление? Преступление уже хотя бы потому, что у нас есть сын.
— Тебя подменили, Таня. Я не подозревал, что у моей жены так слабо развиты общественные инстинкты.
Иван Павлович торопился к раннему поезду. Чай остался недопитым. Татьяна Петровна наспех сунула в пальто мужа бутерброд с холодной котлеткой. Няня Афимья прослушала газеты, прослушала споры Хохловых и встала из-за стола.
— Поясницу чего-то заломило: Геннадий мой, того гляди, не приехал бы, — сказал она, заохала и поплелась по своим делам.
Первая страница газеты была в тот день бесстрастна, как накануне, как за неделю, как за год до войны:
О тихой кончине бывшего офицера Кавалергардского Ея Величества Государыни Императрицы Марии Феодоровны полка, генерал-адъютанта в отставке Павла Дягилева сообщали командир и офицеры полка, а также жена, сыновья, невестки и внуки покойного.
О смерти генерала от кавалерии Александра Пушкина, последовавшей в имении Останкино Катарского уезда, с глубокой скорбью извещали жена и дети…
В летнем Буффе шел фарс «Запретный город». В Луна — Парке: Танцы одалисок. Танго. Электроновость!!! Кинетофон Эдисона (говорящий и поющий кинематограф). Обозрение: «По ночам… по ночам…» В Зоологическом саду: Оперетта «Гаспарон, морской разбойник». В Аркадии: «Старички и девчонки». Аквариум: «Афродизия». Цирк Чинизелли: 33-ий день международного чемпионата французской борьбы. Решительные схватки. 1) Поль Абс — Збышко Цыганевич, 2) Туомисто — Поддубный, 3) Лурих — Мурзук; арбитр Дядя Ваня…
19
Мелкие волны Финского залива, как и вчера, желты и неторопливы. Между сваями забравшихся в море купален весело кружатся пескари. Сегодня пескари беспечнее обыкновенного, потому что шумливые дачники не тревожат их ныряньем, веслами и визгами. Розовато-серый песок отдыхает под солнцем от груза затянутых в цветные трико человеческих тел, попиравших еще накануне горячую зыбь берега. Пестрые будки, расставленные, как деревянные солдатики, в несколько рядов, покинуты — ненужные, раскрытые, одичавшие за одну ночь. Берег пуст. Странной и неестественной выдумкой кажутся тишина и безлюдье дачного пляжа. Зато над толевыми крышами, над цветочными клумбами и гипсовыми аистами, над немощеными улицами, над чередой сосновых участков, разгороженных заборами, плетнями и канавами, никогда еще так часто, так взволнованно и тревожно не носились свистки паровозов. Поезда проходят один за другим, нарушая привычное расписание и станционный порядок (ветер перемещает вывески), поезда бегут мимо дюн, мимо смолистых рощ и торфяных болот, мчатся все в одном и том же направлении, летят к Петербургу. От тендеров до багажных вагонов, до открытых товарных платформ, на которых обычно перевозят бревна, поезда заполнены женщинами, детьми, картонками, тюками, самоварами. Берутся с бою свободные вершки пространства. Шляпки сползают с причесок, женщины, бранясь, цепляются друг за друга, дети плачут…
На даче у писателя Апушина — очередное чаепитие с разговорами. Печенье Эйнем, голубоватый рафинад заводов Кенига, варенье собственной варки.
— Да здравствует искусство!
— Та-ра-рам, та-ра-рам, бум!
— Да здравствует Россия, черт возьми!
— Разумеется, и Россия.
— Та-ра-рам, бум-бум.
— Возможен ли здесь десант? Десант возможен…
— Не раньше чем через неделю. Паника глупа.
— Десант вообще неосуществим.
— Если не завтра, то никогда.
— Десант вполне вероятен, но совершенно бесполезен.
— Десант имеет решающее значение.
— Стратегически, пожалуй, он объясним.
— Десант, как таковой, пустой звук.
— Зато моральное значение десанта огромно.
— Десант опасен только для кухарок.
— И для твоих стихов!
— Во всяком случае — не для России…
— Война закончится через месяц в Берлине. Кайзеру публично остригут усы, помяните мое слово.
— Идет в поход Мальбрук, усат и сухорук.
— Браво! Запишите!
— Неусыпно усатинить усы легче, чем вселенную усыпать мертвыми костями.
— Запишите!
— Грохочут тяжкие шпалеры
Тевтонских войск в пыли заката.
О, келомякские рантьеры,
Вы скоро будете рогаты!
— Браво! Взгляните на позу: Пушкин у Пущина, Мицкевич в салоне какой-то графини.
— Существуют и должны существовать идеи, во имя которых стоит жить…
— Сегодня хлеб вздорожал на одну копейку, а пирожных в кондитерской совсем не пекли.
— …но таких идей, ради которых нужно было бы умирать, существовать не может. От подобных вещей следует лечить человечество холодными душами и надевать на него смирительные рубахи. Одним словом, — долой войну! Да здравствуют дезертиры!
— Уже о дезертирах?
— Время — деньги.
Так начались разговоры о войне.
Вечером прошел по линии первый поезд в обратном направлении, из Петербурга: воинский. Солдатам кричали «ура», солдаты пели песни. Много времени спустя, в 17 году, писатель Апушин записал на обрывке чистой бумаги:
«Пили чай с печеньем, говорили о войне. Не очевидные (для меня и, надо думать, для остальных) предпосылки к затяжной бойне, не гибель культуры, не безумие вдруг ослепшего человечества, не миллионы внезапно приговоренных к смерти людей — в центре внимания оказались усы Гогенцоллерна. В этот вечер я постиг обреченность России, и мне представлялась чудовищной людская недальновидность».
Подумав, Апушин пометил эти строки задним числом: Июль 1914.
20
Первые признаки существования Дэви Шапкина обнаружились в кинематографе «Иллюзион». В «Иллюзионе» Шапкин служил тапером. Никто не спрашивал, откуда Шапкин пришел в «Иллюзион», и никто не удивился бы, если в метрике Шапкина против «места рождения» стояло бы слово «Иллюзион». Но, играя, Шапкин так изумительно вскидывал руки, что с ним нельзя было не познакомиться. Коленька Хохлов разговорился с ним в антракте, когда, прислонившись к пианино, Дэви зубочисткой чистил ногти. Он был прирожденным музыкантом. Даже и вне кинематографа «Иллюзион» Дэви Шапкин мог без устали играть танго своего сочинения. Дэви быстро хмелел от водки. Он взмахивал руками, рассказывал еврейские анекдоты, почесывал себя между лопаток, не умел сидеть на месте, затевал споры. Больше всего любил Шапкин спорить о литературе: наступал вплотную на собеседника, накапливал слюну в углах рта и теребил свои бачки (Дэви Шапкин отращивал бачки).
— Вы говорите — Гейне! А Моисей? — вскакивал Шапкин из-за пианино. — Моисей, по-вашему, не написал скрижалей? Это вам не литература? Фунт изюму, что? Это, правда, короче самого Петера Альтенберга, но это же — красиво!
Подымался хохот. Шапкин едва поспевал за своей скороговоркой.
— Вы смеетесь над Шапкиным? Вы думаете, что он ничего не может делать, кроме кекуоков в «Иллюзионе»? Но, знаете, смеется тот, кто хорошо смеется.
Студенты-юристы Покидов, Темномеров Миша и Фаробин Ромка уходили на фронт в пехоту, гражданец Керн — в кавалерию, и два технолога, Сурков и Неустроев, — с автомобильной ротой.
— Ах, оставьте, на самом деле, действительно! — кричал Дэви Шапкин. — Война, я знаю, необходима, потому что она прекрасна, что? Кровь очищает. Дэви Шапкин, конечно, не Макс Нордау, но он знает, что такое красота.
— Садись за рояль, а то водки не дадим.
— Плевать я хотел с вашей водкой! А впрочем — сижу уже.
Тонкие, длинные пальцы прыгали по клавишам.
21
Наедине с тобою, брат, Хотел бы я побыть: На свете мало, говорят, Мне остается жить! Поедешь скоро ты домой: Смотри ж… да что! моей судьбой, Сказать по правде, очень Никто не озабочен. А если спросит кто-нибудь… Ну, кто бы ни спросил,— Скажи им, что навылет в грудь Я пулей ранен был; Что умер честно за Царя, Что плохи наши лекаря И что родному краю Поклон я посылаю. Отца и мать мою едва ль Застанешь ты в живых… Признаться, право, было б жаль Мне опечалить их; Но если кто из них и жив, Скажи, что я писать ленив, Что полк в поход послали И чтоб меня не ждали. Соседка есть у них одна… Как вспомнишь, как давно Расстались… Обо мне она Не спросит… Все равно, Ты расскажи всю правду ей, Пустого сердца не жалей,— Пускай она поплачет… Ей ничего не значит!22
Поэт Рубинчик уходил с призывного пункта в косоворотке, в визитке и высоких сапогах; за спиной бренчала походная кружка. Навстречу двигалась процессия, неся над головами трехцветные флаги и портрет государя; извозчики; городовые; люди неопределенных категорий — в чесучовых пиджаках, в картузах, в соломенных шляпах; сенновцы; писаря; приказчики; шли ряженные в студентов вышибалы и дворники; маршировали в патриотическом азарте гимназисты. Под портретом величествовал пристав, впервые возвышенный до человека. Пожарные топили национальный гимн в грохочущей меди. Над Петербургом оседала копоть погромов.
Рубинчик говорил:
— Как спички выделываются исключительно из простой малоценной осины, несмотря на высокое качество других древесных пород, так и война… (гимн заглушает слова)… осина легче всего воспламеняется, что бы ни говорили о высокой морали, о любви к отечеству и народной гордости, о защите прав человека, о справедливости.
(Хор:
…царствуй на страх врагам, Ца-арь православный, Бо-о-оже, Царя храни…)— Но в этом слове — война — есть какая-то магия. Оно завораживает. Как удав — антилопу, война гипнотизирует человечество. Потом она пожирает его… Кстати: Пушкин у Пущина — какая рифма упущена!
23
Шагает босиком через канавы и лужицы журавль Апушин, плотный и угорелый нос его блестит на солнце. Вот зеленая лужайка, вдалеке меланхолически перекликаются колокольцами рыжие коровы. Хорошо лежать на такой зеленой лужайке, примяв душистую кашку, смотреть на зеленых стрекоз и разговаривать. О чем, как не об искусстве, можно говорить, развалясь на траве под светлым финским небом и кусая кислый стебелек щавеля? Блямбают колокольцы ленивых коров; за плетнем на одноколке проезжает молочница, вздымая пыль.
Снова, как и всегда — во все войны, любители отечественной словесности начинают, при известной доле сочувствия со стороны слушателей, свои упражнения в стилистике. Вслед за графом Ростопчиным берет слово молодой депутат Керенский:
— Мы верим, что на полях бранных в великих страданиях укрепится братство всех народов России и родится единая воля освободить страну от страшных внутренних пут… Крестьяне и рабочие, все, кто хочет счастия и благополучия России, в великих испытаниях закалите дух ваш, соберите ваши силы и, защитив страну, освободите ее!..
Наконец, Верховный Главнокомандующий шлет «Воззвание Русскому Народу»:
«Братья!
Творится суд Божий.
Как бурный поток рвет камни, чтобы слиться с морем, так нет силы, которая остановила бы Русский народ в его порыве к объединению. Да не будет больше подъяремной Руси. Достояния Владимира Святого, земля Ярослава, Остомысла, Князей Даниила и Романа, сбросив иго, да водрузят стяг единой, великой, нераздельной Руси. Да поможет Господь Царственному Своему Помазаннику Императору Николаю Александровичу Всея России завершить дело Великого Князя Ивана Калиты.:
Верховный Главнокомандующий Генерал-Адъютант и Великий Князь НИКОЛАЙ".Апушин хохочет. От смеха прыгают в его руках газетные листы.
— Непростительная рассеянность, — произносит Коленька Хохлов, — позабыты Синеус и Трувор.
За плетнем мелькает гимназист на велосипеде: последние соринки испорченного дачного сезона.
— Стиль определяет собой содержание, — говорит юноша в матросской блузе, крутолобый Толя Житомирский. — По существу, безразлично, что именно в данном случае подлежит анализу: этот идиотский манифест, Дон Кихот Ламанчский или «Тристрам» Стерна. Мы объявляем новый метод анализа, построенный…
Апушин настораживается. Газета белеет в траве и, толкаемая легким, незлобным ветром, все дальше относит слова о войне:
«…Упорные бои между Рава-Русская и Днестром продолжаются. На восточно-прусском фронте неприятель продолжает наступать. Упорные атаки германцев в районе Бакаларжево развиваются… Тяжелая и гаубичная артиллерия противника в районе Пеняки…
Ничего существенного не произошло. Во многих местах перед нашими окопами накопились груды неприятельских тел, стесняющих даже наш прицел…
…Горемыкин, Палеолог, Бьюкенен, Кривошеин, Сазонов, граф де-Бьюиссере, Сухомлинов, Крон-принц, Григорович, Спалайкович, Ренненкампф, Тимашев, Рухлов…»
Газета скользит и вспархивает над душистой кашкой, несомая ветром.
Имена и дела отлетают к плетню. Толя Житомирский говорит о форме художественного произведения.
24
Наконец произошло то, чему страшно было верить и чего с жадным интересом ожидали, как в цирке ждут последнего прыжка из-под купола: по Невскому проспекту, прихрамывая и опираясь на палку, шел раненый офицер.
Левая рука его висела на перевязи, лицо было наполовину забинтовано, на груди белел новенький Георгиевский крест. Офицер направлялся в кинематограф «Пикадилли».
Только с появлением первых раненых Россия поверила тому, что война стала явью. Официальные сводки, печатавшиеся в газетах, казались не более чем литературой. Россия, подобно Фоме Неверящему, хотела осязать войну, убедиться воочию в ее существовании. Режиссеры войны торопились поэтому возможно скорее послать раненых в глубокий тыл, рассыпать по стране микробы, способные вызвать, пробудить, разжечь необходимый подъем чувств, без которых не могло быть ни войны, ни победы. Санитарные поезда, груженные стонами, кровью, йодоформом, смертью, — направились с фронта в дремотную Пензу, в самоварную Тулу, в мирный и миролюбивый Орел, в Полтаву, Москву, Петербург. Искалеченные люди ложились струпьями на тело занемогшей России, вызывая боль, тревогу, бред. Впоследствии, когда война сделалась бытом, непреодолимой ежедневностью, когда корреспонденциями с фронта, телеграммами из Ставки Главнокомандующего, вытянув строки в одну линию, можно было многажды опоясать земной шар; когда в России не оставалось ни одной семьи, войной не тронутой, не разбитой, не напуганной; когда ей, России, приходились уже в тягость все новые и новые партии калек, не предусмотренные режиссерами лишние рты, ненужные, бесполезные, неработоспособные члены семьи, осколки, обрезки, обрубки, куски кровоточащего и несъедобного мяса, — тогда естественно и неизбежно санитарные поезда, шедшие из окопов, вместо энтузиазма везли с собой ненависть к войне и возмущение. Но если в начале войны — только в начале! — некоторая часть России сумела пережить чувство, называемое патриотическим гневом, то это случилось именно в те дни, когда на улицах далеких от фронта городов показались первые жертвы сокрушительной эпидемии.
Вечер был воскресный, проспект многолюден. Человеческий туннель расступался перед раненым офицером. Он смотрел печально и просто на незнакомых людей, обнажавших перед ним головы, на военных, поспешно козырявших ему независимо от чинов, на женщин, глядевших испуганно, сочувственно и восхищенно. Ребятишки бежали за ним почтительной гурьбой.
Офицер поднимался по ступеням «Пикадилли». За плечами офицера реяли патетические крылья войны. Представление было прервано. Люди подымались со своих мест. Пафос войны вошел в залу кинематографа. Сквозь фортку оцинкованной будки, забыв про Веру Холодную, механик разглядывал белое пятно забинтованной головы, в то время как в зале, протискиваясь между кресел, приближался к армейскому поручику седой генерал.
— Разрешите мне, старому солдату, — произнес генерал, — приветствовать вас, господин поручик… и… постойте, постойте… поздравить в вашем лице героя. Голос генерала дрожал. Пролетела по залу тишина — торжественная, неповторимая.
— Поручик Лохов. Ранен под Кенигсбергом. Я не полагал, что помешаю представлению, — тихо ответил офицер.
Поручик Лохов едет домой. Извозчик мчит своего седока. Сиреневая мгла электрических фонарей летит навстречу. В тот памятный день, когда на улицах Петербурга появился первый раненый с фронта, извозчик, гордый седоком, отказался принять от него деньги. Поручик Лохов, сойдя с пролетки, крепко жмет извозчику руку. С визгом и хрустом открывается дверь в темную дыру лестницы. Лохов стремительно взбегает на четвертый этаж, освобождая на ходу руку от перевязи. И неопрятной, холостой квартирке кудластая собачонка встречает хозяина радостным лаем. Поручик Лохов срывает с головы бинты, приглаживает ладонями взъерошенные волосы, раздевается и остается в одном белье, в несвежих егеровских кальсонах, напевая матчиш на слова:
Ах, мама, мама, мама, Какая драма: Вчера была девица, Сегодня — дама…Поручик производит ритмические телодвижения по системе Мюллера и, убедившись, что от бинтов, прихрамывания и ранений не осталось и следа, надевает халат и кидается на ковровую, потертую атаманку. На стене скрестились сабли и дуэльные пистолеты. Запалив старинную, обкуренную предками, длинную трубку, поручик мечтательно глядит в потолок; кольца голубого дыма уплывают в вышину. Иногда тонкая, прямая струя пронзает их одно за другим, нанизывает: шашлык на вертеле. Кнопками приколоты к обоям фотографии голых и полураздетых женщин — в чулках, в корсетах, в панталонах…
Белый пудель, похожий скорее на белую тень собаки, вьется подле атаманки. Поручик ложится на живот, протягивает арапник пуделя прыгать…
— Анкор, еще анкор! — повторяет поручик два, три, четыре раза, голос его тускнеет, поручик погружается в сон. Комната засыпает также. В воздухе повисает белая тень собаки — в прыжке над арапником.
25
Государь Император, удостоив внимания способности рисующего офицера, Высочайше повелеть соизволил предоставить ему добровольно оставить службу и посвятить себя живописи, с содержанием по 100 рублей ассигиациями в месяц. И вот появилась квартирка в Санкт-Петербурге, с грошовой мебелью, с гранатовыми обоями и золотым бордюром, с грудой холстов и папок. В папках лежали удивительные вещи, и, хотя торговец художественными изделиями и эстампами Дациаро с Морской улицы всему предпочитал заказные портреты, папки распухали от удивительных вещей. Маленькая квартирка часто пустовала: хозяин целыми днями блуждал по городу. Хозяин видел жизнь, питерскую жизнь, — изображенной на холсте фламандскими мастерами. Представление о жизни двоилось. Было странным и страшным родство российских сидельцев, горничных, расфуфыренных купчих, бородачей второй гильдии, крикливых сбитенщиков — с эрмитажными полотнами. Офицер лейб-гвардии Финляндского полка, капитан в отставке, Павел Андреевич Федотов, резался в «дурачка» в подворотне Апраксина рынка, и ему мерещилось, что он бродит в прохладных анфиладах музея. Борода собеседника, его енотовая шуба, варежки — казались писанными по полотну фламандцем Теньерсом. Федотов распознавал даже чуть приметный ворс кисти, заглаженные временем рельефы мазка. Чтобы еще крепче убедиться в своих наблюдениях, Федотов снова торопился в Эрмитаж, но там его неожиданно обступало многолюдье Апраксина рынка. День заканчивался головной болью, головная боль начиналась миганьем в глазах. Но одни ли только фламандцы? Вслед за фламандцами пришли англичане. Русский, руссейший капитан в отставке (с правом ношения мундира) до такой степени сливался с англичанином Хоггартом, что терял окончательно свою собственную сущность, за исключением, пожалуй, одного мундира лейб-гвардии Финляндского полка. Но разве нежинский землемер лесного департамента Венецианов, отмеряя мужицкие межи, не видел в родных полях в лапотных, босоногих нежинских жницах — образов классической Италии? И разве, несмотря на это, Россия знает художников более русских?
Ста царских рублей ассигнациями хватало ровно на первую неделю каждого месяца; заказные портреты все реже получались от придирчивого торговца Дациаро, однако удивительные вещи множились в федотовских папках. Названия их длинны и замечательны:
«Сватовство майора, или Поправка обстоятельств женитьбой».
«Звезда предвещает рождение гения».
«Как хорошо иметь в роте портных».
«Мышеловка, или Опасное положение бедной, нo красивой девушки».
«Художник, в надежде на свой талант женившийся без приданого».
«Две манеры сидеть».
«Утро чиновника, получившего первый орден…»
«Анкор, еще анкор!»
Но однажды, когда сквозь непревзойденную зелень обоев в спаленке своей «Вдовушки» Федотов увидел белую тень пуделя, распростертую над арапником, головная боль сделалась невыносимой, и Федотов заплакал (как и все русские люди, он вообще умел плакать над абстракциями). Федотова усадили на извозчика, еще более бородатого, чем фламандцы Апраксина рынка, и отвезли в заведение медика Лейдесдорфа, что на Песках. Гранатовые обои в маленькой гостиной навсегда перешли в прошлое… Проезжая по Миллионной, Федотов красными от слез, боли и страха глазами взглянул на здание музея: с портала снимали последние леса, каменщики стучали молотками. Именно в этот год строители Штакеншнейдер и Кленце, продолжая дело Деламота, Фельтена и Гваренги, закончили постройкой Императорский Эрмитаж, украсив его подъезд кариатидами Теребнева.
Глава 2
1
— Трус! — кричит Иван Павлович Хохлов. — Посмотри вокруг: разве твои друзья не в окопах? Разве они не доказали своей готовности гибнуть за родину? Ты пойдешь на фронт!
Но Коленька оставался в Петербурге. Мать снабжала Коленьку деньгами для подкупа врачей в мобилизационных комиссиях; врачи единодушно признавали его неспособным носить оружие. Случайно об этом узнал отец. Он яростно стучал кулаками по столу (чашки в буфете вздрагивали, позвякивая):
— Негодяй! Я не обвиняю твою мать, у нее женское сердце, но ты — ты позоришь нашу семью! Если ты не испытываешь стыда, то я сгораю от него. Когда мы были молоды, мы радостно отдавали себя за народ.
С горячностью Коленька прерывает отца:
— Нет! Ты не прав, ты передергиваешь карты!
Коленька сознает, что говорит не то, что следует. Его отец прежде всего — честный человек. К тому же он ни разу в жизни не брал карт в руки, и эта фраза ему особенно неприятна. Но Коленька уже бессилен сдержаться:
— О каких жертвах ты говоришь? Разве ты жертвовал собой в том оголенном, физическом смысле, как это делает мое поколение в окопах? Мне наплевать на политику, я не читал резолюций Циммервальда. Но для меня ясно, что ваша война выйдет человечеству боком.
— Извозчик и трус, — говорит отец печально.
— Ты жертвовал собой ради близкой тебе идеи. Но я не иду на войну, потому что не вижу в ней смысла, потому что не понимаю — слышишь? — не по-ни-маю, на какого черта меня туда посылают!
Коленька с отвращением слышит собственный визг и старается говорить спокойнее:
— Пусть мне прежде объяснят, что должен я защищать. Историю? Географию? Национальные особенности культуры? Никаких чувств, кроме досады, во мне не возбуждают эти понятия. Ты всю жизнь хотел сделать из меня художника. Вот я и стал художником. Язык моего искусства международен: живопись не нуждается в переводчике. Поддержание национальных признаков в нашем искусстве мы считаем, прости меня, выражением дурного вкуса.
— Погоди! Ты, художник, ты же видишь, как немцы разрушают Лувенскую библиотеку, как они разрушают Реймский собор, как шаг за шагом они уничтожают памятники искусства и культуры. Ты, художник, видишь все это и остаешься хладнокровным?
— Что же нужно сделать, чтобы спасти все это от гибели? — возражает Коленька. — Раздавить, уничтожить Германию? Вздор! Нужно прекратить войну.
— Урод. Мой сын — невежда и моральный выродок.
Иван Павлович опускается в кресло.
— Что еще ты здесь делаешь, нянька?! — внезапно обрушивается он на Афимью, стоящую у дверного косяка.
— Хрущу, — не спеша отвечает няня Афимья, заламывая пальцы.
Отец сидит в кресле, откинувшись на спинку и закрыв глаза. Отец и сын никогда не поймут друг друга. Коленька умолкает. Он опускается на пол, кладет свою голову на колени отца. Отец недвижим. Коленька видит его страдания, и нежная боль, нежнейшая жалость к отцу пронзает его. На другой день Коленька отправляется в воинскую комиссию, его признают годным для службы и зачисляют в учебную команду. Ему выдают ружье и, как мельчайшую гайку, ввинчивают в общий военный аппарат. Через месяц Коленьку уже отправляют в окопы, а через два он дезертирует. Отец никогда не узнает о его бегстве.
2
В Карпатах метель препятствует нашим операциям.
Неприятель расширяет прорыв наших расположений и углубляется внутрь страны.
Неприятель занимает Варшаву, Вильну, Ригу…
Париж (веселый Париж!) в предсмертных судорогах проводит свои ночи при потушенных огнях. Беспечные гении Монпарнаса нарядились в синие солдатские шинели. В подземельях Вердена, в землянках Шампани, под орудийный гул, под шипение снарядов рисуют огрызками карандашей на блокнотных листках, которые потом будут ревниво собирать, разыскивать, нумеровать, каталогировать историки для залежей Венсенского музея. Скульптор Залкинд из Винницы, вихрастый парижанин, разглядывая из окопа обглоданный шрапнелью ствол платана, задумывал деревянную статую Орфея. Двадцатилетние девушки из белошвейных мастерских вязали теплые носки для пехотинцев.
Души как таковой, конечно, нет. То есть души как элемента нематериального. Душа является одной из составных материальных частей человека, чем нибудь вроде щитовидной железы. Но душа — это именно та материальная частичка, которая постоянно восстает против своей материальности. Некоторым душам удается до такой степени победить материю, что они действительно могут быть сравниваемы по меньшей мере с паром. Таковы были души двух работниц из бельевой мастерской на улице Монж — Жаклин и Дениз. Сверкая вязальными спицами, они стрекотали без умолку:
о том, что у Дениз был плохой стул и что она не может есть конины, так как это вызывает красные пятна на теле;
о том, что жених Жаклин очень шикарен в военной форме и что у него есть шрам на лбу;
о том, что Дениз спит в одной постели со своим девятилетним братом и что он очень горячий;
о том, что сестра Жаклин пристает к ее жениху, когда он приезжает на побывку, и что ей приходится за обедом ставить свои ноги на ноги жениха, потому что иначе сестра поставит на них свои…
В Карпатах продолжается метель. Полузамерзший, заиндевевший поэт Рубинчик сочиняет стихи о Санкт-Петербурге. На груди Рубинчика — два георгиевских креста, в груди — леденящий холод. Санкт-Петербург — Петроград — меняет свой прежний блоковский облик. Блоковским он станет еще раз после «Двенадцати».
В Карпатах метель. Впрочем, метель не только в Карпатах. Снежная пороша бежит по России. Скрюченная рука Темномерова Миши второй месяц торчит над сугробом. В Старой Руссе, в душной квартире булочника Шевырева, работает Коленька Хохлов — дезертир. По ночам шестнадцатилетняя Мотя Шевырева, дочка, крадется в Коленькину постель. Булочник Шевырев бранит войну — «на кой ляд она мне сдалась», — бранит плохую муку, бранит администрацию городских лавок Старой Руссы, не желает получать в расчет почтовые марки заместо денег. На заводах рабочие ругают войну — «на кой ляд она нам сдалась», — ругают хлеб и администрацию городских лавок, не хотят получать в расчет почтовые марки — стены обклеивать. Новобранцы бьют стекла в волостных правлениях, рвут гармони на части в матерном исступлении. Татьяна Петровна Хохлова обивает пороги военных канцелярий, допытываясь о судьбе своего сына. Иван Павлович сурово и строго молчит, глядя на слезы жены, и ловит себя на сомнении, что, может быть, было непоправимой ошибкой посылать Коленьку на верную смерть. Порой и ему, Ивану Павловичу, война начинает казаться бессмыслицей. Жизнь в Петербурге скудеет, не хватает топлива, не хватает хлеба, мяса и сахара, в час ночи электрическая станция выключает ток, у продуктовых лавок и сберегательных касс вытягиваются нетерпеливые очереди. Но дела акционерного общества, работающего теперь на оборону, идут успешнее, чем когда бы то ни было, и дивиденды Ивана Павловича Хохлова превосходят всякие ожидания. Однако Иван Павлович все чаще страдает бессонницей, и в такие ночи непременно и мучительно возникает перед ним вопрос о невидимой связи между гибелью Коленьки и этими дивидендами.
Слухи о государственной измене в командных верхах, о темном заговоре императрицы ползут все упорнее. Расстрел полковника Мясоедова уже никого не удовлетворяет. С трибуны Государственной Думы Милюков задает вопрос:
— Глупость или измена?
Милюков сед, лицо его розово, очки запотели от напряжения.
19-го декабря 1916 года, утром, находят около Петровского моста прибитым к берегу труп Григория Распутина. Следствие поручается судебным властям. Труп переносят в одну из покойницких военного госпиталя. Дмитрий Дмитриевич Винтиков занимает кресло в Государственном Совете и своему соседу, барону Штакендорфу, нашептывает пикантный дворцовый анекдот.
По России голубой порошей метет метель. Вспыхивают голодные бунты. Дезертиры организуют грабительские отряды. Раздирают гармоники новобранцы, бьют стекла, жгут воинские присутствия. Снег. Кровь. Огонь… Коленька Хохлов пишет крутолобому Толе Житомирскому:
«По-прежнему отсиживаюсь в пекарне. Отрастил бороду, и сразу седую: в муке. Продумываю новую живописную форму. При первой возможности примусь за реализацию. Представляя собой „единый“ фронт с Францией, мы уже более двух с половиной лет фактически совершенно оторваны от Парижа. Не могу, однако, допустить, чтобы художественная жизнь там иссякла. Если доходят до тебя какие-либо оттуда сведения — высылай. Думаю, что период нашего увлечения Сезанном со всем и его последствиями (кубизм и пр.), т. е. наш русский (точнее — московский) сезаннизм — вполне пережит, Сезанн превращается в жвачку. Думаю, что ему из точки притяжения пора перейти в точку отталкивания…
Жду с нетерпением твою новую книгу… Апушин, видимо, заскоруз окончательно в какой-то парламентской экспедиции на Запад…»
3
Что может быть скучнее февральской революции? Буржуазная революция похожа на барыню, которая, получив мигрень в непроветренных апартаментах, отправилась погулять без определенной цели: стоит и не знает — свернуть ли ей влево или вправо, или идти прямо, вперед, или вообще пора возвращаться обратно. Барыне чрезвычайно скучно и не по себе, окружающим смотреть на нее тоже невесело. Растроганный Милюков в порыве демократического великодушия приветствует появление Ленина как всемирно известного вождя социалистов. Керенский произносит речи о спасении революции, разъезжает по фронтам, воображая себя главнокомандующим. Московские дамы забрасывают его розами.
В заплатанной солдатской шинели объявляется на Фурштадской улице Коленька Хохлов.
— Здравствуй, мама! Здравствуй, отец! Вот и я — солдатский делегат. А вот — товарищ Шевырева, Мотя, — рабочая делегатка из Старой Руссы. Скорее ванну: вшей отмачивать.
Товарищ Мотя целыми днями пропадает на собраниях, а Коленька пишет картины. Хохловы счастливы его возвращению, они гордятся своим сыном. Правда, он не дослужился ни до капитана, ни даже до поручика, но зато, когда он заходит в домовый комитет, — все решения немедленно склоняются в его сторону.
Календарь близится к Октябрю. Крупнейший курский помещик Трепак-Висковатый, одетый в поддевку цвета электрик, останавливает посреди Театральной площади свой автомобиль.
— Граждане святой Москвы! — восклицает он, снимая мужицкую фуражку с седеющих кудрей. — Русские люди! По примеру Минина и Пожарского отдадим свое имущество на алтарь отечества! Грозный час наступил. Черные тучи надвигаются на святую и свободную мать Россию. Сегодня — день «Красной Гвоздики», день сбора на последнее решительное наступление наших славных воинов против зарвавшихся внешних врагов. По примеру великих патриотов русских докажите вашу готовность к жертве во имя Родины. Опускайте посильную лепту в эти скромные кружки. Да здравствует великая, свободная Россия! Все — на войну до победного конца!
Автомобиль несет Трепака-Висковатого по улицам Москвы. К вечеру Трепак-Висковатый в поддевке цвета электрик заезжает в «Эрмитаж» отведать судака по-польски и бокал-другой Пуи. По адресу щедрого гостя стелется в зале почтительный шепот. Поддевка удобно раскидывается в кресле, ладонь подпирает задумчивую седеющую голову. Среди столиков проходят сборщики «Красной Гвоздики».
— Ба! — радуется Трепак-Висковатый, опуская в кружку крупную бумажку. — Иван Иваныч, ты ли? Ну, как работаешь?
Иван Иваныч близко наклоняется к седеющим кудрям и шепчет, косясь на кружку:
— Преимущественно перочинным ножиком, но приходится и дамской шпилькой.
4
Происходил ли разговор о пишущей машинке наяву или только приснился Коленьке Хохлову, — этого он никогда не мог впоследствии сказать определенно. Инженер Бобровский как сквозь землю провалился. Передавали, что он сбежал немедленно после Октября. Так или иначе, Коленька никогда более с ним не встречался, разговор же (действительный или приснившийся) имел в те годы немаловажное значение, хотя сам по себе не представлял ничего необыкновенного.
Сначала все шло вполне благополучно, даже слишком благополучно, до умилительности. Коленькой овладела томная лиричность, столь свойственная каждому в послеобеденное время. Коленька сидел в кабинете инженера Бобровского и курил «Сафо-пушку». Хорошие папиросы: янтарный табак, бумага рисовая. Мебель в кабинете тоже хорошая, английские кресла черной кожи. Удобно и прочно. Говорили о многом — о Керенском, о предпарламенте, о сдаче Петербурга немцам. Время и обстановка очень располагали к подобным разговорам: сентябрьский дождь устремлялся в водосточные трубы; Керенский, оттопыривая верхнюю губу, снова произносил речи и издавал декреты, повисавшие в безвоздушном пространстве. Но больше всего говорили об искусстве. Бобровский — коллекционер, собирал живопись, рисунок, скульптуру. Хороший, толковый коллекционер: покупал с большим выбором, в предусмотренном плане, платил не торгуясь (и потому у него не запрашивали), солидно окантовывал, орамливал и — на стену. Собрал номеров двести, и все отменные экземпляры: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 3, две вещи самого Хохлова, многие другие. Азбука культурного вкуса. Висели вещи в кабинете, в столовой, в зале (в зале обои скверные: впитывают пятна).
Говорили об искусстве, дымили папиросками, пили крепкий чай, настоящий китайский, мешали ложечками сахар внакладку. На окнах шторы, в потолке полуватка. К концу беседы инженер сказал:
— Я ведь тоже, Николай Иванович, немножко художник.
— Как же, Антон Петрович, знаю.
Коленька действительно слышал: Бобровский учился живописи и научился, быть может, не хуже А, Б, В, Г и самого Коленьки Хохлова.
— Я не о картинах, — продолжал хозяин, — я в другой области.
Пригасил папироску и достал из стола блестящий предметик, положил на белый лист бумаги, сдунул едва заметную пыль.
— Мое изобретение. Модель самопишущей машинки. Работа завода Сименса.
Инженер ласково погладил свое произведение.
— Однажды в Берне, — начал он, — в одном кафе я зашел в уборную. Всякий раз, входя в целесообразно оборудованное помещение — операционный зал больницы, обсерватории, уборную, — я испытываю чувство зрительного удовлетворения при виде ослепительно белых, строго гигиенических стен, безукоризненно логических, безапелляционных форм приборов и всевозможных деталей. Картина поистине глубоко умилительная для каждого, кто не разучился видеть прекрасное. Но в тот раз мое чувство прекрасного было оскорблено: на снежном фоне стены, под самым электрическим вентилятором, едва стрекотавшим, как полевой кузнечик (вы чувствуете эту поэзию, дорогой Николай Иванович?), висел плакат пишущей машины Роста. Высокий стиль помещения нарушен несомненным безобразием.
Бобровский прошел в столовую и вернулся с бутылкой мадеры.
— Все функционирующие ныне системы пишущих машин, — продолжал он, — начиная с устаревшего «Реминггона» и «Ундервуда» до наиболее удачной системы «Смис премьер М. 10», — слишком несовершенны в конструктивном отношении. Недостатки их очевидны: сложность составных частей, отсутствие портативности, необходимость затрачивать большое механическое усилие, вызывающее физическое утомление пишущего (тяжелый нажим, неудобное расположение таст на тастатуре), стук, звон и щелканье частей машины, рассеивающие внимание и утомляющие слух, неизбежность перерывов умственного процесса для построчных передвижений каретки, прикованность к машине, постоянная от нее зависимость и т. п. Совершенство конструкции обусловлено степенью утилитарности: максимум полезности при минимуме затрат (энергии, материала, стоимости), и в то время, как несовершенная, т. е. ненужная, вещь, вредная вещь, производит впечатление уродливости (пример: дачное отхожее место, калека, неудобный экипаж), совершенная конструкция всегда легка, закономерна и гармонична по своей внешности. Следовательно, создать совершенное в утилитарном смысле — значит создать прекрасное вообще. Мой глаз был оскорблен пауковидной внешностью машины на плакате. Выйдя из уборной кафе, я уже видел проект моей машины. Она перед вами в натуральную величину. Прежде всего: вес менее шести фунтов, объем не более десятка кубических дюймов. Я раскладываю ее на части, завертываю каждую из них в папиросную бумагу, сую в карман куртки; тастатуру можно с бумагами положить в портфель; седлаю мотоциклетку — и до свидания! Затем: аппарат не связан с тастатурой; вы можете лежать на диване, кровати, сидеть в удобном кресле перед камином, за письменным или обеденным столом, держа перед собой лишь эту крохотную дощечку с клавишами, как держали бы лист бумаги. Нажим на клавишу не нужен: достаточно легкого прикосновения, от которого замыкается ток и вступают в дело чувствительные реле. Работа машины беззвучна. Проверьте. Аппарат сам следит за переменой строк; вы можете пропустить целый рулон бумаги без одной остановки. Благодаря электрической энергии становится безразличным расстояние от вас до аппарата. И наконец: на современных пишущих машинах вы можете при максимальном мускульном напряжении выбивать до десяти копий, одновременно. пользуясь моей системой, можно, лежа в вашей комнате на Фурштадской, едва касаясь пальцами беззвучной клавиатуры, не заботясь о передвижении строк и вообще ни о чем, кроме собственных мыслей, одновременно выстукивать их в двадцати экземплярах на ста аппаратах — в Лондоне, в Чикаго, в Токио, в Новой Зеландии, в Париже, на Мадагаскаре, в Тетюшах, у Далай-Ламы и у черта в ступе… Теперь обратите внимание на ее внешность, проверьте впечатление, получаемое вами от ее форм; я думаю, что вам, как художнику, она должна понравиться, — все так же спокойно заключил изобретатель, нежно поглядывая на свою модель.
Благополучие кончилось. Произошла катастрофа. Коленька почувствовал, что перед ним лежало, поблескивая, лучшее, несравненное, прекраснейшее произведение в собрании инженера Бобровского. Холодный пот выступил и т. д. Отчаянные попытки ухватиться за тень Рафаэля были бесполезны. От Леонардо остался недостроенный аэроплан. Так показалось в тот вечер Коленьке Хохлову. На стенах он с ужасом увидел скорченные мумии: А, Б, В, Г, собственную свою мумию и всех. Пахло тлением.
5
— Заметано! — весело кричала Мотя Шевырева, вбегая в комнату. — Читай!
Ленин, эстет и художник, прислал в ЦК партии большевиков письмо об искусстве:
«Надо на очередь дня поставить вооруженное восстание в Питере, в Москве, завоевание власти, свержение правительства. Вспомнить, продумать слова Маркса о восстании: „восстание есть искусство“.
К числу наиболее злостных и распространенных извращений марксизма господствующими социалистическими партиями принадлежит оппортунистическая ложь, будто подготовка восстания, вообще отношение к восстанию, как к искусству, есть бланкизм.
Обвинение в бланкизме марксистов за отношение к восстанию как к искусству. Может ли быть более вопиющее извращение истины, когда ни один марксист не отречется от того, что именно Маркс самым определенным, точным и непререкаемым образом высказался на этот счет, назвал восстание именно искусством, сказав, что к восстанию надо относиться, как к искусству…
Восстание, чтобы быть успешным, должно опираться не на заговор, не на партию, а на передовой класс. Это во-первых. Восстание должно опираться на революционный подъем народа. Это во-вторых. Восстание должно опираться на такой переломный пункт в истории нарастающей революции, когда активность передовых рядов народа наибольшая, когда всего сильнее колебания в рядах врагов и в рядах слабых половинчатых стремительных друзей революции. Это в-третьих. Вот этими тремя условиями постановки вопроса о восстании отличается марксизм от бланкизма.
Но раз налицо эти условия, то отказаться от отношения к восстанию, как к искусству, значит изменить марксизму и изменить революции.
Переживаемый нами момент надо признать именно таким, когда обязательно для партии признать восстание постановленным ходом объективных событий в порядке дня и отнестись восстанию, как к искусству.
За нами верная победа, ибо народ уже близок к отчаянию и „озверению“…
Мы отнимем весь хлеб и все сапоги у капиталистов. Мы оставим им корки, мы оденем их в лапти.
Мы должны доказать, что мы не на словах только признаем мысль Маркса о необходимости отнестись к восстанию, как к искусству. А чтобы отнестись к восстанию, как к искусству, мы, не теряя ни минуты, должны организовать штаб повстанческих отрядов, распределить силы, двинуть верные полки на самые важные пункты, окружить Александринку, занять Петропавловку, арестовать генеральный штаб и правительство, послать к юнкерам и к дикой дивизии такие отряды, которые способны погибнуть, по не дать неприятелю двинуться к центрам города; мы должны мобилизовать вооруженных рабочих, призвать их к отчаянному последнему бою, занять сразу телеграф и телефон, поместить наш штаб восстания в центральной телефонной стадии, связать с ним по телефону все заводы, все полки, все пункты вооруженной борьбы и т. д.
Это все примерно, конечно, лишь для иллюстрации того, что нельзя в переживаемый момент остаться верным марксизму, остаться верным революции, не отнесясь к восстанию, как к искусству».
Коленька Хохлов должен был сознаться, что никогда еще ни в иностранных еженедельниках, ни в толстых книгах, ни в петербургском «Аполлоне» ни одна статья по искусству не производила на него такого сильного впечатления.
6
Разумеется, очень трудно поверить, что в день 25 Октября офицер царской службы, низкорослый, очкастый, патлатый Антонов-Овсеенко находился одновременно: в Смольном, в Петропавловской крепости, у здания городского телефона, у главного почтамта, на крейсере «Аврора», на Дворцовой площади, на отдаленной набережной при высадке кронштадтских матросов, на минном заградителе «Амур», в Зимнем дворце при аресте министров Временного правительства, в толпе на Троицком мосту, оберегая их от самосуда… Но в действительности было именно так. Недаром существуют легенды о ковре-самолете, о сапогах-семиверстках и о разных других чудесах. Чудеса и легенды стремятся оправдать себя действительностью.
В молочном тумане бледный силуэт «Авроры» едва дымит трубами. Чexлы сняты с пушек. Дежурят вахтенные в тулупах. С Николаевского моста торопливо разбегаются последние юнкера. У подъезда Академии Художеств кучками стоят ученики.
Уже опускалась зябкая, истекавшая мокрым снегом ночь, когда бухнули холостые выстрелы «Авроры». Это была пятая кряду ночь, которую Антонов проводил без сна. Антонов охрип и слегка простудился. Коленька тоже слишком часто чихал: у него начинался насморк. Коленька тоже был на Дворцовой площади еще с вечера, когда подходило к арке Главного штаба растрепанное, неврастеническое, трагически-забавное шествие интеллигентов. Коленька дождался до конца, несмотря на озноб, и, когда вывели наконец министров на улицу, он сопровождал их до самой Петропавловки. Застенчивый поэт Каретников скандировал на ходу стихи в честь крейсера «Авроры». Юнкеров били до полусмерти прикладами. В смерть добивали в крепости. Было мокро, ветрено, страшно и непостижимо, незабываемо весело.
Съезд советов в Смольном заседал до 5 часов утра. Троцкий говорил о победе:
— От имени Военно-революционного комитета объявляю, что Временного правительства более не существует (овации). Отдельные министры подвергнуты аресту. Другие будут арестованы в ближайшие дни или часы (бурные аплодисменты). Нам говорили, что восстание в настоящую минуту вызовет погром и потопит революцию в потоках крови. Пока все прошло бескровно. Мы не знаем ни одной жертвы. Я не знаю в истории примеров революционного движения, где замешаны были бы такие огромные массы и которое прошло бы так бескровно. Обыватель мирно спал и не знал, что в это время одна власть сменяется другой…
В залу входит Ленин.
Троцкий: — В нашей среде находится Владимир Ильич Ленин, который в силу целого ряда условий не мог до сего времени появляться среди нас… Да здравствует возвратившийся к нам товарищ Ленин (бурные овации)!
Ленин: Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась. Отныне у нас будет наш собственный орган власти, без какого бы то ни было участия буржуазии. Угнетенные массы сами создают власть. В корне будет разбит старый государственный аппарат и будет создан новый аппарат управления в лице советских организаций. Очередные задачи: немедленная ликвидация войны, немедленное уничтожение помещичьей собственности на землю, установление контроля над производством. Отныне наступает новая полоса в истории России, и давая третья русская революция должна в своем конечном итоге привести к победе социализма. У нас имеется та сила массовой организации, которая победит все и доведет пролетариат до мировой революции. Да здравствует Всемирная Социалистическая Революция (бурные овации, «ура», «Интернационал»)!
Над голым черепом Ленина замыкается тяжелый лепной потолок. Он все ниже, все плотнее ложится на затылок, на темя. Проступают желто-серые обои в каких-то неестественных цветах с золотой обводкой и покрытый клякспапиром угол стола. Тогда раздается оглушительная дробь звонка. Кухарка Настасья спросонок открывает дверь.
— Попрошу Хохлова Николая.
Весь окрученный пулеметными лентами, с маузером у пояса и в огромной папахе стоит на пороге Дэви Шапкин.
7
Знакомый, привычный город, как переводную картинку, перевели на открытки с видами. Пароходики финляндского пароходства, городовые с медалями, швейцары в ливреях, электрический вагончик через Неву от Дворцовой набережной к Мытнинской, гимназисты в сизых пальто, гимназистки с русыми косами — все они зажили новой, пятикопеечной жизнью на полках табачных и писчебумажных лавочек, пока и лавочки эти не прихлопнули. В полгода Петербург слинял от Песков до Галерной гавани. Истерзанные, дырявые, ждали своего Пиранези стены Окружного суда, руины Литовского замка. Пустынные сумерки просачивались сквозь кирпичные раны, сквозь ребра прорванных крыш.
Дэви Шапкин пьет кофе, развалившись в кресле. Долгий сон слегка округлил его лицо. Обугленной спичкой Дэви попеременно ковыряет — то в зубах, то в ухе. Коленька Хохлов, глядя на приятеля, смеется и говорит:
— От великого до смешного — один шаг.
— Заявляю повторно, — отвечает Дэви, — смеется тот, кто хорошо смеется. Шапкин теперь — председатель Бобруйска. Лично мы будем беспощадны… Что? Танго? Я тебе сейчас сыграю чего-нибудь такого, что ты будешь смеяться, как хороший утопленник.
Дэви Шапкин садится к роялю. Раскачиваясь всем телом так, что огромная папаха, которая никогда не снимается с головы, грозит отлететь в сторону, он играет «Интернационал». Потом, повернувшись на крутящемся табурете, Шапкин грустными глазами обводит комнату и произносит задумчиво:
— Между прочим, рояль, кажется, придется реквизнуть.
8
Уже вливались атамановцы конной ватагой в снежные таганрогские улицы. Кубанки и папахи заломлены на затылок; на плечах рогожи, стеганые одеяла, гардины; в руках — нагайки, за голенищем — кухонные ножи. Лица малиновы от мороза, брань крепка и замысловата.
На стенах, на заборах ошеломленного пулеметным дождем городка появились воззвания и декреты:
Товарищи, граждане и вольное казачество!
Моей новой победой я вышиб кресло из-под задницы Колчака! Отныне в городе и его окрестностях мною устанавливается временный революционный порядок, основанный на всеобщем и безусловном доверии ко мне и моим мероприятиям лично. Граждане, товарищи п вольные казаки призываются к спокойствию, революционной выдержке п вере в светлое будущее народов!
Красный атаман Грач.Декрет № 1
Мучным лабазам, бакалейным и съестным лавкам, а также всем вообще складам продуктов питания, мануфактуры и мехов, равно как ювелирам и золотых дел мастерам, приказывается безоговорочно выдавать моим эмиссарам по первому их требованию указанные товары для общих нужд населения.
Декрет № 2 Амнистия
А. Все политические, гражданские и уголовные заключенные, содержащиеся в городской тюрьме по приговорам бывших правительств и временных властей, подлежат немедленному и безусловному освобождению ввиду недоказанности состава преступления.
Б. Доносчики, перебежчики и шпионы, задержанные нами с поличным, равно как жиды, коммунисты, попы и бывшие помещики, также отпускаются на все четыре стороны ввиду распространения на них действия объявленной мною амнистии.
Атаман Грач.Декрет № 3 Мобилизация
а) Лица, желающие добровольно вступить в боевые отряды ревармии Атамана Грача, дерущейся за светлое будущее народов, зачисляются в таковую добровольцами.
б) Все прочие, подлежащие зачислению, мобилизуются в принципиальном порядке.
Атаман Грач, в кавказской бурке поверх дубленого тулупа, гарцевал на белом коне. Атамановцы громили шинки, пили денатурат, керосин и политуру, налетали с гиком на прохожих, надрывали горло песнями. Вьюжный, каленый мороз дышал спиртом. Атамановцы появились в городе в понедельник. Во вторник были расклеены декреты. В среду и четверг атамановцы занимались проведением декретов в жизнь. В пятницу горожане читали на дверях центрального продовольственного склада:
Продуктов нет и неизвестно
А в субботу, нагрузив бесчисленные тачанки и забрав таганрогских лошадей, атамановцы — папахи, кубанки, пулеметы, стеганые одеяла, ножи и нагайки — во главе с атаманом Грачом на белом коне скрылись в степном направлении.
9
Гражданская война в Финляндии была коротка, отчаянна и жестока. Генерал Маннергейм штыками германских войск и ненавистью финской буржуазии отбросил Красную Гвардию на левый, на русский берег Сестры-реки. Потом еще с неделю вылавливали тех красных, что одиночками укрылись на финской земле, и без суда приканчивали их где попало: у стены полустанка, у прорубей на взморье, в тихой, сугробной, еловой глуши, на запасных путях железной дороги. Два сына Хирринена были расстреляны белыми, третьего сына зарубили красные. Беззубый Пурви ходил к начальнику ликвидационного отряда и сам указал, где скрывался один из внуков Вейялайнена. Юному Вейялайнену проткнули горло штыком и, подняв на воздух, швырнули в сугроб. Вейялайнен прополз саженей двадцать по снегу, истекая кровью, и умер.
Лежал глубокий, молчаливый, сусальный снег, и, перекрещиваясь, струились по нему в разные стороны голубые лыжные следы.
Похудевший от недостаточного питания и нервных потрясений, а более всего от незаслуженных, как он думал, обид (сколько раз в квартиру старого народовольца врывались неизвестные люди в солдатских шинелях, в кожаных куртках, с мандатами и без мандатов, рылись в шкафах, вспарывали диваны, искали оружие и, не найдя его, забирали теплые вещи, съестные припасы, керенки, деловую переписку и пожелтевшие нежные письма Хохловой, еще в бытность ее невестой писанные Ивану Павловичу, — распоряжались в квартире — днем ли, ночью ли, — как в своих карманах, не желая разговаривать, не слушая возражений, не веря ни одному слову человека с незапятнанной совестью, всю жизнь мечтавшего о благе и свободе, «о благостной свободе» народа, — разваливались в креслах, чадили махоркой и оскорбительно размахивали кольтами и браунингами — это ли не полная чаша горечи!). Иван Павлович исхлопотал (при содействии Коленьки) разрешение на поездку в Финляндию, не без тайной мысли, в которой он еще сам не хотел себе признаться, подготовить тихое прибежище, где бы можно было в знакомой, годами сложившейся обстановке переждать «трагический перебой истории» (определение Ивана Павловича, казавшееся ему наиболее правильным по существу и красиво закругленным по форме).
Зима в лесу умиротворяет человеческую душу. Тихие, молчаливые, неподвижные, кутались ели в тяжелый снег. Блаженная, беспредельная немота растворялась в воздухе, пахнувшем морозом. Узкой просекой шел Иван Павлович по снегу, встречаемый сочувственным безмолвием расступавшихся перед ним белых конусов; белым копьем вонзалась просека в белую даль; белое, зимнее, бесстрастное небо подымалось стеной за этой далью. Иван Павлович шел, улыбаясь и прислушиваясь к скрипу своих шагов. Иван Павлович чувствовал непроизвольность и необоснованность своей улыбки, но не хотел удержать ее. Трудно сказать, чему улыбался Иван Павлович Хохлов, но улыбка была тогда так же естественно и необходима, как мускульное напряжение при поднятии тяжести.
Серенькая белка в два прыжка перебежала дорогу. Иван Павлович подумал, что эта белка является не только очаровательным зверьком, но и важным экономическим фактором страны. Неожиданно эта мысль так поразила Ивана Павловича, что он даже на минуту остановился. Шаги замолкли. Иван Павлович оглянулся на пройденный путь: подобно стрелке компаса, заострялась в обе стороны от Ивана Павловича серебряная просека — он стоял, в черной шубе с барашковым воротником, в барашковой шапке и теплых ботинках, в самой широкой точке маятника, в самом его центре, олицетворяя собою его ось. И вдруг наступил перерыв в мыслях. Это продолжалось одно краткое мгновение, но было полным опустошением, даже не пустыней, а небытием. Потом опять вернулась мысль о белке.
— Какая наивность! — произнес Иван Павлович. — Что за детская чушь может иногда забраться в голову.
Снова улыбнувшись, Иван Павлович пошел по серебристой стреле. Белый лес — пирамиды, цилиндры, конусы — звенел, отражая его шаги. Снежный звон в лесной тишине, розовый хруст шагов, золотые бубенцы на подошвах.
По мере приближения к цели Иван Павлович все больше приободрялся и уже начал сожалеть, что сегодня же не переехал сюда со всей семьей — в свою просторную, удобную трехэтажную дачу с голубыми сервизами и шведскими скатертями, с жаркими гофрированными печами, с отдельным домиком-кухней, с ледниками, полными синего льда, с удобной баней, со службами и сеновалами, с образцовым порядком хорошо налаженного хозяйства. Почему, действительно, Иван Павлович должен на самом себе испытывать все невзгоды этой «нелепой опечатки» (еще одно часто повторяемое выражение Ивана Павловича; он хотел бы сказать «обидной опечатки», но сознание обиды Иван Павлович тщательно затушевывал, борясь с ним и не желая его ни перед кем обнаруживать. Называя вещи свои<ми> именами, следует установить: если русская знать была убита революцией, если купцы, помещики, промышленники были ею ограблены, а офицерство и различные чиновные карьеристы с духовенством заодно — озлоблены, то интеллигенция, в особенности свободомыслящее ее большинство, почувствовала себя просто обиженной, несправедливо оскорбленной, как неминуемо она обидится в любой другой стране, где произойдет революция. Так обижаются дети, когда получают от взрослых вместо ожидаемой конфетки — подзатыльник, так обижался все обойденные и непризнанные в дружбе. Интеллигентский саботаж первых месяцев революции не был сознательным действием политической борьбы, саботаж являлся инстинктивным выражением массовой обиды)? Иван Павлович не собирался, как многие другие, бежать за границу — нет, он только предполагал временно уступить место событиям, развивавшимся помимо него и противно его убеждениям. Это не было ни капитуляцией, ни отказом от своих взглядов и уж во всяком случае не было продиктовано трусостью — Иван Павлович просто раскрывал над собой зонтик во время ливня. Последнее соображение окончательно успокоило Ивана Павловича, его совесть будет чиста: назовите кого-нибудь, кто не имел бы права воспользоваться своим зонтиком, когда зонтик находится в руках! Хохловы проведут месяц-другой, может быть — полгода, у своего очага, созданного собственными руками, долголетним, упорным и честным трудом. Переждать — это еще не значит умыть руки, как Понтий Пилат. Переждать — значит сделать разумный тактический шаг, сохранить свои силы: «разумная экономия».
Иван Павлович, улыбаясь (теперь он знал, откуда возникла его улыбка), подходил к своему участку. Голубые лыжные следы бежали по снегу. Столбы знакомой изгороди тонули в белых покровах. Наконец белый лес раздвинулся перед калиткой. И тут оказалось, что удобной, трехэтажной дачи Ивана Павловича более не существует. В снеговой горностаевой пышности торчал жалкий урод — бревенчатый сруб с развороченной крышей, с выбитыми окнами, с черными дырами вместо дверей. Иван Павлович перестал улыбаться. Он поднялся по ступенькам своего дома. Обледенелые горы человеческих испражнений покрывали пол. По стенам, почти до потолка, замерзшими струями желтела моча и еще не стерлись пометки углем: 2 арш. 2 вер., 2 арш. 5 верш., 2 арш. 10 в… Победителем оказался пулеметчик Матвей Глушков — 3 арш. 12 верш. в вышину. Вырванная с мясом из потолка висячая лампа втоптана в кучу испражнений, возле лампы — записка:
«Спасибо тебе буржуй за лампу хорошо нам светила».
Половицы расщеплены топором, обои сорваны, потолки пробиты пулями, железные кровати сведены смертельной судорогой, голубые сервизы обращены в осколки, металлическая посуда — кастрюли, сковороды, чайники-доверху заполнены испражнениями. Непостижимо обильно испражнялись повсюду: во всех этажах, на полу, на лестницах — сглаживая ступени, на столах, в ящиках столов, на стульях, на матрасах, швыряли кусками в потолки. Вот еще записка:
«Панюхай нашаво говна ладно ваняит».
В третьем этаже — единственная уцелевшая комната. На двери написано: «тов. Командир». На столе — ночной горшок с недоеденной гречневой кашей и воткнутой в нее ложкой…
На возвратном пути, в Белоострове, на советской границе — снова проверка документов («пытка недоверием»), разглядывание портрета на пропуске, подозрительный окрик матроса:
— А ну-ка, снимите-ка каракуль с чайника!
Пришлось каракуль снять, открыв седую копну волос на большом, умном и сентиментальном черепе.
10
Коленька развивал энергию чрезвычайную. В самые первые дни после переворота он отправился в Зимний дворец объявить себя сторонником советской власти и сразу же получил комиссарский пост. Растерянный, еще не нашедший свой стиль, народный комиссар просвещения, сжимая Коленькину руку, говорил ему:
— Побольше декретов, товарищ! Декреты, декреты! Советская власть не продержится долго, она кратковременна. Но по нашим декретам народ узнает впоследствии, что собирались дать ему большевики.
Коленька реформировал Академию Художеств. Выселял профессоров из насиженных казенных квартир, распределяя их между сторожами, истопниками и курьерами; отменил экзамены и образовательный ценз для поступления в ученики; уничтожил батальный класс и открыл в нем производственную мастерскую революционных плакатов. Ожиревший натурщик Прохор был введен в Совет Профессоров с правом решающего голоса; от учеников послали туда же коммунистку Аусем, самую грязную и растрепанную из всего состава учащихся Академии, и, кроме того, пополнили Совет представителем от рабочих Путиловского завода, представителем красноармейской секции Петербургского Совета Депутатов и представителем профессионального союза строительных и малярных рабочих. Союз Деятелей Искусства, созданный при Временном правительстве и председательствующий надменным, знаменитым и престарелым поэтом, был лишен помещения и канцелярских принадлежностей; дооктябрьский старостат Академии Коленька раскассировал после первых же выступлений этого старостата при новой власти… Свободный, ничем не ограниченный доступ в Академию для каждого желающего привел к тому, что на одном из общих собраний группа рабочей молодежи, неожиданно явившаяся на собрание и поддержанная сторожами и натурщиками, большинством своих голосов избрала Коленьку профессором по основному классу живописи. В таком составе обновленный Совет Академии — в круглом конференц-зале — единогласно и при общих аплодисментах выдвинул Коленьку на пост непременного секретаря; комендантом здания и заведующим материальной и хозяйственной частью Академии — тоже под аплодисменты — назначил натурщика Прохора, а во главе культурно-просветительной и клубно-общественной секции поставил коммунистку Аусем. Коленька, Аусем и Прохор (Коленька — председатель, Аусем — секретарь, Прохор-завхоз и казначей) представляли собой Исполнительный Комитет, облеченный всей полнотой власти по управлению делами Академии и уполномоченный по выработке новой учебной и производственной программы. Эта последняя задача, однако, постоянно отодвигалась на второй план ввиду многочисленных и всегда неотложных требований каждого дня.
В первые месяцы своей деятельности Коленька разъезжал по городу в дворцовом экипаже, запряженном парой лошадей из императорских конюшен, но к апрелю в его распоряжении сверх того находилась уже целая автобаза: личная машина Николая Хохлова, еще одна легковая машина, два грузовика и мотоциклетка. Производственные плакатные мастерские были завалены работой и распространились из бывшего батального класса на целый ряд других помещений. Пришлось организовать подсобные столярно-плотничные, а заодно и швейные мастерские, отвести комнаты для комиссии по приему заказов, для «девизной комиссии», для службы связей… Наиболее подходящим и созвучным эпохе деятелем Академии оказался представитель профсоюза строительных и малярных рабочих. Коленька метался на своей машине по городу — из Смольного в отдел управления Петросовета, оттуда — к Нарвским воротам, от Нарвских ворот к Московской заставе, совсем как Антонов-Овсеенко в октябре. Стоял веселый прохладный апрель, приближались белые ночи.
11
Веселый, довольный и слегка утомленный собственной энергией, Коленька сидит в мягком кресле, в квартире на Фурштадской. Дэви Шапкин, так и не вернувшийся в Бобруйск, расположился с ногами на диване, надвинув папаху на уши. Шапкину поручено «музыкальное оформление» первомайских шествий. Серый полумрак затянувшегося весеннего вечера заволакивает комнату.
Шапкин: Скажите, пожалуйста, в Библии сказано что-нибудь вроде: тощая корова пожрала толстую, или наоборот? Если наоборот, то это даже не газетный случай, а так себе — банальность, сплошная «Травиата». Если не наоборот, то это Дэви Шапкин пожрал Глазунова. Дэви Шапкин — тощий тапер, Глазунов — толстый ректор консерватории. При этом — оба с абсолютным слухом. Этот рыжий тип три раза гонял меня с экзамена, ну так теперь я ему напхаю гвоздей в мошонку. Прогресс состоит в конкуренции, я тебя спрашиваю, или нет? Вчера Дэви Шапкин не дал слова этому симфонисту, сегодня я сокращу ему паек, а завтра он будет махать палочкой на Гороховой!
Коленька: Послушай, Шапкин, ты просто местечковый прохвост. Таких, как ты, нужно травить, пока не выведутся.
Шапкин: Твоих кацапских борзых не хватит.
Коленька: Борзые тут ни при чем: травить персидским порошком. Ты не находишь?
Шапкин: Не нахожу. А впрочем, за что, скажите, пожалуйста?
Коленька: Сними папаху, грязная сволочь!
Шапкин: Папаху снял. Дальше что?
Коленька: Теперь посмотрим, как ты будешь строить консерваторию без симфониста. Строитель Сольнес.
Шапкин: А ты как твою Академию строишь? Сфинксов еще не повернул задами навстречу?
Коленька: Мне, по крайней мере, смешно от всей этой волынки, а ты зол на весь мир. Я разрушаю ненужный хлам. Ломка. Пафос. Раз — и на матрас!
Шапкин: Он разрушает! Таких дворянчиков, как ты, вместе с матрасами — в прорубь! Нет, посмотрите, какой Герострат! Академия ему уже не нужна. А когда тебя три года подряд гнали с экзаменов паршивой метлой — Академия тебе была нужна? Ты Академии дальше клозета не нюхал, а теперь, скажите, пожалуйста, — профессор! Матрасник ты, а не профессор. Дэви Шапкин хочет строить. У Дэви Шапкина есть бог… с маленькой буквы. Хотя он и пишется с болышой. Прежде у меня был бог — Рихард Штраус, потом — Изочка Блюм, а теперь у меня бог — товарищ Григорий Зиновьев. Это же религия! А у тебя, я спрашиваю, в каком месте бог? Мотьку Шевыреву — на матрас, Изочку Блюмна матрас (такое разочарование!), вонючую твою Аусем — на матрас, Академию на матрас. Красивый, я вам скажу, бог у этих кацапских дворянчиков!
Дэви Шапкин яростно надевает папаху.
Коленька: Скифский бог. Левоэсеровский. Вроде Маруси Спиридоновой, только веселей. Он разрушает, потому что ему весело. Так сказать, скифский восторг. Блок. Иванов-Разумник.
Шапкин: А я разрушаю потому, что у меня в глазах жидовская грусть. Бялик. Стеклов-Нахамкес. Вообще — никакой разницы. Будем строить — поговорим на построечках. Уй, как Шапкин будет смеяться! Держите меня заранее! Я уже смеюсь á priori. Анекдот, а не разговор!
Коленька срывает с Дэвиной головы папаху, кладет на кресло и садится на нее. Общая часть беседы закончена. Начинается разговор деловой.
— Придумал замечательную музычку для процессий, — говорит Шапкин, — сперва «Интернационал», потом «Интернационал», потом опять «Интернационал». Раз «Интернационал», два «Интернационал», три, пять, десять раз «Интернационал». Такую пикантную музыку надо внедрять в широкие массы… Не нравится? Бедно? Однообразно? А ты что сделал? На дворцах написал «Война дворцам», на домах — «Война дворцам», на знаменах — «Война дворцам», на вагонах «Война дворцам», на твоей ж… «Война дворцам», на моей ж… «Война дворцам»… Это же и есть агитация!
12
По весне Иван Павлович Хохлов затомился, стал нервничать и проявлять нетерпеливость. Дело было не в картофельных очистках, жаренных на кокосовом масле с сахарином, не в желудевой настойке, сменившей последние запасы настоящего кофе мокка, не в селедочных хвостах, подававшихся к столу вместо соли, не в этом грустном и все же патетическом меню революции; не в отсутствии топлива, не в том, что электричество отпускали всего на два часа в день, и даже не в молчаливой мольбе Татьяны Петровны, замученной очередями, непривычным физическим трудом и слухами. Ведь с наступлением весны и близостью лета материальные бедствия значительно уменьшались: из пригородных деревень понавезли в Петербург овощей, и, кроме того, Хохловы арендовали на кооперативных началах с другими жильцами своего дома большой огород на Крестовском острове, посадили картошку, турнепс и морковь-каротель. Акционерное общество, в котором директорствовал Иван Павлович, как-то само собой превратилось в пустоту. Иван Павлович остался не у дел. Он ежедневно проводил несколько часов на огороде, окапывая грядки и выпалывая сорную траву. Для охраны огорода от расхищения кооператоры наняли (по рекомендации Ивана Павловича) за небольшой процент с урожая бывшего студента Вовку ночным сторожем. Вовка, перешагнувший к этому году за сорок лет, поселился в небольшой купальной будке на краю огорода и поставил в ней железную печурку-буржуйку, которую, впрочем, ни разу не затопив ввиду весенней погоды, вскоре продал одному из огородных кооператоров за дополнительный процент с картофельного урожая. На ночь Вовка раскладывал походную койку, вешал на шею детский свисток с переливами, клал под койку свою студенческую шпагу и ложился читать при свете ночника романы Боборыкина, прикрыв ноги старой клеенчатой скатертью — на случай дождя, — так как от колен и ниже они не умещались в купальной будке и высовывались наружу.
При создавшихся условиях Вовка считал себя вполне обеспеченным человеком, материально и духовно, тем более что романов Боборыкина имелось еще несметное количество и за ними мерещились Потапенко и Иероним Ясинский, а исторические события и вся революция с вытекающими из нее последствиями не представляли для Вовки никакой загадки — все объяснялось биографическим недоразумением в семействе Ленина: не того брата повесили. Когда все кажется простым и ясным, когда нет мучительных недоумений, жизнь может быть прекрасной и легкой даже в купальной будке, с высунутыми наружу ногами: Диоген довольствовался бочкой.
3-го марта Россия окончательно вонзила штыки в землю и через Брест-Литовск вышла из мировой войны. Офицеры формировали белые отряды, солдаты неудержимо откатывались с фронтов в глубь бушевавшей страны. Солдаты несли в свои деревни, в города и села беспризорные пулеметы, ручные гранаты, винтовки, голодные рты, босые ноги, вшивые, тифозные шинели, жгли помещичьи усадьбы, выжигали дворянские гнезда, грабили лавки, склады, лабазы, били скот.
Кроме картошки, турнепса и каротели, Иван Павлович еще взращивал лук на подоконнике своей квартиры на Фурштадской — в самодельных узеньких ящиках. Таким образом, продовольственный вопрос не особенно беспокоил Хохлова. Проблема отопления и освещения разрешалась сама собой с наступлением тепла и белых петербургских ночей. Вообще, несмотря на свой возраст, Иван Павлович с презрением относился к материальным лишениям, справедливо и с большой долей выносливости утверждая, что не одним хлебом сыт человек. Что же касается до комиссарской деятельности Коленьки, то ведь Иван Павлович всегда оставался сторонником полной независимости убеждений и в те редкие часы, которые Коленька проводил на Фурштатской, Иван Павлович непременно вступал с ним в ожесточенные споры для того только, чтобы этим подчеркнуть демократический принцип свободного обмена мнений.
Однако огорчения Ивана Павловича все возрастали. Он искал в Коленьке и не мог найти развития или хотя бы слабого отражения того идеализма, которым была напоена собственная его, Ивана Павловича, молодость. Он присматривался к новым людям, которые теперь Коленьку окружали. В его приятелях Иван Павлович хотел увидеть пылких депутатов Конвента и патриотов Великой Французской революции или самоотверженных, спокойно шедших на виселицу героев русского народничества. Но из-под папахи Дэви Шапкина глядело окаймленное жеманными бачками ничем не замечательное лицо с маленькими грустными глазами. В памяти Ивана Павловича с юных лет хранились далекие образы Перовской и Веры Фигнер — ни одной их черты не унаследовала неряшливая Аусем, приносившая с собой на Фурштадскую запах несвежего белья, неряшливо бросавшая злые и плоские фразы, неряшливо оказавшаяся Коленьке — без уюта, без нежности, без стыдливости. Идеалы и чувства, руководившие поколением Ивана Павловича, оставались без преемственности и были чужды поколению Коленьки: особенно, рассудочно оно делало какое-то непонятное и даже враждебное Ивану Павловичу практическое дело.
Зелененькие стебельки лука тянулись из самодельных ящиков. Парадный ход был на неопределенное время задвинут комодом. Кухарка Настя уехала к себе в Струги-Белая. Горничная Поля учинила скандал и долго кричала на Татьяну Петровну.
— Несмотря, что ваш сын в комиссарах и спит со мной как товарищ, — кричала Поля, — я отнюдь не приказана быть на буржуйских побегушках! Я и без вас управлюсь, на мой век комиссаров хватит, хохолок у меня не хуже господского!
Откричав, горничная Поля уехала с Фурштадской, захватив в своем сундуке несколько хохловских простынь, наволок и полотенец, три женские рубахи и две ложки из юбилейного серебра. По черной лестнице Ивану Павловичу приходилось теперь на собственных плечах носить дрова. Товарищи Ивана Павловича по кадетской партии открыто поддерживали белое движение, перебравшись на Украйну, в Крым, на Дон, на Кубань, образовывали правительства — краевые и центральные, призывали варягов — немцев, чехов, французов, румын, англичан. Петербургские улицы покрылись комиссионными лавками, где торговали миногами, царскими рублями, набалдашниками с тросточек, подержанными корсетами, поваренными книгами и малороссийским салом. В комиссионных лавках за сало платили керенками, отрывая их на аршины, на вольном рынке за два фунта сала можно было купить золотые часы Мозера или жену присяжного поверенного. Татьяна Петровна сердилась на Ивана Павловича за то, что он забывает, вставая изза стола, сложить свою салфетку. Иван Павлович удивленно смотрел на жену и молча складывал салфетку. Татьяна Петровна возмущалась, вырывала салфетку и свертывала ее по-своему. Борьба с контрреволюцией развивалась. Кровью расстрелянных можно было перекрасить десятки Невских проспектов и Тверских улиц. Хохловский дворник Донат, заделавшийся мешочником, приносил на Фурштадскую продукты питания: гречневую крупу, баранью ногу, лошадиный язык.
— Ну, как дела? — спрашивал Хохлов.
— Жрать да родить — нельзя погодить. Дела — террор, — отвечал Донат.
Александр Блок написал «Двенадцать». Германская армия агонизировала на французской земле. Людендорф в последнем усилии рвался на Париж, сдавив самого себя между Реймсом и Суассоном. Клемансо и Ллойд-Жорж кричали Вильсону о помощи. Сотни тысяч американских солдат переплывали океан. Иван Павлович ходил в казначейство, предъявил ключ от сейфа и чековую книжку и просил выдать ему его ценности и деньги, находившиеся в одном из национализированных банков. Молодой человек в военном кителе и полосатых брюках, принимавший Ивана Павловича, взял ключ и чековую книжку, но выдать что-либо наотрез отказался. Иван Павлович стал доказывать, что все его имущество нажито личным трудом, что он не эксплуататор и не рантье, а такой же трудящийся, как и его собеседник. Молодой человек, сначала любезно слушавший Хохлова, вдруг побагровел с лица, поднес к носу Ивана Павловича кукиш и велел часовому проводить Ивана Павловича к двери.
— Мой ключ, — сказал Хохлов.
— Будьте благодарны, что получаете вот это, — буркнул молодой человек, передавая Ивану Павловичу пропуск на выход из казначейства.
История с салфеткой, с небольшими видоизменениями, повторялась дома ежедневно. Желтый сырой туман, окрашенный в красное, опускался над Петербургом…
13
Длиннокудрый и модный когда-то поэт, воспевавший солнце, высокие башни, любовь и дерзость, выпустил книжку гражданской лирики; в этой книжке, за двенадцать лет до 18-го года (поэт именно тогда был на вершине своей славы), он писал:
…Кто начал царствовать Ходынкой, Тот кончит, став на эшафот.Ходынка здесь, конечно, ни при чем, Ходынка — несчастный случай. Стихи были плохи, очень плохи, но поэт (не астролог, не профессиональный составитель гороскопов, не гадалка на картах и на кофейной гуще, не зеленый попугайчик шарманщика, вынимающий горбатым клювом листок с предсказанием, а поэт, длиннокудрый поэт) оказался провидцем.
Такого-то числа, такого-то месяца 1918 года в Екатеринбурге, в подвале Ипатьевского дома, из револьверов — в упор — перестреляли царскую семью. Как и всякое убийство, эта новая кровь не имеет оправдания, хотя Яков Михайлович Свердлов, первый президент российской социалистической федеративной советской республики, человек в пенсне и с лицом Гаршина, скрепил и узаконил Екатеринбургское дело. Еще одним императором и одной крохотной щепоткой людей — стало меньше на земном шаре. Оценивать как-либо иначе это происшествие — бессмысленно и неинтересно. Мир не содрогнулся и даже не вздрогнул. Энциклопедические словари обогатились новой исторической справкой. В мечтах о средневековье стали плодиться неудачливые самозванцы. Появились несколько книжонок, написанных очевидцами, и два-три романа. Это всё. Миллионы убийств — японская война (и Котик Винтиков!), 1905-ый год, мировая война 14-го года — миллионы убийств, узаконенных и освященных, и рядом-неполный десяток трупов: пустяки, пустяки… Екатеринбургские убийцы в меру, отпущенную им средой и историей, — культурны, добродушны, добросовестны по отношению к своему долгу, — люди как люди, посредственные люди, равные тому венценосцу, с которым отныне навсегда сочетались их имена.
Мир не содрогнулся, Россия — дворянская ли, крестьянская ли — не вскрикнула от боли, не отозвалась стоном колоколов в перепуганных насмерть церквях: она прочитала газеты, посудачила и перешла к очередным делам. Плещут по ветру красные флаги. Горький занимается улучшением быта ученых. Сыпняк и холера готовят опустошительные свои прогулки.
Не пейте сырой воды!
Не пейте сырой воды!!
Не пейте сырой воды!!!
Но кипятить воду становится все труднее. Петербург пуст и холоден. В пустой и холодной квартире на Казанской бродит по комнатам Семка Розенблат, оценивая положение. Семка Розенблат усвоил две истины:
Возврата к прежнему не бывает.
Наиболее прочное личное благо строится на основе блага общего.
Оценивая положение в свете таких истин, он подстегивает творческую свою мысль, обедая раз в неделю, но не теряя надежды сытно закусить в будущем.
14
18-го февраля 1918 года немцы начинают двигаться по Украине, а румыны пытаются захватить Одессу. Одесская Красная Гвардия наносит румынам поражение у Рыбницы. Однако продвижение немецких регулярных войск вытесняет красных, и 6-го апреля немцы занимают Харьков и потом двигаются к Таганрогу, Ростову и ст. Миллерово. При поддержке немцев вспыхивает на Дону белое восстание, и после упорных боев к 18 июня красные войска покидают Дон, прорвавшись к Царицыну. При той же немецкой поддержке красные были вытеснены из Северного Кавказа и Кубани. 15-ro августа съезд большого войскового круга на Дону поручил генералу Краснову выйти за пределы Донской области. Белые перешли в наступление. Советы спешно создают Южный фронт в составе 4-х армий.
В том же году, на востоке России, когда Красная Армия еще только начинала организовываться, чехи захватили 10-ro июня Сызрань, 12-ro — Бугульму, 15-го — Уфу, 20-го — Тюмень, 25-го — Екатеринбург, 9-го августа-Казань. 8-го сентября части Восточного фронта Красной Армии переходят в наступление. Маневрируя тремя армиями, красные занимают 10-го сентября Казань, 16-ro сентября — Симбирск, 3-го октября — Сызрань, 7-гo — Самару, 16-го — Бугульму. Противник делает диверсию на севере и овладевает Пермью. Красные части вновь переходят в наступление, продвигаясь на Уфу и Оренбург.
Наконец, на Севере 6-ro июля 1918 года англичане захватили Мурманск сборными союзническими отрядами. 1-ro августа ими была занята станция Сорока, 2-го августа захвачен Архангельск и 3-го — Онега. В конце июля Советами был налажен Северный фронт, составленный из 6-ой и 7-ой армий. Основной задачей союзников было пробиться на Петербург, Вологду и Вятку, но красные части успели занять среди лесов и болот, а также по железным дорогам позиции и вести борьбу с противником, нанося ему то здесь, то там удары. В октябре англо-американские части были разбиты на Северной Двине…
Украина встретила Хохловых белым хлебом, шумными ресторанами, биржевой горячкой, офицерскими погонами, свитками самостийников и немецкой речью. На рынках тянулся ряды французских булок, горячих и поджаристых: желтеющий, коричневатый гребень. По соседству — ситники, караваи ржаного хлеба, мешки крупчатки, манной, риса, макарон, кудрявой вермишели; пирамиды сыров, бочки масла; шпик, творог и сметана; возы кукурузы, лотки какао, шоколада и разных сладостей; озера молока и сливок, крынки с варенцом и простоквашей; батальоны сахарных голов в синих мундирах; пироги с яблоками, с рисом-яйцами, с мясом; окорока и колбасы, копченые, вареные, с чесноком; гуси, утки, куры, поросята — живые, битые и уже изготовленные; пулярды, налитые янтарными сгустками; пирожное, печенье, бисквиты…
Добровольцы, безусые мальчики-гимназисты, семинаристы, студентики, — увлеченные неясной мечтой о России, их муками, их ранами возрожденной из пепла и возвеличенной, дарили ей свои жизни, истекали кровью в боях, погибали на лазаретных койках в тифозном бреду, с тоской вспоминая папу и маму, сестру и невесту, голубей в голубятне, лиловую фуксию, скамейку под липой, «Энциклопедию» Петражицкого и многое другое, что было покинуто во имя России, которая им, этим мальчикам, еще ничего не успела дать, кроме «Энциклопедии», скамейки под липой и турманов в голубятне, но которая уже отнимала у них жизнь.
В тылу росли распри. Правительства сменялись одно за другим. Демократические группы созывали съезды и совещания, выносили решения и устраивали банкеты, полагая, что таким образом утверждается парламентарный режим. Правые требовали безоговорочного возврата к старому порядку, восстановления династии, привилегий, городовых и околодочных. Обыватели ели пироги, кутили в ресторанах, прислушивались к слухам и спекулировали. Военное командование в лице своих штабов и прочих тыловых учреждений презирало гражданскую власть и через ее голову боролось с внутренним врагом — жидами и коммунистами.
15
Татьяна Петровна как-то сразу успокоилась, поселившись с мужем в квартире одного из его сослуживцев и увидя белые хлеба. По утрам Татьяна Петровна пила горячий кофе со сливками, с маковым подковками, с маслом; днем ходила на рынок, вечером в семейном кругу рассказывала об ужасах советской жизни. Иван Павлович ни булок, ни рынков почти не заметил. По ночам, в мягких туфлях, он долго ходил по комнате, останавливался перед кроватью, смотрел на свою спящую жену и снова принимался шагать из угла в угол. Иногда он начинал разговаривать с самим собой. Разводя руки в стороны, Иван Павлович произносил вслух отрывочные фразы вроде: «да, да, так-с» или как хотите, «как хотите, господа». Через месяц Иван Павлович выступил с речью на съезде земских и городских деятелей, в театре Городской Оперетты. Вот что сказал Иван Павлович Хохлов:
— Я — старый интеллигент, старый демократ и конституционалист. Мои политические убеждения известны большинству лиц, сидящих за этим столом (Иван Павлович оглянулся на длинный, покрытый зеленым сукном стол президиума, поставленный на сцене около самой рампы; сцена была полуосвещена, декорации изображали павильон из «Графа Люксембурга», украшенный розовыми амурами и гирляндами сердец, нанизанных на голубые ленты. Вокруг стола сидели члены президиума съезда, многие из которых были знакомы Ивану Павловичу по Петербургу, по Москве, по крупным провинциальным центрам. Иван Павлович был уважаем как общественный деятель и как глава крупного коммерческого предприятия, и его появление на съезде было встречено приветствием). Но политики я касаться не стану. Я хочу говорить о роли интеллигенции в наше удивительное время, хотя, в сущности, роли ей никакой и не досталось. (Шепот в зале, возгласы удивления, аплодисментов). Что представляла собой и чему служила российская интеллигенция? Мы знаем: она была носительницей нашей культуры, источником гуманитарных идей, была учителем народа, его совестью, воплощала творческую мощь его духа. Хорошо ли, с честью ли выполнила она свою миссию? Будем оптимистами и ответим утвердительно (аплодисменты). Но вот пришла революция, и логикой вещей мы оказались за бортом… Не перебивайте меня, пожалуйста. То, о чем я говорю, продумано и выстрадано мной до последней точки. Все, родившееся в этом мире, достигает однажды своего расцвета, потом стареет и, наконец, исчезает вовсе. Идеи декабристов, идеи Радищева, высокие идеалы нашей интеллигенции — они подвержены тем же законам. Вы видели старух, красящих свои физиономии, уже подобные маскам? Видели стариков с накладными шевелюрами? Я не хотел бы быть на их месте: они смешны. Но, может быть, когда-то и они были сильны и прекрасны… Так вот, интеллигенция сейчас — под угрозой оказаться в таком положении. Мы жили в сфере отвлеченных идей. Политическую действительность мы всегда склонны были театрализировать. Мы играли в бирюльки, сами не замечая того. Даже жалкую бумажку манифеста, даже связанную по рукам и ногам Государственную Думу мы принимали всерьез! Так — папиросную коробку, поставленную на пустые катушки из-под ниток, дети принимают за всамделишную карету. Ни разгон Думы справа, ни разгон Учредительного Собрания слева ничему нас не научили. Теперь, в самом пекле гражданской войны, мы болтаемся под ногами у двух заклятых врагов, мешаем и тому и другому, кликушествуем, истерически взываем к отвлеченности, а нас толкают со всех сторон, потому что мы никому не нужны. Мавр сделал свое дело, мавр может уйти (взрыв протестов). Погодите, пожалуйста! Я не хочу сказать, что мы были маврами, но уж так говорится, а из песни слова не выкинешь (смех). Кому нужны сейчас наша честность, наша мораль, широта наших взглядов, наша терпимость, наши понятия о праве, о свободе, о духовности? Это было необходимо в свое время и, возможно, потребуется еще когда-нибудь, лет через 200–300. Но сейчас все наши аксиомы ставятся вверх ногами, и мы даже не в состоянии определить — хорошо это или плохо. Мы просто состарились, но все еще пытаемся воздействовать приемами нашей молодости. Мы должны отойти в сторонку и сказать: да свершится суд Божий, или, вернее, суд истории, каковы бы ни были последствия этого непостижимого суда. Мы должны найти в себе мужество признаться в нашем несуществовании. Каждый из нас может по-своему истолковать и совершить переход в небытие — из всех дел это наиболее легкое (возглас с мест: «Скатертью дорога»). Но если мы этого не сделаем, то через пять лет над нами будет смеяться — нет — ржать — весь мир, от Ленина до Клемансо и до любого здравомыслящего американца.
Иван Павлович снял свою шляпу с выступа кулисы и, медленно спустившись по сходням со сцены Городской Оперетты, направился к выходу через зрительный зал. Свист и крики негодования проводили его до дверей.
……………………………………………………………………
В просторной петербургской квартире на Фурштадской старая нянька Афимья, обойдя опустевшие комнаты, сказала Коленьке:
— Дом вести — не хвостом трясти. Ужо наладим хозяйству.
И перекрестилась.
16
Появляется Муха Бенгальцева. Она входит неомраченной походкой, слегка поводя плечами. Волосы крашены рыжей хной и взбиты чубом на лбу. Бедра и ноги у Мухи стройны и привлекательны, коленки розовы и чуть-чуть шероховаты от петербургских морозов. Чулки заметно подштопаны, но ведь время такое, что ничего не поделаешь. Муха Бенгальцева танцует танец апашей в «Pavillon de Paris» на Садовой улице. Ее партнер — товарищ Делямур, француз, не говорящий по-французский, по паспорту — Прокофий Сименюк, единственный в Петербурге человек, носящий белые гетры. Когда Муха перегибается на его руках, закидывая ногу и открывая розовое кружево тоже сильно подштопанных панталон, — зрители замирают. В кулисах толпятся «друзья театра» — молодые люди в козьих тулупах, в кожаных куртках, в валенках, в полувоенных обмотках. Вокруг театра кишат папиросники, у подъезда дежурят лихачи, на улице — бесфонарная тьма, глухая, черная, преступная. Зрители расходятся из театра кучками, вызывая у подъезда попутчиков: возвращаться домой в одиночку решаются очень немногие. Повернешь из театра направо — у Марсова поля — первая разбойничья застава, на набережной Фонтанки, у Инженерного замка — другая, за Соляным городком — третья. Выйдешь налево, пересечешь Невский проспект — за Гостиным Двором — опять застава, Сенной рынок непроходим на несколько кварталов. У Делямура в кармане полувоенной шинели — медный пестик от ступки. В черной мгле ничего не видно, только плавают светлые пятна гетр…
Глаза у Мухи узкие, черно-зеленые, ресницы проклеены черной тушью. Полные губы алы и прекрасны. Мухе Бенгальцевой свойственны две особенности: дальтонизм и клептомания. Некоторые психологи даже пытались обьяснить ее клептоманию — дальтонизмом.
Муха Бенгальцева говорит Коленьке:
— Мой муж — чекист и непроходимая сволочь из прапоров. Плюнуть и растереть.
— Плюньте и разотрите, — советует Коленька.
Черный мороз покрывает инеем брови, ресницы, колет в ноздрях льдинками, опаляет лицо. Ночная улица пуста и безмолвна. На перекрестке, справа и слева, крадутся, приближаясь, скрипы шагов. Одной рукой Коленька придерживает Муху за локоть, другой вынимает из полушубка наган и разряжает его в воздух. Шаги разбегаются в разные стороны.
— Легко сказать — плюньте, — продолжает Муха. — Мужчина обязателен. Вы не получаете чекистского пайка? Жратва, духи, пудра. Кооператив на Гороховой — не жук наплакал… Впрочем, дело не в том. Все равно живем на кухне. Репетировать приходится чуть ли не на плите, притом в валенках. Но и не в этом суть. Делямусик — душка, но Делямусик — непроходимый кот. Если я ему в 6 не отдамся — крышка: вечером он не танцует. Или уронит на сцене. А партнер обязателен. Не правда ли, он элегантен? В Балтфлоте его обожают. Вообще Делямусик — светлый луч в темном царстве, если бы не очень бил. Впрочем, черт с ним, синяки подгримировать можно.
Они огибают решетку Летнего сада. От мороза в саду разрываются хлопушки. Муха останавливается и, обернувшись к Коленьке, шепчет:
— Впрочем, и ты — непроходимая дрянь.
Муха целует Коленьку в губы, нежно и долго, так долго, что от близкого дыхания оттаивают льдинки в ноздрях. Коленька снова, за спиной Мухи, стреляет в черное небо.
— Сумасшедший! — вскрикивает Муха и еще крепче прижимается к Коленьке.
— Салют в честь нашей любви, — говорит он.
В кухне у Мухи Бенгальцевой, рядом с плитой — турецкая атаманка. На атаманке сидит, поджав ноги, подруга Мухина — Дора из хора. Дора известна огромностью своих глаз и низким мужским голосом. Она поет в театре «Веселой Интермедии» цыганские романсы на гражданские темы.
Глаза у Доры блестят, зрачки расширены до ужаса.
— Вот стерва! Опять нанюхалась, спасть не даст, — возмущается Муха.
Она целует подругу в лоб и говорит Коленьке:
— Мы всегда втроем: с мужем — втроем, с Делямусиком — втроем, с тобой — тоже втроем… Чур! — кричит она Доре. — Сегодня мой день, не смей раздеваться!
Утром Муха потягивается под одеялом, щурит глаза, улыбается и зевает. Кожа порозовела от сна, мускулы размягчились. Муха ленива и безоблачна. Коленька уже растопил плиту. С неизменной красотой падает за окном февральский снег.
На Царицынском и Воронежском направлениях красные перешли в наступление, и в половине февраля отряды белых в этом районе были ликвидированы. На Северном Кавказе Таманский красный отряд с боем прошел 500 верст через белые войска. На Восточном фронте 31-ro декабря красные отбивают Уфу, 22-го января входят в Оренбург, 24-го января занимают Уральск. К концу февраля красные войска выходят на линию Каспийское море — 100 верст западнее Гурьева, 60 верст восточнее Александрова-Гая, 80 верст восточнее Уральска, 100 верст восточнее Оренбурга, 65 верст восточнее Уфы, 80 верст восточнее Бирска, западнее Осы и Чердыни. 19-ro февраля красными был организовал Западный фронт. В его состав вошли 7-ая армия, латвийская и западная. В середине февраля латвийская армия заняла Курляндию, находясь в полуокружении врага. Против красного Западного фронта действовало 48 % тысяч белофиннов, несколько десятков тысяч поляков и германские добровольческие батальоны, в общем финнов, эстонцев, поляков и немцев было около 250 000 человек. На Северном фронте еще в январе англо-американские части были отброшены красными под Шенкурском. В течение февраля успехи красных на севере продолжают развиваться…
Муха Бенгальцева улыбается. Сквозь прищуренные веки кухня, снег за окном, весь мир за снегом, плита и Коленька, застегивающий френч, — кажутся розовыми. «Как хороша жизнь, даже в таком подштопанном виде» хочет сказать Муха, но слова складываются иначе:
— Мужчина обязателен, — произносит она.
Дора из хора не раздевалась с вечера. Она сидит на краю атаманки, веки ее опухли, глаза померкли, волосы не расчесаны. С тоской заламывая руки за голову, Дора поет мужским голосом:
Как эта глубь бездонная, Как эта ночь туманная, Сегодня нитью тонкою Связала нас сама,— Твои глаза зеленые, Твои слова обманные И эта песня звонкая Свели меня с ума…— С кем бы спутаться, с кем бы спутаться? — мучительно повторяет она.
— С Ильичом, — говорит Коленька, надевая полушубок.
17
В Петропавловской крепости, у коменданта Кудельки, — званая вечеринка. Пианист Бройдес играет Равеля, артистка Ратова-Неверина, с тяжелой соломенной косой, заложенной в три яруса вокруг головы, читает стихи Кузмина, хозяйка дома заводит граммофон с пластинками Вяльцевой. На стенах висят бумажные веера, открытки с головками Харламова, «Лихорадка» Катарбинского и ребятишки Бэм. Граммофонная труба в форме лилии выкрашена в цвета радуги. Жена Кудельки — вся в бантиках: в волосах, на плечах, на корсаже. Начальник крепостной охраны и отряда чрезвычайного назначения, скуластый латыш, — в красном галифе, в рубашке защитного цвета и при шпорах: волосы его, туго напомаженные и залакированные фиксатуаром, образуют в своей толще неожиданные трещины, подобно земной коре во время землетрясения. Южные американцы, кубинцы, жители Огненной Земли и Японских островов свидетельствуют, что к землетрясением можно привыкнуть, как к семейным сценам или к хроническому бронхиту. Комендант Куделько гостеприимен, разговорчив, поминутно угощает водочкой в огурчиками, с солеными груздями, с тешкой. Он поправляет пенсне на носу, теребит Коленьку за пуговицу френча и хлопотливо доказывает, что самым лучшим художником в мире является Кившенко.
— Эх, батенька, — говорит комендант Куделько, — у моего папашки в Лубнах, за Белявской левадой, была хата. Дык скажу вам, дорогой товарищ, что такой вишневки не водилось даже в монастыре Афанасия Сидячего. И текла, дорогой товарищ, река Сула. И ходили на Сулу парубки таскать налимов. На леваде росли тополя, а по вечерам пели лягушки. То есть так пели, прохвосты, что передать, дорогой товарищ, не-во-зможно! Каждый раз, приезжая в Питер, я шествовал в музей Александра III смотреть на Кившенку. Ну прямо дьявол, а не художник — лягушки так и прут! Революция, скажу вам, — грозный факт, сами знаете. По утрам за бастионом паляют в классовых врагов почем зря, аж башка трещит. Товарищ в красных портках потерял цвет лица через это. А вот, батенька, нет-нет, да урву минутку и — шасть в музей, поглядеть на Кившенку… Гришка, не балуй трофеями! — крикнул Куделько своему сыну.
Гришка, лет шести от роду, маршировал по комнате в сановной треуголке. Гришка послушно отложил ее на диван. Коленька прочел на атласной подкладке две буквы: Д. и В. Он отстранил стопку с водкой, повертел треуголку в руках.
— Трофейчики. Скальпы, — засмеялся Куделько. — Скоро отправляем первую партию в театральный отдел.
Коленька рассмеялся тоже…
Коленька несет под мышкой треуголку, завернутую в «Известия». Туман лондонского Сити лижет перила моста. Ветер бьет в упругие паруса тумана, город скрипит всеми снастями, плывет, вздымаясь на валы. Ветер срывает последнюю искру с папиросы. Папироса гаснет. Спичек нет…
18
Слова, произносимые в тумане, падают у ног говорящего. Прогулка продолжается. Конструктор Гук размахивает руками. Разговор начался со спичек, но важно ли, в конце концов, с чего начался разговор? Ветер бьет в паруса тумана. Снасти скрипят. На ветру папиросы поминутно гаснут либо сгорают слишком стремительно. Спички, купленные вскладчину, подходят к концу.
Дорога преграждается трупом автомобиля. Скорчившись, осев на бок, он гниет на мостовой. Он уже становится похожим на кучу мусора. В разрушенном кузове, как свежие побеги на гнилушке, расцветает любовь. Матрос, приподнявшись, оглядывается на прохожих.
— С коммунистическим приветом! — кричит он. — Кто не работает, тот не…!
Тряпки, подмятые под матроса, сопят и хрюкают.
Прогулка продолжается. Торцовая площадка ныряет в беспредметности. Глаз — основная щупальца человека — постоянно ищет гармонии. Следя ночное небо и отражая звезды (Коленька оглядывается, смотрит вверх: фонари не горят, туман непроницаем), глаз непременно сводит их в созвездия, хаос стремится объяснить законом, привести к равновесию. Человечество тяготеет к порядку, к организации, к закономерности; уклонение от норм называет безумием. Здесь начинается геометрия. Конец наваждению. Вы слышите?
— А вот спички шведские, головки советские: три часа вонь, потом огонь!
Как? Опять папиросники? На площадку вступает из беспредметности мальчик-с-пальчик в великановой солдатской шинели, в великановых валенках… Вы слышите? Неужели вы не слышите скрежета теорем? Цивилизация идет гигантскими шагами. От клистирной трубки до перелета на Марс, от омоложения (история Фауста становится бытом!) до лабораторного гомункула теперь короче путь, чем от Троицкого моста до Третьего Парголова. Папиросники! При чем тут папиросники! Блок проводит время на заседаниях, молчит и пишет доклады. Ремизов раздает обезьяньи грамоты, — товарищ Фишкинд из Петрокоммуны снисходительно гордится грамотой, как в 1917 году снисходил Борис Савинков…
В тумане раздается выстрел. Один, другой, третий. Охапка выстрелов.
— Придется лечь, — говорит Гук.
— Ляжем, — соглашается Коленька.
Они ложатся. Торцы сырые и холодные. Стрельба не унимается. Тогда Коленька подкладывает руку под голову, перекидывает ногу за ногу.
— Подождем. Спешить некуда.
Гумилев обучает милиционеров географии. Ветхий Кони читает лекции о психологии преступности в исправдоме для проституток. Ахматова влачит пайковый мешок; выдачи скудеют с каждым днем, но мешок становится все более непосильным. Аким Волынский произносит талмудические речи на собраниях «Всемирной Литературы», на Моховой. Дэви Шапкин, насвистывая, сочиняет танго в политпросвете петербургского военного округа. Комиссия Горького высчитывает количество калорий, необходимых для правильного питания ученых, писателей, художников; оказывается, что, кроме проросшей картошки, мороженой конины и вяленой воблы, необходимо выдавать раз в месяц по плитке шоколада «Крафт», а ученым с особыми заслугами — по две плитки. Следовательно, преждевременно устраивать истерики: если шоколада «Крафт» хватит — культура будет вне опасности… Одно за другим возникают издательства с названиями холодными и патетическими, как лед и ветры: «Алконост», «Петрополис», «Аквилон», «Академия». На Мойке, в особняке Елисеева (сиги, угри, колбасы, фрукты, вина), нарождается Дом Искусства — богадельная для вымирающих стареньких переводчиц, для писателей с прошлым, но без всякого будущего, для любителей красивых гостиных и пирожных с ягодками, с яблочной повидлой; богадельня с лакеями от самого Елисеева, с огромной белокафельной кухней, куда приплетаются за жидким супцом сгорбленные переводчицы Гамсуна, Гауптмана, Сельмы Лагерлеф и Бьернсона — с жестянками в прозрачных руках; богадельная с роскошной мебелью: красное дерево, драгоценные инкрустации, венецианские люстры, бронза, — обтянутой чехлами и ревниво охраняемой кем? для кого? от кого? до какой поры? В концертной зале склоняется на одно колено мраморная купальщица; готические витражи в столовой изображают крестоносцев, седлающих коней. Это уже вторая богадельная, второй приют для людей, затыкающих уши ватой, чтобы не слышать громов революции: первый открылся на Бассейной улице — Дом Литераторов.
Но громче не прекращались. Дребезжали окна, прерывался электрический ток, лопались водопроводные трубы, сыпной тиф ничем уже себя не ограничивал, кареты скорой помощи — единственные в городе повозки-мелькали по улицам, огибая лошадиные трупы; вата, заложенная в уши, пропускала звуки, укрыться было некуда; рыжий полиглот и рецензент (с ватой в ушах) носил правую руку на перевязи, чтобы, Боже упаси, не получить через прикосновение — «рукопожатия отменяются»! — микробов сыпняка, оспы или новой морали. Трескались в комнатах промерзшие зеркала, наводя суеверный страх; врывались в залы ватаги молодых кентавров с диспутами о театре. Столкнувшись с кентаврами в коридоре Дома Искусства, полиглот делал в воздухе приветственный жест левой рукой. В Доме Искусств, над асфальтовой лентой Мойки, по соседству с покоями стареньких переводчиц, затерянных в прошлом писателей и позабытых писательских вдов-набухли осиные гнезда: жужжат Серапионовы братья. Толя Виленский основывает литературный семинарий критического разбора, читают вслух без устали, спорят до рассвета, топают смазными сапогами, сушат валенки на печурках, курят махорку, пьют спирт и кирпичный чай с сахарином, не меняя стаканов, ревнуют друг к другу машинисток Люсю Ключареву и Липочку Липскую, собираются драться на дуэли и снова читают вслух до зари, которая неразличима в тумане.
Пайковые хвосты извиваются по улицам, стынут во дворе великокняжеского дворца на Миллионной (с выходом на набережную Невы), где помещается комиссия Горького. По Миллионной бродят ученые, получившие плитку шоколада, конину, воблу и сушеные овощи, присаживаются на ступеньки Эрмитажа, под кариатидами Теребнева, отдохнуть и потолковать о поломке баржи на топливо, о величии академика Павлова, о замене шоколада зубным порошком, о коллективной выписке из-за границы научной литературы, брома и теплых носков.
Поэты блуждают по улицам, проспектам, ротам, линиям и переулкам, по торцу и по булыжнику, поэты проводят время на заседаниях, обучают в литстудиях уменью писать стихи, чему сами ни в каких студиях не обучались и чему научить заведомо невозможно, целуют голодных девушек, рассуждают о жизни и смерти, строят, перебрасывают мосты. Один умрет от неразгаданной врачами болезни, испепеляющей разум и сердце; другого расстреляют (так будет сказано в правительственном сообщении; в действительности же поэта забьют прикладами, чтобы не слышно было выстрелов); третий зарежется бритвой; четвертый пустит себе пулю в лоб; пятый повесится на собственных подтяжках — подтяжки, уже не способные отвечать прямому своему назначению — поддерживать брюки, легко выносят тяжесть человеческого тела… Поэты строят мосты, кто — плошкотный, кто — цепной, кто — железобетонный, в общем — мосты как мосты, всякий мост соединяет два берега: вступишь, перейдешь — и вот уже на том берегу.
19
— Кажется, можно встать? — говорит конструктор Гук, прислушиваясь.
Они поднимаются с земли.
— Мостом мы называем сооружение, — продолжает Гук, — служащее для перевода дороги над каким-нибудь препятствием: над рекой, над оврагом, над другой дорогой. Таким образом, под мостом всегда остается некоторое свободное пространство. Обычно мост переводит свою дорогу через препятствия настолько повышенно, что не мешает движению по пересекаемому направлению; такое пересечение путей мы, конструкторы, называем «пересечением в разных уровнях». Термин достаточно технический, чтобы стать философским… Вопросы проектирования и конструирование мостов являются частью инженерного искусства в прямом смысле этого слова, так как каждый мост, несмотря на всю утилитарность своего назначения и подробность расчета, является таким же проявлением творческой воли автора, как всякое другое произведение искусства. Соответственно с этим и в мостовом деле основным актом творческой воли является воображение. Для того, чтобы спроектировать мост, необходимо его раньше всего вообразить. Создание первоначальной идеи проектировщик начинает с целого, и подход к мосту происходит концентрически. Исходный и самый важный концентр создается в несколько первых наиболее творческих часов (бессонные ночи, например, или прогулки в тумане), во время которых рождается схема. Затем производится проверка в отношении применимости к местным условиям, что весьма субъективно (в отношении пролетов, строительной высоты, отметок профиля), экономичности (разбивка на пролеты, выбор очертания), стоимости и эстетичности (общий вид и гармоническая связь его с местностью, например: Обводный канал, платяной шкаф, рабочий кабинет — уплотненный или еще только подлежащий уплотнению, номер гостиницы… но это уже вещь, способная сбить с толку любого, даже самого бесстрастного математика). Так как психологически важно получить как можно скорее результат и так как вопрос ставится лишь о возможности применения схемы, то здесь неизбежно и вполне уместно пользоваться всеми имеющимися средствами для упрощения работы в виде графиков, формул, аналогий, наганов, подтяжек, цианистого калия и т. п. Так как мыслимых схем всегда бывает несколько, то возникает вопрос о сравнении этих схем, хотя, в сущности, схемы, рационально решающие одну и ту же задачу, вообще говоря, бывают однородны. Когда выбор сделан, мы переходит к следующему этапу, к проблемам сопротивления материалов и внешних давлений: проходящие грузы, ветры, сила течения, геологические особенности почвы… Стоп. Приехали.
Они и в самом деле приближались к той скамейке на Троицком мосту, где началась их беседа неведомое количество часов тому назад. Ветер рвет паруса. Светает. Сквозь серые лохмотья тумана, взвихренные и бессильные упорствовать, проглядывает стальное небо. Движутся люди, медленно переставляя ноги и едва касаясь ими крыш, труб, куполов. По Неве, кружась, плывет набухшая от воды шляпа.
— Отсюда мне до дому рукой подать, — заявляет Гук. — Кстати, я думаю, что обыски уже кончились. Я, знаете, не люблю почему-то обысков, хотя документы мои почти в порядке. Мой бывший швейцар Андрей (теперь он служит в милиции) всегда меня предупреждает накануне. Такие ночи я провожу на улицах. Спасибо за компанию.
Они простились. Туман рассеивался. Не исключена была возможность появления солнечных лучей. Коленька Хохлов посмотрел на шляпу под мостом, вспомнил о треуголке Винтикова, которую все еще держал в руках, и вместе с «Известиями» бросил ее в Неву.
Глава 3
1
На улицах лошадиные трупы лежали вверх ногами, как опрокинутые столы. Обледенелые и оборванные трамвайные провода свисали до самых сугробов. Из-за угла налетал взъерошенный ветер, распахивал полы шуб, забирался под платье, втекал за валенки и, вдруг отхлынув, мчался ввысь, как стая голубей, которых уже не было в городе. На Литейном проспекте нечаянно открылась лавочка восточных сладостей. Радушный армянин во френче предлагал посетителям прозрачные ватрушки, наполненные душистым и приторным сиропцем. Через неделю лавочка исчезла. Зато по другой стороне, наискосок, появился книжный магазинчик «Офеня»; в задней комнатке подавался кофе со сливками, пиленым сахаром и сдобными булочками. Торговля кофеем пошла довольно бойко. Сотрудники Театрального Отдела, что по соседству, забегали туда посидеть в уюте и оставить в уплату за угощение случайный томик, снятый с библиотечных полок Отдела. В той же комнатке встречались влюбленные: запорошенные снегом, продрогшие на улице, в учреждениях и в своих квартирах, они отогревали себя горячим кофе и словами о любви у жарко натопленной печи. Здесь впервые князь Петя, который, впрочем, никогда не был князем, сказал жене писателя К.:
— Милая моя, голубая, золотая, розовая!
А она впервые шепнула князю Пете:
— Глупый мой мальчик.
Тогда, осмелев, князь Петя прибавил:
— Полюбите меня по-настоящему! — и услышал в ответ:
— Петенька, вы очень нетонкий психолог.
Любимым поэтом князя Пети был в те годы Шенье: стихи, революция, гильотина. Любимым художником был Курбэ — по тем же внешним признакам, только иначе сопоставленным: живопись, революция, падение Вандомской колонны. Князь Петя никогда не бывал в Париже, и Вандомская колонна, хоть и знакомая по всевозможным изданиям, неизменно представлялась ему Александровской колонной на Дворцовой площади. Князь Петр видел под аркой Главного штаба — тучного, бородатого человека с трубкой во рту, в бархатном пиджаке и клетчатых панталонах, закинувшего голову, чтобы разглядеть парящего в небе ангела. Но Александровскую колонну никто свергать не собирался; напротив, ее постоянно украшали в соответствии со вкусами то Коленьки Хохлова, то художника Клейнмана, то архитектора Бочкарева. От подножия ангела — вниз, вдоль гранитного монолита — под разными углами разлетались красные, быстро линявшие полотнища флагов. Красные паруса вздувались над белым, снежным, морозным городом; напрягались и реяли над Невским проспектом, над Литейным, над театрами и дворцами, над памятниками, над пустынными мостами. Выбитые окна уже нежилых этажей были заплатаны огромными холстами с изображениями былинно прекрасных рабочих и крестьян, многоэтажных атласов, поддерживающих небо. Саженные серпы и молоты, перевитые колосьями, гвоздика- ми и васильками, ползли по карнизам; с ампирных колонн струились кумачовые спирали; классика казенных фасадов превращалась в кубизм. Снежинки кружились в воздухе, взметались неожиданным ветром (было в городе странное отсутствие птиц — голубей, ворон, воробьев), бились в красные паруса, бессильные повести заиндевевший корабль. Раскрашенные грузовики останавливались на перекрестках: актеры на грузовиках разыгрывали агитки, колотили толстопузых капиталистов, которым под накладными ватниками было теплее других, стегали попов и белых генералов и декламировали революционные монологи в пароходные рупоры. Продовольственные хвосты зацеплялись за двери кооперативных распределителей.
Голодная, тяжко больная зима 20-го года легла на Петербург небывалыми дотоле сугробами. Среди опрокинутых столов, среди повиснутых трамвайных проволок, с Петербургской стороны на Подъяческую улицу, с Подъяческой на Пески, с Песков к Технологическому институту, оттуда на 6-ую линию — от знакомых к знакомым — блуждает конструктор Гук в поисках компаса.
2
Под давлением перешедших в наступление врагов 19-го апреля 1919-го года красные оставили Вильну, к 1-му мая ими был потерян Псков, 14 мая армия Юденича проходит Нарву и Гдов и 19 мая становится на позиции в 45 верстах западнее Ораниенбаума — Гатчины. К 1-му сентября наступление белых приостанавливается. В Петербурге на улицах роют окопы, ссаживая для этого людей с трамваев и перехватывая пешеходов. 10-го октября Юденич снова переходит в наступление и 20-гo октября овладевает Царским Селом и Павловском. В концертной зале вокзала располагается штаб, но на другой день, 21-го октября, красные делают усилие, выбивают белых из Павловска, начиная систематическое преследование… При отступлении с неделю не брившийся хорунжий Бакланов, беря вброд какую-то речонку, уже подернувшуюся ноябрьским салом, оглянулся на ее изгибы, увидел бронзовый лесок, спускавшийся за холмик, и вдруг подумал о том, какие удивительные, незабываемые речки встречаются в России. При этой мысли он даже натянул поводья, слегка придержав коня, чтобы вглядеться получше… К 1-му декабря армия Юденича рассеивается.
Движение красных на Южном фронте длилось успешно до 19-го мая; с этого времени противник стал теснить, и к 14-му октября красные отдали Орел, открыв противнику подступы к Туле. Линия фронта проходила в это время западнее Мозыря и Новоград-Волынска, южнее Житомира, западнее Киева, севернее Чернигова и Орла, южнее Ельца, восточнее Воронежа, южнее Борисоглебска, севернее Царицына и далее по Нижней Волге до Астрахани. Юденич тогда стоял под Петербургом, Миллер под Вологдой, Колчак, овладев Тобольском, шел к Ялуторовску и Кургану, Туркестан еще удерживали белые, Деникин подходил к Туле, Советская Россия сжалась до пределов старой Московии. Тем не менее подтянутыми резервами красным удалось перейти в наступление и 20-го октября занять Орел. Через три дня был занят Воронеж. К 1-му декабря сопротивление белых оказалось сломленным, но они еще держались под Киевом и Царицыном. Харьков был занят красными 11-го декабря. К 1-му января 1920-го года был захвачен весь Донецкий бассейн, в следующую неделю — Мариуполь, Таганрог, Новочеркасск и Ростов-на-Дону. 2-го января был занят Царицын.
В Царицыне жил Иван Павлович Хохлов. 3-го января он затопил печку, прижал покрепче вьюшки и лег на кровать рядом с женой, Татьяной Петровной. Последними словами Ивана Павловича (еле слышными) были:
— Видишь, я говорил тебе, что это совсем не страшно.
Но Татьяна Петровна уже не ответила.
Снова, как в тот раз — в снегу, на белой просеке, — в мыслях Ивана Павловича наступил перерыв: опустошение грозное и безграничное, даже не пустыня, а небытие. Иван Павлович очнулся на мгновение, увидел серенькую белку; белка увеличилась до громадных размеров, ее серый мех затмил все вокруг, надвинулся, стеснил дыхание и исчез… В чемодане Ивана Павловича нашли золотой пятирублевик, коробку «Абрикосова сыновья» с пачкой неразрезанных керенок, неоконченную рукопись по политико-экономическим вопросам, озаглавленную «Заметками Профана», и несколько, вероятно, в юности написанных стихов, посвященных шлиссельбургским узникам.
3
В самоедской оленьей шубе, в шапке с наушниками до бедер взбирается на сугроб конструктор Гук. На вершине гребня слегка задерживается перед новым спуском и потом медленно тонет за снежной дюной. В следующую минуту оленья шапка снова показывается на поверхности, за шапкой — шуба, за шубой — валенки, и вот конструктор Гук опять на гребне. Так, в полярном обличии, идет конструктор Гук посеребренным коридором петербургской улицы, отягченной мраком зимнего дня. Сугробы перешагнули через тумбы, зарыли трамвайные рельсы, тротуары, заползают в подъезды, сдавив по пояс полураскрытые двери, сугробы растут, отбрасывая белесые отсветы в серую тяжесть неба. Ледяной сумрак заволакивает дома, окутанные снегом купола соборов. Город промерзает сталактитами. На улицах лошадиные трупы лежат вверх ногами, как опрокинутые столы.
Конструктор Гук минует перекресток за перекрестком и наконец пропадает совсем из виду. Коченеют церкви, дома, казармы; под снежный настил уходят заборы, перила набережных, скамейки в садах и парках. Мороз врывается в комнаты, инеем кроет цветы и апрельскую синеву обоев. Обои в цветочках. Цветут цветочки по голубому полю, без дум, без философии. Голубое поле — цвета апрельских небес. Зеленые веточки в черных обводах, листочки в лиловых крапинах — на одном стебле расцветают фиалки, пунцовый гелиотроп и яблоня; белые крестики, малиновые кружочки, лиловые пятнышки накиданы кучками, сложены в букетики, букеты заброшены в апрельскую синеву, в глубину озер. Гелиотроп, фиалки, яблони, кружочки и крестики уводят в луга, в апрельскую лазурь, в голубые заводи. Венские стулья в дырочках, пробитых узорами, стол (под столом всегда немного таинственно, всегда хочется заглянуть под стол), комод красного дерева в четыре ящика, на комоде — фотография в рамке, железная кровать с пикейным одеялом — окружены цветами, небом, синевой воды. Стулья, стол, комод, кровать — на полу, как на плоту в весенний цветочный день. Плот окружен цветочным фризом: цветы, приставшие к бортам.
В канцеляриях и конторах, в лабораториях и больницах, в банках, на фабриках, в торговых помещениях, в университетах, школах, тюрьмах и моргах стены крашены одноцветной масляной краской, но в комнатах, согретых домашностью человеческой жизни, на стенах — лепестки, букеты, пестрота. Помпейские живописцы украшали стены цветами и райскими птицами на зеленых, на синих, на розовых фонах: лугов, небес, зари. Русские города заклеены обоями в цветочках — обои-ситчик, веселый вздор, неприхотливая выдумка художника, рожденная тиканьем стенных часов, самоварным говорком, разноцветностью кузнецовских, гарднеровских, поповских чашек, оранжерейным жаром изразцовых печей, запахом горячих хлебов. Оранжерейная теплота зимних комнат давала щедрый урожай, цветы росли по стенам, сливаясь с фуксией, с геранью на подоконниках, с широколиственными фикусами, с опаловой флорой, мерцавшей на стеклах. Не материальной плотностью стен, а нарисованными цветами, воображаемой природой отгораживался по-новому небольшой комнатный мирок от вселенной, и нужно было процарапать ногтем морозное сверкание листьев, чтобы увидеть в щелочку: прохожих, извозчиков, улицу, крыши, кресты церквей. Глядя в щелочку, процарапанную ногтем в мир, думалось: здесь, у меня, — тепло, безопасность; здесь — мои личные друзья, мои спутники — стулья, столы, комоды, цветы, мною выбранная, мною созданная природа; здесь даже щелочка, процарапанная ногтем, через минуту затянется новыми кристаллами, новым лунным узором замкнет мой мир. Но вот, как всегда — весной, подымается знакомая тоска, маленький мир требует обновления. Я иду на обойную фабрику, мне показывают на выбор множество неведомых стран, невиданных цветов и райских птиц, быть может дышавших когда-то помпейским небом; я избираю маршрут; в моих комнатах меняется природа; я путешествую — утоляя весеннее томление, по новым странам, среди новых цветников и птиц, под новыми небесами, по новым лугам и полям… Теперь все снарядились в полярные экспедиции, все теперь — Нансены, Пири, Свердрупы. Революция опрокинула привычные миры, смела перегородки, распахнула двери в улицу, в лед, в сугробы. Цветы, птицы, апрельское небо подернуты инеем. Плот неподвижен. Букеты примерзли к бортам. Люди греются подле печурок — самодельных или заказанных у прославленного мастера, штабс-капитана Матюхина; люди кутают свои тела, боясь раскрыть их, и, месяцами не моясь, радуются собственным запахам, говорящим о жизни, об отправлениях организма, вдыхают перегар немытых ног, едкий пот подмышек, дорожат теплом своих испарений, охраняя их от доступа леденящего воздуха. Это личное, свое, неотъемлемое тепло, эту единственную и последнюю собственность люди несут с собой, как драгоценность, повсюду — на улицу, в пайковую очередь, в толчею домкома, на любовное свидание, в тюрьму.
4
Сработанная штабс-капитаном артиллерии Матюхиным буржуйка грела как могла, распространяя тепло на полтора аршина в окружности. Штабс-капитан Матюхин недавно занялся изготовлением печей, получая за штуку натурой — селедками, воблой, мукой, сахаром. Материалы доставал Матюхин где доводилось: в бесхозных домах, на задворках остановившихся заводов, — в большинстве случаев — по ночам. Дело развивалось и приносило доход, заказчики бывали довольны.
Топсик тоже приобрел буржуйку за две простыни. Буржуйка грела изо всех сил. Алые полосы трепетали в щелях, тонкое железо накалялось докрасна. На печке шумел эмалированный чайник с морковным настоем; с изгибов слишком длинной и тонкой трубы свисали пустые консервные коробки.
Сидящие поближе к огню удовлетворенно расстегивали тулупы, разматывали шейные шарфы, грели руки над чайником и старались как можно дольше не уступать другим своих мест.
— Наши милые файф-о-клоки, — говорил журналист в матросской шинели, — наши милые файф-о-клоки, несомненно, станут историческими. Спорим ли мы о конструкции романа или о наших пайках, обсуждаем ли план дальнейшего расширения государственного книжного фонда, танцуем ли тустеп с очаровательной Наташей —
Танцует граф и фотограф, И кандидат танцует прав…Милый Топсик, где ваш знаменитый граммофон?
— Вот! — ответил Топсик, указывая на горку ржаных лепешек, быстро уменьшавшуюся на тарелке.
— Танцуем ли тустеп — здесь ли, в этой музейной квартире с бывшей ванной и книжным шкафом, или в Доме Искусств, — все мы, культуртрегеры и черт его знает что еще, ставшие под знамена, принявшие и переварившие, пьющие самогон и не пьющие… Между прочим, Михаил Михайлович довольно прочно задержался у самой печной трубы… Будем ли называть друг друга «товарищем» или снова вернемся к человеческим именам, — можно с уверенностью заявить, что история…
При этих словах из кухни донесся стук. В женской плюшевой шубе, перевязанной чемоданным ремнем, пошел князь Петя. Он осмотрел собравшихся и произнес смущенно:
— Не бойтесь, я со своим сахарином, — и посторонился к окну.
За окном белели крыши, и мглистое небо едва намечало снежный купол Исакия.
Журналист в матросской шинели продолжал говорить, придвигаясь к печке и все более оттесняя Михал Михайловича:
— Вы видите мои обглоданные зубы, но это потому, что нету золота для коронок у моего дантиста; я плохо выбрит, но это потому, что для экономии точильных ремней в парикмахерских запрещено брить по второму разу. Все это — ерунда, все это — мелочи быта, дорогие культуртрегеры и вы, очаровательная Наташа! Все это — лишь временная рябь на зеркальной ясности моих мыслей. Ум кристаллизуется на морозе, и только воробьи от холода погибают. Тепло способно лишь растопить эти кристаллы в слова… Настанет время — в 25-ом, в 30-ом, в 35-ом году, — когда мы, писатели, поэты, режиссеры, — мы и те, новые, что придут вслед за нами, — заживем в собственных особняках, станем разъезжать на собственных автомобилях, на американских «Фордах», на французских «Рено» и даже на советских машинах, так как чудеса ведь тоже осуществляются. Молодежь будет приглашать нас, писателей, чистых и нечистых, в свои далекие провинции, предоставит нам особняки с ваннами, служебные вагоны, дачи, продовольствие и лавровые венки — ради того только, чтобы самих себя поддержать в нетвердой вере, слушая честное или бесчестное слово человека, возвеличенного печатным станком. Россия превратится в страну писателей, поэтов и режиссеров. Живописцев обменяют, как Топсик граммофон, на ржаные коврижки — да простит меня товарищ Хохлов. И будут писатели, поэты и режиссеры — Ноев Ковчег: 2.000 чистых и нечистых — разъезжать, латая шины на каждой десятой версте, по необъятной Росси, сооружающей заводы и электростанции, но лишенной хлеба, мяса, масла, сахара, дорог, одежды, дров, мира и правды… Вот тогда-то наши милые файф-о-клоки с князем Петей, с буржуйками и тустепами…
Однако, что произошло бы тогда с файф-о-клоками, осталось неизвестным, так как в кухне снова постучали и в комнате появился конструктор Гук.
— Сдрасте, сдрасте, — сказал конструктор Гук, пожимая руки и отряхивая снег с самоедской шубы. — Не найдется ли у вас, у кого-нибудь, компаса? Желательно — хороший, корабельный, но в крайнем случае можно игрушечный.
5
Зимний вечер зарыт в сугробы. Ночь падает без звезд, без огней, в тишину безлюдных улиц. По двое, по трое расходятся гости от Топсика, иные — с фонарем в руках. Журналист в матросской шинели провожает Наташу. Коленька Хохлов направляется к Мухе Бенгальцевой, по дороге с конструктором Гуком. Князь Петя, зябко ежась в ясенской шубе, выходит один. Он думает о том, что лучший компас — звезды, но когда звезд пет… Князь Петя начинает думать стихами, он уже давно пытается думать стихами: Шенье, стихи, революция, гильотина. Иногда ему удается сложить в уме строфу, далее которой мысль не находит путей. Князь Петя повторяет строфу бесконечное число раз, старается шагать в ее ритме; она убаюкивает его, как колыбельная песня. Князь Петя перестает замечать мороз и сугробы, он уже не идет, ежась от холода, — он скользит по воздуху над сугробами… Тишина. Проехал последний автомобиль из Смольного в «Асторию», отвозя секретаря Петросовета с ночного заседания. Лучи прожекторов переломили улицу, сломались сами пополам о стену дома, свалились набок и сгинули за углом вместе с воем сирены.
Рассвет занимается не торопясь. Он застает город уже на ногах: улица в черных полосках очередей; недымящиеся трубы, заваленные снегом; люди не моясь, не бреясь, — спешат напиться кипятку, кто — с огрызком постного сахара, кто — с селедочной головкой, кто — просто ни с чем, пустой кипяток; писатель, засидевшийся с вечера у товарища, доказывает правоту своих взглядов и греет руки у своего рта; санитарные повозки в сугробах; папиросники, уже горланящие на перекрестках; молчаливо замерзающие нищие; беспаспортные бродяги в солдатском рванье, продающие кусочки рафинада и ломтики покрытого плесенью хлеба; бредут по снегу к своим учрежденьям советские служащие, люди в валенках, в самодельных котах и варежках, в шапках с наушниками, укутанные, повязанные и перетянутые тряпками, платками и веревками, с местами, с котомками, с салазками; автомобиль, промчавшийся из «Астории» в Смольный; процессия, с пением «Интернационала» уже плетущаяся к могилам жертв революции; снег, истоптанный пешеходами; невеселая сумятица голодного утра, теплушки на запасных путях, мешочники, забивающие собой составы утренних поездов, беспризорные, лезущие на крыши вагонов. Туго, с усилием светающее утро распространяется на снежные пустыри, равнины, курганы, на затерянные в заносах железнодорожные пути, на чернеющие деревни… Кухарка Настасья уже бранится в волисполкоме. Вся обмотанная тряпьем, она ходит по разным людишкам, добираясь до смысла событий, ей трудно снова войти в деревенскую жизнь.
— Поди сто лет — все Струги Белая да Белая, — волнуется Настасья, — а ныне, накося — Струги Красная! Почему?..
— Нынче, гражданка, революция. Рабоче-крестьянский цвет — красный.
— А, например, почему?
— Такое вышло постановление: всю белую сволочь перекрашивать.
— А почему?
— Потому что сволочь!
Кухарка Настасья отправляется к учительнице, потом к отцу дьякону, потом в комитет бедноты — ругать революцию, допытываться истины в желании что-то понять и других научить, как и что. Утренний визжит снег под ее ногами. Вздымаются вороны стаей, кружатся у красного флага над сельсоветом, садятся на белую колокольню. Приезжают мешочники с городским барахлом, шныряют по избам за маслом, картошкой, салом, баранинкой. В белом сверкании утопают деревни, утро распускается полным цветением, синим, серебряным блеском. Протянется над снегами короткий зимний день в голубых провалах, и сразу за полдень набегут новые сумерки.
В Смольном гудит очередное заседание совета, в табачном, в махорочном дыму, в красной нагроможденности знамен; с вялым обмякшим лицом занимает председательское место Зиновьев. Сменяются на трибуне делегаты с фронтов и заводов, выступают с приветствиями; говорливые работницы символически жмут ватную руку Зиновьева, братаются с ним троекратным целованием, после чего Зиновьев незаметно вытирает рот носовым платком. Делегаты речного судоходства подносят президенту багор с пожеланием, чтобы «этим багром петроградский совет подтянул мировую революцию к социализму»; деревообделочники подносят крученую ножку от стола, чтобы «этой палицей петроградский совет прихлопнул лорда Керзона»; уборщицы «Отдела охраны материнства и младенчества» передают резиновую соску с наказом, чтобы «через эту соску беспартийные массы впитали в себя заветы Ленина»…
Рабкор из комсомольцев, товарищ Цап, с лицом Христа, отправил в «Красную Газету» обстоятельную корреспонденцию о том, что комсомолец Кабанов, его сосед по общежитию, ходит к девочкам. Товарищ Кабанов, активный безбожник, сообщал в ПК «к сведению», что товарищ Цап сделал обрезание своему первенцу.
6
Снег. Тишина. Какая невыносимая тишина! Вы только прислушайтесь. Подойдите к окну, попробуйте открыть форточку, если она еще не окончательно примерзла. Не бойтесь — холоднее не станет, зимний воздух чист и, говорят, полезен. Смотрите, слушайте: ничего. Тишина. Черный квадрат неба. Да и неба ли? Черный квадрат безмолвия. Тишина, которая не поет, не звучит, не говорит, как утверждают писатели. Полная, беззвучная, совершенная тишина, это — самое страшное на свете. К звучащей тишине можно прислушиваться, можно вдумываться в нее, можно привыкнуть к ней и даже полюбить. Но эту страшную, пустую — нельзя ни понять, ни охватить, ни постигнуть. Так дольше нельзя! Поймите же! Раньше, еще совсем недавно, были мыши. С каким писком они взбегали на кровать! Теперь нет и мышей. Какое счастье иметь мышей! Ведь должен же хоть кто-нибудь будить бесчеловечную тишину — иначе разорвется сердце. Полное отсутствие звуков так же непереносимо, как разреженный воздух: сердце непременно разорвется… Кто-нибудь, ради Бога, умоляю: нарушьте, разбейте эту тишину! Я сам бессилен: тишина так действует на человека, по он затихает, съеживается, боится шевельнуться. Или уж тогда — сумасшествие: топать ногами, бить стекла, выть. Но никто не хочет сходить с ума, хотят только спастись, укрыться от этой тишины, что-то нужно сделать, придумать, как-то помочь, раз уже нет мышей, раз никто не бредит во сне! Зарыться в одеяло, уткнуться в подушку? — Задыхаясь в подушках, можно услышать звон в ушах… Господи, как страшно, как стынут ноги! Почему не скрипит снег? Почему не трещит мороз? Хоть бы где-нибудь что-нибудь треснуло! Хоть бы кого-нибудь расстреляли поблизости! Ведь нельзя же так мучить человека, поймите же! Какая нестерпимая тишина! Не бить же стекла…
7
Коленька Хохлов прощается на углу с конструктором Гуком и сворачивает в улицу, где живет Муха Бенгальцева. Коленька не знает, чего ему хочется больше — любви или просто тепла, человеческого тепла под одеялом? В постели Муха Бенгальцева пылает, и в такие ночи Коленька может спокойно закинуть руки за голову, думать о разных вещах и смотреть в темноту, наслаждаясь теплом, запахом тепла, пока на плече у него всхрапывает Муха, а по другую сторону — всегда не раздеваясь — спит Дора из хора, по-детски держа большой палец во рту. Мотя Шевырева ушла на фронт добровольцем. Коммунистка Аусем уже с полгода как умерла от сыпного тифа на полу в коридоре Обуховской больницы, пролежав там двое суток и так и не дождавшись докторского обхода.
У ворот, переминаясь с ноги на ногу, осыпанная снегом, встречает Коленьку Дора из хора.
— Ты бы еще раньше пришел, трепло! Шлагбаум закрыт: муж приехал.
Коленька переспрашивает почти с испугом, и в эту минуту ему становится очевидным, до конца попятным, что он ищет только тепла. Теперь надолго, на долгие недели, Муха будет отдавать теплоту своего тела кому-то другому — ненужному Коленьке и враждебному. Коленьку обокрали. Он с трудом сдерживает подступившую ярость. Что это — неужели ревность? — проверяет себя Коленька и тотчас находит ответ: нет, это просто чувство самосохранения. Он смотрит на Дору — она жмется от холода, губы дрожат, ресницы белы, глаза наполнены влагой. Тогда Коленька берет ее под руку. Дора молча следует за ним.
Коленька зажигает печурку, на полчаса водворяются в комнате тропики. Дора быстро снимает с себя одежду, снимает белье и, раздетая, стоит в мимолетных тропиках, широко раскрыв туманные глаза.
— Вот я такая, — говорит она, — есть плюсы, есть и минусы. Хотела бы я встретить бабца без минусов.
С жаром и нежностью Дора целует Коленьку.
— Господи! Наконец-то! — бормочет она, задыхаясь, и вдруг — неудержимо, восторженно, страстно, благодатно, сладостно, удивленно, всепрощающе, с болью, с трепетом, с жалостью, в предельной искренности, в последней душевной раскрытости — разражается рыданиями.
…Детская комната. Няня Афимья, в черной косынке, в белых горошинах по синему полю, поет вполголоса:
Зачем ты, безумная, губишь Того, кто увлекся тобой, Меня ты, наверно, не любишь, Не любишь, так Бог же с тобой!..Голос няни журчит далеким нешумным ручейком, чуть доносящимся журчаньем.
У церкви стояли кареты, Там пышная свадьба была, Все гости роскошно одеты, На лицах их радость цвела. Невесты наряд — бело платье, Букет был приколот из роз, Она на святое Распятье Глядела глазам, полным слез…Няня сидит у круглой печки, штопает полосатый Коленькин чулочек, а может быть, вяжет что-нибудь для себя для самой. В сумерках разобрать трудно. Разбросаны игрушки от Дойникова, «Робинзон Крузо» от Вольфа, картонажики от Пето. Коленька рисует зверей в холщовый альбомчик. Коленьку клонит ко сну, няня берет его на руки… какие теплые, какие пуховые случаются в детстве сумерки…
— Эвона как!
Совсем близко, сквозь сон, Коленька слышит нянин голос. Коленька открывает глаза: няня все еще держит его, собирается уложить в постельку так, как есть — с карандашом в руке. Коленька еще раз просыпается, как будто скидывая вторую оболочку сна, и видит няню Афимью — старенькую-старенькую: она раздувает заглохшую шкурку, косится на женское белье, на черные кудри, покрывшие подушку рядом с Колиной головой.
— Эвона как! — повторяет няня Афимья уже совсем явственно.
— Няня, чего ты тут? — вскрикивает Коленька.
— Как — чего? Все того же: вот смотрю, как бы вы к постели не примерзли.
Дора откидывает волосы, глядит на Афимью.
— Это и есть твоя няня, трепло? Здравствуйте, нянюшка.
— Да уж здравствуйте, ну вас, прости Господи.
— Что, чаю, нянька! — кричит Коленька.
— Горох тебе в печенку, бесстыдники, — ворчит Афимья.
8
Не снимая с себя женской плюшевой шубы, князь Петя сидит задумчиво в кожаном кресле. Кожи, впрочем, уже нет: князь Петя выменял ее на крынку творога. Кресло обтянуто суровой матерей, реденькой, как рогожка. Князь Петя не расстается с плюшевой шубой, даже ложась спать. Квартира неотоплена и пуста, мебель вывезена жилотделом Московской части, гостиная полностью ушла в комсомольский клуб. Князю Пете оставлены в его комнате: кожаное кресло, кухонный стол, шкаф и диван. На дворе — случайная оттепель, поэтому в комнате еще свежее, чем снаружи.
Когда-нибудь историки русской революции, несомненно, будут озадачены тем обстоятельством, что люди, протянувшие трескучие северные зимы без тепла, тем не менее выжили, продолжали существовать, шутить, влюбляться, писать стихи, толковать о вещах отвлеченных. Историки вряд ли докопаются до причины такого, на первый взгляд, действительно странного и необъяснимого явления. Если бы человеку, только что перенесшему несчастье, сказали, что несчастье будет повторяться изо дня в день, он, наверное, потерял бы рассудок. Немыслимо жить, думать, начинать день и кончать день в постоянной уверенности неминуемого удара. Но в те годы случилось так, что люди не ощутили отсутствие тепла и другие лишения как несчастье, как цепь ежедневных катастроф, с каждым часом приближающих гибель; они приняли мороз и иней в жилищах как нечто не только неизбежное, по как должное и естественное, как восход и заход солнца, как штаны на мужчинах и юбки на женщинах. С наступлением природного тепла, весной и летом, люди раскручивали на себе лохмотья, потягивались и расцветали, как земля, как растенья, как березовые рощи.
Правда, у доктора Френкеля печи топились, будто не произошло на земле ни войны, ни революции, ни разрухи. Печи топились березовыми дровами во всех девяти комнатах, не исключая людской и просторной прихожей, в которой впору было танцевать кадриль. У Френкеля подрастало несколько дочек, и все они носили розовые кружевные платьица и шелковые банты в волосах. Девочек ежедневно посещали учителя, француженки и даже балетмейстер. В доме было шумно и ласково, было множество теток и бабушек, кухарка за повара, горничная в белой наколке, сытый, расчесанный пес Полкан и целое поколение кошек. На стенах висели старинные голландцы: мясные туши с пластами жира, фазаны, диковинные рыбы, отливавшие перламутром; хохочущие продавщицы засучивали рукава, мясники точили ножи. Обеденный стол у Френкеля соответствовал голландским натюрмортам: окорок, гуси, разварные осетры, вина и сладости. К столу садилось обычно не менее двадцати человек, и каждому подавалась чистая, отглаженная салфетка. Живописные рубища и заросшие лица гостей, вызывавшие смущенное удивление и любопытство розовеньких дочек хозяина, не мешали оживленной беседе, продолжавшейся до глубокой ночи, так как электрические провода докторской квартиры были присоединены к особому кабелю, подававшему свет круглые сутки.
На кухне засиживались мешочники и, конечно, неизменный хохловский дворник Донат.
— Ноне мужик пробавляется в серости: не ест, не пьет, вшей бьет, — разводил турусы Донат. — Вот у барина Френкеля — супец как следует, не наши щи — хоть портки полощи!
Сам доктор Френкель возвращался домой к обеденному часу, веселый, ко всем внимательный и гостеприимный. Он приплывал из темноты и сугробов в енотовой шубе, распахивал двери на лестницу, крича:
— Вносите, вносите, товарищи!
В прихожую вносили пакеты и ящики с шоколадом, индейками, сгущенными сливками, венецианским стеклом, красным деревом, коврами и гобеленами. Гости радостно окружали хозяина и, дружно улыбаясь, следили за разгрузкой чудесных ящиков: так приветлива и заразительна бывала улыбка самого доктора Френкеля. Казалось, нет больше страшной действительности, всё — лишь диккенсовская рождественская повесть, и вот наступает долгожданный счастливый конец с апофеозом семейственности и других добродетелей. Только выйдя на улицу поздней ночью — колкой, язвящей, пронзительной, — гости возвращались к жизни, и тогда патриархальный, незлобивый мир и довольство в доме Френкеля представлялись им вымыслом противоестественным и почти болезненным, как женская шуба на князе Пете.
9
Однако в камине князя Пети тоже тлеет огонь, а в углу за камином лежат заботливо сложенные паркетины из соседних комнат и дверь, разбитая колуном на составные части. На камине — мраморный бюст Вольтера; на шкапу, покрытая слоем пыли, золотистая скрипка. Наступила короткая оттепель; когда-то ровные, николаевские зеленые обои набухли от сырости, покрылись пятнами и теперь больше всего напоминает окраску танков, броневых машин и полевых орудий, изобретенную в целях военной маскировки.
Князь Петя сидит в освежеванном кресле и задумчиво осматривает комнату. Разумеется, скрипка — самый совершенный музыкальный инструмент. Виолончелист зажимает между ног неуклюжую пародию на скрипку; его рука рыщет смычком где-то на уровне колен. Это не может быть признано красивым. Контрабас: человек виснет на шее толстяка, похлопывая его по животу. Пианист осторожно, на расстоянии подсаживается к огромному предмету, формой и цветом похожему на фрак, пальцами бередит холодный оскал клавиш и придавливает под столом чьи-то ноги. Духовые инструменты — надутые щеки, мундштуки во рту. Не барабанщик же, палочками бьющий по барабану и ничем иным не связанный с ним?.. Скрипач вскидывает золотистую скрипку к плечу, щекой прикасается к теплой, певучей деке, вслушивается в звук прижатым ухом, сливается со своим инструментом, сливается с ним до конца, пока не опустится в последний раз смычок. Неловкость в движениях скрипача губительная для музыки: так содержание книги в какой-то мере теряет свою ценность от плохо подобранных шрифтов, пропорций, бумаги, типографской краски. Сверкающий люстрами зал Дворянского Собрания на Михайловской площади. На князе Пете гимназический сюртучок, волосы подстрижены ежиком. Мать привела князя Петю на хоры. На эстраду выходит, раскланиваясь, смуглый юноша во фраке. Вот он подносит скрипку к щеке… Слегка мешает смотреть колонка, князь Петя выгибается, чтобы увидеть получше; мать шепчет ему, что музыку достаточно слушать, что смотреть совсем и не нужно. Князь Петя замечает вокруг себя серьезных бородатых людей, опустивших головы и закрывших глаза. Разве эти люди понимают что-нибудь в музыке? Можно зажмуриться в опере, при появлении какого-нибудь Шаляпина, тяжело попирающего сцену и всей своей размалеванной сущностью противоречащего тому, чем является музыка, — но разве можно оторвать взгляд от скрипача, разве можно закрыть глаза, когда дирижер подымается над оркестром?
Князь Петя все еще смотрит на скрипку, покрытую пылью, потом — на Вольтера; встает с кресла, взваливает мраморный бюст на плечо и выходит. На Бассейном рынке, в промежутке между двумя облавами, заезжий кулак приценится к бюсту Вольтера:
— Почем сенатора продаешь, гражданочка?
Князь Петя пробурчит опасливо:
— Фунтов за пять топленого отдам.
— А знаешь ли ты, ваше гражданство, чего нонче топленое стоит? Во чего стоит!
Князь Петя вернется домой с четвертушкой топленого масла.
10
На шкафу лежит запыленная скрипка. Князь Петя все еще — в мыслях о музыке. Он вспоминает зал Дворянского Собрания, камерные концерты Певческой Капеллы, шелест перелистываемых нот, шелест шелковых юбок в антрактах, свист полозьев у подъезда, едва уловимый шорох снегопада, бренчанье и лязг трамвая зимним вечером, печенье угольных лиловых фонарей. Музыка разливается по городу, по всему миру. Музыка в шелесте шелковых юбок; в тихом шепоте любовников; в гуле телеграфных проводов; в звоне гололедицы… Вой «чемоданов», пронзающих воздух; гекзаметр декретов; треск разбиваемых стекол; стук аппаратов Морзе; каменный грохот речей Ленина. Музыка — во всем и повсюду, в каждом сочетании звуков, в каждом ритме, в каждом движении. Ее слышат по-своему — и Блок, и старенькая переводчица Гамсуна, и начдив Путна — всякий по-своему, но не слышать — нельзя. Вата беспомощна. Только в редкие ночи, когда тишина перестает звучать, только в эти ночи, страшные, как безвоздушное пространство, холодные, как алгебраическая задача, только в эти непостижимые часы безбрежного, оголенного одиночества, только тогда…
Головной атаман Петлюра, батько-Махно, Булак Балахович, атаманы Тютюник, Мордалевич, Цюпа-Лисица, Вдовиченко, Казай-Гнилорыбов, Хишко, Чепилка, Грызло, Безветренно, Курдыш-Ивашко, Вайдачпый Захар, Гулый-Гуленко, Шляма, Мацыпа, Дынька, Миляс, Захвалюк — он же Мушка, Козырь-Зирка, Затерко, Самосечка, Киверчук, Орлик, Батрак, Погорелый, Яцейка, Шпота, Ангел, Галак, Лизнюк, Ярый, Бондарюк-Лыхо, Щекоток, Скакун, Яблочко, Клян, Бурыма, Левка Задов, Щусь, Грець, Антон Коготь, Хохотва, Засуль, Квюпа, Шевстак, Наконечный, Бугай, Кривохижа, Гуляй-Бида, Гаркуша, Алешка Дычас, Крат, Иван Цвыркун, Гриша Танцюра, Исидор Лютый, Солонина Крутой; атаманши — Маруся, Надя Чевпыло, Манька Чуржое, Ксюшка Гурнила, Анна Костыль, Ефросинья Кладай-Передок — она же Спаситель, — Парася Чумка, Мотя Шевырева… волнующая музыка имен!
Петлюровские гайдамаки, казатчина и добровольцы Деникина, Слащева, польские легионеры, атаманские банды — вступали в города и селения под лозунгом:
«Жидам и коммунистам не делать пощады! Вырезать до единого!»
Коммунисты умели прятаться и не носили лапсердаков. Поэтому коммунистов выловить было нелегко. Евреи же отращивали пейсы и бороды, носили длиннополые сюртуки и не знали более скрытых мест, чем чердаки, погреба и подвалы. Евреев можно было в любом числе выволакивать на расправу. Представители политических и общественных объединений в страхе, в негодовании, с протестами и мольбами обращались к генералам, вождям и атаманам, желая прекратить или предотвратить погромы. Деникин отвечал, что добровольческая армия — сброд, с которым он сам не может справиться; поляки говорили, что громят не они, а красноармейцы, приставшие к их легионам; Петлюра бросал коротко и нетерпеливо:
— Не ссорьте меня с моими войсками!
Атаманы выслушивали просьбы и увещания, поглаживая кобуру, и вдруг кричали в ярости:
— Деньги!!
Так кричали они, поглаживая кобуру или рукоятку сабли, на Волыни, в Подолии, в Таврии, в Херсонщине, в Черниговщине, в Киевщине…
У стариков-евреев выдергивали бороды.
Забивали евреев нагайками, шомполами и прикладами.
В алтарях синагог устраивали клозеты.
Принуждали мужчин всенародно мочиться в рот своим женам и жен рубили на месте, если они выплевывали мочу.
В дни еврейских праздников — йом-кипур, пурим, сукес, хануке, рошошоне — молящихся выгоняли на принудительные работы, заставляя петь, плясать и кричать — то «Да здравствует Польша!», то «Хай живе вильна Украйна!».
Заставляли евреев выпивать без перерыва по целому ведру воды, всовывали палки в рот, вызывали рвоту и принуждали снова пить; укладывали всех на землю, настилали поверх доски и проходили по ним в конном строю; потом привязывали камни на шею и бросали в реку.
Офицеры, врываясь в еврейские семьи, садились ужинать, пили вино, играли на рояле, пели цыганские романсы, болтали по-французски, ухаживали за женщинами и девушками, тут же насиловали их под цыганское пенье товарищей, приносили свои извинения и благодарности и снова вели светские беседы, балагурили, произнося французские любезности.
Закапывали евреев живыми в землю.
Вешали на деревьях в городских скверах и на бульварах, расстегивая мужчинам штаны, чтобы все могли видеть, что повешенные обрезаны.
Привязывали стариков за бороды к лошадиным хвостам или впрягали в повозки и так ездили с музыкой по городу, размахивая кнутовищем.
Убивали медленной смертью детей на глазах у родителей, приказывая матерям готовить обеды и ставить угощенья.
Запирали многими сотнями в одной квартире, оставляя без воздуха и пищи по 2–3 дня, потом входили ватагой и зарубали до последнего шашками и топорами, кололи и резали, топча ногами окровавленную массу, как виноделы — виноград.
Отрезали живым людям носы, уши, половые органы, выкалывали глаза, вспарывали животы, перепиливали спинные хребты.
Рыли ямы, бросали туда евреев живьем и засыпали негашеной известью, которая постепенно сжигала их до костей.
Выстраивали евреев в очередь и по одному рубили головы на глазах у других.
Обливали евреев кипятком.
Устраивали на людных местах живые костры, поливая евреев керосином.
Заставляли есть мозги из разрубленных черепов, запивая серной кислотой.
Насиловали женщин, старух и малолетних девочек, укладывали в ряд на полу — здоровых, раненых, испускающих дух и уже мертвых. Насилуя, тут же душили или разрывали за ноги на части.
Во время похорон замученных и убитых — заставляли евреев петь и плясать на могилах под гармонику…
Белые вырезают евреев и заподозренных в коммунизме; красные убивают белых и буржуазию вообще — буржуазию как класс; атаманские банды режут евреев, буржуазию, белых и красных. Приходят немцы, приходят поляки, румыны, французы, греки. Обезумевшие женщины, бросая детей по дорогам, бегут из городов в деревни, из деревень в города. Гражданские власти встречают хлебом-солью пьяных запорожцев и гайдамаков, немцев, греков, белых и красных, французов и румын, конных и пеших оборванцев, входящих в города с барабанным боем, погромами, грабежами, пулеметами и песнями, — встречают хлебом-солью сегодня одних, завтра других, послезавтра третьих, не зная — куда податься, кому молиться, в кого уверовать, как спастись. Граф Чернин пишет; «Русская буржуазия глупа и труслива и позволяет резать себя, как баранов». Генерал Франше-д'Эсперэ, встреченный в Крыму хлебом-солью, произносит речь по-французски:
— Vous êtes avocats et с'est pourquoi vous parlez tant; or, il ne s'agit pas de parler, mais de travailler. Tant que tous les Russes aptes à porter les armes ne seront pas au front, nous ne donnerons pas un soldat. Battez-vous et je vous soutiendrai![6]
Но французские десантные войска уже разложились и представляют большую опасность для своего командования, чем для наступающих большевиков. На крейсерах и дредноутах союзной эскадры поднимаются красные флаги. Командиры и офицеры, плача, умоляют матросов снять эти страшные символы восстания — матросы отвечают пением «Интернационала», криками:
— Долой войну!
— Смерть палачам!
— За борт! В воду!
Матросы требуют немедленного возвращения на родину, кричат на улицах Севастополя: «Vive Lenine! Vive les bolcheviques!»[7] вливаются в рабочие манифестации, срывают со своих шапок красные помпоны, прикалывая их к груди. На улицах русского города греческие войска из пулеметов расстреливают французских матросов.
В Венгрии провозглашается Советская Республика. Во Франции бастуют металлисты, рабочие химической промышленности, шахтеры, текстильщики. Забастовки по всей Германии, шахтеры бастуют в Руре. Провозглашаются Советы в Баварии. Забастовки и мятежи в Испании. Безрадостные в Бельгии призывают к революции. В старом Брюгге — на зеленых кандалах — всеобщая забастовка; кровь на улицах Льежа. В Тунисе бастуют докеры и рабочие хлебопекарен. Всеобщая забастовка в Порт-Саиде и Суэце; восстания, расстрелы по всему Египту. Морские бунты в Бресте, в Тулоне, в Биизерте…
Генерал Франше д'Эсперэ в Крыму обещает белым поддержку, но эвакуация союзных войск уже началась самотеком; слова генерала столь же бездейственны, как и слова тех адвокатов, к которым он обращается. Корабли, управляемые матросами, один за другим покидают русские порты, держа курс на Босфор. Французские матросы, которым надоела беспорядочная волынка, бьют в морды надоедливых российских граждан, стремящихся во что бы то ни стало покинуть пределы своей родины; бьют в морды, чтобы не лезли вне очереди в посадочные комиссии, чтобы не клянчили и не приставали. Странным, назойливым людям, обивающим пороги иностранных миссий и bases navales[8], матросы, замахиваясь прикладами, орут, тараща глаза: «Merde!»[9]
С записочками, с рекомендательными письмами, с исконным барашком в салфетке, с французскими фразами, памятными с детства, — навязчиво липнут непонятные российские граждане, отталкивая друг друга и с христианским смирением вынося побои и ругань французов: генералы, полковники в военных формах, штатские, женщины, старики…
Поймите же: вата — никуда не годный материал. Проткните себе барабанные перепонки, чтобы не слышать!
12
Объявление в «American Magazine» от 1920-го года:
ПОХУДЕТЬ ПОД МУЗЫКУ
Чтобы доказать Вам, что это не трудно, я сбавлю с Вас бесплатно пять фунтов в пять дней на Вашей квартире, при помощи Вашего граммофона!
Мои граммофонные пластинки сделают нормальной любую фигуру в изумительно короткий срок!
В первый же день Вы почувствуете, что стали худеть. К концу первой недели Вам скажут об этом весы. К концу первого курса Вам скажут об этом друзья.
Люди жиреют не от обилия пищи! Под моим влиянием съеденная Вами пища перестанет вырабатывать жир — а только кровь, только кости и мускулы. Вы можете есть что угодно и сколько угодно! К голоду я Вас не принуждаю. И когда, благодаря Природе, Вы станете худощавы, у Вас не пострадают ни лицо, ни фигура. Оставшееся мясо будет крепко и гладко, кожа удивительно чиста; глаза станут ярки, волосы приобретут особый блеск. Когда Вы будете проходить у меня курс лечения, смотрите не только на весы, но и в зеркало.
Сбавить с Вас десять-пятнадцать фунтов моим музыкальным методом ничего не стоит. Но если у Вас лишнего жиру три или четыре пуда, тогда требуется сравнительно продолжительный срок. Но результаты будут те же.
Mr Уоллес, Чикаго, 630, S. Wabash Ave.ПИСЬМО БАТЬКИ МАХНО К ПРИЯТЕЛЮ:
«Дорогой друг…я занял город Корочу и взял направление через Варпнярку и Донщину на Екатеринославщину и Таврию. Ежедневно принимал ожесточенные бои… Ты нашу конницу знаешь — против нее большевистская никогда не устаивала… На пути, в одном из серьезных боев, наш особый полк потерял убитыми более 30 человек. В числе последних наш милый, славный друг, юноша по возрасту, старик и герой в боях, командир этого полка, Гаврюша Троян. С ним же рядом Аполлон и много других славных и верных товарищей умерло… Каждодневные бои настолько втянули людей в бесстрашие за жизнь, что отваге и геройству не было пределов. Люди с возгласом „жить свободно или умереть в борьбе“ бросались на любую часть и повергали ее в бегство. В одной сверхбезумной по отваге контратаке я был в упор пронизан большевистской пулей в бедро, через слепую кишку навылет, и свалился с седла. Это послужило причиной нашего отступления, так как чья-то неопытность крикнула по фронту — „Батько убит!“… 12 верст меня везли, не перевязывая, на пулеметной тачанке, и я совершенно было сошел кровью. Не становясь на ногу, совершенно не садясь, я без чувств лежал, охраняемый и доглядаемый Левой Зиньковским… И в это время на меня наскочила 9-ая кавалерийская дивизия и в течение 13 часов преследовала нас 180 верст… Что делать? В седло я сесть не могу, я никак на тачанке не сижу, я лежу и вижу, как сзади, в 40–50 саженях, идет взаимная неописуемая рубка. Люди умирают только из-за меня, только из-за того, что не хотят оставить меня. Но, в конце концов, гибель очевидна и для меня, и для них. Противник численно в 5–6 раз больше, все свежие и свежие подскакивает. Смотрю — ко мне на тачанку цепляются люйсисты. Их было пять человек под командой Миши из села Черниговки. Поцепившись, они прощаются со мной и тут же говорят: „Батько, вы нужны делу нашей крестьянской организации. Это дело дорого нам. Мы сейчас умрем, но смертью своей спасем вас и всех, кто верен вам и вас бережет. Не забудьте передать нашим родителям об этом“. Кто-то из них меня поцеловал, и больше я никого из них возле себя не видел. Меня в это время Лева Зиньковский на руках переносил из тачанки на крестьянские дроги, которые повстанцы достали: крестьянин куда-то ехал. Я слыхал только пулеметный треск и взрыв бомб, то люйсисты преграждали путь большевикам. За это время мы уехали версты 3–4 и перебрались через речку. А люйсисты там умерли… Я все же должен сказать, что это меня как бы вылечило. В тот же день к вечеру я сел в седло и вышел из этого района… Наша сводная группа стояла в 20–15 верстах от маршрута, по которому двигалась армия Буденного. Когда Буденный подходил к нашему расположению, мы бросились ему навстречу. В одно мгновение гордо несшийся впереди Буденный бросил своих соратников и, гнусный трус, обратился в бегство… Кошмарная картина боя развернулась тогда перед нами… Он завершился полным поражением Буденного… Я с сотней кавалеристов взял направление к берегам Днепра. В тот же день был шесть раз ранен… В 12-ти верстах от Бобринца мы наткнулись на расположенную по реке Ингулец 7-ую красноармейскую кавалерийскую дивизию. Вследствии чего я попросил Зиньковского посадить меня на лошадь. В мгновение ока, обнажив шашки и с криком „ура!“, бросились мы в деревню. Захватив 13 пулеметов „Максима“ и три „Люйса“, мы двинулись дальше… 22-го со мной снова лишняя возня — пуля попала мне ниже затылка с правой стороны и навылет в правую щеку. Я снова лежу в тачанке… 26-го мы принимаем новый бой…
…МАХНО».Зима. Махновцы бьются в ущельях. Звенит гололедица. В гололедицу скользят подковы коней, падают всадники. Мороз жалит белыми ожогами, примерзают валенки к стременам. Грохочут строфы декретов Троцкого, Антонова и Бела-Куны. Гололедица оковывает землю.
Но вот — выпадает снег. Дни белеют. Хлопья чаще и, всё укрупняясь, опускаются с неба. Мягкое, сухое, светлое падение утишает звон гололедицы. Звуки становятся ровнее и глуше. Пухлые снежинки, не спеша, по отвесу, без отклонений, слетают к земле: белый, чуть слышный дружный лёт. Пышные, сытые хлопья, нагоняя друг друга, движутся за окном. К полудню наступает оттепель. На камине светлеет незапыленный след от бюста Вольтера. Князь Петя кладет на стол четвертушку топленого масла и снова спускается с лестницы: князь Петя идет к жене писателя К.
13
— Простите, — говорит князь Петя, робея, — я со своим сахарином… Сегодня с утра я все думаю о музыке. О музыке приятнее думать вместе. Одному вообще трудно, особенно — в отвлеченностях. Впрочем, до сегодняшнего утра со мною был Вольтер… Я с детства помню его все на том же месте, там был кабинет моего отца… Музыка так же отвлеченна, чиста и высока по своему строю, как мир идей. Мир идей, человеческая мысль несравненно богаче наших действий — факты, в сущности, совсем не интересны. Человеческий мозг строит величайшие схемы, в то время как человек ест, пьет, сидит в ватерклозете, какие-то министры кому-то нацепляют медали. Мир идей — прекрасный холод академической абстракции, высокая и чистая игра — и рядом балласт суеты, декоративный мир, дурацкий колпак нечеловеческой жизни… Вся мудрость учений Христа испорчена его ничтожной, рекламной личной жизнь. Распят? Но мало ли кого не расписали — вчера, сегодня, завтра? Неужели истины Галилея возросли оттого, что инквизиция заставила его на коленях отречься от своего разума? Толстой ходил босиком и ругался с женой. Надо бы запретить художникам открывать свое авторство: искусство стало бы немного скучнее, но чище, прозрачнее, правдивее и свободней — само по себе и в наших глазах… Непонятно, почему все прекрасное, абсолютное — всегда пугает нас. Музыканта страшит чистота его сфер, он торопится унизить их, запрятать под колпак, огородить декорациями. Либо врожденный страх, либо — полное непонимание материала. Иначе чем объяснить этот сор, все засорение музыкальной мысли, все эти раскрашенные картинки в боярских костюмах; «Царь Салтан», «Псковитянка», «Князь Игорь», «Снегурочка», «Жизнь за Царя» («Das Schiessen fiir den Zar» — по каламбуру одного немца[10]), «Русалка», «Борис Годунов», «Град Китеж», «Садко», «Царская невеста», «Опричник», «Руслан и Людмила», «Хованщина», «Аскольдова могила»?.. По Волге когда-то, по нижнему плесу, шли беляны. Правый берег — лесистые обрывы, замшенные кручи, левый берегу заливных лугах. Синие двухэтажные домики уездных городов, зеленые крыши, белые здания прогимназий и присутственных мест, розовые колокольни, серые срубы деревень. Нижний, Работки, Исады, Бармино, Фокино, Василь-Сурск, Юрьино, Косьмодемьянск, Чебоксары, Звенигский Затон, Козловка, Вязовая, Казань, Тетюши… против Тетюшей впадает в Волгу Кама… Ундыри (кажется, так), Симбирск… дальше забыл. В Дубовке, под Царицыном, на пристани, за бунтами, я целовал гимназистку — ночью при звездах. Потом, в Петербурге, получил от нее открытку: «Я за вами соскучилась»… Дело не в этом. Царицын, Астрахань, 12 футов, Каспийское море. Навстречу белякам, шлепая колесами, вверх по реке бегут пароходы: розовые — «Самолет», белые — «Кавказ и Меркурий», белые с розовым низом — «Надежда», бывшие «Зевеке». Разбегаются к берегам муаровые волны… Одним словом, я все хочу вам сказать, появляется Шаляпин. Теперь все петербургские адвокаты, зубные врачи, приват-доценты и разные барышни — уверены: Волга — это Шаляпин: кок на голове, «Дубинушка», ослепительный фрак. Русская музыка растворилась в боярском маскараде. Допустим, я люблю былины. Но когда их кладет на музыку человек, прочитавший Белинского, Добролюбова и, может быть, Маркса, — я начинаю за него краснеть… Милая моя, золотая, вам скучно? Ну, хорошо, я не буду. Я только так, мимоходом. Я пришел не о том, я все хочу вас просить, все прошу; полюбите меня по-настоящему…
14
Русское искусство, за редкими исключениями, никогда не было ограничено, постоянно болея декоративностью. Декоративность вообще очень соблазнительна — ведь почему-нибудь Флобер написал «Саламбо»?
(Наконец-то забулькал кипяток в чайнике: вода слишком долго не закипает на печурке — вопрос, еще не урегулированный штабс-капитаном Матюхиным.)
Пышный и седобородый интеллигент Стасов рядился в шелковую косоворотку и атласные шаровары; Леонид Андреев ходил в поддевке и смазных сапогах. Известны встречи идей: так встретился ХV-ый век с античным миром. Но здесь, в одной и той же эпохе, в одной и той же стране, — что было общего между русским крестьянином и декадентством Леонида Андреева? Русские художники стилизовали внешние проявления жизни, выдавая стилизацию-декоративную поверхность — за сущность. Полуграмотная, напористая стасовщина — уничтожила русское искусство, и в то время, как в Париже Манэ писал свой «Завтрак на траве», работая над формой и материалом, то есть над самой сущностью своего искусства, — русские художники расставляли декорации, картонажики, раскрашивали Запорожцев, Ивана Грозного, витязей, поцелуйный обряд, хороводы русалок в лунную ночь. Толстовский художник Михайлов сердился при одном упоминании слова «техника». Это вот и есть — напористая стасовщина, которой поражена русская интеллигенция — издавна и до наших дней. Впрочем, писатели всегда отличались непониманием творческих процессов живописца; почти все, написанное о художниках, неверно и фальшиво, как бывает фальшиво актерское чтение: будто дана полнота чувства, но все — не то, все где-то около, то справа, то слева, то выше, то ниже, внешне как будто и так, а внутри — пустота и ложь. Декорация.
Декоративность подтачивала русское искусство и русскую жизнь. Люди судили о каторге бурлаков по концертам Шаляпина, о рабочем движении по мелодекламации Ходотова, о русской истории — по «Князю Серебряному». Когда вылупилась мысль, безразличная к декорациям, никто этого не оценил и не учел. Гимназисты затеяли игру в милицию, пока их не щелкнули по носу; взрослые распустили на лицах улыбку, устраивали концерты-митинги, даже вздумали было снова вытащить на подмостки Ходотова, играли в парламентаризм, пока кулисы, под первым напором ветра, не обрушились на них самих.
Жена писателя К. с огорчением смотрит на мокрые следы от валенок князя Пети. Князь Петя удивлен: он не заметил, что наступила оттепель, ведь он не ступал по серым от воды сугробам, он только скользил над ними.
15
С одесского кичмана Бежали два уркана, Бежали без путевки, как-нибудь, В варпнярской малине Они остановились, Чтобы немного отдохнуть. Товарищ, товарищ, Болят мои раны, Болят мои раны в глубоке! Одна заживает, Другая нарывает, А третья открылася в боке. Товарищ Скумбриевич, Скажите моей маме, Что сын ее погибнул на посте. С винтовкою в рукою И с шашкою в другою, И с песнею веселой на губе. Чекист малохольный Зароет мое тело, Зароет мое тело во землю, Чтобы куры не заклевали, Чтоб люди не заплевали И чтобы все узнали, как люблю…Лермонтов сорвал с себя эполеты и бранденбурги, его грудь поросла шерстью, пальцы заскорузли от раздавленных вшей.
Прихожу в пивную, Сéдаю за стол. Скéдаю фуражечку, Кéдаю на стол. Я зову Марусю: Что ты будешь пить? Она отвечает: Голова болит. Я в тебе не спрашиваю, Что в тебе болит, А я в тебе спрашиваю, Что ты будешь пить? Чи тебе водки, Чи тебе вина, Чи тебе пива, Аль, может быть, чего?Во время затмения солнца звери начинают выть.
16
Господи, что же это такое! Когда же это кончится? Разве я мешаю кому-нибудь? Оставьте меня в покое. Я только одного и хочу, чтобы меня оставили в покое. Пусть себе строят, разве я мешаю им строить? Я никому не мешаю, пусть делают, что хотят. Но так же нельзя, Господи! Все отняли, всего лишили, хлеб сокращают… В чем моя-то вина? Ты же видишь, Господи! Где же тут справедливость! Я хочу жить тихо-смирно, мой век недолог, ты же сам знаешь. За что меня — так со всех сторон… Оставьте меня в покое! Когда же все это кончится, Господи! Обручальное кольцо пошло за гнилую картошку. И то — слава Богу, ведь могли и его отобрать. А кто мне кольцо вернет? Что же это такое? Что еще завтра будет? Нет у меня больше сил. Пожалуйста, послушайте, ну хоть ты выслушай, Господи. Нельзя так! За что, собственно? Кому до меня какое дело? Я никого не трогаю, никого не душил, пожалуйста. Ну, знаю, кольца-то мне уже никогда не вернут, Бог с ним. Я хочу тихо-смирно. Я хочу покоя, всего-то навсего. Стройте, пожалуйста, я слова не скажу. Я все понимаю: каждому надо, ну и пожалуйста. Но я-то при чем? Я чужого не хочу и не вмешиваюсь. Нет больше сил, я так устаю, так устаю… все вверх дном, какое же это строительство, впрочем, пожалуйста, Господь с вами, делайте, что хотите. Я вовсе не критикую, только оставьте меня-то в покое, забудьте, что, дескать, там-то и там-то… Нельзя же так без конца, так можно в гроб загнать — и не опомнишься. Немыслимо так. Тогда уж лучше палками забейте, честнее будете; так и скажите: палками забьем, тогда я пойму по крайней мере. Уж и так сидишь без огня, без жратвы — и то все не слава Богу. Я и не мечтаю об огуречных рассолах или о театрах: куда уж! Забирайте все ваши фигли-мигли с собой, Бог с ними, с вашими кино и разными штучками! Чтó я — в библиотеке, что ли? Господь с ними, с удовольствиями! Но ведь нельзя же так, немыслимо так, поймите, пожалуйста. Лучшe накиньте петлю на шею, и дело с концом, чего уж! Господи, ты же видишь, скажите пожалуйста. Я вовсе не жалуюсь — не подумайте — не нужна мне ваша жалость ко всем чертям! Я о своем говорю, мне чужого не надо, все равно ничего не вернут. Душа устала, Господи, как душа устала! — вот что существенно… все устало, какая там к черту душа! — вот что существенно, я уж и не говорю о кольце… Господи, помилуй! Господи, Ты же можешь… кто сказал, что ты можешь?! Ничего Ты не можешь! Сволочь ты, вор, сукин сын! Ты мое счастье украл, ты все у меня украл! Что я тебе сделал такого? Что? Говори, скажите на милость! Где ж твоя хваленая справедливость? Кто мне кольцо вернет? Кто меня самого вернет? Ты, что ли, вернешь? — кукиш с маслом! Ах, оставьте меня в покое, оставьте в покое, Господи Боже мой…
17
К вечеру на отсыревший снег снова стали падать крупные хлопья — еще не очень морозные, еще мягкие, но уже оттепели пришел конец. Князь Петя почти бежит по улице: он засиделся, он может опоздать в Дом Искусств на доклад Толи Виленского о построении метафор. Внезапные рези в желудке и минутное головокружение заставляют его в изумлении оглядываться — он еще ничего не ел, может быть, с третьего дня, он уже давно не ест, а так перехватывает кое-где, по случайности. Князь Петя не понимает причины, он изумленно смотрит по сторонам, он забыл, что существуют обеды и завтраки, что где-то когда-то он ел кровяные бифштексы, что где-то под солнцем растут апельсины, которые, кажется, тоже можно есть, все это случайно припоминает князь Петя, как путешествия Гулливера, как нечто совсем нереальное и в действительной жизни, конечно, ненужное; ведь жизнь так пленительна, надо спешить, торопиться, поспеть. Князь Петя еще ускоряет шаги. Он бежит проходным двором, сокращая дорогу. Двор выводит на набережную Фонтанки. Из-под сугробов торчит остов живорыбного садка. Расставив ноги, оправляется милиционерша. Невдалеке — костер на снегу, подле костра сидит на ящике рабочий, держа между ног винтовку. Падают хлопья. Синева. Чернеют кони Аничкова моста. С моста, через перила, можно перешагнуть на реку — так высоки сугробы на Фонтанке. Дальше — синяя темнота неосвещенного проспекта, синее марево снегопада, следы на снегу. Князь Петя бежит посреди улицы, изредка вздрагивая от головокружения. Толя Виленский всегда начинает ровно в назначенный час, чернеет небо, чернеет темнота в дальней точке проспекта, по Садовой проходит красноармейский патруль, чернеет синий снег под натиском ночи, сужаются дома, скоро там, в черноте, будет мост через Мойку. Падает иссиня-черный снег, метет, наметая новые пригорки. Лучший компас, конечно, — звезды, но когда звезд нет…
18
Конструктор Гук не нашел во всем Петербурге компаса — ни у друзей, ни на технических складах, ни в научных учреждениях. Две недели блуждал конструктор Гук по городу в безрезультатных поисках. На него смотрели с недоумением; где-то обиделись и прикрикнули:
— Вы бы еще спросили шелковые носки или рябчиков!
Нет. Он этого не спросит. Ему нужен только компас. Но компаса не было. Тогда конструктор Гук решил идти по звездам. Надо было выждать не очень светлую, безлунную, но звездную ночь.
Между Лисьим Носом и станцией Горской с пустынного берега конструктор Гук осторожно скатывать деревянные салазки на лед Финского залива. К салазкам привязан тюк, покрытый белой простыней. Белая простыня с капюшоном надета также на конструктора Гука: он напоминает собой монаха инквизиции. Далеко, версты за полторы от берега, едва заметна крохотная красная точка: то светится ближайший из фортов Кронштадтской заградительной сети, батарея № 9; между ней и берегом совершают обход советские дозоры, здесь путь отрезан. Впереди, почти над головой, — Полярная звезда, слева — Большая Медведица, справа — Юпитер. Если между Полярной звездой и Медведицей провести отвес к земле, он упрется в финский берег где-то возле Терриок. Следует сделать по морю полукруг: взять сначала влево, обогнуть батарею № 9, пройти между ней и следующим фортом — батарея № 11, сделать верст десять по снежному простору залива, держась поглубже от берега, и, только миновав Сестрорецк, начать другое отклонение вправо — к точке падения отвеса. Идти придется часов пять, волоча за собой салазки, прислушиваясь к ружейным выстрелам, которыми от скуки балуются советские пограничники. Идти придется, сгибаясь еще под двойной ношей: тяжесть расставания и тяжесть неверия в будущее.
Конструктор Гук спускается на лед и размеренным, не очень быстрым шагом направляется в обход красной точки. Хорошо, что снег не очень крепок; хорошо, что не хрустит тонкий наст, что не слышны шаги и беззвучно скользят за спиной салазки, Конструктор Гук смотрит на звезды, собирая их в созвездия. Он впитывает в себя покой снежной ночи, проникается ее величием. Неисчислимость светящихся точек мерцает, мигает, дрожит над его головой, и одна — красная точка — внизу, впереди. Конструктор Гук оглядывается на покинутый берег, но берег уже растворился в темноте. Мир теперь геометрически совершенен. Ночь едва колышется в бесстрастном, холодном, звездном ритме. Шаги упруги и четки, как часовой механизм; мысли ясны, дыхание ровно. Невидимая точка под невидимым отвесом материализируется в сознании конструктора Гука: он как бы выдвинул ее из темноты, из потерянного в звездах горизонта, и поставил перед собой. От красной точки внизу, теперь передвинувшейся вправо, от Полярной звезды, от созвездия Медведицы, от Юпитера, от Венеры, от самого конструктора Гука протянуты к основанию отвеса прямые, безупречные линии, воздвигнут невидимый, но стройный чертеж. Этой ночью конструктор Гук впервые так восхищенно ощутил непререкаемую гармонию природы. Он видел карту небесных полушарий, рассеченных Млечным Путем; он восстанавливал контуры Геркулеса, Дельфина, Пегаса, классической Лиры в когтях Орла, Павлина, Кентавра и Козерога, мифологическую фантасмагорию образов; видел античные группы древних астрономов, склоненных над вычислениями, видел суровых пифагорейцев, окруживших величайшего из учителей… На всю жизнь конструктор Гук сохранит воспоминание об этой ночи, о неповторимом слиянии времен и пространств в одно нераздельное целое.
Красная точка форта медленно увеличивалась и наконец распалась на несколько точек. Слева виднелись огни батареи № 11. Конструктор Гук проходил наиболее опасную зону, прорывал заграждения, но он теперь не думал об опасности. Он уверенно шел по безмолвной снежной равнине. Огоньки батарей снова слипались, пока не превратились в прежние красные точки. Конструктор Гук находился на финской стороне, вне опасности, на свободе. Он оглянулся и сел на салазки. Он откинул с головы белый капюшон, снял эскимосскую шапку, прикрыл ею лицо и кашлянул, заглушая кашель оленьим мехом. В ту минуту конструктор Гук не знал — сделал ли он так, чтобы не нарушить великий покой этой ночи, или — боясь пробудить внимание пограничников? Но в то же мгновенье — вдали, за спиной, щелкнул ружейный выстрел и прокатился, замирая. В подвалах сознания темными, суетливыми прыжками забегали земные мысли, конструктор Гук вскочил на ноги, но тотчас понял, что дальше идти он не сможет; он дернул веревку салазок: полозья скользнули по снегу так же легко, как и раньше. Но ноги уже не повиновались ему. Двойная ноша, о которой он забыл, спускаясь с берега, всей своей тяжестью обрушилась на конструктора Гука. Невидимая точка, к которой теперь так близок был конструктор Гук, потеряла всякое значение, чертеж рассыпался и потускнел. Не глядя на небо, но высматривая на темпом снегу запись пройденного пути, конструктор Гук торопился, снова прорывая заграждения, снова минуя огни фортов, — обратно к русского берегу, к станции Горской, где уже проснулись паровозные свистки Приморской железной дороги.
Глава 4
1
Мольберт художника похож на гильотину. Палитра висит на гвозде, отяжеленная красками. Художники, философы и поэты строят новые формы, новые принципы: искусство есть изобретательство. Изобретательство — тяжкий дар, который под силу немногим. Художники часто изобретательствуют группами: так вырастают школы…
Суровое небо Эллады. На серый, скалистый, обесцвеченный солнцем берег ложатся черно-зеленые волны Эгейского моря. Желтоватые колонны с отбитыми завитками капителей, мраморные листья аканта лежат на земле в груде осколков. Белые, голубые, розоватые кони резвятся, отбрасывая черные тени на серый песок. Конские шеи могучи, широки крупы и спины, раздвоенные желобом по хребту. Кони, играя, вздымаются на дыбы, античные гривы стелются по ветру. Поднявшись на задние ноги, кони застывают неподвижно, опираясь на трубы хвостов. Черные волны, по которым когда-то отплывали аргонавты за золотым руном, беззвучно бьются о скалы, побелевшие под солнцем. Конское ржанье, удары мечей о щиты, клекот орлов и плеск прибоя, заглушенные веками, приведены к молчанию. Молча раздуваются ноздри коней, неслышно скрещиваются мечи, и замирает в воздухе брошенный трезубец. Каменеют на подмостках трагические складки актеров Эсхила и Эврипида, умолкают оды поэтов, красноречие ораторов, споры философов, обращаясь в холодный паросский мрамор. Художники, философы и поэты работают для вечности. Вечность, далекие столетия будущего, всегда ближе художнику, чем его современность. Но нет призраков страшнее мраморных свидетелей ушедших миров; они обнажают торсы, исщербленные проказой столетий, простирают руки с отломанными пальцами, глядят в пространство и время белыми яблоками невидящих глаз, полных ужаса одиночества, тоски эпох и культур, убивших собственные мифы, не найдя истины, и медленно угасших, как костры, в которые уже нечего подбросить… Путешественники на современных трансатлантических сверхгигантах, оставляющие кратковременный след в конторских книгах пароходных компаний и в таможенных протоколах, менее опасны для будущих поколений, чем аргонавты, уводящие паруса к Колхиде, или Колумб, открывающий Америку на хрупкой каравелле.
2
Коленька Хохлов сидит на табуретке перед мольбертом, похожим на гильотину. Коленька работает, хотя заниматься живописно приходится все реже и реже. На столике у мольберта — полированный, треснувший ящик, в нем — гора измятых тюбов с красками, грязная тряпка с неоторванной пуговицей — лоскут рубахи; рядом — палитра, не чищенная уже несколько месяцев, стакан с керосином, кисти, цветная бумага, запачканная краской гребенка, блюдце с песком. В комнате — обычный беспорядок, няня Афимья не успевает прибираться: стареет. Книги повсюду: в шкафу, на полу, на столе, на стульях — начиная с «Трактата» Леонардо да Винчи — до серых томиков «Старых Годов», тетрадей «Золотого Руна» и «Мира Искусства», желтых выпусков «Аполлона», до последних брошюр Толи Виленского и конструктивиста Крашевича. Кое-кто из поэтов — с авторскими посвящениями. Но, по обыкновению, книги, не относящиеся к вопросам искусства, Коленька, прочитав, выбрасывал, чтобы они не засоряли библиотеки. На печурке — чайник и валенки. На столе — горбушка пайкового хлеба, тарелка с окурками, новенький, сверкающий браунинг, подаренный Хохлову членом ревсовета VII армии (старый, выданный в дни Октября, лежит в ящике); любительский портрет матери, снятый на балконе хохловской дачи; план сцены Александринского театра, номер газеты «Жизнь Искусства» с последней статьей Хохлова — «О методе динамического оформления спектакля», и рукопись новой статьи — «Революционная форма», начинающейся такими словами:
«Пикассо не просто большой художник, он — четверть века современной живописи, некая центральная точка, вокруг которой движутся планеты второй и третьей величины, малые и бесконечно малые тела» (слово «некая» перечеркнуто, потому что оно рифмуется с «веком»). «Как бы мы ни были разны между собой, каждый в отдельности непременно напоминает какой-нибудь поворот Пикассо. Мы, художники Революционной России, авангард пролетарской культуры, поставленный на страже революционной формы, утверждаем, что передвижничество, чуждое формальным задачам и выдвигающее сюжетный базис, является замаскированной вылазкой реакции; картина, ограничивающая свое назначение революционной тематикой, похожа на дом, стены которого обклеены лозунгами и декретами, но крыша протекает, водопровод не действует, и кирпичи плохого обжига. Утверждая это, мы в то же время не должны забывать, что Пикассо — скорее последняя вспышка буржуазного искусства, нежели пионер новой пролетарской эры…»
Редактор газеты «Жизнь Искусства», прочитав статью, скажет Коленьке:
— Товарищ Хохлов, коллегия признала твою статейку актуальной и помещает ее на первой странице. Но, учитывая некоторые особенности текущего момента, я вынужден внести пару поправок.
Редактор заменит слово «художник» — «работником палитры», слово «откровение» — «профессиональным домыслом», ссылку на передвижников выпустит вовсе, но зато прибавит 24 строки собственных суждений… Коленька отмахнется — «пожалуйста, пожалуйста»… — и статья появится через день — петитом на третьей странице, с пометкой: «Печатается в дискуссионном порядке». На первой странице корпусом будет набрана статья Игнатия Гайка: «Нужны люди с большевистским хребтом»…
Еще на столе у Хохлова — линейка, молоток и циркуль, а также полученная вчера записка:
«Нам опротивела твоя половинчатость, раз и навсегда Муха Дора».
Коленька задумывается над работой.
— Нянюшка, — спрашивает он, — хороша ли, по-твоему, картинка? Няня Афимья присматривается, подходит ближе и говорит:
— Нешто ты плохо сделаешь!
— Нравится?
— Как не нравиться!
— Помнишь, к прошлому Рождеству я закончил большую картину, такую синюю?
— Еще бы не помнить!
— В Третьяковку повешена.
— Ишь ты!
Няня целомудренно умолкает. Она не помнит картины: все они, картины, одинокие — одна синяя, другая красная, третья зеленая, а то и совсем пегая — разве упомнишь? Но няня чувствует, что Коленьке нужна поддержка, и потому целомудренно умолкает, боясь проронить неловкое слово. Коленька угадывает нянины чувства, он хочет поднять ее на руки — седенькую, легонькую, — хочет усадить ее в глубокое кресло, окутать шалями и стеганым одеялом, насыпать перед ней шоколадных конфет, абрикосовской пастилы и изюма, купить новую косынку, окружить няню ласками и заботой. Но Коленька толпе молчит и молча принимается за работу. Часы идут. Старательно проверяя каждое движение кисти, расчетливо, любовно и трудолюбиво Коленька накладывает на живописный опыт истории новый, свежий пласт.
3
Член коллегии Петербургской Чрезвычайной Комиссии и муж Мухи Бенгальцевой Юрик Дивинов, встав из-за стола в своем кабинете на Гороховой, шагнул навстречу вошедшему Хохлову.
— Дело обстоит такого рода, — начал Юрик Дивинов, — Муха здесь ни при чем, Муха частность, хоть и небезынтересная.
Коленька насторожился, разглядывая серое лицо Дивинова.
— Вы, товарищ Хохлов, умный и ценный революционный работник и, как нам кажется, парень свой. Повторяю, что Муха — только частность… Такие люди, как вы, нужны революции, такими бросаться — пробросаешься. Невероятно, что вы, так близко стоящий к партии, короче говоря — околопартийный товарищ, не числитесь в наших рядах. Кстати: какие пайки вы получаете?.. Только-то?.. Ну, это, конечно, не густо. Почему я спрашиваю? А разве вы торопитесь? Нам бы хотелось подробно развернуть с вами некоторые вопросы. Если вы не очень спешите, я имел бы в виду… Впрочем, если угодно, можно ближе к делу… Чай пьете? Ну, ну — не отпирайтесь: Муха говорила, что вы большой любитель чаевничать. Я тоже обожаю. Наши вкусы кое в чем сходятся, приятно констатировать… В партию вам, должен сказать, нет смысла записываться, партия вас раздавит, будет кидать с одной работы на другую, перемелет, и тогда — прощай, искусство, или как вы это называете. Согласны? Рекомендую согласиться, тем более что нам ваша партийность не нужна ни в какую. Мы развертываем партийную вербовку широких масс, широкого пролетарского коллектива, а не единиц. Революционные массы нуждаются в дисциплине, партбилет дает дисциплину, становление политической линии и, в конечном итоге, — обо что разговор? — взнуздывает. Единицы важны за пределами партии: надпартийные, внепартийные, околопартийных товарищи… Вы курите?.. Прошу. Предпочитаете полукрупку? Дело вкуса, здесь мы расходимся… Принято думать, что каждый коммунист является сотрудником ЧК. Думать так — значит смотреть на факты сквозь розовые очки: в идеале — само собой, но на практике — отнюдь. Коммунисты в большинстве случаев бесполезны и даже вредны в нашей оперативной работе. Большинство коммунистов мы не подпускаем к ЧК на пулеметный огонь. Деловые установки мы производим на единиц, пользующихся доверием в беспартийной среде и способных служить отображением ее активизаторской потенции, Коммунистам ни один дурак не верит, это гиблое дело. В наши целевые задания они вносят лишь суматоху и вообще дрянь. Как парень свой вы все это знаете, и мне нечего скрывать, что наибольший процент секретных сотрудников ЧК составляют попы, профессора, писатели, академики и еще раз попы. Кроме прочего, они умней и наблюдательные партийных массовиков, а нам нужны не доносчики, а умозаключатели, нас надо знакомить не с действиями — действия сами о себе говорят, — а с подкладкой действий. Немало добровольных агентурных заявок со стороны бывших генералов-военных и гражданских, но эти типы слишком мелко плавают: так себе — плотвица без горизонтов, шпана… Говорить с вами о материальных преимуществах — вульгарно и неопрятно. Я заостряю вопрос: принимаете ли вы в принципе наше предложение со всеми вытекающими последствиями? Не забудьте, что Муха здесь ни при чем. На пока других вопросов не имеется.
Юрик Дивинов достал револьвер, подбросил его на ладони.
— Но чтобы о нашем разговоре — ни гy-гу! Я вас больше не задерживаю. До скорого! С товарищеским приветом!
— Пока!
В коридорах стояли часовые, звонко смеялась курьерша в тулупе. Внизу, в приемной, за столом сидел Сережа Панкратов с черным кружком на глазу.
— Бонжюр! — крикнул ему Коленька.
Панкратов строго посмотрел на Коленьку и ничего не ответил.
4
Снег продолжает крутить, то затихая, то разъяряясь метелью. Какая белая, какая долгая зима! Белое небо, белые крыши, белые улицы, белая, пустая Нева (на Неве когда-то чернели проруби и ползли гуськом сани с голубыми, с бирюзовыми глыбами льда). Свинцовый миноносец врос в белую броню Невы у Николаевского моста. В Академии Художеств, переименованной в Высшие Художественно-Технические Мастерские — Вхутемас, Коленька получил профессорское жалованье с опозданием на три месяца ввиду задержки в Москве ассигновок по ведомству Наркомпроса. Коленька вышел из ворот на 5-ую линию, дошел до 7-ой и в доме № 26, второй двор направо, поднялся в третий этаж к Розалии Марковне Фишер, торговавшей пирожными. Он купил пяток пирожных — песочные для себя, а для няни Афимьи — с кремом, уплатив все жалование до копейки. Коленька возвращается к подъезду Академии, садится в дворцовые сани и мчится белыми набережными к себе на Фурштадскую улицу. Из-под копыт летят тяжелые снежные комья; прозрачная, быть может — пушкинская, пурга колышет город; козий воротник серебрится морозной пылью; сани заносит на поворотах. Мелькает Меньшиковский дворец, Университет — петровские 12 коллегий, фисташковый фасад Академии Наук, опрокинутый газетный киоск с афишей о лекции Луначарского. По ту сторону Невы — желтые здания Сената, голубая громада Исакия в белом кружеве сквера, фальконетовский всадник над темными скелетом баржи, обледенелые пароходные трубы, заваленные снегом палубы, ржавые переплеты подъемных кранов, адмиралтейские арки. Слева открываются колоннады Томона, Ростральные башни с облупившимися Нептунами, далекий контур Петропавловской крепости. Сани летят по Дворцовому мосту и снова по набережной. Царский дворец с полуразрушенной решеткой сада, Эрмитаж, пролет Зимней канавки, Мраморный дворец. Ветер шумит в ушах стихами Мандельштама. Прохожие, кутаясь в тряпье, озираются на пышный выезд в пустынном городе, на пару вороных, покрытых распластанной по ветру сеткой, на замызганную козью Коленькину куртку. Снежные комья бьются о сани, вороные храпят, екает селезенка. Белый город — в снегах, в снежинках! За поворотом — античный Суворов на круглом цоколе и ширь Марсова поля с могилами жертв революции посредине; белая нить Лебяжьей канавки; оснеженный онегинский парк, и там, между ним, этим садом, и Инженерным замком, за Фонтанкой, за церковью Пантелеймона — купола Спаса-Преображения, конюшни жандармского корпуса… Няня, древняя няня, может быть — пушкинских времен, будет есть пирожные с кремом.
5
Няня Афимья стареет, стареет — пора. Морщинки наматываются на лицо, как шерсть на клубок. Они бегут по всем направлениям, они пересекаются, путаются — дороги жизни, пути, тропинки. Очки, шагая, стаптывают переносицу; глаза мельчают, подобно колодцам в засуху, подергиваются белесой пеленой; прикрывает седину дырявенькая косынка. Няня Афимья почти не выходит на улицу: где уж ей, старенькой, ковылять на четвертый этаж. Она прибирает в комнатах, ворожит над примусом и постоянно шепчет неразборчивое себе под нос. Прозрачные руки нянины обвиты синими шнурками, шнурки завязываются в узелки.
Няня Афимья вступила в тот возраст, когда люди уже не делают различия между днем и ночью: они спят, когда опустится на них недолгий сон, чаще всего среди бела дня, они дремлют за работой, а по ночам, лежа с открытыми газами и сторожа темноту, перелистывают свои стариковские думы.
Ворочаясь с боку на бок, няня сокрушенно, доверчиво и кротко поминает Господа Бога, молитва и мысли ее отвлеченны, половина ее тихой жизни протекает уже в отвлеченности. Няня встает в четыре часа утра, ощущая этот час, как другие ощущают — 7. Ее туфли шуршат в коридоре, няня заботливо снимает паутинки в углах, подметает — где вздумается, присядет на стул, отойдет в отвлеченность и снова начинает несуетливо суетиться. Потом растапливает самовар жгутиками, свернутыми из «Правды», чиркая серной спичкой о плиту.
В восемь Коленька пьет чай. Няня вздыхает озабоченно.
— Ты это о чем, няня, разохалась?
— Да ведь как же о чем, Коленька? Об том, об самом. Об сахаре. Почем ноне сахар-то?
— Сорок тысяч за фунт, нянюшка.
— Тыща? Ах ты, голубчики! Срам-то какой! Тыща рублей пуд, мазурики! Это что ж теперь за полфунта выйдет?
— Не пуд, а фунт, нянюшка.
— Фу-унт! Господи! Стало быть, если теперь мешок сахару закупить — тыщи рублей как не бывало! Ну, а мука-то почем?
— Муки вовсе нету.
— Знаю, что нету, ну, а в магазине-то почем?
— И в магазинах нету. Нигде муки нету.
Няня Афимья радуется:
— Слава тебе, Господи, хоть мука подешевела. Вот и надо теперь муку закупать, пока дешево. Нехозяйственный ты. Потому и прячут, что дешево. Неужто весело задарма товар продавать? Как пойдет дорожать, тут тебе лабазы и откроют, да уж поздно…
А вот когда Коленька не приходит ночевать домой, няня Афимья не на шутку беспокоится. Кажется ей тогда, что Коленька еще маленький мальчик, и разные страхи ползут, крадучись в темноте, но наибольший страх в том, что вдруг Коленька и в самом деле вырос большой, и дела у него очень важные, и пойдет по этим делам Коленька в город, да так долго задержится, что няня Афимья больше его и не увидит. Так однажды и случилось: Коленька ушел всего на двое суток, а няня тем временем ушла навсегда. Он целует в последний раз ее холодный, старенький лоб, оправляет в последний раз ее проношенную косынку и сам — через пустынный, морозный и злобный город — на ручных салазках отвозит ее в могилу. Ты не бойся меня, нищий попик! Я, может быть, и большевик, мне, может быть, ты и не нужен, но няне моей ты потребен наверное. Служи по ней панихиду, вот тебе мой недельный паек. Детство мое, няня моя, спите с миром.
6
В стенах Вхутемаса разгорается борьба. Образованы свободные мастерские, возглавляемые художниками различных течение; конструктивисты, кубисты, супрематисты, материалисты, революционный быт и другие. Происходят ежедневные совещания по вопросам учебной программы, которая все еще не выработана. Ежедневно к пяти часам в кабинете у Коленьки собирается расширенный пленум Совета Вхутемаса, открывая дискуссию. Ежедневно к этому часу Розалия Марковна Фишер приносит шляпную картонку с пирожными: расширенному пленуму Совета Розалия Марковна Фишер безоговорочно верит в долг. Сине от дыма самокруток.
— Чтобы научить живописи, — говорит профессор-материалист, — необходимо прежде всего уничтожить натурные классы. Писание с живой модели — дурацкий пережиток мертвого академизма. Необходимо во главе живописного класса поставить профессионального маляра. понятие «маляр» означает высшую квалификацию живописца. Только маляр в совершенстве владеет материальной природой живописи, знает краску, ее составы, способы ее приготовления, реакции разнородных смесей, приемы раскрытия поверхностей; только маляр, подобно мастерам Возрождения, — это ясно, как апельсин, — может научить живописца правильным производственным методам.
— Я полагаю, товарищи, — перебивает профессор-кубист профессора-материалиста, — что в основу обучения живописи следует поставить науки, трактующие вопросы образования формы. Тригонометрия, начертательная геометрия, кристаллография — вот важнейшие дисциплины, без которых не может сформироваться культурный живописец. В моей докладной записке…
— Заткнись с твоей докладной запиской! — кричит конструктивист. — Кому вообще нужна живопись? Кошке под хвост вашу живопись! Мы должны строить! Утилитаризм — вот формула нового искусства. Художник плюет на плоскость, он выходит в третье измерение — в физический объем, в действительное пространство, наконец — в четвертое: время. Художник должен строить не образы, а вещи — в реальном материале, в реальном движении. Я требую немедленного упразднения последних отрыжек живописной романтики! Я требую обязательного обо гения вхутемасцев технологии, сопротивлению материалов и другим инженерным знаниям, или иначе надо закрыть нашу лавочку и расписаться в младенчестве наших художественных идей!
— Товарищи! — вступает представитель группы «революционный быт». — Чтобы стать хорошим художником, надо прежде всего сделаться хорошим коммунистом. Это тоже ясно, как апельсин, и я думаю, никто не захочет против этого спорить. Мы — контрольная вышка революционной пролетарской культуры…
— Сними ходули! — горячится конструктивист.
— Товарищи, мы все умеем волноваться, но я советую сохранять хладнокровие, — продолжает представитель группы «революционный быт». — Политграмота — вот первый предмет, с которым должен знакомиться начинающий работник искусства. Лассаль, Маркс, Энгельс — в плане ретроспективном, Ульянов-Ленин — по линии сегодняшнего дня. Диалектический материализм, установка принципов революционного роста массового сознания должны иметь…
Супрематист рисует на клякспапире квадраты и палочки. Потом он будет отстаивать чистоту абстрактного пятна, будет говорить о самодовлеющем значении цвета, о его организующем начале, о преподавании законов оптики, о лабораторных опытах с цветными стеклами, о влиянии спектра на психику масс — говорить с холодной уверенностью педанта, не допускающего двух мнений.
Уже третий год ведутся программные споры в Совете Вхутемаса. Ученики отбывают трудовую повинность — пилят подрамки на топливо, роют дорожки в снегу академического сада, ездят за продуктами для своего кооператива, ходят по наряду на погрузки и выгрузки, на субботники — по три раза в неделю, работают лопатами, кирками и метлами, таскают тюки и ящики, голосуют, переизбирают, расписывают агитпоезда и плакаты, в свободное время забегая в холодные мастерские, чтобы продолжать профессорские споры. Центробежная сила относит эти споры по спирали, захватывая все более широкие круги. В Зимнем дворце, в Доме Искусств и в Доме Литераторов, в зале Городской Думы, в помещении Госиздата, во «Всемирной Литературе», в Институте Истории Искусств, в «Pavillon de Paris» — все чаще устраиваются публичные диспуты по вопросам искусства. В Москве, в Кафе Поэтов, в «Питореске», украшенном рельефами из жести и фанеры, в «Стойле Пегаса», в театральных залах, в студиях, в кинематографах — в Харькове, в Киеве, в Казани, в Самаре, с платой за вход и бесплатно, для всех желающих или только для членов профсоюзов, с председателями или без них — в казармах, на заводах, в школах, в клубах — спорят о живописи, о литературе, о театре, о цирке. Русская жизнь вступает дискуссионный период. Спорят наркомы, хроники, писатели, поэты, политпросветчики, делегаты военных частей, философы, студенты, руководители клубов, хранители музеев, актеры, режиссеры и декораторы, архитекторы, представители союзов, милиционеры, жены наркомов, музыканты, акробаты, куплетисты, матросы… Коленька все реже занимается живописью, он председательствует, он ездит в Москву в теплушках и в вагонах особого назначения, чтобы опять выступать, он председательствует, он ездит в Москву в теплушках и в вагонах особого назначения, чтобы опять выступать, содокладывать, инструктировать, председательствовать, секретарствовать, организовывать, отстаивать, заявлять, разъяснять, дискутировать, излагать, квалифицировать, устанавливать, координировать… Коленька проходит зубастую школу митинговой техники, он научается подбрасывать фразы, как футбольный мяч, вызывая по желанию — одобрение, возмущение, крики, рукоплескания, свист. Красноречие — умное и неумное — становится основным занятием русских художников.
Вхутемасцы пилят подрамки и ящики, ломают сучья в саду, в Главтопе выгрызают по норме очередную сажень еловых бревен, но этого хватает на три дня в неделю. Больше половины мастерских закрыто до весны. С потолков осыпается штукатурка, в музее сыреют и коробятся картины. На дворе валит неудержимый снег, покрывая безжизненные академические флигеля. Сторож Савелий, прослуживший 25 лет в Академии и теперь вселенный в бывшую ректорскую квартиру, пухнет от голода и мороза; руки Савелия сквозят на свет, по лицу пошли желтые отеки, веки вздулись, десны ослабели от цинги. Сторож Савелий стучится к Коленьке.
— Товарищ комиссар, барин-батюшка! Схлопочите мне пропуск в деревню, сделайте милость! В деревне, бают, водятся коровенки. Мясца бы.
7
Неужели зиме 20-го года может быть положен предел? Неужели ринутся вдоль тротуаров мутные ручьи, застучат копыта по булыжникам, выбивая искры? Старый сторож батального класса Савелий, застигнутый врасплох атакой революции, менее цветистой, но несравненно более страшной, чем те бои, что изображались в его присутствии четверть века подряд учениками Академии на «репинских», «полурепинских» и казеиновых холстах для соискания наград и отличий, — отечный сторож Савелий, изнывающий в промерзшей ректорской квартире, даже не ответил бы на подобный вопрос, настолько он показался бы невероятным. Да и не один только Савелий сказал бы, что, конечно, эта зима — последняя зима, за которой уже нет иных времен года. И тем не менее, проснувшись как-то утром, Коленька Хохлов с удивлением заметил, что пар от его дыхания почти не виден. Странное событие до такой степени взволновало и поразило Коленьку, что он, забыв надеть валенки, босиком подбежал к окну. Небо голубело по-праздничному, с крыш повисли стеклянные сосульки, с них капала вода, снег во дворе осел, и сугробы кое-где провалились. Но самым удивительным была фигура квартиранта Поленова: он стоял посреди двора, под солнцем, без тулупа и даже без пиджака — с открытым воротом рубахи, руки в боки, и, глядя вверх, улыбался. Коленька проследил взгляд квартиранта Поленова, но ничего не нашел, кроме неба, голубого и безоблачного. Очевидно, именно небо, его чистая и светящаяся голубизна послужили причиной улыбки Поленова: она была беспредметна, его улыбка, была непроизвольным биологическим ответом весеннему утру.
— Вставай! — крикнул Хохлов ученице Вхутемаса, шестнадцатилетней Витулиной, еще дремавшей в постели. — Вставай, тебе говорят: весна!
Коленька вытолкнул ее из-под одеяла, горячую от сна, в одной коротенькой и помятой денной рубашонке. Он подтащил Витулинку к окну, — зажав ладони между ног, она смотрела на голубое небо, на прозрачные сосульки, на квартиранта Поленова и тоже улыбалась. Бывали случаи, когда великие истины, научные открытия и даже математические формулы внезапно угадывались во сне, в один миг неожиданного озарения. Поэтому нет ничего неправдоподобного в том, что равнодушная и немного досадная потребность в тепле, соединявшая Коленьку с Мухой, с Дорой из хора и теперь с Витулиной, в одно мгновение преобразилась в любовь. В это первое весеннее утро два человека, стоявшие босиком, в одних рубашках, на холодном, отсыревшем полу у окна, наполнялись, как сосуды, с быстротой необычайной сознанием своей любви. Тело Витулиной еще хранило зной постели, но он уже был не нужен Коленьке Хохлову, и, несмотря на то что пар еще вылетал изо рта, что в комнате было сыро и зябко, ему захотелось окунуться в свежую воду, подставить голову и плечи под кран. Но водопровод не действовал, вода еще не оттаяла в трубах. Одевшись наспех, Коленька схватил кувшин и спустился во двор. Квартирант Поленов продолжал стоять — руки в боки.
— Извольте видеть! — сказал Поленов.
— Да! — ответил Коленька, и они оба засмеялись.
Коленька нацедил воды из дворового крана, обмотанного соломой и тряпками, и, не переводя дыхания, взбежал на четвертый этаж. В столовой солнечные искры сверкали на горке с русским трактирным фарфором, когда-то собиравшимся Коленькой и почитаемым нянькой Афимьей: на чашках саксонского убора и лиможской формы, на чайнике «Рафаэль» с вычурной ручкой под рококо, на фасонной венецианской посуде дятьковского, бронницкого, городищенского или дулевского производства, на густо-кобальтовом, темно-зеленом и пунцовом блеске, на лубочной деколи с золотой разделкой, на стекле и фаянсе, на масленках, сахарницах и солонках в виде наседки в корзине с цыплятами, или бревна с воткнутым в него топором, или плывущего лебедя, виноградной лозы, ананаса, раскрывающегося пополам. В Колиной комнате шестнадцатилетняя Витулина, в коротенькой рубашонке, едва доходившей до бедер, и в валенках на босу ногу, оправляла постель.
Все в этот первый весенний день было необычайным, все казалось новым и волнующим. Идя по городу, Коленька радостно читал непривычные названия улиц: исчезли Литейный, Шпалерная, Дворцовая площадь, Невский — появилась площадь Урицкого, улица Воинова, бульвар Володарского, проспект 25-го Октября, площадь Революции, Большая Пролетарская улица, Кооперативный переулок, проспект Нахимсона… Почему еще существует имя «Петроград»? Надо бы и его перекрасить в «Восстанск», в «Переворотск»! Коленька весело смеется, прижимая к себе Витулину. История, жизнь прекрасны в своих переменах; город — жизнь, а не музей. Впрочем, все сегодня прекрасно: голубое небо; милиционер, закуривающий цигарку; разбитый броневик, торчащий из сугроба; талый снег и полыньи на Неве; прекрасно само весеннее слово «полынья», прекрасен еврейский юноша с большими синими ушами, переходивший дорогу и вдруг погнавшийся за сорванной ветром кепкой; прекрасны солнечное тепло и радужные слезы уходящей зимы. Блестят хрустальные подвески, потоки выбиваются из водосточных труб.
Вот петербургский Парфенон — белая Фондовая Биржа на разливе двух рек. Три года тому назад по ее широчайшей лестнице суетливо сновали маклеры, банковские агенты, менялы. Теперь она стоит в запустенье, и трещины пробегают по ее колоннам, подобно ящерицам. Коленька подымается по ступеням на верхнюю площадку. Старый портал напоминает величественную театральную декорацию Бибиены или Гонзаго. Какой торжественный, всенародный театр!
— Витулик! — зовет Коленька. — Девочка моя! Смотри: там, в сквере, сходящем к Неве, я выстрою трибуны для публики; там разместятся десятки тысяч зрителей. Здесь, на ступенях, на портале — будут тысячи актеров! Вчерашнюю Биржу я превращу в театр. Смотри!
Коленька подбирает с влажной каменной плиты заржавый гвоздь и выскабливает на штукатурке Томонова храма чертеж мелькнувших в воображении зрелищ. Коленька ничего не видит вокруг себя, он забывает, что уже много времени на апрельском сквозняке, укрывшись за колонну, дрогнет Витулина. Очнувшись, Коленька целует ее в губы и произносит: «Люблю».
8
Командующему Петроградским Военным Округом.
Уважаемый товарищ, В соответствии с директивами, полученными от Президиума Петросовета, Чрезвычайная Тройка по проведению первомайских торжеств в гор. Петрограде настоящим просит Вас не отказать в любезности предоставить в распоряжение Начальника Штаба Чрезвычайной Тройки, под его личную ответственность, до 2.000 красноармейцев разного рода оружия (спецификацию прилагаю) при краскомах, орудиях и полном боевом снаряжении, а также — 3 самолета, 1 дирижабль, линейный крейсер «Аврора», 2 контрминоносца, 5 автоброневых машин и салютное орудие Петропавловской крепости — на день 1-го Мая (с 5 ч. дня до 12 час. ночи) и в дни репетиции, числом 10 для личного состава и не более 2 для кораблей, самолетов, броневых машин и орудий.
Снабжение личного состава продуктами питания возложено на Продовольственный сектор Штаба, по след. норме на человека: 1/8 фунта хлеба, 1/8 ф. леденцов, 1/4 ф. вяленой рыбы, 1/16 ф. махорки и горячий кипяток, плюс в день 1-го Мая 1/4 ф. пшенной крупы и 1/2 ф. овса.
Просьба озаботиться выделением постоянного состава, дабы текучестью участников не осложнять репетиций и не подорвать спектакля.
С товарищеским приветом Пред. Чрезв. Тройки: М. Каминер. Нач. Штаба: Н. Хохлов. Управдел Штаба: Д. Шапкин.В 1561 году скульптор Леон Леони писал к Микель-Анжело: «Я занят самым пышным празднеством, какое только осуществлялось за последние сто лет. В нем участвуют горы, острова, настоящие воды, сражения на суше и на море, с небом, адом и многочисленными постройками в перспективе. Мантуя представляет собою сейчас настоящий хаос, и можно подумать, что я прислан сюда для разрушения. Здесь больше не найти ни досок, ни гвоздей, ни крыш, ничего: так много материала я употребляю для этих построек».
В Зимнем дворце, в Тронном и в Гербовом залах, репетировали массовые сцены. По узорному паркету с криками «ура!» красноармейцы проносились атаками, в сомкнутом строю и в рассыпном. На дворе походные кухни кипятили воду.
9
В день 1-го Мая всегда бывает солнечно, ветрено и тепло. В этот день природа не дает осечек. Снова по улицам Петербурга, красным от флагов и черным от народа, продвигались карнавальные колесницы: грузовики, превращенные в телефонный аппарат, в избу-читальню, в молотилку, в самолет, в мясорубку, наполненную генералами, в гильотину, под ножом которой болталась огромная голова Пуанкарэ; дальше двигалась клетка, набитая приставами и полицейскими; калоша, в которой сидели дядя Сам, Джон Буль, Клемансо, Шейдеман, Милюков, Чемберлен и Керенский. 1-го Мая 1920-го года в Петербурге произошло чудо: на Марсово поле сошлись тысячи людей, и к 5 часам дня оно преобразилось в тонкоствольный, прозрачный парк. С октября 17-го года, из месяца в месяц, из года в год — забывая, что месяцы и годы остались позади, — говорили: «Большевики не протянут и двух недель, большевики падут, как только Колчак, они падут, как только Деникин, разбегутся, как только блокада, лопнут при первом неурожае»… Теперь — о Марсовом парке: «Он зачахнет через две недели, через месяц его выдернут на свалку». Но к концу мая парк зазеленел. Давняя какая-то российская императрица писала про Летний сад: «Огород наш дюже разросся», — с 1-го Мая 1920-го года его площадь увеличилась втрое.
Коленька Хохлов, опять не спавший несколько ночей, с утра объезжает город в кузове мотоциклетки. Солнце слепит глаза, балтийский ветер упорствует, преграждая движение, бьется и щелкает красный флажок у руля. В 9 часов вечера небо еще светится отблесками ушедшего дня. В здании Биржи, в центральном зале, тысячи людей рядятся в театральные костюмы, в плащи, мундиры и рубища, в цилиндры и треуголки; надевают парики, приклеивают бороды. Коленька едва держится на ногах, в коленях начинается дрожь. Взобравшись на подоконник, он в последний раз обращается к участникам представления. Голос охрип. Коленька с трудом выкрикивает слова, чтобы они были услышаны в зале. Короны, треуголки, рубища, плащи, цари, рабы и боги — четыре тысячи голов отвечают Хохлову:
— Даешь Биржу!
Бутафория театральных складов — троны из папье-маше, деревянные мечи и картонные шлемы, раскрашенные одежды исторических драм, опереток и опер — смешиваются с действительным оружием, актеры — с армией и флотом, балет — с полевой артиллерией, хор филармонии — с митинговым оратором, оркестры — с орудийной пальбой и морскими сиренами, с исполинским органом фабричных гудков и ревом пропеллеров. Военные суда, построившись на Неве перед Биржей, заливают ее лунным пламенем прожекторов. Полыхнет небо, и ракеты опрокидывают на город ливень красных звезд. Голодная, босая революция нанизывает новое звено на общую цепь того площадного искусства, где количество становится качеством, цепь, уходящую в далекие века: уличные шествия «тела Христова», кощунственные празднества «осла», средневековые мистерии, представления нидерландских риторических камер и нюренбергских цехов, королевские въезды, рыцарские джостры, итальянские торжества Возрождения, санкюлотские ритуалы Французской революции в честь Федерации, Конституции, Разума, Высшего Существа. Этот ветреный первомайский вечер у Биржи — для Коленьки Хохлова неповторим, как неповторима всякая высшая точка; в ту минуту, когда с бастионов Петропавловской крепости пушки возвестили окончание зрелища, он почувствовал: революция для него умерла.
Возвращаясь домой, Коленька заплакал: как и все русские люди, он умел плакать над абстракциями. Но возможно, что его слезы были следствием усталости и многих бессонных ночей.
10
В бесхозной квартире, предоставленной Штабу празднеств жилотделом горсовета, было много спирта, разведенного и неразведенного, две бутылки коньяка — для дам, полсотни ломтиков черного хлеба с кирпично-красной конской колбасой, леденцы, банка с медом, сушеная треска, сладкий ржаной пирог с пшенной кашей на сахарине и печенье из картофельных очистков на касторовом масле.
Товарищ Каминер произнес приветственную речь, подчеркнув успех и значение 1-го Мая, правильность мобилизационной системы в процессах массового искусства и в искусстве вообще, указал на созидательную силу и безусловный рационализм субботников и выразил надежду, что в ближайшем будущем все нити художественной жизни РСФСР будут стянуты к одному центру, что даст возможность работникам искусства творить в соответствии с единой и твердой директивой и, с другой стороны, уничтожит параллелизм. Коленька Хохлов в ответном слове от имени всего руководящего коллектива празднеств говорил еще не вполне восстановленным голосом о росте художественной самодеятельности рабочих и красноармейских активов как о признаках несомненного расцвета всенародного искусства при социализме, о зрелище 1-го Мая, кладущем основание празднованиям Красного Календаря Русской революции, заверил готовность всех художественных руководителей и ответственных работников Штаба сохранить свои дисциплинированные кадры до следующего случая. Затем Дэви Шапкин играл танго своего сочинения и рассказывал еврейские анекдоты; художники, постановщики, балетмейстер и профессор-электрик, ведавший световыми эффектами на Бирже, делились впечатлениями, вспоминали курьезы, возвращаясь к спорам, возникшим в Штабе при подготовке зрелища. Женщины пили коньяк из чайных чашек и рассуждали о переделке кружевных штор на выходные платья, о блузках из флажного кумача, о преимуществах кокосового масла над хлопкожаром, о халтурных спектаклях на Красной Горке.
Юрик Дивинов в темном углу нюхал кокаин, угощая Нусю Струкову, муж которой был расстрелян еще в 1918 году. Витулина шепнула Коленьке:
— Разреши мне пофлиртовать с Каминером: он может выдать ордер на ботики.
Танго Дэви Шапкина пользовались успехом, и захмелевшие пары несколько раз принимались танцевать.
Коньяк вскоре был выпит до капли, но запасы спирта, заготовленного начснабом Штаба, товарищем Янчусом, оказались неисчерпаемы. В гостиной погасили свет. Дэви Шапкин играл без устали, хотя его музыка постепенно потеряла мелодическую и ритмическую связность. Танцы то вспыхивали, то затихали, и тогда в темной гостиной слышались вздохи и шорохи. Витулина присела на колени к Каминеру, он гладил ее чулок и каждый раз, доходя до подвязки, начинал слегка сопеть. В столовой, освещенной елочными свечками, Юрик Дивинов внезапно вскочил и выстрелил в зеркало. Дивинова обезоружили, окатили водой и заперли в ватерклозете, приставив к двери комод. Дэви Шапкин спел «еврейскую свадьбу», после чего возобновились танцы. Товарищ Янчус в столовой пил спирт с Нусей Струковой, доказывая ей, что спирт есть здоровый фактор, а кокаин не менее вреден, чем религия. Витулина громко хохотала, обучая Каминера танцевать танго и тустеп. Показывая па, она подымала юбку выше подвязок и взвизгивала. Потом она упала на пол и уже не могла подняться, потеряв сознание. Коленька перенес ее в пустую комнату на постель, расшнуровал ботинки, положил мокрое полотенце на грудь и на голову и, притворив дверь, вернулся в гостиную. Сев в кресло, он задремал — под музыку, шепот и заглушенный смех…
Коленька проснулся, когда уже светало. На диване, на ковре, на составленных стульях спали — по двое, по трое — участники банкета. Товарищ Каминер лежал на крышке рояля, подсунув под голову диванный валик и накрывшись военной шинелью. Коленька прошел в комнату Витулиной. Дэви Шапкин, поддерживая брюки, соскочил с постели. Витулина лежала в глубоком сне, бледная, почти голубая. Щека, шея и подушка были запачканы рвотой.
— Да ты выслушай, болван! Я же тут не виноват! — бормотал Шапкин. Он пытался пристегнуть брюки к подтяжкам, но руки тряслись, и пуговицы не попадали в петли. Губы вздрагивали, и Коленьке показалось, что даже бачки Дэви Шапкина прыгают на его висках.
— Да погоди ты, тебе говорят! А Изочку Блюм тебе можно? Я тебя прошу, да или нет? Товарищ Хохлов, бог мой, я вам все объясню, мы же интеллигентные люди… Клянусь богом, я больше не буду, я ничего…
Не дослушав, Коленька вышел из комнаты, отыскал козью куртку с фуражкой и спустился на улицу.
11
Снова начинается блуждание по улицам, по весенним, предутренним, зелено-розовым улицам Петербурга. Надо ли следовать за Коленькой Хохловым в его ночных прогулках? От Пяти углов по Загородному проспекту он доходит до Забалканского; подумав, сворачивает налево и, пересекая роты Измайловского полка, направляется к Обводному каналу. На улицах — ни души. Темнеют на домах красные флаги. Паровозные плачут свистки. Розовеет заря на зеленом небе. Белые ночи располагают к блужданиям. Петербургские мечтатели бродят по набережным Невы, смотря на широкие льдины, с гулом и треском плывущие по реке и грузно наползающие одна на другую, подобно белым медведям в пору любви; мечтатели идут на Острова, на Стрелку, на взморье, часами сиживают на скамейках, прислушиваясь к плеску волн, блуждают по аллеям, по улицам и проспектам — путями Пушкина, Гоголя, Блока. Книга о Петербурге должна быть летописью уличных блужданий, бесцельных и вдохновенных, как жизнь. Коленька Хохлов — на окраинных улицах. Утро встречает его за Невской заставой, когда в Смольном и в Таврическом уже поднимаются на трибуны ораторы, когда, разбитая, уничтоженная и одинокая, выходит Витулина из бесхозной квартиры, когда на стенах расклеиваются новые оперативные сводки военных действия, ибо война все еще продолжается несмотря на то, что это становится скучным и как событие, и как литературный прием. На пустынных тротуарах уже попадаются пешеходы; они спешат, не читая военных сводок, намокших от утренней сырости.
Война идет своим чередом.
Взятием Старой Бухары 1-го сентября 1920 года красные ликвидируют туркестанский фронт. На юге красные занимают Одессу и одновременно входят в упорные бои у Перекопа и Геническа. В марте белые отдают Екатеринодар, Новороссийск, Владикавказ и Петровск, в конце апреля — Баку, после чего переправляются в Крым, где 6-го июля переходят в наступление. Имея вначале успех, они развивают его до середины октября, под командованием генерала Врангеля. Но с 15-го октября красные переходят в решительное и последнее наступление, в результате которого к 10-му ноября территория Крыма оказывается в их руках. Дальневосточная Красная Армия 7-го марта вступает в Иркутск. Все продвижение по Сибири делается двумя скачками: с июня по октябрь 1919 года — 1.500 верст, с декабря по март 1920 года — 2000 верст. 21-го октября падает белая Чита. На западном фронте 2-го февраля 1920 года заключается мир с Эстонией. К тому же времени красные очистили Латгалию и 11-го августа 1920 был подписан мир с Латвией. Весной 1920 года польская армия перешла в наступление, заняв 6-го мая Киев. До конца мая, когда подоспела конница Буденного, бои шли с переменным успехом. В июне красная конница захватила Житомир и Бердичев, и до 20-го августа продолжалось безостановочное наступление красных войск, подошедших ко Львову, Холму и Варшаве. Варшавы поляки не отдали. Напротив, с этого момента началось новое отступление красных по всему фронту, до 1-го октября, когда открылись мирные переговоры с Польшей; 12-го октября подписан мирный договор.
1920 год ознаменовывается тем, что в нем заканчивается гражданская война на внешних фронтах. Потом еще кое-где будут подбирать остатки — в декабре 1922 года красные возьмут Владивосток, — но это скорее окраинный вопрос, нежели война. Война окончилась в двадцатом. Что же дальше? Красная Армия перебрасывается на хозяйственный фронт: лесозаготовки, хлебозаготовки, транспорт, ремонтострой, борьба с разрухой. Некоторым частям приходится еще вести борьбу с атаманскими бандами. Атаманов расстреливают, отряды их часто истребляются до последнего человека. Кое-кто успевает бежать…
В 1920-м году генерал Петэн писал: «Русскую армию бил Наполеон в 1812 году, в 1855 году били союзники в Крыму, в 1877–1878 годах она не сумела вырвать победу у турок, в 1905 году ее разгромили японцы, в 1914–1917 годах били ее немцы… Но Красную Армию не могли разбить усилия восемнадцати государств»…
Коленька Хохлов огибает Лавру и Старо-Невским проспектом выходит к Николаевскому вокзалу. У памятника Александру III пьяная девка по прозвищу Коллонтай бьет по зубам неверного спутника. Улюлюкают ротозеи и папиросники.
12
— Наблюдается, что некоторая часть населения оставляет гореть электричество по выходе из комнаты. Товарищи и граждане, мы ведем борьбу за наши трудовые интересы и должны чрезвычайно беречь топливо, которое так нам необходимо. Берегите электрическую энергию.
— Хождение по улицам города Петрограда допускается только до 10 часов вечера. Ночные пропуски выдаются исключительно особо ответственным советским работникам и чинам горохраны.
— Движение пассажирских поездов Петроградского железнодорожного узла прекращается впредь до особого распоряжения.
— Городским врачам, больницам и амбулаториям предписывается относиться к выдаче рецептов с высшей осмотрительностью, указывая в каждом случае имя, фамилию, возраст и классовое происхождение больного, точный диагноз болезни и адрес.
Прим. I: доводится до сведения, что йода, йодоформа, ol. ricini, препаратов мышьяка, абсолют. спирта, сулемы, брома, хины, опия и его производных (кодеин и пр.), борной кислоты, салицилового натра, аспирина и др. производных салициловой группы, tonica (валерьян. капли, дигиталис и пр.), александринского листа, а также марли, ваты, бинтов и других перевязочных материалов, зубного порошка и посуды в городских и коммунальных аптеках в настоящее время не имеется. Граждане должны приносить свою посуду.
Прим. II: поступили в районные аптеки и продаются в ненормированном количестве: ликоподиум и сушеная ромашка.
— Петрокоммуна объявляет об утверждении новой продовольственной раскладки, основной и приварочной: по хлебным карточкам: 1/8 ф. галет или ячменя; по продуктовым карточкам: сушеной рыбы 8 золотников, капусты кислой 8 зол., картофеля 5 зол., жиров 1 зол., монпансье 2 зол., кофе 0,72 зол., махорки 2 зол. и спичек 2 кор. в месяц.
— Ввиду того, что арестованные заложники классового врага временно в обуви не нуждаются, таковая у них отобрана и передана частям Красной Армии ПВО для распределения. Арестованным выданы взамен лапти.
— Доводится до сведения населения, что выдача пуговиц и курительной бумаги прекращается впредь до особого распоряжения.
— Оружейный завод в Сестрорецке переключается на изготовление карманных зажигалок, каковые поступят в розничную продажу в кооперативных лавках, о чем доводится до всеобщего сведения.
— Безусловно запрещаются всякие самочинные обыски в городе и приказывается, в случае обысков, не разгромлять имущества, а сохранять его в целости, как народное достояние.
— Согласно циркуляра Наркомсобеза за № 6724 предлагается учкомам и домоуправляющим под личную их ответственность отобрать от бездетных жен красноармейцев продуктовые карточки «Красная Звезда», литера «А — бронированная».
— Инструкция гужевым базам, ветеринарным и фуражным пунктам:
Ввиду перевода гражданского населения на овсяное довольствие предлагается широко использовать для фуражирования лошадей наличность просяной шелухи и овсяной мякины. Эту пищу лошади плохо принимают, часто болеют опасной коликой и гибнут. Чтобы избежать последнего, надлежит приступить к кормлению лошадей указанными суррогатами немедленно, пока гражданским населением еще не полностью израсходованы запасы здорового фуража, так как изменение корма в рационе лошади требует времени для подготовки и приучения. Сразу перейти на шелуху лошадь не может и долго будет голодать и беспокоиться. Необходимо просеивать задаваемую мякину и шелуху через грохот, для удаления земли и камней, т. к. лошадь от этой примеси скоро набивает оскомину и болеет. Не давать заплесневевшей шелухи и мякины, при пользовании же, в случае особой нужды, гнильем-добавлять небольшое количество соли. Соблюдение предложенных правил поможет сохранить лошадь для светлого социалистического будущего, когда труд и транспорт будут развиваться нормально.
— Отдел снабжения Гормилиции доводит до сведения сотрудников, что в кооперативе «Красный Милиционер» (пл. Урицкого, 3) приступлено к внеочередной выдаче духов высшего качества «Виолет-де-Парм» и мужских головных уборов фасона «котелок».
— Отдел Захоронений объявляет, что распределение ордеров на прокатные гробы будет производиться в порядке живой очереди каждое 1-ое, 10-е и 20-е число.
13
Блуждание заканчивается партией в шахматы у Топсика.
— Не знаю, как вас, у словесников, — говорит Коленька Хохлов, — но мы, художники, в подобных случаях сдаемся. Я предупреждал вас, Топсик: будьте осторожны, у меня игра комбинационная.
— Комбинейшен, комбинейшен, эх, все ваши комбинейшен!.. Слыхали, князь Петя расстрелян?
— Gardez votre Reine[11]. За что?
— Говорят — так, ни за что.
— Наверно — за что-нибудь. Так, «ни за что», стараются не расстреливать. Gardez toujours[12].
— Ах, я ваши комбинейшен насквозь вижу.
— Так! Короля к стенке!
— Как бы прежде вашего не того, не списали.
— Вероятно, за сахарин. Эк, куда вы загибаете!
— У нас, у словесников, — тоже комбинационная. Разрешите офицерика — в расход?
— Прошу покорно, мы скомпенсируем.
Топсик задумывается над ходом. — Не забывайте контрольного времени, Топсик!
— При чем тут контрольное время, когда играешь в последний раз: завтра шахматы на базар.
— Но ведь они не ваши?
— Ну да — не мои. А вы думаете — граммофон мой? Энциклопедия Брокгауза — моя? А картина Репина — моя? А простыни — мои? Ничего здесь нет моего, кроме дырявых подштанников. А ванну я загнал вчера ночью — вы думаете, ванна тоже моя? А шторы, которые здесь висели? А коллекция гемм?.. Шах! Меня вселили сюда по ордеру. Какой-то присяжный поверенный жил.
Коленька снова напоминает о контрольном времени, потому что Коленька торопится: его ждут в Комитете Государственных Сооружений. Там, перед Особой Комиссией, Коленька должен сделать доклад о проекте типовых трибун для рабочих предместий. Особая Комиссия уже собралась в кабинете зампреда. Присутствуют: зампред тов. Сукристик, машинистка тов. Мисюль, секретарь ячейки тов. Антошкин, члены коллегии тт. Бадхан, Чистяков и Заузолков, делопроизводитель тов. Куклин и старший бухгалтер тов. Блейман. Кроме них вызваны завтранспортом тов. Селява, инженеры Тафаев, Буйвит и Петунин, а также завхоз тов. Соленых.
— Житие святых! — продолжает Топсик. — Ученый паек плюс присяжный поверенный. Скоро девочку заведу: нам этой квартирки хватит года на два.
С улицы доносятся звуки «Интернационала». Оркестр приближается, звуки растут, крепнут, формируются. Топсик раскрывает фортку и снова садится к шахматам. Войска проходят совсем близко, внизу под окнами. «Интернационал» врывается в комнату, заполняет ее медным грохотом труб, величием, великолепием и непогрешимостью марша. Коленька прислушивается, удерживает в воздухе руку, протянутую за фигурой, откидывается на спинку стула; потом он встает и стоя слушает гимн. Топсик иронически улыбается, пожимая плечами, но, пожав плечами, также привстает. Об этом случае, о таком действии «Интернационала» на некоторых героев повести, не очень склонных к патетическому строю переживаний, здесь упоминается вскользь, мимоходом, потому что объяснение подобному действию еще не найдено, догадки же могут показаться маловероятными. Здесь отмечается только внешняя сторона происшествия: Коленька выпрямился почти по-военному, глядя куда-то вверх, в потолочный карниз. Топсик, приподнявшись, так и остается полустоять, упершись руками в сиденье стула… Оркестр сворачивает за угол. Звуки замирают. Тогда, помолчав, Коленька говорит:
— Несомненно — за сахарин: уж слишком он афишировал.
14
Зима 20-го года останется в памяти своими морозами, снегопадом, метелями и сугробами. Короткую, бурную весну сменило лето, спалившее Россию зноем и засухами. Земля покрылась горячей трухой, обжигая босые ноги нищих людей; трава сгорала на корню; зерна испекались в земле, обращаясь в золу. Небо сияло — неумолимое, жестокое, торжествующе-безоблачное. Его красоту надолго перестанут воспевать русские художники, пережившие лето 20-го и лето 21-го годов. Люди с ненавистью встречали по утрам его блистательную синеву. Мольбы и молебны, декреты и предсказания метеорологических станций были бессильны против его тупого, горячего, испепеляющего равнодушия. Реки обмелели, колодцы высохли, канавы и арыки наполнились каленой пылью. Безжалостная, слепящая синева вызывала ужас и проклятия. Хотелось заплевать это небо, разорвать его в клочья, расстрелять из зенитных орудий! Неурожай губительно пронесся над Россией, выжег посевы, истощил запасы, изнеможил плодороднейший чернозем Поволжья.
Петербург оказался отрезанным от путей, по которым еще влачились кое-какие продовольственные остатки. Заградительные отряды, останавливая поезда, отбирали все, что находили в тюках и карманах: полфунта жира, пяток яиц, фунт муки, краюху хлеба. Приезжий выходил из вокзала с пустыми руками — в последний раз его обыскивали тут же, на площади, под раскаленной вокзальной башнею с остановившимися часами. В Петербурге не осталось ни одной крупинки соли, ни одного обломка сахара, ни одного лукошка с яйцами, ни одного бочонка с маслом. Из селедок варили суп, из вареных селедок готовили жаркое; прежде чем положить их в кастрюлю, из селедок выскабливали червей.
С наступлением тепла, еще по весне, на улицах Петербурга появились первые юродивые. В середине лета число их значительно увеличилось, Петербург никогда не знал такого количества юродивых. Вот приблизительный перечень петербургских юродивых 1920-го года:
1. Бывший помощник присяжного поверенного Борис Авдеевич Раппопорт. В октябре 17-го года дал обет не бриться и не стричься до тех пор, пока не падут большевики. Бороду закладывал за пояс, волосы прятал под воротник. Говорили, что волосы его отросли до седалищного места, но проверить это никому не удалось, так как Борис Авдеевич Раппопорт поклялся не только не стричься и не бриться, но также — не раздеваться и не менять одежды. В начале 22-го года исчез из Петербурга. Одни рассказывали, будто он повесился на собственной бороде, другие решительно утверждали, что он просто обрился наголо и поступил на советскую службу.
2. Яков Валерьянович Дышко. Требовал, чтобы все называли его Феликсом, причем отличался кротостью и добротой характера и, собирая на улице зевак, читал декрет об упразднении ЧК. В 21-м году расстрелян за полной ненужностью.
3. Марья Кондратьевна Колпакова. Ежедневно с 8 ч. утра до 8 ч. вечера плакала навзрыд на углу Надеждинской улицы и Баскова переулка. От подаяний отказывалась. С наступлением осени пропала без вести.
4. Человек без имени, выдававший себя — то за наследника-цесаревича, то за Императрицу Александру Феодоровну. Отправлен на принудительные работы.
5. Трошка Фальцет. Человек, усеянный клопами; распахивал рубаху на груди, кишащей паразитами, и распевал фальцетом: «Пейте мою кровь! Сосите мою кровь!» Утопился в Обводном канале.
6. Адам Наперковский. Произносил речи на польском языке, утверждая, что в лице Троцкого на землю снова сошел Иисус Христос и что евреи еще раз собираются распять его. Иногда, но много реже, читал вслух стихи Мицкевича. Был часто бит, особенно — за стихи, и в конце концов пропал без вести.
7. Изобретатели: Петька, Абрамка Курчавый, Моисей Израилевич Коган, дьякон Владимир из Новой Деревни и другие. Предлагали прохожим свои изделия: подошвы из старых хлебных карточек; песочные часы, действующие при электрическом свете; калории в оригинальной упаковке; Евангелие, переписанное от руки по новой орфографии; списки расстрелянных, составленные в рифмованном порядке, и пр.
8. Человек по прозвищу «Химик», утверждавший, что им открыт способ переработки государственных денежных знаков в навоз.
9. Человек по прозвищу «Стряпчий». Ходил по городу голый, в одних купальных трусиках, с портфелем под мышкой и гусиным пером за ухом, предлагая свои услуги для составления доносов в ЧК. От гонораров отказывался. Дальнейшая участь неизвестна.
10. Тысячи или, вернее, десятки тысяч петербуржцев, заклинавших друзей и соседей не выходить на улицу в одиночку, потому что китайцы ловят прохожих, убивают их в своих прачечных и продают на рынках, выдавая мясо взрослых за баранину и свинину, а мясо детей — за кроликов, собак и кошек. В период 20-гo — 21-го годов вымерли от голода, сыпняка и холеры.
15
К тому же лету относится первое проявление деятельности Семки Розенблата: он открыл табачную фабрику. Задумываясь над судьбами американских миллионеров, Семка Розенблат ходил по улицам, собирая окурки. К вечеру он вырабатывал до полутора фунта табака. С того дня, как Семка Розенблат ввел в дело пятерых беспризорных, количество ежедневной выработки табака сильно возросло. На каждые два фунта чистого веса Розенблат примешивал около полуфунта пыли и сора, добываемых в своей же квартире на Казанской улице. Такая мера суррогатов, почти не влияя на вкус папирос, приносила существенную выгоду. Ввиду острого бумажного голода Семка Розенблат употреблял для гильз копировальные книги бывшей своей «Конторы Коммерческой Взаимопомощи» — папиросы, продававшиеся десятками и в розницу, назывались «Рассыпные копировальные Дюшес». Упоминанием слова «копировальные» Семка, с одной стороны, как бы оправдывал лиловые иероглифы, встречавшиеся на гильзах, стилистическими изощрениями фабриканта, с другой (для людей прозаически мыслящих) — отводил возможный упрек в злоупотреблении доверием покупателя.
Оценивая деятельность Семки Розенблата вне той пользы, какую он для себя из нее извлекал, тем более что табачная фабрика являлась в личной его карьере лишь небольшим эпизодом, следует признать в этой деятельности первую реальную попытку рационального использования отбросов, получившую впоследствии широкое государственное признание и распространение под общим наименованием «Утильотброс» и заложенную в фундамент промышленно-экономического восстановления страны. Сам же Розенблат вскоре ликвидировал свою фабрику по той причине, что она не была регламентирована законом, а Розенблат всегда любил действовать на законной основе. Тем не менее фабрика дала ему прибыль, достаточную для того, чтобы провести остаток лета и осень на берегу моря, в Сестрорецке. В Сестрорецке, опустошенном, разрушенном и безлюдном, расположилась — в десятке слегка подремонтированных дач — литературно-художественная колония, и в ее числе Апушин, Виленский, Топсик и Коленька Хохлов. Семка Розенблат принимал участие в их общих прогулках, часами леживал вместе с ними на горячей железнодорожной насыпи, полуголый — в одних коломянковых штанах — и босой, глядя в синее небо и лениво обмениваясь фразами. Песчаная насыпь порастала осокой, море безмолвно желтело за сосновым бором, редкие дачники проходили с корзинками в руках, собирая шишки для самовара, грибы и чернику. Колония избрала Семку Розенблата заведующим продовольственной частью, он дважды в неделю езди в город за пайками и непредвиденными выдачами, которые только он умел вырывать, — во «Всемирную Литературу», в Дом Ученых, в Дом Искусств, в кооперативы Наркомпроса, Наркомпрода, Балтфлота, Гормилиции, Капли Молока, Культпросвета ПВО, Отдела Управления. Возвратившись в Сестрорецк с мешками селедок и сучковатого, занозистого хлеба из жмыхов и отрубей, с банками повидлы, — Семка Розенблат получал за труды равную со всеми членами колонии долю продуктов.
Но чаще всего Розенблат в одиночестве проводил время у самой границы, на высокой дюне, с которой видна была Сестра-река и сосны на другом ее берегу — в Финляндии. Он подолгу всматривался туда — завороженный, глядел не отрываясь. Там, в бывших припитерских дачных местностях, от Олиллы до Перкъярви, жизнь замерла окончательно. Труды старого Пурви пропадали даром: дачи приходили в негодность от безлюдья, дороги размывались осенними дождями, розы на клумбах не кутались на зиму в соломенные душегрейки и погибали от морозов; сарай Вольной Пожарной Дружины сгорел от случайной спички вместе с водокачкой, купленной на Сельскохозяйственной выставке; от засухи тлели торфяные болота, дымный расстилая покров на десятки верст; дюны, разорвав непрочную ткань дерна, оставленного без присмотра, тронулись и пошли, подкапываясь под строения, зарывая заборы, обнажая корни дерев, — сосновый лесок накренился, как Пизанская башня…
С наступлением зимы Семка Розенблат перебирается в Москву — «поближе к центру». Он терпеливо — восьмые сутки — едет в Москву кружным путем, через Мгу, Вологду и Ярославль, в теплушке, которая, впрочем, никак не отапливается. Россия покрыта снегами. Мосты разрушены. Железные фермы порваны, вздыблены, опрокинуты, растопырены; они простирают к небу скрюченные, ампутированные суставы. Люди по льду переходят реки и ждут новых поездов, выменивают на молоко, хлеб и яйца быстро уменьшающийся свой багаж, рубят деревья для паровозной топки, очищают рельсы от заносов. Машинисты собирают подушную дань. Семка Розенблат организует артели, ведет переговоры с сельсоветами, с волисполкомами, с железнодорожными властями, с парткомами. Товарный состав, пыхтя и хромая, медленно буравит снега.
16
Семка Розенблат — далеко не единственный петербуржец, покинувший Петербург. Петербуржцы вообще разъезжаются: кто переходит границу, кто по примеру Розенблата стремится в Москву, кто — в хлебные края, понаслышке. Петербуржцы не разъезжаются — они бегут: в теплушках, на крышах, на буферах, с мандатами — действительными и самодельными, пешком — в снег, в мороз, в метели. Кто скажет — достигают ли они намеченной цели? В придорожных сугробах, на шпалах, в лесах, в полях — страшные попадаются следы отступления.
Но даже теперь в Петербурге еще жива его сердцевина. Капля ртути расчленяется на отдельные шарики и крупинки, ртутные шарики скользят по столу и вдруг, скатившись в один угол, влипают друг в друга, снова образуя первоначальную каплю. Так блуждают по питерским пустеющим улицам, иногда сходясь вместе, историки и поэты, писатели, философы и художники, искусствоведы и критики, музейщики, книжники и театралы, в сопровождении учеников и соглядатаев — ядро, сердцевина Петербурга, окруженная кольцом митингующих фабричных окраин и замешанная безликим сплавом горожан, маски которых стерты страхом и лишениями. Гений продрогшего, оскудевшего города еще парит на подбитых крылах — над скелетами домов, над чугунными призраками памятников, над туманом лондонского Сити.
Блуждают бесцельно и вдохновенно, а по ночам записывают в дневники — раздумья и встречи своих блужданий. Само собой разумеется, по целому ряду причин дневники эти долгие годы останутся неопубликованными. Но когда, наконец, они увидят свет, читатели с удивлением отыщут там нежные и трогательные страницы, посвященные Нусе Струковой, так как составители дневников часто заходили во время скитаний в ее маленькую квартирку, которую все называли гарсоньеркой. О Нусе пишут с лаской и любовью, как пишут о детях; память о ней сохранится незачерненной в истории неповторимых петербургских лет. В тишине своей гарсоньерки Нуся позировала художникам, открывая розовое, почти девичье тело и мирно беседуя о пайках; поэты читали ей вновь сочиненные стихи, и Нуся простодушно смеялась, уверяя, что ничего не понимает в поэзии и любит «Парус» Лермонтова. Нуся садилась на колени к седому, страдающему одышкой очкастому историку и, целуя его в небритую щеку, расспрашивала о Распутине и о Шарлотте Кордэ, причем нередко, слушая рассказ, начинала дремать, опустив голову на плечо историка, бережно прижимавшего Нусю к себе, как дедушка внучку. Книжники толковали ей о преимуществах первого издания над последующими — Нуся охотно соглашалась, не ища возражений. Театралы, размахивая руками, говорили о новых формах сценической площадки, о преодолении рампы и занавеса, о Гордоне Креге и Адольфе Аппиа — Нуся отвечала, что с тех пор, как уничтожили петербургскую оперетку, театр для нее — не существует. Музейщиков и философов Нуся совсем не слушала, обращаясь к ним так: «мои милые гробокопатели» или «товарищи романогерманисты»… У Нуси Струковой были любовники, но были они из числа тех, кому некогда заниматься скитанием и думать о составлении дневников.
17
Нуся Гаврилова за два года до революции, не окончив Смольного института, пепиньеркой вышла замуж за морского офицера Струкова. Выходя замуж, она уже не была невинна, как и большинство ее одноклассниц, за исключением Гали Латунской, Шуры Степной и самой богатой воспитанницы в институте, Леки Бауэрмейстер (в военные годы — Плотниковой). Над Галей и Шурой подруги подтрунивали открыто, над Лекой — тайно, так как ореол богатства, парная карета, приезжавшая за ней по субботам и впоследствии замененная бенцевским лимузином, представлявшим собою помесь той же парной кареты с железнодорожным вагоном 40-х годов, ежедневные коробки с шоколадом и засахаренными фруктами, поездки за границу и балы с дирижером танцев из императорского балета и струнным оркестром, дававшиеся в доме Бауэрмейстер, — ставили Леку в исключительное положение среди ее подруг: в институте она держалась высокомерно и недоступно, получала лучшие отметки и часто завтракала у начальницы, а приглашая к себе по праздникам институток, обращалась с ними как с бедными родственницами, принимая от них преданную услужливость и обожание. Подруги называли Леку Бауэрмейстер «княжной Джавахой».
Девичья невинность считалась среди пепиньерок признаком отсталости, а во время войны, когда столько офицеров нуждалось в женском участии и наградах за страдания на фронте, — клеймом непатриотичности. Лека Бауэрмейстер — другое дело: она стояла выше человеческих страстей и, конечно, выше войны. Она берегла свою девственность как драгоценность, недосягаемую для смертных; ее жених будет существом почти неземным или, по крайней мере, обладателем замка на Рейне.
Первым любовником Нуси Гавриловой был армейский поручик, раненный в плечо и награжденный Георгием. Второй был только опереточным баритоном, но в дортуарных шушуканьях именно он занимал первое место, тем более что скучный академический долг по отношению к родине и Святому Георгию четвертой степени был уже отдан, и никто не смел требовать, чтобы молодая девушка жертвовала своей личной жизнью до конца. Третьим любовником стал жених и будущий муж Нуси Гавриловой, морской офицер Струков. Выйдя замуж, Нуся Струкова сохраняла безупречную супружескую верность, несмотря на длительные боевые отлучки мужа и все осложнявшуюся жизнь в Петербурге. Даже настойчивые домогательства совершенно неотразимого гвардейского корнета, барона Корфа, — душки, адски шикарного, шикозного типа и просто шико — оказались тщетными. В 1918 году барон Корф служил переводчиком при Совнаркоме, а Струков содержался в тюрьме Петербургской Чрезвычайной Комиссии как заложник буржуазии. Два раза в неделю Нуся Струкова относила передачу на Гороховую, стояла в очереди, расспрашивала, потом молилась у себя дома и у Знаменья, молилась горячо, как умела, со слезами на глазах. Но, вероятно, бог туговат на ухо: он не услышал и этой молитвы. Когда Струкова расстреляли, Нуся решила мстить большевикам. Она долго обдумывала свое решение и наконец выбрала месть, которая неминуемо приходит на ум каждой женщине ее возраста и о которой Нуся уже слыхала где-то когда-то или прочла в каких-то книжках; месть, казавшуюся ей наиболее осуществимой, романтической и жестокой: Нуся заразится дурной болезнью и, отдаваясь большевикам, будет распространять среди них заразу. Однако большевики встречались крепкие, здоровые, и Нуся никак не могла заболеть. Озлобленный и презрительный чекист, однажды на Гороховой сказавший Нусе Струковой: «Передач больше не таскайте, они ему уже не нужны», этот чекист был настолько страшен черным кружком в глазу, шрамом на скуле и согнутой на всю жизнь беспалой рукой, что Нуся Струкова, вспомнив о нем, содрогнулась при мысли, что именно он может явиться тем человеком, которого она искала. Оставаясь глубоко искренней в своем решении, она принадлежала к тому виду самоубийц, которые, боясь утопиться в реке, потому что вода холодна, наполняют свою ванну теплой водой и прежде, чем войти в нее, смачивают голову. Тем не менее всякое заранее обдуманное самоубийство, даже самоубийство перед казнью, есть проявление мужества, и люди, упрекающие самоубийц в малодушии, никогда не бывают справедливы. Мужество Нуси Струковой было вполне достаточным для молодой женщины, не окончившей Смольного института. Поборов в себе чувство отвращения, Нуся все же отправилась в приемную Чрезвычайной Комиссии, заговорила о чем-то с Панкратовым и даже улыбалась, приоткрывая свежий и влажный рот, — улыбаться было стыдно и нестерпимо мучительно. Панкратов прервал ее:
— Гражданка, не болтайтесь попусту. Изложите письменно.
Облегченно вздохнув, Нуся ушла и больше никогда не встречала Панкратова… Любовники Нуси Струковой, оставаясь у нее на ночь, надевают шелковую пижаму ее мужа. Один приносит «пожрать», другой вино и кокаин, третий присылает воз распиленных досок, четвертый — ордер на шубу. На дверях гарсоньерки висят охранные грамоты Балтфлота и Публичной Библиотеки, в спальне у Нуси топится изразцовая печь, в гостиной — камин. Нуся выходит к любовнику из жарко нагретой ванны — в одном атласном кимоно и, распахнув его, ложится на коврике у камина. Доски трещат в огне. Нуся жмурит глаза и шепчет:
— Jе sais que j'tombe[13].
По улицам ходят вооруженные патрули, разъезжают броневики с пулеметами.
18
Лязгают в улицах броневики. Театры закрыты. Фонари не горят. Среди рабочих начинаются голодные волынки. Волынят, бузят и устраивают итальянку заводы и фабрики — Арсенал, Тентелевский, Треугольник, Сименс-Шукерт, Речкина, Керстена, Новый Леснер, Путиловская верфь, Обуховский, Экспедиция, Жорж Борман, Невская ниточная, Адмиралтейский, Кабельный, Артур Коппель, электрическая станция; бастуют Трубочный, Патронный, Лаферм, Балтийский… Волынщики требуют упразднения заградиловок, введения частной торговли и Советов без коммунистов. Военные курсанты и парткомитеты приводятся в боевую готовность. Зиновьев спешно выезжает в Москву. В его личном вагоне едет — «с оказией» — Коленька Хохлов. Зиновьев рассказывает Коленьке о Париже. У Зиновьева печальные глаза, редкие и ленивые движения рук. Он мечтательно говорит о Париже, прихлебывая чай. Он говорит о лиловых вечерах, о весеннем цвете каштанов, о Латинском квартале, о Женевьевской Библиотеке, о шуме улиц, и опять и опять — о каштанах весной. Зиновьев говорит о тоске, овладевающей им при мысли, что Париж для него теперь уже недоступен. Зиновьев живет в «Астории», перед ней на площади — Исаакиям, похожий на парижский Пантеон, построенный из сажи, купол которого видел ежедневно Зиновьев в окно своего отеля. У входа в Пантеон — зеленая медь роденовского «Мыслителя»… Над петербургским Пантеоном плывет холодный, желтый туман. В тумане маячат бесплотные контуры, вырезанные из картона подобия людей, серые, бесцветные, недокрашенные. Они движутся как заводные куклы. Они маячат в туманных улицах города, как куклы в комнате игрушечного мастера Калеба. Нуся Струкова в гарсоньерке, насвистывая «Интернационал», разглаживает пижаму своего мужа.
У Чарльза Диккенса спросите, Что было в Лондоне тогда — Контора Домби в старом Сити И Темзы желтая вода… —так читает вполголоса озябший политрук пробираясь в тумане, и ямбы опадают к ногам оранжевым листопадом, и — пока в квартире доктора Френкеля гости отгадывают смысл советских сокращений (Р.С.Ф.С.Р. означает: «Разная Сволочь Фактически Сгубила Россию»; Совнарком означает: «Совет Народных Комиков»; ВЧК — «Век Человеческий Короток»; ВСНХ — «Всероссийский Слет Новоиспеченных Хапуг»; РКП(б) — «Редкая Картина Подхалимства (безграничного)» или «России Капут Пришел (безусловного)» и т. д.), пока гости пробавляются отгадыванием, заменившим распространенную игру в шарады, пока — в угоду дочкам Френкеля и бабушкам — ведутся разговоры о балете, об императорском Театральном училище, о выездах юных воспитанниц на дворцовой линейке, о Петипа и Чекетти, о Павловой и Карсавиной, о парижских триумфах и превосходстве классики над пластическими импровизациями Дункан, — в передней раздается громкий звонок хозяина. Девочки, тетки и гости выходят навстречу. Горничная в белой наколке раскрывает дверь. Губы доктора Френкеля трясутся; трепещет на переносице золотой кузнечик пенсне. Доктор Френкель гол, окончательно гол, даже исподнее белье не прикрывает его тела. Черной дорожкой бегут по животу волосы. Но никто, ни один из присутствующих не сумел принять докторскую наготу по-андерсеновские: за новое платье. А между тем это было бы не так далеко от истины. Они слушают его несвязный, дрожащий рассказ, и мохнатый халат, наброшенный на плечи, уже теряет свою непроницаемость, и розовые платьица девочек растаивают, как призраки, а за холодным, желтым туманом города незаглушимо шумит человеческая жизнь — прекраснейшая из рек, и взволнованный рассказ доктора Френкеля тускнеет с каждым словом… На другой день в «Известиях» пишут: «По дороге в Москву тов. Зиновьев бодрствовал до 5 ч. утра, работая над материалами для своего доклада Х-му съезду партии». Заметка эта не вполне соответствовала действительности: в своем вагоне Зиновьев до 5 ч. утра говорил с Коленькой Хохловым о Париже — об уличной жизни, о коричневой листве Люксембургского сада, о раздумье японских юношей над французскими томами химии и философии, о золоте рыб в темной влаге фонтана Медичи, об эмигрантских спорах за бутылкой вина, о том, как Ленин бегал на уголок за последним выпуском вечерней газеты. В 5 часов утра Зиновьев сказал: «Айда спать!» — и тут же заснул, не раздеваясь.
19
Подобно всем историческим процессам, война — и тем более война гражданская — подчинена закону инерции. Поэтому никто не удивился, когда в Кронштадте заговорили пушки. Орудия глухо вздыхали где-то в стороне залива, петербуржцы прислушивались к ним, останавливаясь на улицах, перешептываясь в очередях или открывая фортки своих окон, прислушивались без удивления без страха и без надежд. Какие еще испытания, какая радость могли принести эти новые выстрелы, новая кровь на льду. С наступлением ночи, когда гасло электричество, петербуржцы, забыв о Кронштадте, забыв о пушках, ложились спать, голодные, как всегда, и равнодушные. Больные умирали; роженицы рождали мертвых и недоносков — без волос, без ногтей, рахитиков и слепцов; любовники целовались. Падал сырой, предвесенний снег; от корней дерев, еще убеленных зимой, подымались по стволам соки возрождения…
В квартире на Фурштадской среди книг, разбросанных повсюду, Коленька Хохлов, писатель Апушин, хранитель музея Генрих Адамович Штеккер, профессор Института Мастеров Сценических Постановок Сашура Гольцев, комментатор Аристофана Яков Платонович Вотье, два Серапионовых брата и две машинистки — Люся Ключарева и Липочка Липская — слушали удары канонады, читали ультиматум Троцкого и взвешивали силы обеих сторон, когда появился, почти вбежал журналист в матросской шинели.
— Товарищи! — воскликнул он. — Я принес вам самую свежую новость: тустеп умер, да здравствует фокстрот!
Журналист присел к роялю и исполнил первый советский фокстрот:
…Так неслись они, Погасив огни, Пенную стихию рассекая, Мичман у руля, В рубке корабля, Правил, песню Джанны напевая: — Терпи немного, Держи на борт, Ясна дорога, И виден порт, Ты будешь первым, Не сядь на мель! Чем крепче нервы, Тем ближе цель!..Обернувшись к собравшимся, он прибавил:
— Если бы очаровательную Наташу не застукали на границе, мы могли бы с успехом выступить с ней в Доме Литераторов. И только после того, как все разошлись, потому что ни у кого не было ночного пропуска, пришел Дэви Шапкин, у которого пропуск имелся.
— Знаешь что? — сказал Шапкин. — О падении Кронштадта бабушка надвое сказала. Мне что-то не нравится. Шапкину что-то не очень нравится. Такого кацапского дворянчика, как ты, я знаю, пальцем не тронут. Я бы хотел на эти дни поторчать у тебя. Ты понимаешь: мне же нужно сохранить себя для революции.
Коленька Хохлов приподнял угол скатерти и, показав под стол, ответил:
— Лезь.
20
Квартирка Нуси Струковой пропахла эфиром. Человек десять, тесно прильнув друг к другу, лежат поперек дивана. Женщины полураздеты, платья их расстегнуты, ноги не прикрыты. Время от времени отдельные пары уходят в соседнюю комнату, даже не притворив за собой дверь. Вернувшись, снова ложатся на диван и капают эфир на вату. На ковре у камина в полузабытьи дочка священника Триодина целуется с балериной Герц. Через них шагают люди в крагах и кожаных куртках. Балерина Герц встает, потягивается, скидывает с себя юбку и вновь опускается рядом с Триодиной. В соседней комнате тлеет фитилек в банке из-под лавровишневых капель, тонет в зеркале шкафа, смутно отражающем раскинутые женские ноги и над ними красное комиссарское галифе; в гостиной колышется слабое зарево камина, вспыхивают фиолетовые протуберанцы. С улицы доносится далекий гул канонады.
В два часа ночи под окном рявкает автомобильный гудок.
— Пора, — говорит Юрик Дивинов, — сегодня к утру мы возьмем Кронштадт.
Коленька Хохлов приподымается на локтях:
— Ты уверен?
— Ступайте к черту с вашим Кронштадтом! — кричит Нуся Струкова. — К черту, к черту, к черту!
— Хочешь пари? — продолжает Дивинов. — Застегивайся, в машине места хватит.
Ночь холодна, мартовский ветер влажен. Торпедо, увеличивая ход, вырывается за город. Дивинов, под действием кокаина, возбужден до крайности. У Хохлова на свежем воздухе начинается похмелье, слабость и головокружение; привкус эфира вызывает тошноту. Коленька старается сидеть неподвижно. Ему кажется, что он сделан из тонкого стекла, звенящего при соприкосновении с ветром. На поворотах Коленька испытывает ужас от сознания собственной хрупкости: Коленька может рассыпаться, как елочный шар. Дома и вооруженные отряды пролетают на качелях. Две-три звезды-сверкающие рыбки — ныряют и плавают в небе. Ночь построена из хрусталя, она так же холодна и непрочна, как Коленька.
Дивинов не умолкая говорит о том, что он назначен комиссаром южной части Кронштадта, о ледяном походе, о расправе с мятежниками, о приказе командарма Тухачевского «стремительным штурмом овладеть крепостью». Коленька чувствует приступ рвоты и с величайшей осторожностью, боясь расколоться, перегибается за борт машины… В Ораниенбауме надевают белые халаты, сходят на лед и молча начинают двигаться к Кронштадту. Браунинг зажат в руке. Стеклянная мартовская ночь едва мерцает рассеянным лунным светом. Дивинов и Коленька идут сзади цепи. Дивинов слизывает с ладони щепотку кокаина. Коленька с удивлением, страхом и скукой думает о том, зачем и каким образом попал сюда. Коленька нащупывает под ногами воду, лед трещит. Всплывает влажное, ветреное, весеннее слово «полынья», но теперь оно проносится страхом — на черных крыльях; промелькнул в извилинах памяти ушастый юноша, поспешающий за сорванной ветром кепкой; выросла на мгновение и растаяла прозрачная, стеклянная Биржа. Коленька шарахается в сторону, на крепкий лед, и вдруг слышит искаженный до неузнаваемости голос — почти мычание — Дивинова. Коленька догадывается: Дивинов тонет, провалившись в полынью, и, захлебываясь, силится крикнуть о помощи. Но сквозь догадку мелькает мысль, даже не мысль, а возможность мысли: ведь я мог и не услышать? И в самом деле, мог ведь Коленька Хохлов не услышать страшного мычания Дивинова! Все сильнее овладевает Коленькой ощущение невесомости и полета, похожее на сон. Не оглянувшись, Коленька бежит, уторопляя шаги, вдогонку далеко ушедшей вперед белой цепи курсантов. Предсмертный дивиновский крик удержался в ушах; Коленька бежит от него, не чувствуя своих движений, леденящий призрак сна, пронизанный криком смерти, сопутствует ему. Ускоряя полет, Коленька молит о забытьи, о безмолвии настоящего сна, который нисходит к человеку неслышно и просто с гор, с холмов, как Христос в картине Иванова…
Цепь незамеченной минует форты и с криком «ура» врывается в кронштадтские улицы. Крики больно бьют о стекло. Коленька закрывает глаза. Орудийная, пулеметная, ружейная пальба теперь повсюду. В хрустале играет мартовское утро. С браунингом в руке Коленька недоуменно стоит у забора, читая приклеенный к нему газетный лист:
«СПАСИБО!
Неизвестной гражданкой было предоставлено 2 фунта конины в распоряжение Ревтройки Мор. Отр. Пер. Б. ф. Моряки приносят сердечную благодарность сознательной гражданке. Каждому из нас видно, что великолепная незнакомка разделила с моряками столь драгоценный лакомый кусок. Пусть же партия предателей и лжецов трепещет перед единою братской семьей Кронштадта!»
Уличные бои развиваются. Желтый дым заволакивает людей и дома, желтый дым грохочет, наполненный голосами… Искусствоведы в молчании перелистывают страницы книг, отражаясь в стеклах ясеневых шкафов гравюрного кабинета. Сторож дремотно проходит по залам. В комнате, проникнутой тишиной и утренним светом, на плюшевом диванчике сидит, улыбаясь, девушка; проношенные ботики оставляют на полу влажные следы растаявшего снега; она, вероятно, пришла на свидание, она улыбается своим мыслям в тишине светлой музейной залы. Согнувшиеся над рекой, застывшей навсегда в зеленом, синем, лиловом волнении, рабы поворачивают головы в сторону далеких холмов, с которых, как умиротворяющий сон, спускается маленькая человеческая фигурка. Синее, нежное небо, прохлада кущ, фисташковые складки одежд. Девушка в ботиках смотрит на немощное тело старца; перед ней, заслонив на мгновенье картину, проходит ранний, застенчивый посетитель, держа картуз красной дырявой варежкой и стараясь ступать как можно бесшумнее… Нуся Струкова, истерзанная любовниками, просыпается с болью в висках — кровать, измятая, как старость. Газеты кричат о победе: примерзший волосами и ладонью правой руки ко льду, Юрик Дивинов выиграл свое пари.
С горстью беглецов — главарей восстания и военных инженеров — отступает к финскому берегу конструктор Гук.
Глава 5
1
— Признайтесь, товарищ Антипов, с кем это вы вчера развели щупензон в кино? Такая белобрысенькая?
— Ничего подобного! Эта барышня будет нашему сослуживцу крестница, товарищ Сима Кузнырь.
Разговор происходит на лавочке, на Садовой Кудринской. Нэп украшает Москву: столица — в улыбке. Труба, Сухаревка, Смоленский рынок, Охотный ряд завалены товарами — осетрина, балычок, курятина, масла, крупчатка, зелень, шерстяные носки, английский коверкот, горячие пирожки с луком, остатки сытинских книжонок с картинками, щеглы, чижи и канарейки, николаевские паспорта и комнатная дребедень. Снуют в толпе новой масти банкиры: «Куплю — продам червонцы, доллары, фунты!» В цвету сирень и черемуха; во дворах и двориках желтеет пряная запахом ромашка. Солнечные бусины прыгают по церковным куполам. Под куполами встречаются новые раскрашенные вывески: «Клуб имени Дзержинского», «Киностудия Краснопресненского райкома», «Бурято-сартская секция безбожников»… Россия взрыта и перепахана. Петербург протирает глаза после летаргии. Американским пластырем заклеены чудовищные раны Поволжья. Снова бегут пароходы — Нижний, Работки, Исады, Бармино — на койках первого класса лежат в сапогах преды, зампреды, хозяйственники, красные купцы. Как встарь, сбегаются на пристани босоногие девчонки с лесной земляникой на блюдцах, бабы с варенцом и зажаренной рыбой. Возвышаются на берегах горы порожних ящиков с трехбуквенным клеймом «АРА»; у сходней чекисты в лиловых фуражках проверяют билеты, командировки, мандаты. Сирень, черемуха, березы, крапива, лопухи, пушисто-белые небесные стада. В Нижнем Новгороде открывается первая советская ярмарка — по слову Ленина: «Учитесь торговать». Главный Дом подчищен и подкрашен, и по всему городу, до вокзального буфета включительно, развешан манифест «От Лиона до Нижнего». Правда, на ярмарке в Нижнем, кроме портретов вождей, кишмиша и громкоговорителей, ничего не оказалось, но зато на отмелях Оки, на «Песках», снова готовят пельмени с перцем. Прилетают из Москвы немецкие «юнкерсы» Добролета, сверкая гофрированной сталью; пятнистая корова на аэродроме отдыхает в тени огромного плаката «На самолет, пролетарий!». Присев на корточки за пустыми пакгаузами, под мостами разрушенных товарных пристаней, грузчики-персы волжской водой совершают обряд омовения.
Петербург едва пытается шевельнуть отмороженными пальцами, но Москва уже в полном благодушии. Россия вспахана военным коммунизмом, пахарь отирает пот со лба; все корни выкорчеваны, пласты перевернуты, выжжены пни, отсеяны камни — пусть кормилица отдохнет, постоит под паром: завтра начинается сев. Москвичи ходят в театры, в Художественный и к Коршу, заполняют кино, ведут беседы на скамейках бульваров кольца А и кольца Б, едят мороженое на углах, любуются витринами Белова и Елисеева. Имажинисты открыли книжную лавку, кавказцы открыли духаны, чекисты открыли кабаре «Ампир» и карточный клуб у Зона, громилы, переодевшись лихачами, выстроились у Страстного монастыря — на его стенах увековечены имена Спартака, Марата, Маркса и Ленина, Демьяна Бедного, Коперника, Вагнера и Сезанна…
Разговор на скамейке:
— Настоящий талант всегда бывает скромен. Проституировать музу нельзя. Нашей молодежи следует поучиться смиренномудрию у корифеев отечественной литературы. Конечно, среди поэтов новой школы — факт, что есть талантливые люди. Вот, например, Маяковский: назвал Зимний дворец «макаронной фабрикой» — заметьте, что колоннада дворца фактически смахивает на макароны. Рифмы тоже бывают удачные. Великий Кольцов плохо владел рифмой, почему и писал белыми стихами. Впрочем, рифмы Маяковского можно слушать, но при чтении ровно ничего не получается, факт.
— Имажинисты, имажинята, телята, щенята, сосунки!
— Почитать бы теперь, например, Сенкевича! Замечательно, как он «Камо грядеши» развернул! Вы любите, конечно, Сенкевича?
— Нет. Не люблю. Вообще из классиков я предпочитаю Гончарова и этого, как его, Писемского.
— Эх, милый товарищ, книга — великая вещь, незаменимая обстановка для кабинета, особенно в хороших переплетах. В былое время, помните, можно было подыскать кабинетик — письменный стол, кресло сафьяновое, качалку, канапе и полки, полки — рублей за 500, факт.
— А не угодно ли за 200? Полный гарнитур.
— С качалкой?
— С качалкой.
— Те-те-те…
Зеленый туннель бульваров тянется от переезда до переезда. На скамейках ведутся по вечерам негромкие разговоры.
— Пойдем хлебнуть холостого чайку с Ландрином?
— Мерсите, эту жижу я и дома вижу.
Бренчат трамваи кольца А и кольца Б, летний вечер зеленеет. Освещаются программы кино: «Индийская гробница», «Доктор Мабузо», «Авантюристка из Монте-Карло», «Остров погибших кораблей», «Кабинет доктора Калигари»… На лавочке у ограды старушка ищет у себя за воротом, приговаривая:
— У, расскакалась, кобыла толстопятая! Ужо я тебя, погоди!
Россия переключилась на строительство. Людей в кожаных куртках сменили люди с портфелями.
2
Петербург похож на римского воина, высеченного из мрамора, и — на оловянного солдатика в желтом золоте кавалергардской формы. В революцию стал похож Петербург на умирающего гладиатора: мрамор, застывший в падении; на мраморной груди — струйка живой, горячей крови; к щеке, к плечу, к бедру — белый на белом — прильнул снег, красная кровь стекает на снег пьедестала.
Москва — летом — похожа на игрушку монастырского изделия; зимой Москва — фигурный мятный пряник. Не все ли равно — зима, лето ли? Москва прекрасна, никакое время года не в силах подточить ее красоту. Розовый, горящий, ослепляющий снег. В розовом пылании зимняя Москва. На лотках продавались когда-то розовые мятные пряники. На Рождество в окнах свистящей полозьями ночной Москвы когда-то мигали огни зажженных елок. Теперь продажа елок запрещена: религия — опиум для народа. Никакого Сына Божия не было. Родился простой внебрачный еврейский мальчик… Впрочем, и теперь кое-где, в разрез штор, можно было подглядеть огоньки восковых рождественских свечек на темно-зеленой хвое: особый грузовик Моссовета развозил елки по квартирам иностранцев, проживавших в Москве. «Иностранцам — елки, а русским — палки», — острили завистливые и ничем не довольные советские граждане.
Окутав ноги леопардовым пледом, едет в извозчичьих санках по розовым московским ухабам Айседора Дункан — малинововолосая, беспутная и печальная, чистая в мыслях, великодушная сердцем, осмеянная и заплеванная кутилами всех частей света и прозванная Дунькой в Москве. Дэви Шапкин, мечтавший аккомпанировать Айседоре на ее выступлениях, не дождался ее приезда: он разминулся с ней в пути, уезжал в заграничную командировку на предмет ознакомления с новейшими завоеваниями европейской музыки. Айседора Дункан платит извозчику, плохо разбираясь в дензнаках, и, предложив ему самому взять из сумочки сколько следует, откидывает полость низких санок и входит в подъезд. В особняке на Пречистенке, в зале, завешанной серыми сукнами и устланной бобриком, ждут Айседору ее ученицы: в косичках и стриженные под гребенку, в драненьких платьицах, в мятых тряпочках — восьмилетние дети рабочей Москвы, — с веснушками на переносице, с пугливым удивлением в глазах. Прикрытая легким плащом, сверкая пунцовым лаком ногтей на ногах, Дункан раскрывает объятия, как бы говоря: придите ко мне все труждающиеся и обремененные! Голова едва наклонена к плечу, легкая улыбка светится материнской нежностью. Тихим голосом Дункан говорит по-английски:
— Дети, я не собираюсь учить вас танцам: вы будете танцевать, когда захотите, те танцы, которые подскажет вам ваше желание, мои маленькие. Я просто хочу научить вас летать, как птицы, гнуться, как юные деревца под ветром, радоваться, как радуется майское утро, бабочка, лягушонок в росе, дышать свободно, как облака, прыгать легко и бесшумно, как серая кошка… Переведите, — обращается Дункан к переводчику и политруку школы товарищу Грудскому.
— Детки, — переводит Грудский, — товарищ Изадора вовсе не собирается обучать вас танцам, потому что танцульки являются достоянием гниющей Европы. Товарищ Изадора научит вас махать руками, как птицы, ластиться вроде кошки, прыгать по-лягушиному, то есть, в общем и целом, подражать жестикуляции зверей…
… На Пасху тоже было запретили подвоз творога, но в Страстную пятницу самые настоящие пасхи — с цукатами и ванильным порошком — неожиданно показались в окнах государственных продуктовых магазинов. Назывались пасхи «творожными пирамидками», что вполне соответствовало действительности, а так как новых деревянных форм изготовить не удалось, то сохранились на пирамидках и выпуклые буквы «Х.В.». Однако читались эти буквы по-новому: «Хозяйство Восстанавливается». Советским гражданам предлагалось приветствовать друг друга возгласом:
— Хозяйство Восстанавливается!
И отвечать:
— Воистину Восстанавливается!
3
Семка Розенблат служит в одном из московских главков в качестве последней спицы в колеснице торгового сектора. Семка Розенблат, однако, не отстает от моды: он бреет лицо и голову, и его череп, прикрытый на затылке татарской тюбетейкой, блестит от загара; роговые очки, портфель, парусиновая толстовка, чесучовые панталоны и сандалии на босу ногу придают внешности Розенблата деловую сановитость, свойственную ответственным работникам. Когда Семка Розенблат идет по улице, прохожие так и думают про него (одни — со злобой, другие — с завистью, третьи — почтительно): вот идет ответственный работник. У Розенблата вообще чрезвычайно острое чувство мимикрии, но внешность его меняется не умышленно — с какой-нибудь предвзятой мыслью, а так же естественно и незаметно для самого себя, как это происходит в природе. Семка Розенблат внушает к себе уважение. Не подвержена такому внушению только Евлампия Ивановна Райхман, квартирная хозяйка. Ей доподлинно известно, что у Розенблата — грош в кармане и вошь на аркане («слава Богу, кажется, не тифозная!») и, следовательно, уважать его не за что; Евлампия Ивановна презирает Розенблата, как неудачника. Разве только в некоторых жизненных мелочах, приобретающих, впрочем, немаловажное значение в уплотненной квартире, проявляется его полезность: так, Семка Розенблат починил все электрические выключатели, раздобыл где-то новую дверную ручку, поправил английский замок, приколол в уборной красиво разрисованные плакатики с серпом и молотом:
«Напоминаем гражданам, что уборная — не выгребная яма». «Просим граждан без дела за цепочку не дергать: клозет не персимфанс».
Голова Розенблата ясна, его мозг не знает усталости. Розенблат работает. Лучше всего работается по утрам. Презрение Евлампии Ивановны Райхман, мухи над столом в торговом секторе главка, рваное белье, истыканное английскими булавками, безденежье — мимо них проходит Семка Розенблат. Нэп подсказывает простое решение: Семка, заделайся частником! На этот путь вступили десятки дельцов, хорошо знакомых Розенблату, но он не так наивен, и к тому же торговлишка, разрешенная декретом, — слишком узкое поле деятельности: Семка Розенблат отбрасывает в сторону мелочи жизни, и его внутреннему взору раскрываются необычайные дали борьбы и побед. Лучше всего работается по утрам, когда жильцы уплотненной квартиры разбредаются по местам службы, а спекулянт Тищенко еще лежит в постели; в эти часы Евлампия Ивановна Райхман, побелившись рисовой пудрой в передней перед трюмо, отправляется по делам к коменданту дома, и даже из кухни не доносится шипение примуса. Чтобы скрыть свои опоздания в главке, Семка Розенблат уговорился с курьером торгового сектора Фонвизиным: обязался Фонвизин, за небольшое вознаграждение, каждым утром класть на канцелярский стол Розенблата зажженную папиросу; папироса теплится неугасимой лампадкой, приходит начальник, приходят сослуживцы, и каждый видит: на столе товарища Розенблата курится папироса, значит, Розенблат уже давно здесь и, вероятно, отлучился куда-нибудь по делам службы, с докладом, или за подписью, или, в крайнем случае, в уборную. А тем временем в тишине и одиночестве опустевшей квартиры Евлампии Ивановны Райхман Семка Розенблат, склонившийся над тетрадкой, пишет, перечеркивает, сокращает, переписывает заново целые страницы, дымя такой же папироской «Прана», как и та, что тлеет на его столе в канцелярии главка.
Однажды утром, перечитав в последний раз переписанные начисто страницы, Семка Розенблат вложил их в конверт из газетной бумаги и отправил по почте на имя Владимира Ильича Ленина. Прямо самому Ленину и прямо в Кремль. Кто-нибудь другой на месте Семки Розенблата давно бы уже наболтал повсюду невесть чего о таком удивительном случае, как личное письмо к Ленину. Но Розенблат был человеком положительным, дальновидным и не мелочным, пустословие его прельстить не могло. Всю последнюю неделю, напротив, он был молчаливее обыкновенного. Когда Евлампия Ивановна Райхман, постучав в дверь, вошла в его комнату, Розенблат лежал на диване, гадая, сколько времени придется ему ждать ответа на письмо, — в получении ответа он не сомневался.
— Желающих участвовать на пипифакс в уборной, благоволите записаться, — степенно произнесла Евлампия Ивановна, держа в руке листок бумаги.
— Через недели две! — воскликнул Розенблат, думая о письме. — Вы это понимаете, мадам Райхман?
— Я вас не понимаю, — ответила Евлампия Ивановна и вышла из комнаты.
4
С утверждением нэпа письма стали доходить по назначению. Письмо Семки Розенблата попало в руки Ленину. В сжатой форме, но со всеми необходимыми подробностями и нужным количеством цифровых данных Розенблат доказывал Ленину, что для полного торжества червонца необходимо начать замаскированную биржевую игру за границей. Советская Россия, говорилось в письме, обладает достаточным запасом иностранной валюты для того, чтобы влиять, при умелой игре, на финансовые взаимоотношения европейских держав и таким образом создавать для себя наиболее благоприятную политико-экономическую обстановку. «Глубокоуважаемый Владимир Ильич, — заканчивал Семка Розенблат, — предоставьте мне маленькую свободу действовать. Поверьте, что нюх не обманывает Семена Розенблата. У него тоже была своя „Контора Коммерческой Взаимопомощи“, которая приносила недурной доход. Розенблат не сбежал за границу, но предлагает Вам свои услуги, потому что опыт и нюх говорят ему: Розенблат, будущее принадлежит Советам! Товарищ Ленин, я даже заявляю Вам, что Европа только мост, Советы догонят и перегонят Северную Америку!»
Заключительная фраза особенно понравилась Ленину. Впоследствии, произнеся ее во всеуслышанье, Ленин забыл, ввиду крайней своей занятости, упомянуть источник, откуда был извлечен этот лозунг. Ленин внимательно перечитал письмо, улыбнулся и направил его наркому финансов, приписав на полях: «Крайне важн. инт. сообр. Предлагаю не теряя вр. в полнобъеме высл. гр. Розенбл. лично. Ленин». Насколько удалось проверить, настоящая приписка еще не вошла в полное собрание сочинений Ленина, хотя ее ценность в деле раскрытия ленинского литературного стиля неоспорима. Письмо Розенблата с собственноручной пометкой Ленина до сих пор хранится в личном архиве бывшего наркома финансов в числе других реликвий эпохи.
На другой день посыльный Наркомфина вручил Розенблату повестку, приглашавшую его явиться на прием. Семка Розенблат долго колебался — надеть ли татарскую тюбетейку или нет, потом решительно укрепил ее на загорелом затылке и, выходя, загадочно шепнул квартирной хозяйке:
— Это только цветочки, а ягодки по осени считают.
— Мосье Розенблат, я вас не понимаю в последний раз, — сказала Евлампия Ивановна Райхман.
Нарком финансов, молодой человек с тщательно закрученными усиками и шекспировской бородкой, принял Розенблата. Беседа продолжалась недолго, но закончилась ко взаимному удовлетворению. Розенблат назначается агентом Секретного Валютного Фонда СССР. Знаменитый портной Наркоминдела, тот самый портной, что сшил исторический фрак Чичерина, одевает с ног до головы Семку Розенблата. Во время примерок ведутся легкие разговоры. После нескольких лет хождения в заплатанных и лоснящихся штанах, в порыжевшем пиджаке, потерявшем подкладку, в проношенных валенках и, наконец, в толстовке и сандалиях — особенно приятно стоять полураздетым в чистом заграничном белье, под внимательным и как бы ласкающим взглядом кудесника, способного своим искусством переродить человека. Холодная лента аршина скользит вдоль плеч, обнимает поясницу, грудную клетку; валики шевиотовых отрезов на полках до потолка, министерская тишина в комнате с кожаными креслами и тройным зеркалом, летний зной за окном.
— Материя ваша — прямо не материя, а сливочное масло, — говорит портной, — такой материи нет даже у моего швагера Мушкуровского из Варшавы. Дипломатия теснейшим образом связана с портным. Обратите внимание, товарищ Розенблат: международный эквилибр в значительной мере зависит от нашего ремесла. Так или не так? Возьмем хотя бы этот лучший пример с товарищем Чичериным.
— Я позволю себе с вами согласиться, дорогой товарищ, — отвечает Семка Розенблат, — хотя бы этот случай с товарищем Чичериным.
— Вообразите себе, — продолжает знаменитый портной, — вообразите себе, товарищ Розенблат, что вы едете в заграницу. Вы едете даже в Западную Европу. Мы, конечно, знаем, что в загранице отчаянно плохо, не нужно повторяться, из рук вон. Но там умеют шить первоклассные мужеские комплекты, несмотря на то что Европа разлагается.
— Несомненно разлагается… Между прочим, в плечах немного тянет, дорогой товарищ.
— О, совершенная пустяковина! Здесь, Рывкин, распустите чуточку шва… Вы прибываете в заграницу. По шубе встречают, по тройке принимают, а заговорить мы и сами сумеем. Возьмем хотя бы товарища Чичерина: это же гений… Жмет или не жмет?
— Не так чтобы очень.
— Рывкин, принесите фотографию фрака товарища Чичерина, которую с подписью. Хороший фрак есть половина хорошей дипломатии. Так или не так?
Через несколько дней, к полному недоумению Евлампии Ивановны Райхман, Семка Розенблат, одетый знаменитым портным, выехал в вагоне особого назначения за границу, снабженный неограниченными полномочиями и пятью паспортами на разные имена.
5
Положительно письма доходят по адресам! Из разных уголков советских е республик поступают подобные сведения. Письмоносцам сшили новую форму, на их фуражках появились молнии и валторна; вид письмоносца вызывает умиление, вселяет уверенность в том, что можно написать письмо, опустить его в ящик, причем ящик не станет его могилой, мусорная яма не будет его крематорием, и письмо окажется на столе почтовой конторы, работник почты поставит на конверте штемпель или несколько штемпелей, даже, пожалуй, больше, чем требуется, — но лучше поставить лишний пяток штемпелей и передать письмо по назначению, нежели сэкономить время и труд, потребные для штемпелевания, чтобы затем выбросить письмо в помойку. Одним словом, вид письмоносца вселяет уверенность, что лист бумаги, затраченный на письмо, не пропадет даром, что было бы само по себе досадным и преступным, и что письмо, хотя бы и прочитанное в дороге по мотивам чрезвычайного времени и государственной обороны, однажды попадет в руки того, кому первоначально предназначалось. Ирония — самый легкий и безответственный способ зубоскальства: она не может служить примером ни гражданской доблести, ни тонкого вкуса. Холодно обойдя недоброкачественную улыбку иронии, следует со всей серьезностью признать огромное значение почты и, следовательно, почтового ведомства в общественной и культурной жизни человечества. Ведь, в сущности, даже лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» может быть в известной степени понят так: пролетарии всех стран, пишите друг другу письма!
Хозяйство восстанавливается. Разумеется, возрождению почты содействовало главным образом введение новой обязательной формы для письмоносцев. Противники обязательной формы, к сожалению — слишком многочисленные, рассуждают под влиянием, часто — неосознанным, анархических инстинктов. Установленная форма одежды является в человеческой жизни мощным организующим началом. Человек, надевающий определенную форму, тотчас перевоспитывает самого себя, если, конечно, он представляет собой личность более или менее гармонически развитую, — и, с другой стороны, — сразу возбуждает к себе соответствующее отношение окружающих. В самом деле, чем иначе, кроме наличия формы, может быть объяснена волшебная сила городового, именовавшегося «фараоном»? Он приближается к толпе ломовиков, занятых мордобоем, и ломовики немедленно разбегаются врассыпную; а ведь достаточно удара кулаком в скулу, чтобы фараон был обезврежен. Отнюдь не намереваясь проводить параллель между городовым и милиционером революционной России, все-таки в данном случае и о нем приходится сказать то же самое. Покуда милиционер не носил формы, ему приходилось плохо. Он приближается к буянящему гражданину и делает ему замечание.
— А у тебя мандат есть? — возражает гражданин.
Милиционер предъявляет мандат.
— А может, я тоже с мандатом! — кричит гражданин и бьет несомненного милиционера в ухо.
И только надев установленной формы шинель и фуражку, милиционер, именуемый «мильтоном», стал действительным охранителем общественного порядка. Для соблюдения исторической точности следует указать, что первая в советской России обязательная форма была введена именно для милиционеров.
Вот почему, когда думаешь о кожаной куртке и желтых крагах комиссара времен военного коммунизма, о тюбетейке, портфеле, толстовке и сандалиях ответственного работника эпохи строительства или о фраке Чичерина, произведшем на Генуэзской конференции впечатление — как принято говорить — разорвавшейся бомбы, — мнение знаменитого портного наркоминдела о влиянии портняжного ремесла на международное политическое равновесие перестает казаться преувеличенным.
6
Письма подобны птицам. Когда они летают над сушей, они похожи на белых голубей; когда они летают над морем — они похожи на белых чаек… Письма доходят даже до заграницы. Так, в Берлине некая тетя Поля, женщина частная и беспартийная, получила письмо из Москвы:
«Дорогая тетя Поля!
Наверное, сразу не догадаешься, кто тебе пишет. Это Слава, которого ты 19 лет назад крестила и из которого сейчас получается автомеханик. Работаю сейчас мотористом. Думаю скоро пересесть на машину, немного поездить. Летом был в Казакстане у папы, но со скуки вернулся в Москву. Сейчас понемногу одеваюсь. Не собираетесь ли в Москву повидаться. Живем здесь здорово, строимся вовсю. Подъем могучий, но мануфактуры нехватка, тем худо. Несмотря на строительство костюм мой пришел в состояние, да и был он навырост. Прости, что так небрежно пишу, сижу в кино, жду встречи с одной Надей… увлечен! К тебе небольшая просьбица. Не вышлешь ли мне три маленьких вещички? У нас нет модных галстухов. Вышли мне 1 галстух расцветки вроде американского флага. Потом гетры, как футбольные, и какие-нибудь носки со стрелками. Кстати, можно ли из Берлина выслать ботинки на резиновой подошве? Во-вторых, вышли баночку чернил. Не оставь мою просьбу забытой.
Твой Слава. Р. S. Галстух попестрей!»Люди жестоки: тетя Поля даже не ответила.
Другое письмо, из Харькова, было получено в Москве также одним беспартийным семейством:
«Милые мои! Наконец-то мы получили от Вас долгожданную весточку. Как приятно узнать, что все вы живы, все вместе, как прежде, и вспоминаете нас. У нас все по-старому, живем ни шатко, ни валко. Бедный Никиша погиб от сыпного тифа. За что, спрашивается? Катюша, слава Богу, недавно вышла замуж, он хоть и еврей, но как человек, кажется, хороший. О чем писать? Все так однообразно из года в год, что, право, не хочется говорить об этом. Ваша весточка пришла как раз в тот момент, когда Володя вернулся со службы. Он так обрадовался, что схватил письмо и прочел его вслух. Мы все очень радовались, что у Вас все благополучно. Пишите почаще, как Ваши дела. Нет ли весточки от Павлуши? Продолжает ли Вика уроки рисования? У нас пока все слава Богу.
Целуем и ждем ответа…»Коленька Хохлов тоже получил письмо — от конструктора Гука из Франции. Конструктор Гук писал:
«Дорогой Николаша,
вот уже три недели как я здесь, а все еще не могу опомниться — такова вокруг красота! Я пишу у раскрытого окна, солнце опаляет лоб и плечи, под окном — зеленая пропасть в 300 метров глубиной, вся покрытая красной, розовой, белой гвоздикой. Яблони, вишня, миндаль, мимоза — в полном махровом цвету. В зелени — красные крыши беленьких игрушечных домиков, а дальше в легкой дымке — красавица Ницца — вся как на ладони, стесненная с одной стороны лиловыми Альпами, с другой — бесконечным, бледно-зеленым морем, уходящим вширь и ввысь до самого неба, и, наконец, это небо, такое легкое, необъятное и свободное, что невозможно надышаться! Вечером Ницца блестит огнями, как горсть драгоценных камней; в море мигают цветные маяки.
Я занимаю просторную, веселую комнату с ванной и горячей водой. С шести утра и до шести вечера солнце льется в окна. Рано утром мне приносят в постель кофе с сухарями, маслом и медом. Потом я встаю. В 11 принимаю солнечную ванну: лежу добрый час в костюме Адама, перевертываюсь с боку на бок, ветерок меня обдувает, солнце припекает, и я уже стал похож на копченого сига. В полдень — завтрак, затем я гуляю по холмам и гвоздичным полям, как всегда, философствую немного с природой, играю на припеке под яблонькой в шахматы с соседом, иногда спускаюсь пешком в Ниццу, к морю, зеваю по сторонам, любуюсь загорелыми, прекрасными женщинами (американки особенно привлекательны) и возвращаюсь на автокаре к вечернему столу. Потом мы читаем или беседуем (болтаем) в общем салоне, меня постоянно расспрашивают о советской России, к десяти часам ложимся спать. Дорогой друг, удивительна поэзия санаторного режима.
Случайно как-то, еще в Берлине, попался мне номер сов. газеты со статьей о годовщине кронштадтского восстания, из которой я узнал, что ты награжден орденом Красного Знамени за добровольное участие в штурме. От души поздравляю. Я тоже был тогда в Кронштадте, жаль, что не встретились.
Твой конструктор Г.».Через полгода пришло от него второе письмо, из Японии:
«Дорогой Николаша,
совершаю рейсы на пассажирском пароходе Марсель — Иокогама в качестве человека с салфеткой. Сначала с непривычки блевал, особенно под экватором, потом пообвык. В Порт-Саиде классный рахат-лукум, пенковые мундштуки и египтяне; в Джибути — сигары; в Коломбо-поддельные жемчуга; в Сингапуре — носки и презервативы; в Сайгоне — золотые запонки и дешевые мальчики; в Гонг-Конге — анамиты, плетеные вещи, черное дерево и носки; в Шанхае — дешевые пижамы и потрясающие рожи; в Кобэ — порнографические изделия из слоновой кости, чайные сервизы Кузнецовской фабрики и дешевые девочки; в Иокогаме — бумажные веера, гейши и международная матросня. 40 дней пути. Получаю шальные чаевые и ворую в буфете ликер. Каждый рейс — новая баба: в нашей профессии интеллигентность ценится высоко! Между прочим, посылаю тебе, как любителю изящного, несколько весьма тонких рецептов из пароходной карты коктейлей:
1. SANG DE VIERGE[14]. Летний освежающий напиток. Взять полстакана сока красной смородины и полстакана того же сиропа. Раздавить в другом сосуде стакан свежей клубники, на которую вылить последовательно: стакан коньяка, два стакана джину, затем упомянутые выше сок и сироп красной смородины и оставить все это „отдохнуть“ на полчаса. Затем влить туда стакан белого, положить льду и взбить. Подавать, положив в стакан либо одну клубничку, либо веточку красной смородины (по желанию).
2. LЕ PLAISIR DE GRACES[15]. Взять полстакана памплемусного сока, стакан джина, стакан старого виски, полстакана крепкой настойки сливы и полстакана на косточках оливы, стакан сухого белого. Прибавить льду и очень старательно взболтать. Подавать, положив в стакан тонкую стружку лимонной корки. Пить через соломинку.
Знание французского и английского языков обязательно, я же могу и по-немецки. А в общем, Николаша, сиди и не рыпайся, мой совет.
Твой конструктор Г.».7
Коленька почему-то боялся оставлять эти письма в своей комнате, в Доме Советов, бывш. «Метрополь», а уничтожить их — был нс в силах. Так, с и письмами конструктора Гука в кармане темно-синего френча, ежедневно ездит Коленька в Кремль — в Кремле он пишет портрет Ленина.
То, чего инстинктивно ожидал Коленька Хохлов, впервые входя к Ленину, не произошло: Ленин не сидел за столом, углубившись в бумаги, не сделал обычного в таких случаях вида, будто с трудом отрывается от работы, случайно заметив вошедшего. Напротив, как только Хохлов показался в дверях кабинета, Ленин быстро и учтиво встал с кресла, направляясь навстречу.
ЛЕНИН (улыбаясь): Здравствуйте, товарищ. Мне думалось почему-то, что вы старше. Пожалуйста, садитесь. Я — жертва нашей партии: она заставляет меня вам позировать. Скажите, в чем будут мои обязанности и как вы хотите меня изобразить?
Коленька улыбаясь ответил, что Ленин олицетворяет собой движение, рост и волю революции. Коленька видит не портрет в прямом смысле, а картину, в которой Ленин неотделим от масс.
ЛЕНИН (улыбаясь): Но ведь я только скромный журналист. Я предполагал, что буду изображен за письменным столом. Если когда-нибудь я увижу ваш холст осуществленным, то непременно залезу под стол от смущения.
ХОХЛОВ (улыбаясь): Право и привилегия художника — создавать легенды. Если наши произведения становятся в противоречие с истиной, будущее наказывает прежде всего нас самих. Но лишать себя этого права мы не можем. О Ленине-журналисте я не задумывался, а портрет обывателя с бородкой меня не интересует.
ЛЕНИН (улыбаясь): Хорошо. Я считаю недопустимым навязывать художнику мою волю. Поступайте так, как вам кажется правильнее. Я в вашем распоряжении, приказывайте — я буду повиноваться. Но сначала договоримся честно: я подчиняюсь дисциплине, я исполняю волю партии, но я — не сообщник.
Ленин улыбается. В русской революции сосуществовали две мимические линии: первая, ленинская, — в улыбке. Добродушная улыбка с подмигиванием — свидетельство душевной простоты, а также любви к ближнему или, по крайней мере, к классу. Вторая линия — от Троцкого: пронзающая острота взгляда, символизирующая непреклонность и бдительность революции; улыбка допускалась только саркастическая или, как принято ее называть, мефистофельская. Лицо Ленина обращено к светлому будущему, лицо Троцкого повернуто в сторону врагов. Влияние Ленина велико: улыбались, как могли, вожди, наркомы, полпреды, особо ответственные работники; нежно и ласково улыбался Феликс Дзержинский. Ястребиная мимика Троцкого получила распространение преимущественно в военной среде и в партийных низах: секретари комячеек, следователи ГПУ, рабкоры, управдомы, дворники. Кроме того, намечалась еще средняя, синтетическая, линия: так, Феликс Дзержинский улыбался по-ленински, бородку же стриг под Троцкого, создавая таким образом новый тип «добродушного Мефистофеля».
Ленин неразговорчив. Сеансы проходили в молчании. Ленин как бы забывал о Хохлове и, только встречаясь с ним взглядами, неизменно улыбался. Как-то Хохлов вздумал заговорить об искусстве — Ленин прервал его:
— Я, знаете, в искусстве не силен. Вы уж об этом лучше с Луначарским: большой специалист. У него там даже какие-то идеи… Иногда, очень редко, желтое лицо Ленина передергивалось судорогой. Тогда он вздрагивал, проводил рукой по темени и, вздохнув, улыбался снова, как после сильной боли, которая вдруг отлегла.
В Кремлевском дворце — покойно, тихо, домовито. Жужжат мухи, маляры белят потолки, красят стены. В белом коридоре — коридор наркомов прогуливаются вожди, говорят о безделицах, курят папиросы высшего сорта — «Совнаркомские» и «Посольские»; раздается смех. Карл Радек, похожий на Грибоедова, а может быть, и на Пушкина, если бы Пушкин носил очки и порыжел, на Добролюбова, да и на Решетникова, пожалуй, — декламирует на ухо Демьяну Бедному, настоящая фамилия которого — Придворов:
Все говорят — ты Бe-ран-же. Ты просто «б», ты просто «ж»..В открытые окна глядит веселое московское солнышко; прыгают по стенам желтые зайчики и голубые, легкие тени. Внизу, у подъезда, фыркает одинокий автомобиль. Пахнет летом, булыжной пылью и свежей краской…
Когда Ленин умер, Коленька Хохлов видел его мозг: одно полушарие было здоровым и полновесным, с отчетливыми извилинами; другое, как бы подвешенное на тесемочке к первому, — сморщено, скомкано, смято и величиной — не более грецкого ореха.
8
Дни бегут, года проходят чередою, И становится короче жизни путь. Не пора ли нам с измученной душою На минуточку прилечь и отдохнуть?ГОЛОС ИЗ ПУБЛИКИ: Пора!
Звенит посуда. Шныряют половые с бутылками. Табачный дым облекает певицу в голубой тюль. Конферансье — в смокинге. На локтях смокинг потерт, шелк отворотов лоснится жиром. Галстук — в синюю клеточку.
КОНФЕРАНСЬЕ: Следующий номер программы… А, Семен Иванович! Товарищи, рекомендую: врач по нехорошим болезням, с хорошей практикой. Нездоровы? Скучаете? Это все от желудка, милейший. Откушайте супцу с фрикадельками — сразу все пройдет, сытому всегда весело, например — мне…
ГОЛОС ИЗ ПУБЛИКИ: Открыл фонтан, дармоед!
КОНФЕРАНСЬЕ: Чего-с?
ГОЛОС: Ничего-с, катайте дальше!
КОНФЕРАНСЬЕ: Извольте. Следующий номер…
ГОЛОС: Как в номер, так и помер!
КОНФЕРАНСЬЕ: Выражайтесь ясней, гражданин.
ГОЛОС: С нас хватит.
КОНФЕРАНСЬЕ: Вы, гражданин, я замечаю, никогда не проголодаетесь.
ГОЛОС: Это почему же?
КОНФЕРАНСЬЕ: А потому-с, что у вас во рту каша.
ГОЛОС: Сволочь!
ВТОРОЙ ГОЛОС: Недопустимо так с товарищем конферансье колбаситься! Чего пристал?
КОНФЕРАНСЬЕ: Не беспокойтесь, гражданин, мы привыкши, такая наша профессия — конферансье. Следующий номер программы: «Зеркало девственности»…
ТРЕТИЙ ГОЛОС: Саша, милый, пойми: я пью, потому что мне в душу наплевали…
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОЛОС (шепотом): Не все люди спасутся. Наступит страшный час, пшеница будет отделена от плевел, овцы от козлов, праведные от злых… Соберут ангелы из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие и ввергнут в пещь дьявола, где будет плач и зубовный скрежет. Пойдут грешные в муку вечную, в огонь вечный, а праведники воссияют как солнце… Великое множество людей, милый товарищ, погибнет. Тесны врата, и узок путь… Парочку светлого, гражданин!.. Ибо много званых, да мало избранных… Страшно будет стенанье отверженных, милый товарищ…
И вот снова на эстраду выступает гармонист Ванька Жерихов со своим ансамблем. Ванька Жерихов стрижен в скобку, на шее вздувается огромный кадык. И снова танцор Еремейка по прозвищу Осьминог отбивает каблуками смазных сапогов русскую, бьет ладонями по коленам и по подошвам, плывет неслышно вприсядку, крутит волчка на одной ноге. И запевало Федя Пахоруков покрывает гармонистов звенящим тенором, свистун Веревкин свистит в два пальца Соловьем-Разбойником, в табачном дыму синеют поддевки…
Осушая бутылку за бутылкой, Коленька Хохлов с командармом Билибиным, которому стукнуло 22 года, говорят о стихах и о живописи, а также о девочках — о девочках дольше всего. И снова зацветают бумажные цветы, золотая фольга, лиловый анилин, и на шестом году революции лохматый рабфаковец роняет голову на локоть, чтобы плакать навзрыд от смутного сознания непоправимости жизни… Зима ли, лето ли — московская ночь подобна пустыне.
— Не всякий говорящий мне: Господи, Господи, но исполняющий волю Отца Моего Небесного… Истинно говорю вам — не знаю вас… Примите предостережение, милый товарищ, готовьтесь к сретению Господа Бога вашего, дабы не погибнуть окончательно и бесповоротно… Еще парочку пивка с горошком, гражданин услужающий!
— Сашка, подлец, дорогуша, мне в душу нахамили, сукин ты сын, вот я и гуляю…
Дребезжит посуда. Голубой тюль упирается в потолок. Конферансье икает, в руках у него бутылка. Голубой потолок, голубые стены, голубой смокинг у конферансье. Голубой оазис в черной пустыне ночи.
Арбат безмолвствует. У подножья памятника Гоголю дремлют бездомные старики, песчинки классово чуждой психологии. Зимой — там же — они замерзнут.
9
Но все это теперь уже несущественно и с каждой строкой утрачивает интерес. Коленька Хохлов сыграл свою роль в повести, не совсем заслуженно удерживая на себе столько внимания. Роль его сыграна, и теперь он уступает свое место другим. Повесть течет по соседству с событиями, огромными по объему, по глубине, по трагизму, по выводам, — они совершаются как бы в соседней комнате, ключ в которую потерян, и только дверная скважина осталась открытой. Через эту скважину иногда доносятся голоса, крики, малоразборчивые, отрывистые звуки, иногда сверкнет ослепляющий свет, долетит холод полярных ветров, горячее дыхание пожаров. Там, за дверной скважиной, может быть, даже не комната, там, судя по отрывкам подсмотренного и подслушанного, можно подозревать существование мира во всей его сложности; там происходят романы — события величественные, значение которых неизмеримо. Здесь же протекает случайная повесть, рябь по воде. Человек стоит во дворе шестиэтажного дома, во дворе, называемом к «колодцем». С четырех сторон подымаются стены в оконных квадратах. Стены в оконных квадратах напоминают затасканную клетчатую скатерть. В доме, за окнами, — сотни жильцов, десятки тысяч ударов сердец в минуту… Человек, стоящий в колодце, смотрит на все четыре стороны, на мутные стекла окон, видит одинокого голубя, спящего на кухонном ящике, видит простыню с желтым, нечистоплотным пятном, вывешенную за окно, видит опухшее, водянистое небо, слышит лязг кровельного железа и легкий свист сквозняка в подворотне…
Коленька Хохлов уже больше года безвыездно проживает в Москве. Он пишет картины для Совнаркома, для Коминтерна, для Музея Революции и Музея Красной Армии, расписывает стены Дворцов Труда, исполняет рисунки почтовых марок и денежных знаков. Кажется, он живет не один: говорят, в Доме Советов, в соседней комнате, поселилась… тут начинаются разногласия, до Питера доходят разноречивые слухи: одни утверждают, что Коленька снова спутался с какой-то актрисой, молоденькой, довольно симпатичной, но глупенькой; другие говорят, со слов очевидцев, будто она не актриса, а машинистка, обыкновенная советская барышня с очень красивым бюстом, но, к сожалению, слишком кичится связью со знаменитым художником; третьи говорят, что она простая чекистка и что именно ее бюст не представляет ничего особенного; четвертые передают, что ей уже делали аборт в клинике доктора Светозарова и что в день операции Коленька лежал в постели с другой женщиной и, напившись, обещал на ней жениться в ЗАГСе; некоторые рассказывают, что Коленька ни с кем не живет, а только делает вид, что живет, потому что ему это выгодно; один приезжий из Москвы сообщал, будто художник Хохлов покушался на самоубийство, но приезжего подняли на смех; кто-то уверял, что не Коленька, а как раз его соседка действительно покушалась на самоубийство, после чего положение Коленьки в Кремле сильно пошатнулось. Последнее известие особенно взволновало петербуржцев; петербуржцы говорили:
— Слыхали, Хохлову крышка?
— Ахупе?
— Вставили штопор.
— Сразу вставили или медленно ввинчивали?
— Мир непрочен. О, слава, это ты!
— Птичка какает на ветке, баба ходит спать в овин, так позвольте вас поздравить со днем ваших именин!
— Говорят — зарвался.
— И зачем лез? Кто его за язык тянул? Никакого чувства меры!
Но неожиданно промелькнуло в газетах сообщение о новых заказах для Коленьки. В той же заметке называли его «Давидом русской революции». Можно ли, однако, проверить слухи, доходящие невесть откуда? Петербург далеко отстоит от Москвы: их разделяет более 600 верст. Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем петербуржцу попасть в московский поезд… Известно лишь одно: люди стареют не только на годы, люди стареют на события, на пространства, на города. Коленька Хохлов постарел на Петербург, на Питер; Петербург отложился пластом, как любовь, как болезнь, как возраст… Коленька сыграл свою роль в повести, и теперь, под занавес, на первый план выступает Семка Розенблат.
10
Берлин, огни, нахтлокали, Луна-Парк, девальвация… Занятнее всего — девальвация. Семка Розенблат быстро осваивается за границей, разбирается в кулисных сложностях, заводит необходимые знакомства, умело ими пользуется, и, когда после пятимесячного отсутствия возвращается в Москву, в Кремле встречают его как победителя. У вокзала ждет автомобиль наркома финансов. Розенблат, не заезжая домой, спешит к наркому и делает свой первый доклад. Нарком удовлетворен целиком и полностью, поздравляет Розенблата с достигнутыми успехами и везет его на чрезвычайное заседание Совнаркома в Кремль, где Розенблат знакомит собравшихся с дальнейшими своими планами. Наркомы довольны. Семка Розенблат угощает их заграничными сигарами и заграничными анекдотами.
Из Кремля усталый Розенблат стремится домой. Он наряжается в заграничную шелковую пижаму и с пакетом в руках идет в комнату квартирной хозяйки.
— Это для вас, — говорит он, подавая пакет.
Евлампия Ивановна Райхман всплескивает руками: в пакете находит она шелковые чулки, шелковое белье, кружевной пеньюар с голубыми перьями из «Maison de Blanc»[16] и лакированные туфли от Рауля.
— Примерьте, пожалуйста, мадам Райхман, я покурю в коридоре.
Евлампия Ивановна Райхман, сорокалетняя вдова, носит свои груди, как генерал — эполеты: годы военного коммунизма не отразились на ее полноте. Надев заграничные шелка, Евлампия Ивановна приоткрывает дверь. Кружевной пеньюар прозрачен. На блеск чулок наплывает розовая тяжесть наготы. Семка Розенблат шепчет слова восхищения и входит в комнату.
— Вы безумец, мосье Розенблат! Что вы делаете?
— Ничего особенного.
— Вы рвете кружево! Перестаньте!
— Не кобеньтесь, мадам Райхман: это старо!
— Каждая порядочная вдова должна сначала сопротивляться, — возражает Евлампия Ивановна Райхман.
Поднявшись с постели и оправив шелковую пижаму, Семка Розенблат обращается к Евлампии Ивановне с такими словами:
— Мадам Райхман, — говорит он, — во-первых, завтра же вы будете иметь настоящий цветочный одеколон. Я подарил вам какое-то шелковое то да се, а вы легли со мной на кровать. Симпатичный товарообмен. Только прошу вас на дальше: пожалуйста, не амикошонствовать. Вы меня вполне устраиваете как женщина, хотя и годитесь в мамаши, но я честный и открытый человек, и вот что я вам скажу: я буду иметь любовниц. Мне нужны любовницы, как вам нужна хлебная карточка. Зарубите это себе, Евлампия Ивановна, если вы не хотите остаться одна, как перстень. Вы меня понимаете?
— Я вас понимаю, мосье Розенблат.
— Спокойной ночи…
Наутро к подъезду была подана личная машина товарищи Розенблата, начальника Секретного Валютного Фонда СССР.
11
Рабочий, стоящий у занавеса и несколько похожий на железнодорожного смазчика, так напугавшего когда-то Анну Каренину, уже протягивает руку к тросам. Рабочий, стоящий у занавеса, — далеко не последний человек в театре: опустить занавес — большое искусство. Зритель об этом не думает, он не подозревает, что «занавес репетируют» по многу раз, как любую сцену в представлении. Зритель лишь безотчетно чувствует, что медленно опущенный занавес иногда придает совершенно иной оттенок и даже смысл спектаклю, нежели занавес, стремительно скрывший действующих лиц. Театральный занавес — такой же актер, как и те, что на сцене заламывают руки, убивают друг друга, произносят монологи, заставляя зрителя содрогаться, радоваться, грустить. Для занавеса существует своя партитура, свои ритмы, свои способы воздействия на зрительный зал.
Человеческая жизнь в большинстве случаев мало театральна. Театрально прожитая жизнь, жизнь, сыгранная для зрителя, обычно становится достоянием энциклопедических словарей. Но если подсчитать количество таких жизней всех времен и у всех народов, то оно не достигнет и малой доли той цифры, которую дает последняя перепись народонаселения одной Московской губернии. В человеческой жизни, за редкими исключениями, занавес падает без репетиций, как придется. Да и важно ли, как происходит падение, если оно не рассчитано на зрителя и не влияет на сборы? Жизнь все равно останется черновиком, который не исправишь и не перепишешь на- чисто…
В данной повести, как в человеческой жизни, занавес опускается без особой торжественности, не очень быстро и не очень медленно, означая собой конец — и только. Рабочий протягивает руку к тросам как раз в тот момент, когда Семка Розенблат вторично уезжает за границу, но уезжает уже не один: он везет с собой Софочку Фибих.
Софочке Фибих 24 года, она разговаривает цитатами из поэтов и носит под платьем такое короткое белье, короче какого не бывает. Белье мастерит Софочка собственными руками, в строгом соответствии с новинками парижской моды, долетающими до Плющихи. По ситцу блузок Софочка вышивает гладью монограммы. Отец ее, старый провизор Фибих, кончает свои дни в родном Екатеринодаре, а мать, Маргарита Исааковна, варит вонючее мыло и продает его за гроши на толкучке, отмораживая себе руки и ноги.
Софочка любит поэзию, больше всего увлекается Уайльдом, Вадимом Шершеневичем и Камерным театром, на ее ночном столике лежит томик Иннокентия Анненского, но в Берлине самое сильное впечатление произвел на нее магазин Вертхейма. Софочка обретает берлинский облик, стрижет волосы и делается постоянной посетительницей одного кафе на Курфюрстендам. Она заказывает белье из креп-сатена и ежедневно принимает теплую ванну с кристаллами лавандовой соли, отчего кожа на теле становится еще нежнее прежнего. Семка Розенблат гордится Софочкой Фибих:
— У моей Софочки живот как голос у Шаляпина: самый лучший в России!
Семка Розенблат развертывает свою деятельность. В его кабинете имеется сложная диаграмма, в центре которой — красный кружочек с буквами СВФ, что означает «Секретный Валютный Фонд»; от красного кружочка расходятся в разном направлении черные линии и, в свою очередь, вливаются в синие кружочки с буквами Б, В, Б-2, П и т. д., под которыми следует понимать: Берлин, Вена, Будапешт, Париж, откуда снова бегут многочисленные черточки, и на конце каждой — точки с инициалами биржевых посредников, банкирских контор, торгово-промышленных фирм, акционерных обществ, специальных корреспондентов и т. п. Рядом с кружочками, изображающими города, проставлены также буквы Р, Б, Т, Г и др. Эти буквы — не что иное, как сам Семка Розенблат под разными именами, в зависимости от города и страны: Райхер, Блюменфельд, Тарасов, Гумминер… В сущности, Розенблатом Семка остается только в центральном красном кружочке СВФ.
Розенблат (Блюменфельд, Тарасов, Райхер, Гумминер…) без устали колесит по Европе, его можно встретить в Париже, в Лондоне, в Гамбурге, в Данциге, в Копенгагене, на ярмарках в Лионе и в Лейпциге, на выставках в Бордо или в Кельне. Он открывает деловые конторы, приобретает контрольные пачки акций, проводит нужных ему людей в правления банков, в редакции финансовых газет…
Софочка Фибих ждет его в Берлине. Она украшает квартиру безделушками, в спальной комнате на камине поставила гипсовый «Поцелуй» Родена; в гостиной — бюст Бетховена и портрет Таирова; в столовой — сервиз советского фарфора с беспредметной раскраской; в кабинете — портрет Владимира Соловьева и свой собственный портрет в вечернем платье; в ванной комнате — несметное число флаконов, флакончиков, пузырьков, стеклянных полочек, пуховок, разноцветных губок; наконец, в уборной — «Фрину на купанье» и в передней — бюст Толстого, на который Семка Розенблат любил надевать свой котелок. Котелок налезал до самых бровей, и Толстой мгновенно превращался в кагаловского еврея.
Семка Розенблат представляет собою образец положительного героя. Он враг противозаконностей, все его действия прежде всего пропитаны уважением к закону. И если текущий счет Софочки Фибих, открытый в английском банке, растет с быстротой почти сверхъестественной, то лишь потому, что свое личное жалованье, которым он волен распоряжаться по своему усмотрению, Семка Розенблат не оставляет лежать в кармане, а тоже бросает в биржевой круговорот, не нарушая этим ни в какой степени интересов России. Почему, в самом деле, можно покупать на свои собственные деньги носки, рубахи и папиросы, а нельзя покупать акции, когда тот же Семка Розенблат покупает те же акции для своего государства?
Благополучие Софочки Фибих, поджидающей Розенблата в Берлине, разрастается.
— Видишь ли, Софочка, — говорит Розенблат, — ты у меня такая красота, ты достойна, чтобы быть у меня птичкой в золоченой клетке. Пролетариату тоже свойственна любовь к красоте.
12
Не подлежит сомнению, что карьера Семки Розенблата поразительна. Она поразительна не столько быстротой перемены в его личной жизни, сколько огромностью достигнутых им деловых результатов. Чтобы составить себе хотя бы некоторое представление о размахе, значительности и плодотворности его деятельности, достаточно вспомнить, что только благодаря Семке Розенблату советское правительство получило возможность… впрочем, перечисление заслуг Семки Розенблата способно увлечь в такие отдаленные суждения о международном денежном обращении, о банковском праве, о теории золотого размена, что поневоле личность Семки Розенблата отодвинется в тень.
Финансовая отчетность начальника Секретного Валютного Фонда СССР была безукоризненна. Деловой темперамент его оказался поистине вулканическим. Деятельность Семки Розенблата являлась важнейшим оружием в руках наркома финансов, обладателя тщательно закрученных усиков, шекспировской бородки и партбилета. Имя Розенблата очень редко встречалось на газетных страницах: ведь он возглавлял секретное учреждение. Но влияние его было могущественным, его проекты были законопроектами, его распоряжения — непререкаемым словом закона. Наездами в Москву Семка Розенблат по собственному усмотрению созывал чрезвычайное собрание коллегии Наркомфина, усаживаясь в председательское кресло. Будучи в Берлине, он вызывал к прямому проводу наркома финансов, предлагая ему немедленно осуществить те или иные мероприятия. Время от времени он писал срочные письма Ленину и в Совет Труда и Обороны. И в то же время текущий счет, открытый в английском банке на имя Софочки Фибих, перевалил за 300.000 долларов, отнюдь не нарушая интересов государства, но, напротив, как бы доказывая правильность и несокрушимость принятой Розенблатом деловой линии… Отрастал ли у Семки Розенблата двойной подбородок? Нужно ли скрывать истину? — У Семки Розенблата отрастал двойной подбородок. Человек, мускульную энергию которого заместили восемнадцать лошадиных сил песочно-дымчатого «Студебекера», не может ограничиться одним подбородком. Под жилетом обозначилась округлость, которой также не было еще два года назад. Памятный фрак, сшитый знаменитым портным Наркоминдела, пришлось подарить дальнему родственнику Сонечки Фибпх, обосновавшемуся в Берлине.
Осенью 1923 года Семка Розенблат спешил из Берлина в Петербург. У Розенблата были особые причины спешить в Петербург: там ждала его Муха Бенгальцева. Ах, как она ласкала Семку Розенблата, как нежно щекотали его щеку Мухины локоны, крашенные хной, как сладостны были прикосновения губ, как мягки ее бедра, как любовен шепот и неслучайны движения рук! Как вкусны были биточки в сметане и яблочный торт собственного изготовления, как красивы голые ноги в красных кавказских туфельках, отороченных барашком! Семка Розенблат привез Мухе Бенгальцевой две тысячи долларов и визу в Италию. Муха Бенгальцева отправится в Италию и там, во Флоренции, поджидая приездов Розенблата, станет украшать квартиру безделушками, разместит в комнатах «Весну» Боттичелли, «Демона» Врубеля, портрет балерины Гельцер, рисунок Коленьки Хохлова, изображающий Муху Бенгальцеву в постели, десяток снимков с «танца апашей» и гипсовый бюст Гомера, на который Семка Розенблат будет надевать свой котелок, превращая Гомера в кагаловского еврея. В отделении английского банка откроется текущий счет на имя Мухи Бенгальцевой…
В то время Ленин с младенческой улыбкой уже лежал в шезлонге в подмосковном имении Горки. Эта новая улыбка Ленина означала превратность Семкиной судьбы: в недрах партии ведется подпочвенная борьба с наркомом финансов, но Ленин теперь бессилен вмешаться в нее. Сильнейшим оружием наркома финансов является Семка Розенблат, нужно опорочить это оружие и вырвать его из рук наркома. Ни имя Розенблата, ни его деятельность не подлежали огласке, он руководил секретным учреждением, — следовательно, так же бесшумно можно было изъять его из обращения. Семку везут в Москву и сажают в тюремную камеру.
13
В камере Семка Розенблат остается вдвоем с арестантом, обросшим бородой и насвистывающим «Варшавянку». Семка Розенблат присматривается.
— Позвольте, товарищ, — говорит он, — где-то я с вами встречался. Лопни мои глаза, если нет! Как ваше имя?
— Поручик Лохов, Трепак-Висковатый, атаман Грач, комиссар Войцеховский… Много имен, на выбор. Только, собственно, от рождения зовут меня Федор Попов, а это все мои литературные псевдонимы.
— Попов! Федя Попов! Бог мой! А вы не учились в Петербургской Третьей гимназии вместе с Колькой Хохловым?
— А как же? Обязательно учился. Хохлова прекрасно помню, как свои пять пальцев. Большая сволочь вышла, судя по газетам.
Разговор переходит на ты.
— За что тебя посадили? — интересуется Федя Попов.
Совесть Семки Розенблата чиста. Он отвечает:
— Так, пустяковая междуведомственная неувязка. Скоро выпустят. А тебя за что?
— За нарушение железнодорожных правил: поезда останавливал. Развинчивал гайки на рельсах, припрягал к рельсам волов и разводил в стороны… Расстреляют. Сижу два года. Надоело бояться, надоело даже думать об этом. Занимаюсь дрессировкой блох. Только кажется мне, что все это вранье насчет дрессировки: ничего не выходит, даже на имена не откликаются.
Камера была сухая, светлая и вместительная; пища сытная и почти вкусная. Параши в камере не было, разрешалось свободно ходить в уборную, наискосок по коридору. Семку Розенблата не тревожили, не таскали его на допросы, ничем не грозили, не вымогали признаний, разговаривали вежливо, назначили тюремным библиотекарем и в драматический кружок. Семка Розенблат обжился, завел знакомства с начальством, получил две-три открытки из Берлина от Софочки Фибих, играл в шашки с комендантом тюрьмы, рассказывал анекдоты. Семка Розенблат ни разу не побывал в тюремном карцере; ни пробковой камеры, ни комнаты, наполненной водой, ни залы пыток, о которых в городе ползли неясные слухи и шепот, в тюрьме тоже, по-видимому, не имелось. Розенблат даже не научился перестукиваться, так как заключенные почти ежедневно встречались друг с другом. Всего один раз Семку Розенблата вывели за ворота тюрьмы: вывели его — на расстрел.
Жизнь наполнена страхом смерти. Человеческие поступки движимы страхом смерти. Каждый борется с ним по-своему: создают произведение искусства, чтобы обеспечить себе бессмертие; рождают детей, чтобы продлить свою жизнь в потомстве; убивают других, чтобы острее почувствовать длительность собственной жизни; становятся наркоманами, чтобы приучить себя к ощущению небытия; изобретают легенду о боге, чтобы уверить себя в существовании вечной жизни; накладывают на себя руки, чтобы раз навсегда освободиться от этого страха… Воображение рисует трагические картины мольбы, вопля, ползанья по земле у ног командира стрелкового взвода; Розенблата с трудом отрывают от сапога командира, но, так и не поставив на ноги, пристреливают лежачего, но лежачего не бьют только в тех случаях, когда он уже не может подняться. Но воображение часто бывает обманчивым: в действительности Семка Розенблат, услышав приговор, не просил с пощаде, не выл, не ползал у ног командира взвода — Семка Розенблат только воскликнул: «Укатали горку сивые крутки!» — и очень огорчился, что перепутал.
Что же касается Феди Попова, то он, вероятно, еще долгие месяцы просидит в той же тюремной камере, пока, наконец, не будет выпущен на свободу ввиду полного забвения первоначальной причины ареста.
14
Письма — птицы. Верстовые столбы расстояний, синие пространства времени. Вот еще одно письмо, в розовом, надушенном конверте:
«Берлин, 15 окт. 1923. Дорогая Нуся!
Ты не можешь себе представить, как часто я вспоминаю о тебе. Вот уже шесть лет, как я не имею о тебе сведений. Пишу по твоему старому адресу. Я давно замужем. Мой муж уже не молод, но мы очень счастливы. У него отели в Берлине и на курортах, и мы очень богаты, несмотря на кризис. Тут очень весело, мужчины очень любезны. Мне так хотелось бы повидаться с моими подругами и, как встарь, поделиться с ними моим счастьем. Дорогая Нуся, приезжай ко мне непременно погостить недели на полторы, может быть, дольше, не поленись! Будем безумно кататься за городом, у меня шикарная, серебряная машина, даже смешно вспоминать нашу петербургскую колымагу! Хаха! Мой бедный покойный папочка воображал, что его машина была последним шиком.
Где-то теперь мои подруги? Наверно, повыходили замуж и завели детей. У меня пока детей нет. Надо сначала насладиться жизнью, а потом уж обзаводиться детьми, чтобы не было мещанства. Но я для этого ничего не делаю, обо всем заботится мой муж, он очень опытный. Мне кажется смешным, как можно влюбиться в неопытного мальчишку. Ха-ха-ха!
Итак, любящая тебя Лека Бауэрмейстер».Бородатому рабочему у занавеса следует поспешить. К чему нужна его театральная медлительность? Судьба Нуси Струковой неизвестна; неизвестно даже, прочтет ли она это письмо… Рушатся разобранные на дрова здания; трещины, как ящерицы, бегут по мрамору колонн; размытые дождями торцы проваливаются под ногами. По улицам, по мостам торопятся, встречаются и расходятся люди, прикуривая от папиросы встречного за неимением спичек. Люди возникают в тумане, подобно актерам из-за складок занавеса. В узкой улице, сдавленной кирпичом и оконными рамами, на шестом этаже, в тесной кухне — между плитой и турецкой атаманкой — лежит на полу с разможженным черепом Муха Бенгальцева. Рядом — шкатулка, в которой хранились Мухины доллары, и — в крови — медный пестик от ступки…
В подмосковных Горках умирает Ленин. Вслед за его смертью Россия вступает в новый период, который может быть определен как «гадательный»: на тему «если бы Ленин был жив». Именно в этот период Коленька Хохлов, получив заграничный паспорт через приятеля в ГПУ, выехал из Москвы.
15
Расставание с героями повести не вызывает особого сожаления. Кому до них дело? Они уже не представляют собой компактной, сплоченной группы, шагающей со страницы на страницу. Герои рассеяны, разбросаны по разным закоулкам света — и нашего, здешнего, земного света, знакомого и привычного, в котором растут березы, голубеют речки, происходят войны и революции, бродят люди с паспортами и беспаспортные, рыщут звери, ползают клопы, летают птицы, — и того, другого света, о котором еще не имеется достоверных сведений. Расставаться приходится, однако, не только с героями, но и с местом действия. Петербург, угасавший на протяжении этой повести, окончательно должен перейти в воспоминание. В своем непостижимом архиве память сохранит мертвенный отпечаток города, пропавшего в тумане. Туман уплотняется, заволакивает раненые фасады, штукатурку, шелушащуюся, как после кори, горбы мостов, истерику растопыренных сучьев, слезы водосточных труб. Туман скрывает также зеленую поросль, что пробивается сквозь мостовую, — булыжины лежат в зеленой оправе. Бесцветные, призрачные тени — нэпман, красноармеец, священник, милиционер, матрос, профессор химии, Анна Ахматова — идут, утопая ногами в пеленах тумана, между землей и небом, — контуры, бесплотные очертания людей, домов, чугунных решеток, коронованных всадников, министерских подъездов, трамвайных столбов. Туманы, улицы, медные кони, триумфальные арки подворотен, Ахматова, матросы и академики, Нева, перила, безропотные хвосты у хлебных лавок, шальные пули бесфонарных ночей — отлагаются в памяти пластом прошлого, как любовь, как болезнь, как годы…
Мерцают в тумане светляки нечеловечески огромных глаз: хилый, старенький и незлобивый, направляется за папиросами последний домовой Петербурга. Нечеловечески огромные глаза озарены мудростью и добротой. Он покупает папиросы и дальше неторопливо продолжает путь, ласковым взглядом осматривает свои владения; туман ему не помеха: он знает наизусть каждый выступ кирпича, каждый изгиб тротуара, выбоину мостовой, знает наизусть, как «Метаморфозы» Овидия, как оды Державина, как свои собственные стихи. Он идет не спеша, сторонясь прохожих, улыбается туману, редкие седые волосы зачесаны с висков на лоб — наподобие венка из лавров. Шляпа прорвана, шляпа измята, узкие брючки кончаются у щиколоток бахромой, двух пуговиц из трех не хватает на пиджачке, потертый галстук затянут жгутиком. Маленький венценосец проникает за ворота, заложенные щеколдой, спускается по мокрой лестнице в подвал… Подвал, украшенный героями Гоцци и Гофмана, масками, арлекинами и амурами, наполовину затоплен. Амуры покрыты плесенью, на масках растут грибки. В углу, под сводами, островком подымается сцена, освещенная пятисвечником из папье-маше. По лестнице пробегают на водопой крысы. Робкой походкой, цепляясь по карнизам, чтобы не ступить в воду, приближается маленький домовой к роялю, порыжевшему и закапанному стеарином; картавя, поет свою любимую песенку:
Если завтра будет солнце — Мы на Фьезоле поедем. Если завтра будет дождь, То карету мы наймем. Если денег будет много — МУ закажем серенаду. Если. денег нам не хватит — Нам из Лондона пришлют. Если ты меня полюбишь — Я тебе с восторгом верю. Если не захочешь ты, То другую мы найдем.Звуки расстроенного, порыжевшего рояля напоминают клавесин…
Петербург уплывает вдаль, подобно туманному облаку поутру. Петербург исчезает. Едва доносится пискливая возня крыс, пришедших на водопой. Куранты Петропавловской крепости неуверенно вызванивают «Интернационал».
Глазам открываются иные пространства: березовые рощи, ольховые заросли, раннее солнце встает по-летнему — горячо и весело. Оно оглядывается, ныряет лучами в заросли, в бруснику, зарумянит влажную шапочку подосиновика, улыбнется малиновой бабочке, заблестит по зеленым галькам на дне речонки — может быть, той самой, о которой задумался, отступая из Павловска, хорунжий Бакланов. Протекает она за пригорком, среди лакированных брусничных кустов, и даже в самую жаркую пору вода в ней остается студеной, захватывает дыхание. В том месте, где издавна перегораживает течение осклизлая коряга, образуя порожек, водятся мелкие, никчемные рыбешки, которых никто никогда не лавливал. Светлые рыбки, вздрагивая, часами выстаивают против течения, в строгом порядке, на рыбьем параде. Когда бы не частый березняк и голубая ольха — легко было бы, разбежавшись, перескочить через речку с одного берега на другой. Лесок прозрачен и ласков. Солнечные пятна без удержу мелькают по листве, по стволам, по румяным пуговкам брусники — так пестро и беспечно, что, прищурившись, можно подумать, будто играют в пятнашки ребята в зеленых, розовых, голубых рубашонках. Сероглазая комсомолка Савосина входит в зеленую речку. Как на яблоне ни одно яблоко не повторяет в точности другое, так нежные маковки грудей комсомолки Савосиной — одна бледно-розовая, другая — коричневая. Студеная вода, скользнув между ног, лаская живот и спину, поднимается вверх до плеч, нежные маковки, обороняясь от холода, твердеют, Савосина широко вздыхает, и по реке — брошенной галькой — прыгает смех. Рыбки серебристыми стрелками разбегаются в стороны. Гомонят птицы… Но тут уже начинается новая повесть.
16
Эпилог застает Коленьку Хохлова в Париже. Молочница приветствует Коленьку:
— Bonjour, Monsieur![17]
Колбасница улыбается ему:
— Il fait beau се matin, Monsieur![18]
Коленька завтракает в ресторанчике «Дарьял», ест борщ, пожарские котлеты и клюквенный кисель из красного вина. Хозяйка, в лимонных кудлашках, щебечет Коленьке:
— Приходите почаще: у нас всегда собираются артисты, шоферы, полковники…
В 6 часов Коленька пьет аперитив у скульптора Залкинда. Статуя Орфея, задуманная в окопах, упирается в стеклянный потолок. Деревянные торсы, каменные головы, бронзовые группы загромождают мастерскую, оставляя узкий проход.
— Какой прекрасный лес! — говорит Коленька.
— Лес не лес, а так, рощица, — отвечает Залкинд.
— Последние аркадские рощи перед всеобщей порубкой, — произносит Коленька.
Этими словами могла бы закончиться повесть. Но иногда, при спуске занавеса, заболтавшийся в кулисах, полуразгримированный актер, не заметив, что створки занавеса еще образуют щель в зрительный зал, пробегает по сцене, крича приятелю фразу, не имеющую прямого отношения к сыгранной пьесе. Коленька Хохлов сидит в большом кафе на шумном и пестром бульваре. За спиной Коленьки происходит такой разговор:
— Я имею сегодня шестое Виши. Не знаю, если это хорошо?
— Вы берете сегодня Виши, значит, вчера вы делали бомб. Не запирайтесь! Вы слишком дискретны визави господина Розеноера…
— Совсем напротив! Мы побывали вчера на Вертинском: это — настоящий миннезингер больной современности…
И вдруг Коленька явственно слышит третий голос: голос Дэви Шапкина. Коленька оборачивается. Они встречаются взглядами, они спешат друг к другу, как старые друзья, они целуются и смеются. Коленька видит за столиком Софочку Фибих.
— Моя жена, — говорит Дэви Шапкин, усаживая Коленьку рядом с собой на диван.
Горят огни. Множатся в зеркале затылок Розеноера и Софочкин профиль.
— Когда в Россию? — спрашивает Коленька Шапкина, и Дэви Шапкин отвечает, забыв, что повесть еще раскрыта:
— Я перерос Советов.
1
Почему ты не спишь (нем.).
(обратно)2
Иди ко мне, ты, маленький поросеночек (нем.).
(обратно)3
Что с тобой, мой маленький поросеночек? (нем.).
(обратно)4
Скажи своей мамочке «доброе утро» (нем.).
(обратно)5
Добрый день, сударыни! (фр.)
(обратно)6
Вы адвокаты, а потому так много говорите. Но сейчас нужно не говорить, а действовать. Пока все русские, способные держать в руках оружие, не будут на фронте, мы не дадим ни одного солдата. Сражайтесь, и я поддержу вас! (фр.)
(обратно)7
«Да здравствует Ленин! Да здравствуют большевики!»(фр.)
(обратно)8
морские базы (фр.)
(обратно)9
«Дерьмо!» (фр.)
(обратно)10
«Расстрел за/для Царя» (нем.)
(обратно)11
Защищайте вашу королеву (фр.)
(обратно)12
Защищайте вновь (фp.)
(обратно)13
Я знаю, что падаю (фр.)
(обратно)14
Кровь девственницы (фp.)
(обратно)15
Наслаждение грацией (фр.)
(обратно)16
«Дом Бланка» (фр.)
(обратно)17
Добрый день, господин! (фр.)
(обратно)18
Сегодня отличное утро, сударь! (фр.)
(обратно)


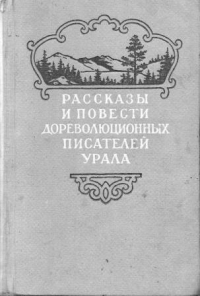

Комментарии к книге «Повесть о пустяках», Юрий Павлович Анненков
Всего 0 комментариев