Борис Константинович Зайцев Собрание сочинений в пяти томах Том 8. Усадьба Ланиных
И. Гращенкова. Театр Бориса Зайцева
Последнее десятилетие – вторая жизнь Бориса Зайцева на Родине. В возвращении его обширного многогранного наследия. Всего: рассказов, автобиографической тетралогии, мемуаров, «житийных портретов», романизированных биографий, путевых очерков. Всего, кроме пьес. Они не печатаются, не читаются, не являются предметом исследования специалистов. Скорее всего причина этого в весьма критической и категоричной авторской оценке, данной за несколько лет до смерти в одном из личных писем: «Да я никакой драматург. Это меня Чехов сбил. Театр не мое дело»[1].
Скромный, благородный, требовательный к себе, бесконечно уважительный к великим, достаточно ли он был объективен к себе?
Театр вошел в жизнь Бориса Зайцева – студента. И, конечно, Московский Художественный в первую очередь. Интеллигентная, передовая молодежь видела в МХТ храм и кафедру. Борис бегал еще в театр «Эрмитаж» на Каретном ряду и видел ранние спектакли, первые опыты театра поэтического реализма. Художественно-общедоступного. И полвека спустя прекрасно объяснил эту «влюбленность»: «Каретный ряд, дом Мошнина… „Царь Федор“, „Чайка“… Счет времени вели: до „Чайки“, после „Дяди Вани“… Это все наше… Глубокая честность, очень русская простота, нелюбовь к позе, ходулям и штампу»[2].
Несколькими годами позже Борис Зайцев отдал дань увлечению символистским театром. Бывая в Петербурге, субботние вечера проводил в Театре на Офицерской. Режиссура Вс. Мейерхольда, звезда Веры Комиссаржевской, эстетические идеи Вяч. Иванова и Г. Чулкова – в поле зрения его интересов. Зайцев – театральный зритель несомненно повлиял на Зайцева-драматурга, на формирование мира и стиля его пьес.
«Верность» – пьеса, опубликованная в 1909 году, и тогда же она появилась на сцене «Нового драматического театра» на Мойке, в постановке режиссера-мхатовца А. Санина. Собирался ее поставить и сам В. И. Немирович-Данченко.
К этому времени у прозаика Зайцева сложилась своя манера письма, выработался свой стиль. И было имя писателя лирического, импрессиониста, пантеиста, мастера малой формы. В этом литературном русле складывалась и драматургия, которую можно рассматривать как особую форму его беллетристики, как прозу в диалогах. Влияние Тургенева и особенно Чехова отмечали тогда многие критики. «Чехов. Вошел. Покорил. Отравил», – впоследствии так напишет Зайцев.
Его пьесы действительно программно следовали чеховской традиции. Обращение к внутренней жизни обычных людей, к их интимным чувствам и переживаниям, к сложностям их семейных отношений, к показу их повседневной, обыденной жизни. Герои Зайцева – его современники, жившие рядом в Притыкине, в Москве, в тех же арбатских переулках, учившиеся в Московском университете, сидевшие в зале МХТ. Он так хорошо знал, понимал и чувствовал их нравы, быт, язык.
Владельцы ветшающих дворянских усадеб, студенты, гимназисты, учителя, управляющие, ученые, профессора, изучающие искусство, дамы от искусства. Старики и дети, жены и мужья, пасынки, племянницы, свояченицы, шурины, – вот кто населяет зайцевские пьесы. Они исповедуются друг перед другом, выясняют отношения, спорят об искусстве, обедают, танцуют, играют в шахматы и футбол. А в это время гибнет любовь, рушатся семьи, обрываются жизни. Умирает престарелый глава семьи, бросается в пруд любящая безответно молодая девушка, стреляется сын, счастливым соперником в любви которому является отец.
При внешней ослабленности сюжета – сверхнапряженный психологизм, переливы настроений, динамика душевных состояний. Первоэлементы Бытия – Жизнь, Любовь, Смерть, взятые в контексте моральных и метафизических проблем. И обычное, знакомое приобретает масштаб, философичность, поэтичность, драматизм. Любовь в ее земном и небесном измерениях, плотская и духовная, к ближнему и к Богу царит безраздельно в драматургии Бориса Зайцева (пьесы «Любовь», «Верность», «Пощада»). Конечно, не случайно так поименованы три его первые пьесы. В их названиях сформулировано истинно христианское мироотношение автора.
В его пьесах одушевленная природа была не фоном, не средой, но своеобразным действующим лицом от автора. Весь годовой природный цикл в рамках одной драмы. Меняющийся цвет неба, тщательно прописанный в ремарках. Жизнь сада, озера, реки. Радуга, венчающая финал. И человек, живущий и умирающий в этом космосе. Он этого не сознает. Но это понимает автор, а за ним и зритель. Пантеизм и космизм взгляда на мир и человека отличали Зайцева от его великого предшественника и учителя. Так же как мощное религиозно-философское умонастроение, в принципе не свойственное Чехову. «Все от Бога и во всем Бог» – это зайцевское.
Нет сомнения, ясным, спокойным умом, доброй, чуткой душой Зайцев понимал и чувствовал, что его Россия, его культура входят в полосу кризиса, упадка, тяжелейших испытаний. «Предвестие-предчувствие» разлито в пространстве всех зайцевских пьес, в их атмосфере, настроении, освещении. Поэтому угасает жизнь дворянских гнезд, распадаются интеллигентные семьи, отцы и дети перестают понимать друг друга. Но при этом примирение с жизнью, приятие жизни, освещенные истинной Верой – фундаментальное в мировосприятии Зайцева. Его светлый, умиротворенный лиризм так контрастен скорбно-ироническому чеховскому лиризму.
Следуя путем новой драматургии XX века, основоположником которой был Чехов, Зайцев сохранил себя, свою самобытность. И были правы те критики, которые умели это увидеть. Так очень точно сказал один из них о пьесе «Усадьба Паниных»: «Первая пьеса, завещанная русскому театру Чеховым»[3].
Она стала вершиной театра Зайцева, потому что была поставлена Евгением Вахтанговым. Талант, дух новаторства, имя режиссера – вот что поспособствовало ее большей известности и тому, что она из всех зайцевских пьес оставила самый заметный след в истории русского театра последних предреволюционных лет. А благодаря энтузиазму студийцев, с которыми Вахтангов поставил этот спектакль весной 1914 года, велись протоколы репетиций, сохранившие многие бесценные факты его рождения[4].
Для Вахтангова, уже известного актера МХТ, начавшего заниматься режиссурой и педагогикой, «Усадьба Лапиных» стала дебютом в его первой студии – «Студенческой драматической студии». Но это был не его выбор. Студийцы прочли пьесу, которую назвали «Наша „Чайка“» и уговорили Вахтангова ставить ее. Их она увлекла сразу, а к нему интерес и понимание пришли в процессе работы, в спорах с учениками, в общении с автором.
Студенты Коммерческого института, составившие ядро театральной студии, были ровесниками молодых героев «Усадьбы Ланиных», жили их чувствами и настроениями, были так же влюблены в жизнь, друг в друга. Всех охватило какое-то опьянение. Истинный педагог, Вахтангов всячески поддерживал это эмоциональное состояние, направляя его в русло театра переживания. Ему в этом очень помогал Зайцев. Он часто приходил на репетиции, смотрел, слушал, пояснял, вносил поправки.
В молодых людях драматург встретил редкое понимание и единомыслие. Они разделяли сочувственное, нежно-любовное, грустное отношение Зайцева к своим героям. Поняли их жизнь. Полюбили усадьбу. Они почувствовали умиротворяющее звучание финала. После разрыва, >\ода, самоубийства, смерти старика Ланина над разоренным дворянским гнездом вставала радуга, как знак продолжающейся жизни, как символ мира в душах.
Вахтангов, напротив, считал, что в усадьбе – гнойники человеческой жизни и из нее нужно уйти поскорее. А радуга казалась холодным и равнодушным дыханием космоса над этим погибающим миром.
26 марта 1914 года на Воздвиженке, в Охотничьем клубе состоялась премьера. Играли в костюмах, в гриме. Свое место заняла на сцене «устроительница всяческих кавардаков» Венера из папье-маше. Вдоль всего портала поставили ящики с сиренью. Цветы были искусственные, но благоухали, щедро опрысканные одеколоном «Сирень». Спектакль был решен режиссером и художником Либаковым «в сукнах». Это модное нововведение не встретило понимания писавших о нем.
«Красота ланинского имения, парк, „тургеневщина“ сада – все было заменено грязными, мятыми, серыми тряпками (что означает на театральном жаргоне новаторов „играть в сукнах“). И режиссер г. Вахтангов проделал дыру в одной из этих грязных тряпок и заставил исполнителей восхищаться роскошью природы…Додумался господин режиссер… Итак дружными усилиями „артистов“ и „режиссера“ пьеса Бориса Зайцева провалена»[5].
Так из провала родился театр, который через 12 лет получит имя «режиссера» Евгения Вахтангова. И пусть из актерского состава только двое – Б. Захава и К. Котлубай – сделают сцену своей профессией, а другие уйдут в жизнь врачами, учителями, инженерами, такого начала своей судьбы никто не забудет, начала в театре Зайцева. С ним не хотелось расставаться и родилась идея поставить вместе «Пощаду». Что помешало ее осуществлению?
Через полгода «Усадьбу Ланиных» поставили у Корша. В духе военного времени (уже три месяца шла мировая война!) театр усилил репертуар отечественной, серьезной драматургией. Режиссер В. Татищев, пришедший из театра Незлобина и известный постановками русской классической прозы (Гоголь, Л. Толстой, А. Гончаров), сделал добротный спектакль. Пресса писала: «Декорации такие, что хоть и самому Художественному впору, но играли плохо»[6].
А между тем были заняты звезды театра Ф. Корша: Волховская, Неронов и прима – Э. Кречетова. Они играли чистую мелодраму, играли по-старому. На премьере в зале сидели Л. Андреев, И. Бунин, С. Юшкевич, А. Толстой, писатели, друзья. Спектакль шел с аншлагами. Ободренный успехом, вслед за «Усадьбой Ланиных» Татищев поставил и «Ариадну».
Драматургия Зайцева, принадлежавшая новому направлению, сопротивлялась традиционной режиссуре. Но даже сквозь нее светила его литература, о чем один из критиков написал так:
«Запах трав, яркие звезды, красивые, изящные речи, нежные, грустные, обвеянные любовью женщины – вот пьеса Бориса Зайцева „Усадьба Ланиных“. Может быть, это не пьеса, не драматическое произведение для сцены, но это одна из элегий Бориса Зайцева»[7].
Последняя из опубликованных его пьес «Дон-Жуан» вышла в 1922 году, году прощания Зайцева с Россией. Она не была поставлена и так и осталась драмой для чтения.
Когда сегодня читаешь пьесы Бориса Зайцева, вышедшие в свет за период 1911–1922 гг., они захватывают, как живая литература, достойная своего места в его наследии.
Тексты, материалы постановок, отзывы прессы, воспоминания участников, фотографии актеров, режиссеров, декорации, костюмы, собранные вместе, они и станут театром Бориса Зайцева.
А то, что изложено выше, лишь заявка темы, определение предмета исследования – так сказать, театр Бориса Зайцева в первом приближении.
Ирина Гращенкова
Рассказы разных лет
Земля*
Оба эти мордвина – отец и сын появились в имении случайно, вынырнув из каких-то глухих углов своей Мордовии.
Это были странные люди: тощие, длинные, совершенно похожие друг на друга и еще на кого-то третьего: они мало разговаривали, много работали и так много ели, как будто на родине постоянно голодали.
По-русски коверкали, между собой же говорили на некрасивом, бедном языке, и в их речи можно было уловить постоянно одни и те же слова и обороты.
Когда они попадались на глаза барину, он смеялся и говорил:
– Посмотрите, разве это люди? Это просто мордовская мякина! Да-с, труха какая-то ходячая и больше ничего.
И веселый барин был прав: тощая мордовская мякина вылезала из них по всем швам, росла вместо бороды на лицах, выглядывала из узеньких желтых глазок.
Когда вечером худой мордвин в синей пестрядинной рубахе, с платочком на голове, повязанным вроде как старушки носят сетки, садился с трубочкой на завалинку и угрюмо мурлыкал себе под нос – это не он сидел, а какое-то отражение, тень других десятков и сотен мордвов, появлявшихся рядами из земли и безмолвно сходивших в нее. Его странная песенка, рыжеватая бородка клоком вниз, узенькие, потухшие глазки, какая-то ранняя сгорбленность – все, казалось, случайно повисло на нем и спокойно перекочует на другого – на сына, например, когда придет время.
В один тихий июльский вечер они ушли так же неожиданно, как и появились; никто их не провожал и никто не знал, зачем они ушли отсюда, куда идут и что имеют в виду; перед отходом они вынули из грязного мешка кусок дерева, на котором было изображено что-то вроде иконы, сурово и мрачно помолились ему, потом поклонились на все четыре стороны, взяли длинные палки и побрели. Собаки не узнали их и залаяли.
За усадьбой они сразу попали в тихую, кроткую рожь; мягкой волной ходили колосья, синели у дороги запыленные васильки и кое-где стебли были запачканы дегтем. Тут кругом царствовала и росла земля, везде была природа и все было в ней.
Тут в воздухе висели разговоры колосьев, пряный пот травы по низинам, тут все тихо и радостно шевелилось и жило особенной, нелюдской жизнью.
Таинственно наливался ржаной колос, вылезал голубенький цветочек льна; коренастый овес качался рядом, шуршал с кострецом; каждый полз, лез, знал, что долезет и чувствовал, как хорошо жить под ясным небом и глядеть в такие дали – прозрачные, созерцающие. Каждому, от ласточки до навозного жука, было приятно смотреть, как ласково ходят над полями последние солнечные лучи, как побрякивают бубенцы на большой дороге и белеет далеко-далеко у лесочка колокольня.
А мякинные мордвины шагали дальше и дальше; из-за поворотов дороги, в желтеющем море ржи были видны только их головы, и казалось, что они не идут, а все стоят на одном месте; но они безостановочно зарывались все дальше и дальше в глубь хлебов, мира, первобытности, эпоса; и потом, когда они совсем уж пропали, стало похоже на то, будто хлеба совсем поглотили их и они опять вернулись внутрь природы и земли, которая произвела их; как будто их захлестнуло плодородие и сила здешних мест и как будто их теперь насыщают довольством и радостью.
Чуточку свежело уж; в последних солнечных лучах танцевали колонкой пегенькие мушки, по лугу, где девки убирали сено, растянулись от копен длинные тени и сами девки отсюда издали казались не то девками, не то красно-желтыми цветами; и даже вернее было, что они были растениями, как и мордвины, как деревни и церкви и все, что находилось тут под владычеством всемощной земли. Земля же по-прежнему радовалась и царила.
Соседи*
I
В конторе, где служила Мэри, ее не любили. Особенно не любили сослуживцы-барышни. Говорили, что она гордячка, «фантазерка», аристократка – и мало с ней разговарили. Но Мэри мало обижалась и глядела, по обыкновению, безучастно по сторонам своими огромными, бледно-зелеными глазами с тяжелыми темными веками. Это был красивый бордюр для глаз – они казались светлее и бездоннее, но барышни простить ей этих глаз не. могли. Не прощали и стройной фигуры.
Раздражало еще и то, что когда, например, на перерыве сходили вниз пить чай, Мэри сидела за своим стаканом, «как истукан», глядела при этом не на то, на что полагалось, и не слушала совсем того, что было интересно. Глядела она так себе, куда-то – в сторону, как будто там за окном и стенами был кто-то нужный для нее, – а этих как будто не было. И слушала она тоже что-то свое, особенное, а иногда улыбалась – опять неизвестно было чему. Когда холодно звали ее к начальству: «Марья Сергеевна», она шла лениво и не торопясь, и стояла, пока начальство кипятилось и разносило.
– Рассеянны мы очень, мечтаний-с в нас много этих, фантазий, – не от пира сего, видите ли мы… Здесь работницы нужны, сударыня, а не фантазерки. Да-с, работницы. Зарубите это себе на носу.
Начальство захлебывалось, а Мэри поворачивалась и шла назад. И совершенно у ней не было такого вида, – будто ее высекли, какой бывал вообще у барышень в таких случаях.
Это опять раздражало.
– Она думает, – шептались барышни, – что если у нее отец генералом был, так ее и пальцем тронуть нельзя. Посмотрим!
Но так же равнодушна была Мэри и на улице, где никто не знал, что умерший ее отец был генералом. Когда она в шестом часу вечера проходила из конторы домой по бойкой, шумной улице, поношенные и наглые мужчины в длинных, балахонами, пальто и с подсученными брюками с азартом заглядывали ей сбоку в лицо, стаями ходили сзади и бормотали что-то, как глухари на току.
И раз, когда один, особенно усердный, залез ей чуть не прямо в лицо неприличными распушенными усами, она так длинно и самоуверенно высунула ему язык, и так оскорбительно долго не прятала его в себя, что даже распушенные усы сконфузились и отстали.
По утрам, каждое воскресенье, Мэри выбиралась из строгой маленькой своей комнатки, на четвертом этаже, и уходила бродить – уходила надолго и возвращалась домой усталая и побледневшая.
Ни знакомых, ни родных у нее не было тут, и, наверное, она знала, что ни за что не столкнется в этих своих скитаниях ни с кем, кто приподнял бы шляпу и сказал: «Здравствуйте».
Дул ли мокрый ветер, летел ли снег или стромкий осенний ветерок подхватывал с панели и крутил воронкой желтые зубчатые листья, – всегда она, без мысли и цели, как белая птица чайка, которую ветер кидает то туда, то сюда над морем, блуждала то по одному и тому же месту взад и вперед, то вдруг уходила далеко на взморье, как будто что-нибудь нужно ей было там, и слушала, как шуршат и поют волны. Пела она и сама. Напевала бродя, под грохот и шум экипажей, и голос ее казался ей чистым, верным-верным и тонким, как ниточка с катушки.
Ничего не было слышно даже идущим с ней рядом, но ей это было все равно: сама она слышала и любила те звуки, которые шли из нее – и этого довольно было; глаза у ней в это время были остановившиеся, водяные, и людей она тогда не видала: как будто тянули у ней перед глазами пеструю ленту, а из чего она состояла, – нельзя было разобрать. Но иногда в толпе ее зацепляли, или кучер кричал на нее, когда она переходила улицу, и тогда она вздрагивала, ворочала своими глазищами и бормотала: «Мерзавцы».
А вечерами сидела дома в своей каменной клетке и бесконечно пила чай и читала. Когда же надоедало, ходила из угла в угол и опять пела – длинно и нежно. Так жила она – и раз, когда пела в угрюмые зимние сумерки, – услыхала ответ. Она остановилась, потом села. Но это был ответ. Почему ответ? Неизвестно было почему, но это было так.
– Кто он? Кто он? – мелькало в ее голове, пока она слушала. Он был как будто далеко, как будто был запрятан в подвале и завален камнем, но был и близко, и это чувствовалось.
Мэри сидела и слушала.
Вся она как будто развернулась, и как будто открылись в ней новые входы, куда вливались эти звуки, важные, нежитейские, и укладывались близко, стройно и понятно, как будто заранее там было все для них приготовлено.
– Как хорошо! – твердила она по временам и качала головой. – Как чудесно! Как чудесно!
II
С этого дня чуть не каждый вечер перекликались они из своих каменных нор. Пела Мэри – он молчал, но потом как будто тянуло и его сказать из стены ей что-то свое, и начинал играть он, а Мэри знала, что это он играет ей, то есть себе, и когда он кончал, пела ему, то есть опять же себе.
– Я молода, – думала Мэри; – но он не молод. Он очень не молод. Он строг и нежен, чист и одинок.
Насчет самих звуков она скоро сообразила, что это хорошая старая фисгармония; но какой и кто сам он, такой близкий уже и понятный ей, только значительнее и суровее, – она совсем не представляла; казалось ей только, что лучший, сокровеннейший угол ее души – угол, в котором жило уже божество, пересажен в другую клетку и оттуда тянется к ней.
Как-то она спросила хозяйку, чья квартира там за толстой стеной и кто ее сосед. Хозяйка ухмыльнулась, и толстая рожа у ней расползлась по всем швам.
– Кто живет? – переспросила она. – Мешают вам должно очень, барышня. Сказать-то им неловко, конечно… У них квартира своя, даже ход с другого подъезда. Чудачина один, старичок такой там живет… не знаю, поп ли их немецкий, что ли. При кирхе он при ихней жил прежде, ну, а теперь старость, вот и забавляется. Неугомонный такой, чтоб ему. Каждый вечер в дуду свою дудит.
– Это не дуда, – сказала мрачно Мэри, – это фисгармония. Скоро Мэри решила пойти к нему. Долго она волновалась
и прикидывала, но потом решила, что ничего, и пошла.
– Что я ему скажу? И для чего это все? – думала она, пока подымалась по лестнице, но поздно уж было думать: она звонила и через полминуты ее вели по темному, чадному коридорчику в комнату старика.
– Здесь, – сказала седая чухонка в очках и толкнула дверь. – Герр Тернер дома.
Мэри вошла.
Комната была большая, полупустая, и холодная: какой-то особенный запах – пустоты, ветхости и въевшегося табачного дыма стоял в ней, и один цвет господствовал: пыльно-серый.
Герр Тернер в больших железных очках сидел в высоком кресле и читал.
– Кто там? – спросил он и поднял на Мэри глаза. – Я почти слеп и потому извиняюсь, приблизьтесь, прошу вас.
Глаза у него глядели прямо и уверенно из-за круглых стекол очков, и что-то вечное и немое было в этих пустых местах, где переливалась прежде и била жизнь.
– Я пришла к вам, я к вам пришла, герр Тернер… – начала Мэри, сбиваясь и теряя обычную холодноватость. – Я вас слушаю, и каждый вечер сама тоже… пою. Вы меня простите, – она вдруг сдавленно и неестественно засмеялась, – я хотела вас видеть… Кто вы такой… почему такой, такой…
– Сядьте, барышня. Здесь стул. Я рад, что вы пришли. Я знаю вас. Я плохо вижу, но ничего.
Герр Тернер говорил задумчиво, и голос у него был глухой и тусклый, как будто шедший из давних веков, из строгих и бедных монастырей.
– Я знаю даже, зачем пришли вы, хотя знаю, что вы не можете рассказать этого. Я знаю вас. То есть… душу вашу знаю. А это все, сударыня. Да.
Он помолчал.
– Сорок лет, о-о, целых сорок лет был я органистом в кирхе, сударыня, и служил духу. Есть ли выше что-либо, чем служение духу? О-о, сударыня, вы молоды и вам свойственно было бы еще резвиться… смеяться… любить… напевы ваши говорят не о том. О-о, мы понимаем друг друга.
– Скажите, – спросила вдруг Мэри, – вы совсем одни живете тут?
– Да, да, один. Вот только это, – он медленно встал и подошел к фисгармонии, – вот это мне близко и дорого… через это беседую я в долгие вечерние часы с великими гениями прошлого. Да, с теми, кто стоял вблизи… кто носил в себе, сударыня, отражение, лик Бога. Когда служил я Богу в храме, Он близок был иногда и мне… и внизу… да, тогда бывали минуты, когда плакали и стенали внизу слушавшие. И сам я сидел тогда чистый и умиленный, вдохновенно перебирая педали своего органа. Слезы текли тогда по моим щекам… какие это были слезы, сударыня. Но теперь другой играет в кирхе.
Герр Тернер опустил голову и замолк.
– Там за толстой каменной стеной вы живете… Знаю. Бедны вы. Горды. Так. О-о, не возражайте, я вижу все же достаточно еще. Но где же те, кто любит, защищает, холит вас? Где те, кто бросил вас в этот мир?
– Непонятного тут ничего нет, – сказала Мэри, – я нездешняя ведь, и живу одна. Прежде было богатство, были родители, но теперь ничего этого нет, и родителей нет, а осталось только одно, что я генеральская дочка. На меня много за это обижаются, но благодаря этому… я не умираю с голоду.
– Не умираю с голоду… Дайте вашу руку. Подойдите сюда, ближе к окну. Видите, там улица. Тут три улицы сходятся вместе – как много народу! Здесь дурной город. Здесь люди сильно питаются, едят много кровавого мяса, и души их пропитаны мясом. У них нет душ. Смотрите, какие ходят они… Они непрестанно икают, так как жирно кушают; глядите, как самодовольны они… как дороги и ненужны их одежды. Вот едут кареты, вот странные высокие одноконные экипажи на огромных колесах. Далее: вон катятся на самодвижущейся машине, и лица сидящих радостны и горды; они с кажущейся небрежностью ведут разговор… Смотрите, сколько счастья на их лицах… они рады, что ни у кого из снующих вокруг нет такой же машины… О, сударыня, здесь, в бедных холодных комнатах… среди пыли и ветхости… здесь живите вы, в одиночестве и строгости. Будьте строги и печальны, ибо не из кушающих мяса вы.
Мэри опустилась на коленки и припала к его ногам.
– Слушайте, слушайте, мой учитель, – говорила она, давясь словами, – отчего все это так? Отчего нет никого другого, кроме вас… вот как вы… о, Боже мой! Послушайте, дорогой мой отец, неужели нигде и совсем нет таких… настоящих людей и ведь должны ж они быть, есть же они где-нибудь… а, а где, где? Ведь кого ж любить?
– Любите Бога, – повторял герр Тернер, гладя ее по волосам. – То любите, что высоко… чисто… Не смущайтесь. Не уступайте… больше всего: тем не уступайте.
Через полчаса, когда Мэри выходила, седая чухонка, запиравшая за ней дверь, остановила на ней свои подслеповатые, слезящиеся глаза.
– Герр Тернер замечательный человек, – сказала она важно. – Герр Тернер очень замечательный человек. Много народу ходило к нему, но теперь его забывают. Знаете ли, он стар, слаб, но когда он играет и молится, мы – я и еще одна родственная мне девица – плачем и тоже молимся… А вы, фрейлейн, тоже лютеранского вероисповедания?
Мэри не сразу ответила. Потом чуть улыбнулась и сказала:
– Я – протестантского.
III
Больше Мэри не была у Тернера. По-прежнему они жили рядом, по-прежнему каждый знал, что тут не больше как за стеной есть кто-то свой, далекий и чужой всем, но близкий – близкому. Но видеться им не нужно было. Так прошло тяжелое, знойное лето, наступила осень. По-прежнему герр Тернер играл вечерами, но реже и реже за последнее время, и звуки были как-то тише, и глуше, и отрешеннее. Наконец, наступило время, когда он совсем замолчал. Продолжалось это неделю, две, и Мэри опять собралась к нему; ей было скучно, странно теперь без этих звуков, и чужие звуки, чужие голоса, разговоры и смех казались теперь особенно утомительными и раздражающими.
– Герр Тернер болен, – сказала чухонка, но Мэри все-таки пустила. Герр Тернер не узнал ее; он лежал на жесткой железной кровати, в чистом, холодном белье, спокойный, вытянутый, желтый, как пергамент, и слегка жевал губами.
– Не вижу, – сказал он едва слышно, – и не помню лица… и имени. Да, но это не важно. Я помнил все время об одной… о той, которая живет рядом и поет там. Если это пришла ко мне она, если она прошла сквозь стену, то я рад. Да, то я рад. Она может пройти сюда. И ее пение… я буду слушать. Но ничье другое. Пусть споет она – строгая русская девушка. Пусть споет она нечто большое.
И Мэри пела. Ей странно и жутко было петь тут, в этой пыльной комнате, перед высохшим неподвижным человеком, смотревшим куда-то далеко и вверх, но и чудное что-то стояло в ней в этот вечер, и пела она хорошо.
Когда она кончила, герр Тернер приподнялся немного с постели. Было уже сумеречно в комнате, и тонкий золотой месяц виднелся в окно.
– Я не вижу ее совсем, – сказал Тернер своим странным, серым голосом, с усилием, но громче, чем раньше. – Может быть, ее и нету тут, и это пел кто-то другой, кого не видно. Все равно.
Мэри тоже почти не видела его; что-то углом белелось над кроватью, где лежал он прежде. Было тихо и жутко. Казалось, что наполовину нет уж его тут, и что таинственное что-то и важное совершается в этом пустом, застоявшемся, холодном воздухе.
«А, может, мы и в самом деле не люди с ним совсем? – мелькнуло в похолодевшем Мэрином мозгу, – может, и есть только те… а мы так, призраки, вздор?»
– Ныне отпущаеши, Владыко, раба твоего с миром… – произнес оттуда же, с кровати чей-то спокойный сухой голос, – яко видесте очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех…
IV
Через несколько дней, когда герр Тернер умер, Мэри с кухаркой и «родственной девицей» провожали его до кладбища. Оттуда все разошлись в разные стороны. Был прохладный, красивый осенний день. Утром был легкий мороз; он свернул и изжелтил последние листики на деревьях, осел белым инеем по канавкам бульваров и подтянул воздух; воздух стал тонкий, прозрачный и как будто ломкий; далеко и точно в нем стали видны предметы, и аллея бульваров уходила особенно стройно и изящно в голубоватую даль. По этим прямым аллеям долго ходила в этот день Мэри и не пошла на службу совсем. Заходила она в парки у моря, с тихими зеркальными прудами, и долго смотрела в воду; медленно и бесцельно, из-под ветерка скользили по воде желтые листья, и вода казалась бесконечно прозрачной и глубокой-глубокой; глядя в нее, Мэри видела и пару своих громадных, темных глаз, и эти глаза были суровее и строже настоящих Мэриных, как будто снизу, со дна, взяла себе что-то новое и важное.
Так же она ходила тут и позже, месяц спустя в тот день, когда, наконец, ее выгнали совсем со службы «за нерадение». И так же была сурова. Только теперь было холодно, ветрено, и красная вечерняя заря сквозила из-за голеньких, свистевших веток. Огненная и холодная заря упиралась в море, а море было синее и грозное. Оно било, как живое, по песчаному берегу у парка, и швыряло на песок шуршавшие льдинки. Пруды в парке замерзли, лед был темноватый, гладкий с зеленым отливом и белыми пузырьками. Снегу еще не было.
– Пускай гонят, – говорила Мэри себе. – Пускай.
Лед глядел таинственно, и мертвенно шуршали запоздалые коричневые листочки на деревьях.
Потом, много позже, на небо вышла луна; она быстро бежала навстречу бледным облакам и сеяла на землю редкий, желтый свет. Мэри, похолодевшая и побледневшая, все ходила в этом свете и не хотела никуда возвращаться. Издали нельзя было разобрать, человек ли это ходит, или скитается тень.
Мгла*
Мы выезжаем: восьмой час зимнего утра. В большом пустоватом моем доме, в столовой, горит еще свеча, стоит стакан стынущего чая со сливками, пахнет сапогами, табаком и охотой, а рядом, в кабинете со смятой постелью и чуть сереющими прямоугольниками окон, все опять начинает стынуть и холодеть без человека.
Минуем деревню, едем чуть заметно под гору. Сзади розвальней, на смычках, рысцой бегут собаки, кажущиеся темным пятном; в полутьме ясно представляю себе переднего – старого Добыча, мудрого, многоопытного, всегда думающего и теперь, наверное, – в свинцовых потемках о чем-то размышляющего по-своему, по-собачьи – смутно, затемненно. Может, даже и сейчас он понимает, за кем мы едем, с кем придется иметь дело. Дрожь пробирает; не холодно, в сущности, но как-то суровы и угрюмо пронизывающи всегда эти утренние, зимние полупотемки. Кружась по голому полю, налетает безвестный, сейчас же и пропадающий ветер: пахнет он остро и вкусно, точно, правда, снег имеет запах. Тонко и жалобно звенят стволы ружья, а вправо и влево синеет неприветный хмурый снег и ровный ход розвальней, неясные тени собак сзади, силуэт кривоногого Гришки «за кучера», нежное гудение стволов, человеческие запахи: папиросного дыма, овчины моего полушубка, – все это тает в беспредельных, серо-синеватых тонах. Точно по странному, бесконечному, от века существующему морю плывет наша призрачная скорлупка.
Совсем уже почти рассвело, когда мы подъехали к «заказу». Слезаем. Далеко видно со взгорья. День теплый, сыровато-туманный. В далеком свинцовистом воздухе, над вылезшими из мутно-белого снега пятнами лесочков перетягиваются и лениво ворочаются хмурые небеса, и на всем лежит этот таинственный, мглисто-сизоватый налет уходящей ночи. Кажется, будто и лесочки, как огромные лесные звери, только что проснувшиеся, потягиваются и зевают. Что-то темное, мрачно-сладострастное подкатывает к сердцу. И собаки беспокойны, все тянутся в одну сторону; трудно держать их на смычке, а у мудрого Добыча от частого разгоряченного дыхания падают капельки с языка. Вот он подымает на меня свою седеющую морду с прокушенным ухом. Как мы понимаем с ним друг друга!
Лошадь привязана в кустах. Гришка ведет гончих на смычках в обход, я лезу по колено в снегу.
Вот «лаз»: извилистая лощинка в лесу, сходящемся мысочком, – нельзя будет «ему» миновать меня. Так и напорется.
Почему-то вспоминается мне опять Добыч; иногда он тоже охотится. Молодежь гоняет, а он, не торопясь, трусцой забежит наперерез, станет на лазу и ждет зайчишку. Так же этот волк цапнул вчера мою Затейку и, теперь слегка подраненный, залег где-то в чаще заказа. И равно меня, собак и волка охватил этот далекий, неясно маячащий горизонт. Слышно, как сороки стрекочут вдали; вот даже видно, как они ныряют в воздухе; длинными, бело-черными стрелками. Хитрые, неприятные птицы – несмотря на кажущуюся веселость: в самых далеких глухих чащах, где гниет и разлагается что-нибудь, они беззаботно трещат и перепархивают с ветки на ветку.
Но вот собаки гонят. Низкий, мерный бас Добыча похож на набат, а вокруг толпятся и прыгают наперебой веселые, как перезванивающие колокола, голоса молодых.
Далеко! «Он» после выстрела рванул задом в сторону, присел на мгновение… я тоже пригнулся, как будто этим можно было пригвоздить его к земле. Но нет, все-таки он справился и побежал. Бежал он странно, запинаясь как-то, но все же резко. Я понял, что он пойдет лощиной; лощина – полудугой, – надо наперерез. Задыхаясь помчался я к розвальням; как-то странно было: виднелись опять лесочки на горизонте, пушистый снег был не по-утреннему бел и беззвучен, и, хотя в ста шагах была лошадь с розвальнями, казалось, что никого нет, кроме нас с волком. Все вокруг молчало, но имело иронический вид.
Трудно бежать по снегу; собаки, и те устали.
Гоню Серенького. Целиком, без дороги, захлебываясь от волнения, мы скачем по белому снегу, под загадочно серым небом, где совсем ничто не звучит: жалкий мой выстрел был похож на щелк пастушьего кнута. Выходит так, будто навалили в гордом, пустынном месте пухлый слой белой ваты, чтобы разные чудаки не мешали звуками этому небу и этой земле, которая туда глядит. Вот и овраг. Спрыгиваю с саней, бросаюсь стремглав в низкие кустики, опускаюсь на одно колено в снег – жду. Бежит по дну оврага рысцой, устал. Снегу внизу много – пар валит от него. Сейчас, сейчас! Ружье на перевесе, темно-стальные стволы с крохотной мушкой чуть чертят концами в воздухе, сердце стучит толчками, в глазах зеленеет… Почти шагом выбирается на ту сторону – остановился. Но расстояние… Делать нечего, ложе у щеки, мушка чуть-чуть ездит по его серому боку… Удар!
Простым глазом видно, как хлестнуло его, как мучительно он перевернулся, завертелся на месте и все-таки рванул бежать.
Я сжимал все мускулы в себе, корчился от желания схватить его, в слепой ярости бросался вниз за ним в овраг, что-то кричал. В горле хрипело, пальцы хрустят, рот дергается, что-то безумное владеет мной.
Когда я выбрался на ту сторону, он был уже шагах в двухстах. Он плелся трусцой по дороге, а наискось, по цельному снегу, тянули за ним собаки; но они едва двигались от усталости, и он, видимо, уходил. С той стороны Гришка во весь опор гонит Серенького. Прыгаю к нему в розвальни – начинается гонка. Впереди он, мы видим по дороге пятна крови. Гришка хлещет Серенького, я в диком азарте впиваюсь глазами в эту ковыляющую, серую фигурку впереди… Что-то ночное, жуткое, похожее на те таинственные утренние полупотемки, в которых мы ехали сюда, наполняет мою душу и толкает вперед по белому полю за ненужным волком. Вот уж он недалеко, впереди две фигуры – рудокопы возвращаются со своих «дудок».
– Дер-ржи! Дер-ржи-и-и!.. Бей его, ворочай его-о-о! Ворочай его-о!
Фигуры суетятся, чем-то машут… Волк все ближе и ближе; видимо, он не хочет или не в силах уже сворачивать с дороги, где бежать ему легче. Что-то взметывает над фигурками, волк приседает серединою спинного хребта, на секунду приостанавливается, потом круто поворачивает в снег и, увязая по уши, из последних сил лезет куда-то.
Опять я грудью пробиваю себе дорогу в снегу, опять Гришка с Сереньким сзади, а волк ползет шагах в полутораста впереди… Сзади слышно, как Гришка ругает рудокопов, и в торжественном полусумеречном воздухе странно слышать грубые слова.
– Не уйдешь, не уйдешь! – бормочу я про себя.
Вот мы выбираемся на край пологой покатости: это долина Березянки: направо, вдалеке, мельница, прямо внизу, – вспухшая к оттепели, со свинцовыми пятнами воды Березянка. Правый берег обрывист, дальше синий, мрачный бор. Все это вижу я смутно, как во сне: до того ли мне теперь?
Видимо, он изнемог; я тоже измучен, но уж теперь ясно – кто-нибудь из нас должен свалиться…
Почему-то он тянет прямо к мельнице; если ему удастся доползти до бора, он спасен; я знаю это и жму его к крутому, со снежными навалами, правому берегу, где труднее выкарабкаться. Вот мелкие озерца, проступившие темно-водяными пятнами, сейчас и сама речка. Где снег посуше, его след чист, с ярко-красными каплями крови, по мокрому кровь ржавеет и расползается, как «сиена» на сырой бумаге. Озирается; как будто приостановился и оглядывается: прямо впереди, за узенькой речкой, вогнутый сугроб снега с нависшей коркой наста. На мельнице что-то шумят, сзади тоже слышны голоса.
Изо всей силы взметывает через речку вверх… Видно, как снег под ним обваливается пластами… Уши прижаты назад, все тело сжалось для скачка, все, все для него теперь в том, чтобы выпрыгнуть на тот берег. Прыжок – но это уже и не прыжок, а предсмертная судорога – вместе со снегом оседает и он сам назад – и наконец. Теперь он сидит: передние лапы стоят, зад беспомощно увяз в снегу; морда обращена ко мне, а я все ближе и ближе и все яснее вижу эту шилообразную, оскаленную морду с треугольными, прижатыми назад ушами. У раненых ворон бывают такие глаза – помню, в детстве я боялся их: ужасно это предсмертное сверканье, эта непримиримая ненависть.
Но он мой, мой! Теперь уже его серое тело крепко сидит на мушке моего ружья, – какое наслаждение! От первого выстрела, как от удара плетью, он весь передергивается, морда никнет в снег… Но он жив; он судорожно вытягивает еще в стороны то одной, то другой лапой. Увязая по пояс в снегу, подбираюсь ближе… Теперь уже, в десяти шагах, картечь шлепает тесной кучей, шерсть в одном месте разлетается, как пух подушки, закоптелый пыж валяется вблизи на снегу, и противное, истерзанное мясо вылетает, кровавя снег вокруг…
Мы одни: я и он. Гришку я услал на мельницу; собаки, фыркая от неприятного волчьего запаха, побрели за ним.
Он лежит все там же, – где его застала смерть, – я повыше, на снежном гребне, которого он так и не одолел. Спускаются сумерки. Их наступление напоминает беззвучный, причудливый и таинственный полет летучей мыши над опустелыми ригами. И вдали, где узкие ленты лесов тонут в неясной мути, возникают невнятные, сумеречные отзвуки белых полей; колеблясь, тают они в воздухе. Язык их темен, мрачен и малопонятен, как далекий плеск моря. Все темнеет; ветер шуршит коричневыми листьями на меже; облака сошлись на небе уродливыми грудами, – бросают тягостный, аспидно-фиолетовый отсвет вниз. Пустынно и дико кругом.
Скоро приехал Гришка; мы взвалили волка на розвальни и поехали. Стемнело. Я вытянулся на спине, во весь рост в розвальнях, придерживая левой рукой волка, который лежал со мной рядом и тоже как будто смотрел в небо. Впрочем, оба мы одинаково ничего не видели там и не могли ничего увидеть и понять. Глухая страшная ночь чернела вокруг нас и над нами, и было все равно, смотреть ли вверх, вниз или еще куда. Все вокруг было одинаково непонятно и враждебно нам. Волк начал уже коченеть, и странно было в темноте трогать пальцами его жесткую шерсть, торчавшую космами и выросшую будто на мертвом теле. На раскатах он откатывался, так что я должен был обнимать его, а потом, когда розвальни становились на место, ударял меня своим угловатым, неприятно твердым телом.
Дома, в огромных нежилых комнатах, стояли те же холодные потемки, и весь дом, ветхий, поскрипывавший от ветра, полуслепой – с двумя-тремя светившимися окнами, выглядывал жалкой развалиной. Волка трогали, ахали, щупали; только старая, почти лысая кухарка Аграфена, которая прожила уже около восьмидесяти лет, всматривалась в него угрюмо и молчаливо.
На улице же в это время выл и крутил уже яростный ветер и дергал ставни окон. Много позже, когда все в доме спали, я отправился через целую вереницу пустых, гулких комнат в залу посмотреть, заперта ли балконная дверь.
Толкнув ее, я вышел на балкон. Снег слабо белел на нем, а дальше чернела, как непереходимая бездна, бесконечная бушующая мгла, то свивавшаяся вихрями, то удушающе налетавшая спереди, с воем охватывая всего, с головы до пят.
Вспоминая нашу пустынную борьбу, там, в безлюдном поле, я не испытывал ни радости, ни жалости, ни страсти. Мне не было жаль ни себя, ни волка, ни старую кухарку Аграфену, но не было бы странно и то, если бы в этой безлюдной тьме я увидел неподвижное лицо Вечной Ночи с грубо вырубленными, сделанными как из камня огромными глазами, в которых я прочел бы спокойное, величавое и равнодушное отчаяние.
Океан*
Часть первая
Человек идет в гору. Довольно жарко, но прилетает ветерок, быть может, из каких-то южных рощ, из-за бледно-синего горизонта. От него легче дышать, а скалы впереди горят, и над головой нависают их громады. Остров все глубже уходит вниз; там белая деревня с плоскими крышами, – впереди только тропинка вверх.
Скалы лезут с обеих сторон, но дальше плато и отлогий подъем к самой верхушке. По этой траве мало кто ходит, здесь гуляют океанские ветры, цветут милые цикламены.
Человек, добираясь до них, ложится на землю, пьет их тонкое вино; солнце погружает все в свой свет, – благословляет человека и скалы с дальнего зенита. Но вокруг разлегся и океан – он тоже вбирает его лучи, растворяет в себе, и его вода от этого становится легче, дымнее, будто напитана светлым облаком.
Он встает и медленно идет кверху. Вот он у обрыва; скалы отвесны и вниз, до моря, лететь полторы-две минуты. Камни разогрелись от солнца; если оборачиваться на полный круг, то везде по горизонту будет черта океана – смутная и подозрительная, будто обманывающая.
Человек ложится в тень, около камней. Глаза у него закрыты.
Нынче опять был сон. Он приходит уже не в первый раз за время, что он тут. Это все то же незапоминаемое и легко гибнущее; оно оставляет по себе утром влагу в груди, и нечто внутри омыто им. Оно появляется в часы ночи из сложной сети снов; медленно двигаясь, находится где-то вблизи; есть что-то невозможное и далекое в нем.
Он улыбается.
– Невозможное!
Когда бьется о берег дымное, передвечернее море, в волнах есть что-то оттуда же; будто они все это знают, и бегут-бегут – кажется даже, что над морем в тот час есть чей-то голос. Тогда хочется лечь у подножия волн, на песке, и так нежно любить!
Ветер стихает; приближается полдень. Солнце стоит высоко, и белый огонь наполняет все вокруг; на океан нельзя глядеть, он – гигантское, лежачее солнце.
Человек чувствует, как накаляется его лоб, и мозг затихает, будто растаял в прозрачную жидкость.
– Милые цикламены! Славные цветы!
Снизу же, от ровных вод, встает и захватывает все в свою власть густота; необъятный плащ стягивается с океана и покрывает все собой. Он – не для звуков, и не для жизни. В его пространствах могут только слепо вырастать цикламены, горные существа. В великом молчании лежит все внизу, и корабли беззвучно чертят синеву. Они стоят на одном месте, но и текут в разные стороны, раздвинув белые паруса. Вот они образуют фигуру, как звезды на небе. Проходит время, и фигура меняется, но они все стоят. Человек лежит смирно, – над ним мертвый парус; штиль в его сердце. Когда глаза его смотрят вверх, они видят послеполуденные облака, они читают в них «беззвучие» и «безнадежность».
Внизу у моря, где рыбаки, живут шумно. Когда стихает день, и чуть туманится океан, звезды бледнеют в его парах; кажется, что большой темный дух благословляет эти несколько скал, вышедших из его сердца, покрытых виноградниками, южными лесами и кактусами; он осеняет своим дыханием и здешних людей. Это ночной владыка, отец волн и глубины. Здешние люди не видят его, и, может быть, даже не знают о нем ничего, потому что ночью крепко спят, здоровым сном; а с утра до вечерней зари их жизнью правят иные силы.
И когда ночью человек взбирается по горным тропинкам кверху, он никого не встречает по пути; он уверен, что взойдет один, и никто ему не помешает.
Океан внизу, он дымен, влажен, ему понятны туманы и бледные души. По небу текут неяркие созвездия; крайние звезды, что недалеко от горизонта, уплывают глубже вниз, за черту вод, точно обрученные океану.
Он спит и видит сон: он ходит взад и вперед, из одного угла в другой, в какой-то зале. Зала небольшая. Очень светло, но никого нет, хотя где-то танцуют. Вдруг сзади появляется та, кого он знает и не знает. Как всегда, ее трудно разглядеть; по обыкновению, слегка болит при этом грудь и сердце, точно туда впустили слабого яду.
– Отчего вы здесь одни? – спрашивает она.
Он улыбается, молчит и продолжает ходить из угла в угол.
– Отчего вы все ходите тут?
Он опять молчит, хотя где-то у него внутри, ниже боли и яда, есть ответ; но жутко его сказать, и кто-то мешает. Произносится он так:
– Никогда. Никогда. Никогда.
Он просыпается, пробует посмеяться над сном за то, что он «поэтичен», но слабая тоска все же давит сердце.
На берегу, у моря, веселый шум. Село на мель небольшое рыбацкое судно; со всего островка сошелся народ; добыли канатов, зацепили, стараются сдвинуть нос со светлого песка. Неизвестно, чье суденышко, но кажется, будто общее, и дело как-то касается каждого. Бранятся, лезут в воду. А на берегу мальчишки ходят колесом и поют девушки.
Наконец – сдвинули. Теперь и взрослые прошлись бы на руках – он смотрит на них, и ему хочется весело смеяться; а им уж некогда: скоро пароход, надо готовить лодки.
В самом деле, через некоторое время пароход останавливается в полуверсте от острова, бурлит винтом, и к нему с разных сторон бросаются лодки. Они танцуют на голубых волнах, везут вести, через час он получает с почты, с парохода же, письмо.
Прочитав, он кладет его в карман и отправляется в горы.
Он улыбается, но внутри у него тихо:
«Она думает, что страшно „конец“. Но она молода. Что она знает? Милая женщина, славный ребенок, – прощай».
Широко вокруг. Направо, налево, на поворотах спиральной дороги появляется океан. Идет время; вот и склон, где цикламены, и верхняя площадка с развалинами.
Человек ложится на камни, подползает к обрыву, где прямо внизу видно море. Слегка мутнеет голова. Правой рукой он вынимает письмо, целует его и выпускает из рук. Медленно кружась, порхая, оно нисходит в синие глуби, что видны внизу. Он встает. Сердцем его овладевает торжественное; кажется, будто с кем-то он обменялся чудесными, золотыми кольцами. Будто он навсегда обручен.
Океан же, всасывающий у горизонта в себя небо, летит вокруг по-прежнему. К нему обращается сердце, и кажется, что здесь надлежит дать ответ – вдали от песен рыбаков, при надземных ветрах и кораблях-звездах. Человек становится лицом к океану и солнцу, долго стоит, потом опускается на колена и кланяется до земли.
В этот же день, после полудня, он гребет обеими руками, в лодке, прочь от острова. Это приятная прогулка. Легко бежит вода, легко грести; остров туманится чуть-чуть, и у его подножья беловатая мгла.
Сверху, с того места, где он сидел днем, лодку сначала видно. Она кажется щепочкой, лежащей неподвижно на легкой зыби. Но идет время, ее контуры труднее различимы, и иногда глаз совсем теряет ее в однообразии вод.
Солнце ниже, наступает передвечерний час. Куда ни глянь с высоты, везде тихо и ровно. Только на юге, очень-очень далеко, горная цепь на материке и вулкан: он дымится слегка.
Никого нет в море.
Часть вторая
Прошло время, ничего не осталось от того, первого. Но остров не изменился, хотя некоторые родились, иные умерли.
Раз с парохода на него завезли женщину. Рыбак, который плыл с ней на лодке, не мог добиться от нее слова, хотя заговаривал на разных языках.
Когда она ступила на землю, ей сразу показалось, в блеске и радости, что-то огромное, что сжимало ей столько времени грудь кольцом, сразу облито здесь пламенным светом, от которого неудержимо тает все. Через несколько часов, выйдя из своего нового жилища, она остановилась на распутье; тропинки шли в разные стороны, среди виноградников. Она легла на землю, под палящим солнцем, и рыдала; вокруг висел виноград; он созрел уже, и его темные гроздья готовы были сорваться с веток и пролиться на землю мощной кровью, искуплением.
Это был первый день. После слез, поздно вечером, она уснула спокойно – на всю ночь. Она верила, думала, что все уже ушло с теми слезами, и что разодранная грудь срослась.
Но раз, в жгучий полдень, она поднялась наверх, к площадке и камням, где некогда уже лежал человек. Здесь она обвела взором вокруг и смолкла: огненный глаз стоял высоко и недосягаемо, а по металлически-неподвижному океану, к солнцу, на юг, шла раскаленная дорога; в ее блеске была смерть и покой, зыбь как будто замерла в этой желтой меди. Сразу стало похоже на север. Это – снежное поле; оно покрыто жесткой, полуледяной корой, и солнце неумолимо блестит на нем. Если броситься вниз, то неминуемо разобьешься о металл. Длинный, медленный гул над морем.
Она подошла к самому обрыву и злобно топнула о выступавший камень; он дрогнул, отломился и полетел, как будто снизу властно требовали его к себе; за ним обвалилась глыба и, шурша, съехала со своего места, у самой ее ноги. Она побледнела и отодвинулась на шаг.
Но тут подбежали две славные девушки, с острова, смуглые и тонкие, с красными лентами в волосах. Они испугались, что она так близко от опасного места – там изгородь даже; они затараторили по-южному, а она улыбалась, и все трое отправились на склон, за цикламенами.
Но и после цикламен, внизу, дома, она по-прежнему ощущала в себе накаленное железо, – то самое, от которого она кидалась из стороны в сторону и попала сюда.
Приходил горячий вечер, и хотя над морем был ветерок, но казалось, он летит далеко с юга, от Африки и Туниса; под него трудно было заснуть, он охватывал пламенным покрывалом голову, заставлял кровь сильнее бегать в венах и рождал дикие сны.
Так видела она постоянно погони за собой; она спасалась куда-то с маленькой дочкой на руках, но не было выхода – все двери в последней комнате заперты. Тогда девочка становится котенком – рыженьким с темными пятнышками; но откуда-то напускают громадных котов, – они сразу растерзывают детку, и ничего уже нет, кроме клочков мягкой шерсти.
Так в бешенстве, ужасе и слезах просыпалась она после мрачных ночей.
В окнах стоял дымный зной. Из туманов над водой подымался огнедышащий пик; это уже на материке.
Временами он давал о себе знать; гудели удары где-то вглуби, точно призывали к бунту и хотели уничтожить, разнести всю эту землю.
Тогда по океану шли тяжелые волны; казалось, что некогда и сам остров вышел на свет и солнце после такого же мятежа, и ему знакомо это. Злобный пламенный бог был заключен где-то ниже подошвы этих скал и наводнял воздух и все вокруг своим дыханьем.
Цикламены никли тогда на вершинах, и голова мутилась даже днем.
Однажды, в такой полдень, женщина была наверху. Она глядит в ту сторону, домой, где ее мука. Из вулкана подымаются коричневые клубы.
– Если бы я была Антигоной или Медеей, я б заколола себя, и была бы Трагедия, с божествами и коротким мечом. Но все же… – она переводит дух, – проклятые, проклятые!
Небо и океан; они молчат; они как будто благословляют кровь и скорбь; ветерок шипит в сухих травках, маленькие камешки скатываются в пропасть. Тогда, заложив руки за голову, закрыв глаза, она вдруг двигается вперед. Она идет прямо, ровными шагами к обрыву, где когда-то человек бросил письмо. Подходя, она не замечает, что скоро уж воздух. Нога смело становится над высотой и тело сразу срывается вперед.
Вот оно летит. По дороге голова бьет об острый выступ скал – уже внизу. Яркая кровь кидается туда же в темный, пламенный океан. Там красное соединилось с синим. Был слышен всплеск, но те утесы пустынны, они слишком остры и недосягаемы – никто не видал ее.
Часть третья
Ночь. Тепло и слегка туманно. Давно спят на острове. Очень, очень молчалив океан. Он не бьет волнами о скалы, не гудит – это его сокровенный час; он один, в своей недвижной стихии, точно темный царь, нерождавшийся, бессмертный. На вершинах, во времена благословляющей ночи, цикламены радостно дремлют и благоухают; их корни во влажной земле, покоящейся и питаемой океаном; сверху же они открыты взорам светил.
Тучи звезд слабо плывут по небу; они медленно подымаются из-за горизонта, рождаются для ночи, проходят свой постоянный путь и погружаются в океан, из которого вышли. Таково восхождение и неизменное обручение звезд.
Великий океан, глубокий владыка, принимает приходящих к нему.
Деревня*
В большом доме бабушки тепло, много разных вещей, видно, что живут тучно; все пропитано бабушкой, ее теплой, хлопотливой жизнью. Кофе жирный, вкусный, к нему гренки, как любил Крымов. Вот и кофе отошел, и отобедали. Дед пришел красный, потный, за обедом ел много борща, на кончике уса у него повисла капустка; потом пошел спать, и спал тоже крепко, как Крымов в эту ночь, как и все здесь. Комната будто дрожит от дедушкина сна; в гостиной темнело слегка, сгущалось что-то, стояло очень много мебели, и стояла она тут давно. Какой-то уют был в гостиной старой бабушки, а сама бабушка, в многолетней кофте, в галошах и теплом платке, вечно бродила то по дому, то по усадьбе: то отворяла старые сараи и рылась там, вытаскивала разные нужные и забытые шубы, то перекладывала яблоки в чулане, и всегда ее обволакивало что-то здешнее, прочное, чего не возьмешь ничем. Крымов после обеда лежал на диване в гостиной и смотрел, как растут сумерки; что-то особенное истекало от кресел, дивана, ковров, на которых столько сидело, ходило, которые видели рождение Крымова и долгую, будничную жизнь деда с бабушкой, разговоры об овсе, деньгах и о жизни. Они как будто спрятали в себе кое-что от этого овса и жизни. А вдалеке неугомонные, хлопотливые бабушкины шаги в прихожей, кладовушках и кухне. Крымову захотелось спать, по-хозяйски, с храпом.
Но вот колокольчики. Гость, сосед. Принимают его в сумерках, и опять разговор; но старой, умной, нелюдимой бабушке, которая вечно что-то свое думает бродя, – скучно. А гость длинный, на несколько часов; впереди самовар и ужин, а пока он все журчит, рассказывает, Крымов слушает, его завораживает этот человек; жаль, нельзя лежа слушать. Картофельные ямы, сгнила в них картошка. Бьет шесть, зажгли уже лампы, выходит дед, умытый, здоровый, веселый. Сильные степные люди хохочут, целуются, дед берет гостя за талию, все идут пить чай. Самовар на столе, белый хлеб, твердое, желтоватое масло.
Поздняя осень: Крымов бродит по усадьбе. На перекрестках он часто сталкивается со старой бабушкой; она все такая же мрачная и хмурая. За ней следом бегают индюки и индюшки; в амбаре, где в закромах мука и овес, она смотрит, как выдают, и в это время кофта у ней запачкана белым. В молотильном сарае идет молотьба. Рано утром, в ненастных потемках, когда ветер рвет во все стороны, работники копошатся в людской, идут с фонарями, сонные и угрюмые, в сарай. Там мглисто светят их фонари в туче пыли из-под молотилки, и люди швыряют в полутьме снопы, швыряют, швыряют, подают, молотилка ест и вздымает тучи пыли, а вечером, на заре, когда ветер стихнет, – замирает воздух, небо, и низко над пашней летит черный ворон на верстовой столб; все смолкает, и люди мерят зерно. Зерна насыпают кучи, оно текучее, * гладкое. А земляные люди рады зерну, хоть и чужому. Особенно пахнет в это время в сарае, а дальше за сараем рыхлый чернозем, глубокий-глубокий, как бабушкина простая и всегдашняя дума; как то, что течет в мозгу Крымова, бабушкина внука, когда он бродит по вечерам в тех местах.
Издали, в полутьме вечера, березы вокруг усадьбы сливаются в одну глухую, гудящую стену, а сбоку торчат лохматые риги; на них по вечерам собирается воронье; в этих сумерках они глядят ночными жителями; и далеко по горизонту ходят свинцовые облака.
По сторонам дороги, по глубокой пашне огромные черные комья и пласты земли; в полутьме они кажутся больше и линии их круче и причудливее; будто лицо глубокой земли изборождено и взлохмачено кем-то. Там лежит она, грубая и чудная, а небо хмурится и темнеет, и уж летит сбоку, косо, упорный осенний дождь. Земля хлюпает и чмокает, черная жижа под ногами, а Крымов с наслаждением бредет под мелким боковым дождем, мимо побуревшего жнивья, полукругом, к грубо сработанной, коричневой деревушке. В это время там, за черно-туманной завесой, все возят могучее зерно; здешние мужики и бабы в деревушке хлопочут, раскладывают свою пеньку, доят коров, ходят на поденную, возят лес.
Черный обворожительный ком-земля кипит и бурлит, сечет себя дождем; гонит вверх тонкие росточки зеленей, кормит и поит мужиков и здорового, кряжистого деда.
Глухо гудят сторожевые березы вокруг усадьбы.
Дед ходит по саду с другим дедом, который снимает у него сад. Тот старик – старшина; он выше крымовского деда, борода у него как снег, и очень длинная, в руках толстая палка. Идет дождик, седой, важный старшина собирается уезжать. Ему подают вороного жеребца, здоровенного, похожего на сына старшины, что сидит, правит. Жеребец подхватывает, грязь, грязь, шипя, летит из-под копыт и колес; ветер треплет седую бороду.
А дед опять торопится. Вдруг он видит непорядок: подпасок гонит дойных коров рысью, щелкает длинным кнутом, пугает их. Дед сердится, машет в воздухе палкой, кричит, багровеет, а ветер треплет его резиновое пальто; осенний ветер бурлит и клокочет, рвет березы, гонит облака над лохматыми деревушками, что разлеглись кругом; дождик взмачивает сырую глубокую землю, куда уходит нога деда по щиколотку. И когда дед приходит обедать, лицо у него обветренное, весь он пропитан запахом поля, которому нет конца.
После обеда Крымов с дедом едут на ярмарку. Дед правит сам, и они едут быстро; лесочки, взъерошенные деревушки в полях, черные рытвины и косогоры. И там, на площади, месят ногами грязь, бродят сыны народа, покупают глиняную посуду, щелкают орехи, торгуют пахучие кумачи; хрустит брюква, уплетают пряники, пахнет дегтем, сермягами, грязно, и облака собираются сесть на головы гуляющему народу, темным толпам, что ходят взад-вперед.
А когда Крымов с дедом едут назад, по грязи тянутся подводы, телеги с пьяненькими с ярмарки. Пьяненькие орут, вспоминается запах кумача, слегка темнеет уж; хмурый сумрак дышит, подводы сливаются, кажется, что по всей дороге сплошь ползут бесконечные обозы, везут народ куда-то; угрюмо-пьяный народ поет песни и едет в разные стороны; будто тронулись куда-то в поход жители черной земли; тяжелый ворон засел на столбе на перекрестке и не хочет улетать, – Крымов с дедом совсем к нему близко. Дома же Крымов опять лежит в полутемных комнатах и прислушивается к чему-то; ему кажется, будто он слышит грубую работу в усадьбе: доят молоко, мычат коровы…
В груди крепкой и грубо сделанной деревенской земли идет тоже работа, и эту работу Крымов тоже как будто чувствует. Вот стоят живые плотные деревья, по хлюпающей грязи лошадь с трудом везет в горку бочку с водой из пруда, и земля раздается под колесами как живая, а рядом падают листья с клена.
Но как будто он начинает и дремать, будто он прислонился уже головой к тому, на чем покоится вся эта земля, чему она близка; бочка с водой въезжает в дерево, деревья наполняются пьяненькими с ярмарки. Крымов погружается в крепкий, горячий деревенский сон.
В темнеющей роще свистит ветер; в ней небольшие котлы, вроде плиты под открытым небом; под котлами огонь, а в них варится, бурлит картошка для свиней. Ее насыпают в котлы до краев, сажают мальчугана смотреть за ней, чтоб было что есть толстобрюхим, гладким боровам. А борова лежат там коротконогие, похожие на тюленей, какое-то ходячее сало, лежат, ждут ножа; и когда глядишь на такого, как будто уж видишь, как плавно и легко погружается тонкий нож ему под горло. Много нужно картошки для них, они все лежат, смотрят в одну точку и жуют; они ужасно много могут съесть; как будто это лежат готовые колбасы, всасывающие жирные пиявки. И темным вечером над котлами для варки мощно гудит ветер в березах, гонит низкие тучи над взлохмаченными пашнями, над черными грядами, из которых недавно, всего несколько дней назад, вытаскивали эту картошку.
Вечером в сырой день по усадьбе то тут, то там движется фонарик, топают и чмокают в грязи сапоги молочниц и работников, ругань временами вырывается из темноты. Ужасно грязно у скотного двора. Всегда из-под ног и из стойл послушных жирных скотов, что стоят там, сочится эта мощная удобряющая сырость, от которой пахнет теплом и силой, и земля в этом месте на улице черна и жирна. А там, за стойлами и перегородками, тоже тепло, стоят и жуют жвачку тучные коровы, тихие темные скоты. Вечером при тусклом свете двух-трех фонарей здоровенные бабы молча выдаивают их. Молоко пахнет, тонкие струйки его методично брызжут, в ведре пенится, а корова сонно жует и отрыгивает. От одной к другой выцеживают их молочницы, а воздух все густеет, все теплее становится, и сильнее пахнет молоком.
Позже, когда молоко в тяжелых ушатах стащено в молочную и процежено, когда все огни в усадьбе потушены и молочницы спят сном рабочего человека, этот теплый, животворный запах не покидает их.
А на следующий день утром режут борова. Режет за сараем холодный микроцефал с узким, вытянутым вперед лицом – Игнат. В это время ветер страшно свищет в сторожевых березах и тяжелые вороны летят ухабами, наискось. Ветер раздувает пламя, которым палят тушу борова.
Так шумит осень в деревне. И уж ярко зеленеет озимь, рождаются в усадьбе новые обитатели – пестрый теленок, маленький человечек, сын застольной кухарки, пара жеребят. Скоро зима. Крымов знает это и ждет только снега, санного пути.
Крымов с дедушкой едут. Дорога дальняя. Много верст, заворотов, проселков до станции, а метель метет. Полверсты от усадьбы – ее уж не видать. Снегу еще немного, грубые, переделанные из розвальней сани стучат временами о глыбы закоченевшей грязи. На козлах – на деревянной поперечной дощечке – бывший солдат в армяке. Ногам его тесно; вероятно, он все время упирается коленками в передок, а пристяжных, напротив, запряг длинно, и теперь никак не может заставить их везти – везет один коренник.
Странный воздух в снежных полях, дико крутит ветер и метет полосами снег. Взъерошенные, брюхастые лошаденки бегут лениво по родным полям, в снеговом просторе. В шубу набивается снег, она пахнет мокрым мехом, а сани поминутно идут в раскат. Дед ругает солдатообразного на козлах, а ветер, подвывая деду, носится по полям. Вот тучи снега сильнее и гуще обдают сбоку вихрастых лошаденок, деревянную некрашеную дугу, деревянные поскрипывающие сани. Всюду дерево, и веревки мерзнут и становятся каляными; на козлах человек, у которого в мозгах свежепахнущее дерево, стружки; Крымову кажется, что и он наполняется тем же деревом; песни полей и снега, ветра, воющего над могучей землей, околдовывают его. В этих звуках, в медленном, тугом ходе мыслей в голове солдатообразного, в ненужных, неожиданных толчках саней, в грубой бараньей полости, скатанных клубах шерсти на брюхе и боках лошадей, – Крымов ощущает одно, простое и великое, чему имени он не знает, и что любит глубоко.
«Правей, правей», – кричит дед, но едут как раз влево, сани стукаются обо что-то, кренятся, дед наваливается на Крымова; а впереди, чрез узкий проезд между сугробами, надо нырять в деревуху, полузанесенную, растормашенную ветром, с космами соломы на крышах сараев, полуголыми ребятишками, латаными, слепыми окнами. Она страшно похожа на другую и третью, что разлеглись тут, по бесконечному пути Крымова с дедом. Путь будет мимо многих засыпанных снегом оврагов, затуманенных метелью лесочков, косогоров, бурьянов.
Крымову кажется, что скоро он заснет под свист ветра и будет видеть большой сон о полях, метелях, деревне и черной земле.
Завод*
Утром, в девятом часу, Шарль Брюно подъезжает к Сыромятной. Рысак его кормлен белым хлебом, и пролетка плавно летит мимо заводского забора. Ветром несет облака пара и дыму, а солнце полыхает в них лучами, точно это золотые волны. Брюно крутит ус; сбоку плывет теплая полоса от печей; за забором трубы, крыши, курится шлак и злобно визжит круглая пила. Поворот, ворота, Шарль легко спрыгивает. Прямо – красный ящик, контора. Сухое Шарлево тело сбрасывает пальто; вот он в правлении, в заказах, подрядах. Вокруг кишат комми, стоит гуденье мастеров, волосатых подрядчиков. Шарль коротко бросает слова. Твердый, четкий мозг его будто выстукивает телеграммы. Десятки меньших мозгов, в очках, пенсне, красных и черных галстуках, движутся вокруг. Трещат ремингтоны, пишут перья; чертят, спорят, ходят.
Так идут часы. Становится жарче, люди теплеют, что-то плавится внутри, и толстяки начинают пыхтеть. Солнце ложится из окон светлыми квадратами. Снимают пиджаки и пишут тише. Кассир за решеткой шуршит бумагами и сопит, как тюлень в клетке. За окнами раскаленно-плывучий воздух, пыль, гам. В нем снуют из конторы в завод несвежие люди, в рубашках фантази, – носят ведомости, бегут с приказаньями. Иногда бредут запаренные мастера с печей. Потом снова непрерывным потоком – монтеры, десятники, директор.
Со стороны завода тяжелый грохот, как от железных листов; и вдруг – резкий удар, точно огромным молотом раскололи чугунный котел. Мастерские, рядами и отбегая вбок, разбросаны как стальные коробки.
В самом центре их – паровые котлы и электрическая станция. Под котлами в топках горит каменный уголь медленным, раскаленным пламенем; пары под страшным давлением покорно скопляются в сухопарнике и текут наверх, в машины. Здесь высокая зала, много свету, однообразно рычат динамы; электротехники стоят у медных приборов, как автомобильные шоферы. И все время воздух тихо, мощно ухает, масляный пот дымится под ползунами и царят спокойные силы, прозрачно-холодные и невидимые.
Старый директор, с палочкой, пересекает залу, оглядывая все вокруг опытным, острым взглядом; выйдя наружу, он бредет к гвоздильне проездом между корпусов. Вдали, на башне электрические часы сбрасывают стрелку с минуты на минуту, и во всех отделениях, как по команде, соскакивают десятки других. Директор сверяет свои. Мимо него катят на вагонетке дымные глыбы – шлак, в уродливых изломах, с рдеющей коркой. Сзади, в облаках пара, тени рабочих.
От гвоздильни издали – глухой шум: кажется, где-то ревет водопад, длинно, на одну ноту. Но когда директор отворяет три двери, одну за другой, грохот сразу охватывает его сплошным кольцом. Узенькие станочки идут в два ряда, в них что-то беспрерывно дергается и кривляется, как детские паяцы; стальные челюсти, ручки, ножки, сразу бьют во все стороны, и из-под их клешней безостановочной струей летят гвозди.
Он морщится, идет в другой конец, к седенькому мастеру Блоху. Воздух орет без умолку железными нотами; что-то мертвое разделяет всех; над станками гнутся хмурые фигуры; они подливают масла, щупают временами теплые гвозди; их гаснущие мозги как бы прикованы к этим пляшущим уродцам.
Сверху дрожит и задыхается туманный свет.
Улыбаясь, наполовину знаками директор объясняется с Вдохом, стоя на галерейке; сквозь стекло над ними видно небо, как из парника; а внизу – как вчера, завтра и послезавтра. Туман от грохота. И когда начальство уходит, Блох, кривоногий эльзасец, продолжает стоять по-прежнему. Изо дня в день, много лет он служит на этом мостике, пишет на конторке, смотрит, как грузят гвозди в ящички, как угрюмые глухари гнут свои спины, – и все молчит, молчит. Трудно понять, что выражает его ожелезившее лицо.
Директор идет среди мотков проволоки к своей калитке. Здесь надо немного в горку; он оборачивается, переводя дух. Сзади весь завод, – угрюмые груды с трубами, выступами и углами. Бурлят печи для сталеварения; бьет молот; в тишине дремлют магазины с изделиями; а вдалеке, на дворе, сложены штыки железа в пакетах.
Солнце жжет; раскаленные крыши дрожат в жаре; надо всем пыльное облако.
Но вдруг электрические часы сразу соскакивают на двенадцать, и сейчас же, будто в ответ им, ревет гудок. Все быстро бросают работу. Из тянульных, литейных гурьбой бредут рабочие. Со станков сбрасывают ремни, они мрут. Завод глохнет, полуденное пламя наполняет его.
Рабочих в воротах ощупывают ловким движением, и они черными лентами ползут по слободам. Там они моются, завтракают, и сидя перед низкими оконцами, глядят на улицу. Шарль, натягивая перчатки, уносится в город на холостую квартиру. Обедают мастера-чехи, конторщики, служащие. Старенький Блох ковыляет домой и хмуро молчит, будто ему вечно слышны гвалт станков и знакомые железные голоса. Директор устало пьет пиво на балконе под шум топольков. Из-за стены на него летит гарь.
Только сталелитейной нет отдыха: ей нельзя остывать, и сейчас, за толстыми стенами, глубоко внутри плавится металл; вот ломают пробку, золотой поток брызжет в формы, летят фонтанами огненные звезды, будто это расшалившийся фейерверк. Сверху, с печей, смотрят мастера, в беспокойстве, через синие стекла; огонь проникает до костей, и лица у них опухло-бледны. А внизу кишат рабочие, как при наводнении; на глазах их черные выпуклые очки, и они точно водолазы снуют под золотистыми выстрелами. Пыхтя, громыхая, подползает паровой кран, с железной рукой, повисшей наискось. Маленький машинист управляет им; как уродливое насекомое, кружит он вокруг своей оси, спускает лапу, спокойно цепляет сотни пудов и тащит в воздухе. Печь иссякает; сталь похожа на лаву, и появляются мрачно-красные тоны; стропила, груды болванок, рабочие с наглазниками – тухнут; по-прежнему дымный полумрак и дальний визг пилы.
Солнце клонит за полдень; пыль, зной, будто стон над мастерскими; железные крыши млеют; люди горят у машин, сбрасывают рубашки и голой кучей бегут к душам; трепещущие тела сразу ежатся под холодом, стекает наработанная грязь, – и опять к станкам, в прокатную. Около брусьев красного металла рубашки сохнут как в огне, от них идет пар, и кажется, что сейчас выпарятся и сами мозги.
А рядом гудят вальцы, сквозь них ползут мягкие комья железа, как красные тянушки. Их гонят взад-вперед, они плющатся, вытягиваются лентой, извиваясь, и твердые рабочие ловко цепляют их крючьями, возвращают опять; все тоньше, злее, больней растягиваться, – но волокут дальше, в проволочную; и там из-под узких желобков со свистом вырывается проволока, огненным бичом, – чертит воздух зигзагом, но сейчас же ее опять ловят, и она покорно наматывается на катушку. Почерневшие и сухотелые рабочие как будто без устали воюют с ними, – если зазеваться, обовьет, прожжет. Где-то гудит, вздыхает, будто на палубе огромного корабля с тяжелым ходом машины. Мозг устает и темные пятна идут в глазах. К четырем часам жены приносят в платочках полдни. В углах, где потише, рабочие примащиваются поесть, как после большой битвы; некоторые моются, потом, крестясь, садятся за столик; и сразу становится тихо: гул, грохот где-то далеко, как будто дух благообразия посетил это место.
Но время тянет дальше, вперед; снова они бросаются в пекло, снова здания, стекла, камень в дымном чаду; кажется, будто из людских тел выходит горячий туман. И около вальцов, по-прежнему чередуясь и взмывая яркой лентой, вылетает проволока. Вот она длинным концом охлестнула кого-то; льют воду, тащат в больницу, пахнет горелым телом, и вокруг лица бледней.
Но солнце закраснело в стеклах корпусов; засияли в закате медные проволоки, – опять гудок. Снова бредут рабочие: сталевары со слезящимися глазами, гиганты-молотобойцы, прокатчики и молчаливые глухари из гвоздильной. Все они – отдельными струями: бледно-хмурые, прокаленные огнем, возбужденные, одеревеневшие. И последними – чернорабочие. В воротах красное солнце обливает их всех усталыми лучами. Они смотрят на воздушные громады над своими слободами и понуро расходятся по сторонам.
Трудно двигать ногами в передвечерней хмаре. Тяжелое утомление на всем. Засеревшие в пыли мастерские хрипят еще, но гвоздильня уже молкнет, точно ее водопад отведен в другое место; кажется, что и всем этим дымным массам надоело стучать и грохотать. Толстые чехи, паспортисты, чертежники плетутся по домам. В чахлых садиках вокруг конторы появились самовары; старый директор пьет у себя на балконе чай со сливками; но сбоку дымит вагранка, и рядом снует маленький паровозик, портя нефтяными остатками тополя. И у всех самоваров, во всех беседках, где пиво, чай, сельтерская, – тяжелые груди и глаза с красной поволокой.
Рабочие же дома умываются и тоже пьют чай с побледневшими лицами. Но в маленькие оконца льет растопленный воздух с сухой пылью. И скоро плац за заводом чернеет кучками. Тяжелые группы сидят, стоят, вяло бросают орла и решку, сонно курят, лежа на спине, глядя в небо. И кажется, что это выбросили на берег бедных рыб, которым нечем дышать.
Солнце багрово закатывается. Красный дым, муть надо всем. Женщины с детьми идут домой, девушки бегут в рощу. Там, среди сосен и песочных ям появляются босяки; на огородах вокруг кончают работать, и бесстыдные бабы отдаются по канавам. Сохнет капуста от зноя, пахнет нечистотами; ржавыми полуконусами торчат баки для нефти. И издали – со свалок на завод и плац надвигается жаркая, вонючая туча; медленно развертывается она сухим пологом и осторожно пропитывает все уголки домов, садиков, комнат. Если смотреть, она стоит за рощей, призрачно бурея.
Пожелтевшие люди прячутся по домам; чехи тяжело дышат, пьют пиво и ругаются в своих беседках; директор чахнет, берет прохладную ванну и ходит с расстегнутым воротом. А издали, от заставы, где хутор золотарей, выезжает обоз – в город и к заводу. Темнеет, у ограды затрепыхали фонари, будто на нее надели сияющий пояс. Плац опустел, рабочие крестятся, ужинают, ложатся спать. Скоро огни у них гаснут и их кривые улочки пропадают во тьме, сливаясь с домами и глухой чернотой. Временами в ней летят мимо завода яркие поезда, как тяжелые пули. Они прорезывают ночь своей грохочущей струей и гинут где-то вдали.
Голубой свет дрожит сквозь многостекольные стены прокатной, и завод кажется синеватым фонарем. Поздно ночью к нему подползает обоз бочек. Сонные золотари покачиваются на передках, и весь их отряд похож на цепь тараканов. Они подбираются к красному корпусу, налаживают свои трубы, расставляют узкие бочки, – качают. Вдруг красный свет вспыхивает в воздухе, над сталеварной, и резкими волнами ложится вокруг, обнимает лачуги, крыши и вырисовывает все мелочи. Как бы огненные столбы встают друг за другом и рвутся в небо, бросая на облака мощный сноп. Золотари почесывают вшивые головы и с жутью глядят на фейерверк. Но вот выпуск кончился, все гаснет. Снова сияют шары, шуршат вольтовы дуги.
А они сосут, сосут. Служащие глубоко спят вокруг по домам, набирая сил на завтра. Сторожа и дозорные бьют в колотушки и хмуро стерегут чужое добро. Насытившись, бочки трогаются. Снова грубые сиденья, вонь, смутный ход пары в дышло, колеи и завеса пыли. Впереди роща, сзади пылает завод. Они вздыхают, оборачиваются на странные чудища и бормочут что-то. Настает глубокий ночной час. Золотари молчат; тяжко кряхтят мастеровые по хибаркам, спят дети, худые женщины, красноносые немцы на заводе. Директор видит во сне деревню. Шарль же спит заграничным сном у себя на пустой даче, а завтра готов вскочить с петухами и мчаться на сыромятную.
Ласка*
Мы со старшиной очень долго бродили у него в саду. Время зашло за четыре, жар свалил и было очень светло, покойно. У старшины огромнейший сад, – когда мы забрели в дальний глухой его угол, не верилось, что мы в большом селе: тихий воздух, свет, белоснежная борода старшины казались библейским – глубоким, утишающим. Может, старшина и не такой совсем, но тут его речи тихи, он ужасно благообразен и седовлас; и даже в такую Божию благодать и теплынь во всегдашней своей черной чуйке.
Выходя, мы почтительно распрощались, он важно снял картуз и приветливо гладил бороду. «Не извольте беспокоиться, все будет. Все устроим как надо».
А мой Орлик танцевал слегка на привязи, над ним вьются золотые мухи, гнедизна его тоже отливает золотистым – какой милый конек! Всего три года, он еще тоненький, но видна уже порода и благородство – вон как он вздрогнул, всхрапнул прозрачно-розовой ноздрей. Но-но, но-но-о… Шажком. Шаг у него воздушный – чуть-чуть, точно боится обидеть землю ударом: легенький-легенький, весь на пружинах.
Мальчик. Откуда такое? Как будто Ивана Ильича мальчишка. Да, просить заехать. Как же, помню. Нынче у него доктор этот будет – Иван Ильич, деревенский клуб. «Что ж, садись, дядя, подвезу!»
Дяде-то всего лет десять, сопливый несколько, и имя такое: Савоська. Однако, малый не дурак и даже в своем роде мил.
Р-раз, вспрыгнул на задок дрожек, как тушканчик-заяц, сидит смирно, занятно ведь на дрожках прокатиться. Рысью, с барином, да через все село!
Вот тут у них школа; за ней прудик, ракитки, и далеко видно, очень далеко. Сады старшины темно зеленеют плотной массой, но там, за светлым прудом далекий полукруг горизонта; хлеба, небо. И вот сейчас, пока мы едем, все это обтекают светлой волной лучи; мягко-мягко они льют себя, свою любовь и прелесть на траву, пруд, ветлы, барышню на крылечке; победно блистают в стекле. Это июньская благодать, – да, я уверен, солнце мирволит нам и верно лучи посмеиваются, нагревая худенькую пупуньку моего Савоськи.
Иван Ильич, конечно, рад: можно поговорить, пофилософствовать и выпить чайку на крылечке. Здесь у него самая середка села; вот мы сидим за безногим столиком, тянем чай, – а вокруг, по селу, потихоньку идет своя жизнь! Бабы белят холсты на мураве, гуси щиплют травку, медленно бредет пьяный и над дорогой тихо золотится пыль. А к Ивану Ильичу, несмотря на мирный час, беспрерывно идут – то один, то другой. Он сияет, лоснится, и кажется, это играет в нем все тот же горячий чай, что вливает он в себя чуть не с полудня.
Кто же, все-таки, этот доктор, о котором он мне говорил? – Доктор? Неужели не знаю? Да не может быть! Лыжин, объездной такой доктор, за шпитонками смотрит – чудак большой руки, а человек хороший, ничего сказать нельзя – хороший. «В особенности лошадок любят; да и так очень добры – ко всем-с». Да, да, замечаю, вон там запылило по дороге, дрожечки как у меня и фигура мешком, земская фигура.
«Они уж мимо нас никогда не проедут-с, у них так заведено».
Что ж, пока мы распиваем чай, он там будет опрашивать питомиц, разных белобрысых пигалиц, Сенек, Ванек. Издали видно, как шагает медведем, – а там дальше старая церковь, облупилась слегка даже, крест выхвачен золотом и вокруг зигзагами ласточки. Почему они любят так эти сияющие кресты? Верно, весело их ласточьим душам реять в воздухе вокруг такой чудесно золотой штуки.
«Они уж давно вашего Орлика насматривают, потому – много наслышаны».
Наконец, мы и допили; и он бредет, тюлень. «Вы погромче, они на ухо туговаты». Что же, если хороший человек, можно и горло поутрудить.
Да впрочем, понимает, все же, довольно славно, – привык, должно быть, – по губам. Глаза маленькие, умно-добрые, и такая улыбка: сразу как улыбнулся – открыл себя до самого нутра; и захотел бы спрятаться – не может. Теплом пахнуло и что-то незабудочье было в глазах. «Рад познакомиться, знаете ли, тут живешь-живешь бок о бок…» Я тоже очень рад, разумеется. Что же, все в разъездах? Да, конечно, ездить много приходится, ну, да это что! Работать привык. Всю жизнь на ногах – да и работа хорошая. Вот раньше служил, – в болотах дело было, так даже уши потерял. Тут-то еще ничего. Ездишь, ездишь, всего все равно не выездишь, а ведь какая страна-то! И все тебя знают, смотришь, наблюдаешь.
Рассказывает охотно. И народ любит. Есть в нем такая нотка, глубокая, с трепетом. «Их узнать надо, знать, да, тогда поймешь. И вот, – на моих глазах растут. Пробуждаются, знаете ли, растут!»
Ах, доктор, доктор, такой толстый, пыльный, со вспотевшими вихрами – я вижу вас в деревне! Да и не в одной деревне, – вы кружите на своих дрожечках по всему уезду, и всюду вы такой же теплопахнущий и рассказываете вольные мысли, как древние «братья» в посконных рясах. И так же даже детей лечите, и любите детей, только милостынку не сбираете; впрочем, верно очень голы, как-никак. Ну, вот, дошло и до Орлика дело. Хороший конек? Конечно, недурен. Это, кажется, по вашей части. Встал, надел полотняный картуз, через плечо сумка – к Орлику. Орлик не отпрянул – хорошего человека видно за версту. Улыбнулись друг другу, доктор треплет его по шее. «Хорошее созданье, страсть люблю лошадей! Только чтоб кузнец не заковал, – анафемы эти кузнецы!» Обхаживает, оглядывает Орлика, заглянул в рот. «Вот и мой – тоже неплохая лошадка. Знаете, едем иной раз в поле, – вижу, устал, – я сейчас разнуздываю, подпругу отпущу, попасется, а сам сижу, любуюсь: когда лошадь ест, ужасно это хорошо».
Так он говорит, а я сижу, смотрю. Конечно, это ему идет; такой он и есть: наверно, сам корм задает, разводит садик какой-нибудь, любит детишек, и понятно, у самого ребят куча. «У них лошадям приволье, у них легко, никогда даже пбру нет». «Пбру!» Само собой понятно. Иван Ильич хихикает, и в лоснящихся его щеках играют вечерние лучи.
Прощайте, однако, доктор, до свиданья, Иван Ильич, – надо трогаться. Доктору тоже надо. Мы дружески жмем руки и садимся на дрожки. Несколько времени едем вместе, потом он сворачивает. Вон забелел его парусинный пиджак, пыль зазолотилась над ним – укатил эскулап!
А Орлик мой не торопится; да и правда, хорошо идти трусцой по широченной улице, мимо зеленой травки, ветел, холстов, – проезжая мирное сердце деревни. И ведь вот, бегают ребятенки, – что в них? Обыкновенные ребятки, кричат: «Барин, барин, дай копеечку!» – потом, когда подъеду к околице, высыпят как воробьи, унижут все прясло, самую околицу, – заскрипели, поехали! Тут уж надо леденца, непременно, это старый обычай.
Дальше – будут они встречать скот, будет пахнуть молоком, коровами и глубокое благообразие посетит деревню: после долroro, Божьего дня с трудом и честной жизнью настанет час отдохновения, все они будут ужинать.
Но, но-о, вперед, Орленок, не робей, это просто-таки мостик, чего грустишь? Ну, конечно, переехали, да и в горку подымемся без всяких хитростей. Видишь, вон – гуляют: «учительша», поповна, молодой богослов, ученик землемерный. Это, брат, по всей вероятности любовь. Надо думать, что так. Видишь, как томно выступает учительша, под мышкой у ней умная книжка, что-нибудь старое и благородное. Вот она вспыхивает вся от смеха, смех сквозит в каждой жилке молодого ее лица. Очевидно, землемер острит что-нибудь – уничтожающе, насчет предрассудков, стариков. Здесь, в светлый летний вечер он прав, и тысячу раз будут они правы, если зайдут далеко в рожь, будут петь, рвать васильки, мечтать, смотреть, как мушки золотятся в солнечных лучах. И благо будет им, когда позже, в смутной дымке, дойдут домой – медленно и значительнее, и над речкой, в благоухании, в легком тумане, будут целоваться.
А нам можно и рысью. Мы поедем безмерным морем ржей, в синеющем сумраке; временами козодой взовьется с дороги и прореет над нами с тобой, Орлик, – ты не пугайся. Он нестрашный, козодой, он только смешной какой-то, бесшумный. Покружит, покружит и сгинет в зеленой мгле, – а ржи ведут свой тихий говор, колышатся, ходят, точно думают что-то по-своему над колыбелью.
В этот вечерний час нужно быть чутким: в безмолвии нив, у истоков – можно подслушать и полюбить нечто. И не нужно разговоров, встреч, людей. Там сзади осталось село, сады, старшины, доктор, мужики, учительницы, молодежь; пусть живут они там в мире и радости: здесь, направо, налево, лежат тоже села, и так же теплятся в них жизни – неугасимыми лампадами. Мы будем ехать тихо, тихо, – в благоговении, и молчать пред равнинами, небом и Богом, которому одному лишь доступна полная радость. Потихоньку, мой Орлик, не фыркай! Ничего не бойся, шагай без страху по этой земле – она наша. Мы любим ее.
Заря*
Памяти милых сердцу
I
Женя не мог сказать, с какого времени начал себя помнить. Были ничтожные или непонятно-прелестные воспоминания – игра, ласка, запах летнего сада; но это тонуло в тумане детства, легендарного существования, бросающего на целую жизнь свой свет.
И лишь много позже выяснилось для него, что начало жизни проходило в деревне. Навсегда врезался двухэтажный белый дом на взгорье, почти среди села; дорога к церкви, усаженная ракитами; бело-розовая церковь с раздольным погостом, откуда видны луга, с разметавшейся «поповкой», – там жил причт. Наискось через улицу большой сад. Здесь уже слегка таинственно, и некоторое очарование представляли его дальние липовые аллеи, выходившие за село, в поле; глухие места, заросшие бурьяном и крапивой; маленький овражек, где валялись лошадиные кости и росли особенные, белые цветы.
А далеко вокруг дома, церкви, сада, села, расположенного на полухолме, – синели кольцом леса. Что было в них, какие жили звери или разбойники, этого детский ум не знал. Но их названия были внушительны, иногда жутки: Брынский лес, Козий бор, Чертолом. Эти леса и поля, шедшие к ним, и речки среди ровных лугов присылали с ветрами свои благоухания – девственную крепость, чистоту, силу. Жизнь маленьких людей была овеяна ими. Не оттого ли все в те дни – во время Эдема – казалось острым и дивным, как божественный напиток?
II
Из окон Жениной детской, во втором этаже, виднелся склон к речке, луга и далекий закат на горизонте. Много свету было в этом виде. Как будто окна выходили вообще на Божий мир, лежавший в таком просторе и ясности.
В девять, к концу ужина, дети уставали. И Женя, и сестра Сонечка клевали носом, и тут нужно было умение, чтобы отправить их спать. Был и способ для этого. Приходил Гришка, кривоногий человек невзрачного вида, и тихая женщина Дашенька; только им можно было уносить детей. Часто – садились верхом и полусонные, со сплетающимися детскими мыслями, брели на отдых.
Раздеваясь, видели красную зарю, гасшую за закатом, туман над лугами. Далеким, милым дерганьем кричали коростели. Эти коростели и закаты незабываемы; чистым видением сохранились они навсегда.
Засыпали покойно. Только Женя требовал, чтобы рядом в комнате сидела Дашенька. Было ли жутко наступление ночи, с июньскими звездами, или казалось страшным не заснуть к известному часу?
Но Дашенька сидела, а вдали, в столовой, была и мама. И может быть, эта мама, которая прелестней всех закатов, может быть, она подойдет и заглянет. А какое счастье, если поцелует. Тогда наверно будет осилено беспокойство ночи, и светлый сон, где видишь, что летишь, возьмет незаметно.
III
В слове «отец» для Жени заключалось все могущественное и интересное, что возможно представить о человеке. Он мог одолеть что угодно, устроить всякое дело; он был охотник. Стрелял волков и медведей где-то в дебрях, в Чертоломе, и ничего не боялся. Летом ездил за тетеревами.
Рано утром, проснувшись, Женя подбегал к окошку – и снова те же зеленые, покойные луга, за ними ржи, и на горизонте Высоцкий заказ, где охотится отец. В блеске солнца, в напряженном зное, колышущемся над полями, в легком мираже над горизонтом эти утра так бессмертны!
– Женя! Klavier spielen![8]
И конечно, он шел. Лина сидела над ним, он бездарно разыгрывал этюды, за окнами липы цвели, золотели, сладко благоухали, и все думалось: сколько же тетеревов привезет отец?
Катятся дрожки. Черная Норма бежит с высунутым языком. Тут уж нет сил удержать гаммами.
– Много убил? Нет, расскажи?
Снимая сапоги, отец должен был подробно рассказывать, а Женя слушал, в волнении, с неотступным интересом, точно дело шло о битве, геройских подвигах.
Когда-то ему купят ружье!
После обеда спал, накрывшись пиджаком. В четыре его можно было будить. В это время в его комнате было душно и стоял мужественный, знакомый запах, который Женя так любил. Подкравшись, он целовал отца в щеку. Тот вскакивал, но, увидев Женю, смеялся и ласкал его.
Потом шли на речку купаться; там снова дивно пахнул лозняк, прибрежный песок блестел, летали стрижи; отец учил Женю плавать, и он благоговел, держался за его загорелую шею, задыхался от гордости, если выказывал ловкость. Так летело время, пока солнце не сходило книзу, краснея. Значит, ушел день. Кто считает их? Закутав головы полотенцами, они шли домой.
IV
В разгаре июля, знойного, радостного месяца, загнать детей в комнаты трудно. Бедная Лина могла охать сколько угодно, – Женя, Сонечка, кузина Лиза Толстая, или Лиза Собачка, целыми днями пропадали в большом саду, где-то на гумнах, в коноплях, в крыжовнике. Заметив Лину, хохотали, кричали таинственное детское слово «чибис», – оно значило все что угодно – и вихрем неслись в свои тайные места, известные только посвященным.
– Соня, Соня, давай бегать! – кричала Лиза Собачка, и в упоенье от здоровья, счастья неслась как дикий кобыленок по аллеям. За ней Соня, Женя. Но Женя не мог угнаться. Они старше и ловчее. Он злился.
– Дуры! Конечно, дуры! Выдумывают еще!
– Не догнал, не догнал! Сам дурак!
Лиза Толстенькая останавливалась и показывала язык.
– Бим-бом!
– Не понимаю я ваших глупостей!
Это слово приводило Женю в ярость. Девчонки хохотали, а он ничего не понимал. Здесь была уже маленькая женская тайна; они заливались, кувыркались от восторга, шептались и, как заговорщицы, спрашивали друг друга: «это бим-бом?» – «Нет». Бим-бом было что-то другое, снова неуловимое и раздражающее.
К вечеру жара спадала. Тогда играли в лапту. Со слободы собирались дружественные мальчишки, разные Савоськи, Масетки, Романы – и разделялись на партии. Битвы получались жестокие. На широчайшей улице, по гусиной травке, затянувшей середину, в огненном азарте носились дети, барские и мужицкие вперемежку, и только одна мысль: не смазать бы мячом, срезать бы врага, хоть у черты. Или запустить мяч Бог знает куда к небу, где ласточки шмыгают в золотом свете, чтобы он на мгновенье повис в синеве – и камнем книзу.
Хорошо, если играет пастушонок Вальтон. Почему он Валь-тон, этого не знают. Он даже не из этой деревни, но в него влюблены все дети. Что-то есть в нем острое, покоряющее. Когда он подъезжает со стадом, сидя боком на кобылке, дети кричат: «Вальтон, к нам!» Вальтон равнодушен, как знаменитость, и в этом тоже его обаянье. Сдав скот, он может, между прочим, и сразиться. Но это так, от нечего делать.
Побеждают те, на чьей стороне Вальтон.
V
Товарищ отца по службе Дед (его звали так за громадную бороду) – подарил Жене ружье. Это было событие.
С утра перед его приездом Женя волновался. Он догадывался смутным чувством – скрывал, стараясь иметь независимый, равнодушный вид.
Но когда Дед ввалился, втащили его вещи и остался только странный продолговатый ящик, Женя не вытерпел:
– А тут… что?
Дед улыбался и гладил черную бороду.
– А посмотрим, посмотрим.
И там было ружье. Настоящее ружье, одноствольное, шомпольное, тульской работы. Соня с Собачкой визжали; Женя сиял молча. Он считал неудобным выказывать радость открыто. Отец с Дедом осматривали ружье, советовались, улыбались.
После обеда Дед объявил:
– Надо идти пробовать.
Женя похолодел. Стрелять! Первый раз в жизни выпалить, произвести этот страшный гром, который пугал его, даже когда стрелял отец, – и не струсить!
Был прохладный день, сероватый. Липы в большом саду облетели, пахло милой и печальной осенью. На гумне Ивана Гусарова молотили цепами.
Впереди шел Дед с отцом, потом Женя, девочки, садовник, сзади гомозились мальчишки. В саду выбрали заброшенную сторожку караульщика; прикрепили бумагу на двери, обвели круг.
– Ну, готово, – сказал Дед. – Николай Петрович, заряжайте.
Отец заколачивал шомполом пыж, а Женя стоял, смотрел невидящими глазами и вздыхал, – как будто стрелять должны были в него. Наконец отец надел пистон. Девочки заткнули уши и замерли.
– Теперь бери… вот так, левую вперед, чтоб мушка на середине листа.
Женя видел только блиставший пистон. В нем отражался какой-то луч, и этот пистон действовал на него магически. Руки не двигались.
– Ну, валяй, – крикнул Дед.
Женя что-то дернул, перед ним блеснуло, бухнуло, он отшатнулся и опустил ружье. Отец с Дедом смеялись.
– Страшно палить, а? Дед трепал его по щеке.
– Ну ничего, молодец.
– Нет, – Женя едва выговаривал слова, – не страшно. Отец подошел к сторожке.
– Десять дробин, ай да ты!
Женя улыбнулся. Чем-то смутным, блаженным был он полон, и весь этот день, когда ружье висело в кабинете с «настоящими» ружьями, был так значителен, радостен; он уже не просто Женя, а владетель ружья, из которого может стрелять воробьев, сорок, – какое громадное преимущество перед девочками.
Он был счастлив.
VI
Слобода, где играли в лапту, дорога к церкви, все с наступлением осени обращалось в топь. Приходилось сидеть дома. Только отец мог ездить в это время с гончими, дети учились, и бедная Лиза Толстенькая часами разыгрывала экзерсисы; от скуки, неудовольствия по ее пухлым щекам текли слезы, но в это время года ничего уже нельзя было поделать с Линой: она брала верх. Соня и Женя учились по-немецки. О ружье нечего было и думать.
Через час-два после обеда смеркалось. За окнами было темно, на деревне зажигали кой-где огни.
– Соня, Соня, – говорила Собачка, – за сколько б ты пошла сейчас на кладбище?
– Я бы за тысячу.
– А я бы за десять не пошла…
В столовой шила что-нибудь мама, в комнате рядом с кухней Дашенька штопала чулки. Дети посылали за Настасьей.
Старая баба Настасья, птичница, хромая, подслеповатая, вносила с собой нечто сказочно-таинственное. Ее заставляли рассказывать, давали за это орешков, пряника. Усаживались вокруг в темной комнате, запирали двери – начинались рассказы.
– И было, значит, три сестрицы: одна двуглазка, другая одноглазка, третья трехглазка. И так это ведьма и говорит: закрой глазок, закрой другой, а про третий забыла.
После сказок прятались. В темноте залезали в шкафы, под туалет, под кровати. Искала всегда Настасья. Как тихий зверь лазила и ковыляла она по полу, а дети хихикали, перескакивали из одной похоронки в другую, визжали, шмыгали под самыми ее руками и торжествовали.
– Будет вам, будет! – Мама внезапно растворяла дверь. – Ужинать пора.
С ней врывался свет; жуткое и азарт, в котором жили эти часы – пропадал, дети были недовольны.
– Мамочка, позволь еще. Милая!
Но мать настаивала; приходилось подчиняться.
– После этой Настасьи всегда такой запах. – Мама улыбалась и отворяла форточку. Дети расходились красные, с блестящими глазами.
Раз осенью, в такой же дождливый вечер, Женя стоял с Настасьей у окошка. У него на губе был лишай, огник, как говорила Настасья. Он смотрел на огонек в избушке караульщика у погоста и повторял за Настасьей машинально: «Огонь, огонь, возьми огник, огонь, огонь, возьми огник». Ему было скучно. Непонятная тоска сжимала сердце.
– Теперь отплюнься: раз плюнь, два, и соскочит.
– Почему же соскочит?
– А уж потому. Увидишь.
Жене было все равно. Может быть, и соскочит. Он водил пальцем по стеклу и всматривался.
– Слушай, а что сторож там делает?..
– Сторож-то?
– На погосте.
– Значит, караулит.
Женя молчал.
– Кого ж караулит? Все покойники.
– Так уж, значит, караулит.
– А что, – вдруг спросил он, – когда мы умрем, нас туда же положат?
– Тебе-то еще долго жить. – Настасья вздохнула.
Больше Женя не спрашивал. Он стоял упершись лбом в стекло и думал. Что там такое будет? Пройдет десять, двадцать, пятьдесят лет – он станет такой же старенький, как эта Настасья, а где будет тогда Настасья? Где мама будет? «Мама!» – чуть не закричал он. Ледяная мысль пронзила его: что будет с мамой? Вдруг умрет мама теперь же, через месяц, год? Этого он не мог вынести; как стоял у окна – залился долгим плачем, долгим, неутешным.
Прибежала мама, его ласкали, утешали; он ничего не говорил. В ужасе держался за мать, плакал, не переставая твердил: «Мама, мама!»
Много раз с тех пор, в зрелые годы, думал он об этом, но тот вечер, когда впервые был поставлен вопрос, – тот осенний мрачный вечер с огоньком на кладбище нельзя было вычеркнуть ничем.
VII
Для человека в десять лет «мама» обнимает три четверти жизни. Встает ли он утром, учит ли немецкие слова, ест ли за завтраком котлетку с огурцом, сражается ли с сестрой в свои козыри, охотится ли, слушает ли сказку, ложится ли спать, страдает, здоров или болен – всегда, на всех путях его маленькой жизни за ним следит светлый дух – мама. Быть может, ее нет в тот или иной момент. Она уедет в гости, уйдет в амбар, на птичник – но это ничего не значит. Ее можно найти, прибежать к ней, разрыдаться в ее объятиях, если случилось что-нибудь ужасное – например, убили любимую собаку или кучер обидел друга Романа. Но у ней будет найдено утешение и защита. Мама не может быть несправедливой. Если друг Роман действительно неповинен, – кучер понесет свою кару.
Когда маленький человек заболел, на ее лицо ложится тень. Мама спокойна, сдержанна, но волнуется. Посоветовавшись с фельдшером Астахом, она даст хины, положит компресс chaffant[9], смеряет температуру черненьким термометром – под ее умелыми руками не может болезнь не поддаться. А глухою ночью, когда от жара начнется кошмар, она наклонится, в белой кофточке, возьмет к себе на постель, и при ней духи тьмы не осмелятся приблизиться.
И первая, кому радуется и кого любит выздоравливающий ребенок, это та же мама. По ее лицу он видит, что прошло тяжелое, и вновь пойдут утра и игры, ясные зимние дни, коньки, лыжи, белые морозы и иней.
В большом доме, где копошатся дети, снова и постоянно проходит светлым видением она, далекая от радостей, ясная, и вся в любви мама.
VIII
Зима! Это значит, все завеяно ровным белым снегом, остро вкусен воздух, небо приятно свинцового тона и летают вороны. Это значит, что для детей настал новый ряд радостей – зимняя жизнь и зимние удовольствия – лыжи, коньки, салазки, а вдали, где-то на границе двух годов, Рождество.
С новым сезоном столяр Семиошка получает новую работу: должен подмораживать скамьи для катанья.
Дети забирались в мастерскую – там пахло клеем, древесными стружками, было жарко и работал старик Семен с веревочкой вокруг головы.
– Дядя Семиоша, а дядя, пора!
– Сделал бы скамеечку!
– Значит, не могим. Значит, барину полозья выгнем и, значит, тогда изготовим.
Но, конечно, он уступал и, намазав низ скамьи навозом, поливал водой. Получалась ледяшка. Дети бежали к друзьям, на деревню; друзья тащили самодельные скамейки, – начиналось игрище.
Садились все вместе у околицы, между домом и церковью. К речке шел далекий, ровный спуск.
Сначала подталкивали скамью ногами, но чем дальше, тем сильней, плавней ее ход. Осталась налево сажалка с незамерзавшим ручьем, где бродят гуси, вытягивают шеи и кричат. Скамья бочит, – удар ногой, и она снова на пути; вот все быстрей, быстрее в надвигающихся сумерках летят ребята, вот не удержались, – все вверх ногами кувыркаются в снег. Визг, хохот. Надо вылезать, тащить в гору, снова мчаться.
Дети рассыпались, глаза горят, в валенки набился снег: пахнет зимой, радостью, дубленым тулупчиком Жени. Издали светит дом; верно, скоро там будет чай, к околице выйдет Лина в короткой кофточке, и придется возвращаться.
При сияющей лампе, в столовой, дети будут наперебой болтать о восторгах катанья, запихивая за обе щеки белый хлеб с маслом. Отец выйдет после дневного сна и выпьет свою порцию – чай с молоком и вприкуску маленькие кусочки сахару. Потом он пойдет набивать патроны к завтрашнему дню. Переводя дух, глядя, как сильные руки отца забивают пыж в гильзу, стоит сзади Женя. Или, быть может, они станут топить в камине свинец для пуль и эту жидкость, как ртуть, лить в пулелейку. А выше, на полке мастерской, полусработанный, стоит маленький бриг. Следить за работой отца такое наслажденье!
Лягут спать вовремя; перед сном Лиза Толстенькая с Соней проскачут в рубашонках у себя в комнате, будут хохотать, шептаться, опять ненавистный «бим-бом» долетит до слуха Жени. Но быстрый, здоровый сон возьмет всех.
Мама проработает до двенадцати. В час, обойдя дом и заперев двери, ляжет отец. Он выйдет на крыльцо, послушает. Если утки кричат на сажалке, вернется, возьмет револьвер и пойдет взглянуть: не волки ли – отец ничего не боится.
И возможно, что когда уснет и он, в своем кабинете, где висят ружья на рогах над медвежьей шкурой, завесившей стену, – может быть, тогда волки и придут. Был уже случай, что один подошел к самому кабинету. След указывал на это с точностью. Но боги – хранители дома, русские лары – не дадут в ночной час неблагополучия.
IX
Рождества дети всегда ждали. Рождество, Святки для этого народа полны счастья, сказочности, необычного.
С самого утра казалось, что наступил день даже другого цвета, чем обыкновенные. Те дни серые или белые, а этот – острый, жуткий, ему не найдешь краски.
Волнения начинались с постели. Во-первых, были они о попах, во-вторых, о подарках и елке. Попы волновали тягостно, с оттенком подчиненности. Дети смирели, крестились, а Женю вид риз, камилавки, кадила ошеломлял. Батюшка бывал любезен; пил после молебна водку, закусывал пирогом, но все же это был тот странный человек, который облачается в золото, при пении произносит малопонятные слова и присутствует на крестинах, свадьбах, похоронах. Заместитель кого-то еще более страшного и неизвестно где находящегося.
Подарки и елка – дело другое. Всякому лестно получить Дон-Кихота или, может быть, пушку, новых солдат.
А когда наступят сумерки, ждать с Соней и Лизой Собачкой у двери залы! Рано или поздно их откроют; тогда свет ударит по глазам, мама, смеясь, будет целовать, а в дверях напротив друзья – Романы, Федота, и знаменитый бегун Ваня-Ахиллес, которого привозят иногда в гости из соседнего села.
Этот вечер принадлежит детям. Если бы взрослые захотели читать, работать, разговаривать, – из этого ничего бы не вышло. Как угорелые носятся дети по всему дому, состязаясь с бегуном Ваней. Как они пылают! Сколько азарта, нерва в этих взвизгивающих рожицах, как страшно притаиться за углом и ждать, пролетит ли Ахиллес мимо или цапнет. А потом травят Ахиллеса, подстерегают, вступают в союз, чтобы поймать его.
Так проходит первый день. Но за ним есть еще второй, третий. Новый год, Святки. Придут еще ряженые, всегда одни и те же козы, медведи и лошади. В свободные дни, над которыми Лина пока не властна, можно будет почитать Дон-Кихота, сидя с ногами на диване, мечтая о неизвестных странах и людях. В тишине этих грез, впервые и едва видимо проступят какие-то виды – дальше игр и беготни. И не раз детское сердце, очарованное книгой, заглянет в трепете в область взрослых, – туда, куда путь ему еще заказан.
X
С вечера все были веселы; рассматривали старую «Ниву», спорили о рыцарях, изображенных верхами. Лиза Толстенькая была за белую лошадь.
– Мой конь, мой конь! – твердила она, мусоля пальцем белого рыцарского коня.
Соне тоже больше нравился белый, и, как часто бывало, Женя остался в меньшинстве.
Наутро перед уроками Лиза вдруг заплакала. Легла ничком на диван, развела целое озеро слез.
Трудно было добиться толку; наконец поняли – она больна. Вспухло горло, и температура поднялась до сорока.
Так началась скарлатина, обратившая дом на полтора месяца в больницу.
Лизу Толстенькую быстро увезли. Ее закутали в шубы, закрыли с головой, положили в возок и с фельдшером Астахом отправили в Шахту, рудную контору, куда ездил отец. Жаль было Лизу. Дети смотрели, как возок катил вниз к речке, как взбирался на той стороне, мелькая черной точкой. Но скоро пришел и их черед. Первой слегла старшая, Маня, гостившая после Рождества, уже гимназистка. Через неделю захворала Соня, потом Женя. Скоро всюду в доме были спущены шторы, дети стонали в жару, их поили микстурами. Мучила рвота. В эти дни часто и надолго уходило от них окружающее, и шла страшная, темная своя жизнь. Но в нелепом хаосе безошибочно узнавали они маму в белой кофточке.
Наконец Маня начала выздоравливать. Ей читали вслух, и раз как-то отец привез вести о скучавшей Собачке. Это были стихи, сочиненные для нее Астахом. Начинались они так:
Вот вам, Лиза, «Вокруг света», Почитайте пока этоА Женю в это время отпаивали бульонцем. Он стал худ, желт, печально сдирал чешуйки с рук и складывал в кучки. Глядеть на свет было больно – и в полутемной комнате он вспоминал о снеге, Лизе Собачке, коньках, ружье. Его очередь наступила нескоро.
Но выздоровление пришло, и ему надолго запомнилось то утро, когда ему в первый раз надели валенки, халатик, и, стриженный, едва держась на ногах и хватаясь за печку, стулья, чтобы не упасть, он вышел в соседнюю комнату. Отсвет снега лежал на всем. Февральское солнце сияло туманно. С крыш капало. Он увидел подряд три комнаты, и в последней стол, накрытый к обеду. Все было белоснежно и прекрасно, точно, как и он, сняло серые чешуйки, показывая свою настоящую прелесть.
Ряд знакомых комнат показался Жене анфиладой, с сияющим, как для пира, столом. От восторга он слегка задохнулся. Что-то в его сердце трепетало; снова жизнь, еще милей и ослепительнее прежней, а тяжелое отошло.
Он пошатнулся. Прибежала мама, Дашенька.
– Мама, милая! Я здоров.
И он повис на ней. Мама его целовала.
XI
Взрослые не понимают природы. Они не знают весны, лета, осеннего очарования. Все это для них было, и жизнь их охвачена равнодушием.
Для ребенка природа есть просто часть собственного существования. С весной он борется против зимы. Каждый удачный день для него радость, и он огорчен, если в начале апреля, при хорошей погоде, выпадает снег.
В марте улица перед домом мутнела. Ноздреватый снег шуршал, тая. Протыкались лошади, навоз рыжел. По-особенному кричали галки; девятого марта пекли жаворонков.
И тогда опять трудно становилось учиться. Звало на улицу неяркое солнце, туманно млевшее в испарениях. Тронулись ручьи; надо было их расчищать.
Женя делал это с серьезностью и добросовестностью. Ему казалось, что он тоже помогает весне, милому и светлому духу, веявшему кругом.
Когда в полезность его труда не верили, он сердился.
– Ведь вода скорей сойдет!
– И без тебя сошла бы.
– А если я буду помогать, все-таки скорей. Отец улыбнулся.
– Да кому это нужно?
– Ах, ты ничего не понимаешь.
Странный человек отец; ему все равно, наступит весна сейчас или на два дня позже.
Ракиты у прясла выпускали пушки и краснели. Вдали, на реке, проступала вода. Женя засматривался. Через неделю, при таком ровном, бледном тепле, взломает лед, вода выйдет из берегов, и ночью будет слышен веселый шум – половодье. Он спускался к сажалке, смотрел, как взбухает лед, как обтаяли откосы и под солнышком на них пробивается крапива. Возвращался с Шахты домой отец, – в санках, обветренный и здоровый. Женя кидался к нему, целовал свежие усы, и вместе они въезжали домой.
– Скоро речка? Скоро тронется? Через два дня? Взрослые всегда не верят.
– Куда там, – отец пускал синеватый дым, – неделю продержится.
– Ты вот говорил, что нынче мой ручей замерзнет, а он и не замерз.
– Какой ручей?
– Главный. Отец усмехнулся.
Но скоро снег сошел, речка вскрылась, мощный поток гудел под мостками, заливая по лугам шоссе, топя ивняк. Отец доходил до разлива, переезжал на лодке с рыжим Степаном и на той стороне ехал верхом.
Что за роскошь – плыть за отцом в баркасе!
Здесь с Женей был случай, взволновавший всех. Баркас отчаливал. Было видно за рекой, как отец с малым подъезжают верхами к воде. Женя прыгнул в лодку; Степан с мужиком двинулись на шестах. Весело было проплывать над кустами, которые гнуло напором, видеть, как несутся льдинки; слушать шум могучей воды.
Так добрались до середины. Справа мост на сваях, под него бьет, ревя, стремя. Видно, как отец слез с лошади, отдал ее работнику. Вдруг берег, отец, деревья за ним начинают нестись влево, по горизонту. Степан налег на шест, мужик возится, но берег летит все быстрее. Женя оглядывается. Степан бледнел. Мужик тоже растерялся. Впереди в двадцати шагах мост, гул воды в сваях. Хочется крикнуть, позвать маму. Но поздно. С размаху лодка бьет о первую сваю, о вторую, мужики беспомощно хватаются за них. Еще удар… Дощаник скрипит, медленно клонится. Женя сидит на дне, над ним связи, перекладины моста, темнота… перевернется ли? Мужики отпихиваются изо всех сил. Где отец с лошадьми, где дым его папироски? И вдруг сейчас ничего не будет? Где мама?
Мама из далекого дома видит все, и уже она бежит, задыхаясь, вне себя, к разливу. Не успеть!
Счастливый поворот, – лодку стрелой выносит из-под моста, и снова шесты действуют, опять виден отец, и через пять минут по заводи они плывут к берегу. Женя все еще не может сесть на лавочку: перед глазами зеленые круги.
Через час дома слезы, ласковые упреки, тишина, отдых.
Больше встречать отца не придется!
XII
Весна, лето. Время молодой жизни, когда для детей все сливается в ласковый привет неба, воздуха, солнца. Когда дни кончаются так же легко, как встает утром солнце, – оставляют в душе длинный, светящийся след.
Этих дней уже нет. Не пахнет уже так река с ивняком. Нет тех игр, нет вечерних коростелей, закатов за Высоцким заказом, нет отца на дрожках, Вальтона, Масетки; нет стада, входящего вечером в деревню, золотистой пыли под вербами, Дашеньки, Гришки.
И не будет никогда ружья, стрельбы в воробьев, верхового конька Червончика, на котором можно ездить в обратке, а он нейдет из дому – домой же мчится вскачь, и его нельзя удержать. Не будет охоты с Гришкой в Сопелках, когда удрала Коза с дрожками и пришлось идти домой пешком, за пять верст, лесом, в темноте; было страшно, и к концу Женя так устал, что Гришка взял его на закорки; с ружьями, парой убитых уток, в одиннадцатом часу они плелись по деревне – маленький на большом, дремля, измученные и несчастные.
Все это было так давно, что легендой веет от воспоминаний; и кажется, что уже нет и самого села, и дома, и другие поля, другие леса вокруг, другие люди живут на том месте. Но из седой были человеческое сердце слышит все тот же привет – чистый и прозрачный. И жизнь идет далее.
XIII
В середине зимы отца перевели на соседний завод, верст за сорок. Сперва уехал он сам, потом начались сборы и укладыванья семьи. В комнаты натащили ящиков, и началось разрушение. Горько было видеть, как со стен снимали фотографии, зашивали в рогожу диваны, сдирали портьеры. Милый, старый дом, с которым многое уже было связано, разоряли. И вместе со спрятанными солдатами, с рисунками лошадей, коз удалялась часть жизни, еще такая малая и юная, но уже дававшая о себе знать.
За день до отъезда Женя прощался с друзьями, с играми, с любимыми местами. Он обошел на лыжах большой сад, сошел к сажалке; как всегда, незамерзающим ручьем бежала оттуда вода. Вот развалины сахарного завода, откуда с Собачкой и Соней они носились по отвесному скату на лыжах; налево церковь, погост, и внизу луга – такие безбрежные и ясные летом, а сейчас это белая равнина. Он хотел было съехать на лыжах с горки, в последний раз, но что-то защемило в сердце, и, вздохнув, он вернулся домой.
Ужинали при свечах – ламп уже не было. Голые стены, натоптанные полы, черные окна. Женя поскорей лег спать. Но и заснуть долго не мог. Встал он на другой день бледный и печальный.
Было уже подано двое саней. Мужики собрались провожать. Из дому тащили последние вещи и грузили на подводы. В кухне Дашенька плакала, целуясь со своими приятельницами с Поповки, «женами мироносицами».
Соню и Женю одели в полушубки, завернули в тулупы, – как безмолвные туши были они втиснуты в сани. Скрипел снег, солнце блестело. Больно было глядеть от света. На повороте, в околице стояли группой мальчишки и кланялись. Женя вспомнил, что он ничего не подарил на память Настасье, игравшей с ним преданно, и вздохнул.
Но было поздно. Лошади, хорошо кормленные перед дорогой, шли бойко; сияла снежная равнина, в лицо из-под копыт летели комья – тройка дружно взнеслась на мост, где прошлой весной Женя терпел аварию. Высунувшись, насколько мог, он обернулся: вдали на горе белел двухэтажный дом, у околицы как будто копошились фигурки. Горло Жени сжалось. Чтобы не выдать себя и рассеяться, в меланхолическом излиянии, он замурлыкал:
Дорогие мне места, где я про-жил годы детства. Вас увижу ли когда иль поки-ину на-всегда? –слова старого романса, который недавно слышал.
– Не пой, – мама улыбнулась, – простудишь горло. Он напевал про себя, и все время ему хотелось плакать.
XIV
Жизнь на новом месте оказалась не хуже, если не лучше прежней. Правда, не было старых друзей – Вальтона, Настасьи. Лизу Собачку увезли к родителям. Но явилось и то, чего раньше не было.
Здесь отец управлял заводом. Ему отвели огромный дом, куда можно было вместить два прежних, на берегу озера. На полторы версты шла ровная снежная скатерть; на горизонте лес синел. За гигантской плотиной лежал завод, чернели крыши, двумя огромными столбами возвышались доменные печи. Все это было необыкновенно и привлекательно. Несколько раз отец брал с собою Женю на завод. Они выезжали в «дежурке», у ворот завода сторожа подобострастно кланялись отцу – и дальше они попадали в казавшееся Жене ужасным царство печей, огня и железа. В одном месте бил молот по раскаленной мягкой глыбе; вздыхая, она оседала, стреляя золотыми звездочками. В прокатных вальцах вытягивались огненно-красные ленты; это будущие рельсы. Литейщики ждали выпуска чугуна, и когда отворялась утроба домны, оттуда лился ослепительный металл, от одного прикосновения к которому загорались щепки. Рабочие подбегали к струе, подставляли черпаки и рысью, покачиваясь, чуть не расплескивая жидкость, бежали к опокам, выливая туда чугун.
– В прошлом году был случай, – говорит отец, – один залил себе в сапог. Теперь мы не позволяем в сапогах ходить.
Женя бледнел, представлял себе сожженную ногу, крепче держался за отца. После всех этих литейных, механических, ремонтных – радостно было опять сесть в санки и по чистому снегу катить мимо базарной площади, церкви, по набережной озера – домой. Вот на углу «господский дом» – отель для одиноких инженеров, где всем управляет толстенькая Евдокия Ильинична. Красный дом доктора, и, наконец, они у своего подъезда. Выбегает старый Тимофеич, отстегивает полость. И уже ждет обеда, в огромной столовой, переделанной из зимнего сада, со стеклянной стеной на озеро. После обеда можно уйти наверх; верхний этаж меньше нижнего – нечто вроде мезонина; но там две огромные комнаты – Жени и Сони, и большая средняя, где трапеции. Из Жениной снова видно озеро. Оно тянет к себе взгляд ровной белизной, великим спокойствием снега, умиряющего заводской гомон. В этой светлой теплой комнате можно мечтать, глядя на дальние леса, рисовать, ожидая, что вот нарисуешь что-нибудь замечательное, – и незаметно снежное поле засинеет, настанут сумерки, чай среди милых сердцу, вечернее чтение «Красного кедра», «Дальнего Запада». Неведомые края, приключения, охоты затолпятся в мозгу, и станешь просить маму скорее послать в уездный город менять книжки – к старому еврейчику, у которого такой запас чудесного.
Когда ложатся спать, в комнате Жени розовый отсвет. Это далеко, за плотиной, полыхают над домами языки газа; как два громадных факела, будут они краснеть всю ночь, освещая завод, село, белое озеро.
Может быть, их увидит лось, если подойдет к опушке дальнего леса, – и в ужасе помчится назад. И во всяком случае, видны они на много верст едущему темной ночью.
XV
Вечером в субботу отец сказал: «Завтра едем на буере». Женя радостно волновался, а утром, проснувшись, увидел на озере трехугольную платформу на коньках, с парусом. Толпились любопытные, у мачты возился полковник Говард, начальник мастерских – человек лысый, веселый и решительный.
Одеваться и пить чай при таких условиях было трудно. Как-никак, это то же самое, что описано у Жюля Верна в «Вокруг света в 80 дней».
Отец тоже был весел, смеялся и говорил: «Ну. Говард, не завезите нас в полынью».
– Перескочим.
Однако Говард был как раз знаменит неблагоразумием: недавно на серой кобыле чуть не провалился в воду.
Наконец буер готов, отец с Женей садятся на платформу, на руле Говард. Сначала толкают двое рабочих; медленно и как-то вяло, под напором ветра, плывет зимний корабль, чертя коньками. Вот обширная лысина, с которой снег сдут. Сразу буер подхватывает, дышать трудней, но какой легкий, волшебный полет! И теперь не важно, снег дальше или лед, как вырвавшаяся птица летит снаряд в белом просторе, и лес на той стороне растет, выступает, вот видна уже лесопилка. Перекинуть парус – буер выпишет дугу, и пойдет назад, но уже тише, лавируя под ветром зигзагами.
– Замерз? – спрашивает отец.
Женя храбрится, но, в сущности, ногам холодно. Через полчаса они возвращаются. Говард катает немного девочек, а потом идут завтракать. Отец с Говардом пьют водку, крякают и рассказывают охотничьи истории. Маня, приехавшая перед праздниками из гимназии, слушает их пренебрежительно. Она теперь взрослая, учится в Риге, и на полках у ней стоит Гете по-немецки. Сонечка с Женей забираются к ней наверх. Маня мечтает о курсах, через два года ей хочется в Петербург; но родители не знают еще об этом, и на мягком диване, при треске камина идут долгие рассказы о незнакомой жизни в большом городе, студентах, учителях.
Приходит Зина, Манина подруга, дочь заведующего конторой. Разговор быстро сходит на «умное». Все республиканцы. Почему должна быть республика?
Потому что нельзя давать власть одному; сто человек вернее не ошибутся. Сонечка тоже настроена радикально, и, входя со своей косицей подростка, говорит: «Не понимаю я этих консерваторов».
Жене хотелось бы поспорить; отчасти он смущается; а кроме того, ничего не знает в этом деле. Все-таки он защищает монархию; аргумент такой: у Эмара он вычитал, будто в американских республиках избирателей подкупали. Девочки нападают, и он разбит довольно быстро. Кроме того, ничего не возразишь, что одному ошибиться легче, «чем Конвенту», как говорит Маня.
Но разбитием он не очень огорчен. Вечером срисовывает «типы домашних животных» и мечтает о пробе своих сил на лицах: скопировать бы мамину карточку или Чичикова из альбома Боклевского. Вдруг «выйдет замечательно».
XVI
И снова сменяются днями дни, летит невозвратное время среди работ, игр, младенческих мечтаний.
На Святках здесь еще шумнее, чем было раньше. Приезжал на завод цирк – Женя с Сонечкой увлекались им до одури. Каждое представление были они в балаганах; пахло лошадьми, опилками арены, дымили железные печурки. В полушубках, горя и блестя глазами, сидели дети в первом ряду. Им казалось все это беспредельно острым, азартным и прекрасным; до остервенения хлопали они наезднице Эле и, вернувшись, в большой зале разыгрывали пантомимы, кувыркаясь, визжа.
Лишь одно смущало немного Женю: слухи о гимназии. Далеко, верст за полтораста (если ехать на лошадях), был губернский город, и, насколько он понимал, будущей осенью тронут туда всех детей. Сонечка начала уже готовиться. К ней ходила фельдшерица Мяснова с круглыми блестящими глазами и запахом больницы, и решала бесчисленные задачи. Жене нравилась эта плотная, чистая девушка, но и смущала несколько аккуратностью и непреклонным блеском глаз. Женя думал, что она без запинки может решить все задачи в мире. С ним она проходила именованные числа.
Он не понимал, к чему все это. Лучше бы кататься на коньках, рисовать, вертеться на трапеции, ходить в цирк. Но раз уж заведено, что надо решать задачи, – он решал. Проводив Мяснову, вздыхал с облегчением и шел спрашивать отца, поедут ли завтра кавалькадой.
Делать это удобнее всего было в марте, когда теплело, чернела дорога и озеро вздувалось. К крыльцу подавали лошадей: Гнедого Немца Жене, – отцу Скромную. Волнуясь, лез Женя на коня. Тимофеич держит стремя, где-то кричат грачи, новый друг, мальчишка Гром, глядит из кухни, ковыряя в носу. Образец езды в отце. Главный его завет – не расставлять врозь носков, подыматься в такт. Вот к ним присоединились у господского дома Говард на серой кобыле и механик Павел Афанасьич. Говард сидит кряжем, серая кобыла его дурачится, и, когда пускают полной рысью, она вдруг начинает вертеть хвостом, как крыльями мельницы.
– Говард, – кричит отец, – подбери кобылу.
Но Говард хохочет, Павел Афанасьич жалобно подпрыгивает, молотя сиденьем по спине своей лошади, – кавалькада идет резво, навстречу сырому весеннему ветру, вдыхая очаровательный запах луж, острого мартовского навоза и радуясь силе хода.
Разные случаи бывали в этих поездках: скакали по чистому полю, перепрыгивали через канавы; раз Павел Афанасьевич приподнял знакомому котелок, испугал лошадь, и от ее курбета легко и вежливо – сам он всегда был такой – слетел вниз головой в грязь. Женин Немец споткнулся на мосту на полном ходу, и Женя съехал ему на голову. Чуть не все падали, или их носили лошади, обрызгивала хвостом кобыла Говарда – но всегда смех, счастье силы и ловкости владели ими и, как мартовский ветер, овевало бодростью.
Женя возвращался усталый: у него ныли ноги и руки вздрагивали; но это было ничто в сравнении с азартом езды.
XVII
С конца марта чуть не каждый вечер ездили на тягу. Говард, в черкеске с газырями и двустволкой через плечо, мчался вперед на своей кобыле. Женя с отцом в тележке. Павел Афанасьич в дежурке. Ехали вдоль плотины; на шлюзах гудела вода, пруд синел, медленно поплескивая у берега; вдали виднелись леса, и в их дебрях терялось озеро, среди камышей, кувшинок, болот; что-то гомерическое было в этом озере; казалось возможным, что за его истоками лежат леса Дальнего Запада, или живут гуроны, ирокезы, как вокруг Эри и Онтарио.
То, что на охоту ездили вооруженным отрядом, усиливало впечатление первобытности.
За озером поднимались в гору, сворачивали на дорогу к Горской мельнице и на опушке большого леса слезали. Тяга будет над мелочами. В прогалинах осинника, вдоль ручья, у всех были свои излюбленные места. Павел Афанасьич забывал пистоны, или у него был испорчен шомпол. Он конфузливо просил, охотники поддразнивали.
Сквозь осинник краснела заря: остатки снега таились в лужах, тихо тая; кажется, можно было расслышать их умиранье: голубел подснежник, черныш токовал вдали. Мирный вечер, первая звезда на бледном небе, запах влаги, бег робкого зайчика, огонек отцовской папироски! Это весна, детство – это невозвратимо.
Хоркая, с присвистом, тянут над лесом вальдшнепы. Бедные птицы – гонимые любовью, они в сладких сумерках встречали любовь редко, а чаше – смерть. Блистал огонь сквозь деревья – вальдшнеп делает боковой вольт, как безумный мчится в сторону. Верно, он ранен, но тогда не дастся уже в руки. Где-нибудь в тайной лощинке, вздрагивая крыльями, с каплей крови на длинном носу он встретит последний час. Или он замер в воздухе – значит, «готов», как говорят охотники, – камнем валится вниз.
Все это волновало; с увлечением стрелял Женя, дрожал от ожиданья, но почти всегда неудача; почти всегда. Он запоминал число промахов, страдал, выводил процентное отношение к числу удач, но всегда выходило, что он безнадежно бездарный охотник. Так, мазило.
Возвращались в темноте. Звезд было уже полное небо; острей пахло весной; ручьи шумели, издалека открывались огни завода и торжественные отражения их в пруду. Ужиная дома, ели свежую редиску из парников, отец с Говардом пили водку и рассказывали о былых временах, еще более блестящих и страшных охотах, медведях, лосях.
Сестры относились к охоте с презрением. Вальдшнепов, однако, ели все.
XVIII
Светлый майский день. Пруд бледно голубеет, заводский дым треплется в теплом ветре. Женя смотрит с балкона на озеро. В зале, внизу, играет на рояле гувернантка Софья Ивановна. Женя представляет себе ее милую фигуру – с большими, музыкальными руками, запахом духов, и ее музыка еще прекрасней. Опершись щекой о перила, глядя в синеву, можно мечтать разымчиво и безбрежно – как простор этот легок, как благоуханен воздух! О чем мечтает человек? О том, какая будет жизнь, кем он будет. Вдруг он сделается художником, и сумеет рисовать «с натуры» портреты? Или встретит… кого-то. Ту, которой еще не знает, но которая где-то есть, – взглянув на нее, можно сгореть от стыда и радости. Нечто в ней – и от Софьи Ивановны.
С ветром донесся звон. Колокола мешаются с музыкой, на припеке кудахтают куры по-весеннему – нынче воскресенье, оттого все и веселы. Сбежав вниз, Женя ждет среди струящихся березок почтальона. Сегодня принесут журнал, Жюля Верна. Этот день очень интересен. Прошлый раз колонисты отправились на соседний остров; там нашли странного одичавшего европейца. Неужели это Айртон?
В двенадцать почтальон является. К сожалению, надо обедать; зато после, забравшись на диван с ногами, холодея от волнения, глотает он Айртона. Как жаль, жаль, что мало! Конечно, это Айртон, высаженный в наказание на пустынный остров, но кто же известил колонистов? Откуда бутылка, указание долгот?
От возбуждения надо пройтись. Можно бродить в аллеях, в парке, среди нестарых зеленых лип. Еще лучше – уехать в лодке. Для этого надо взять друга Грома, ключи, скользнуть незаметно, чтобы кто-нибудь из взрослых не помешал. К четырем пруд затихает, можно гнать долбленку довольно быстро. Минуя село, выедешь к лесу, пристанешь у песчаной косы. Тут дивный воздух; лежа на спине, среди елей, на мягком мху, видишь, как летают рыболовы. Гром подсучивает штанишки, ловит под корягами раков. Вдали пыхтит лесопилка, с плеса в камышах поднялась пара уток. Дятел долбит ель; пролетит сиворонка.
Лежать бы до вечера, любуясь озером, собирая редкие камешки, да хватятся к чаю, мама будет беспокоиться. Надо ехать. И плывут снова. Вечерний чай пьют на нижней террасе. Софья Ивановна с Сонечкой щелкают шарами на крокете. Гром отворил фонтан; в блеске заходящего солнца играет его струя.
– Женя, – Софья Ивановна улыбается и щурит глаз, – а вы знаете слова к завтрашнему?
Женя слегка смущен.
– Я выучу, Софья Ивановна, обязательно.
И конечно, он выучит. Софье Ивановне не знать урока неприятно.
XIX
С приездом Жука веселые дни кончились. Это был маленький черный философ украинофильского вида, приглашенный для латыни. Он был доброго нрава; жил во флигеле. Жуком звался за размер и черноту, и все было бы хорошо, если бы не учебник Кюнера, не спряжения и десятки слов, которые приходилось учить. С грустью глядел теперь Женя на озеро, на лодку, из-за Жука вырисовывался вдали неизвестный город, казавшийся громадным и страшным, гимназия, учителя, жуткий и ненужный труд. Отвечая урок, путаясь в словах и краснея, он смотрел из прохладного флигелька на цесарок, копошившихся в пыли, – и хотелось удрать куда-нибудь в парк, резать липовые побеги и выделывать из них свистульки.
Но задумаешься, и как раз собьешься в склонении, – третье склонение разве легко!
Он уставал, худел, падал духом. Первый месяц работы был особенно труден. Лишь один день выдался необычайный. С утра Женя раскис, встал с больной головой, и ему позволили не учиться.
Шел дождь – сильный, теплый. Он стоял на своем балконе, смотрел на озеро, дымившееся брызгами, вздыхал, а потом неожиданно пошел в комнату и взял Тургенева. Случайно открылась «Первая любовь». Он читал медленно, неохотно в начале, потом забыл хворость, Жука, гимназию, даже Жюля Верна, и читал послушно, не себе уже принадлежа, улыбаясь про себя, краснея. Было бы очень неприятно, если б кто-нибудь вошел. Но в огромном доме тихо; через два часа он закончил, вскочил и побежал вниз. Все так же не хотелось ни с кем встречаться, – быть одному со своим сердцем. Дождь перестал.
Листва казалась нежно-вымытою, бледно-зеленоватый туман стоял в парке; было сыро, тепло, падали капли с листьев. Жене казалось, что он влюблен в Зинаиду, что на оранжерее сидел он, и прыгнул, и Зинаида его поцеловала, и с кадетом он играл, и до боли видел он рубец от хлыста на ее руке. Этот удар вызывал такое страдание, что невидимого, неизвестного отца он готов был убить. Да, конечно, он прыгнул бы и с гораздо более высокой оранжереи, и у ног Зинаиды он умер бы с гордостью и радостью.
И со светлой тоской в сердце, с навертывающейся слезой бродил он в зеленом саду; весь этот день окрасился для него бледно-зеленоватым. А видение – Зинаида – осталось на всю жизнь. Это была первая великая радость искусства.
XX
Утром, в четыре, Тимофеич разбудил отца и Женю. Они спали в кабинете: Женя на диване, отец на кровати. Ветерок с озера вздувал занавеси, только что показалось солнце. Хотя глаза слипаются, но нельзя не быть в восторге от этого утреннего благоухания, от теплого золота и сознания, что едут на охоту. Наскоро умывшись, пьют чай на балконе. Здесь еще холодок, сад в матовой росе. Белый хлеб с маслом, чай со сливками. С озера слышен свисток: это «Капитолина», пароход, на котором едут. Значит, пора. Хотя пароход свой, заводский, и уйти без них не может, Жене кажется, что они опоздают, и, волнуясь, торопит он отца.
– А экстрактор взял? – спрашивает отец. – Да пистонов захватывай, наверно пригодятся Павлу Афанасьичу.
Смеясь, они быстро идут с ружьями и патронташами к пристани. Старая Норма бежит косой побежкой, морща нос. На борту Павел Афанасьич, Говард и кузнечный мастер Дрезе. Это черный, добродушный человек с волосатыми руками.
– Ну пора же, пора. – Он здоровается. – Ну надо же ехать, а то опоздаем и к уткам.
«Капитолина» отваливает. Проплывают вдоль берега, мимо купальни и дома, где сейчас спит мама, Сонечка, во флигеле – Жук, – и под мерное бормотанье колес идут в глубь озера, в безлюдные притоны уток, бекасов и дупелей. Жене кажется, что Павел Афанасьич – рассеянный астроном Николай Полландер, Говард – Джон Муррей, а отец – полковник Эверест, и они едут к верховьям реки Оранжевой измерять дугу меридиана.
Час, два плывут по голубым водам. Скрылся завод, вода сузилась, ближе подошли леса, и чаще сплошные ковры кувшинок; иногда «Капитолина» рассекает их даже.
– Я же на этом островочке прошлый год десять штук взял! Николай Петрович, тут же выводочку быть да быть!
Убавляют ходу, отвязывают лодки, и Дрезе с охотником Яшкой «берут» остров. Объезжают его сбоку, а «Капитолина» обходит с другой стороны. По берегу, в камыше, бредет собачонка Дрезс. Слышна его брань, свист, всплеск весел, но уток нет.
У борта Женя с отцом зевают.
Островок прошли. Подплывает Дрезе, ругаясь на собачонку.
– Ну я же так и знал, что тут ничего нет! Ну зачем же было задерживаться!
– Вы же сами хотели!
– Я же тут выводочек взял, а теперь ни одной утеночки!
– Хе-хе, – смеется Говард, – вы известный счастливец!
– Если бы я знал же, я б не остановился! Только время же теряем.
Плывут дальше. В верховьях, у мельницы, где, собственно, и начинается охота, пароход пристает. За мельницей тоже пруды, но там надо ехать уже в лодке. Разыгрывается день, солнце слепит, на темно-синей воде качаются челноки, кой-где белеет барашек. Ветер озерный – пахнет болотом и рыбой. Подойдя к камышам, сталкивают Норму в воду. Она брызгает, барахтается, но скоро охотничий азарт захватывает ее, и резво шмыгает она в осоке, туряя уток. Павел Афанасьич идет берегом, – ему придется стрелять влёт. Вдруг он видит двух утят, бурно шлепающих по воде от берега. Он целится.
– Не стреляйте же, не стреляйте! – кричит Дрезе.
Павел Афанасьич ведет ружьем за ними.
Дрезе падает на дно лодки.
– Дрезе подстрёлите, что вы делаете!
– Почему же? Я не понимаю.
Как всегда, он вежлив, и как будто в перчатках.
– От воды отразится – весь заряд в него закатите.
– Ах, вот как, а я не сообразил.
Дрезе подымается из лодки.
– Ну и что же это такое, вы же сынишку сиротой сделаете!
В полдень завтракают на берегу. Бутерброды, огурцы, ветчина кажутся таким вкусными! Печет солнце; Норма с порезанным носом тяжело дышит, вся в грязи, мокрая. Охотники пьют водку.
– Плохи стали места энти, – говорит Яшка. – Тут бы гору птицы надо набить.
Он уныло взглядывает на несколько утят и селезня. Дрезе сердится.
– Ну я же так и говорил!
После завтрака снова шарят в камышах; собаки устали и лазают лениво. Уток мало. Для развлечения Женя с Павлом Афанасьичем палят в ястребов, рыболовов, но все мимо.
Дома они для практики стреляют в бросаемые бутылки и шарики. Теперь Дрезе дразнит их.
– Это же вам не щепочки, Павел Афанасьич!
– Вы, Павел Афанасьич, лучше бы уж в Дрезе попробовали, – смеется отец.
День быстро проходит. Синее волны, чайки белей на этой синеве, и сильней усталость. Как-никак, надо плыть на мельницу. И пока добираются, пока пьют чай и закусывают, разводят пары на «Капитолине», солнце, краснея, касается горизонта. Удят рыбу, болтают с мельником. Наконец, в розовых сумерках, отплывают. Как фламинго, стоит на болотце цапля, и ее спугивает пыхтенье парохода. Едут долго. Становится прохладно, сыро, глаза тяжелеют от утомления. Но перед взором далекая вода, все расширяющаяся, и уже скоро откроются знакомые маяки. Вышла луна и безмолвным свидетелем стоит сбоку, сопровождая бег «Капитолины». Ее тусклое сияние, сквозь слегка туманящийся воздух, дает оттенок грусти и загадочности.
Женя, сидя на носу, думает, что через месяц все этой уйдет, может быть, навсегда. Его клонит ко сну, сердце сжимает тоска; отец кутает его.
XXI
Быстро прошел июль, половина августа. Среди латинской зубрежки ездили за тетеревами, но покой и ясность деревенской жизни были утеряны. Ложась спать, Женя думал об экзаменах, о городе; его волновал близкий отъезд и разлука с родными.
Решено было, что мать свезет в город Соню с Женей, наймет маленькую квартирку, и они поселятся под присмотром Дашеньки.
И вот, пожелав успеха Жене, уехал Жук. Наступил день отъезда. Долго укладывались, соображали, не забыть чего, и десятого августа, в прохладное утро тронулись. Верст тридцать надо было проехать по своей, узкоколейной дороге, далее на лошадях. Женя помнил влажную от росы платформу их станции, «директорский» вагончик, куда их усаживали, отца, озабоченного и печального. Когда Женя поцеловал его в последний раз в рыжеватые усы, горло его сдавило, и он бросился в вагон.
Поезд задребезжал. Мелькнула фигура отца, потом завод, потянулся, и поезд пополз в гору – ту самую, куда ездили на тягу. Чем дальше уходил он, тем шире и синей развертывалось озеро, село, и завиднелся на той стороне дом, так милый Жениному сердцу.
Леса уже начали желтеть; в раскрывавшемся виде, голубизне озера и прозрачности далей было прощание.
Вот лежит сзади детство, в его тихой радости, и возврата к нему нет. Поезд взобрался на высшую точку и, громыхая, покатил вниз. Медленно, ровно опускались родные места, как бы утопая. Женя прижался лбом к стеклу и сдерживал слезы.
XXII
В городе мама наняла квартирку в три комнаты. Как убого это было! И как мрачно казалось все здесь.
Дул сухой ветер, гнал пыль и листья. В крошечном доме, с двориком величиною в ладонь, надо было ждать экзаменов.
Тяжело вздыхая, после плохой ночи встал Женя в назначенный день. Пока шли с мамой, было еще ничего себе, но когда она оставила его в огромном здании, где кишели дети, сновали учителя, он почувствовал, что погиб. Самый запах крашеных парт, ранцев убивал его.
Плохо соображая, попал он наконец в класс, где экзаменовали. Казалось, что его фамилию не назовут никогда. Просто о нем забыли среди моря этих малышей, от которых он ничем не отличался.
Наконец, бледный, полуживой, очутился он у зеленого стола. Тут сидели батюшка и инспектор. От волнения Женя барабанил пальцем по сукну, слегка вздрагивая.
– Где ты учился? – спросил инспектор, острый, лысый человек на тонких ножках.
– Д-дома.
– Значит, тебя плохо воспитывали. Золотое пенсне инспектора вздрогнуло.
– А… что?
– Как «а что»? Что за выражение, во-первых? Разве так разговаривают со взрослыми? А потом, ты подходишь к столу и начинаешь барабанить пальцами! Разве воспитанный мальчик позволит себе это?
Женя был оскорблен. Невоспитанным он себя не считал; кроме того, с ним обращались всегда мягко, ласково, и один этот тон был невыносим. Он не ответил и отвернулся.
Близорукий батюшка, в очках, имел радостно-победоносный вид. Казалось, он тут же неопровержимо докажет бытие Божие и подлость «Дарвина». Несмотря на нескладность ответов, на неточность касательно патриархов (ошибки в определении возраста), Женя получил удовлетворительно. То же было и по-русски. Он вздохнул веселей. Одна латынь!
На перерыве он сошел в гимназический садик, и тут же получил крещение. Некий «Юзепчук Петр», второклассник, дал ему тумака. Женя обиделся; произошел бой, где противники налетали друг на друга петухами, под гул и галдение публики, схватывались, опять отскакивали, но оба остались на позициях – после же битвы даже познакомились.
– У Пятеркина держишь? – спросил Юзепчук. – Латынь?
– Да.
– Ну, он сволочь. Мне кол за подсказ поставил. Пятеркин был человек тучный, бритый, с бородавками.
С первых же слов он стал ловко ловить Женю, и на третьем склонении остановил:
– Довольно! Егоров Иван!
Женя не понял. Пятеркин красиво и жирно поставил ему в журнал два.
Горек был для Жени этот вечер. Мама утешала, говорила, что это пустяки, завтра она пойдет объясняться к директору, но он был безутешен. Не примут! Скандал. Позор, жалкое бегство на родину. Он молчал, потихоньку плакал; ночь не спал. Казалось, что весь свет знает о его неудаче; он, державшийся всегда твердо и с достоинством, оказался хуже какого-то Юзепчука, и ему предстоит быть недорослем из дворян. На другой день мама была у директора. После мучительного четырехдневного ожидания он был принят.
XXIII
Давно известно, что жизнь маленьких гимназистов напоминает каторгу. Так было и с Женей. Мама уехала, оставив их с Соней под надзором Дашеньки. Наступила осень. Поздно светало, и в суровых потемках, при свечке надо было одеваться и пить чай. И потом – бежать, дрожать перед латинистом, перед надзирателями, директором, инспектором, дышать пыльным воздухом класса, есть сухой бутерброд на большой перемене, думать, как пройдет письменная задача, ждать грубости, подчиняться жалким и бездарным людям. Бедная жизнь, серая, проклятая. Что может она взрастить?
В пятницу Женя шел как на казнь. В этот день он бывал дежурным, и всегда кто-нибудь устраивал скандал: разбивали стекло, проливали чернильницу.
– Дежурный! – звал надзиратель. Женя шел.
– Кто это сделал?
– Не знаю.
– Да? Не знаешь? Ну, останешься без обеда.
Выдавать товарищей, конечно, не полагалось; и он сидел. Дома уроки при скудной лампе, однообразие, отсутствие друзей, природы, вольности. В десять часов сон – вдруг забыл приготовить немецкие слова – и в одной рубашонке, при свечке, дозубривает он их, в волнении. Завтра же снова «общая молитва», экстемпорали, правило пропорций.
Так уходят нежные и милые годы, когда душу посещает уже образ Зинаиды, заставляя томно останавливаться сердце. Но где же быть Зинаиде в этом несчастном болоте? Далекая, все неземней становится она – зеленая звезда любви отроческой.
XXIV
Раз в ноябрьский вечер зашла тетя Анна Михайловна. Дети мало знали ее; уезжая, мама просила иногда наведывать их. Анна Михайловна была невесела и не разделась.
– Тетя, – сказала Сонечка, – вы бы сняли шубу. Я вас угощу вареньем, нам Дашенька замечательное сварила.
– Спасибо, милая, некогда.
Анна Михайловна вздохнула.
– Вот что, дети… Вам завтра надо уезжать.
Сонечка удивилась. Жене все это показалось странным. И вид тети Анны Михайловны, ее голос, то, что она сидит в верхней одежде.
– Я была сегодня у директора, завтра с утра у начальницы, и завтра же вечером, вероятно, вы отправитесь.
– Тетя, я не понимаю, – Соня вдруг побледнела. – Куда мы поедем?
– Ну, дети, ничего особенного нет, вы напрасно не волнуйтесь, но все-таки должна вам сказать, что получила от отца известие… – она замялась. – Да ничего особенного… Мама захворала. Бог даст, пройдет все благополучно. Все же надо ехать.
Соня отошла к окошку и сморщилась. Маленькие слезы побежали из ее глаз, она сморкалась в платочек.
– Если нас вызывают, значит, мама больна серьезно.
Женя держал уже в руке телеграмму: «Мама тяжело больна, высылайте детей немедленно».
Анна Михайловна целовала и утешала их, но они сразу пали духом. Они молчали, Женя заложил руки за спину и ходил угрюмо из угла в угол. Сонечка плакала. Жене хотелось плакать тоже, но он крепился, и только когда тетушка ушла, стал реветь у себя, в подушку. Ему казалось, что теперь не стоит уже есть, ходить в гимназию и жить. Безразлично – все пропало. Раз умрет мама, к чему тянуть эту канитель?
Вечером к нему пришла Сонечка и поцеловала в лоб. Эта женская ласка напомнила ему маму еще сильнее – ее запах, ее мягкие руки, и он еще неутешнее заплакал.
– Не плачь, Женечка, – Соня, как старшая, старалась поддержать его. – Даст Бог, пройдет все. Не плачь, милый.
– Соня, – бормотал он сквозь слезы, – скорей бы уж! Ах ты Господи, когда ж мы поедем!
К сестре он тоже чувствовал прилив любви; и теперь не помнил уже о поддразнивании, о том, что во все игры, в детстве, она обыгрывала его, о ненавистном некогда «бим-бом».
Около полуночи, очнувшись после мрачного сна, он увидел в Сониной комнате свет. Там, перед маленькой лампадкой, Соня молилась. Молилась и Дашенька, охая, шевеля старческими губами – у себя в каморке.
На другой день с утра летел мокрый снег. Анна Михайловна провожала детей на вокзал, усадила в третий класс. Туманные поля, полосы метели проносились мимо них; в вагоне было жарко. Хмурые, жалкие, жались друг к другу дети. Громыханье вагона погружало в оцепенение. Но в груди давила ровная жестокая тяжесть – мама. Жива ли, жива? Вдруг не поспеют, и не услышишь никогда звука ее голоса? В темнеющем вагоне, с несшимися за окном искрами, снова охватывал тот же смертный холод, что и тогда, с Настасьей. Станция, пересадка, носильщики, мужики, – все казалось смутным сном.
Чем ближе подвигались к дому, тем больше тоска росла. Вот ранним утром они слезают в темноте на полустанке, откуда идет узкоколейная дорога. Здесь все уже знакомое; встречает Кузьма и ведет на съезжую, где они могут отдохнуть до поезда.
– Ну… что, Кузьма? – спрашивает Женя, едва выговаривая слова.
– Ничего, слава Богу, Евгений Николаевич. И, как слышно, мамаше вашей лучше.
Милый Кузьма, откуда он знает? Но Женя недоверчив: может быть, это просто, чтобы успокоить…
– Да вы почем знаете?
– Тут вчера мастер ремонтный приезжал.
В двенадцать, на станции Стеклянная известие подтверждается: встречают Дрезе.
– Ну, да ничего, слава Богу! А уж мы за мамашу как боялись! Чуть не при смерти была третьего дня, я же вас уверяю. Ну, теперь ничего.
Дома были часа в три. В передней их обнял отец и опустился тяжело на стул. Видно было по изменившемуся лицу, что нелегко прошли эти последние недели.
– Маму нельзя видеть, погодите.
Он рассказывал им, как страдала мама от болезни печени. Третьего дня доктор сказал, что всего ждать можно. Но ночью стало легче.
– Ночью? – переспросил Женя. – Ночью третьего дня?
Он взглянул на Соню. «Бог услышал их?» Но от волнения, радостного и острого, он ничего не мог сказать.
Наверху все было полно болезнью. Казалось, даже смерть не совсем была покорена в этой мрачной комнате. Мама, иссохшая и измученная, но с улыбкой, лежала на огромной постели. Увидев ее, дети лишились выдержки и, припав к постели, рыдали.
XXV
Они прожили дома около месяца. Это было время тихого, радостного существования. С каждым днем мама поправлялась; каждый день, просыпаясь, Женя знал, что она здесь, любимая и дорогая, и в ужасе гнал мысль, что было бы, если б она не выздоровела. Но нечто серьезное вошло в их жизнь. Не катались уже, как прежде, беззаботно, на буере, коньки не интересовали, и казалось, что прошло сразу несколько лет…
Уезжая после Рождества в гимназию, Женя чувствовал, что любит мать еще острее, и больней, мучительней. Вместе с тем, оглядываясь на родные места, он понимал, что какая-то часть его жизни – и не лучшая ли, – прожита и сюда он не вернется тем беспечным ребенком, каким въезжал в этот дом. Детство его кончалось.
Вечерний час*
Со Специи я начала волноваться – оставалось менее часа до Сестри.
Мы мчались во тьме и духоте туннелей. На минуту холодноватым блеском сверкало море – и снова грохот в горных недрах, задымленные стекла и электричество.
На полустанке я опустила окно и высунулась. В ущелье лежал итальянский город, с кампаниллой, черепичными крышами домов. Слева хлестало море, справа горы теснили, голые, серые. Темное облако клубилось на вершине.
Мне стало жутко. Вот я приеду в глушь, и куда я денусь вечером, когда начнет завывать ветер, море разгудится?
Я вздохнула, откинулась и прислонилась к углу купе. Поезд тронулся. Я закрыла глаза и вместо беспокойно-щемящего чувства вдруг ощутила великую тишину, покой. Не все ли равно, где жить и как жить? Конечно, прочно устроиться я нигде не могу. С некоторых пор мое существование приняло бездомный характер.
Передо мной потянулись было видения прошлого, – распря с мужем, борьба за Борю, которого муж сумел отвоевать; но это не доставило той острой боли, как прежде. Верно, я попросту утомилась. И я стала ждать.
«Ловко будет, – думала я, вылезая через час в Сестри, – если Александра Николаевна не встретит. Отлично будет!»
Александра Николаевна, эмигрантка, моя знакомая по России, – единственное существо, известное мне тут. У нее я должна поселиться, она будет моим хранителем, опекуном.
Итальянцы кинулись на меня с горячностью людей, надеющихся заработать лиру. Они тотчас сообразили, что мне в Барассо, за два километра от станции, там живут русские.
Да, но к кому именно в Барассо?
Подошел начальник станции и сказал, что ничего, русская синьора, ожидавшая меня, вышла в paese, то есть в город, и сейчас вернется.
Действительно, через минуту я увидела Александру Николаевну. Она шла ко мне твердой, суховатой походкой. Ветер трепал несколько ее волосы; она была без шляпы, в черной бархатной кофточке, с папиросой.
Поцеловала она меня серьезно. Ее вид как бы говорил: «Я сдержанна, доброжелательна, но не сентиментальна».
Кучера сразу успокоились, и мы сели именно в ту коляску, куда следовало. Я была теперь в надежных руках.
Покуривая папиросу, Александра Николаевна говорила:
– У нас невесело, предупреждаю. Соскучитесь. Даже кафе нет.
Кучер вез нас по приморской улице, аллеей платанов. На рыбачьем судне, в заливе, зажгли красный огонь. По вершинам гор ползли тучи. Было хмуро, сыро. Но отлично пахло морем, а когда мы переехали шлагбаум у туннеля и покатили вдоль берега у скал – сверху донеслось чудесное благоухание сосен. Справа утесы шли отвесно. Море шумело глухо, весь берег туманился брызгами. Кучер щелкал бичом, покрикивая у-об! и временами на меня налетала седая морская пыль, от которой губы становятся солеными.
– Я не избалована, – отвечала я Александре Николаевне.
– Ну, там посмотрите.
У самого въезда в Барассо нас снова задержали у шлагбаума: из туннеля вылетел поезд, сверкнул искрами, освещенными окнами вагонов и, обдав нас дымом, понесся к Генуе.
– Направо, – сказала Александра Николаевна.
Кучер свернул в проулок между стенами, за которыми вились виноградники. Мы остановились у розового дома.
Я привыкла к довольно богатой жизни, и сначала не поняла, что темная лестница с кошками – это главный вход. Но оказалось – так. Мы поднялись в третий этаж. Квартира Александры Николаевны состояла из четырех комнат.
– Вот эту, – сказала она, отворяя дверь, в маленькую, как бы монастырскую келью с белыми стенами, – я могу уступить вам.
– Отлично.
Александра Николаевна ушла в кухню, попыхивая папиросой, приготовлять с итальянской девочкой Мариеттой обед. Я разбирала свои вещи. Вот куда занесла меня судьба! Думала ли я, выступая пять лет назад в «Князе Игоре», что окажусь в этом глухом углу итальянского побережья, в квартирке, снятой у лигурийских мещан, на берегу моря? Могла ли я предвидеть сегодняшний вечер с хмурыми облаками над горой, с дождем, Александрой Николаевной, Мариеттой?
Пока готовили обед, я вышла в столовую и отворила окно.
Оно выходило в горы. Внизу, в винограднике, возился итальянец в синих штанах, в большой шляпе. Из апельсиновой рощи шел свежий запах, желтели плоды; по горам иссера зеленели оливки, а выше – темные сосны. Оттуда, как и от облаков, курившихся на горах, веяло тишиной, спокойным, важным. «Живите, заблуждайтесь, страдайте, – как бы говорили они, – мы плывем, под нами благоухают леса, мы даем этот сырой, туманный вечер, когда в горах жутко и сиротливей селения по склонам. Мы плывем и таем, мы жизнь, настоящая, вечная жизнь».
Когда в сельской церкви зазвонили к Ave Maria и звуки медленно наполняли окрестность, а в горных храмах им отзывались другие – я почувствовала еще сильней, что у этих молчаливых существ есть жизнь, и быть может, значительнее моей.
Итак, я поселилась в маленькой белой комнате, выходящей на море.
Дурная погода кончилась. Светит солнце. Рядом, на плоской крыше в виде террасы, итальянка сушит белье, а дети внизу скачут через веревочку.
Странное дело: мне не скучно. Я ощущаю огромное сочувствие к этой итальянке, к детям, даже к шумной девчонке Марии, которая вечно ссорится с подругой – в окне дома напротив.
Иногда они визжат, плачут, потом мирятся и выставляют за окно дрозда в клетке. Увидев меня, говорят: «Здравствуйте», – и это похоже на щебет птицы.
Здесь вообще знают русских. Уже несколько раз слышала я русские слова. Вчера эмигрант спрашивал у Мариетты, дома ли Александра Николаевна. Мариетта ответила: «Вера (это я) in casa, Саша non с'е».
Достаточно выйти из дому – тотчас увидишь фигуру, которая только и может быть русской: косоворотка, бандитская шляпа, особенная походка. Если идет барышня с мохнатой простыней, в сандалиях, – значит, наша, с купания.
Чаще всего наших можно встретить у моря. Возможно, в нашей натуре есть то мягко-певучее, что влечет к одиночеству, мечтательной меланхолии. Затем, большинство здесь, как и я, разбитые корабли.
Может быть, оттого, что за последние годы мне самой много пришлось перенести, – эти люди вызывают во мне жалость. Прибавлю: жалость необидную. Ту, которою пусть и они пожалеют меня.
На днях я познакомилась с двумя здешними барышнями. Одна называется Катя, другая еврейка, Леечка. И вот эта «товарищ Катя», маленькая, с астмой, заведовала какой-то лабораторией; была сослана в Сибирь, на каторгу. Бежала через всю Азию.
Конечно, она существо надломленное, усталое, хотя и сохранила остатки прежнего: слова «законспирировалась», «публика» и пр.
Леечка совсем другое. Но она не эмигрантка, учительница из западного края. Ее послали сюда поправляться. Она черненькая, очень молодая, экзальтированная и склонная верить во все возвышенное. Она часто ходит с томиком Гейне, Пушкина, забирается на гору Сант-Анна или ложится у моря, читает.
– Здравствуйте, – говорит она обыкновенно и вся зардеется. – Какие нынче прекрасные погоды!
Ее черные глаза блестят, она смотрит на море, солнце, а я думаю: «в ней есть поэт», – и мне приятно это.
– Идем купаться? – говорит она. – Хорошо? Я целый день здесь могу ходить, тут так хорошо!
На пляже мы встречаем Александру Николаевну. В руках у нее письмо, и я догадываюсь, от кого: от мужа, из Милана. У них что-то происходит, несомненно. Александра Николаевна курит из мундштука, ее серые умные глаза печальны. Мы с Леечкой раздеваемся (никого здесь нет). Солнце блестит в воде, вода хрустально-зеленая, теплая, и вся кипит пузырьками. Мы смеемся, ложимся; волны окатывают нас. Точно жизнь, сила входит в меня с этими волнами.
По насыпи проносится поезд. «Чау-чау!» – кричим мы. Леечка вылезла уже, а мне не хочется. Так бы и лежала на песке, обдаваемая кипящим серебром, смотрела бы на горы, голубое небо над ними, дышала б солнечно-соленым воздухом.
– Ах, какой нынче замечательный день! – говорит Леечка, отирая ножки о песок. – Как удивительно тепло!
Утро. Я иду проулком между домами, в тени. Розовые стены залиты солнцем. Из садика свешивается виноград. В нише – грубо сделанная статуэтка Франциска Ассизского.
У выхода на приморскую улицу встречаю девочку Таню.
– Купаться идете? – спрашивает она.
– Нет.
– Можно мне с вами?
– Идем.
– Вы знаете, – говорит Таня, взяв меня за руку, – мы завтра уезжаем. То есть я, Лена и мама. Папа остается, не может, а мы в Россию.
– Вам хочется в Россию?
– Нет.
Таня задумчиво шагает рядом со мной. Она беленькая девочка, очень загорелая, в веснушках. Ножки у ней до колен голые.
– Нам здесь как в раю было. Мы играли очень хорошо. Вы знаете Ромоло, хозяйского сына? Очень симпатичный.
Я знаю и Ромоло, и Танина отца – плотного эмигранта с типично русским, грубоватым лицом. На лето к нему приезжала из России семья. Он в первый раз увидел дочь, родившуюся без него в России. Теперь семья уезжает, – может быть, на год, а то и на два: жена его учительница в России.
Я сжимаю Танину руку.
– Вам жаль с папой расставаться?
– Жаль, – отвечает Таня. – А папа нас очень жалеет. Он вчера целый вечер плакал.
Пройдя под железнодорожной насыпью, мы выходим на пляж. Рядом, в ручье, впадающем в море, расплывшемся дельтой, прачки полощут белье. Вдали тянут сеть голоногие рыбаки. Подошвы гор у моря – в голубом тумане.
– Какой песочек славный! – говорит Таня.
От нагретого песка здесь теплее, над ним колеблются стеклянные струи. Город Киавари, у гор, слегка переливается: очертанья домов текут.
– А вон папа! – говорит Таня, показывая в сторону рыбаков. – Видите, сидит с Машей.
Маша его годовалая дочь. Мы подходим сзади, он не замечает нас. Но я вижу, как целует он свою девочку, как покачивается с ней, точно напевая что-то.
– Послушайте, Таня, я не могу с вами идти… Я забыла, мне домой… надо.
Я поворачиваюсь и, не поднимая глаз, иду назад, к проходу под линией. Не хочу я, чтобы Таня видела и Мои слезы.
Человек сильно, сильно меняется… Вспоминая себя десять лет назад, я с трудом восстанавливаю, что это я, не кто другая. Я была тогда молода, горяча и очень многого хотела для себя. Не могу отрицать, я была чувственна и славолюбива. Моя любовная жизнь началась рано, и среди серьезных увлечений я знала и так называемый «угар страстей».
Одно из очень тяжелых воспоминаний моей юности – самоубийство студента, которого я завлекла. Его смерть и сейчас встает надо мной тяжким укором. Многое в своих последующих страданиях я считаю карой.
Главная кара – это моя жизнь с мужем. Отлились кошке мышкины слезки. Муж был моложе меня. Раньше я мучила тех, кто слабей в любви, теперь я попалась. Я страдала много – что уж скрывать – и от его отношения, от измен, но молчала. Родился Боря, пришлось бросить сцену. С Борей в жизнь мою пришло совсем новое, и такое сильное, сладостное и завлекательное, что я даже не ожидала. Бог с ней, со сценой, славой!
Но, видимо, мне не дано этого счастья. Зачем буду я вспоминать о том ужасе, который пришлось перенести, о борьбе за Борю, когда муж окончательно бросил меня, о том, что мы, как звери, вырывали его друг у друга, крали, вовлекали пятилетнего ребенка в нашу распрю.
Я была способна на подлость, подкуп, предательство. Господи, все это так, но Ты знаешь, что это делала ослепленная, отчаявшаяся женщина, забывшая все. Быть может, поэтому Ты смилуешься над ней.
Зато я научилась понимать всех, у кого дети. Всякое горе, связанное с ребенком, делает мне человека близким. Пусть пошлет Всевышний радости детям.
Александра Николаевна реже получает письма, но чаще ходит за ними.
Почта от нас в двух шагах. Никогда раньше не видала я такой почты. Дважды в день старичок бредет на станцию с сумкой, приносит десяток писем – большинство русским. Выдает без разбору, кому угодно. Старик не умеет прочесть ни одной русской фамилии. Если нет его сына, трудно добиться толку.
Александра Николаевна ходит за письмами с неизменным мундштуком во рту, спокойно поглядывая на ребятишек, скачущих у колодца.
– Niente! – отвечает почтмейстер.
Она так же покойно возвращается, сидит у себя в комнате. Я пробовала звать ее пройтись, в горы – она никуда не выходит. В ее комнате туман от дыма, а вечером появляется фиаска красного вина, и к двенадцати Александра Николаевна выпивает ее, с помощью двух-трех эмигрантов.
– Зайдите ко мне, – говорит она, – вы считаете меня пьяницей, но это ничего. Мало ли за кого меня здесь считают.
– Вы пьяница и есть, – говорю я улыбаясь. – Что тут считать? Мне только странно, лочему вы сидите в духоте, табачище, когда есть такое море?
– Прежде я была умная и честная, – говорит Александра Николаевна, уставясь на меня покрасневшими глазами. – Теперь все это прошло. Ятретьего дня на скалах заснула да утром только проснулась. Всю ночь продрыхла.
– Все-таки пойдем на воздух.
Я беру ее под руку, свожу вниз, по нашей темной и крутой лестнице. Эмигранты остались допивать пиво.
– Да, тут легче дышать, – говорит она.
Мы идем мимо домов итальянцев, где спят уже эти простые люди, земледельцы, рыбаки. По древнему мостику, узенькому, крутому, переходим ручей. Долина между гор, откуда бежит он, темна, полна ночного бархата. Таинственно журчит ручей. На горе повисли огромные звезды – так именно кажется, что повисли.
Мы выходим к приморскому шоссе. Александра Николаевна кутается в платок.
– Может, напрасно, – говорит она, – а я вам все-таки скажу. У меня с мужем разрыв полный. Конец, я чувствую.
Из темноты выделились две фигуры. В одной узнаю Леечку. Другая – Сеня, анархист. Они тоже что-то с жаром говорили. Увидя нас, смолкают.
– Леечка! – окликаю я.
– Да, это мы. Ах, здравствуйте, я в темноте вас не различила! Какая ночь, не правда ли?
Яне вижу ее лица, но чувствую, что она смущена.
– Леечка, – говорю я, – нехорошо по ночам гулять с анархистами.
– Ах, что вы говорите, мы же немножко только прошли к скалам. Ну, Сеня, правда?
– А на скалах, наверно, целовались, – говорит Александра Николаевна.
– Это что-то ужасное они про нас выдумали, правда, Сеня?
– Ничего подобного! – отвечает Сеня, молодой бритый человек с огромной головой и еврейской нервностью. – Если бы хотел целоваться, то не спрятался бы для этого на скалы.
– Приходите завтра купаться, если будет хорошее море! – кричит из темноты Леечка.
– Они врут, что не целовались; это уж наверно, – говорит Александра Николаевна. – Наши всегда на скалах целуются.
Мы идем теперь по тому шоссе, по которому въезжала я сюда две недели назад. Слева черная стена скал; справа море, чуть бормочущее.
Мы сели на утесах при дороге, в месте, где сама природа позаботилась сделать скамью. Здесь можно сидеть очень удобно, облокачиваясь спиной о камень. Перед глазами ночь, море, золотые огоньки Сестри.
– Муж написал мне, – говорит Александра Николаевна, – что не может между нами быть прежнего. Он говорит, что прежняя жизнь – обман. Он не хочет так продолжать. Ему нужна свобода.
Она подходит к обрыву и бросает вниз папиросу. Огонек прорезывает тьму дугой и пропадает. Александра Николаевна обертывается.
– Он меня обманывал, а теперь ему нужно, чтобы все происходило свободно. Я ничего не говорю. Конечно, пусть меня бросает.
Она садится, кладет голову на камень и несколько времени сидит молча. Я хочу что-то ей сказать, обнять ее, поцеловать, но не выходит. Жму лишь руку.
– Тогда зачем же было тянуть все это, – говорит она, точно про себя. – Я его не удерживала.
Ночь уходит все дальше. Звезды изменили места: одни заходят за чернеющий край скал, другие появляются над Сестри. Влажный, темный ветерок набежал с моря. За туннелем свистит поезд.
– Ну, – говорит Александра Николаевна, очнувшись. – Скажите ж мне, что делать.
Я знаю, что надо делать: надо все пережить, измучиться и полуразбитой выйти снова.
– Терпите, – говорю я. – Милая, терпите. Она вновь кладет голову на камень.
Я продолжаю:
– Бог дал нам страдания для неизвестных целей. Не нам их понять. Мы можем лишь любить.
Помню я, что прежде, давно, когда я была известной, богатой и красивой, все в жизни сосредоточивалось для меня на мне самой: люди столько меня интересовали, сколько восхищались моим пением, ухаживали за мной и льстили. Часто я понимала, что лесть груба, корыстна; но такова ее сила над нами; всегда наше сердце на стороне того, кто хвалит.
Во всяком случае – не ездившие в Большой театр, не аплодировавшие и не подносившие цветов были для меня ничто. Я не желала им зла. Но во мне было уже некоторое недовольство теми, кто предпочитал моему пению науку, литературу, живопись.
Так было давно. А с тех пор как из известной певицы я превратилась в бездомную бродягу, из года в год менялось мое отношение к людям.
Я заговорила об этом потому, что здесь, в приморской итальянкой деревушке, чувство это проявилось во мне сильнее.
Да, меня интересуют и прачки, полощущие белье в ручье, и работники, собирающие оливки; и рыбаки, и каменотесы, что вечно чинят дорогу в Сестри. Дети и старики, два раза в день выходящие к морю, и стрелочница Тереза с четырьмя малышами – полуголодная, но всегда бойкая, живая, энергичная. И наконец, наша Мариетта.
Мариетта меня занимает в особенности. Ей четырнадцать лет, она тоненькая, с черными продолговатыми глазами и этрусским профилем. Она является к нам утром, убирает комнаты – с той легкостью, грацией движений, которые свойственны ее расе. Она же нам готовит. На помощь ей приходит бабушка – сказочного вида старушонка, – и вдвоем они жарят и варят на кухне. От жара Мариетта розовеет. Глаза ее блестят ярче.
Отслужив, она становится снова ребенком, прыгает с детьми у колодца, бегает по пляжу с девицами Бокка, ее приятельницами.
Александру Николаевну она очень любит, называет Саша. Знает историю с мужем и мужа не одобряет: как у многих в Италии, у нее простой и прочный взгляд на брак.
– Ну что, как Александра Николаевна? – спрашиваю я утром, когда она убирает мою комнату.
– Piange sempre[10]. Ночь не спала.
– А госпожа Бокка?
Мариетта хохочет. Бокка, мать ее подруг Розы и Цецилии, ее личный враг, как и всех почти в Барассо. Она богатая (у ней вилла рядом с нами), но скупая и злая. Здесь считается хорошим тоном сделать ей гадость.
Мариетта развеселилась. Ночью У Бокка украли курицу. Она сегодня в обмороке, Роза с Цецилией отхаживают ее. Мариетта изображает, как Бокка лежит на постели и стонет; О, mia gallina![11]
Приотворяется дверь Александры Николаевны.
– Тиночка!
Мариетта сразу вскакивает и бежит. Лицо ее серьезно. Через минуту она стучит башмачками к почте. К завтраку Александра Николаевна выходит худее, бледнее обычного. Как всегда, с папиросой.
– Мариетта, еще фиаску к вечеру!
– No, – говорит она умоляюще, – Саша, не надо. – Vino vi fa male[12].
– Ничего, милая, тащи. – Все равно, – говорит она, обращаясь ко мне, – я тут последние дни. В Париж еду. Больше не могу.
После завтрака она запирается и читает до одурения.
На другой день Мариетта ведет меня к госпоже Бокка, где я должна снять комнату.
Калиткой мы входим в сад с пальмами, я вижу внушительную виллу, ступаю по дорожке, усыпанной гравием, в блеске солнца – и исполняюсь почтения к владелице всего этого.
Две миловидные девушки возятся в саду – развешивают на солнце старые платья. Мариетта подмигивает им и мне. Это ее приятельницы Роза и Цецилия, которых мать держит сурово.
Роза делает мне реверанс. Она старше и красивей Цецилии. Но у обеих так черны волосы, как только могут быть у итальянок.
– Мама, вероятно, еще не одета, – говорит она на плохом французском языке.
– Ничего, – покажите комнату.
Роза и Цецилия весело бегут вперед. Видимо, рады оторваться от работы, посмотреть нового человека. По лестнице, выложенной мрамором, подымаемся во второй этаж. Весь он пуст. Мне предлагают две комнаты – одну с видом на море, другую в горы – за пятьдесят франков. Хотя давно здесь никто не жил, но обстановка хорошая, светло, приятно. Я соглашаюсь, и меня ведут вниз, к Бокка.
Госпожа Бокка встретила меня в том растерзанном виде, какой бывает по утрам у зажиточных и бездельных итальянок. Ей за сорок; видимо, была красива, теперь толста и плачется о лирах, о возможных убытках и огорчениях.
Я доказываю, что никаких ущербов не нанесу, и отвечаю за целость каждого стула. Она сыплет скороговоркой и, кажется, уверяет, что от такой женщины, как я, она ждет лишь хорошего.
В дверь подглядывают Мариетта и Цецилия. Верно, они щиплются, тихо взвизгивают. Роза покорно стоит рядом с матерью. Я подымаюсь.
– Значит, с завтрашнего дня.
Как бывает иногда, когда наденешь новое платье, или въедешь в новую квартиру, – чувствуешь себя иным.
Я вышла в залитый солнцем сад, где цвели розы, и мне представилось на мгновение, что я в Ницце, что вилла эта моя собственная, что из-за угла выскочит сейчас Боря; что с мужем мы живем хорошо, как было давно, в первые месяцы замужества.
Это мгновенное виденье взволновало меня, мне не захотелось возвращаться домой. Я перешла через каменный мостик и пошла по течению ручья, в долину.
Небо было голубое, с разорванными облачками. Тень оливок трепетала вокруг. Пели птицы, ящерица пробежала по камню на припеке. В другом месте я встретила первый проблеск весны: горсть фиалок. Я сорвала их, стала нюхать, и их сладкий, сентиментальный запах снова взволновал меня: я вспомнила букет таких же пармских фиалок, который поднесли мне раз в Большом театре, за Татьяну. Но Бог с ними, с воспоминаниями. Я шла дальше и дальше, ущелье суживалось; с обеих сторон тянулись оливковые рощи и сосновые.
По очень крутой тропинке я стала подыматься вверх. Мне хотелось добраться до горной деревушки Алессио.
Скоро оливки остались внизу. Я вошла в область сосен. Они зеленели особенно, – не так, как у нас – их зелень на голубизне неба здесь поразительна.
Я сидела на камне, меня грело солнце. Я вдыхала смолистый воздух, смотрела, как орел плывет в небе, слушала таинственные голоса птиц, перекликавшихся в горах; видела, как с тяжестью на голове подымается снизу девочка – она идет в Алессио. И со мной ничего не случилось. Но мне хочется упомянуть об этом ясном дне, предвестнике весны, о том, как я сидела на камне и смотрела на девочку из Алессио, о той тихой и кроткой силе, которая нисходила тогда в мое сердце.
Александра Николаевна заходила ко мне прощаться и наставляла Розу и Цецилию, чтобы хорошо за мной ухаживали, были внимательны и заботливы.
Потом она крепко пожала мне руку, мы поцеловались, и снова тем деловым тоном, каким она говорила в день моего приезда, она сказала:
– Провожать меня не надо. Это сентиментальности.
Русские не знали, когда она уезжает, но мы с Мариеттой пронюхали, что с вечерним, – якобы в Нерви: и пришли на вокзал.
Было пустынно, уныло на нашем полустанке. Два фонаря, нетрезвый начальник в красном кепи, с огромной трубкой. Гул моря, далекие, золотистые огни Киавари, черная бездна неба в звездах. Мне почему-то представилось, что и здесь, как в России, неуютно и печально жить людям, встречающим и отправляющим поезда.
Когда подошел treno omnibus, Александра Николаевна вошла в купе, в третий класс, я вдруг почувствовала, что осталась теперь совсем одна в этой стране.
Я подала ей в окно букетик фиалок, еще раз пожала руку. Мариетта быстро вскочила на подножку, поцеловала.
Так мы ее проводили. Поезд omnibus, останавливающийся на каждом полустанке, потащил ее в Геную, а оттуда в Париж, к новой жизни, мы же вернулись к нашей малой, где главные события – каково море, есть ли солнце, задует ли трамонтано.
Впрочем, как и везде, – на нашей вилле тоже оказались свои интересы, даже страсти и борьба. Так оно и должно быть, конечно, стоит лишь внимательно взглянуть вокруг.
Госпожа Бокка собиралась выходить замуж, а у Розы шел роман с русским студентом. К Бокка приезжал из Флоренции синьор Морозо, и тогда все в квартире чистили, мыли, девушки полдня ходили с подоткнутыми подолами и вытаскивали на нижнюю террасу мебель. К обеду жарили курицу. Являлась фиаска вина. Девушки ненавидели Морозо, боялись, что он станет вотчимом, и вообще только и мечтали, как бы поскорее удрать от матери. Строили даже планы – бежать в Париж.
Этому способствовало и то, что Роза полюбила студента. Мать слышать не хотела о браке. Она ждала для дочери миллионера, как некогда было с ней самой: она была замужем за первым богачом Киавари, покойным отцом Розы и Цецилии. Она же его разорила, забрала остатки состояния, бросила: он умер чуть не на улице.
Во все эти дела посвятила меня Мариетта. Она перешла ко мне по наследству, и каждое утро я слышала ее легкую поступь у двери, осторожный стук – и в комнату заглядывает ее черненькое, острое личико с этрусским профилем.
– Vuole stufa? – спрашивает она неизменно.
«Хочу ли я печку» – какой милый язык! Я ее хочу – и, пока одеваюсь, Мариетта бросает в железную печку шишки, хранящиеся у меня в углу комнаты, в мешке. Их оставил нам уехавший русский, которого итальянцы называли Signor Barbalov за его бороду. У нас шишки зовутся pigni del Signor Barbalov.
Pigni трещат, мечут искры. В комнате появляется тонкий запах ладана. Мариетта накладывает угля, а я отворяю ставни. Мое удивление немало: в горах и у нас в Барассо белая-белая изморозь – снег.
– Это бывает, – объясняет мне Мариетта. – Это ничего, на несколько часов.
И, взбивая мою постель, она весело рассказывает, что сегодня все ходили в Барассо на охоту. Птицы боятся холода, спускаются с гор и делаются такими вялыми, безжизненными, что их можно брать руками. В прошлом году она сама поймала несколько штук.
Я выхожу в другую комнату – она очень светлая, с видом на серо-зеленое море. По насыпи проносится курьерский из Генуи в Рим; в это время к Мариетте пробралась маленькая Лелия, четырехлетний карапуз, племянница Бокка. Мариетта смеется.
– Русские зовут Бокка жабой. Я и Розина научили Лелию, она вчера dice: «тебя Бокка жаба». Бокка domandala, что такое жаба, «cosa vuol dire жаба»[13]. Мы говорим: «русское слово, так русские называют жен».
И Мариетта заливается, тискает Лелию. Она счастлива, что удалось подложить Бокка свинью.
– А как же, Мариетиночка, дела у Розы со студентом?
Мариетта хихикает: из чего я заключаю, что дела не плохи.
– Бокка не позволяет замуж. Он ее украдет vuole rubarla. Е poi scappare a Parigi[14].
Я знаю, что scappare a Parigi мечта не одной Розы, но и Цецилии и Мариетты. Париж кажется им необыкновенно прекрасным городом, центром мира, красоты, роскоши, великолепия.
Хоть очень меня занимают переливы, узоры жизней вокруг и я переписываюсь с Александрой Николаевной, часто и помногу говорю с Леечкой и ее анархистом, целую Розу, все же не нужно думать, что меня не посещает тоска и мучительное томление: всегда по одному – по Боре. Как я ни стараюсь привыкнуть к мысли, – что для меня нет его, – мне все же очень трудно это сделать. Вообще – увещевать на скалах Александру Николаевну – одно, а управлять своими чувствами – другое.
Я помню, например, один вечер.
Я вышла, по обыкновению, к морю. Садилось солнце. По всему нашему побережью был разлит тихий, розовеющий свет. В ущельях фиолетовела тень. В двух-трех местах нестерпимо блестели стекла.
Из туннеля вылетел поезд, мимо меня побежали знакомые вагоны, и, как всегда, на последнем, коричневой фанеры, надпись: «Paris – Rome».
Я шла по самому краю берега. Там, где садилось солнце, в прозрачном воздухе я вдруг заметила снежные вершины – это приморские Альпы, у Франции, они являются иногда, как видения, в очень тихие и прозрачные вечера.
Я чувствовала, что от этих гор, от поезда, умчавшегося в неизвестность, от туманно-прекрасной музыки света я впадаю в лирическое волнение. Быть может, будь я поэтом, я стала бы слагать стихи, в этом одиночестве, у моря. Но у меня лишь теснило грудь, я напевала что-то; в горле стояли слезы.
Волны нежно лизали песок. Они набегали чуть слышно, стеклянной влагой, с легким шипением спрядывали. Тонкой шелковой пеленой оставался на песке их след, переливаясь небесной лазурью, розовыми отсветами. О, как прелестны эти закатные шелка моря!
Потом все угасло. Стемнело, я осталась одна, без этих радужных фантасмагорий; по сыпучему песку я прошла к камням, у линии. Я ощутила вдруг такую раздирательную тоску, что мне захотелось закричать на все прибрежье, на всю прекрасную, но для меня сейчас ненужную страну: Боря, Боря! Боже мой, если бы его увидеть, хоть раз.
– Due, – сказал мне почтмейстер, подавая два письма. – Anche una stamp[15].
Стампа эта оказалась выписанной из Рима книгой, а одно письмо от Александры Николаевны. Я вскрыла его, и читала, проходя по дорожкам нашего сада. Другого не успела прочесть; подбежала Роза, приколола мне на грудь несколько мимоз, и повела к себе.
– Синьора Вера, – говорила она, – мамы нет, она во Флоренции у Морозо, я хочу с вами посоветоваться.
И, присев у себя на кровати, блестя глазами и волнуясь, Роза рассказывала мне, как ей опостылело жить у матери, видеть Морозо, как ей хочется вырваться. Но она должна бы уехать… не одна. (Роза смутилась, тонкий румянец разлился по ее лицу.) Я русская – она не станет скрывать, она любит одного молодого русского. (Роза вдруг обняла меня, спрятала в плече зардевшееся личико и стала целовать мою шею.)
– Ну, хорошо, – говорю я. – Что же дальше?
Она хочет спросить меня, как русские смотрят на девушку, которая согласна, не венчавшись, бежать в Париж. У них, например, к этому отнеслись бы строго. А вдруг жених подумает, что она какая-нибудь такая, легкомысленная?
Все это было довольно курьезно и по-детски, но с девушек, видевших на своем веку только море, солнце, да глупую мать, трудно большего и спрашивать. К тому же черные глаза Розины так сияли, что она вызвала во мне полное сочувствие. Я ее успокоила. Ничего, если поедет в Париж и невенчанная. Русских бояться нечего. А что в Париже может быть трудно из-за денег, – пусть имеет в виду.
В заключение я повела ее к себе завтракать, – и там застали мы еще двух девиц: Леечку и Катю. Я была очень рада, велела Мариетте притащить вина, взять побольше сыру и сбегать к Кармеле за шоколадом, апельсинами, которые муж Кармелы выращивает у себя в саду: нам приносят их на ветках, с листиками.
Итак, получился дамский банкет. Мы растворили окна, в комнату врывался солнечный ветер, виднелась синева моря, и чудесно белело на ней абрикосовое дерево в цвету. Леечка выпила вина, раскраснелась, смеялась, и говорила, восторженно блестя глазами: «Ах, какие прекрасные погоды!»
Худенькая Катя, слегка задыхаясь от приступа астмы, сообщила мне, что «эмигрантская публика в Нерви устраивает вечер в пользу кассы» – и не могу ли я спеть на нем.
Я была несколько удивлена. В первую минуту мне стало даже неприятно. Представилось, что, когда я выйду, все первым делом подумают: «А, отставная певица!» И в их снисходительности будет для меня очень горькое. Но потом я взглянула в открытое окно, в котором ветер вздувал легкие занавески, увидела рыбацкую лодку под оранжевым парусом, – что-то простое, светлое вошло в мою душу, и мгновенно ее состояние изменилось. «Гордость, самолюбие – отголоски прежнего, – подумала я. – Этим Катям и разным неведомым „товарищам“ действительно нужны деньги, и я им помогу, а буду ли иметь успех или нет, посмеются ли надо мной, или не посмеются – это не важно, это все очень пустое».
И я весело согласилась. Мне даже понравилось, что поеду в Нерви, увижу новых людей, новые места – немного освежу свои впечатления.
На том мы и порешили.
Обед закончился фруктами, потом девицы висели на подоконниках, рассматривая, как отходит в Сестри кукушка-омнибус, как в саду при траттории итальянцы играют в шары – Ьоссе, – и наконец, ушли.
Я совсем забыла про второе письмо, полученное сегодня, и только теперь вскрыла его.
Дальняя родственница, старушка, с которой у меня сохранились добрые отношения, писала, что муж мой заболел, и врачи рекомендовали ему Нерви. Он взял с собою Борю.
Я глубоко передохнула. Так вот где, в Нерви!
Я накинула платок, захватила шоколад, заперла свои комнаты и чуть не бегом бросилась на Сант-Анна. Может быть, я выбрала ее потому, что ходьба в гору утомляет, или же инстинктивно хотелось простора, далекого вида; я была права, выбрав именно этот путь.
Не могу рассказать, как хороша тропинка на Сант-Анну теплым солнечным днем, после полудня. Надо самому видеть тени оливок, – тонкие, кружевные, посмотреть на молодых лигуриек, работающих в винограднике; ощутить золотой припек на южном склоне горы, взглянуть на голубоватую бездну воздуха над морем, на само море, окутанное туманным блеском, – прислушаться к шороху ящериц, к нежному гудению телеграфа.
На одном из поворотов тропинки я увидела следующую сцену: на поваленном телеграфном столбе сидят Леечка и Мариетта. Мариетта читает вслух – Льва Толстого!
Увидев меня, они зарделись, захохотали, и Леечка стала восторженно жать мне руки. Но я сказала, чтобы продолжали, а сама пошла дальше.
Я забралась в сосновый лес над развалинами монастыря и легла на каменистый склон, обращенный к югу. Сквозь стволы я видела только синее море, над ним голубое небо, яркую зелень сосен. Это были волшебные минуты. Снова, как бывало это у моря и в горах, я почувствовала, что дышу тысячею грудей и вижу тысячами глаз. Ветерок, шумевший в соснах, гудение проволок, запах цветущего вереска, море, скалы, итальянки, собиравшие хворост и перекликавшиеся где-то еще выше меня, – все это был один светлый, солнечный дух, в котором я плыла, как в райской ладье. Мне казалось, что и Боря никогда не уходил от меня, он со мной, в моем трепещущем, изливающемся светом сердце.
Я ехала в Нерви не без волнения. Я так засиделась у нас в Барассо, так привыкла к полудеревенской жизни, что меня стесняло предстоящее выступление.
Кроме того, я упорно вспоминала о Боре, и это теснило мне сердце. Я думала: не нужно, конечно, его встречать, растравлять старые раны. В то же время не могла не сознаться, что мучительно хочется мне его видеть.
В Нерви зажигались огоньки, когда подошел наш поезд. Море хлестало в скалы неприветно, на горизонте было хмуро. Жутко становилось за далекий пароход, шедший из генуэзского порта, быть может, в Америку. Настанет ночь в безбрежном, свинцовом море. Одиноко будет мореплавателям.
На вокзале меня встретила Катя и повезла в Grand Hotel. Она была чисто одета, подтянута, и по ее виду я сразу поняла, что здесь курорт, настоящее европейское место. В вестибюле Grant Hotels я почувствовала это еще сильней: электричество, цветы, плетеные кресла для отдыха, элегантный портье – все это вдруг стало мне приятно. Я улыбнулась на себя и вспомнила, что подобное чувство бывает иногда, когда после долгого житья в деревне попадаешь в столицу. У меня явилось это праздничное, столичное настроение.
Катя тотчас убежала, сказав, что зайдет в девять перед самым концертом. Я же прошла к себе в номер, вымылась, взяла ванну и стала одеваться. Не знаю, почему, у меня все время было какое-то сладко-грустное ощущение. Казалось ли мне, что я помолодела? Что во мне есть еще девическая стройность, еще глаза блестят? Или действовала так новая обстановка, новые впечатления, темный вечер с раскрытой на балкон дверью?
Не могу сказать, не знаю. Но, когда я спустилась в обеденный зал отеля, чистая, по-европейски одетая и не очень плохая собой, когда села за столик с цветами и вокруг себя услыхала разноязычный говор, мне показалось даже, что пришла часть былого. Да, верно, не совсем умерла еще во мне певица из Большого театра.
Я взяла себе немного вина, пила кофе и наблюдала людей. После обеда прошла в гостиные. Тут бегали дети, в одной из зал появился фокусник во фраке, и детвора бросилась занимать места, чтобы лучше рассмотреть. Слегка задыхаясь, окинула я взором эту ватагу: нет, Бори тут не было. А наверно, он живет с отцом тоже в каком-нибудь шикарном отеле, так же вот бегает и смотрит фокусников.
Около девяти, когда я глядела, как красивая испанка метала маленький банк, лакей подошел ко мне и сказал, что меня спрашивает какая-то барышня.
Это была Катя.
В России меня везли бы в карете, а здесь мы с Катей отправились пешком, по темноватым, узким улочкам Нерви. Впрочем, и недалеко было. Концерт должен был происходить в летнем павильоне Pension Suisse. Павильон этот имеет вид пагоды, помещается в саду. Странно мне было подходить к зданию, так мало похожему на театр. Ветер посвистывал в пальмах, магнолиях; далеко в темноте шумело море.
Когда мы вошли в артистическую, итальянская певица, с блестящими глазами и в большом декольте, входила с эстрады под плеск аплодисментов. Грудь ее дышала сильно. В ней было то знакомое мне наслаждение успехом, которое сразу перенесло меня в Россию, в Благородное собрание или Консерваторию. Кланяясь, улыбаясь, она дважды выходила на вызовы.
Я помню, что, когда мне приходилось выступать вот так, в каждой певице я видела соперницу. Аплодисменты ей казались некоторым ущербом мне. И оттого я всегда волновалась.
Но сегодня этого не было. Я пила кофе, смотрела, как итальянка взволнованно, счастливо болтала с рецензентом генуэзской газеты, – и все это казалось мне туманным, далеким, вызывало улыбку. Но это не была насмешка. Нет, другое.
Когда я сама вышла на эстраду, то первое, что увидела, – фигурку Леечки с анархистом в проходе. Затем – обычная волна голов, – перед которой прежде я трепетала, а теперь на сердце моем было легко, просторно и несколько грустно. Я пела без всякого усилия и, как мне казалось – неплохо. Были минуты, когда я очень задумывалась сама, и кажется, эти пассажи доходили верней. Вышло странно: оказалось, у меня есть какое-то слово и я могу обратиться с ним к этим людям и сказать его могу лишь в пении. За мелодией, за смыслом арии в моей душе звучала иная песнь, и мне казалось, что она доходит до слушающих: моя вечерняя песнь, песнь прощания и напутствия. Снова мир предо мной раздвигался, и я видела не эту лишь залу, сияющую электричеством, – я прижимала к своему сердцу и лобзала всех, кто жив, кто счастлив и несчастлив, кто придет еще в жизнь, кто добр и зол, чист и грешен.
Мне довольно много аплодировали, но дело было не в аплодисментах. Я ощущала свою связь с людьми. В артистическую вбежала Леечка, вся раскрасневшаяся, с блестящими глазами.
– Ах, как вы чудно поете! Это так замечательно, вы такая прелесть!
И она трясла мне руки, горящими глазами глядела на меня.
– Отчего вы никогда не пели в Барассо?
Анархист Сеня решительно и несколько трагически поблагодарил меня.
Разумеется, я долго не могла заснуть у себя в Grand Hotel'e. Меня волновали сладкие и туманные чувства. В воображении вставали картины былого – и странная вещь, сегодняшний вечер еще отдалил меня от этого былого – все дальше уходило оно в страну воспоминаний. «Так истает и уйдет в конце концов вся жизнь», – думала я, переворачиваясь. «Вся она обратится в облачко, сольется с голубым эфиром, из которого я возникла».
С этими мыслями я заснула наконец и проснулась поздно. Светло-сиреневое море было видно в балконную дверь. Голова у меня была ясная, на сердце чувство, что вчера произошло что-то хорошее. И сейчас мне по-детски понравилось, что рядом с кроватью телефон и я могу заказать кофе, протянув лишь руку.
Такова оказалась моя поездка в Нерви. Я пробыла там два дня и должна прибавить к описанному еще две встречи, резко, навсегда запавшие в мою память.
Перед вечером я зашла в одно из маленьких кафе, где бывает итальянская мелкота, идут споры о чентезимах, где кофе неважен, но нет иностранцев.
Зажгли газ. Я сидела у двери, глядела на улицу и вдруг услышала пение. Пел женский голос, хороший, но усталый, как бы внутренне надтреснутый.
– Вот, – сказала я подошедшему камерьере, – как у вас в Италии поют. Точно из оперы.
– Это одна старушка, – ответил он. – Она действительно из оперы.
Пение окончилось. В кафе, держа за руку старика, вошла старая женщина – некогда известная певица, как рассказал мне потом камерьере. Теперь же она зарабатывает хлеб насущный, для себя и слепого мужа, – пением на улицах.
Она протянула мне руку за подаянием.
Моя вторая встреча – за час до отъезда домой, в Барассо.
Я приехала на вокзал рано, и мне стало скучно дожидаться поезда. Я спустилась вниз, на знаменитый приморский променад. Это – хорошо устроенная дорожка вдоль моря, с перилами, скамейками в местах, где гуляющий должен устать. Есть тут и кафе, и входы в парки отелей. Одним словом, все очень порядочно, но все же рядом море, и оно одно скрашивает все курортные измышления.
И вот на этом променаде, в день 25 февраля, я собственными глазами увидала моего сына Борю, после трех лет разлуки.
Я сразу его узнала, хотя он сидел у самого моря, спиной ко мне, и возился в песке. С ним была барышня, видимо гувернантка. Он хохотал, и по тому, как он смеялся и как сидел на корточках, я сразу, безошибочно поняла, что это он. Я опустилась на скамейку и припала к ее спинке. Что я тогда чувствовала? Что мне об этом сказать?
Меня скорее поймут матери; к ним легче дошел бы мой вопль, мое рыдание, пронзенное такою нежностью, что минуту мне казалось – сейчас я умру.
Но все это происходило внутри. Я не выдала себя. Я знала, что подойти к нему, обнять, поцеловать, сказать, что мой он, – нельзя. Начнется весь прежний ужас, весь позор. Он же счастлив. Он маленький, он меня забыл.
Да, легко так рассуждать, – но только мне было нелегко. Все, что потом было, – как я издали его перекрестила, повернулась, пошла к поезду, села в вагон и из вагона еще раз увидела его на побережье: все это происходило точно и не со мной, а с какой-то тенью, призраком.
Но затем – все это прошло, и я снова очутилась в Барассо, у синьоры Бокка, и Мариетта по-прежнему по утрам стала приходить ко мне и спрашивать «Vuole stufa?», и мы по-прежнему топим печку pigne'ами синьора Барбалова, слегка пахнущими ладаном.
Впрочем, скоро будем топить меньше: приближается весна. Больше фиалок в ущелье, на Сант-Анне зацвел вереск, в голубоватых далях над морем появилось что-то волнующее: быть может, это мы навязываем природе свои весенние томления. Но бледно-розовые цветы персика и белый миндаль ясно говорят о марте. Говорят о нем и весенние бури: недавно я видела поразительную картину. Шторм при ярком солнце. По морю летели и кипели валы белой пены, как дикие снежные кони. В Сестри пройти было нельзя.
У нас, в доме Бокка, семейное горе или семейная радость: Роза сбежала-таки с русским.
Похищение ее было обставлено романтически, не без участия анархиста Сени. Он нанял в Киавари автомобиль (я уверена, что в кармане у него при этом был револьвер). Роза ждала в условленном месте, с чемоданчиком, заранее спрятанным в кусты.
Сеня умчал их в Рапалло, где они сели, наконец, в поезд.
Мариетта очень довольна. Главным образом тем, что Бокка двое суток не вставала с постели и выла на все побережье.
Сеня с Леечкой сошлись окончательно – видимо, Александра Николаевна была права, упрекая их за подозрительное посещение скал.
Доходят до меня вести и о ней. Как слышно, она перестала пить и снова стала на линию серьезной русской женщины. Кроме того, занимается религиозными вопросами и ходит на лекции популярного проповедника. Я вспоминаю ее серые глаза и думаю, что недаром отец ее был народник-сектант.
Я знаю, что изредка мы будем с ней переписываться; потом, наверно, потеряем друг друга из виду. Я от души могу пожелать ей доброй, правильной жизни.
Пусть пошлет Господь ее и мне.
Поездка в Нерви провела в моей душе новую черту. Мне странно вспоминать теперь былое, так оно далеко. Даже мысли о Боре реже посещают меня. Тот мальчик, которого я знала и любила, для меня отошел в туманную, как бы идеальную страну. Его образ расплывается, тает. Тот же юноша, в которого через несколько лет обратится мой сын, – будет уже иным человеком, уже он не взглянет на меня как на мать.
Да и трудно ему будет признать во мне мать.
Но что бы там ни было, я живу. Я ощущаю даже радость жизни, – она все больше заключается для меня в клочке синего неба, в фиалке, глазах влюбленной девушки, в белой пене моря, в смехе ребенка.
Каждый вечер, неред заходом солнца, я гуляю по пляжу. Иногда, в ясные дни, за морем вижу снежные Альпы. Я люблю дожидаться скорого поезда в Париж, и когда он проносится по насыпи, махаю ему платком и говорю: «чау, чау!» – прощай!
Люблю дожидаться вечернего звона в нашей церкви. Я не хожу туда. Моя церковь, мне кажется, весь этот мир. Когда звонят в шесть часов к Аве Мария, а я прогуливаюсь по берегу и когда я бываю в серьезном настроении, я вспоминаю и как бы молюсь за близких и не очень близких моих.
Счастье – дар Божий. Пусть сойдет этот дар на Леечку, Катю, Розу, Мариетту.
Да пошлет Господь светлой кончины певице, встретившейся мне в Нерви. Я желала бы, чтоб тот, кто был моим сыном, обратился в настоящего человека.
А когда я возвращаюсь с этих прогулок, со многими я кланяюсь, разговариваю. Может быть, это неверно, но мне кажется, что я не уеду отсюда, что я стала уже частью этого маленького селенья и меня признали здесь за свою.
Москва 1912 г.
Лето*
1. Напиток радости
Около четырех дверь приотворилась, и просунулась беленькая головка моей племянницы Лизы.
Быстро луща подсолнухи, она обычной скороговоркой сказала:
– Дядя, поедем в Луневку: дедушка посылает к Тимофею Семенычу, там от косилки нож чинят, а все на покосе, мне не с кем ехать. Дяка, поеди-им!
Мне не очень хотелось, но я не отказывался.
– Ладно. А что же тетя Наташа?
– Она девочку будет мыть, ей некогда-а, – крикнула Лиза, и унеслась на своих тоненьких десятилетних ножках.
Кончив работу, я иду в сад обрезать яблони, влезаю с садовой пилой на самые крайние сучья, пилю, замазываю отрезы краской, слегка задыхаюсь от гимнастики, и над собой вижу то голубое и синее июльское небо, что люблю вот уже двадцать пять лет.
Солнце, которое видело меня ребенком, под которым я радовался, тосковал и страдал в годы ранней молодости, заливает и сейчас меня с головы до ног. От его лучей с моего лба падают капли «трудового» пота, которыми я горжусь. Сухие ветки падают, яблоня принимает культурный вид, и я торжествую. Потом придет ко мне Наташа с мохнатой простыней и с девочкой. Наша девочка будет сидеть под яблоней невдалеке, и по ее льняным волосенкам пойдут пятна света. Наташа говорит, что ветер – это «патрон» девочки. Правда, он любовно играет ее локонами, и ей это нравится. Быть может, он кажется ей живым существом, добрым духом, вроде расположенных к ней – матери, меня?
Действительно, я купался и на этот раз, и даже Наташа мне сказала, что не стоит ездить в Луневку: может быть, придется ждать Тимофея Семеныча, может, нож к косилке еще не готов, и прочее. Я согласился вполне, и пошел купаться.
Но за вечерним чаем все повернулось по-иному: оказалось, что нож очень нужен, кроме нас послать некого, и я вторично согласился. Теперь с нами собралась и Наташа: девочку она выкупала моментально, и в начале восьмого у флигеля уже стояла серая кобыла в тележке. Лиза в красном клетчатом пальтишке взгромоздилась было на козлы (она большая лошадница и любительница править: при этом – предпочитает езду шагом). Но я посадил ее к Наташе, а сам в пыльнике и широкополой шляпе, напоминая отчасти псаломщика, и отчасти интеллигента, занял председательское место.
Наша серая кобыла когда-то была молодец, а теперь становится все белей от годов и слабее. Сначала я даже подумал, что придется ехать любимым аллюром Лизы. Но это оказалось неверным. Старуха все же разошлась и показала, что кое на что еще годна. Мы проехали удачно через Копенкино и выехали в открытые поля. Тут я подумал, что хорошо сделал, вырвавшись из дому. Я довольно давно не был в этой стороне; вечер налаживался прелестный, было приятно видеть все это, и за моей спиной сидели милые люди: Наташа и Лиза, – большое дитя и маленькое.
– Ух ты-ы! Тека Натака, смотри-ка-а, у Муромцевых рожь уж кося-ят! Жнейка, как у нас.
Сейчас же она перескакивает на другой предмет.
– А у нас Мельникова собака под баней ощенилась, знаешь, черная такая бегала? Шесть щеняточек, хорошеньки-и, их почти уж всех разобрали.
– А я думала, что ты их себе в кровать стащишь и вместо собачонки будешь греть, из блюдечка молоком поить.
Лиза хохочет и бьет ее кулачками.
– Ну уж ты, тека Натака, всегда! Шутница!
– Смотри. – Наташа показывает на горизонте три дерева. – Это идут три слона. А вон дуб мамврийский.
– Какой мамврийский?
– Из Ветхого Завета.
– Нет, тека, у нас этого еще не проходили.
Так они болтают, а мы пересекаем большую дорогу и спускаемся в «долину Луневки». Луневка – небольшая деревушка, из десяти дворов, расположена в овраге, и так запрятана, что, чтобы пробраться к ней, надо переехать плотину прудика, подняться по косогору, спуститься опять, – одним словом, выписать чуть не восьмерку.
Изба Тимофея Семеныча, деревенского слесаря, механика и чародея по машинной части, в самом конце. Мы узнаем ее потому, что сарайчик напротив носит все следы его художественно-ремесленной деятельности.
– Дома Тимофей Семеныч? – спрашиваю я молодого парня на крыльце. (Он учтив и имеет вид бывшего в Москве.)
– Сейчас выйдет!
По рассказам я знаю, что Тимофей Семеныч сразу не выходит к господам: он должен умыться, привести себя в порядок и лишь тогда соблаговолит.
Это серьезный, хмурый старик, несколько даже похожий на колдуна. Он не любит лишних слов, ревнив к своему искусству и не передал его даже сынам. Он знает, зачем мы приехали, и идет в свою лабораторию. Мы снова ждем. Мы рассматриваем его избу, детишек. Возвращаются со стадом овцы. Как и во времена моего детства, мальчишка хватает овцу за шерсть и тащит домой, как и в давние годы, баба выходит на крыльцо и зовет овец: «выть, выть, выть». По зеленой мураве шествуют гуси, малыш стоит, заголив пузо. Гаснет дымно-розовый закат.
– Тимофей Семеныч! – обращаюсь я к подошедшему в валенках алхимику. – Дедушка завтра просил вас к нам. Жнея шалит.
Это слово «шалит» я выговариваю с гордостью. Приятно показать себя деревенским человеком.
За моей спиной Наташа смешит ребятишек Тимофея Семеныча, гукает на них, строит рожи и показывает язык.
– К вам? – сурово спрашивает Тимофей Семеныч. – Значит, надо утром.
Я не настаиваю, что непременно утром, и логической необходимости в этом не вижу, но раз он так говорит – пусть.
Мы укладываем в ноги нож, я благодарю, и мы трогаемся.
Начинает уже смеркаться. Возвращаются с поля жницы и вязальщицы в грубоватых перчатках. Мы проезжаем у крайней избенки мимо палисадника мальв. Мужик сидит на лавочке и поправляет косу. Деревня имеет усталый, но спокойный, честный вид, как человек, сделавший свое дело и отходящий на покой. Правя вниз, по косогору, я думаю, что эта деревня, то есть не именно Луневка, но вообще русская деревня, имеет надо мной неотразимую силу. Сознательно я даже не люблю ее. Я с ужасом думаю об убогой и полуслепой жизни в этих хибарках, о тесном круге интересов, замыкаемом вон той рощицей на закате; о вековом однообразии этого бытия.
Но чья волшебная палочка обращает эту же деревню, вечером, с появлением первой звезды и мычанием последней коровы, – в истинную поэзию? Почему бьется мое сердце, светлым волнением волнуется душа?
– Вон Козловка, тетя Наташа. – Лиза показывает на соседнюю деревушку (мы уже выехали из ложбины). – В крайней избе Манька живет замужем, что у нас служила.
– Видишь, избы все друг к другу прижались. Они, как люди, вскочут и побегут.
– А вон облако, смотри, – болтает Лиза, – как будто бы ты распустила волосы, только они у тебя розовы-е-е!
Действительно, по туманно-розовому закату потянулись чьи-то волосы. И верно, избушки Козловки похожи на толпу сбившихся путников. Вправо от нас, в сторону, обратную закату, золотисто-белеет рожь, а над ней темно-стальное, синеющее небо. Как и мне, двум сидящим сзади все тоже начинает казаться волшебным. Мы проезжаем мимо цветущей гречихи, так густо забитой желтой сурепицей, что издали клин этот кажется полосой чьего-то огромного цветника. Наташа нагибается, срывает пучок.
– У Бога такие громаднейшие сады, и это вроде букета в нем. Смотри, а вот другой букет!
Это полоса неспелого овса, вся прохваченная васильками. Да, другой букет Божьего сада, в смиренной русской стране.
Я правлю рассеянно, но серая сама знает дорогу. Сзади я слышу обрывки разговоров: то Наташа смешит Лизу, то они говорят серьезно, о том, что скоро приедет из-за границы Лизина мама, и как будем ее встречать. Потом почему-то Наташа спрашивает Лизу, исповедовалась ли она, ходит ли зимой в церковь. Лиза очень любит Наташу, и теперь сама ей сообщает, что каждый вечер молится за покойного папу (он умер несколько лет назад). Понемногу их разговоры, надвигающийся летний сумрак, благоухание хлебов, даль равнин, звезда, вставшая прямо над дугой, – все это начинает для меня сливаться в одно громадно прекрасное и ясное, чему имени нет, что делает сердце чистым, добрым и молодым, что изгоняет из него бесов, и дает веру. То, что называют колдовством поэзии. Но, быть может, – это действие на нас откровения.
В Копенкине уже ужинали, на открытом воздухе, у маленьких деревянных столов. Мальчишка выезжал из пруда верхом на паре лошадей, купал их. Проехав пруд, я обернулся. Пруд блестел теперь под закатом, как розовое зеркало.
– Смотрите, что за прелесть!
И они тоже обернулись, и тоже глядели, а Лиза даже прихлопывала ручонками.
– Ух ты-ы, какой ясный пруд!
Потом мы слушали перепелов, разбирали звезды, появляющуюся Медведицу, смеялись, Наташа научила Лизу сказать бабушке: «Бабушка, у тебя на подоле грязь», – и, когда та нагнется, ответить: «Не кланяйся, – ведь я не князь». Мы экзаменовали Наташу, куда ведет какая дорога, и говорили о разных маленьких пустяках, которых нельзя запомнить. Что же мне еще прибавить?
Мы приехали вовремя, совершенно благополучно, и дедушка, кажется, остался нами доволен. С четверть часа я пролежал в темном парке, в гамаке, и надо мной качались звезды в просветах дерев. Наташа была весела, Лиза сказала бабушке про князя, и та сейчас же догадалась, кто ее научил.
Потом мы ужинали, потом наступила ночь, и все мы заснули, переходя в новый день, ожидая новых чувств, печалей или радостей.
2. Кладбище в деревне
Определенной цели у нас не было. Мы шли вечером, на закате, по большой дороге. Дойдя до кладбища, мы вздумали вернуться летником.
Для этого нужно пройти вдоль кладбищенской канавы и под острым углом повернуть направо, на полузаросшую тропу. Мы решили для сокращения пути просто пересечь кладбище.
Но трудно пройти через обитель мертвых быстрым, равнодушным шагом.
Наше кладбище небогатое и неказистое, как все вокруг. На нем растет несколько берез, ветел, рябин; иван-чай краснеет по канаве; все оно густо заросло травой. Вокруг – поля зреющего хлеба, поповская роща и церковь села. Видны внизу луга и покос на них.
Мы прошли к главным воротам; вблизи их, на небольшой почерневшей плите, я прочел надпись: «Приими, Господи, дух его с миром», – одну из обычных кладбищенских надписей. Мы вспомнили, что где-то тут лежит учительница, шесть лет назад покончившая самоубийством. Говорили, что у нее был несчастный роман и ее вынуждали выйти за другого – нелюбимого человека.
– Кажется, – сказала мне Наташа, – в том углу.
Мы вернулись туда, откуда вошли. Здесь было просторнее, могил очень мало, и еще гуще разрослась трава.
– Не эта ли? – я подошел к большой могиле, с деревцом рядом.
– Нет, дерево слишком большое. Я помню, мы воткнули тогда рядом ракитку.
В то лето нас, молодежи, много жило в усадьбе. Никто не был знаком с девушкой, но ее горькая смерть в цвете молодости, ее одиночество, то, что некому было даже ее похоронить, взволновало нас, и на другой день после погребения мы-снесли на ее могилу венок из дубовых ветвей с рябиной: как бы лавры, окропленные кровью. А затем набросали цветов на ее могилу. Наташа задумалась.
– Я помню, что мы вешали венок на крест, небольшой, белый, березовый. Как сейчас, вижу.
– Не там ли?
Я перешел к другому холмику, с похожим крестом. Но там висел образок, и было написано имя усопшего. Мы смутились. Потом бродили вправо и влево, подходили к некоторым возвышениям, но так и не могли найти того, которого искали.
– Да, пожалуй, что здесь, – я, наконец, остановился у безыменной могилки, где не было и намека на крест, не было и остатков венка, не говоря уже о букетах. Но оба мы не поверили, сами не поверили находке. Наташа взяла меня под руку.
– Трудно разыскать. Пойдем! да и сыро.
Действительно, солнце заходило. В густевшей траве показалась роса, мы медленно побрели к летнику, и отсюда видели, как на лугу, у мельницы, убирали сено. Это луг поповский, и издали я рассмотрел крупную фигуру нашего батюшки.
Наташа спросила меня:
– Как думаешь, скосят они траву на кладбище?
Я ответил, что, пожалуй, да, хотя и странно это казалось на первый взгляд.
Мы возвращались домой в том настроении, какое всегда бывает после кладбищ: это не горе, не тяжесть. Можно назвать его таинственной, певучею меланхолией. Мы вспомнили, что не все уже те, кто носил ей дубовый венок и цветы, – живы: мы недосчитывались близкого нам человека, которого знал я с детства, а Наташа с того времени, как мы с ней встретились. Сложил он свои кости далеко на юге, в безоглядной калмыцкой степи, и похоронен вблизи русской церкви. Нам вспомнилось и то, что теперь, по последним известиям, его могила вошла в церковную ограду и охраняется: был он врач, и оставил по себе добрую память.
– Все-таки, – сказала Наташа, – я не хотела бы, чтобы меня похоронили на этом кладбище. Лучше бы в Москве, в Новодевичьем.
– Это – несколько ребяческая мысль: не все ли ведь равно, где лежать? Но и я поймал себя на ней. И я желал бы получить вечное успокоение в городе, с которым так тесно связаны наши жизни, где живут те, кого мы любим, где мы хоронили близких нам. Мне приятно вспомнить о белоголовом соборе, перезвоне колоколов, вольном ветерке, налетающем с Воробьевых гор.
И понемногу наш разговор перешел на Москву, на друзей, знакомых, на предстоящую зиму. Сгущался вечер, показался бледный месяц. Под ним протянулась фиолетовая тучка.
В усадьбу мы вернулись к ужину. За ужином, как всегда, болтали, смеялись; тени вечности отошли от нас. Мы забыли об учительнице, об умершем нашем друге и ожидающей нас судьбе.
А через несколько дней, снова перед закатом, мы проезжали в экипаже мимо кладбища. Я поднял голову. Вся трава была чисто и ровно скошена; по кладбищу стояли копны сена. Про себя я слегка улыбнулся. «Да, – скосили. Зачем же пропадать траве, выросшей хотя бы на наших ближних?»
Но прибавлю, что кладбищенский покос не показался мне ни странным, ни кощунственным. Напротив, в той простоте, с какой скосили сено в этом таинственном для нас месте, в этой простоте была, быть может, вера: и, во всяком случае, очень покойное, доверчивое отношение к Богу и природе.
Мне припомнились наши разговоры о том, что лучше быть погребенным в Новодевичьем монастыре, чем здесь. Сейчас – не оспаривая своих собственных желаний – я подумал, что земля одинаково примет нас, величественно и простодушно, будем ли мы лежать в Москве, здесь или в далекой степи. Ибо один, и безмерно велик, жив, свят и могуществен мир Бога живого.
Север*
Посвящается В. А. З.
Свободной стоит земля и теперь еще для великих душ. Много еще мест для отшельников. Там веет благоухание тихих морей.
Фр. НицшеI
Давно, когда мы были молоды, пылки и когда кровь кипела в нас, мы ушли раз с Семеном на север. Мы забрали ящики с красками, зонты, распрощались с убогой усадебкой Сенина дяди – в одной из северных губерний, где жили почти каждое лето, – и ушли.
Сначала мы долго плыли на лодке, по течению реки; по утрам, скользя вниз, в зеленовато-фиолетовых утренних тонах, мы трепетали от восторга, жадно вглядывались в эту тянувшуюся перед нами лентой гладь реки, уходившей в сумрачные и таинственные леса; впивали эту особенную, нездешнюю музыку утра, и в той яснеющей уже, недосягаемой, бессмертной дали нам чувствовалось вечное солнце: вечное солнце – как мы ждали его!
А потом мы продали лодку и дальше бродили уж пешком, ели консервы, сухари, спали под открытым небом. Вскоре, на «монастырской тропе» наткнулись на монаха Федю. Федя, в сущности, уже не был монахом, когда мы познакомились и подружились с ним; он довольно давно сбежал из монастыря и шлялся без определенной цели. Но он понравился нам, мы – ему, и он остался с нами. Он таскал наши ящики, стулья и зонты, мы кормили его. Иногда по вечерам у костра, в старом прямоствольном тихом лесу он пел нам странные, бродяжнические песни, и его богатырская фигура, громовой бас отзывался полумифическим, сказочным, угасшим.
Помню, раз он выломил сук с оглоблю, засучил рукава и, размахивая суком, кричал:
– Пятьсот лет назад так разил монах Ослябя несметные полчища татар!
И он бежал куда-то вперед, как будто и правда там были татары, а мы с Семеном смеялись, – но странно, помню мгновенья, когда мне казалось, что это на самом деле все так, что на самом деле мы наткнемся сейчас на глухой, благоговейный и бедный скит старца Сергия, и там будет ждать нас этот трехаршинный молодец Федя.
– А видали ль вы Белое море? – спросил он.
– Нет, – ответили мы. Федя презрительно улыбнулся.
– Что ж вы знаете после этого!
II
Лето выдалось чудное – кроткое северное лето! Не жарко, воздух тих, бледно небо, часто неподвижно стоят на нем серовато-белые облака, и так прямо, так остро пахнет бесконечными, священными, хвойными лесами. Бор – по темно-зеленой, глянцевитой листве брусники ярко алеют точки-ягодки, а дальше прячется под листики серо-сизая, скромная черника, мох тих, зелен, тягуч; он скрадывает шаги, по нем идешь – и становится жутко, такой он загадочный, прячущийся. Но вот выглянет из-за набежавшего облачка солнце, и он сразу запестрит изумрудными, невероятно-яркими пятнами. И все вокруг заиграет, на все ляжет четкая, тонкая сетка светотени.
А сосны прямы, коричневы и змеевидно бугристы снизу и только там, на высоте, где тянутся уж во все стороны ветки, отливают они горящей латунью. Там шуршит нежная, оторвавшаяся пленка коры и гудят зеленые верхи. Можно часами лежать внизу, слушать их таинственный гул, необъяснимый, широкий и говорящий о вечности, хаосе, о рождении и гибели всего.
Иной раз мы разбредались на целые дни. Приходилось из большого бора выбираться в низкие, бесконечно-тянувшиеся заросли по седым и зеленым мхам; это уж преддверия тундр, намеки на них. Тут сразу становится жарче, мох раскаленный, глубокий и мягкий, попадаются сухие, пышащие зноем, выросшие на белом мху сосоннички; сосенки крошечные, не выше пояса; нестерпимо пахнет хвоей – кладбищем; иммортельки, бесконечные бледно-пестрые иммортельки под ногами – ничего больше не растет на этом пустынном мху. Потом вдруг опять все меняется; перед вами уж мелкая березка, вперемежку с ельничком и можжевельником; ползучий сухой вереск кое-где; ягоды, кочки; в некоторых углублениях птичий помет, два-три сырых или черных пера – это ночевали тетерева. Тут нетрудно согнать мохнатого, краснобрового черныша, а иной раз из крепкой, низенькой можжевеловой чащи с треском вырываются куропатки – северные белые куропатки. Хорошо было лежать тут на полянках, на горячем мягком мху, глядеть в бледно-зеленое небо, на тощие елочки и березки, подбирать вылинявшие перья чернышей, рвать высокую красную тетеревиную травку, нюхать мох – душистый и душный.
А кругом кольцо синего леса: дикого, сурового, неизведанного.
И мы работали. Мы писали странно и грубо, и Федя часто покачивал головой над нашими этюдами.
– Чудаки вы, ребята, – говорил он. – А впрочем…
Федя это напускал на себя, потому что и сам он был такой: и сам бродил здесь с нами, среди лесов и болот, неизвестно зачем, ни к чему не привязанный, такой же оборванный, как и мы, выгнанный, в изодранной рясе, точно его толкала какая-то сила.
Нет, должно быть, уж очень нелепая, кипящая и бессмысленная кровь бурлила во всех нас, и в Феде, и во мне, и в Семене.
Или другое – сияла искра одного общего огня.
III
Медленно, отклоняясь в сторону, плутая иной раз, мы все же подавались к северу. Раз, наткнувшись на полотно, проехали всю ночь на тормозе товарного поезда, а больше брели наугад, часто шли ночью, до зари, и больше глазели в небо: бледные, вечные звезды сияли там одноцветными, как будто утомленными лучами, и с одной из них – Полярной – мы постоянно справлялись.
Иногда мы забредали в деревни, отпаивались молоком, раздобывали корму и опять шли дальше и дальше, как будто очень нам нужно было куда-то поспеть.
Местность менялась. Меньше встречалось теперь деревень, по целым неделям приходилось бродить по лесу.
Случалось среди черных, спутанных еловых дебрей, где темно и душно, нет травы, земля усыпана ломающимися иглами и часто висит сухая паутина, – случалось в таких оцепенелых, завороженных местах вдруг неожиданно выйти на берег озера. Озеро как будто из светлого жидкого стекла: бледны его края, страшно неподвижна вода и, кажется, нету в нем ни рыбы и ничего живого, даже дна нет. Только ели – мохнатые, угрюмые обступают его, и в нем отражаются их суровые лапы. Ветра нет и воздух такой, будто мрачные чащи отделили это место от всего остального мира. Застоявшийся крепко-хвойный, странный, точно подернутый серой паутиной воздух.
И опять мы садимся и пишем. А Федя бродит по берегу, выбирает местечко, сносит сухих шишек и веток и раскладывает костер.
Тихой синеватой струйкой идет к небу дым. Небо молчит. Облака дымчаты и опаловы, все стоят на одном месте, твердо и точно вырисовываются в зеркале озера и бросают нам неясный, бледный, обволакивающий отсвет. Тишина. Кажется, что времени нет, что не растут деревья, что века уже млеют эти светлые воды и мрачные ели вокруг, никому не известные, странные, созданные для гордого созерцания, для какого-то иного мира, где не возятся, не хлопочут и не снуют без толку, а мечтают молятся и в праздности, в тиши сонных веков, создают дивные замки духа. Так, мы сидим зачарованные, работаем, и что-то растет под нашими кистями и красками.
А потом, много позже, нас зовет Федя – готовы раки. Мы собираем свои ящики, походные стулья – идем.
Вечереет. Расползаются куда-то бледные облака, солнце сходит вниз, собираясь спрятаться в дремучих лесах, нежные, золотистые и музыкальные тона наполняют небо. А еще позже ярко-красные горизонтальные лучи пробираются кой-где, в сумрачных, еловых чащах, и все там кажется темнее, гуще, жутче. Чем-то сказочным отзывает от этих молчаливых потемок под сводом дикого леса.
Вот в глухом, черном углу, над родником, среди папоротников и бурелома круглоглазый сыч. Пожалуй, там дальше избушка Яги.
Но вот мы опять уж у озера. Теперь оно еще светлее, прозрачнее и фантастичней.
Федя советует ночевать тут. Ночуем. Легкие тени над нами здесь, над лесами, под нежным небом, священные тени наших предшественников – кротких мечтателей, уходивших сюда, в скиты, от жестокой жизни.
Сон наш легок и ясен.
IV
Помню, раз мы попали в удивительные места. Казалось, глядя на эту сдвинутую с места, скомканную в огромные складки-холмы почву, поросшую вековыми соснами, на озера, налитые в промежутки между скатами чьей-то могучей рукой, казалось, что тут пронесся ураганом творческий великий дух, лепящий массами и не заботящийся о деталях. Занесенные Бог знает откуда, тут валялись гигантские гранитные валуны, но очевидно было, что это пустые камешки и поигрушки для хозяина этого края.
Когда мы бродили тут, было жарко. Это было даже странно, – но днем все здесь дремало и спало под бродячими лучами, как громадный жирный кот, и только к вечеру начинался обратный ток силы, набранный за день. Мы лежим втроем, например, на гранитной глыбе, поросшей мхом, над озером. Наступают сумерки: неясные, смутно-зеленоватые; там, где угасла заря, растягиваются по небу бледно-фиолетовые полосы. Видимо, ночь будет такая же, колеблющаяся, борющаяся, полусвет, полутьма.
Озеро, расслабшее и изнемогшее, чуть дымится, и чувствуется в нем огромная, нежащаяся и наслаждающаяся сила. Кто-то всплескивает, – раз, другой, третий, – опять молчание.
Вдали, на мысочке, вдающемся в воду, сквозь редкий, странный воздух, сосны виднеются в отдельности, прямые, как стрелы, а верхушками тесно никнут друг к другу, точно влюбленные. День прошел, наступает жизнь бледной ночи, таинственная, неуловимая и прелестная. Кажется, будто дышит разомлевшая земля. Страстные, извивающиеся тени льнут друг к другу между деревьев. Лес притих, смутно обступает нас, окутан голубоватой, полутуманной пеленой… Бледно мигают сквозь него звезды на небе и их дрожащие отражения в озере.
Все тихо, но и все движется; насыщенная страстная атмосфера охватывает нас; всюду переливаются эти особенные, не сразу уловимые лесные шумы, точно несокрушимые стихийные силы бродят, растягиваются и клубятся вокруг. Должно быть, это сама жизнь, сама неодолимая животворная мощь севера реет и колеблется повсюду в чащах, должно быть, мы присутствуем на самом страшном и таинственном зрелище – роста.
– Хорошо, – говорит Федя, подымаясь и растягивая в стороны свои здоровенные руки, так что делается похож на черный крест. – Великолепно тут! Только пора костер раскладывать! – И он прыгает вниз с гранита, взмахнув рукавами рясы, как огромная черная птица, а за ним соскакиваем и мы.
Ноги наши легки и крепки, неслышны и уверенны движения, и в этой страшной, томной полумгле северной ночи Федя с Семеном кажутся мне уж чем-то немного иным, чем раньше. Но нам хорошо. Так что кажется даже, что мы больше уместны и подходящи здесь, в этих пышных, полножизненных и могучих лесах, чем где-либо.
Много позже, после ужина, когда Федя и Семен спят уже, я все сижу и смотрю.
Кажется, все по-прежнему я ощущаю вокруг себя, в лесу и над озером, присутствие великих, радостных сил.
«Верно, тут есть и лешие, и водяные, – думал я, глядя перед собой, – а может быть, здесь живет и еще какой дух… Могучий, северный дух, который наслаждается этой дикостью; может, и настоящие северные фавны и здоровые, белокурые женщины бродят в этих лесах, жрут морошку и бруснику, хохочут и гоняются друг за дружкой».
И долго в ту фантастическую, сероватую, без тени и света ночь, пред лицом немого, глубокого озера и гордых лесов, я мечтал о других озерах, таких же тихих и таинственных, спрятанных в неизвестной мне глуби лесов, о русалках и водяных, живущих в них, и о размашистом стихийном счастье этой страны.
И, правда, во мне самом ходила и переливалась тогда эта сила; казалось мне, что я могу померяться со всеми здешними обитателями, могу своими молодыми мускулистыми руками выковать себе полную блестящую ослепительную жизнь!
V
Часто мы уставали, приходилось иногда дурно питаться, мокнуть под дождем, но нам не было это в тягость, и мы по-прежнему просыпались каждое утро с бодрыми и свежими головами. Потому что все, что мы видели тут, было так странно, своеобразно и ново, так не похоже на прежде виденное и прежде перечувствованное, что каждое утро мы ждали и верили, что и этот день даст нам что-нибудь опять неизвестное, сильное, острое.
Постоянно нам казалось, что мы не видели и не знаем здесь еще очень многого, очень важного, постоянно чувствовалось, что мы все ближе и ближе подходим к великой богине севера – его поэзии, но она еще не в руках у нас, мы еще не пропитаны ею.
Третий месяц уж мы бродили здесь, третий месяц не видали людей, толкотни, жизни, все время ощущали вокруг себя великую лесную пустыню – и одичали сами. Часто, шляясь мглистым, полусветлым вечером в лесу и мечтая, мы смеялись потом и спрашивали себя, как будем мы зимой работать, давать уроки, ходить в академию.
Хорошо, что не было тут Сенина дяди или тех монахов, от которых сбежал Федя!
VI
Хмурый облачный день. Облака ползут твердые, тяжкие, на значительной высоте, и формой похожи на раковины, обращенные выпуклостью к земле. Половина каждой раковины светлая, другая, что подальше от нас, холодно-синеватая. На дальнем горизонте облака толпятся сплошным, складчатым, свинцовым пологом.
Мы на огромной поляне. Это, собственно, и не поляна, а горелое место. На много верст вправо, влево и прямо тянется эта пустынная, угрюмая плешь, оцепленная синеющим кольцом лесов.
Жаль, мы не видали, как горел и гиб этот никому не принадлежащий, ненужный лес. Хорошо, должно быть, и гореть, когда никто не тушит.
Теперь же тут огромными розовеющими пятнами раскинулась тетеревиная травка, разрослись еще какие-то буйные травы, да кое-где торчать бархатно-черные пни. Местами уцелели от огня отдельные тощие сосны, издали они похожи на грибы. А вон, правее, целая картина совсем засохших, изъеденных короедом сероватых деревьев: гигантские дубы и ели. Как сложен и тонок ажур их ветвей! Мертвенностью, ненужной четкостью и ухищренностью линий они напоминают стройку кораллов. Рядом, в стороне торчит оголенная ель – как воткнутый в землю хребет костистой рыбы. На макушке у ней – коричневый ястреб. Ветер мрачно свистит в ветвях мертвецов.
Вот ястреб снялся и поплыл – неопределенно, небрежно… Прячься, мелкота!
Ветер крепчает. Упругими волнами он пригибает к земле траву, тускло поблескивающую на сгибах, несется по голому месту все быстрей и стремительней и гонит оттуда, из-за леса, новые горы темных, синих туч. Стволы торчащих сосен кажутся ярче, желтей на фоне тучи, сизая тень ложится на все.
– Влезем, – говорит Семен, указывая на пару одиночек-сосен, – посмотрим, не видать ли чего.
И мы взбираемся. Сперва лезть скверно – ствол гол и гладок, но выше – сучья, и нам не трудно.
Чернорясый Федя внизу обращается в два концентрических кружочка с выступами по бокам. Ярче отделяются куртины темновато-краснеющей тетеревиной травки.
Видны теперь горелые черные пятна вперемежку с ярко-рыжими купами опаленных кустов.
Но, главное, туда, в страну полуночи! Оттуда несется этот прохладный ветер, там скопились и надвигаются на нас возы и фургоны облаков, там видим мы бесконечную, слегка бугристую поверхность леса: характерная, хвойно-синеющая, она беспредельно уходит в даль, и есть что-то гордое и грозное в этом море леса, тянущемся неизвестно куда.
А дальше – океан. Его не видно, но он там, за лесом, он дышит оттуда своим холодным дыханием, это его тучи и ветер его.
Сосны наши качаются, ветер шумит. Приятно и жутко описывать над землей полудуги, задыхаться от ветра и искать глазами далекого океана!
Я всматриваюсь в Семена. Он отстегнул ворот блузы, глаза его горят, грудь дышит остро.
– Семен, – кричу я, – не страшно тебе тут?
Семен оборачивает ко мне свое молодое, мужественное и красивое лицо.
– Го-го! – хохочет он. – Го-го-го-о-о!
Ветер подхватывает этот крик и несет дальше. И правда: даже спрыгнуть отсюда вниз не страшно.
Но все же слезаем. Много еще пути впереди.
В памяти моей остро и ярко сохранились и тундры – зеленовато-туманные, бледные, пустые и беззвучные, и августовские бурные ночи, когда вековой лес вокруг воет и ревет, когда не знаешь, деревья ли это или океан, когда в двух шагах нельзя отличить Феди от Семена, и кажется невозможным, чтобы рассеялся этот непроглядный мрак и утих оглушающий вой. В эти ночи впервые узнаешь царство севера, и в душе дрожат и торжествующе звенят неизвестные раньше, мощные струны.
VII
Море!
Это был наш победный клич. «Море!» – ревел нам ветер, гудели прибрежные сосны, и сами волны говорили: «Море!»
В нашем сознании этот образ подавлял собой все, что мы видели тут: ни берега, ни сосен, ни воздуха не было для нас теперь. Было – море, вечно меняющееся, вечно живое, свободное и музыкальное. В простых грубых одеждах, с лютнями в руках нужно было петь ему гимны. Здесь мы прожили долго: хотелось по горло упиться последними песнями севера, и что-то сдавливало и теснило грудь при мысли, что нужно все-таки навсегда уйти отсюда опять в нашу маленькую, плоскую и неяркую жизнь.
Вечер.
Редкий, таинственный, прямоствольный лес; половина каждого ствола неясно багровеет от заката. Внизу, у подножья дерев, фиолетово-сизая полумгла. Сыч хохочет где-то в дебрях.
Сквозь гладкие стволы сосен и узорчатые, темные лапы елей – море. Не слышно его прибоя, как будто оно замерло, или вода невесома. Море темно-темно-синее, небо мглисто и угрюмо только над морем, – на самом закате, – узкая, прорезывающая, мрачно-красная полоска, в одном месте ломающаяся зигзагами.
Сказочный, кроваво-красноватый отблеск на всем.
VIII
Много лет прошло уже с нашей весны. Мы прожили с Семеном длинную, упорную, трудную жизнь. Странными чудаками и фантазерами стояли мы среди этой жизни.
То, о чем мы мечтали тогда, в безлюдных пустынях севера, осталось в наших головах, а тупая и бездарная жизнь по-прежнему плетется трусцой, давя свободу и оригинальность.
Но я рад, что жил. Рад, что мыслил, ненавидел и был ненавидим. Рад, что и Семен умер, не поддавшись, таким же, каким был тогда, вглядываясь в мираж океана.
Часто вспоминая былое, я вспоминаю своего благодушного друга, и сейчас же в моем воображении встает необъятный, свободный, могучий север.
Снова слышу я тогда гудение его лесов, снова вижу зачарованные озера, бесконечные болота и мхи, слышу шум моря.
И тогда тяжкие мысли охватывают меня: жив ли и посейчас наш великий Север? Все так же ль он суров, своеобразен? Так же ли дик? Так же ль бедные поэты бродят среди его лесов, мечтая о чудном царстве поэзии?
И море: все так же ль оно шумит?
Привет тебе, Север!
Вечер
Весь завод – угрюмые груды с трубами, выступами и углами. Бурлят печи для сталеварения, бьет молот, в тишине дремлют магазины с изделиями, а вдалеке, на дворе, сложены штыки железа в пакетах.
Солнце жжет, над всем пыльное облако.
Но вдруг электрические часы сразу соскакивают на двенадцать, и сейчас же, будто в ответ им, ревет гудок. Все быстро бросают работу. Из тянульных, литейных гурьбой бредут рабочие.
Рабочих в воротах ощупывают ловким движением, и они черными лентами ползут по слободам. Там они моются, завтракают…
Только сталелитейной нет отдыху: ей нельзя остывать. И сейчас за толстыми стенами, глубоко внутри, плавится металл; вот ломают пробку, золотой поток брызжет в формы, летят фонтанами огненные звезды, будто это расшалившийся фейерверк. Сверху, с печей, смотрят мастера в беспокойстве через синие стекла; огонь проникает до костей, и лица у них опухло-бледны. А внизу кишат рабочие, как при наводнении; на глазах их черные выпуклые очки, и они, точно водолазы, снуют под золотистыми выстрелами. Пыхтя, громыхая, подползает паровой кран с железной рукой, повисшей наискось. Маленький машинист управляет им; как уродливое насекомое, кружит он вокруг своей оси, спускает лапу, спокойно цепляет сотни пудов и тащит в воздухе.
Солнце клонит за полдень: пыль, зной, будто стон над мастерскими; железные крыши млеют; люди горят у машин, сбрасывают рубашки и голой кучей бегут к душам; трепещущие тела сразу ежатся под холодом, стекает наработанная грязь, – и опять к станкам, в прокатную. Около брусьев красного металла рубашки сохнут, как на огне, от них идет пар, и кажется, что сейчас выпарятся и сами мозги.
А рядом гудят вальцы, сквозь них ползут мягкие комья железа, как красные тянучки. Их гонят взад-вперед, они плющатся, вытягиваются лентой, извиваясь, и рабочие ловко цепляют их крючьями, возвращают опять… волокут дальше, в проволочную; и там из-под узких желобков со свистом вырывается проволока огненным бичом, чертит воздух зигзагом, но сейчас же ее опять ловят, и она покорно наматывается на катушку. Почерневшие и сухотелые рабочие как будто без устали воюют с ними… Если зазеваешься, – обовьет, прожжет. Где-то гудит, вздыхает, будто на палубе огромного корабля с тяжелым ходом машины. Мозг устает, и темные пятна идут в глазах. К четырем часам жены приносят в платочках полдни. В углах, где потише, рабочие примащиваются поесть, как после большой битвы; некоторые моются, потом садятся за столик; и сразу становится тихо; гул, грохот где-то далеко, как будто дух благообразия посетил это место.
Но время тянет дальше, вперед; снова они бросаются в пекло; снова здания, стекла, камень – в дымном чаду; кажется, будто из людских тел выходит горячий туман. И около вальцов, по-прежнему взмывая яркой лентой, вылетает проволока. Вот она длинным концом охлестнула кого-то; льют воду, тащат в больницу, пахнет горелым телом, и вокруг лица бледней.
Но солнце закраснело в стеклах корпусов; засияли в закате медные проволоки. Опять гудок. Снова бредут рабочие? сталевары со слезящимися глазами, гиганты-молотобойцы, прокатчики и молчаливые «глухари» из гвоздильной. Все они – отдельными струями; бледно-хмурые, прокаленные огнем, возбужденные, одеревеневшие. И последними – чернорабочие. В воротах красное солнце обливает их всех усталыми лучами. Они смотрят на воздушные громады над своими слободами и понуро расходятся по сторонам.
Трудно двигать ногами в предвечерней хмаре. Тяжелое утомление на всем. Засеревшие в пыли мастерские хрипят еще, но гвоздильня уже молкнет, точно ее водопад отведен в другое место; кажется, что всем этим дымным массам надоело стучать и грохотать.
В чахлых садиках вокруг конторы появились самовары. И у всех самоваров тяжелые груди и глаза с красной поволокой.
Рабочие же дома умываются и тоже пьют чай… Но в маленькие оконца льет растопленный воздух с сухой пылью. И скоро плац за заводом чернеет кучками. Тяжелые группы сидят, стоят, вяло бросают орла и решку, сонно курят, лежа на спине, глядя в небо. И кажется, что это выбросили на берег бедных рыб, которым нечем дышать.
Плач о Борисе и Глебе*
Беги, князь, слеши, князь! Святополковы волки идут.
Борис худоват, высок, в небольшой бороде, тихий и смирный.
Вот идет с киевскою ратью из похода на печенегов, расположился у реки Альты, разбил шатры. Дружинники разводят костры. Ночь зачернела. Звезды июльские.
Говорят Борису:
– Умер в Киеве родитель твой Владимир. Что-то теперь будет?
Борис опечалился, стал на молитву. Наутро советники говорят:
– Идем на Киев, выгоним Святополка, будешь великим князем.
– Нет, – отвечает Борис, – на Киев не пойду, не подыму руки на старшего брата. Он мне теперь заместо отца.
На реке Альте, в июльский день, Борис распустил войско, остался один с приближенными. Прошли дни, опять говорят ему:
– Беги, князь. Святополк на тебя умышляет. Погубит он тебя.
– Ничего, – отвечает Борис: мне бежать некуда. И не хочу.
* * *
Князь Глеб моложе Бориса. Совсем юный, едва подбородок покрыт пухом. Всегда жил вместе с Борисом, во всем подчинялся, его чтения житий и молитвы слушал. На княжении милостив и кроток. Пришла и к нему весть в Муром – его удел – об отцовой болезни, и тоже в Киев вызов от Святополка.
Глеб опечалился. Оделся по-дорожному, сел в ладью, и с ладьями дружины мимо темных муромских боров, где ходит косматый медведь, глухарь токует, брусника меж сосен краснеет, двинулся против воды. Потом вытащили ладьи, волокли волоком, довлачив, спустились в новые реки.
Начались реки древлянские, мутноводые, тоже леса кругом, но корявые и низкорослые. Сырь, болота.
Глебово сердце невесело.
– Где-то милый брат мой Борис, наставник и чтец, с кем росли мы в Киеве при батюшке? Был бы здесь брат, поддержал бы меня в сумных этих лесах древлянских. Один я сюда заброшен, куда плыву?
* * *
Сидит в Киеве, зубами щелкает, рассылает востроухих по Руси – на юг к Переяславлю и на север по Днепру – бегут, шерстью потряхивают, рыщут, понюхивают, глазами в ночной тьме сверкают.
Святополковы волки идут.
* * *
Добежали до Борисовых шатров на реке Альте. Стали ночи ждать – черны июльские ночи. А Борис уже знает. Позвал священника, поют утреню. Сам прочел Шестопсалмие. После службы исповедался и причастился.
Помолился о Святополке, вспомнил о Глебе.
– Где-то сейчас милый брат мой Глеб, с кем мы жили душа в душу в родительском доме? Ах, брат бесценный, кабы ты знал, что приходит мой конец!
Борис лег в шатре и стал ждать. Побоялись ворваться к нему. Длинными копьями сквозь шатер, черной июльской ночью прокололи тело смиренного князя.
Глеб плывет по реке Смядыни. Уже близок Днепр. Его догоняет вестник от брата Ярослава из Новгорода.
– Брат Борис убит. Не ходи в Киев, поворачивай ладьи.
* * *
Всю ночь провел Глеб в смятении, тосковал и плакал. Бледно светили звезды сквозь туманы древлянские. Вода журчала. Жалобно выпь ухала.
– Братец мой светлый, взывал Глеб: за что убили тебя? Разве ты не был покорен отцу и старшему брату?
Утром бледен поднялся юный Глеб. Но не велел поворачивать людей, той же Смядынью спускались средь лесов и сумрачных болот.
* * *
Бегут от Киева к северу, спешат, землю нюхают, при устье Смядыни ладьи берут, гребут против воды. Святополковы волки идут.
* * *
Жара. Леса горят за Смядынью. Сиво-опаловое солнце печально смотрит сквозь туман. Медленно плывут ладьи – Глеб зачерпывает иногда воды рукой и смотрит, как стекают безудержно капли.
Близ полудня из-за островка навстречу вышло тоже несколько ладей. Закричали с них:
– Эй, муромцы, давайте сюда Глебку, мы его доставим сами в Киев!
– Беда, князь, – сказали спутники, – надо драться. Враги идут.
И муромские ладьи сплотились теснее вокруг Глебовой, а дружинники вынули оружие. Глеб ответил:
– Нет, не надо драться. Я не подыму руки на старшего брата. Пусть подходят его посланные. Ничего худого я ему не сделал. За что он меня обидит?
И отошли муромские ладьи. Только Глебова осталась посреди реки. Ее окружили недруги, стали смеяться и поносить Глеба, и тоже взялись за оружие.
Глеб им сказал:
– Я невиновен ни в чем перед братом Святополком. Что я против него сделал? И за что поносите меня?
Не послушали его. Вскочили в ладью, схватили Глебова повара, родом из Тороков, закричали:
– Ну-ка, ты, покажи нам, как барашка к княжескому столу готовят?
И зарезал повар из Тороков кухонным ножом своего князя на туманной глади Смядыни.
* * *
Ночи июльские, шатры на реке Альте, ладьи смядынские, светлые звезды и ветры глухие, знайте о судьбе князей. Тело Бориса тайно погребено в Вышгороде, тело Глеба в лесах древлянских, средь немых колод. Сами ж они, чрез века, держась за руку, медленно шествуют – мученическими венцами сияют.
Плачьте над земным их уделом. Радуйтесь горнему.
Гофмейстер*
Можно представить себе глухой, лесной угол России, деревенский теплый дом, зиму, метели, давнюю барскую жизнь. Среди всего этого вдруг появляются два молодых генерала. Один в гвардейской, белой с красным фуражке, другой штатский, невысокий и худенький. Вероятно, они в то время генералами не были, но дети принимали их за генералов. Они из Петербурга, знатного, иного мира, приезжают охотиться. Мать несколько их смущается. К обеду пирог, утка, мороженое, даже шампанское. Вечером за зеленым столом винт, а потом ночь, и они сгинут в темноте ее, в сне – утром уже с отцом на медвежьей облаве и больше не возвращаются. Розовое, хохочущее и весело-самоуверенное лицо военного с громкой фамилией, как и остроугольное, изящно-простое его брата, штатского в белых валенках – так и уплыли, разошлись в дальнем потоке времени. Александр Сергеевич, Михаил Сергеевич… – звуки все-таки сохранились.
А движение продолжалось. Маленькие становились взрослыми, взрослые перемещались в вечность, оставшиеся сотрясались по Европам – сеял их ветер, где хотел. Одних развел навсегда с другими, других неожиданно столкнул во встречах. И привыкнув к тайным ходам рока, не пришлось удивляться, услышав, что штатский генерал живет в Ментоне и хотел бы повидаться.
«Он отлично помнит те края, вашего отца, охоты… Вы ему доставите большое удовольствие». – «Сколько же ему лет?» – «Восемьдесят восемь. Но он бодр и такой же джентльмен, каким всегда был».
Восемьдесят восемь лет… – разумеется, надо увидеться, и теперь же, не откладывая.
Автомобиль мчит прибрежной дорогой из Монте-Карло. Кружение встречных вилл, извивы пути, то упирающегося в скалы, то вылетающего к морю, то слева Рокебрюн средневековый, то справа сосново-зеленый ковер Кап-Мартэна, сбегающий к морю – пока Бог уберег от летящих навстречу машин, земляничного цвета автобусов, успеешь узнать и еще кое-что о джентльмене ментонском. – «Что же, он так одиночкою и прожил?» – «Одиночкой. Ни жены, ни, кажется, даже вообще близкой женщины никогда не было. Всегда один. Богатство ушло уже здесь, за границей. Виллу в Баварии ухитрился продать в марках, накануне падения их, и все потерял. Да ведь знаете, он по части денег и житейской ловкости никогда не отличался. Теперь живет на гроши. Немец все-таки постеснялся совсем ничего не дать, ежемесячно пенсию высылает».
Может ли выплыть этот Михаил Сергеевич, в такой солнечный день ментонский, из той бездны, где и он другой, и ты другой? Свяжется с ним хоть бы что-нибудь или так все, фантазия?
Странно было б сказать, что узнал человека, пятьдесят лет назад два-три раза виденного. Но когда к остановившемуся автомобилю подошел небольшой старичок в темном костюме, белой подкрахмаленной рубашке с небольшим черным галстуком, чисто, элегантно поданный, вдруг приотворилось нечто.
Россия прежних времен, русский барин, наш охотник, гость глуши жиздринской, джентльмен, гофмейстер Высочайшего Двора… – «Разумеется, – сказал приветливо и очень просто, – вас бы я не узнал, не узнал. Но отца вашего помню отлично. – Он стал присматриваться, улыбнулся. – Вот теперь даже в глазах нахожу что-то отцовское. Очень рад, очень рад».
Мы отправились в небольшой tea room[16] у моря. Старая, полная дама почтительно встретила Михаила Сергеича. Мы уселись в летние легкие кресла за столиком, нам подали чай. В окне стрельчатый лист пальмы, море нестерпимо синеет, гофмейстер любезно предлагает печенье, и слова наши тотчас прорывают Время, все передвигают, перемещают с обычной волшебностью человеческих слов. – «Этот юг мне давно известен, – говорил Михаил Сергеич. – В шестьдесят втором году мой отец не поладил с Государем и уехал со всей семьей за границу – в виде протеста. Мы жили тогда в Иере. – Он слегка улыбнулся. – Мой отец был нелегкий человек. У меня с ним тоже выходили затруднения. Я поступил в Петербургский университет, а отец больше уважал военных. Университету не сочувствовал. Он в крепостное время вырос, николаевский дух… Считал студентов, да и профессоров, крамольниками».
Шестьдесят второй год! Университет, студенты в шляпах, с пестрыми пледами на руках, освобождение крестьян, «Преступление и наказание», Писарев, «Отцы и дети» – худенький человек все это видел, может быть, сам ходил с пледом на руке.
Гофмейстер быстро перешел к другому прежнему – глушь, тишина, первобытность лесов жиздринских. «Вы меня извините, я позабыл некоторые имена… все-таки, давно было…» Он слегка смутился – но чего же, собственно, смущаться? Что удивительного, если позабыл, как звали какого-нибудь служащего, кучера или охотника пятьдесят лет назад? – «Да, мы с батюшкой вашим много вместе охотились. Хорошо помню один его рассказ»…
Он отпил чаю, отер лоб, напрягавшуюся на виске коленчатую жилку.
«Мы однажды с ним попали в лесную сторожку, к объездчику. И меня, знаете ли, удивило, что объездчик, совсем еще молодой – совершенно седой. Когда он вышел, ваш отец говорит: «Это ведь целая история. Вот она какая: несколько лет назад в этой же местности заночевали в сарайчике дровосеки – среди них и этот паренек. Дверь не притворили, и представьте себе, на заре к ним влетел бешеный волк – направо, налево так и жарит. Понимаете, ужас! Покусанные в отчаянии выскакивают. Только этот вот не растерялся, кинулся на волка сверху, зажал его, стал рукой горло душить… Так и не выпустил. Одной рукой душит, а другой за спиной топор нашаривает. Да. Волка он зарубил, наконец. Но в последнюю минуту тот укусил его за палец. Пастеровских прививок тогда не было… Все остальные укушенные погибли. А этот ждал, когда его черед. Поседел весь, смерти ожидаючи. Но она именно и не пришла. Он единственный из всех не заразился. Вот как. И напрасно, значит, поседел мальчишка». Он замолк. «Я, знаете… такой возраст… иной раз и немножко трудно говорить. Того и гляди, слово самое простое позабудешь». Опять он отер лоб платком. «А насчет смерти он напрасно так волновался – разумеется, очень был молод, жить хочется». «Ну, а мы бы с вами не мучились на его месте?» – «Разумеется, но я не о том хотел сказать. Вещь известная, но иной раз по-новому ее чувствуешь: уж очень никто смертного своего часа не знает. Господь мудро устроил. Не знаем, и не надо знать. Незачем, значит».
Я не поддерживал разговора о смерти. Наоборот, стал расспрашивать о живом, молодом того времени. Хотя то живое и молодое теперь уже старое или ушедшее, все же гофмейстер оживился, вновь начал рассказывать. Он о своей забывчивости преувеличивал. Может быть, просто боялся ее, потому и нервничал. Воскрешал-то он живо и точно… Все же – вот эта жилка на виске бьется еще ровно, правильно, но ей восемьдесят восемь лет, и мозгу восемьдесят восемь, сердцу… «Человек яко трава, дни его яко цвет сельный».
Михаил Сергеич расплатился, хозяйка кланялась ему почтительно, он ей любезно и привычно, с легкостью старинной, прочной выделки. И костюм его, и нехитрая шляпа, и манера держаться, все имело неистребимо – барский оттенок. Умеренный либерал шестидесятых годов, читатель Тургенева…
Спутник мой автомобильный съездил уже по своим делам, ждал в улочке неподалеку. Когда мы проходили садом, по дорожке гравия мимо стволов пальм, внизу щербатых, наверху в шерсти, еще выше – томные их опахала, вдруг вспомнился мне брат его, гвардеец с румяными щеками, цветом, похожим на этот вот куст розового олеандра.
«А как Александр Сергеич? Жив он?»
Гофмейстер, опираясь на палочку, маленький, худенький, поднял на меня глаза, снизу вверх. Он был сейчас совсем покоен. – «Нет, брата нет в живых. Его убили». – «Убили?» – «Да, в Крыму, в Симеизе. Ему было семьдесят четыре года. Явились революционеры, вывели из дома, застрелили на дороге. И его, и жену, сына… Да, брат Александр убит».
Подойдя к машине, он снял шляпу. – «Очень рад, что повидались. Будете на юге, милости прошу, не забывайте». – «Подвезти вас?» – спросил его спутник мой. – «Нет, я пешком. Тут близко. Мне даже полезно».
Мы простились. Автомобиль тронулся, понес в сторону Монте-Карло, гофмейстер небольшими шагами, легко, покойно шел к пансиону своему. «Ну как, вам было интересно с ним?» – «Да, очень». Я кое-что рассказал спутнику, но вряд ли это было интересно, ибо самое важное и интересное было за словами и не подлежало выражению. – «Разумеется, – сказал спутник, – ему недолго жить… У него слабое сердце. Что же поделаешь. Жизнь была одинокая, от всех в сторонке, но вот прошла. Мне кажется, он просто уснет».
Через несколько минут и мы распрощались. Он уехал на своей машине в Ниццу – его ветер унес его туда. Мой – через несколько дней вынес меня из Монте-Карло, и Время продолжало бесконечное свое течение.
Я жил своею жизнью, спутник своею, Михаил Сергеич своею у себя в Ментоне. И прошло еще два года, ему исполнилось девяносто. Вновь поезд высадил меня на вокзале Монте-Карло, пара лошадей в пролетке с тентом – как у нас ездили в Ялте – рысцой повезла в гору.
В этом новом отрезке бытия своего я узнал, что Михаил Сергеевич в Ментоне жив, хотя и не совсем здоров, ослабел. «Непременно к нему съезжу». Так думал, а ездил и в Ниццу, в Жуан ле Пэн, Канн и Ментону, но все не к нему.
Так продолжалось до дня, когда сообщили, что он внезапно скончался и завтра похороны.
Теперь уж я поехал. И в солнечный день Ментоны увидел небольшой деревянный гроб, весь в цветах, посреди русской церкви. В нем лежал гофмейстер Высочайшего Двора с отпускным венчиком на лбу, такой маленький, точно ребенок, в черном своем сюртучке. Старые титулованные дамы, княгини, графы и князья провожали его. Литургия, отпевание шли долго, истово, все совершилось, как и надо, все попрощались с ним, как надо, и, как подобает, черный катафалк автомобильный унес его на кладбище Ментоны.
Когда же мы возвращались домой, то мой прежний спутник, несколько более поседевший за два года, вновь рассказывал об ушедшем, продолжая управлять рулем. – «Знаете, он ведь был большой любитель музыки. Сам играл отлично на рояле. Очень любил музыку. Но еще более – астрономию». – «Астрономию?» – Оказалось, что так. Оказалось, что в том университете, куда не хотел отпускать его отец, он увлекался математикой, а впоследствии астрономией. В Симеизе, в имении своем, устроил астрофизическую обсерваторию и работал там. А потом подарил все Академии Наук. «Его знали и за границей. Да, Михаил Сергеевич был особенный. Занимался и сельским хозяйством, и виноделием. Но более всего астрономией. И, представьте, пять лет назад его известило американское Астрономическое Общество, что, в память работ его в России, его именем окрестили новооткрытый астероид».
Около казино, в Монте-Карло, мы расстались. Был полдень, тихий, солнечный. Завтракать дома еще рано. Я прошел в любимый свой экзотический сад. На прудке белые лилии, вокруг пальмы, повыше кактусы. В этот час пустовато, голубой зной, я сажусь на скамейке в тени гигантского жирнолистного фикуса – у меня здесь почти темно, а вдали, выше пальм и кактусов, горы, чистая синь неба с нежным облачком. Тишина, свет, и Господь присутствует в своем Творении, и все хорошо, все как надо. Жизнь, смерть, все правильно. Пожелтел лист, вот падает он к моим ногам с дерева. Уходит человек, днями насыщенный, мы направляем к нему благодарную память, память привета. Маленький астероид с именем его русским, альфа Михаила Сергеевича, летит по чудесной воле в пространствах.
Пьесы
Любовь*
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Граф.
Его жена, графиня, называемая Рыжий.
Тоиичка, племянница.
Равениус, художник.
Вася
Люси.
Польский поэт.
Французский поэт.
Разные фигуры богемы.
Сцена I
Рыжий. Вставайте, ваше сиятельство, десятый час! Милый граф, не спите так долго. Видите, уже солнышко, нынче май! Гляньте, как ласточки заливаются. Вот подыму штору, солнце вас хватит как следует, вы и вскочите!
Граф (просыпаясь). А-а, вот это кто! Рыжий, называемый батюшка. И ты говоришь: май и солнце? Не подымай штору сразу так, невыносимо!
Рыжий. Ага, защурился!
Граф. Впрочем, ничего. В свету ты, Рыжий, еще лучше. В обыкновенное время ты так себе, а когда обольют тебя золотом, ты много превосходнее. Если бы я был поэтом, я бы сказал, что твои рыжеватые волосы «подобны лорелейским струям». Нет, в самом деле, ты весь сияешь в этом солнце.
Рыжий (раздергивает занавески, в комнате по полу ложатся светлые колонны). Нынче дивный день, граф, дивный! И солнце, и черемухой пахнет и все – и не одно это. Нынче для меня день очень важный, важнейший. Пять лет… Ты забыл, забыл, забыл. А ребенок все помнит, у него все в сердце, как на огненной бумажке записано!
Граф. Нет, ошибаетесь, помню. День хороший, это вы правы. (Целует кончики Рыжиных пальцев.) Вы правы, высокоуважаемый, и ничего я не забыл. День нашего счастья.
(Рыжий садится на краю графской постели и плетет косы. С четвертого этажа виден город, зеленые крыши, колокольни, сады; ветер влетает веселыми волнами и течет, струясь. Занавески колышатся)
Рыжий. Да, мой друг, ты знаешь, ты мой единственный друг и бог – ты сказал мне тогда, что меня любишь. Сколько людей на свете говорят это и, может быть, в таком же роде говорят… у меня вот здесь, в сердце, погребены твои слова. Знаешь, как в волшебном сундучке. Вот и сегодня утром встала и думаю: он, мой, мой милый, милый вот тут – всего в двух шагах… и сердце у меня чуть не разорвалось. Думала, что бы такое сделать? Лечь ему под ноги, чтобы он прошел по мне, или в окошко выпрыгнуть и насмерть разбиться.
Граф. Ты у меня романтик. (Помолчав.) Но ты прав. Странная жизнь. Очень странная. Очень хорошо помню, как с тобой познакомился. Думал ли тогда, что так глубоко будет между нами? И знаешь, чем больше я живу, тем больше кажется, что кто-то тихими… пламенными нитями связывает нас в одно… Где-то в тишине зреет, накопляется…
(Из другой комнаты стук)
Равениус. Будет вам спать, анафемы! Мамуся, пора, Бог знает на что похоже. Мы с Васькой третью партию доиграли, а они дрыхнут. И при этом я его посадил четыре раза.
Вася. Врешь, ты Ноздрев, ты и играешь по-ноздревски.
Рыжий. Начинают наши ярилы яриться. Это значит, плохо спали и спозаранку засели.
Равениус. Мамуся, голубчик, кофейку!
Рыжий. Сейчас, сейчас, две минуты.
(Майский ветер хлопает занавесями, в комнате ласковый кавардак; влетает запах сирени; графскую кровать заставляют ширмами; в передней части комнаты накрывают на стол, вносят самовар. Звонок, вбегает Тоничка, племянница, семи лет. В руках у нее огромный букет жасмину)
Равениус (вваливается из другой двери). А, мадемуазель Тонин. (Ловит ее и вертит за руки вокруг себя.) Хорошо нагулялись?
Вася. Тоничка, дай мне цветочка! Милая, дай! Тоничка. Ой, голова закружилась, будет!
Равениус. Ты погоди, взбудим дядю.
(Все трое, хихикая, разбирают букет на пучки и начинают бомбардировать графа. Граф рычит из-за ширм и в ответ летят цветы, гребенки, маленькая по-душонка и т. п. Тоня заливается)
Рыжий (входит). Будет, стоп! Кофе пить!
Равениус (отирает пот со лба). Что, ваше сиятельство, попало? А ты, мамуся, не так говоришь. Когда наш немец унимал нас, он кричал: «ожи-да-ю т-и-ш-и-н-о!»
(Успокаиваются и садятся за стол Тоня влезает с ногами к Рыжему и, когда нужно наливать, отворачивает кран самовара. Равениус с Васей уселись в шахматы)
Граф. Здравствуйте, други! Здравствуйте, маленький змей! (Целует ручку Тони, гладит ее своей.) Хорошо погулял? Милый ты мой, разгорелся, огонь в глазах! (Тоничка конфузится.) Как растет, как он умнеет у нас! Чай опять сны разные видел, чудесные?
Тоничка. Будто бы со второго этажа, и не падаю, а тихо, на крылышках, и прямо в сосонник села.
Граф. Ну, вот и отлично, что в сосонник.
Тоничка (перебирается с Рыжиных колен к графу). Дядя, а правда у тети-мамы ножки друг с другом разговаривают? Они у нее такие длинные, и она говорит, что они у ней как дети: могут будто бы плакать, смеются, когда устанут – жалуются.
Граф. Верно правда, милый.
Равениус (отрываясь от игры). Тетя-мама вся волшебная, я сам раз слышал, как ее ножки поссорились.
Тоничка. А у меня никто не волшебный. И никто ни с кем не говорит. Ни ручки, ни ножки. (Соскакивает и отходит.)
Граф (Рыжему). Батюшка, еще чашку кофе. (Тоже отходит с кофе и газетой в угол в кресло. Про себя). А может, правда Рыжий мой волшебный. Может, правда есть в нем такая чара, медленное зелье, приворотное… сладкое такое зелье. (Издали молча следит за игрой Васи с Равениусом, лепетом Тони, за Рыжим.) Так… начался новый день, и кто-то еще глубже входит в мое сердце и тихо-тихо завладевает всем там, строит свою стройку.
(В комнате понемногу стихает. Равениус и Вася погружены в игру, Тоня снова висит на балкончике Рыжий задумчив)
Граф. Теки, теки, моя река. (Полузакрывает глаза.) Какое опьянение!
Сцена II
Позднее утро, кафе на бульваре; мало народу, тихо, серовато; деревья слабо зеленеют. Граф и Вася за столиком.
Граф. Мы с тобой, стало быть, нынче второй раз кофе пьем. Впрочем, здесь я не считаю. Здесь можно вот так сидеть, глядеть на эту весну и ничего не делать… Ах, хороши такие дни!.. Смотри, все в легкой-легкой вуали. Точно кто набросил. И хороша эта кротость, весна, тоска. Как сейчас в деревне! Помню, я провел один тихонький серый апрель, и это чувство было так сильно… мне все казалось что сейчас из этого серенького воздуха глянет на меня… кто то. Прекрасное чье-то лицо.
Вася. Что-то Божье есть в этом. Богородицыно.
Граф. Верно. В этом роде. Но словами не скажешь.
(Идут прохожие, неторопливо и изредка, барышня пронесла сиреневый букет; сквозь листья деревьев далеко в небе маячит купол собора, он бледно-золотой, и в нем, как тени, бродят отражения облаков, городов, дальних полей, которые видит один он, вечное и легкое движение Вася смотрит туда)
Вася. Где-то теперь наши. Граф (улыбается). Наши?
Вася (краснеет). Таня, Вера Николаевна. Счастливый вот этот купол. Насколько он видит? Нет, все-таки мало. Я б хотел видеть далеко… гораздо дальше… и то, что в человеческих сердцах.
Граф. Что там в человеческих. В Танином. Вон ты куда. Значит, нашего полку прибыло. «Томление духа» – это хорошее выражение. Да, вижу, вижу. Ты уж давно околдован, давно я замечаю, ты весь вскипаешь и розовеешь. Вася, Вася, это твой первый выход, первое жизненное крещение.
Вася. Знаю, да. Но хорошо. Бог мой… (Вытягивает вперед руки, как будто, чтобы потянуться, и дух у него захватывает.) О, как я странно теперь живу. Она далеко, и верно… когда не ответит мне любовью, и иногда сердце мое останавливается – так больно и так чудно. У нас в садике есть качели небольшие, я целыми днями качаюсь на них улыбаюсь и бормочу. Все теперь как-то спуталось во мне… жить ли, умирать ли, действительность, недействительность…
Граф (улыбается). Ты, Вася, стало быть, «визионер». Но правда, как это чудесно, все мы друг за другом вступаем в этот круг… будто кто нам назначил. Это ведь, Вася, магический круг какой-то. Вот мы родимся, живем, зреем потихоньку и потом вдруг у-ух, вплываем в беззвучную, тихую… пламенную полосу. И там нас крутит, завивает, кто-то будто носит на своих плавных руках, какие-то течения подводные. И одним предназначена жизнь, другим – смерть. И это называется любовью. Вася. А по-твоему мне что?
Граф (не сразу). Рано или поздно всем смерть, а потом опять жизнь. А вблизи что – не знаю.
Вася. Да мне, собственно, все равно. Это я так.
(На бульваре показывается Рыжий, он в светло-зеленом пальто, зеленеющей вуали. Рядом с ним слегка вприпрыжку Равениус, в крылатке и огромной шляпе)
Равениус. Филозофы заседают. Даю слово, разговоры о мистицизме или еще об умном. А мы вот с мамой по делам, чуть не полгорода обегали. (Графу). У тебя нынче бал, оказывается, а ты ни слова. Довольно гнусный факт. Мы приглашали и заказывали шампанское, устрицы, оркестр… Ну, там на несколько сот франков. (Подходит лакей). Мамуся, тебе чего?
Рыжий. Все равно.
Равениус (человеку). Вдвоем едем в Турцию.
Граф. Блестяще. А ведь правда, угадала, без тебя мудровали.
Равениус. Ну, ясное дело.
Граф (смеется). У меня был приятель, он любил спрашивать пришедших: «А как вы смотрите на смысл жизни?» Ну-ка, экспромт «о любви?» Ну, ну?
Равениус. О любви? (Вдруг, задумчиво.) Нет, не согласен. (Стихает и углубляется в турецкий кофе и газету.) Пусть мамуся говорит. Она у нас «магистер любви и доктор наслаждения».
Рыжий (стаскивает с тонких рук перчатки – длинные – точно светлые змейки). Вот тебе, вот тебе! (Дает подзатыльник перчаткой.) Дурачок ты у меня уродился, голубчик. Вроде Иванушки. А о любви я не могу, я не умею умных разговоров разговаривать.
Равениус (бурчит). Да, да, сказала. Ты, брат, как перчатки снимаешь, одним движением этим лучше скажешь, чем они… – словами.
(Рыжий побалтывает ложечкой и смотрит вдаль бульвара. Все смолкают. Граф курит и тоже думает о чем-то.)
Равениус. Эх, господа! Вы думаете, это плохо? И правда другие этого не понимают? Нет, милые, пони… (обрывается голос, вдруг он бледнеет и будто слезы замерли где-то внутри). Человек! За один турецкий кофе.
Рыжий. Сыночка, милый, что с тобой, дорогой ты мой, успокойся!
(Граф, Вася дают ему воды, зубы у него стучат, все встревожены.)
Граф. Голубчик, чего ты, а?
(Вася молчит.)
Равениус. Нет, нет, ничего, пройдет, пустите… я сейчас… сейчас.
(Убегает, все смущены)
Граф. Что с ним такое? Рыжий, не знаешь?
Рыжий. Это такой ужас, он такой нервный, он, пока шли-то мы с ним, все дергался как-то, бледнел, краснел… Я знаю, ему тяжело, не только нынче, вообще ему плохо.
Граф. Все то еще, прежнее?
Рыжий. Конечно.
Граф. Да, это я дурак. Глупо, очень.
(Молчат. Через несколько минут Вася подымается. «До вечера». – «Прощайте». Граф и Рыжий остаются.)
Рыжий. Мой дорогой, вы знаете, я сейчас от Люси. Граф милый, вы опять думаете о чем-то? Я вижу, вы сейчас не мой, нет, вы во что-то погружены…
Граф. Пустое, это у меня только вид такой «глубокомысленный». Стоит человеку остановить глаза на одной точке, и всегда уже думают, что он решает вопросы бытия.
Рыжий. Ну, простите, виноват, не так сказал.
Граф. Ах, ты, Рыжий, Рыжий, ребенок ты мой милый. Нет, на самом деле, если уже на то пошло. Правда, у меня в мозгу бредет что-то такое сейчас. Бог его знает что. И тоска какая-то, и сладость. И не знаешь, чего больше. Точно зарыдал бы сейчас, – от печали ль, восторга? Вот смотрю на вуаль твою зеленую, вот она вьется, овевает тебя, и какое-то очарование идет оттуда… с этим зеленеющим ветерком. Что, брат, если правда дух любви, бог Амур поет сейчас в тебе, а я слышу? Почему это так, ты сидишь, а я слышу и чую что-то, и в сердце у меня кипит… блаженство, печаль! А-а, Рыжий, Рыжий, я не могу говорить, у меня плохо выходит, но тут что-то есть.
(Рыжий сидит в блаженном тумане. Ветерок ходит по листьям дерев; кто-то вздыхает в них с лаской и будто грустью. Длинные шелковистые концы вуали плывут в воздухе, веют)
Граф. Вон по тротуару бежит Люси! Какая тоненькая, гибкая Люси! Самая красивая женщина города. Это мое старое убеждение.
Рыжий (не отрывая от него глаз, все в том же забвении, очень тихо). Если б ты знал, как я тебя люблю! Как я тебя люблю! Кажется, я сейчас умру!
(Люси заметила их, кивает, подбирает свои юбки и, потряхивая черными кудряшками, легким вихрем мчится в кафе)
Сцена III
Первый час ночи. Комната первой сцены, десятка полтора народу, дальняя часть в полутьме, впереди голубой фонарик; самовар, большая бутыль вина, фрукты и проч Дверь на балкон отворена; оттуда и из окон – синяя ночь.
Равениус (сидит на корточках перед диваном и наигрывает на дудочке вроде флейты). Внимание, господа! Тишина!.. Люси пляшет танец Саломеи…
Французский поэт. А где же голова Крестителя?
Равениус. Молчи, негодяй, стань себе в угол и молчи.
Французский поэт (польскому поэту). Когда я жил в Париже, я часто безумствовал в кабачках и клоаках…
Равениус. «О-жи-да-ю ти-ш-и-но!»
(Выходит Люси, тоненькая и черноволосая)
Люси. Что мне плясать, Равениус? Вы всегда смеетесь. Ну, какая там, правда, Саломея?
Равениус (поглаживая козлиную бородку). Ничего, Люси, мы с тобой устроим хороший номер. Мы протанцуем, что мы чувствуем, а там видно будет… Саломея это или восход солнца.
(Тихо, на одной нотке, Равениус начинает. Люси в легком конфузе мягко перебирает ногами и носит свое тело в качании, закутавшись в длиннейшую вуаль. Все примолкли, видны силуэты по углам и светлая фигура Люси впереди)
Граф (Васе; оба стоят на балконе). Хорошо, Вася, правда? Тихо так, свежо… О чем она думает? Вон как пляшут кудряшки на ее голове, а головка бледненькая и глаза…
(Равениус кончает, Люси утомилась, падает на диван: «Ох, устала, не могу больше», «Браво, браво».)
Французский поэт (в огромной манишке и смокинге). Позвольте в благодарность приколоть вам эти цветы. Когда я жил в Париже…
Рыжий. Милый ты мой Люсик, дорогой ты мой, ну как он пляшет, как он пляшет! (Обнимает и долго, восторженно целует.) Ну, право, артист, художник он у меня!
Люси. Глупая ты, Рыжая, разве хорошо? Оставь, право, ты меня всегда конфузишь.
Польский поэт (подходя к графу). Хорошо танцует эта госпожа… хорошо. Она, знаешь ли, меня очень растрогала…
(Кладет голову на плечо графа и глядит в окно, на ночь, черными индусскими глазами)
Вася. Мне тоже очень нравится, как Люси танцует… Я погружаюсь в то же опьянение…
Равениус. Опять философствуют. Чтоб вам… (Равениус как будто устал, несколько бледен.) Где мамуся-то? Пусть бы сюда вышла, на балкон.
Польский поэт. Гм… хе-хе… (Хлопает Равениуса по плечу.) Равениус, не сердись.
Равениус. Я не сержусь, это я так. Сейчас там пить будут за здоровье этих чертей высокоуважаемых. Вот и мамуся, и бокалы тащит, молодец!
(Вася, Польский поэт, Равениус, граф и Рыжий берут по бокалу.)
Равениус. Ну, друзья, слушайте – теперь все всерьез. Вот мы берем бокалы и приветствуем этих двух субъектов… от всего сердца. Живите, мои дорогие, цветите, любите. Только одно вы узнайте от того пса, какой есть я: будьте всегда готовы. Ах, други, вы вот меня спрашивали там, что такое любовь, тогда, в кафе. Разве можно на это ответить? Нет… ты упади, сердце свое истерзай, изорви свою душу в клочья, тогда, может быть, узнаешь, что она есть. А вы думаете, я не знаю, что в ней еще? О, нет, вот он, вот парит дивный орел – белый орел, и когда на него глядишь, душа поет… да, какие-то хоры звучат в твоем сердце, но это недаром: треск, удар, и ничего не осталось от твоего маленького мозга. Это старая штука, я не Америки открываю, я только хочу сказать: да, вас осенила великая милость, – не забывайте, куда это ведет вас… и – не бойтесь. И чего вам пожелать? Счастья? Несчастья? Граф, не сердись, ей-Богу не знаю.
Польский поэт. Чокаюсь! Брависсимо, Равениус.
(Все тоже чокаются, поздравляют, но говорят мало. На балконе темно, видны огоньки папирос)
Французский поэт (со своим бокалом – из комнаты). Браво, браво! Я всегда за любовь, за цветы, женщин…
(Равениус зашел в дальний угол балкона и обеими руками подпер голову Рыжий подходит к нему и полуобнимает Так они стоят молча довольно долго.)
Рыжий. Ты несчастлив, сынок? Дорогой мой, любимый, скажи по правде. Чего от меня таиться.
(Равениус молчит, потом упирается лбом в балконные перила и шепчет тихонько, будто сквозь слезы.)
Равениус. Очень, мама…
(Рыжий ласково гладит его по голове, слезы бегут по ее щекам; и рукой она расправляет непокорные волосенки Равениуса, будто отгоняя его боль.)
Сцена IV
Поздняя ночь, начинает светать; чуть зеленеет на востоке и тихими массами стоят деревья и старая церквушка внизу. Тот же балкон, Рыжий и граф.
Граф. Как стало тихо! Все ушли, все спят теперь, только мы с тобой здесь. Я люблю их всех, но сейчас рад, что они ушли. Нам вдвоем лучше. Правда?
Рыжий. Правда, милый.
Граф. Как смешно, был «бал», хохотали, шумели… какое это все ужасно маленькое перед тем, что внутри. А на самом деле – много. Если правду говорить, лучше бы даже нам было… быть вдвоем на праздниках… этой любви. Да, идут годы, и внутри, как верстовые столбы, встают эти вехи… нетленные, чудесные памятники. Так и этот день… он остался в нас, как гигантский букет, опьяняющий, сладкий, – пожалуй что гибельный.
Рыжий. Это правду Равениус говорил о любви. Верно – живешь и любишь, и вечно ждешь – когда же? Когда придет? А я тебе так скажу: вот с тех пор, как я стала любить, мне совсем и не страшно. Ничего мне не страшно, даже умирать. Говорю перед тобой как перед богом – ты ведь и есть мой земной бог: если б пришли сейчас и сказали: умри, Рыжий, и никогда ты больше не увидишь солнца, земли, деревьев, – я бы ответила: ну, что же, приходите, берите меня. Потому что такая большая моя любовь, такая… (При/гадает к плечу графа и не может больше говорить.)
Граф. Верно, мой Рыжий, так. Я и сам так-то думаю. Да и раньше нас думали так же: любовь и смерть. Старо и верно. Чем дивнее, возвышеннее, тем ближе к тому… откуда все мы родом. И чем пьянее, тем печаль горше… Вот мы живем с тобою… нежно любим, и миллионы существ любят друг друга, – и навсегда, навсегда мы потонем. Да, смерть не страшна, но какая в ней печаль! Подумай, через двадцать, тридцать лет мы умрем, умрут наши друзья и Равениус милый, бедный Равениус, и одинаково через двадцать следующих лет забудут наши имена, «сотрутся надписи на могильнывх плитах». И от нас на земле не останется ничего!
Рыжий. А любовь? Разве можно ее уничтожить? Нет, нет, нашу любовь ничем не вычеркнешь, вечно она будет жива. Разве может она умереть? Пусть мы умрем, и от нас ничего не останется, а может мы и родились-то только затем, чтобы так вот любить, любить до исступления.
Граф. Рыжий, Рыжий, конечно, во что же я верю – только в одно, в любовь нашу.
(Приникает к ней. Далеко, смутно шумит город; полосы восхода розовеют, и до самого неба все тихо.)
Рыжий (шепотом). Слышишь? Как сейчас все молчит! Вот слушай, я… вот говорю тебе как перед Богом. (Крестится, губы у ней дрожат.) Что бы там ни было… только, когда ты умрешь, если так выйдет, что ты раньше меня… я сейчас же… с тобой, слышишь? Я ничего не боюсь!
Граф. Бог мой, мне трудно говорить, – да, да. Мы будем вместе в ту минуту, мы не будем разлучаться, мы пойдем вместе…
Рыжий. И там, куда мы попадем, нам скажут: они так друг друга любили, что не захотели расставаться даже перед смертью. А если кто-нибудь вздумает гнать, я скажу: гоните одного Рыжего, дайте зато графу моему, примите его! (Задыхается от слез.)
Граф. Милый, мой милый бесконечно, и никто нас не погонит, мы сгорим вместе и вместе воскреснем!
(Так, обнявшись, затуманенные, стоят они долго на балконе. Рыжий наклоняет голову, граф целует ее в светлый затылочек. Потом, будто очнувшись, они приходят в себя и долго, не отрываясь, смотрят друг другу в глаза)
Граф. Значит, навсегда.
Рыжий. Навсегда.
(Он берет ее за талию и медленно они входят через балконную дверь в комнату Дверь затворяется и в стекле ее играют розовые отблески зари.)
Верность*
УЧАСТВУЮЩИЕ
Константин Иваныч.
Марья Гавриловна.
Даля.
Лялин, писатель.
Диалектов.
Царевна.
Евдокия.
I
Март, пять часов дня Большая комната в квартире Константина Иваныча. Первый этаж особняка. Обстановка простая, в сероватых тонах Видна терраса в снегу, сад, голые ветви дерев. От зари пепельно-розовый отсвет. Константин Иваныч и Евдокия сидят на диване Евдокия курит.
Константин Иваныч. Видите, седой волос. У Мари вчера я тоже нашел седую прядь. Вот оно, время-то.
Евдокия. Вовсе вы и не так почтенны. Сколько вам?
Константин Иваныч. Тридцать пять.
Евдокия. Ну, конечно.
Константин Иваныч. Да, а у Мари эта седина мне понравилась.
Евдокия. Это почему?
Константин Иваныч. Делает человека значительней. Будто знак каких-то душевных заслуг.
Евдокия. Благодарю покорно за эти заслуги. Выдумки! Просто устанет, натерпится и седеет. Обыкновенно из-за вас же, мужчин.
Константин Иваныч. Так и знал – проборка. Простите, ради Бога, что нравится седой локон. Ради Бога, простите.
Евдокия. Хорошо, я вот что хочу знать: Маша-то, по-вашему, счастлива? Или нет?
Константин Иваныч. Счастлива ли? До сих пор хорошо жили. А последнее время…
Евдокия. Ну?
Константин Иваныч. Да ничего. Как-то слишком ровно. Точно рельсы – и по ним катишь.
(Евдокия неодобрительно качает головой. Константин Иваныч прохаживается)
Константин Иваныч. Может быть, это и хорошо… но человеку мало. Это и Маша чувствует. Видите (показывает на сад), красная заря. Хочется чего-то такого… необыкновенного. Я знаю, вы не одобряете.
Евдокия (тушит папироску). Не одобряю. Это от сытой жизни… романтизмы всякие.
Константин Иваныч. «С жиру бесишься». (Пробует мускулы на руках.) Да не особенно жирен, право.
Евдокия. Не в том дело. Вы избалованы – мускулы тут ни при чем. А Маши-то нет.
Константин Иваныч. Она на выставке. Сегодня Союз, открытие. (Слышен звонок; горничная бежит отворять.) Наверно, она.
(Входит Марья Гавриловна, в весеннем туалете, большой шляпе.)
Константин Иваныч. Здравствуй, друг. (Подходит к ее руке и целует.)
Марья Гавриловна. Здравствуйте. Кто это там на диване? А, Евдокиша! (Обнимаются, крепко целуют друг друга.)
Евдокия. Наконец, тебя дождалась. Меня твой муж тут занимал, да, кажется, я ему надоела.
Константин Иваныч. Ложь! Сама меня ругала за каждое слово. (Смеется, идет к выходу.)
Марья Гавриловна. Костя, погоди. Ты из дому не уйдешь?
Константин Иванович. Нет. А что?
Марья Гавриловна. Я на выставке встретила Царевну, она обещалась через полчаса зайти, с Далей. Что-то нужно тебе сказать.
Константин Иваныч. Отлично. (Уходит.)
Евдокия. Успел уже похвастаться, что у тебя какая-то седая прядь. Будто особенно это умно, прекрасно… Ну, покажись?
Марья Гавриловна (улыбаясь). А ты свирепая, как всегда, на Костю страху нагнала.
Евдокия. На них не очень-то нагонишь. Я не люблю мужчин, ты знаешь. Я про твоего не говорю, а так вообще… козлы.
Марья Гавриловна (смеется). Козлы! Ты выдумаешь. А однако, нам без них трудно.
Евдокия. Сами виноваты. Лезете очень, избаловали. Они и зазнались.
Марья Гавриловна. Да ничего не поделаешь, видно, так уж мы созданы.
Евдокия. А, ничего не созданы! Все это слова. Всегда можно себя поставить.
Марья Гавриловна. Ты, Евдокия, умная и, должно быть, сильная женщина, ты другое дело. А я не умею. Конечно, это глупо и обидно… но что я без Константина, например? Что я из себя изображаю?
Евдокия. Учили нас плохо. Бабы мы.
(Марья Гавриловна садится в кресло, вытянув руки. Вид у ней усталый и тихий)
Марья Гавриловна. Почему Константин заговорил о седине? Ему обидно, что ли, что я седею?
Евдокия. Напротив. Нравится. Говорит, что это именно очень хорошо.
Марья Гавриловна (усмехается). Чудак. Что ж хорошего? (Помолчав.) Мне кажется, вообще, Константин неспокоен. Что-то у него есть на душе. Ах, Евдокиша, иногда я тебе завидую, что ты живешь так – одна, никого не любя, от себя самой завися…
Евдокия. И нужно завидовать. Ты мне миллион дай, не буду ни с кем вместе жить. Прежде любила – теперь довольно.
Марья Гавриловна. Холодно так, бесприютно. Я не могу. Задохнешься. Тоска возьмет… нет, брр…
Евдокия. Когда работаешь, некогда тосковать.
Марья Гавриловна. Нет, без любви плохо.
Евдокия. Да вот ты, например, что ты – счастлива?
Марья Гавриловна. Когда седеешь, счастливой быть поздно. Но все же, если любила, есть хоть чем помянуть жизнь. Даже страдания любви вспоминаются потом иначе.
Евдокия. Пустяки рассказываешь.
(Медленно входит Диалектов Он одет в блузу и близорук)
Марья Гавриловна. Здравствуйте, Александр Григорьич. (Евдокии.) Позволь тебе представить, Евдокия, самый ученейший отшельник, Александр Григорьевич Диалектов.
(Диалектов неловко кланяется.)
Диалектов. Константин Иванович дома?
Марья Гавриловна. Дома.
Диалектов. Мне нужно бы его повидать. Может быть, он занят? Тогда в другой раз.
Марья Гавриловна. Нет, наверно, сейчас придет. А вы пока посидите с нами. Если не соскучитесь.
Диалектов. Я могу.
Марья Гавриловна (усмехаясь). Александр Григорьич, вот вы, наверно, очень преданы любви? Правда?
Диалектов. Я не понимаю вопроса.
Евдокия. Вы не женаты, конечно?
(Диалектов безнадежно машет рукой.)
Марья Гавриловна. Почему презрение такое?
Диалектов. Нет, я лучше убить себя дам, только не женюсь.
Марья Гавриловна. И детей не любите?
Диалектов. Нет, нет, ужас один. Пищат; тащут все. Мне покой нужен.
Евдокия. Так-с.
Диалектов. А там пойдет гвалт, разные семейные истории… О, Господи.
Марья Гавриловна. Да ведь одному скучно?
Диалектов. Я в прошлом году снял комнату. Комната была ничего себе. Ну. И вдруг, оказывается, хозяйка музыкантша. Чуть с ума меня не свела, уверяю вас. Должен был съехать.
Марья Гавриловна. К чему вы все это?
Диалектов. Как к чему? (Помолчав.) А вдруг жена в консерваторию поступит?
(Марья Гавриловна и Евдокия смеются)
Диалектов. Вам смешно, потому что вы не работали над книгами. А мне это невыносимо.
Евдокия. Если вы женитесь, я не позавидую вашей жене.
Диалектов. Не женюсь я.
Евдокия. Ого!
Марья Гавриловна. Что ваша работа?
Диалектов. Ничего. Мне хотелось достать у Константина Иваныча Соловьева. Вы не знаете, есть у него?
Марья Гавриловна (весело). Есть. Не притворяйтесь, просто с нами скучно. (Входит Константин Иваныч.) Вот и друг ваш. Костя, к тебе Александр Григорьич по делу.
(Несколько времени они с Евдокией сидят, разговаривая между собой, потом уходят.)
Константин Иваныч. Come sta, egreggio?
Диалектов (конфузливо). Я по-итальянски еще не учился, не понимаю, что вы спросили.
Константин Иваныч. Спрашиваю про здоровье. Вид у вас неважный, такой вы согбенный, удрученный премудростями.
Диалектов. Да, плохо. (Садится и подпирает голову рукой.)
Константин Иваныч. Я сам сегодня ослаб. С вами бывает, что вдруг найдет такая тупость… Ноет, ноет в сердце. Не знаешь, куда деться. Если бы Евдокия тут была, она выругала б меня, разумеется, за распущенность. А при вас можно. (Ложится на диван.) Расскажите мне что-нибудь хорошее.
Диалектов. Знаете, Константин Иваныч, у меня к вам небольшая просьба: нельзя ли, если у вас есть, взять на некоторое время Соловьева?
Константин Иваныч (привстает на локти, потом опять ложится, хохочет). Ах, Диалектыч! Вечно-равный, мудро блаженный! Что вы сделали б сейчас, если б случилось землетрясение? Побежали бы домой спасать книжки. Так. Вот жизнь, я понимаю. Постоянно он что-нибудь пишет, что-нибудь выискивает… завидно на вас, право.
(Диалектов смущенно смеется)
Константин Иваныч. Соловьев у меня есть, я дам вам его, разумеется. Но сейчас лень вставать. Пойдите в мою комнату, там на средней полке, в зеленых переплетах.
(Диалектов ободрительно поддакивает головой. При последних словах медленно и грузно выходит)
Диалектов (в дверях). Мне можно там посмотреть? Здесь стало темно, я плохо вижу.
Константин Иваныч. Пожалуйста.
(Константин Иваныч лежа курит. Сумерки сгущаются. В окно виден тонкий бледный месяц. На полу от него легкое сиянье.)
Марья Гавриловна (входя). Ты здесь, Константин?
Константин Иваныч. Здесь.
Марья Гавриловна. Один? Что ты тут делаешь?
Константин Иваныч. Диалектов ушел смотреть книги, я валяюсь. Поди сюда, Мари. Сядь ко мне.
(Марья Гавриловна, подходит.)
Марья Гавриловна. Что, друг, лежите… размышляете?
Константин Иваныч. Курю, Мари. Вот сумерки, месяц вышел. Смотри, какой он чистый, нежный.
Марья Гавриловна. Да, хорошо. (Помолчав.) Только не заглядывайся на него.
Константин Иваныч. Почему?
Марья Гавриловна. Я только что смотрела в своей комнате. Весенний, молодой месяц. Вспомнишь жизнь – защемит сердце. Не воротишь что было. Никак.
Константин Иваныч (тихо). Никак.
Марья Гавриловна. Не вернешь вечера, когда мы помирились после ссоры, глядели так же на месяц… и плакали. Какие это были слезы! Теперь уж не заплачем, Константин. Не те мы. Вот она седина, которую ты хвалил нынче. (Протягивает ему прядь.)
Константин Иваныч. Скажи мне, Мари, тебе плохо жить со мной? Говори, ты неправды не скажешь, я знаю.
Марья Гавриловна. Отчего же… Ты меня любишь… А вообще – я много думаю о жизни и не могу сказать, чтоб счастье было особенно легко. Оно дается редко. И минутой. А в известное время улетает. Так свободно улетает, легко… как радужный пузырь из соломинки. (Встрепенувшись.) Ты не подумай, что я говорю про нас. Я вообще. Я-то счастлива уже тем, что люблю тебя, такого… (Наклоняется к нему, целует в лоб) такого дорогого человека.
Константин Иваныч. Мари, Мари… Как я тебя люблю… Мы утомились несколько, устали… но это пройдет. Вновь чувство будет ярко. (Целует ей руку.) Жизнь моя, молодость, счастье – это ты.
Марья Гавриловна. Спасибо, друг. Ну, прости, мне нужно… к Евдокии. (Обнимает его и уходит.)
Константин Иваныч. Мари несчастна… Милая Мари, с бледными руками. (Встает, подходит к окну и смотрит.) А почему? Случилось что-нибудь? (Недоуменно пожимает плечами.) Я люблю ее очень, очень… Но почему печаль появилась в моей любви?.. Почему? (Наклоняется к цветам.) Гиацинты пахнут, сладко, пьяно… но от них сердце болит еще сильней.
(Стоит молча, потом напевает: «Звезда-а вече-ерня-я моя, ты закатила-ась на-ав-сегда-а.»)
(За дверьми шум, смеются, потом голос Марьи Гавриловны. «Сюда, пожалуйста.» У входа появляются Марья Гавриловна, Царевна, Даля.)
Царевна. Фу, сурок, забился куда-то, его и не найдешь. Марья Гавриловна. Дуня, дайте лампу.
(Горничная вносит лампу)
Царевна (хлопая его шаловливо огромной бархатной муфтой). Хорош, я удостоила его визитом, привела Дальку, а он хоть бы что.
Константин Иваныч. Ты хочешь, чтобы я на стену лез? Дудки!
Царевна. Пахнет у него гиацинтами, поэтический полумрак. Вздыхал тут, что ли?
Константин Иваныч. Помолчи лучше, болтун. Скажи ты, как поживает «наш высокоталантливый»? Говорят, он тоже сюда приехал?
Царевна. Да, я к тебе от него. Он на тебя сердит, сказал, что больше не будет оттисков посылать, потому что ты ни гу-гу. Мог бы, говорит, написать пару слов. Знает, что мне интересно.
Константин Иваныч. А если ругаться буду?
Царевна. Все равно. Если друг, должен правду говорить.
Константин Иваныч. Ну, виноват, действительно. Мне и вещь-то как раз понравилась. Лень, не могу собраться. Ты ему так и скажи.
Марья Гавриловна (Дале). Как вам показался Союз?
Даля. Мне очень нравится.
Царевна. Надоели все эти Союзы. Сегодня вернисаж. Все ходят истуканами, мужчины шепчутся, только и приехали все друг другу показаться.
Марья Гавриловна (с улыбкой). Не тебе бы говорить, Царевна (Константину Иванычу). Приезжаю я, она бродит по залам, в лорнет стреляет…
Царевна. Я люблю лорнеты, что ж поделать.
Марья Гавриловна. Сзади хвост юнцов. Мужчины поигрывают. Когда она проходит, репортеры строчат: «жена известного писателя Л.».
Царевна. Это у нас называется кобельки.
(Смеются. Царевна серьезна.)
Константин Иваныч. Ты войди и в их положение, явишься ты в этакой шляпе гроденапль, платье цвета мов, глаза гриде-перль, брови сюра…
Царевна. Он ополоумел, совершенно! Марья Гавриловна, лечите его, где же это видано, чтобы брови сюра…
Константин Иваныч. Прости, прости, виноват.
(Царевна с Марьей Гавриловной встают и говорят вполголоса Потом Марья Гавриловна выходит)
Царевна. Прощай, Константин, значит тебе от моего будет взбучка. Готовься. А теперь мне некогда. Для развлечения оставляю тебе Дальку. Займи ее. (Протягивает руку для поцелуя.) Если же абсолютно ничего не выйдет, сыграйте в шахматы. Далька отчаянная игрица. Сделает она тебе мат. Константин, смотри… Такой, позорный… Как это называется? В несколько ходов? Киндер… Киндербальзам?
Даля (смеясь). Киндермат.
Царевна. Вот именно этот киндермат. Привет! (Выходит.)
Константин Иваныч. Вы в самом деле такой… Чигорин?
Даля. Что вы. Я играла немного с братом, но плохо… (Слегка стесняясь, смотрит по сторонам, как бы рассматривая комнату.)
Даля. В этой комнате живете… вы?
Константин Иваныч. Нет. Почему вы подумали?
Даля (смутившись). Наверно, эти гиацинты… вы любите.
Константин Иваныч. Да, угадали. (Взглядывает на нее внимательней.)
Даля. Так показалось. Ну, это пустяки… (Розовеет и смеется.) Не обращайте внимания.
(Минуту молчание)
Константин Иваныч. Что ж, сразимся?
Даля. Право, вы меня победите… Впрочем, давайте.
(Константин Иваныч ставит столик, достает шахматы и зажимает в руке по пешке)
Константин Иваныч. Вам которую?
Даля. Эту.
Константин Иваныч. Белые мои. (Расставляет шахматы.) Начинаю, Так называемый дебют ферзевой пешки.
Даля. Вы хотите меня запугать страшными словами…
Константин Иваныч. Когда дурно себя чувствуешь, шахматы превосходны. В них абсолютность есть, чистота. Ничьих интересов они не задевают. Играешь – и обо всем можно забыть.
Даля (делая ход). А сейчас вы играете тоже потому, что вам плохо?
Константин Иваныч. Слушайте, сколько вам лет?
Даля. Двадцать. А что?
Константин Иваныч. Ничего. (Двигая фигуру.) Молода была, зелена была. (Вздыхая, закуривает.) Я сейчас играю по священной обязанности гостеприимства.
Даля. Если скучно, можно бросить.
Константин Иваныч. Я шучу.
(Играют молча. Константин Иваныч напевает: «Звезда вечерня-я моя» Даля обертывается к окнам и смотрит)
Даля. Мне все нравится здесь… у вас. Мало осталось таких старых, хороших домов. Сад, терраса. Какая ночь! Месяц. Если б не лампа, он отлично светил бы сюда.
(Константин Иваныч встает и придвигает два стула. Потом ставит на них, рядом с ней, грядку гиацинтов)
Даля. Зачем это?
Константин Иваныч (слегка смущенно). Вы тоже… наверно… любите их.
Даля. Да, очень. Благодарю вас.
Константин Иваныч. Продолжаем. Вашей королеве – гардэ.
Даля. Не страшно.
(Константин Иваныч пристально смотрит на нее и не делает хода.)
Даля. Ну?
Константин Иваныч. Я смотрю на вас… Какие у вас странные глаза.
Даля. Играйте, ваш ход.
Константин Иваныч. Можно сказать вам одну вещь?
Даля (робко). Говорите…
Константин Иваныч. Да. (Опять всматривается, будто отыскивая что-то.) Глаза. На матовом лице, совсем бледном, поражающей формы глаза… Они у вас немного неправильно сделаны… приподняты углы.
(В недоумении продолжает всматриваться. Точно сейчас только разглядел и почти испуган. Даля смущена. Чтобы скрыть это, углубляется в игру и делает ход. Константин Иваныч машинально отвечает на ее движение)
Даля (оправившись). Вы замолчали, сразу. О чем вы задумались?
Константин Иваныч. Играйте, Даля. (Она слегка вздрагивает.)
Даля. Извольте. Шах.
Константин Иваныч. Пустое. Отступаю и спасаюсь.
Даля (тихо). Нет, не пустое. (Делая ход.) Мат.
Константин Иваныч. Мат? Невероятно. (Вглядывается. Через минуту удивленный.) В самом деле. Конь и королева. (Поднимает на нее глаза. Смотрят друг на друга молча.)
Даля (смущенно). Я и сама никак не ожидала.
Константин Иваныч. Удивительно, странно. Моя партия сильней.
(Обоим неловко. Константин Иваныч молча убирает шахматы.)
Константин Иваныч. Это Царевна напророчила. Скандал, скандал.
II
Вечер, весна. Берег северного озера. Огромный камень, у подошвы которого поплескивает вода. Сосновый лес, вдали две дачи. Закат розовый, вода серебряная.
Лялин (сидит на камне). Это и есть знаменитое озеро? Как ты назвал Су-су… забыл дальше.
Константин Иваныч. Суокса. Тебе не нравится?
Лялин. Озеро хорошее, днем слишком сине. А сейчас – ничего себе. Да вообще этот край удивительный – у ваших финнов все устроено не по-человечески. Ты смотри, пожалуйста, ночи нет, белесая мгла, озеро серебряное, красноватый тон, сосны… Как будто для разных леших, русалок приноровлено.
Константин Иваныч. Да, страна чудная.
Лялин. Я, положим, к этой чертовщине довольно равнодушен, а все-таки…
Константин Иваныч. Не раскаиваешься, что дал себя затащить сюда? Это ведь отчасти мой грех.
Лялин. Пустое. А потом, раз Царевна решила, сопротивляться бесполезно.
Константин Иваныч. Здесь у нас целая колония – все я вывез. Диалектов, мой друг, – Евдокия – ты с ней, кажется, уж знаком? Царевна тут без тебя много разнообразия вносила в нашу жизнь.
Лялин. А Далька не мешает?
Константин Иваныч (нетвердо). Чем же она может мешать? Она…
Лялин. Что она?
Константин Иваныч. Она прекрасная.
Лялин (смотрит сбоку чуть насмешливо). Ого! Держись, Константин Иваныч, пропадешь не за понюшку табака.
Константин Иваныч. Почему же это я непременно пропаду? Даля прекрасна, разумеется. А, может, пропадешь как раз ты?
Лялин (хохочет). Я, пропаду? То есть влюблюсь? (Соскакивает с камня и прыгает.) Я влюблюсь?
Константин Иваныч. Ты чего скачешь? Царевну же полюбил?
Лялин (вспрыгивает обратно на камень). Нет, любопытно было бы меня поглядеть влюбленным!
Константин Иваныч. А вот посмотрим как-нибудь, тогда узнаешь.
Лялин. Баста, обо мне довольно. Неинтересный сюжет. А ты, Константин, Иоаннов сын, – слушай: тебе сети женский предстоят. Будешь уловлен. Натерпишься! Таково мое прорицание. Dixi[17].
Константин Иваныч (пожимает плечами). Царевна идет.
(Царевна одета в легкое просторное платье с висячими рукавами.)
Лялин. Куда направляетесь?
Царевна. Возьмем с Далькой лодку, поплывем. Лодка остановится, мы будем лежать и в небо смотреть. Ах, жизнь наша жизнь! (Слегка кружится и поводит летящими рукавами.) Константин, скажи мне, отчего я не родилась птицей, морским чудищем? Улетела б в небо, или заплыла Бог знает куда.
Лялин. Ты и так на человека мало похожа. Например, в тебе нету стыда.
Константин Иваныч. Почему же бы ей быть непременно человеком? Это вовсе не обязательно. Мало ли что на двух ногах! Разве это доказательство?
Царевна (мужу). Зачем ты лжешь, зачем говоришь, что у меня нет стыда? Вот еще мерзавец!
Лялин. Если Костя попросит, ты разденешься догола, я уверен.
Царевна. И разденусь. Что ж такого? Хотите сейчас? Тело свое я очень люблю, это верно. (Константину Иванычу.) Вы понимаете, как можно тело любить? Ведь это роскошная вещь.
Константин Иваныч. Грехопадения не знала!
Царевна. Какое там грехопадение! Была когда-то девушкой, теперь женщина, а тело по-прежнему великолепное. (Рассматривает свои ноги.) Я уверена, что правая у меня интересней левой, и нервней: иногда капризничает, злится, а то вдруг чуть не танцует. А грудь! Торс! Не понимаю я ваших грехопадений.
Константин Иваныч. Где уж там!
(Приближается Даля)
Царевна. Далька, едем, а то поздно будет.
Константин Иваныч. Вы тоже… полюбили ездить так.
Даля. Тетя такая милая… С ней весело. А потом сегодня… чудный вечер.
Лялин (Дале). Да вы чего смущаетесь-то? Не меня ли? Было бы глупо, простите.
Даля (смехом). Почему вы думаете? Нет, я ничего.
Царевна. Далька, будет болтать.
Даля. Сейчас. Константин Иваныч, мы приедем часа через полтора, самое большее.
Лялин. Что ж он должен сделать?
Константин Иваныч. Слушай, перестань!
Даля (делая усилие, чтобы не сконфузиться). Мне необходимо вас видеть.
Константин Иваныч. Отлично. Буду здесь же.
Даля. Спасибо.
(Уходят)
Лялин. Ты не сердишься? Я ведь зря, ей-Богу. Празднословие одно.
Константин Иваныч. Вижу. Да не важно это, право. Ах, друг (вытягивая руки, сгибает их), я чувствую себя очень странно, очень необыкновенно.
Лялин. Влюбился.
Константин Иваныч (присаживается на углу камня. Тихо). Да, люблю. Все вышло так неожиданно, удивительно! Я полюбил ее сразу. Может это быть по-твоему, что в мире есть двое, предназначенные друг другу? Тайные черты, неуловимые, открывают им это. И летит… все вверх дном, жизнь ломается, нельзя ухватиться ни за что, и ничем не остановишь. Это называется любовный рок. По-моему, Непременно так.
Лялин (бросает камешки в воду). И по-моему.
Константин Иваныч. Могут они не знать друг друга – убеждений, взглядов, нравственных качеств… Может быть, она преступник, или я, для нас это не важно. Но все женщины должны быть ей прислужницами и не стоят ее мизинца. Все… (хмуро) – за исключением одной.
Лялин. Марьи Гавриловны?
Константин Иваныч. Да.
Лялин. Как же этот… вопрос?
Константин Иваныч. Все рушится, все! Восемь лет я был счастлив с Машей, любил нежно, а теперь… ничего. Все гибнет. Но я все же люблю ее… И Далю, и ее… вместе. (Подходит к Лялину и кладет руку на плечо) Ты меня понимаешь, Лялин?
Лялин. Понимаю я все. И ничего не понимаю.
Константин Иваныч. Как это?
Лялин. Не переживал такого, но могу вообразить.
Константин Иваныч. Не вообразишь сладости и тоски любви, восторга… чувства гибели. Никогда!
Лялин. Я писатель. Я человек холодный – все воображу, что угодно.
Константин Иваныч. Ты чудак. Почему ты не любил? Зачем воображать?
Лялин. Значит, не дано. Одни разыгрывают романы, другие пишут их.
Константин Иваныч. Лялька, глупый.
Лялин. Ничего не глупый.
Константин Иваныч. Даля едет сейчас в лодке, по серебряному озеру. О чем она думает? Ее короткие волосы, курчавые, черные, свесились вниз – она непременно лежит.
Лялин. Вон, плывут, видишь.
(Вдали показывается лодка. Оттуда машут платком)
Константин Иваныч. Они, они. (Вскакивает на камень и тоже машет им. Негромко говорит: «Даля».) Вдруг она услышит! (Лялин тоже машет, скоро с лодки прекращают отвечать, и сама она пропадает.)
Лялин (обращаясь к озеру). Ну вот, озеро Суокса, на твоих берегах завязался роман. Какой он будет, куда приведет, ты не скажешь. Ты плещешь себе, плещешь… Мало тебе дела до нас. (Берет Константина Иваныча под руку.) Пройдемся. Смотри, как чернеют на закате сосны.
(Уходят)
(Марья Гавриловна и Евдокия. Евдокия в черной шали)
Евдокия. Сторона чужая. Солнце село – и холод. Что ж никого нет. Будто тут был Константин Иваныч с этим… писателем.
Марья Гавриловна. Значит, ушли. Костя любит гулять с Петром Ильичом.
Евдокия. И мамзели гуляют?
Марья Гавриловна. Какие мамзели?
Евдокия. Да вот. Даля эта… Царевна – прозвали же, правда, как.
Марья Гавриловна. Что ты злишься все, Евдокия, что у тебя за характер? И что за выражения: «Мамзели». Даля очень милая девушка… (Пауза) Очень. И Царевна тоже.
Евдокия. То-то, должно быть, что слишком милые.
Марья Гавриловна. Евдокия, оставь, пожалуйста… у меня болит голова, вообще я плохо себя чувствую, а ты… все меня точишь, какие-то намеки… (В голосе слезы, она сдерживается.)
Евдокия (мягче). Прости… у меня характер плохой, это верно. Ну, прости, голуба.
Марья Гавриловна (смеясь, в полуслезах). Голуба! Какое актерское слово. Чудачка ты. Разве я актерка, Евдокия? Ты Савонарола…
Евдокия. А ты дурочка. Глупая.
Марья Гавриловна (возбужденно). Ну чем я глупая? Ну скажи на милость? Что с Константином что-то происходит? Что он со мной не такой, как раньше? Думаешь, я не вижу? Просто он влюблен в Далю, по уши, обо мне забыл, я иду к какому-то ужасу – хорошо, пусть иду, что же делать? Ревновать? В обмороки падать? Да. Я горда, понимаешь, Евдокия, я хотя и ничтожная женщина, но очень горда. (Задыхается, в слезах.) Я ночей не сплю, но Константин об этом не знает… Он себе тает от Дали, да с Петром Ильичом, с Диалектовым разговаривает об искусстве. Отлично. А я страдаю. Пусть, он об этом все равно не узнает.
Евдокия. Скажи ему прямо. Если разнюнился – до свидания. Уедем с тобой в Одессу, ко мне, и все. А если пустяк – гнать эту Дальку.
Марья Гавриловна (поднимая заплаканное лицо). Коротко рассудила. Взять и ехать. А если… А, да ты Савонарола, у тебя все просто… (Слышны шаги и голоса.) Идут, кажется. (Вздрагивает, вполголоса.) Может быть, ты права. О Господи, вот врасплох.
(Быстро смахивает слезы. Показываются Константин Иваныч и Лялии)
Лялин. Любовь, по-моему, безнадежна всегда. Потому что она есть стремление к неосуществимому. Любовь, как Бог: везде и нигде. Поэтому можно томиться любовью, беспредметно, и нельзя быть счастливым с данной женщиной. Как нельзя сделать себе кумира, фетиша – и назвать Богом.
Константин Иваныч. Но ведь были же воплощения? Христос, например?
Лялин. Ну… об этом я не могу сообщить тебе ничего утешительного. – Бог мой, тут дамы. Приближаемся!
(Подходят)
Лялин (Марье Гавриловне). Мы с Константином, как платоники: гуляем, рассуждаем о любви.
Марья Гавриловна (улыбаясь насильственно). До чего же вы договорились?
Лялин. Он мне заявил, что я нравственный урод.
Евдокия. Неглупо!
Марья Гавриловна. В чем же ваше уродство?
Лялин. Я говорил, что в молодые годы мои любви были всегда печальны: или она выходила замуж, или исчезала, или даже я не успевал с ней познакомиться. Размышляя о тех, в кого я был влюблен, я убедился, что и в благоприятном случае не мог бы на своей любви основать жизни: жизнь есть жизнь, а любовь… – этакое (делает кругообразное движение пальцем) – невмещающееся нечто.
Марья Гавриловна. Все-таки непонятно, за что, собственно, он вас обругал?
Лялин. Позвольте, сейчас. Из скорбного опыта я вынес взгляд – еще более скорбный, или радостный, смотря по желанию: любить из данных женщин не надо никого. Тут он меня и прихлопнул.
Евдокия. Из данных женщин никого! Посмотрю я на вас, господа – полоумные вы все. И даже мне вас жаль. Значит же, не просветила вас ни разу истинная любовь – вы и выдумываете. (Уходит.)
Марья Гавриловна. Я согласна с Петром Ильичом. Никого не надо любить. Все это вздор. Жизнь – обман, ложь. Любовь – так же. Значит, прочь ее.
Константин Иваныч (берет ее за руку). Мари, что с тобой? Мари, успокойся, ты дрожишь…
Марья Гавриловна (смотрит на него долгим взглядом). Ничего. (Опускает голову и, видимо, подавляет себя.) Ничего, милый, я спокойна и весела… Видишь? (Улыбается.)
Лялин (медленно отходит к озеру). Еще союзница!
Константин Иваныч. Мари, Мари, нам надо говорить подробно, много, милая Мари, так нельзя…
Марья Гавриловна (кротко). Зачем нам говорить, мой друг? Живите, поступайте, как вам нравится. Будьте собой. Я не помешаю вам. Я бываю резка… простите… Это усталость. А сейчас идите домой, с Петром Ильичом. Получена почта, газеты, письма.
Константин Иваныч. Нет, мы еще будем говорить.
Лялин. Газеты? Костя, идем. Мне писем нет?
Марья Гавриловна. Есть (Константину Иванычу). Идите, я сейчас.
Константин Иваныч. Почему же ты не хочешь вместе?
Марья Гавриловна. Я сию минуту приду.
Константин Иваныч. Не запаздывай же.
(Мужчины уходят. Марья Гавриловна сидит молча, потом ложится на прибрежный камень Рыдает долго, глухо. Плечи ее вздрагивают.)
(Вдоль берега пробирается Даля. Заметив фигуру на камне, насторожилась)
Даля. Константин Иваныч!
(Марья Гавриловна подымает голову. Увидев Далю, садится. Даля вскрикивает)
Марья Гавриловна. Это я. Константин дома.
Даля. Простите, я помешала.
Марья Гавриловна. Нет, ничего. Присаживайтесь. (Даля вздыхает и садится.) Нынче вы, кажется, катались с Царевной. Хорошо было? Не холодно?
Даля. Нет, прекрасно.
Марья Гавриловна. Отчего же сейчас вы так бледны? Или волнуетесь? (Слегка насмешливо.) Не нашли чего-нибудь?
Даля. Нет… Стало сыро… над озером туман…
Марья Гавриловна. Туман! (Вдруг странно смеясь.) А я знаю, отчего вы бледны.
Даля (робко). Да?
Марья Гавриловна. Догадайтесь.
Даля (вспыхивает). Я ничего не понимаю, Марья Гавриловна.
Марья Гавриловна. Будто? А я думаю… (Жестко смеется.) Я думаю, – вы влюблены. Стоит только взглянуть на вас.
Даля. Может быть.
Марья Гавриловна. Желаю вам счастья.
Даля. Благодарю. (Тихо.) Может быть, я люблю. Что же тут удивительного? Да, я люблю… И мое сердце не может быть иным, чем оно есть.
Марья Гавриловна. Вот я и желаю вам счастья в любви. В этом тоже нет ничего удивительного. Тем более, что и тот, кого вы любите – любит вас.
Даля. Странный разговор!
Марья Гавриловна. Да? А по-моему, нисколько не странный. Потому что мне за тридцать лет, и я привыкла ничему не удивляться. (Сдерживаясь, но видимо горячась.) Я нисколько не удивляюсь, что Константин полюбил вас. Так надо.
Даля. Марья Гавриловна!
Марья Гавриловна. Ничего, ничего, все прекрасно. Вы великолепная, молодая, Даля, у вас черные глаза, грудь девическая – сила на вашей стороне. Побеждаете вы – уже победили. Нас больше нет. Мы раздавлены. Но и не надо, торжествуйте, пусть!
Даля. Марья Гавриловна, я никого ни у кого не отнимаю, я не знаю, о чем вы говорите… (Волнуясь.) Но в чувствах своих я никому не могу дать отчета, и изменить их не могу… также.
Марья Гавриловна. Я никакого отчета не требую. (Смеясь тяжело.) Я поздравляю и желаю счастья.
Даля (встает). Так разговаривать нельзя.
(Марья Гавриловна поднимается также и подходит вплотную Усталым, тяжким взглядом смотрит ей в глаза)
Марья Гавриловна. Я не сужу и не язвлю никого. Все так должно быть. Любите. Любовь благословенна. Но… сейчас перед вами темный призрак – я. Когда пройдут золотые часы, вспомните о нем. Я не хотела быть тем, чем являюсь – но теперь я старая седая ворона, над перекрестком вашего счастья я каркаю вам. Каркаю горе, ужас. И не знаю, для чего это нужно, но выходит так. О, знайте, пролетит радость, душу вашу тот же мрак возьмет, что и мою, тот же. Так же разлюбят вас, так же все погибнет, и вы не будете знать, где спасение. Знайте, знайте!
Даля (отступая). Боже мой, за что?
Марья Гавриловна. Ни за что. (Прислоняется к камню.) Так. (Стоит в позе растерянной и мучительной. Потом подносит руки к глазам.) Зачем… я затемняю счастье девочки? Бог мой, тяжко. К чему, к чему? Слабость, ничтожество. (Удаляется.)
(Входит Константин Иваныч)
Даля. Наконец… вы.
Константин Иваныч. Вы искали меня?
Даля. Да… И здесь, несколько минут назад…
Константин Иваныч. Вы были уже тут?
Даля (вздохнув). Да. Тяжело вспоминать об этом. Я разговаривала с Марьей Гавриловной.
Константин Иваныч (вздрагивая). С Марьей Гавриловной! О чем же?
Даля. Дорогой Константин Иваныч. (Берет его за руку) Ну скажите, милый, правда, этого не будет… что она сказала?
Константин Иваныч. Что ж она сказала? Даля, не мучьте меня.
Даля. Марья Гавриловна знает, что мы любим друг друга. Она предсказала мне несчастье. (Опустив голову.) Такое же, как у ней… Ах, этого не может быть… ведь правда?
Константин Иваныч. Мари знает!
Даля. Константин, ты разлюбишь?
(Константин Иваныч смотрит на нее пристально. Потом садится у ее ног. Голову прислоняет к ее коленям.)
Константин Иваныч. Я разлюблю тебя, Даля? Даля. Да, ты все думаешь о ней…
Константин Иваныч. Тебя я не разлюблю. Ты моя, мне наречена. Ты каталась нынче в лодке, а я думал о тебе. Ты лежала, наверно, и твои черные волосы… кудреватые, милые, склонялись к воде. Даля, я люблю тебя всю. Навсегда, без меры, смертно. Ты являешься мне во сне. Я просыпаюсь, и днем живу тоже сном. Смотрю в одну точку, и ты приходишь. Я веду с тобой беседу, мозг туманится, никнет, я начинаю понимать, что такое сумасшествие. Но сумасшествие дивное, Даля…
Даля (тихо). Ведь ты любишь. У тебя… жена.
Константин Иваныч. Да, любил, люблю, может быть. Может быть, все гибнет и будет разметано, вот я лежу у твоих ног… Скажи – не останется камня от моей жизни. Даля, я люблю тебя, люблю.
Даля. Пойди сюда, Константин. (Медленно, явственно.) Ты меня любишь. Так. (Молчит. Потом встает, обнимает сверху обеими руками и припадает) Вот тебе я. Я никого до тебя не любила – все несу тебе. Возьми, Константин, унеси меня далеко, куда знаешь… Я твоя вся, вся. Милый, Константин, милый, чудный.
(Константин Иваныч стоит с ней несколько секунд, потом легко подымает и несет к лесу)
Константин Иваныч. Моя звезда! Мое сияние!
III
Серый день, близки сумерки Стеклянная терраса дачи. В балконную дверь видна гостиная с роялем.
(Накрыт чайный стол, за ним Лялин, Диалектов и Константин Иваныч)
Диалектов (наставительно грозя пальцем). Эти ваши кабаки, разные рестораны, кутежи я ненавижу. Если вы писатель, так работайте, а если дрянь какая-нибудь, болтун, так нечего заниматься литературой. Это, знаете, все слабость, распущенность. Я бы таких писателей…
Лялин. Что ж, и в «Прагу» сходить нельзя?
Диалектов. Я там ваших «Праг» не знаю, не был и никогда не пойду. Мне незачем. Я не знаю даже, что такое «Прага».
(Константин Иваныч смеется.)
Лялин. Прага – это город. «Злата Прага», столица Чехии.
Диалектов. Нет, судя по вашим словам, это какой-нибудь известный ресторан. Да мне безразлично. Я говорю, что писатель не может растрачивать силы зря. Это преступно.
Лялин. А я люблю хороший ресторан, виноват. Зима, а там цветы, синий ковер, электричество, оркестр. А шампанское! «Все твое, о друг Аи».
Диалектов. Да, я знаю это стихотворение! Там гораздо лучше сказано: «И покрыл туман приветный твой озябнувший кристалл». А потом – что вы извиняетесь? Я вам ни простить, ни не простить не могу, потому что вы мне не брат, не сын, никто. Я и не про вас говорю. Это губит талант, вот что.
Лялин. Хорошо вам над книжечками сидеть и изучать умные вещи – а мы иной раз и скиснем. Ну, и заломишь. Впрочем, я сам против алкоголизма.
Константин Иваныч. Какой ты пьяница, Петр Ильич? Ты европеец, только вполглаза можешь. (Улыбаясь, насмешливо-грустно.) Лялин у нас погибает из-за женской любви. Романов изобилие.
(Лялин хохочет)
Лялин. Презренный, замолчи!
(Диалектов с недовольным видом встает.)
Диалектов. Теперь примутся за любовь.
Константин Иваныч. Он уходит. Достаточно произнести это слово. Ах, Диалектыч, жизнь ваша ясная!
Диалектов (пожимает плечами). Моя жизнь тут ни при чем. Да вы ее и не знаете. (Опершись лбом о стекло террасы) Почему вы знаете, что она хорошая?
Константин Иваныч. Верно. Я и не говорю. (Уныло.) Никто ничего не знает, никто. Только все же мне кажется, что ваша жизнь… если и не счастлива, то ясна.
Диалектов. А мне все-таки пора.
Лялин. Да куда вы?
Диалектов. Мне Константин Иваныч урок тут нашел, на одной из дач.
Константин Иваныч. Он работник, честная голова. Успеете, Александр Григорьевич, а?
Диалектов (смущенно и кротко). Пора. Мальчик ждать будет.
Константин Иваныч. Ну, ну.
Лялин. А меня вы анафеме не предавайте. Я постараюсь поправиться к следующему разу.
Диалектов (безнадежно машет рукой). Что с вами поделаешь!
Лялин (ходит взад, вперед, руки в карманах). Этот Диалектов очень мил. Очень. Чем он собственно занимается?
Константин Иваныч. Философ. Получил в университете медаль, будет оставлен.
Лялин. Так. То-то он против водки. (Остановившись, как бы в задумчивости.) Все же он наших слабостей не знает; нет, не знает.
Константин Иваныч. Мало русских спивается? Писателей.
Лялин. Это так… да это не важно.
Константин Иваныч. Слушай, Лялин, я сегодня плохо себя чувствую, так вот ты бы меня занял… Расскажи что-нибудь. (Кладет голову на стол, подпирая руками.) Расскажи про писателей, как ты работаешь, что тебе хорошо, что плохо. Про Ахиллесову пяточку расскажи, и так далее.
Лялин. А тебе отчего плохо?
Константин Иваныч. Это другое дело. Не хочется говорить.
Лялин. Хорошо-с. Будем увеселять тебя. Жаль, что я не Отелло, венецианский мавр, и мало могу рассказать интересного. Константин Иваныч. Ничего, рассказывай. Лялин. Что же рассказывать? Многое тебе известно. Да и что такое моя жизнь? Шоссе! Знаешь ли ты, что со мной ничего не случалось! Ни-че-ro! Другие борются, кипятятся, страдают, – вообще устраивают кавардак. Влюбляются, делают глупости. Ты можешь прочесть об этом в такой-то и такой моей книге. А я… я собственно ничего не делал. Что же рассказывать. Я писал. По-видимому – порядочный писатель. Этого не отрицаю, иначе бросил бы. Но что такое я сам… вообще? (Улыбается.) Нуль. Скучнейший тип. И расписывать мне нечего.
Константин Иваныч (горько). Лялька, Лялька, скушал ты себя! Расскажи про литературу.
Лялин. Можно. Кажется, тут получше. (Подходит к стеклу террасы и чертит пальцем.) Вот что я скажу: писателю плохо не от ресторана – так думает Диалектов. А от другого… от самого себя.
Константин Иваныч. Это как?
Лялин. Верно. Особенно сейчас, в наше время.
Константин Иваныч. Не понимаю.
Лялин. Пишут все себя. Раз написал, два, три… как будто и довольно. Оказывается – нет. Взялся за новую вещь, – опять твое ухо выглядывает. Слова твои, наклоны речи твои. Вот тебе и раз! Бездарность страдает, что Господь не дал ей лица, а тебя от собственной физиономии мутит.
Константин Иваныч. Люди вы отвлеченные, у вас и отвлеченные страданья.
Лялин (прохаживается). Наговорил бы еще, да ты злишься, я вижу. Тебя раздражает, что мы на стену лезем не из-за любви.
Константин Иваныч. Из-за пустого. Раздражает!
Лялин. Что делать. Каждый свою задачу решает. Кому жизнь – жизнь. Устраивай ее. Если писанье, – старайся хоть писать сносно.
Константин Иваныч. Теперь хорошо сказал. «Если жизнь, то устраивай ее». Темнейшая вещь! Поди, устрой с достоинством, реши противоречия. – Задача!
Лялин. Вот уж тут я мало сведущ. Вероятно, действительно, трудно.
Константин Иваныч (раздраженно). Ты ребенок, Лялин; просто ты малое дитя, и сидишь со своими мечтаниями, черт тебя возьми. Тут десяток людей в петлю полезет, а он ма-ло све-дущ! Кикимора ты… А-а, Лялька… (Машет рукой.) И говорить не хочется.
(Лялин разводит руками Вид у него недоуменный)
Лялин. День жаркий. С двух сторон я наказан ни за что. (Уходит,)
(Некоторое время Константин Иваныч один.)
(Из сада выходит Евдокия.)
Евдокия (пробуя рукой самовар). Застыл. (Константин Иваныч сидит, насупившись. Евдокия наливает чашку.) Хотите? Стакан найдется, но жидко.
Константин Иваныч. Где Мари?
Евдокия. Дома.
(Молчат.)
Евдокия. Мы ходили за черникой. Все пальцы синие.
Константин Иваныч. Почему же Мари не идет?
Евдокия. Значит, устала. (Пауза.) Завидую я мужчинам.
Константин Иваныч. Почему?
Евдокия. Жизнь у них приятная.
Константин Иваныч. Да? (Фыркает.) Не нахожу.
(Евдокия закуривает и смотрит упорно.)
Евдокия. Приятнейшая жизнь. В высшей степени усладительная. Полюбил, сошелся. Разлюбил – бросил. Одному скучно, за углом другая; хочешь молоденькую – молоденькая, хочешь невинную – невинная. Живи не хочу. И в Турцию не надо, все можно домашними средствами.
Константин Иваныч. Евдокия, у вас совершенно круглые глаза, и презлые. Хотел бы я знать, умеете вы любить? Кажется, мучить – единственное ваше дело.
Евдокия. Любить вам предоставлено. По этой части вы специалисты. Вы полюбите, Лялин про это попишет. Вот все отлично и устроится.
Константин Иваныч. Евдокия, вы… несмотря на то, что очень… честны, ничего не понимаете.
Евдокия. Где уж нам.
Константин Иваныч. Нет, не «где уж», а именно должны понимать. Если «где уж нам», так нечего язвить. Сидите и молчите. А коли судите, – знать должны, кого, за что, и кто в чем виноват.
Евдокия. И знаю. Ага, начистоту – извольте. Я сужу вас, Константина Иваныча, и осуждаю, во-первых, за то, что вы истинную, великую любовь, которую вы, по вашим словам, питали к Маше, в состоянии променять на первую попавшуюся девчонку только потому, что она молода.
Константин Иваныч. Как вы можете говорить…
Евдокия. Могу. И буду. Я Машу с детства знаю, и люблю, как дочь, она вам жизнь отдала. (Задыхаясь) Вы будете ее на кусочки резать, а я должна одобрять, поддакивать? Маша была глупа, слишком за вами ходила. Это сделало из вас Бог знает что, вы заняты только собой, вам безразлично, что с ней происходит.
Константин Иваныч (багровея, вскакивает). Ложь! Не смейте так говорить. Не имеете права. Вы не можете сказать, что я не люблю Машу, что я издеваюсь над ней. Это неправда, вы знаете. Если б это было так, все было бы легко… просто. А это мука – больше месяца живу я на углях; разве вы не видите… Но нет, вы, конечно, не видите… какое вам дело до человека? Вы знаете, что муж должен любить жену и жить с ней – больше вам ничего не надо. Жить так, как вы считаете – очень прекрасно, но не так легко, Евдокия. Это очень трудно, почти невозможно. (Передохнув, спокойнее.) Вы издеваетесь, говорите, что я устроился «усладительно». Это же неверно. На кого я похож? Разве я сплю? Я мучительно думаю, Евдокия, мучительно – и до сих пор не нашел ничего… Впрочем, нет… Одно нашел, но это слишком, слишком… А так продолжаться не может. Сегодня, завтра все решится. Больше нет сил. Что будет – будет. Не минуешь.
(Садится устало и подпирает голову руками.)
Евдокия. Если вы серьезно, то дело ясно. Решайте, кого вы любите по-настоящему. Или Маша, или та…
Константин Иваныч. Я люблю обеих. И по-разному. Сам не знаю кого больше.
Евдокия. Непонятно!
Константин Иваныч. Вы и не можете понять. Оттого накричали.
Евдокия. Адюльтера я не признаю. Да, не понимаю адюльтера.
Константин Иваныч. А-а, адюльтера! Дело не в том. Дело совсем в другом. В очень, очень печальном, Евдокия.
(За стеклянною дверью, в гостиной появляется Царевна Константин Иваныч ее не видит. Она разбирает ноты у рояля)
Евдокия. Вы бы с ней вот посоветовались о своих делах. Отличная советчица.
Константин Иваныч. О ком вы говорите?
Евдокия. Да вон, ходит, сейчас, наверно, играть начнет. Она вам о чем угодно может… хоть о любви втроем.
Константин Иваныч. Пустяки вы рассказываете, Евдокия. Так, от раздражения… Какая там любовь втроем? Нет, бросьте. Если вы на каплю порядочно относитесь к нам, к Мари и мне, скажите, как бы вы поступили на моем месте?
Евдокия (холодно). Если вы говорите правду…
Константин Иваныч. Допустим.
Евдокия. Если любите одинаково обеих… То выход один.
Константин Иваныч. Ну?
Евдокия. Оставить обеих.
Константин Иваныч. То есть как оставить?
Евдокия. Так. Покинуть. Единственный способ… остаться чистым… пред собой, пред ними.
Константин Иваныч. Ах да, так… Понимаю. (Молчит.)
Евдокия. Это, может быть, ригоризм, но – необходимый.
Константин Иваныч (как бы про себя). Какое совпадение… мыслей. (Улыбается.) Да, маленький ригоризм. Так, маленький.
(Евдокия сходит в сад. Настает вечер Он прохладный, с золотой каемкой на закате. Константин Иваныч молча курит.)
Константин Иваныч. Суд приближается. О, тоска! (Встает и ходит.) Сколько времени давит меня это. Дни идут – каждый приносит свой груз. Но скоро, скоро. (Пауза.) Тогда, в лесу, я узнал Далю – ее существо, молодое, чудесное, слилось с моим. Казалось, нет ничего, кроме нас… минуты. Безгрешна любовь, светла, она зальет все. Но это неверно. Велики связи с Машей, у них громадная власть, правда громадная. Когда живешь ровно, это временами чувствуешь слабее, но стоит подойти… такому… Я люблю ее медленной, глубокой любовью. Восемь лет… Мы вросли друг в друга… (Снова садится.) Ужасно повернулась жизнь. Ужасно. Загнан, затравлен. Неужели и есть… и осталось одно… что в бессонные ночи приходило в голову… и жутко было – старался отогнать. А сегодня Евдокия… «Остаться чистым»… Как она угадала? Ах, тоска!
(Сжимает голову руками и покачивается, как от сильной боли. Из дверей сбоку показывается Марья Гавриловна. Она сильно похудела и бледна. Молча она проходит мимо, легко, бесшумно, и сходит в сад. В небе тонкий месяц. Часть балкона он одел узором)
Константин Иваныч. Мари!
Марья Гавриловна (останавливаясь). Да?
Константин Иваныч. Пойди сюда, Мари, скажи мне.
(Марья Гавриловна приближается.)
Марья Гавриловна. Что сказать тебе, друг?
Константин Иваныч. Мари, дорогая… (Берет ее руку, целует, прижимает к сердцу.) Мне так плохо, тяжко. Я не знаю, что со мной… но это ужасно. Жизнь смешалась, спуталась. Наваждение над нами какое-то.
Марья Гавриловна (застенчиво снимая пушинку с его костюма). Я знаю, Константин, все… (Улыбаясь, печально.) Потому что слишком люблю тебя.
Константин Иваныч (припадает к ней). Спаси ты меня, Мари. Спаси. Выведи из топи, не дай сгинуть. Ты прекрасная, чистая, вооруженная любовью, жизнь моя светлая, подай руку… Укажи. Или не знаешь? Но твоей белой душе видно все. Мари, Мари.
Марья Гавриловна. Что отвечать? Константин, как сердце тебе скажет… совесть. Я тебя знаю. Не скажет душа дурного. Делай по сердцу. Меня… не считай. На твоей дороге я не стану. (Кладет ему руки на плечи и смотрит прямо в глаза.) И один тебе мой завет.
Константин Иваныч. Ну?
Марья Гавриловна. Такой завет тебе: выше счастья. Понял? Моего… всякого. Ничего не бойся. Будь свободен. Это – все. А теперь… пусти. Я уйду. (Пауза) Мне так тяжело, что едва я нахожу силы говорить. Минута – начну реветь… нет… прощай. (Убегает.)
Константин Иваныч. Мари, куда ты, дорогая! (Марья Гавриловна скрывается. Он сидит в задумчивости.) Выше счастья. Вот ее правда. Как ясно! Значит, Евдокия права… Но как я ее люблю, Бог мой, а Даля? Ах, все темно, темно, ничего нельзя понять. Я с ума сойду.
(Царевна наигрывает на рояле и поет: «Есть остров на далеком океане..» Потом, встав из-за инструмента, приближается, напевая.)
Царевна. Кто-о ту пе-сню слышит, все позабывает… А, Константин, загрустил. Попался, Константин Иваныч.
Константин Иваныч (подымает голову). Что? Попался? Что ты говоришь тут?
Царевна. Говорю, что попался. Ну, ничего, Костя.
Константин Иваныч. Ты понимаешь, Царевна: выше счастья? Понятно?
Царевна (покачиваясь, посмеиваясь). Нет, не понимаю. Просто взяли Константина, окрутили, оплели, и лежит он пленничком. Хочешь, расколдую?
Константин Иваныч. Вздор, Царевна, никто меня не окручивал. И ты сама… кто ты? Ты дурочка, Царевна, тебе нет до меня дела.
Царевна. Может и дурочка. Я русалка, мне ни до кого нет дела. Водная нечисть. Мне нравится взять тебя и утащить.
Константин Иваныч. А дальше?
Царевна. Защекотать, утопить, над утоплым спеть песенку. Танец протанцевать.
Константин Иваныч. Нет, ты глупая. Утешь меня лучше. Уйми.
Царевна (опять, как завороженная, тихо вращается около, напевая: «Кто ту песню слышит, все позабывает».) Полюби меня, Костя.
(Константин Иваныч отмахивается. Уходит)
(На террасу, разговаривая, входят из сада Диалектов и Лялин.)
Лялин. Ах, литература. Сколько яду, роскоши, великого, глупого. Единственно из-за чего можно еще хлопотать – литература. Искусство – вообще. Когда вспомнишь, что Италия есть на свете, Данте, Рим… легче делается… Есть куда преклонить голову. Вы не были никогда в Италии, Александр Григорьевич?
Диалектов. Нет. Мне, знаете ли, не до Италии. Двадцать пять рублей надо матери посылать, самому жить, брата готовить. Вы мне про это не говорите. Я начал с того, что мне не нравятся все эти усталости, утонченности, меланхолии… Да. Очень вам жизнь легко далась; белоручка вы.
Лялин. Может быть. Только слушайте, мне не хочется сейчас об этом. (Садится.) Я лучше вам расскажу про Рим. Хотите?
Диалектов (покорно). Извольте.
Лялин. Вот видите, туманный месячный свет – как это идет к Риму! Когда сидишь на Форуме, у колодца Ютурны, дышишь светлым сном мрамора. Наступят сумерки. Вы сидите и слушаете, как журчит вода по зеленой плесени – та вода, что поила таинственных Диоскуров. По храму Кастора и Пол-лукса пробился клевер. Над аркой Тита сумрак – сизо-фиолетовый. В нем чернеют пинии. И уж зажгли золотые фонарики. Над Капитолием розоватые облака, огненные победы. Главное не забудьте: сон светлого мрамора, прозрачного мрамора! Еще – могучие лавры над храмом Цезаря. Глубокая, темная купа.
Диалектов. Да, роскошно. (Вздыхает.)
Лялин. Ах, когда разожжешь душу – встанут смутные стремленья, покажется – вот взойдет к тебе неведомое. Та мечта, что всю жизнь томит. Всю жизнь ждет человек божества… и всегда в виде женщины. Но его нет, нет. Пусто внутри, сухо. Хочется отдаться человеку, чтобы сразу сгореть, но великий Сфинкс – поперек дороги: «Море колышется в своем лоне, хлеба колеблются под ветром, караваны проходят, пыль улетает, города рушатся: а мой взгляд, которого ничто не может отклонить, вечно направлен сквозь видимое к недостижимым горизонтам». Как встосковал человек!
Константин Иваныч (входя из сада). Почему это встосковал? Кто здесь встосковал?
Лялин. Человек.
Константин Иваныч. Почему так?
Лялин. Значит, плохо ему пришлось.
Константин Иваныч. А, понимаю. Если кому плохо… я могу это понять. (Садится и трет себе виски.)
Лялин. Ты чего такой бледный? Простудишься еще, ходишь в сырость Бог знает где.
Константин Иваныч. Я недалеко был.
Лялин. Да что ты странный какой? Что с тобой? Не собираешься ли кого зарезать?
Константин Иваныч. Нет, просто ходил, думал…
Лялин. Что ты можешь надумать? Это, если я хожу, значит, скоро буду писать. Любители высчитывают, на сколько надумает беллетрист в минуту… из дорогостоящих.
Константин Иваныч. Вот, я тоже… надумал… Ничего себе. (Заходит в дальний угол террасы, прислоняется к стене. Глаза закрыты.) Бывало ли с тобой, Лялин, что ты стоишь на распутье… нет, на росстане – мужики называют так место, где расходятся дороги. Направо написано – убитому быть, прямо – убитому быть, налево – убитому быть.
Лялин. Нет, не приходилось. (Грустно.) Константин, ты на меня тоску наводишь. Что ты говоришь… и сам такой странный.
Константин Иваныч. Ничего, не обращай внимания. Все к лучшему.
(Входит Даля. В первую минуту не замечает Константина Иваныча.)
Константин Иваныч (вполголоса). Ave Caesar…[18]
Даля (Лялину). Петр Ильич, вы не знаете, где Константин Иваныч?
Лялин (вздыхает, встает). Как не знать. Вон он забился в угол… как раненый вальдшнеп. (Берет под руку Диалектова.)
Лялин. Идем, Александр Григорьевич, я вам доскажу про мечту человека.
(Уходят. Константин Иваныч стоит молча. Потом он выходит на средину комнаты)
Даля. Константин!
Константин Иваныч. Я.
Даля. Костя, я к вам. Послушайте, нам надо говорить, надо решить, выяснить.
Константин Иваныч. Да. Конечно, надо выяснить.
Даля. Почти два месяца мы близки, и все так ужасно. Я ничего не понимаю. Так не может продолжаться. Кто я? Что мне нужно? Неужели тайно от Марьи Гавриловны я должна укрывать твои ласки, любовь… Я не могу прийти к тебе, мне все кажется, что я не имею права сидеть здесь, потому что сейчас войдет она, – это ее дом, и ты – ты-то чей, наконец? Мой или ее? (Подходит близко и берет за руку.) Костя, помнишь тот вечер? Ты унес меня в лес. Ты говорил тогда, что весь ты, вся твоя жизнь в нашей любви. Неужели ты забыл? Боже мой, какой ты был тогда! Костя, неужели все то неправда, сон, от которого ничего не осталось? Нет, нет, не может быть. (Падает на колени и прижимается к его ногам.) Костя, если ты меня не любишь, скажи. Я уйду, и клянусь… не буду смущать твоей жизни. Но если… если (встает, выпрямляясь), ты, действительно, верен мне, то я тебя не отдам… Никому не отдам… и тогда, как бы ни было тяжело тебе, ты должен, слышишь, Константин, должен во имя себя, своей чести, достоинства – бросить старую жизнь… для любви… бесконечной.
Константин Иваныч (тихо, с нежностью). Солнце мое… Утреннее солнце, росное. Почему над вечером взошло? (Усмехается.) Зачем тебе я, старый, скучный пес? Почему не полюбила молодого? Чистого, с ясным сердцем…
Даля. Что ты мне говоришь? Константин, говори понятней, мне страшно… сердце захватывает. (Константин Иваныч еще непонятнее улыбается. Вздрагивают его губы.) Что с тобой? Чего ты смеешься?
Константин Иваныч. Я смеюсь… не над тобой.
Даля. Костя, милый, брось этот тон. Костя, я же люблю тебя. Всего тебя, все складки твоей одежды, твой пиджак, руки твои тонкие. Но решай, ради Бога… гони меня, или бери.
(Константин Иваныч пошатывается, сразу перестает улыбаться.)
Константин Иваныч. Гони или бери? (Тихо.) Да знаешь ты, что тебя я люблю до обморока. (Замолкает, пристально смотрит на нее довольно долго.) До обморока. (Пауза.) Помнишь, что сказала тебе Маша у камня?
Даля (мертво). Помню.
Константин Иваныч. Счастью нашему не бывать! Слышишь? Слышишь ты, Даля, которую я люблю без памяти, что нет надежды, я с ума схожу, но все гибнет, и моя жизнь, и Маша, и ты – ничего, ничего.
Даля. Константин!
Константин Иваныч. Уходи, не могу. Уходи, уходи. «Выше счастья». А? Кто это сказал? Какой безумный? А-а, Бог мой.
(Даля выбегает.)
Марья Гавриловна (входя, взволнованно). Костя, что с тобой? Я слышала сейчас крик, ты сидишь так странно… Кто тут был?
Константин Иваныч. А? Это я кричал, Мари. Здесь была Даля. (Безлично.) Но теперь ее нет. Она ушла.
Марья Гавриловна. Даля?
Константин Иваныч. Да, мы разговаривали.
Марья Гавриловна. У тебя дрожат колени.
Константин Иваныч. Дрожат? Это удивительно. Отчего бы им дрожать? Это странно.
Марья Гавриловна. Ты волновался?
(Константин Иваныч молчит.)
Константин Иваныч. Ты хорошо сделала, что зашла… вот теперь… ко мне. Сядь здесь. Мне надо говорить с тобой.
Марья Гавриловна (садится, бледнея). Я слушаю.
Константин Иваныч. Да. Пора мне сказать все. Ну вот, Мари, ты знаешь, как тяжко нам было последнее время.
Марья Гавриловна. Да. С марта.
Константин Иваныч. С марта. В этом месяце – будь он благословен, или проклят, в этом месяце я полюбил, Мари. Кого – ты знаешь. И началась эта… мука. Счастье – мука. (Марья Гавриловна тихо дрожит, стараясь сдерживаться.) До тех пор ты одна была в моем сердце. Как нежно, светло любил я тебя! Но значит, так назначено. Мне, тебе, ей… Должны мы понести печаль. Самую горькую, Мари, самую горькую. Долго я страдал. Меня влекло к тебе, к ней. Наконец… (закрыв лицо руками) не стало сил терпеть. Сегодняшний разговор с тобой – все о том же. Я вышел в лес. Месяц светил. Озеро лежало в его свете, – туманное, мерцающее. То озеро, у которого мы с ней любили. Месяц, сиявший над нашей с тобой любовью. Я вспомнил твои слова: «спроси у своего сердца». Я услышал его в ту трудную минуту. Все стало ясно, твердо во мне. И сейчас я как каменный. То же, то же решение…
Марья Гавриловна (встрепенувшись). Решение? (Чуть слышно.) Каково же оно?
Константин Иваныч. Я вернулся. Даля ждала меня. Как почувствовал я ее любовь!
Марья Гавриловна. Что же… дальше?
Константин Иваныч. Я сказал ей, что люблю ее (Марья Гавриловна опирается рукой о стол). И потом я сказал, что все у нас кончено… Слышишь?
Марья Гавриловна. Да.
Константин Иваныч. И теперь я должен говорить с тобой.
Марья Гавриловна. Так… понимаю. (Делая над собой усилие.) Говори.
Константин Иваныч. О том, что и с тобой – конец. Я расстаюсь с тобою… навсегда.
Марья Гавриловна. Со мной? (Пересиливая себя.) Да, конечно, ты прав… (Молчание.) Ты совершенно прав. (Быстро ходит взад-вперед, сжав руки.) Очень хорошо, отлично. (Как бы про себя, вполголоса, быстро. Кусает губы.) Он не мог иначе. Он мучится. Любит обеих. Рвет с обеими. Да. Так сказало сердце. Конечно, иначе нельзя.
Константин Иваныч. Я еду в Петербург. Дня на два. Потом вернусь. Договорим.
Марья Гавриловна. Уже уедешь? Ага. (Вдруг лицо ее делается бессмысленным, как в бреду.) Поезжай, да… Константин, что со мной? Где ты? (Протирая глаза.) Я ничего не вижу.
Константин Иваныч. Я здесь.
Марья Гавриловна. Константин, ты еще не ушел? (Бросается к нему, хватает за руки.) Константин, это ты? Что случилось? Я ничего не понимаю. Ну да, там честь… душа – но ведь ты мой. Почему ты вдруг стал говорить со мной, как с чужой, какие-то фразы, куда-то уйдешь, кого-то любишь… Это неправда, этого быть не может, я не верю. Костя, ты мой, это же невероятно, ты ведь любишь меня? Ты сам сказал. Ты полжизни любил меня. Где ты? Это сон, проснись. Костя, спаси меня, я не знаю, что со мной делается, я терпела, терпела все эти проклятые месяцы, я рыдала по ночам, я сегодня говорила через силу, а сейчас не могу же больше… Не могу. Умру. Спаси, Костя. Ты один. (Константин Иваныч наливает воды. Проходит минута, две. Марья Гавриловна пьет, слабеет. Оседает на стол.) Теперь лучше. Ах, я устраиваю-таки истерики. Бабья порода. Бабья порода! Константин, не брани меня.
Константин Иваныч. Что ты говоришь, Мари!
Марья Гавриловна. Ничего. Так. Я теперь лучше соображаю, опять. Ты меня бросил. Ты прав. Ну хорошо. Но ты и ее бросил. (Стараясь улыбнуться.) Что ж удивительного, что ты меня бросил? Я же это знала. Давно знала, еще с весны. Еще с того дня. Что ж это я? (Молчит, дышит тяжело.) Ах, Константин, жжет… Милый, Костя… горит… горит все внутри, как железом жжет… Прости меня, я ничтожная, я тебя мучаю напрасно, все равно ничего нельзя поделать, но ведь ты один был у меня… Костя, пойми. Вся жизнь на тебе, все… и сразу. (Делает рукой жест, будто обрубая что-то.)
Константин Иваныч. Мари, прощай! (Сбегает в сад.) Через два дня.
Марья Гавриловна. Через два дня. Через два дня. Ушел. (Стоит неподвижно) Константин! Костя!
IV
Город. Зимний тихий день. Сквозь огромное окно комнаты виден сад. За ветвями купол.
(Константин Иваныч худой, угловатый, ходит взад-вперед. Глаза воспалены, точно в жару, горло завязано. С грудой книг сидит Диалектов.)
Диалектов. Вот… принес вам Соловьева.
Константин Иваныч. Благодарю. (Хмуро, почти недружелюбно.) Аккуратность ваша велика.
Диалектов. Нет, я очень запоздал. Может быть, Соловьев был вам нужен? Это страшно нехорошо, что я задержал его. (Качает головой неодобрительно.) Ужасно.
Константин Иваныч. Как живете?
Диалектов (кашляет). Плохо. Бессонницы, головные боли.
Константин Иваныч. Что же вы, лечитесь? Вы совсем молоды, нельзя так себя запускать.
Диалектов. Все равно. Если умирать, значит, надо. Не верю я ни в какие помощи.
Константин Иваныч. Вы так молоды. Как не стыдно. Вам надо жить, трудиться… Вы же сами… знаете.
Диалектов. Я все знаю. Тут нечего мудрить. Пока двигаюсь, буду над книгами торчать, а умру, свезут на кладбище.
(Молчат. Константин Иваныч все с тем же напряжением ходит из угла в угол.)
Константин Иваныч. Жизнь идет – мимо вас. В ней чувства, радости, тягости, но все мимо, все мимо и ваши годы проходят, а вы и не знаете даже об этом.
Диалектов. Пусть проходят. Я знаю, для чего живу. Нужен мой мозг – я его и отдам. А, знаете, любви и прочее… этого мне не надо. Презираю я папильонов. К чему это? Вот хоть бы Лялин. Писатель он, даже с талантом… а у него нет этого… Я не знаю, как выразить. Наверно, он фрак надевает, когда едет на обед.
Константин Иваныч. Так можно и Пушкина закатать. Диалектов (блаженно улыбаясь). А-а, нет, Пушкин не то. Пушкин дивный!
(За дверью шум. Спрашивают: «Можно?» Входят Лялин и Царевна.)
Царевна. Насилу нашли. Заберется же человек в такую глушь.
Лялин. Он теперь анахорет, ему так полагается. Да никак ты болен?
Константин Иваныч. Пустяки. – А здесь тихо… нет гостей…
Царевна (Лялину). Слышишь? Это он про нас.
Лялин. Но ведь нас трудно смутить. Мы и в ус не дуем.
Константин Иваныч. Мы только что бранили тебя, Лялин.
Лялин. Привычно.
Диалектов. Прощайте, Константин Иваныч.
Константин Иваныч. Спасается!
(Диалектов уходит.)
Лялин. Постой, Константин, ты на самом деле теперь один? Это правда?
Константин Иваныч. Правда.
Лялин. Не верится. Вот история!
Константин Иваныч. А вы… слышали и не поверили?
Лялин (разводя руками). Уж очень необычно, право. Я привык и тебя и Марью Гавриловну как-то вместе считать, называть одним именем.
Константин Иваныч. Теперь отвыкнешь.
Царевна. Где же Далька?
Константин Иваныч. Ее нет здесь.
Лялин. Где же она?
Константин Иваныч. Уехала.
Лялин. Надолго?
Константин Иваныч. Не знаю. Кажется, совсем.
Лялин (Царевне). Видишь? (Качает головой.) Пойми их тут.
Константин Иваныч. Ничего непонятного. Ни Марьи Гавриловны, ни Дали в жизни моей нет. И не о чем говорить.
Царевна. Я понимаю его. Он один. Даже завидую. Все бросить, остаться вольным…
Константин Иваныч (угрюмо). Эх ты, Царевна!
Царевна. По-моему, бросить – просто. Мне не было бы трудно.
Константин Иваныч. Тебе!
Лялин. Ах, Константин! (Садится на диван.) Ты меня расстроил.
Константин Иваныч. Извини.
Лялин. Ты, Даля, Марья Гавриловна… Три жизни…
Константин Иваныч. Будет, Петр Ильич. (Садится, подпирает голову руками.) Будет об этом.
Лялин. Загрустил, Константин. (Вздыхает.) Ну прости, больше не буду.
(Константин Иваныч неподвижен, мрачен.)
Царевна. Константин прав. В одном только ошибся.
Константин Иваныч. В чем же?
Царевна (вдруг мягко припадает к Константину Иванычу). Костя, полюби меня. Милый, полюби! Мы поедем в Италию с Лялей. Ты будешь влюблен, будешь млеть, позабудешь горести. Ты рыцарь, а я дама. Я хочу, чтобы ты был с нами. Это чудесно. Милый, полюби!
Лялин. Ты полоумная женщина, Царевна.
Константин Иваныч. Да. В этом роде.
(Отворяется дверь, входит Евдокия.)
Евдокия. Здравствуйте. Можно вас видеть, Константин Иваныч?
(Все удивлены.)
Константин Иваныч. Да, конечно. Как вы сюда попали? Евдокия. Мне нужно сказать вам несколько слов. Наедине. Лялин (Царевне). Мы подождем здесь… рядом… (Выходят в соседнюю комнату.)
Евдокия. Удивлены?
Константин Иваныч. Да.
Евдокия. Не ждали. Таких, как я, редко ждут. А я взяла и явилась.
Константин Иваныч. Вы пришли, Евдокия… мстить? Терзать меня, снова?
Евдокия. Это вы откуда знаете?
Константин Иваныч. Так мне кажется. Впрочем – поздно. Не достанете вы меня.
Евдокия. Достать все можно.
Константин Иваныч. Слишком много… (Раздраженно.) А-а, да вы не поймете.
Евдокия. Счастливо устроились?
Константин Иваныч. Чего вы язвите? Что вам надо? Я именно то сделал, что вы подсказали. И вообще… я поступил правильно. (Сдерживаясь.) Не вы мне судья.
Евдокия. С чего вы взяли, что я пришла язвить вас? Неужели пошла бы за этим? Ах вы – мужчины! Только вами мир держится.
Константин Иваныч. Я рад, если цель иная.
Евдокия. Да-с, иная. Я за делом пришла. От Маши.
Константин Иваныч. От Мари?
Евдокия. Не бойтесь, ничего. Просто так (указывает по направлению улицы), в кофейной дожидается Маша. Она послала меня. Просить разрешить прийти к вам. (Волнуясь)…Говорит, что если это неприятно, то не надо, но ей в последний раз – понимаете? Хотелось бы сказать вам немного… Несколько слов. Не беспокойтесь, для вас не неприятных. Вам не взволнует это нервов? Я прошу также, за нее.
Константин Иваныч. Маша! Дожидается. Послала вас. Как удивительно! Почему она не пришла сама!
Евдокия. Ну стеснялась, что ли, нарушить покой…
Константин Иваныч (горячась). Конечно, конечно… Жду. (В волнении мнет бахрому дивана.)
Евдокия. Благодарю-с. Извещу ее – через десять минут будет здесь. (Идет по направлению к двери. Останавливается, обертываясь.) Можно сказать вам еще два слова? Как это: pro domo sua[19].
Константин Иваныч. Можно.
Евдокия. Я хочу вам еще сказать, что я вас все-таки ненавижу. Слышите? Правильно вы поступали, неправильно – мне дела нет. Пусть вы сделали то, что я сказала – все равно я не прощу вам Маши никогда. Никогда. Ночей бессонных, слез, горя, погибшей жизни… Никогда. Так вы и знайте. (Выбегает.)
(Входит Лялин.)
Лялин. Что тут такое? Царевна уехала, ее смутила эта… Евдокия. Зачем она была? Уж не покушаться ли на твою жизнь?
Константин Иваныч. Все вокруг, и внутри жжет меня, мучит, Лялин. Я креплюсь, терплю… молчу. Если б ты знал… Иногда хочется, чтобы обрушилась на тебя гора – раздавила бы грудь, сердце… (Встает и ходит.) Такое замученное сердце. Но, сидя здесь один, я могу только выть по-волчьи. Я скоро начну выть, Петр Ильич, не удивляйся. Сейчас придет Мари. Что я ей скажу? Я знаю, я поступил правильно. Если бы снова пришлось – снова сделал бы так. (Лялин вздыхает.) Нет, уйду и отсюда… В прежние времена ездили на войну…
Лялин (подходит и обнимает его). Замучился, Костя. Уезжай. Едем с нами.
Константин Иваныч. А? С вами? Нет. Вы… куда вы собственно.
Лялин. Еще не знаем. Но в хорошие места, конечно.
Константин Иваныч. Разумеется. Нет, я вам не товарищ.
Лялин. Пойдем с тобой на форум, сядем вечером на «белый камень», сны вокруг нас будут, мраморы. Птицы промчатся стайкой, заря запылает… Там, за Капитолием. Цезаревы лавры прошумят.
Константин Иваныч (улыбается). Все это… для счастливых. (Лялин молчит. Как бы смущен.) Я уж один… Как-нибудь. (Стук в дверь. Оба вздрагивают.) Войдите.
Лялин (торопливо). Ну, я иду… Прощай, Костя; пожалуй, не увидимся. (Быстро целует, в дверях кланяется Марье Гавриловне и уходит.)
Константин Иваныч. Мари… ты.
Марья Гавриловна. Прости, Костя. Мне… так хотелось… Евдокия сказала, что ты позволил. Я на несколько минут.
Константин Иваныч. Да что, что ты… Ах, Мари. (Машет рукой) Враг ты мне, что ли?
Марья Гавриловна. Я не буду надоедать. Хотела еще взглянуть и сказать… (Заминается.)
Константин Иваныч. Говори.
Марья Гавриловна. Я не знаю, уместно ли… Может быть, ты поймешь так, что я залезаю в душу… Касаюсь больного (переводя дух), важного. Но так как я тебя любила… и люблю сейчас, еще нежней, но более по-матерински, то, может быть, и имею право…
Константин Иваныч. Ты… все – можешь.
Марья Гавриловна. Так вот. (Пауза.) Мне теперь виднее. Я так… ясна сейчас, так ясна. Все мысли о тебе: твоей жизни, счастье.
Константин Иваныч (глухо, сдерживаясь). Моего счастья нет. Оно… было. А потом, помнишь, ты сказала мне: выше счастья? Зачем поминать о нем теперь?
Марья Гавриловна. Я теперь сомневаюсь. Вдруг ты живешь так потому, что я… тень моя тебя связывает? Может быть, с Далей нужно тебе жить, дать ей, себе, большое счастье-глубокое счастье… любви. Если так, Константин, то… ты не должен обо мне думать. Ты обязан тогда – понимаешь? жизнь свою не портить. Свою – ее. Это ж ужас, если насилие. Если ты душишь себя (с жаром) – этому нет прощенья…
Константин Иваныч. Я? Душу? (Кусает губы, точно удерживаясь от крика.) Я, Мари, ничего. Я ни душу, ни не душу. Я живу… вот… Как могу. И… иначе нельзя… существую в этой комнате, ну… и не знаю, сколько еще просуществую, но я, т. е. меня… (Вдруг пронзительно.) Но меня душат, Мари, пойми, я задыхаюсь, я истекаю кровью в этой берлоге и ни туда, ни сюда. А-а, Мари, вот ты пришла, это хорошо и ужасно, но крикну хоть тебе, Мари, которая была всех мне дороже – как ужасно – умирать! Гибнуть, хотя живешь, жить, пойманным в капкан. Ведь вы обе… обе женщины мои дорогие. И никогда… (Марья Гавриловна делает шаг вперед.)
Марья Гавриловна. Константин!
Константин Иваныч. Да, да, ничего нельзя сделать, все безнадежно. Вы две. Примирения нет. В вас я, в обеих, – когда нет вас, я гибну. (Садится на диван, закрывает глаза.) Иди, Мари. (Тихо.) Ты прекрасна, благородна… как всегда. Но сделать нельзя – ничего. Иди. Забудь и… прости. Виноват во всем я. (Марья Гавриловна быстро и бесшумно выбегает. В дверях приостанавливается и взглядывает на него.)
Марья Гавриловна. Я люблю тебя страшно, страшно! (Исчезает.)
(Константин Иваныч долго лежит, потом медленно и устало встает, как бы разбитый.)
Константин Иваныч. Тихо. Все ушли. Явились мне, как горькие видения… былого мира. Безразличные, страшные, светлые. Но все… призраки. Время поглотит вас. (Пауза.) Больше вы не вернетесь. Тут (берется за грудь) – похоронены все. Лишь тебя недостает еще, черноглазый ребенок, пришедший там – на весенней заре… (Ходит молча.) Даля! Слышишь ли?
(Наступают сумерки. Бледно-синеющий тон одел все. Тихо. Константин Иваныч садится и закрывает глаза)
Значит, так надо было. Надо мне было отнять счастье у всех, двух дорогих женщин – чтобы погубить и себя. Значит, нужно. (Пауза. Далее, как бы сквозь сон.) Всю тебя вижу. До последнего изгиба. Озеро, лес. Заря. Крик твой последний. (Встает, резко.) Чем искупить мне, как? Слезы твои чем залить?.. И… Машино горе. (Снова ходит из угла в угол.) Жизнь моя, любовь – прощай!
Усадьба Ланиных*
УЧАСТВУЮЩИЕ
Ланин Александр Петрович, помещик, старик.
Елена, старшая дочь.
Ксения, младшая
Тураев Петр Андреевич.
Николай Николаевич, муж Елены, инженер.
Наташа, дочь Елены от первого брака, 16 лет.
Фортунатов, Диодор Алексеевич, магистрант.
Марья Александровна, его жена.
Евгений, студент.
Коля, гимназист старших классов, родственник Ланиных.
Михаил Федотыч, помещик, приятель Ланина.
Гости, студенты, барышни, гимназисты, кадеты, подростки.
I
Весенний день, бледно-зеленых тонов. Очень тепло, деревья полураспустились, небо апрельски-нежное. На обширной террасе Ланин и Тураев сидят у стола: перед ними вино.
Ланин. И весна, весна. Вот она какая благодать, батюшка мой. Конец апреля.
Тураев. А у вас сезон начался уж? Съезжаются?
Ланин. Ну, понятно. Тут исстари заведено, и при покойной жене так было: я люблю юность. Пусть побегают. Ничего, на то они молоды.
Тураев. Значит, все по-прежнему. Помню, был у вас студентом одно лето.
Ланин. Нынче, видите, весна пораньше, и они пораньше. Знают, когда слетаться. Своего не упустят. Что ж, я рад: зимой сидишь один, разве на выборы… или за границу – а летом вот и шум.
Тураев. А Елена Александровна надолго?
Ланин. На все лето. Тут, я вам скажу, гости как раз сегодня приехали – я и сам мельком видел – ушли спать, переодеваться, и все возятся.
Тураев. Кто ж такие?
Ланин. Еленины друзья.
(Входит Елена Она несколько возбуждена.)
Елена. Папа, вы не говорили насчет самовара? Сейчас придут Фортунатовы, ничего еще нет! (Звонит.)
Ланин. Вот она знает все, она. Если ее друзья, значит, хорошие люди.
Елена (улыбается, обнимает его). Ты такой же все, папа? Фортунатов тебе подстать, он философ, тоже.
Ланин. Чудачище? Я таких люблю.
Елена. Да. – Где Наташа, скажите вы мне? Пропадают все здесь целыми днями!
Тураев. Я видел Наташу у пруда, когда сюда шел.
Елена. С Николаем?
Тураев. Да… Они рыбу удят.
Елена. Мой муж записался в Фаусты. Ну, да как хочет. Я, кажется, плохая мать. (Смеется про себя.) Плохая мать. (Отходит к перилам. Блаженно, задумчиво смотрит в парк.) День-то, день! Свет какой! Ослепнешь.
Ланин. Елена в меня, солнышко любит.
Елена. В такие дни кажется, что в жизни есть что-то чудесное. Может быть, природа раскрывает свое сердце, и чувствуешь, что и люди есть… особенные.
Ланин. Елена у нас нынче возвышенно настроена.
Елена. Я хоть и мать, все же я еще человек.
Ланин. Браво, брависсимо.
Елена. Да и у вас тут все пропитано любовью. Например, Евгений, Ксения? Тоже под липами где-нибудь разводят о вечной любви. Скоро свадьба-то их?
Ланин. Порядочно назрело, я уже вижу! (Тураеву.) Здесь редкое лето без брака, у меня рука легкая.
Елена. Бывает с вами, Петр Андреевич, что вы чувствуете себя таким легким… Точно сила какая владеет вами. – И все так светло, все – восторг.
Ланин. Елена влюблена!
Елена. Папа, пустое вы говорите.
Тураев. Но сегодня вы особенно настроены, это верно.
Елена (свешивается вниз). Милая весна, милая зелень!
Ланин. Влюблена, влюблена!
Елена. Ну, будет! (Прислуга приносит самовар.) Будет болтать пустяки. (Садится к столу и хозяйничает.) Петр Андреевич, держитесь, сейчас вы увидите блистательную женщину. Закрутит она вас!
Тураев (улыбаясь). Меня? Не-ет!
Ланин (хлопает Тураева по спине). Он прежде твоим рыцарем считался, мать моя! Елена. Это когда было!
(Входят Фортунатов, Марья Александровна и Коля.)
Елена. Наконец-то, мы заждались. (Улыбаясь, слегка смущенно.) Я уж думала, вы нездоровы.
Фортунатов. Мы задержали, кажется? Наверно, мы нарушили порядок жизни? Ах, какая оплошность печальная! Маша, как это мы не сообразили?
Марья Александровна. Это я виновата. (Улыбаясь, лениво.) Правду сказать, я устала от езды ночью. На лошадях ехать было отлично, только я как-то расслабла от этой весны, ваших соловьев… (Елене). Это такая роскошь была ночью! Запахи, звезды, невозможно заснуть!
Ланин. Ничего, здесь наверстаете. У меня молодые люди должны поправляться, набирать сил для жизни, работы!
Елена. Диодор Алексеевич профессором скоро будет, он не так-то юн, папа!
Ланин. Здесь старик только я. Остальные – дети. Запомните это.
Марья Александровна. Правда? (Мужу). Слышишь? Все должны быть молодыми. Да, в такую весну кто не молод, того презирать следует.
Фортунатов. Маша боится, что я буду мучить раскопками и архаической скульптурой. Но это, господа, неверно. Я люблю искусство и археологию, но сейчас я счастлив, что попал в такую славную деревню, к молодежи. Я охотно готов заниматься всякими развлечениями природы, и вот (Коле) молодой человек…
Елена. Зовите его просто Колей.
Фортунатов. Мы уже знакомы. Да, я думаю, Коля покажет нам способы ловли рыбы.
Марья Александровна. Господин Коля, вы, наверно, веселей всех здесь живете. Вы меня тоже должны всему научить. Вы рыбу удите?
Коля. Немного. Это пустое занятие.
Марья Александровна. Нет, уж пожалуйста.
Ланин. У нас еще рыболовы есть, еще! В одном конце сада у нас рыболовы, в другом птицеловы, в третьем сердцеловы.
Коля. Здесь парк вообще прекрасный. Конечно, пережитки крепостничества, тургеневщины.
Марья Александровна. Какой там тургеневщины? Есть парк – и чудесно. Надо Бога благодарить.
Елена. Здесь есть отличная оранжерея. Диодор Алексеевич, пейте чай, пойдем смотреть все это.
Фортунатов. Да? Отлично. (Панину). А я, знаете ли, немного близорук, и сейчас, например, неясно вижу, что там вдали. Мне кажется – какие-то пятна бледно-зеленые, а над ними бирюза. Это, очевидно, распускающиеся деревья и небо. Но зато я… (вздыхает) ясно чувствую, что здесь весна и такой милый запах!
Марья Александровна. Вчера ночью, в дороге, он принимал кусты за людей, вообще… (Машет рукой.)
Фортунатов. Да, вот Машенька все смеется, она и вчера дразнила меня. А мне в полутьме все места казались фантастическими – я так давно не видал природы и деревни. К тому же плохое зрение. Так что под конец я думал, не посылают ли мне боги легкого навождения, видений. Вот сейчас я различаю новые пятна, движущиеся.
Елена. Это наши. Наташа с моим мужем, Ксения, Евгений.
Фортунатов. Вероятно – да!
Ланин (подходит к першам). Рыболовы! Много ли мне окуньков наловили, желаю знать?
Наташа (весело). Дедушка, не клюет! (Влетает на балкон; увидев Фортунатова, смущается.)
Ланин. Ты чего ж это зевала? А?
(Пришедших представляют, все здороваются.)
Наташа. У меня, дедушка… (Вдруг фыркает, бежит к двери и высунувшись кричит.) У меня слишком строгий вотчим!
(Все смеются.)
Ланин. Ну, шельма! Чем вы ее так запугали?
Николай Николаевич. Запугаешь ее! У нее нет системы. Чуть тронет рыба крючок, она тащит. При этом страшно шумно – всю рыбу разгоняет.
Ланин. А ты бы изобрел для нее какой-нибудь особый такой крючок, чтобы рыба сама на него шла. Это твое, ведь, дело – изобретать.
Николай Николаевич. Ну, где там изобретать. На то Эдисоны есть.
Фортунатов. Елена Александровна, а вы покажете мне сады? Хотя я и плохо вижу, однако, ловля рыбы меня интересует чрезвычайно.
Елена (подымаясь). Да, непременно. И вообще, идем, пора. Скоро солнце сядет. (Проходя мимо Ксении, ласково щекочет ее. Вполголоса.) Ну, а у тебя сегодня такой вид, такой… (Смеется, грозит пальцем.)
Марья Александровна. В самом деле, идем. Господин Коля, когда ж вы будете парк показывать, вашу «тургеневщину»?
Елена. Николай, вот тебе стакан, мы уходим.
Николай Николаевич. Куда это? Какая ты, Елена…
Елена. Никакая. Диодор Алексеевич, руку.
(Уходят, Коля впереди с Марьей Александровной)
Ланин (Тураеву). Душенька, что же вы?
Тураев. Я здесь побуду. Посижу, покурю. Елена Александровна займет гостей.
(Из дому выбегает Наташа)
Наташа. Что, ушли?…А то эти профессора разные! Я боюсь умных. (Скачет и визжит.)
Ланин. Чего их бояться? Они ничего… Хе-хе, опасности нет.
Николай Николаевич. Он чучело какое-то. А она… д-да.
Ланин. Красивая бабочка.
Николай Николаевич. Ну, глаза! Ну, глаза-а! Не будь я Елениным мужем…
Наташа. Тебе она нравится? Так, вообще?
Николай Николаевич. Нравится.
Наташа. Очень?
Николай Николаевич. Тебе-то что?
Наташа. Очень нравится! Очень нравится! Конечно, мне ничего. (Меняя тон.) По-моему тоже – она прелестная. Жаль, я урод. Оттого ты меня все ругаешь.
Николай Николаевич. Ты глупая, Наташа.
Тураев (смеется). Наташа, поди ко мне!
Наташа. Где вы там, дядя Тур?
Тураев. Сядь ко мне. Ты меня насмешила. Ты говоришь, что ты урод. Это неверно.
Наташа. Нет, верно. Я бы хотела быть такой красивой, как Марья Александровна. Чтоб меня любили. И чтоб не смеялись надо мной.
Ланин. Тебя еще не любить, а в гимназии хорошенько правописанию учить надо! Правописанию!
Тураев. Времена! Я тебя знал вот такой (показывает), а теперь ты… наполовину большая! Александр Петрович, смотрите, вот птенец скоро выпрыгнет на свет Божий – куда-то ты выпрыгнешь?
Наташа. Я не маленькая, дядя Тур. Это я так кривляюсь. Может, я все знаю, да не говорю. Я не маленькая. (Опирается на Тураева спиной, смотрит на Ксению.) И ничего-то вам обо мне не известно, ничевошеньки! Ксеничка, тебе хорошо сейчас?
Ксения. То есть как?
Наташа. Я на тебя поглядела, мне показалось… Ты мне показалась невестой. Знаешь, бывает… что человек полон чем-то хорошим… счастьем!
Ксения (смешавшись). Да, мне хорошо. (Пауза.) Мы с Евгением много гуляли, были в поле. Знаешь, прилетели жаворонки. В роще я нашла фиалки – такие чудные. А поля блестят под солнцем, блестят!
Наташа. Ты счастливая.
Тураев (смотрит на Наташу). Если вас сравнивать, так ты, Наташа, какая-то угластая… и об тебя зажечься можно… а Ксения сияет ровно, весной светит. Точно принесла с собой блеск этих полей.
Наташа (обнимает Ксению). Ксения королева.
Ксения. Ну, вот, ну, вот! (Смеется смущенно, целует Наташу.) Скажешь тоже.
Наташа. Конечно, ты золотая королева. Вон у тебя какие косы!
Николай Николаевич. Наташа разнежничалась теперь.
Наташа. Отчего же девушку и не поласкать? Она хорошая. (Снова Ксения целует ее.)
Николай Николаевич. Ну, ласкай, ласкай. А я взгляну, как Елена там гостей водит. (Встает.) Вы не подойдете, Петр Андреевич? Наташа!
Тураев. Они, наверно, скоро вернутся.
Наташа. Нет, я не пойду. (Перебирает волосы Ксении.) Мне не хочется.
Николай Николаевич. Как знаете. (Уходит. Наташа смущена.)
Ксения. Наташа, ты гостей боишься? Неужели правда? Разве ты робкая?
Наташа. Нет, мне не хочется, просто. (Вздыхает.) И все тут. Мы с Туром лучше в крокет сыграем. Тур, идет? (Подает ему руку.) Я вас разобью при этом?
Тураев. Можно. Меня, Наташенька, столько били, что еще раз разбить честь невелика. (Усмехается) Уж такой я герой.
Ланин (у перил). Да если Елену увидите, пусть молодой сад покажет. Пусть покажет.
Наташа (басом). Слушаю, ваше сиятельство. (На мгновение останавливается, потом подбегает к балкону.) Когда Ксения замуж будет выходить, чтобы мне первой сказали. Да-с! (Убегает.)
Ланин. Ишь ты, шельма. Как ни притворяйся – раскисла. Характерец! То юлит, на шее виснет, то вдруг… А про вас что сказала? Когда, говорит, замуж будет выходить… Что это она болтает? А?
(Ксения молчит и улыбается.)
Ланин. Угадала?
Евгений. Я и Ксения давно любим друг друга, Александр Петрович.
Ланин. Вон куда загнуло.
Ксения (подходит и обнимает его). Папа, милый, Наташа угадала!
Ланин. Ну, конечно, конечно.
Евгений. Александр Петрович, я простой студент, что я такое… может быть, вы…
Ксения. Молчи, Евгений.
Ланин. Та-ак. Стало быть, вы будущий Ксении муж.
Ксения. Да, папа. (Встает.) Папа, поздравь меня. Нынче такой… дорогой для меня день.
Ланин. Поздравь, поздравь…
Евгений. Вы… недовольны?
Ксения. Папа?
Ланин (встает, ходит в волнении.) Чем мне быть недовольным? Я же знаю, понимаю. У меня есть глаза. (Вдруг останавливается, обнимает Ксению.) Поди сюда, Евгений. Ну, поцелуйтесь при мне, Бог с вами. (Они смеются и целуются.) Вот, значит, и того, я вас благословил. Теперь видите, что не огорчен?
Ксения. Папочка, я так и знала. Вы меня так любили… Неужели вы были бы против счастья моего?
Ланин. Вот тебе, раз, вот тебе раз! Ты только меня не забывай. Ну, когда устанешь там в городе, или что, так меня чтоб уж не миновать.
Ксения. Папа, что вы! Папа… (Прислоняется к его плечу, со слезами в голосе.) Господи, мне и вас жаль, я и знаю, что буду вас по-прежнему любить. (Целует руки.) Вы старенький… А все-таки плачу.
Ланин. У нас все так… немного слабы насчет чувств. Да-с, слабы. Вот и я… собственно, что же. Евгений человек хороший, фантасмагорист немного, но хороший. Я люблю таких юношей… И все-таки я разволнован, не могу отрицать. (Улыбается, ходит взад и вперед.) Ксенюшка очень на мать покойницу похожа. Она такая же была. Только тогда по-другому одевались. Все – и свет в глазах, и руки… Все, ведь, тоже здесь было (закрывает глаза рукой). Тридцать лет было, а будто вчера. И весна была такая же, дух шиллеровский. В то время мы много читали Шиллера.
Ксения. Мамы… нет! Отчего нет мамы, я бы ее целовала, она бы плакала со мной.
Ланин. Ну, это уж… да. Тут ничего не поделаешь.
Ксения. Я помню маму молоденькой.
Ланин. Она умерла сорока лет.
Ксения. Все равно, я ее помню молодой. Не знаю, сколько ей было, только она была молодая. Я помню ее волосы, и как от нее пахло.
Ланин (Евгению). Берегите Аксюшу. Вы знаете, это очень трудное дело, жизнь. И вы ее охраняйте. Много вы еще тяжелого хлебнете друг с другом, это уж так положено – все несите. И только знайте, что надо… да… Бога просить, чтобы своей любви не переживать. Если уйдет она из жизни раньше вас… ну, многое вы тогда узнаете.
(За сценой хохот Марьи Александровны и голоса.)
Ксения. Это наши!
(Входит Елена с Фортунатовым, Коля ведет под руку Марью Александровну.)
Фортунатов. Я продолжаю утверждать, что все у вас здесь чрезвычайно замечательно и прекрасно. (Панину). Я в восторге от вашей усадьбы. Так светло, обширно, сад, пруды, оранжереи. Я, знаете ли, чувствую, что здесь была богатая жизнь… и как бы сказать – жизнь любви. Где ж было и любить этим людям прошлого, как не в роскошных парках, такими веснами, когда все, повторяю, кажется фантастичным и таинственным.
Марья Александровна (хохоча). Здесь, может, и любят, а не только любили. Любят, любят, наверно, от меня не скроешь.
Елена (смеется – немного пьяно). Любят? Вы находите, что любят? Диодор Алексеевич, вы тоже находите?
Фортунатов. Да, здесь можно опьянеть. И мне это чрезвычайно радостно. Мне кажется, что здесь человеческая душа, среди света и зелени, должна как бы распускаться и цвести. Знаете ли, все нежнейшее и лучшее, что в ней есть, выходит наружу.
Ланин (встает). Господа, теперь можно не скрывать: вы попали как раз на помолвку. (Берет за руки Евгения и Ксению.) Позвольте представить – жених и невеста.
Елена. Ксения, невеста? Правда? Я так и знала. (Целует ее.)
Ксения. Целуй меня, целуй крепче!
Елена. Милая, милая!
Фортунатов. Ах, вот как, весьма приятно (Панину, Евгению). Позвольте поздравить от души, я хотя и чужой здесь, но дружба с Еленой Александровной…
(Вбегает Наташа)
Наташа. Целуются? Мама? Ксюша? Что такое? А?
Ланин. Свадьба, коза Ивановна, да не твоя.
Наташа. Ксюша с Евгением? Молодцы! Свадьба, свадьба-у-у!! (Визжит, крутится на одной ножке.) Женька, молодец, подсидел. (Кидается ему на шею.) Ходил, ходил по аллеям и доходился. (Теребит его и как бы с ним борется.)
Евгений (смеясь). Наташа! Какая ты!
Наташа. Отобрал у меня тетушку, противный!
(Входят Тураев и Николай Николаевич)
Николай Николаевич. А-а, свадьба. Браво, Евгений Иваныч, Ксения, поздравляю.
(Тураев подходит к Ксении и целует руку)
Тураев. Вот он, свет-то полей! Вот она, королева наша!
Фортунатов (жене). Какое доброе предзнаменование! Мари, милая, ты не находишь, что это страшно хорошо, что мы приехали именно сегодня, в такой радостный день! Я снова утверждаю – я предчувствовал, что здесь должно произойти что-то превосходное. Мари, разве я не говорил тебе, что мое сердце расцветает? (Подходит к Ксении и целует руку.) Поздравляю, от всей души. Я не так молод, как вы, но мое сердце всей силой отзывается на зрелище высоких радостей жизни.
(Марья Александровна весело смеется).
Марья Александровна. Речь произнеси, речь! (Хлопает его по плечу.) Ах ты, друг ты мой сердечный!
Фортунатов. Чего ты смеешься, Машенька? Право, я, кажется, ничего смешного и не говорил.
Марья Александровна. Ты просто очень мил… очень мил.
Ланин. Господа, прошу покорно. У меня найдется по бокалу доброго вина. Надо чокнуться. (Хлопает Фортунатова по плечу.) Идем в столовую, профессор, пока достанут вина, я покажу вам масонские книги, – здесь осталось кое-какое старье.
Фортунатов. Неужели? Это крайне интересно!
Николай Николаевич. Парами идти. (Марье Александровне). Вашу руку.
Марья Александровна (Коле). Прозевали, господин радикал.
Коля. Во-первых, я не радикал, а анархист. Марья Александровна. А во-вторых? Коля (сердито, сконфуженно). Во-вторых, ничего. Марья Александровна. Ну, дайте руку хоть Наташе. (Уходят.)
Наташа. С Колей идти? Ладно, что поделаешь! Наше дело девичье. (Прыгает, но как-то натянуто.) Коля, будь хоть ты моим рыцарем, если другие не хотят.
(Под руку с Колей выходит за всеми. Тураев и Елена остаются.)
Тураев. Что ж, Елена Александровна, мне тоже вам руку подать? Помните, что сказал нынче Александр Петрович? Я ваш старинный рыцарь.
Елена. Петр Андреевич, вы меня очень трогаете. (Вздыхает.) Но сейчас мне не хочется еще идти. Знаете, я как-то затуманена. Столько чувств, дум, событий… не могу быть покойной. Фортунатов говорит, что здесь напряженная атмосфера. Это, пожалуй… верно. Скажите: вы ничего не замечаете?
Тураев. Как сказать?
Елена. Пошли пить за нареченных, это прекрасно… Но все ли здесь-то благополучно, в усадьбе?
Тураев. Если говорить правду… Наташа меня немного смущает.
Елена. Наташа.
Тураев. Может быть, я ошибаюсь, – но она не ребенок. Больше того…
Елена. Вот как! Вы… заметили!
Тураев. В ней есть настороженность… острота любящей девушки. Мне даже показалось, – но тут я отказываюсь понимать.
Елена. Что отказываетесь понимать?
Тураев. По-моему, она ревнует.
Елена. Можете больше не говорить. Вы уверены, что да, что она влюблена?
Тураев. Почти… уверен.
Елена. Я так и знала. (Ходит взад и вперед, в волнении.) Уж я замечала, она смотрит на него по-особенному, по-особенному смеется. Но здесь, в деревне, все усилилось. Точно ею овладел дух какой-то любовный. И эта восторженность, слезы, ну, я понимаю. Она влюблена… в отчима. В Николая… вот как.
Тураев. Мне было тяжело назвать это имя.
Елена. Что поделать, это так. Я не знаю одного – насколько серьезно. Да… тут нет ничего удивительного. Николай нравится многим. Мне самой нравился, когда выходила за него замуж. Но чтобы моя дочь… – я, конечно, не ждала. Чего не бывает! Петр Андреевич, вы преданный друг?
Тураев. Я? (Подумав.) Я даже слишком преданный, Елена Александровна.
Елена. Я так и знала. (Подходит к нему.) Я вам могу сказать многое, чего не скажу другому.
Тураев. Я слушаю.
Елена. Должна вам сообщить странную вещь. Очень странную. Как, по-вашему, чувствует себя мать, у которой дочь влюбилась в отчима? (Тураев разводит руками.) Ну, конечно, я понимаю. Неважно она себя чувствует. Страдает за дочь? К мужу ревнует? Так вот и оказывается, что нет, и не ревнует, и даже дочерью не очень занята. Это скверно, может быть, даже преступно… но поди ж ты. Мать думает совершенно о другом.
Тураев. Значит, – отвлечена.
Елена. Отвлечена! Отвлечена! (Садится около него и смотрит робко.) Петр Андреевич, милый мой!
Тураев (закрывает лицо руками). Зачем вы меня так называете?
Елена. Что же? Вы добрый, старый друг!
Тураев. Старый друг! Старый друг!
Елена. Папа смеялся нынче надо мной, говорил, что я влюблена.
Тураев (смотрит в сторону, неподвижно). Он вовсе не смеялся.
Елена. Как так не смеялся?
Тураев. Папа нынче не смеялся. (Молчит.)
Елена. Ну, влюбилась. Ну, да, да… что ж теперь делать?
Тураев. Ничего.
Елена. Дядя Тур, не осуждайте меня. Еще за границей, когда я в первый раз встретила его, он меня поразил. А-а, вы его не знаете. Между тем, это замечательный человек. Его считают немного за чудака, и правда, он говорит иногда странно. Но это только для тех, кто не вслушался в него.
Тураев. Он понравился мне сразу.
Елена. И уже там я поняла, что этот странный и, как кажется, несчастный человек… А когда я увидела его нынче… Нет, должно быть все мы здесь немного полоумные.
(Входят Ланин с Фортунатовым.)
Ланин. Да, многоуважаемый профессор. Таковы наши владения. И вон там, у пруда, самое замечательное место. Можно сказать, историческое место: статуя богини любви. Венера-с. Что вы думаете, восемнадцатого века… дедом из Франции вывезена. Там этакие скамейки, и со времен старинных на дубах, березах вырезаны сердца пронзенные, и там в любви всегда объяснялись, хе-хе, это как бы местное божество, хотя у него и отбиты руки. Да, покровительница любви, устроительница величайших кавардаков.
Фортунатов. Как это интересно! Скажите, пожалуйста, ведь, Елена Александровна не показала мне ее!
Ланин. Что же ты это, мать моя? Слона-то, можно сказать?
Елена (встает; улыбаясь, растерянно). Ах, да, я вам не показала, действительно. Но время еще будет.
Ланин. А вина-то несут? (В окно дома.) Винца-то, винца?
(Входят из дома Марья Александровна, Николай Николаевич, Коля).
Марья Александровна. А мы ждем тостов. Ах, какая зала у вас, Александр Петрович!
(Лакей вносит на подносе шампанское и бокалы)
Тураев (Панину). Как вы сказали про Венеру? «Устроительница величайших кавардаков?»
Ланин. Разумеется, душа моя. Все она мудрит. За нее сейчас выпьем.
Тураев (задумчиво). Да-да-да-а…
Ланин. Где ж виновники торжества? Спрятались? Где они там? Да еще бы бутылку. (Лакею). Еще бутылку! (Все берут бокалы. Входят Ксения и Евгений.) Ну, вот, за них, за молодость, за любовь, за Венеру, так сказать, за счастье.
(Все обступают помолвленных, чокаются. Голоса. «Браво! Поздравляем! Счастья!» Вбегает Наташа и сразу становится шумно)
II
Пригорок в парке, окруженный старыми дубами На скамье, лицом к зрителю Ксения и Наташа. За ними статуя, к ней примыкает в глубине сцены беседка. Направо внизу, сквозь деревья виден пруд. Теплая вечерняя заря.
Наташа. Скучно с ними. Сидят как сычи, ждут, пока клюнет. По-моему, если уж ловить рыбу, так раздеться, невод взять… А так скучно. Ксения, отчего это мне все скучно?
Ксения. Ты какая-то другая стала, Наташа, я замечаю, тоже.
Наташа. Все мне не нравится, все плохо. Деревья б эти срубила, пруд спустила, разбила б в клочья эту каменную дуру. Скажи, пожалуйста: голенькая, и как будто улыбается.
Ксения. Ну, Наташа, дай тебе волю, ты камня на камне не оставишь.
Наташа. Я уж такая уродилась. Если мне хорошо, весь свет Божий зацелую. Плохо – пропадай он пропадом.
Ксения. Ах, Наташа, ты воинственная.
Наташа. Я воинственная, а ты невеста. Вы невесты все такие тихони. (Обнимает ее.) Дорогая, не сердись, со мной что-то делается. Ты не тихоня, ты невеста. Тебе все хорошо.
Ксения. Я другого характера, Наташа.
Наташа. Ты страшно тихая и серьезная. Я тебе завидую. Ты любишь своего Евгения, он тебя любит… вы имеете такой вид, будто готовитесь, постом и молитвой… (смеется) к чему-то такому очень важному…
Ксения. Это, ведь, так и будет. Мы соединяем наши жизни.
Наташа. Ну, я знаю, знаю. Ты, Ксеничка, всегда была такая… умная. Я тебя немножко даже боялась. Ты все Евангелие читала, я помню. И разные философии.
Ксения (улыбается). Как ты меня смешно изображаешь…
Наташа. И Евгений тоже ходит… глубокомысленный, точно решает мировые вопросы. А я, если б была невестой, все бы целовалась.
Ксения. Ну, уж, конечно. (Смеется, гладит ее по волосам.) Евгений про себя обдумывает что-то. Он ведь замкнутый человек, Наташа. Он может ходить часами молча из угла в угол.
Наташа. Евгений страшно мил, но я бы за него не пошла, извини меня, Ксеничка. Вот уж именно он очень основателен. Ксения… а что, тебе Николай Николаевич нравится?
Ксения. Мы, кажется, не сойдемся вкусами. Что ж, он очень красивый инженер… Но…
Наташа. А, нет, ты его не знаешь, он только будто бы такой педантичный, а он ужасно славный, ужасно… (С раздражением.) И вот они все там рыбу ловят… Ловят, ловят целый день. Всю хотят выловить, что ли?
Ксения. Пускай ловят. Тебе-то что?
Наташа. Нет, противно. Потом затевают пикник какой-то дурацкий.
Ксения. Ты же все это любишь! Почему дурацкий?
Наташа. Любишь, любишь! Ты ничего не понимаешь, Ксения.
Ксения. А ты зря раздражаешься.
(Снизу, с пруда голос Фортунатова. «Я поймал леща, Наталья Михайловна!»).
Наташа. Фортунатов! Вот ему и радость. (Кричит.) На здоровье!
Ксения. В нем есть что-то детское, правда.
Наташа. Бог с ним. Он мне безразличен. Скажи мне… Ксения, что, по-твоему, Николаю очень нравится его жена? Ну, фортунатовская?
Ксения. Не знаю, Наташа. Не замечала. Что ты все про Николая да про Николая, какая это ты…
Наташа. Целые дни удят рыбу. И Коля с ней постоянно. Вот уж, право!
(Фортунатов вылезает из-под склона В руках у него ведро.)
Фортунатов. Представьте, мне удалось поймать леща, и какого огромного! Признаюсь, меня обрадовала эта победа.
(Появляются Марья Александровна, Коля и Николай Николаевич)
Марья Александровна. Ты поймал рыбу?
Фортунатов (гордо). Да, вот, Машенька, лещ.
Марья Александровна (смеясь). Вижу. И теперь ты полчаса будешь радоваться ему?
Фортунатов. Обыкновенно в жизни – то есть, я хочу сказать не то, чтобы вообще (обращаясь к Марье Александровне), а в мелочах ее мне так мало везет, что, действительно, и эта победа доставляет мне некоторую радость. (Показывает леща.) Мирная рыба! Ты дремала в глубине пруда, кушала червяков, и вдруг стала моим трофеем.
Коля. Он мог бы быть и моим.
Фортунатов. Разумеется. Но, однако, поймал его.я.
Коля. Если б мне не мешали, очень может быть, что я поймал бы его.
Фортунатов. Да, ведь, я… я разве вам мешаю, Коля?
Коля. Не вы, а Николай Николаевич. Он систематически мешает мне ловить рыбу.
Николай Николаевич. Господин гимназист, вы ошибаетесь. И вообще у вас странный тон.
Наташа. Колька, ты чего ерепенишься?
Коля. Я не ерепенюсь, а вы около моих удочек систематически шумите и отгоняете рыбу, и я против этого всегда буду протестовать.
Марья Александровна. Коленька, вы чего разволновались? Кто там хочет отобрать вашу рыбу? Где этот злодей?
Коля. Марья Александровна… хоть вы… не смейтесь вы надо мной.
Марья Александровна. Я не смеюсь. Я растерзаю обидчика, как дикая менада.
Коля (хватается за голову). Ах, зачем, зачем?
Фортунатов. Позвольте, Коля, ведь, это одно недоразумение… Зачем так остро все принимать, вы так нервны… (Хочет взять его за руку.)
Коля. Пустите, ладно, я смешон… не могу больше. (Убегает.)
Ксения (Марье Александровне). К чему было дразнить? Как, правда, вы не поймете…
Николай Николаевич. Вчера чуть не затеял ссору на крокете… будто бы я говорю ему под руку. Бог знает что!
Фортунатов. Быть может, все это и так, но нельзя упускать из виду, что он наполовину подросток. Это такой нежный возраст, когда возможно многое.
Марья Александровна. Я, ведь, все в шутку. Я не думала, что он так примет. Конечно, над ним и нечего смеяться, он славный мальчик… И с характером, как видно.
Николай Николаевич. Однако, если его взять на пикник, он подвыпьет и, наверно, устроит какой-нибудь скандал.
Ксения. Почему непременно скандал? Как ты странно рассуждаешь!
Николай Николаевич. Вот увидите.
Марья Александровна. Это вы преувеличиваете. Нет, пожалуйста, я хочу, чтобы был Коля. И так мы его обидели, нет, это уж не годится.
Наташа. Куда вы хотите ехать?
Марья Александровна. Я сама хорошенько не знаю. В какой-то Дьяконов косик, так смешно называется лес. Там будто бы есть река, мы будем ловить раков, варить их тут же. Вот роскошь-то! Вечер будет чудесный, ночь теплая, сено там, наверно, есть. Я поймаю рака и заставлю его схватить клешней ус Николая Николаевича.
Наташа. Николай, а вы меня возьмете?
Николай Николаевич. Отчего же не взять.
Наташа (робко). Хорошо на пикнике!
Фортунатов. Если и там такая же природа, как здесь, лучшего желать нельзя.
(Слышно, как вдали поют девушки, возвращаясь с покоса.)
Ксения. О Дьяконовом косике я знаю немного: там река Болва, луга, кажется, хорошо. Лучше всего скажет вам об этом папа. Вот он и идет, кстати.
Наташа (оборачивается). Дедушка как-то медленно движется. Будто ему не по себе.
(Слева по дорожке выходит Ланий. Он в соломенной шляпе, опирается на палку.)
Фортунатов. Скажите, пожалуйста, Александр Петрович, далеко ли отсюда место, называемое Дьяконов косик?
Ланин. Дьяконов косик? Нет, дорогой мой, недалеко. Место хорошее. Раков ловить? Я слыхал, слыхал. Дело. (Садится.) Поезжайте. Ох, устал. Годы-то что значат: прошелся немного, и ослабь.
Фортунатов. Вы далеко были?
Ланин. Нет, тут по близости. Так, вообще. Прошелся. Встретил сейчас Колю – он имеет какой-то странный вид. Не то Чайльд-Гарольд, не то романтический убийца.
Фортунатов. Тут, к сожалению, сейчас вышла маленькая неприятность. Он вспылил, потом разгорячился сам и убежал.
Ланин. А-а, ну, так и быть должно. Так и быть должно. Тут всегда так. Влюбляются, ревнуют, бывают и слезы, и истории. Этот парк, знаете ли, чего не видывал. Недаром здесь такая поэтическая сень. (Оглядывается.) И ссориться-то место выбрали будто нарочно. Перед лицом Венеры-с, так сказать. Помните, я вам говорил.
Николай Николаевич. Хлам старый.
Ланин. Не совсем верно, дорогой. Тут сколько народу клятвы друг другу давало. И до дуэлей, я вам скажу, доходило. Прежде жили много шире, ну-с, молодежь приезжала стадами, и разные окрестные помещики, военные. Соловьи, ночи летние тогда такие ж были, как теперь, и вздыхали тогда по прекрасному полу не меньше. Покойная жена очень любила это место. Она говорила, что здесь хорошая заря, вот как сейчас, и хорош пруд – замечаете там розовое отраженье? Ну, и на надписи взгляните.
Фортунатов. Сердце… Позвольте, еще – это интересно.
Марья Александровна. Тут надпись: «J'etais ne pour l'amour impossible».
Ланин. Видите, что угодно. «Был рожден для невозможной любви», а, конечно, не встретил взаимности какой-нибудь Полины или Eudoxie.
Марья Александровна. J'etais ne pour l'amour impossible.
Ланин. Да, а в этом пруду, говорят… барышня одна утопилась.
Наташа. Дедушка, правда?
Ланин. Так говорили. Давно. При Александре Первом. Какая-то Pelagie.
Наташа. Pelagie!
Ланин. Так, ведь, это когда было! А может, и вовсе не было.
Наташа. Не пойду теперь сюда вечером… Никогда. Вдруг представится.
Ланин. Ну, что там. Мертвые спят мирно. Спят мирно. (Некоторое время все молчат. Краснеет закат; далеко, на болоте, аукает выпь.)
Ланин. Вот, пришел старый, и нагнал уныние. (В ведерце лещ начинает плескаться.) Это что за зверь?
Фортунатов. Мне посчастливилось, Александр Петрович, поймать этот экземпляр на удочку. Позвольте преподнести его вам.
Ланин. Спасибо, благодарю. Экого выудили!
Николай Николаевич. У профессора клюет не переставая. Он только не умеет подсекать, у него часто соскакивает.
Ланин. А-а, это не модель, это надо вам показать. Вы, конечно, этим не занимались, а тут надо сноровку.
Фортунатов. Я был бы крайне благодарен, если б вы…
Ланин. Могу показать, могу.
Николай Николаевич. Да мы, ведь, и удочки там оставили. На вашей, профессор, наверно сидит какой-нибудь гигант.
Ксения. Папа, только, ведь, они скоро должны ехать. (Вынимает часы.)
Ланин (спускаясь). Я покажу вам маленький карамболь… Карамболь с карасем.
Наташа. Дедушка стал гораздо слабее. Вот он и острит, а не тот, что был в прошлом году.
Марья Александровна. Сколько лет вашему дедушке, Наташа?
Наташа. Шестьдесят шесть.
Ксения. Он, наверно, возвращался сейчас с маминой могилы. Он часто туда ходит. И тогда у него бывает… такой особенный вид.
Марья Александровна. Он ее не забыл.
Ксения. Мама умерла лет двенадцать назад. Она похоронена около церкви, на кладбище. Он поставил на могиле белый памятник, из итальянского мрамора. Там всегда цветы. Когда солнце садится, там прекрасно бывает.
Наташа. Когда бабушка умерла, он чуть с собой не покончил. Почему он не умер? По-моему, если любишь, надо умирать.
Ксения. Почему же непременно умирать? Человек не должен этого делать. Он должен вынести свое горе.
Наташа. Ну, я знаю, ты у нас святая.
Марья Александровна. Если он так страдал, значит нашел человека, который был для него всем.
Наташа. Будто это трудно! Полюбите – он и станет всем. Правда, Ксения?
Ксения. Конечно.
Марья Александровна. Милая Наташа, вы мне очень нравитесь. В вас есть такой хороший огонь… да, вы все берете с плеча, мне это ужасно, ужасно нравится. Вы говорите – люблю – и все тут. Можно вас обнять? Мне хотелось бы вас поласкать.
Наташа. Что ж, ласкайте.
(Марья Александровна обнимает ее и целует)
Марья Александровна. Мне хотелось бы, чтоб вы не были так холодны, чтобы и меня вы хоть крошечку полюбили.
Наташа (смеясь). Вам нравится, чтобы вас любили. Вы всех ласкаете.
Марья Александровна. Ничего не ласкаю. Так… – я люблю похохотать, дурить, выкидывать разные штуки. Да это пустое. А чего мне хочется? Вот я живу с Фортунатовым, он такой отличный человек, нежный, добрый… Я не вижу героя, его нет, нет – куда это пропали герои? Вот стоит Венера, она знала это, разве ее спросить?
Наташа. Мы можем спрашивать Венеру. Все мы, женщины бедные, вокруг нее ходим. Я знаю гимн. Слушайте (обращается к статуе):
«О, богиня, с трона цветов внемли мне, Зевса дочь, рожденная пеной моря! Ты не дай позорно погибнуть в муках Саффо несчастной».Марья Александровна. Умерли боги, умерли герои. Слушайте, какой сейчас волшебный вечер. Когда я к вам сюда ехала, была такая же ночь: мне казалось – хорошо бы бросить все это, стать дриадой, нимфой гор, полей. Вам не кажется иногда? Знаете, услышать свирель, священную свирель Пана – и сбежать. А?
Наташа.
«Ты не дай позорно погибнуть в муках Саффо несчастной».Марья Александровна. Нет, вы плачете, этого совсем не нужно. Надо ей вот поклониться, ей, смотрите!
(С пруда слышен смех и голоса. Фортунатов кричит весело: «Маруся, а-у-у!»)
Марья Александровна. Если она не пошлет мне любви настоящей…
(Со стороны пруда входят Елена, Фортунатов и Евгений.)
Елена. Оказывается, нынче пикник? Это отлично!
Ксения. Да, это придумали как-то быстро. Я только сейчас узнала.
Елена. Диодор Алексеевич показывал нам, как он будет ловить раков. Это умора!
Фортунатов. Маша сейчас опять посмеется надо мной. Ну, хорошо, я смешу Елену Александровну, неудачно подсекаю рыбу, но, ведь, я живой человек… Давно я не чувствовал такого легкого и светлого духа вокруг. Повторяю: сердце мое здесь расцветает, Маша, ты меня понимаешь. Она, например, моя дорогая жена, кажется мне теперь какой-то иной, фантастической… Смотрите, в ней есть отблеск необыкновенного. (Целует ей руку.) Нимфа Эгерия!
Марья Александровна. А ты? (Смеясь.) Ты кто?
Фортунатов. Ну, уж я…
Елена (сдержанно). Вы только сейчас заметили, что у вас прекрасная жена?
Фортунатов. Нет, я всегда знал это. Но, ведь, видите ли, я немолод, (Смеется.) Вот мое отчаянье. Знаете, с суконным рылом, как говорят русские, – в калашный ряд. Я рискую быть смешным, снова – но решительно, мне кажется, что здесь, среди молодежи и весны, я помолодел и сам.
Марья Александровна. Елена Александровна, вам можно доверить мужа, когда мы отправимся? Вам это не будет неприятно? А я бы поехала с Николаем Николаевичем.
Фортунатов. Мне кажется, если бы запрячь в линейку, как говорил Александр Петрович, то не стоило бы разделяться.
Марья Александровна (смотрит на Фортунатова, вполголоса). Нет, она не пошлет мне любви великой.
Наташа. Мама, я не поеду на этот пикник.
Елена. Почему, Наташа? (Подходит, обнимает.) Почему?
Марья Александровна. Ну, иду. Надо узнать, когда это будет. Может, мы верхом поедем. А? Диодор Алексеевич?
Фортунатов. Что ж, узнаем, Машенька. (Тихо.) Может быть, и верхом.
(Уходят.)
Елена (Наташе). Детка моя, что грустна? (Вздыхает.) Я тебя давно не ласкала, я плохая мать, плохая. Прости меня, мой золотой, мой Наташкин. (Целует ее.)
Наташа. Мама, я тебе много должна сказать… (Прижимается к ней.) Отчего это мне все страшно? Мама, правда, в этом пруду утопилась девушка?
Елена. Какая девушка? Кто тебе сказал?
Ксения. Это дедушка сейчас рассказывал. Какая-то барышня. Еще при крепостном праве… Как, право, это странно все.
Наташа. Мама, не могу! (Хватается за сердце, кричит, убегает.) Не могу!
Елена. Что такое?
Ксения (встает, беспокойно). Как она нервна! (Хочет идти за ней.)
Елена. Погоди. Я сама… (В тоске.) Ах, ее надо услать отсюда, конечно. Правда, Ксения?
Евгений. Да, ушлите, Елена.
Ксения. Почему ты так говоришь?
Евгений. Я же чувствую.
Елена. Все запуталось! Я плохая мать, Ксения… (Ходит в волнении.) Я сама не знаю, что это с нами делается такое.
Ксения. Не волнуйся, Елена, все уладится.
Елена. Не могу. Не могу не волноваться. Посмотри, что с Натальей!
Ксения. Я знаю.
Елена. Куда ж я ее отправлю? И Николай не уедет… ему теперь здесь как раз интересно.
Евгений. Вам, Елена; надо уехать самой, и увезти с собой Наташу.
Елена. Мне? самой? Как же я… (досадливо). А-а, это все пустое! (Решительно, переходя вдруг в спокойный тон.) Ну, там видно будет. Ничего я не знаю. Может быть, уеду, может быть, нет, посмотрим. (Озирается.) Я легкомысленная женщина. Я полагаю, что надо ехать на пикник. Поцелую Наташу и еду. Пора. Солнце село. Вы будете?
Евгений. Я – нет.
Ксения. И я.
Елена. Ну, конечно. Иду. Закат-то, закат! (Уходит.)
Евгений. Елена запуталась, действительно. Не может понять, мать ли она, влюбленная ли.
Ксения. Может быть. (Пауза.) Ты ее осуждаешь?
Евгений. Нет, по какому праву? Мне ее жаль скорее. Правда, она попала в тяжелое положение.
Ксения. Как у нас тут все смешалось, в самом деле.
Евгений (целует ей руку). Не только у нас, моя родная. Всюду. Это – жизнь. Знаешь, Ксения, я вот теперь много думаю о наших отношениях.
Ксения. И я.
Евгений. Я думаю так: «скоро вся она будет моею. Я – ее». Знаешь, у меня голова кружится от этого. (Пауза.) Это такое счастье…
(Ксения обнимает его и прислоняется щекой к плечу.)
Евгений. Ну, вот. Дальше. Для меня прийти к тебе – это погрузиться в тихий, дивный свет. Будто коснуться вечной правды.
Ксения. Ты слишком любишь. Оттого так говоришь.
Евгений. Нет, это только правда. Но потом я рассуждаю: а имею ли я право на все это? Я, маленький человек, полный страстей, греха?
Ксения. Что ты говоришь, Евгений!
Евгений. Ты, ведь, многого во мне не знаешь. А во мне есть страсти, есть мучительное, тяжкое, только глубоко запрятанное. Что несу тебе я?
Ксения. Любовь. Это главное. Ты, ведь, сам сказал, что ее силой побеждается все.
Евгений. Да, конечно. И любовь моя крепка. Но… меня все же берут сомнения… Нет, не в любви – в этом я уверен. Но я недостаточно себе нравлюсь, я б хотел быть во сто раз лучше, чище, выше. Одна есть у меня надежда. Мне кажется, что ты… так сильна, что если в жизни я начну плутать, ты меня выведешь на ясный путь.
Ксения. Я простая девушка. Ничего такого замечательного во мне нет, я могу сказать только одно – что тебе я отдаю и жизнь, и душу – все. Все бери, что мне принадлежит.
Евгений. Я так и думал. Видишь, сейчас темнеет, парк становится смутным… даже немного жутким. Вслушайся, может, услышишь здесь жизнь… эту старую жизнь, мятежную, темную… Тут всюду были страсти, может быть, убийство, здесь девушка тонула. Через такую-то жизнь и мы с тобой пойдем. А вон – встает звезда – вечерняя, любовная звезда. Это – ты. Ты меня поведешь, твой свет тихий, ровный. И он очистит меня? Очистит?
Ксения. Я никому тебя не отдам, если б на тебя и нападали. Евгений, я в одно страшно верю: в силу любви своей. Если на тебя посягнут злые силы – я тебя прикрою… любовью.
(За сценой шум, вбегает Фортунатов)
Фортунатов. Где же Елена Александровна?
Евгений. Что с вами?
Фортунатов. Там, Бог знает, что происходит… Боже мой, какая неприятность…
Ксения. Что такое, Диодор Алексеич?
Фортунатов. Опять Коля… Он такой несдержанный. Вы знаете… он ударил Николая Николаевича… и вызвал его на дуэль.
Ксения. За что же он его ударил?
Фортунатов. За то, за то… (молчит). Николай Николаич, конечно в шутку, поцеловал мою жену. Ксения Александровна, разумеется, это было нехорошо, но, ведь… это в шутку. Не мог же он сделать этого всерьез.
(Появляются Коля, которого держит под руку Тураев, Елена, Наташа)
Коля. Петр Андреевич, я все равно убегу… больше я не могу. Может, это и подло, но я не мог сдержаться.
Тураев. Не волнуйся. (Елене.) Во-первых, надо скрыть от Александра Петровича. Он старик, и так уж довольно слаб… Дуэли, конечно, никакой быть не может.
Коля. Я ударил человека… Но зачем он… топтать так грубо!
Фортунатов. Однако, Коля, это была шутка с его стороны. Николай Николаевич знает, что Мари моя жена.
Наташа (Фортунатову). Вы… вы… (Машет руками, от волнения не может ничего сказать.)
(Входит Николай Николаевич Он очень взволнован, но владеет собой)
Николай Николаевич. Я требую удовлетворения. Я не могу этого так оставить.
Коля. Как угодно, извиняться я не буду.
Николай Николаевич (спокойно). Я сумею этого добиться.
Тураев. Во всяком случае, сейчас ничего нельзя сделать.
Николай Николаевич. Почему?
Тураев. Надо подождать до завтра.
Николай Николаевич. Нет, не до завтра.
Ксения (подходит к Николаю Николаевичу). Конечно, не до завтра. Этого откладывать нельзя.
Николай Николаевич. Разумеется.
Ксения. Ты должен извиниться перед Колей.
Николай Николаевич. Я?
Ксения. Ты.
Николай Николаевич. Да… ты понимаешь, что говоришь?
Ксения. Вполне. Ты должен извиниться, потому что ты больше виноват, чем он.
Николай Николаевич. Ну, прости, это глупо.
Тураев. Не так особенно… Во всяком случае, своеобразно.
Николай Николаевич. Что вы, сговорились, что ли?
Ксения (тихо). Когда ты подумаешь хорошенько, Николай, ты со мной согласишься. Ты видишь, тому… другому Николаю… очень больно… он ударил человека… но его вина меньше, чем твоя.
Николай Николаевич. Это просто какое-то полоумие.
Ксения. Нет. Это… правда.
(Молчание.)
Фортунатов. А если не шутка, то…
III
Большая высокая терраса со стороны, противоположной первой террасе. Со средины ее боковые лесенки в сад. Зрителю видна часть цветника перед террасой; у подножия ее – скамейка. Вечер, свадебный ужин на террасе; на всем розовый отсвет заката, окна дома освещены, позднее на стол ставят свечи в колпачках. Центр стола – Ксения и Евгений, против них Ланин, затем остальные; много гостей, есть подростки, кадеты. Цветы, богатая сервировка; шум, смех, чоканье.
Молодой помещик. Господа, тише, потише, пожалуйста! Михаил Федотыч просил слова.
Барыня в пенсне. Слушаем! Милый Михаил Федотыч – он хочет говорить!
Ланин (звонит по бокалу). Ти-ши-на!
Михаил Федотыч (помещик, старик; в дорогой поддевке и красной атласной рубашке). Я уж что там… какой я там оратор, изволите видеть. (Встает с бокалом). Просто… вот с Александром Петровичем мы соседи, ну… там друзья старые, и Ксеничку я помню с самого детского возраста… мамашу покойную знал – достойнейшая была женщина. Я и хочу, тово… от души пожелать ей, как новобрачной, так сказать, счастья, ну, там радостей, детей… Благослови Бог. Я говорить не мастер, но от всего сердца, ей Богу. (Подходит к ней с бокалом, обнимает, целует.) От всего сердца.
(Кричат браво, чокаются, веселая суматоха)
Ланин (хлопая Михаила Федотыча по плечу). Федотыч-то у нас… оратор. Мне, пожалуй, отвечать придется, подвел-таки. Мы тут с тобой самое старье… (тихо смеются). Самое старье.
Михаил Федотыч. Ты этак с красноречием, чтобы чувствительно. Я облом деревенский, а с тебя больше спросится.
Ланин. Я облом тоже. Мохом здесь зарос… Ну, что же, и мы пару слов. Видно, надо.
Наташа (в дальний конец стола, где хихикают подростки). Тише вы, дедушка говорит. Т-сс, дедушка, дедушка!
Ланин. Господа, благодарю, во-первых, Михаила Федотыча – и от себя, да и от новобрачных, думаю. За любовь, за теплые слова. Да. Насчет их самих – милых детей моих – ну, они сегодня улетают, могу повторить, что вот он сказал. А там – (кивает улыбаясь, на конец стола, где молодежь) – там еще молодость, и по поводу всего сегодняшнего я могу, человек отживший, поднять бокал за это новое племя. Могу сказать так: «Молодость, здравствуй!» Дай Бог, господа, всем вам вступить в жизнь радостно, пронести через нее дары, отпущенные вам – чисто, светло, ясно. Ваше счастье!
Фортунатов. Браво, Александр Петрович! Браво, браво! (Подходит к нему.) Весьма счастлив, что наши взгляды в этом случае совпадают. Именно, пронести через жизнь священные дары. (Задумчиво.) Несмотря на все испытания, посылаемые судьбой.
Михаил Федотыч. С чувством сказал, старик. Кратко, но с чувством. (Чокается) Золотая голова!
Елена (Тураеву). Папа нынче философически настроен. В конце концов он прав.
Тураев. Да, я думаю.
Ланин. А теперь, господа молодежь, так как вам, наверно, надоело сидеть долго – кто желает, можете вставать, в зале танцевать вам можно, скакать, вообще делать что угодно. Разные печенья, варенья, чай вам устроят потом. И только не благодарить, нет, нет, у нас не полагается.
(Гимназисты, подростки, барышни с веселыми лицами все-таки благодарят Встает и кое-кто из взрослых. Лакеи быстро убирают со стола).
Елена. Надо бы танцы наладить им.
Барыня в пенсне. Ах, я с удовольствием! Для молодежи я с удовольствием.
Ланин. Ну, Наташкин, а ты? Ты не маленькая? Пошла, поплясала б?
Наташа. А? Танцевать? Нет, не хочется, дедушка. (Пожимается.) Мне нездоровится как-то.
Ланин. Вот какая плохая стала коза! Это нашему брату, ветер-рану (хлопает по плечу Михаила Федотыч а), простительно. А вам рано. (К нему же). Да, брат, слаб становлюсь. И сегодня: и радость, волнение, а как-то устал. Должно на покой пора.
Михаил Федотыч. Что ж, золотая голова: кому плясать, а кому – отдохнуть. И мы поплясали. Ну, да авось поскрипим еще. (Чокается). Ваше дражайшее.
Ланин. Я б не прочь поскрипеть. Посмотреть на детишек, вот Ксеньюшка может внука привезет через год, два. (Целует ей руку.) А все-таки жаль мне тебя отпускать… и рад за тебя, и жаль.
Ксения. Ничего, папочка, мы приедем.
Ланин. А уж нынче непременно? В путь?
Евгений. Все налажено, Александр Петрович. (Вынимает часы). И времени-то мало… Как раз к поезду опоздаем. Ксения, взгляни, все ль уложено? С полчаса нам и быть тут.
Ланин. Ишь, ишь, как торопится. Всюду б не опоздать.
Евгений. Александр Петрович, жизнь раз дана!
Ксения (мужу). Тебе тоже надо… Ты тут не засиживайся… (Уходит.)
Михаил Федотыч. За границу, батюшка? Хе-хе, вуаяж де носе? Я сам однажды был, и тоже, как с Анной Степановной повенчались. Город Венеция… там разные лодочки, водишка… Чудной народ… но хорошо.
(В зале раздается музыка Слышно, как кричит распорядитель, начинаются танцы) Ланин. Бал начали! Что, посмотрим, старина?
Михаил Федотыч. (Под руку с Паниным идут к двери. Евгений уходит.) Скажи, пожалуйста! И Сережа мой, туда же!
(На террасе остались Елена, Тураев, Николай Николаевич, Фортунатов и Марья Александровна)
Марья Александровна. А куда же делся Коля? Почему он не танцует? Где бедный анар-рхист?
Елена. Вы не знаете? Будто!
Марья Александровна. Говорят, удрал. Это правда?
Елена. Извини, Николай… но мне Колю все-таки жаль. Во-первых, он не прав, второе – молод. Да, он сбежал к соседям. Там у него есть друг, тоже молодой романтик.
Николай Николаевич. Вы потакаете ему, женщины. Это не романтизм, а истеризм.
Фортунатов. Коля просто влюблен в мою жену, как и многие. (Марья Александровна хохочет.) Чего ты смеешься? Смешного ничего нет. Сегодня за столом говорили о любви хорошо, но кратко. Не выяснили нам ее природы, и не указали, какой огромный оркестр любви есть жизнь.
Марья Александровна. Конечно, тебя не хватало, чтобы все разъяснить, доказать, определить в кратких чертах.
Фортунатов. Ладно, смейтесь. Я вижу над своей головой вечные звезды, мое сердце горит от любви… (останавливается и говорит спокойно и грустно) безнадежной, – да, прошу не доказывать мне обратного. И я хочу сказать еще один панегирик этой любви. Платон, Данте! Великие души, обитающие на тех звездах, впервые говорившие о божественной любви – взгляните на нас! вот тут мы все, так сказать, в этой усадьбе Ланиных, захвачены силой любовного тока, который крутит нас, сплетает, расплетает, и одним дает счастье, другим – горе: мы отсюда подымаем к вам взгляд, как к чистым высотам, остающимся всегда в покое. Венера – дух той Венеры, быть может, что стоит в этом саду, играет нами как щепками кораблей в водовороте.
Николай Николаевич. Диодор Алексеич, не заноситесь! – Слишком возвышенно.
Фортунатов. Нет, я прав. Все мы переживаем драмы, а если молчим, это ничего не значит. Я продолжаю: играет Венера не одними нами, а всей жизнью, всем миром, ибо его основа – любовь. Но и мы возносим хвалу этой вечной и святой стихии. Мы должны лишь очистить ее, принимать в том светлом сиянии, как виднелась она вам, великие учители.
Тураев. Почему вы смеетесь, Марья Александровна?
Марья Александровна (взволнованно). Я не смеюсь. (Хлопает Фортунатова по плечу.) Бедный рыцарь Кихада!
Фортунатов. Тот безумец был великим, ты забываешь!
Марья Александровна. А под носом тоже ничего не видел.
(Входит Наташа)
Наташа. Господа, сейчас уезжает Ксения.
Марья Александровна. Ксения уезжает?
Фортунатов (не обращая внимания, жене). Позволь, почему ты думаешь, что я не замечаю?
(Входит Ксения, Евгений. Они в дорожных костюмах, несколько взволнованы)
Ксения. Вот я и уезжаю… из отчего дома. С папой не могу тут прощаться, пожалуй, расплачусь. (Целует Елену.)
Елена. Милая – прощай! (Обнимает ее.) Мне с тобой тяжело расставаться именно теперь… Точно ты ангел тишины, мира. Ты от нас уйдешь, жутко станет. (Стоят обнявшись.)
Тураев (Евгению). В Мантуе остановитесь, хоть на день. Не будете жалеть.
Евгений. Постараюсь, непременно. (Оборачивается.) Ксения!
Ксения. Сейчас. (Крестит Елену.) Время для вас тяжелое, я же вижу. Будьте счастливы, все здесь счастливы. Наташа, дорогой ты мой! (Обнимает сквозь слезы.) Я б еще была радостней, если бы у вас тут… ну, дай Бог, дай Бог.
Лакей (в дверях). Барыня, Александр Петрович вас ждут-с, и лошадки поданы.
Ксения. Я буду тебе писать. (Громко.) Иду, иду. (Прощается с присутствующими, выходит с Евгением.)
Николай Николаевич. Проводы, бал, все блестяще.
(Выходит с Марьей Александровной. За ними остальные, кроме Наташи, Фортунатова)
Фортунатов. Да, да, все блестяще. (Наташе). А вы не провожаете тетку?
Наташа. Нет.
(В зале музыка смолкает, слышны крики: «Прощайте, Ксения Александровна! Всего лучшего» и т. д Некоторая суматоха)
Фортунатов. Мне тоже, должен сознаться, не хочется. Ну, да я другое дело. Но вот вы… Я смотрю на вас, Наталья Михайловна и, как дедушка ваш, не могу не удивляться, что вот вы, совсем еще молодая девушка, полуребенок, так прочно впали в меланхолию.
Наташа. А! В меланхолию. (Помолчав.) А какая была по-вашему эта Pelagie, помните, дедушка рассказывал?
Фортунатов. Вот – и снова ваша мысль обратилась к образу, который должен вызывать печаль. Между тем, вы имеете столько данных для прекрасной и богатой жизни.
(Слышны колокольчики, шум уезжающего экипажа)
Наташа. Вы мало видите вокруг себя.
Фортунатов. Позвольте, то же самое сказала мне сейчас жена, и я по-прежнему ничего не понимаю. Я вижу, что вы из веселой жизнерадостной девушки, какой я помню вас в первые дни моего приезда, стали мрачной; что на меня все как-то странно смотрят, в особенности после этой… неуместной, быть может, шутки Николая Николаевича, и истории с Колей.
Наташа. Ну… хотите, я вам прямо все скажу?
Фортунатов. Конечно, хочу, конечно.
Наташа. Мужем Марьи Александровны будете не вы, а Николай Николаевич. (Отходит. Фортунатов молчит.) Что бы вы сделали, если б убедились в этом?
Фортунатов. Я… я… все так странно, я просто удивлен. (Волнуясь.) Вы мне говорите такие вещи!
(Наташа отходит в дальний угол террасы и садится в лонгшез)
Наташа. Такие вещи, вещи. (Резко.) Если б я была мужчиной, я б убила соперника.
(Из дома выбегает группа подростков и молодежи.)
Девочка лет четырнадцати. Ух, жарко! Наташа, что ж ты не вышла к Ксении Александровне?
Кадет. Господа, одну минуту, не разбегайтесь!
Гимназист. Соня, вы со мной? Визави Павлик и Дебольская.
Соня. Нет, я ему обещала. (Дает руку кадету.)
Гимназист. Это предательство, Соня, вы согласились.
Второй кадет (подлетает к Наташе). Смею вас просить?
Наташа. Кадриль? Нет, устала.
Кадет. У нас и взрослые танцуют – Марья Александровна.
Наташа. Не могу. Просто, не могу сейчас.
(Кадет кланяется. Входит Елена с Тураевым)
Елена. Ну, вот бал в полном ходу. Хорошо, хоть эти веселятся. Дедушка бедный расстроился, ушел к себе.
(Распорядитель в зале кричит: «Messieurs, engagez vos dames»[20].)
Кадет. Ну видите, я же говорил, пора… Соня, вашу руку.
Гимназист. Ах ты Боже мой, у меня до сих пор нет дамы.
(С шумом убегает)
Тураев. Бог мой, как все выросли! Все дети соседей, земцев наших, давно ли ходили под столом, а теперь туда же… (Вздыхает.) Того и гляди тоже начнут ревновать, ссориться.
Елена. Это мы с вами стареем, Петр Андреич, оттого нам и кажется, что время идет быстро.
Тураев. Конечно, стареем, конечно. Но над нами жизнь еще так же сильна, как и над ними.
Елена. Как еще сильна! (Подходит к перилам.) Вот Диодор Алексеич говорил о звездах, о любви. (Кладет голову на перила. Фортунатову.) Понимаете ли вы, как вы хорошо сказали? Понимаете ли вы себя, – знаете ли вы, кто вы?
Фортунатов. Ну, как это сказать. Фортунатов, Диодор Алексеич.
Елена. Нет. Вы милый, чудесный поэт, ученый фантазер. Кто в наше время увлекается звездами, Данте, любовью? Вы не понимаете сами, не чувствуете своего духа… потому что вы скромны.
(Фортунатов молчит. Тураев медленно спускается с лестницы в сад)
Елена. Да, я говорю правду, это же так, я знаю (Тураеву). Вы куда уходите? Почему? Я веду себя неприлично? Вы меня не одобряете, Петр Андреич?
Тураев (сдержанно). Нет, я никого не порицаю. Я… спускаюсь. Ночью в цветнике особенно благоухают левкои.
(Сходит еще несколько шагов. Дойдя до последней ступеньки останавливается и стоит некоторое время молча)
Елена. «Укрыть покровом темной нощи… темной нощи». (Быстро входит Марья Александровна)
Марья Александровна. Да, довольно. (Подходит к мужу, энергически хлопает его по плечу.) Довольно, мой друг. Не сердись на меня.
Фортунатов. За что мне сердиться?
Марья Александровна. Ты можешь на меня иметь сердце, я была плохой женой. Ты заслуживаешь лучшего. Тебя должна любить тихая Гретхен, и вы с ней будете вздыхать.
Фортунатов. Но к чему ты все это говоришь?
Марья Александровна. К тому, что я отсюда уезжаю.
Фортунатов. Куда? Да почему ты уезжаешь, Машенька?
Марья Александровна (делает неопределенный жест рукой). Так, вообще. Я не одна еду.
(Николая Николаевич тоже уходит. Наташа вскакивает с лонгшеза и сбегает в сад.)
Марья Александровна. Я своей жизни никому не отдам. Я проживу ее сама – как найду нужным, и чтоб умирая могла сказать: «Кончено. Все знаю». (Мужу, мягче.) Ты – первое поприще мое. Я вышла замуж девчонкой, и во мне силы спали долго, долго. Ты мил, но ты мягок, слаб. Ты не герой…
Фортунатов (тихо). Да… не герой…
Марья Александровна (возбужденно). Слышишь? Слышишь вальс? И Ксения, и Евгений – все туда, к солнцу. Я тоже хочу танцевать. Мы должны танцевать сейчас.
(Убегает. Музыка сильней, кружащиеся вихрем силуэты в окнах.)
Фортунатов (медленно подходит к Елене). Я не Кихада, я смешной муж, профессор, чудак, которого едва терпят. (Улыбаясь кротко.) Вот они, туманно-обольстительные предчувствия, с которыми я сюда ехал. А вышло, Елена Александровна, что моя жизнь кончилась здесь, в усадьбе Ланиных.
Елена. И моя.
Фортунатов. Почему же ваша?
Елена (берет его за руки и смотрит в глаза). Потому что… Все эти месяцы я терзалась и была счастлива, что вы тут – прекрасный, прекрасный… Ну, ладно, я заболталась. Но я именно хочу сказать…
Лакей (в дверях). Елена Александровна, чай подан на том балконе-с.
Елена. Хорошо, иду. (Быстро уходит.) (Фортунатов сидит молча, потом встает и медленно спускается в сад) Фортунатов. Елена Александровна любит… Как все странно. (Навстречу из сада медленно приближается Тураев под руку с. Паниным.)
Ланин. Да, милый ты мой, все меняется, все. (Фортунатову). Что, профессор, и вы устать изволили? (Садится на скамейку у подножия террасы.) Тоже свежего воздуху захотели? Нынче шумный был день, ах, какой шумный. Церковь, венчание, все эти образа, пение, утомляют…
Тураев. После этого отдыхаешь сейчас. Взгляните, роса, сеном пахнет, звезды.
Ланин. Я вас понимаю, да, да, дорогой. Лучше неба ничего нет на свете. Звезды столь прекрасная вещь, что легенды о том, будто там живут души умерших, не кажутся мне бессмысленными.
Фортунатов. Эти легенды вечны.
Ланин. Старческий мистицизм.
Тураев. Диодор Алексеич хорошо говорил нынче о вечном круговращении жизни и любви.
Ланин. Жаль, я не слышал. (Помолчав.) А теперь Ксеньюшка наша далеко. Пожалуй, к станции подъезжают. Вот она и жизнь-с!
(За сценой, направо от дома, отдаленный шум. На террасе показывается Елена.)
Елена. (Взволнованно, глухим голосом.) Петр Андреич!
Тураев. Я здесь.
Елена. На минуту.
(Тураев встает и быстро всходит наверх.)
Ланин. Что это Елена – встревожена?
Фортунатов. Но вообще Елена Александровна сегодня очень нервна.
(Тураев и Елена шепчутся, потом из дому выбегает лакей, что-то говорит им)
Елена (вскрикивает). Наташа?
(Оба быстро выходят)
Ланин. Что такое? Она сказала – Наташа?
Фортунатов. Да, как будто. (Встает и торопливо подымается.) Вы не беспокойтесь, Александр Петрович, я сейчас узнаю и скажу вам. Может быть, легкое нездоровье…
Ланин. Нет, уж нет, я сам. Нет, уж я не могу. (Старается поспеть за ним, но ноги плохо слушаются.) Старость, старость. Господи, что такое, отчего Елена так закричала?
(На террасе на него налетает молодежь)
Распорядитель (в дверях). Господа, в эти двери выход, да там растворите, захватывать весь балкон и обратно в зал. (Ланин пробирается с трудом к двери в кабинет). Анна Ефимовна, галоп пожалуйста! (Хлопает в ладоши). En avant, en avant! (Мчится в голове змееобразной цепи молодежи, которая хохоча, сваливая по дороге стулья, облетает вокруг стола и вносится в другую дверь залы.)
Михаил Федотыч (в дверях). Затолкают, прошу покорно. Затолкают живьем, как на Ходынке.
Барышня. Михаил Федотыч, берегитесь!
Кадет (с хохотом). Дорогу, дорогу!
Михаил Федотыч. Ишь разгулялись! Да не я ль вас собью? (Смеясь, загораживает собою вход, на него наскакивают, хохот, образуется давка, из которой он со смехом выбирается на балкон.) Где же Петрович? (Прикладывает руки к губам рупором, кричит.) Алек-сандр Петрович!!
(Из сада выбегает Николай Николаевич)
Николай Николаевич. Не кричите! Фу, ты, Боже мой! Сумасшедшая девочка.
Михаил Федотыч. Что такое? Милый мой?
Николай Николаевич. Наташа в пруд бросилась, вот вам и милый.
Михаил Федотыч. Да не может быть!
Николай Николаевич. Мы с Марьей Александровной гуляли… ну, я же и вытащил. Хорошо еще – скоро захватили.
Михаил Федотыч. Милый мой, что ж такое? (Хватая его за руку.) Да жива ль, жива?
Николай Николаевич. Ну, теперь там тьма народу… Да. Жива. Опоздай я на минуту… (Резко машет рукой.) Чуть сам не пропал с ней. А уж как плаваю. Фу, ты, Боже мой! Коньяк-то есть ли? Не могу. Напьюсь нынче. Да, жива. Пульс, ну… все как следует. (Из залы крики: «Анна Ефимовна, шестую! grand rond!».) И эти идиоты орут.
(Оба быстро и взволнованно уходят. Из зала снова вылетает молодежь, затопляет собой террасу, музыка бравурней, все быстрей темп, с визгом, хохотом несется второй grand rond, опрокидывая стулья, обрываясь местами Из сада бежит Фортунатов)
Фортунатов. Тише, господа, перестаньте, пожалуйста! Остановите музыку.
(Рояль заливается, цепь мчится быстрей)
IV
Зала с огромными окнами и дверью на балкон. Все растворено. Далекий вид за реку, в поля. День опаловый, слегка накрапывает дождь, но по временам выглянет солнце, тогда сияют старые золотые часы на подзеркальнике, светятся зеркала под тонким слоем пыли. Тихое благоухание лета.
(Тураев сидит в креслах, перед ним ходит Николай Николаевич, заложив руки за спину)
Николай Николаевич. В сущности, надо уезжать. Понимаю. Смущает болезнь Александра Петровича – а у нас и вещи уложены.
Тураев. Разумеется, ему будет это тяжело. Но и атмосфера здесь у нас нелегкая. Вы забываете, что Наташа едва оправилась. Фортунатов тоже Бог знает на что похож, хоть и крепится. Да и Елене Александровне было бы легче, я думаю.
Николай Николаевич. Вы говорите: у нас, у нас. (Улыбается.)
Тураев (смущенно). Да, я не имею права этого говорить, вы так точны и пунктуальны… (Встает.) Конечно, я в этой усадьбе чужой человек, но… да вы понимаете, я так часто здесь бываю… ну да, так тут много моего, я забросил земство, дела по имению…
Николай Николаевич (останавливаясь перед ним). Не надо говорить. Я же знаю. Пунктуален, точен. Я был педантом, Петр Андреич, а теперь я другой человек. Я когда-то любил Елену.
Тураев (морщится). Ах, не говорите. Этого вы не можете понять.
Николай Николаевич. Ну, конечно, не могу. Я теперь не могу понять, потому что принадлежу другой. (Резко.) А-а, свернет она мне шею, но и я… Я человек горячий. Тоже за себя постою.
Тураев. А по-моему, это счастье.
Николай Николаевич. Какое там счастье?
Тураев. Если женщина, которую любишь, свернет тебе шею.
Николай Николаевич. Разумеется! Вы мечтательный член училищного совета. (Подумав.) А может, вы и правы.
Тураев. Прав, конечно. Возвращаясь же к нашему разговору – я бы все-таки уехал на вашем месте.
Николай Николаевич. Марья Александровна то же говорит. А как уехать?
Тураев. Просто… бежать. Александру Петровичу скажем, что вы уехали в гости, потом что-нибудь придумать, что вас экстренно вызвали… и не говоря всего… кончить. Николай Николаевич. Да. Так.
Тураев. Велите запрячь пару в тележку, два чемодана… Марья Александровна может вас встретить за парком – и конец. Никаких прощаний не нужно. Оставьте письма, кому захотите.
Николай Николаевич (решительно). Верно. Вы способны дать хороший совет.
Тураев (с улыбкой). Да, только не по отношению к себе.
Николай Николаевич. Решаться, что ли? (Вынимает часы.) Сегодня в семь к поезду – и все сразу – конец. (Звонит.) Ладно, едем. Только никому, пожалуйста. Наташе, мужу – никому. Особенно Наташе. (Входит лакей.) К семи мне пару в тележку. Не запаздывать, прошу покорно.
(Лакей кланяется и уходит)
Тураев. Я Наташе не скажу, конечно. Но по-моему, это не подействовало бы так, как вы думаете. Она имеет вид много пережившего человека, перемучившегося.
Николай Николаевич. Мне жаль ее. Хорошая девушка. Почему-то меня полюбила… глупо! А Александр Петрович не встанет. Жаль старика, да что делать.
(Входит Елена Она видимо расстроена Садится на диван)
Елена. Папа заснул сейчас. А тут эта молодежь во флигеле… Положим, они приехали на два, на три дня и скоро уезжают… но уж у нас все так невесело… Этот… в воскресенье… доктор хоть и говорит, что при покое опасности мало, а я как-то смущаюсь.
Тураев. Как вы устали, Елена Александровна!
Елена. Да, еще, Николай: здесь Коля, ты знаешь, он нынче вернулся, и теперь они с Наташей отбывают обязанности гостеприимства. Но Коля просил поговорить с тобой. Он просит у тебя прощения. Николай, кончи это жалкое дело.
Николай Николаевич. Можно. Это все пустяки.
Елена. Да? Отлично. Петр Андреич, позовите его, он тут рядом, в комнате. Я на всякий случай взяла его с собой. (Тураев подходит к двери и зовет: «Коля». Коля входит.)
Тураев. Вот и он.
Елена (слабо). Ну, миритесь.
Тураев. Может быть, нам уйти?
Коля. Не надо. (Приближается к Николаю Николаевичу.) Николай Николаевич, я сделал гадость. Меня мучает это. Я прошу у вас прощения.
Николай Николаевич. Вздор. Вашу руку. (Жмет ее.) Вот и все. Драться-то, вообще говоря, не стоит, ну, что поделаешь. Я сам раз дал по физиономии. Да и тут, в этой усадьбе такая путаница, что никто ничего не разберет.
Коля (мрачно). Просто я был подлец. Человеческая личность священна. Я оскорбил ее, пошел против своих же принципов. Это гнусно.
Николай Николаевич. Забудьте.
Коля. Нет, всего не забудешь! (Елене.) Тетя Елена, отчего все так странно выходит? Ты меня помирила с Николай Николаичем, а в сущности лучше бы было, если б я вызвал его тогда на дуэль, и он убил бы меня.
Елена. Вот и ты, Коля, думаешь все, Бог знает, о чем.
Коля. Наташа храбрая. Она как мужчина сделала.
Тураев. Но позвольте, почему же все должны лишать себя жизни, убивать, топиться? Я никак не пойму.
Коля. У кого в глазах видна смерть, должен встретить ее смело.
Тураев. Но если так рассуждать, то придется чуть не всем нам…
Коля. Что ж, дерзайте. Неужели покориться слепой жизни?
Тураев. Не то, чтобы покориться, – но принять страдания жизни… любви.
Елена. В людях очень молодых, Тураев, чувства бурней, непосредственней наших. Вы не докажете им, что на человека возложено некое бремя, может быть, не от мира сего. Страсти зовут их в бой.
Тураев (горячее). Да, но мы – мы, быть может, не менее их страдаем – и должны же мы все-таки сказать им нашу правду о жизни.
Елена (наигрывает). Да, конечно. Только они будут поступать по-своему.
Николай Николаевич. Что касается меня, я больше согласен с Колей, чем с вами.
Елена. Разумеется.
Тураев. Нет, вы не правы. Жизнь есть жизнь – борьба за свет, культуру, правду. Не себе одному принадлежит человек. Потому и в горе… надо, чтоб он был выше себя, выше счастья.
Коля. Может быть. Не хочу сейчас спорить. Николай Николаич, пойдемте, помогите мне занимать этих гостей моих, если правду на меня не сердитесь. Сыграем, что ли, в теннис.
Николай Николаевич. Идем. Пусть они философствуют.
Елена. Только подальше от дома, ради Бога. Все же помните: папа болен. (Вздыхает.) И по моему – серьезно.
(Коля с Николаем Николаевичем выходят, Елена по-прежнему наигрывает на рояле. Некоторое время молчание)
Елена. Как расцвел мой муж! Вот она, любовь. Он посредственность, самый средний человек из средних, а глядите: он теперь другой.
Тураев. Да. Они едут сегодня. По моему совету. Чуть ли не тайком, в тележке, чтобы не расстраивать никого, Александра Петровича не беспокоить.
Елена. Так. Это хорошо.
Тураев. Они едут, мы остаемся. (Встает, подходит к ней.) Елена Александровна!
Елена. Да.
Тураев. Можно вам сказать одну вещь?
Елена. Говорите, друг мой.
Тураев. Ну… ответьте мне. Но только так уж… по совести. Вы знаете, что я вас люблю?
Елена (закрывает рояль, опускается лбом к его крышке). Знаю. (Протягивает ему руку.) Милый мой, милый мой. Мне нечего вам сказать.
Тураев. Я, ведь, знаю, вы любите другого. Но вы так прекрасны! Я не могу вам не сказать этого. Мне как-то жутко с вами, я все больше молчу, или если говорю, то пустое. Это потому, что если буду говорить вот так, как сейчас, то не выдержишь, ведь.
Елена (сквозь слезы). Боже мой, Боже мой!
Тураев. (целует ей руку.) Светлая моя заря, чистая заря.
Елена (чуть-чуть улыбается). Ах, Тураев, разве теперь говорят так? вы отживающий тип…
Тураев. Пусть отживающий. Я так чувствую.
(Входит лакей с почтой.)
Лакей. Газеты-с, повестка и заказное.
Елена. Сюда давайте. (Берет письмо.) А, Энгадин. От наших. (Читает про себя.)
Тураев. Может быть, в вашей усадьбе, где есть масонские книги, Венера восемнадцатого века, бюст Вольтера – все пережиток. И лакей этот пережиток. Ну, и я тоже.
Елена (оживленно). Слушайте! Это письмо от Ксении. (Читает вслух.) «Дорогая Елена, я немного безумная, так я счастлива. Третьего дня мы встречали утро в горах, у снеговых вершин. Было розово, прозрачно, и так тихо, что казалось, будто весь мир внизу, видимый так беспредельно далеко, отошел от нас совсем. И когда я вспомнила всех вас, мне вдруг стало так больно за вас, и так стыдно за свое счастье. Потом мы вернулись, и дома я читала Евангелие. Я думала о жизни, о счастье, и неожиданно мне стало казаться, что стыдиться счастья нечего. Не так же ли оно священно, Елена, как и горе? Ах, я хотела бы видеть сейчас тебя, говорить с тобой: может быть, то, что я написала, неправда, и я стараюсь просто оправдаться?» (Елена опускает письмо.) Нет, оправдываться не в чем. Ну, конечно, она права: «Счастье священно так же, как и горе».
Тураев. Помните день, когда она пришла из полей с золотистым отблеском в лице, и Наташа назвала ее «золотой королевой». Это был день их обручения.
Елена. Вот оно счастье и есть! (Встает, прохаживается.) Рядом с ними – с вами, со мной, жизнь выращивает нежные цветы и на них изливает всю силу радости. Вы думаете, Тураев, я завидую? (горячо). Нет, я клянусь вам: нет. Наоборот, меня радует это… очень, очень. Значит, говорю я себе: не оскудела еще рука дающего. (Останавливается у двери; удивленно.) Боже мой, папа? (Из другой комнаты голос: «Ну да, да, что ж удивительного». Входит Ланин, очень медленно, опираясь на палку и на плечо Наташи.)
Ланин. (Он сильно изменился, осунулся и ослаб.) Вот и пришел, старик плантатор. Медики говорят: двигаться нельзя, а я взял и вышел. Скучно мне лежать, Елена. Я б хотел пройтись по дому, и даже, и даже… (Начинает волноваться.) Где моя шляпа соломенная, Елена?
Елена. Шляпу я найду, да куда ты хочешь, скажи пожалуйста?
Ланин. Заснул сейчас немного, и во сне видел Наденьку. Так вот я хотел бы да…
Елена. Папа, милый, вам нельзя же.
Ланин. Знаю, знаю. И все-таки… ну, пойду. Не говори мне пустого.
Елена. Да тогда вас можно в кресле докатить.
Ланин. Не хочу. Я не грудной младенец… в колясочке.
Тураев. Александр Петрович, ведь, сейчас и дождик начался. Перестанет, тогда пойдем, я берусь вас провести.
Ланин. Дождик. Это неприятно. Да вы все хитрые, я понимаю. Вот Наташенька бы меня и без дождика провела. Хорошо, переждем. Так обещаешь меня доставить, Андреич?
Тураев. Непременно.
Ланин. Так, так. (Берет газету.) А-а, почта. Новенького нет ли?
Елена. Папа, письмо от Ксении, из Швейцарии.
Ланин (сразу проясняется). Да ну! Это мне приятно. И хорошее письмо?
Елена. Очень, папа. Она страшно, страшно счастлива.
Ланин. Вот уж это хорошо. Слава Богу. Рад за Ксюшеньку. И вернутся скоро?
Елена. Этого не пишет. Ведь, они предполагали на полгода.
Ланин. А ты ей напиши, чтобы точно ответила. (Вздыхает.) Вот это вот хорошо, что она счастлива. (Еще тише.) Этому, Елена, я весьма рад, скажу прямо. (Пауза.) Я теперь стал что-то подолгу задумываться: сижу, и думаю… точно вперед заглядываю. И все так выходит, что тебе, Елена, и Наташеньке… да, вы хорошие очень дети… только вам как-то выходит хуже, а Ксении получше. Может, это я из ума уже выживаю, но так мне мерещится. Потом еще эта барыня… Марья Александровна – тоже огневая. Эта сокрушит многих.
Елена. Ах, папа, вы меньше думайте! Вам надо лежать тихо, и смотреть, как солнце светит, как цветы растут.
Ланин. Я и делаю так, милый друг. Я стараюсь. Мне вот Наташенька – радость, я бы ей что-нибудь помогал учиться… Ну, там какие-нибудь переводы, по истории… Жалею, что нет детей совсем малых… мне это все доставляет большую радость. (Тураеву.) Вот бы вас женить, что ли, Андреич, вы бы со своими детишками тут около меня толкались.
Тураев. Я стар, Александр Петрович.
Ланин. Ну да, да, стар, рассказывайте!
Елена. Слушай, папа, а тебе не мешают гости? Молодежь приезжая? Они так шумят, я просто не могу их унять.
Ланин. Племя молодое, незнакомое? Нет, нисколько. Пусть погалдят. В мое время играли в petits jeux[21], теперь разные футболы. Что ж, если им нравится, пусть и футболы.
Елена. Они нынче чуть не с утра беснуются. (Подходит к балконной двери.) Вот теперь все сюда валят. (На балконе шум, видны гимназисты, кадет, барышни.) Тише, тише, здесь дедушка, нельзя шуметь.
Ланин. Елена, пусти их, пусти. Я чувствую себя недурно.
Кадет (в окно). Здравствуйте, Александр Петрович, как ваше здоровье?
Ланин. Здравствуй, воевода. Ну, идите сюда! Елена (в дверях). Только, пожалуйста, тише, очень вас прошу.
(Вваливается вся компания, с ними Коля, Николай Николаевич, Марья Александровна. Голоса: «Здравствуйте, дедушка, да вы совсем здоровы! А говорят, вы больны. Мы-то беспокоились».)
Ланин. Племя молодое, незнакомое. Ну, как футбол?
Кадет (указывая на гимназиста). Он в голкиперы не годится, продули, конечно!
Гимназист. И совсем я ни при чем. Надо лучше бить. А беки такие возможны? Посмотрели бы у англичан.
(Отходят, споря.)
Ланин. Елена, сыграй им, пусть бы потанцевали.
Девочка. Господа, вальс, дедушка разрешает. Вальс!
Елена. Хорошо, пускай. Я буду играть негромко, и вас тоже прошу: ради Бога, не очень свирепствуйте.
Ланин. Ну, чего там! Марья Александровна, и вы, прошу покорно.
Марья Александровна. Если позволите, я с удовольствием. (Тише.) Только мне б как раз темп побыстрей.
Ланин. Я вас знаю! А вы повинуйтесь.
Гимназист. Вальс, вальс! (Подлетает к барышне.)
(Елена играет, пары вступают в танец. Ланин постукивает в такт ногой.)
Ланин. Браво, браво, браво! Господин кадет, покойнее. Козлуете, батюшка. Коля, ты чего ж?
Наташа. Коля, я тебя приглашаю на тур.
Коля (улыбается печально). Что ж, идем. Танцы глупость… конечно, если хочешь…
(Танцуют некоторое время)
Ланин. А по-моему танцы отличная вещь. Как-никак, много красоты.
Тураев. Я люблю, тоже.
Ланин (вдруг утомленно). С удовольствием поглядел бы еще, да вот все… (откидывает голову на спинку кресла). Туман, знаете ли, какой-то, в голове… сердце плохое. Плохое сердце. И как будто все начинает плыть.
Тураев. Елена Александровна, довольно.
Елена (оборачивается). Ну, я же говорила. (Перестает играть.) Папа, сделай мне удовольствие, пойди, ляг.
Ланин (довольно слабо). Ах, да, да… Я сам знаю. Жаль, ведь, уходить-то. Смотри, вот все славные дети, солнышко опять засветило… Да, но надо, конечно.
(Танцы кончились – голоса: «Дедушка, давайте, мы вас проводим. Обопритесь на меня. Крепче, не стесняйтесь. В спальню?» Куча молодежи, окружая его, поддерживая, сопровождает до двери. Марья Александровна и Николай Николаевич остаются, также Коля.)
Елена. Положение папы серьезно. От каждого волнения, сильного движения может быть кровоизлияние, и тогда…
Марья Александровна (быстро подходит к ней). Елена Александровна, вы знаете?
Елена. Ах да, насчет вас?
Марья Александровна. Да. Мы сегодня едем.
Елена. Знаю.
Марья Александровна. Мы решили вещи пока здесь… оставить. Берем мелочи, все уложено уже в тележку. Мы не будем ни с кем прощаться, только с вами. Выйдем за парк, как бы для прогулки… Мы идем сейчас. Седьмой уже (вынимает часы). Фортунатова я не хотела бы видеть. Ну, так, хорошо. (Взволнованно.) Я приехала, много зла, кажется, внесла в эту усадьбу. Паниных, но уж значит так вышло…
Елена. Значит, такая ваша судьба. (Николаю Николаевичу.) Прощай и ты, мой муж. Было когда-то время и для нас с тобой, было, да прошло. Теперь ты давно уже мне чужой. Но о прежней любви… что ж, сохраним хорошие воспоминания.
Марья Александровна (возбужденно). Мне и жутко, и радость какая-то есть. Здесь, у вас повернулась моя жизнь. Была я мирной профессоршей, а теперь надо забыть все это. Ну, прощайте. (Жмет руку Тураеву, быстро выходит. В дверях): Николай, сейчас надену шляпу, зонт возьму, плед. Ты аккуратно заказал тележку? К семи?
Николай Николаевич. Да. Иди. (Марья Александровна исчезает. Николай Николаевич задерживается на минуту.) Ну, Елена?
Елена. Ты про что?
Николай Николаевич. Сгубит меня эта женщина?
Елена (молчит). Не знаю. (Тихо). Может быть.
Николай Николаевич. Все равно. Едем. (Кланяется, быстро идет к выходу). Разве мы в своей власти? (Исчезает.)
Тураев. Развязка.
Елена. Да. И… пора. Надо услать отсюда Фортунатова.
Тураев. Надо. Только меня не усылайте. Я, ведь, вам, Елена Александровна, мешать не буду.
Елена. Боже мой, конечно. Я уж что… Они (указывает на дверь, куда ушли Николай Николаевич и Марья Александровна) еще надеются. Но… не я. Так, хорошо. Где Фортунатов?
Тураев. Все это время у себя, во флигеле. Что-то работает.
Елена. Милый мой, позовите его.
Тураев. Вы… сами скажете?
Елена. Да.
Тураев (пожимается). Ну, хорошо. Иду.
(Из дверей, куда ушел Ланин, возвращается молодежь С ними Наташа. Стараются идти без шума)
Гимназист. Александр Петрович лег.
Барышня. Все-таки, какой он бледный, Елена Александровна.
Елена. Ну, хорошо. Господа, дождь перестал, можете идти теперь в парк, или куда-нибудь. Чай будет в семь, на террасе.
Кадет. Господа, поедемте на лодке. Софья Михайловна, как вы находите?
Барышня. Отлично. Поедем по пруду, будем петь хором, Наташа, вы с нами?
Наташа. Нет, благодарю. Я останусь.
Барышня. Ах, жаль… Ну, как хотите.
(Уходят в балконную дверь)
Наташа. Не пойду я с ними. Устала. (Опускается около кресла на пол.) Не хочется. Я с тобой побуду, мама.
Елена (садится в кресло и обнимает ее). Хорошо, Наташа, ты сделала. Мы так давно вместе не были.
Наташа. Давно, мама. Чуть не все лето.
Елена. Милая девочка моя… милая девочка (гладит ее по волосам и целует).
Наташа. Как ты думаешь, мама, почему это?
Елена. Ах, Наташа, я все хотела с тобой говорить. Это лето было такое странное, и тяжелое.
Наташа. Ты тоже, мама, много страдала.
Елена. Мой друг… я была плохой матерью. Ах, я часто казнилась, но все не могла к тебе подойти.
Наташа (кладет ей голову на колени). Ты меня не разлюбила, мама? Мне было так страшно. Вдруг и мама меня не любит? (Елена плачет и ласкает ее.) Ну, конечно, нет, я понимаю. (Пауза). Мама, он уезжает сегодня? Я слышала, что велели запрягать Атласного и Кобчика. Я поняла все. С ней?
Елена. Милая моя, милая, зачем говорить…
Наташа. Ничего, будем говорить. Я теперь стала спокойная, мама. Тихая девушка вроде Ксении. Правда. Я столько намучилась, что теперь на меня нашел какой-то покой. Так мне кажется странным, зачем я тогда на себя покушалась. Все это было каким-то наваждением.
Елена. Это первая гроза твоей жизни, дитя.
Наташа. Да, первая. Знаешь, я сегодня была у этой статуи… Венеры. Может быть, она навела на нас все? Ну, хорошо. И все-таки, я ей поклонилась, поплакала, перечла надписи влюбленных, – и в сердце поблагодарила за счастье, которое дала мне эта любовь. Ты меня понимаешь, мама?
Елена. Да. Понимаю. (Вздыхает.) Ты так молода и так говоришь. Горе сделало тебя серьезной.
Наташа. Мама, я переживала минуты такого восторга, что, ведь, это… это уже навсегда останется. А что мне не вышло в конце счастья, что же поделать. Оно не всем дается.
Елена. Не всем.
Наташа. Что же надо теперь делать?
Елена. Жить, Наташа. Жить ясной и честной жизнью, – потому что на счастье надеяться нельзя. Вон как Петр Андреевич говорил здесь Коле: принять надо жизнь, нести бремя, данное нам, твердо.
Наташа (улыбаясь). Это Тур так говорил? Коле?
Елена. Да. Потому что, видишь ли, жизнь пестрая вещь, как будто большая комедия: одни родятся, другие умирают в это время, одним Бог дает радости много, другим – мало. Я сегодня получила письмо от Ксении. Вся она полна счастьем своим. И Николай, и Мария Александровна идут за счастьем. И та молодежь ликует. Значит, все так пестро и перепутано. И движется жизнь вот так-то.
Наташа (целует ей руку). Мама моя! Ты несчастна, тоже.
Елена. Ну, несчастна… Мужества, Наталья. Мужества.
(Некоторое время стоят прижавшись. Затем Елена тихо наигрывает вальс Наташа слушает, потом мечтательно начинает вальсировать. У балконной двери останавливается. В небе встала громадная радуга, и сквозь мелкие, блестящие пылинки дождя светит солнце вечера)
Наташа. Мама! Радуга! Бог дал радугу в знак мира. Елена (встает и подходит). Да, радуга, это мир. (Снова стоят обнявшись.)
(В дверях появляется сиделка.)
Сиделка. Елена Александровна!
Елена. А? Что вы?
Сиделка. Пожалуйте к папаше.
Елена. А? А?
Наташа. Дедушка? (Обе выбегают.) (Некоторое время сцена пуста. Потом входят Тураев и Фортунатов.)
Фортунатов. Как ни хороша, ни мила усадьба Паниных, все-таки я должен, к сожалению, уехать. Въезжая, весной, я чувствовал, что здесь что-то, так сказать, изменится в моей жизни. И мне представились ауспиции местных божеств благоприятными. Вышло не так, но наши судьбы не в наших руках, повторяю, надо повиноваться. – Да взгляните, какая радуга!
Тураев. Дивно. Что за запах из сада! (Далеко, с пруда, доносится смех и потом молодые голоса затягивают хором песнь.) Это наши катаются на лодке.
(Из комнаты Ланина пронзительный крик Елены.)
Фортунатов. Что такое?
(Тураев молчит, вбегает взволнованная сиделка.)
Сиделка. Александр Петрович скончались.
(Фортунатов и Тураев молчат. Солнце светит, радуга сияет в небе и с пруда слышней и стройней пение молодежи. Тураев крестится.)
Пощада*
Пьеса в 3-х действиях
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Коновалов, Федор Алексеевич.
Елена, его жена.
Таня, родственница Елены.
Андрей, сын Коновалова от первой жены
Похитонов, Семен Семенович, служит на бегах
Марья Алексеевна, сестра Коновалова, замужем за Похитоновым.
Женя, дочь Коновалова и Елены.
Саша Гаммер, молодой человек.
Действие первое
Сад при особняке, в Москве. Налево угол дома с террасой. Прямо вниз спускается аллейка, в просвете которой видна Москва. Июнь, воскресный полдень. Вдалеке слышен благовест.
У стола с летней мебелью сидят Коновалов и Таня. Коновалов плотный, немолодой человек Лицо усталое и хмурое. Таня, девушка лет восемнадцати, очень просто одета У ней русые волосы, свернутые на затылке косами. Светло-синие глаза. Она немного прихрамывает. В руках молоденький грач, несколько помятый.
Таня (гладит его). Какой смешной! Рот разевает.
Коновалов. Ты его замучишь, Татьяна.
Таня. Ничего не замучу. Напротив, я его нынче спасла. Мухтар совсем было его цапнул, да я отбила. Он чуть-чуть только перелетывает.
Коновалов. Сколько я тебя помню, ты всегда любила возиться с разными дохлыми цыплятами, слепыми щенками. Помнишь, филин у вас с Андрюшей жил в избушке. Его еще потом Говорушка загрызла.
Таня. Я сама хроменькая, так и люблю убогих.
Коновалов. Ну, ты вовсе не убогая. Это, кажется, уж и я доказал.
Таня. Что меня полюбил? (Задумчиво.) Да, удивительно все это вышло.
Коновалов. Так оно и бывает всегда в жизни: удивительно.
Таня. Я как-то и не заметила, как из девчонки стала взрослой, а потом в тебя влюбилась. Чудно! Ты всегда мне был дядей Федором, – хоть не родным, но почти. Я тебя немного боялась, а потом… вот потом это все и случилось.
Коновалов. Я только думаю, что в доме уже знают о нас.
Таня. Пускай знают. Мне скрывать нечего. Если б ты с тетей Еленой был близок, тогда другое дело. А ведь вы давно чужие.
Коновалов. Да, конечно. Я только к тому, что в нашем доме всегда много сплетен, гадости.
Таня (оглядывается на дом). Я сирота, здесь выросла, почти как дочь, но правда, не люблю я вашего дома.
Коновалов. Подумаешь! Кто ж его любит?
Таня (горячей). Мне только всегда непонятно было: как ты, такой человек… можешь с ними жить? Вокруг тебя пошлые, ничтожные люди. Тетю Елену ты почти презираешь. И все-таки… ты как будто из их компании.
Коновалов. Я служу в правлении Елениной фабрики. Что я такое? Я и есть из их компании.
Таня. Ах, оставь. Это ты нарочно говоришь. Я ведь вижу, что тебе плохо. И ты себя нарочно изводишь, чтоб еще хуже было.
Коновалов. Ты меня не так видишь, как я есть. Больше ничего. Оттого, что любишь.
Таня. Ну, не думай. Я тебя лучше знаю, чем, может, кажется (прижимает грачонка к груди. В голосе слезы). Я тебя… не так люблю, как ты меня. Ты мало. А я – всего, целиком… (Хочет поцеловать ему руку.)
Коновалов (встает). Брось, что ты. (Прохаживается. Мягче.) Ты праведница, прелестная. (Подходит сзади и гладит ее по затылку) Ты самая отличная в нашем доме. Живешь в антресолях, ближе всех к небу. Елена сделала правильно, что тебя туда поселила. Правильно, но обидно для других.
Таня. Я самая обыкновенная девушка.
Коновалов. Ты должна была полюбить не меня, другого. Молодого, чистого человека. Например, как Андрея.
Таня. Андрей мне почти брат. Я его очень люблю, но по-другому.
Коновалов. А я Андрея почти боюсь.
Таня. Почему?
Коновалов. Да, все равно. Могу сказать. Андрей – сын моей первой жены.
Таня. Так что ж?
Коновалов. Он особенный юноша.
Таня. Да.
Коновалов. Бывает так, что и любишь… и… черт, не могу сам в толк взять.
Таня. Я тоже плохо понимаю, как ты к нему относишься. Знаю только – в этом доме он очень чужой.
Коновалов. В нем Наталья есть, покойная жена. И я сам – такой, как раньше был. Ты знаешь: не всегда я жил в том обществе, как сейчас.
Таня. Ты редко со мной говоришь. Я ничего не знаю.
Коновалов. Теперь мне самому трудно поверить, а между тем, это было. Жена моя чем-то походила на тебя.
Таня. Только она не хромала.
Коновалов. Даже имена ваши простые, русские. Я же был другой. Во-первых, я худой был. Давал уроки, готовился стать ученым. Русскими древностями занимался. Разве мы стали бы жить в этой стороне? Мы жили на Арбате. Ну, что рассказывать!
Таня. Нет, уж начал, так дальше. Я очень ясно твою жену представляю. Красавица, кроткая.
Коновалов. Наталья умерла – дико, от дизентерии. Я остался с Андрюшей. Тут вскоре мне встретилась Елена – и все пошло прахом. Она была тогда нервная, взбалмошная девушка – тоже далеко не то, что теперь. Должно быть, ее эксцентричность на меня подействовала. Мы сошлись, женились. Видишь, что вышло. Скоро появилась дочь, Евгения. К ней я как-то до сих пор не привыкаю. Точно чужая. (Пауза.) Все мои древности пошли прахом. Забелин один на полке остался. Я стал богат, мы в этот дом переехали. Мне дали место в правлении, где я ничего не делаю. Езжу по скачкам, кабакам. Не жизнь, а масленица.
Таня. Да, уж правда. Чувствую я эту масленицу.
Коновалов. И в конце концов – вовлек тебя еще в любовную историю (качает головой).
Таня. Знаешь, у меня есть желание. Большое. Только сказать стыдно.
Коновалов. Ну?
Таня. Очень неловко. (Конфузясь.) Я б взяла несколько своих книжечек, кошку любимую, вот этого грача бы мы захватили… и с тобой вместе – вон из этого дома. Куда-нибудь на край света. Наняли б две комнатки, и жили бы.
Коновалов. Очень мило. У вас, женщин, есть эта черта. А уж особенно у русских. Фантазерок.
Таня. Ты бы совсем другой стал. Не хандрил бы, не раздражался. А то тебе все будто стыдно чего.
Коновалов (напевает).
«Пус-кай погибну я, но прежде, я в обольстительной на-адежде…»Таня. Ну вот, ты смеешься. Но почему ж серьезней не хочешь взглянуть? Если правда недоволен, почему все в шутку оборачиваешь?
Коновалов. Хорошо, не буду. Но по-моему, все скоро само изменится.
Таня. Трудно с тобою говорить.
Коновалов. Прости, не буду. Скажи мне лучше о них. Об Елене, Андрее.
Таня (сидит, опустив голову. Отвечает не сразу). Я не могу тебе сопротивляться. (Пауза. Другим тоном.) У тети Елены, по-моему, какие-то истории. А Андрей… он очень страдает.
Коновалов. Что с ним?
Таня. Он мне почти ровесник, но я как-то старше. Мне видней. По-моему, он на распутье. Сам не знает, как жить. Кроме того, еще есть одна штука. Ты опять смеяться будешь. Он, по-моему, любит.
Коновалов. Чего ж мне смеяться? Ничего удивительного.
Таня. Не то что полюбить, а кого…
Коновалов. Прямо ты меня за нос водишь.
Таня. Нет, ей Богу… Все равно, скажу, это верно: меня.
Коновалов. Д-да-а!
Таня. Вот ты и удивился, что меня мог Андрюша полюбить.
Коновалов. Он что ж тебе, сказал?
Таня. Нет, я и так знаю.
Коновалов. Это сильно меняет дело.
Таня. То-то и меняет.
Из глубины сада выходит Андрей, молодой человек в сереньком костюме.
Андрей. Я думал, отец, ты там (указывает по направлению аллеи), у Москвы-реки.
Коновалов. Да, мы сидели в наполеоновской беседке. Там славно, но душно.
Андрей. Я тебя искал вот зачем: пришла одна женщина, жена служащего в нашем правлении, которого уволили. Ее сын учится в гимназии, где я кончил. Я его знаю. Она просит, нельзя ли чего для отца сделать.
Коновалов. Его отец мог попасть под суд. Да и следовало. Если бы не я, быть ему в арестантских ротах.
Андрей. Вот как!
Таня. Просто удивляюсь, сколько везде историй. Нынче читала в газетах: на ипподроме скандал. Проклятущие деньги! Еще мне как-то неприятно стало. Там и наш Семен Семеныч служит.
Коновалов. Служит, служит, как бы до чего не дослужился. Андрей. А ведь приятель твой.
Коновалов. Из того, что он женат на моей сестре, еще ничего не следует. Я всегда на Машу удивлялся, как она с ним живет. Впрочем, (смотрит на Таню) она тоже русская женщина. Наверно, собиралась его спасать.
Таня. Это тебе смешным кажется, Федор.
Андрей (отцу). А мальчика, значит, все-таки из гимназии вон?
Коновалов. Значит, вон. Андрей. Так.
Таня. Можно мне поговорить с этой женщиной?
Коновалов (вынимает из бумажника деньги). Вот, отдай. Больше нечего тебе с ней говорить.
Таня уходит, одной рукой придерживая грачонка, другой опираясь на палочку.
Андрей. Ты меня стесняешься. Нечего стесняться, можно и не помогать.
Коновалов. Чего ты от меня хочешь? Что могу, делаю. Что же больше?
Андрей. Конечно, ничего. Все сделано как следует. Дурной служащий вреден правлению, ты не мог его оставить. А сердце доброе, пятьдесят рублей дал.
Коновалов. Было время, – ты был беленьким мальчиком. Я бегал для тебя на четвереньках, читал вслух Гоголя, делал корабли.
Андрей. Не говори мне об этом. Пожалуйста.
Коновалов. Я не могу не вспомнить того, что дорого.
Андрей. Это все пропало, забыто. Часть забыл и я сам. Я, отец, никого не виню, но вспоминать, все же, больно.
Коновалов. Да, и мне нелегко.
Андрей. Никого винить нельзя, а все-таки (горько) как скоро все забывается. Как скоро ты женился на Елене. (Резче.) Портрета моей матери в доме нет. Совсем нет.
Коновалов. Ты же знаешь, как к этому относится Елена.
Андрей. Боится. Ничтожная женщина, истеричка, развратная. Именно она такая, как тут пишут. (Вынимает из бокового кармана пару писем.)
Коновалов. Это… что?
Андрей. Я получаю анонимные письма. Надоело мне. Сперва бросал, а теперь вот, читай. Касается Елены, тебя, Тани.
Коновалов. Чего ж ты хочешь?
Андрей. Ничего. Просто, чтобы ты прочел.
Коновалов (берет письма). Черт знает. Тебя, чистого юношу, втягивают во всякие… (Читает.)
Андрей. Неизвестно еще, чистый я, или нечистый.
Коновалов. Кажешься серьезным и чистым.
Андрей. Во всяком случае, о моей жизни ты ничего не знаешь. Как и я о твоей.
Коновалов (бросает письма). Мерзость. (Сыну). Ну, может быть, не совсем ничего.
Андрей. Не настолько мы близки, отец.
Коновалов. Все-таки, кое-что знаю.
Андрей. Что ж именно?
Коновалов. Что хочешь уйти от нас, что у тебя обширные планы будущего.
Андрей. Планы, планы. Я вовсе не об этом хотел сказать.
Входит Таня.
Таня. Она благодарит тебя, Федор.
Слышен рожок автомобиля, за сценой некоторый шум, голоса.
Коновалов. Благодарить меня не за что, это вздор.
Таня (взглядывает через забор). Наши вернулись. Что-то нынче скоро.
Андрей (отцу). Я бы еще хотел…
Коновалов. После.
Входит Елена Она худощава, с нервным, неправильным лицом. Как будто весела, но больше взвинченна. Неуверенна. В движениях, взглядах есть беспокойство С ней Похитонов, ослабленный человек лет сорока. Одет небрежно. Довольно тощ и неосновательно скроен. Женя – совсем молодая девушка в короткой юбке, несколько загорелая, ходит крепко и легко. Саша Гаммер – юноша в канотье, в белых штанах. Оживленно болтают.
Елена. Жалею, что тебя с нами не было, Андрей. Автомобиль, это такой восторг. Сеня говорит, что новая машина развивает до ста километров. Наверно, правда. Мы были в Сокольниках. Когда летели по проспектам, дух захватывало.
Похитонов. А ты заметила, Еленочка, как на поворотах – дж-ж-ж… выносило вбок? Момент, и нет тебя. Но я, сознаюсь, об этом не думал. У меня была с собой баночка Мартеля, которая мне не изменяет. (Похлопывает рукой по фляжке, висящей через плечо.)
Елена. Я слезла с машины полупьяная, от одного воздуха. Мне коньяк твой не нужен.
Гаммер. Вне граунда нет опьянения. Кто не играет в теннис, тот ничего не понимает в опьянении.
Женя. Все-таки, Кранц может с Мишей сделать файфсикс.
Гаммер (презрительно). Силуэты!
Елена. Они помешаны на своих геймах!
Коновалов. Ты очень весела, Елена.
Елена. Да, очень. А кажется, здесь все весьма серьезны. Мы точно не к месту.
Похитонов. Это ничего, пустая видимость. (Отвинчивает головку фляжки – в виде чарочки – и наливает.) Будем пить, пока живы. А там посмотрим. Если ж задаваться на умности, так и не заметишь, как жизнь фи-тю-тю. (Пьет.)
Гаммер. Я бы тоже не отказался от глотка.
Похитонов (наливает ему). Разумно.
Гаммер. Говорит о Кранце и Мише, как о заметных фигурах на наших кордах! Просто изумляешься.
Похитонов. Так же и у нас на бегах: есть свои короли, и есть ничтожества.
Коновалов. Правда, говорят, у вас истории? Кого-то под суд отдают.
Гаммер. Уж не вас ли, господин Похитонов?
Похитонов. Неприятности? Под суд? Не слыхал. Наверно, газетчики наврали. Это продажный народ, бутербродники.
Входит Марья Алексеевна. Довольно высокая, худощавая дама за тридцать. Одета скромно.
Марья Алексеевна. Все уже в сборе. И Семен, и коньяк. Все как следует (обнимает Елену). Здравствуй, Еленочка.
Елена (рассеянно). Здравствуй. (Марья Алексеевна целует Таню, примостившуюся в сторонке.)
Марья Алексеевна. Ну, а мы как, Гретхен? Читаем, фантазируем? Возимся в оранжерее?
Похитонов. Прибыла та, мизинца которой я никогда не был достоин, и не буду. Коньяк прячется.
Гаммер (целует ей руку). Madame Pokhitonov, nee Konovalov. Барон Гаммер.
Марья Алексеевна. Знаю я тебя, барона.
Гаммер. Po-khi-to-nov! Звучная фамилия. Можно подумать, что это наш посланник в Буэнос-Айресе. А он всего на бегах служит.
Таня. Тетя Маша, вы меня б как-нибудь взяли с собой, в попечительство.
Марья Алексеевна. Тебе, пожалуй, трудно будет (как бы спохватившись). Конечно, пойдем.
Елена. Благотворительность, благотворительность!
Марья Алексеевна. Над нами много подтрунивают. Конечно, это капля.
Гаммер. Голодные силуэты должны умирать. Закон.
Марья Алексеевна (Елене). Между прочим. Я нынче утром была на Немецкой. По этим же делам. И видала там – тебя. Ты меня не заметила.
Елена. Моя портниха переехала на Немецкую.
Марья Алексеевна. Ты шла с каким-то высоким господином. Брюнет, не русский тип.
Елена. Это муж портнихи. Он меня провожал.
Женя (Гаммеру, смеясь, вполголоса). Мама все врет, я знаю.
Гаммер (делает жест, как бы ракеткой). Бекенд, но неудачный.
Женя (громко). Люблю темные истории! (Андрей выходит, пожимая плечами.)
Елена (резко). Что ты там болтаешь, Евгения? Какие темные истории?
Женя. Это я так, пустое. (Вынимает часы.) Да, мать, имей в виду, что в двенадцать придет мой фехтовальщик. Я должна переодеться, позавтракать.
Елена. Превосходно. Я сейчас же полечу торопить тебе завтрак!
Марья Алексеевна. Когда я проходила, еще не накрывали.
Таня. Я пойду, скажу, чтоб поскорей. (Уходит.)
Похитонов. Хотя Марья со мной не согласна, я полагаю, что самое мудрое – пить коньяк.
Женя (подходит и берет его под руку). Послушайте, вы, господин аргентинский посланник, не угодно ли вместо коньяку пройтись перед завтраком к реке? Берите супругу. С нами Гаммер, и идем. Там бродит где-то наш Андрей. Вернее, угрюмый Антоний.
Похитонов. Почему Антоний-с?
Женя. Свирепый пустынножитель. Он нас презирает.
Марья Алексеевна. Он просто серьезнее вас. (Встает, чтобы идти.)
Похитонов (жене). Руку!
Марья Алексеевна. Нет, я с Таней хочу поговорить.
Похитонов, Женя и Гаммер спускаются по аллейке вниз Марья Алексеевна уходит к дому.
Гаммер. Всякие пустынножительства – это устарело. Если силуэт станет монахом, он погиб.
Коновалов. Черт знает, что за слова нелепые. Силуэт!
Елена. Просто он людей называет силуэтами. Отчасти даже верно.
Коновалов. Это что ж, кавалер Евгении?
Елена. Да. Их спорт сближает.
Коновалов. Ну и ты, конечно? Тоже сближаешь?
Елена. Если что-нибудь дурное делается, то это всегда я.
Коновалов. Да пускай сближаются. Мне все равно.
Елена. Если б Андрея касалось, не было б все равно.
Коновалов (очень холодно). Андрей совершенно другое дело. Тут и общего нет.
Елена. О, конечно. Я не смею претендовать. Андрей особенный, необыкновенный. Кроме того, он сын Натальи.
Коновалов. Этого нам не следует касаться.
Елена. Андрей меня всегда не любил. И теперь не терпит. Я хотела его сейчас поцеловать, – он отвернулся, как от зачумленной. Отчасти понятно. Я ему мачеха.
Коновалов. Меня Андрей назвал сегодня фабрикантом, блюстителем честности. Что я мог ответить? Я и есть покупной директор правления.
Елена. Как покупной?
Коновалов. Так. Много лет тому назад ты купила меня. Я тебе и Андрея продал.
Елена. Что ты говоришь? Прямо с ума сошел, кажется?
Коновалов. Нет, с ума я не сходил.
Елена. Как же не сошел? Восемнадцать лет прожил, и вдруг решил, что его купили.
Коновалов. Я и раньше так думал. А теперь стал особенно думать.
Елена. Почему ж это теперь?
Коновалов. Есть причины.
Елена. Это что ж за причины?
Коновалов. Ну, тебе все равно.
Елена (встает). Скучный, мрачный человек. Всякие таинственности, упреки. Я его купила. Скажите пожалуйста. Какой бриллиант. Ну, конечно. В нашей жизни есть ложь, мерзость.
Коновалов. Да. Ты много лжешь, я чувствую.
Елена. Разумеется. Как и ты. Это все глупости. С тобой тяжело (вздыхает). Тоска, тоска. Не с кем слова сказать. С Похитоновым философствовать? (Нервно ходит взад и вперед.) Вздор, понятно, что на автомобиле было весело. Хорошо. Что же это за причины, что ты вдруг о жизни задумался? Уж не Танечка ли? (Хохочет.) Я его поддела! Я знаю за тобой кое-что, господин покупной директор!
Коновалов. Шпионишь?
Елена. Нет, врешь, не шпионю. Но кое-что знаю.
Коновалов. А я тоже знаю, что на Немецкой ты была нынче не у портнихи.
Елена гневно ударяет кулаком по столу.
Входит Андрей.
Елена. Еще один вздыхатель.
Андрей. Это ты… про меня?
Елена. Да! Про тебя.
Андрей. Не понимаю, почему ты так говоришь.
Елена (продолжает быстро ходить). Меня папенька твой обозлил.
Коновалов. Наши дела Андрею неинтересны, Елена.
Елена. Хм! Неинтересны. Почему знать? (Вдруг останавливается, с бледной кривой усмешкой.) Подложить тебе свинью, Федор?
Коновалов. Как угодно.
Елена (в бешенстве). Чиновник! Как угодно! Всю жизнь только и делал, что строил кислые рожи.
Коновалов. Я тебе говорю, что препираться мы можем и без Андрея.
Андрей. Мне все равно.
Елена. В папеньку. Весь в отца. Ну, так и знай же, что у отца роман с хроменькой. Ведь и тебе она, кажется, нравится?
Мгновенное молчание. Андрей подходит к ней совсем близко, весь белый.
Андрей. Послушайте… уйдите.
Елена. Душить меня собираетесь? Благодарю. Нет уж пожалуйста.
Быстро удаляется. Небольшая пауза.
Коновалов. Сумасшедшая женщина.
Андрей (садится в плетеное кресло, как бы в сильной усталости). Отчего же сумасшедшая?
Коновалов. Сумасшедшая, безумная. Как все здесь.
Андрей. По-моему, напротив. Здесь все очень разумны.
Коновалов (волнуясь). Тебе надо прочь, на свежий воздух. Уезжай за границу. Живи. Учись. Тут пропадешь. Я давно это сказать собираюсь. Уходи!
Андрей (более твердо). Да, мне надо уйти.
Коновалов. Ты будешь учиться в Германии. В маленьком городке, среди лесов. Поедешь по Рейну. Будешь бродить пешком, в костюме туриста, по горной стране. Пройдешь Швейцарию, до Сен-Готарда. Оттуда увидишь юг. (Горячо.) Сын, уезжай, непременно! Я хочу, чтобы из тебя вышел иной человек, не такой, как я. Тебя интересует философия. Учись. Занимайся искусством. Быть может, твоя жизнь будет достойнее моей. Ну, дай мне руку.
Подходит, хочет обнять его. Андрей отстраняется.
Андрей. Не надо.
С балкона сходит Похитонов.
Похитонов. К завтраку Матвеич добыл такой спаржи, – что-то исключительное. Должен сказать, что некоторые блюда, например, устрицы, спаржа, стерлядь, приводят меня в транс. Я, конечно, человек порочный. А, вы тут разговариваете. Меня стесняться не надо.
Смущенно закладывает руки в карманы и проходит.
Андрей. Ты, отец, не беспокойся. (Встает.) Я уйду.
Действие второе
Небольшая гостиная в доме Коноваловых. Обстановка сдержанная, не без вкуса. Время около полуночи. Из сада доносятся голоса: у Жени гости, день ее рождения.
За пианино, спиною к зрителю, сидит Андрей Он играет сонату Бетховена Справа и слева от пианино – двери. В правых дверях, в портьере тихонько показывается Таня. Только момент он не замечает ее. Потом прекращает игру.
Андрей. Меня не обманешь. Я чувствую твои шаги.
Таня (опирается на палочку). Жаль. Я хотела незаметно послушать музыку. А то в саду слишком шумно.
Андрей. Женя веселится!
Таня. Вытащили под липы стол, висят фонарики. Много неизвестных мне молодых людей. Конечно, вино. (Улыбается.) Но ты верен себе, и даже глазом не взглянул на все это.
Андрей. У меня с ними плохо клеится. Играю. Но в сущности, и это вздор. Я очень скверный музыкант. Как был бездарен в двенадцать лет, когда разучивал этюды Hanon, так и остался.
Таня. Чтобы так играть, как ты, надо быть сколько-нибудь способным.
Андрей. Сколько-нибудь! Сколько-нибудь я ко всему способен, а как следует – ни к чему.
Таня. Скажи, правда, дядя Федя хочет отправить тебя за границу, в Германию?
Андрей. Уж рассказал!
Таня. Что ж тут удивительного? Ты ему сын. Конечно. Ему интересно… про тебя.
Андрей (встает). Ну что там рассуждать о моем будущем? Это тебе не идет. (Перебирает журналы на столике.) Если б Елена так говорила, я б еще понял, а ты… Вообще, у тебя со мной неправильный тон. Ты ходишь вокруг да около, боишься прямого, все меня оберегаешь.
Таня. Я не знаю, Андрей. Не могу ж я так держаться, будто ты мне неприятен.
Андрей. Неприятен! Что за слова.
Таня. По-моему, дядя Федя прав, что тебе надо уехать. Будь я твоим отцом, то же самое б сказала.
Андрей. Конечно, прав. Непременно уехать, заниматься философией, искусством, дабы создать себе жизнь, более достойную, чем у него. Все его слова. И как легко их говорить! Но чтобы все это проделать, надо стремиться, сильно хотеть эту науку, и эту Германию. Почему вы думаете, что я именно хочу их? Обо мне составилось мнение, что я серьезный, замкнутый юноша, и мне предстоят какие-то горизонты. Это все пустое. Просто я немного грамотней Гаммера. Потому так и кажется.
Таня. Ты же сам раньше говорил, что тебе тут не нравится. Что хотелось бы новых людей, простора, творчества. Господи, я так тебя понимаю.
Андрей. Раньше! Может, и говорил. Теперь ничего этого нет.
Таня. Андрей, а если это тебе кажется только?
Андрей подходит к пианино и берет аккорды похоронного марша Шопена.
Андрей. Я был раз на католическом отпевании. Когда выносили гроб, орган играл этот марш. Я всегда в церкви, на похоронах или свадьбе, думаю: придет день, и ты будешь лежать здесь, лицом вверх, и над тобой будут кадить священники, и напевы эти зазвучат.
Таня. Бог с тобой!
Андрей. Не безразлично ли? Жизнь, смерть…
Таня. Бог знает, что говоришь! Ты что-то думаешь, и что думаешь, то нехорошо: грех.
Андрей. Весной, в прошлом году, я страшно тосковал. Раз я сидел в саду и о чем-то думал. Ты подошла. Был очень солнечный день. Ты была в светлом платье, с маленькими голубыми цветочками. Что ты прихрамывала, это прекрасно было. Ты вся была, как волшебная Сандрильона. Ты сказала: «Андрюша, поедем кататься по Москве-реке».
Таня (смущенно). Да, помню.
Андрей. Я тогда же понял, что все безнадежно. Я чуть не умер в ту минуту от счастья, и тоски. Я стал другим. Прежде много читал, учился. Хотелось иной жизни. Но это ушло. Я жил как во сне. Постоянно думал о смерти: «Тебе надо уйти отсюда!» Как он это странно сказал.
Таня. Да… вот что… Да ведь он это про то: из этого дома уйти.
Андрей. Я уж тогда чувствовал, что ты любишь. Но все-таки… ясно я не знал.
Таня. Господи, как это я…
Андрей (опускает руку в карман). Здесь у меня револьвер лежит. Я его давно ношу.
Таня. Слушай, Андрей, это что ж такое?
Андрей. Ничего. Никому не опасно. Я знаю теперь все про тебя, и отца. Но это никому не опасно. Мне просто нравится: вот у меня в кармане смерть. Маленькая, блестящая. (Вынимает револьвер и гладит его.)
Таня. Я от тебя этого не ждала.
Андрей. Не беспокойся. У меня с детства любовь к оружию. Я ребенком возился с ружьями, и помню, любил взвести курок и приставить дуло к виску. Момент – и тебя нет. Может, это наследственное. Моя мать была меланхоличка.
Таня (просительно). Ну к чему! Отдай мне.
Андрей (прячет револьвер). Правда. Дурной тон.
Таня (встает и делает несколько шагов). Если б я так рассуждала, так и мне надо травиться.
Андрей. Почему ж тебе?
Таня. Значит, потому же. Значит, надо было б.
Входит Елена, за ней Похитонов.
Елена. Я так и знала, что они тут. Где же им иначе и быть.
Похитонов. Ты напрасно так волнуешься, Еленочка.
Елена. Ах, брось пожалуйста! Ничего не волнуюсь (Тане и Андрею). Ничего, что мы пришли? Может быть, это глупо, но мне вдруг захотелось прийти.
Андрей (несколько удивленно). Да. Разумеется, ничего.
Елена. Там меня заставили в жмурки играть, такая глупость. Зачем в жмурки, когда уже все знают, все кончено. А мне захотелось с Андреем поговорить. Там один сказал про меня, я слышала: лишнее выпила. Врет. Я трезвая.
Похитонов. И не могла ты ничего выпить, я же видел.
Елена (смеется). Ах, вот у меня защитник отличный. Мы с тобой вообще прелесть. Его на подсудимую скамейку тащат за растрату, а он за меня заступается.
Похитонов. Ну, Еленочка, это другое дело.
Елена. Да, Андрей, самое-то главное. (Берется рукой за голову, как бы вспоминая.) Самое главнейшее. Танечка, это и тебя касается.
Андрей. Уж вы пожалуйста…
Елена. Нет, ничего. Простая вещь. Я вообще страшная дрянь, а тогда особенно. Я на днях при Андрее Федору одну гадость сказала. Вот, про них. (Показывает пальцем на Таню и в пространство, где подразумевает Коновалова). Про них. Это не я одна знаю, положим. Были и сплетни, и даже письма. Знаю. Но все-таки, я как дрянь поступила. (Тане.) Андрей меня почти выгнал. Прав был, конечно. (Медленнее и как бы покойнее.) А мне сегодня так стало горько. Что я ни сделаю, все выходит плохо. Мне захотелось, чтобы ты на меня не сердился, Андрей. Не то слово: не сердился – простил.
Андрей. А, да! Это не важно. Пустое.
Елена. Холоден. Сдержан. Немного презрения.
Андрей. Вы мне не сказали тогда ничего важного.
Елена. От всего сердца не может простить. Ты гордый человек, Андрей, и самонадеянный. Тебе жить трудно.
Андрей. Это другое дело. Жизнь моя меня касается.
Елена. Так, Правильно. Молодой, но как в деревне говорят: отчетливый.
Андрей. Я вас, кажется, уже… раздражаю.
Елена (садится, как будто в усталости). Ругают меня все, смеются. Может и правда я ломаюсь. Все-таки… Эх вы, чистый и серьезный юноша, вы тоже, пожалуй, страдали, а все же не знаете еще жизни. Вы на все сверху вниз поглядываете. Еще не окунулись. Знали ль вы унижение, позор? Как дорогое вам оплевывают?
Андрей. Может быть, знал.
Елена. Но всегда вы правы. И взирали презрительно, как сейчас на меня. Ах, сознавать, что прав!
Похитонов. Позволь, Еленочка. Я думаю, что таких людей совсем нет. Разве что очень юные, кто еще не успел заблуждаться. А так говоря: все ответим. И пред земным судом, а возможно – и пред иным.
Таня (горячо). Очень, очень верно.
Елена. Вон, и Татьяна заговорила. Как взрослая. Так. У кого жизнь хоть на что-нибудь, на что-нибудь похожа! А если сплошной…
Андрей. Тогда жить зачем?
Елена. Разве я знаю? Почему я именно должна знать?
Андрей. Коли живете, значит, знаете.
Елена. Я одно знаю: моя жизнь – позор, клоака.
Похитонов. Ну, уж ты, Еленочка, скажешь.
Елена. И скажу, скажу. Тут дело такое: на откровенности пустились. И скажу. Пускай посмеются.
Таня (волнуясь). Вовсе я не собираюсь смеяться. Даже вовсе не собираюсь.
Елена. Ладно. Я винилась уж перед Андреем. Еще поговорю. Я… как это… да, называется. Вот: развратная дрянь. Вся моя жизнь – это концы в воду. Да. Обман, ложь. И Похитонов помогал прятать: это верно. Наконец, сорвалось. Так и должно было быть. А, ха-ха! Похитонов, говорить что ли?
Похитонов. Стоило ль начинать? А уж теперь… доканчивай, Еленочка.
Елена. А, ха-ха! Мой последний роман! Нет, слушайте. Негодяй, который меня бил, обирал. А в конце концов просто сделал: продал обо мне разоблаченья, письма.
Похитонов. Да, печальная история. Нынче в бульварной газете. «Из нравов нашей буржуазии». Отрывки из писем. Инициалы, но можно догадаться, тотчас.
Елена. И еще куча вздора. Будто я в оргиях участвовала.
Андрей. Это мало интересно. Приблизительно, я так и ждал.
Елена. Да, конечно. Для философа. А я человек. Мне сегодня двое уж не поклонились. Евгения делает вид, что не читала, но ложь, тоже знает. И эти… все ее друзья тоже знают. Я вижу, как они сегодня со мной.
Таня. Но почему ж, у тебя такой тяжелый роман… А тебя это будто бы позорит.
Елена. Роман! Он танцевал в кафешантане, а я дарила ему золотые цепочки, портсигары. Я его содержала. С ним вчера, на Немецкой, у нас было объяснение. Он вымогал. Сумму требовал, грозил. Я обозлилась, к черту его послала. Он родом из Аргентины. У него любовница испанка. (Хохочет.) Раз она накрыла нас. Она трепала меня за косы! Это тоже описано.
Андрей резко встает и выходит.
Не может вынести пошлости! Да, это гадость. Он имел надо мной дьявольскую власть. Если бы продолжалось, он разорил бы меня. Или бы я удрала в Аргентину.
Похитонов. Это называется: страсти-с.
Елена. Да, вот, вот. Что надо делать? Как жить? Помощи, что ли, откуда-то ждать? Путаница, не разберешь. Жизнь с Федором… Отчаянье. Отчего никто не пришел, не помог? Надо ведь человеку как-то помочь? Направить? Может, и меня… можно бы было?
Похитонов. Поддержать человека труднее, чем подтолкнуть-с. И это мы постоянно видим.
Елена. А? Похитонов? Скажи на милость, что мы с тобой можем изречь? Мы ведь бывшие люди?
Похитонов. Еленочка, насчет себя преувеличила. Что же меня касается: верно. Однако, как и у Горького, бывшие люди могут выразить кое-что. Ты сказала: никто не поддержал. И справедливо, но тем для меня плачевнее, ибо у меня как раз был человек, на которого я опирался. И довольно долго. Однако, ни к чему не привело.
Елена. Про Марью говоришь. По-моему, даже испортила она себе жизнь, из-за тебя.
Похитонов. Тем для меня горестнее, только.
Таня. Я, должно быть, дура. Я все не могу в толк взять… Вы все друг про друга знаете, не удивляетесь. А я… прямо в лесу.
Похитонов. Просто вы чистая девушка, и далеко от всего этого стоите.
Таня. Погодите, я хочу разобраться. Если б Елена сама не рассказала, я бы ничему не поверила.
Елена. А! Спасибо.
Таня. Ну позвольте, теперь оказывается… И Елена о вас говорит, Семен Семеныч, да и я сегодня слышала. Прямо какие-то невозможные вещи.
Елена. Про него? (кивает на Похитонова). Про него, что ли?
Таня. Я допустить не могу.
Елена. Допускай. Его следователь допрашивал. Вот, вот арестуют.
Похитонов. Это верно-с.
Таня. Да как же…
Похитонов. Вы удивляетесь, что я вор. А Елена нисколько.
Таня. Как вор? Какой вор?
Елена. Я давно поняла. (Протягивает ему руку.) Я давно знала: с тобой несчастие случилось.
Похитонов (пожимает плечами). Просто подлость сделал-с, какое несчастие?
Таня. Господи Боже мой!
Похитонов. Заурядная история. Что же тут говорить? Коноводом не я был-с, не я начинал. Но и мне перепадало. Чтобы молчал. Молчал, молчал, да и домолчался. Вместо одной лошади поставили другую. Высшего класса – в низший. Разумеется, выигрывает. Затем разные подлоги в книгах, недостача денег. Одним словом – самый обыкновенный мошенник. Дюжинами таких ловят.
Таня. Семен Семеныч, вы же скромный человек…
Похитонов. Подите ж. Думаю, так всегда делается. Шаг за шагом. Только тронулся, а там уж не заметишь.
Елена. Вас посадят, я к вам буду ходить. Я вообще от вас не отрекусь.
Похититель. Спасибо, Еленочка.
Елена. Я всегда сочувствовала, кого позорят. Верно, предчувствие.
Таня (в волнении встает с дивана и прохаживается, постукивая палочкой). Ужас, ужас. Все в яму какую-тот валится. Ну, ничего, Елена. (Подходит к ней, и берет за руку.) Знаешь, я тебя всегда мало любила. И Семена Семеныча. Просто вы очень мне далекие были. А сейчас все думаю. (Мягче.) Все ужасно несчастны. И может быть, надо пожалеть. Милости надо… чтобы злобы было меньше. Я не могу сказать. Но так. Я чувствую. Надо милости, а то все… погибнем.
Елена (вдруг, сквозь слезы). Похитонов, слышишь?
Похитонов (дрожащим голосом). Разве мог я подумать, когда в Самаре служил, в земстве? Что со мной стало! С богатым кругом сошелся. Ведь я прислужник, шут. Меня подпаивают, а потом в отдельных кабинетах глумятся. Я левым считался, мы с Машенькой честные журналы получали.
Быстро, как бы в раздражении, входит Коновалов.
Коновалов (Семену Семенычу). А, вот и ты. В обществе дам.
Похитонов (сдерживаясь). Да, беседуем.
Коновалов. Почему же нет коньяку?
Похитонов. Мы с тобой на своем веку уже достаточно выпили.
Коновалов. Ты полагаешь?
Похитонов. Полагаю-с.
Коновалов. Мы с тобой вообще много черт знает чего делали.
Похитонов. Совершенно верно.
Коновалов (резче). И это становится невозможным.
Елена, опустив голову, держит Таню за руки. Маленькая пауза
Это приводит к тому, что сейчас приехала с вашей квартиры Маша, и сказала, что к тебе явились уж, арестовать. Не застали. Она ответила, что не знает, где ты. Сама сюда поехала.
Похитонов. Она здесь?
Коновалов. У меня в кабинете. Лежит на диване, и молчит.
Похитонов. Я пойду к ней.
Коновалов. Поздно. Надо было раньше думать.
Елена. Почему для него теперь поздно, а для тебя нет?
Похитонов выходит.
Коновалов. А ты… Елена, молчи лучше. Ты лучше тоже молчи. Я читал.
Елена (серьезно, покойнее). Погоди еще, Федор, издеваться надо мной.
Коновалов (садится). Дело не в издевательстве. Совершенно не в этом.
Елена. Марье очень плохо?
Коновалов. Очень.
Елена. Так. Я пойду к ней.
Выходит.
Коновалов. А те… идиоты, в саду устроили иллюминацию. Неизвестные мне юноши. В темных углах визг. Все, как следует. Праздник!
Таня. Да. Уж правда, праздник!
Снаружи распахивают окно. Видна студенческая фуражка.
Студент. Сашка. Ты здесь, что ль?
Коновалов (встает и запирает окно). Здесь никакого Сашки нет.
Студент. Нет, так и нет. Черт с ним. Виноват.
Исчезает.
Коновалов. Эти-то вот они и есть.
Таня (тоже встает, подходит к пианино). Я потушу свечи. Глазам неприятно. (Тушит свечи, при которых играл Андрей.) А ты садись на диван. Ты взволнован. Надо успокоиться немного.
Коновалов тяжело усаживается. Таня подходит, примостилась рядом. В комнате полутемно, на полу и креслах лежит бледный, золотой свет уличного фонаря – через окно.
Коновалов. Да, правда. Без свету лучше.
Таня (берет его за руку). У меня голова кругом идет.
Коновалов. Как не пойти.
Таня. Андрей, Елена, Похитонов…
Коновалов. А Андрей что?
Таня. Он говорит, что знал все, про нас. Но думал, не совсем это так. Ходит с револьвером, у него такой вид…
Коновалов (резко вздыхает). Да. Вид.
Таня. Ты ужасно расстроен? Эти дни я немного тебя боюсь. (Гладит его по руке) Ты суровый, совсем как-то не мой.
Коновалов. Я, должно быть, ничей.
Небольшая пауза
Таня. В этой самой комнате я сказала Андрею: если б я так рассуждала, как ты, мне бы тоже надо травиться.
Коновалов. Так сказала.
Таня. Ну, ведь это правда. Ты меня очень мало любишь. А травиться я не собираюсь.
Коновалов. Ты плохой выбор сделала.
Таня. Прежде я так думала – даже тебе говорила: уйдем отсюда, поселимся где-нибудь. А сегодня на меня нашли сомненья: тяжко стало, горько. Нет. Не уйдешь ведь.
Коновалов. С твоей верой можно верить.
Таня. У меня веры много было. Я как мышка в вашем доме жила – в уголке, и веру копила. Вот, меня Андрей Сандрильоной назвал. Может, и правда. Я и сейчас верю. В Бога верю, в Христа. И любовь моя к тебе, как прежде. А где сила этой любви? Ей ответ должен быть. Его нет.
Коновалов (встает). Была минута – мне казалось, что зажигается для меня новая жизнь. Ты прелестная, Татьяна. Есть в тебе что-то от ангельской девы. И уж если ты меня не зажгла…
С шумом отворяется дверь Видимо, двое догоняли друг друга Вбегают барышня и молодой человек. Задыхаются, хохочут.
Барышня (фыркает). Здесь темно, и есть кто-то.
Молодой человек. Жаль. Вы любите, ведь, камеры-обскуры.
Выбегают в другую дверь.
Таня встает.
Таня. Я напрасно потушила свечи. (Подходит к пианино, шарит, как бы стараясь найти спички. Потом вдруг садится на табуретку и плачет.) Господи! Господи!
Входит Андрей, и натыкается на отца.
Андрей. Почему тут темно? Где Таня?
Таня (сквозь слезы). Т-тут.
Андрей. Плачешь.
Таня (встает и старается справиться). Ничего. Очень все расстроили.
Андрей. Тебя тетя Маша зовет.
Таня. Плохо ей?
Андрей. Не знаю.
Таня. Хорошо, иду. Где палочка моя? (Шарит, не находит.) Андрюша, найди палочку.
Андрей (подает). Вот.
Таня. Спасибо. А то без палочки мне трудно.
Уходит. Минута молчания.
Андрей. Я всегда тебе мешаю, отец. Во всем.
Коновалов. Правда, что ты револьвер всюду с собою носишь?
Андрей. Кто сказал?
Коновалов. Знаю.
Андрей. Правда.
Коновалов. И сейчас?
Андрей. Да.
Коновалов. Убей меня.
Андрей. Глупости.
Коновалов. Я завлек Таню.
Андрей. Завлек.
Коновалов. А теперь бросаю.
Долгое молчание.
Я твоего лица не вижу. Где ты?
Андрей. Подлец!
Коновалов медленно подходит к дивану и опускается на него Андрей выходит. Почти вслед за ним, из других дверей, поспешно входит Таня.
Таня. Нет, не могла быть с тетей. Не могла. Сердце не на месте. Андрюша?
Коновалов (мертво). Его нет.
За сценой выстрел
Действие третье
Кабинет Коновалова. Прямо против зрителя большое окно. Оно выходит в сад, на крытую террасу. Часа четыре дня. Довольно хмуро. Накрапывает дождь. Коновалов сидит у окна, за письменным столом. Рядом полка книг. Он ничего не делает. Входит Похитонов.
Похитонов. Я к тебе, Федор. На минуту.
Коновалов. Садись, пожалуйста. Почему на минуту?
Похитонов. Тут, книжечку одну хотел у тебя попросить Льва Толстого. (Подходит к полке и роется.) Мне хотелось бы найти «Воскресение».
Коновалов. Ага. Книжки стал читать.
Похитонов. Хочу захватить что-нибудь, на новое место жизни. А то скучно очень будет. Вот, нашел. Произведение великого старца.
Коновалов. Да, тебя в тюрьму тащат. Какая глупая штука.
Похитонов. Не хотелось садиться. Несколько дней скрывался. Думал было удрать, попробовать, да не стоит. Все равно поймают. Да и вообще стоит ли бежать?
Коновалов. Не убежишь, понятно.
Похитонов. Я сейчас по коридору шел, и горничную вашу встретил, Аксинью. Мне очень трудно было на нее взглянуть. Так и не смел.
Коновалов. Стесняешься?
Похитонов. Это очень странные слова.
Коновалов. Ничего, не стесняйся. Не тебя одного.
Похитонов. Ну, как же, а еще кого?
Коновалов. Всех, я думаю. И давно пора.
Похитонов. Да, это ты так, вообще. Фигурально.
Коновалов (оглядывается в окно, вздрагивает). Какая там кошка пробежала, у забора!
Похитонов. Где? Не вижу.
Коновалов. Так, проскакал серый котенок, совершенно незначительный. Не идущий к делу.
Похитонов. А ты расстроился чего-то?
Коновалов. Пустое. Скажи, пожалуйста, помнишь ты зимой был случай, ночью, за городом? В кабаке?
Похитонов. Много бывало случаев. Всего не упомнишь.
Коновалов. Такой случай. Очень поздно было. Часа четыре. Мы в кабинете сидели. Стеша взяла мою, и твою руку, и стала гадать. И все говорила. У ней и то, и се выходило, потом вдруг она замялась, остановилась. Помнишь, мы с тобой отдернули руки, и я вскрикнул.
Похитонов. Помню. Еще тогда цыганка хохотать стала. И все подумали, что ты лишнего выпил.
Коновалов. А ты почему руку отдернул?
Похитонов. Ну, мало ли. Что-то неприятное показалось.
Коновалов. Неприятное… да, и мне неприятное.
Похитонов. Стало быть, даже очень неприятное, если до сих пор не забыл.
Коновалов. Не неприятное, а страшное.
Похитонов. Галлюцинация? Это от нервов. Больное воображение.
Коновалов. Да, конечно, больное. А насчет ареста ты не думай. Постараюсь, чтобы выпустили на поруки. И наверно, оправдают.
Похитонов (качает головой). Быть может. Все-таки, надо меня похоронить, вбить осиновый кол и написать: «В вине и деньгах неумеренный, здесь лежит Похитонов. Бывший присяжный поверенный».
Коновалов. Какая глупость.
Похитонов. Разумеется. Я сам сочинил. И довольно давно. Теперь время выгравировать.
Коновалов. Ожидала ли Марья?
Похитонов. Выйдя за меня замуж, Марья сделала одну из величайших ошибок жизни.
Коновалов. Мне кажется д-да, неудобно, неудобно. Живешь. – Это тоже, пожалуй, величайшая ошибка.
Похитонов. Андрюша не пожелал.
Коновалов. Да. Андрюша.
Похитонов. Все-таки, себя убить трудно. Иногда, это почти необходимо. А не легко.
Коновалов. Был момент. Андрюша мог в меня выстрелить. Он этого не сделал.
Входит Гаммер За ним через минуту – Женя.
Гаммер. Господин Pokhitonov, полицейский ждать больше не хочет. Говорит, еще сбежите.
Похитонов. Нет, ничего-с. Я не задержусь.
Гаммер. Да, уж теперь не задержитесь. Вы напоминаете мне мяч, по которому дан неправильный дрейф.
Похитонов. Что это значит-с? Я терминов не понимаю.
Гаммер. Дрейф – удар правой рукой. Он дан с такой силой, что вы летите за пределы площадки.
Похитонов. Ах, да-с, совершенно верно. Именно лечу за пределы площадки.
Входит Марья Алексеевна.
Марья Алексеевна. Идем, Семен. Ты выйдешь черным ходом. Извозчик готов. Я уговорила полицейского, чтоб тебе позволили одному ехать. Он сзади будет, тоже на извозчике.
Похитонов. Маша…
Марья Алексеевна. Да, ничего. Не обращай ни на кого внимания.
Похитонов подходит к Коновалову и обнимает.
Похитонов. Прощай, Федор. Я… опозорил ваш дом. Прости.
Коновалов. Мне нечего прощать. А дома моего нет. Каждый за себя отвечает.
Похитонов быстро выходит, за ним Марья Алексеевна.
Женя. Фу, какой этот Похитонов смешной. Сгорбился, а шагает быстро.
Гаммер. Вы напрасно думаете, Федор Алексеевич, что ваш дом не нуждается в хорошей репутации. Вы слишком снисходительны.
Коновалов. Я ничего не думаю-с.
Гаммер. Похитонов, воришка! Скажите, пожалуйста. Женат на порядочной женщине, бывал в обществе, ближайший друг этого дома, и извольте взглянуть – отправляется в арестантские роты. Ничтожный силуэт!
Коновалов. Я думаю, для вас это все равно.
Гаммер. Отчасти нет.
Женя. Дело, отец, в том, что Саша делает мне предложение. А я не знаю (со смехом) выходить за него или нет. Он смешной, но хорошо в теннис играет.
Гаммер. Это, положим, глупости: разумеется, выходить. Но вот в чем суть – из-за чего я на Похитонова рассердился: он вредит вашему дому, дому моей невесты.
Женя. Ты страшный дурак. Ты что, правда, из себя барона Финтифлю разыгрываешь?
Гаммер. Никакого барона. Все-таки я был бы очень доволен, если бы господин Похитонов выбрал для скандальных историй другое место.
Коновалов. Вы, значит, просите у меня руку дочери?
Гаммер. Ну да, свадьба там, может быть, через год, но так, знаете ли, принципиально.
Коновалов. Да. Общественное ваше положение: футболист?
Гаммер. О, нет. Мое дарование исключительно направлено на теннис.
Коновалов. Дарование к теннису, вы делаете предложение моей дочери. Но вас смущает, что наш дом скомпрометирован.
Гаммер. Не совсем так. Мне немного обидно за Женю, но вообще… так сказать.
Коновалов. Ладно. Женитесь. Только, извините меня. Я сейчас очень дурно себя чувствую. Мне хотелось одному побыть.
Гаммер. Понимаю, конечно. Семейные огорчения, и прочее. Вполне ясно и объяснимо. Женя, мы можем оставить папа в покое.
Входит Марья Алексеевна и садится в кресло Гаммер с Женей выходят, но Гаммер снова возвращается, и подходит к Коновалову
Виноват, я забыл… Не можете ли вы мне разменять три рубля. Ну, там, на несколько двоегришек.
Коновалов. Чего-с?
Гаммер. Пустое. Так именую я двугривенные.
Коновалов высыпает из портмоне мелочь Гаммер ищет у себя в жилетных карманах трехрублевку
А, черт, за подкладку, что ли, завалилась.
Берет серебро.
Да, не могу найти. Ну, буду вам должен тринитэ. Благодарю.
Уходит.
Коновалов. Тринитэ. Тринитэ. Ловко!
Марья Алексеевна. Я хотела ехать с Семеном, но он не позволил. Когда он сел на извозчика, и они с околоточным выехали из ворот, мальчишка соседний, сын дворника, крикнул: «Барина в тюрьму везут».
Коновалов. Да, нелегко.
Марья Алексеевна. Только подумал, что Семен когда-то служил честно в банке, был скромным молодым человеком, потом присяжным поверенным. И вот столица, ложный блеск жизни…
Коновалов. Видела? (Кивает на дверь.) Тринитэ. Марья Алексеевна. Новые люди. И они по-своему судят нас.
Коновалов. Он женится на моей дочери. Но дал понять, что наш дом не из блестящих. Особенно, после историй последнего времени.
Марья Алексеевна. Ужасные дни. И эти пошлые люди, со своими оценками, свадьбами, когда только что вынесли гроб Андрюши.
Коновалов. Когда Андрей лежал в гробу, я смотрел на него долго. На его лоб, тонкий нос, едва пробившиеся усики. Все понять что-то старался, узнать. Ничего не понял.
Марья Алексеевна. Ты страшно изменился, брат.
Коновалов. Быть может, еще изменюсь.
Марья Алексеевна. Я давно хотела говорить с тобой. Не удавалось.
Коновалов. Скажи, пожалуйста, был с тобой такой случай: уже женой Похитонова, ты полюбила, другого?
Марья Алексеевна. К чему спрашиваешь?
Коновалов. Вы друг друга любили. Но Семена ты не бросила. Так? Думала, без тебя он погибнет.
Марья Алексеевна. Да, так сделала.
Коновалов. Кого любила – тот до сих пор цветы присылает, на именины.
Марья Алексеевна. Ну? Дальше что?
Коновалов. Ты себя переломила. Чтобы Похитонова вытащить. Я – напротив. Себя губил, и что вокруг. Мне в Тане померещилось что-то – я ее увлек. А потом бросил. Моя жизнь неверная.
Марья Алексеевна. Заблудился.
Коновалов. Что я: совсем пропал?
Марья Алексеевна. Не знаю.
Коновалов. Я с Таней подло поступил. А она от меня не откажется.
Марья Алексеевна. Ты был мой любимый брат. Я тоже от тебя не отрекаюсь.
Пауза.
Коновалов. Если б опять представилось, ты отдала бы свою жизнь? Как тогда?
Марья Алексеевна. Кому это нужно? Семен обманывал меня с певичками, с любой женщиной. И все это тем кончилось, что Семена увез полицейский.
Коновалов. Таня бы отдала жизнь. А если б нужно было – ты отдала б?
Марья Алексеевна (подумав). Да. Все-таки.
Коновалов. Ты Наталью хорошо помнишь?
Марья Алексеевна. Хорошо.
Коновалов. Что по-твоему: я сошелся с Еленой, стал эту жизнь вести, это измена? Тому? Прежнему?
Марья Алексеевна. Брат! Измена.
Коновалов. Тоже думаю. (Пауза.) В ночь смерти Андрея я не спал. Сидел у себя на постели, считал до ста, потом до тысячи. На столике лежал морфий. Я загадал: досчитаю до десяти тысяч, приму этот морфий.
Марья Алексеевна. Это не решение.
Коновалов. Ответ.
Марья Алексеевна. Слишком просто. Для молодых, и слабых.
Коновалов. Что же надо?
Марья Алексеевна. Жить.
Коновалов. Прежде я сам так думал. Но давно. Это прошло все.
Марья Алексеевна. А вот – морфия не принял.
Коновалов. Случайно. Может, просто слабость. Все равно. Я тогда понял, что все переменилось. Я стал особенный, другой.
Марья Алексеевна (слегка приподымается). Постой… ты… действительно. Какой у тебя странный вид!
Коновалов. Я прежде не понимал, что значит: ангел смерти. Мне казалось, это выдумка.
Марья Алексеевна. А теперь?
Коновалов. Я знаю.
В темном платье и трауре входит Елена.
Елена. Я панихиду на дом заказала. Батюшка будет в пять.
Останавливается посреди комнаты.
Что такое? А, надо окно открыть. Дождичек на дворе, хорошо пахнет. Зеленью.
Отворяет окно.
Коновалов. Панихиду? Да, зеленью.
Елена. Знаешь, что сейчас Женя сказала?
Коновалов. Певчие будут?
Елена. Будут. Женя сказала, что замуж выходит.
Коновалов. Знаю.
Марья Алексеевна. На них смерть Андрея мало подействовала.
Елена. Она и пришла… к отцу, просить разрешения.
Коновалов. Что же особенного? Она выходит за этого… – вполне в ее духе.
Елена. Погоди, у меня в голове что-то путается. (Трет себе лоб.) Андрей умер, а она пришла к тебе. Просится замуж. Ты отец. Да, главное-то: именно не ты отец, вот главное.
Коновалов. Не понимаю.
Елена (как бы радостно). Именно, именно, не твоя дочь. Наконец, сказала.
Марья Алексеевна. Елена, Елена…
Елена (все возбужденно). Это давно надо было сказать. Давно. А я не говорила: Все не могла сказать.
Коновалов. Не моя дочь.
Елена. Да. Я обманывала тебя. С другим.
Коновалов молчит, слегка вздрагивает. Марья Алексеевна встала.
Марья Алексеевна. Да… ну… Коновалов. Значит, тогда же, в первый год… Елена (бледнеет). Мне Андрей укором был. Когда умер. Не могу больше. Я подлая. Все равно.
Молчание
Ты тогда в Крым ездил. Лечиться. Я не хотела сказать. Стыдно было. Очень.
Марья Алексеевна. Как же ты? Как потом жила?
Елена. Дальше – хуже. Забывала. Потом опять вспоминала. Я пила, по ресторанам ездила.
Коновалов. Женя знает?
Елена. Кажется. Она меня презирает.
Коновалов. Мы, значит, квиты.
Елена. Квиты. Все теперь ясно. (Оглядывается.) Пора. Нам пора опомниться, Федор. Безобразно жили. Я стала молиться, последние дни.
Марья Алексеевна. За кого молишься?
Елена. За рабу Елену. Блудницу.
Марья Алексеевна (задумчиво, тише). Помолись и за нас, рабов. Федора, Марью, Семена.
Елена. Как же – я? Разве я могу?
Марья Алексеевна. Коли мучишься, значит можешь.
Елена. Хо-ро-шо.
Молчание. Мужу:
Мы не будем больше вместе жить.
Коновалов. Не будем.
Елена. Я уж знаю. Я с Таней говорила. Ей сказала. Она говорит: может, тебе простится жизнь. Может. Я ей верю. Прежде не любила ее, а потом… она меня очень поняла. Как она сказала, так сделаю. Мы все это продадим – дом, фабрику. И деньги куда-нибудь. Себе немного оставим. И Федору. Мы с ней в Париж. Будем жить высоко, под крышей. Учиться начнем. Она чистая. Может, еще я не пропала. А? Марья?
Марья Алексеевна. Может.
Коновалов. Марья, будь добра, притвори дверь.
Марья Алексеевна. Могу. А что?
Коновалов (будто ему холодно). Не люблю открытых дверей. В глазах мелькает.
Марья Алексеевна встает, и притворяет.
Я слышал, что один замечательный математик сидел раз в ресторане. Весело было, музыка. Он говорил. Потом замолчал, поглядел вокруг, и сказал: «В меня вошло что-то. Это иррациональная величина. Я не могу ее определить». Это смерть была. Через четверть часа он умер. От паралича сердца.
Елена. Как страшно.
Коновалов. Сзади за мной дверь. Оттуда кто-то войдет.
Марья Алексеевна. Ты расстроен, брат, измучен.
Коновалов. Нет. Она здесь, я ее видел, тогда, за городом, когда цыганка. Зимой.
Марья Алексеевна. Какая цыганка?
Коновалов (вдруг дрожит, бледнеет). Ужас! У-у!.. (дико кричит).
Опускается лицом на подоконник.
Елена. Федор!
Коновалов бьется головой о подоконник. Рыдает.
Коновалов. Господи, Андрей, Господи! Я! Я убил!
Он не видит, что из сада к растворенному окошку, впопыхах, хромая, подбегает Таня. Она молча обнимает ему голову и целует.
Марья Алексеевна. Ничего, плачь. Ничего. Коновалов (сквозь рыдания). Боже мой, Боже мой!
Подымает голову, видит Таню.
Ты!
Таня. Да. (Держит его голову, смотрит ему прямо в глаза.)
Коновалов (смотрит на нее недоуменно). Как ты пришла?
Таня. Я в саду гуляла. По мокрым дорожкам. Вдруг крик услышала и прибежала.
Коновалов. Пожалела?
Таня. Да, пожалела.
Елена выходит из комнаты. Через минуту возвращается
Елена. Батюшка приехал. Уже облачился. Сейчас служба начнется.
Выходит.
Марья Алексеевна (полуобнимает Коновалова). Брат, приходи. Мы помолимся.
Уходит также
Таня. Встань, Федор. Не нужно предо мной на коленях стоять.
Коновалов. Нужно.
Таня. Встань.
Коновалов. Значит ты меня спасла? Я умирал.
Таня. Не знаю. Встань.
Коновалов встает, садится и слушает. Издали доносится пение певчих и служение.
Таня (покойнее и печальнее). Помнишь, я хотела тебя вывести отсюда, жить вместе? (Перебирает кончики платка, наброшенного на плечи.) Казалось мне, наши жизни могут слиться. (Улыбается сквозь слезы.) Ну, ошиблась. Прости. Самонадеянная девочка. Так ты сказал. Я теперь поняла, что ты меня не любишь. И никогда не любил.
Коновалов (прислушивается к пению). Что это там?
Таня. Панихида. Из-за нас Андрюша погиб.
Коновалов. Знаю. Я преступный человек.
Таня. Все преступные. Все несчастные.
Коновалов. Как же жить?
Таня. Жить мы будем. Это нелегко. Но будем. Видишь, какой золотой луч пробился? Сад блестит, зазеленел. Голуби воркуют. Я за эти дни, когда все случилось, стала такой старой, будто все уж знаю. И я думаю, что Господь, которого я вижу в этих облаках, в сиянии света, смилуется над нами и простит. Ну, идем. Пора на панихиду.
Обходит по террасе, и входит в дверь Открывается дверь из коридора, выглядывает горничная. Пение слышнее.
Горничная. Барин, вас ждут. Коновалов. Да иду.
Она скрывается
Таня. Возьми меня под руку. Теперь можно. Последний раз.
Коновалов (берет). Ты приходишь, как ангел. Господь, в знак сострадания к заблудшим, посылает им своих вестников.
Уходят.
Ариадна*
УЧАСТВУЮЩИЕ
Полежаев, Леонид Александрович.
Ариадна, его жена.
Игумнов, Сергей Петрович.
Игумнова, Дарья Михайловна.
Таня Лапинская, приятельница Ариадны, артистическая девушка.
Генерал, сельский хозяин, культуртрегер.
Саламатин, Алексей Николаевич, его пасынок, молодой человек.
Машин, Иван Иваныч, дворянин, сосед Полежаевых.
Перелешин, Аркадий Карпович.
Ракитникова, Анна Гавриловна.
Действие первое
Летний день, очень жаркий, но облачный, в конце июня. Двенадцатый час. Комната с большими окнами, в помещичьем доме Полежаевых. Прямо дверь на террасу. В окнах вид на реку – поля и леса на горизонте.
Посредине комнаты стол: на нем книги, рукоделья; все в беспорядке. Дарья Михайловна сидит за столом и рассматривает кусок старинной парчи. Рядом Ариадна, на коленях, с живостью вытаскивает из сундука всякое добро. Она высока и гибка. Одета изящно, но небрежно.
Дарья Михайловна. Как это ты, Ариадночка, все швыряешь… И как уложено! Белье, чернильница, шали…
Ариадна. Сунула, и конец.
Дарья Михайловна. Да ведь жаль. Вещи хорошие.
Ариадна. Может быть.
Выбрасывает на стол еще кусок парчи.
Дарья Михайловна (сравнивает с другими). Это мне больше нравится. По лиловому фону серебряные цветы.
Ариадна (подымается). Удивляюсь, как еще сил хватило все это уложить.
Дарья Михайловна. Почему?
Ариадна (не сразу). Меня привыкли считать благополучной дрянью и теперь удивляются.
Дарья Михайловна. Благополучной дрянью… Нет, я этого не знаю. Просто была веселая и живая. Это многим нравилось.
Ариадна. Леонид находит, что я слишком шумна.
Дарья Михайловна. Разве?
Ариадна. То-то вот и разве (берет кусок парчи). Тебе нравится?
Дарья Михайловна. Очень. Его можно положить на спинку дивана. Отлично будет.
Ариадна. Возьми его себе.
Дарья Михайловна. Ну, зачем.
Ариадна. Затем. У меня домик уютный, чистый, все аккуратно. И Сергею понравится.
Дарья Михайловна. Нет… спасибо. Не возьму.
Ариадна. Почему же?
Дарья Михайловна. Ты и так мне все даришь.
Ариадна. Хочу, и дарю. Нет, возьмешь.
Дарья Михайловна. Выходит, что я напросилась.
Ариадна (бледная). А я говорю, что возьмешь. Я говорю, что возьмешь!
Дарья Михайловна (с удивлением и почти испугом). Да что ты?
Ариадна. Это свинство. Я тебе дарю, от души, а ты брать не хочешь. Это гадость.
Дарья Михайловна. Как ты разволновалась… Ну, если хочешь… Я просто стеснялась, не думала, что так…
Ариадна (садится на подоконник). Больше не хочу убираться. Называется – моя комната, а могла бы и гостиной служить, чем угодно. Все навалено. Чужое все. (В волнении отворачивается к окну. Налетает ветер из полей, надул занавеси, душит.)
Дарья Михайловна (встала). И правда, какой здесь беспорядок.
Ариадна (вытянулась на подоконнике, положила голову на руки, солнце освещает ее). Солнышко меня греет, ветер ласкает. Господи, пожалей меня.
Дарья Михайловна. Что ты, Ариадночка? (Подходит)
Ариадна. За озером ржи, леса. Вот бы встать, руки раскрыть, Божий свет к груди прижать. Я так и делала. Я с солнцем играла. (Обнимает Дарью Михайловну.) А теперь я пропащий человек.
На террасе шаги. Слышен смех Сергея Петровича.
Дарья Михайловна (выглядывая). Наши приехали. Охотнички.
Ариадна. А-а!
Быстро соскакивает, отходит к сундуку, как бы продолжая его разбирать Входят Игумнов, Полежаев и Машин – в высоких сапогах, с ружьями, грязные, как полагается порядочным охотникам. В ягдташе у Игумнова несколько чирят.
Игумнов (Ариадне). Хозяюшке привет. Вот и мы. (Целует жену) Здравствуй, Дашенька. (Садится и снимает ягдташ. Остальные здороваются. Ариадна молча подает руку мужу.) Фу-у, черт, фу-фу-фу, как устал! Прямо моченьки моей нет.
Машин (полный, лысый, полуседой человек тихого вида). По болотцу-то тово, трудненько.
Игумнов (хохочет). Хорошо еще, что я сижу здесь с вами, гогочу. Могли меня на носилках приволочь, все из-за твоего Леонида, Ариадна.
Ариадна. Леонид – свой собственный.
Игумнов. Ну, из-за собственного.
Полежаев (высокий, худоватый, несколько рассеян). Может быть, Сергей и преувеличивает. Все же я сделал промах… по неосторожности. Говорят, даже опасный.
Игумнов. Говорят! Идем мы с ним у мельницы, где узкое место, по обоим берегам. Хорошо-с. Диана в камышах шарит. Выплывают утята, Леонид с того берега целит, и не понимает, мерзавец, что берег высокий, вся дробь как в воду шваркнет, так отразится, и рикошетом мне в физию. Кричу: стой! он все целит. И, славу Богу, пока палить собрался, его Иван Иваныч одернул.
Машин. Леонид-то Александрыч… как непривычный человек, городской. И до беды недалеко.
Полежаев. Я прилагал все усилия…
Дарья Михайловна (рассматривает утят в ягдташе мужа). Это ты настрелял? Игумнов. Муа.
Полежаев. У меня и ружье дальнобойное, левый ствол чок-бор. Вероятно, не к лицу мне такая стрельба, что ли…
Игумнов (хлопает его по плечу). Ну, чего там. Идем переодеваться. А то нагрязним. Да у вас в доме и посторонние.
Полежаев. Можно. Только странно, ты кого за посторонних считаешь?
Игумнов. Барышня столичная, неудобно. Мы, которые деревенские…
Ариадна (подходит к Игумнову). Перед Лапинской форснуть хочет. Ну, иди. Распускай хвост.
Полежаев. Умыться не мешает.
Уходят
Машин. А уж я, если позволите, и так посижу. Мне покамест лошадку запрягают. Домой поспешаю.
Ариадна. Оставайтесь обедать. Обещал нынче генерал приехать.
Машин. Занятный человек… оживленный. Да спешу, вот дело-то какое. Покос. Золотое времечко. Жара. (Отирает лоб.) Вы-то как раз в деревню… к хорошей погодке. (Помолчав.) А позвольте спросить, Ариадна Николаевна, я слышал… будто вы здесь с Леонидом Александрычем на зиму… намерены поселиться?
Ариадна. Кто вам сказал?
Машин. Будто бы… от Леонида Александрыча.
Дарья Михайловна. Я бы рада была!
Ариадна. Леонидовы вечные разглагольствования! Деревня, простота жизни, природа… и тает. А сам живо соскучится. (Машину, не без резкости) Да, может быть. Может, останемся, может, уеду. Не знаю. О муже ничего не знаю.
Машин. Конечно, после столичной там… жизни… театры и прочее.
Ариадна. Я ничего не знаю, Иван Иваныч.
Из балконной двери входит Таня Лапинская, невысокая, худоватая девушка. Она с купанья, в мохнатом халатике; голова повязана полотенцем. Увидев Машина, приостанавливается.
Лапинская. С утра гости. (Оглядывая свой костюм.) Я вон в чем. Ар-р-иадна, убираться мне?
Ариадна. Иван Иваныч – свой.
Лапинская. А коли свой, так свой. (Длинно протягивает Машину руку.) Мое почтение. Нижайшее. Глубокоуважаемому соседу.
Машин. Да уж как тово… торжественно.
Лапинская. Вы хороший дяденька. Старичок! Вам и уважение.
Машин. Польщен… польщен.
Лапинская (Ариадне). Писем нет?
Ариадна. А, все любовные дела. (Берет письмо с подзеркальника.) Получай.
Лапинская (отходит к окну, рвет конверт). Ничего не любовные. Ври на меня.
Ариадна. Иван Иваныч, а вы часто получаете любовные письма?
Машин (улыбаясь). Письма… Письма. (Вынимает из бокового кармана письмо.) Мне сосед пишет… клевера нет ли на продажу. А уж где там продажного… самому бы убраться, с покосом. Эхе-хе, хозяйство. Там ржи… посев. Время-то идет… Осенью зайчишек постреляешь.
Дарья Михайловна (улыбаясь). С кем тут и романы заводить!
Лапинская дочитала письмо, спрятала его и, мурлыкая, начинает слегка вальсировать. Приблизившись к Ариадне, берет ее и пробует изобразить danse de I'ours. Входят Полежаев и Игумнов, приодетые, в более приличном виде.
Ариадна (негромко, равнодушно). Петухи пришли.
Лапинская хохочет
Полежаев. Вот мы и попали на балетное отделение. Танечкина специальность.
Ариадна. Господин Игумнов, Таня Лапинская, моя приятельница и гостья, получила сейчас подозрительнейшее письмо, весьма ее развеселившее. Извещаю вас.
Игумнов. Ну, да чего уж там…
Входят Генерал, за ним Саламатам. Лапинская убегает Дарья Михайловна прибирает разбросанное, закрывает сундук.
Ариадна. А, генерал. Очень рада. Наконец-то, живой человек.
Генерал (веселый, бодрый, в тужурке отставного военного). Не менее того и я. (Целует ей руку.) Как изволите здравствовать?
Ариадна. Благодарю.
Генерал. А это, позвольте представить, пасынок мой, Алексей. Алексей Николаич Саламатин. (Все здороваются.) Он у меня недавно. Так прямо и говорит: скучаю, а-ха-ха, вези меня в гости.
Саламатин (молодой человек лет двадцати трех, элегантно одетый). Да что же мне, сиднем сидеть? Я люблю общество.
Генерал. Не договаривает, смею уверить. Без дам скучно. Ариадна Николаевна, ручку. (Целует ей опять руку.) Женщины – лучшее украшение вселенной. Леонид Александрович, не сердитесь. Я в том возрасте, когда не ревнуют.
Полежаев (улыбаясь). Все-таки вы не без яду, генерал.
Генерал. Мой яд выдохся-с весь, с годами. Осталось одно доброе расположение духа.
Полежаев. У вас всегда доброе расположение. Даже завидно.
Генерал. Нормальная, умеренная жизнь, батюшка мой. Mens sana in corpore… a-xa-xa… Деревня, воздух, движение, хозяйство… хотя, конечно, бывает и адски скучно… Рвешься…
Полежаев. Так жить – лучше…
Генерал. Хозяйничайте! (Берет под руку и несколько отводит.) Работайте! Позвольте-с, да ведь в деревне…
Они разговаривают. С ними Игумнов и Машин Дарья Михаиловна незаметно ушла. Ариадна в кресле. Саламатин у стола.
Ариадна (холодно). Вы студент?
Саламатин. Да.
Ариадна. Учитесь там… чему-нибудь у себя? Ну, в университете?
Саламатин. Нет.
Ариадна (несколько утомленно). Да ведь надо ж…
Саламатин. Презираю.
Ариадна. А-а!
Саламатин. Я в теннис играю. И вообще во всякие игры.
Ариадна. Блестяще.
Саламатин. Езжу верхом, гребу, стреляю. Хожу пешком.
Ариадна. Пешком. Это здорово! (Оживляясь.) Взять, и уйти Бог знает куда.
Саламатин. Не Бог знает, а куда себе назначу.
Ариадна. Палку, котомку, да по большакам с богомолками. Куда-нибудь в монастыри. (Задумчивее.) Я сама об этом иногда думаю.
Саламатин. Тут и думать нечего. В монастырь, так в монастырь.
Ариадна (точно не слушая его). Бываают такие удивительные утра… По росе далеко можно уйти, и так дышаться будет легко! Под березой на большаке позавтракать. Выложу краюшку хлеба, пару яиц, луковку… Колокола зазвонят в монастыре… верст за десять… Ах, ну это все фантазии.
Игумнов (хохочет). Леонид собрался хозяйничать. Па-атеха! Он теперь читает книжку о садоводстве, и на основании ученых правил обрезает яблони.
Генерал. Великолепно-с! Дело. Обрезание садов есть акт культуры, и следует поддерживать пионера.
Полежаев. Деревенским жителям все мои занятия кажутся смешными. Наконец-то генерал меня одобрил. Это приятно.
Генерал. Культура, батюшка мой, сельскохозяйственная культура! И надо мной смеялись, когда я – первый, заметьте – ввел здесь отправку молока в столицу. Что же мы видим? Те лишь и выдержали, кто перешел на молоко.
Игумнов. Optime. Все же во время покоса обрезать сады… это, знаете, все равно, что на колоколах в церкви польку вызванивать.
Генерал. Не по сезону немного – не беда. (Громче.) Ариадна Николаевна, вы благоверного не сбивайте, пусть делами своими занимается. Это не завредит, как говорят южане. Нет, матушка, не завредит.
Ариадна (оборачиваясь). Я никого ни с чего не сбиваю, генерал.
Саламатин. Ариадна Николаевна, оказывается, тоже любит странствовать.
Ариадна (Саламатину, слегка вспыхивая). Никогда я странствиями не занималась.
Саламатин. Вы же сами…
Ариадна. Ничего не значит. Еще неизвестно, что я сделаю… а… а раньше вовсе ни по каким большакам не ходила. Саламатин. Вон вы какая!
Ариадна (устало). Никакая. (Откидывается глубже в кресле.) Плохо вас занимаю. Какая-то слабость, тяжесть… (Трет себе виски.)
Генерал (Полежаеву). Я утверждаю одно: работайте, организуйте, вносите просвещение, но никаких сантиментов. В деревне нужна ясная и твердая политика. Если мужик ворует, я не буду заключать его в объятия и взывать: «Друг, младший брат, тащи еще». Нет-с! Воруешь – ответишь. Закон-с! Порядок.
Игумнов (указывая на Полежаева). Втолкуйте ему это. Обратите его в сельского хозяина.
Полежаев. И ты, Сергей, не сразу постиг все. А теперь, однако, добился… стал таким – небольшим помещиком.
Игумнов (хохочет). «Однодворец Овсянников».
Полежаев. У меня же имение большое, но нету знаний. Но ведь и я могу их приобресть.
Игумнов (хлопает его по плечу). Я сын попа, семинарист, певчий, а ты барин. Ты – любитель искусств, о живописи пишешь, а я – хам. (Хохочет.)
Полежаев. Только начнешь размышлять об устройстве жизни – тысячи препятствий.
Ариадна (Саламатину). А у вас не бывает желания взять да и сдернуть все это… ну, жизнь… как скатерть со стола, чтобы вдребезги, вдребезги…
Саламатин (закуривая). Не бывает. Это истерия.
Ариадна. Вот отлично. А когда тебе скверно? Если человеку так ужасно скверно, что хоть топись?
Саламатин. Чепуха. Никаких страданий нет. Играйте в теннис.
Ариадна. Теннис? Все ваш теннис? Ха-ха! (Раздраженно смеется.) Никаких страданий. Ах, Боже мой! (громко). Слышишь, Леонид, Алексей Николаевич сказал: никаких страданий? (Кладет голову на стол, продолжает смеяться.) Э-эх! Ничего-то ничегошеньки… Что ж, ладно. (Вдруг бледнеет, хватается за ручки стула.) А… да… (Пробует встать.) Как в сердце больно, Леонид, если бы знал…
Полежаев (подбегает). Опять… это?
Ариадна. Сейчас пройдет. (Тихо). Сейчас все пройдет. (Полежаев полуобнял ее. Она слабеет, голова запрокинулась, бледна, безжизненна)
Полежаев. Обморок.
Вое встревожены, подходят.
Генерал. Неожиданно! Игумнов. Ослабла Ариадночка. Машин. Одеколоном бы… тово.
Полежаев. Простите, господа, оставьте нас… на несколько минут. (Старается посадить Ариадну. Она валится) Главное, чтобы задышала… это с ней бывает… Ничего. (Расстегивает ворот платья.) Чтобы задышала…
Игумнов как бы выпроваживает генерала, Машина и Саламатина, беря их под руки.
Игумнов (вполголоса, успокоительно). Прой-дет! Нервности все.
Стараясь не шуметь, выходят.
Генерал (в дверях). Но… причина?
Игумнов пожимает плечами. Ариадна минуту лежит недвижно, потом глубоко и громко вздыхает. Полежаев, сидя рядом, гладит ей руку.
Ариадна (очень слабо). Вот теперь голова болит. (В голосе слезы) Дай понюхать чего-нибудь. (Полежаев берет со стола флакон.) Опусти шторы, пожалуйста.
Пока он опускает их, Ариадна мочит платок духами, трет виски, прикрывает голову платком; в комнате стало сумрачно.
Полежаев. Так, кажется, хорошо. (Приставляет к дивану ширмочку)
Ариадна. Долго я была на том свете? Полежаев. Минуту, две.
Ариадна. А показалось – долго. Даже будто сон видела. Черные бабочки летали.
Полежаев. Ты уж теперь-то потише, отдохни.
Пауза.
Ариадна. Так бы вот лежать и лежать… Долго больной бы быть, потом выздороветь… и все забыть.
Полежаев. Ариадна, дорогая…
Ариадна (жмет ему руку). Не сплю по ночам… и ослабела. При чужих… Даже не так ночью, а проснешься утром, в пять, и вот, белая вся лежишь и мучишься. А потом, когда умываешься, то плачешь. Это я заметила. Но бывают минуты, как сейчас… вдруг отойдет, и сердце станет чистое; светлое, точно сошел в него ангел божий. Сладко станет. Все забудешь. Хочется плакать, умереть. Как прежде, гладить эти вот волосы.
Полежаев (положил ей голову на колени). Пора, пора… Забыть все, жить начать… как прежде.
Ариадна (приподымается). Как прежде. (Лицо ее темнеет.) Это ты… как сказал.
Полежаев. Иначе – гибель.
Ариадна. Сны! Мечты!
Пауза.
Полежаев. Ты говоришь, бывают минуты, когда ангел Божий сходит в сердце.
Ариадна. Только минуты.
Полежаев. А я верю, придет час, когда совсем раскроется твоя душа… и ты все примешь, все простишь. Моя, так называемая, измена…
Ариадна. Это почему же?
Полежаев. Твоя душа горячая, добрая…
Ариадна. Откуда ты взял? Какая добрая?
Полежаев. Ариадна!
Ариадна. Предатель. Ты меня погубил. Лучшее, лучшее, что было… (Полежаев закрывает лицо руками.) Не могу. Уходи, пожалуйста. В этом доме я счастлива была… Добрая! А ты обо мне помнил тогда, с той?
Полежаев. Зачем…
Ариадна. Позови генерала, и Саламатина… всех. Чтобы Лапа явилась. Уйди!
Резко вскакивает с дивана Подходит к окнам, подымает шторы.
Полежаев (уходя). Хорошо!
Ариадна. Полумрак! Мечтательность! Жалкие слова.
Припрыгивая, вбегает Лапинская.
Лапинская (как бы слегка балуясь). Ар-рн-адна, ты чего ж это, помирать собралась? Мне горничная говорит: «И совсем это барыня бе-елая лежит, и только ножками дрыгает».
Ариадна. Все врет. Ее и не было тут.
Лапинская. Слушай, да ты, действительно, как мел. (Всматривается.) Вот что: брось ты со своим султаном возиться. Черт знает, нет, это меня возмущает.
Ариадна. Глупо. Он, во-первых, не султан.
Лапинская. Ну, далай-лама, эмир бухарский…
Ариадна. Пристают с чепухой. И главное, у самой какие-то таинственные переписки, нынче восторги, завтра слезы…
Лапинская (хлопая платочком по столу). Эх, ты-ы, жизнь наша девичья.
Ариадна. Да еще, между делом, с Сергеем финтишь. (Дерет ее за ухо.) Щенок дрянной!
Лапинская (вертится и выкручивается). Насчет Сергея Петровича я совсем даже ничего… Ни в одном глазу. В нем и ходы никакого нет.
Ариадна. Смотри у меня!
Входит Игумнов. В руке у него две розы.
Игумнов. Я говорил, что Ариадна очухается. Она живучая! (Берет со стола ножницы, аккуратно срезает стебли роз.) Ты двужильная, Ариадна?
Ариадна. Трехжильная.
Игумнов (Лапинской). Сии розы дерзает поднести скромный земледелец.
Лапинская приседает, делает реверанс и насмешливую гримасу Берет розы, нюхает.
Лапинская. Одну дарю Ариадне. Которая больше. Можно?
Игумнов. Ваша воля.
Ариадна. Спасибо, Лапа. (Лапинская прикалывает ей розу) К обеду прифранчусь.
Входит Генерал, за ним Саламатин
Генерал. И очень рад видеть вновь… в состоянии здравом…
Ариадна (преувеличенно-горячо и быстро). Да! Что ж это киснуть вечно… (Открывает окно.) Благодать, свет. А мы в обмороках валяемся.
Генерал. Напрасно-с.
Саламатин. И еще давеча говорил.
Генерал. Между прочим, я давно собираюсь вас позвать, милая хозяюшка, и ваших друзей (обращается к Лапинской и Игумнову; Игумнов, улыбаясь, что-то говорит ей) ко мне, запросто. En petit comite[22]. Можно устроить пикник, катанье на лодке. Faute de mieux[23], поездку на автомобиле.
Саламатин. Машина новая. Сорок сил.
Лапинская. Здорово!
Игумнов. Бездельники! Ну, это бездельники. Кому покос, а кому автомобиль.
Лапинская. И косите, складывайте, пожалуйста, свои копны, стога…
Игумнов (отпрядывая). Виноват-с, виноват.
Генерал. Покос – покосом, а развлечения – своим порядком. У культурного человека развлечения чередуются с трудом. Это придает жизни, как бы сказать, le gout de bon vin.
Ариадна (со слезами в голосе). «О, юность светлая моя!» Генерал, у вас вино найдется? У вас-то, да у настоящего, порядочного генерала, чтобы шампанского не было?
Генерал. Вне спора. Вне спора.
Ариадна. Чем не жизнь? Приеду, обязательно приеду… Напьюсь…
Горничная (в дверях). Барыня, кушать подано.
Ариадна. А пока что, у меня позавтракаем. Пожалуйста. Где Иван Иваныч?
Игумнов. Удрал, разумеется!
Ариадна. Конечно. Развеселая жизнь! Генерал, вашу руку. Все идут в столовую.
Действие второе
Старинная беседка с колоннами, у пруда, на возвышении; холм довольно крут, в нем, ниже беседки, некогда был грот, теперь входное отверстие запирается решеткой, слева родник с каменным водоемом, из античной маски бежит вода Золотистый, очень погожий вечер Над прудом стрекозы Иногда проносится низко над водой голубая птичка. В беседке Игумнов, красный, расстегнув ворот рубашки, и Полежаев
Полежаев. Недавно я встал утром в ужасно горьком состоянии. Прямо пошел мимо пруда, и думал, как нередко за последнее время, что погибаю. Вот. На пруду камыши есть. Когда я с ними поравнялся, вдруг они зашелестели. Будто некоторый слабый, нежный дух сказал мне нечто. Я остановился. В горле слезы. Вдруг показалось, что не все еще пропало.
Игумнов. Ну, конечно, поэзию развел. Нервы ослабели, и все.
Полежаев. Да, уж не очень сильны. Игумнов. А, чер-рть. Трудно в этих делах. Никуда не спрячешься.
Полежаев. Я и не прячусь. Все же голубая бездна над нами, благоухание покоса, сияние солнца перед вечером дают как бы мгновенное отдохновение… Интервал в тоске.
Игумнов. Ф-ф-у-у! (Качает головой)
Полежаев. А иной раз в такую минуту взглянешь на крестьян, мужиков, среди которых мы живем, и даже позавидуешь, как ясно все, как просто. Твердый, прямой путь.
Игумнов. Э-э, братец ты мой, хитрая штука.
Полежаев. Но когда почва под ногами колеблется… все принимает туманно-обманчивый облик…
Игумнов (смеется). Ты режешь свои яблони и думаешь, что нашел истину?
Полежаев. Ах, ну, где же истину? Какие слова! Но чем-то жить надо…
Игумнов. Свой путь! Мне бы, в сущности, на покос надо, а вот сижу тут… и чего-то жду.
Полежаев. Ты-то, кажется, крепко… на ногах стоишь.
Игумнов. Крепко… крепко. Может быть. Был я певчим, мечтал в театр поступить. Собрал бы пожитки в кулечек, палку в руки, да в Москву, по шпалам. Однако, это не вышло. А случилось, что вон там, за твоим парком, пригнездилась и моя усадебка. Что называется – ближайший сосед. Ты думаешь, хозяйничать очень весело? (Пауза) Ну, то ушло, как юность, глупость. Но одно осталось… (Смеется, как бы конфузливо.) В мужицкой душе осталось желание… какой-то красоты, прелести… пожалуй, чего и нет в жизни.
Из парка выбегает Лапинская.
Лапинская. Ужасно смешной дяденька тут сейчас был. Дарья Михайловна косарям водки подносит, ну, как он усы обтирал, и такие серьезные-серьезные глаза, закинул голову, водка буль-буль, крякнул и огурчиком заел. Пресмешной.
Полежаев. Может быть… мне взглянуть на покос?
Лапинская. Только тебя и недоставало. Да что это, право, здесь все работать собираются? Прямо рабочая артель. И мы с Дарьей Михайловной варенье варили… вон там у нее такая печурка устроена на воздухе…
Игумнов (точно проснулся). Варенье варили?
Лапинская (взглядывает чуть с усмешкой). Да, мой ангел. Крыжовенное. Ваше любимое. Дабы зимой доставить вам скромное деревенское развлечение.
Полежаев. Ты Ариадны не видала?
Лапинская. Ну, твоя Ар-риадна… Я уж и не знаю, где она теперь. С полчаса назад заезжал этот генеральский юноша… на автомобиле. И тотчас они сцепились. lis etaient sur le point de поругаться. Ариадна непременно хотела сама править. А он говорит: это вздор, вы не умеете. Ну, и она ему вдесятеро. Так что дело пошло на лад.
Полежаев. Да уж она выдумает. (Уходит.)
Лапинская. Му-удрит Ариадна. Последний раз у генерала бутылку шампанского вылакала. Назад едем, она говорит: «Хочешь, сейчас под машину выброшусь?»
Игумнов (как бы выходя из задумчивости). Вы сказали: ангел мой. Как…
Лапинская. Это я нарочно. В шутку, Сергей Петрович.
Игумнов. За идиота меня считаете… Разумеется, понимаю. И все же…
Лапинская. Ах, ничего не за идиота. Просто я все острю, острю. И что это, правда, со мной такое?
Игумнов. Вам захотелось посмеяться. Больше ничего.
Лапинская (как бы про себя). Да, на самом деле, чего это я все острю?
Игумнов (улыбаясь). Все равно. Расскажите, как варенье варили.
Лапинская. Это глупо. Варили и варили. Ничего интересного.
Игумнов. Полоумие! Нет, позвольте, почему же по утрам, когда я прохожу под окном, где вы спите, то снимаю шляпу, и кланяюсь, с идиотическим видом? И в душе у меня звон в колокола?
Лапинская (свистит, как мальчишка, сквозь зубы). «Честь имею вас поздравить со днем ваших именин».
Игумнов. Начинает разводить!
Лапинская. Хорошо, друг мой, я вас понимаю. Я сама такая же шальная, когда влюблена.
Игумнов. Вы и сейчас влюблены. В кого? В кого вы влюблены?
Лапинская. Oh-Ia-Ia!
Игумнов. Свистите, острите, издевайтесь сколько угодно, запускайте французские слова, все равно, вы так же очаровательны и знаете это, и, как настоящей женщине, вам нравится, что около вас человек пропадает.
Лапинская. И вовсе не очень нравится.
Игумнов (резко). От кого письма получаете? Почему все время…
Лапинская (спокойно). От друга.
Игумнов. Да, ну…
Лапинская. И как допрашивает строго! Прямо помещик с темпераментом.
Игумнов (глухо). Глупо, до предела. Разумеется, как болван себя веду. (Помолчав.) В Москве вы будете рассказывать приятельницам, как летом в вас влюбился мужлан и приревновал… ха… скажите, пожалуйста, какой чудак! Комическая фигура…
Лапинская. Ничего не буду рассказывать. Совершенно не буду.
Игумнов. Во всяком случае, должны. Да и правда, смешно. Жил-был человек. Попробовал то, другое, женился на скромной девушке, поповне…
Лапинская. Только не впадайте в сентиментальное восхваление жены…
Игумнов. Получил крошечное именьице, и погрузился в молочное хозяйство, в жмыхи, сеялки, клевера.
Лапинская. И преуспел.
Игумнов. Преуспел.
Лапинская. Нивы его стали тучны, овцы златорунны. Житницы…
Игумнов. Все перебиваете.
Лапинская. И вот предстала пред ним дева из земли Ханаанской, собою худа и плясовица, и многим прельщением наделена. Он же захотел преспать с нею. Одним словом… ну, дальше я не умею. Только ничего не вышло. Лишь себе напортил.
Игумнов. Вот именно. А она укатила, все такая же счастливая, веселая.
Лапинская. Ошибка! Она уехала, и все по-прежнему не знала… одного не знала…
Игумнов (кротко). Кого бы еще в себя влюбить.
Лапинская (смотрит на него внимательно и как бы с грустью). Она не знала, любит ее друг, или не любит?
Игумнов. Конечно, любит.
Лапинская (совсем тихо). А она сомневалась. И все острила, все дурила…
Игумнов. Она была… прелестная.
Входит Дарья Михайловна
Дарья Михайловна (раскраснелась от варки варенья, голова повязана платочком, сверх платья передник. В руках держит блюдечко). А вы таки сбежали, Татьяна Андреевна. Не дождались вишен, да и крыжовник без вас дошел. Боялись, что пожелтеет. А видите, какая прелесть. Смотри, Сережа, прямо зеленый, точно сейчас с ветки. (Протягивает блюдце с горячим еще вареньем)
Игумнов. Зам-мечательно!
Лапинская (берет ложечку). Я люблю сладости. Можно?
Дарья Михайловна. Пожалуйста.
(Лапинская быстро и ловко смахивает в рот все варенье.)
Игумнов (смеется). Только мы и его видели. Ничего не оставила?
Лапинская. Что ж на него смотреть.
Игумнов. Цо-п! И пустое блюдечко.
Дарья Михайловна. Как ты странно говоришь. Будто упрекаешь Татьяну Андреевну. Я затем и принесла, чтобы пробовали.
Игумнов. Да, странно. Конечно, странно. (Смотрит в сторону.)
Дарья Михайловна (садится). Тут такое место красивое, посидела бы, да некогда. Мужики говорят, нынче молодого сада не выкосить. Трава буйна. И понятно, просят еще водки. (Игумнов молчит.) Да, забыла тебе сказать: заезжали из лавки, от Сапожкова, в среду теленка режут, предлагают телятины. Что ж, по-твоему, взять?
Игумнов (не сразу). Как знаешь.
Дарья Михайловна. Теленок хороший, поеный. Это уж я знаю. А у Аносова опять Бог знает что дадут. Как ты посоветуешь? (Игумнов молчит) Сережа, ты слышишь?
Игумнов. Слышу.
Лапинская. Ну что ж, вам русским языком говорят, брать у Сапожкова, или нет?
Игумнов (резко встает). Да ну их к черту, всех ваших Сапожковых, Телятниковых, Собачниковых.
Дарья Михайловна. Чего же ты…
Игумнов. Мне это надоело. Понятно? Смертельно надоело. Покупайте телятину, баранину, свинину, я пальцем не пошевельну. (Уходит)
Дарья Михайловна. Рассердился! Что такое? (Смущенно) Правда, какой нервный стал. Из-за пустяка вспыхивает…
Лапинская. Эти великие визири все такие.
Дарья Михайловна. Какие визири?
Лапинская. Ну, мужья. Воли много забрали.
Дарья Михайловна. У Сережи, правда, характер горячий, но всегда он был добр со мной. А последнее время… Так неприятно. Ему будто вес скучно, апатия какая-то. Говорит, мы здесь страшно опустились.
Лапинская. Все они жалкие слова говорят.
Дарья Михайловна. Конечно, здесь не столица… И многого ему не хватает. Он очень музыку любит… Теперь его интересуют новые танцы, вот, как вы танцуете.
Лапинская. Наши танцы все ф-ф, мыльный пузырь.
Дарья Михайловна. Я его даже понимаю. Да что поделать? Мы не можем жить в городе.
Входят Машин и Полежаев.
Машин. Прямо, знаете, Леонид Александрович… надо бы сказать… посоветовать. (Кланяется Лапинской, Дарье Михайловне.)
Полежаев. Иван Иваныч недоволен…
Машин (дамам). У меня в жнее шестеренка поизмоталась… думаю, у соседа не нашлось бы. Только, на московское шоссе выезжаю, из-за поворота… да… автомобиль. Вороненький мой в сторону, дрожки совсем было набок… я-то удержался, все же. Помиловал Бог.
Дарья Михайловна. Чей же это автомобиль?
Машин. Генералов, как есть… генералов. И так, знаете ли, мчался… просто пыль… тучей. Точно бы мне показалось – Ариадна Николаевна за управляющего. Молодой же человек этот, господин Саламатин, сзади, на сиденье.
Лапинская. Ариадна покажет.
Дарья Михайловна. Мне сегодня говорит: хочу, говорит, попробовать, как это сто верст в час ездят.
Машин (Полежаеву). Да… ну, а насчет шестеренки как же? У вас-то, запасная найдется? Машина та же… Адрианс-платт.
Полежаев. Вероятно… Конечно. Я думаю, найдется. Хотя, говоря откровенно, и сам не вполне знаю, что у нас есть, чего нет.
Лапинская. Иван Иваныч, а что вы думаете о любви?
Машин (недоуменно смотрит на нее). Я говорю: шестеренки нет ли…
Лапинская. А я вас спрашиваю, каков ваш взгляд на любовь.
Машин (Полежаеву). И номер помню: сто семьдесят-а.
Лапинская (сбегает к водоему). Прямо, со мной и разговаривать не желает.
Машин. Вы все барышня… а… тово. Я не знаю, как отвечать. (Улыбается.)
Лапинская. А вот я вас прохвачу за это. (Брызгает водой.) Шестеренка. Раз! Еще.
Машин (смеется добродушно). Так ведь и выкупаешься, право.
Быстро, в волнении, входят Ариадна и Саламатин.
Саламатин. Нельзя, вы понимаете, нельзя браться за руль, если не умеешь. И пускать машину полным ходом.
Ариадна. Тогда зачем было со мной ехать?
Саламатин. И минуты не думал, что вы так…
Ариадна. Хотите сказать, что я сумасшедшая?
Саламатин. Такое слово…
Полежаев. Да позвольте, в чем дело?
Дарья Михайловна. Ариадночка, вся белая…
Саламатин (раздраженно). А то, что благодаря Ариадне Николаевне, мы чуть шею себе не свернули.
Машин. Уж очень быстро ездите… господа. Разве же можно?
Саламатин. А вы поговорите с ней, я вас очень прошу, убедите Ариадну Николаевну, что кроме ее причуд и фантазий еще кое-что имеется.
Ариадна (Саламатину). Просто вас надо было прогнать.
Саламатин. Меня прогнать не так-то просто.
Полежаев (сидит рядом с Ариадной, очень встревоженно). Да как… это все?
Ариадна. Мы возвращались… совсем и не быстро…
Саламатин. У ней и прием не тот, руки не сильны. Машина виляет. Черт знает что!
Ариадна. Да вы… вы сами, убирайтесь вы! (Вся дрожит от гнева.) Я вас и не просила со мной ехать. Машина генералова.
Дарья Михайловна. Что ж, наскочили на кого?
Ариадна. Просто домой возвращались, и на шоссе, на повороте, я не рассчитала, не успела. Автомобиль в канаву… но мы целы… только ушиблись.
Саламатин (окружающим). Нет, вы понимаете, я, как спорт-мен, я должен протестовать против подобного отношения к делу.
Лапинская. Ох, эти мне спортсмены.
Дарья Михайловна. Ну, ну, Ариадночка, ты мне потом спокойнее расскажешь. А то дела мои… (Уходит)
Ариадна. Алексей Николаевич, вы со мной дерзки.
Саламатин. Не знаю, кто дерзок…
Ариадна. А я знаю. И не хочу с вами разговаривать.
Саламатин. Ах, пожалуйста… (Быстро уходит.)
Ариадна. Мальчишка! Туда же!
Лапинская. Называется, Ариадна распалилась.
Ариадна (вдруг устало). Оставь, Лапа. Право, ну что это такое…
Машин. Да… ничего. Вот и шум вышел. (Ариадне). Хорошо еще, ножку себе не зашибли. А то недельки бы две похромали… как лошадка закованная. (Полежаеву). Так как же насчет шестеренки? Стало быть, к вашему приказчику?
Полежаев. Конечно, конечно.
Машин. Так-с. А засим, мое почтение. (Подает Ариадне руку.) Всяких благ. (Отходя, как бы про себя.) Я и номерок помню… сто семьдесят-а…
Лапинская (за ним, передразнивая его походку и интонацию). Я и номерок помню… сто семьдесят, а…
Ариадна (вполголоса). Блаженни чистии сердцем. (Минуту сидит молча, как бы в глубоком утомлении. Полежаев встает, делает к ней шаг.) Ай, не наступи! Наступишь.
Полежаев. На кого… на что?
Ариадна. Вон Божья коровка ползет, по хворостинке. (Показывает пальцем) Дай сюда. (Полежаев подает ей прутик.) Ты бы и раздавил. А это, может, у них все равно, что Иван Иваныч. Тоже, может, по прутику ползет и про какую-нибудь шестеренку думает. Но не нашу, а как у них там полагается.
Полежаев (наклоняется, целует ее руку). Все такая же, Ариадна.
Ариадна. Нет, не такая. Я теперь не такая. Когда мы путешествовали… ну, раньше, ты мне раз читал, как святой Франциск всех птиц любил, зверей. И раз даже пожалел волка, из Губбио. Я вот теперь – этот самый волк. Одичалый. Очень одичалое существо. (Пауза.) Божья коровка, божья коровка, где мой милый живет? Смотри… полетела. (С горечью.) К нашему дому. Так что выходит, этот милый – ты. (Бросает прутик)
Полежаев (серьезно). Да, я.
Ариадна. Так было. Но не теперь.
Полежаев. Ты нарочно… ты… из автомобиля… нарочно?
Ариадна молчит В пруду гаснет розовая заря Над парком, бледно-фиолетовая, обозначилась огромная луна Ариадна оперлась подбородком на перила, смотрит в пруд
Ариадна. Меня куда-то уносит. Я лечу… И все дальше, от тебя дальше. (Встает и опускается к водоему.) Мне самой страшно. Что же мне делать? Пусто очень, холодно. Точно вон в тех небесных пространствах я мчусь…
Полежаев. Ты улетаешь? Но тогда, знай…
Ариадна. Я видела нынче образ смерти. Как близко! Как желанно!
Полежаев. Ариадна, остановись.
Быстро входит Игумнов
Ариадна. А, вот кто. Поди сюда. (Игумнов приближается.) Далеко идешь?
Игумнов. Далёко.
Ариадна. Ближе стань.
Игумнов (нетерпеливо). Да чего тебе? (Подходит вплотную. Она смотрит ему в глаза внимательно и упорно.)
Ариадна. У тебя глаза сумасшедшие. Знакомые.
Игумнов (свистит). Э вуаля ту?
Ариадна (зажала в обеих руках по цветку). Вынь, Сергей.
Игумнов. Паче и паче Ариадна беснуется… (Вынимает оба.) Ну, хорошо? (Она молчит. Он отходит.) Да, передай жене, что я дня три не вернусь. (Уходит.)
Ариадна. Не захотел гадать. (Луна несколько поднялась. Ее луч играет в струе, бегущей из античной маски.) В холодной струе блестит луна. Я чувствую смерть. Спокойное, великое ничто.
Полежаев. Но тогда ты – не одна. Ариадна. Ах, не одна?
Полежаев. Смерть тогда не для тебя одной.
Ариадна (холодно). Этого я не знаю.
Полежаев. Посмотрим.
Действие третье
Кабинет Полежаева – большая комната, с дверью на балкон Довольно много книг. Письменный стол посреди. На нем бронзовый бюст Данте. По стенам фотографии прямо пред зрителем средина фрески Рафаэля «Афонская школа» Поздний вечер День рождения Ариадны. В доме гости. Дверь на балкон отворена На столе небольшая лампа под зеленым шелковым абажуром У пианино.
Лапинская (аккомпанируя себе, напевает):
Как невозвра-атная струя Блестит, бежит и исчеза-ет, Так жизнь и юность убега-ет.Входят генерал и Полежаев.
Генерал. А-а, мы, кажется, мешаем.
Лапинская (прерывая музыку). Ничего, п'жжалуйста. Если секреты, я уйду.
Полежаев. Какие секреты.
Лапинская (продолжая наигрывать):
В га-арем так исчезну я-а!Генерал. Стихи, полагаю, Пушкина. Но мотив-с?
Лапинская. «Так жизнь и ю-ность убегает…» Мотив – это просто я запомнила, раз в Москве поэт стихи свои читал… да он их не читал, а так, знаете, пел и раскачивался. (Встает и изображает, как раскачивался) Многие смеялись, а мне понравилось. Очень, по-моему, пронзительно.
Генерал. Я и говорю: для настоящей русской девушки непременно надо меланхолическое, изволите ли видеть, пронзающее. Об-бязательно!
Лапинская. Что ж, тогда я пупсика изображу. (Играет.)
Генерал. Э-э, я против крайностей. Est modus in rebus. A-xa-xa… Золотое правило меры. Я западник. Сторонник западной культуры.
Полежаев (подает ему книжку). Вот вам Запад. Книга, напечатанная в Лукке, в 1788 году. (Со вздохом). Да, это я, конечно, тоже люблю.
Генерал (рассматривает). Гольдони мило. (Лапинская встает и подходит.) А-а, как тогда издавали-с.
Лапинская. Переплет больно хорош.
Генерал. Позвольте. К печати разрешил «доктор священной теологии, Франческо Франчески». А-ха-ха! ха! Да, но я, собственно, не о том… а больше о нашей отечественной культуре. Истерия-с! Нервозность. Вот основа души.
Лапинская (отходит, садится на диван с ногами). Сейчас генерал нас и прохватит. (Вздохнув.) Что называется, с перцем. По-военному.
Генерал. Прохватывать незачем-с. Я сам, знаете ли, поклонник женщин, особенно русских… а-ха-ха… но посудите сами: Ариадна Николаевна, милейшая, эксцентричная наша хозяйка и ныне именинница… Лапинская. Рожденница.
Генерал. Виноват! Изящнейшая рожденница… и тем не менее… я очень извиняюсь перед Леонидом Александрычем, но ведь это факт, что тогда, во время пресловутого катанья на автомобиле, и она, и мой Алексей были на волоске… так сказать, от весьма неприятных последствий.
Лапинская. Да уж прямо говорите: чуть не расквасились.
Генерал. Это называется – быка за рога. Очень мило, романтично, игра с опасностью, но согласитесь…
Лапинская. Ариадна возненавидела вашего пасынка. Говорит, что он трус.
Генерал. И снова – чисто русский взгляд на храбрость. Человек не желает свертывать себе шеи ни с того, ни с сего – и он трус. А между тем…
В двери с балкона показывается гость, соседний помещик
Перелешин (в былом жилете, невысокий, полный. Видимо, выпил. Лицо красное, усы несколько взбиты.) Кабинет! Это хозяин, генерал, барышня… забыл, как звать, но представлен. (Неожиданно низко кланяется Лапинской.) Еще раз! На всякий случай. (Полежаеву). В поисках, за содовой. Там это, знаете, бенедиктинчики, мараскинчики… Ну, и Ариадна Николаевна старается – гостеприимная хозяюшка у вас, вполне такая приветливая. Да. Сейчас и все сюда идут, просят Анну Гавриловну спеть… а-а… с гитарой, цыганщину всякую.
Полежаев (указывая на дверь). Пожалуйста в столовую. Вам дадут.
Перелешин. Па-акорнейше благодарю! Па-акорнейше. (Идет к двери, про себя вполголоса). Там, это, мараскинчики, бенедиктинчики…
Генерал. Вот вам и российская фигура-с. Потом впадет в умиление, будет каяться во грехах… и попросит взаймы.
Полежаев. Российская. Что касается грехов, то каяться в них… разумеется, не в пьяном виде, может быть, и не так уж плохо.
Из той же двери, что и Перелешин, входит с балкона Ариадна, полуобняв высокую, сухощавую Анну Гавриловну, в руках у той гитара; Саламатин, Игумнов, Машин.
Анна Гавриловна (Полежаеву). Меня петь просят. Да уж какой мой голос.
Ариадна. Знаю, какой. Сюда, на диван. (Звонит.) Дадут нам кофе, вина.
Анна Гавриловна. Все-таки стесняюсь. Да, может, и не в этой комнате… (Осматривается.) Тут кабинет. Все книги.
Ариадна. Нынче мое рожденье. Что хочу, то и делаю.
Полежаев (Анне Гавриловне). Нет, пожалуйста. Я очень рад.
Ариадна. Вы видите, он рад. Он всегда от чего-нибудь в восторге.
Полежаев. Я, действительно, рад, что будут петь… но сказать, чтобы я всегда… (Пожимает плечами.) Ариадна. Виновата!
Все садятся на огромный диван, где Лапинская устроилась с ногами. В центре
Анна Гавриловна.
Игумнов. Стоп-п! (Делает руками рупор, кричит). Ариадна, задний ход!
Ариадна. Обидела поэтическую натуру! Pardon. (Вносят кофе, вино. Ариадна наливает себе.) Я, генерал, кажется, вас шокировала тогда… ну, собою, всем своим видом и дурным поведением. Пожалуй, и сейчас шокирую. Извините. Но, все равно, выпью.
Генерал. А-а, кроме удовольствия ничего мне не доставляли.
Лапинская (Машину). Дяденька, Иван Иваныч, сядьте ко мне поближе.
Машин (берет стул, придвигает его к краю дивана). А вы что же нынче… не тово, не щебечете?
Лапинская. Это птицы щебечут, а уж мы просто разговариваем.
Машин. Я понимаю, да ведь так… как вы барышня… и выразился.
Лапинская. Голубчик, Иван Иваныч. По-старинному, с изяществом!
Саламатин. Внимание, господа!
Анна Гавриловна, аккомпанируя себе на гитаре, начинает цыганский романс. У нее голос небольшой, низкий, но приятный. В середине романса приотворяется дверь из залы. Там стоит Перелешин, слегка дирижирует. Он очень увлечен, и вполне серьезен. По окончании – аплодисменты.
Перелешин (тоже аплодируя). Ручку! (Подходит.) Старый цыган Илья приветствует. (Целует руку Анне Гавриловне.) Эх, Москва, голубушка, Яр, Стрельна. Что деньжищ! ах, что деньжищ!
Анна Гавриловна. Вы ведь сами поете?
Перелешин. Масло, молочишко из имения – все там осталось… Векселишки, то-се… А теперь не пою. Был голос, но до свидания. Меццо-сопрано пропит-то… Там мараскинчики, бенедиктинчики…
Ариадна (Анне Гавриловне) Еще спойте!
Перелешин. Вот, например: «Мой костер в тумане светит».
Ариадна. Гадость!
Перелешин. Не нравится? Виноват. (Наливает себе ликеру) Своих ошибок не скрываю. (Пьет.) И не стыжусь. Виноват.
Анна Гавриловна. Я спою романс. (Задумчиво). Давно, когда еще я моложе была, меня научил, т. е. при мне пел, один мой знакомый. Тоже помещик.
Берет гитару и начинает. Перелешин опять слегка дирижирует. В комнате очень тихо. Романс кончается словами: «Когда б я смел, когда бы мог я умереть у милых ног». Окончив, Анна Гавриловна быстро встает и выпивает рюмку коньяку. Никто не аплодирует.
Генерал. Очень мило, хотя и… раздирательно. (Слегка похлопывает в ладоши.)
Анна Гавриловна. Сказать правду, меня эта вещь волнует.
Лапинская (Машину). Дяденька, отчего так жалостно?
Машин. А… да… вы, как барышня.
Лапинская. Цыганщина проклятая! (Ударяет кулаком по ручке дивана.) Возьму, и зареву сейчас. На весь дом.
Игумнов. А! Вот мы как.
Лапинская. Да, так и так, господин Игумнов, Сергей Петрович.
Ариадна. Чушь это все. (Передразнивая). «И умереть у милых ног». Скажите, пожалуйста. (Резко.) Сказки, басни! Никто ни у чьих ног не умирает. Необыкновенно изящно, поэтически: прийти – и тут же умереть, у самых ног. Ах, все это вранье. Кто действительно хочет умереть… (Замолкает.) Да и черт с ней, с любовью. Все навыдумали. Ничего нет.
Лапинская. Ар-риадна, не завирайся.
Ариадна. Молчи, Лапа. Ты девчонка.
Лапинская. Не так, чтобы очень.
Ариадна. Ничего нет. (Встает. Лицо ее бледно и измученно) Когда узнаешь это, страшно станет. (Озирается). Все куда-то уходит, и вокруг… призраки. (Приближается к письменному столу, где сидит Полежаев.)
Полежаев. Ариадна, больна? Что с тобой?
Ариадна. Мне нынче тридцать три года. (Берет книгу, которую раньше смотрел генерал.) Старинная книга, в золоченном переплете… моего ученого мужа… Любителя наук и искусств, который пишет сочинение «О ритме у Рафаэля». (Книга выскальзывает и падает.) И еще вокруг много разных изящных вещей и людей… Но (обращаясь к генералу), но, но, но…
Игумнов (Лапинской, указывая на Ариадну). Неправду говорит. (Наливает себе и Лапинской вина. Чокаются.) «И умереть у милых ног».
Лапинская (Машину). Что надо сделать, когда вас разлюбили?
Машин. Вот… вы… барышня… опять.
Лапинская. Нет, пожалуйста.
Машин. Да уж как сказать… ежели… да… (Делает жест рукой, будто кого-то отводя.) Тогда чемоданы… укладывать.
Игумнов. А ежели тебя и не любили никогда, ну, а ты сам… Э-эх, жизнь наша малиновая!
Машин. Это уж, батюшка… (Улыбается) Что уж тут! (Разводит руками.)
Лапинская (задумчиво). Если тебя разлюбили, то – чемоданы укладывать.
Саламатин (в балконной двери). Э, да позвольте…
Ариадна (медленно раздвинула портьеру. Там видно зарево). Усачевка горит.
Перелешин. П-жа-р-р! И никаких рябчиков.
Игумнов (вскакивая и оборачиваясь). Фу, черт. Как полыхает.
Все толпятся у окон. Слышны возгласы: «А не Гаврюхино?» – «Нет, Гаврюхино правей».
Саламатин (Ариадне). Это далеко?
Ариадна. Две версты. Летником ближе.
Саламатин. Едем.
Ариадна. Нет. Не хочу.
Лапинская. Если тебя разлюбили…
Игумнов (взволнованно). Тут насосишко есть… в ваш автомобиль можно?
Саламатин. Есть! Через пять минут трогаемся, через десять там. (Оборачивается к Ариадне.) У руля сам.
Игумнов. Сейчас. Переоденусь только. Леонид, твои сапоги надеваю. (Уходит.)
Ариадна (Саламатину). Сергей хоть помогать будет… А вы?
Саламатин (вспыхивая). Нынче ваше рождение. Не хочу ссориться.
Генерал (направляясь к выходу на террасу). Чисто русская картина. Горит деревня, но мы, баре, обязательно должны принять участие. Ибо и насосы, и таланты, и альтруистические чувства – все у нас. А-ха-ха… Не могу утерпеть. Иду, летничком.
Ариадна (садится в кресле у открытого окна). Идите, друзья, кто куда хочет, я не двинусь.
Одни – чтобы идти, другие, чтобы удобнее было глядеть, – все выходят на балкон. Остается Перелешин у столика с вином.
Перелешин (наливая рюмку). И пусть волнуются. (Выпивает) Уд-дивительно, как полирует кровь.
Ариадна (как бы про себя). Страшен пожар в деревне. Господи, детишки как бы не погорели… (Встает, холодно.) А впрочем… не все ли равно? (Перелешину). Философ – знай себе потягивает.
Перелешин. И прав. Пожар прогорит, и никаких рябчиков.
Ариадна. Аркадий Карпыч, знаете вы, что такое смертная тоска?
Перелешин. Когда по векселишке платить нечем.
Ариадна. Мне рассказывали, у одного человека зуб болел двое суток. Это в деревне было, помочь некому. Он ходил, ходил, да из револьвера себе в голову бац. И все тут.
Перелешин. Надо было иодом.
Ариадна. Уж не знаю. (Минуту молчит, потом оборачивается на зарево) Боюсь я пожаров.
Перелешин. Если от нас далеко, то ничего.
Ариадна (вздрагивая, как бы от воспоминания). Ну, так. Налейте рюмку. (Он наливает, она берет, и с этой рюмкой медленно, чтобы не расплескать, идет к двери в свою комнату.)
Перелешин. Куда же это?
Ариадна (невнятно). Ничего… ничего. Простите.
Перелешин. Ф-ть! В одиночестве желает дернуть. (Берет бутылку и протягивает. Ариадны уже нет.) Могу еще предложить. А… а впрочем, нет. (Обнимает бутылку и гладит.) Мам-мочку не отдам! У сердца. (Пробует засунуть в жилетный карман, не лезет.) Ну, ладно. (Встает.) Мы на вольный воздух. Там, пожары пожарами, а мы… для полировки крови.
Пошатываясь, идет к выходу, все обнимая бутылку. Ему навстречу с балкона Дарья Михайловна. Она входит торопливо, взволнованно.
Дарья Михайловна. Право, такой ужас. Усачевка вся выгорит.
Перелешин. А вы уже… с п'жа-ра?
Дарья Михайловна. Нет, дома была. Никого нет? (Оглядывается) Я ложиться уже собралась, и вдруг зарево это, набат. Слышите? (Вдали звуки набата) Вы Сергея не видели?
Перелешин. Им-мел несравненное удовольствие. Он, кажется, едет на пожар. Равно и госпожа Ла… Лап-апинская.
Дарья Михайловна. Ко мне не зашел…
Перелешин (уходя). Этого не знаю. Не могу знать. (Уже с балкона, громко и пьяно) Не могу знать!
Дарья Михайловна (одна). Во весь вечер не вспомнить… (Опускается к столику) Знает, что я одна в доме…
За дверью в комнате Ариадны громкие голоса, как бы шум борьбы. Дарья Михайловна настораживается. Игумнов спиной распахивает дверь и за руку выволакивает Ариадну Другой рукой пытается вырвать у нее коробочку.
Игумнов. А я тебе говорю: отдашь. Ариадна (отбиваясь). Отстань! Сумасшедший!
Игумнов. Я? (Разжимает ей пальцы). Нет-с, это уж… кто-то другой.
Ариадна (бросается на него). Как ты…
Игумнов в раздражении отталкивает ее, и так сильно, что она падает на диван. Сам он рассматривает коробочку Дарья Михайловна, до сих пор неподвижная, вскакивает и бросается к нему. С балкона вбегает Полежаев.
Полежаев. Сергей?
Игумнов (увидев жену). А, и ты тут. (Полежаеву, резко). Вот тебе и Сергей!
Полежаев (глядя на Ариадну, лежащую на диване, головой в руку). А-а!
Игумнов. Не зайди я случайно к ней в комнату… (Швыряет коробочку в окно) Черти полоумные! Фу! (Подходит к столику, наливает вина. Руки у него дрожат) Возвышенности! Смерть! Любовь! А, да, может, и правда так надо. (Пьет. Подымает голову на Дарью Михайловну.) И ты пришла. Молчишь, но у тебя в глазах укор. Что ж, укоряй.
Дарья Михайловна. Я ничего, Сережа…
Игумнов. О, Боже мой! (Слышен рожок автомобиля. Игумнов как бы сбрасывает с себя нечто.) Едем. Мы – на пожар. А там видно будет.
Быстро выходит Ариадна лежит недвижно. Полежаев сел в кресло, с ней рядом, он закрыл лицо руками. Так продолжается некоторое время. Дарья Михайловна встает, подходит к Полежаеву, целует его в лоб и удаляется. Спустя минуту Ариадна поворачивает голову, приподымается.
Ариадна. Ушел, рыцарь. Что я им, право? (Резко). Да не хочу я, чтобы меня спасали. И все тут. Не желаю. (Оглядываясь на Полежаева) Вот, тоже… Благодетель человечества. Плачешь?
Полежаев. Нет.
Ариадна. Угнетаемая невинность.
Полежаев (вдруг встает). Ну, прощай, Ариадна.
Ариадна. На пожар?
Полежаев (как бы рассеянно). Нет… так… вообще.
Ариадна. То есть как же?
Полежаев. Я тоже не хочу, чтобы меня спасали.
Ариадна (удивленно). Ничего не понимаю.
Полежаев. Ну, и что ж? (Он теперь задумчив, как бы во власти какой-то мысли. Очень покойно). Ненавидишь меня, и ладно.
Ариадна. Даже рад!
Полежаев. Выйду, и все буду идти. Зайду в реку, и все буду идти, станет по горло… а потом ничего… И так будет покойно.
Ариадна. Зачем же… тебе?
Полежаев. И меня примет вечность. Если ты – и я.
Ариадна. Погоди, Леонид, сядь… (Указывает место рядом.)
Полежаев (садится и смотрит на нее каким-то странным взором). Ты теперь кажешься мне очень далекой.
Ариадна (подавленно). Раньше ты этого не говорил.
Полежаев. Со мной раньше такого не было.
Ариадна. Это самое и я чувствовала, когда… Да, но ты… тебе…
Полежаев. Что же я? Нет, ничего. (Встает.)
Ариадна. Постой. (Удерживает его.) Ну вот, теперь ты… Ах, какая тоска.
Полежаев. Мне жаль тебя, Ариадна. Тем более, что виноват я. Но уже теперь что же делать.
Ариадна. Ты как странно говоришь. Мне даже страшно. Да позволь… Я никак не ожидала. (Берет его за руку.) Почему такие холодные руки? Ты нездоров?
Полежаев. Я – ничего.
Ариадна (взволнованно). Ты все твердишь: ничего, ничего, а сам какой-то оледенелый… (Трясет его за плечи, заглядывает в глаза.) Да что с тобою? Леонид? Ты с ума сходишь? (Полежаев склоняет голову все ниже, к коленям, зажимает лицо руками, и вдруг валится головой вперед, на ковер. Стоя на коленях, с головой в руках на ковре, он судорожно рыдает в этой нелепой позе.) Леонид, ну погоди… Леонид, ну что ж это такое, я сама сейчас зареву! (Пытается его поднять.) Ну, что ж ты… (Вдруг обнимает его голову и тоже рыдает.) Это я тебя замучила! Это я! Ах, если бы ты знал. Нет, этого ты понять не можешь. (Садится с ним рядом на ковер, кладет его голову себе на колени. Исступленно целует его волосы.) Милые мои… волосы, плечики. Ты этого понять не можешь… Я, конечно, сама сумасшедшая. Я ведь совсем решила умереть. Ты очень страдал? (Полежаев продолжает рыдать.) Даша тебя в лоб поцеловала. Значит, жалеет. Милый, милый!
Полежаев. Ариадна, убей меня.
Ариадна. Голова моя золотая. Нет, не убей, ты живи, жить должен.
Полежаев. Не знаю.
Ариадна. Я ужасно мучалась все это время. Ну, Господи, как ужасно. Но я тебя безумно люблю, и любила… даже когда оскорбляла. Я знаю, что я дрянь.
Полежаев берет ее руку и целует. Молчание.
Полежаев. Ах, Ариадна…
Ариадна. Опять плачешь.
Полежаев. Нет, я ничего не понимаю.
Ариадна. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Пройди по мне.
Полежаев. Что ты говоришь…
Ариадна. Растопчи. А я умру. Если ты скажешь, я из окошка выброшусь.
Полежаев. Эти слова… такая… (Обнимает ее. Оба плачут).
Ариадна (несколько оправившись). Легче сейчас? Тебе? Легче?
Полежаев (тихо). Да.
Ариадна. И мне.
Полежаев. Хорошо, что нет никого.
Ариадна (подымается). Встань. (Подымает его за руку, полуобняв, ведет к дивану.) Ляг. Ты ведь мой? Погоди, погоди… Только бы так остаться. (Закрывает себе голову, точно боясь, что что-нибудь изменится.) Я тебя опять люблю. Безумно… И ты, ты? Ах, а то… А вдруг все-таки нужно умереть?
Полежаев. И я.
Ариадна. Такая любовь, как у меня, сильнее… Да, в голове все путается, плохо говорю. Если бы не Сергей, я бы выпила. Я, стало быть, жива. Ты бы тоже себя убил?
Полежаев. Да.
Ариадна. Я почувствовала. Но теперь – нет. Ты жив. (Задумалась. Потом идет к двери.) Погоди… Я сейчас.
Полежаев. Куда ты?
Ариадна. Нет, ничего. Ты боишься?
Полежаев. Зачем… идешь?
Ариадна. Может быть, глупо… Я минуту посижу в своей комнате, вот так, одна. Потом приду. И вообще все посмотрю… как здесь… будет. (Уходит).
Полежаев (встает, подходит к окну). Рассвет! (Отдергивает портьеру. В комнате становится еще светлее.) Как пахнет!
Входит генерал
Генерал. Не дошел. Не дошел-с, все уже кончилось. Видимо, наши молодцы.
Полежаев (растерянно). А, пожар.
Генерал. А-ха-ха… маленькое деревенское развлечение. Две риги, солома прогорела… Но, конечно, наши не дали ходу… ну, я так себе представляю… огню. А вы что же-с? Где же супруга?
Полежаев. Я, да… она. Она тут.
Генерал. А вы немного… не в себе как-то?
Полежаев. Напротив, я… Я, она.
Входит Ариадна. Вдали слышен рожок автомобиля.
Ариадна. Генерал! Генерал. Все кончилось. Спектакль!
Ариадна (сияя блестящими от слез глазами, осматривает комнату). Здесь свет, утро.
Полежаев (ей). Ну?
Ариадна (идет к нему). Какое утро, свет…
Полежаев. И хорошо?
Ариадна. Здесь чудно. Здесь все прекрасно. (Плачет.) Все прекрасно.
Входит Игумнов.
Игумнов (бросает фуражку, садится в кресло). Генерал, вас Алексей Николаич ждет. Ф-фу!
Ариадна (указывая в окно Полежаеву). Утренняя звезда.
Игумнов (обертываясь к ним). Ариадна. (Минуту смотрит молча.) Что же… Да. У вас другие лица.
Полежаев (Ариадне). Помнишь? Эту звезду я встречал за книгами.
Игумнов. Новые лица! Новые лица!
Действие четвертое
Комната и обстановка предшествующего акта Четыре часа дня – бледно-солнечного, безветренного В окнах далекий пейзаж – мирный вид сельской России На письменном столе поднос со стаканами чая, вареньем, медом Сюда перешли из столовой – после затянувшегося деревенского обеда – покурить, поболтать Генерал, Полежаев, Машин, Дарья Михайловна.
Машин (снимает с рогов над диваном небольшую двустволку). Папашино еще ружьецо?
Полежаев. Да. Остатки прежней воинственности.
Машин (прицеливаясь в окно). Прикладистое.
Полежаев. Бьет далеко, но стрелять трудно. Калибр маловат.
Машин. А вот… лисичек скоро… первого сентября… у нас открытие охоты. Тут, недалеко.
Полежаев. Милости прошу ко мне завтракать.
Генерал. Для меня, должен сказать, весьма приятно ваше намерение… остаться тут на зиму. Знаете, у нас как: выборы прошли, а там, к настоящей-то к зиме, помещики кто в Ниццу, кто в Канн. Я и сам не прочь, но в нынешнем году не придется. Да вы ведь и в гласные баллотируетесь? А-ха-ха… прокатим, прокатим.
Полежаев. Мне так советовали. Говорят, жить в деревне, надо общественными делами заниматься. Хотя, конечно, я мало в этом сведущ.
Генерал. Я смеюсь, ну, разумеется, смеюсь. А-ха-ха. (Наставительно). В деревне нужны культурные, интеллигентные силы. Я, например, занят сейчас сельскохозяйственными школами. Это, я вам доложу, дело новое, и нашим общественным деятелям не так-то по плечу.
Разговор ведется на ходу. Генерал взял Полежаева под руку и последние слова говорит в дальнем углу. Там останавливается, что-то объясняя, хохоча Машин подходит к окну, недалеко от Дарьи Михайловны, и, взяв бинокль, всматривается в горизонт. Дарья Михайловна шьет.
Машин. А где же муженек?
Дарья Михайловна. Пообедал, ушел. Где-нибудь бродит. (Горько). Бог его знает, где.
Машин. Вон она… и Усачевка. Трофимыч уж строиться начал после пожара. Месяц пройдет… и как не бывало ничего. Ваш-то, Сергей Петров, очень тогда старался. Молодцом. Мог бы медаль получить.
Дарья Михайловна. Что уж там медаль, Иван Иваныч. Это он с налету, по горячности. А то мало совсем стал работать, хозяйство запустил. Говорит, скучно здесь. Все опостылело. Даже хочет в Москву перебираться; буду, говорит, за пятьдесят рублей служить, так хоть в театр схожу, музыку послушаю.
Полежаев. В Москве трудно. В Москве… народу много.
Дарья Михайловна. А место разве найдешь? Да и так-то сказать: поглядел он на все на это (показывает вокруг), на барскую жизнь. Мы ведь не те люди, что они… Леонид, Ариадночка. А он тянется.
Машин. Наше дело простое. Знаете. Посеял ржицы, овсеца. Убрал.
Подходят Генерал и Полежаев.
Полежаев. Вы мне говорите о разных умных и серьезных вещах. Я слушаю. Но, признаюсь, взглянешь в окно, на этот светлый пейзаж, и мысли отклоняются. Вспомнишь о том, что к делу не относится.
Генерал. А это, знаете ли, мечтательно-романтическая жилка в вас есть… а-ха-ха.
Полежаев (останавливается, подходит к окну). Несколько лет назад мы жили с Ариадной в Ассизи. Там место высокое, видна вся Умбрия.
Дарья Михайловна. Где это… Ассизи?
Полежаев. В Италии. Городок и старинный монастырь. Там, Дашенька, некогда подвизался св. Франциск, великий милостивец. Да. Мне и вспомнилось. Там видна с высоты вся долина, полная необыкновенной тишины. Бывали дни именно как сейчас – опаловые, перламутровые; вдруг выглянет солнышко и заиграет где-нибудь вдали пятном; или за десятки верст прольется дождем тучка, и этот дождь как-то висит, недвижно, сероватой сеткой. И так же, как из окна читальни, где перед обедом я читал о жизни святого, маячила далекая Перуджия.
Генерал. Весьма поэтически, хотя, конечно… и далеко от всяких земств.
Полежаев. Вероятно, Душа святого оставила свой след в той местности. Нигде не видел я подобной чистоты, безмятежности. Мне кажется, что всякий, кто измучен, обрел бы там мир.
Дарья Михайловна. Я нигде не бывала. Не только в Италии, айв Москве-то всего раз. (Откусывая нитку). Так и проживешь, ничего не зная. Иван Иваныч, вы ведь тоже редко отсюда выезжали?
Машин. Не часто… Так, в округе приходится, а в Москву редко. (Как бы припоминая). Годков, пожалуй… пятнадцать.
Дарья Михайловна. Живет, живет человек, да и возропщет. Прямо говорю, возропщет.
Полежаев. Ах, конечно, бывает.
Машин. Иов-то… возроптал, а потом все же таки… смирился.
Дарья Михайловна. Иов. Хорошо про Иова говорить, это когда было. А тут живешь, трудишься, только и знаешь, что работа да работа, а к чему все? (Глотая слезы.) И жизни не видишь.
Машин. Богу-то виднее. По-нашему… по-христианскому… роптать грех.
Дарья Михайловна. Это и папаша покойный в церкви говорил. Проповедь по бумажке читал. Да это ж все слова.
Полежаев. Да. Но что скажешь ты лучше этих слов?
Машин. И не слова… ежели мы… верующие.
Генерал (перелистывая иллюстрированный журнал). Une querelle tout a fait theologique. А-а, говоря откровенно, я мало в этом понимаю. Все эти Иовы и прочее… не по моей части.
Из балконной двери входят Лапинская, за ней Ариадна и Саламатин. Они с ракетками в руках.
Лапинская (представляет шансонетную певицу, покачивая боками, делает полукруг по комнате. Напевает):
Je suis une petite cocotte d'Amerique, Je traverse en bateau l'Atlantique!Дарья Михайловна забирает шитье и уходит.
Генерал. Браво!
Ариадна (Саламатину). Вы, пожалуй, играете и лучше меня…
Саламатин (кладет ракетку). В этом не может быть сомнений.
Ариадна (горячо). Положим, я-то в этом сомневаюсь. И если бы не надо было Лапе уезжать… (Подходит к мужу.) Ты знаешь, мы последний сет шли с ним поровну. У него пять геймов, и у меня.
Полежаев (отчасти рассеянно, как бы думая о другом). Великолепно, мой друг. (Целует ее руки.)
Ариадна (быстро, негромко). Как себя чувствуешь?
Полежаев (не выпуская ее руки). Очень хорошо. Я сейчас только рассказывал, как мы жили с тобой в Ассизи.
Ариадна. Ах, Иссизи! (Тоже задумывается, как бы слегка взволнованная.)
Лапинская (генералу). Я могу и английскую шансонетку представить, и русскую. (Наигрывает на пианино и напевает какую-то чепуху, якобы по-английски.) Это мой собственный английский. У меня и польский свой.
Ариадна (как бы про себя). Там все чудесно!
Лапинская (генералу). Бендзе пан таки ласков, возьми меня до станции?
Генерал. А-ха-ха… хотите сказать – на поезд? Саламатин (смотрит на часы). Рано. Мы вас доставим в сорок минут.
Ариадна (подходит к Лапинской, нежно). Ты чего это? Ты чего юродствуешь?
Лапинская. Воля моя такая.
Ариадна. Сама ревела…
Лапинская. Ревела, да не про твое дело.
Полежаев. Ты, Лапа, похожа на какую-то девчонку, хотя тебе и двадцать пять, которую можно надрать за уши.
Лапинская (берет нелепый аккорд и заканчивает). Вот я такая и есть. Просто шутенок. Смешная личность.
Полежаев. Оставалась бы у нас еще? Не горит ведь?
Лапинская. Благодарствуйте, дяденька. Мне у вас очень хорошо… (Задумчиво.) А теперь пора. «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит».
Полежаев. Подумаешь! Будешь танцевать, нервничать, по ресторанам ходить.
Лапинская. Нет, уж ладно. Не сбивайте девушку.
Генерал (Полежаеву). Если признать, что у вас есть еще время, то я не прочь бы посмотреть ваши работы в саду – на почве, так сказать, внесения культуры в дело садоводства.
Полежаев. Надо мной все тогда смеялись, но в общем я научился и обрезке, а теперь крашу стволы известью. Если угодно, взглянем.
Генерал (Саламатину). А машину пусть подадут сюда. И мы… домчим мигом Татьяну Андреевну. А-ха-ха…
Машин (Полежаеву, выходя с ним вместе). Яблоня… уход любит.
Генерал. Посмотрим, посмотрим.
Выходят.
Лапинская (Ариадне). Это Леонид твой врет. Я по ресторанам шляться не буду.
Ариадна (ласково). Благочестивой стать собираешься?
Саламатин. Как вам угодно, Ариадна Николаевна, мы с вами должны сыграть в бикс.
Ариадна (смеясь). Нынче не удастся.
Саламатин. Тем лучше. Я пока поупражняюсь.
Выходит
Ариадна (вслед). Кии в столовой, на буфете, должно быть. (Смеется). Вот уж не упустит минуты.
Лапинская (задумчиво). Через десять лет этот молодой человек будет вице-губернатором.
Ариадна (подходит и обнимает ее). Ах ты, Лапка ты моя сердешная. Болтун мой.
Лапинская. То болтун, то девчонка. Так весь век щенком и проживешь.
Ариадна. Ну, я тебя очень люблю.
Лапинская. Ты теперь счастливая, и всех любишь.
Ариадна. Не всех. (На минуту задумывается.) Ты это сказала будто с упреком.
Лапинская (живо). Нет, нет, без всякого упрека.
Ариадна (горячо, со слезами в голосе). А… а я ведь… совсем было… и как это странно, ах почти чудо, что меня Бог спас.
Лапинская. Конечно, Бог спас.
Ариадна. Нет, пойми: ну на что я годна? Только любить. Но уж как! На небе остаются знаки такой любви.
Лапинская. Отравиться хотела. Я понимаю.
Ариадна. Да, но и он… То есть меня Сергей удержал, случайно. А потом так вышло, что я поняла… (Конфузливо). Ну, все-таки, какая б я ни была, и сумасшедшая, и грубая иногда… все-таки Леонид тоже… я поняла, что не безразлична ему.
Лапинская (с улыбкой). Твой Леонид без тебя – нелепое зрелище. (Пауза. Ариадна задумалась.) Это великое счастье. (Вздохнув). Вы вместе должны быть.
Ариадна. Я вот и живу сейчас… Уж не знаю, все какое-то особенное.
Лапинская (берет отдельные ноты на клавиатуре). А я визиря своего отшила.
Ариадна. Что же у вас произошло такое?
Лапинская. Да то и произошло, я ему все отписала. Нет, будет с меня.
Приотворяется дверь из залы, выглядывает голова Саламатина.
Саламатин. Виноват, Ариадна Николаевна, вспомнил: в третьем гейме вы аут сделали, а мы засчитали его как райт.
Ариадна (машет на него рукой). Какой скучный!
Саламатин. Оттого и вышло, что сет шел в ничью.
Ариадна (вскакивает, резко). Ну, хорошо, потом.
Саламатин. А выиграть должен был я.
Ариадна. Никакого аута я не делала. (Саламатин затворяет за собой дверь, но не плотно.) Право, опять было рассердилась. (Лапинской.) Постой, почему ж ты ему… отписала?
Лапинская (наигрывая, сквозь слезы). Очень просто. Мы так и условились – жить летом порознь. Если это серьезно с его стороны, то с ним собирались вместе поселиться. Но я скоро увидела… Одним словом, очень ему нужна такая, как я. Мало он их знал? Так, забава, пустяк.
Ариадна. Да позволь, может, это фантазии просто?
Лапинская. Фантазии! Мы виделись. Он и сам не отрицает. Знаешь, то, да се, да это… Нет, я так не хочу. (Смахивает слезы.) И вот я с горьким чувством уезжаю. Разве то думала, когда ехала сюда?
Ариадна. Ах, что мы знаем… Все тайна, все судьба.
Лапинская (обнимает ее). Ариадна, милая, ты такая милая! Сумасшедшая моя головушка! (Плачет)
Ариадна. Путь нашей жизни – тайна. Пусть сумасшедшая. Я уж такая. (На глазах слезы.) Ты к нам счастливая приехала.
Лапинская. Ну, ты тогда погибала. Теперь наоборот.
Ариадна. И еще Сергей, Даша…
Лапинская. Ах, это мне тяжело.
Ариадна. Все невольно. Все – сплетение страданий, счастья. На балкон, мимо окон, проходит Дарья Михаиловна. Лапинская видит ее.
Лапинская. Ты заметила, Дарья Михайловна вышла, когда мы вошли?
Ариадна (тихо). Да.
Лапинская. Избегает меня. Я понимаю. Мне бы хотелось… я все собиралась до отъезда с ней поговорить. (Встает, громко). Дарья Михайловна!
Дарья Михайловна (входит, Ариадне). Леонид все генералу свои работы показывает.
Ариадна. Да уж пора бы и возвращаться. Скоро Лапе ехать.
Дарья Михайловна. Это, значит, автомобиль…
Лапинская (смущенно). Вы тут на всю зиму?
Дарья Михайловна (с удивлением). Мы всегда здесь живем.
Лапинская (совсем смешавшись). Фу, я какие глупости говорю. (Быстро подходит и жмет ей руку.) Я просто только хотела… Я хотела вам сказать, что перед вами… одним словом…
Дарья Михайловна. Что вы, что вы.
Лапинская. Милая Дарья Михайловна, я могу вам прямо в глаза смотреть. (Припадает к ее плечу) Вы как будто ко мне…
Дарья Михайловна (полуобнимает ее, но сдержанно). Я ничего против вас не имею.
Лапинская. Мне ужасно неприятно было б, если бы вы., ну, вы могли меня считать за какую-то распущенную девчонку.
Дарья Михайловна. И не думала.
Ариадна (Лапинской). Это все фантазии.
Лапинская. Ничего толково не умею сделать.
Саламатин (входит из залы, Лапинской). У вас вещи уложены?
Лапинская. Не беспокойтесь.
Саламатин. Нисколько не беспокоюсь. Опаздывать будете вы, а не я. (Подходя ближе.) Где три женщины, или две, или одна – обязательно слезы.
Лапинская. Ош-шибаетесь, молодой человек. (Длинно и дерзко показывает ему нос.) Ни м-малейших. А? Не можем мы поговорить? Слезы! Вы и плакать-то не умеете.
С балкона входят генерал и Полежаев.
Генерал. Я и тогда говорил, что смеяться над попытками культурной работы в деревне не следует. А то, что вы мне показывали, лишь сильней меня убеждает в этом. Значит, в земство? Баллотируем?
Полежаев (улыбаясь). Истина, генерал, в земледельческом труде?
Генерал. Истина в общественности, в работе для устроения человечества, и в – разумном пользовании благами… а-ха-ха… благами жизни. Но в разумном, заметьте! Без всяких этих истерий и надсадов российских.
Лапинская (быстро вскакивает и опять делает тур по комнате). Je traverse en bateau l'Atlantique!
Генерал (хохочет). А? Взгляните на эту жизнерадостность!
Лапинская. Меня сейчас ваш юноша Бог знает в чем упрекал.
Генерал. И напрасно-с. Вполне напрасно вас упрекал.
Полежаев (вынимая часы). Я только не могу понять, почему так спешат? Всего половина пятого.
Саламатин. Ничего подобного. Пять.
Полежаев (смутившись). Ах, да… у меня по обыкновению отстают часы.
Лапинская. Ну, прощай. (Обнимает его.) Часики отстают, это уж так тебе полагается. Одно слово Полежаев, значит, на одном боку лежит. Пиши о своем Рафаэле, да яблони режь. А хочешь, я во всеуслышание тебя осрамлю?
Полежаев (целует ее в лоб). То, что моя фамилия Полежаев, еще не столь позорно, Ну, срами.
Лапинская. Ходили это они раз, ходили с Ариадной по музею, кажется, в Берлине. Он и замучился. Говорит: иди одна, я тут посижу, у колонны. Хорошо. Она ушла. С полчаса одна была. Вернулась – он голову к колонне – и разводит. Прямо похрапывает. Ах ты, любитель искусств!
Полежаев (смеется). Это донос.
Лапинская. Да уж теперь оправдывайся. (Целует Ариадну.) Прощай, моя Ариадна. Тебе за все спасибо.
Входит Игумнов с букетом в руке.
Игумнов. А я думал – опоздаю. (Подает ей цветы.) Это вам. На дорогу.
Лапинская (серьезно). Благодарю вас, Сергей Петрович. (Жмет ему руку)
Игумнов. Да. (Задумчиво). Вам на дорогу. Лучшее, что мог я найти.
Саламатин (берет фуражку). Кажется, сентиментальные обряды кончены. Впрочем, в деревне еще садятся перед отъездом.
Лапинская (выходя, подымает над головой букет, слегка кивает им оставшимся). Прощайте, милые, хорошие, черные и белые.
Генерал (Саламатину). Надеюсь, что на повороте, где шоссе… а-ха-ха… не вытряхнем барышню?
Саламатин. Не беспокойся.
Лапинская. И вам, и вам! (Машет букетом в четыре угла комнаты.) И вам!
Все уходят, Игумнов и Дарья Михайловна остались Некоторое время молчат. За сценой голоса отъезжающих; слышно, как спорят из-за чемоданов Автомобиль пробует свой рожок.
Дарья Михайловна. Ты, эти цветы… где?
Игумнов. Зачем?
Дарья Михайловна. Сергей, взгляни на меня. Подыми голову.
Игумнов (подымает). Вот я какой. Дарья Михайловна. Господи!
Закрывает лицо. Быстро выходит.
Игумнов (один). Мое лицо ее напугало. А всего она еще не знает.
Входят Полежаев и Ариадна.
Полежаев (полуобнимает Игумнова). Ну?
Игумнов. Та-ак! (Берет его, как борец, слегка подымает, неестественно улыбаясь. Наконец, крепко ставит на землю.) Вот.
Ариадна. Покатила наша Лапка. У самой слезы, а сама все дурачится.
Полежаев (отходит к столу, где лежат книги и снимки). Туго ей стало что-то, последнее время.
Игумнов. Туго всем.
Полежаев. Да, не особенно легкая штука – то, что называем мы жизнью.
Игумнов. Меня скоро тоже будете провожать.
Полежаев (перебирая гравюры). Куда же?
Игумнов. Да куда-нибудь далеко.
Ариадна. Как же так, Сергей?
Игумнов. Всех я замучил – себя, жену. Довольно. А куда – посмотрим. (Делает шаг к двери.) Вот тебе, Леонид, и путь жизни.
Уходит.
Ариадна. О чем он сказал?
Полежаев. У нас был с ним один разговор. Тогда я погибал, и мне казалось, что он стоит твердо. Лапа беззаботно хохотала.
Ариадна. Господи, Господи!
Полежаев. Но теперь то, что пережили мы с тобой, им предстоит, Игумнову и Даше. Дай Бог им сил.
Ариадна. А мы пережили?
Полежаев. Да. Ты сомневаешься?
Ариадна (улыбаясь взволнованно). Но я все что-то плохо понимаю. Как после болезни.
Полежаев продолжает перекладывать снимки. Ариадна подходит к нему и кладет руку на плечо.
Полежаев (выбирает два снимка и закрывает подписи под ними.) Две картины, разных художников. Это «Передача ключей св. Петру», а тут «Бракосочетание Богородицы». В композиции есть общее. Которая лучше?
Ариадна (внимательно всматривается, как бы стесняясь сказать). Погоди… сейчас. (Робко.) По-моему, эта. (Указывает на «Передачу ключей».)
Полежаев. Ах, как же ты не видишь? Разве можно равнять композицию? И какой тут ритм! И эти арки к чему? Только глаз раздражают. Рафаэль и Перуджино!
Ариадна (смущенно). Конечно, наврала.
Полежаев. Тебе понравилось, что тут флорентийцы наши изображены. (Указывает пальцем.) Да не в одних, брат, флорентийцах дело.
Ариадна. Как ты правильно сказал, здесь композиция… Я этих арок и не заметила.
Полежаев (берет ее за руку). Зато я кое-что заметил.
Ариадна. Что заметил?
Полежаев. Ты теперь прежняя, милая Ариадна. Покорная.
Ариадна. И ты…
Полежаев. То ужасное… Может быть, Бог испытывал нас. И Ему не было угодно, чтобы мы погибли.
Ариадна. Я думала тогда – конец.
Полежаев. Я доставил тебе страшные мучения. Ты простила.
Ариадна. Да.
Полежаев. Потому, что пожалела. (Молчание.) Может быть, как и всех пожалеть надо.
Ариадна. Мне опять открылась… моя любовь.
Полежаев. Как сейчас странно!
Ариадна (в волнении). Очень, очень. Необыкновенно.
Полежаев. Не самую ль судьбу мы ощущаем? Страшное, прекрасное?
Ариадна. Не знаю. Я сейчас заплачу.
Полежаев. Мы не знаем нашей жизни. Будущее нам закрыто, как и всем. Что ждет близких нам, как и нас самих? Смерть, горе так же придут в нежданный час.
Ариадна. Пусть, я готова.
Полежаев (покойнее). Но сейчас светлые тени вокруг. Волшебный вечер. В золотеющих облачках я ощущаю нашу молодость, скитания, Италию. Ну, пускай, пусть был я грешен, неправ… но мы не отреклись от лучшего, что было в нашей жизни. Я вспоминал нынче Ассизи…
Ариадна стоит у пианино Потом садится и слегка наигрывает простенькую итальянскую мелодию. Полежаев подходит. Она оборачивает к нему лицо, полное слез.
Ариадна. Вот, в Риме утро, солнце. Тепло, в тени влага. Мы подымаемся на Монте-Пинчио. Там, у ограды нищие, слепые сидели… у одного скрипочка, у другого – вроде гармонии. Они это самое играли.
Полежаев. Сны! Золотые! (Ариадна закрывает лицо руками.) Ты плачешь?
Ариадна. Да. Je t'aime.
Дон-Жуан*
Сцена первая
Ограда загородного кладбища Вечер. Полоска огненного заката. Две лошади привязаны под белой акацией
Лепорелло. Вот тут и дожидайся! Господи Боже мой, что за жизнь! Я полагаю – одно недоразумение. (Конь бьется.) Но, но… дьявол! Сиди и отгоняй всякую дрянь. А чего ради? Бессмыслица! Здесь, положим, похоронена эта девчонка, такая же, каких было десятки. Умерла она не хуже и не лучше, чем вообще умирают. И после все мы работали… на совесть. Ну да где! Разве у нас, как у людей? Вдруг, через два года, надо ее навестить… т. е. могилу – какой-то монашенки. Все одни фокусы. Впрочем, мы вообще, ведь… что называется, маги и чародеи. (Задумывается.) И то, например, сказать: коего черта я с ним вожусь? Жалованье пустое, вечно в разъездах, того и гляди где-нибудь из-за угла ревнивый муж, либо брат укокошит. А поди-ж ты, не могу отстать! Да, пожалуй, и меня приколдовал. Нет, уж как хочет. Больше нельзя. Повалится его Алтаир, обломает седло, а мне нагоняй будет. (Идет к воротам кладбища.)
Сцена вторая
Дон-Жуан сидит под миртовым деревцем, закутавшись в плащ. Перед ним небольшая скромная могила.
Дон-Жуан. Прежде я тебя не чувствовал. Но теперь, нередко ты со мной… Я тебя не вижу, но ты близко. Это странно. Что-то изменилось в моей жизни. Вот и нынче – почему я здесь?
Лепорелло (входит). Ваша светлость, невозможно больше. Конь седло сломает.
Дон-Жуан. А! Что же, ехать?
Лепорелло. Как угодно. Требовать не могу, по униженному своему положению слуги и, так сказать, хама. Но могу почтительнейше просить.
Дон-Жуан. (Оправляясь от задумчивости.) Скажи по правде, ведь смешно тебе, что я тут оказался?
Лепорелло. Как я смею смеяться над высокородным Дон-Жуаном?
Дон-Жуан. Высокородный! Светлость! Ах, оставь, пожалуйста. Все это – слова. Некогда было, но осталось очень мало. Нашу светлость осудил король, порицает церковь, нашей жизни ищет Дон-Диего. Мы почти что разорены. На лбу нашем морщины, в волосах – седины. Мы кочуем. Из города в город, из корчмы в корчму, из притона в притон. Скоро станем и совсем бродягами. А? Что ты скажешь о такой светлости.
Лепорелло. Боже упаси! М-м… хотя надо сознаться, если бы мы несколько остепенились…
Дон-Жуан. (Надевая перчатки и поправляя шпагу.) А, вот это интересно.
Лепорелло. (Кривляясь) Я, собственно… я давно уже думаю, что пора бы нам устроиться посолиднее. Мало ли чего там не бывало… Замок у нас есть еще, правда, в долгах!., ну, с этим бы мы справились. Взяли бы жену с приданым, зажили бы… охоты, празднества, как полагается. Но в меру, в меру. И я бы облюбовал себе какую-нибудь камеристочку, сочетался бы законным браком. Ваша светлость произвели бы меня в мажордомы.
Дон-Жуан. Спокойная жизнь землевладельца! С женой, охотничьими псами. Умеренные развлечения… И сытость, сытость!
Лепорелло. Ну, уж тоже, по кабакам…
Дон-Жуан. Не все по кабакам. Например, завтра: мы на празднике у графини Анны.
Лепорелло. Это, значит, там же, в самом городе, где вас может задержать первый встречный?
Дон-Жуан. Пусть попробует.
Лепорелло. Разрешите плюнуть?
Дон-Жуан. Разрешаю.
Лепорелло. (Плюет) Фу, ты, пропасть, сами в петлю лезем.
Дон-Жуан. Забываешься, любезный. (Берет его за плечи и слегка подталкивает.) Иди к лошадям. Да помни, что сегодня вечером мы в «Добром виноградаре».
Лепорелло. (Удивляясь.) А начхать мне.
Дон-Жуан. (Вновь подходя к могиле.) Весь день какая-то раздумчивость. И страннее всего – иногда грусть сходит в мое сердце. Может быть, и не напрасно. Но тебя нет, великий, вечный покой. Я все иду… по-прежнему. По-прежнему люблю, испытываю и ищу. Гублю, как и ее погубил, Клару. Но остановиться не могу, пока не грохнусь в могилу, такую же, как эта. Я даже думаю, что не в такую. Меня выбросят где-нибудь в овраге, у большой дороги. Шакалы, коршуны поживятся. (Выпрямляясь, дерзко.) Но не таков Дон-Жуан, чтобы отступить. Я – я. Я проходил сквозь тебя, жизнь, как сквозь волшебный сад очарований. Женщина – лучшее твое очарование. Я иду. Где паду – разве знаю? И не все ли мне равно?
Удаляется. На могиле, в сумеречной мгле, вспыхивают два голубоватых огонька Они медленно наклоняются, в такте напеву тихих голосов.
Пение голосов.
Нежные души молитвы возносят пречистые. Светлы и дивны пути восхождения. Боже и Отче! Боже и Отче, внемли!Сцена третья
Корчма «Добрый виноградарь» на большой дороге у города В глубине несколько солдат играют в карты. Девушка подает им графин вина. За прилавком маленький, толстый хозяин
Хозяин. Ну, выпей стаканчик, кум, ты у нас редкий гость, деревенщина. Чтобы не сказал потом, что «Добрый виноградарь» – скряга.
Кум Мигуэль. Весьма благодарен, весьма… Я, конечно… как сказать, не столь быстр, как вы, городские жители… (Пьет.)
Отворяется дверь, позвякивая шпорами, входит знатный кавалер
Хозяин. (Мигуэлю.) Тс-с! Минутку! (С поклоном выбегает навстречу.) Счастлив кланяться.
Неизвестный. Зоранда.
Хозяин. Милости просим. (Указывает на лесенку во второй этаж, куда неизвестный и поднимается.)
Мигуэль. (Удивленно.) Почему он сказал: Зоранда?
Хозяин. Еще стаканчик, по случаю хорошего гостя. Пей, кум.
Мигуэль. (Глаза его посоловели.) Однако же… но… смысл?
Входит Дон-Жуан. Хозяин низко кланяется, но как будто смущен.
Дон-Жуан. Из наших есть кто-нибудь? Хозяин. Нет-с, никого еще.
Дон-Жуан. (Снимает шляпу и садится поодаль.) Я подожду. Вина!
Хозяин. Для вашей светлости припасена бутылочка.
Дон-Жуан. А что ж Марцеллы не видать?
Хозяин (осклабясь). Она здесь, на минутку всего вышла-с… Осмелюсь ли доложить… Тут одно дельце…
Дон-Жуан. (Наливает себе вина.) Говори.
Хозяин. Я, конечно, не решился бы… Но как эта корчма моя… и всякое такое… И вас я весьма уважаю, благороднейший Дон-Жуан…
Дон-Жуан. Короче.
Хозяин. Так что, зная вас, и Дона-Диего… должен предупредить.
Дон-Жуан. А, Дон-Диего!
Хозяин. Дон-Диего здесь, ваша светлость. (Указывает на лесенку во второй этаж.) Играют. В карты-с…
Дон-Жуан. Боишься, чтобы крови не было… (Выпивает еще вина.) Я не уйду, милейший. (Скрещивает руки на эфесе шпаги.) Встречаться с ним не желаю, но если бы пришлось… (Постукивает кончиком шпаги о пол.)
Хозяин. Я только предупредить, только предупредить… (Кланяется и отходит. Дон-Жуан сидит один, погруженный в задумчивость.)
Мигуэль. (Хозяину). Зоранда… Это что же значит?
Хозяин. (Наливая ему еще.) «Добрый виноградарь» не ста-нет скряжничать с кумом. Зоранда это пароль, на сегодняшний день.
Мигуэль (Едва двигая языком.) Па-роль! Для чего? (Хозяин наклоняется к нему и что-то шепчет.)
Дон-Жуан. Печален вид пустынных мест. Окрест, окрест,
Густеет мгла степей бессветных.
Мигуэль. Та-ак! Значит, у тебя, что угодно. Хочешь, постоялый двор, хочешь… игорный дом… хочешь, притон.
Хозяин. Т-сс! Экий ты!
Появляется Марцелла. Солдаты ссорятся за игрой.
Дон-Жуан. Здравствуй, Марцелла!
Марцелла. (Тихо.) Здравствуйте, Дон-Жуан.
Дон-Жуан. Дай мне еще вина. И развесели.
Хозяин. И чтобы никаких скандалов в моем благородном заведении. А не то – честью просим (указывает на дверь.)
Марцелла. (Наливая вина Дон-Жуану.) Вам всегда должно быть весело.
Дон-Жуан. Ты полагаешь?
Марцелла. Вы богаты, вас любят столько женщин, вы всегда достигаете, чего хотите…
Дон-Жуан. Когда я смотрю на тебя, мне лучше.
Марцелла. (Прислонясь к двери.) Ах, что вы говорите. Я, последняя служанка… минутная забава для знатного господина…
Дон-Жуан. Но в тебе есть красота и прелесть женская. Великий дар! Ты влюблена…
Входят несколько человек.
Возглас. «А, Дон-Жуан»
Он встает, здоровается. Марцелла отступает. Хозяин отводит всех в боковую комнату.
Сцена четвертая
Полумрак рассвета. Коридор, дверь из комнаты Марцеллы
Дон-Жуан. Ну, прощай. Ты прелестна (целует ее). Если и не счастье, то минута.
Марцелла (обнимая его). Мое – счастье.
Дон-Жуан. Надо разбудить Лепорелло. И – в путь. Да, я забыл у тебя в каморке шпагу. Там, кажется, в углу.
Марцелла. За стеной твой враг, и ты один, даже без оружия. (Отворяет дверь.) Сейчас подам.
Слышны голоса и шаги.
Дон-Жуан. (Приотворяет дверь.) Ну, нашла?
Марцелла (ищет). Нет. (Прислушивается.) Что это? Голос Дон-Диего?..
Дон-Жуан. Живо, шпагу!
Марцелла. (В отчаянии). Не могу найти. Прячься, скорее.
Дон-Жуан. Самое подходящее дело для Дон-Жуана Тено-рио!
Остается недвижимым. В коридоре появляется Дон-Диего, с несколькими друзьями. Все навеселе.
Дон-Диего. Значит, за вами сто дукатов, Дон-Карлос. А презабавный притонишко у этого разбойника!
Дон-Карлос. И пока что – совершенно безопасный. Кому в голову придет, что благородные дворяне проигрываются в потайных комнатах жалкой корчмы!
Дон-Диего. До свидания. Значит, – у графини Анны.
Почти наталкивается на Дон-Жуана, который стоит у двери, облокотясь на притолоку, скрестив руки Шляпа его глубоко надвинута на лоб Сзади за ним Смерть
Фу, темнота! Это кто? Почему здесь так холодно?
Дон-Жуан, молча, не поднимая головы, отходит.
Дон-Диего. Тут кого угодно можно встретить. Пилигримствуют из кабака в кабак. Ах, если бы мне попался Дон-Жуан – тоже пилигрим! (Злобно). Да, Дон-Жуан, на тебе кровь моего отца, еще не смытая. Помни это! (Удаляется.)
Смерть (посмеиваясь). А побоялся-таки меня, благородный Дон-Диего! Холодно, говорит.
Дон-Жуан. Здесь есть кто-то?
Смерть. Я, мой милый.
Дон-Жуан. (Бледнея.) Кто ты?
Смерть. Еще одна подруга. (Смеется и исчезает.)
Марцелла. (Полумертвая от ужаса.) Ты не скрылся?
Дон-Жуан (задумчиво). Этого не нужно было.
Сцена пятая
Вестибюль дворца. Дон-Жуан в шляпе, со страусовым пером, в бархатной накидке, в маске, придерживая эфес шпаги, подымается по лестнице Его обгоняют Дон-Диего и Дон-Карлос.
Дон-Жуан. Снова они. И снова – знакомый холодок. Как будто с ними кто-то третий, для меня невидимый.
Дон-Диего. Говорят, Дон-Жуан околдовал и графиню.
Дон-Карлос. Возможно.
Дон-Диего. Все равно, от меня не уйти.
Дон-Карлос. Вы полагаете, Дон-Диего?
Дон-Диего. (Приостанавливаясь.) В нашем роду не было трусов. Не было слабых. (Протягивает руку) Я молод, но душа моя железная, и рука – железо.
Дон-Карлос. А если бы Дон-Жуан оказался здесь, на празднике?
Дон-Диего. Это было бы позором для графини Анны. Как и мы, она благородного рода. Разбойникам у нее не место. Дон-Карлос. Ну, а все-таки?
Дон-Диего. В дни карнавала, как сегодня, позволяется быть в масках. Все равно. И под маской я его узнаю. Я его не выпущу.
В зале Графиня Анна приветствует входящих. Она высока, очень стройна, со строгим, несколько надменным взглядом.
Дон-Жуан. (Низко кланяется, целует руку)
Полночный блеск ее очей Огонь туманящего счастья.Анна (вздрагивая). Здесь? Откуда?
Дон-Жуан. В маленьком кабинете, у портрета. Жду.
Проходит. В зале танцуют. Дон-Жуан осматривается и выбирает молоденькую Маску. Сделав с ней тур, подводит ее к колонне.
Маска. Как все прекрасно здесь сегодня! И как весело!
Дон-Жуан. Правда?
Маска (со смехом). Ну, конечно.
Дон-Жуан. Сколько тебе лет?
Маска. Двадцать.
Дон-Жуан. Дитя.
Маска. Право, мне все это снится… Ах, какой чудесный сон! Вот сейчас улечу.
Дон-Жуан. Влюблена? (Маска опять смеется. Кавалер подбегает к ней, приглашает. Они уносятся в танце.) Все для нее – легкий сон! Все прекрасно, все мило. (Задумывается.) Узнает ли она восторг и боль, тоску и опьянение, подъем и… мглу подземную?
Из середины залы медленно наплывает на него голубоватое облако. Он не слышит уже звуков музыки, не видит танцующих Легкий трепет пробегает по нем, он как бы в полусне. Из голубой бездны возникает женский облик.
Клара. Я здесь, Дон-Жуан. Я люблю тебя, Дон-Жуан. Я за тебя молюсь.
Сцена шестая
Небольшой кабинет, отделанный дубом. Поясной портрет сурового воина.
Дон-Жуан. (Стоит под ним неподвижно, опираясь на шпагу.) Дон-Диего – союзник смерти. Клара – жизни… вечной.
Графиня Анна. (Слегка задохнувшись, садится в кресло.) Вот я и здесь, Дон-Жуан.
Дон-Жуан. Вижу.
Анна. Со всегдашней вашей смелостью вы входите в дом, где десятки людей могут вас узнать; вы ставите на карту свою жизнь, мое доброе имя. Вы требуете, чтобы я сюда явилась. Для чего?
Дон-Жуан. Так я хотел.
Анна. Хотел! Ну, а я? Ведь у меня муж, дети… Кто бы мог подумать, что графиня Анна… Иногда мне кажется – я бы убила вас, вы демон, Дон-Жуан. Вы стоите в этой черной маске, под портретом моего отца, как призрак… Но сейчас я лишена воли. Да, я здесь, по одному вашему слову. В чем ваша загадка? В чем?
Дон-Жуан. (Снимает маску.) Я не призрак. Я живой. Я хотел еще раз видеть вас, Анна. Я осужден, бегу отсюда.
Анна (в изумлении). Отчего вы так бледны?
Дон-Жуан. Оттого, что я ведь человек, не призрак. Но сейчас, за несколько минут, я видел призрак.
Анна. Уж не того ли старика, отца Дона-Диего, вами убитого?
Дон-Жуан. Нет, женщину.
Анна. Вы погубили ее?
Дон-Жуан. Юную девушку, монахиню.
Анна. Вы соблазнили ее.
Дон-Жуан. Нет, я ее любил.
Анна. А она?
Дон-Жуан. Тоже любила. Но она была святая. И не покинула монастыря.
Анна. Вы потерпели неудачу?
Дон-Жуан. Быть может. Но она была сильнее меня.
Анна. Вот как!
Дон-Жуан. Сам Бог поддерживал ее.
Анна. (Насмешливо.) Бог? Но ведь его нет?
Дон-Жуан. (Тихо.) Значит, для нее был.
Анна. Что же, рассказывайте дальше. Я – покорна. Слушаю. Почему она явилась?
Дон-Жуан. Любви своей она не вынесла. Я – отошел. Она угасла, в одиночестве, в своем монастыре. Я видел ее перед смертью. И она сказала… (Умолкает.) Сказала, что хотя я грешник, но она любит меня любовью беспредельной, и полюбила с первого взгляда, в церкви; что она вечно за меня молится… и даже… даже надеется, что я не погибну. И еще она сказала, что придет, когда я буду на пороге смерти.
Анна. А! понимаю, почему вы бледны.
Дон-Жуан. Я не знаю страха. Но таинственное чувство овладело мной. Точно бы запредельное дохнуло.
Анна. Для чего она должна была явиться?
Дон-Жуан. Чтобы мне помочь.
Анна. Значит, вы шли на свидание с живой любовницей, а встретили загробную.
Дон-Жуан. Она указывает мне путь спасения.
Анна. Я ничего не могу вам указать.
Дон-Жуан. Вы – другая.
Анна. Кто же я?
Дон-Жуан. Вы не загробная. И не святая. Вы живая, гордая и чудная, мое последнее опьянение, последняя страсть.
Анна. Почему последняя?
Дон-Жуан. Потому, что смерть моя близка. Потому, что я был на могиле Клары, и увидел Клару нынче. (Горячо). Но тебя я люблю, Анна, сейчас, по-прежнему, пока я жив. Я люблю твой гнев, ревность, твои сверкающие глаза, всю тебя, как ты есть. Не отталкивай. (Целует ей руку.) Дай унести образ твой – обворожительный. А-а, женщины, вечное волнение, и вечное неутоление!
Анна. Но почему ты такой! Почему не светлый ангел, которому я отдала бы душу!
Дон-Жуан. Я не ангел, и не дьявол. Я – Дон-Жуан.
Анна. Почему… ах, почему?
Дон-Жуан. Потому, что опьянение – минута, и восторг – минута, и минута – все вы, милые виденья, обрывки сна, никогда не сбывающегося. И за вами – бездна.
Анна. (Сжимает ему руку.) Как я тебя люблю!
Входит старик дворецкий.
Дворецкий. (Анне). Вас спрашивают, ваше сиятельство.
Анна. Кто?
Дворецкий. Дворец окружен. Ищут Дон-Жуана Тенорио. Есть сведения, что он под маскою проник сюда. Начальник отряда, не желая нарушать празднества, просит ваше сиятельство к себе.
Анна. Вот как! (Твердо). Хорошо. Иди. Я сейчас буду. (Дворецкий уходит.)
Дон-Жуан. (Надевает маску.) Ну, посмотрим. (Кладет руку на эфес шпаги.)
Анна. (Отворяет потайную дверь.) Мы сойдем в нижний этаж, в пустую кладовую. Там другая дверь выведет тебя подземным ходом в дальний угол парка. Ты спрыгнешь со стены, в глухой ров – он выходит за город.
Дон-Жуан. Идем.
Скрываются.
Сцена седьмая
Беседка надо рвом, окружающим парк. Вдалеке пустынное поле. Близятся сумерки. Дон-Жуан быстро подходит к беседке.
Алебардщик. (Загораживая ему дорогу). Не велено пускать.
Дон-Жуан. Убирайся! У меня назначено свидание.
Алебардщик. Приказано всех возвращать во дворец.
Дон-Жуан. (Холодно). А все-таки выйду.
Алебардщик. Нельзя.
Дон-Жуан. (В бешенстве). Прочь!
Алебардщик. А, вот он как! Ну, сейчас позову товарищей. Да уж не его ли мы ищем?
Дон-Жуан. (Выхватывает шпагу) Меня. (Убивает его.) Я все-таки выйду. (Подбегая к перилам, заглядывает вниз.) Высоко. Ну, что же делать? (Прыгает.)
Сцена восьмая
Пустынная равнина Каменисто, голо. Вдалеке горы. Узенькая полоска заката – небо в хмурых тучах. Завернувшись в плащ, безмолвно скачет Дон-Жуан. Далеко сзади, подпрыгивая на тощей лошаденке, трясется Лепорелло.
Голоса Земли.
Вперед, вперед, безлюдными долами, Одинокие странники, В вечере пасмурном. Под неба дыханием неласковым – Вперед, вперед!Голоса Гор.
К нашим высотам лежит путь земнородных. К нашим высотам. Спокойно взираем на малые твари. Сила и Вечность – превыше печали людской.Дон-Жуан проносится во мглу вечера.
Сцена девятая
Утро. Каменистые высоты. Вдалеке, у дотлевающего костра, пасутся две расседланные лошади. Дон-Жуан сидит у края пропасти.
Дон-Жуан. Пьеса оканчивается. До занавеса ждать недолго. Я загнан в горы, люди Дона-Диего рыщут по моим следам; и удивляюсь, почему Лепорелло не покинул еще меня.
Лепорелло (входит). Ваша светлость, разрешите мне сказать.
Дон-Жуан. Говори.
Лепорелло. Вот, что значит хорошее воспитание. Мы находимся в труднейшей переделке, но я, как слуга воспитанный, выражаюсь по этикету.
Дон-Жуан. Короче.
Лепорелло. А короче, так короче. Плохо-с. Каждую минуту поймать могут и чи-ик! Не увидеть нам ни солнышка, и ни девчонок. Ну, и если мы все еще будем разыгрывать из себя знатного гранда и величественно опираться на рапиру, так и совсем дело дрянь.
Дон-Жуан. Опять болтаешь.
Лепорелло. Правду говорю. Нужно нам теперь сбросить эту спесь и попытаться спастись.
Дон-Жуан. Что ж ты предлагаешь?
Лепорелло. Тут вблизи есть хижина пастуха. Он согласен дать нам камзол, шитый золотом. Да, такой камзол, в коем овец пасут. Так извольте-ка, сударь мой, тотчас за мной следовать, и из светлейшего Дон-Жуана Тенорио превратиться в скромного пастуха.
Дон-Жуан. Брось, Лепорелло. Это глупо.
Лепорелло. А умнее будет, когда Дон-Диего просадит вас своей шпажонкой, как петуха надевают на вертел?
Дон-Жуан. Отойди от меня. Ты несешь вздор.
Лепорелло. То есть, как это отойди? Вам дело говорят, вас хотят спасти, это значит несешь вздор?
Дон-Жуан. (Спокойно). Именно и значит.
Лепорелло. Вам хочется – чик-чик?
Дон-Жуан. Я не стану переодеваться, не пойду ни к какому пастуху. Я буду сидеть на этом камне.
Лепорелло. С чем вас и поздравляю. Ну, а я не намерен оставаться здесь.
Дон-Жуан. Что же, уходи.
Лепорелло. Прощения просим. Я жить еще хочу. Я, может, еще женюсь. (Отходит. На минуту приостанавливается.) В последний раз у вас спрашиваю: угодно за мной пожаловать?
Дон-Жуан. Нет.
Лепорелло уходит.
Дон-Жуан. Он давно должен был это сделать.
Слегка светлеет. Туманы стелются у его ног, то заволакивая бездну, то разрываясь над нею
Дон-Жуан. Одному покойнее. Я хочу думать – так глубоко, как никогда еще не думал в жизни.
Смерть. Это потому, что я близка.
Дон-Жуан. Быть может. Не мешай, однако.
Сидит недвижно, как бы всматриваясь перед собой. По лицу его проходит напряжение, волнение.
Смерть. Тебя все еще прельщает страна призраков?
Дон-Жуан. Теперь я узнаю ее. Я видел, видел.
Смерть. Что ты видел?
Дон-Жуан. В таинственных туманах вечности отражена вся жизнь моя. Отсюда, с высоты, я озирал ее течение. Все облики моих любвей, безумства, приключения, страдания мои и радости, падения и преступления проплывали мимо.
Смерть. Ты не отошел еще.
Дон-Жуан. Нет, отошел. Я видел все иными взорами, опьяненными.
Смерть. Но пора тебе признать меня.
Дон-Жуан. Я давно знаком с тобой, и не раз на путях бурной моей жизни ощущал дыхание твое. Но сейчас занят я другим.
Смерть. Все еще мечешься, жалкий мой подданный?
Дон-Жуан. В великом созерцании я не видал еще одной, той, чья улыбка осветила бы сиянием все странствия мои – от сердца к сердцу, от лобзания к лобзанию. Я не видел еще той, кто утолила бы тоску, вечно стремившую меня вперед. Я алчу. О, жизнь, чудесная и горькая, где царица твоя?
Дон-Диего. (Входит.) А, наконец-то. Наконец, проклятый Дон-Жуан!
Показываются слуги Дон-Диего.
Дон-Жуан (озираясь, полуневидящим взором). Отойдите. Прочь.
Дон-Диего. Нет, не прочь! (Выхватывает шпагу.) Слишком долго я гонялся за тобой.
Дон-Жуан (равнодушно). А! Драться! (Вынимает также шпагу.)
Смерть. (Садится невдалеке. Дону-Диего). Ну, помощничек мой, действуй!
Дон-Жуан делает несколько безразличных шагов навстречу противнику. Как вдруг знакомое голубоватое облако окутывает его. Он уже не видит Дона-Диего. Легкий трепет пробегает по нему, он как бы в полусне. Из голубой бездны возникает женский облик
Клара. Я здесь, Дон-Жуан. Я люблю тебя, Дон-Жуан. Я за тебя молюсь.
Дон-Жуан роняет шпагу и, раскрыв объятия, идет к ней. Его пронзает шпага Дона-Диего
Смерть. (Обнимает его.) Ну, теперь видишь?
Облик Клары светлеет, расплывается, и пред ним Женский Образ неземной прелести.
Дальний Хор.
Слава Жене Предвечной, Светоносящей! Слава Господней милости, нежной Приимнице!Светлая Дама. Ты ждал меня, Дон-Жуан. Вот я.
Дон-Жуан мертвый падает к ее ногам.
Хор.
Мир отошедшему, вечный покой Отходящим в страну искупления. Свет незакатный, помилуй Душу Чистилища!1922
Души чистилища*
Скалы Каменистая тропинка, обрывы в клочьях белого тумана. Тишина горных высот. Иной раз солнце прорывает облака, падает на камни и осветит нежный анемон. Орлы висят над пропастями. Впереди – Ангел-вожатый в скромной белой одежде. За ним, ступая медленно, группами и в одиночку, восходят тени На повороте, под водительством другого Ангела к ним примыкает новая толпа. Встретившись, смешиваются Мы слышим голоса двоих.
Первый. Лелио, ты? Вот где мы свиделись…
Лелио (обнимая его). Наконец-то! Сколько времени бреду я так, безвестными дорогами, в туманах, между гор, и никого, и никого… Чужие тени, ангелы вечно прекрасные, вечно далекие, но никого из тех, кого мы знали и любили на земле.
Филострато. Ты помнишь еще землю, нашу жизнь, меня, мой музыкант?
Лелио. Я помню много – тебя в особенности. Помню родственность путей, и нашу дружбу, и всего тебя, художник тихий. Помню нежность утр на твоих картинах, свет росы, жемчуг восходов, тающие дымки и бездонные озера, бледные ладьи, скользящие.
Филострато. Искусство! Первым вспомнил ты о нем. Не позабыть и мне звуков светлых твоих. О, как они сребристы!.. Вздох, весна, печаль… Психея милая. Беспрекословно слушались тебя и клавесины, флейта, скрипка.
Лелио. Да, жизни протекали рядом. С юности до старости.
Филострато. Мы не очень были счастливы. Но все же вспоминаем жизнь охотно.
Лелио (ласково). Ты был известен, многие тебя любили, женщины задумывались о тебе. Жизнь протекала плавно. Ты любил ее очарования… и (с улыбкой) – много ведь им предавался. Но всегда какую-то печаль в тебе я чувствовал.
Филострато. Я вижу твою чистую, ясную жизнь музыканта. Монашеское было в ней, хотя ты и не чуждался света. И за бутылкой доброго вина, дыхания земли, нередко мы разогревались.
Лелио. Но я не помню, как попал сюда.
Филострато. Я тоже. Нас прервали будто в полусне, на полуслове. И теперь я странствую. Иду. Даже не по принуждению. Ангел не суров с нами. Но меня гонит сила некая, как будто смутное и важное влечение.
Лелио. Я исходил за это время тысячи дорог, долин и гор. Воздух пустынен всюду, редок, одинок. И везде свет этот, бледные туманы и опаловые облака, луч солнца, прорывающийся на мгновение, все пронизывающий, опять скрывающийся. Лишь орлы клекочут, иногда доносится как будто пение. Мне сказали, это из областей Рая. Но тотчас же я опять не слышу ничего, и начинается мое томление над бесплодными утесами.
Филострато. Иногда со мной бывает – я подымаюсь на скалу, и вдруг оттуда открывается мне даль, голубоватая и светлая, нездешние моря, синие долины, виноградники и колокольни, как бы в той стране, которую мы оба любили в жизни. Все преображено и очаровано. На мгновение я ее увижу – и опять: туман, утесы, редкий свет и путь.
Лелио. В этом – наказание, в этом – кара наша. Я не услышу музыки, ты не увидишь дивных образов…
Филострато. Никогда?
Лелио. Не знаю. Если верить… Если идти и добиваться…
Филострато ничего не отвечает. В задумчивости несколько замедлились они, отстают от остальных Тропинка поворачивает. С выступа скал свесился цветущий вереск Выше – тонкие стволы, зеленые вершины южных сосен Тихо. Мягкий луч пробившегося солнца Пахнет разогретой хвоей, смолами, фиалками.
Филострато. Сядем, отдохнем немного.
Лелио. Охотно.
Опускаются на траву. Солнце долее обычного пускает в них стрелу. Просвет лазури
Филострато. Как тихо. Как тепло! Опять напоминает землю. Фиалка тянется. Звенит под ветерком кусок полуоторванной кожуры на сосне. И ящерица выползла. Все греется.
Лелио. Ты и на земле любил все теплое, живое.
Филострато. Розовые пальцы девушки, жумчужина, цветок, прозрачный налив яблока, златистый мед (прислоняется головой к утесу). Как томно!
Лелио. Постой… постой… Да кажется, тут недалеко (настораживается. Мучительно напрягает слух. В изнеможении падает). Нет, ничего, опять пригрезилось.
Филострато. Друг, отдохнем.
Лелио лежит неподвижно. Солнце все еще прячется, и пригревает их. В далеком дуновении ветерка налетает светлый дух Ариель.
Ариель. Сон, смежи усталые веки странника!
Сон, обними нежностью души бесприютные!
Сон, пролей мир ласки в сердце, в сердца.
Сон исполняет повеления. Тени уснули и просветлели их лица, разгладились морщинки Ариель в своей радуге продолжает полет. Маленький спутник его кладет около Лелио свирель и улетает. Через некоторое время оба просыпаются…
Филострато. Сон был сладок. Кажется, впервые я заснул здесь так.
Лелио. Да, милый сон.
Филострато. Я снова видел землю, нашу жизнь, ее очарование и беды, любви и заблуждения, нашу с тобой дружбу, путешествие, мечтания – весь тот туманный путь, что мы прошли. Люция склонялась надо мной, меня любившая. Как верная подруга.
Лелио. Знаю. Помню. Где теперь она?
Филострато. Вряд ли суждено нам встретиться.
Лелио. Почему?
Филострато. Ее душа в областях высших.
Лелио. Да, так. Возможно.
Филострато. Вся она пылала огнем любви.
Лелио (задумчиво). Огнем любви.
Филострато. И страдала.
Лелио. Ведь ты любил ее.
Филострато. Но не так, как надо, но не так…
Лелио (улыбаясь). Розовые пальцы девушки, жемчужина, цветок, прозрачный налив яблока, златистый мед. (Замечает свирель.) Откуда? В первый раз вижу тут (нагибается, подымает). Свирель из тростника…
Филострато. Хороший знак! (Оглядывается). Смотри, сколько здесь появилось анемонов, пока мы спали. (Срывает несколько цветков.)
Лелио. Пора, однако. Надо трогаться. Опять в наш путь, опять вдвоем, вдвоем. Теперь нам будет веселей, я развлеку тебя.
Наигрывает. Тропинка снова камениста, снова в гору. На одном из поворотов Филострато приближается к обрыву.
Филострато. Ах, вот она, вот… (Тянется вперед, как будто видит что-то. Лелио удерживает его за руку.) Долины, колокольни и она, жизнь с нею; я вижу там себя, ее; мы молоды, мы счастливы… (Прислоняется к Лелио. Тот, полуобнимая, поддерживает его.) И ничего. Нет больше ничего. Все мука и томление.
Лелио. Идем, мой друг. Не станем обольщаться. Помни – наша кара.
Филострато. Но и ты прислушивался.
Лелио. Я тоже не силен. Вот слушай лучше. (Наигрывает на свирели) Тише и покойнее стало у меня на сердце. Сон, музыка как будто просветлели.
Филострато. Покоя! Света!
Лелио. (Вновь беря тростник) Вот эту песенку любила Люция.
Свирель издает нежные, светло-жалобные звуки Птичка прилетела и попрыгивает по дорожке. Выползла зелененькая ящерица – слушает.
Филострато. Зачаровываешь, как Орфей. Мне легче тоже.
Лелио. Орфей любил глубоко.
Филострато. Ну, так что же?
Лелио. Нет, я не Орфей.
Филострато (подает ему букетик анемонов). Прими, душа родная…
Лелио. Мне кажется, я лучше понимаю теперь прошлое и судьбы наши.
Филострато (как бы про себя). Где жизнь, где страсть? Художник и художник… утра, росы, жемчуга и тающие дымки.
Лелио. Звуки и мелодии, гармония…
Филострато. Да, да. Но разве – это преступление?
Лелио. Если бы преступление, то мы бы горели в покаянии, огонь нас очищал бы.
Филострато. Люция – Огонь.
Лелио. А мы – ни свет, ни тьма и ни огонь, ни лед. И мы томимся, мы бредем…
Филострато. Души предсумеречные, предрассветные (громче). Священный Эрос, был ли ты во мне, растил ли я тебя?
Лелио. Я не был чувствен в прежней, милой жизни. Любовь мерещилась мне, но в тумане. Свои волнения я полагал на музыку, и женщины мало меня любили. Я тосковал. Тоска моя развеивалась смутным бегом звуков. И я мечтал, томился, подпадал иной раз власти… А творил ли сам в любви?
Филострато. Женщины меня манили, волновали. Многие меня любили. Я был грешен. Туманом исходило сладострастие мое. Мое дыхание – как нежная отрава. Но сердце… И я любил, но не довольно, ту, которую терзал.
Небо проясняется, на минуту виден кусок безмерной синевы Ангелы беззвучными, далекими видениями, как лебеди, в нем проплывают.
Лелио (тихо). Видишь?
Филострато. Да, на мгновение. Но мы не созерцаем. Нам дано брести, многие сотни лет, средь полудобрых, полузлых, полупрощенных и полувиновных. Мы – полуистина и полуложь.
Лелио. Но мы. дождем. И мы услышим. Ты – увидишь.
Филострато. Надо верить.
Слышна труба. Солнце скрывается, в ущельях туман.
Лелио. Нас зовут.
Ускоряют шаги. Через некоторое время присоединяются к группе душ под водительством двух ангелов
Ангел (к Лелио и Филострато). Души маловерные и смутные, пора, мы ждем вас.
Отделяет – Филострато к одной группе, Лелио к другой. Те делают жест сопротивления. Но взор Ангела безмолвен, ясен
Второй Ангел. Ну в путь. Направо – и налево.
Одна группа теней с первым Ангелом идет прямо, другая, со вторым, сворачивает влево
Лелио (подает Филострато букетик анемонов). Возьми их. На память обо мне. Я же, играя на свирели, буду вспоминать о скромной земной нашей жизни, о тебе и о Люции.
Ангел. Души, забудьте о земле. Идите, закаляйте в странствии чрез горы и туманы слабый дух – утешайтесь надеждой, верьте, что в странах горних обретете силу, рано или поздно, созерцать блаженство.
Вереница душ с Лелио подымается крутой тропинкой, а другая, где Филострато, медленно идет на краю кручи. Понемногу тени первой вереницы показываются все выше, выше огибают ту же гору, тропинкою восходящей.
Филострато. Снова – одиночество. Надежды дальние. Томления. Туманы, скалы и орлы. Если мы будем верить, то когда-нибудь увидим. Люция, где ты…
Сверху слышится свирель музыканта Художник подымает свой букетик анемонов и приветствует, помахивает им.
Он не забыл земли. И вспомнил обо мне. Свирель все выше, все слабей, бледней.
1923
Переводы
Данте Алигьери Божественная Комедия Ад*
Перевод Бориса Зайцева
Единый план Дантова «Ада»
Есть уже плод высокого гения…
Пушкин«Божественная Комедия» написана терцинами. Предлагаемый перевод первой части ее («Ад») сделан ритмическою прозой, строка в строку с подлинником. Форма эта избрана потому, что лучше передает дух и склад дантовского произведения, чем перевод терцинами, всегда уводящий далеко от подлинного текста и придающий особый оттенок языку. Мне же как раз хотелось передать, по возможности, первозданную простоту и строгость дантовской речи.
Перевод всегда есть только отражение подлинника поэтического, задача его скромна, труд упорен и кропотлив. Все же я благодарен за те дни и годы, которые прошли в общении с Данте в России (1913–1918), и в Париже (1942), когда весь перевод вновь был проверен, строка за строкой, по тексту и комментариям. В тяжелые времена войны, революции и нашествия иноплеменных эта работа утешала и поддерживала.
Борис Зайцев
Песнь первая
Лес. – Холм. – Три зверя. – Вергилий. – Пес
1. На половине странствия нашей жизни Я оказался в некоем темном лесу, Ибо с праведного пути сбился. 4. О сколь трудно рассказать об этом Диком лесе, страшном и непроходимом, Что наводит ужас при одном воспоминании. 7. Так он горек, что немногим горше его смерть: Но дабы помянуть о добром, что я там нашел, Скажу сначала об ином, замеченном в нем мною. 10. Не могу ясно передать, как я вошел в него. Так глубоко был я погружен в сон, Когда покидал истинный путь. 13. Но достигнув подножия того холма, Где оканчивалась эта долина, Теснившая страхом мое сердце, 16. Я взглянул вверх и увидел, что его склоны Засияли уже в лучах планеты, Путеводительницы по верным стезям. 19. Тогда несколько умерился страх, Таившийся в озере моего сердца Всю ночь, проведенную столь бедственно. 22. И как тот, кто, переводя дыхание, Выходит на берег из моря, И обернувшись к гибельным волнам, взирает, 25. Так и дух мой, все еще бежавший, Обратился вспять, дабы взглянуть на проход, Не пропустивший никого из смертных. 28. А затем, дав отдохнуть усталому телу, Я вновь двинулся по пустынному брегу, Так, что стоявшая нога всегда была ниже подымаемой. 31. И вот, почти у самого начала подъема, Передо мной легкая пантера, и очень быстрая, Которая была одета пятнистым мехом. 34. И она не отступила, увидав меня, А напротив, так преграждала мне дорогу, Что не однажды я пытался возвратиться. 37. Наступал час раннего утра И Солнце восходило среди тех же звезд, Что были с ним, когда божественная любовь 40. Впервые двинула эти прекрасные создания Так что на победу над тем зверем С пятнистой шкурой давали мне надежду 43. И ранний час, и нежное время года – Но не настолько, чтобы меня не ужаснул Лев, внезапно появившийся передо мною. 46. Он, как казалось, надвигался на меня С поднятой головою, злобствуя от голода, Как бы приводя в трепет самый воздух; 49. Затем появилась и волчица, отягченная Всеми желаниями, несмотря на свою худобу, И многих заставлявшая жить бедственно. 52. Она ввела меня в такую смуту, Ужасом, изливавшимся в ее взоре, Что я потерял надежду взойти на холм. 55. И как человек, охотно накопляющий, Когда приходит время лишиться всего Плачет и печалится в своих мыслях, 58. Так действовал на меня беспокойный зверь, Который, надвигаясь спереди, понемногу Оттеснял меня туда, где умолкает Солнце. 61. В то время, как я низвергался в тьму, Глазам моим предстал тот, Кто от долгого молчания, казалось, потерял голос. 64. Увидев его в этой великой пустыне – «О, сжалься надо мною, – вскричал я,– Кто бы ты ни был, человек или тень». 67. Он мне ответил: «Я не человек, но был им, И родители мои были ломбардцы, Происхождением же оба из Мантуи. 70. Я родился при Юлии, хотя и поздно, И жил в Риме при добром Августе, Во время ложных и обманчивых богов. 73. Я был поэт и воспевал того праведного Сына Анхиза, который явился из Трои, Когда был сожжен гордый Илион. 76. Но зачем возвращаешься ты к этим печалям? Почему не всходишь на прелестный холм, Начало и причину всякой радости?» 79. «Уж не Вергилий ли ты, источник, Изливающий из себя широкую реку речи? – Ответил я, смущенно склонив голову. – 82. О честь и светоч других поэтов, Снизойди ко мне за долгий труд и за великую любовь, Влекшие меня к твоим твореньям. 85. Ты мой учитель и мой поэт, Лишь от тебя заимствовал я свой изящный стиль, Уже доставивший мне славу. 88. Взгляни на зверя, пред которым отступаю, Приди на помощь мне, о великий мудрец, Ибо от страха у меня трепещет кровь и сердце». 91. «Тебе следует избрать иной путь,– Ответил он, увидев мои слезы,– Если хочешь спастись из этого дикого места, 94. Ибо этот зверь, вызывающий твои вопли, Не дает никому пройти по своей дороге, Но так препятствует, что наконец убивает. 97. Он по природе столь зол и порочен, Что никогда не насыщает своего желанья, И приняв пишу, делается еще голоднее. 100. Со многими животными он соединяется. И впредь их будет еще больше, пока не явится Великий Пес, который загрызет его. 103. Его пищей будет не земля и не злато, Но мудрость, любовь и добродетель, И его страной область между Фельтро и Фельтро. 106. Он спасет ту порабощенную Италию, За которую пролили кровь дева Камила, Низ, Турн и Эвриал. 109. Он погонит зверя через все города, Пока не свергнет его в самый Ад, Откуда некогда извлекла его зависть. 112. Итак, я думаю и уверен, для тебя лучше, Если последуешь за мной как за вожатым, И я проведу тебя отсюда через вечную обитель, 115. Где ты услышишь вопли отчаянья, Увидишь страждущие души древних, Криками взывающие о вторичной смерти; 118. И ты увидишь тех, которые довольны, Хотя они и в огне, ибо надеются достичь Когда бы то ни было царства блаженных. 121. Если захочешь проникнуть и в него, Пред тобой явится душа, более достойная, чем я; Ей я тебя оставлю, сам же удалюсь. 124. Ибо Властитель, царствующий там вверху – Так как я противился его закону, – Не желает, чтобы я вводил в его град. 127. Всюду он властвует, но там царит, Там его град и вышний престол. О, счастлив тот, кого он воззовет туда!» 130. И я ему: «Поэт, прошу тебя именем Того Господа, которого ты не познал, Чтоб я избег этого зла и еще худшего, 133. Веди меня туда и к тем, о ком сказал, Дабы я увидал врата Апостола Петра И тех, кого ты описал столь горестно». 136. Он тронулся, и я последовал за ним.Песнь вторая
Опасения Данте. – Утешения Вергилия. – Три небесных Жены. – Начало странствия
1. День уходил, и потемневший воздух Уводил тех, кто обитает на земле От их забот; один лишь я 4. Приготовлялся выдержать борьбу С тягостью пути и чувством жалости, О чем расскажет моя память, что не ложна. 7. О вдохновение, о музы, помогите мне теперь! О память, запиши то, что я видел, И да проявится в том все твое величье. 10. Я начал так: «Поэт, сопровождающий меня, Взгляни на мою доблесть и достаточна ль она, Прежде чем возвышенному прохождению ты меня доверишь. 13. Ты говоришь, что отец Сильвия Еще живым сходил в область бессмертия И имел образ человеческий. 16. Но если Ненавистник всякой скверны Был к нему благостен, зная о высшем следствии, Которое произойдет от него, и кто оно и каково, 19. То это не покажется бессмысленным разумному: Ибо в горнем небе был Эней избран Отцом великого Рима и его царства; 22. А Рим и его царство, говоря по правде, Были созданы для того святого места, Где воссел преемник первого Петра. 25. Благодаря этому странствию, прославленному тобой, Эней уразумел все, ставшее причиной Победы и его папской мантии. 28. Затем направился и избранный Сосуд туда, Дабы нести с собою укрепление в той вере, Что есть начало на пути спасения. 31. Зачем же отправляюсь я? И кто дозволит это мне? Я не Эней, не Авел; и ни я, И ни другие не считают меня этого достойным. 34. А потому, решившиеся пуститься в путь, Боюсь, чтобы не оказалось все это безумием. Ты мудр, так объясни же мне, чего не понимаю. 37. Как тот, кто не желает уж, чего желал, И в новых мыслях изменяет пожелания, Не оставляя ничего из прежнего; 40. Так же решил и я на этом мрачном склоне, Ибо, подумавши, я отступил от замысла, Который был вначале столь во мне неколебим». 43. «Если я хорошо понял твои слова,– Ответила та великодушная тень,– Душа твоя поражена страхом, 46. Который часто наполняет человека, И отвращает его от славных дел, Как пугается животное увиденной тени. 49. Чтобы избавить тебя от этой боязни, Скажу, зачем я пришел, и что узнал Тотчас же, как над тобой сжалился. 52. Я находился среди тех, которые нерешены, И меня позвала дивная, блаженная Жена, Которую я просил повелевать мною. 55. Взоры ее сияли ярче звезд; И так заговорила она, тихо и приятно, Ангельским голосом, на своем наречии: 58. «О любезная душа из Мантуи, Чья слава в мире длится еще, И будет длиться, пока мир стоит. 61. Мой друг, но не друг удачи, Так стеснен на пустынном бреге, Что от страху поворотил назад. 64. И боюсь, не заблудился ли уже настолько, Что моя помощь придет к нему Слишком поздно, как я слышала о том на Небе. 67. Иди же, и своим крылатым словом, И всем, что может послужить его спасению, Помоги ему так, чтобы меня утешить. 70. Я, посылающая тебя, – Беатриче: Я пришла оттуда, куда желаю возвратиться. Любовь подвигнула меня и заставляет говорить. 73. Когда я буду перед Господом моим, Часто стану восхвалять Ему тебя». Тогда она умолкла, а я начал: 76. «О Жена доблестная, лишь благодаря которой Род людской превосходит все, что заключается Под небом самых малых кругов! 79. Столь для меня приятно приказание твое, Что если б я уж исполнял его, было бы поздно. Тебе не нужно больше изъяснять мне своего желанья, 82. Но скажи, почему ты не побоялась Сойти сюда вниз, в этот центр Из места мощного, куда стремишься возвратиться?» 85. «Если ты желаешь знать так много, Я скажу коротко, – ответила она,– Почему не страшусь спуститься в эту глубь. 88. Бояться следует лишь таких вещей, Которые способны приносить вред для других, А не иного, ибо остальное не опасно. 91. Я создана милостию Божией так, Что ваши бедствия не задевает меня, Как недоступна я и пламени этого пожара. 94. На Небесах есть прекрасная Жена, сострадающая Тому затруднению, ради которого я тебя посылаю, И она смягчает суровый приговор. 97. Она обратилась к Лючии с просьбой, И сказала: «Верный твой человек нуждается В тебе, и я поручаю его твоим заботам». 100. Лючия, враг всяческой жестокости, Поднялась и направилась в то место, Где я восседала с древнею Рахилью. 103. Она сказала: «Беатриче, истинная хвала Божия, Почему же не поможешь ты тому, кто так любил тебя, Что выступил чрез это из обыденной толпы? 106. Разве ты не слышишь горестного его стона? Не видишь, как он борется со смертью, На реке, перед которой нечем похвалиться морю? 109. Никогда не было человека, столь быстрого В стремленье к выгоде, желании избежать беды, Как я после подобных слов. 112. Я сошла сюда со своей блаженной скамьи, Доверившись достоинству твоих слов, Делающих честь тебе и тем, кто тебя слушал». 115. После того как мне сказала это, Очи, сияющие влагой, обратила на меня, И оттого я тронулся в путь быстрее. 118. И вот пришел к тебе, по ее воле Избавил тебя от того зверя, Что мешал краткому пути на чудный холм. 121. Так что же? Для чего, зачем ты медлишь? Почему такую робость ты питаешь в сердце? Почему нет у тебя мужества и смелости, 124. Если три столь благословенные Жены Заботятся о тебе при дворе Неба, И моя речь обещает тебе столько доброго? 127. Как цветочки, поникшие и свернувшиеся От ночного холода, выпрямляются, раскрытые, На своих стеблях, когда рассвет побелит их, 130. Так восстановились и мои упавшие силы, И в моем сердце явилось столько настоящей отваги, Что я заговорил, как человек освобожденный: 133. «О, сострадательная, принесшая мне помощь, И ты, изящный, тотчас же повиновавшийся Словам истины, которые она произнесла! 136. Ты так расположил своим словами Сердце мое к тому, чтобы идти, Что я возвращаюсь к прежнему намерению. 139. Теперь вперед, ибо у нас одно желание. Ты вождь, ты Повелитель, ты наставник», – Так я ему сказал, и как он тронулся, 140. То я вступил на дикий и высокий путь.Песнь третья
Врата Ада. – Вход. – Целестин V. – Ахерон. – Харон. – Переезд. – Землетрясение
1. Через меня путь в город скорби, Через меня путь к вечной муке, Через меня путь к осужденным душам. 4. Правосудие двинуло моего высокого Творца; Меня создало Могущество Божие, Высшая Мудрость и Первая Любовь. 7. До меня ничего не было в мире, Кроме вечного, и я пребываю вечно: Оставьте всякую надежду вы, входящие! 10. Эти слова, написанные темным, я увидел Над самыми вратами; и я сказал: «Учитель, смысл их внушает ужас». 13. И он обратился ко мне как тот, кто понял. «Здесь надлежит оставить всякую боязнь; И да умрет здесь всякая трусость. 16. Мы пришли к месту где, я говорил, Ты увидишь существа страждущие, Которые потеряли благо разумения». 19. И положивши свою руку на мою, Со светлым видом, ободрявшим меня, Он устремил меня в область тайн. 22. Здесь вздохи, жалобы, громкие стенанья Раздавались в воздухе без звезд, Так что вначале вызвали у меня слезы. 25. Разнообразные языки, ужасающие речи, Слова страдания, возгласы ярости, Высокие и хриплые голоса, и всплески рук, 28. Образовали хаос, вечно кружащийся В тусклом воздухе, лишенном времени, Как песок, крутящийся в налетевшем вихре. 31. И я, чья голова была повита ужасом, Сказал: «Учитель, что это я слышу? И что это за люди, видимо столь побежденные страданием?» 34. И он мне: «Это жалкое занятие Печальных душ тех, которые Прожили без позора, но и без заслуги. 37. Они соединены с тем хором дурных Ангелов, которые не восставали, Но не были верны и Богу, а стояли за себя. 40. Их изгнало Небо, дабы не быть менее прекрасным, Не получил их и глубокий Ад, Ибо виновные похвалялись бы пред ними». 43. И я: «Учитель, в чем же состоит та тягость, Что заставляет их стенать столь громко?» Он мне ответил: «Я скажу об этом очень кратко. 46. Нет у них никаких надежд на смерть, И их слепая жизнь столь низменна, Что они завидуют всякой иной участи. 49. В мире не осталось о них памяти, Милосердие и Справедливость презирают их; Не будем говорить о них: взгляни и проходи». 52. И я, взглянувши, увидал некое знамя, Двигавшееся по кругу с такой скоростью, Что, казалось, всякая остановка была бы его недостойна. 55. И за ним устремлялась столь длинная вереница Людей, что никогда бы я не поверил, Что подобное множество поразила смерть. 58. Распознавши среди них некоторых, Я взглянул и увидел тень того, Кто по трусости совершил великий отказ. 61. Тотчас я понял, и оказался прав, Что это было скопище дурных душ, Ненавистных и Богу и его врагам. 64. Эти несчастные, никогда не бывшие живыми, Были раздеты и жестоко жалили их Осы и большие мухи, здесь летавшие. 67. Кровь от укусов струилась по их лицам, И стекая со слезами к их ногам Становилась пищей отвратительных червей. 70. Затем, оглядев все вокруг себя, Я увидал людей на берегу большой реки, И я сказал: «Учитель, благоволи мне 73. Объяснить, кто же они, что заставляет их Стремиться с такою быстротою к переправе, Как я различаю это в смутной мгле». 76. И он мне: «Все это разъяснится для тебя, Когда мы замедлим наши шаги На берегах скорбного Ахерона». 79. Тогда со смущением, с опущенными глазами, Опасаясь, не сказал ли неприятного ему, Я до самой реки не проронил ни слова. 82. И вот приблизился к нам в ладье Побелевший от годов старец, С криком: «Горе вам, о злые души. 85. Не надейтеся когда-либо увидеть небо; Вот я перевезу вас на другой берег, В вечную тьму и в жар и в холод. 88. И ты, здесь находящийся, душа не мертвая, Уйди от них, ибо они умерли». Но увидав, что я не удаляюсь, он 91. Сказал: «Другим путем, через другие двери Переправишься ты на тот берег, не здесь: Более легкая ладья должна везти тебя». 94. И Вождь ему: «Харон, перестань гневаться; Так пожелали там, где могут все, Что захотят; и более не спрашивай». 97. Тогда успокоились шерстистые щеки Кормчего по тусклому болоту, Глаза которого окаймлены огнем. 100. Души же, истомленные и нагие, Изменились в лице и заскрежетали зубами, Лишь только услышали эти суровые слова. 103. Они проклинали Господа и своих родителей, Род человеческий, место и время, семя Их племени и их рождения. 106. Затем все вместе удалились они, Обливаясь слезами, к горестному брегу, Ожидающему всякого, кто не боится Бога. 109. Демон Харон, с пылающими глазами, Делая им знаки, собирал их всех, И бил веслом тех, кто замедлился. 112. Как осенью срываются листья, Один за другим, доколе ветвь Не сбросит на землю все свое убранство, 115. Подобно этому и злое семя Адама Кидалось с этого берега, друг за другом, По знаку, как птицы на приманку. 118. Так уплывают они по сумрачным волнам, И ранее, чем сойдут там, вдалеке, Здесь собирается уже новая вереница. 121. «Сын мой, – сказал добрый Учитель, – Кто умирает со злобою на Бога, Все сходятся сюда, изо всех стран, 124. И они готовы переправиться чрез реку, Ибо правосудие Господне гонит их, Так что их страх обращается в желание. 127. Здесь не проходит никогда праведная душа, И если Харон негодует на тебя, Ты можешь теперь уразуметь, что это значит». 130. Когда он кончил, мрачная равнина Столь сильно заколебалась, что от ужаса И сейчас еще на лбу моем выступает пот. 133. Плачущая земля дохнула ветром, В нем сверкнул крановатый свет, Лишивший меня последних сил. 136. И я упал, как бы настигнутый сном.Песнь четвертая
Первый круг. Лимб. – Дети и взрослые, умершие без крещения. – Патриархи, поэты, знаменитые люди герои и философы древности
1. Глубокий сон моего духа нарушился Тяжелым гулом, так что я очнулся Как человек, разбуженный насильно. 4. И отдохнувшим взором я взглянул окрест, Поднявшися, и пристально рассматривал, Чтобы узнать место, где я находился. 7. Действительно, я стоял теперь на краю Скорбной долины бездны, Собиравшей гул бесчисленных воплей. 10. Темна, глубока была она и туманна Столь, что устремив взор в ее глубину, Я ничего не различал ясно. 13. «Спустимся же теперь туда, в слепой мир, – Начал Поэт, весь побледневший. – Я буду впереди, а ты следуй за мною». 16. И я, заметив цвет его лица, Сказал: «Как я пойду, когда ты оробел, Всегда поддерживающий меня в сомнениях»? 19. И он мне: «Скорбь всех существ, Там находящихся, окрашивает мне лицо В цвет сострадания, которое считаешь ты страхом. 22. Идем же, ибо долгий путь нас подгоняет». Так он двинулся, и так ввел меня В первый круг, опоясывающий бездну. 25. Здесь, как я заметил вслушиваясь, Не раздавалось стонов, но слышались вздохи, Заставлявшие трепетать вечный воздух; 28. И это исходило от горести без мучений, Которою были объяты толпы, обильные и великие, И детей, и женщин, и мужей. 31. Добрый Учитель обратился ко мне: «Ты не спрашиваешь, Что это за духи, которых видишь тут? Но я хочу, чтобы ты знал, прежде чем идти далее, 34. Что они не грешили и если даже у них есть заслуги, Этого недостаточно, ибо они не были крещены, А крещение есть врата твоей веры; 37. И если они жили ранее Христианства, То не поклонялись Богу должным образом, К их же числу принадлежу и я. 40. Эти недостатки, а не иные поступки Погубили нас, и лишь тем мы угнетаемы, Что без надежды живем в желании». 43. Великая печаль овладела мной, когда я услышал это, Ибо много замечательных людей Узнал я среди нерешенных в этом лимбе. 46. «Скажи мне, мой Учитель, скажи мне, Господин,– Начал я, чтобы сильней укрепиться в той Вере, которая побеждает все заблуждения, – 49. Вышел ли кто отсюда по своей ли заслуге, Или через другого и достиг ли блаженства»? И он, уразумев мои неясные слова, 52. Ответил: «Новым был еще я в этом месте, Когда увидел как пришел некто могучий, Увенчанный знаками победы. 55. Он извлек отсюда тень праотца Адама, Сына его Авеля, И тень Ноя, А также Моисея законодателя, и богобоязненного 58. Патриарха Авраама, и царя Давида, Иакова с его отцом и сыновьями, И с Рахилью, для которой он столько сделал. 61. И еще многих; и блаженство дал он им. И я хочу, чтобы ты знал, что раньше их Никакие человеческие души не спасались». 64. Мы не прерывали пути, пока он говорил, Но проходили все то время через лес, Лес, скажу я, столпившихся душ. 67. Мы ненамного еще отдалились От края пропасти, когда я увидел пламя, Которое побеждало полушарие тьмы. 70. Хотя мы находились еще и не близко, Но я мог уже отчасти разглядеть, Что для почтенных людей отведено это место. 73. «О ты, краса всякой науки и искусства, Скажи, кто эти, окруженные таким почетом, Который отделяет их от всех других?» 76. И он мне: «Слава их имен, Гремящая наверху в твоей жизни, Снискала им милость Неба, так отличающего их». 79. Меж тем донесся до меня голос: «Приветствуйте высокого Поэта: Возвращается тень его, которая отсутствовала». 82. Когда голос прекратился и умолк, Я увидел четыре приближавшиеся великие тени: Они не казались ни грустными, ни веселыми. 85. Добрый Учитель обратился ко мне со словами: «Взгляни на этого, с мечом в руке, Что идет впереди троих, подобно повелителю. 88. Это Гомер, величайший из поэтов, За ним следует сатирик Гораций, Третий Овидий, а последний Лукан. 91. Так как все их имена достойны моего И провозглашены единодушным приговором, То они выказывают мне почет, и хорошо делают». 94. Так увидел я единение блестящей школы Этого владыки высочайшего песнопения, Парящего над другими подобно орлу. 97. Поговорив между собою немного, Они обратились ко мне со знаком приветствия. И мой Учитель, видя это, улыбнулся. 100. И еще более почета оказали они мне, Приобщив меня к своему ряду, так что я Явился шестым среди подобной мудрости. 103. Так шли мы в направлении к свету, Говоря о том, о чем теперь столь же следует молчать, Как там, где были мы, надлежало говорить. 106. Мы подошли к подножию величественного замка, Семь раз окруженного высокими стенами, Под защитой окаймляющей прелестной речки. 109. Мы переправились через нее как по сухому месту: Чрез семь врат прошел я с этими мудрецами: Мы оказались на лугу со свежей зеленью. 112. Там были люди с медленным и важным взором, Весьма внушительные по своему виду; Они беседовали не быстро, приятными голосами. 115. Мы же отодвинулись от одного из углов В открытое место, возвышенное и светлое, Откуда можно было видеть всех. 118. Там, прямо передо мной, на зеленой мураве Мне были показаны великие души, Даже воспоминание о коих воодушевляет меня. 121. Я увидел Электру со многими сподвижниками, Среди которых узнал Гектора и Энея, И вооруженного Цезаря с хищным взглядом. 124. Видел Камиллу и Пентезилею С другой стороны; и видел царя Латина, Сидевшего со своей дочерью Лавинией. 127. Видел того Брута, что изгнал Тарквиния, Лукрецию, Юлию, Марцию и Корнелию, И видел в стороне одинокого Саладина. 130. Обратив взор немного выше, я увидал Учителя тех, кто предан знанию, Сидящего среди семьи философов. 133. Все преклоняются пред ним, все его почитают. Здесь я увидел и Сократа, и Платона, Стоявших впереди других, ближе к нему. 136. Демокрита, считавшего мир случаем, Диогена, Анаксагора и Фалеса, Эмпедокла, Гераклита и Зенона. 139. И видел отличного собирателя качеств, То есть, Диоскорида; и видел Орфея, Туллия и Лина, и моралиста Сенеку. 142. Геометра Эвклида и Птоломея, Гиппократа, Авиценну и Галлиена, Аверроэса, создавшего великое толкование. 145. Я не могу изображать всех с полнотою, Ибо так подгоняет меня обширная тема, Что часто мне недостает слов для виденного. 148. Общество шестерых уменьшилось на двое, Другим путем ведет меня мудрый Вождь Прочь от покоя, в трепетный воздух, 151. И я вхожу туда, где уже нету света.Песнь пятая
Второй круг. Грехи плоти. – Минос. – Франческа да Римини
1. Так спустился я из первого круга Вниз, во второй, заключающий меньше места, И столь же более горя, жалящего до воплей. 4. Там сидит страшный Минос, оскаливая зубы, Он исследует вину всякого входящего, Судит его и направляет извивами своего хвоста. 7. Я говорю, что когда обреченная душа Является перед ним, то исповедует все, И этот знаток всяческих прегрешений 10. Видит, какое место Ада ей прилично. Он обвивает себя хвостом столько раз, На сколько кругов вниз желает ее спустить. 13. Всегда толпятся перед ним те души. Они идут поочередно на его суд; Говорят, выслушивают, и направляются вниз. 16. «О ты, пришедший в скорбное убежище,– Вскричал Минос, увидев меня близко И прерывая исполнение своего дела, – 19. Взгляни, куда ты входишь, и кому вверяешься. Пусть не обманывает тебя ширина входа». И мой Вождь ему: «Зачем же ты кричишь? 22. Не преграждай назначенного ему пути. Так хотят там, где могут все, Что пожелают, и более не спрашивай». 52. «Первая из тех, узнать о коих Ты желаешь, – сказал он мне тогда,– Была властительницей многочисленных народов. 55. Столь предавалась она пороку сладострастия, Что дозволяла всякое желание в своих законах, Дабы снять осуждение, в коем жила сама. 58. Это Семирамида, о которой известно, Что она наследовала Нину и была его женой; Она владела страной, принадлежащею теперь Султану. 61. Другая та, что от любви покончила с собой, И не соблюла верности праху Сихея; Далее сладострастная Клеопатра». 64. Я увидел Елену, из-за которой протекло Столько горького времени, и великого Ахилла, Сразившегося под конец с Любовью. 67. Я увидел Париса, Тристана, и более тысячи Теней указал он пальцем, называя поименно, И все это были похищенные Любовью. 70. Когда услышал я от Учителя имена Стольких жен и героев древности, Жалость овладела мной и я смутился. 73. Я начал так: «Поэт, охотно Поговорил бы я с теми, что несутся вместе, И для ветра кажутся столь легкими». 76. И он: «Дождись, когда они подлетят К нам ближе, и тогда попроси Именем любви, влекущей их; и они явятся». 79. И лишь только ветр склонил их к нам, Я возвысил голос: «О мучимые души, Поговорите с нами, если нет к тому препятствий». 82. Как голуби, влекомые желанием, Летят по воздуху на крепких, распростертых крыльях К сладостному гнезду, так две души 85. Отьединилися от ряда, где была Дидона, И устремились к нам по горестному воздуху. Столь силен был мой страстный призыв, 88. «О существо изящное и благосклонное, Идущее в багровом воздухе навестить Нас, окрасивших мир кровью. 91. Если бы Царь вселенной был нам другом. Мы просили бы его о мире для тебя, Ибо ты сжалился над нашей неестественною мукой. 94. О чем ты пожелаешь слушать или говорить, Доколе ветер, как сейчас, смолкнул. 97. Город, где я родилась, расположен У моря, куда По нисходит, дабы Успокоиться с притоками своими. 100. Любовь, легко воспламеняющая нежное сердце, Овладела Паоло, который полюбил мою красу, Отнятую у меня способом, оскорбляющим и поныне. 103. Любовь, никому любимому любви не прощающая, Охватила и меня с такою силой, Что, как видишь, и теперь не покидает. 106. Любовь и довела нас до единой смерти. Кайна ожидает нашего убийцу». Такие слова направили они к нам. 109. Когда я выслушал эти обиженные души, То наклонил лицо и не подымал его, Пока поэт не произнес: «О чем ты думаешь?» 112. Ответивши ему, я начал так: «О горе! Сколь сладкие мечты и какие желания Привели их к горестному шагу». 115. Затем я снова повернулся к ним, И начал: «Франческа, твои мучения Вызывают у меня слезы жалости и печали. 118. Но скажи: во время сладких вздохов Чем и как дозволила вам Любовь Увериться в ваших смутных желаниях?» 121. И она мне: «Нет большей муки, Чем вспоминать о временах блаженства В несчастье; и об этом знает твой Учитель. 124. Но если ты так расположен слышать О первом появлении нашей любви, Я сделаю как тот, кто говорит и плачет. 127. Однажды мы читали, чтоб развлечься, О Ланчелоте, как теснила его любовь. Одни мы были, ничего не опасаясь. 130. Не раз соединяло наши взоры Чтение это, и мы бледнели. Но лишь одна строка нас победила. 133. Когда мы прочитали, что ее улыбающиеся уста Приняли поцелуй того возлюбленного, Тогда этот, что теперь со мною неразлучен, 136. Поцеловал мои уста и весь затрепетал. Галеоттом стала для нас книга и написавший ее, В тот день мы больше не читали». 139. Пока один из духов говорил это, Другой так плакал, что от жалости Я оказался как бы на границе смерти. 142. И я упал, как падает поверженный.Песнь шестая
Третий круг. Обжоры. – Цербер. – Чиакко. – Плутус
1. Когда очнулся дух мой, оцепеневший Перед горькой участью двух родственников, Смутившей всего меня печалью, 4. Новые муки и новые мученики Предстали предо мной, куда бы я ни двинулся, Куда бы ни повернулся, куда бы ни взглянул. 7. Я в третьем кругу дождя, Вечного, проклятого, холодного и тяжкого; Он неизменен и всегда одного качества. 10. Крупный град, снег и мутная вода Проливаются сквозь темный воздух; Смердит земля, принимающая их. 13. Цербер, зверь жестокий и чудовищный, Лает по-собачьи тремя пастями На существа, затопленные здесь. 16. У него багровые глаза, борода сальная и темная, Огромное брюхо и когтистые лапы. Он царапает души, обдирает, рвет. 19. Дождь заставляет их выть, как псов. Из одного бока делают они прикрытие другому, Поминутно вертятся, жалкие нечестивцы. 22. Когда увидел нас Цербер, великий червь, Он разинул свои пасти, показал нам клыки, Весь он при этом находился в движении. 25. И мой Вождь, раздвинув свои пальцы, Схватил земли, и всей пригоршней Бросил ее в алчущий зев. 28. Как пес, лаем требующий пищи, Утихает, когда схватит свой кусок, Ибо занят насыщением в одиночестве; 31. Так произошло и с этими грязными мордами Демона Цербера, столь оглушающего Души, что они предпочли бы глухоту. 34. Мы проходили по теням, простертым Под тяжким дождем, и наступали подошвой На их пустые обличья, кажущиеся телами. 37. Они лежали все на земле, Кроме одной, быстро поднявшейся и севшей, Как только заметила, что мы приближаемся. 40. «О ты, которого ведут чрез этот Ад,– Сказала она мне: – Узнай меня, если ты можешь. Тебя сделали раньше, чем меня разделали». 43. И я ему: «Тоска, владеющая тобой, Может быть, извлекает тебя из моей памяти, Так, что будто я не видал тебя никогда. 46. Но скажи мне, кто ты, и почему попал В это горестное место, на эту муку, Если не величайшую, то все же столь противную?» 49. И он ответил мне: «Твой город столь налитой Завистью, что она переливается чрез край, Считал меня своим в светлой жизни. 52. Вы, граждане, называли меня Чиакко За вредный грех чревоугодия, Как видишь, я изнемогаю под дождем; 55. И я не одна здесь печальная душа, Ибо все вокруг терпят ту же кару, За такую же вину», – и более он не издал звука. 58. Я отвечал ему: «Чиакко, твое несчастье Так меня тяготит, что чуть не вызывает слезы. Но скажи, если знаешь, к чему ж придут 61. Граждане города, разделившегося в себе? Есть ли в нем кто-либо праведный? И скажи мне, Почему охватили его такие раздоры»? 64. И он мне: «После долгих споров Дойдут до крови, и дикая партия Выгонит другую с большим уроном. 67. А затем надлежит пасть и ей, Меж тремя Солнцами, и одолеет первая, С помощью того, кто сейчас коварно прельщает. 70. Долго будет она высоко нести голову, Держа противников в тяжком гнете, Несмотря на их стенания и обиду. 73. Праведны там двое, но их не слушают. Гордость, зависть и скупость суть Три искры, зажегшие там сердца». 76. Тут кончил он свою жалобную речь. И я ему: «Еще хочу, чтобы ты научил меня, И подарил бы дальнейшею беседой. 79. Фарината и Тегьяйо, что были столь достойны, Якопо Рустикуччи, Арриго и Моска, И другие, отдавшие свой дух делу добра, – 82. Скажи мне, где они, и помоги найти их. Ибо великое желание влечет меня узнать, Ублажает ли их небо, или гноит ад». 85. И он: «Они находятся среди более черных душ. Разные грехи тяготят их во глубине ада. Если ты спустишься туда, то сможешь их увидеть. 88. Но когда будешь снова в милом мире, Прошу тебя, оживи память обо мне. Я больше ничего не говорю и ничего не отвечаю». 91. И он скосил глаза, бывшие дотоле прямыми, Кратко на меня взглянул и склонил голову. Затем упал, уподобляясь остальным слепцам. 94. И Вождь сказал мне: «Он не подымется Отсюда, пока не прозвучит труба архангела. Когда же придет могучий враг греха, 97. Каждый из них найдет свою печальную могилу. Вновь облекутся они плотью, примут прежний облик И услышат то, что прогремит в вечности». 100. Так проходили мы по мерзостной смеси Теней и дождя медленными шагами, Слегка касаясь в разговоре будущей жизни. 103. И я сказал: «Учитель, возрастут ли эти Мучения после Страшного Суда, Или убавятся, или будут столь же жгучи?» 106. И он мне: «Обратись к своей науке, Гласящей, что чем существо совершеннее, Тем сильней чувствует оно и благо и страданье. 109. Хотя это проклятое племя Никогда не достигнет истинного совершенства, Оно надеется улучшиться после суда». 112. Мы проходили по этой кругообразной дороге, Говоря о многом, чего я не привожу. Наконец, пришли к месту, где она спускается.Песнь седьмая
Четвертый круг. Скупые и расточители. – Плутус. – Фортуна. – Пятый круг. Гневные и ленивые
1. «Pape Satan, pape Satan aleppe»,– Вскричал Плутус своим хриплым голосом. И благородный Мудрец, который все знал, 4. Сказал, ободряя меня: «Пусть не вредит тебе Боязнь; ибо сколь он ни могуществен, Он не помешает тебе сойти с этих скал». 7. Затем он обернулся к той надутой морде, И сказал: «Молчи, проклятый волк, Изводи себя собственным бешенством. 10. Не без причины спускается он вглубь, Того желают в вышних, где Михаил Отмстил надменному стаду». 13. Как вздутые ветром паруса Падают спутанные, когда сломалась мачта, Так упал на землю свирепый зверь. 16. Мы же сошли в четвертую канаву, Углубляясь далее по скорбному берегу, Содержащему в себе зло всего мира. 19. О правосудие Божие! Кто скопляет столько Новых мучений, новых кар, сколько я видел? И почему грех так нас терзает? 22. Как бывает с волнами в Харибде, Что разбиваются на пути о встречные, Так вступают здесь в пляску грешники. 25. Здесь видел я особенно много людей, Друг на друга кативших с воплями Тяжести, напирая на них грудью. 28. Они сталкивались между собой, Поворачивались и отбегали назад, Крича: «Зачем ты копишь?» и «Зачем ты тратишь?» 31. Так возвращались они по мрачному кругу, Отовсюду к противоположной его точке, Сопровождая бег позорным припевом. 34. Затем, достигнув ее, поворачивались каждый По своему полукругу к новому бою. И я, почти вконец сокрушенный сердцем, 37. Сказал: «Учитель, объясни же мне теперь, Что это за люди, и все ли были духовными Те, под тонзурой, что от нас слева?» 40. И он: «Все они были настолько кривы Умом в своей первоначальной жизни, Что в меру не совершали никакой траты. 43. Довольно ясно лает об этом голос их, Когда они доходят до двух точек круга, Где из разделяют противоположные грехи. 46. Те были духовные, у кого нет на голове Покрывала волос, папы и кардиналы, На ком алчность проявила свою власть». 49. И я: «Учитель, среди всех их Я должен бы вполне узнать некоторых, Загрязненных подобными пороками». 52. И он мне: «Напрасно думаешь ты об этом. Низкая жизнь, сделавшая их мерзкими, Затемнила их вид до неузнаваемого. 55. Вечно будут они бодаться между собой, Одни подымутся из своих могил Сжимая кулаки, другие с обрезанными волосами. 58. Неуменье давать и неуменье держать отняло у них Прекрасный мир и они обречены на эту драку. Словами я не стану украшать ее. 61. Ныне можешь видеть, сын, сколь кратко дуновение Земных благ, даруемых Фортуной, Из-за чего род человеческий ведет потасовку. 64. Ибо все золото, какое есть под луною, И какое было, не могло бы дать отдыха Ни одной из этих истомленных душ». 67. «Учитель, – произнес я, – скажи мне также, Эта Фортуна, о которой ты мне говорил, Что есть она, столь держащая в когтях блага мира? 70. И он ко мне: «О неразумные создания, Сколь велико невежество, поражающее вас! Теперь хочу, чтобы ты усвоил мое учение. 73. Тот, чье познание превосходит все, Создал небеса, и дал им управителя, Так что каждая часть сияет каждой части, 76. Распределяя свет одинаково: Подобно этому и для земного блеска Определил Он общую правительницу и владыку, 79. Чтоб перемещать по временам суетные блага От народа к народу, от одной крови к другой, Презирая сопротивление людского благоразумия. 82. И один народ властвует, другой изнывает Следуя приговору той, которая Столь же сокровенна, как змея в траве. 85. Ваше знание не пререкается с нею. Она промышляет, судит и преследует В своем царстве, как в других – их боги. 88. Нет отдыха перемещениям ее. Необходимость делает ее быстрой; И она часто появляется, неся превратности. 91. Такова та, кого столько распинают, Даже и те, кто должен бы ей быть признателен, Несправедливо порицая и злословя. 94. Но она блаженна и не слышит этого. Радостная, среди других первых созданий, Она вращает свою сферу и вкушает счастие. 97. А теперь спустимся к еще большим мукам. Уже склоняются звезды, восходившие на небо, Когда я тронулся, и слишком медлить нам нельзя». 100. Мы пересекли круг до другого края, Над бурлящим потоком, изливавшимся В котловину, им же самим размытую. 103. Вода была темна, с отливом красноватого, И в соседстве мутных волн мы сошли Вниз по весьма дурной дороге. 106. Этот горестный ручей, ниспадая К подножию злостных сероватых склонов, Образует болото, называемое Стиксом. 109. И я, внимательно присматриваясь, Увидал в этой трясине грязных людей, Совсем нагих, с яростными лицами. 112. Они сшибались между собой не только руками, Но и головами, грудью и ногами, И зубами рвали друг друга в клочья. 115. Добрый Учитель мой сказал: «Сын, ты теперь видишь Души тех, над кем гнев властвовал. И также я хочу, чтобы ты уверился, 118. Что под водой есть люди воздыхающие, И заставляющие пузыриться ее поверхность, Как скажет тебе глаз, куда бы ты ни взглянул». 121. Поверженные в тину говорили: «Мы были скорбны В сладостном воздухе, оживляемом Солнцем, Нося в себе тягостный туман. 124. Ныне мы предаемся скорби в темном иле». Этот гимн клокотали они горлами, Ибо не могли произносить полных слов. 127. Так обогнули мы пакостную лужу, Большим кругом, между сухим берегом и гнилью, Не отрывая взора от глотавших грязь. 130. И мы приблизились, наконец, к подножию башни.Песнь восьмая
Пятый круг. Гневные. – Флегиас. – Филиппе Ардженти. – Город Дис. – Вергилий и Демоны
1. Я говорю, продолжая, что прежде чем Мы приблизились к подножию башни, Наши взоры обратились на ее вершину, 4. Где мы заметили два вспыхнувших огонька, И еще один подал сигнал, настолько издали, Что глаз едва мог различить его. 7. И я, обратившись к морю всякого знания, Сказал: «Что это значит? И что отвечает То, другое пламя? И кто зажег их?» 10. И он мне: «На волнах мутных Ты мог бы уже видеть того, кто приближается, Если бы дым болота не скрывал его». 13. Никогда тетива не пускает стрелу С такою скоростью по воздуху Как видел я, маленькое судно 16. Неслось в нашу сторону по воде Под управлением единственного кормчего, Кричавшего: «Ты здесь, злодейская душа!» 19. «Флегиас, Флегиас, на этот раз Ты кричишь напрасно, сказал мой Господин. Мы будем в твоей власти лишь переплывая тину». 22. Как тот, кто слышит о великом обмане, Совершенном над ним, и огорчается этим, Так поступил и Флегиас, охваченный гневом. 25 Вождь мой спустился в барку И пригласил меня следовать за собой; И лишь когда я вошел, она нагрузилась. 28. Как только мы с Вождем оказались в ней, Древняя ладья тронулась, рассекая воду Сильнее, чем обычно, когда перевозила тени. 31. В то время как мы плыли по мертвой заводи, Передо мной вырос некто, весь в грязи, И сказал: «Кто ты, являющийся до срока?» 34. И я ему: «Если являюсь, то не остаюсь здесь, Но ты кто, чей вид столь отвратителен?» Он отвечал: «Взгляни, я тот, кто плачет». 37. И я ему: «В слезах, и в трауре, Проклятый дух, пусть ты останешься; Я узнаю тебя, хотя и весь ты выпачкан». 40. Тогда он протянул обе руки к барке: Но предусмотрительный Учитель оттолкнул его, Сказав: «Прочь, убирайся к остальным псам!» 43. Затем он обнял руками мою шею, Поцеловал в лицо и сказал: «О презирающая душа, Благословенно чрево, зачавшее тебя. 46. Говоривший с нами был в мире гордецом. Доброта не украшает его памяти: Потому и тень его беснуется здесь. 49. Сколько великих на земле царей Будет увязать здесь, как свиньи в слякоти, Оставляя по себе страшные осуждения!» 52. И я: «Учитель, я был бы так доволен, Если бы он погрузился вновь в эту бурду Прежде, чем мы переплывем озеро». 55. И он мне: «Ранее, чем откроется тебе Берег, ты будешь удовлетворен: Следует, чтобы ты насладился своим желанием». 58. Спустя немного я увидел, как такую пытку Причинили ему испачканные грязью люди, Что и теперь я хвалю и благодарю Бога. 61. Все кричали: «На Филиппе Ардженти!» И полный гнева дух флорентинца Ринулся на самого себя с оскаленными зубами. 64. Здесь мы оставили его, и больше я о нем не говорю. Но мой слух потрясся таким воплем, Что я внимательно вперил взор вдаль. 67. Добрый Учитель произнес: «Вот, сын мой, Приближается город по имени Дис, С тяжкими обитателями, в великих толпах». 70. И я: «Учитель, уже ясно различаю я Его мечети, там, в глубине долины, Алые, будто вышедшие из огня». 73. И он сказал мне: «Вечное пламя, Раскаляющее их изнутри, делает их красными. Как ты видишь в этом нижнем аду». 76. Мы достигли, наконец, глубоких рвов, Опоясывающих этот безутешный город: Стены, казалось мне, были из железа. 79. Описав сначала большую дугу, Мы прибыли к месту, где кормчий громко Крикнул нам: «Слезайте, здесь ведь вход!» 82. Я увидел над вратами более тысячи Тех, кто дождем скатились с неба; они злобно Говорили: «Кто этот, что не умер, 85. Но проходит через царство мертвых?» И мудрый мой Учитель дал им понять, Что хочет говорить с ними наедине. 88. Тогда они умерили немного свою гневность, И сказали: «Входи один, но пусть уходит тот, Так дерзко проникающий в это царство. 91. Пусть он возвращается один по безумной дороге. Пусть попробует, если может; ибо ты останешься здесь, Сопровождавший его чрез столь мрачную страну». 94. Подумай же, читатель, как пал я духом При звуке этих проклятых слов; Ибо уже не верил, что когда-либо возвращусь. 97. «О дорогой Вождь мой, более семи раз Возвращавший мне уверенность, и избавивший От великой опасности, грозившей мне, 100. Не оставляй меня, – сказал я в таком унынии,– Если нам загражден путь вперед, Вернемся поскорее по нашим следам». 103. И Господин, приведший меня сюда, Сказал: «Не бойся, ибо никто не может Отнять у нас нашего пути: свыше он дарован. 106. Но жди меня здесь; питай, и укрепляй Усталый дух доброю надеждой. Я ведь не оставлю тебя в подземном мире». 109. Так ушел, покинув меня там, Сладостный отец, и я остался в колебании; Ибо да и нет спорили в моем уме. 112. Я не мог слышать, что сказал он им. Но он недолго с ними пробыл там, Ибо они ринулись внутрь, приготовляясь к борьбе. 115. Эти наши противники заперли ворота Пред грудью моего Господина, оставшегося снаружи; И медленными шагами возвратился он ко мне. 118. Глаза его смотрели в землю, брови лишились Всякой бодрости, и он произнес, вздыхая: «Кто не пустит меня в дома скорби?» 121. А мне сказал: «Если я гневаюсь, Ты не пугайся, ибо я одолею испытанье, Кто бы ни хлопотал там о защите. 124. Эта дерзостность их не нова, Они проявили ее перед менее тайными вратами, Которые и сейчас лишены замка. 127. Над ними видел ты мертвую надпись. И уже оттуда спускается по склону, Проходя через круги без провожатого 130. Тот, для кого откроется этот город».Песнь девятая
Город Дис. – Эрихто. – Три фигуры. – Небесный посланец. Круг шестой. Ересиархи
1. Цвет, в который окрасила мое лицо трусость, Когда я увидел, что мой вождь возвращается, Заставил его побороть собственную бледность, 4. Внимательный, он остановился, как человек слушающий, Ибо не мог устремить своего взора вдаль, Сквозь черный воздух и густой туман. 7. «Все-таки мы должны победить в битве,– Начал он, – а если… но такая помощь нам обещана! О как я жду, чтобы она явилась!» 10. Я хорошо видел, как он покрыл Начало сказанного другими словами, Которые имели обратный смысл. 13. Однако его речь внушала страх, Ибо я понял прерванные слова Быть может в худшем смысле, чем они имели. 16. «На это дно печальной раковины Сходил ли кто-нибудь из первого круга, Где наказывают единственно лишением надежды?» – 19. Такой вопрос я задал. И он ответил: «Редко случается кому-либо из нас Совершать путь, по которому я иду. 22. Верно, что однажды был я здесь, Заколдованный той страшною Эрихто, Что призывала тени к их телам. 25. Вскоре после того как я лишился плоти, Она ввела меня в эти стены, Чтобы извлечь один дух из круга Иуды. 28. То место самое низкое, и самое темное, И самое далекое от неба, вращающего все: Я хорошо знаю путь: будь же покоен. 31. Это болото, дышащее великим смрадом, Опоясывает кругом город скорби, Куда мы не можем уже войти без гнева». 34. И он говорил еще другое, чего я не помню, Ибо глаза мои были поглощены Высокой башней с пламенеющей вершиной, 37. Где в одном месте внезапно появились Три адских фурии, обагренные кровью, Обладавшие женским сложением и видом, 40. И ярко-зеленые гидры опоясывали их: Змейки и керасты заменяли им волосы, Обвивая их надменные виски. 43. И он, хорошо знавший жалких Прислужниц царицы вечного плача: «Взгляни, – сказал мне, – на свирепых Эринний. 46. Это Мегера, с левой стороны. Та, что рыдает справа, называется Алекто, Посреди них Тизифона», – и на этом он умолк. 49. Когтями они раздирали себе грудь, Били в ладоши и кричали столь громко, Что в смущении я прижимался к Поэту. 52. «Пусть явится Медуза, мы обратим его в камень,– Кричали они, устремив взоры книзу.– Мало мы отмстили Тезею за его нападение!» 55. «Обернись назад, и закрой лицо, Ибо если явится Горгона и ты ее увидишь, Тебе уже не вернуться никогда наверх»,– 58. Так говорил Учитель; и он сам Повернул меня и не доверился моим рукам, Но укрыл еще и своими. 61. О вы, обладающие ясным умом, Всмотритесь в учение, которое сокрыто Под покрывалом странных стихов! 64. И уже по мутным волнам пронесся Грохочущий шум, полный ужаса, От которого задрожали оба берега; 67. Не иначе бывает с ветром, Разъяренным встречными жарами, Когда он налетает на лес и безудержно 70. Крушит ветви, валит и уносит цветы, Горделиво мчится вперед в пыли, И обращает в бегство пастухов и животных. 73. Вождь освободил мне глаза, сказав: «Возведи Теперь всю силу взора на эту древнюю пену, В то место, где этот дым гуще». 76. Как лягушки перед враждебным Ужом разлетаются все по воде, Пока не прильнут к берегу; 79. Так, видел я, тысячи погибших душ Бежали от одного, переходившего Чрез Стикс, не замочив подошв. 82. Он отгонял от лица тяжкий воздух, Часто обмахиваясь левою рукой, И лишь это, казалось, утомляло его. 85. Тотчас заметил я, что он послан Небом, И обратился к Учителю, и тот дал знак, Чтобы я стоял смирно, и склонился перед ним. 88. Ах, сколь, казалось мне, полон он презрения! Он приблизился к вратам, и палочкой Отворил их, и никто ему не помешал. 91. «О изгнанные неба, племя отверженных, – Начал он, стоя на ужасном пороге, – Чем питается в вас подобная дерзость? 94. К чему противитесь вы той воле, Чьи намерения не знают преград, И которая столько раз увеличивала вашу муку? 97. Разве есть смысл бодаться с судьбой? У вашего Цербера, если вы не позабыли, И доселе ощипаны подбородок и шея». 100. Затем он повернул назад по грязному пути, Не сказав нам ни слова; но имел вид человека, Другой заботою подавленного и томимого, 103. Чем тот, кто находился перед ним. И мы направили шаги к городу Дису, Успокоенные его святыми словами. 106. Без всякого сопротивления мы вошли. И я, имевший намерение видеть Казнь заключенных в этой крепости, 109. Вошедши внутрь, огляделся вокруг И увидел всюду великое поле, Полное скорби и преступной муки. 112. Как в Арле, где дремлет Рона, Как у Полы вблизи Кварнаро, Замыкающего Италию и омывающего ее границы, 115. Гробницы делают землю волнистой, Так было со всех сторон и здесь, Но только еще печальнее. 118. Ибо посреди могил разливалось пламя, Которое так раскаляло их, Как того не требует от железа ни одно ремесло. 121. Все крышки их были приподняты, И оттуда неслись столь тяжкие стоны, Что, видимо, их издавали бедные страдальцы. 124. И я: «Учитель, что это за люди, Погребенные в тех усыпальницах, Дающие о себе знать жалобными вздохами?» 127. И он мне: «Здесь находятся ересиархи Со своими последователями и более Нежели ты думаешь, переполнены могилы. 130. Подобные погребены с подобными. И одни гробы более, другие менее жгучи». И затем он повернул направо. 133. Мы прошли между мучениками и высокими стенами.Песнь десятая
Шестой круг. Еретики. – Фарината дельи Уберти. – Кавальканти. – Император Фридрих II
1. И вот удаляется по узкой тропинке. Между стеною города и мучениками Мой Учитель, и я вслед за ним. 4. «О высшая добродетель, сквозь нечестивые круги Влекущая меня по своей воле, – начал я, – Заговори со мной, удовлетвори мои желанья. 7. Можно ли увидеть тех, что погребены В этих могилах? Ведь уже подняты Все крышки, и никто не стережет их». 10. И он мне: «Все они будут замкнуты, Когда их обитатели вернутся из Иосафата, Облекшись в плоть, оставленную наверху. 13. В этой части находится кладбище Эпикура и всех его последователей, Полагавших, что душа умирает с телом. 16. Итак, просьба, с которой ты обратился, Скоро будет здесь удовлетворена, Как и желание, о котором ты умалчиваешь». 19. И я: «Добрый Вождь, если я таил нечто В своем сердце, то лишь, чтобы быть кратким; И ты всегда к этому наставлял меня». 22. «О Тосканец, что чрез город пламени Живым проходишь, говоря с таким достоинством, Будь добр, остановись на этом месте. 25. Твое наречие выдает в тебе Рожденного той благородною страной, Которой, может быть, я чрезмерно навредил». 28. Внезапно раздались эти слова Из одной могилы: я приблизился, В страхе несколько более к своему Вождю. 31. Он мне сказал: «Повернись, что же ты делаешь? Взгляни на Фаринату, вставшего перед тобой: Ты увидишь его от пояса до головы». 34. Я устремил уже на него свой взор; И он поднялся наполовину из могилы, С видом великого презрения ко всему Аду. 37. И смелые и быстрые руки моего Вождя Толкнули меня к нему меж усыпальниц, Со словами: «Да будет твоя речь ясна». 40. Лишь только оказался я у его гробницы, Он взглянул на меня и почти надменно Спросил: «Кто были твои предки?» 43. Я же, расположенный к повиновению, Не стал от него таить, но открыл все. Тогда он приподнял немного брови, 46. Затем сказал: «Жестоко враждовали они Со мной, и моим родом, моею партией, Так что дважды рассеивал я их». 49. «Если их изгоняли, то отовсюду они возвращались,– Ответил я, – и в первый раз, и во второй раз; Ваши же не научились надлежаще этому искусству». 52. Тогда поднялась над краем гробницы Другая тень, рядом с первой, до подбородка; Думаю, она стояла на коленях. 55. Взглянула вокруг меня, как бы желая Увидеть, нет ли еще кого-нибудь со мной; Но когда вся смутная надежда ее рассеялась, 58. В слезах сказала она: «Если через бессветную эту Темницу ты проходишь высотою гения, То где мой сын? И почему он не с тобой?» 61. И я: «Не своей силою я иду. Тот, ожидающий, ведет меня здесь. Ваш Гвидо, может быть, не почитал его». 64. Эти слова и самый род мучения Дали уж мне прочесть имя грешника, Потому был мой ответ так полон. 67. Мгновенно выпрямившись, он вскричал: «Как, Говоришь, не почитал? разве он умер? Разве уже не ранит его взора нежный свет?» 70. Заметив, что я несколько промедлил, Прежде нежели дать ему ответ, Он опрокинулся назад и более не появлялся. 73. Другой же благородный дух, по чьей просьбе Я остановился, не изменил вида, Не двинул шеей, не склонил груди. 76. «И если, – сказал, продолжая прежнюю речь,– Они дурно изучили то искусство, Это терзает меня больше, чем такое ложе; 79. Но и пятидесяти раз не воспламенится Лик той Дамы, что царствует здесь, Как познаешь ты тяжесть этого искусства. 82. И да будет тебе дано вернуться в милый мир – Скажи мне, почему народ ваш столь безжалостен К моему роду в каждом своем постановлении?» 85. Я же ему: «Мука и великое побоище, Окрасившее Арбию кровавым цветом, Побуждают к таким речам в нашем храме». 88. Вздохнув и покачавши головою, он сказал: «Не один я находился там и не без Причин выступил среди других; 91. Но я был один, когда все Постановили срыть Флоренцию, И я защитил ее с лицом открытым». 94. «О, да обрящет некогда мир ваше потомство! – Обратился я к нему. – Развяжите же тот узел, Который затянул теперь мой разум. 97. И кажется, если правильно понимаю, вы видите То, что приводит нам с собою время, В настоящем же лишены зрения». 100. «Мы видим наподобие дальнозорких,– Сказал он, – лишь находящееся вдалеке; Настолько дает еще нам света высший Вождь. 103. Когда же будущее приблизилось или настало, Весь ум наш тщетен; и если нам не сообщат, Мы ничего не знаем о вашей земной жизни. 106. Поэтому, можешь понять, все наше познание Станет безжизненным в ту самую минуту, Когда захлопнется дверь будущего». 109. Тогда, как бы в сокрушении от своей вины, Я сказал: «Скажите же тому, упавшему, Что его сын находится еще среди живых. 112. И если я промолчал на его вопрос, Объясните ему, что я сделал это, находясь В заблуждении, которое вы мне разъяснили». 115. И уже Учитель мой вновь звал меня, Поэтому я попросил духа поскорее Сказать мне, кто еще погребен здесь с ним. 118. Он сказал: «Более тысячи лежит со мною Рядом. Здесь второй Фридрих И Кардинал, а об остальных я умалчиваю». 121. С тем он и скрылся; я же к древнему Поэту направил шаг, вновь раздумывая О тех словах, что показались мне зловещими. 124. Он тронулся и, продолжая путь, Сказал мне: «Почему ты так расстроен?» И я удовлетворил его желанье. 127. «Пусть ум твой сохранит то, что ты слышал Враждебного себе, – повелел мне этот мудрый,– А теперь выслушай меня, – и он поднял палец. – 130. Когда предстанешь перед сладостными взорами Той, чье прекрасное око все видит, Ты узнаешь от нее путь своей жизни». 133. Затем направил он шаги налево: Мы оставили стену и прошли к средине, По тропинке, что вела в долину, 136. Зловоние которой доносилось уж сюда.Песнь одиннадцатая
Шестой круг. Еретики. – Могила папы Анастасия. – Подразделения Ада
1. Достигнув края высокого берега, Образованного кольцом крупных разломанных камней, Мы оказались над еще более терзаемой грудой. 4. И здесь, укрываясь от страшного запаха Гнили, подымавшегося из глубины бездны, Мы остановились позади крышки 7. Большой могилы, где я увидел надпись, Гласившую: «Тут лежит папа Анастасий, Которого совратил с истинного пути Фотин». 10. «Нам следует спускаться медленно, Дабы несколько привыкли наши чувства К скорбным запахам и стали к ним безучастны»,– 13. Так сказал Учитель, и я ответил ему: «Найди какое-либо возмещение потерянному Времени», – и он: «Ты видишь, что я думаю об этом. 16. Сын мой, огражденные этими камнями,– Начал, наконец, он, – лежат три меньших круга, Суживающиеся, как и те, что ты прошел. 19. Все они наполнены отверженными духами; Но чтобы тебе довольно было лишь взглянуть на них, Выслушай, как и почему они заключены туда. 22. Цель всякого зла, вызывающего ненависть неба, Есть оскорбление, и всякая такая цель Сокрушает других насилием или обманом. 25. Но как обман есть именно человеческий порок, То он особенно противен Богу; и потому внизу Находятся обманщики и их страдания сильней. 28. Насильниками переполнен первый круг, Но как насильничают трояким образом, На три кольца разделен он и устроен. 31. Над Богом, над собою и над ближним можно Быть насильником; над ними, говорю, или над их вещами, Как ты услышишь в ясном рассуждении. 34. Насильственная смерть и тягостные раны Причиняются ближнему, а его имущество Грабится, жжется и разоряется поборами. 37. И вот убийцы, и тяжело ранящие, Разбойники и грабители, все несут кару В первом кольце, разными рядами. 40. Может на себя поднять руку человек, И на свое добро, и тогда во втором Кольце надлежит безнадежно искупать грехи 43. Тому, кто лишает себя вашего мира, Проигрывает и расточает свои средства И плачет там, где надлежит радоваться. 46. Можно совершить насилие над Божеством, Отрицая сердцем и понося Его, И презирая природу и ее благостность, 49. И потому меньшее кольцо клеймит Печатаю своею и Содом и Кагор, И тех, кто, презирая Бога, говорит от сердца. 52. Обман, который угрызает всякую совесть, Может человек направлять на того, кто доверяет, И на того, в ком нет доверия. 55. Этот последний род обмана, видимо, разбивает Также узы любви, созданные природой. Так во втором кругу гнездятся 58. Лицемеры, льстецы и колдуны, Подделыватели, воры и симониаки, Сводники, взяточники и прочая пакость. 61. Иным способом устраняется любовь, Установленная природой, и иным появляющаяся позже, Из которой родится особенная вера. 64. Поэтому в наименьшем круге, где средоточие Вселенной и над которым восседает Дис, Преданы вечному истреблению изменники». 67. И я: «Учитель, довольно ясно протекает Рассуждение твое и достаточно определяет Эту пропасть, и племя, обитающее в ней. 70. Но скажи мне: те, из жирного болота, Те, кого мчит ветер, кого хлещет дождь, И те, что сталкиваются, бранясь столь яростно, 73. Почему не внутри раскаленного города Наказываются они, если Бог на них гневается? А если нет, то зачем так с ними поступают?» 76. И он сказал мне: «Почему столь заблуждается Твой Дух более, нежели обычно? Или ум твой устремлен на что-нибудь другое? 79. Разве ты не вспоминаешь о словах, В которых твоя этика трактует О трех расположениях, противных Небу: 82. Невоздержании, лукавстве и безумном Скотстве? и как невоздержание Менее обижает Бога и влечет меньшую кару? 85. Если ты хорошо рассмотришь эту мысль, И представишь в своем уме, кто те, Что подвергаются наказанию наверху, 88. Ты увидишь ясно, почему они отделены От этих злобных, и почему менее тяжел Для них молот Божественного правосудия». 91. «О Солнце, исцеляющее всякий ложный взгляд, Так ты меня радуешь, разрешая вопросы, Что не менее знания приятно мне сомнение. 94. Возвратись же, – сказал я, – еще немного назад, К словам, что ростовщичество оскорбляет Божественную благость и развяжи узел». 97. «Философия, – сказал он, – не в одном месте Указывает занимающемуся ей, Как природа берет свое начало 100. Из божественного разума и его искусства. И если ты внимательно будешь читать физику свою, То убедишься, чрез немного страниц, 103. Что искусство ваше, сколько может, Следует за природой как ученик за учителем, Так что приходится как бы внуком Богу. 106. От этих двух, если возобновишь в памяти Начало книги Бытия, надлежит Людям получать жизнь и совершенствовать ее. 109. И так, как ростовщик идет иным путем, То унижает природу и в ней самой, и в ее Детище, ибо в другом полагает свою надежду, 112. А теперь следуй за мной, ибо хочу идти, Ибо затрепетали уже на горизонте Рыбы. И Большая Медведица лежит над Кавром, 115. И крутизна там, дальше, понижается.Песнь двенадцатая
Первое кольцо седьмого круга. Насильники, тираны и человекоубийцы. – Минотавр. – Кентавры. – Несс. – Хирон. – Эццелино. – Обиццо д'Эсте. – Гвидо да Моифор
1. Место, куда мы приблизились, чтобы спуститься С берега, было гористо, и благодаря находившемуся здесь Таково, что отвращало от себя всякий взор. 4. Как тот обвал, обрушившийся За Трентом сбоку, на Адидже, Силою ли землетрясения или по недостатку опоры, 7. Когда сорвался с вершины горы К ее подножию, то столь изуродовал всю скалу, Что едва возможно стало сойти сверху. 10. Таков был спуск этого оврага, И на краю разрушенной ямы Лежал, растянувшися, позор Крита, 13. Который был зачат в лжекорове. И увидав нас, он укусил себя, Как тот, кто уязвляется изнутри гневом. 16. Мудрец мой крикнул ему: «Может быть, Ты думаешь, что здесь царь Афинский, Предавший тебя на земле смерти? 19. Прочь, зверь, ибо этот являющийся Не твоею сестрой научен, Но проходит, чтобы видеть ваши кары». 22. Как бык, кидающийся в минуту, Когда получил смертельный удар, Бежать уже не может, а мечется туда и сюда, 25. Подобное, видел я, делал и Минотавр. И осмотрительный Учитель крикнул мне: «Беги к броду; Пока он в бешенстве, тебе следует спускаться». 28. Так мы двинулись в путь по разбросанным Каменьям, которые часто откатывались Под моею ногой силою новой тяжести. 31. Я шел, задумавшись; он же сказал: «Ты думаешь, Может быть, об этом обвале, охраняемом Той звериною злобой, которую я подавил. 34. Теперь хочу, чтобы ты знал, что когда в тот раз Я снисходил сюда, в глубокий ад, Эта скала не обрушивалась еще. 37. Но немного ранее, если не ошибаюсь, Чем появился Тот, кто великую добычу Захватил у Диса в верхнем круге, 40. Вся глубокая и смрадная долина Так сотряслась, что я подумал, что Вселенную Охватила та любовь, которая, по вере некоторых, Не однажды обращала мир в хаос. И в ту минуту эта древняя скала Рухнула и здесь, и в другом месте. 46. Но устреми взор на долину, ибо близится Кровавая река, где кипят те, Кто причинял вред ближнему насилием». 49. О слепая жадность, о безумный гнев, Так нас жалящие в краткой жизни, А в вечной столь ужасно закаляющие в жертву! 52. Я увидел большой ров, изогнутый дугою, Как тот, что огибает всю равнину, Согласно слову моего вожатого: 55. И меж подножием скалы и рвом вереницею Пронеслись кентавры, вооруженные стрелами, Как обычно, отправляясь в мире на охоту. 58. Увидев, что мы спускаемся, они остановились, И от их ряда отделилось трое, Державших наготове луки и стрелы. 61. Один из них крикнул: «На какую муку Направляетесь вы, сходящие со склона? Скажите с места; иначе я выстрелю». 64. Учитель мой сказал: «Ответ Хирону мы дадим отсюда, тотчас; Дурны были для тебя твои столь быстрые желанья!» 67. Затем коснулся меня и сказал: «Это Несс, Погибший из-за прекрасной Дейяниры И сам отомстивший за себя. 70. И тот в средине, что смотрит на свою грудь, Великий Хирон, выкормивший Ахилла; Третий же Фол, всегда полный великой злобы. 73. Тысячами носятся они вокруг рва И мечут стрелы во всякую душу, поднявшуюся Из крови более, чем то назначила ей вина». 76. Мы приблизились к этим проворным тварям. Хирон взялся за стрелу и раздвоенным хвостом ее Откинул назад бороду от челюстей. 79. Когда раскрылся огромный рот его, Он сказал сотоварищам: «Заметили ли вы, Что идущий позади сдвигает все, что тронул? 82. Так не ступают никогда ноги умерших». И добрый Вождь мой, находившийся уже у груди зверя, Где соединяются обе его природы, 85. Ответил: «Он вполне живой, и одному мне Надлежит показать ему мрачную долину. Необходимость направляет его, а не забава. 88. Давшая мне это новое поручение Оторвалась от пения аллилуийя; И он не вор, и я не душа преступника. 91. Но во имя силы, что влечет Шаги мои по столь дикому пути, Дай нам одного из твоих. 94. Пусть он указывает место брода, И на его круп сядет мой спутник, Ибо он не дух, шествующий по воздуху». 97. Хирон повернулся в правую сторону И сказал Нессу: «Иди, сопровождай их, И если встретится другой отряд, отстрани его». 100. Мы двинулись под надежною охраной Вдоль прибрежия кровавого кипенья, Где варимые издавали пронзительные крики. 103. Я видел погруженных по самые ресницы, И великий Кентавр сказал: «Это тираны, Жившие кровию и жаждою грабежа. 106. Здесь оплакиваются безжалостные преступленья, Здесь находятся Александр и свирепый Дионисий, Принесший Сицилии годы скорби. 109. А этот лоб под столь черными волосами Принадлежит Эццелино, а другой, светловолосый, Обиццо д'Эсте, который, правда, 112. Был убит пасынком там, на земле». Тогда я обернулся к Поэту, и он сказал: «Отныне будет для тебя Несс первым, а я вторым» 115. Немного далее Кентавр остановился Над людьми, по самое горло Как бы выдававшимися из этого Буликамэ. 118. Он показал нам в стороне одинокую тень, И сказал: «Этот пред лицом Господа рассек Сердце, и ныне почитаемое на Темзе». 121. Затем увидел я людей, высунувших из потока Наружу головы и верх туловища, И из них многих я распознал. 124. Так все более и более мелела Эта кровь, покрывая, наконец, лишь ноги, И здесь мы перешли вброд через ров. 127. «Так как в этой части замечаешь ты, Что Буликамэ делается все меньше,– Сказал Кентавр, – хочу, чтобы ты верил, 130. Что со стороны другой он все сильнее давит На свое дно, доколе не достигнет места, Где положено стенать тиранам. 133. Божественная справедливость там язвит Того Атиллу, что был бичом на земле, И Пирра, и Секста; и вечно выдаивает 136. Слезы, расходящиеся в кипенье, У Риньер да Корнето, и у Риньер Пацци, Столько воевавших по дорогам». 139. Затем он повернулся, и вновь пересек лужу.Песнь тринадцатая
Второе кольцо седьмого круга. Насильники над собою. – Гарпии. – Пиер делле Винье. – Сиенец Лано. – Рокко де Моцци
1. Несс не успел еще перейти на тот берег, Как мы вступили уже в рощу, Не отмеченную ни одной тропой. 4. Не зеленые листья, но темного цвета, Не гладкие ветви, но в узлах, изогнутые, Не плоды были там, а ядовитые шипы. 7. Нет столь колючих и густых чащ У диких зверей, которым ненавистны Обитаемые места между Чечиной и Корнето. 10. Здесь вьют свои гнезда злобные Гарпии, Изгнавшие троянцев со Строфад С горьким предсказанием будущих бед. 13. У них широкие крылья, шеи и лица человечьи, Лапы с когтями, большие животы в перьях; Они стонут, сидя на странных деревьях. 16. И мой добрый Учитель обратился так: «Прежде чем входить далее, знай, что ты Во втором кольце, и будешь находиться в нем, 19. Пока не дойдешь до страшного Песка. Итак, внимательно присматривайся: и увидишь То, чему ты не поверил бы в моем рассказе». 22. Я слышал отовсюду несущиеся стоны И не видел тех, кто издавал их, Потому в полном смущении остановился. 25. Я думаю, что он думал, будто я думаю, Что эти звуки исходили из груди Людей, которые прятались от нас. 28. «Если, – сказал Учитель, – ты сломаешь Какой-либо сучок с одного из этих деревьев, То твои мысли о них изменятся». 31. Тогда я протянул руку немного вперед, И сорвал веточку большого терновника, А ее ствол вскричал: «Зачем ломаешь меня?» 34. И при этом весь он потемнел от крови. Затем снова воскликнул: «Зачем меня дерешь? Разве нет у тебя никакой жалости? 37. Людьми были мы, а теперь стали сучьями. Твоя рука должна бы быть почтительнее с нами, Если б даже мы оказались душами змей». 40. Как сырое полено, что горит С одного конца, а с другого стонет И трещит от выходящего воздуха, 43. Так из этого обломка выходили вместе Слова и кровь; я же представил верхушке Пасть, а сам стоял, как человек боящийся. 46. «О чувствительная душа, – ответил мой Мудрец,– Если бы он раньше мог поверить, Тому, что видел, лишь по моей поэме, 49. Он не поднял бы на тебя руку. Но невероятность этого заставила меня Советовать ему то, что и мне самому тягостно. 52. Но скажи ему, кто был ты, чтобы как Некое возмещение оживилась твоя слава На земле, куда ему дозволено вернуться». 55. И ствол: «Так ты прельщаешь меня ласковою речью, Что не могу молчать; и пусть не удручает вас, Если я вдамся несколько в рассуждения. 58. Я тот, кто обладал обоими ключами От сердца Фридриха, и поворачивал их, Закрывая и открывая, так мягко, 61. Что стал его единственным доверенным, И столь предан был я славной должности, Что за это заплатил жизнью. 64. Блудница, никогда не сводившая Бесстыдных глаз с приюта Цезаря, Общая погибель и язва всех дворов, 67. Воспламенила против меня все души, И воспламененные так воспламенили Повелителя, Что светлые почести обратили в скорбный траур. 70. Дух мой, в пронзительном порыве, Полагая, что смертию избежит презрения, Неправедно поступил со мной, праведным. 73. Юными корнями этого дерева Клянусь вам, что никогда не изменял Своему господину, столь достойному почитания. 76. И если кто-либо из вас вернется в мир, Да укрепит он память обо мне, Еще поверженную ударом зависти». 79. Поэт немного подождал и так как тот умолк, Сказал мне: «Не теряй же времени, Но говори, а если больше нравится, то спрашивай». 82. И я: «Предложи сам вопрос, О том, что, полагаешь, удовлетворило бы меня. Я же не могу; так подавляет меня жалость». 85. Он снова начал: «Этот человек сделает Добровольно то, о чем ты просишь, Плененный дух, но благоволи и ты 88. Сказать нам, как завязывается душа В эти узлы, и сообщи, если возможно, Освободилась ли хоть одна от подобных членов». 91. Тогда глубоко вздохнул ствол и Обратилось его дуновение в такие слова: «Короток будет мой ответ вам. 94. Когда удаляется свирепая душа Из тела, откуда сама себя вырвала, Минос посылает ее в седьмое устье. 97. Она падает в лес и там не назначено ей места; Но куда закинет ее судьба, Там прозябает она, как зерно проса. 100. Подымается побегом и одичалым растением: Затем Гарпии, питаясь ее листьями, Доставляют ей боль и дают боли выход. 103. Как все, мы возвратимся к нашим телам, Но никто из нас не облечется в них, Ибо нельзя обладать тем, что сам у себя отнял. 106. Мы повлечем их сюда, и в горестном Лесу будут повешены наши тела, Каждое на терновнике томящейся его души». 109. Мы продолжали еще слушать ствол, Полагая, что он что-нибудь добавит; Но вдруг нас поразил шум, 112. Какой слышит охотник при приближении Вепря и собак к месту, где он стоит, Когда ему доносится бег зверей и треск веток. 115. И вот с левой стороны появились двое Нагих и исцарапанных, мчавшихся столь быстро, Что ломали свежие побеги по пути. 118. Опередивший взывал: «Приди же, Смерть, приди!» А другой, кому казалось, что он чересчур отстал, Кричал: «Лано, не были так проворны 121. Твои ноги в бою при Пиеве дель Топпо!» И, возможно потому, что у него захватило дух, Он прислонился к кустику, сливаясь с ним. 124. Позади же них весь лес был полон Черных псиц, жадных и несшихся Как стая борзых, спущенных с привязи. 127. В того, что спрятался, вонзили они зубы И разорвали его на клоки, А затем растащили страждущие члены. 130. Тогда взял меня мой Вожатый за руку, И подвел к кустику, плакавшему Тщетно своими кровоточащими ранами. 133. «О Якопо, – сказал он, – да Сайт Андреа, Помогло ли тебе, что ты меня выбрал защитой? Разве виноват я в твоей порочной жизни?» 136. Когда Учитель остановился над ним, То произнес: «Кем был ты, через столько ран С кровью испускающий скорбную речь?» 139. И он нам: «О вы, души, что явились Увидать бесславное мучение, Так оторвавшее от меня листья, 142. Соберите их вокруг печального деревца. Я был из города, что заменил Крестителем Своего первого покровителя; и посему первый 145. Всегда будет печалить его своим искусством; И если бы на мосту чрез Арно Не оставался еще некий его образ; 148. То граждане, что восстановили город Из пепла, оставшегося после Атиллы, Совершили бы свой труд напрасно. 151. Я же собственный дом обратил для себя в виселицу».Песнь четырнадцатая
Третье кольцо седьмого круга. Насилие над Богом. – Капаней. – Критский старец. – Адские реки
1. Так как любовь к родному краю Охватила меня, я собрал разбросанные листья И возвратил их тому, кто уже хрипел. 4. Затем мы подошли к месту, отделяющему Второе кольцо от третьего, и где Видно ужасное действие правосудия. 7. Чтобы лучше показать это новое, Скажу, что мы пришли к равнине, Удаляющей из своего лона всякое растение. 10. Лес скорби опоясывает ее, Как и его окружает печальный ров. Тут мы остановились, у самой опушки. 13. Все было под глубоким и сухим песком, Не иного рода, нежели тот, Что попирали некогда стопы Катона. 16. О возмездие Господа, как должен Трепетать перед Тобою всякий, кто прочтет, Что видел я собственными глазами! 19. Целые стада нагих душ я видел, Плакавших достаточно жалобно; И, казалось, каждой предназначено свое. 22. Некоторые из них лежали на спине, Другие же сидели, задумавшись глубоко, А иные шествовали непрерывно. 25. Тех, что двигались по кругу, было больше, А тех меньше, кто терзался распростертым, Но более был расположен их язык к жалобам. 28. На весь этот песок, медленно падая, Стекали широкие огненные хлопья, Как идет тихий снег в Альпах; 31. Подобно тому как Александр в знойных областях Индии видел падающие на войско Языки пламени, неугасавшего и на земле, 34. Так что он повелел своим отрядам Топтать почву, чтобы огненный пар Лучше угасал, пока его еще немного, 37. Так сходил этот вечный жар, И песок загорался, как под огнивом Трут, дабы удваивать страданья. 40. Без отдыха продолжалась пляска Несчастных рук, то здесь, то там Отталкивавших от себя новые ожоги. 43. Я начал так: «Учитель, ты, победивший Все кроме мощных демонов, Вышедших у ворот нам навстречу: 46. Кто этот огромный, якобы безучастный К пожару, лежащий злобно и скорчившись, Так что дождь будто бы не укрощает его?» 49. И сам лежавший, когда заметил, Что я спрашиваю Вождя о нем, Вскричал: «Каким я был в живых, таков и мертвый! 52. Если бы Юпитер утомил своего кузнеца, У которого взял, в гневе, острую молнию, Поразившую меня в последний день жизни, 55. Или если бы утомил всех поочередно В черной кузнице Монджибелло, Крича: „Помоги, помоги, добрый Вулкан!“, 58. Как он сделал в битве при Флегре, И пускал бы в меня стрелы изо всей силы: Все-таки его месть не была бы радостна». 61. Тогда Вождь мой сказал с такою силой, Какой я не слышал ранее в его речи: «О Капаней, так как не уменьшается 64. Твоя гордыня, ты наказан сильнее; Никакое терзание, кроме твоей злобы, Не сравнялось бы с мукою твоего бешенства». 67. Затем он обратился ко мне более мягко, Говоря: «Это был один из семи царей, Осаждавших Фивы; он презирал, и кажется, 70. Презирает Бога, и мало, кажется, молит его. Но, как я сказал ему, такая злобность Должным образом украшает его сердце. 73. Теперь же иди за мной и наблюдай, чтобы Твои ноги не ступали на сожженный песок, Но всегда удерживай их вблизи дубравы». 76. В молчании приблизились мы к тому месту, где Из леса выбивается крошечная речка, Чья кровавость и сейчас ужасает меня. 79. Как из Буликамэ вытекает ручей, Который делят потом между собою грешницы, Так же сбегал вниз по песку и этот. 82. Его дно и оба прибрежных склона Были из камня, как и края берегов; Потому я и решил, что путь наш здесь. 85. «Среди всего, что показывал я тебе С тех пор, как мы вошли во врата, Чей порог ни для кого не замкнут, 88. Пред твоим взором не было ничего Замечательнее этого ручья, Гасящего над собой всякое пламя».– 91. Таковы были слова моего Вождя; И я просил, чтобы он дал мне и пищу, Желание которой уже дал. 94. «Посреди моря лежит опустошенная страна, – Сказал он тогда, – называемая Критом, При чьем царе мир был еще невинен. 97. Там есть гора, некогда украшенная Водами и лесами, называвшаяся Ида; Ныне она пустынна, как и все древнее. 100. Рея некогда избрала ее верною колыбелью Своему сыну, и чтобы лучше скрыть его, Когда он плакал, заставляла издавать шум. 103. Внутри горы восстает великий старец, Обращенный плечами к Дамиетте, И смотрит на Рим, как в свое зеркало. 106. Голова его из лучшего золота, Из чистого серебра руки и грудь, И туловище до паха из меди: 109. А книзу весь он из отменного железа, Кроме правой ноги из обожженной глины, На которую больше опирается, чем на другую. 112. Весь он, исключая золота, изрезан Трещинами, откуда капают слезы, И, скопляясь, протачивают ту пещеру. 115. Путь их направляется в эту долину. Они рождают Ахерон, Стикс и Флегетон, Затем нисходят по тому узкому желобу 118. Туда, ниже чего нельзя спуститься. Там образуется Коцит, и каков тот пруд, Увидишь, потому не говорю сейчас о нем». 121. И я ему: «Если этот ручей Так исходит из нашего мира, Почему лишь здесь является он нам?» 124. И он мне: «Ты знаешь, что это место кругло, И хотя бы ты прошел по нем далеко, Спускаясь влево, все ниже в глубину, 127. Полного круга ты еще не сделал; Поэтому, если встретишь что-либо новое, Оно не должно вызвать удивления на твоем лице». 130. И я опять: «Учитель, где же здесь Флегетон и Лета; о последней ты умалчиваешь, А о первом говоришь, что он рождается из этих слез?» 133. «Все твои вопросы нравятся мне,– Ответил он, – но кипение красных вод Должно вполне разрешить один из них. 136. Лету же ты увидишь, но вне этой ямы, А там, куда приходят души омываться, Когда искупленная вина отпущена. – 139. Затем сказал он. – Уже время отходить От леса; постарайся следовать за мной. Прибрежья образуют путь, не обжигающий 142. И над ним гаснет всякий пар».Песнь пятнадцатая
Третье кольцо седьмого круга. Насильники против природы; содомиты. – Брунетто Латини. – Франческо д'Аккорсо. – Андрея де Моцци
1. Теперь нас несет твердое побережье, И дым ручья так сгущается над ним, Что охраняет воду и плотины. 4. Как фламандцы между Гандом и Брюгге, Из страха пред волнами, кидающимися на них, Возводят защиты, чтобы море отбегало, 7. И как строят их падуанцы вдоль Бренты, Чтобы охранить свои города и замки, Когда Киарентана ощутит тепло; 10. Подобным образом были сделаны и эти, Хотя не столь высокие и толстые, Кто бы ни был зодчий, созидавший их. 13. Мы удалились уже от леса Настолько, что я не увидел бы, где он, Если бы обернулся назад, 16. Когда нам повстречался ряд теней, Проходивших вдоль плотины; и все они Глядели на нас, как смотрят вечером 19. Друг на друга при новолунии; И вперяли в нас свои взоры, Как в игольное ушко старик портной. 22. Так обозревала меня вся эта семья, И я был узнан одним, который взял Меня за край одежды, воскликнув: «Какое чудо!» 25. Когда же он протянул мне свою руку, я Устремил взор на его сожженный облик, Так, что обгорелое лицо не помешало 28. Взору моему узнать, кто предо мною; И склоняя руку к его лицу, Я ответил: «И вы здесь, сер Брунетто?» 31. А он: «О сын мой, не рассердись, Если Брунетто Латини повернет с тобою Слегка назад, отойдя от прочих». 34. Я отвечал ему: «Сколько могу, прошу вас, И если желаете, чтобы я сел с вами, То это сделаю, если спутник позволит». 37. «О сын, – сказал он, – кто из этого стада Остановится хоть на минуту, пролежит сто лет, Не в силах отмахнуться от ранящего огня. 40. А потому иди; я же пойду с тобою рядом, И затем присоединюсь к остальной шайке, Оплакивающей свои вечные мученья». 43. Я не осмелился спуститься с дороги, Чтобы идти с ним вровень; но склонил Голову как человек, ступающий почтительно. 46. Он начал: «Что это за судьба, или рок До положенного дня ведущий тебя вниз? И кто этот, указывающий тебе путь?» 49. «Там наверху, в светлой жизни,– Ответил я ему, – я заблудился в некоей долине, Не достигнув еще полноты лет. 52. Но вчера утром я повернул к ней плечи; Этот предстал, когда я чуть не возвратился, И привел меня к дому этою стезей». 55. И он мне: «Если будешь следовать за своей звездой, Ты не сможешь миновать врат славы, Если верно я заметил в милой жизни. 58. И если бы не столь рано я скончался, То видя благосклонность к тебе Неба, Я оказал бы тебе в трудах поддержку. 61. Но неблагодарный, злобный народ, Что в древности сошел из Фьезоле, И отзывает еще горами и камнем, 64. Станет тебе, за твое добро, врагом. И это так, ибо среди терпких рябин Не пристало зреть сладкой фиге. 67. Давняя слава зовет их в мире слепцами; Народ скупой, завистливый и гордый, Старайся не грязниться их обычаями. 70. Тебе судьбою уготована такая честь, Что обе партии станут жаждать Тебя, но далека будет ягода от их клювов. 73. Пусть обратят себя самих фьезоланские звери В подстилку для скота, но да не трогают растения, Если какое-либо вырастает еще на их навозе, 76. В котором оживет священный посев Тех римлян, что остались там, когда Было основано гнездо подобного коварства». 79. «Если б исполнилась вся моя мольба,– Ответил я, – вы не были бы еще Изгнаны из человеческого рода, 82. Ибо в моем уме запечатлелся и сейчас Меня печалит дорогой, добрый ваш образ Отеческий, когда в земной жизни 85. Вы научили меня, как входит человек в бессмертие. И сколь я благодарен вам, надлежит Высказать на моем языке, пока я жив. 88. Ваш рассказ о моем будущем я записываю И храню, чтобы вместе с другим предсказанием Их разъяснила Дама знающая, если до нее дойду. 91. Я хочу лишь, чтобы вам было известно, Что к желаниям судьбы я уже готов, Лишь бы совесть меня не угрызала. 94. Не ново для ушей моих такое предвещание, И потому пусть вращает Фортуна колесо свое Как ей нравится; поселянин же – свою мотыгу». 97. Тогда Учитель мой обернулся вправо Назад и посмотрел на меня: Затем сказал: «Хорошо слушает кто замечает». 100. Я же шел, и все так же продолжая беседовать С серым Брунетто, спросил, кто Самые известные и выдающиеся его спутники. 103. И он мне: «Знать о некоторых хорошо; О других похвально было бы умолчать, Ибо времени не хватило бы для такой повести. 106. В общем же знай, что все они были духовные И великие писатели, великой славы, Все запятнанные в миру одним грехом. 109. Присциан удаляется с этою скорбною толпою, И Франческо д'Аккорсо также и если бы Ты захотел подобной пакости – 112. Мог бы того увидеть, кто слугою слуг Был переведен с Арно на Баккильоне, Где он и сложил свои исковерканные члены. 115. Больше сказал бы я, но идти и говорить Далее нельзя, ибо я вижу, Что там из песка встает новый дым. 118. Приближаются те, с кем я не должен быть: Обращайся к моему „ТЕЗОЮ“, Где я живу еще; и более не спрашивай». 121. Затем он повернулся, став подобен тем, Кто в Вероне мчится за зеленым сукном По полю; казалось, он из тех, 124. Кто побеждает, а не кто проигрывает.Песнь шестнадцатая
Третье кольцо седьмого круга. Насильники над природой; содомиты. – Гвидо Гверра, Теггьяйо Альдобранди и Якопо Рустикуччи. – Гульельмо Борсьере. – Водопад. – Гериои
1. Я находился уже там, где гул Воды, падающей в другой круг, Подобен гудению пчел в улье, 4. Когда три тени одновременно отделились, Отбегая от ватаги, проходившей Под дождем едкого мучения. 7. Они приблизились к нам и кричали: «Остановись, ты, по одежде кажущийся Родом из порочной нашей страны». 10. О, сколько ран увидел я на их телах, Свежих и старых, нанесенных пламенем, Еще и посейчас скорблю, лишь о них вспомню. 13. При их криках Учитель мой остановился, Обратил лицо ко мне и сказал: «Теперь Подожди, с этими следует быть учтивым. 16. И если бы ранящий огонь не был Свойствен этому месту, я бы сказал, Что скорей тебе следовало бы спешить, чем им». 19. Они вновь начали, когда мы остановились, Давнюю жалобу; и подошедши к нам, Все трое образовали из себя круг. 22. Как обычно делают борцы, голые и намасленные, Примериваясь к жертве и соображая преимущества, Прежде чем начать бой и наносить удары, 25. Так в кружении каждый обращал Ко мне лицо, и обратно шеям Совершили ноги непрерывное движение. 28. «Увы, хотя горестность этого зыбкого места, И его окраска и обнаженность, – начал один из них, – Располагают презирать и нас и просьбы наши, 31. Все же да подвигнет наша слава твою душу Сказать, кто ты, чьи живые ноги Попирают Ад столь уверенно. 34. Этот, по чьим следам, видишь, я ступаю, Сколь ни наг, ни общипан, шествуя сейчас, Принадлежал к роду высшему, чем ты думаешь. 37. Он был внуком доброй Гвальдрады, Гвидо Гверра звали его, и в своей жизни Совершил он достаточно разумом и мечом. 40. Другой, топчущий за мною песок, – Теггьяйо Альдобранди, голос коего Надлежало бы получше слушать там на земле. 43. И я, вознесенный на крест вместе с ними, Был Якопо Рустикуччи; и право, Надменная жена более всего навредила мне». 46. Если бы я был в безопасности от огня, То бросился бы туда к ним вниз; И думаю, Наставник не противился бы этому. 49. Но так как я обжегся бы и сжарился, То боязнь победила мое доброе намерение, Побуждавшее меня обнять их. 52. Затем я начал: «Не презрение, но боль За вашу участь так овладела мною, Что долго я не мог избавиться от нее, 55. Как только этот Повелитель мой сказал Слова, давшие мне понять, что Приближаются такие люди, как вы. 58. Из вашей страны я и всегда С горячностью передавал и выслушивал все О ваших подвигах и почтенных именах. 61. Я покидаю горечь и иду за сладкими плодами, Обещанными мне праведным Вождем, Но прежде мне надлежит спуститься вглубь». 64. «Пусть долго еще сопровождает душа Тело твое, – ответил он тогда, – И пусть светится твоя слава после тебя. 67. Изящество и доблесть, скажи, живут ли еще В нашем городе, как подобает, Или все это изгнано из него? 70. Ибо Гульельмо Борсьере, страждущий с нами Еще недолго, и с другими идущий, Не мало мучит нас своим рассказами». 73. «Новые люди и внезапные обогащенья Породили гордость и распущенность в тебе, Флоренция, и ты сама себя оплакиваешь»,– 76. Так вскричал я, подняв голову. Три же тени, принявшие это за ответ, 79. Взглянули друг на друга, как смотрят, слыша истину. «Если и во всех случаях так легко для тебя, – Ответили они, – удовлетворить ближнего, То счастлив ты, говоря подобным образом. 82. Потому, если выйдешь из этих мрачных мест И, возвратясь, увидишь чудные звезды, То когда захочется тебе сказать: „Я был там“, 85. Сделай, чтобы говорили и о нас». Затем они нарушили круг, и в беге Крыльями казались их проворные ноги. 88. Нельзя было бы произнести аминь Столь быстро, как они исчезли, Поэтому Учитель рассудил тронуться. 91. Я следовал за ним, и пройдя немного, Мы услышали гул воды так близко, Что слова наши почти заглушались ею. 94. Как та река, что обладает собственным путем, Сперва от Монтевезо на восток, С левого склона Апеннин, 97. Называющаяся вверху Аквакета, а затем Изливающаяся в низменное ложе И в Форли меняющая имя; 100. Как ревет она, свергаясь одним махом С крутизны гор, над Сан Бенедетто, Который должен был бы приютить тысячи; 103. Так свергнувшись со скалы вниз, Гудела эта красноватая вода, Которая могла бы и вовсе оглушить. 106. Я был обвязан некоей веревкой, И с ее помощью однажды думал Уловить пантеру с пятнистой шкурой. 109. А затем, снявши ее с себя, Как приказал мне Вождь, Я подал ее ему, свернув клубком. 112. Тогда он обратился в правую сторону, И довольно далеко от берега Бросил ее вниз, в глубокую пропасть. 115. «Что-либо новое должно ответить,– Сказал я себе, – на новый знак, За которым следит взор Учителя. 118. О, сколь осторожным следует быть С теми, кто не только видит действия, Но проникает разумом и в мысли!» 121. Он мне сказал: «Скоро подымется наверх То, чего жду и что тебе мерещится; Скоро надлежит ему явиться тебе». 124. Всегда человек должен закрывать уста, сколько может, Перед истиной, имеющей вид лжи, Ибо она безвинно опозоривает его. 127. Но здесь я не могу молчать и стихами Этой Комедии, клянусь тебе, читатель, Да не лишатся они долгой благосклонности, 130. Что я видел, как по мутному и темному воздуху Приближался, плывя вверх, некий образ, Удивительный даже для мужественного сердца; 133. Подобно этому выныривает спускавшийся в воду, Чтобы освободить якорь, зацепившийся За скалу или за нечто иное в море, 136. И, распростирая руки, поджимает ноги.Песнь семнадцатая
Третье кольцо седьмого круга. Насильники над природой; ростовщики. – Герион. – Скровиньи. – Буйямонте. – Поэты сходят в восьмой круг
1. «Вот зверь с остроконечным хвостом, Проходящий через горы, рушащий стены и оружия, Вот он, наполняющий весь мир зловонием», – 4. Так обратился ко мне мой Вождь, И сделал ему знак приблизиться к краю Мраморной дорожки, по которой проходили мы. 7. И этот отвратительный образ обмана Явился и приблизил голову и грудь, Но не вытащил на берег своего хвоста. 10. Лицо его представлялось лицом настоящего человека, Столь гладка была снаружи его кожа, Все же остальное туловище змеиное. 13. Две волосатые до подмышек лапы были у него. Спина же и грудь, и оба бока Испещрены узлами и кружочками. 16. Более пестрых тканей не изготовляли Никогда ни турки, ни татары, И не пряла подобных даже и Арахнэ. 19. Как иногда стоял у берега лодки, Частию в воде, частию на суше, И как там, у обжор немцев, 22. Приседает бобер, готовясь к охоте, Так держался и мерзейший зверь У рубежа, опоясывающего камнем пески. 25. В пустоте извивал он свой хвост, Поднимая вверх ядовитую развилину, Вооружавшую его конец наподобие скорпиона. 28. Вождь сказал: «Теперь надлежит нашему пути Отклониться немного к этому Злобному животному, растянувшемуся там». 31. Поэтому мы спустились вправо И прошли десять шагов по краю, Чтобы лучше избежать песка и пламени. 34 И когда приблизились к нему, Несколько далее увидел я на песке Людей, сидевших недалеко от пропасти. 37 Здесь мне сказал Учитель: «Чтобы ты имел Полное понятие об этом круге, Иди теперь и посмотри на участь их. 40. Да будут там недолги твои слова. До твоего возвращения я поговорю с этим, Чтобы он уступил нам крепкие свои плечи». 43. Так к самому последнему пределу Того седьмого круга, в полном одиночестве, Направился я; там сидели горестные люди. 46. Глазами выдавали они свою скорбь. Туда, сюда устремляли они руки, Укрываясь ими и от пара, и от горячего песку. 49. Не иначе летом отбиваются собаки То мордами, то лапами, когда их кусают Блохи, или мухи, или овода. 52. Обратив взор на лица некоторых, На кого падал мучительный огонь, Я не узнал никого, но заметил, 55. Что на их шеях висели кошели Известного цвета и с известным знаком, И, казалось, что их взоры паслись на них. 58. И когда разглядывая я подошел к ним, То на одной желтой сумочке увидел Голубое с обликом и видом льва. 61. Затем, продолжая путь своего взгляда, Я усмотрел другую суму, краснее крови, С изображением гуся белее масла. 64. И тот, чей голубой и толстой свиньей Был отмечен белый мешочек, Сказал мне: «Что делаешь ты в этой яме? 67. Уйди отсюда, и так как ты еще не умер, Знай, что мой сосед Виталиано Будет сидеть здесь, слева от меня. 70. Среди этих флорентинцев я из Падуи, Часто оглушают они мой слух Криками: «Выходи, самый главный, 73. Неси суму с тремя клювами». Затем он скривил рот и высунул Язык, как бык, облизывающий ноздри. 76. И я, боясь остаться дольше, чтоб не огорчить Того, кто наставлял меня побыть немного, Повернул назад от душ усталых. 79. Я застал Вождя моего уже сидящим На крупе дикого животного; И он сказал мне: «Будь же тверд и мужествен. 82. Отсюда сходят лишь по таким лестницам; Садись вперед, я хочу быть посредине, Чтобы хвост не причинил тебе вреда». 85. Как тот, к кому столь близок озноб четырехдневной Лихорадки, что у него побелели уже ногти, И он дрожит от одного взгляда на тень, 88. Таков стал я при этих словах; Но его угрозы привели меня в стыд, Делающий слугу сильным при достойном господине. 91. Я сел на эти огромные плечи. Так я хотел сказать: «Обними же меня», Но голос не повиновался мне, как я надеялся. 94. А тот, кто не однажды помогал мне Раньше, лишь только я взобрался, Крепко обвив меня руками, поддержал. 97. И сказал: «Трогайся же, Герион, Пусть круги будут шире, а спуск отложе; Помни о новой ноше, которую несешь». 100. Как, отчаливая, отходит судно Все назад, назад, так и он снялся, И когда почувствовал себя вполне на воле, 103. Туда, где была грудь, повернул хвост И, выпрямив, двинул им подобно угрю, И лапами забирал под себя воздух. 106. Не думаю, чтобы больший страх охватил Фаэтона, когда он выпустил вожжи, Благодаря чему небо, как и сейчас видно, сожглось. 109. Или бедного Икара, когда он почувствовал, Что спина его лишается перьев от нагревавшегося воску, А отец крикнул ему: «Твой путь неверен!», 112. Чем было и со мною, когда я увидел, что Со всех сторон вокруг воздух, где ничего Нельзя рассмотреть кроме животного. 115. Оно удаляется, плывя тихо-тихо, Кружит и спускается, но я замечаю это лишь потому, Что в лицо и снизу дует мне ветер. 118. Я слышал уже, что с правой стороны Под нами ужасающе бурлит водоворот, Поэтому опустил вниз голову и глаза. 121. Тогда я еще более побелел при виде бездны, Ибо усмотрел огни и услыхал стоны, И, весь затрепетав, я съежился. 124. А затем увидел, чего не видел ранее: Кругообразный спуск, в смене великих мук, Приближавшихся с различных сторон. 127. Как сокол, долго державшийся на крыльях, Не видя ни приманки и ни птицы, Которому охотник говорит: «Ах, возвращайся!», 130. Усталый спускается оттуда, где летал проворно, Сотнею кругов, и садится далеко От своего хозяина, злой и недовольный, 133. Так ссадил нас в глубине Герион, У самого подножия рухнувшей скалы, И, освободившись от наших тел 136. Умчался, как стрела из лука.Песнь восемнадцатая
Восьмой круг; первый лог. Сводники и соблазнители. – Венедико Каччианимико. – Язон. – Второй лог. Льстецы. – Алессио Интерминеи
1. Злыми логами именуется в Аду место, Все из камней железистого цвета, Как и ограда, окружающая его. 4. В самой середине злостного поля Зияет колодец, довольно широкий и глубокий, Об устройстве коего скажу, где следует. 7. Итак, тот пояс, что остается между Колодцем и подножием высокого крепкого берега, Кругообразен и глубь его разделена на десять долин. 10. Какой вид имеет та часть замка, Где для охранения стен Множество рвов опоясывают его, 13. Так представлялись здесь и они. И как в тех крепостях с их порога Перекинуты на другой берег мостики, 16. Так от подножия скалы воздымались Каменные гряды, пересекавшие плотины и рвы Вплоть до колодца, обрубавшего и поглощавшего их. 19. В этом месте сброшенные со спины Гериона оказались мы, и Поэт Пошел налево, а я двинулся за ним. 22. Справа я увидел новые горести, Новые пытки и новых палачей, Которыми наполнялся первый лог. 25. На дне его были нагие грешники: От середины одни двигались нам навстречу, Другие же шли с нами, но быстрее. 28. Так римляне, при стечении народа В год Юбилея, установили проход По мосту в определенном виде. 31. Одна сторона для всех, кто смотрит На Кастелло и идет к Сан-Пьетро, А другая для идущих к холму. 34. Там и сям на мрачном утесе Видел я рогатых демонов с огромными бичами, Которые жестоко били грешников по задам. 37. О, как взлетали их ноги При первом же ударе, и уж никто Не ожидал второго и третьего! 40. И вот глаза мои встретили Одного и я тотчас сказал: «Где-то я уже видел этого». 43. Чтобы рассмотреть его, я приостановился, И добрый Вождь также замедлился со мной, Дозволив мне отойти немного назад. 46. И тот бичуемый полагал, что укроется, Склонив лицо, но это мало помогло ему; Ибо я сказал: «Ты, воззрившийся в землю, 49. Если внешность, которою обладаешь, не ложна, Ты Венедико Каччианимико; Но что ведет тебя к столь едким приправам?» 52. И он мне: «Говорю об этом неохотно, Но принуждает к тому ясная твоя речь, Заставляющая вспоминать о былом мире. 55. Я был тем, кто прекрасную Гизолу Отдал в полную власть Маркиза, Как бы ни гласило о том гнусное повествованье. 58. И не один плачу я здесь, болонец: Напротив, так полно ими это место, Что столько языков не говорит ныне 61. Sipa между Савеною и Рено: И если хочешь получить уверенность и подтвержденье, То вспомни лишь о нашей жадности». 64. Когда он говорил это, демон ударил его Своим ременным кнутом, воскликнув: «Прочь, Сводник, здесь нет женщин для забав». 67. Я присоединился к своему спутнику. Через несколько шагов мы подошли К некоему утесу, выдававшемуся из берега. 70. Без затруднения взошли мы по нем И, повернув направо, по его хребту Покинули эти вечные круги. 73. Когда оказались мы там, где внизу Зияет в нем отверстие для прохода бичуемых, Вождь сказал: «Остановись и пусть метнутся в тебя 76. Лица этих остальных отверженных, Которых ты не видел еще спереди, Ибо они шли вместе с нами». 79. С древнего моста смотрели мы на вереницу, Приближавшуюся к нам от другой шайки, И которую также хляскал бич. 82. Добрый Учитель, не ожидая моего вопроса, Сказал: «Взгляни на этого высокого, что шествует, И в муке, видимо, не проливает ни одной слезы. 85. Сколь царствен все еще его вид! Это Язон, что смелостью и разуменьем Отнял руно у жителей Колхиды. 88. Проездом он посетил остров Лемнос, Где отважные, безжалостные женщины Предали всех своих мужчин смерти. 91. Там излияниями и пышными словами Он обманул юную Ипсипилу, Которая ранее того обманула всех других. 94. Он покинул ее беременную, в одиночестве. За такую вину он терпит такую муку, А также за Медею возмещается ему. 97. С ним идут те, кто обманывает так же: И этого довольно знать о первой долине И о тех, кто в ней терзается». 100. Мы были уже там, где узкая тропа Скрещивается со второй плотиной И образует из нее плечи следующей арки. 103. Оттуда мы услышали, как стонут тени В другом логу и как фыркают ноздрями, И бьют сами себя ладонями. 106. Прибрежья были покрыты корой плесени От испарений снизу, которые оседали там, Затевая ссору с обонянием и глазом. 109. Дно это столь темно, что дабы его видеть, Надо выбираться на вершину Арки, где утес более высок. 112. Туда пришли мы, и оттуда в глубине рва Увидел я людей, погруженных в испражнения, Как будто спущенные из человеческих нужников. 115. И когда я устремил взор вниз, То увидел голову, так измазанную дерьмом, Что неизвестно было, мирянин это или же духовный. 118. Он крикнул мне: «Почему столь жадно ты Рассматриваешь меня, а не других мерзких?» И я: «Ибо если память мне не изменяет, 121. Я видел тебя некогда с сухими волосами, И ты Алессио Интерминеи из Лукки, Поэтому гляжу внимательнее на тебя, чем на других». 124. Тогда он хлопнул себя по башке: «Меня свела в эту глубь льстивость, Для которой был всегда не сыт мой язык». 127. После чего Вождь: «Склони, – сказал мне,– Несколько вперед свое лицо, Дабы глаза лучше разглядели облик 130. Этой грязной девки с растрепанными волосами, Что чешется своими дерьмовыми ногтями, И то садится на корточки, то встает. 133. Это Таисия, блудница, ответившая Своему любовнику, когда он сказал: «Очень ли Ты ко мне благосклонна?» – «Да, необычайно». 136. И на этом насытились наши взоры.Песнь девятнадцатая
Круг восьмой; лог третий. Симоииаки. – Папа Николай III
1. О, Симон маг и его жалкие последователи, Вы, хищники, что Божественные дела, Кои с доблестью должны были обручаться, 4. За золото и серебро предали поруганию, Надлежит ныне и над вами возгреметь трубе, Ибо и вы в третьем логе. 7. Мы уже были, взойдя над следующей Могилой, в той части гряды, Что над серединою подымается отвесно. 10. О, высшая Премудрость, каково твое искусство, Являемое в небе, на земле и в злом мире. И как праведно распределяет твоя добродетель! 13. Я увидел, что на боках своих и на дне весь Мертвенно-бледный камень полон дыр, Одинаковой ширины, и все они круглы. 16. Они не показались мне полнее или больше Тех, что в моем чудном С. Джованни Устроены для мест купелей; 19. Из них одну, несколько лет назад, Разбил я, спасая утопавшего в ней, И да будет это свидетельством истины для всех. 22. Из отверстий выступали наружу Ноги грешника и голени, До икр; остальное же находилось внутри. 25. У всех них пылали огнем обе подошвы И потому так сильно дергались суставы, Что разорвали бы и крученые веревки, и витые. 28. Как обычно, когда горят намасленные вещи, Пламя передвигается по самой поверхности, Так было и тут, от пяток до концов пальцев. 31. «Кто этот, Учитель, – сказал я,– Что, дрыгая, беснуется более других, И кого сосет более красное пламя?» 34. И он мне: «Если хочешь, чтобы я свел тебя Вниз по тому берегу, уходящему вглубь, То узнаешь от него о нем и его грехах». 37. И я: «То хорошо для меня, что тебе нравится. Ты господин, и ты знаешь, что я не удаляюсь От твоего желания; и знаешь то, о чем умалчиваю». 40. Тогда мы вышли на четвертую плотину, Повернули и спустились в левую сторону, На дно, тесное и усеянное дырами. 43. И добрый Учитель, еще не отделив Меня от своего бедра, подвел к отверстию, Где ногами плакался этот грешник. 46. «О, кто бы ни был ты, опрокинутый вниз верхом, Печальная душа, вбитая как кол,– Начал я, – если можешь, произнеси слово». 49. Я стоял подобно иноку, что исповедует Коварного убийцу, зарываемого в землю, Который призывает его, чтобы оттянуть смерть. 52. И он вскричал: «Ты уже здесь, Ты уже здесь, Бонифаций? На годы обмануло меня предсказание. 55. Так ли быстро ты насытился имуществом, Для которого не побоялся обманом обручиться С Прекрасной Дамою и затем осквернить ее?» 58. Я сделался как те, которые стоят, Не понимая слов, к ним обращенных, Почти смущенные, не зная, что им отвечать. 61. Тогда сказал Вергилий: «Отвечай ему кратко: Я ведь не тот, не тот, о ком ты думаешь». И я ответил, как он повелел. 64. На это дух скорчил обе свои ноги, Затем вздохнул, голосом жалобным Сказал мне: «Что же ты спрашиваешь у меня? 67. Если желанье знать, кто я, так тебя давит, Что для этого ты спустился с берега, То знай, что я носил великую мантию 70. И действительно был сыном медведицы, Столь алчным к благоденствию медвежат, Что на земле имущество, а здесь себя кинул в кошель. 73. Ниже моей головы затиснуты другие, Мои предшественники в симонии, Распластанные по расщелине камня. 76. Вниз провалюсь так же и я, когда Придет тот, за кого я тебя принял, Задав тебе этот внезапный вопрос. 79. Но дольше жарил уже я свои ноги, И стоял так, полувверху, полувнизу, Чем проторчит он, с красными ногами, 82. Ибо после него придет за худшие дела Пастырь с запада, нарушитель закона, Такому-то и надлежит прикрыть обоих нас. 85. Это будет новый Язон, о котором сказано У Маккавеев; и как к тому был мягок Его царь, так и к этому будет правящий Францией». 88. Не знаю, не был ли я слишком дерзок, Отвечая ему следующими словами: «О, скажи теперь мне, какого же сокровища 91. Пожелал Господь от Апостола Петра, Когда отдал в его власть ключи? Воистину лишь позвал: „Следуй за мною“. 94. Ни Петр, и ни другие не потребовали у Матфея Золота или серебра, когда ему досталось Место, утерянное преступною душою. 97. Стой же здесь, ибо ты праведно наказан, И хорошо храни плохо доставшиеся деньги, Побудившие тебя выступить против Карла. 100. И если бы не сдерживало меня Уважение к верховным ключам, Коими ты владел в светлой жизни, 103. Я изыскал бы еще горшие слова: Ибо жадность ваша омрачает мир, Угнетая добрых и возвышая злых. 106. Вас, пастыри, заметил Евангелист, Когда ту, что восседала на воде, Увидел в блудодеянии с царями. 109. Ту, что родилась с семью головами, И в десяти рогах имела оплот, Пока добродетель нравилась ее супругу. 112. Вы создали Бога из золота и серебра И не тем ли только отличаетесь от Язычника, что у него один Бог, а у вас сто? 115. О, Константин, какое зло порождено Не обращением твоим, а тем даром, Что принял от тебя первый богатый Папа». 118. И пока я напевал ему подобные упреки, От злости или угрызения совести Он еще сильнее дрыгал обеими ступнями. 121. Я думаю, что это нравилось Вождю, С таким довольным видом слушал он Звуки слов, выражавших истину, 124. Он обнял меня обеими руками И, привлекши к себе на грудь, Пошел вверх тем же путем, как и спускался. 127. Он не уставал прижимать меня к себе И нес до самого верха арки, Перекинутой с четвертой плотины к пятой. 130. Там мягко опустил свой милый Груз на дикий и обрывистый утес, Что и для коз явился б тяжкою тропой. 133. Оттуда следующая долина мне открылась.Песнь двадцатая
Круг восьмой; лог четвертый. Предсказатели. – Амфиарей. – Тирезий. – Арон. – Манто. – Эврипил. – Скотт. – Асденте
1. О новой каре надлежит мне слагать стихи, Давая содержание двадцатой песни, Первой канцоны о погребенных. 4. Я был уже вполне готов Взглянуть в открывшуюся глубину, Которая купалась в горестных стонах. 7. И я увидел людей в кругообразной долине, Приближавшихся молча и в слезах, Как выступают литании в нашем мире. 10. Когда я наклонил лицо к ним ниже, То у каждого заметил удивительное Скривление меж грудию и подбородком, 13. Ибо к спине были обращены их лица. И задом надлежало им двигаться, Так как взгляда вперед они лишились. 16. Быть может, силою паралича Скривился так кто-либо из них; Но я не видел этого и не верю. 19. Если Господь даст тебе, читатель, вкусить плод Твоего чтения, то поразмысли про себя, Как мог я сохранить лицо сухим, 22. Когда вблизи увидел наши облики Столь искаженными, что слезами глаз Ягодицы омывались по разрезу? 25. Да, я заплакал, прислонясь к выступу Суровой скалы, так что мой Вожатый Сказал мне: «Ты все еще в числе глупцов? 28. Здесь тогда живо сострадание, когда оно умерло. Кто более преступен, нежели тот, Кто вносит чувство в правосудие Божие? 31. Подыми голову, подыми и погляди, пред кем Разверзлась, на глазах фиванцев земля, Так что все кричали: «Куда падаешь 34. Амфиарей? почему бросаешь ты войну? И он безостановочно падал в бездну, До самого Миноса, всех хватающего. 37. Глядя, как в грудь обратил он свои плечи, Пожелав видеть слишком далеко вперед, Назад он смотрит, совершая путь обратный. 40. Посмотри на Тирезия, изменившего внешность, Когда из мужчины обратился он в женщину, Переменив все свои члены на иные; 43. И затем вновь пришлось ему побить Прутом двух змей, свившихся между собою, Прежде чем возвратилось к нему мужское оперение. 46. Арон – тот, что касается спиною его брюха; В горах Луни, где возделывает землю Каррарец, находящий себе приют ниже, 49. У него была среди белых мраморов пещера, Где он жил; и созерцать звезды И море не препятствовало ему ничто. 52. И та, что закрывает свои груди, Которых ты не видишь, распущенными косами, И у кого там же все волосатые части, 55. Была Манто, бродившая по многим землям; Позже она основалась там, где я родился; Вот почему я бы хотел, чтобы ты выслушал меня. 58. Когда отец ее удалился из жизни, И был порабощен город Вакха, Долго скиталась она по свету. 61. Наверху, в чудной Италии, есть озеро, У ног тех Альп, что замыкают Аллеманию, Над Тиролем, по имени Бенако. 64. Тысячью, думаю, источников, и более, питается оно Меж Гардой, Валь-Камоникой и Апеннинами Теми водами, что затем дремлют в озере. 67. На нем посреди есть место, где трентинский Пастырь, как и брешианский и веронский Могут благославлять, если совершат путь, 70. Лежит Пескиера, чудный и могущественный оплот, Защищающий от брешианцев и бергамцев Там, где берег больше понижается. 73. Сюда указано сливаться всему тому, Чего не может удержать лоно Бенако, И ниже образуется река в зеленых пастбищах. 76. Лишь только вода тронется отсюда, Уже не Бенако, а Минчио она зовется, До самого Говерно, где впадает в По. 79. Отойдя немного, она встречает низину, По которой разливается, образуя болото, Иногда летом становящееся злостным. 82. Когда суровая дева проходила тут, То увидела землю посреди топей, Необработанную и лишенную обитателей. 85. Там, чтобы избежать людского общества, Она остановилась со своими слугами и чарами, И поселилась, и оставила безжизненное тело. 88. А затем люди, рассеянные по окресности, Собрались к этому месту, бывшему крепким Благодаря топи, облегавшей его отовсюду, 91. Основали город на костях умершей, И по той, кто первая избрала место, Мантуей назвали его, не вопрошая судьбы. 94. Прежде более жителей вмещало оно, До тех пор пока безрассудство Казалоди Не подпало обману Пинамонте. 97. Сообщаю это, чтобы, если ты услышишь Иное о происхождении моей родины, Никакая ложь не исказила бы истины». 100. И я: «Учитель, твои речи Столь для меня истина и я столь верю им, Что всякие другие стали бы для меня потухшими углями. 103. Но скажи о людях, что проходят, Не видишь ли кого-либо достойного внимания? Ибо только этим занят ум мой». 106. И он сказал мне: «Тот, у кого со щек Падает борода на темные плечи, Был авгуром, когда Греция столь обеднела 109. Мужчинами, что они оставались лишь в колыбелях. И сообща с Калхасом дал он знак В Авлиде рубить первый якорный канат. 112. Он носил имя Эврипида, и так воспевает его В одном месте моя высокая трагедия; Ты хорошо знаешь это, ибо знаешь ее всю. 115. А тот другой, со столь тощими боками, Был Микеле Скоттом, что воистину Познал игру магических обманов. 118. Ты видишь Гвидо Бонатти, видишь Асденте, Который рад был бы теперь обратиться К своей сапожной коже, и к бритве, но поздно кается. 121. Видишь несчастных, бросивших иглу, Челнок, веретено, чтобы сделаться вещуньями: Они творили колдовство над травами и образами. 124. Но идем, ибо Каин со своими терниями Уж сошел к границам обоих полушарий И ниже Севильи коснулся моря. 127. И уже прошлой ночью было полнолуние: Ты должен это помнить, ибо не вредил он тебе Кое-где там в глубоком лесу». 130. Так говорил он мне, а мы все шли.Песнь двадцать первая
Круг восьмой; лог пятый. Взяточники. – Луккский магистрат. – Злые Когти. – Малакода. – Комедия с дьяволами
1. Так, с моста на мост, разговаривая о разном, О чем не намерена петь моя Комедия, Двинулись мы вперед и взойдя на верх арки 4. Остановились, чтобы взглянуть на другую щель Злых логов и на иные тщетные жалобы; И я увидел в ней необычайную тьму. 7. Как в Арсенале у венецианцев Зимою кипит клейкий вар Для заливания пострадавших кораблей, 10. Которые не могут плавать; и вот, Кто строит новое судно, кто конопатит Бока того, что совершило уже много странствий; 13. Один заклепывает нос, другой корму; Тот трудится над веслами, тот вьет веревки; А тот латает малый парус, или большой. 16. Так не огнем, но божественным искусством Кипела внизу густая смола, Облепившая берег со всех сторон. 19. Я видел ее, но в ней видел Лишь пузыри, подымавшиеся кипением, И вся она вздувалась и вновь оседала. 22. Я пристально вглядывался в глубину, когда Вождь, сказав мне: «Берегись же, берегись!» – Привлек к себе от места, где я находился. 25. Тогда я обернулся, как человек жаждущий Увидеть то, от чего следует бежать И которого подавляет внезапный страх; 28. Но увидев, он все-таки уйти медлит. И позади нас я увидел черного дьявола, Взбегавшего наверх по утесу. 31. О сколь свирепый вид был у него! И каким грозным показался он мне, С простертыми крыльями, на легких ногах! 34. Его плечо, острое и высокое, Отягчал обоими своими ляжками грешник, Которого он держал за лодыжки. 37. «О, злые когти, – сказал демон с нашего моста,– Вот один из старейшин Святой Циты. Бросьте его поглубже, ибо опять я отправляюсь 40. В ту сторону, где таких достаточно. Все там продажны, за исключением Бонтуро; Из нет за деньги делают там да». 43. Он кинул его вниз и по обрывистой скале Ринулся за ним, и никогда спущенный пес Не гнался за вором с такой рьяностью. 46. Грешник погрузился и выплыл скорченный. Но демоны, находившиеся под мостом, Вскричали: «Здесь нет святой иконы; 49. Здесь плавают не так, как в Серкио. И если не желаешь когтей наших, То не высовывайся слишком из смолы». 52. Подцепивши его более чем сотней крючьев, Они сказали: «Ну, попляши, покрытый варом, И если сможешь, втихомолку поплутуй». 55. Не иначе повара велят подручным Погружать в глубину котла мясо, Длинными вилками, чтобы оно не всплывало. 58. Добрый мой учитель сказал мне: «Дабы не видно было Что ты здесь, спрячься и присядь За выступом, который даст тебе прикрытие. 61. И какое бы оскорбленье мне ни нанесли, Не бойся, ибо я все это знаю, Однажды побывав уже в подобной свалке». 64. Затем он перешел к концу моста; И когда вступил на шестой берег, То должно было ему сохранить ясность чела. 67. С той яростью и с тою бурей, Как выскакивают псы на бедняка, Взывающего с места, где остановился, 70. Кинулись демоны из-под мостика И направили на него все свои крючья. Но он вскричал: «Только посмей какой-нибудь! 73. Прежде чем подхватят меня ваши багры, Пусть приблизится кто-либо из вас и выслушает, А затем уже решайте, подымать ли меня». 76. Все закричали: «Иди ты, Малакода». И вот один выступил, остальные же стояли; И он приблизился к нему, сказав: «Что тебе надобно?» 79. «Думаешь ли, Малакода, что видишь меня Здесь у вас, – сказал Учитель мой,– Недосягаемым для всех ваших оружий 82. Помимо воли Господа и благостного Провидения? Пропусти же меня, ибо на Небесах желают, Чтобы я показал кое-кому этот дикий путь». 85. Тогда столь сократилась его гордость, Что он уронит багор к своим ногам, И сказал остальным: «Не трогайте его». 88. И Вождь мой мне: «О ты, тихо сидящий Посреди каменных обломков на мосту, Безопасно подходи теперь ко мне». 91. Поэтому я встал и тотчас же приблизился, И все дьяволы выступили вперед, Я же ощутил страх, что они нарушат договор. 94. Так видел я уже однажды боязнь воинов, Выходивших по договору из Капроны, Когда оказались они среди стольких недругов. 97. Всем своим телом я прижался К моему Вождю, не отводя глаз От вида их, не предвещая добра. 100. Они опустили крючья и один сказал: «Хотите, я потрогаю ему багром спину?» Ему ответили: «Ну, ну, попотчуй». 103. Но демон, который говорил прежде С моим Вождем, быстро обернулся И сказал: «Смирно, угомонись, Скармильоне!» 106. Затем сказал нам: «Далее нельзя будет идти По этому утесу, ибо вся разломанная Глубоко внизу лежит шестая арка. 109. И если все-таки желаете вы идти вперед, То направляйтесь по верху этой пещеры. Недалеко другой утес, где пролегает путь. 112. Вчера, на пять часов позже нынешнего часа, Исполнилось тысяча двести шестьдесят шесть Лет, как рухнула эта дорога. 115. Я посылаю туда кое-кого из наших Взглянуть, не высунулся ли кто из вара. Идите с ними, они вас не обидят. 118. Вперед же, Аликино и Калькабрина, Произнес он, – и ты, Каньяццо, А Барбариччиа будет вести десяток. 121. Пусть явится и Либикокко, Драгиньяццо, Клыкастый Чириатто, и Граффиакане, И Фарфарелло, и бешеный Рубиканте. 124. Поищите вблизи кипящего клея; Эти же пусть будут невредимы до другой гряды, Что нетронутая ведет через берлоги». 127. «О, мой Учитель, что это я вижу здесь? – Сказал я, – ах, идем одни, без провожатых, Ибо ты знаешь путь; мне же они не нужны. 130. Если ты столь же осторожен, как обычно, Разве не замечаешь, как они скалят зубы, И взгляды их грозят бедами?» 133. И он мне: «Не желаю, чтобы ты робел. Пусть себе скалят зубы, как угодно, Это делают они для варящихся бедняков». 136. Демоны устремились по плотине влево, Но раньше закусили языки зубами, Обернувшись к предводителю, как бы давая знак. 139. Он же обратил свой зад в трубу.Песнь двадцать вторая
Круг восьмой; лог пятый. Взяточники. – Чиамполо Наваррец. – Фра Гомита. – Микеле Цанке. – Драка дьяволов
1. Я видел некогда всадников, выступающих из лагеря, И начинающих бой, и гарцующих на параде, И иногда возвращающихся разбитыми. 4. Я видел набеги на ваши земли, О аретинцы, и видел наезды, Схватки турниров и бой на копьях, 7. То при трубах, то под колокола, Под барабаны и по сигналам с крепостей, И по обычаям нашим, и чужеземным. 10. Но никогда под столь странную свирель Не видел я движения ни всадников, ни пешеходов, Как и судов, по знакам с суши, или звездам. 13. Мы шли с десятью демонами. О, дикое сообщество! Однако – в церкви Со святыми, в кабаке с пьяницами. 16. Но на смолу обратил я свое внимание, Дабы увидеть всю внутренность лога И всех людей, сжигавшихся там. 19. Как дельфины, подающие знаки Морякам изгибами своих спин, Чтобы они заботились о спасении корабля. 22. Подобным образом, облегчая себе казнь, Выставлял спину какой-нибудь грешник, И прятал ее быстрее молнии. 25. И как у краев воды в канаве Держатся лягушки, высунув наружу морды, Так что лапки их и туловища скрыты, – 28. Так повсюду расположились грешники. Но лишь только подходил Барбариччиа, Тотчас они скрывались в кипении. 31. Я видел, и сейчас еще замирает сердце: Один из них замедлился, как иногда бывает, Что одна лягушка останется, а другая нырнет. 34. И Граффиакане, ближе всех бывший к нему, Подцепил его за просмоленные волосы И вытащил наверх, мне показалось, точно выдру. 37. Я уже знал имена всех этих демонов, Ибо обратил внимание, когда их выбирали, А как звали они друга, запомнил. 40. «О Рубиканте, приладь-ка ему к спине Свои когтищи, да сдери шкуру»,– Кричали в один голос все проклятые. 43. И я: «Учитель, если можешь, то Узнай, кто этот несчастный, Что попал в руки своих недругов». 46. Вождь мой приблизился к нему, Спросил, откуда он, и тот ответил: «Я родом из Наваррского королевства, 49. Мать отдала меня на службу к одному владетелю, Ибо произвела на свет от негодяя, Погубившего себя самого и свое имущество. 52. Затем вошел я в доверие к доброму королю Тебальдо, Там и стал мошеннически наживаться, За что расплачиваюсь в этом пекле». 55. И Чириатто, у которого изо рта В обе стороны торчали клыки, как у кабана, Дал ему ощутить, как один из них остр. 58. Злым котам попалась эта мышь; Но Барбариччиа, схватив грешника в охапку, Сказал: «Ни с места, пока я сижу на нем». 61. И обратив лицо к Учителю моему – «Спрашивай, сказал, если желаешь Узнать еще, пока его не растерзали». 64. И Вождь: «Скажи теперь о других злодеях, Не знаешь ли какого-нибудь латинца Там, под смолою?» – И грешник: «Только что 67. Я расстался с одним из соседней страны. Был бы я еще погружен с ним вместе, Так не боялся бы ни когтей, ни крючьев». 70. И Либикокко: «Слишком долго, сказал, Терпели мы его», – и зацепил багром за руку, Так, что, рванув, оторвал мышцу. 73. И Драгиньяццо собирался ухватить его Снизу за ноги, но тогда предводитель Окинул всех их сердитым взором. 76. Когда они немного успокоились, К тому, кто все еще смотрел на свою рану, Обратился тотчас же мой Вождь: 79. «Кто был тот, от кого на беду отошел Ты, как говоришь, приблизившись к берегу?» И он ответил: «Это был фра Гомита, 82. Из Галлуры, сосуд всяческих козней, Державший врагов своего господина в руках И поступивший с ними так, что они же его хвалили. 85. Он взял с них деньги и без суда выпустил, Как сам рассказывает; и в других делах Плут был неменьший, но главнейший. 88. С ним беседует Микеле Цанке Из Лодогоро; и говорить о Сардинии Не чувствуют усталости их языки. 91. Увы! взгляните на того, скалящего зубы. Я рассказывал бы и еще, но боюсь, как бы он Не явился и не начесал мне шкуру». 94. А чертов настоятель, обернувшись к Фарфарелло, Таращившему глаза в стремлении к бою, Сказал: «Ну, смирно, злая птица!» 97. «Если хотите видеть, или слышать,– Вновь заговорил испуганный грешник,– Тосканцев или ломбардцев, я их приведу. 100. Но пусть отступят хоть немного Злые Когти, Чтобы те не устрашились их отмщения; И я, сидя на этом самом месте, 103. Взамен себя одного приведу семерых, Свистнув, как у нас принято, Когда кто-нибудь высунется наружу». 106. Каньяццо при таких словах поднял морду, Потряхивая головою, и сказал: «Эку хитрость Выдумал он, чтобы прыгнуть вниз!» 109. И тот, у кого довольно было всяческих лукавств, Ответил: «Что это за хитрость, Если сотоварищам я доставлю беды еще горшие?» 112. Аликино не удержался, и наперекор Другим сказал ему: «Если соскочишь, Я не галопом устремлюсь за тобой, 115. Но забью над смолой крыльями, Оставим тебе пригорок[24], нам щитом будет скала, И посмотрим, сильнее ли ты один всех нас». 118. И ты, читающий, услышишь ныне о новой забаве. Все устремили взоры на другой берег, И первым тот, кто больше всех упорствовал. 121. Наваррец хорошо воспользовался временем, Уперся ногами в землю, и тотчас же Прыгнул, избавляясь тем от их намерений. 124. Это смутило всех сознанием вины, Особенно того, кто был причиной промаха; Поэтому он бросился, крича: «Ты не уйдешь!» 127. Но тщетно: ибо за боязнь крылья Не смогли угнаться; тот скрылся вниз, Этот, взлетая, поднял кверху грудь. 130. Не иначе и утка, вдруг, внезапно, При появлении сокола, ныряет вглубь, Он же возносится наверх, сердитый и подавленный. 133. Калькабрина же, разозленный этой проделкой, Летая, держался позади него, довольный, Что грешник спасся, ибо теперь мог драться. 136. И только лишь исчез мошенник, Он обратил когти на товарища И над самым рвом вцепился в него. 139. Но достаточно был тот хищный ястреб, Чтоб хорошенько пощипать его, и оба Свалились в середину кипящего пруда. 142. Жар тотчас расцепил их, Но подняться было для них невозможно, Так смола склеила их крылья. 145. Барбариччио, в огорчении, как и остальные, Велел четверым лететь с другого берега Со всеми крючьями их; и довольно быстро 148. Спустились демоны к этому месту. Они протянули свои багры увязшим, Которые уже изжарились под коркой. 149. И мы оставили их в этом затруднении.Песнь двадцать третья
Круг восьмой; лог шестой. Лицемеры. – Веселые братья. – Каиафа. – Анна. – Брат Каталано
1. Молча, в одиночестве, без спутников, Выступали мы, один вожатым, другой сзади, Как ходят по дороге братья минориты. 4. Мысль моя, из-за недавней потасовки, Направилась к той басне Эзоповой, Где говорит он о лягушке и о мыши, 7. Ибо не более похоже Мо на Issa[25], Чем то на это, если сравнивать, Раздумавшись, начала их и окончанья. 10. И как из одной мысли другая возникает, Так родилась другая и из этой, Удвоивши первоначальный мой испуг. 13. Я думал так: «Благодаря нам демоны Одурачены – и с таким уроном и насмешками, Которые, наверно, уязвили их. 16. Если гнев прибавится к их злому нраву, Они примчатся сюда с большей яростью, Чем пес, прикусывающий зайца. 19. Я уже чувствовал, как вздыбливались мои волосы От ужаса и упорно вглядывался назад, Потом сказал: «Учитель, если ты не спрячешь 22. Тотчас нас обоих, то я боюсь Злых Когтей: они уже недалеко, Я так воображаю их, что уже слышу». 25. И он: «Если б я был зеркальным, То не быстрее бы привлек внешний твой Образ, чем запечатлеваю внутренний. 28. Теперь явились лишь твои мысли среди моих, В похожем виде и с похожей внешностью, Так что из них я вывел общее решение. 31. Если так расположен правый берег, Что мы можем сойти в следующий лог, То избежим воображаемой охоты». 34. Не успел он высказать свое решенье, Как я увидел, что они летят, распростирая крылья, Не очень вдалеке, готовясь кинуться на нас. 37. Вождь мой тотчас же подхватил меня, Как мать, которую разбудил шум, И она видит вблизи блистающее пламя; 40. И берет сына, и бежит не останавливаясь, Заботясь более о нем, чем о себе, Настолько, что на ней всего только рубашка. 43. И вниз с вершины крепкой скалы Устремился он на спине, по каменистому склону, Который замыкает бок другого лога. 46. Не катится с такою быстротой вода по желобу, Вертящая колеса мельницы, Когда приближается она к лопастям; 49. Как спустился по обрыву мой Учитель, Неся меня на своей груди, Будто своего сына, а не спутника. 52. Едва достигли ноги его ложа Глубокой котловины, демоны появились наверху Над нами: уже нечего было тревожиться, 55. Ибо высший Промысл, возжелавший Сделать их властителями пятого рва, Отнял у них силу выходить оттуда. 58. Внизу встретили мы накрашенных людей, Двигавшихся вокруг довольно медленно, В слезах, с видом усталым и убитым. 61. Они были в рясах с низкими капюшонами, Спущенными на глаза, того покроя, Как делаются у монахов Кельна. 64. Снаружи все они позлащены, так что слепят, Но внутри из свинца, и столь тяжелые, Что Фридриховы показались бы соломенными. 67. О, вечно изнуряющие мантии! Мы повернули еще влево, За ними следуя, внимая горестным стенаниям. 70. Но благодаря грузу эти измученные люди Ступали так медленно, что у нас являлись новые Спутники с каждым движением бедра. 73. И я сказал своему Вождю: «Разыщи Кого-нибудь известного делами, или именем, И продолжая идти, обведи вокруг глазами». 76. И один, уразумевший речь тосканцев, Воскликнул позади нас: «Задержите ноги, Вы, что бежите так сквозь темный воздух. 79. Может быть, ты получишь от меня желаемое». Тогда Вождь обернулся ко мне, сказав: «Подожди, И затем двигайся сообразно его шагу». 82. Я остановился и увидел, что двое лицами выказывают Стремление души быть со мной вместе, Но их задерживала ноша и теснота пути. 85. Догнавши нас, они довольно долго искоса Смотрели на меня, не говоря ни слова; А потом друг к другу обратились и сказали: 88. «Он кажется живым по движению его горла. И если это мертвые, то по какому преимуществу Идут они без тяжкой столы?» 91. Затем сказали мне: «Тосканец, ты, Явившийся в училище печальных лицемеров, Не погнушайся же сказать, кто ты?» 94. И я: «Родился я и возрастал На чудной реке Арно, в великом городе, И у меня то же тело, как и всегда было. 97. Но вы кто, у кого так струится, Как я вижу, вниз по щекам горе? И какая казнь на вас сверкает?» 100. И один ответил мне: «Оранжевые рясы Столь тяжелы благодаря свинцу, что груз их Надламывает коромысла наших плеч. 103. Братьями Веселья были мы, из Болоньи, Я по имени Каталано, он – Лодеринго, И обоих нас избрал твой город, 106. Хотя обычно берут только одного, Чтобы охранять мир; и оказались мы такими, Как и сейчас еще увидишь у Гардинго». 109. Я начал так: «О, братья, ваши злодеяния…» Но больше не сказал, ибо в глаза мне бросился Некто распятый на земле тремя кольями. 112. Увидев меня, весь он искривился, Пыхтя в бороду свою со вздохами. Брат же Каталано, обратив на то внимание, 115. Сказал мне: «Этот проткнутый, на кого смотришь, Дал совет фарисеям, чтобы они Предали одного мучению за весь народ. 118. Поперек дороги обнаженный он лежит, Как видишь; и с необходимостью испытывает, Сколько весит каждый проходящий. 121. Подобным образом казнится его тесть В этом же рву, и другие из совета, Который был для иудеев дурным севом». 124. Тогда я увидал, что Вергилия удивил Вид того, кто был растянут крестообразно, Столь унизительно, в вечном изгнании. 127. Затем он обратил к брату следующие слова: «Скажите нам, если это возможно, Нет ли направо некоего отверстия, 130. Откуда оба мы могли бы выйти, Не принуждая черных ангелов Выводить нас из этой бездны». 133. Тот отвечал: «Ближе, чем ты надеешься, Лежит гряда, отделяющаяся от Большого круга, пересекая все сумрачные долины; 136. Лишь здесь она разрушена и не покрывает лога. Вы можете взобраться по обломкам ее, Лежащим у откоса и выступающим со дна». 139. Вождь постоял немного, склонив голову; И вымолвил: «Плохо нам рассказал Тот, что дерет крючьями грешников». 142. И брат: «Я слыхал некогда в Болонье Довольно о пороках дьявола, и слышал, Что он обманщик и отец лжи». 145. Тогда большими шагами удалился Вождь С несколько измененным в гневе лицом; Я также отошел от этих нагруженных, 148. Направляясь по следам дорогих мне ног.Песнь двадцать четвертая
Круг восьмой; лог седьмой. Воры. – Ванни Фуччи
1. В той части рождающегося года, Когда Солнце укрепляет свои кудри под Водолеем, И уже ночи близятся к половине суток; 4. Когда иней подражает на земле Образу белой своей сестры – снежинки, Но мало длится под его пером холод, – 7. Поселянин, чьи запасы иссякают, Встает и смотрит, и видит, что поля Побелели; он хлопает себя по боку; 10. Возвращается домой и бродит, жалуясь, Как бедняк, не знающий, что ему делать. Затем вновь выходит и обретает надежду, 13. Замечая, что мир изменил свой облик В немногие часы, и берет пастуший посох, И выгоняет скот на пастбище. 16. Подобно этому напугал меня Учитель, Когда я увидал, как омрачился его лоб; И столь же быстро появилось исцеление недуга. 19. Ибо когда мы подошли к разломанному мосту, Вождь обернулся ко мне с той приветливостью, Какую я впервые видел у подножия холма. 22. Он простер руки, после некоторого Внутреннего размышления, сначала оглядев Как следует руину и подхватил меня. 25. И как тот, кто действует и соображает, Причем всегда кажется, что он все предусмотрел, Так и он, подымая меня на вершину 28. Огромного обломка, всматривался в другой утес, И сказал: «Цепляйся за него сверху, Но прежде испытай, выдержит ли он тебя?» 31. Не для одетых в рясы был этот путь, По коему с трудом, Вергилий легче, я с поддержкой, Могли мы взбираться с выступа на выступ. 34. И если бы с этой стороны Косогор не был короче, чем с другой, То не знаю, как Учитель, а я был бы побежден. 37. Но благодаря тому, что злые лога все клонятся К отверстию самого нижнего колодца, Каждая долина расположена так, 40. Что один бок ее выше, другой ниже. Все-таки мы добрались, наконец, до места, Откуда нависает самый верхний камень. 43. Дыхание так было выжато из моих легких, Когда я оказался там, что идти дальше я не мог, А тотчас сел, едва только взобрался. 46. «Теперь следует тебе отогнать лень,– Сказал Учитель, – ибо, восседая на пуху, Славы не получишь, как и укрывшись одеялом. 49. А кто проходит свою жизнь без славы, Такой же след оставляет на земле, Как дым по воздуху или на воде пена! 52. И потому вставай, преодолей усталость Духом побеждающим во всякой битве, Если только он не подавлен тяжким телом. 55. По более длинной лестнице надлежит нам всходить; Недостаточно выйти лишь отсюда. Если ты меня понял, пусть это укрепит тебя». 58. Тогда я поднялся, и сделал вид, что дышу лучше, Чем на самом деле это было, И сказал: «Иди, ибо я бодр и крепок». 61. Мы тронулись далее по вершине утеса, Который был шероховат, стеснен и тяжек, И гораздо более крут, чем прежде. 64. Я шел и говорил, чтобы не казаться слабым; Как вдруг услышал голос из другого рва, Произносивший нечто нечленораздельное. 67. Не знаю, что сказал он, хотя на хребте арки, Я уже находился, здесь перекинутой. Но говоривший, как казалось, был разгневан. 70. Я наклонился вниз; но глаза живые Не могли проникнуть вглубь благодаря тьме. Поэтому я произнес: «Учитель, подойди 73. К другой ограде и сойдем вниз со стены; Ибо, как я слышу отсюда и не понимаю, Так же смотрю вниз, ничего не различая». 76. «Иного ответа, – сказал он, – я не дам, Кроме согласия; ибо просьба разумная Должна сопровождаться молчаливым исполнением». 79. Мы спустились с головы моста Туда, где он соединен с восьмым берегом, И тогда открылся мне весь лог. 82. И я увидел в нем страшный ворох Змей, столь разнообразных видов, Что вспоминанье и сейчас оледеняет мою кровь. 85. Пусть Ливия не хвалится более своими песками, Ибо если хелидр, якулов и фареев Производит она, и ченкров с амфисбенами, 88. То столько ядовитых гадов и таких гнусных, Никогда не являла она со всею Эфиопией, И со страною, что лежит над Красным морем. 91. Посреди этого дикого и горестнейшего скопища Бегали нагие, перепуганные люди, Тщетно ища отверстия или камня гелиотропа. 94. Их руки были сплетены сзади змеями; Они обхватили чресла их хвостами И головами, и спереди свивались узлом. 97. И вот на одного, недалеко от нас, Бросился змей и пронзил его в том месте, Где шея связывается с плечами. 100. Нельзя так быстро написать ни О, ни И, Как весь он вспыхнул и сгорел и, падая, Должен был весь обратиться в пепел. 103. И когда пал на землю в таком разрушении, То пепел вновь собрался, сам собою, И тотчас возвратился в прежнее. 106. Так, утверждают великие мудрецы, Умирает феникс и возрождается, Когда приблизится к пятистам лет. 109. Не травой, не овсом питается он при жизни, Но лишь слезами ладана и аммомом; Нард и мирра его смертные пелены; 112. И как тот, кто падает, не зная отчего, Силою ли демона, повергающего его, Или по иной порче, вяжущей человека; 115. Как он, поднявшись, озирается вокруг, Полный смущения от великой тоски, Которую испытал, и смотрит, вздыхая. 118. Таков был грешник, когда он поднялся. О, сколь сурово правосудие Божие, Разящее подобными ударами отмщения! 121. Вождь спросил его затем, кем был он, И он ответил: «Я не так давно вылился Из Тосканы в эту ужасающую пасть. 124. Скотская жизнь нравилась мне, а не человечья, Как мулу, коим был я, Ванни Фуччи, Скот и Пистойя были достойною меня берлогой». 127. И я Вождю: «Скажи ему, чтобы не трогался, И спроси, что за вина столкнула его вниз; Я знал его за человека кровожадного и гневного». 130. И грешник, который понял, не притворился, Но обратил ко мне дух свой и лицо, И оно окрасилось горестным стыдом. 133. Затем сказал: «Мне тяжелее, что ты застал Меня в беде, где теперь видишь, Чем было, когда я лишился жизни. 136. Не могу отказать в том, о чем спрашиваешь. Я потому брошен сюда вниз, что Украл из Сакристии веши драгоценные 139. И затем ложно показал на другого. Но чтоб не радовался ты этому зрелищу, Если когда-либо выйдешь из темных мест, 142. Обрати уши к моему пророчеству и слушай. Сперва Пистойя худеет, удаливши Черных, Затем Флоренция обновляет людей и правление. 145. Марс воздымает пар над долиною Магры, Который свертывается в темные облака. И в пылкой, яростной буре 148. Разразится он над Кампо Пичена; Там внезапно он разорвет туман, Так что все Белые будут поражены. 151. И я сказал это, чтобы сделать тебе больно».Песнь двадцать пятая
Круг восьмой; лог седьмой. Воры. – Продолжение. – Какус. – Аньель Брунелескн. – Буозо дельи Абати. – Пуччио Шианкато. – Чианфа Донати. – Гверчно Кавальканти
1. Произнеся эти слова, мошенник Поднял руки с кукишами в каждой, Вскричав: «На, Бог, я складываю их тебе». 4. С этой минуты сделались приятны мне змеи, Ибо одна обвилась вкруг его шеи, Как бы говоря: «Не желаю, чтобы ты продолжал». 7. Другая, вокруг рук связывая его, Так затянулась спереди узлом, Что он не мог пошевельнуть ими. 10. Пистойя, о Пистойя! почему же не решишься ты Испепелиться, чтобы не было тебя больше. Ибо в злых делах семя твое все преуспевает! 13. Во всех темных кругах Ада Я не видел духа столь дерзностного к Богу,– Даже того, кто упал со стены в Фивах. 16. Вор убежал, не сказав более ни слова. Я же увидел Кентавра, в полном бешенстве, Явившегося с криком: «Где он, где он, гнусный?» 19. В Маремме нет, я полагаю, подобного Множество ужей, сколько было у него на крупе, До того места, откуда начинался человечий облик. 22. На плечах его, позади затылка, Лежал дракон с простертыми крыльями, Опаляющий всякого, кто ему повстречается. 25. Учитель мой сказал: «Это тот Какус, Что под скалою Авентинского холма Много раз проливал озера крови. 28. Он идет не вместе со своими братьями, Ибо похищение коварно совершил он, Угнав большое стадо, находившееся недалеко. 31. Но его лукавые дела прекратились Под палицею Геркулеса, который, может быть, Ударил его сто раз, а тот не ощутил и десяти». 34. Пока он говорил, Кентавр умчался; И три духа появились ниже нас, Которых мы заметили, я и мой Вождь, 37. Лишь когда они вскричали: «Кто вы?» Благодаря чему остановилась наша повесть, И лишь тогда обратили мы на них внимание. 40. Я их не знал, но произошло так, Как происходит в некоторых случаях, Что одному пришлось назвать другого, 43. Говоря: «Где же остался Чианфа?» Поэтому, чтобы привлечь внимание Вождя, Я положил свой палец на подбородок, к носу. 46. И если ты, читатель, не сразу придашь веру Тому, что я скажу, это не будет удивительно, Ибо и сам я, видевший, едва признаю это. 49. Пока я устремлял на них свой взор, Змей о шести лапах бросился На одного спереди, и весь впился в него. 52. Средними лапами он обвил его живот, А передними ухватил за руки; Затем прокусил одну за другой щеки. 55. Задние лапы он вытянул по его бедрам, И сунул между ними хвост, И распустил его сзади по спине. 58. Никогда плющ не приникает так К дереву, как обвило ужасное Животное вокруг него свои члены. 61. Затем они слились, как будто из расплавленного воску Были; и смешались их цвета, Ни тот, ни этот уж не походил на прежнее. 64. Так движется вперед от жара По бумаге полоса коричневого цвета, И это еще не черное, но и белое в нем угасает. 67. Двое других смотрели на него, и оба Кричали: «О, Аньелло, как ты меняешься! Взгляни, ты уж не одно и не два». 70. Уже из двух голов одна составилась, Когда предстало нам два лица, слившихся В едином облике, где уничтожались оба. 73. Из четырех образовались две руки; Бедра же и ноги, живот и стан Обратились в члены, раньше никогда не виданные. 76. Весь первоначальный вид их был нарушен. Двумя и не двумя казался извращенный Образ, так вот медленно он удалялся. 79. Как ящерица под великим зноем Летнего дня, ища другой изгороди Кажется молнией, когда перебегает дорогу, 82. Такой была кинувшаяся к животам Двух других воспламененная змейка, Синевато-черная, как зерно перца. 85. И ту часть, откуда получаем мы Первое питание[26], пронзила одному из них; Затем упала, растянувшись перед ним. 88. Пронзенный на нее взглянул, но ничего не вымолвил. Напротив, продолжая стоять, зевал, Как будто сон, или озноб им овладели. 91. Он смотрел на змею, она же на него. У одного из раны, у другой из пасти Шел сильный дым, сливаясь в одно целое. 94. Пусть замолчит Лукан, когда он говорит О бедствии Сабелла и Нассидия; И пусть выслушает, что сейчас сорвется с тетивы. 97. Да умолчит Овидий и о Кадме и об Аретузе; Ибо если одного в змея, другую в источник Обращает он в стихах, я не завидую ему; 100. Ибо двух природ никогда одну при другой Не превращал ли так, что обе формы Были б готовы обменяться веществом. 103. Одновременно отвечали они такому правилу, Что змея расщепила хвост надвое, А раненый сдвинул вместе ступни. 106. Ноги сами собой так слились С бедрами, что скоро стало невозможно Различить линию, где они соединились. 109. Раздвоенный хвост принимал форму Того, что пропадало там, и его кожа Становилась мягкой, а у другого жесткой. 112. Я видел, как уходили под мышки руки, И обе лапы зверя, которые были не длинны, Вытягивались так, как укорачивались члены человека. 115. Потом задние ноги, свившиеся вместе, Обратились в член, скрываемый мужчиной, А у несчастного он разделился надвое. 118. В то время как обоих одевает дым В новые цвета и зарождает волосы У одного, другого же лишает их, 121. Один подымается, а другой падает, Не отводя, однако, нечестивых взоров, При которых они меняли свои морды. 124. Тот, кто стоял, сузил голову в висках. И из избытка вещества, собравшегося там. Явились уши, отделившиеся от щек. 127. Что не сошло назад и удержалось, Из того вырос на лице нос, И утолстились губы, сколько нужно. 130. Тот, кто лежал, выпячивает морду вверх, И втягивает уши в голову, Как делает улитка с рожками. 133. И язык, цельный и служивший прежде Ему для речи, расщепляется, а развилина У змеи закрывается и дыма более нет. 136. Душа, обратившаяся в животное, Уползает со свистом по долине, А человек, произнося слова, плюет ей вслед. 139. Затем он повернул к нему новые плечи, И сказал: «Пусть ныне ползет Буозо, Как я некогда на четвереньках по этой тропе». 142. Так, видел я, меняются и изменяются В седьмой заворре[27]; и да извинит меня Новизна предмета, если перо мое заколебалось. 145. И хотя глаза мои были несколько Смущены и душа подавлена, Но не могли убегавшие так скрыться, 148. Чтобы я не увидел ясно Пуччио Шианкато. И это был единственный из трех, Явившихся вначале, кто не превращался. 151. Другой был тот, из-за кого плачешь ты, Гавилла.Песнь двадцать шестая
Круг восьмой; лог восьмой. Коварные советчики. – Улисс и Диомед
1. Возвеселись, Флоренция, ибо ты столь могуча, Что над землей и морем бьешь крылами, А по всему Аду проносится твое имя. 4. Среди воров я нашел пять таких Твоих граждан, что мне стыдно, И это не делает тебе большой чести. 7. Но если предрассветные сны сбываются, Ты испытываешь в недалеком уже времени, Чего страстно желает тебе Прато, а не только другие. 10. И если бы беда пришла, то не была бы преждевременна. Так пусть приходит, если так назначено! Ибо тягостнее это будет мне, когда я стану старше. 13. Мы удалились, и по лестнице Из выступающих камней, где ранее спускались, Взошел мой Вождь, и вывел меня. 16. И когда мы проходили по уединенному пути, Среди обломков, и среди утесов скал, Ногам нельзя было обойтись без рук. 19. Я горевал тогда и теперь вновь горюю, Обращаясь памятью к тому, что видел. И более обуздываю дух, чем, когда-либо, 22. Дабы он не уклонялся от стези добродетели; Так что если благосклонная звезда, или нечто лучшее, Дали мне благо, пусть я не завидую себе. 25. Как поселянин, отдыхающий на взгорье Во время года, когда светило, озаряющее мир Менее скрывает от нас свое лицо. 28. И в час, когда муху заменяет занзара, Видит светляков внизу в долине, Быть может, там, где его виноградники и пашня; 31. Столькими же огнями блистал весь Восьмой лог, как я увидел В минуту, когда мне открылось его дно. 34. И какою тот, кто медведями отомстил за себя, Видел удалявшуюся колесницу Илии, Когда кони уносили ее прямо в небо, 37. А он не мог следовать за нею взором, Увидев лишь, как одно пламя, Подобно облачку вознеслось наверх, 40. Так же вылетало каждое пламя из глотки Рва, и ни одно не обнаруживало похищенного, Но всякое заключало по грешнику. 43. Я стоял на мосту и смотрел, высунувшись, Так, что если бы не держался за глыбу камня, То упал бы вниз и без подталкивания. 46. И Вождь, видя, что я столь внимателен, Сказал: «Внутри огней заключены души: Каждая обвита пламенем, которое ее сжигает». 49. «Учитель, – отвечал я, – выслушанное Еще сильнее убеждает меня; но я уже заметил, Что это так, и уже хотел сказать тебе. 52. Кто в этом пламени, столь раздвоенном Наверху, точно оно восстало над костром, Куда был брошен Этеокл со своим братом?» 55. Он мне ответил: «Там внутри мучаются Улисс и Диомед, и вот вдвоем Устремляются они на камень, как шли на злое. 58. И внутри своего пламени воздыхают О кознях с тем конем, что открыл врата, Откуда вышло славное семя римлян. 61. Там оплакивается хитрость, из-за которой Мертвая Деидамия и теперь горюет об Ахилле. И там несут кару за Палладиум». 64. «Если они могут говорить среди этого Жара, – сказал я, – то, Учитель, очень прошу, И вновь прошу тысячекратной просьбою – 67. Не откажи мне подождать здесь, Пока приблизится сюда рогатое пламя; Взгляни, как от желания я тянусь к нему». 70. И он ответил мне: «Просьба твоя достойна Всяческой похвалы, и потому я принимаю ее: Но постарайся сдерживать свой язык. 73. Предоставь говорить мне, ибо я понимаю, Чего ты хочешь; ведь возможно, что они уклонятся, Будучи греками, от беседы с тобой». 76. Когда пламя приблизилось настолько, Что мой Вождь счел время и место подходящими, Я услышал, как он произнес следующее: 79. «О вы, находящиеся вдвоем в одном огне, Если я заслужил кое-что пред вами в жизни, Если я заслужил пред вами много или мало, 82 Когда писал в мире возвышенные стихи, То остановитесь, и один из вас пусть скажет, Где, сгубленный самим собою, он погиб». 85. Больший рог пламени Стал колебаться с бормотанием, Как если бы его утомлял ветер. 88. Затем, клонясь вершиною с боку на бок, Будто это был говорящий язык, Он подал голос и сказал: «Когда 91. Я удалился от Цирцеи, задержавшей Меня более года недалеко от Гаэты, Раньше, чем Эней назвал ее подобным образом, 94. Ни нежность к сыну и ни жалость К старцу отцу, ни любовь мужа, Которая должна была радовать Пенелопу, 97. Ничто не могло победить во мне того пыла, Который увлекал меня к исследованию мира, Пороков человеческих и доблестей. 100. И я отправился в широкое, открытое море, Всего на одном судне, с теми немногими Товарищами, которые не покинули меня. 103. Тот берег и этот видел я до Испании, И до Марокко, и остров Сардинию, И еще иные, омываемые этим морем. 106. Я и товарищи мои, мы были стары, дряхлы, Когда добрались до того узкого прохода, Где Геркулес поставил указующие знаки, 109. Чтобы человек не устремлялся далее. Справа я оставил за собой Севилью, Слева осталась позади Сеутта. 112. «О, братья, – сказал я, – в тысячах Опасностей достигшие, наконец, Запада, В том недолгом бодрствовании 115. Ваших чувств, что осталось вам, Не пожелайте отказаться от исследования, Плывя за Солнцем, мира без людей. 118. Подумайте о своем происхождении. Не были вы созданы для грубой жизни, Но для того, чтобы идти к доблести и знанию». 121. Своих товарищей так я воодушевил Этой небольшой речью к дальнейшему пути, Что едва потом мог их удерживать. 124. И поставив корму нашу на восток, Мы обратили весла в крылья для безумного полета, Все время забирая влево. 127. Уже все звезды Южного полюса Видел я ночами, наш же так склонился, Что не подымался над поверхностью моря. 130. Пять раз возгорался и столько же раз угасал свет На нижней стороне луны, С той поры как мы вошли в открытое море, 133. Когда предстала нам гора, темневшая Из отдаления и показалась она столь высокой, Что подобной никогда я и не видел. 136. Мы обрадовались, но скоро нам пришлось плакать, Ибо с новой земли поднялся вихрь, Потрясший носовую часть судна. 139. Трижды он кружил корабль всеми водами, В четвертый раз поднял корму вверх, А нос ринулся вглубь, как угодно было Другому[28], 142. Доколе море не замкнулося над нами.Песнь двадцать седьмая
Круг восьмой; лог восьмой. Коварные советники, продолжение. – Гвидо да Монтефельтро
1. Уже вытянулось пламя вверх и успокоилось, Окончив свою речь, и удалилось от нас, С соизволения сладостного Поэта, 4. Когда другое, следовавшее за ним, Заставило обратить взор на его вершину, Благодаря неясным звукам, несшимся оттуда. 7. Как сицилийский бык, впервые замычавший Стонами того (и это было справедливо), Кто обделывал его своим напилком, 10. Мычал голосом заключенного страдальца, Так что, хоть и был из меди, Но казалось, что пронизан скорбью; 13. Так, не имея с самого начала ни выхода, Ни отверстия в огне, в язык огня Превращались те горестные слова. 16. Но когда они направили свой путь Вверх к острию, давая ему то колебанье, Которым наделял их язык при выхождении, 19. Мы услышали слова: «О ты, к кому я обращаю Речь и кто говорил только что по-ломбардски, Сказав: „Теперь уходи, более тебя не беспокою!“ 22. Если я, может быть, несколько и запоздал, Не откажи остаться и поговорить со мной. Ты видишь, сам я не отказываюсь, хоть и пылаю. 25. Если только что в этот слепой мир Свалился ты из той сладостной страны Латинян, откуда я несу всю свою вину, 28. Скажи мне, мир в Романье, или же война; Ибо я родом с гор, что меж Урбино И вершиною, откуда истекает Тибр». 31. Я устремлял еще внимание и наклонялся вниз, Когда мой Вождь тронул меня сбоку, Произнеся: «Говори ты, это латинец». 34. И я, у кого был уже готов ответ, Не замедляясь начал свою речь: «О дух, что укрываешься внизу, 37. В твоей Романье всегда есть и всегда были Войны в сердцах ее тиранов, Но войны явной я не оставлял там. 40. Такая же Равенна, как и много лет назад; Орел Поленты свил в ней свое гнездо, И покрывает Червию своими крыльями. 43. Страна, которая вынесла долгое испытание, И воздвигла окровавленную груду французов, Вновь находится под зелеными когтями. 46. И старый Пес, и молодой из Верруккио, Столь дурно обошедшиеся с Монтаньей, Там, где и обычно, обращают зубы в копья[29]. 49. Городами у Ламоне и Сантерно Управляет Львенок Белого гнезда, Переменяющий партии с лета на зиму. 52. А город, сбоку омываемый Савио, Как лежит между равниной и горами, Так и живет меж тиранией и свободой. 55. Теперь прошу тебя сказать, кто ты: Не будь упрямее, нежели были другие, И да предстанет твое имя миру». 58. Когда огонь пророкотал некоторое время На свой лад, острая верхушка его поколебалась Из стороны в сторону и дохнула следующим: 61. «Если бы я полагал, что отвечаю Тому, кто некогда вернется в мир, Пламя это осталось бы недвижным. 64. Но так как никогда из этой бездны Не возвращался ни один живой, если я слышал правду, То, не боясь позора, отвечаю я тебе. 67. Я был воином, а затем францисканцем. Полагая, что, опоясавшись, получу отпущение: И вполне осуществилась бы моя надежда, 70. Если б не первосвященник, будь он проклят, Введший меня в прежние грехи; А как и почему, хочу, чтобы ты знал. 73. Когда я был еще обликом из костей и плоти, Данных мне матерью, мои дела Были не львиные, но лисьи. 76. Все хитрости и потаенные пути Знал я; и так владел этим искусством, Что до краев земли шла обо мне слава. 70. Увидев же, что я достиг той части Своих годов, когда каждому надлежит Свертывать паруса и убирать снасти, 82. Тогда, что раньше было мило, я возненавидел; Раскаявшись и исповедавшись, я обратился к Богу. И, о несчастный! мог бы быть спасенным. 85. Князь наших новых фарисеев Вел тогда войну под Латераном, Не с сарацинами, и не с иудеями; 88. Ибо все его враги были христиане, И никто из них не завоевывал Акры, И не торговал в землях султана; 91. Ни высшего своего служения, ни священных установлении Не уважил он в себе, ни на мне этого шнура, Что обычно иссушал опоясанных им, 94. Но как Константин просил Сильвестра В недрах Соракто исцелить его проказу, Так просил меня этот, как врача, 97. Исцелить его от лихорадки гордости: Он спросил моего совета, я же молчал, Ибо слова его показались мне нетрезвыми. 100. Тогда сказал он: «Не смущайся, Отныне разрешаю тебя, ты же научи, Как мне сравнять с землей Палестрину. 103. Небо я могу и запирать и отпирать, Как тебе ведомо; для этого у меня два ключа, Коими мой предшественник не дорожил». 106. Тогда серьезные доводы подвигнули меня Так, что молчать счел я за худшее, И я сказал: «Отец, раз ты смываешь с меня 109. Грех, в который теперь должен впасть я, Знай, что большое обещание с малым исполнением Принесет тебе победу на высоком троне». 112. Франциск явился потом за мною, Когда я умер, но один из черных херувимов Сказал ему: «Не уноси его, не будь несправедлив. 115. Ему должно сойти вниз с моими слугами, Ибо он дал мошеннический совет, После чего я уж не выпускал его волос. 118. Ведь невозможно отпустить тому, кто не покаялся; А каяться и желать греха нельзя Из-за противоречия, не дозволяющего это». 121. О я несчастный! Как я вздрогнул, Когда он взял меня, сказав: «Пожалуй, Ты и не думал, что я так логичен». 124. Миносу он меня снес, и тот обвил Восьмикратно хвост вокруг жесткой спины, И от великой злобы укусив его, 127. Сказал: «Он из казнимых укрывающего огня. Поэтому я там, где меня видишь, погибаю, И в такой одежде шествуя, горюю». 130. Когда он так закончил свою речь, Пламя с жалобою удалилось, Свивая в колебании свой острый рог. 133. Мы прошли далее, я и мой Вождь, По выступу вплоть до другой арки, Покрывающей тот ров, где платят дань 136. Все, кто внося раздор, приобретает бремя.Песнь двадцать восьмая
Круг восьмой; лог девятый. Сеятели гражданских и религиозных раздоров. – Магомет и Али. – Фра Дольчино. – Пиер да Медичина. – Курион. – Моска. – Бертран де Бори
1. Кто смог бы, пусть и словами нерифмованными, Сказать достаточно о той крови и о тех ранах, Которые я видел, даже повествуя не однажды? 4. Всякий язык, поистине, оказался бы беден Для нашей речи и для нашего ума, Которым не под силу удержать столько. 7. Если бы вновь соединились все те люди, Что когда-то на счастливых землях Апулии пострадали своею кровью 10. Благодаря троянцам и продолжительной войне, Принесшей столь обильную добычу кольцами, Как пишет Ливий, никогда не ошибающийся, 13. С теми, что испытали тяжкие удары, Оказав сопротивление Роберту Гискару, И другими, чьи скелеты и теперь еще находят 16. Близ Чеперано, где обманщиками оказались Все жители Апулии, и у Тальякоццо, Где без оружия победил старый Алар; 19. И сколько бы пронзенных членов и обрубков Ни показывали они, это было бы ничто Рядом с мерзостью девятого лога. 22. Никогда бочка с выломанными частями дна, Не продырявливается так, как видел я одного, Разрубленного от подбородка до заднего прохода. 25. Между ног висели у него внутренности, Виднелись потроха и тот мешок, Что обращает в испражнения проглоченное. 28. В то время как я воззрился на него, Он посмотрел на меня и разворотил руками грудь, Сказав: «Взгляни, как сам я рву себя. 31. Взгляни, как изувечен Магомет: Передо мною с плачем шествует Али, Чье лицо разрублено от подбородка до хохла. 34. И все другие, кого видишь здесь, Сеятели смут и отступничеств Некогда жили и однако так рассечены. 37. Там позади есть дьявол, что кромсает нас Весьма жестоко и под удар своего меча Подводит каждого из этой кучи, 40. Когда мы замыкаем круг скорбного пути; Ибо раны наши закрываются Прежде чем подходим мы к нему. 43. Но кто ты, разнюхивающий там нечто с высоты утеса, Может быть, чтобы оттянуть минуту кары, Назначенной тебе за то, в чем обвиняешься». 46. «Не смертью он настигнут, и не вина ведет его,– Ответил мой Учитель, – на мучения; Но, чтобы доставить ему полный опыт, 49. Мне, умершему, надлежит вести его В глубину Ада, из круга в круг, И это верно, как я говорю тебе». 52. Более сотни было тех, кто услыхав это, Остановились среди рва, чтоб поглядеть на меня, От изумления забывая муку. 55. «Скажи же теперь брату Дольчино, Ты, что скоро, может быть, увидишь солнце. Если он не хочет вскоре последовать за мною, 58. Пусть запасается припасами, дабы подавленный снегами, Не доставил он наваррцам той победы, Которая иначе нелегко далась бы им». 61. Поднявши ногу, чтобы дальше двинуться, Сказал мне Магомет эти слова; И затем, трогаясь, поставил ее на землю. 64. Другой, чье горло было проткнуто И нос до самых бровей отрублен, И у кого было всего одно ухо, 67. Оставшись посмотреть, в изумлении, вместе С другими, раньше других раскрыл глотку, Которая снаружи была вся в крови. 70. И сказал: «О ты, кого не осуждает вина И кого я видел уже наверху в земле латинской, Если чрезмерное подобие не обманывает меня, 73. Вспомни о Пьере да Медичина, Если когда-либо вернешься в милую равнину, Что от Верчелло склоняется к Маркабо. 76. И дай знать двоим достойнейшим из Фано, Мессиру Гвидо, также и Анджиолелло, Что если ясновидение здесь не обманывает, 79. То они будут сброшены со своего судна Благодаря предательству коварного тирана И утоплены вблизи Каттолики. 82. От самого острова Кипра до Майорки Не видывал такого преступления Нептун Ни средь пиратов, ни средь арголидцев. 85. Предатель, что одним лишь глазом видит, И владеет той землей, которую находящийся со мной Желал бы никогда не видеть, 88. Пригласит их для переговоров с собой; А затем так сделает, что о ветре Фокары Не станут они ни молиться, ни давать обетов». 91. И я ему: «Покажи же мне и объясни, Если желаешь, чтобы я доставил в мир весть о тебе, Кто этот человек горького взгляда». 94. Тогда он положил руку на челюсть Одного своего спутника и раскрыл ему рот Вскричав: «Вот он, и он не говорит. 97. Изгнанный, он потопил сомненья Цезаря, доказывая, что готовый Всегда несет ущерб от ожидания». 100. О сколь мне показался устрашенным Со своим рассеченным языком в горле Курион, некогда столь смелый в речи! 103. И один, у кого были отрублены обе руки, Подняв свои култышки в темном воздухе, Так, что кровь запачкала ему лицо, 106. Вскричал: «Не забудь также и о Моске, Ибо я сказал, несчастный! – Сделанное да закончится – И это было семенем зла для тосканцев». 109. А я прибавил: «И гибелью для твоего рода». Почему он, приобщая горесть к горести, Отошел, как человек в печали и безумии. 112. Я же продолжал рассматривать толпу И увидал нечто, о чем побоялся бы Без доказательства произнести слово, 11S. Если бы меня не поддерживала совесть, Добрая подруга, что дает свободу человеку Под броней сознания его чистоты. 118. Действительно, я видел, и доселе кажется, что вижу Человека, шедшего без головы, как Шествовали и другие в скорбном стаде. 121. И отрубленную голову он держал за волосы, Свесивши ее с руки, подобно лампе, И она на нас взглянула и сказала: «Горе!» 124. Самого себя сделал он себе светильником, И было их двое в одном и один в двоих. Как это может быть, то знает Правящий. 127. Когда он был как раз у основания моста, То высоко поднял руку держа голову, Чтобы приблизить к нам ее слова 130. Такие: «Погляди на тягостную кару, Ты, что дыша проходишь, созерцая мертвых; Взгляни, увидишь ли другую, столь великую. 133. И дабы ты доставил обо мне известие, Знай, я Бертран де Борн, тот, что Молодому королю дал дурные наставленья. 136. Я обратил отца и сына во врагов. Ахитофель не сделал большого с Авессаломом И Давидом, злостно подстрекая их. 139. Так как я разделил столь связанных людей, То и свой мозг, увы! несу отдельно От его истока, заключенного в этом обрубке. 142. Так исполняется на мне закон возмездия».Песнь двадцать девятая
Круг восьмой; лог девятый. Сеятели смут. Продолжение. – Джери дель Белло. Круг восьмой; лог десятый. Подделыватели всех родов. – Гриффолино д'Ареццо и Капоккио
1. Обилие людей и всевозможных ран Столь опьянили мои глаза, Что они готовы были заплакать. 4. Но Вергилий мне сказал: «Куда ты смотришь? Почему взор твой устремляется Вниз к теням печальным, изуродованным? 7. Ты не делал этого в других логах. Подумай, – если ты намерен сосчитать их, – Что двадцать две тысячи вмещает их долина 10. И уже луна под нашими ногами. Немного еще времени нам предоставлено, А надлежит увидеть то, чего ты не видал еще». 13. «Если б ты обратил внимание, – ответил я тотчас, – На причину, заставляющую меня глядеть, Быть может, ты дозволил бы мне замедлиться». 16. Между тем Вождь удалялся, и я уже Следовал за ним, продолжая свой ответ И прибавляя: «В глубине той ямы, 19. Куда я вперял так свои взоры, Кажется, родственный мне по крови дух оплакивает Вину, цена которой столь там высока». 22. Тогда сказал Учитель: «Да не смягчается Твоя мысль при виде его; Займись другим, а тот пусть там останется, 25. Ибо я видел, как у подножья маленького моста Он показывал на тебя и грозил пальцем, И я слышал – называли его Джери дель Белло. 28. Ты был тогда так поглощен Тем, кто владел некогда Отфором, Что не смотрел туда; он же удалился». 31. «О Вождь мой, та насильственная смерть, Которая еще не отомщена, – сказал я, – Никем из тех, кто разделял бесчестье, 34. Приводит его в гнев; поэтому, я думаю, Он и ушел, не поговорив со мною, Чем лишь увеличил мое уважение к нему». 37. Так мы беседовали до того первого места, Откуда со скалы открывалась бы вся до дна Другая долина, если бы более было свету. 40. Когда мы оказались над последнею обителью Злых логов, так что братия их Могла предстать перед нашим взором, 43. Разные стенания пронзили меня стрелами, Коих железными остриями была жалость; Тогда я заткнул уши своими руками. 46. Какие скорби появились бы, если бы из больниц Вальдикианы, между июлем и сентябрем, И из Мареммы и Сардинии соединились 49. Все болезни, вместе, в одном рве, Так же и здесь происходило; и такое шло зловоние, Как обычно возникает от гниющих членов. 52. Мы спустились на последний берег С длинной гряды, держась все влево. Тогда проник мой взгляд более живо 55. Вниз в глубину, где слуга Высшего Повелителя, безошибочное Правосудие, Казнит подделывателей, здесь ведя счет им. 58. Не думаю, чтобы большую печаль Являл народ эгинский, весь охваченный болезнью, Когда воздух был столь напоен заразой, 61. Что животные, до ничтожнейшего червя, Все погибли, а затем древнее людское племя, Как выдают за достоверное поэты, 64. Восстановлено было из семени муравьев, Такова была и эта темная долина, Где стенали души, сложенные в копны. 67. Тот лежал на брюхе, этот на плечах У другого, а иной на четвереньках Передвигался по горестной тропе. 70. Шаг за шагом шли мы в молчании, Всматриваясь и прислушиваясь к больным, Которые не могли поднять тел своих. 73. Я увидел двух, сидевших, прислонясь друг к другу, Как прислоняют для нагрева сковороду к сковороде, И оба с головы до ног были испещрены струпьями. 76. Я никогда не видел, чтобы так чистил скребницею Коня конюший, которого ожидает господин, Или который бодрствует чрез силу[30]; 79. Как поминутно направляли они уязвления Ногтей на самих себя, в великом бешенстве Чесотки, от которой нет иной помощи. 82. И так отделяли ногти их коросту, Как нож чешуи леща Или другой рыбы, у которой они шире. 85. «О ты, что пальцами шелушишь себя,– Обратился Вождь мой к одному из них,– И по временам в клещи обращаешь их, 88. Скажи, есть ли какой-либо латинец среди тех, Что здесь, и да хватит тебе ногтей На целую вечность для такой работы». 91. «Латинцы мы, кого ты видишь столь стерзанными, Оба латинцы, – отвечал один, в слезах,– А ты кто, о нас спрашивающий?» 94. И Вождь сказал: «Я некто, направляющийся С этим живым вниз, с обрыва на обрыв, И я намерен показать ему весь Ад». 97. Тогда рушилась их взаимная поддержка, И, трепеща, оба обернулись ко мне Вместе с другими, услышавшими отраженно. 100. Добрый Учитель обратился ко мне Со словами: «Говори им, что желаешь». И я начал, пользуясь его дозволением: 103. «Да не излетит память о вас Из человеческих душ в первом мире, Но да живет она под многими солнцами! 106. Скажите мне, кто вы, и какого рода. Мерзкая и утомительная ваша кара Да не пугает вас открыться мне». 109. «Я из Ареццо, – отвечал один,– И Альберто из Сиенны направил меня на костер, Но не то, из-за чего я умер, привело меня сюда. 112. Верно, что я сказал ему однажды в шутку: „Я могу подняться в воздух и летать“; Он же, любопытный и не очень умный, 115. Захотел, чтобы я показал ему это искусство и лишь За то, что я не сделал его Дедалом, он сделал Так, что меня сжег считавший его сыном. 118. Но в последний лог из десяти За ту алхимию, которою я занимался в мире, Осудил меня Минос, коему не дано ошибаться». 121. И я сказал Поэту: «Было ли когда-нибудь Племя, столь суетное, как сиеннцы? Ведь и французы уступают в этом им». 124. Тогда другой прокаженный, слышавший меня, Ответил на мои слова: «Исключи из них Стрикку, Что умел тратить скромно, 127. И Никколо, что изобрел великолепную Приправу из гвоздики, сперва В том же огороде, где возрастает это семя; 130. И исключи ту компанию, с которою промотал Каччиа д'Ашиано виноградники и леса, И Аббальято проявил свое благоразумие. 133. Но чтобы ты знал, кто так с тобой согласен Относительно сиеннцев, заостри взор на меня, Дабы лицо мое достаточно тебе ответило; 136. Увидишь, что я тень Капоккио, Подделывавшего металлы с помощью алхимии; И ты должен вспомнить, если глаз не изменяет мне, 139. Что от природы я был хорошей обезьяной».Песнь тридцатая
Круг восьмой; лог десятый. Подделыватели всех родов. Мирра. – Джианнн Скикки. – Маэстро Адамо. – Синон из Трои
1. Во времена, когда Юнона гневалась Из-за Семелы на весь род фиванский, Показав это не однажды и не дважды, 4. Атамас превратился в такого безумца, Что увидев свою жену с двумя сыновьями, Когда она шла, держа их на руках, 7. Вскричал: «Раскинем сети, вот я изловлю Эту проходящую со львятами львицу!» И, распростерши безжалостно свои когти, 10. Схватил одного, по имени Марка, И взмахнув ударил его о камень; А мать кинулась в море с другою ношей. 13. И когда Фортуна обратила в прах Высокомерие троянцев, на все дерзавшее, Так что вместе с царством их погиб и царь, 16. Гекуба, скорбная, несчастная, плененная, Увидев бездыханную Поликсену, И своего Полидора на берегу 19. Моря, так предалась горю, Что в помешательстве залаяла по-собачьи, Насколько горе помутило ее разум. 22. Но ни в Фивах бешенство, ни в Трое Не являлось никогда в столь диком виде, Чтобы мучить не только людей, но и животных, 25. Как видел я у двух бледных и нагих теней, Которые бегали, кусаясь, наподобие Свиней, выпущенных из свинюшника. 28. Одна из них бросилась на Капоккио и впилась Ему в загривок, так что, таща, Заставляла брюхо его чесаться о каменья. 31. И аретинец, продолжавший трепетать, Сказал мне: «Этот сумасшедший – Джианни Скикки, И он носится в ярости, отделывая так других». 34. «О, – сказал я ему, – если та, другая тень не вонзит тебе Зубов в спину, то сделай одолжение, Скажи, пока она не удалилась, как зовут ее». 37. И он мне: «Этот древняя душа Преступной Мирры, которая сделалась Подругой, наперекор праведной любви, отцу. 40. Она явилась к нему, чтобы согрешить Подменив образ свой другим, Подобно тому, удаляющемуся, что дерзнул, 43. Дабы приобрести красу конюшни, Принять облик Буозо Донати, Сделав завещание, и дав ему законный вид». 46. И когда прошли двое яростных, На кого я устремлял взор, Я обратил его на других отверженных. 49. И увидел одного, созданного по образу лютни, Если б только у него отрезать пах, От части, где у человека раздвоение. 52. Тяжкая водянка, столь искажающая Все тело жидкостью, дурно обращающейся, Что лицо не отвечает больше брюху. 55. Заставила его идти с раскрытыми губами, Как у чахоточного, что от жажды Одну оттягивает вниз, другую вверх. 58. «О вы, без всякой кары находящиеся (И я не знаю, почему), в мире горестном,– Сказал он нам, – взгляните и всмотритесь 61. В бедствия маэстро Адамо. При жизни у меня было всего довольно, А теперь, увы! жажду глотка воды. 64. Те ручейки, что с зеленеющих холмов Казентина сбегают вниз к Арно, Образуя мягкие, прохладные каналы, 67. Всегда стоят передо мной, и не напрасно Ибо их образ иссушает меня больше, Чем болезнь, от которой тает мое лицо. 70. Суровое правосудие, расправляющееся со мной, Пользуется местом, где я прегрешал, Чтобы вздохи мои сделать чаще. 73. Место это – Ромена, где я подделывал Сплав с отпечатками Крестителя, Благодаря чему оставил на земле обугленный труп 76. Но если б я увидел здесь горестную душу Гвидо или Алессандро, или их брата, То это зрелище не отдал бы за источник Фонте Бранда. 79. Один из них уже здесь, если озлобленные Тени, что проходят близ меня, говорят правду. Но что мне до того, раз тело мое сковано? 82. Если бы я был еще столь подвижен, Что за сто лет мог бы продвинуться на палец, Я уже давно бросился бы в путь, 85. Ища его среди этих безобразных людей, Хотя скопище их и растянулось на одиннадцать миль, А в ширину не менее полумили. 88. Из-за них я нахожусь в такой семейке. Они навели меня на мысль чеканить флорины, В которых было три карата примеси». 91. И я ему: «Кто эти двое бедняков, Что дымятся как зимою мокрая рука, И лежат, припав друг к другу, справа от тебя?» 94. «Я их застал здесь, и они не шевельнулись,– Отвечал он, – с тех пор как я вылился в эту плошку; И я не думаю, чтобы во веки они двинулись. 97. Одна – обманщица, обвинившая Иосифа; Другой – обманщик Синон, грек из Трои; От знойной лихорадки испускают они такой смрад». 100. Тогда один из них, впавший в раздражение Потому, может быть, что о нем дурно отозвались, Ударил его кулаком по вздутому пузу. 103. Оно же зазвучало наподобие барабана; И маэстро Адамо ударил его по лицу Своей рукой, оказавшейся не менее тяжелой, 106. Сказав ему: «Хотя я и не могу Двинуться, благодаря тяжести моего тела, Но у меня есть рука, для такого дела пригодная». 109. А тот ответил: «Когда ты направлялся На костер, она не была у тебя столь быстра, Но была проворнее, когда чеканила фальшивое». 112. И распухший: «Правду ты сказал об этом; Но свидетелем столь же правдивым не был ты, Когда в Трое тебя спрашивали о правде». 115. «Пусть я подделывал слова, ты же подделывал монету, – Сказал Синон, – и я здесь за один проступок, А ты за большее число, чем иной демон». 118. «Вспомни, вероломный, о коне,– Ответил тот, у кого было вздуто пузо,– И да казнит тебя, что о тебе знает весь свет». 121. «А тебя пусть казнит жажда, – сказал Грек, – От которой трескается язык, и гнилая вода, Обращающая твое брюхо в ограду для глаз». 124. Тогда монетчик: «Рот твой разверзается Как всегда, чтобы говорить дурное; Ибо если я жажду, и влага вспучивает меня, 127. То у тебя жар и головная боль, И чтобы лизать зеркало Нарцисса, Ты не нуждался бы в долгих приглашениях». 130. Я выслушивал их с полным вниманием, Когда Учитель сказал мне: «Ну-ка, посмотри, Еще немного и я с тобой совсем поссорюсь». 133. Услыхав, что он говорит со мною гневно, Я обернулся к нему в таком стыде, Что и теперь все еще чувствую его. 136. И как тот, кто во сне видит бедственное И во сне желает продолжения сна, Жаждая, чтобы то, что происходит, оказалось не бывшим; 139. Так было и со мною, и я не мог говорить, Ибо желая просить о прощении, я уже просил его, Однако, сам не думая об этом. 142. «Большая вина меньшим омывается стыдом,– Сказал Учитель, – чем была твоя; Поэтому облегчи себя от всяческой печали: 145. И не забывай, что я всегда с тобою рядом, Если вновь случится, что судьба толкнет тебя Туда, где люди ссорятся подобным образом. 148. Ибо желанье слушать их есть низкое желанье».Песнь тридцать первая
Колодезь гигантов. – Немврод, Эфиальт и Антей
1. Язык, вначале уязвивший меня Так, что покраснели обе мои щеки, Предложил потом и врачевание. 4. Так, слышал я, обычно приносило Копте Ахилла, принадлежащее и его отцу, Сначала горестный дар, а затем добрый. 7. Мы повернулись спиной к жалобной долине, Пересекая, в полном молчании, Скалы, опоясывающие ее кругом. 10. Здесь не было ни дня, ни ночи, Так что мой взор не проникал вдаль, Но я услышал звук столь сильного рога, 13. Что он заставил бы охрипнуть любой гром. И, следуя по направлению его пути, Я обратил свои глаза к одном месту. 16. После горестного поражения, когда Карл Великий потерял священную дружину, Не протрубил Роланд столь яростно. 19. Недолго устремлял я туда взгляды, И вот представилось мне множество высоких башен. Тогда я вымолвил: «Учитель, что это за город?» 22. И он мне: «Так как ты проникаешь взором В темноту слишком издали, То и выходит, что воображение тебя морочит. 25. Ты увидишь ясно, когда приблизишься, Как обманываются издалека наши чувства. Однако, несколько поторопись и сам». 28. Потом он ласково взял меня за руку, И сказал: «Прежде чем мы подойдем ближе, Дабы все казалось тебе менее странным, 31. Знай, что это не башни, а гиганты, И они стоят в колодце, по краям, Погруженные до самого пупа». 34. Как мало рассеивается туман, Взгляд мало-помалу различает То, что скрывал пар, в воздухе скопившийся: 37. Так я буравил темный и густой воздух, Все более и больше приближаясь к краю; И уходило от меня заблуждение, но вырастал страх, 40. Ибо как на кругообразных стенах Венчается Монтереджионе кольцом башен, Так на бреге, окаймляющем колодезь, 43. Башнями воздымались, на половину своих тел Страшные гиганты, которым все еще грозит С неба Юпитер, разражаясь громом. 46. И я уж различал у одного из них лицо, Плечи и грудь, и большую часть живота, И вытянутые вниз по бокам руки. 49. Поистине, природа сделала довольно правильно, Что перестала созидать такие чудища, Лишив Марса подобных исполнителей. 52. И если не раскаивается она в слонах, Или в китах, то, присмотревшись тщательней, Увидишь в этом ее справедливость и благоразумие. 55. Ибо там, где средства разума Соединяются со злой волей и могуществом, Всяческой уже защиты лишены люди. 58. Его лицо показалось мне таким длинным и толстым, Как кедровая шишка у Сан-Пиетро в Риме; И в этом же соотношении было все остальное тело. 61. Так что берег, опоясавший передником Нижнюю половину их, оставлял столько Снаружи, что тщетно трое фрисландцев 64. Похвалялись бы достать до его волос Ибо я видел, что тридцать больших пядей Уложатся вниз от места, где застегивается плащ. 67. «Rafel mai amech zabi almi»,– Издала крик эта надменная глотка, Которой не подобали бы более нежные псалмы. 70. И Вождь мой обратился к нему: «Глупый дух, Возьми свой рог и изливайся в нем, Если злоба, или другая страсть тобой владеют. 73. Поищи у себя на шее и найдешь ремень, Поддерживающий его, о темная душа, И взгляни, как опоясывает он твою огромную грудь» 76. Затем сказал мне: «Сам он обвиняет себя, Это Немврод, благодаря злому замыслу которого В мире нет ни одного общего языка. 79. Пусть он стоит, не будем понапрасну говорить, Ибо таков же для него всякий язык, Как для другого его собственный, никому неведомый». 82. И вот, мы совершили более длинный путь, Повернув налево; и на расстоянии выстрела из арбалета Нашли другого, еще страшнейшего и большего. 85. Кто был тот властелин, что обвязал его, Я сказать не могу; но у него были связаны – Левая рука впереди, а правая позади – 88. Цепью, которая обвивала его От шеи вниз, так что на видной части тела Обертывалась она до пятого раза. 91. «Этот гордец пожелал меряться Своею силой со всевышним Юпитером,– Сказал мой Вождь, – и вот его награда. 94. Эфиальт имя его; и он много потрудился, Когда гиганты привели в ужас богов: Руки, которыми он действовал, навсегда недвижны». 97. И я ему: «Если возможно, я желал бы, Чтобы глаза мои познали Облик безмерного Бриарея». 100. И он ответил мне: «Ты увидишь Антея, Неподалеку отсюда; он говорит, и не в цепях, И он перенесет нас в самую глубину греха. 103. Тот, кого ты хочешь увидать, гораздо дальше; Он скован и подобен этому, Но еще более свиреп по виду». 106. Никогда не было столь яростного землетрясения, Поколебавшего башню с такою силою, Как заколотился в оковах Эфиальт. 109. Тогда более чем когда-либо испугался я смерти И для нее довольно было бы одного этого страха, Если бы я не видел его цепей. 112. Тогда вновь двинулись мы вперед, И подошли к Антею, который, не считая Головы, выступал наружу на добрых пять алл. 115. «О ты, что в благословенной долине, Сделавшей Сципиона наследником славы После поражения Аннибала с его войском 118. Взял тысячу львов в добычу – Если бы ты участвовал в великой битве Твоих собратьев, то, как можно думать, 121. Одолели бы сыны земли. Спусти нас вниз, если соблаговолишь так сделать, Туда, где Коцит в холоде леденеет. 124. Не заставляй нас обращаться к Титию или Тифону;, Мой спутник может предложить то, что здесь надобно. А потому склонись и не выказывай неудовольствия. 127. Он может еще дать тебе в мире славу, Ибо он жив, и ему предстоит жизнь долгая, Если до срока Благодать не призовет его». – 130. Так говорил Учитель; и гигант тотчас Распростер руки, чьи мощные объятия знал Геркулес, и поднял моего Вождя. 133. Вергилий же, когда почувствовал, что его подняли, Сказал мне: «Подойди, чтобы я взял тебя». Затем так сделал, что мы стали связкой. 136. Какою кажется Каризенда тому, кто стоит Под ее склоном, когда облако проходит Над нею так, что она валится в другую сторону, 139. Таким представился и мне, смотревшему, Антей. Я увидел, что он склоняется, и была минута, Когда я предпочел бы находиться на другом пути. 142. Но беззвучно в бездну, пожирающую Люцифера с Иудой, положил он нас; И не остался долго в этом наклонении. 145. Но как мачта корабля поднялся.Песнь тридцать вторая
Круг девятый. Предатели. Первое отделение. Каина. – Граф ди Мангона. – Камиччнон де Пацци. – Второе отделение. Антенора. – Бокка дельи Аббата. – Буозо ди Дуэра. – Уголиио
1. Если бы я обладал стихом суровым и бичующим, Как приличествует для печального отверстия, Над которым громоздятся все остальные скалы, 4. То я выжал бы сок своей мысли Более полно; но так как у меня нет его, То не без страха принимаюсь говорить, 7. Ибо нешуточное это дело – Описать средоточие всего мира И не по силам языку, лепечущему папа, мама. 10. Но да помогут лире моей те Жены, Что помогали Амфиону строить Фивы, Дабы слово мое не отошло от дела. 13. О превыше всех проклятое племя, Обитающее в месте, о котором тяжко говорить, Лучше б тебе быть в мире стадом коз или овец! 16. Когда мы оказались в глубине темного колодца, Под ногами гиганта, гораздо ниже их, И я все еще глядел на высокую стену, 19. Вдруг раздался голос: «Осторожнее иди; Становись так, чтобы не наступить подошвой На головы бедных истомленных братьев». 22. Я обернулся, и увидел пред собой И под ногами озеро, морозом обращенное В стекло и не похожее на воду. 25. Не создает зимой в течении своем столь Толстого покрова ни Дунай в Австрии, Ни Танаис под холодным небом, 28. Как было здесь; ибо если бы Таберник Свалился сюда сверху, или Пьетрапана, Не раздался бы и на поверхности треск. 31. И как сидит, квакая, лягушка, Высунув из воды морду, в то время года, Когда часто видит во сне жатву крестьянка – 34. Так, посиневшие до мест, где выступает стыд, Заключались во льду жалобные тени, И подобно аистам щелками зубами. 37. Все они вниз обращали лица: Через рот холод, чрез глаза скорбное сердце Свидетельствовали о себе в них. 40. Когда я несколько огляделся вокруг, То взглянул под ноги и увидел двоих столь слитых, Что волосы на головах их перепутались. 43. «Скажите, вы столь тесно сблизившие груди, – Сказал я, – кто вы?» И они отогнули шеи; И когда подняли на меня лица, 46. Глаза их, бывшие доселе влажными, Заструили к губам слезы, и холод заморозил Капли на ресницах и сковал их. 49. Доску с доской не вяжет никогда скоба Так прочно; и тогда они, как два козла, Сшиблися лбами: такова была их ярость. 52. И вот один, лишившийся обоих ушей От холода, продолжая склонять голову Сказал: «Почему всматриваешься ты так в нас? 55. Если желаешь знать, кто эти двое, То долина, по которой изливается Бизенцио, Принадлежала их отцу Альберто и им. 58. Из одной утробы они, и по всей Каине Мог бы ты искать, и не нашел бы тени, Более достойной погрузиться в мерзлоту. 61. Ни тот, у кого пробита грудь и тень, Одним ударом, рукою короля Артура; Ни Фокаччиа; ни этот, столь мешающий мне 64. Головой, что я не вижу ничего И кого звали Сассоль Маскерони; Если ты из Тосканы, то уже знаешь, кто был он. 67. И чтобы ты не вводил меня в долгие рассказы, Знай, что я был Камиччион де Пацци, И жду Карлино, который меня оправдал бы». 70. Затем увидел я тысячи полиловевших От холода лиц; меня охватила дрожь И всегда будет охватывать пред замороженными лужами. 73. И пока двигались мы к тому средоточию, Куда устремляется всякая тяжесть, Я трепетал в этом вечном мраке. 76. Было ли то желание, или рок, или случай, Не знаю; но проходя посреди голов, Сильно ударил я одну ногой в лицо. 79. В слезах она вскричала: «Что ты меня топчешь? Если пришел не с тем, чтобы усилить месть За Монтеаперти, то почему же меня мучишь?» 82. И я: «Учитель, подожди меня немного здесь, Дабы я разрешил свое сомнение о нем, А затем я буду, сколько пожелаешь, быстр». 85. Вождь остановился, и я сказал тому, Все еще грубо поносившему: «Кто ты, что упрекаешь так другого?» 88. «А ты кто, проходящий в Антеноре, Ударяя, – ответил он, – другого в щеку Так, что и для живого это было бы чрезмерно?» 91. «Я жив, и для тебя может быть ценным,– Был мой ответ, – если ты ищешь славы, Чтобы я помянул имя твое среди других». 94. И он: «Я жаждаю обратного. Уйди отсюда и не мучь более меня, Ибо плохо ты умеешь обольщать в этом болоте». 97. Тогда схвативши его за загривок Я произнес: «Ты назовешь себя, Иначе не останется у тебя здесь больше волоса!» 100. Он же в ответ: «Хотя ты и лысишь меня, Я не скажу, кто я, и не обнаружу этого, Хотя бы ты тысячу раз на меня ринулся». 103. Я намотал уже его волосы на руку, И вырвал их не одну прядь, Он же все лаял, опустив глаза долу, 106. Когда некто другой вскричал: «Что с тобой, Бокка? Мало тебе ляскать челюстями, Ты еще лаешь? Что за дьявол трогает тебя?» 109. «Теперь, – сказал я, – не желаю, чтоб ты говорил, Злобный изменник, ибо к твоему позору Я доставлю верные о тебе вести». 112. «Уходи, – отвечал он, – и повествуй о чем угодно, Но не умалчивай, если отсюда выйдешь, О том, у кого язык был столь проворен. 115. Он оплакивал здесь золото французов: Я видел, сможешь ты сказать, Буозо да Дуэра Там, где грешники не могут портиться. 118. Если б тебя спросили, кто еще с ними, То вот сбоку – тот Беккериа, Которому Флоренция перепилила горло. 121. Джиани дель Сольданиер, как кажется, Там дальше, Ганелон и Тибальделло, Что отворил Фаэнцу, когда все спали». 124. Мы удалились уже от него, Когда я увидал двоих, леденеющих в отверстии, Так что голова одного была покрышкою для другого. 127. И как пожирается хлеб при голоде, Так же верхний водрузил нижнему зубы Туда, где мозг соединяется с затылком. 130. Не иным образом грыз Тидей, В бешенстве, виски Меналиппа, Чем этот сделал с черепом и всем остальным. 133. «О ты, высказывающий столь скотским образом Ненависть к тому, кого пожираешь, Скажи мне о ее причине, – вымолвил я, – и условимся, 136. Что если ты за дело на него плачешься, То узнав, кто вы и каков грех его, Я отплачу тебе в том верхнем мире, 139. Если язык, которым говорю, не иссохнет».Песнь тридцать третья
Круг девятый. Предатели. Отделение второе. Антенора. – Уголино. – Отделение третье. Толомеа. – Фрате Альбериго. – Бранка д'Ориа
1. Над ужасной пищей приподнял рот Этот грешник, обтирая его волосами Головы, которую разрушал сзади. 4. И начал: «Ты желаешь, чтоб возобновилась во мне Безнадежная скорбь, давящая мое сердце При одной мысли, прежде чем заговорю. 7. Но если словам моим надлежит стать семенем Позора для изменника, которого я грызу, То говорящего и вместе плачущего ты увидишь. 10. Не знаю, кто ты и каким ты способом Спустился вниз; но флорентинцем Кажешься, поистине, когда тебя слышу. 13. Ты должен знать, что я был графом Уголино, А этот архиепископом Руджиери; Теперь скажу тебе, почему я так с ним рядом. 16. Как, благодаря злым его советам, Доверившись ему, я был захвачен И затем погиб, рассказывать излишне. 19. Но о том, чего не можешь знать, То есть, сколь была ужасна моя смерть – Услышишь и узнаешь, что он сделал мне. 22. Маленькая дыра в той клетке, Что благодаря мне получила имя голода И где другим надлежит еще быть заключенными, 25. Показала мне в своем отверстии Уже много лун, когда я увидел дурной сон, Разодравший предо мной завесу будущего. 28. Вот этот представился мне вождем и предводителем, Гнавшимся за волком и волчатами к горе, Что заслоняет от пизанцев Лукку; 31. С тощими псами, усердными и отборными, Гваланди и Сисмонди и Ланфранки Выслал он вперед всей своры. 34. В недолгом беге, показалось мне, измучились – Отец и его сыновья; и острые клыки, Мерещилось мне, рассекли их бока. 37. Когда же я поднялся, пред рассветом, То услыхал, что во сне плачут мои дети, Находившиеся со мной, и просят хлеба. 40. Сколь ты жесток, если уж не скорбишь При размышлении о том, что возвещалось моему сердцу! И если ты не плачешь, то о чем же можешь плакать? 43. Они уже проснулись, и час близился, Когда обыкновенно подавали пишу, И все были в сомнении благодаря снам. 46. И я услышал, как внизу заперли вход Ужасной башни; тогда я посмотрел В лица сынам своим и не сказал ни слова. 49. Я не заплакал, так окаменел я весь, Они же плакали, и Ансельмуччио мой Сказал: „Ты смотришь так! Отец, что же с тобой?“ 52. Но я не прослезился и не отвечал им Во весь тот день и в следующую ночь, Пока другое Солнце не взошло над миром. 55. Когда же слабый его луч проник В горестную темницу и я увидел В четырех лицах собственное отраженье, 58. Обе руки укусил я себе в горести. И они, думая, что сделал это я от желания Есть, все одновременно поднялись, 61. И воскликнули: „Отец, гораздо легче будет нам, Если ты нас начнешь есть; ты нас облек В эту жалкую плоть, ты и лиши ее“. 64. Я тогда стал покоен, чтобы не усиливать их скорби. Тот день и следующий мы безмолвствовали. О, твердь земная! Почему ты не разверзлась? 67. Когда мы до четвертого дня дожили, Гаддо, распростершись, бросился к моим ногам, Воскликнув: „Отец, почему же ты мне не поможешь?“ 70. И тут же умер. И как ты меня видишь, Видел я смерть троих, одного за другим, На пятый день, и на шестой; тогда я принялся, 73. Уже слепой, сверху обшаривать их, И звал два дня, хотя они были уж мертвы, А затем сильнее горя оказался голод». 76. Произнося это, он скосил глаза И снова взялся за жалкий череп зубами, Которые на кости крепки, как у пса. 79. О Пиза, поношение людей Той восхитительной страны, где звучит Si; Если соседи ленятся наказывать тебя, 82. Тогда пусть двинутся Капрайа и Горгона, И да запрудят устье Арно, Чтоб затопить всех твоих жителей. 85. Ибо если о графе Уголино прошла слава, Что он предал твои твердыни, Ты не должна была обрекать на такой крест детей. 88. Невинны были, по своему юному возрасту, О новые Фивы! – Угуччионе и Бригата, И другие двое, упомянутые в песне выше. 91. Мы прошли далее, туда, где лед Крепко связывает других людей, С лицами не вниз, но откинутыми назад. 94. Сам плач не позволяет плакать там, И горе, находя в глазах препятствие, Обращается внутрь и увеличивает тоску, 97. Ибо первые же слезы образуют скопление, И наподобие кристального забрала Наполняют всю впадину под ресницами. 100. И хотя, уподобляясь в том мозоли, От холода перестало лицо мое Быть сколько-нибудь чувствительным, 103. Мне показалось, что я ощутил некий ветер. Поэтому я спросил: «Учитель, кем же движется он? Разве не угашены здесь внизу все пары?» 106. И он мне: «Скоро уже будешь там, Где глаз даст тебе ответ на это, Ибо увидишь причину, изливающую дыхание». 109. И один из скорбных ледяной коры Вскричал нам: «О души, столь свирепые, Что последняя глубина вам назначена, 112. Снимите с моего лица жесткие покровы, Дабы горе, напитавшее мое сердце, я излил Хотя немного, прежде чем застынут слезы». 115. Я же ему: «Если желаешь, чтобы я помог тебе, Скажи мне, кто ты и если я тебя не облегчу, Пусть в самую бездну льда направят меня». 118. Он мне ответил: «Я Фрате Альбериго, Я из плодов злого огорода; Здесь я получаю финик вместо фиги». 121. «О, – сказал я, – неужели ты уж умер?» И он мне: «Как живет тело мое В верхнем мире, ничего не знаю. 124. Такое преимущество у этой Толомеи, Что нередко душа низвергается сюда, Прежде чем толкнет ее Атропос. 127. И чтобы ты охотней соскоблил Остекленевшие слезы с моего лица, Знай, что лишь только предаст душа, 130. Как сделал это я, телом ее завладевает Демон, который им и управляет, Пока все время его не исполнится. 133. А душа обрушивается в такой колодезь, И может быть, является еще вверху тело Тени, что зимует там за мной. 136. Ты должен знать ее, если сошел сюда недавно. Это сер Бранка д'Ориа, и уже много лет Прошло со времени как он заключен тут». 139. «Думаю, – сказал я, – что меня обманываешь, Ибо Бранка д'Ориа еще не умер, И ест, и пьет, и спит, и одевается». 142. «В верхний ров, – сказал он, – Злых Когтей, Туда, где кипит клейкая смола, Еще Микеле Цанке не спускался, 145. Когда этот вместо себя оставил дьявола В своем теле, и в одном своем родственнике, Который вместе с ним свершил предательство. 148. Но протяни же, наконец, руку сюда; Открой мои глаза». И я их не открыл ему, И вежливостью была для него грубость. 151. О генуэзцы, люди отдаленные От всякой доблести, исполненные пороками, Почему не изгнаны вы из мира? 154. Ибо с наихудшим духом из Романьи Нашел я одного из вас такого, что за дела свои Купается уже душой в Копите, 157. А телом кажется еще наверху живым.Песнь тридцать четвертая
Круг девятый. Предатели. Отделение четвертое. Джиудекка. – Люцифер. – Иуда, Брут и Кассий. – Центр Вселенной. – Путь к Чистилищу
1. «Vexilla Regis prodeunt Infemi. Они к нам приближаются, потому вглядывайся, – Сказал мой Учитель, – не видишь ли уже их?» 4. Какою при дыхании густого облака Или когда ночь близится в нашем полушарии, Кажется издали мельница, вращаемая ветром, 7. Подобное строение явилось тогда передо мной. Так как дул ветер, я прижался сзади К своему Вождю, ибо не было там иного убежища. 10. Я находился уж (и вношу это со страхом в стих), Там, где тени все были покрыты льдом, И просвечивали из него, как из стекла былинки. 13. Одни лежали, а другие помещались стоя, Кто головой вверх, кто подошвами; Иные наподобие дуги, обратив лица к ногам. 16. Когда настолько мы продвинулись вперед, Что Учителю пожелалось показать мне Создание, некогда обладавшее прекрасным обликом, 19. Он выдвинул меня вперед и остановил, Сказав: «Вот Дис, и вот место, Где надлежит тебе вооружиться твердостью». 22. Как я тогда оледенел и онемел, Не спрашивай, читатель, я не пишу об этом, Ибо нет слов, чтобы сказать о том. 25. Я не стал мертвым и не остался жив. И вот подумай, если обладаешь каплей воображения В кого обратился, лишившись и того, и другого 28. Властелин горестного царства. От половины груди подымался он над льдом, И более я сходен с гигантом, 31. Нежели гиганты с его руками. Сообрази же, каков должен быть весь он, Чтобы отвечать лишь одной такой части. 34. Если он был столь прекрасен, как теперь гадок, И поднял взор на своего Создателя, То от него должно исходить все зло. 37. О сколь удивительным показалось мне, Когда три лица увидал я на его голове! Одно спереди, и оно было багряное, 40. Два других соединялись с этим Над серединою каждого плеча, И сливались там, где темя; 43. И правое показалось мне бело-желтым, Левое на взгляд было такое, каким Являются из мест, откуда Нил нисходит. 46. Под каждым выступали два больших крыла, Как приличествовало подобной птице – Парусов на море никогда я таких не видел. 49. Не было на них перьев, но летучую мышь Напоминали они; и он ими размахивал Так, что производил три ветра. 52. Оттуда весь Коцит оледенялся ими. Шестью глазами плакал он, и с трех подбородков Капали слезы и окровавленная пена. 55. В каждом рту он жевал зубами Грешника, наподобие льняного мяла, Так что троим доставлял муку разом. 58. Переднему из них укусы ничто были Рядом с царапаньем, ибо по временам спина Его обнажалась от кожи вовсе. 61. «Эта душа вверху, принимающая величайшую кару, – Сказал Учитель, – Иуда Искариот, Чья голова внутри, а снаружи ноги. 64. Из других двух, чьи головы внизу, Тот что свешивается из черной морды – Брут; Смотри, как корчится он, не издавая звука. 67. Другой же Кассий, кажущийся столь могучим. Но наступает ночь, и уже время Удаляться, ибо все мы видели». 70. Согласно его воле, я охватил руками ему шею, И он выбрал подходящее тому время и место, И когда крылья достаточно раскинулись, 73. Уцепился за взлохмаченные бока. С лохм на лохмы опустился затем вниз, Среди густой шерсти и ледяной коры. 76. Когда мы оказались там, где ляжка Образует утолщение бедер, Вождь мой с усилием и утомлением 79. Повернул голову туда, где были его ноги, И ухватился за шерсть, как человек восходящий, Так что я подумал, что мы возвращаемся в Ад. 82. «Держись покрепче, ибо по таким лестницам,– Сказал Учитель, задыхаясь как усталый,– Надлежит нам удаляться от всего этого зла». 85. Затем он вышел на край, где я присел, Потом направил ко мне осторожные шаги. 88. Я поднял глаза и полагал, что увижу Люцифера таким же, как его оставил, А увидел вытянутые вверх ноги. 91. И впал ли я тогда в смущение, Пусть сообразят люди невежественные, которые не знают, Через какую грань переступил я. 94. «Подымись, – сказал Учитель, – на ноги. Путь долог, а дорога неблагоприятна, И уже Солнце приближается к восьми утра». 97. Не было прогулкою по дворцу место, Где мы находились, но природное подземелье С шероховатою почвою и без света. 100. «Прежде чем я вырвусь из этой бездны, Учитель мой, – сказал я, ставши на ноги,– Дабы извлечь меня из заблуждения, поговори со мной немного. 103. Где же теперь лед? И как Люцифер помещен Вверх ногами? И почему в столь краткий срок Совершило путь Солнце от вечера до утра?» 106. И он мне: «Ты воображаешь еще, Что находишься по ту сторону центра, где я вцепился В шерсть злостного червя, который проточил мир. 109. Ты был там столько времени, сколько я спускался. Когда я опрокинулся, ты перешел через точку, К которой тяготеют отовсюду тяжести. 112. И ныне ты находишься под полушарием Противоположным тому, что покрывает собою Великую сушь, и у вершины коего распяли 115. Человека, родившегося и жившего без греха. Ноги твои стоят на небольшой сфере, Другая сторона которой образует Джиудекку. 118. Здесь утро, когда там вечер. И этот, шерсть которого была нам лестницей, Все еще всажен, как и был когда-то. 121. С этой стороны пал он вниз с неба, И земля, что некогда тут вздымалась, Из страха перед ним облеклась морем, 124. И перешла в наше полушарие; и возможно, Дабы бежать от него, оставила здесь пустоту Гора, что видится там, и возникла вверх». 127. Есть в глубине место, удаленное от Вельзевула Настолько, сколь простирается его могила; Оно не взором, но шумом обнаруживается 130. Ручейка, который ниспадает там Через проточенную им в скале щель, В беге извилистом, с небольшим уклоном. 133. Вождь и я этим потайным путем Вступили к возвращению в мир ясный; И не заботясь ни о каком отдыхе, 136. Мы восходили, он впереди, а я за ним, Пока я не узрел дивных созданий, Носимых Небом, через круглое отверстие. 139. Тогда мы вышли, чтобы вновь увидеть звезды.Примечания переводчика
Песнь первая
1. «На половине странствия нашей жизни» – на 35-м году жизни поэта, соответствует 1300 г. Данте родился в 1265 году.
2. «Темный лес» – лес страстей и прегрешений человеческих.
8–9. «Доброе» – Вергилий. Но предварительно надо рассказать о «другом», о трех зверях.
11. Сон – состояние духовного затмения в земной жизни.
13. Холм – «Холм противоположен лесу, или долине; если лес есть символ жизни безверной и порочной, то холм будет символом жизни праведной и добродетельной» (Скартаццини).
26-27. «Проход» – под ним разумеется здесь лес. Лес пороков не позволяет пройти через себя никому живому.
30. При восхождении, хотя бы и легком, как здесь, подымаемая нога ступает выше стоящей.
32. Пантера – «символ плотских вожделений, или сладострастия». (Скартаццини). Таков взгляд на символ пантеры и у древнейших комментаторов. Земные страсти препятствуют поэту взойти на холм добродетели. Но сам поэт – лишь протагонист всего Человечества, следовательно, такова же и участь всех людей.
45. Лев – символ гордости.
49. Волчица – символ скупости. Взгляд также вполне средневековый. Трудно приписывать это свойство самому Данте – ничто в его жизни не говорит о личной скупости, но здесь, как и везде в поэме, на него следует смотреть, как на представителя человечества, а в последнем грех этот весьма силен. Очень возможно, что тут он имел в виду и нечто более частное в человечестве – скупость Римской Курии, грехи современной ему Церкви.
60. В «темный лес».
63. Вергилий – представитель человеческого разума, философии, человеческой мудрости. Вергилий уводит Данте от зверей греха и помогает совершить очистительное странствие по Аду и Чистилищу. Но для Рая его сил уже недостаточно, здесь путеводительницей будет Беатриче, Мудрость Божия.
69. Собственно, Вергилий родился в Анде, ныне Пистоле, деревне близ Мантуи.
70. При Юлии Цезаре. «Поздно», – ему было лишь 25 лет, когда умер Цезарь, и при нем он не успел прославиться. (Бианки).
74. Сын Анхиза – Эней, главный герой вергилиевой «Энеиды».
87. В это время Данте был уже известен, как лирический поэт.
91. Вергилий намекает на необходимость проделать путь чрез Ад.
101-106. Пророчество о некоем Спасителе, который должен прийти – одно из загадочнейших мест Божественной Комедии. В данном переводе мы придерживаемся толкования, принимающего слова tra Feltro е Feltro в смысле географическом. Указание на эту местность весьма подходит к Кану Гранде делла Скала, за которого многие и принимали освободителя. Но тогда на властителя Вероны выпадает слишком грандиозная задача: ведь он должен победить и загнать в Ад самое Волчицу, Скупость! (реформировать Римскую Церковь?). По Краусу это некий Устроитель (религиозно-этический образ), долженствующий побороть Волчицу (cupiditas) Церкви, и тем самым поднять нравственное состояние Италии. Кто именно этот Veltro – неизвестно. Быть может, Данте представлял его себе как бы новым Франциском Ассизским, или святым папой, или гибеллинским вождем. Нам этот взгляд Крауса кажется заслуживающим внимания. Тем не менее, как сказано выше, мы сохраняем географический признак («меж Фельтро и Фельтро»); согласно же Краусу и некоторым древним, надо читать tra feltro е feltro, «низкого рода» (feltro, значит войлок, кошма, что указывает на скромное происхождение будущего Избавителя). Другие понимали еще «меж небом и небом», разумея явление в небесах Христа. Для нас – характеризованный Краусом Избавитель родится в области между Фельтро и Фельтро. Среди многих отгадок загадки есть и очень курьезные. Напр., принимали за Veltro Наполеона III, и даже… императора Вильгельма I (Штедефельд).
107. Камилла, дочь царя Вольсков, погибла, сражаясь против троянцев. Смерть ее описана в VII книге «Энеиды». – Эвриал погиб вместе со своим другом Низом, в сражении с воль-сками. – Турн, царь рутулов, пал от руки Энея; рассказом о смерти этого героя кончается поэма Вергилия.
116. Души тех, кто жил и умер до Данте.
117. «Криками взывающие о вторичной смерти», т. е. жаждут умереть, не мучиться более.
119. Души Чистилища.
122. Беатриче. В XXX песни Чистилища она является Данте, чтобы ввести его в Рай.
Песнь вторая
1. Вечер 25 марта 1300 г., первый день прошел среди невзгод леса и бесед с Вергилием.
13. «Ты рассказываешь» – в «Энеиде». Эней, по Вергилию, был отцом Сильвия.
16. «Ненавистник всякой скверны» – Господь.
17. Великое следствие – Рим. «Кто оно и каково» – Цезарь, империя, папство.
26-28. Схождение Энея в Ад дало ему силы победить Турна, вследствие чего был основан Рим, где, затем, установилось и победило папство («папская мантия»).
29. Ап. Павел. «Ап. Павел не говорит столь ясно, что в чувственном облике был в вечной обители, но в средние века этому верили». (Бианки). «Избранный сосуд», выражение из Деян. св. Апостолов. Сказано об Ап. Павле.
40-43. В конце предыдущей песни он просит Вергилия вести его. Теперь почти отказывается от своего намерения.
52. «..С теми, кто нерешен», обитатели лимба в 1-м круге Ада, см. песнь 11. – С одной стороны у них нет надежды на рай, с другой – они не подвержены мукам – как бы между небом и адом, не решены, не определены ни в ту, ни в другую сторону. «Некоторые считают, что Данте думал о возможности улучшения судьбы этих обитателей лимба, но тогда лимб не мог бы находиться за роковыми вратами с надписью: „Оставьте всякую надежду вы, входящие“, и Вергилий не сказал бы, что там живут без надежды». (Скарт.)
53. Беатриче. – Как бы ни относиться к реальности юношеской любви Данте к девушке Беатриче Портинари, жившей вблизи дома Данте, Беатриче «Божественной Комедии» несомненный символ. Если это есть воспоминание об очаровании юношеских дней, том очаровании, которое оставило в душе светлый свой след навсегда, то здесь этот образ возведен в сан высочайший. Беатриче занимает очень почетное место на скамье блаженных, она идет к Деве Марии и говорит с нею, наконец, посылает на помощь своему давнему поклоннику Вергилия, а в Чистилище, как некая царица, в колеснице встречает Данте и ведет по Раю. Нет разногласий, что это уже не скромная флорентийская девочка, а существо ангельское, высшего духовного ранга. Но что она олицетворяет? Здесь разногласия значительны. Для Крауса Беатриче «персонификация Божественной Мудрости, тип этот создан древне-христианской и средневековой литературой и искусством, Данте же лишь усвоил его, дабы создать всем понятную и всех просвещающую Аллегорию».
76-79. По Бианки, Беатриче представляет здесь одновременно идею Философии и Теологии, благодаря которым человеческий род превосходит все, что есть на земле, что заключено в круге неба Луны (по птолемеевой системе ближайшее к Земле Небо, с наименьшим кругом, есть Небо Луны). Однако, Философия вряд ли здесь при чем.
80. Т. е. – так рвусь я исполнить твое приказание, что даже, когда исполняю его, мне кажется, что я опаздываю.
94. «Прекрасная Жена» – Дева Мария.
97. «Лючия» в прямом смысле – Святая по имени Лючия. Аллегорически Лючия, как указывает уже ее имя, есть символ просвещающей благодати. Католическая церковь чтит св. Лючию, как исцелительницу при болезнях глаз. (Скартац.)
102. Рахиль, дочь Лавана, и вторая жена патриарха Иакова, образ Созерцания.
105. Благодаря любви к Беатриче и желанию достойно прославить ее, Данте предался изучениям и «выделился из обыденной толпы».
108 Следуя за большинством в принятии Аллегории, мы видим в смерти смерть духовную, и в реке жизнь человека, обуреваемую страстями… Итак… смерть, которая грозит поэту, есть то же, что и три зверя, а река – то же, что лес (Блан).
Песнь третья
7-8. Указывается первозданность Ада. Современники его – формы вешей и идей, первая материя, ангелы (Аристотель).
29. Там нет смены времени, дня и ночи. Поэтому, цвет воздуха всегда одинаков.
37. «Поэт предполагает, что некоторые ангелы пожелали остаться нейтральными, когда Люцифер взбунтовался против своего Творца, и не были ни за Бога, ни за диавола. Библия не знает такого разряда нейтральных ангелов; быть может это изобретение самого Данте» (Скартаццини).
56. Считают, что это Папа Целестин I, по малодушию отрекшийся от папства. Бонифаций III, его преемник, посадил его в темницу, где он и умер. Другие принимают эту тень за Исава, отказавшегося от первородства.
71. «Большая река» – Ахерон. Это первая адская река. Через нее Харон перевозит грешные тени. Далее начинаются нисходящие круги Ада.
109. «Демон Харон». Данте делает стражами разных кругов Ада существа мифологические; это соответствует теологическим взглядам средневековья, которое в существах языческой мифологии обычно видело реальные сущности, но не богов, а демонов, примиряя, таким образом, – хорошо или дурно – христианскую веру с языческой традицией. Источником такой веры является никто иной, как Ап. Павел, который пишет: «…Язычники, принося жертвы, приносят бесам» (1 Кор., X, 20). (Скарт).
Песнь четвертая
24. В Лимбе, где находятся те умершие, кто не знал крещения, мудрецы и герои. Слово лимб, значит край одежды. Данное место названо так потому, что представляет собою как бы предел, оторочку Ада (Бианки).
28. Горести внутренние, или духовные, без внешних мучений
50. «Другого» – Христа. Схоластики учили, что Христос в промежутке времени между своею смертью и воскресением сходил в Лимб для освобождения душ ветхозаветных святых.
54. Крестом.
86. Меч – символизирует войну, воспетую Гомером.
95. Имеется в виду Гомер, «владыка высочайшего песнопения». ПО. «Семь врат», так называемые семь свободных искусств.
121. Электра – дочь Атланта, которая от Зевса родила Дардана, основателя Трои.
124. Камилла – дочь царя Вольсков. (См. прим. I, 107). – Пентесилея – царица Амазонок, убитая Ахиллом.
125. Латин – царь туземцев – тесть Энея.
128. Лукреция, добродетельная супруга Коллатина, обесчещенная Секстом Тарквинием. Юлия – дочь Цезаря и супруга Помпея. – Марция – жена Катона Утического. – Корнелия – дочь Сципиона Африканского и мать Гракхов.
129. Саладин, из простого солдата, благодаря дарованиям, обратившийся во владетеля Египта и Сирии. Он завоевал Иерусалим, изгнав оттуда Гвидо ди Лузиньяно. Отличался, в противоположность другим своим единомышленникам, большим человеколюбием и известной приветливостью. Поэтому он и сидит одиноко, не разговаривая с окружающими.
131. Аристотель, бывший в большом уважении во времена Данте. Его почитали, как непогрешимый авторитет.
137. Анаксагор – философ из Клазомен, наставник Перикла. Диоген, известный циник из Синопа. Фалес из Милета, автор «Космологии», где вода играла главную роль.
138. Эмпедокл, Гераклит и Зенон – все трое философы: первый из Агригента, написал поэму о природе вещей; второй из Эфесса, творец глубокомысленного мировоззрения, в основе коего знаменитое «все течет». Третий – глава стоиков.
139-140. Диоскорид из Киликии, жил при Нероне, врач. – Орфей – фракиец, священный поэт и музыкант.
141. Туллий – Марк Туллий Цицерон. – Лин – из Фив, музыкант на лире и поэт.
143. Гиппократ, Авиценна и Галлиен – все трое медики. (Авиценна – араб).
144. Аверроэс – арабский философ – комментатор Аристотеля.
Песнь пятая
4. Минос, древний мифологический царь Крита, по Гомеру сын Зевса и Европы, брат Радаманта, отец Девкалиона и Ариадны. Так как по мифологии он был одним из первых законодателей человечества и правил с величайшей мудростью, то поэты сделали из него судью Ада (Вергилий, Энеида, II). В «Божественной Комедии» Минос также адский судья, но Данте обращает его в демона, согласно средневековой вере, основанной на словах Ап. Павла.
6. Направляет в такой круг, сколько раз обовьет себе спину хвостом.
61-62. Дидона. Она обещала мужу своему, Сихею, что после его смерти останется одинокою. Но отдалась Энею.
65. Ахилл, собравшийся жениться на Поликсене, был убит стрелою Париса, ее брата, во время свадебного пира.
67. Парис – сын Приама и похититель Елены. Другие считали его за странствующего рыцаря средневековья, прославленного в старинных романах. – Тристан, рыцарь Круглого Стола, племянник короля Марко Корнуэльского; трагически любил жену его Изольду (Изотту).
74. Эта Франческа Малатеста и ее деверь Паоло – знаменитая чета несчастных любовников, прославленная Данте. Приводим рассказ о судьбе их по Анонимо Фиорентино: «Надо сказать, что уже долгое время шла война между мессером Гвидо да Полента и мессером Малатеста старшим из Римини. Так как это утомило обе стороны, то с общего согласия заключили мир, и чтобы лучше он соблюдался, вступили в родство; ибо мессер Гвидо выдал дочь за сына мессера Малатеста, а мессер Малатеста так же обвенчал своих детей. Мадонна Франческа, дочь мессера Гвидо вышла замуж за Джианчиотто мессера Малатеста; и хотя он был умный человек, но вида грубого, мадонна же Франческа была прекрасна, так что мессеру Гвидо говорили: „Вы дурно устраиваете эту вашу дочь; она прекрасна и редкой души; она не будет довольна Джианчиотто“. Мессер Гвидо, который больше ценил разум, чем красоту, все-таки пожелал, чтобы родство укрепилось: и дабы девушка не отказалась от брака, сделал так, что вместо Джианчиотто явился в виде жениха Паоло, она вышла за Джианчиотто. Правда, что перед свадьбой, когда Паоло находился однажды на дворе, служанка Мадонны Франчески показала ей его и сказала: „Этот будет твоим мужем“. Она нашла, что он красив. Полюбила и согласилась. И отправившись к мужу, и найдя вечером рядом с собою Джианчиотто, а не Паоло, как она думала – осталась недовольна. Она увидела, что ее обманули; но не отказалась от любви. Паоло же, видя, что она его любит, хотя вначале и противился, легко склонился к любви. Случилось, что в то время, как они любили друг друга, Джианчиотто отправился в синьорию, от чего у них возросла надежда; и любовь возросла настолько, что находясь тайно в комнате и читая книгу Ланчелота – и сначала рукою и поцелуями приглашая друг друга, в конце умиротворили они свои желания. И много раз в разное время делали подобное; это заметил слуга Джианчиотто; он написал своему господину; по этой причине Джианчиотто вернулся и подстерегши их однажды, застал в комнате, имевшей выход вниз, и отлично мог бы Паоло спастись, если бы кольчуга его не зацепилась за гвоздь в опускной двери, и он повис таким образом. Джианчиотто бросился на него с пикою: жена кинулась между ними; направляя удар в него, он попал в жену и убил ее; и затем убил Паоло на том самом месте, где тот зацепился».
32. Голубь – птица очень сладострастная, но в то же время символ невинности. Данте почитает историю двух. Быть может, он сравнивает их с голубями также и потому, что голубь есть символ искренности (Матф., X, 16), добродетели, которую Франческа проявляет в последующем рассказе в величайшей степени. (Скартаццини).
97. Равенна.
107. Каина – адский лог, где караются братоубийцы; песнь XXXII.
117. «Суровый Дант», путник и временами даже сам каратель грешников (у изменника Бокка дельи Аббата в гневе вырывает прядь волос с головы) – тронут! Давно замечено, что вряд ли отозвался бы так на горе влюбленных человек, лично не испытавший бурь любви.
128. Ланчелот – любовник королевы Джиневры, герой Круглого Стола. Романы короля Артура и Круглого Стола были модны во времена Данте.
137. Галеотто – как Галеотто был посредником между Ланчс-лотом и Джиневрой, так и для нас сам автор ее (Скартаццини).
142. Вновь не выдерживает. Здесь Анонимо Фиорентино прямо говорит: «поэт сам был уязвлен этим пороком, и потому так сочувствует тем, о ком говорит в тексте». Замечательно, что и Вергилий, всюду на протяжении странствия спокойный и благоразумный, как и подобает представителю ratio, не упрекает здесь Данте в слабости, как делает в других местах. Ведь сочувствуя осужденным, Данте сам отчасти грешит. – Вообще же вся эта песнь есть как бы отголосок молодости поэта, времени, когда он не был еще политиком, приором, избранником. Правда, проскальзывает эта нота у человека, уже много пережившего, знающего цену воспоминаний; все же перед нами здесь по преимуществу поэт любви, а не теолог, моралист или политик.
Песнь шестая
13. Цербер, трехголовый пес, в языческой мифологии страж Ада. Данте обращает его в демона.
49. Твой город – Флоренция. Зависть была, действительно, главной причиной раздора и образования партий во Флоренции.
50. О зависти сказано: trabocca il sacco, «переполняет мешок».
52. Чиакко, флорентинец, шутник, весельчак и знаменитый обжора. «Был остролов, и всегда любил общество богатых и изящных людей, особенно же тех, кто роскошно и изысканно ел и пил; если приглашали его на обеды, то ходил; и подобным образом, если не был приглашен, то приглашал сам себя; и этим пороком был известен всем флорентинцам, в остальном же был порядочный человек, по своему поведению, красноречивый и приятный, добродушный; из-за этих качеств его охотно принимали в хорошем обществе» (Боккаччио).
65. «Дойдут до крови», это случилось 1 мая 1300 г. «В этот вечер, который есть начало весны, женщины много занимаются танцами с соседями. Молодые люди Черки встретились с компанией Донати, среди которых был племянник мессера Корсо и Барделлино де Барди, и Пьеро Спини и другие их товарищи и сторонники, которые и напали с оружием в руках на Черки. В этой схватке – среди многих раненых „Риковерино де Черки отрубили нос“». (Дино Компаньи). Все это, разумеется, обостряло вражду партий. – Лесная партия, или Белые, во главе которой стояли Черки, выходцы из лесистого Валь ди Сиеве. К ним принадлежал сам Данте. Другая – Черные, вождь которых был Корсо Донати.
66. «Белые изгоняют Черных из Флоренции; намек на изгнание главарей обоих партий в 1301 г.; или, может быть, что Черные были лишены своих должностей» (Скартаццини).
68. На третий год. Чиакко говорит в марте 1300. Белые, и среди них Данте, были изгнаны в апреле 1302. Третий год едва начался. – Одолеет первая, т. е. Черные.
69. Бонифаций VIII, папа, современник Данте, человек которого он ненавидел и поместил в третий лог восьмого круга, где грешники стоят вверх ногами в дырах, с пылающими подошвами (XIX песнь).
73. Трудно сказать, кто эти двое. Полагают, что Данте имел в виду себя и друга своего Гвидо Кавальканти.
79. Фарината («Ад», X, 32). Теггьяйо («Ад», XVI, 41).
80. Якопо Рустикуччи («Ад», XVI, 44). Арриго – по одним Арриго Джиандонати, по другим Одериго Фифанти, один из убийц Буондельмонте (Дж. Виллани). Моска («Ад», XXVIII, ПО).
95. Прежде чем труба Архангела не возвестит страшного суда.
111. Это значит, что души осужденных, возвратившись в свои тела и став совершеннее, сильнее будут чувствовать горечь мучений. Это учение бл. Августина.
115. Плутус, бог богатства, которого Данте обращает в демона, как и другие мифолог, существа.
Песнь седьмая
1. Таинственные слова, объяснявшиеся различно («О, Сатана, Сатана, повелитель» и т. д.) Скартаццини вместе с Бланом считает, что «удовлетворительно истолковать их нельзя. Этот стих ждет еще своего Эдипа».
12. «Fe 'la vendetta del supdrbo strupo». – Strupo – стадо скота. Но здесь, по мнению большинства толкователей, поставлено оно вместо Stupro, из-за рифмы. Stupro же значит – «изнасилование»; а в переносном смысле – насилие, бунт, возмущение. Значит, св. Михаил карает Люцифера за попытку насилия над Богом. – Если же (с немногими) принять слово Stupro за кельтское, означающее отряд, войско, собрание людей, тогда смысл будет тот, что Михаил отомстил не только Люциферу, но и всему «войску» восставших ангелов. («Дал отмщение надменному войску»).
16. Четвертый круг.
22–23. Скупцы и расточители сталкиваются в этом кругу подобно волнам в проливе между Сицилией и Калабрией – идущим из Ионического и Тирренского моря.
57. Сжатый кулак – образ скупости. Отсутствие волос на голове – расточительность.
97. «Оn discendiamo omai a maggior pietan», – «А теперь спустимся к большей жалости» – т. е. туда, где большие муки вызывают большую жалость.
98. Полночь. Звезды проходят через меридиан и склоняются. Действие поэмы началось утром, прошел день и вечер, 18 час.
118. Все древние толкователи согласны, что это бездеятельные. Даниелло был первый, оспаривавший это мнение, настаивая, что под водой находились души тех, кто таил злобу в сердце, не давая вырваться наружу ее пламени. Многие современные комментаторы приняли это мнение. Однако, сильные доводы заставляют нас присоединиться к древним. Очевидно, Данте распределяет в этой песни грешников по принципу, т. е. «каждая добродетель имеет двух сбоку находящихся врагов, или два порока, один – чрезмерность, другой – недостаток». Как в предыдущем кругу он помещает скупцов и расточителей рядом, одних – грешных изобилием, других – недостатком: так в этом кругу ставит гневных рядом с ленивыми, два рода грешников, также противоположных.
Песнь восьмая
2. Вергилий и Данте подходят к адскому городу Лису, опоясанному рекою Стикс.
7. «Море всякого знания» – Вергилий.
11. Приближается перевозчик Флегиас.
19. Разгневанный на Аполлона за то, что тот овладел дочерью его Коронидой, Флегиас сжег храм в Дельфах. Данте, по обыкновению, обращает его в демона.
21. Т. е. – мы не осужденные души.
27. Данте, как живое существо, обладает весом.
30. Ибо тела невесомы.
32. «Был этот Филиппе Ардженти де Кавиччиули богатейший кавалер, так что иногда приказывал подковывать лошадь, на которой ездил верхом, серебряными подковами, оттуда и шло его прозвище. Он был высок, темноволос, крепкого сложения и удивительно силен, и более всякого другого гневлив, даже по ничтожнейшему поводу: и из его дел известны только эти». Боккаччио, Декам. IX. нов. 8).
63. Он не мог нанести вреда другим и в бешенстве укусил себя.
68. «Город Дис, укрепленный рвами, стенами и башнями, образует шестой адский круг. Как кажется, этот круг лежит не ниже пятого, но отделен от него рвами, башнями и стенами. Здесь вход в нижний ад, где заключены более важные грешники, т. е. отягченные более черными грехами». (Скартаццини).
70. Башни адского города.
76. Можно разделить Ад на две главные части: верхний, от 1-го до 5-го кругов, и нижний, или глубокий, от 6–9.
83. Падшие с неба ангелы, обратившиеся в дьяволов.
91. По дороге, на которую он дерзостно и, следовательно, безумно вступил.
120. «Выражение негодования на дерзость демонов; хотя они и понимают, что Бог гневается на них, и что они бессильны против Его желания, тем не менее осмелились не пустить в город Дис» (Скартаццини).
125. Здесь предполагается, согласно античной традиции, что когда Христос сходил в Ад, дьяволы оказали Ему сопротивление у входа в Лимб.
130. Посланец неба, пред которым откроются ворота Диса.
Песнь девятая
8. Минутное колебание Вергилия: помощь обещана, но отчего же она не является?
10–12. Сначала высказал сомнение, а затем утверждение («Такая помощь нам обещана!»).
23. Эрихто – фессалийская колдунья, прорицательница. Она призывала в Ад тень умершего уже Вергилия.
27. Из Джиудекки, где находятся изменники.
33. «Без гнева» – на тех, кто не желает отворять врат. Или же разгневаются те, кто там находятся. (Оба объяснения возможны).
41. Керасты – рогатые змейки.
52. Медуза – самая молодая из трех Горгон, чья голова обращала в камень всякого, кто на нее взглядывал.
54. Тезей вместе со своим другом Пирифоем спустился в Ад, чтобы похитить Прозерпину Обоих Фурии заковали в цепи, но Тезея впоследствии освободил Геркулес. Теперь они жалеют об этом.
62. Определенное указание на символический характер произведения. – Вопрос о символическом смысле Фурий очень темен. Предложено много объяснений. По Скартаццини: эпизод с препятствиями Данте пред вратами адского города символизирует душевное состояние поэта, когда он отходил от своих заблуждений. Так же не сразу был он допущен к истине, как здесь не сразу позволяют ему пройти вниз, в глубокий Ад, и познать эту истину. Вергилий, как и всюду, – представитель императорской, земной власти; ее установлений оказывается недостаточно, и необходимо вмешательство папской, духовной власти (для Скартаццини – символ Беатриче). Ее посланец и вводит Данте в город Дис. Фурии по этому комментарию – дурная совесть; Медуза – сомнение, обладающее качеством делать человека нечувствительным, как камень. Наш взгляд на Вергилия и Беатриче иной чем у Скартаццини, мы скорее принимаем воззрение Крауса, т. обр. все данное толкование остается под сомнением. – Для Бианки Фурии – угрызение совести. Для Фламини – безумное влечение к несправедливости.
93. Собств.: «чем приманивается».
96. «Столько раз» – каждый раз, как вы пытались противиться воле Божией; «увеличивала вашу муку» – по Фоме Аквинскому второстепенные кары осужденных, особенно же демонов, могут быть увеличены до Страшного Суда (Скартаццини).
99. Цербер препятствовал Геркулесу, посланному Судьбою, войти в Ад. Герой сурово расправился с ним (Энеида, VI).
101. «Он не говорит с поэтами, чтобы не задерживаться, как тот, кто жаждет вернуться в лучшее место» (Томмазео).
113. Пола, город в Истрии, там есть римские монументы. Кварнаро – залив, омывающий Истрию.
115. Речь идет о древних гробницах, находящихся вблизи этих городов.
131. Гробы раскалены неравномерно: одни сильнее, другие слабее, смотря по характеру ереси.
Песнь десятая
18. «Как и желание…» Невысказанное желание увидеть и поговорить с кем-нибудь из соотечественников. В песни VI, 79 Данте выразил желание видеть Фаринату, и Чиакко сказал, что он найдет его ниже. Вероятно, Данте предполагал встретить его именно в этом кругу, Вергилий угадывает мысли Данте (XVI, 122, XXIII, 25 и т. д) (Скартаццини).
21. Уже при начале их странствия Вергилий дал понять Данте, чтобы он не говорил и не спрашивал слишком много. (III, 79).
26. Флоренции; в Convivio I, 3, он называет ее прекраснейшей и знаменитейшей дочерью Рима.
32. Фарината дельи Уберти: «Был из военного сословия, происходил из благородного рода дельи Уберти, потомков Каталины. В ранней молодости занимался свободными науками, где подавал надежды стать великим человеком. И достигнув юности, часто пробираясь до самых вражеских городов, благодаря раздорам, царившим в те времена, почти всегда был вождем войска, и часто с такою ловкостью побеждал гордых недругов, что невозможно было даже и подумать, и слава о нем прошла по всей Италии. Но слишком доверяясь улыбке Фортуны и желая почти единолично управлять республикой, был он изгнан враждебной партией, вследствие чего отправился в Сиену, где находилось много изгнанников». (Фил. Виллани «Жизни знаменитых Флоренто»). «И не только был он главою и первым в фамилии Уберти, но был также главою гибеллинской партии во Флоренции, и почти во всей Тоскане, как из-за своих достоинств, так и благодаря положению, какое занимал при Императоре Фридрихе II, (который поддерживал гибеллинскую партию в Тоскане и жил тогда в Королевстве), а также благодаря поддержке, которою по смерти Фридриха пользовался от короля Манфреда, его сына, с помощью и благодаря расположению которого держал в большом угнетении другую партию, т. е. гвельфов; и как многие полагали, разделял мнения Эпикура, т. е., что душа умирает с телом; и поэтому считал, что все счастие людей состоит в телесных удовольствиях». (Боккачио, Коментарии к «Божественной Комедии»). В сентябре 1260 г. на реке Арбии при Монтеаперти (близ Сиены) разбил войско гвельфов и победителем вступил во Флоренцию. Гвельфы, среди них и род Данте, были изгнаны из города. Однако, на известном военном совете в Эмполи, где был поднят вопрос о срытии Флоренции, Фарината отстоял ее. Умер в 1264 г. При жизни отрицал будущую жизнь, по смерти презирал ее. «Пусть будут твои слова ясны, отчетливы, а не двусмысленны или сомнительны, ибо ты говоришь с еретиком, надо быть очень острожным и внимательным» (Дан). «С современниками говорит Данте, с древними – Вергилий» (Томмазео). «Нам кажется, что поэт желает побудить Данте не тратить лишних слов, но говорить достойным такого человека, как Фарината образом» (Скартаццини)
41. «Надменно» – он, быть может, думал, что поэт не благородного происхождения, или предчувствовал, что это потомок злейших врагов его и его партии.
43. К повиновению словам Вергилия (см. выше. 39).
48. Первый раз в 1248 г. гвельфы были изгнаны из Флоренции, в этом принимал участие и Фарината. Второй раз (см. выше) – в 1260 г.
49-50. Но в январе 1251 г. вновь вернулись, после поражения гибеллинов при Фильине. – Вторично возвратились в 1266 г., по смерти Манфреда, погибшего при Беневенто, сражаясь с Карлом Анжуйским.
53. Кавальканте Кавальканти, отец известного поэта Гвидо Кавальканти, друга Данте и соперника по литературе (оба, как лирики, принадлежали к течению dolce stil nuovo), установленному Гвидо Гвиничелли.
60. Гвидо Кавальканти, «тот, кого я называю первым из моих друзей». Данте Vita Nuova, 13.– «Юноша изящный, благородный кавалер, учтивый и смелый, но надменный, склонный к уединению и преданный науке» (Дино Компаньи). Обвиняя его в эпикуреизме Боккаччио, может быть, смешивает его с отцом.
63. Из Данте: «Vita Nuova», § 31 можно вывести заключение, что Гвидо не любил читать по латыни (Скарт).
68. Данте упомянул о Гвидо в прошедшем времени, из чего Кавальканти заключил, что тот уже умер.
74. Гвидо Кавальканти был мужем дочери Фаринаты. Фарината не откликнулся на горе Кавальканти, когда тот подумал, что его сын умер. Фарината погружен в мысли о Флоренции, партиях, политике. Более «чем такое ложе» (огненное), мучит его то, что гибеллины дурно изучили искусство возвращения.
79. «Не пройдет и пятидесяти месяцев, как Данте изгонят из Флоренции», и указывает это по Даме, царящей в Аду, по луне, которая названа Прозерпиной. (Ан. Фиорентино). Смысл таков: не пройдет и пятидесяти месяцев (4 года, 4 месяца), как ты испытаешь, сколь трудно искусство возвращения во Флоренцию, когда оттуда изгнали. По условной хронологии поэмы Фарината говорит Данте в марте 1300 г. В январе 1302 он впервые был изгнан; чрез два года и несколько месяцев после своего изгнания, т. е. чрез 50 месяцев после предсказания Фаринаты, Данте мог действительно уже на опыте познать «всю тяжесть этого искусства». (Скарт).
83–84. Дословно «безбожен». Уберти исключались из всех списков амнистированных.
87. Народные собрания происходили в храме, во Флоренции обычно в церкви С. Джованни.
89. «В дурных действиях он желает иметь товарищей, в хороших же – нет» (Скарт.).
90. «Не без причин выступил» – был преследуемый изгнанник; вполне понятно, что искал всякого повода вернуться на родину.
91. На гибеллинском совете в Эмполи (см. выше, 32).
98. Видите будущее.
99. А настоящего не знаете. Кавальканти не знал, что сын его был еще жив.
107. В день Страшного Суда.
108. Не будет ни будущего, ни прошедшего, но лишь вечное, т. е. настоящее. Настоящего же не будут знать, так как не станут приходить к ним другие, т. е. новые души, сообщая новости.
109. Промедлил с ответом Кавальканти о сыне.
111. Гвидо еще жив. Он умер в 1300 г. вследствие нездоровья, причиненного ему вредным воздухом Сарцаны, куда он был выслан.
119. Фридрих II Гогенштауфен, король неаполитанский и сицилийский, германский император. Покровительствовал писателям, ученым, гибеллинам. Считался атеистом. Был врагом Римской Курии.
120. Оттавиано дельи Убальдини, страстный гибеллин, и тоже атеист.
123. О словах Фаринаты, 79–81, где предсказывалось изгнание, и тщетные попытки вернуться.
129. Вергилий приглашает обратить внимание на муки осужденных, благодетельное созерцание которых и есть содержание странствия (Скарт.).
131. Беатриче. Вергилий все знает (VII, 3), т. е. по-человечески; Беатриче все вндит, в Боге.
134. До сих пор они шли вдоль стены города Диса, теперь пересекают его по средине.
Песнь одиннадцатая
3. Crudele stipa. «Stipa – клетка, куда сажают кур, и в этом смысле употребляется здесь метафизически, ибо также как кур сажают в клетки, души заключены в эту страшную темницу». По другим stipa, значит скопление, груда (грешников). У нас переведено «еще более терзаемая груда».
8. Анастасий, римский папа, избранный 24 ноября 496 года.
9. Фотин, епископ Сирмии и ученик Марцелла Анкирского, принадлежавший к ереси Сабеллия. Его учение осуждено собором 351 г. Относительно участия в этой ереси папы Анастасия Данте, по-видимому, был введен в заблуждение одной летописью.
17. Седьмой, восьмой и девятый. Седьмой – круг насильников и разделяется на три отдела; восьмой – обманщиков, там десять логов; девятый – изменники, с Каиной, Антенорой и Джиудеккой.
23. Всякое зло разрешается в несправедливость, оскорбление – или Бога, или ближнего, или самого себя.
25. Ибо лишь человек обладает разумом, могущим обманывать.
27. Обманщики ниже насильников.
28. Первый из трех меньших кругов, спускающихся вглубь от данного, шестого.
32. Над их вещами – воровство, грабеж.
39. В первом отделе седьмого (первого, меньшего) круга.
43–45. Во втором отделе – самоубийцы и расточители собственных средств. Эти моты отличаются от расточителей VII песни, которые грешили лишь тем, что дурно давали (VII, 58), между тем, как первые проматывают свои блага, проигрывая их.
49. Третий отдел. Здесь содомиты (см. Книгу Бытия, XIX).
50. Каорза, Кагор – город во Франции, известный в те времена своими ростовщиками.
66. Последний – круг изменников (3-й меньший, или 9-й).
71–72. «Мчит ветер» – сладострастные, второй круг: «хлещет дождь» – обжоры, в третьем круге.
80. «Твоя этика» – этика Аристотеля, которую ты сделал своею, прилежно изучая ее.
82–84. До города Диса наказываются грехи невоздержания; ниже – скотство и лукавство, что занимает всю остальную часть Ада, до Люцифера. Итак, в седьмом круге наказывается скотство, в восьмом и девятом лукавство, обида, в широком, аристотелевском смысле.
91. Вергилий – солнце (разума).
93. Сомнения дают возможность и удовольствие мудро разрешить их с помощью Вергилия.
113–114. Положение созвездия Рыб на горизонте (в конце марта) – указывает время дня: раннее утро. Кавр (Caurus древних) – северо-западный ветер. Следов., Большая Медведица (il Cairo) в эту минуту находится на северо-западе.
Песнь двенадцатая
4. «В этом самом году (1309), в двадцатый день месяца июня, в субботу, обрушилась к великому изумлению всех (ибо не было тогда ни землетрясения, ни какого-либо ветра) большая часть горы над Киузой около Вероны, обломки которой до сих пор видны еще в значительной части» (История Вероны Джир, делла Корте, X, 608). Этим, по мнению Скартаццини, решается спор между веронскими и трентинскими эрудитами о месте обвала. (Трентинцы настаивали на Монте Барко, близ Роверето). – Считается, что в 1309 г. Данте был именно в Вероне. Значит, как и утверждает Скартаццини в своих «Пролегоменах», это еще свидетельство, подтверждающее, что Данте написал «Ад» довольно поздно (не ранее смерти Генриха III, 1312).
12. Минотавр, позор острова Крита, плод противоестественных вожделений Пасифаи. Данте обращает его в стража и в то же время делает символом насильничества, тирании, человекоубийства. Мифологический Минотавр действительно пожирал людей, (Скарт).
13. Пасифая, жена критского царя Миноса, отдалась быку, будучи заключена в сделанную из дерева корову. От этого соединения родился Минотавр. Поэтому и сказано, что он был «зачат в лже-корове»).
17. Тезей, который с помощью возлюбленной своей Ариадны убил Минотавра.
20. Ариадной, дочерью Миноса и Пасифаи. Она провела Тезея в Лабиринт.
30. Здесь спускались обычно невесомые тени. Тяжесть Данте, живого, нова для этих камней.
34–35. Первый раз он спустился завороженный колдуньей Эрихто (песнь IX, 22 и далее).
37. За несколько минут ранее, так как землетрясение произошло в момент смерти Спасителя, и уже затем Он спустился в Ад.
41-42. Эмпедокл считал, что основа мира есть вражда атомов между собою. Когда наступает их примирение, жизнь прекращается, настает первобытный хаос. В данном случае Вергилию показалось, что мир охвачен таким унитарным порывом, стирающим различия и, следов., способным вернуть все к небытию.
45. «В другом месте» – в шестом логе восьмого круга (XXI, 108) Вергилий знает об этом, ибо знает все (Ад, VII, 3).
47. Третья река Ада, Флегетон.
52. Первое подразделение (кольцо) седьмого круга: насильники над ближними.
56. Кентавры – гигантские существа, полулюди, полулошади, страшные своей силой и свирепостью. Символ зверской беззаконной жизни. Здесь они наказывают тех, кто жил вне закона.
59. Несс, Хирон и Фол.
61. Несс.
66. Намек на любовь его к Дейянире, стоившую ему жизни.
68–69. Геркулес убил его стрелами, обмоченными в крови Гидры. Умирающий Кентавр оставил свою окровавленную одежду Дейянире, уверив ее, что в этой одежде сила, препятствующая Геркулесу любить других женщин. Дейянира отдала ее мужу. Тот надел, обезумел и умер.
71. Хирон, сын Сатурна и Филиры, дочери Океана. Сатурн, его отец, воспламенившись любовью к Филире, и боясь вместе с тем ревности Реи, своей супруги, обратился в жеребца, и в этом виде произвел на свет Хирона, который поэтому и стал Кентавром. Он однако отличается от других Кентавров По мифу, он был медиком, предсказателем, астрологом и знаменитейшим музыкантом. Вскормил и воспитал Ахилла, Эскулапа, Геркулеса и других знаменитых греков.
81. Это Данте. См. примечание 30.
88. Беатриче.
107. Неизвестно, какого Александра имеет в виду поэт: Великого, или Фессалийского, тирана города Фереи. Древние комментаторы (Пьеро ди Данте) склонны ко второму предположению Также и Скартаццини. Он находит, что Данте вряд ли поместил бы в Ад Александра Великого, о котором довольно хорошо отзывается в «De monarchia». – Дионисий, тиран. Сиракузский.
ПО. Эццелино, свирепый падуанский тиран, императорский викарий Марки Тревиджиано. – Убит в 1259 году.
111. Обиццо д'Эсте, маркиз Феррарский и Марки Анконской, известный своею жестокостью.
114. Т. е в этих делах Несс знает более, чем я.
117. Буликамэ – серный горячий ключ около Витербо.
118–120. Граф Гвидо де Монфор убил в Витербо, в храме, племянника Генриха III Алийского. (По имени тоже Генрих). Граф мстил за своего отца, казненного в Лондоне. Сердце убитого было отправлено в ящичке в Лондон, где его выставили на колонне у входа на мост через Темзу, как предмет поклонения. – Эта подробность «Божеств. Комедии» приводится в подтверждение мнения, что Данте был в Англии, где и слышал об этом сердце.
131-132. Глубина крови все растет, пока не доходит до места, где терзаются тираны, погруженные до самых ресниц.
135. Пирр, царь Эпира, известный войнами с Римом. «Ужасный не только с врагами, но и с собственными подданными». Секст, сын знаменитого Помпея. После смерти отца занялся морским разбоем в Сицилии.
137. Риниер да Корнето, известный грабитель на морском побережье Рима. – Риньер Пацци – флорентинец знатного происхождения, грабивший по дорогам в Вальдарно (около Флоренции).
139. Т. е. – Кентавр вернулся обратно, исполнив свою миссию.
Песнь тринадцатая
9. Корнета (древн. Тарквинии, небольшой городок в Лациуме, близ моря, к северо-западу от Рима. Знаменитый этрусский некрополь. Чечина – река, еще далее к северу, весьма нездоровая, болотистая (маремма).
10. Гарпии – злобные чудища, полуженщины, полуптицы.
19. А там начинается уже третье кольцо седьмого круга.
48. Намек на III книгу Энеиды, где рассказывается, что когда Эной сломал кустик на могиле Полидора, оттуда потекла кровь.
58. Пиер делле Винье, из Капуи, известный секретарь Фридриха II. Вначале пользовался неограниченным доверием императора (сказано: «обладал обоими ключами от сердца», – т. е. мог внушить какое-либо решение, или отговорить от чего-нибудь). Впоследствии был обвинен в измене, или даже в намерении отравить Фридриха. За это был ослеплен. В отчаянии покончил с собой.
63. Преданностью и энергией возбудил ненависть гвельфов, откуда и явились клевета и смерть.
64. Зависть. По другим – Римская Церковь.
68. Август – Фридрих II. «Из уважения к Октавиану всех императоров называют еще Августами».
73. Клянусь моей новой жизнью здесь («новыми корнями этого дерева», т. е. самого себя).
84. В третий раз поэт сочувствует осужденным: 1) Когда Вергилий рассказывает о тех, кто в Лимбе (IV, 40); 2) Паоло и Франческо (V, 142). Быть может, здесь сочувствие вызвано тем, что Пиер делле Винье погиб из-за зависти – мотив очень личный для Данте, как личен был и мотив любви.
89. В узловатые, искривленные деревья.
102. В подл. – «окно», отверстие.
118. Сиенец Лано, гвельф. В 1280 году аретинцы под начальством Бонконте де Монтефельтро разбили сиенцев при Пиеве дель Топпо. Лано, промотавший все свое имущество, участвовал в этой битве, он мог бы спастись, но не желая жить в бедности, кинулся на врагов, заранее обрекая себя на гибель – и был убит. Также и теперь он идет на смерть и не может ее найти.
127. Якопо.
133. Эти слова произносит дух, заключенный в кустике, куда кинулся Якопо да Сайт Андреа, сын богатейшей женщины, у которой было шесть мужей. Мать оставила ему наследство двух богатейших фамилий. Полагают, что Эццелино приказал убить его в 1239 году. Знаменитый расточитель, как видно из следующих анекдотов. Он поджидал несколько человек на пир у себя на вилле и так как гости запаздывали из-за ночной темноты, приказал поджечь несколько соломенных хижин вдоль дороги, частью, чтобы едущие не заблудились, частью, чтобы выказать им знак веселого настроения и дружеского приема. Однажды подобно Нерону он захотел видеть большое пламя и поджегши виллу, принадлежавшую ему, наблюдал издалека, как она горела. Плывя в Венецию, пускал по воде для забавы золотые и серебряные монеты и развлекался тем, что смотрел, как они делают рикошеты.
143. Одни считают, что в кустике был заключен дух Рокко ди Моцци, растратившего все свое имущество, и повесившегося. – Другие – что это судья, который повесился в собственном доме, подавленный отчаянием за несправедливо вынесенный им приговор.
147. Флоренция, первоначально языческая, избрала Марса своим покровителем, и его конная статуя, в вооружении, была поставлена в храме, где теперь Баптистерий. Город, обратившийся в христианство во времена Константина, избрал своим патроном Иоанна Крестителя вместо Марса, и статуя была вынесена из храма. Так как некоторые принадлежали еще к языческому заблуждению, то не пожелали разрушить ее, а сохраняя как палладиум, поставили на башню близ Арно. И она оставалась там, пока Атилла (который, как всякому известно, никогда не переходил Апеннин), или лучше Тотила (это тоже противоречит истории) не взял города и не разрушил его, так что статуя упала в Арно. Когда Флоренция была снова отстроена Карлом Великим (и это вновь вымысел), нижняя часть статуи была найдена в реке, на нее взирали всегда с некоторым мистическим ужасом; ее поставили на пилястру в начале моста Понте Веккио. И она оставалась там до 1333 года, когда большое наводнение разрушило мост и унесло все следы статуи. (Блан). Итак, Марс грозит и печалит и теперь Флоренцию своим искусством (своими делами), т. е. войнами внешними и внутренними. «Некий его образ» – обломок статуи.
150. «Совершили бы свой труд напрасно» – существовало мнение, что эта статуя была как бы Палладиумом Флоренции. Если бы «некий образ» не стоял еще на мосту чрез Арно, город погиб бы вновь.
Песнь четырнадцатая
1. Данте был флорентинец, и душа, заключенная в этом кустике сказала, что она также была из Флоренции (см. XIII, 143).
3. Т. е. изошедшему кровью кусту.
6. Второе кольцо седьмого круга – от третьего.
11. Перед «лесом скорби» протекает кровавая река, которую мы уже видели – «печальный ров» (XII, 47).
14–15. Катон Утический вел свое войско в песках Ливии, подобных этим.
22. Лежат на спине насильники над Божеством; слетающее пламя поражает их рты, которыми они хулили Бога.
23. Сидят ростовщики; они ничего не делают, как не работали и в жизни, заставляя трудиться мертвый металл.
24. Бегают содомиты, подгоняемые непрерывно своими страстями, подобно носящимся сладострастным V песни; но место действия еще мрачнее, и их жжет огонь.
27. Лежачие больше страдали.
31. В так назыв. письме Александра Великого в Индию после страшной бури снег шел in modum vellerum, и Македонский вождь приказал солдатам топтать его ne castra cumularentur, и чтобы быть в состоянии вновь зажечь обычные огни. Одно однако спасло войско, что после снега пошел проливной дождь, который снес этот снег.
49. Капаней, один из семи царей, осаждавших Фивы. Известен своей ненавистью и презрением к Богу.
56. Монджибелло, на Этне в Сицилии, где предполагалось местонахождение кузницы Вулкана.
58. Флегра, долина в Фессалии. Место битвы гигантов с Зевсом.
60. Т. е. – не была бы полной. Капаней все же не склонился бы пред ним.
67. Дословно: «…обратился ко мне более мягкими устами».
72. Сказано иронически.
77. Флегетон.
88. Буликамэ – озерцо близ Витербо, питающееся сернистыми источниками. По-видимому, во времена Данте проститутки брали там ванны. В одном постановлении коммуны Витербо от 1464 года повелевается, чтобы проститутки не смели купаться с гражданками, а отправлялись бы на купание в Буликамэ.
96. Сатурн
100. Рея, жена Сатурна и мать Юпитера, называемая также Кибелой.
101. Сына своего Зевса, от Сатурна.
103–104. Одна из загадочных аллегорий Данте.
105. Крит находится на прямой линии между египетской Дамиэттой и Римом. Дамиэтта лежит на границе между Азией и Африкой. Старец, образ всемирной истории, обращает к пей плечи. Ход истории соответствен движению неба с востока на запад.
116. Слезы, которыми плачет Старец изо всех своих трещин, за исключением головы из золота, представляют из себя всеобщность грехов, содеянных человечеством в три последние века испорченности, и они текут в громадную пропасть, «содержащую в себе зло всего мира» (Ад, VII, 18); и образуют сперва реку, называемую печальной рекой Ахероном; она появляется затем «более темная, чем багровая» в кругу скупцов; наводняет болота Стикса, где погружены гневные; быть может, по замыслу поэта все та же река, обращенная в кипящую кровь, мучит насильников в первом кольце; красная и кипящая появляется несколько ниже, в печальном лесу самоубийств под именем Флегетона и достигнув «бездны, пожирающей Люцифера и Иуду», обращается в огромнейшую груду льда по имени Коцит.
131. Данте делает вид в своей поэме, что верит мифологии, следовательно, он не мог сомневаться в существовании знаменитой реки забвения.
136. Лета – река забвения, находится в Чистилище. (См. Чист. XXVIII, 121).
Песнь пятнадцатая
1. Мы идем по прибрежью.
3. «Охраняет» «Естественно, что дым гасит огонь, и мы видим, что если поставить зажженную свечу над дымом, она тотчас погаснет». (Бути). «Плотина» – здесь имеется в виду прибрежье ручья.
4. Гуццандт или Виссант, городок недалеко от Калэ. Вероятно его и имел в виду Данте; и выражение «между Гуццандтом и Брюгге» охватывает все фламандское побережье.
9. Киарентана – снеговая гора в Треитино, в верховьях Бренты. Разлив Бренты весною обусловлен таянием снегов на ней.
12. Бог ли, или демоны.
30. Брунетто Латини, из знаменитой флорентийской фамилии, родился в 1220, умер во Флоренции в 1294 году. «Был великий философ и учитель риторики, замечательный как в искусстве красноречия, так и декламации. Был светским человеком, но мы упоминаем о нем, так как он первый начал обтесывать флорентинцев, и был в этом учителем, и делал их заметными в красноречии и в умении вести республику и управлять ею по правилам политики» (Дж. Вил-лани). Флорентинцы очень почитали его и выбрали оратором Коммуны. В 1260 году он был назначен послом к Альфонсу Кастильскому. Но прежде чем посольство было снаряжено, гвельфов разбили при Монтеаперти и изгнали из Флоренции, среди них и сера Брунетто Латини с его близкими. Брунетто удалился во Францию. В 1269-м возвратился во Флоренцию. В Париже он написал известное «Tesoretto». Был учителем Данте и Гвидо Кавальканти.
52-53. Т. е. не вернулся назад в долину.
55. «Если ты будешь следовать наклонностям, которые у тебя есть от природы благодаря влиянию счастливой звезды. Это сказано согласно принципам астрологии» (Бианки). Когда Данте родился, Солнце находилось в созвездии Близнецов (Рай, XXII, ПО). Близнецы, говорит Оттимо, по словам астрологов указывают на писание, науку и способность к познанию.
61-62. Фиезоле – по флорентийскому преданию первый город мира, или по крайней мере «первый город, построенный в Европе» (Дж. Виллани). По той же хронике Виллани – Фиезоле разрушил Юлий Цезарь, римляне построили новый город, Флоренцию, – «каковой город должен был состоять наполовину из фьезоланцев, наполовину из римлян». Так что «город Флоренция ведет свое происхождение от Фиезоле» (Маккиавелли, Ист. Флоренции). Эта смесь Римлян с Фиезоланцами и была, по мнению Виллани, причиной вечных смут и раздоров во Флоренции. Данте считал себя потомком древних Римлян; действительно, он склонялся к аристократизму. Он отличал Флорентинцев, сошедших из Фиезоле, от чистокровных Римлян. Первых он презирал.
63. Фиезоле расположено на горе, над Флоренцией.
67. Два объяснения этой поговорки о флорентинцах. Первое – что их обманул Тагила, которому они слепо поверили; второе – что Пизанцы, предложившие им две испорченные порфировые колонны.
71. И Белые и Черные захотят, чтобы ты принадлежал им.
76. См. выше, 61–62 в конце.
81. Если бы все мое желание исполнилось, вы жили бы еще.
85. Становится бессмертным благодаря творениям своего духа и приобретает славу в мире.
87. Во всей этой песни Данте говорит о сер Брунетто с великим почтением и любовью, тем не менее помещает его в Аду и предает потомству память о нем как бы загрязнению. Это всегда казалось странным комментаторам. В сущности, здесь сам Данте опять грешит сочувствием грешнику. То же, что он все-таки поместил своего учителя в Ад, по мнению Скартаццини может объясняться лишь неподкупной его суровостью и прямотой, не делавшей исключения и для людей, которых лично он любил.
99. Вместо того чтобы повторять слова, сказанные уже Данте однажды (X, 127), Вергилий говорит ему то же поговоркою. Напоминая ему эту поговорку, Вергилий приглашает его твердо хранить в памяти слышанное.
108. Педерастией.
109. Присциан, знаменитый грамматик VI века, из Кессарии.
110. Францеско д'Аккорсо, видный болонский юрисконсульт, сын знаменитого Аккорсо, толкователя Гражданского права.
112. Андреа де Мощи, флорентийский епископ в 1287 г., переведенный в Виченцу в 1295 г. («с Арно на Баккильоне»). – Флоренция на реке Арно, Виченца на Баккильоне. «Слугою слуг» – папой Бонифацием, называвшим себя так.
119. «Тезоро» – главное произведение Брунетто Латини, написанное по-французски. Нечто вроде энциклопедии того времени, обнимающей все отделы знания. По преимуществу это компиляции из древних (Плиния, Библии и т. д.). Сер Брунетто написал еще «Тезоретти», «Первый образец аллегорической поэзии на итальянском языке» в стихах.
122. «Кто бежит в Вероне» – народное зрелище, бега лошадей, palio, – так назывался кусок зеленой материи, который давали победителю. Празднество было установлено в честь победы веронского подеста Аццо д'Эсте над графами ди С. Бонифацио и Монтекки, 29 сентября 1207 г. Справлялось оно ежегодно, в первое воскресенье великого поста.
Песнь шестнадцатая
1-2. Из седьмого круга в восьмой.
9. Флоренция.
18. Т. е. это очень важные лица.
37. Гвальдрада, дочь доброго мессера Беллинчиона Берти де Равиньяни, графа Гвидо старшего, или Гвидо Гверра.
38. Гвидо Гверра, начальник гвельфского войска Флоренции, изгнавшего в 1255 г. гибеллинов из Ареццо. Не советовал Флорентинцам идти против Сиены, предвидя поражение при Монтеаперти. По словам Виллани «человек великой души, который всегда размышлял и желал великого, человек крепкий и воинственный, и действительно сведущий в войне». Умер бездетным, завещал имущество Флорентийской коммуне.
41. Теггьяйо Алъдобранди: «мудрый рыцарь и храбрый в битве, очень уважаемый» (Виллани). Также был против сиенской экспедиции, окончившейся разгромом при Монтеаперти.
44. Якопо Рустикуччи, флорентинец, не знатного рода, но богатый, приятный и умный. Анонимо Фиорентино рассказывает, что однажды, когда он привел себе в комнату мальчика, жена бросилась к окну, крича: «Пожар!» Сбежались соседи, и Якопо должен был выйти из комнаты и показать, кто был с ним. Другие просто описывают, что он разошелся с женой и предался содомии.
47. Так велико было его уважение к этим флорентинцам.
70. Гульельмо Борсьере, учтивый и приятный кавалер, о котором упоминается в Декамероне (Д. I, нов. 8.).
73. «Новые люди» – недавно осевшие во Флоренции.
94. Здесь поэт сравнивает шумное падение Флегетона из седьмого в восьмой круг, с водопадом реки Аквакеты у монастыря С. Бенедетто, в Апеннинах. В верхней части она называется Аквакета, а у Форли меняет название на Монтоне. Монте-Везо (ныне Монвизо) – гора, откуда берет исток эта река.
102. Монастырь С. Бенедетто, во времена Данте принадлежавший графам Гвиди, по своим доходам мог бы служить приютом для очень многих монахов, или бедняков; но в то время именно монахов было мало, и они мирно пользовались обильными доходами.
106. «Я был обвязан некоей веревкой» – веревка, которую носили францисканцы.
107-108. «И с ее помощью думал однажды уловить пантеру…» – думал, что надев одеяние францисканцев, одолеет искушения плоти. Скартаццини (расходясь с Бланом) принимает за достоверное свидетельство Бути, что Данте одно время собирался постричься в монахи-францисканцы. Символический смысл этой «веревки», вызвавшей ожесточенные споры среди дан-тологов, он объясняет так: «…Данте, дойдя до края восьмого адского круга, снимает с себя веревку, дает ее Вергилию, и не надевает ее уже более; эта веревка не может изображать какую-либо добродетель, но именно порок, который навсегда он от себя отстраняет…» Для Скартаццини несущественно, что когда Вергилий бросает веревку в бездну, на нее является Герион.
120. Сказано о Вергилии, читающем в душе Данте.
131. Чудовище Герион.
Песнь семнадцатая
1. Герион – образ обмана. В первых стихах Данте описывает его. По мифологии Герион – трехголовый гигант, которого убил Геркулес.
10-12. Лживый облик, вначале праведности, а затем лукавства.
16. Переведено по толкованию Скартаццини; color sommesso – это фон, color sopraposto – цвет или краска выделяющаяся на нем. Другие считают, что речь идет о лицевой стороне ткани и подкладке.
18. Арахнэ – знаменитая лидийская пряха, обращенная Минервой в паука.
21-22. На Дунае. Бобер приседает у воды, готовясь к охоте. Пьетро ди Данте приводит старинное поверье, будто бобер ловит рыбу, погружая в воду хвост, выделяющий маслянистую жидкость; а она привлекает рыб.
24. У каменной тропы, рубежа, ограды.
38. Girone – собственно – «большой круг».
55. Ростовщики. Они и здесь не могут расстаться со своими кошелями.
57. Взор их не отрывается от того, что, наивные, ценили они в жизни.
60. Герб Джианфильяцци из Флоренции – голубой лев на золотом поле. Это был гвельфский род: Джианфильяцци были изгнаны из Флоренции после сражения при Монтеаперти. Принадлежали к Черным (врагам Данте).
63. Герб Убриаки, (белый гусь на красном поле) – гибеллинского рода во Флоренции.
64. Благородный род Скровиньо из Падуи (голубая свинья на белом фоне). Быть может, Данте говорит здесь о Реджинальдо Скровиньи, известном ростовщике.
68. Сосед – согражданин. Быть может, это Виталиано дель Денте, избранный подестой на первые шесть месяцев 1307 года. Или же – Виталиани, который жил по соседству со Скровиньи.
72. «Сер Джиованни Буйамонте превзошел в ростовщичестве всех своих современников, <и поэтому ростовщики называли его своим главой, или князем». (Бенв. Рамб.). Другие считают, что его называют первым кавалером иронически; но одно не исключает другого, лишь ирония становится еще более горькой. (Скартаццини).
78. Они устали потому, что все время двигают руками, см. 47.
86. При четырехдневной (перемежающейся) лихорадке белеют ногти.
87. Достаточно увидеть тень, как начинается озноб.
177. Возжи солнечной колесницы. Рассказ о Фаэтоне – в Метаморфозах Овидия.
178. Млечный путь, по пифагорейцам, след ожога, нанесенного небу заблудившимся солнцем. Данте, однако, в «Convivio» примыкает ко взгляду Аристотеля, который полагал, что млечный путь образован скоплением мельчайших, невидимых звезд.
109. Икар, сын Дедала, который желая бежать с Крита, изготовил себе и своему сыну крылья, слепленные воском. От солнечной теплоты воск растаял. Икар упал и разбился.
124–126. «По тому, что муки восьмого круга приближаются, замечается спуск, а по тому, как он видит, что приближаются с разных сторон – замечается кругообразность спуска» (Скартаццини).
136. Особенность этой песни – количество сравнений. Пестрота спины Гериона сравнивается с пестротой восточных тканей; положение чудовища на краю каменной дорожки – с лодками на берегу, с бобром, опускающим хвост в воду. Ростовщики отмахиваются руками от пара и горячего песку, «как летом собаки». Один из них высовывает язык «как бык, облизывающий ноздри». Страх Данте сравнивается с ознобом четырехдневной лихорадки, отлет Гериона – с отплытием судна. Страх Данте (вновь) со страхом Фаэтона, Икара. Спуск Гериона – со спуском злого и недовольного сокола после неудачной охоты. Десять сравнений на протяжении 136 стихов! – Замечательна их жизненность и яркость (Б. 3.).
Песнь восемнадцатая
1. Подразделения восьмого круга называются Malebolge. Слово bolgia значит, собственно, мешок, сума. В переносном смысле, как здесь, – ров, канава. Я пользуюсь в своем переводе словом лог. Быть может, оно и не вполне точно передает понятие об узком и глубоком рве, зато дает возможность несколько расширить словарь, ибо, разумеется, словам ров, канава у Данте находится достаточно применения. В восьмом круге, разделенном на десять «злых логов», караются всякие разновидности обмана или лукавства.
5. Так называет он девятый и последний круг, из-за его узости сравнительно с другими.
8. Той скалы, на которой находятся в данную минуту поэты.
18. Эти гряды шли радиусами вниз к центру, пересекая лога.
28. «Большая часть христиан, живших тогда, совершала паломничество, как женщины, так и мужчины, из дальних и различных стран, издалека и из ближних мест. И удивительной вещью, невиданною, было то, что в течение всего года было в Риме, кроме римского народа, двести тысяч паломников, не считая шедших и возвращающихся, и все были накормлены и вполне довольны продуктами, как лошади, так и люди, и были терпеливы, не шумели и не дрались; и я могу засвидетельствовать это, ибо был там и видел» (Дж. Виллани).
29. 1300 год. Некоторые думают, что Данте присутствовал на этом юбилее. Возможно, что он был там послом флорентийской республики при папе Бонифации VIII. (Скартаццини).
32. Кастелло – замок св. Ангела.
33. По одним к Яникульскому холму, по другим к Монте-Джордано.
42. «Gia di veder costui поп son digiuno» – буквально перевести нельзя. Digiuno – постящийся, голодный, лишенный.
50. Венедико Каччианимико, из могущественной гвельфской фамилии в Болонье. «У него была сестра по имени прекрасная Гизола; он свел ее с маркизом Обиццо д'Эсте из Феррары, обещая, что она будет в чести и богатстве; но когда все произошло, она ничего не получила из обещанного» (Лана Болонский).
51. Переводится обычно: «к столь жалящим мучениям», – но здесь я захотел оставить целиком дантовский образ, во всей его суровой иронии (Б. 3.).
56. Маркиз – вероятно Обиццо II д'Эсте. Виллани называет его просто маркизом, другие хотя это и менее вероятно, Аццо VIII.
57. Происшествие это рассказывалось по разному.
61. Sipa говорят болонцы вместо Sia. Между Савеною и Рено (это реки) лежит Болонья. Смысл: в аду больше болонцев, чем наверно в жизни – живых.
63. Лана Болонский называет болонцев скупыми «от природы».
73. Под мостом есть проход для бичуемых, в виде арки.
86. Язон – сын Фессалийского царя Эзона; вождь аргонавтов.
92. Ипсипила – дочь Фоанта, Лемносского царя; была царицей Лемноса после избиения мужчин.
93. Она не могла решиться убить отца, и с помощью благочестивого обмена спасла его, дав возможность бежать; по другому же преданию спрятала его в ящик и бросила в море. Другим же женщинам острова сказала, что убила его.
96. Медея – прекрасная дочь Оэта, царя Колхидцев (Метаморфозы Овидия). Язон покинул ее, полюбив Креузу. Здесь он расплачивается за двойной обман.
122. Алессио Интерминелли. Интерминелли принадлежали к партии Белых и за это были изгнаны из Лукки. «Как всякий знает, Каструччио Кастракани был из рода Интерминелли. Ни современная история, ни документы луккских архивов не упоминают о таком пороке этого Алессио». (Минутоли). Древние комментаторы Божественной Комедии, напротив, называют его великим льстецом и соблазнителем женщин.
133. Таиса – блудница, изображенная Теренцием в комедии «Евнух».
134. Тразон – молодой солдат, влюбленный в Таису.
Песнь девятнадцатая
1. Симон Маг. «Находился же в городе некоторый муж, именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ Самарийский, выдавая себя за кого-то великого». (Деяния Ап., VIII, 9).
8. Tomba – здесь говорится о третьем bolgia, о логе – формой он походил на могилу.
17. «Чудный Сан-Джованни» – Баптистерий Флоренции.
18. Между комментаторами существует разногласие в понимании слова battezzatori. Одни производят его от battezzatorio (купель), другие от battezzatore (совершающ. крещение). За последнее толкование – некоторые древние и Скартаццини, за первое – Дионизи и некоторые новейшие (Джулиани). У нас переведено согласно последним. Таким образом, по нашему переводу Данте спас ребенка утопавшего в этой купели. По другому же толкованию получится, что он спас ребенка, застрявшего в дыре, где не было воды.
21. Т. е., я разбил купель из-за очень серьезного дела, и следовательно не совершил проступка.
39. «Ты знаешь мои желания, хотя я и не высказывал их словами». Этим Данте говорит, что сам он хотел пойти и поговорить с осужденными Что Вергилий читал его мысли – об этом упоминалось уже несколько раз (Песни X, 18; XVI, 12, XXIII, 25).
49. В средние века применялась казнь, состоявшая в том, что человека зарывали живого в землю головой вниз. Нередко случалось, что несчастный уже будучи опущен, пытался на несколько мгновений отсрочить смерть и призывал исповедника под предлогом, что не упомянул о некоторых своих грехах.
53. Бонифаций VIII – римский Папа, враг Данте.
54. Слова эти произносит Папа Николай III – предшественник Бонифация.
55. Виллани очень сурово отзывается о расточительности и непотизме Бонифация VIII; Виллани сам принадлежал к гвельфской партии, поэтому его свидетельство особенно ценно.
56. Николай III, думая, что это подходит Бонифаций VIII, упрекает его в коварстве и обманах, которыми он пользовался, чтобы достичь Папства. Муратори сообщает, что заставляя предшественника своего Целестина V отказаться от папского сана, он приказывал по ночам трубить в трубу, которая должна была обозначать голос с Неба.
57. «Прекрасная Дама» – Церковь.
70. «Был сыном Медведицы»: Папа Николай III происходил из рода Орсини (Orso – медведь)
72. На земле в кошель собирал деньги, а здесь сам кинут в яму, как бы в кошель Николай III был избран Папой в декабре 1277 г. и умер в августе 1280 г. «Пока он был молодым клириком и затем кардиналом, он отличался честностью и благочестивой жизнью; но когда сделался великим Папой, то подстрекаемый своими родственниками, предпринимал многое, чтобы выдвинуть их, и был первым Папой, при дворе которого практиковалась симония по отношению к членам семьи, благодаря чему он очень возвысил свою родню, даря земли, крепости и деньги преимущественно пред всеми римлянами, в том недолгое время, пока жил. Этот Папа назначил семь римских кардиналов, большею частью своих родственников» (Ric. Mab.).
79. Бонифаций простоит здесь «с красными ногами» меньше, чем стоял я, ибо тот, кому надлежит явиться сюда после него, не заставит себя долго ждать. Николай умер в 1280; Данте встречает его в Аду весною 1300 г., значит, уже 20 лет жарил он свои ноги в этой дыре. Спустя три года, 12 октября 1303 явился Бонифасий VIII, чтобы занять завидное место, а Николай провалился вниз. Но спустя Ю'/г лет явится еще один и станет на место Бонифация (Климент V – умер 20 апреля 1314 г.) Николай предсказывает, следовательно, что Бонифаций не простоит там головой вниз столько времени, сколько стоял он сам, т. е. менее 20-ти лет. Нам кажется слишком очевидным, что эти стихи были написаны после смерти Климента V, хотя другие старательно утверждают противное (Тройя). Итак, эта песнь была написана не ранее 20 апреля 1314 г. (Скартаццини).
82–83. «Пастырь с Запада» Климент V, Бертран дель Готто, архиепископ Бордосский из Гаскони. Гасконь – на запад от Рима.
85. Язон – сын первосвященника Симона II и брат первосвященника Онии III. По рассказам Маккавейских книг, он купил должность первосвященника у Антиоха, удалив своего брата; ввел греческие обычаи, основал в Иерусалиме лицей и т. д.
87. Как к нему был мягок Антиох, так Филипп Красивый – к Клименту V.
96. «Преступная душа» – Иуда Искариотский.
99. Карл Анжуйский. «И еще вступил в споры Николай III с королем Карлом по причине того, что этот Папа требовал от короля, чтобы тот породнился с ним, желая выдать одну свою племянницу за племянника короля, а король Карл не соглашался на этот брак… из-за чего Папа негодовал на него, не был уже его другом, но во всяких делах втайне был ему противником… и был весьма против него во всех своих предприятиях, и за деньги, которые получил, по его словам, от Палеолога, поддерживал и сочувствовал восстанию против короля Карла на острове Сицилии». (Дж. Виллани).
109. Данте обращается свободно с аллегориями священного писания. Жену, сидящую на водах многих, (Рим или вернее папство), он снабжает головами и рогами, меж тем в Апокалипсисе они приписываются зверю, на котором сидит Жена (Блан). – Семь голов – это семь гор, на которых сидит Жена (равно семи холмам Рима).
110. Десять рогов – десять Царей, которые не получили царства, но примут власть от зверя на один час.
115. В этих и следующих стихах он намекает на знаменитую легенду о так назыв. Даре Константина, чему во времена Данте обычно верили. Предполагалось, что Император Константин, исцеленный от проказы Сильвестром, тогдашним Папой, подарил церкви Рим. «Уже Лоренцо Валла и в последнее время знаменитый Доллингер обнаружили подложность документа». (Скартаццини).
117. Папа Сильвестр – «первый богатый Пала».
Песнь двадцатая
9. Литании – процессии.
27. Данте заплакал. На этот раз Вергилии упрекает его, чего не делал, когда Данте сочувствовал Франческс-да-Римини и Пьеру делле Винье. Быть может, это потому, что те грешили невоздержанностью, а эти находятся среди обманщиков.
34. Амфиарей – один из семи царей, осаждавших Фивы, чтобы восстановить там царем Полиника. Он был предсказателем, и зная, что при осаде Фив ему предстоит умереть, скрывался и не хотел отправляться туда. Но его жена выдала мужа, указав, где он был спрятан, так что он вынужден был идти. Когда он сражался, Зевс с помощью молнии разверз землю, которая и поглотила Амфиарея.
40. Тирезий – Фиванец, предсказатель в греческом войске, осаждавшем Трою. – «Изменившего внешность»: он побил двух змей, соединившихся любовно, и за это был превращен из мужчины в женщину; через семь лет, увидев вновь змей и вновь ударив их, вновь стал мужчиной. (Овидий).
46. Арон – Этрусский гадатель; по наблюдениям над внутренностями животных предсказал гражданскую войну и победу Цезаря.
47. Луни – город у устья Магры, в Луниджиане (между Луккой и Специей).
55. Манто – Фиванская предсказательница, дочь Тирезия. По смерти ее отца покинула Фивы, дабы бежать от тирании Креонта. После скитания по многим странам явилась в Ломбардию и основалась там, где впоследствии была заложена Мантуя, названная по ее имени. Согласно Вергилию, основатель Мантуи был Окн, сын Манто и реки Тиберино; он дал городу имя своей матери. Бенако – в древности так называлось озеро Гарда.
65. Гарда – городок в Веронской области, с правой стороны озера. Валь Камоника – одна из главных долин в Ломбардии. Выражение «между Гардою и Валь Камоникою» – обнимает, кроме самого озера, всю ту цепь гор, восточный склон которых питает собой озеро.
67. Это место – вероятно островок вблизи мыса Манербы.
68. Епископ.
69. Вне своей епархии епископ не может совершать епископского
благословения. В этом пункте сходятся три епархии, следовательно, он подлежит власти трех епископов: Трентского, Брешианского и Веронского.
70–71. Пескиера принадлежала в то время Скалигерам и была для них оплотом против бергамцев и брешианцев.
73. Вся вода невмешаюшаяся в озеро выливается сюда. Она образует среди зеленых лугов реку Минчио. – Говерно или Говерноло городок в 19 километрах от Манту и, на правом берегу Минчио, у места впадения его в По. В средние века был укреплен и принадлежал аббатству С. Бенедетто да Полироне. В древней истории знаменит как место встречи Атнллы с Палой Львом I, которому после долгих увещаний он обещал покинуть Италию.
82. Манто.
93. «В древности, когда надо было дать имя возникающему городу, вопрошали судьбу жребиями, и давали то имя, какое выходило» (Лан.).
95. Казалоди – гвельфские графы, которые в 1272 году завладели Мантуей. «Когда граф Альберто Казалоди и родственники его были первыми лицами и как бы повелителями Мантуи, мессер Пинамонте де Буонакорси из Мантуи, питая зависть к графу Альберту, Альберт же доверялся отчасти ему, то этот Пинамонти по своему безумию и глупости сказал ему однажды, что многие мантуанские фамилии ненавидят его, и что если он не примет мер, они сговорятся и собственными силами, и с помощью народа прогонят его. Меры же по его мнению, состояли в том, чтобы изгнать некоторых из глав этих родов; и таким способом он безопасно владел бы городом. Граф Альберт поверил, и сделал так, благодаря чему много озлобления возникло в стране. Мессер Пинамонте, видя, что пришло время собрать то, что он посеял, стал ходить по городу, подбивая граждан выступить против Казалоди, указывая, что однажды и с ними поступят так, как с их родственниками. В конце концов, воспламенив и воодушевив народ, он поднял весь город, и граф Альберт был выгнан со своими сторонниками и родственниками: благодаря чему город лишился многих обитателей». (Ан. Фиорентино).
110. Калхас – греческий жрец и Авгур.
111. Авлида – Беотийский город, где Агамемнон собрал греческое войско.
113. Трагедией Вергилий называет свою Энеиду. (Понимая трагедию просто, как произведение высокого стиля, хотя бы и эпическое).
116. Микеле Скотт, знаменитый медик и астролог при дворе Фридриха II. Умер после 1290 г. Боккачио называет его «великим маэстро некромантии».
118. Гвидо Бонатти – предсказатель из Форли; жил в 13 веке.
126. «Каин со своими терниями» – луна. Простой народ верил и сейчас еще верит в некоторых областях Италии, что пятна на луне, это лицо Каина.
127. Вчера было полнолуние. Луна сейчас на горизонте, заходит, следовательно, это утро второго дня странствия Данте по Аду, где он провел две ночи и один день.
129. Луна светила Данте ночью в лесу.
Песнь двадцать первая
7. Арсенал, о котором говорит поэт – старый арсенал, построенный в 1104 г. Во времена Данте считался одним из значительнейших в Европе.
38. Старейшины квартала св. Циты. – Святая Цита родилась близ Лукки, в 1218 г., дочь бедных родителей. Двадцати лет поступила служанкой в дом Пагано Фатинелли. Умерла в 1272 или 1278 г. Жила как святая; рассказывают о многих ее чудесах. Рассказывают, что даже Ангелы влюблялись в нее и спускались с неба на землю работать вместо нее, чтобы ей больше оставалось времени для молитвы. (Скарт.).
41. Бонтуро. – Сказано иронически. Это был величайший взяточник.
49. Серкио – река, протекающая по Луккской территории, недалеко от стен Лукки.
63. Ад, песнь IX, 22.
76. «Малакода (злой хвост) – самое имя указывает, что предприятие окажется неудачным». (Томазёо).
95. Капрона – пизанская крепость, взятая флорентинцами и лукканцами в августе 1289 года. Считается, что Данте принимал участие в этой экспедиции, и действительно, приведенные стихи не оставляют в том никакого сомнения.
105. «Скармилионе – жаждущий растрепывать, раздирать людей или предметы». (Томазео).
107. Что дьявол лжет – вполне естественно; он делает обычное свое дело, но довольно странно и удивительно, что Вергилий, «который знал все» (Ад, VII, 3), верит и дает себя обмануть.
Песнь двадцать вторая
4-5. «Я видел» – когда? – Вероятно в 1288 г, когда флорентинцы воевали с Ареццо. 1289 г. сражение при Кампальдино, где Данте юношей принимал участие. Скартаццини, однако, полагает, что это может быть намеком и на более позднее событие, а возможно, что поэт говорит вообще, не указывает ни на какой частный факт.
8. Сигнал из крепостей – днем дым, а ночью огни.
21. Пляска дельфинов предсказывает бурю.
48. Чиамполо, «сын благородной женщины из Наварры и порочного отца». (Бути). «Пользуясь благородством своего происхождения мать устроила его у одного испанского гранда. Он сумел вести себя с такой хитростью, что в короткое время приобрел любовь своего покровителя, который дал ему имя и ввел ко двору короля Наваррского» (Бенвенуто да Имола).
52. Король Тебальдо – вероятно, Тебальдо II, король Наваррский.
65. Латинца – итальянца.
67. Он говорит о Фра Гомита, с острова Сардинии, соседнего с Италией.
81. Фра Гомита снискал неограниченное доверие Нино Висконти ди Пиза, управлявшего округом Галлура в Сардинии, и пользуясь своим положением брал взятки, продавал места и допускал всевозможные злоупотребления.
88. Микеле Цанке – был управителем Логодоро, одного из округов Сардинии. Отличался также взяточничеством. Был убит в 1275 г.
91. «Взгляните на того» – того – демона Фарфарелло.
94. Барбариччиа.
120. Каньяццо.
125. Аликино.
135. «Ибо теперь мог драться» – с Аликино.
Песнь двадцать третья
3. Францисканские монахи. «Среди братьев миноритов более, чем среди других братьев принято, что когда двое идут по дороге, один, старший идет впереди, другой следует за ним».
5. Басня Эзопа, о которой здесь упоминается. Лягушка подружилась с мышью. Лягушка решила погубить мышь и отправилась с ней путешествовать. Подошли к канаве, полной воды, лягушка привязала мышь к себе на спину и поплыла. Затем нырнула и утопила мышь. Но пролетал коршун, ухватил мертвую мышь и с ней вытащил и съел лягушку. Так же и дьяволы желая нанести друг другу вред, оба попали в кипящую смолу. – Она и сыграла роль ястреба.
7. Мо – теперь. Issa – теперь.
29. Т. е. и я так же думаю.
57. «Оттуда» – с утеса (берега) пятого лога.
63. Трудно установить, говорит ли поэт о Кельне или Клюни, известном бенедиктинском аббатстве. Опираясь на древних комментаторов, Скартаццини высказывается за Кельн.
64. «Позлащены» – золото означает благочестие, добродетель, свинец обратное.
66. «Фридриховы показались бы соломенными» – по поводу этих мантий древние комментаторы рассказывают, что император Фридрих II наказывал изменников государству, надевая на них свинцовую мантию и бросая в котел стоявший на огне. Когда свинец расплавлялся – они погибали. Однако, кажется, что это клевета врагов на императора.
90. Стола – особый род одежды – тяжелая мантия.
102. В подлиннике просто весы.
103. Братья Веселья, Веселые Братья – кавалеры ордена Сайта Мария, учрежденного Палой Урбаном IV для борьбы с неверными и преступниками. Веселыми Братьями назвал их народ за то, что они вели беспечную жизнь.
104. Это Каталано деи Малавольти, и Лодеринго или по другим Родериго дельи Андало, болонцы; первый из гвельфской партии, второй гибеллин, избранные подеста Флоренции 1266 г. (Бианки).
108. Гардинго – квартал во Флоренции рядом с палаццо Веккио. В Гардинго были дома Уберти; подеста подкупленые гвельфами сожгли и уничтожили эти дома. 119–120. Каждый приходящий в свинцовой мантии.
121. Его тесть, первосвященник Анна, казнится подобным же образом.
124. Вергилий удивляется потому, что когда спускался в Ад под чарами Эрихто (Ад, IX, 22), то Каиафы и его родственников не было еще в шестом логу, следовательно, это для него новость.
127. Спросил у Каталано.
134. Большой круг – седьмой круг, опоясывающий все злые лога, где ссадил их Герион. Он называет его большим, так как он больше остальных, все уменьшающихся к центру Ада.
136. «Не покрывает» – не образует моста над этой долиной.
139. Вергилий стоит, раздумывая над обманом демонов.
Песнь двадцать четвертая
1-2. Водолей – созвездие, в которое вступает Солнце 21 января и находится там до 21 февраля – начало весны.
6. Иней быстро тает под лучами Солнца.
21. При входе в Ад (Ад, I, 61).
31. Намек на тяжелые мантии лицемеров.
32. Вергилий легче потому, что лишен тела.
41. До вершины седьмой плотины.
42. «Туда, где во время землетрясения рухнул самый верхний камень» (Томазео).
55. В Чистилище.
79. «С головы моста» – с той части моста, которая соединяется с восьмым берегом, т. е. с тем, который опоясывает восьмой лог.
86. Хелидры – змеи, живущие на суше и в воде. Якулы, тоже род змей. – Фареи – змеи с двумя ногами.
87. Ченкры – разноцветные змеи, которые, как говорят, движутся всегда извиваясь и никогда не идут прямо. – Амфисбены – двухголовые змеи.
90. Страна, лежащая над Красным морем. – Данте намекает здесь на три пустыни вокруг Египта: на Ливию, слева от Нила, Эфиопию, к югу от Египта и Аварию, справа от Нила. (Скартаццини).
93. Гелиотроп – драгоценный камень зеленого цвета, напоминающий изумруд, но он осыпан и испещрен красными пятнышками. По поверию обладает чудесной силой против всяких ядов и, в особенности, исцеляет укусы змей; кроме того, ему приписывалось свойство делать невидимым того, у кого он находится. «Камень большой ценности, ибо кто носит его никем не видим». (Боккачио. Декамерон).
125. Ванни Фуччи. Ванни был внебрачный сын мессера Фуччи де Ладзари, благородной пистойской семьи. Отличался жестокостью, тиранством и скотством.
129. Данте знал его за человека кровожадного и яростного, но не вора и ожидал встретить его не в этом месте, (а выше, в 7-м круге, среди насильников). Ванни был одним из наиболее свирепых сторонников партии Черных, злоумышлял против Фоккаччио Канчельери, убил кавалера Бертино и совершил много других насилий.
143. Черных изгоняют из Пистойи: «в год от Рождества Христова 1301-й, в месяце мае, партия Белых в Пистойе с помощью и при поддержке Белых, владевших городом Флоренцией, изгнала партию Черных и разрушила их дома, дворцы и владения, и среди других могущественное и богатое владение из дворцов и башен, принадлежавшее Черным Канчельери, называвшееся Дамиата». (Дж. Виллани).
144. Черные были изгнаны из Пистойи в мае 1301 г., Карл же Валуа вошел во Флоренцию в день Святых того же года (Виллани). Корсо Донати, который был изгнан, возвратился во Флоренцию с некоторой свитой из друзей и пеших разбойников; партия Белых, напротив, была изгнана из Флоренции. – «Правление» – Флорентийская Синьория, находившаяся сначала в руках Белых, перешла к Черным, вследствие прибытия Карла Валуа.
145. «Марс» – маркиз Мороэлло Маласпина, сын Манфреда. 148. Кампо Пичена – между Серравалле и Монте Катини (ападнее Пистойи). Ни Виллани, ни Дино Компаньи совершенно не упоминают об этом сражении на Кампо Пичена.
Песнь двадцать пятая
12. В злых делах ты уже превзошел самих твоих основателей. Во времена Данте в Пистойе существовало предание, что она была основана теми, кто спасся после поражения Катилины.
16. Ванни Фуччи
25. Какус – сын Вулкана – получеловек, полусатир, живший в пещере Авентинского холма. Благодаря хитрости украл четырех быков и четырех коров у Геркулеса. Мычание коров выдало их Геркулесу, он пошел в пещеру и убил чудовищного вора. Какус есть символ силы, соединенной с коварством. У Вергилия (в Энеиде) он получеловек, Данте обращает его в Кентавра (Скартаццини).
33. Быть может, он умер, не получив и десяти ударов.
43. Чианфа – из знатной фамилии Донати во Флоренции. Какое воровство он совершил – об этом никто не упоминает. По-видимому, занимал важную должность в правительстве республики.
68. Аньель Брунеллески. «Этот Аньело происходил от Флорентийских Брунеллески. И еще маленьким ребенком опустошал кошелек родителей, затем опустошал кассу в лавочке. Став взрослым приходил к разным людям, одетый по бедному, с приделанной бородой старика, и поэтому Данте заставляет его превращаться под укусами этой змеи, как делал он воруя». (Сельми).
85. Пуп, через который питается младенец в материнской утробе.
94. Лукан в поэме «Фарсала».
95. Сабелл и Насидий были по Лукану два солдата из войска Катона, которых в пустынях Ливии укусили змеи.
97. Кадм – бежавший из Фив в Ливию со своей женой, был там обращен в змею. – Аретуза, одна из Нимф Дианы. Преследуемая богом реки Алфея, обратилась с мольбой к Диане, которая превратила ее в источник.
122. Не переставая, однако, упорно всматриваться друг в друга.
140. «Другому – третьему из трех духов (см. 35), который один только не превратился ни во что». – Буозо – так назывался тот, который обратился в змею и со свистом удалился. Это Буозо дельи Абати – флорентинец.
144. Скартаццини полагает, что выражение «se fior la penna abborra», значит «если перо мое немного замедлилось». У нас переведено «заколебалось», т. е. как бы несколько блуждает, соответственно Блану, Витте, Фратичелли, Бианки и многим другим.
148. Пуччио Шианкато – флорентийский гражданин из фамилии Галигаи. Комментаторы указывают, что когда этот Пуччио занимал одно из первых мест во Флорентийской республике, он обогатился на общественный счет. «Был вор и дурного поведения». (Анонимо и Сельми).
149. «Из трех товарищей»– Сначала показываются три флорентийских вора: Аньело, Буозо и Пуччио. Затем появляется Чианфа в виде шестилапой змеи (см. 50) и сливается с Аньело. Наконец, перед нами Гверчио Кавальканти под видом змейки (см. 82) и меняется своей природой с Буозо. Это и суть пять флорентинцев (Ад, XXV, 4). Донати и Брунеллески принадлежали к партии Черных, Абати и Кавальканти – Белые. Данте, как всегда, беспристрастен. (Скартаццини). Взгляд, с которым вряд ли можно согласиться.
151. «Другой» – тот, который ранил Буозо и обратился в человека. «Это мессер Франческо Кавальканти, которого убили некоторые люди из Гавиллы, города в верхней Валь д'Арно, в окрестностях Флоренции, из-за каковой смерти родственники мессера Франческо убили и разорили многих из жителей Гавиллы; и поэтому, говорит Автор, из-за него этот город и сейчас еще плачет…» (Анонимо Фиорент.).
Песнь двадцать шестая
4. Пять – Чианфа, Аньело, Буозо, Пуччио и Гверчио Кавальканти, о которых говорилось в предыдущей песни.
9. Не ясно. Говорит ли Данте о бедствиях внутри города которым будут рады враги, среди них и угнетаемые Прато, или же имеется в виду вообще несчастия (гибель с человеческими жертвами моста Каррайа, страшный пожар 10 июня 1304 г.). Возможно, что подразумевается кардинал Николло ди Прато, папский легат, который внезапно покинул Флоренцию 4-го июня 1304 г., сказав флорентинцам: «Раз вы хотите жить в войне и проклятии, и не хотите ни слушаться, ни подчиняться посланнику викария Господня, то не будет среди вас ни покоя, ни мира, оставайтесь с проклятием Господа и Св. Церкви; и отлучил граждан, и оставил отлучение над городом, так что считалось, что благодаря этому проклятию, заслуженному или нет, произошла большая опасность для нашего города из-за бедствий и опасностей, случившихся вскоре» (Дж. Виллани).
10. Т. е. ты уже заслужила эту беду.
12. Мне тяжелее будет выносить твои несчастия, когда я стану старым.
23. «Нечто лучшее» – Благодать Божия. Солнце в летнюю пору.
26-27. Вечером. Солнце заходит, мух становится меньше, появляется занзара, москит, большой комар, типичный для итальянского лета, кусается довольно сильно. Вряд ли во времена Данте боролись с ним как-нибудь. Теперь существует особое куренье, которое жгут в комнатах. Дым его выгоняет занзар.
29. Картина очень знакомая всякому, кому доводилось июньским вечером возвращаться во Флоренцию из Фьезоле или Сеттиньяно. В прозрачной синеве ночи – золотые, причудливо летающие пули светлячков.
34. Пророк Елисей, ученик Илии. «И пошел он оттуда в Вефиль. Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города, и насмехались над ним, и говорили ему: „иди, плешивый, иди, плешивый“. Он оглянулся и увидел их, и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса и растерзали из них сорок два ребенка». Библейский рассказ, полный до-христианской свирепости.
41. «Похищенного» – пламя, облекая, скрывая собою грешника, как бы уворовывает его.
52. Улисс и Диомед заключены в одном пламени, которое потому раздваивается в верхушке. Больший рог – Улисс, меньший – Диомед. Они вместе грешили, вместе и наказываются.
54. Этеокл – сын Эдипа, царя фиванского и Иокасты, близнец Полиника. Близнецы заставили Эдипа отречься и уйти из Фив в изгнание; он проклял их, сказав, что они будут ненавидеть друг друга. Они решили царствовать по году поочередно, но когда первый год истек, Этеокл отказался уступить второй брату. Полиник отправился тогда в Арголиду искать союзников, женился там на Аргии, дочери царя Ад-раста, и вернулся при поддержке шести Арголидских царей, чтобы осаждать Фивы. Этеокл и Полиник встретить на поле сражения и убили друг друга. Так велика была ненависть между ними, что когда их положили на общий костер, пламя его разделилось надвое. (Диодор Сицилийский. IV, 7, 7).
57. «На злое» – на войну против троянцев. Соединенные в злых делах, соединенные в муке Улисс и Диомед всегда упоминаются вместе, когда говорится о действиях коварных, обманных, кровавых.
60. «Из этих ворот вышел затем Эней, который явился в Италию, и был благородным семенем знаменитых римлян, ибо от него получили они свое происхождение». (Веллутелло).
62 Деидамия – дочь Ликомеда, царя Скирского, жена Ахилла; при дворе ее отца Ахилл скрывался в женском платье. Улисс и Диомед хитростью добились того, что он бросил ее и отправился на войну с Троей. Горе покинутости и измены убило ее.
63. Палладиум – статуя Афины в Трое, ей приписывали силу охранять город, Улисс и Диомед, благодаря хитрости, похитили ее.
91. Цирцея – волшебница, жившая на острове Эа, у которой Улисс прожил более года
92. На мыс Цирцеи.
93. Эней назвал Гаэту по имени своей кормилицы, умершей там.
107. Гибралтарский пролив.
108. Знаки Геркулеса – колонны Геркулеса.
111. Сеутта – современная Цеутта, город в Африке.
117. Следуя за Солнцем, плывя с востока на запад. – «Без людей» – тогда думали, что другое полушарие необитаемо.
127. Антарктический полюс.
130–131. Улисс указывает, что уже пять полнолуний прошло с момента, как он вышел за Гибралтар. – «На нижней стороне Луны» – точнее, на ближней к земле, которая нам бывает видима при полнолунии.
133. Гора Чистилища. Так полагает большинство комментаторов.
141. «Как угодно было Другому» – другой это Бог, который не позволяет, чтобы живой вступил в царство мертвых.
Песнь двадцать седьмая
7. Медный бык, сделанный Периллом афинским для Фаларида, тирана Агригентского. Он был так устроен, что крики несчастных жертв обращались в мычание живого быка Фаларид приказал Периллу войти туда первому, чтобы произвести опыт.
14. Мы принимаем чтение Витте nel fuoco, а не del fuoco, как предлагает Скартаццини.
21. В этой строке встречаются два слова ломбардского диалекта, issa, – теперь и aizzo – возбуждаю, беспокою. Вся эта строка – заключительные слова Вергилия, направленные к Улиссу и Диомеду. Дух слышал их и потому думает, что пришельцы из Ломбардии.
30. «И вершиной» – Аппенин, откуда берет начало Тибр, – у подножья Монте Коронаро. Между Урбино и истоками Тибра лежит город и страна Монтефельтро. Дух, который говорит – это Гвидо, граф да Монтефельтро, гибеллин.
37. Романья простирается от Пезаро до реки Панаро и По, гранична на востоке с Адриатическим морем, а на западе с Тосканой. Столицей была Равенна
38. Тиранны Романьи постоянно замышляют войны, но когда я оставил Романью, открытой войны там не было.
41. «Орел». Мессер Гвидо да Полента был властителем Равенны во времена Автора, в гербе его красный орел на желтом поле, (Анонимо Фиорентино).
42. Червия, приморский город в 12 милях от Равенны, на который дом Полента простирал свою юрисдикцию.
43. Форли.
74. Когда граф да Монтефельтро был властелином Форли, Мартин IV отправил против него войско, составленное большею частью из французов. Город выдержал долгую осаду, названную здесь долгим испытанием, пока благодаря искусству самого графа Гвидо не было устроено кровавой бойни французов. Это произошло в 1282 году. (Бианки).
45. «Под зелеными когтями» – герб Орделаффи.
46. «Старый Пес» – Малатеста, отец Паоло, любовника, и Джианчиотто, мужа Франчески да Римини. «Молодой Пес» – его сын. Их называли псами, быть может, за жестокость, а, может быть, потому, что в гербе их был пес. – Верруккио – Кастелло, подаренный жителями Римини Малатесте – отцу Старого Пса, откуда впоследствии Малатесты и получили свое прозвище.
47. Монтанья – весьма знатный кавалер из Римини, свирепо убитый Малатестою, как глава гибеллинов в этой области.
49. Фаэнца – город в Романье, расположенный в равнине, орошаемой рекою Ламоне. – Сантерно – Имола – город в Романье, на берегу реки Сантерно.
50. Маинардо Пагани да Сузинана, герб которого голубой лев на белом поле.
51. «Меняет партии» – «названный Маинардо был великий и умный тиран… знал военное дело и был удачлив во многих сражениях и в свое время совершил великие дела. Гибеллином был по рождению и по своим поступкам, но с флорентинцами был гвельфом» (Дж. Виллани).
52. Чезена – город в Романье, на реке Савио.
53. «Как она расположена между горами и равниной, так частию живет под тиранией, частью свободно» (Дан). В те времена Чезена постоянно меняла правление. Каждый год новый подеста, нередко двое в одном году. Тем не менее Чезена в общем была свободнее других городов Романьи.
63. Т. е. я молчал бы. Осужденные этого круга, как и верхних кругов, желают, чтобы память о них поддерживалась в мире живых. Но этот дух думает с одной стороны, что добрая слава о нем сохраняется все же в мире, и с другой стороны он знает, что грехи, которые он откроет, доставят ему бесславие, а не славу, когда о них узнают среди живых. Так что он думает, что говорит душе осужденного, который не вернется никогда в мир и не расскажет о слышанном. Другие грешники замечают, что Данте живой; но эти духи лишены зрения. (Скартаццини).
70. Первосвященник – Папа Бонифаций VIII.
85. Бонифаций VIII Князь в двойном смысле: как глава кардиналов и клириков римской курии, которых поэт называет новыми фарисеями, и как первый фарисей сам по себе.
86. Он вел войну с домом Колонна, которые жили вблизи Латерана. Это происходило в 1297 г.
89. «Он хочет сказать: и все его враги были христиане и никого нельзя было упрекнуть, что он из числа тех, которые недавно помогали неверным изгнать христиан из г. Акры…» (Бард-жиджи). Акра, последнее владение христиан в Палестине, попала в руки сарацин в 1291 году.
90. Четвертый Латеранский собор при папе Иннокентии III в 1215 г. постановил, что те, кто помогают пиратам, и торговцы предающие своих братьев христиан, доставляя провизию и снаряжение сарацинам, будут подлежать, как изменники и нечестивцы, всему гневу Св. Церкви.
94. Существовало предание, что за преследование христиан Господь покарал Константина проказой. Петр и Павел явились ему во сне и сказали, чтобы он обратился к Папе Сильвестру, который исцелит его. Константин призвал Сильвестра, который, чтобы избежать преследования императора, бежал в Соракто, и он исцелил его от проказы и обратил в христианство. В знак благодарности Константин совершил свое знаменитое дарение (подарил Церкви Рим). См. Ад, XIX, 115.
95. Соракто, ныне Монте ди Сант-Оресте. По преданию Сильвестр скрывался в одной пещере этой горы.
97. Горделивое желание одолеть Колонна.
102. Палестрина – древнее Пренесте, во времена Данте крепость Колонна. Бонифаций долгое время осаждал ее и не будучи в состоянии взять силой, взял обманом. Он заключил с ними коварный мир, обещав вернуть все отобранное, на самом же деле разрушил и срыл до основании Палестрину.
105. Предшественник его Целестин V, отказавшийся от папства. (См. Ад, III, 59)
ПО. «И весь этот ложный и обманный договор папа сделал по совету графа да Монтефельтро, в то время минорита, сказавшего ему дурные слова: большое обещание и малое исполнение». (Дж. Виллани).
127. «Он из казнимых сокрывающего огня» – из тех кого скрывает, обволакивает огонь, в восьмом логе восьмого круга.
129. В одежде из пламени.
Песнь двадцать восьмая
3. Неоднократно принимаясь за рассказ.
10. Намек на Самнитские войны во втором веке по учреждении римской республики.
14. Робер Гискар, брат Ричарда, герцога Нормандского, победил сарацин и сделался владетелем Апулии.
16. Чеперано. «Нам представляется несомненным, что Данте намекает здесь на знаменитое сражение при Беневенте. Близ Чеперано не было никакого сражения, но не один Данте смешивал эти события». (Скартаццини). При Беневенте Карл Анжуйский разбил Манифреда, внебрачного, впоследствии, узаконенного, сына Фридриха II. – «Все апулийцы». «Большая часть апулийских баронов… изменила Манфреду, покинув его и обратившись в бегство». (Дж. Виллани).
17. Тальякоццо – замок в Абруццах; 23 августа 1268 г. вблизи него Конрадин был разбит Карлом Анжуйским.
18. Алар де Валери, французский рыцарь. Благодаря его советам, главным образом, Карл Анжуйский и победил при Тальякоццо.
31. Магомет, основатель Ислама, родился в Мекке в 560 г., умер в Медине 633 г.
32. Али, родственник и один из первых последователей Магомета, родился в 597 г., убит в 660 году.
35. Это говорит Магомет. – Фра Дольчино – отшельник, еретик, проповедовавший общность благ между христианами, вплоть до женщин; за ним следовало более трех тысяч человек и они долго грабили вокруг; наконец, он забрел в горы Новары и из-за отсутствия провианта, стесненный в снегах, был взят новарцами вместе со спутницей Маргаритой, и по варварскому обычаю тех времен его сожгли в 1307 г. (Бианки). «Надо, однако, заметить, что сообщения о поступках и учении Фра Дольчино писались его врагами, и что церковь, сжигавшая еретиков, умела также приписывать несчастным своим жертвам учения, которых они никогда не исповедовали». (Скарт.).
73. Пьер да Медицина, из рода Каттаньи да Медичина; сеял раздоры между Гвидо да Полента, властителем Равенны, и Малатестино, властителем Римини.
74. «Милая равнина» – Ломбардия. Он называет Ломбардию милой, как родину, и сравнивая ее с печальной глубиной лога, где находится сейчас. (Скарт.).
76. Фано – город на Адриатическом море.
85. «Мессер Малатеста был женат трижды: от первого брака родился Малатестино Кривой… от второго Джанчиотто (муж Франчески) и Паоло (возлюбленный)»… (Хрон. Римини у Мур.).
86. «Находящийся со мной» – Курион.
87. «Ибо там он совершил свой проступок».
89. «Фокара – высокая гора вблизи Каттолики, где обычно бывают страшные ветры». (Дан.).
90. Им не придется молить Бога, чтобы они избавили их от ветра Фокары, ибо они будут утоплены прежде, чем достигнут ее. Обычно моряки проходя у Фокары, давали обеты и молились.
93. «…Человек горького взгляда». – «Т. е. тот, кому так не хочется увидеть Римини». (Вентури). Это Курион.
96. Пьер да Медичина отвечает на первую просьбу Данте (91 – покажи мне… и т. д.). У Куриона отрезан язык и он не может говорить.
102. Курион – римский трибун, вначале приверженец партии Помпея, был подкуплен Цезарем.
106. Моска деи Ламберти. «В год от P. X. 1215 некий мессер Буондельмонте Буондельмонти, знатный гражданин Флоренции, обручился с девушкой из дома Амидеи, уважаемых и знатных граждан; и затем, когда ехал однажды названный мессер Буондельмонте верхом по городу, был же он очень веселый и красивый кавалер, то его позвала женщина из дома Донати, понося девушку, за которою он посватался, что она не красива и не подходит ему, и говоря: я приберегла для вас свою дочь; она показала ее, а та была весьма красива; тотчас, при содействии дьявола, влюбившись в нее, он обручился с нею и взял ее в жены, вследствие чего родные первой обрученной девушки, собравшись вместе, и жалуясь между собой на то, что мессер Буондельмонте нанес им бесчестие, были охвачены пагубным гневом, из-за чего город Флоренция подвергся опустошениям и разделился на партии, ибо много знатных фамилий сговорились вместе, чтобы обесчестить указанного мессера Буондельмонте в отмщение за те обиды. И находясь на совете их, где рассуждали, как надлежит оскорбить его, побить ли, или ранить, Моска деи Ламберти сказал дурные слова: „сделанное да закончится“, т. е., чтобы его убили: и так и сделали». (Дж. Виллани). По рассказам хроник, Буондельмонте был убит утром на Пасху, когда переезжал через Арно по Понте Веккио, вблизи статуи Марса. Убили его Уберти и Моска деи Ламберти. Это и послужило началом разделения на партии: кто был за Буондельмонте – стали гвельфами, а за Уберти – гибеллинами.
134. Бертран де Борн: «хороший рыцарь, хороший воин, хороший любовник, хороший трубадур; сведующий в искусстве красноречия, умел переносить счастливую и дурную долю». (Ренуар). Также в поэзии своей был довольно воинствен. Обокрал брата и воевал с Ричардом Львиное Сердце. В конце дней своих постригся в монахи – Cisterciense.
135. «Королю Джованни дал дурные наставления» – собств. Генриху, кот. называли giovane, молодым. Витте, Скарт., Фила-летес удерживают чтение giovanni, кот. не отвечает истории, но, по-видимому, отвечает представлению Данте об истории. Мы переводим по их чтению.
137. Ахитофель, советник царя Давида; приверженец Авессалома, восставшего на отца.
138. «Уколы» – советы. Ахитофель посоветовал Авессалому изнасиловать наложниц отца и убить отца.
Песнь двадцать девятая
9. Собств. «вращает» их долина, т. е. они движутся по кругообразной долине.
10. Полдень следующего дня.
27. Джери дель Белло – сын Белло. Белло же – брат Беллинчионе, деда Данте. О Джери «…Говорят, что он всегда развлекался тем, что сеял раздоры между людьми…» (Ан. Фиорент.).
31. «Насильственная смерть». «Джери дель Белло… был предательски убит одним из Сакетти, и никто из Алигиери, задетых этим убийством, не отомстил; но Ландино рассказывает, что спустя тридцать лет отмстил один из внуков, сын мессера Чиона, убивший одного из Саккетти на пороге его дома». (Бианки). Скартаццини сомневается в справедливости рассказа Ландино.
43-44. Скартаццини находит эту метафору «выразительной, несколько грубоватой». Мнение, с которым нельзя согласиться. Напротив, очень ярко и сильно сказано:
Lamenti saettaron me diversi, Che di pieta ferrati avean gli straliОдин из многих примеров непередаваемой прелести итальянских стихов. (Б. З).
47. Вальдикиана – местность в Тоскане, между Ареццо, Кортоной, Киузи и Монтепульчиано, где воды Кианы, реки впадающей в Тибр, образуют болота, делающие долину нездоровой.
48. Маремма, часть страны между Пизой и Сиеной по морскому прибрежью. (Ад, XXV, 19). Во времена Данте область эта была почти безлюдна из-за миазмов, которыми было здесь все полно. Сардиния. «Сардиния очень нездоровый остров, как знает всякий, кто был там». (Бути).
59. Эгииа – островок Греции, вблизи Афин. Гера, разгневанная тем, что нимфа Эгина возлегла с Зевсом, наслала на остров чуму, от которой погибли сначала животные, а потом люди. Эак, царь Эгинский, оставшийся в живых, молил Зевса под одним дубом вновь дать острову столько жителей, скольких муравьев видит он у себя под ногами. Ночью он увидел во сне дуб и муравьев, обратившихся в людей. А когда проснулся, то вся страна оказалась полна новыми жителями, которых Эак назвал мирмидонянами, по роду их происхождения.
78. Конюх, которого ожидает господин, или которому хочется спать, и он торопится вычистить скребницей коня, не чистит его скребницей столь быстро, и т. д.
99. «Отраженно» – не непосредственно. Слова Вергилия были обращены не к ним.
105. «Под многими Солнцами» – много лет.
109. Говорят, что это был некий алхимик Гриффолино, который хвастался, что умеет летать и обещал научить этому одного сиенца, по имени Альберо, или по другим Альберто. Сначала тот поверил, а затем заметив, что он обманут, обвинил его пред епископом Сиенским в некромантии, и по приказанию этого епископа, он был сожжен живым. (Бианки).
117. Епископ Сиенский считал Альберто как бы своим сыном.
125. «Исключив из них Стрикку» – ирония. «Стрикка был богатый сиенский юноша и производил блистательные траты в так называемом содружестве расточителей». (Оттимо).
127. По некоторым Никколо де Салимбени, называемый Мушиа по другим Бонсиньори да Сиена «Был щедр и расточителен, и был из названного содружества, и был первый изобревший приправу из гвоздики к жареным фазанам и куропаткам. И потому он говорит, (Автор), что он сеял в огороде, где растет это семя, гвоздика, т. е. ввел этот обычай в среду обжор и любителей поесть». (Ландино).
129. «В этом огороде» – на востоке, где гвоздика растет в естественном виде.
131. Каччиа д'Ашиано, из дома Шиаленги. «Был очень богат и промотал все в этом содружестве». (Бути).
132. Прозвище Аббалиато перешло в имя собственное и встречалось в их роду до последних отпрысков их, т. е. до конца 18-го века.
136. Капоккио Как говорят многие древние комментаторы, это ровесник Данте и с юности близкий ему. Что Данте знал его, доказывают данные стихи. Был сожжен живым в Сиене, в 1293 г. «Он занялся подделкой металлов и в этом проявил себя удивительно». (Бианки).
139. «Хорошей обезьяной» – ловко подделывал металлы.
Песнь тридцатая
1-2. Семела была фиванская девушка, которую полюбил Зевс и она родила от него Вакха, за что ее возненавидела ревнивая Гера. Ненасытимая, она принялась преследовать различными способами весь род фиванский. (Бианки).
4. Атамас – царь Фиванский, муж Ино.
13. «Дерзавшие на все» – например, ложная клятва Лаомедонта и похищение Елены.
15. «Погиб и царь Приам».
16. Гекуба, жена Приама.
17. Поликсена ее дочь, принесенная греками в жертву на могиле Ахилла.
18. Полидор – младший сын Гекубы, которого она доверила Полинестору, царю Фракии; греки подкупили его своими дарами и он погубил Полидора. Гекуба нашла труп Полидора на берегах Фракии.
22. Но такого жестокого бешенства не было ни в Атамасе, ни в Гекубе, ни в зверях, ни в каком-либо человеке: как видел я в двух тенях. (Скартаццини).
31. Аретинец Гриффолино (Ад, XXIX, 109).
32. Джианни Скикки, из рода Кавальканти, во Флоренции, отличался умением принимать чужое обличие и благодаря этому совершал разные мошенничества.
38. Мирра, дочь Кинира, царя Кипрского. Воспылала любовью к собственному отцу. Удовлетворяя своим нечестивым желаниям, она прикинулась другою женщиной, в чем ей помогла кормилица и посодействовала темнота. Плодом этого нечестия явился Адонис.
42. «...Подобно тому удаляющемуся» – Джианни Скикки.
44. Одно из мошенничеств Скикки состояло в том, что он принял облик Буозо Донати и по подложному завещанию получил знаменитую кобылу, «красу конюшни».
51. «Раздвоение», где начинаются ноги.
61. Я перевожу маэстро, а не мастер, хотя последнее с формальной стороны правильнее. В слове маэстро, мне нравится по-русски оттенок иронии: маэстро фальшивомонетчиков! – Родом Адамо был из Брешни. Призванный в Ромену, он подделывал там флорентийский золотой флорин, выбивая его «по чекану Коммуны Флоренции, правильно по весу, но не того состава. Его флорин содержал 21 карат, а должен был содержать двадцать: так что три карата было там меди, или другого металла» (Анон. Фиорентино). «Когда обнаружили виновника, то сожгли его живым на дороге, ведущей из Флоренции в Ромену. И еще теперь сохранилось место, где, как полагают, маэстро Адамо претерпел казнь: оно называется грудой камней мертвого человека». (Тройя).
65. Казентин – область близ границ территории Ареццо.
69. Водянка.
77. Гвидо II, сын Гвидо I, графа Ромены. Александр I, брат названного Гвидо II, муж Катерины дель Фантолини из Фа-энцы; был еще жив в 1316 г. «Брат» – Агинольфо, брат обоих этих графов, третий подделыватель, умерший в самом начале 1300 года.
78. Фонте Бранда – источник в Сиене, очень известный. Но в Ромене был тоже источник с тем же названием. Какой из них имел в виду маэстро Адамо? Скартаццини считает, что роменский. Вопрос, разумеется, открытый. Смысл же слов тот, что несмотря на жажду, мучающую его, ему приятнее было бы видеть муки соблазнивших его, чем источник.
80. Тени Джианни Скикки и Мирры, может быть, какие-либо другие.
97. Жена Пентефрия. Иосиф, сын патриарха Иакова. Общеизвестна история соблазнения Иосифа женою Пентефрия.
98. Синон – грек, обманами побудивший троянцев ввести в город рокового деревянного коня.
109. Синон.
128. «Зеркало Нарцисса» – вода. Засмотревшись на свое отражение в ней, Нарцисс влюбился в себя и умер.
129. Т. е. и ты жаждешь воды.
140. Все его смущение, и стыд уже как бы просили прощения, помимо слов.
Песнь тридцать первая
1. Слова Вергилия, его упреки.
4–7. Телеф, сын Геркулеса и царь Минийский, был ранен копьем Ахилла, которое тот получил по наследству от своего отца Пелея; Телеф исцелился только тем, что ему прикладывали пластырь с ржавчиной этого же самого копья.
16. «Горестное поражение» – при Ронсевале, где по преданию, было избито много тысяч христиан, оставленных Карлом Великим под начальством Роланда.
17. Священную дружину паладинов; он называет ее священной, ибо она погибла сражаясь с сарацинами. Почти все комментаторы понимают под словом la santa gesta изгнание неверных из Испании. Но объясняя так, они заставляют Данте говорить совершенно неверное. Согласно всем романам и хронике Псевдо-Турпин, Карл не проиграл сражения при Ронсевале, ибо хотя паладины и пали, он тотчас же жестоко отмстил за них, водворился в Сарагоссе и во всей Испании, которая силой была обращена в христианство. (Скартаццини).
39. «Неопределенный ужас уходил» – Данте знает теперь уже, что это не башни, а Гиганты; страх же перед ними возрастал.
41. Монтереджионе, старинный замок близ Сиены, воздвигнутый в марте 1213 г. Замок подымается над уединенным холмиком, в форме сладкого пирога: диаметр его окружности 165 метров; с одной стороны до другой замок венчался двенадцатью высочайшими башнями. (Скартаццини).
51. Марс – бог войны.
52–54. Слоны и киты хотя и очень велики по размерам, но не так страшны.
59. Бронзовая шишка святого Петра некоторое время украшала мавзолей Адриана (Замок св. Ангела).
64. Фрисландцы считались очень высокими людьми.
65. Пальма – мера протяжения, равная величине ладони, считая большой палец Согласно вычислениям рост Немврода почти 27 метров.
67. «Rafel mat amech zabi almi» – строка, вызвавшая целую литературу о себе. Предложены всевозможные толкования. Однако Немврод говорит на языке «собственном, никому неведомом». Поэтому усилия понять его язык, язык вавилонского смешения, безнадежны.
77. Немврод возымел «злой замысел» построить Вавилонскую башню.
94. Эфиальт – сын Нептуна и Ифимедии, жены Алоя, брат Ста, оба назывались Алоидами, знаменитые гиганты, громаднейшей величины, которые в битве с Зевсом показали себя сильнее и смелее других. 100. Антей – гигант вышиною в 60 браччий, сын Нептуна и Земли; питался львиным мясом и спал на голой земле, от которой, как от матери, получал каждый раз новую силу. Был убит Геркулесом.
103. Бриарей
104. Закован как Эфиальт.
113. Алла – фландрская мера, приблизительно две браччий с половиной. (Анонимо Фиорентино).
115. Долина близ Замы, где Сципион одержал победу над Аннибалом. В этой долине у Антея была, согласно Лукану, пещера.
116. После победы над Аннибалом Сципион получил название Африканского.
118. Сведения о том, что Антей «взял тысячу львов в добычу», приводятся у Лукана в «Фарсале».
119. Антей не участвовал в битве гигантов с Зевсом. Вергилий говорит ему, что если бы он присутствовал там, гиганты может быть выиграли бы сражение. Эта лесть имеет целью смягчить дикого гиганта и побудить его снизойти к просьбе; «спусти нас вниз».
124. «Сделай это ты, не заставляй нас обращаться к какому-нибудь другому гиганту»
125. «Спутник» – Данте. Дать он может славу.
132. Геркулес сразился с ним.
136. Каризенда. Одна из двух знаменитых башен в Болонье. «Надо сказать, что в Болонье, на площади называемой Порта Равиньяна, есть две башни: одна более высокая по имени Азинелла, принадлежащая роду Азинелли; другая не так высока, но толще, и наклонена в сторону Азинеллы; поэтому, когда облака идут к части башни противоположной наклону, глядящему кажется, что она наклоняется; и эта башня называется Каризенда, по имени рода Каризенди». (Лана Болонский). 138. Человек стоит под наклоном Каризенды; облако движется против ее наклона. Тогда глядящему кажется, что она склоняется, падает на него. Таким представился Данте и Антей.
Песнь тридцать вторая
3. Все остальные круги. Здесь – как бы фундамент Ада.
10. Жены – Музы.
11. Амфион, сын Антиопа, строитель Фив. Под звуки его лиры камни горы Киферона сами скатывались и слагались в стены.
17. Антей, опуская их, ссадил Поэтов ниже, чем стояли его собственные ноги.
21. «Братьев» – на нас двоих, братьев.
25. Танаис – наш русский Дон, для Данте, как и для античных людей находящийся уже «под хладным небом».
28. Большинство древних комментаторов считает, что эта гора в Славонии.
29. Пьетрапана, Petra Ариапа, довольно высокая гора в Тоскане, между Моденой и Луккой.
32. Летом.
34. «До лиц, ибо щеки краснеют от стыда».
41. «Двоих, столь слитых» – это «бедные, истомленные братья», см. стр. 21.
56. Бизенцио – небольшая речка в Тоскане, вблизи Прато; впадает в Арно.
57. Альберто дельи Альберти, граф ди Мангона. «Эти двое братьев были граф Наполеоне и граф Алессандро, из графов Альберти, которые были столь извращены душами, что дабы отнять друг у друга крепости, которые принадлежали им в Валь ди Бизенцио, дошли до такого гнева и злобности, что убили друг друга, и так вместе погибли». (Ан. Фиорентино).
58. Каина – так называется все отделение 9-го круга, где караются убийцы родственников, по имени Каина, первого братоубийцы.
61. Мордарет, сын короля Артура, покушался из засады убить отца. Но Артур пробил его грудь своим копьем, насквозь, так что в его тени получилось отверстие для лучей солнца. Поэтому сказано: «пробита грудь и тень».
63. Фокаччиа де Канчелльери из Пистойи. «В то время был в роде Канчелльери из Партии Белых юноша по имени Фокаччиа, сын мессера Бертакко ди Риньери, который был смел и очень крепок, его очень боялись люди из партии Черных, благодаря его извращенности, ибо он занимался только убийствами и ранениями». (Истор. Пистойи, у Муратори, XI, 370) Мстя за одного кавалера Бертино, убитого Черными, Фокаччиа убил своего двоюродного брата.
65. Сассбль Маскерони, из семьи Тоски во Флоренции, предательски убил единственного сына своего дяди, чтобы получить наследство. «…Был брошен в бочку с гвоздями, и так его волочили, катя бочку по земле, и затем ему отрубили голову…» (Ан. Фиорент.). По словам комментатора, об этом деле все знали в Тоскане, поэтому и сказано: «Если ты из Тосканы, то теперь уже его знаешь».
68. Камиччион де Пацци, из Валь д'Арно. Предательски убил своего двоюродного брата Уберти (по Ан. Фиорент.), а по Бути дядю; Ландино и Оттимо говорят – просто родственника.
69. Карлино – тоже де Пацци, из Валь д'Арно. Когда флорентийские изгнанники, среди них и Данте, возвратились после неудачного нападения на Ластри, в 1302 г., Карлино де Пацци продал Черным замок Пьянтревинье в Валь д'Арно, «за деньги; затем, вновь продал его Белым». (Дж. Виллани). «Оправдал бы меня – он еще гораздо грешнее меня, в сравнении с ним я оказался бы не таким уж виновным».
81. При Монтеаперти Бокка отрубил руку Якопо ди Пацци, знаменосцу флорентийского войска, что и было началом поражения флорентинцев. Бокка был предателем.
88. Антенора, второе отделение девятого круга, названное так по имени Антенора троянского. По Гомеру это был мудрый и красноречивый человек. Другие, напротив, изображают его предателем, передавшим грекам Палладиум, подавшим им знак светильником, и отворившим деревянного коня. Данте, не зная греческого языка, не читал Гомера, и придерживался традиции, обращавшей Антенора в предателя своей родины.
90. Бокка думает, что перед ним тень осужденного, а не живого.
103–105. С изменником Боккой Данте более, чем суров. За все странствие по Аду это первый случай, что он бьет грешника. Кажется, что не смотря на всю горечь причиненную ему Флоренцией, воспоминание о том, как была предана его родина, вызывает в нем взрыв гнева, граничащего с бешенством. Здесь Данте больше, так сказать, вышел из себя, чем даже когда видит Иуду, предавшего самого Христа.
106. «Некто другой» – Буозо да Дуэра.
114. О том, кто так быстро сообщил тебе о моем имени. Своим возгласом Буозо да Дуэра как бы выдал Бокку: последний не желал, чтобы Данте знал его имя, и повествовал о нем в миру.
116. Буозо да Дуэра – из рода Дуэра, или Довара, из Кремоны. Ломбардские гибеллины поставили его во главе сильного войска в направлении Пармы, чтобы помешать проходу французского войска, спускавшегося под предводительством Гвидо ди Монфора: это Карл Анжуйский шел в Италию против Манфреда на завоевание Неаполитанского королевства. Но подкупленный деньгами, Буозо не оказал ему действительного сопротивления.
119. Тезауро Беккериа, из Павии, аббат Валломброзы, генерал Ордена, легат Папы Александра IV во Флоренции. После того, как гибеллины были изгнаны из Флоренции в 1258 г., в ближайший сентябрь этого года народ флорентийский схватил аббата Валломброзы (который был знатный человек из синьоров Беккериа в Павии Ломбардской), так как за ним подсмотрели, что он по увещаниям вышедших из Флоренции гибеллинов замышлял измену, и пыткой заставили его сознаться в этом, преступно при криках народа, на площади Санто Аполлинаро отрубили ему голову, не обращая внимания ни на его сан, ни на святость Ордена; благодаря чему Коммуна Флоренции и флорентийцы были отлучены Папой от Церкви. (Дж. Виллани).
121. Джианни дель Солданиер – флорентийский гибеллин. «После поражения Манфреда при Беневенте, когда граф Гвидо Новелло с гибеллиискими вождями покинул Флоренцию, Джианни дель Солданиер покинул своих».
122. Ганелон – предатель, виновник поражения при Ронсевале и смерти Роланда. – Тибальделло. В 1281 г. Папа Мартин IV осаждал Фаэнцу, которую и взял, благодаря предательству Тибальделло.
130. Тидей, один из семи царей, осаждавших Фивы. Он был смертельно ранен фиванцем Меналиппом. Так как ему удалось убить врага, он попросил товарища принести ему его голову. Когда ее принесли, он почти уже умирая, принялся грызть ее с таким бешенством, что товарищи не могли оторвать его от страшного кушанья.
Песнь тридцать третья
11. (Ср. Ад, X, 25). В словах, направленных к графу Уголино в предшествующей песни, ст. 133–139, Данте употребил некоторые флорентийские выражения, благодаря чему Уголино и узнает в нем жителя Флоренции.
13. «Уголино деи Герардески, граф Доноратико, знатный пизанец и гвельф, в согласии с архиепископом Руджиери дельи Убальдини изгнал из Пизы Нино да Галлура, рожденного от одной из его дочерей, сделавшегося властителем города, и сам стал на его место. Но позже архиепископ из зависти, и частью из ненависти, главным же образом мстя за племянника, убитого графом, с помощью Сисмонди и Ланфранки, взяв крест, при стечении разъяренного народа, которому внушил, а по некоторым – и основательно, что Уголино продал некоторые крепости флорентинцам и лукканцам, – явился к домам графа, захватил в плен его, двух его сыновей Гаддо и Угуччионе, и трех племянников Уголино, называвшихся Бригата, Арриго и Ансельмуччио. Лишенные чрез некоторое время пищи, были они предоставлены жестокой смерти от голода». (Бианки).
22–23. «Маленькая щель» – небольшое оконце. «Клеткой» Уголино называет башню, где он сидел, и которая благодаря ему получила название Башни голода.
26. По лунам Уголино считает время. Прошло уже много месяцев. По сохранившимся документам, можно заключить, что он сидел там восемь месяцев.
28. «Этот» – предатель, которого я грызу, архиепископ Руджиери.
29-30. Гора, мешающая пизанцам видеть Лукку, называется Сан-Джулиано, и находится она между Пизой и Луккой.
32. Гваланди, Ланфранки и Сисмонди, знатные пизанские фамилии, гибеллины.
57. «В четырех лицах собственное изображение» – т. е. юноши чувствовали приблизительно то же, что и он, и выражения их лиц были сходны.
75. Знаменитый стих, вызвавший целую литературу. Скартаццини объясняет его в том смысле, что «голод оказался сильнее горя, и убил меня». Он очень резко, по обыкновению, отзывается о тех, кто с ним не согласен. Однако надо сказать, что стих весьма загадочен. Если принять во внимание то, что в ст. 61–62 говорят Уголино-отцу – дети, и что с другой стороны во льду он с бешенством грызет череп врага своего Руджиери, то невольно приходит в голову, что голод преодолел в нем другие, отцовские и человеческие чувства и он стал есть их. Говорят, что если допустить это, то все сочувствие рушится. Мне кажется, это не так. Быть может, именно здесь показал Данте великий трагизм двойственности человеческого существа. Уголино и жалок, и ему сочувствуешь, но, конечно, он и страшный, свирепый и необузданный человек тех суровых времен. (Б. З.).
79. Проклятие, похожее на то, которое он направляет на Пистойю. (Песнь XXV, 10).
80. «Восхитительная страна, где звучит Si» – Италия.
81. «Соседи» – флорентинцы и лукканцы, враги пизанцев.
82. Капраия и Горгона, два островка в Тирренском море, недалеко от устья Арно.
84. «Чтобы затопить всех твоих людей». «Не знаю, кто свирепее – Уголино, вонзающий зубы в череп предателя, или Данте, который, мстя за четверых невинных обрекает на смерть всех невинных целого города, отцов и детей, и детей. Библейская ярость». (Де Санктис).
89. Новые Фивы. Свирепость, проявленная в Пизе, относительно Уголино и его семьи, напоминают Поэту то, что было сделано в Фивах с родом Кадма.
90. «Еще двое» – Гаддо и Ансельмуччио.
91. Мы прошли далее, в отделение по имени Толомеа. В Каине осужденные погружены в лед до головы, обратив лицо вниз, так же и в Антеноре, но там головы держат прямо; в Толомее лицо обращено вверх и лишь оно одно свободно от льда; наконец, в Джиудекке тени погружены совсем.
99. «Сорро» – у меня переведено «впадина», а собственно это «кувшин». Так называлась в Тоскане чаша для воды.
108. Причина ветерка, о котором спрашивает Данте, движение гигантских крыльев Люцифера.
ПО. Говорящий эти слова дух думает, что Поэты это души предателей, проходящих по Толомее вниз к Джиудекке, где назначена им казнь.
118. Фрате Альбериго деи Манфреди из Фаэнцы, где был одним из вождей гвельфской партии, второго мая 1285 года приказал предательски убить родственников своих Манфреда и Аль-бергетто дни Манфреди. Был кавалером «Веселых братьев», с 1267 г., и назван был Фрате Альбериго. (Ад, XXIII, 103).
119. Намек на слова «подавайте фрукты» – это был сигнал, по которому во время пира вбежали убийцы и убили его родственников.
120. «Получаю кару за свои грехи». Смысл – как бы из «огня да в полымя».
121. Данте удивляется, что Фрате Альбериго здесь. В 1300 г., когда совершалось странствие, Фрате Альбериго был еще жив.
126. Атропос – та из трех Парок, которая обрезает нити жизни.
130. Не всем предателям назначена такая участь, но только находящимся в третьем отделении. Вероятно, это взято из слов Евангелия: «И после сего куска вошел в него сатана». (Иоанн, XIII, 27). Надо думать, что и в четвертом отделении, Джиудекке, грешники подвержены той же участи.
137. Бранка д'Ориа – генуэзец; пригласил к обеду Микеле Цанке, своего тестя. (Ад, XXIII, 88) и предательски убил его. Убийство произошло в 1275 году; следовательно, прошло уже 25 лет, как душа его заключена в Толомее.
142. В верхний ров – в лог взяточников. (Ад, XXII). Дьявол вошел в тело Бранка д'Ориа и отправил душу его в Ад, прежде, чем Микеле Цанке попал в пятый лог. Так же и здесь Данте, кажется, имеет ввиду выше приведенное место священного писания. Как сатана вошел в Иуду прежде, чем тот совершил свое предательство, так же он воплотился в сэра Бранка, прежде чем тот предательски убил Микеле Цанке.
150. Для такого грешника даже подобная грубость была как бы слишком мягка, является «вежливостью».
154. фрате Альбериго.
155. Бранка д'Ориа.
Песнь тридцать четвертая
1. «Vexilla Regis prodeunt lnferni» – знамена царя ада приближаются, выступают. Первые три слова – начало гимна, который поют на Страстной неделе (произведение Фортунато ди Ченеда, епископ Паутье, в шестом веке). Данте, который считает, что находится в аду также на Страстной, применяет эти слова, добавляя «lnferni» к крыльям Люцифера не иронически, но скорее, чтобы указать на противоположность между знаменем князя тьмы и князя света. Знамена – это распростертые крылья Люцифера.
18. Люцифер – до своего восстания на Бога был из числа прекраснейших ангелов Господних.
20. Дис – Люцифер, как в «Аду», XI, 65.
38. Три лица – согласно древним комментаторам символизирует три порока – какие именно, об этом мнения чрезвычайно расходятся. Большинство современных толкователей считают, что три лица и их цвета, обозначают страны света, известные во времена Данте, Европа, Азия, Африка; и указывают, что Люцифер обладает подданными во всех частях света.
45. Из Эфиопии. Здесь разумеются вообще чернокожие.
52. Коцит, последняя ледяная адская река.
65. Марк Юний Брут и Лонгин Кассий – два главных заговор-шика в убийстве Цезаря. Некоторые удивляются, что Данте поместил этих двух благородных римлян в пасть, пожирающую Иуду Искариотского. Но это только необходимое последствие Дантовской системы. Христос, преданный Иудой, есть представитель духовной власти; Цезарь, преданный Касснем и Брутом, представитель власти гражданской. Обе эти власти установлены с соизволения Божия. Иуда Искариот есть прототип предателей высшей духовной власти, Брут и Кассий прототипы изменников высшей гражданской власти, и поэтому Поэт помещает их вместе с Иудой, в пасти Люцифера. Все трое по Дантовскому мировоззрению суть предатели человечества: первый предал человечество в том, что касается его духовного счастия, двое других в том, что касается счастья земного. (Скартаццини).
68. Ночь с субботы на воскресенье.
79. «Повернул голову туда, где были ноги» – Поэты находятся в центре земного шара, и для того, чтобы восходить на противоположную сторону земли, к горе Чистилища, им необходимо произвести изменение в положении своих тел.
81. Головы их повернулись к Аду, и Данте показалось, что они возвращаются.
85. «Через расселину – от пупа вверх, Люцифер находится в северном полушарии, от пупа вниз – в южном. Верхняя часть тела наполовину наружи, наполовину во льду; нижняя – наполовину окружена утесом, образующим другую сторону Джиудекки (ст. 117). Наполовину (ноги и ступни) находится в воздухе, в бесформенной пещере». (Скар.). Здесь Вергилий и ссаживает Данте.
93. «Через какую грань» – через центр земли.
96. В стихе 68 сказано – «наступает ночь», а теперь «Солнце близится к 8 утра». Поэты перешли в другое полушарие, и там уже утро, когда в северном был вечер. Данте поэтому и спрашивает в стихе 104–105 «почему в столь малое время совершило Солнце путь от утра до вечера».
103. Ледник Коцита. Данте как будто еще не понимает, что он миновал уже центр земли.
108. Злостный червь – Люцифер.
114. Великая мель – Данте полагает, что Иерусалим, который он имеет здесь в виду, находится в центре нашего полушария.
117. См. примечание к ст. 85.
120. Всажен – в лед, снова Люцифер.
121. Со стороны южного полушария.
123. Из страха перед Люцифером, падавшим с неба.
125. Гора Чистилища образовалась по Данте из той земли, которая устрашилась падающего Люцифера, оставила за собой пустоту, или пещеру, и возникла вверх.
127. Доселе говорил Вергилий, теперь Данте сам начинает описывать возвращение свое на поверхность земли.
128. Могила – Ад.
129. Не взором, ибо там полная темнота. Слышен только шум ручейка.
132. Ручеек. Некоторые предполагают, что этот ручеек вытекает из Леты и несет вниз, в Ад, слезы искупления. Адские же реки: Ахерон, Стикс и Флегетон сводят в Ад из мира слезы греха. (Ад, XIV). Следует думать, что и воды ручейка обращаются в лед, вблизи Люцифера, так как они текут в направлении к нему.
137. «Дивные создания» – звезды (см. Ад, I, 37–40). Собств. «вещи», но по-русски это очень неприятное слово.
139. Когда они начали восхождение от Люцифера, было 7 1/2 утра; когда прибыли к подножию Чистилища, вставало Солнце. (Чист. I, 19). Следовательно, Поэты употребили около 24 часов на странствие от Люцифера до поверхности земли; почти столько же, сколько длилось их схождение в Ад. – Каждая из 3-х частей поэмы кончается словом «звезды». (См. Рай, XXX, 145).
Приложения
Данте и его поэма*
На via Данте во Флоренции есть дом, узенький и высокий, из грубого камня, сжатый соседними, более новыми домами. Он трехэтажный, не считая низа, где как будто была лавка или склад. Темноватая лестница ведет наверх – там две-три комнаты с простой обстановкой – деревянные столы, резные тяжелые стулья, окна с полуовалами вверху, в стеклянных кругляшках, по-старинному; через них идет свет, но рассмотреть что-либо на улице трудно.
Считается, что здесь родился Данте. Установлено это не вполне твердо, но если и не в этом доме, то в подобном, где-нибудь очень близко (во всяком случае – в этом же квартале), появился на свет в 1265 г. Данте Алииери Флорентинец, и какая-нибудь гвельфская, или гибеллинская башня, наподобие torre della Castagna[31], подымалась на другой стороне, отнимая свет у комнат. Да и переулок не широк: если спесивый мессир едет верхом, широко расставив ноги в длинных шпорах, то встречному надо прижиматься к стенке, иначе заденет. Флоренция тогда мало походила на теперешнюю: вся в башнях, темноватая, наверно с запахами, вечно кипевшая враждой; вечно баррикадировались в своих домах-башнях гвельфы и гибеллины, черные и белые, и при случае резали друг друга; временами бывали огромные пожары; а по вечерам черно и пусто становилось в улицах. Коммуна только что зарождалась. Жизнь еще груба, во многом первобытна. Люди ходят в шерстяных простых одеждах, с откидными капюшонами. Существует гетто. Евреев хоронят за городом, как зачумленных. Служительницы Афродиты носят колпаки с колокольчиками, чтобы отличаться от честных женщин. Все еще впереди: блеск, великолепие, литература, гуманизм, великая живопись, великая скульптура. Лишь природа та же: наверно, с кампаниллы S. Maria Novella или со стен Palazzo Vecchio такой же вид открывался на холмы Тосканы, на извив Арно, так же мягок, приветлив, прозрачен был голубоватый пейзаж: голубоокая душа страны. И как теперь, весенний ветер приносил запах фиалок.
В этом городе возрастал мальчик Данте. Со времен очень древних – от Боккаччио идет весть о соседях семьи Алигиери – Портинари. Имя Беатриче Портинари, первой, полудетской и мечтательной любви Данте, возведенной затем в сан Мудрости Божественной, обошло мир. «Я скажу о ней то, чего не было сказано еще ни о ком», – обещал Данте в конце юношеского своего творения «Vita nuova». И действительно – в «Божественной Комедии» сказал. Что же касается девушки Беатриче, рано вышедшей замуж и рано умершей, то ее краткая жизнь, кроме великой славы вызвала и великие сомнения в потомстве. Ушедший XIX век особенно старался подкопаться под нее. Главный предмет спора был тот: да о ней ли именно говорит Данте? Воспевает ли действительный свой роман, или пользуется именем Беатриче условно, имея в виду вообще какую-то даму. Спор этот незакончен. Все же можно, хоть приблизительно, определить исход его так: отождествление Беатриче литературной с Беатриче соседкой, которую мальчик Данте впервые увидал в церкви, нельзя твердо обосновать. Однако, отрицать, что любовная поэзия «Vita nuova» шла из жизненного источника, тоже нельзя. Действительность и вымысел так слиты, что разделить их теперь невозможно. Д'Анкона сказал: «Действительная жизнь Беатриче приобрела второе, таинственное бытие в душе и воображении поэта». Думаю, этот д'Анкона прав. Вряд ли повесть любви записана точно, и наверно, сюда вошло многое от литературы того времени (Гвиничелли, Гвидо Кавальканти, Провансальские трубадуры); все же явственно тонкое, духовное опьянение Любовью, все же присутствует Аморе не условный и выдуманный, а живой – лишь в одеждах эпохи. Данте был человек острых, сложных и сильных чувств – в те годы любовный мечтатель и мистик, со скрытно-огненным темпераментом; никак не видишь в нем сухого схоласта, сочиняющего по схемам. Нет в нем еще и черт суровости, гневности, означившихся позднее. «Vita nuova» (Новая жизнь, как бы новое рождение в любви) – ряд сонетов, канцон, баллады, с прозаическим сопровождением. Есть мнение, что стихи написаны между 1282–1292 гг. (когда умерла Беатриче), прозаический же комментарий позже, около 1300 г. Предмет произведения – любовь – возвышенная, патетическая, протекающая в сновидениях, восхваления Мадонны Беатриче и оплакивание ее смерти.
Как бы ни спорили о портрете Данте, сохранившемся на фреске во Флорентийском Барджелло, сколь ни основательно мнение, что во времена Джотто не было еще реалистических портретов, а с другой стороны, данный портрет подправлен в прошлом столетии – все-таки Данте времен «Vita nuova» представляешь себе именно таким, как изображен он: юношей с тонким, острым и очаровательным профилем, юношей готическим, с сосредоточенным, задумчивым, почти печальным взглядом, скромным, уединенным и уже горделивым. Есть и подземные стихии в нем, но они еще не выбились наружу.
Мы очень мало знаем, как он жил в это время. По собственным его признаниям – много читал, учился, но был самоучкою. Несомненно, знал по латыни, знал провансальский и старофранцузский язык, занимался риторикой, философией. Греческим вряд ли владел. Читал Боэция, Цицерона, Вергилия. Очень много работал духовно, мы ниже скажем над чем, и как. Нельзя, однако, утверждать, что был чужд светского: напротив, были у него и веселые друзья, и дела какие-то веселые, наверно, мимолетные, но жгучие очарования. Их отголоски, хоть и глухие, видят в сонетах Данте к Форезе Донати, приятелю его молодости, и в ответных стихах последнего. Данте женился молодым. Известно, что ко времени изгнания (1302 г.) у него уже было четверо сыновей. Его жену звали Джемма Донати. Он, прославивший Беатриче, не обмолвился ни словом о жене, за всю свою жизнь; когда его изгнали, в странствия она с ним не пошла. Его семейная жизнь для нас – тьма; и может быть, это просто серое, или пустое место.
Мы знаем еще, что он был воином, в 1289 г. Сражался в рядах флорентийских войск, при Кампальдино, с арентинцами. В том же году присутствовал при занятии пизанской крепости Капроны.
Знаем, что он не был богат, вероятно, происходил из среднего дворянства и обладал познаниями в медицине, быть может, применял их. Между 1293–1300 гг. занял 37 000 лир, с поручительством брата своего, Франческо – неизвестно, для каких целей. 6 июля 1295 г. голосовал в Совете Ста. 14 декабря принимал участие в выборе Приоров. Между 1297–1300 гг. приписался к цеху медиков и аптекарей, а в мае 1299 г. был посланником республики в С. Джиминьяно. Тут начинается его общественная, политическая жизнь, нанесшая главный удар его существованию, приведшая к изгнанию.
Быть может если бы с 15 июня по 15 августа 13000 г. не состоял Данте приором (один из шести высших магистратов республики), если бы в апреле 1301 г. не был ему поручен надзор за городскими постройками, и 14-го числа не высказался он в Совете Ста против папы Бонифация VIII, то иначе повернулась бы его жизнь; может быть, его не выгнали бы из Флоренции, не бродил бы он по Италии нищим поэтом и философом, учителем поэзии и высокомерным приживальщиком. Но тогда, возможно, иной была бы и «Божественная Комедия» – мы не знаем, какой именно. Ибо слишком много гнева, тоски, скорбных раздумий дало ему как изгнание.
Данте пострадал потому, что принадлежал к партии Белых. Эта партия родом из Пистойи, мрачного и озлобленного городка близ Флоренции, который в «Аду» сурово покарал словом своим Данте. Оттуда разделение на Белых и Черных перешло во Флоренцию, вместе с явившимися представителями враждующих родов. Так, что кроме старого деления – гвельфы (сторонники папы), и гибеллины (императора) – явилось новое. Все же Черные ближе стояли к папе, чем Белые. Бонифаций VIII воспользовался этими раздорами, чтобы присоединить Тоскану, как наследие маркграфини Матильды, к владениям церкви. В 1301 г., 1 ноября Карл Валуа, «миротворец» посланный папою, вступил в город без вооруженной свиты. 5 ноября в S. Maria Novella Синьория (Правительство Республики), на собрании представителей духовных и светских властей обратилась к Карлу Валуа с речью о полномочиях и мире в городе. Он обязался поддерживать общее благоденствие и водворить порядок. Но тотчас после этого вооружил свиту и впустил в город Корсо Донати, вождя Черных, стоявшего с друзьями недалеко за стенами. Синьория (из Белых) пала. Пять дней грабил плебс дома Белых, а власть захватили Черные и Валуа. К Рождеству все вожди Белых бежали, среди них и Данте. А 27 января 1302 года был обнародован декрет об изгнании Данте и его товарищей. Декрет скреплен именем подеста Флоренции – Канте да Габриеле да Губбио – имя это увековечено печальной славой. Данте обвинялся во взяточничестве, вымогательстве денег, подкупности и т. п. Главным же образом во враждебности папе и принцу Карлу.
Последнее было верно. Если Данте ненавидел, то ненавидеть умел. И Бонифаций, место которому уготовано в «Аду», в огненной дыре, головою вниз и с пылающими подошвами, – Бонифаций дорого заплатил за несправедливое дело с Данте Алигиери Флорентинцем. 10 марта последовал второй декрет, присоединявший еще десять осужденных. Теперь говорилось определеннее: если кто-либо из них появится на Флорентийской земле, тот будет сожжен живьем. Для величайшего из своих людей, говорит Лоуэлль, флорентинцы не нашли ничего лучшего, как осудить его на смерть: «igne comburatur sic quod moriartur»[32]. Можно согласиться, что в этом есть «бесконечно-трагическое и высоко-поучительное».
Изгнанники пробовали возвратиться. Несколько раз добивались они этого с оружием в руках, но безуспешно. В 1302-06 гг. были они разбиты при Муджелло. Данте отделился от них; по-видимому, был он против гражданской войны. С товарищами же по несчастью разошелся вовсе, и отозвался о них в «Раю» резко.
В 1303 г. он находился уже в Вероне, при дворе Бартоломео делла Скала. Началась жизнь, о которой позже скажет он устами предка своего Каччьягвиды прославленные слова:
Tu proverai, si comme sa di sale Lo pant altmi, e como e duro calle. Lo scendere e l'salir per l'altrui scale. Par. XVII, 57[33].В 1304 г. Бартоломео умер, и Данте удалился из Вероны. Куда? Считают, ссылаясь на Боккаччио, что в Болонью, знаменитую тогда университетом.
Будто бы он учился там. Будто бы прожил до 1306 г. Но в точности это неизвестно. Твердо установлено его пребывание в Падуе, в 1306 г. Сохранившийся документ говорит, что 27 августа 1306 г. Данте был свидетелем при займе 107S лир в Падуе. В том же году, но позже, он является в Луниджианском Кастелло Виллафранка, у маркиза Маласпина, в качестве посредника при заключении мира между маркизом Франческино и епископом Антонио да Луна. Об этом говорят две грамоты в архивах Сарцаны. По Фратичелли, и сейчас уцелела в средине старого Кастелло башня, называющаяся башней Данте, а вблизи – дом Данте, где, по-видимому, он останавливался.
В дальнейшем пребывание его в Форли, У Орделаффи, не обосновано. Путешествие в Париж, в 1308-09 гг. весьма возможно. Вероятно также, что он посетил Прованс, на что указывают некоторые места «Комедии». Что он делал в Париже? Одни считают, что преподавал поэзию и итальянский язык; другие – что сам учился. Краус склоняется к последнему. По его мнению, вряд ли можно было в то время заинтересовать в Париже итальянским языком; а второе – философские и теологические взгляды Данте сильно выросли и окрепли как раз с этого времени. Очень правдоподобно, что именно схоластикой он и занимался там (впрочем, Краус не отрицает возможности и преподавания, – например, риторики). Видеть Данте в средневековом Париже, где знаменитые схоластики читали на rue de la Fouarre ученикам, сидевшим на соломе, кажется правдоподобным и естественным, это без усилия входит в его биографию – как видим, не менее загадочную, чем его творение. Англичане очень настаивают на его посещении Англии, но это гораздо менее вероятно – дает почву для споров и поддерживается преимущественно англичанами, быть может, по местному патриотизму.
Затем следуют годы, наверно, очень тревожные и острые для Данте, когда Фортуна, о которой говорит он в «Аду»:
Ты можешь теперь видеть, сын, сколь кратко дуновение Земных благ, даруемых нам Фортуною,когда она, «вращающая свою сферу», на краткий срок поманила его надеждами на Флоренцию, на возвращение и победу над врагами – и отвернулась окончательно.
27 ноября 1308 г. преемником Убитого Альбрехта Австрийского был избран граф Генрих Мотцельбургский. Его короновали в Аахене. Он стал королем Генрихом VII. В сентябре 1310 г. спустился он в Италию, занял Виченцу, Кремону, долго осаждал и взял, наконец, Брешию. Он стремился в Рим, за короной императора из рук папы. Данте в это время был настроен решительно гибеллински, и надеялся, с помощью Генриха, вновь увидеть Флоренцию, «приятнейший из всех городов мира». Как и многое в его жизни – его отношения к Генриху неясны. Есть мнения, что он был с ним знаком до 1309 г. Сохранилось письмо его к Генриху от весны 1311 г., где он призывал его к продолжению похода на Рим и упрекал за задержку в Верхней Италии, вместо того, чтобы двинуться на юг (и на Флоренцию). Это письмо всеми признавалось за подлинное; но затем стали сомневаться. Если письму верить, то весною 1311 г. Данте находился в долине верхнего Арно (sul fonte Sarni)[34]. По одним – в Порчиано, замке графов Гвиди, по другим в Поппи, у графа Гвидо Сальватико. Также следует из письма, что Генриха VII Данте уже видел. Где? В Асти, Турине, Милане или Генуе. Есть большие основания полагать, что он подстрекал Генриха к походу на Флоренцию, но сам за оружие не взялся; как упоминалось, был он против гражданской войны.
Генрих потому задержался на севере, что должен был обеспечить себе обладание крепостями в тылу (армия его была не весьма сильна). В апреле 1312 г. он появляется в Пизе, в мае – в Риме, и 29 июня папа коронует его, наконец, императорской короной. Но в Риме оставаться ему опасно. Вновь он выступает на север (к Пизе), чтобы готовиться к борьбе с Робертом Неаполитанским. В Буонконвенто он заболевает (вероятно, его отравил один доминиканский монах ядовитой остией), и умирает в августе. Во Флоренцию он не попал. Белых, и с ними Данте, в правых не восстановил. Стало ясно, что дело гибеллинов в Италии проиграно. «Итальянская политика Генриха, – говорит Краус, – была, конечно, мечтой, как и представление Данте о всемирной монархии была мечта».
К этому времени Данте не был еще автором «Божественной Комедии». Вопрос о времени ее возникновения имеет свою историю. Раньше считалось, что первые семь песен написаны до изгнания, и первые слова 8-й: «Io dico seguitando…»[35] понимались как продолжение прерванного (которое, будто бы, было отправлено маркизу Мороелло Маласпина, прочитавшему с восторгом эти песни, настаивая, чтобы Данте продолжал поэму). Ныне принимают, что комедия писалась между 1314–1321 гг., начата не ранее 1314, когда умер папа Климент V. Ссылаются на многочисленные указания в ней событий, которые ранее не могли быть автору известны. Да и ход духовного развития поэта говорит за то. Правда, семь лет кажутся малым сроком для такого поэтического дела, приходится, на наш взгляд, допустить, что в эти годы творение писалось; внутренно же вызревало раньше долгими годами, и нет, правда, доказательств, что отдельных песен не существовало (в черновиках) и до этого.
Здесь касаемся мы важного и темного дела – вопроса о внутреннем развитии поэта, «истории его души». Как и во всем, касающемся Данте, факты скудны. Строятся лишь догадки. Догадка первая, классическая, принадлежит Витте. По ней выходит, что со смертью Беатриче Данте проявляет к ней неверность. Он увлекается другим. Это другое – не женщина, но Философия. В сочинении своем «Convivio» («Пир»), он определенно говорит о философии (и даже одной из целей написания «Convivio» было желание защищаться от упреков в легкомысленной, якобы, любви к женщине. Он утверждает, что любовь эта – к Философии). Аллегорически философия названа здесь Donna pietosa, (о ней есть уже и в «Vita nuova»).
На время, следовательно, Беатриче как бы вытесняется, заменяется этой Donna pietosa. Новой властительнице Данте предан. Можно думать, что период неверности довольно долог, в несколько лет. По «Vita nuova» начинается он чрез год после смерти Беатриче, «Convivio» говорит о тридцати месяцах, в течение которых автором владела новая любовь. Именно на то время, по смерти Беатриче и до изгнания, выпадает обостренная духовная работа над философскими и метафизическими вопросами, фаустовское вопрошание об истине. Вначале чувствует он некие обещания, и возможность духовного мира, но оказывается это обманчивым. На пути мирской философии, Боэция и Цицерона, успокоения не найти. «Convivio», натурфилософский и метафизический комментарий к канцонам (осуществлен лишь для трех), написанным в честь Donna pietosa, относится к 1306-08 гг., следовательно, в это время Данте не вернулся еще к Беатриче. Витте считает этот период как бы некиим отпадением от веры, церкви и поклонения молодых лет; в своем роде это тоже «темный лес», selva oscura, из которого в конце концов спасает Беатриче, символ Теологии. Третий период – время написания «Божественной Комедии», где скромная девочка Беатриче Портинари возведена в сан Божественной Мудрости, спасительницы заблудших душ. Здесь поэт вновь возвращается к вере и богопочитанию своей молодости, вновь он во власти Беатриче и религии, дающих ему последнее утешение.
Скартаццини также видит три периода в духовном восхождении поэта: первый период – чувства, второй – разума, третий – высшего примирения между ними, в религии. Первый до смерти Беатриче, второй до смерти Генриха VII и крушения земных, политических надежд; третий – до конца дней самого Данте. Нетрудно видеть, что в построениях этих есть схематизм; тезис, антитезис, и синтез; все же главное они, вероятно, выражают. В новейшее время сделал свои добавления Краус. Первый период делит он на раннюю юность, время первых любовных канцон, и юность позднюю, куда входит «Vita nuova». Содержание же второго, критического периода, он расширяет: не одни умственные, познавательные борения наполняют его, но и страсти политические, и дань, отданная земной любви. В последнем приходится присоединиться к Краусу, против Скартаццини. И указания древних, и тот облик Данте, какой знаем мы из его творений, говорят внятно, что в этом человеке была горячая кровь, душа любовно-страстная, могучая плоть, очень далекая от безразличия или вялости. Места поэмы, где он касается любви, полны скрытого огня, хоть и написаны человеком немолодым. В конце «Чистилища» Беатриче ясно упрекает его в слабости к женскому (XXXI, 59), и трудно принять, чтобы здесь аллегоризировалась опять лишь философия, под обликом pargoletta (собств. – девчонка, юная девушка). Странным, суховато-педантичным кажется мнение Скартаццини, что Данте любил лишь трижды: в ранней юности Беатриче, затем Джемму Донати (свою жену), которую будто бы возвел в символ философии (Donna pietosa), и, наконец, просветленную Беатриче. Но Скартаццини вообще упорно подчеркивает в поэте все интеллектуальное, разумное; в его изображении Данте слишком человек головы, а не темперамента, тогда как мощь его состояла именно в слиянии того и другого.
Очень правдоподобен взгляд Крауса и на последнюю часть жизни Данте: смерть Генриха VII и крушение надежд окончательно отвратили его от мирского; взор безраздельно направлен к Вечности, Божеству, откуда и возникает Великая Поэма, где от части к части, от Ада к Чистилищу и Раю больше и больше смолкает земное, уходя в смутный туман сна.
Мы приблизились, наконец, к этому творению, стоящему над человечеством уже шесть веков, полному необычайного очарования, волшебной силы, влекущей новых и новых читателей, поклонников, исследователей, переводчиков, полемистов. О комедии читали с церковных кафедр средневековой Италии и Италии Ренессанса; десятки людей отдавали жизнь на ее комментирование, сменялись целые направления в ее понимании, сотни изданий выходило в свет, сотни переводов на всевозможные языки, тысячи читателей ее читало, для многих, особенно в Италии, эта поэма – нечто в роде Евангелия. Девятнадцатый век – время особенно страстного и горячего ее обсуждения. Проделана громадная работа. Изучены ее истоки, все предшествующее в области писаний визионерных; сличены все образы ее с литературными образами древних; ло мелочей изучена историческая, бытовая, географическая, астрономическая и космогоническая сторона произведения, равно философская и геологическая. Написаны книги путешествий по местам, упомянутым в ней. Про так называемые «темные места» комедии нечего и говорить: есть строки, вызвавшие целую литературу. Разработана лингвистика, грамматика, синтаксис, метрика, характеристика метафор и т. д. Есть и статистика: мы знаем, сколько в поэме слов, существительных, глаголов, прилагательных. Кажется, не сосчитаны еще лишь запятые. Литература о Данте столь велика, что в ней чувствует себя «задохнувшимся» сам великий знаток всего дантовского – Скартаццини. И с горечью замечает он, что даже общей дантовской библиографии пока нет, а есть работы по отдельным странам. Следует упомянуть еще, что существуют целые подробнейшие словари к Данте, дантовские энциклопедии, что в Америке, Англии, Германии и Италии есть Общества Данте и специальные журналы, посвященные исключительно ему. Число изданий поэмы в Италии – свыше четырехсот. В одной Германии полных переводов (всех трех частей) – пятнадцать. Неполных же множество. Что же представляет из себя это загадочное произведение?
«Божественная Комедия» есть странствие человеческой души по трем царствам запредельного – Аду, Чистилищу и Раю. С внешней стороны это как бы itinerarium флорентийца Данте Алигиери, написанный терцинами. В Аду Вергилий ведет его, любимый и высочайше уважаемый им поэт. Его послала, как проводника и учителя, благосклонная к Данте, восседающая в Небе Беатриче. Поэты видят в Аду муки грешных. Вергилий же сопровождает его и по Чистилищу, таинственной горе искупления, вздымающейся над пустынным и необозримым океаном в полушарии, противоположном нашему. На вершине Чистилища, среди свежих лугов и вечно зеленеющих деревьев, Беатриче, в колеснице, запряженной грифами, встречает Данте, принимает его от Вергилия, очищает омовением в Реке забвения и возносится с ним в Рай, в царство света недвижного. Там видят они блаженство праведных и угодников, там созерцают, наконец, само Божество. Такова схема. Она дает возможность развернуть длинный ряд видений – мрачных, светлых, возвышенных, увидать горькие муки заблудших, пережить с ними безмерную печаль безнадежности, ту печаль навсегда, о которой говорит последняя строка надписи над вратами Ада:
Оставьте всякую надежду вы, входящие!В Чистилище можно любоваться таинственными камышами у подножия горы, голубовато-серебристым утром, росою, которой Вергилий омывает лицо Данте, задымленное и обгорелое в Аду. В Чистилище – мистические орлы, загадочные сны, ангелы, снимающие с чела восходящих семь П огненным мечом. Искупление грехов, но уже в воздухе света и надежды. В Чистилище является природа: здесь море, скалы, удивительные луга, дивные деревья. Бледно-зеленоваты, туманно-золотисты краски его.
Грудь дышит – в Аду мы задыхались. А еще выше, где безмолвно движутся небесные сферы и восседают блаженные и святые, уже царство эфира, прозрачности и величайшей гармонии. Рай весь прозрачен, как эфирные моря, пронизанные светом. Чинны, просветленны праведники. Их хор, при восхождении к Божеству, образует гигантскую Мистическую Розу.
Существует старинное уподобление: Ад – скульптура, Чистилище – живопись, Рай – музыка. В нем есть правдивость, хотя и относительная. Музыка есть и в Аду, она пронизывает всю поэму, и Рай не лишен зрительного, правда, в образах облегченных, как бы влажно стекленеющих. Мне всегда казалось, что главная художническая сила Комедии, главное ее очарование – само Слово. Говорят, что образы Ада иссечены ярко, до галлюцинации. Потому-де, он и лучшая часть поэмы. Это верно лишь отчасти. На мой взгляд, во-первых, Чистилище не уступает, а превосходит Ад обаянием своим, святостью и нежной легкостью очертаний. Как будто бы другая сторона души выступает здесь, может быть та, что связана с «Vita nuova», с ранними, туманно-мечтательными стихами, с незабываемым тонким профилем юноши Данте. Здесь написано все рукою зрелой, но идет из прежнего, незамутненного источника. – И, во-вторых, по поводу Ада: при всей изобразительности деталей, в нем также слово, его своеобычность, сама манера произнесения этих удивительных стихов, перевешивает все. Не будем забывать, что в Аду сплошь и рядом не изображаются, а просто называются вещи, люди, идеи. Вспоминая Ад в целом, мы прежде всего вспоминаем не фигуры, людей или положения, написанные художником (как в великом романе, например, драме, трагедии), а самый голос написавшего, замогильно-величественный тон произведения, и его внутренний колорит. Лишь позднее из этой адской симфонии, с местами трагизма, ужаса, с басами и хриплыми рогами, из гудения подземных потоков и воя смерча выступят Франческа да Римини, Фарината, граф Уголино. Слово и тон Комедии – единственны в мировой литературе. По силе и первозданности выражения можно их равнять лишь с Библией. Это не отнимает у Данте привкуса личного, того неповторимого, что есть одно из волшебств искусства. Данте говорит очень медленно, и как вески, тяжелы его слова в Аду! С суровой необходимостью идет терцина за терциной, напоминая и самих поэтов, проходивших грандиозный путь свой:
Молча, в одиночестве, без спутников.Железная сила в них, и печаль безмерная. Чтобы написать Ад, надо было в «озере своего сердца» собрать острую влагу скорби. Каждая строчка пропитана ею. Написавший – не из тех, кто охает. Он молчалив, замкнут, суров. Лишь когда силы изменят ему, падает он, «подобно мертвому телу». И в этой цельности нигде (как и в Библии) не встретишь и следа зало-шенности, середины. Никогда не скажешь: «Ни холоден, ни горяч, но тепел». Все – предельно. Если попробовать рукой, на ощупь, то слова Данте благородно шероховаты, как крупнозернистый мрамор, или позеленевшая, в патине, бронза. Часто он темен, даже и непонятен. Но для него – так и надо. Это его стиль. В нем есть, ведь, оракульское, пифическое. И не однажды скрывает он свою мысль «под покрывалом странных стихов» (Ад, IX, 63).
Средневековью близка была идея аллегорического толкования Св. Писания. Сюда относятся теологи, как Ансельм Кентерберийский, Фома Аквинский, к ним примыкает и сам Данте. В «Convivio» он обстоятельно излагает, как Св. Писание должно пониматься в четырех смыслах: 1) буквальном, 2) аллегорическом, 3) моральном и 4) анагогическом. Первый передает прямо заключающееся в словах; второй кроется за покрывалом фабулы, или рассказа («истина, скрытая под прекрасной ложью»). Например, Овидий рассказывает, что Орфей песнями своими приводил в движение животных, камни и деревья – это значит, что человек, силою своего голоса, трогает самые закоснелые сердца. Моральный смысл должны исследовать для своей пользы, и для пользы учеников учителя Св. Писания. Например, если в Евангелии сказано, что Христос удалился для Преображения на гору, и из двенадцати апостолов взял с собой лишь троих, то моральный смысл этого – тот, что для самых тайных дел мы должны допускать лишь немногих свидетелей. Смысл анагогический имеет место в духовном толковании Писания. Если пророк говорит, что при выходе евреев из Египта стала Иудея свободной и святой, то в прямом, буквальном смысле здесь говорится о судьбе еврейского народа, в духовном же о душе грешника, ставшей святой и свободной, сбросив путы греха.
Приведенные выше (Ад, IX, 63) слова суть только частный случай общего взгляда Данте на писание (не только священное). Естественно, что человек, столь точно излагающий теорию символизма, в собственном произведении тоже символист. Письмо к Кану Гранде делла Скала, властителю Вероны и покровителю поэта, говорит о цели и намерениях «Божественной Комедии». Правда, подлинность письма заподозрена. Все же пройти мимо него нельзя; и в дальнейшем я имею его в виду при изложении идейной стороны поэмы.
Ясно для каждого читающего, что «Божественная Комедия» написана не как случайное стихотворение, исшедшее безраздумно, подобно вздоху или улыбке. Постройка строилась не из одной радости строительства: автор и поэт, и пророк, и возвышенный учитель жизни. Очень глубокий жизненный опыт чувствуешь у заблудившегося «на половине пути жизни нашей» в темном лесу, почти отчаявшегося взойти на «прелестный холм», и под водительством Вергилия избирающего иной путь к Истине – чрез Ад, Чистилище и Рай. Конечно, в его личной истории есть поучение. Конечно, с другой стороны, что личная его история может быть отнесена не к нему одному.
Если оставить буквальный смысл Комедии (описание странствия), как ясный непосредственно, то аллегорически можно его определить как историю человеческой души вообще, Человека, блуждавшего по греховной и темной жизни, но с помощью сперва Разума (Вергилия), а затем Божественной Мудрости (Беатриче), вышедшего на путь истины, и очищающегося зрелищем загробных кар и блаженства. Надо при этом заметить, что здесь роль Разума – благодетельна, а не отрицательна, как у той Философии (Donna pietosa) в «Convivio», от которой Данте, по изложенному выше взгляду Витте, перешел к Беатриче и Религии. Относительно цели произведения (морального смысла) – он состоит в указании для человека пути спасения. Это спасение заключается в выходе из леса, в преодолении пороков земной жизни и приобщении к чистоте святых душ. Это – христианский идеал средневековья.
Итак, Данте Алигиери Флорентинец, лично видавший Ад, Чистилище и Рай, отошел, и за его фантастическим странствием («прекрасная ложь») мы усмотрели вековечные задачи Души, Человеческого. Быть может, возможно подняться еще на одну ступень. Возможно, что в некоем высшем понимании дан здесь символ жизни всего человечества, его блужданий в потемках идолопоклонства, суеверий, грехов, долгого и трудного пути до христианства, причем Божественная помощь проявлялась сначала в меньших откровениях (Будды, греческой философии), а затем в величайшем – облике самого Христа, подобно Божественной Мудрости (Беатриче) поэмы выведшего путника к спасению.
Таков, в самых беглых чертах, артистический и философский характер произведения. Подчеркиваю: его гармония состоит в вольном, естественном сожительстве непосредственно-художественного с религиозно-философским, политическим, церковным. Все имеет в поэме свою жизнь, не ломая и не стесняя другого. Потому-то разные люди с одинаковым почтением приближались и будут приближаться к ней: поэты, теологи, моралисты, историки средневековья, историки итальянского Ренессанса. Для всех находится здесь интересное и важное.
Добавлю, что комедия (лишь позже получившая титул Божественной) написана по-итальянски, а не на латинском языке – в этом Данте был новатором. Будь он средневековым педантом, подражателем древних, он написал бы гладко и чисто, без красок и воздуха, более или менее «совершенной» латынью – что и делалось в Италии, и в его время, и позже. Данте же пустил в ход весь арсенал языка, и ученого, и разговорного, и простонародного. Рядом с дьяволами, святыми, с загробными чудищами – длинный ряд живых людей, местностей, пейзажей, гор, озер, обвалов его Италии. Есть местные диалекты. Есть слова, услышанные в таверне, на улице, меж земледельцами. Италию он знал. Она всегда именуется «прекрасной страной», «чудной страной», и суровому путнику ведома ближайше, в мелочах. Есть в этой стране город, о котором не может он говорить покойно: это Флоренция, дорогое и родное место, лучший город среди городов – и мучительнейший для него. Любовь-ненависть, ненависть-любовь – вот его отношение к Флоренции. Но и правда, если трудно быть изгнанником вообще, то изгнанником Флоренции быть трудно вдвое, вдесятеро – ибо велика тоска человека по Флоренции. И если сейчас улицы города украшены каменными досками с золотыми словами Данте, то не надо забывать, что после первого изгнания (1302 г.) Данте не был помилован в 1311 г., когда многие из изгнанников возвратились. Напротив, в 1315 г. последовало новое подтверждение приговора: всякому предоставлялось поступить с личностью и имуществом поэта по его желанию (он вне закона).
В случае поимки на флорентийской земле – казнь на площади Синьории.
Площадь эта, за давнее свое существование, видала много видов. Вспомним круглую бронзовую плиту с изображением Савонароллы (в мостовой, около памятника герцогу Козимо) – ею отмечено место гибели Савонароллы.
Кровь Данте потому не пролилась на эти плиты, что все те девятнадцать лет, какие оставалось ему жить с 1302 г. и в которые он обессмертил свое имя, – находился он вне Флоренции. Я указывал уже на его пребывание в Вероне, Падуе. Длинный ряд местностей, замков, монастырей, городов приписывают себе честь принимать его у себя – Пистойя, Сиена, Губбио, Фонте Авеллана, С. Бенедетто, Поппи, Калабрия, Пола, Сицилия и многие другие. Сведения наши об этом неясны. Один из источников – сама Комедия, где иногда встречаются подробности, говорящие о том, что поэт лично видел то, или иное. Нет сомнения, что родную страну, за годы изгнания, выходил он пешком, всю высмотрел и запомнил. Это связано было с родом его скитальческой жизни. Насколько можно себе представить, Данте во вторую половину жизни своей был чем-то вроде учителя и придворного поэта, придворного ученого, вряд ли подолгу уживавшегося при мелких властителях Италии. Это их хлеб был ему горек и их лестницы трудны. Легенда верно, думаю, сохранила его образ; и когда читаешь о горделивых ответах зазнавшемуся, хмельному тирану, то им веришь, или им подобным. Кажется, в возрасте зрелом Данте и вообще был трудным человеком. Вероятно, изгнание закалило его гордость, от природы великую. Он, конечно, знал, кто он. В четвертой песне «Ада» Гомер, Лукан, Овидий и другие принимают его в свою среду, как равного. И этот равный – в жизни вынужден был питаться подачками, быть забавником, на положении немногим выше шутов и скоморохов. Современники говорят, что он был молчалив, угрюм, надменен. Очень известен рассказ, легендарный, но удачный – о том, как матери пугали детей именем Данте, «спускавшегося в Ад». По Боккаччио, «лицо его было длинно, нос орлиный, глаза скорее велики, чем малы, челюсти большие и нижняя губа выдавалась вперед; цвет лица темный, волосы и борода густые, черные и курчавые, всегда он был задумчив и печален». К старости он несколько сгорбился. Ходил медленно, с достоинством, одет был бедно, но во всем облике его была внушительность. Годы и испытания его согнули. Но сломить такого человека было трудно; и несмотря ни на что, в это именно время доканчивал он свое творение. Есть известие, что некоторые песни Комедии написаны в монастыре Фонте-Авеллана, на суровой и дикой горе Катриа, недалеко от Урбино. В обители сохранилась и келия, где, как будто бы, он жил – вблизи неба, звезд, вечности, питательницы его души.
В 1316 г. он поселился, наконец, в Равенне, у Гвидо да Полента, молодого, образованного «синьора Равенны». Здесь, кажется, было ему покойнее. Здесь окончил он дело всей своей жизни – «Божественную Комедию». Он умер в сентябре 1321 г., едва ли не написав последней строчки поэмы. Его похоронили с почетом, но и за могилой для праха его не нашлось успокоения: был момент, когда папский легат собирался сжечь его (за грозную для пап XIX-ю песнь «Ада»), Флоренция пыталась, но безуспешно, вернуть его себе; в XVII веке монахи соседнего с его гробницею монастыря вырыли саркофаг и перенесли к себе, что обнаружилось лишь в 1865 г. Гроб Данте оказался при вскрытии пустым, в монастыре же нашли каменный ящик с надписью: Ossa di Dante– там были его кости. Измерения черепа дали неясные результаты. Все же останки были уложены в гроб и водворены в часовне, на старом своем месте. Кто бывал в Равенне, помнит эту скромную часовню, с барельефом Данте, ренессансной работы. Она ограждена решеткой. Неугасимая лампада краснеет, и простирается великое безмолвие Равенны, города-усыпальницы, о котором не напрасно сказал почивший
Ravenna sta, com'e stata molti anni.[36]Жизнь Данте была полна волнений, горечи, неудач. «Божественную Комедию» в его дни почти не знали. Тем грандиознее посмертная слава этого задумчивого и уединенного скитальца, вознесшая его на вершины человечества, и осиявшая сказочным величием. Ныне изображается он всегда в лавровом венце. Иногда орел сопутствует ему, – вещий символ. Как полубог, отошел он в страну легенды.
Я. Н. Горбов. Литературные заметки*
«Ад» Данте Алигиери. Перевод Б. К. Зайцева. Париж 1961 г.
В примечаниях к одному из многочисленных переводов Божественной Комедии П. А. Фиорентино говорит, что когда в один из майских дней 1265 года, в церковь Святого Иоанна Крестителя, во Флоренции, принесли мальчика и назвали его Дуранте Алигиери, – то был этот день прекрасным для Италии. «Бог прикоснулся ко лбу предназначенного младенца, и младенец, став мужчиной, сотворил чудеса». По слову его «народ отряхнул свои одежды» от наслоившейся на них, за века варварства, пыли, и, по его приказанию, искусства стронулись с места и покрыли шедеврами соборы, монастыри, кладбища… Вполне точно дата рождения поэта не установлена, и неизвестно, в каком именно доме он увидел свет, но что это было в 1265 г., мы знаем так же, как знаем, что он скончался в Равенне в 1321 г., т. е. сравнительно молодым, всего пятидесяти шести лет от роду. При жизни славным он не был, слово его прозвучало на весь мир только после его кончины, и то не сразу. Пока он был среди живых, творения его появлялись отрывками, почти случайно, и не стяжали ему даже и всеитальянской известности. Впервые о нем заговорили так, как надлежит говорить о, самим Господом отмеченном, поэте-пророке, в 1373 г., когда, признав свою перед ним вину, Флорентийская Республика поручила одному из трех знаменитейших поэтов средневековья, Боккаччио, читать и комментировать терцины Данте с кафедры церкви Святого Стефана. С той поры, восходящий путь Данте непрерывен. Посмертная его судьба не сравнима ни с какой другой посмертной судьбой; она, в своем роде, ослепительна и прав, конечно, один из исследователей гениального текста, сказавший, что «Божественная Комедия», это та книга, которой не хватало между книгой «Бытия» и «Апокалипсисом», что она точно послана для того, чтобы заполнить оставшийся до нее незаполненным пробел.
Итальянский народ пел и читал Дантовский текст, как поют и читают откровение. Вера была, в тот век, пламенной и твердой, и связь земного с потусторонним была действенной и ощутимой. Так что никому не пришло в голову усомниться в правдивости рассказа того же Боккаччио, когда он поведал о посмертном явлении Данте своему сыну Джиаконо. В конце 1332 года, тот пытался написать последние песни Рая, которых не находили, думая таким образом выполнить благочестивый сыновний долг. Само собой понятно, что не только это ему не удавалось, но было просто недоступно. В отчаянии, усталый, он заснул, и тогда-то и явился ему Данте, указавший пальцем старый шкаф, в глубине которого лежали, заваленные другими пергаментами, последние десять песен Рая.
Что жизнь поэта была полна страстей, что были в ней периоды бурные, что подчас он мог быть неумеренным, что тихого семейного счастья он или не знал, или его не заметил, – установлено исследователями с достаточной четкостью. Осветившая душу Данте любовь к Беатриче, покинув рамки обычных земных чувств, приобрела оттенки нарицательные и легендарные, истолкованиям и объяснениям которых нет счета.
Чтобы присоединиться, или не присоединиться к одному из этих толкований, надо быть дантологом – рядовому читателю позволено только слушать, только чувствовать. A profani proculite…
«Литература о Данте так велика, – пишет в сжатом, точном, удивительном по простоте введении к переводу, Борис Константинович Зайцев, – что в ней чувствует себя „задохнувшимся“ сам великий знаток всего Дантовского – Скартаццини». И вообще «десятки людей отдавали жизнь на комментирование („Божественной Комедии“), сменялись целые направления в ее понимании, сотни изданий выходили в свет, сотни переводов на всевозможные языки, тысячи читателей ее читали, для многих, особенно в Италии, эта поэма нечто в роде Евангелия»… «Проделана громадная работа. Изучены ее (поэмы) истоки, все предшествующее в области писаний визионерных, сличены все образы ее с литературными образами древних; до мелочей изучена историческая, бытовая, географическая, астрономическая и космогоническая сторона произведения, равно философская и теологическая… про так называемые темные места Комедии нечего и говорить: есть строки, вызвавшие целую литературу. Разработана лингвистика, грамматика, синтаксис, метрика, характеристика метафор и т. д.»
Нельзя, конечно, отрицать, что такая исключительная слава, такое всестороннее внимание, в известной степени, зависят от сюжета творения, сюжета единственного, такого, к которому не было сил прикоснуться ни у кого. Но кроме того что Данте был великий визионер, он был еще и великим поэтом, о власти слова которого Б. К. Зайцев говорит: «железная сила в них и печаль безмерная». Чтобы написать «Ад», надо было «в озере своего сердца собрать острую влагу скорби… Написавший молчалив, замкнут, суров…». «…И в этой цельности нигде (как в Библии) не встретишь и следа залощенности, средины. Никогда не скажешь ни холоден, ни горяч, но тепел»… «Если попробовать рукой на ощупь, то слова Данте благородно-шероховаты, как крупно-зернистый мрамор или позеленевшая, в патине, бронза». Со своей стороны, например, Ламенэ, коснувшись стиля Данте, пишет: «Поэзия Данте, скупая в словах, сжатая, нервная, стремительная, вместе с тем, чудесно богатая, трижды меняется для того, чтобы описать те три (будущих) мира, которые, по христианской вере, ожидают человека, живущего в мире теперешнем. Мрачная и страшная, когда она описывает царство тьмы, град погибших, вечную муку, – она наполнена тихой и благочестивой грустью, когда касается искупления грехов не тяжких, когда показывает нам мир, где нет светил, где, кажется, отражает она мягкое мерцание наполовину погасшего дня; и потом, внезапно поднимаясь все выше и выше от одного неба к другому, она облекается все более и более сверкающими красками, загорается все более чистым пылом вплоть до того, как исчезнет за последними пределами пространства и еще несозданной любви».
Как говорят, Данте думал написать «Божественную Комедию» по-латински. Не откажись он от этого первоначального намерения, поэму его, вероятно, постигла бы участь многих средневековых шедевров – т. е. полная, или почти полная неизвестность. Горящие строки оказались бы в самый миг зарождения их уложенными в гранитные гробницы, стали бы, как очень многие тогдашние пергаменты, никому, или почти никому, недоступными редкостями; лежали бы где-нибудь на пыльных полках древних книгохранилищ, где, только изредка, только эрудиты, могли бы их читать и ценить. И не произошло бы того, что Борис Константинович, с ему присущей простотой и ясностью, назвал: «Творение, стоящее над человечеством уже шесть веков».
«Данте, – продолжает Борис Константинович, – был новатором… он пустил в ход весь арсенал языка, и ученого, и разговорного, и простонародного. Рядом с дьяволами, святыми, загробными чудовищами – длинный ряд живых людей, местностей, пейзажей, гор, озер, обвалов его Италии. Есть слова, услышанные в тавернах, на улице, меж земледельцами…» Данте выбрал для «Божественной Комедии» терцины. Поставленный, в свою очередь, перед необходимостью выбора, переводчик Б. К. Зайцев выбрал ритмическую прозу, и перевод сделан строка в строку с подлинником. Выбор этот обусловлен желанием «передать по возможности первозданную простоту и строгость дантовской речи». Перевод же терцинами «уводит далеко от подлинного текста»… «Перевод, – говорит Борис Константинович, – всегда есть только отражение подлинника поэтического, задача его скромна, труд упорен и кропотлив. Все же я благодарен за те дни и годы, которые прошли в общении с Дантом… В тяжелые времена войны, революции, нашествия иноплеменников эта работа утешала и поддерживала».
Так дошли до нас, изгнанников, удивительные, поглощающие строки одного из самых удивительных и страстных поэтов. Читая «Ад» в переводе Б. К. Зайцева, испытываешь многократную благодарность. И к самому поэту, как за самое его творение, так и за то, что он отказался от первоначального своего желания писать по латыни. Священны его книги и окажись они похороненными на полках библиотек, было бы человечество лишено одного из первых, одного из самых главных текстов. Благодарность к переводчику: в России Данте переводили многие, и изданий его творений было несколько. Возможно, что часть этих книг уцелела, они наверное сохранились в больших библиотеках, может быть у одного-другого знатока, поклонника, эрудита. Но это почти уникумы. Тем ценней дар, принесенный и памяти поэта и нам, читателям, Борисом Константиновичем. Он знал, что делал, когда, в дни бомбардировок и пожаров, спускаясь в подвал, захватывал с собой рукопись. Избежавший схоластической латыни текст рисковал не увидать света и в русском, зарубежном, издании. Борис Константинович знал, что не сохранить плоды своего «скромного, упорного и кропотливого труда» было бы даже не непростительно, было бы грешно, и все оставляя в квартире, листы с переводом брал с собой.
Своему переводу он предпослал вступление, о котором нельзя не сказать, что оно составлено с редким умением. Две части: краткая биография, краткие пояснения творений. Из текста этого, – до высшей меры точного, осторожного, проверенного и насыщенного, – фигура поэта выступает с большой рельефностью. Каждый, читая строки Бориса Константиновича, – даже никогда прежде Данте не интересовавшийся, – подчинится магии его необычайной фигуры. И многим захочется себя спросить, какой же, в конце концов, был этот человек, и творения которого, и он сам, овеяны ореолом мистической таинственности? Как исчерпывающе описать такую страстность, такую сложность, такую веру, такую душу? Конечно Данте жил в эпоху большого духовного подъема, конечно он был одни из тех, до которых в ту пору могли начать достигать, пусть еще смутные голоса приближавшегося Возрождения. Но если окружающая среда и многое может объяснить, всего она не объясняет. И сквозь сжатые, сквозь точно бы нарочно суховатые фразы можно угадать, – даже скорей почувствовать, чем угадать, – что Данте был, в своем роде, единственным, свыше вдохновенным, потусторонним наделенным зрением и слухом, посланцем, пророком…
Что до разбора творений, то, к до возможного предела сконцентрированной квинт-эссенции огромной дантовской литературы, Борис Константинович присоединяет свой, в высшей степени авторитетный, голос. Автор этой заметки берет на себя смелость посоветовать прочесть и перевод «Ада», и вступление, насыщеннейшие комментарии, – каждому. Потерянной не будет ни одна минута.
Комментарии
Восьмой (дополнительный) том собрания сочинений Зайцева представляет его рассказы из газет и журналов России и эмиграции, в основном из числа тех, что в книги им не включались (за исключением пяти: «Мгла», «Деревня», «Заря», «Вечерний час», «Лето»). За пределами собрания осталось еще не менее десяти рассказов Зайцева, публиковавшихся в периодике. В том включено также еще не известное читателям наших дней его драматическое наследие (это семь пьес) и впервые издающийся в России перевод «Ада» из «Божественной Комедии» Данте, над которым писатель работал тридцать лет.
Земля*
Впервые – в ежедневной газете «Курьер». М., 1902. 20 янв. Печ. по изд.: коллективный благотворительный сборник стихов и прозы «Корабли». М., 1907 (с пометкой: «Весь доход с этого издания – нашему другу, больному поэту», очевидно, В. В. Башкину, умершему от чахотки в 1909 г.; его памяти друзья в 1910 г. посвятили и второй сб. – «Огни»). В однотомники и собр. соч. не включался.
Соседи*
Курьер. М., 1903. 2 марта. Републикация – в коллективном литературном сборнике в пользу пострадавших от землетрясения в Мессине (Италии). СПб.: изд-во «Шиповник», 1909. Печ. по этому изд. В однотомники и собр. соч. не включался.
Север*
Курьер. М., 1903. 9 сент. Печ. по изд.: сб. «На этапах». М.: Мысль, 1916. В однотомники и собр. соч. не включался.
Мгла*
Ежемесячный общественно-политический и литературный журнал «Правда». М., 1904. Февр. Печ. по изд.: Зайцев Б. Собр. соч. Кн. 1. Тихие зори. Берлин; Пб.; М.: Изд-во З. И. Гржебина, 1922.
Океан*
Литературно-общественный журнал «Вопросы жизни». СПб., 1905. № 2. Печ. по этому изд. В однотомники и собр. соч. не включался.
Если бы я была Антигоной или Медеей… – Антигона – в греч. мифологии дочь слепого царя Эдипа, последовавшая за ним в добровольное изгнание; приняла мученическую смерть: была заживо погребена в пещере. Миф об Антигоне стал сюжетом трагедий Софокла, Расина, Брехта и др. Медея – дочь царя Колхиды, наделенная даром волшебства; героиня трагедий Еврипида, Сенеки, Корнеля, Ануя, в которых она предстает как убийца своих детей, отвергнутая женщина, мстящая сопернице.
Деревня*
Общественно-политический и литературный журнал «Новый путь». СПб., 1904. Дек. Печ. по изд.: Собр. соч. Берлин; Пб.; М., 1922. Кн. 1.
Завод*
Ежемесячный журнал для всех. СПб., 1906. № 4. Печ. по этому изд. В однотомники и собр. соч. не включался.
Ласка*
Ежемесячный литературный, научный и политический журнал «Современный мир». СПб., 1906. Дек. № 3. Печ. по этому изд. В однотомники и собр. соч. не включался.
Заря*
Литературно-художественный альманах издательства «Шиповник». СПб., 1910. Кн. 12. Печ. по изд.: Зайцев Б. Избранные рассказы. 1904–1927. Белград, 1929. Серия «Русская библиотека». Кн. 7.
Вечерний час*
Журнал истории, науки, политики, литературы «Вестник Европы». СПб., 1913. Февр. Печ. по изд.: Зайцев Б. Тихие зори. Мюнхен: Изд-во Т-ва зарубежных писателей, 1961.
Лето*
Зайцев Б. Усадьба Ланиных. Рассказы. Кн. 4. М.: Изд-во К. Ф. Некрасова, 1914. Печ. по изд.: Собр. соч. Кн. 3. Усадьба Ланиных и другие рассказы. Берлин; Пб.; М., 1922.
Плач о Борисе и Глебе*
Возрождение. Париж, 1928. 7 янв. № 949 (Рождественский номер с иллюстрациями М. В. Добужинского). Печ. по изд.: Вестник Русского Студенческого Христианского Движения. Париж; Нью-Йорк, 1955. № 37. В однотомники и собр. соч. не включался.
Гофмейстер*
Ежемесячный журнал под редакцией П. Н. Милюкова «Русские записки». Париж, 1939. Май. № 17. Печ. по этому изд. В книги не включался.
Любовь*
Зайцев Б. Рассказы. Кн. 2. СПб.: Шиповник, 1909. Печ. по изд: Собр. соч. Т. 2. Полковник Розов. Рассказы. 2-е изд. М.: Т-во «Книгоиздательство писателей в Москве» (без года).
…«подобны лорелейским струям». – Лорелея – речная нимфа, обитательница Рейна, которая своими песнями завлекает корабли на скалы.
…ты Ноздрев, ты и играешь по-ноздревски. – Герой поэмы Гоголя «Мертвые души» Ноздрев в карты играл шулерски.
…пляшет танец Саломеи. – Саломея – дочь Ирода Филиппа и Иродиады, вступившей в брак при жизни мужа с его братом Иродом Антипой, царем Иудеи. На одном из его пиров Саломея танцевала обнаженной. Восхищенный царь опрометчиво пообещал падчерице выполнить любое ее желание. По наущению своей мстительной матери Саломея просит поднести ей на блюде голову Иоанна Крестителя, публично осудившего Иродиаду за кровосмесительную связь.
Верность*
Литературно-художественный альманах издательства «Шиповник». СПб., 1909. Кн. 11. Печ. по изд.: Собр. соч. Кн. 2. Сны. Рассказы. Берлин; Пб.; М., 1922.
…достать… Соловьева. – Владимир Сергеевич Соловьев (1853–1900) – поэт, философ, критик, публицист; кумир крупнейших представителей русской культуры Серебряного века.
Чигорин Михаил Иванович (1850–1908) – основоположник русской шахматной школы, чемпион России в 1899–1906 гг.
Вашей королеве – гардэ. – Гардэ (фр. gardez – берегите) – устаревший шахматный термин, означающий предупреждение о нападении на ферзя.
Ты Савонарола… – Джироламо Савонарола (1452–1498) – настоятель доминиканского монастыря во Флоренции, прославившийся проповедями аскетизма и выступлениями против гуманистической культуры (организовывал сожжения произведений искусства). Был отлучен от церкви и казней.
…та вода, что поила таинственных Диоскуров– В греч. мифологии Диоскуры – Кастор и Полидевк (у римлян Кастор и Поллукс), сыновья-близнецы Зевса.
Усадьба Ланиных*
Шиповник. СПб., 1911. Кн. 15. Печ. по изд.: Собр. соч. Кн. 3. Усадьба Ланиных и другие рассказы. Берлин; Пб.; М., 1922 (с рукописными исправлениями автора в этом томе, присланными Н. Б. Зайцевой-Соллогуб).
Пощада*
Шиповник. СПб., 1914. Кн. 23. Печ. по этому изд.
Забелин один на полке остался. – Иван Егорович Забелин (1820–1908/09) – историк, археолог, научный руководитель Исторического музея в Москве; автор знаменитых книг «Древности Геродотовой Скифии», «Домашний быт русских царей XVI и XVII веков», «Домашний быт русских цариц» и др.
…разучивал этюды Напоп… – Шарль Луи Ганон (1819 или 1820–1900) – французский пианист, органист, педагог; автор учебных этюдов и упражнений, составивших популярную в России книгу «Пианист-виртуоз».
…как волшебная Сандрильона. – Сандрильона – во французских сказках Золушка.
Ариадна*
Ариадна. Пьеса. М., 1917. Печ. по изд.: Собр. соч. Кн. 6. Голубая звезда. Рассказы. Берлин; Пб.; М., 1923.
Дон-Жуан*
Литературно-художественный альманах «Пересвет». М.: Н. В. Васильев, 1922. № 2. В этом же году: журн. политики и культуры «Воля России». Прага. 1 нояб. № 4 (32) и в сб.: Рафаэль. Книга рассказов. М.: Костры. Печ. по изд.: Рафаэль. Новеллы. Берлин: Нева, 1924.
Души чистилища*
Рафаэль. Книга рассказов. М.: Костры, 1922. Печ. по изд.: Рафаэль. Новеллы. Берлин, 1924.
Данте Алигьери. Божественная Комедия. Ад*
Печ. по изд.: Данте Алигиери. Божественная Комедия. Ад. Перевод Бориса Зайцева. Париж: YMCA-Press, 1961. Работа над переводом «Ада» началась в 1913 г. и тогда же был заключен договор с издательством К. Ф. Некрасова, но война помешала осуществлению этого замысла. Зайцев увлекшую его работу продолжал до 1918 г., затем, то и дело прерываясь, порой надолго, жизненными обстоятельствами, не оставлял ее многие годы и завершил зимой 1942/43 г., в суровую пору фашистской оккупации Парижа. Интересные свидетельства о том, в каких условиях работал писатель, содержатся в его письмах к И. А. Бунину в Грасс. «Мы уже более 2-х недель не дома, – пишет он весной 1943 г. (письмо без даты). – 4-го апреля Булонь наша сильно пострадала. К счастию, в то воскресенье Наташа пригласила нас к себе завтракать – после обедни и панихиды на Daru по Рахманинову (композитор умер 28 марта в США. – Т. П.). В 1 1/2 мы вышли (пешком) из церкви к Наташе, в 2 началась бомбардировка. Если бы поехали прямо домой, то как раз выходили бы из метро Самба прямо под бомбы. Там было плохо! Весь наш путь от метро домой обстрелян… Ближайшие попадания к дому – 75 и 50 метров. Когда в четвертом часу мы попали домой, квартира была полна битого стекла и мусора – все стекла вылетели, все это предназначалось нам в физиономию. Да, опять чья-то рука отвела беду. <…> Жаль, Иван, ты далеко. Я бы тебе прочел 1–2 песни „Ада“ во „взрослой“ моей отделке… В этого Данте я зимой сильно влез. И как удивительно: перевел его 25 лет назад, трижды получил под него авансы, трижды издательства разорялись войнами и революциями, а теперь я рад, что он не вышел в прежнем виде. Это было бы неприятно мне теперешнему. А я „теперешний“ – уже последний, больше со мной ничего не будет, кроме смерти. Это последнее мое слово. Что знаю, что умею, то даю – изо всех моих сил. Рукопись завещаю Наташе, может быть, ей когда-нибудь и удастся ее напечатать (на свой и Верин век не рассчитываю). А тут я нередко его читаю вслух – находятся такие, кому нравится это занятие. Вот и на Пасху званы мы с Верой в один дом: читать и „вкушать“» (Письма Б. К. Зайцева к И. А. и В. Н. Буниным. – Новый журнал. Нью-Йорк, 1978. № 150. С. 220–221).
Первые публикации переводов «Ада» появились в изданиях: Возрождение. Париж, 1928, 22 апреля и 27 мая (Песни третья и пятая с предисловием переводчика); сб. «Числа». Париж, 1931. № 5 (Песнь восьмая). Дождался Зайцев и выхода книги в 1961 г. Появление нового перевода шедевра мировой литературы пресса русской эмиграции отметила как одно из самых примечательных событий в преддверии 700-летия со дня рождения Данте. Аналитические рецензии в 1962 г. опубликовали парижский журнал «Возрождение» (Я. Н. Горбов, в № 125), альманах русских политэмигрантов в Мюнхене «Мосты» (О. Н. Можайская, в № 9), канадский (в Торонто) журнал русской культуры и национальной мысли «Современник» (X. Е. Боуман, в № 6). Текст «Ада» печатается с примечаниями Зайцева. Рекомендуем также познакомиться с подробным историко-литературным комментарием И. Н. Голенищева-Кутузова к «Аду» в издании: Данте. Божественная Комедия. Перевод М. Л. Лозинского. М.: Наука, 1967 (серия «Литературные памятники»).
Данте и его поэма*
Впервые – отдельным изданием: Зайцев Б. Данте и его поэма. Обложка и марка работы художника Н. Н. Вышеславцева. М.: Вега, 1922. Републикация: Современные записки. Париж, 1929. № 39. Печ. по изд.: Данте Алигиери. Божественная Комедия. Ад. Париж, 1961.
Я. Н. Горбов. Литературные заметки*
Журнал «Возрождение». Париж, 1962. № 125. Автор рецензии – Яков Николаевич Горбов (1896–1981), прозаик, переводчик, критик. С 1978 г. – третий муж писательницы Ирины Николаевны Одоевцевой (1895–1990), о котором она оставила подробные свидетельства в мемуарах «На берегах Сены». Горбов – москвич, из семьи потомственных переводчиков, старший из которых перевел ритмической прозой «Божественную Комедию» Данте. Приятель детских лет сестер М. И. и А. И. Цветаевых («Не забуду я Яши, мальчика-лорда, улыбающегося и молчащего», – вспоминает после долгих лет сталинской каторги Анастасия Ивановна, получая документ о реабилитации не где-нибудь, а по иронии судьбы в московском особняке Горбовых во Власьевом переулке). Окончив в Петербурге Николаевское военное училище, Яков Горбов воевал в первую мировую и гражданскую войны (в Добровольческой армии); во вторую мировую – доброволец французской армии. С 1947 г. пишет романы на французском языке. С 1961 по 1974 г. – соредактор журнала «Возрождение», в котором опубликовал рецензии на книги Зайцева «Тихие зори», «Далекое», «Река времен».
Выходные данные
БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ
Собрание сочинений
Том 8 (дополнительный) УСАДЬБА ЛАНИНЫХ
Рассказы. Пьесы. Переводы
Составитель и автор примечаний Т. Ф. Прокопов
Издание осуществляется при участии дочери писателя Н. Б. Зайцевой-Соллогуб
Разработка оформления Ю. Ф. Алексеевой
Шрифтовое оформление В. К. Серебрякова
Редактор В. П. Шагалова
Художественный редактор Г. Л. Шацкий
Технический редактор И. И. Павлова
Корректор Н. Ю. Матякина
Лицензия на издательскую деятельность ЛР № 010058 от 23.10.96
Сдано в набор 09.12 99 Подписано в печать 27.05.2000. Формат 84 х 108 1/32.
Бумага писчая. На вкл. мелов. Гарнитура Таймс. Печать высокая.
Усл. п. л. 26,99 (в т. ч. вкл. 0,11). Уч. изд. л. 27,57 (в т. ч. вкл. 0,04).
Тираж 5000 экз. С-13. Зак. № 117 Изд. инд. ЛХ-182
Издательство «Русская книга» Комитета Российской Федерации по печати.
123557, Москва, Б. Тишинский пер., 38
Набрано и отпечатано на издательско-полиграфическом предприятии «Правда Севера».
163002, Архангельск, Новгородский пр, 32
Примечания
1
Из письма Храбровицкому от 29 декабря 1966 г. – ГБЛ, ф. 357, к. 10, № 42, л. 10.
(обратно)2
Памяти Художественного театра 1948 // Дни. М.; Париж, 1995. С. 128, 129.
(обратно)3
Волин В. «Усадьба Ланиных» // Театральная газета. 1914. № 13. С. 7.
(обратно)4
Протоколы репетиций см. в кн.: Вахтангов Е. Записки, письма, статьи. М; Л., 1939. С 265–277.
(обратно)5
Волин В. Усадьба Ланиных (Охотничий клуб) // Театральная газета. 1914. № 13. С. 7.
(обратно)6
Иль В. Постановка в Театре Корша (Усадьба Ланиных) // Рампа и жизнь. 1915. 15 ноября. С. 12.
(обратно)7
Иль В. Постановка в Театре Корша (Усадьба Ланиных) // Рампа и жизнь. 1915. 15 ноября. С. 12.
(обратно)8
Играть на фортепьяно! (нем)
(обратно)9
согревающий (фр).
(обратно)10
Все время плачет (ит).
(обратно)11
О, моя курица! (ит)
(обратно)12
Вино вам вредно (ит).
(обратно)13
говорит спрашивает, что ты хочешь этим сказать (ит)
(обратно)14
Хочет увезти с собой И потом скрыться в Париж (ит).
(обратно)15
Два… И еще одна посылка (ит).
(обратно)16
Чайная (англ).
(обратно)17
сказал (лат.); в значении: все необходимое сказано.
(обратно)18
Здравствуй, Цезарь… (лат.); из приветствия гладиаторов.
(обратно)19
В защиту себя (лат.).
(обратно)20
Господа, приглашайте дам (фр.).
(обратно)21
Салонные игры (фр.).
(обратно)22
В тесном дружеском кружке (фр).
(обратно)23
За неимением лучшего (фр)
(обратно)24
То есть свободный проход чрез пригорок, а сами спрячемся за скалой.
(обратно)25
Мо и issa – синонимы: теперь, сейчас.
(обратно)26
Еще до рождения, т. е. пупок.
(обратно)27
Так называет Данте седьмой лог. – «Заворри» собств. – Песок, насыпаемый в виде балласта на дно корабля (здесь: Ада).
(обратно)28
Богу.
(обратно)29
Дословно: буравы.
(обратно)30
Ему хочется спать и он торопится почистить коня, чтобы уйти.
(обратно)31
сторожевой вышки Кастанья (ит.).
(обратно)32
«сжигаемые страстью от того, что умирают» (дат.).
(обратно)33
Ты будешь знать, как горестен устам
Чужой ломоть, как трудно на чужбине
Сходить и восходить по ступеням.
Рай. XVII.57 (ит.). Переsод М. Лозинского.
(обратно)34
В истоках Сарно (ит.).
(обратно)35
Сострадательная дама (ит).
(обратно)36
Такая же Равенна, как и мноrо лет назад (ит.). Перевод Б. Зайцева.
(обратно)
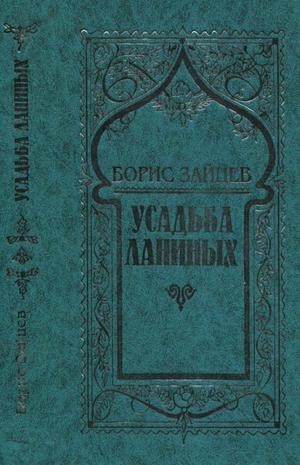


Комментарии к книге «Том 8. Усадьба Ланиных», Борис Константинович Зайцев
Всего 0 комментариев