Федор Кузьмич Сологуб Собрание сочинений в восьми томах Том 6. Заклинательница змей
Неутолимое*
Поцелуй нерожденного*
I
Служащий в конторе большого акционерного предприятия шустрый мальчик, коротко остриженный, в узкой с двумя рядами бронзовых мелких пуговиц курточке, на которой незаметно было пыли, потому что она была серая, заглянул в дверь той комнаты, где работали пять переписчиц, стуча порою одновременно на пяти шумно стрекочущих машинках, и, взявшись за притолоку и качаясь на одной ноге, сказал одной из барышень:
– Надежда Алексеевна, вас просят к телефону госпожа Колымцева.
Он убежал, и шагов его не было слышно по протянутому в узком коридоре серому мату. Надежда Алексеевна, высокая, стройная девушка лет двадцати семи, с уверенными тихими движениями и с тем спокойствием глубокого взгляда, который дается только тому, кто пережил тяжелые дни, неторопливо, дописав до конца строчку, встала и пошла вниз, в комнату возле передней, к телефону. Думала: «Что опять случилось?»
Уж она привыкла к тому, что если сестра Татьяна Алексеевна пишет ей или звонит к ней по телефону, то это почти всегда бывает потому, что в семье что-нибудь случилось, – болезнь детей, служебная неприятность у мужа, какая-нибудь история в школе, где учатся дети, острый приступ безденежья. Тогда Надежда Алексеевна садилась в вагон трамвая и отправлялась на далекую окраину города – помогать, утешать, выручать. Сестра была старше Надежды Алексеевны лет на десять, давно вышла замуж, и, живя в одном городе, они виделись не часто.
В тесной телефонной будке, где почему-то всегда пахло табаком, пивом и мышами, Надежда Алексеевна взяла разговорную трубку и сказала:
– Я слушаю. Это – ты, Таничка?
Голос сестры, плачущий и взволнованный, точь-в-точь такой, какой и ожидала услышать Надежда Алексеевна, послышался ей:
– Надя, ради Бога, приезжай поскорее, у нас страшное несчастье, Сережа умер, застрелился.
Еще не успевши испугаться неожиданной вести о смерти своего пятнадцатилетнего племянника, милого мальчика Сережи, как-то растерянно и бессвязно Надежда Алексеевна говорила:
– Таня, милая, что ты говоришь! Какой ужас! Да из-за чего же? Когда это случилось?
И, не дожидаясь и не слушая ответа, поспешно сказала:
– Я сейчас приеду, сейчас.
Бросила трубку, забыв даже надеть ее на крючок, и быстро пошла к управляющему, отпрашиваться по семейным обстоятельствам.
Управляющей разрешил ей уйти, хотя и сделал недовольное лицо и ворчал:
– Вы знаете, теперь такое горячее время перед праздниками. У вас у всех всегда что-нибудь случается неотложное в самое неудобное для нас время. Ну что ж, идите, если вам так необходимо, но только помните, что работа стоит.
II
Через несколько минут Надежда Алексеевна уже сидела в вагоне трамвая. Надо было ехать минут двадцать. В это время мысли Надежды Алексеевны опять вернулись к тому же, к чему увлекались они всегда в те минуты жизни, когда столь частые в этой жизни неожиданности, почти всегда неприятные, нарушали скучное течение дней. А чувства Надежды Алексеевны были неопределенны и подавленны. Острая жалость к сестре и к мальчику только по временам вдруг заставляла ее сердце больно сжиматься.
Было страшно думать о том, что этот пятнадцатилетний мальчик, который еще только на днях приходил к Надежде Алексеевне и долго разговаривал с нею, веселый прежде гимназист Сережа вдруг застрелился. Было больно думать о том, как тоскует и плачет его мать, и без того уже утомленная трудною, не совсем удачною жизнью. Но было еще что-то, может быть, более тяжелое и страшное, тяготеющее над всею жизнью, что мешало Надежде Алексеевне отдаться этим чувствам, – и не могло теснимое давнею тоскою сердце ее сладостно истощиться муками горя, жалости и страха. Точно был придавлен тяжелым камнем источник облегчающих слез, – и только скупые, редкие слезинки навертывались иногда на глаза, привычное выражение которых было – равнодушная скука.
Опять память возвращала Надежду Алексеевну все на тот же пройденный ею страстный, пламенный круг. Вспоминались прожитые несколько лет тому назад немногие дни самозабвения и страсти, любви, отдающейся беспредельно.
Дни светлого лета для Надежды Алексеевны были как праздник. Радостно голубело для нее небо над бедными просторами чухонской дачной природы, и забавно весело летние шумели дождики. Запах смол в теплом хвойном лесу опьянял слаще благоухания роз, которых не росло в этом угрюмом, но все же милом сердцу крае. Зеленовато-серый мох в темном лесу был сладостным ложем нег. Лесной ручей, струясь среди серых, нескладно разбросанных камней, лепетал так радостно и звонко, как будто его прозрачная водица стремилась прямо в поля счастливой Аркадии, и весела и радостна была прохлада этих звонких струй.
В веселом упоении влюбленности так быстро промчались для Надежды Алексеевны счастливые дни, и настал день последний, о котором не знала она, конечно, что это последний счастливый день. Так же все вокруг было безоблачно, и светло, и простодушно весело. Так же прохладна и задумчива была лесная тень широкая, смолою благоухающая, и так же радостно нежен был теплый мох под ногами. Только птицы уже перестали петь, – гнезда свили, вывели птенцов.
Только на лице ее милого была какая-то смутная тень. Но это потому, что в тот день утром он получил неприятное письмо.
Так он сам говорил:
– Ужасно неприятное письмо. Я в отчаянии. Сколько дней не придется тебя видеть!
– Почему? – спрашивала она.
И еще не успела опечалиться. А он говорил:
– Отец мне пишет, что мать больна. Надобно ехать.
Отец писал совсем другое, – но Надежда Алексеевна не знала об этом. Не знала еще, что любовь бывает обманута, что уста целовавшие говорят ложь, как правду.
Он говорил, обнимая и целуя Надежду Алексеевну:
– Приходится ехать, делать нечего! Такая скука! Я уверен, что ничего нет серьезного, но все-таки нельзя не ехать.
– Да, конечно, – говорила она, – если твоя мама больна, то как же тебе не ехать! Но ты пиши мне каждый день. Я так буду скучать без тебя!
Проводила его, как всегда, до опушки леса, до большой дороги, – и пошла домой лесною тропинкою, слегка опечаленная, но так уверенная в том, что он скоро вернется. Но он не вернулся.
Надежда Алексеевна получила от него несколько писем, – странные это были письма. Смущение сквозило в них, недоговоренность чувствовалась, пугали какие-то непонятные намеки. И все реже эти письма приходили. Надежда Алексеевна стала догадываться, что он ее разлюбил. И вдруг узнала, от чужих людей, в случайном разговоре, в конце этого лета, что уже он женился.
– Как же, разве вы не слышали? На прошлой неделе прямо из-под венца уехали в Ниццу.
– Да, счастливец, – подхватил жену красивую и богатую.
– Большое приданое?
– Ну еще бы! У отца…
Уже не стала слушать, что у ее отца. Отошла в сторону.
Вспоминалось часто все то, что было потом. Не хотелось вспоминать, – Надежда Алексеевна старалась гнать эти воспоминания, задушить их в себе. Так тяжело было и унизительно, – и так неизбежно, – тогда, в те первые тяжелые дни, когда она узнала о его свадьбе, – почувствовавши себя матерью там, среди тех милых мест, где все еще напоминало ей его ласки, – только что почувствовавши первые движения нового существа, уже думать о его смерти. И убить нерожденного!
Никто из домашних не узнал, – Надежда Алексеевна придумала правдоподобный предлог для того, чтобы уехать на две недели из дому. Кое-как, с большим трудом собрала столько денег, сколько надо было заплатить за злое дело. В каком-то гнусном приюте сделали это страшное дело, подробности которого так не хотелось потом вспоминать, – и вернулась домой, еще полубольная, исхудалая, бледная и слабая, с жалким геройством скрывая боль и ужас.
Воспоминания о подробностях этого дела навязчивы были, но все-таки Надежда Алексеевна как-то умела не давать им долгой власти над своею памятью. Так быстро, торопливо припомнит все, содрогнется от ужаса и отвращения, – и спешит чем-нибудь отвлечься от этих картин.
А вот что было неотступно и с чем не могла и не хотела бороться Надежда Алексеевна, – это был милый и страшный образ нерожденного, ее ребенка.
Когда Надежда Алексеевна оставалась одна и сидела спокойно, закрыв глаза, к ней приходил маленький мальчик. Ей казалось, что она видит, как он вырастает. Так живы были эти ощущения, что ей казалось порою, будто она переживает год за годом, день заднем все то, что испытывает настоящая мать живого ребенка. Ей казалось порою, что груди ее полны молока. Потом она вздрагивала, заслышав шум какого-нибудь упавшего предмета, – не ушибся ли то ее мальчик.
Иногда хотелось Надежде Алексеевне поговорить с ним, взять его на руки, приласкать его. Она протягивала руку, чтобы погладить мягкие волосы, золотисто-светлые, своего сына, – но рука ее встречала пустоту, и за ее спиною, чудилось ей, звучал смех убежавшего, спрятавшегося где-то близко ребенка.
Она знала его лицо, – свое дитя, хотя и не рожденное. Ясно видела она его лицо – милое и страшное сочетание черт того, кто взял ее любовь, и бросил, кто взял ее душу, и выпил и забыл, – его черт, все-таки, несмотря ни на что, еще милых, с ее чертами.
Веселые глаза, серые, – это от отца. Легкие раковинки маленьких розовых ушей, – это от матери. Мягкий очерк губ и подбородка, – это от отца. Круглые, нежные плечи, похожие на плечи молодой девушки, – это от матери. Золотистые, слегка вьющееся волосы, – это от отца. Умильные ямочки на румяных щечках, – это от матери.
Так все разберет Надежда Алексеевна, и ручки, и ножки, и все узнает. Все знает. Узнает привычки, – так руки держит, так нога с ногою скрещивает, – от отца перенял, хотя и не видел своего отца нерожденный. Засмеется, посмотрит в сторону, зарумянится нежно и стыдливо, – от матери, это от матери взял нерожденный.
Сладко и больно. Точно кто-то нежным пальчиком и розовым бередит глубокую рану, жестокий и милый, – так больно! Но прогнать его нельзя.
– И не хочу, не хочу прогнать тебя, нерожденный мой мальчик. Хоть так живи, как можешь. Хоть эту жизнь я тебе дам.
Только мечтательную жизнь. Весь только в ней. Милый, бедный нерожденный! Не обрадуешься сам, не засмеешься сам для себя, не заплачешь сам о себе. Живешь, и нет тебя. В мире живых, среди людей и предметов, тебя нет. Такой живой, и милый, и светлый, – и тебя нет.
– Вот что я с тобою сделала!
И думала Надежда Алексеевна: «Теперь еще мал, не знает. Подрастет, узнает, сравнит себя с рожденными, захочет жизни живой и упрекнет мать. Тогда умру».
Не замечала и не думала, что безумными покажутся мысли ее, если судить их здравым смыслом, ужасным и безумным судиею наших дел. Не думала о том, что тот маленький, безобразный, сморщенный зародышек, который она выбросила, так и остался бездушным комком материи, мертвым веществом, которому человеческий дух не дал оживляющей формы. Нет, для Надежды Алексеевны жив был нерожденный и нескончаемою мукою томил ее сердце.
Он был светлый, в светлой одежде, с белыми ручками и ножками, с ясными, невинными глазами, с непорочною улыбкою, и когда смеялся, смеялся радостно и звонко. Правда, когда она хотела его обнять, он убегал и прятался, но убегал недалеко и прятался здесь же где-нибудь, близко. Убегал от ее объятий, но зато сам часто обвивал ее шею теплыми, нежными ручонками и прижимался к ее щеке легкими губами, – в те минуты, когда она сидела тихо, закрыв глаза. Только в губы прямо не поцеловал ее ни разу.
«Подрастет, поймет, – думала Надежда Алексеевна, – опечалится, отвернется, уйдет навсегда. Тогда умру».
И теперь, сидя в монотонно грохочущем тесном трамвайном вагоне, среди чужих закутанных людей с праздничными покупками на коленях, Надежда Алексеевна закрыла глаза и опять увидела своего мальчика. Опять смотрела в его ясные глаза, слышала его легкий лепет, – в слова не вслушивалась, – и так доехала до того места, где надобно было выходить.
III
Надежда Алексеевна вышла из вагона и пошла по снежным улицам, мимо невысоких каменных и деревянных домов, мимо садов и заборов дальней городской окраины. Шла одна. Люди попадались навстречу чужие, – не было с Надеждою Алексеевною своего, милого и страшного. И думала она: «Грех мой всегда со мною, и никуда мне не уйти от него. Зачем же я живу? Ведь вот Сережа умер же!»
Шла, и тупая тоска была в ее сердце, и она не знала, что ответить себе на этот вопрос.
Зачем живу? Но и умру зачем?
И думала она: «Он всегда со мною, мой маленький. Он уже подрастет, – ему восемь лет, и он должен многое понимать. Отчего же он на меня не сердится? Разве ему не хочется поиграть со здешними ребятишками, покататься с ледяных гор на салазках? Вся прелесть нашей земной жизни, все то, чем и я так светло насладилась, вся эта прелесть, пусть даже и обманчивая, но такая очаровательная, прелесть жизни на этой милой земле, в этом лучшем из возможных миров, неужели не манит его?»
Теперь, когда Надежда Алексеевна шла одна по чужой, равнодушной улице, уже мысли ее недолго останавливались на ней самой и на ее мальчике. Вспомнилась ей семья ее сестры, куда она шла: сестрин муж, заваленный работою, всегда усталая сестра, орава детишек, шумная, капризная и вечно требующая того или другого, бедная квартира, мало денег. Племянники и племянницы, которых Надежда Алексеевна любила. И застрелившийся гимназист Сережа.
Можно ли было ожидать этого? Он был такой веселый, бойкий мальчик.
Но вот вспомнился Надежде Алексеевне разговор с Сережею на прошлой неделе. Мальчик был печален и взволнован. Говорили о чем-то, прочитанном в русских газетах и, стало быть, кошмарном. Сережа говорил:
– И дома плохо, и газету возьмешь, – ужас и гадость.
Надежда Алексеевна отвечала что-то, чему и сама не верила, только чтобы отвлечь мальчика от грустных мыслей. Сережа усмехнулся невесело и сказал:
– Тетя Надя, подумай, как все это нехорошо! Подумай, что вокруг нас делается! Ведь это очень страшно, если лучший из людей, такой старый, бежит из своего дома, и умирает где-то! Он только яснее всех нас увидел тот ужас, в котором мы все живем, и не мог его перенести. Ушел и умер. Страшно!
Потом, помолчав немного, Сережа сказал слова, испугавшие тогда Надежду Алексеевну:
– Тетя Надя, я скажу тебе откровенно, потому что ты – милая, и меня поймешь, – мне очень не хочется жить среди всего того, что теперь делается. Я знаю, что я – такой же слабый, как все, и что я могу сделать? Только буду понемножку втягиваться в эту мерзость. Тетя Надя, это у Некрасова верно сказано: «Хорошо умереть молодым».
Надежда Алексеевна была испугана очень и долго говорила с Сережею. Ей показалось наконец, что он ей поверил. Он улыбнулся весело, как раньше улыбался, и сказал прежним беззаботным тоном:
– Ну да уж ладно, поживем, увидим. «Прогресс подвигается, и движенью не видно конца».
Сережа любил читать не Надсона, и не Бальмонта, а Некрасова.
И вот Сережи нет, застрелился. Так и не захотел жить и смотреть на величественное шествие прогресса. Что теперь делает его мать? Целует его повосковелые руки? Или намазывает масло на хлеб для проголодавшихся с утра ребятишек, испуганных и заплаканных, таких жалких в своих поношенных платьишках и в курточках с протертыми локтями? Или просто лежит на кровати и плачет, плачет без конца? Счастливая, – счастливая, если может плакать! Что в мире слаще слез!
IV
Вот наконец Надежда Алексеевна дошла до их дома, поднялась в четвертый этаж по узкой каменной лестнице с крутыми ступеньками, поднялась быстро, почти взбежала, так что запыхалась и, прежде чем позвонить, остановилась передохнуть. Дышала тяжело, держалась правою рукою в теплой вязаной перчатке за узкую железную полоску перил и смотрела на дверь.
Дверь была обита войлоком, обтянута клеенкою, и по этой клеенке шли крест-накрест узкие черные полоски, для украшения или для прочности. Одна из этих полосок наполовину оторвалась и повисла, клеенка в этом месте продралась и торчал серый войлок. И от этого почему-то вдруг стало жалко и больно Надежде Алексеевне. Плечи ее задрожали. Она быстро закрыла лицо руками и громко заплакала. Точно ослабела вдруг, быстро села на верхнюю ступеньку и плакала долго, закрыв лицо. Под теплыми вязаными перчатками из закрытых глаз текли обильные слезы.
Было холодно, тихо, полутемно на лестнице, и наглухо закрытые двери, – три на одну площадку, – были неподвижны и немы. Долго плакала Надежда Алексеевна. Вдруг услышала она знакомые легкие шаги. Замерла в радостном ожидании. И он, ее маленький, обнял ее за шею и опять прильнул к ее щеке, отодвинув теплою ручкою руку в вязаной перчатке. Прильнул нежными губами и сказал ей тихо:
– Что же ты плачешь? Разве ты виновата!
Она молчала, и слушала, и не смела двинуться и открыть глаза, чтобы он не ушел. Только правую руку, ту, которую он отстранил, она опустила на колени, а глаза прикрыла левою рукою. И слезы старалась удержать, чтобы не испугать его некрасивым женским плачем, плачем бедной земной женщины.
И он сказал ей еще:
– Ты ни в чем не виновата.
И опять поцеловал ее щеку. И сказал ей, повторяя страшные Сережины слова:
– Мне не хочется жить здесь. Благодарю тебя, милая мама.
И опять сказал:
– Правда, ты поверь, милая мама, мне не хочется жить.
Эти слова, которые были так страшны, когда говорил их Сережа, были страшны потому, что их говорил тот, кто, получив от неведомой силы живой образ человека, должен был сберечь данное ему сокровище и не умерщвлять его, – теперь эти самые слова в устах нерожденного радостны были для его матери. Тихо-тихо, боясь испугать его грубым звуком земных слов, она спросила:
– Милый, ты меня простил?
И он ответил:
– Ты ни в чем не виновата. Но если ты хочешь, я прощаю тебя.
И вдруг сердце Надежды Алексеевны наполнилось предчувствием неожиданной радости. Еще не смея надеяться, еще не зная, что будет, она медленно и боязливо протянула руки, – и на коленях своих почувствовала его, нерожденного, и на плечах ее легли его руки, и губы его прижались к ее губам. Она целовала его долго, и казалось ей, что прямо в глаза ее смотрят светлые глаза нерожденного, светлые, как солнце благостного мира, но глаз своих открыть она не смела, чтобы не умереть, увидев то, чего нельзя человеку видеть.
Когда разжались детские объятия, и на ступеньках лестницы послышались легкие шаги, и ушел ее мальчик, Надежда Алексеевна встала, вытерла слезы и позвонила в квартиру своей сестры. Шла к ним спокойная и счастливая, помочь изнемогающим от печали.
Лоэнгрин*
I
Машенька Пестрякова была девушка молоденькая, миловидная, мечтательная, недалекая. Нос у неё был немножко вздернутый, глаза серые и бойкие, а по весне на щеках под глазами и на носу полумаскою рассыпались веселые веснушки. Она жила на Гороховой, в том же самом доме, где жил некогда Обломов. Жила Машенька вместе с матерью и с братом. Занималась она тем, что давала уроки в какой-то частной школе, где платили не щедро и не аккуратно. Любила ходить в оперу и больше всего любила Вагнера.
Машенькина мама получала небольшую пенсию, распространяла за проценты какие-то книги и сдавала комнаты. Три комнаты сдавала, в остальных сами жили. Брат Машенькин ходил в гимназию. А Машенька помогала им обоим: матери давала немного денег, брату показывала уроки.
Мечтательность неопределенная и сладостная владела Машенькою все чаще и все слаще. Образ милой мечты принимал иногда более определенное очертание, сливаясь с образом того или другого из знакомых молодых людей. Встречи порою становились приятными, но всегда ненадолго.
Что-то противное для Машеньки было всегда в том действительном и неожиданном, что подставляла жизнь под мечтательно прекрасный образ. Вместо слов пламенных и страстных, подобных тем, которые так обольщают на страницах романа, которые так очаровательно звучат с далекой сцены Мариинского театра, когда их поет Собинов, вместо всей этой необыкновенной, далекой от жизни на Гороховой гармонии звучали слова прозаические, скучные, слова о делах своих или чужих, слова расчетов, мелких суждений, завистливых насмешек, лукавых сплетен, и порой льстивых, но слишком неловких комплиментов. Тускнел милый образ и становился отвратным. И даже несколько дней не хотелось Машеньке мечтать ни о чем и ни о ком, и в сердце ее была равнодушная скука. До новой встречи. Но и новая встреча обманывала.
И все-таки скоро пришел некто и завладел Машенькиной душой. И был он молодой человек совсем не красивый, не высокий, тщедушный, неловкий, с подслеповатыми, часто моргающими глазами, с редкими рыжеватыми волосами на голове, с жидкими рыжеватыми усиками, с рыжеватою редкою бородкою. Одевался он опрятно и тщательно, сердоликовый носил перстень и жемчужной булавкой закалывал лиловый или зеленый галстук-самовяз, – но одежда его не обличала в нем ни особенного вкуса, ни больших средств.
Чем занимался он и кто он был, Машенька долго не знала. Звала его как-то странно, по-оперному, Лоэнгрином.
– Мой Лоэнгрин придет сегодня, – говорила она матери.
– Твой Лоэнгрин звонит, – говорила ей мать, заслышав прозвучавший в передней неуверенный, робкий звонок.
– Твой Лоэнгрин – дурак, – говорил ей откровенный Сережа.
Ему нравилось иногда подразнить сестру. Немножко, конечно.
Ему ведь было всего только двенадцать лет, и еще побаивался он своей сестры.
Сначала Машенька называла своего дружка Лоэнгрином потому, что познакомилась с ним на галерее Мариинского театра в тот вечер, когда шла опера «Лоэнгрин». А потом и другая причина утвердила за ним это странное прозвище.
II
Машенька Пестрякова была тогда в театре с подругами и с двумя знакомыми студентами. Лоэнгрин сидел сзади нее, немножко сбоку, и уже перед вторым действием Машенька заметила на себе его неотступный взгляд. Машеньке стало неловко. Она сердито глянула на незнакомца.
Его наружность ей не понравилась. Его пристальный взгляд показался ей навязчивым и дерзким. И еще больше не понравилось ей то, что, когда она второй раз метнула на него еще более строгий взгляд, еще сильнее нахмурив свои крутые бровки, глаза дерзкого незнакомца трусливо и виновато забегали с такой странной быстротой, как будто он привык смотреть пристально и вдруг быстро отвращать свои взоры.
Машенька хотела показать на него одной из подруг, спросить, не знает ли она этого субъекта, но в это время началась музыка, все замолчали, и Машенька вдруг забыла в наступившей внезапно темноте о навязчивом незнакомце, очарованная звуками несравненной музыки.
В следующем антракте Машенька не вспомнила о нем до тех пор, пока, гуляя по коридору, не увидела при повороте обратно, что он идет за нею и смотрит на нее. Потом долго она чувствовала на своей шее, на том самом светленьком промежутке, где кончается прическа над белою полоскою воротничка, его пристальный взгляд. Машеньке было так досадно и неловко, что она не знала, что ей делать.
Уже только в конце антракта, когда в узких дверях стало шумно и тесно, она спросила шедшего с нею рядом студента:
– Вы не знаете, кто этот, вон там, сзади идет, еще он сзади вас сидит?
Машенька говорила тихо, чтобы тот, навязчивый, не слышал. Студент оглянулся и сказал громко:
– Не знаю. А вы почему спрашиваете? – спросил он Машеньку.
И Машенька почему-то затруднилась ответом.
– Да так, – сказала она тихо, – смотрит все на меня.
– Очаровался, – так же громко и спокойно сказал студент. Сел на свое место, приготовился слушать, – и Машеньке почему-то стало досадно, что он так равнодушно отнесся к ее словам. Словно назло ему, она внимательно посмотрела на незнакомца и с презрительным сожалением подумала:
«Бедненький, туда же! Может быть, тоже воображает, что прекрасен и неотразим».
На ее губах мелькнула легкая улыбка, и Машенька не без удовольствия заметила, что от этой мгновенной улыбки лицо незнакомца слегка зарумянилось и что глаза его стали радостными. Но она сейчас же спохватилась, нахмурилась, посмотрела на него сердито и отвернулась. Подумала:
«Нет уж, пусть не воображает. Противный!»
И в третьем антракте он ходил за нею, робкий и смешной и уже совсем не досадный, похожий на забавную, рыжеватую, по стенам крадущуюся тень.
После спектакля, одеваясь в тесноте, Машенька опять увидела его. Он поторопился выйти раньше и уже стоял в пальто с барашковым воротником и в котелке, смотрел на нее, протискавшись сквозь толпу, словно просверлившись через нее острыми кончиками своих тараканьих усиков, смотрел странно и досадно бегающими глазами, точно ему хотелось получше рассмотреть и запомнить каждую складочку ее платья и ее жакетки.
Теперь Машеньке было досадно, неловко, и уже не решилась она сказать кому-нибудь об этом человеке. Думала досадливо и тоскливо:
«Прилип!»
III
Шли по улицам целым табуном, разговорчивым и веселым. Машенька старалась не оглядываться, но знала наверное, что он идет за нею. Не хотела прислушиваться и все-таки невольно слушала легкий звук его шагов, – осторожная, крадущаяся походка.
У ворот, прощаясь с подругами и со студентами, Машенька увидела его. Он тихо прошел мимо, перешел на другую сторону и повернул обратно.
Неуклюжий дворник в громадном косматом тулупе и в наезжающей на лоб и на уши шапке с медной бляхой отомкнул для Машеньки скрипучую калитку тяжелых ворот. Молодые люди, Машенькины спутники, шумно разговаривая, ушли. Калитка захлопнулась. Машенька остановилась под воротами и прислушивалась.
Она слышала, как кто-то вороватыми шажками подошел к воротам и тихо-тихо заговорил с дворником. Бормочущим голосом неохотно отвечал что-то дворник, потом поблагодарил за что-то, потом еще что-то говорил. Как Машенька ни напрягала слух, она не могла разобрать ни одного слова. Не могла потому, что говорили тихо, и еще потому, что мешало слушать охватившее Машеньку волнение: сердце тяжело стучало, и кровь билась в висках, и в ушах тяжело и мерно шумело что-то.
Машенька плохо спала в эту ночь. Ей снился прекрасный рыцарь, светлокудрый Лоэнгрин в блистающей одежде, и слышались его слова:
– Я – Лоэнгрин, святыни той посол.
Потом вдруг черты лица и вся фигура Лоэнгрина странно изменялись. Тщедушный маленький человек с рыжими тараканьими усами, сдвинув котелок на затылок, потирая маленькие красные уши, то одно, то другое, о барашковый воротник, нелепо размахивал руками в серых меховых перчатках и, скользя блестящими калошами по обледенелому тротуару Гороховой, пел те же слова. И голос его был так же звучен и сладок, но что-то смешное и противное звучало в нем.
IV
С тех пор Машенька каждый день, возвращаясь из своей школы, встречала на улице этого молодого человека. Он шел за Машенькой, как неотступная, и досадная, и забавная тень, и провожал ее до самых ворот. Иногда он даже входил во двор и поднимался по лестнице, и, когда Машенька входила в квартиру и захлопывала за собою дверь, она чувствовала, что он стоит за дверью. Машенькино сердце билось, щеки ее нежно румянились, глаза блестели, она улыбалась и думала:
«Кто же он, этот рыжий Лоэнгрин?»
Наконец это ей надоело. Однажды на улице, когда Лоэнгрин шел близко за нею, Машенька вдруг обернулась, подошла к нему и спросила:
– Что вам надо? Зачем вы каждый день ходите за мною?
Машенькины щеки раскраснелись, и голос слегка вздрагивал, и руки в тонких перчатках, спрятавшиеся в муфту, были жарки и трепетны. Чувствовала Машенька, что под ее теплою одеждою плечи ее дрожат и краснеют и что по всему ее телу пробегают жар и дрожь.
Глаза незнакомца виновато зашмыгали по сторонам. Он приподнял черный котелок, опять надел его и, странно сгибаясь, заговорил довольно приятным, хотя слегка сиповатым, словно простуженным, голосом:
– Виноват, простите, пожалуйста, Мария Константиновна…
– Откуда вы знаете мое имя? – воскликнула Машенька с досадой.
Ее удивило, что голос этого молодого человека, который она только теперь в первый раз услышала, слегка напоминает голос певца, исполнявшего тогда, в театре, партию Лоэнгрина, – такой же русский звук и такая же нежная сладость. И еще более напоминал бы, если бы не было в нем этой неприятной сипоты.
Молодой человек говорил:
– Ваше имя и отчество, Мария Константиновна, я узнал от дворника того дома, где вы изволите жить, так как, не имея с вами общих знакомых, лишен был возможности узнать это иначе.
Машенька досадливо спросила:
– Что же, значит, вы обо мне расспрашивали дворника? Хорошее занятие, нечего сказать!
Незнакомец, нисколько не смущаясь, сказал:
– И о вас расспрашивал, и о вашей почтенной маменьке, и о вашем милом братце. Собрал все сведения в тот же самый вечер.
– Зачем же это вам понадобилось? – спросила Машенька.
Сама не замечая этого, она повернулась и шла по направлению к своему дому, и рыжеватый молодой человек шел рядом с нею. Шел и говорил со странной обстоятельностью:
– Вы, Мария Константиновна, конечно, сами можете понять, что по нынешним временам следует быть весьма осторожным и что никак невозможно сводить знакомство с кем попало, а предварительно необходимо узнать, с кем имеешь дело.
Машенька засмеялась и сказала:
– Будьте же осторожны и не знакомьтесь со мною.
Незнакомец говорил:
– Извините, Мария Константиновна, но для меня это совершенно невозможно.
– Что невозможно? – с удивлением спросила Машенька.
– Невозможно не познакомиться с вами, – спокойно говорил незнакомец, – потому что при первой же нашей встрече тогда, если изволите припомнить, на представлении оперы «Лоэнгрин», вы произвели на меня неизгладимое впечатление, и я немедленно же почувствовал, что чрезвычайно сильно полюбил вас. Поэтому я не мог не последовать за вами до самых ворот вашего дома и тогда же узнал о вас достаточные подробности от дежурившего у ворот дворника.
Машенька, улыбаясь, говорила:
– Напрасно трудились узнавать. Мне достаточно тех знакомых, которые у меня есть, и новых мне не надобно. Меня стесняет, что вы постоянно ходите за мной, а так как вы кажетесь мне человеком порядочным, то я попрошу вас больше не искать встреч со мной. Я не хочу, чтобы мои знакомые могли подумать обо мне дурно.
Пока Машенька говорила, незнакомец шел рядом, слушал внимательно и не делал попытки прервать ее речь. Машенька замолчала, а он, казалось, думал, что ей ответить
Машенька подумала вдруг:
«Сейчас он приподымет котелок, повернется, и уйдет, и больше приставать не будет».
От этой успокоительной мысли Машеньке вдруг стало как будто досадно чего-то или как будто чего-то жалко, – как будто бы уже привыкла она к своему безмолвному, некрасивому, неловкому спутнику. Но он поступил совсем иначе. Котелок он точно приподнял, но только для того, чтобы сказать:
– Позвольте, Мария Константиновна, иметь честь вам представиться: Николай Степанович Склоняев.
Машенька пожала плечами и сказала:
– Напрасно вы представляетесь. Почему вы думаете, что я хочу с вами знакомиться? Ведь я же вам сказала, что не ищу новых знакомых!
Молодой человек робко заглянул ей в глаза и сказал:
– Мария Константиновна, не отгоняйте меня от себя. Я от вас пока ничего не прошу, но так как я вас полюбил чрезвычайно, до такой степени, что не могу себе представить, как я вперед мог бы жить без вас, то позвольте мне только надеяться, что и вы, узнав, сколь сильно я вас люблю, также меня полюбите.
– Какая глупость! – сказала Машенька. – Совершенно незнакомый человек на улице подошел, и вдруг такой разговор! И что это я делаю! Зачем это я вас слушаю! Оставьте меня, пожалуйста!
V
Машенька пошла поскорее, но ее спутник не отставал. Он говорил ей слова, которые досадовали и смешили ее. Все так же робко и осторожно заглядывая в ее глаза, он говорил:
– Мария Константиновна, вы то извольте взять во внимание, что это очень часто так бывает, что люди были незнакомыми между собою, а потом вдруг взяли да и познакомились.
– Да не на улице же знакомятся! – сказала Машенька и засмеялась громко.
Смеяться ей, конечно, не следовало бы, и она сейчас же спохватилась и закусила крепкими беленькими зубками румяную на морозе, красивую, пухленькую нижнюю губку. Сообразила, что ее смех только поощряет этого навязчивого человека.
А он говорил умоляющим голосом:
– Помилуйте, Мария Константиновна, да отчего же не на улице! Не все ли равно! Если любовь громко говорит в сердце чувствительного человека, то поверьте, Мария Константиновна, что все внешние условности и светские приличия перестают для этого человека существовать, и он не может думать ни о чем другом, как только о предмете своей пламенной страсти.
Говоря это, он прижал обе свои руки к сердцу и потом размахнул левой рукой в воздухе точь-в-точь, как делал это оперный певец, рассказывающий о происхождении Лоэнгрина.
Машенька никак не могла настроить себя на серьезный лад, и ей даже стало немножко досадно, что во всем этом приключении для нее нет ничего пугающего. Только забавно. И какая-то жалость к нему, такому прилипчивому и такому нескладному. Она улыбалась, слушала его слова и думала:
«Туда же, о любви говорит, рыженький Лоэнгрин!»
А тот продолжал:
– А так как намерения мои самые благородные и возвышенные, то я и сам не хотел бы уличных встреч и свиданий где-нибудь в предосудительном для молодой девицы месте, как, например, в отдельном номере в ресторане. А потому счел бы себя чрезвычайно польщенным, ежели бы вы, Мария Константиновна, оказали мне великую честь представить меня вашей почтенной маменьке.
Машенька воскликнула:
– Чего захотели! С какой это стати я буду знакомить вас с мамой? Ведь она бы меня прежде всего спросила, где я сама с вами познакомилась! Отойдите от меня, пожалуйста, а то я, наконец, серьезно рассержусь.
А сама смеялась. И он говорил:
– Мария Константиновна, сердиться вам на меня не за что, потому что я ничего обидного для вас не сделаю, и если вы, по прошествии некоторого времени, не почувствуете ко мне сердечной склонности, то я не осмелюсь долее омрачать ваше спокойствие и, удалясь в тень моего скромного существования, буду только издали взирать на ваше счастье с другим, более меня достойным вашей любви.
Когда он так говорил, его маленький нос покраснел, и покраснели маленькие, суетливо шмыгающие глазенки, и он еще более согнулся, казался совсем маленьким, и похоже было на то, что он сейчас заплачет.
Машенька, стараясь оправдать сама себя в своих мыслях, думала:
«Ну, как не пожалеть такого! Как ты тут его прогонишь! Ведь не кричать же на него, не городового же звать!»
И ей было приятно, что в нее влюбился кто-то. Ведь все те, кто ухаживал за нею раньше, или делали это несерьезно, или были противные, грубые, нахальные. А этот идет смирненько, говорит с забавным красноречием, почти так же, как говорят в романах влюбленные виконты и маркизы, а сам не отстает от нее.
Стараясь придать себе суровый вид, Машенька спросила его резко:
– Да кто вы такой?
– Я – влюбленный в вас человек, – сказал Лоэнгрин.
– Это уж я слышала, – сурово говорила Машенька, – я хочу знать, кто вы такой, чем вы занимаетесь.
Вдруг Машенька подумала, что, говоря это, она подает своему спутнику надежду на возможность знакомства. Ей стало досадно на себя. А ее спутник уже отвечал ей:
– Мария Константиновна, помилуйте, зачем же вам это надобно знать!
– Да, совершенно верно, мне этого совсем не надобно знать, – сказала Машенька, – и вы от меня отойдите.
Но так как Машеньку раздосадовал ответ ее спутника и эта новая досада прибавилась к прежней досаде на себя, то Машеньке вдруг захотелось доказать ему, что она имела повод его спрашивать, – и, не преодолев этого неблагоразумного желания, она продолжала:
– А вот вы говорите, что хотите представиться моей маме, – да как же бы я вас стала представлять? Сказать бы маме: вот господин, влюбленный в меня, – так, что ли?
– Так точно, – сказал он.
– Какой вздор! – сказала Машенька. – Как же это можно!
– Отчего же нельзя, если это – правда! – возразил Лоэнгрин.
VI
В это время пришлось переходить через улицу. Лоэнгрин взял Машеньку под руку. Машенька взглянула на него с удивлением, но руки своей от него не отняла. Осторожно поглядывая по сторонам и пережидая экипажи, он молча перевел ее через мостовую, покрытую тонким слоем грязного, коричневого снега, изрезанного полозьями и колесами. А на тротуаре выпустил ее руку и пошел отдельно. Она сказала:
– Нет, так нельзя. Так не делается, да и не надо мне знакомить вас с мамою.
Он говорил:
– Мария Константиновна, поверьте, что я очень хорошо понимаю, что вы желали бы знать мое звание и социальное положение. Если же я всего этого вам теперь не открываю, то на это есть весьма серьезные причины. На мне лежит зарок, наложенный на меня людскими предубеждениями, и открыться вам я никак не могу, во избежание неприятных последствий.
– Какие глупости! – опять повторила Машенька.
– Нет, Мария Константиновна, – возразил он, – вы так не говорите. Что причины могут быть очень серьёзные для того, чтобы не открыть до поры до времени своего социального положения, на это доказательством может вам послужить та самая опера, на представлении которой я имел удовольствие увидеть вас в первый раз. Вы видели, как неблагоразумно поступила прекрасная, но слишком любопытная госпожа Эльза, добиваясь от своего таинственного супруга, чтобы он открыл ей свое имя, звание и адрес, и как она была за это жестоко наказана. Потом уж она раскаивалась, но, как говорится, снявши голову, по волосам не плачут.
– То-то мы с вами, – сказала Машенька, – очень похожи на Лоэнгрина и на Эльзу!
Насмешливый тон Машенькиных слов не смутил ее спутника. Он говорил:
– Вы, Мария Константиновна, несравненно прекраснее и лучше госпожи Эльзы, и потому, если я не дерзаю равнять себя с Лоэнгрином, то все-таки, взятые вместе, мы это сравнение выдержать можем. Правда, рыцари в латах в наше время повывелись, но рыцарские чувства остались, любовь в сердцах чувствующих людей горит не менее ярко, чем прежде, и окружающая нас жизнь только так кажется, что она бесцветная и скучная, а на самом деле она содержит в себе не меньше тайн, чем во времена давно прошедшие, когда рыцарь Лоэнгрин подъезжал к принцессе Эльзе на среброкрылом лебеде.
– Ах, Лоэнгрин! – сказала Машенька, улыбаясь не то насмешливо, не то чувствительно.
Ее спутник смотрел на нее и ждал, что она скажет. Но Машенька молчала. Молча дошли они до ее дома. А у ворот Машенька остановилась, посмотрела на своего Лоэнгрина и сказала:
– Что же мне с вами делать, господин Лоэнгрин? Уж вы идите домой или по вашим делам таинственным, а к нам сейчас неудобно.
Лоэнгрин смотрел на Машеньку тревожно и радостно и с такою надеждою в глазах, что Машенька не могла не сказать:
– Ну, так и быть, приходите сегодня вечером в восемь часов. Я предупрежу маму. Хоть и знаю, что мне достанется от мамы, но, может быть, она согласится вас пустить.
VII
Пришлось Машеньке предупредить мать и рассказать ей всю эту историю. Мать поворчала немного:
– Да как же это, Машенька! Да разве можно с улицы! Да кто его знает, что у него на душе! Может быть, жулик какой-нибудь.
Но потом решила:
– Ну да посмотрю, что за гусь.
Лоэнгрин пришел в назначенное время, принес коробку конфет, посидел часа полтора, пил чай, был почтителен с Машенькиной матерью, смешил гимназиста Сережу, забавлял Машеньку своими витиеватыми речами и ушел раньше, чем мог надоесть.
Мать спрашивала потом:
– Да кто же он такой?
Машенька говорила:
– Мамочка, да ведь я же вам все подробно рассказала. А больше ничего совсем и не знаю. Лоэнгрин, только и знаю. Зовут Николай Степанович, фамилия Склоняев, а чем занимается, – да просто Лоэнгрин.
– Пойдешь завтра в свою школу, – говорила мать, – посмотри в «Весь Петербург», какой-такой Склоняев. Так, по разговору, по манерам, как будто бы ничего себе, человек приличный. А ведь кто же его знает, в душу не залезешь. Надо все-таки узнать.
На другой день в своей школе Машенька посмотрела в «Весь Петербург», но фамилии Склоняева не нашла. И стала даже думать, что и нет такой фамилии на свете, что Лоэнгрин сам себе ее придумал.
А он повадился ходить. То букет цветов принесет, то коробку конфет. Зато на улицах уже не старался встретиться. Разве только случайно попадется.
Когда Лоэнгрин пришел второй раз, Машенька спросила:
– Отчего же вашей фамилии нет во «Всем Петербурге»?
Он не смутился ничуть, – и вообще Машеньку удивляло в нем то, что, несмотря на свой робкий вид, шмыгающие глаза и крадущуюся походку, этот странный человек всегда чувствовал себя очень спокойно и смущался редко. Он сказал:
– Так как я еще только недавно приехал в здешнюю столицу, то моя фамилия и не попала в «Весь Петербург». Я так полагаю, что в будущем году запишут и напечатают.
Говоря это, он усмехался, и Машенька думала, что он говорит неправду.
Машенька спросила:
– А где же вы живете? И чем вы занимаетесь? Служите где-нибудь?
Лоэнгрин отвечал:
– Извините, Мария Константиновна, никак не могу сказать вам ни моего адреса, ни моей профессии.
– Да почему же? – в недоумении спрашивала Машенька.
Он отвечал:
– Как я уже вам имел честь объяснить, Мария Константиновна, имею важные причины держать все это в строгом секрете.
Машенька призадумалась и сказала:
– Послушайте, да ведь это же очень странно. Сначала я думала, что вы просто шутите. А если вы серьезно, так это, право, странно как-то уж очень.
– Нисколько даже не шучу, – говорил он, – а между прочим, и то имею соображение, что, если вы меня полюбите, так меня самого, невзирая на то, кто бы я ни был и чем бы ни занимался.
– А если не полюблю? – с улыбкою спросила Машенька.
Он сказал:
– Тогда я скроюсь из поля вашего зрения, подобно Лоэнгрину, когда он уплывал в той ладье, которую увлекал вдоль по многоводному Рейну среброкрылый лебедь.
– Ах вы, Лоэнгрин! – смеясь, сказала Машенька.
VIII
Смеялась Машенька. Привыкла называть его Лоэнгрином. Так и все его стали звать.
Смеялась Машенька, а иногда задумывалась и мечтала. И все теснее в ее мечтах сливался оперно красивый образ рыцаря Лоэнгрина в блистающих доспехах, сладко поющего, делающего театрально красивые жесты, с образом этого невзрачного молодого человека, носящего котелок вместо шлема и крахмальную сорочку вместо лат, говорящего витиевато, сиповатым, но приятным ярославским говорком, и делающего такие забавно-торжественные жесты.
«Он меня любит, бедненький!» – думала Машенька, и все приятнее становилось ей думать об этом.
Очень поверив в то, что ты любима, не все ли равно, что полюбить самой? Разве любовь не заражает? Сладкая, вкрадчивая, волшебница, любовь на все, на что захочет, набрасывающая светло-блистающие покровы очарований!
Так, мало-помалу привыкая к приятной мысли о его влюбленности, привыкая понемногу к этому смешному сначала слиянию двух Лоэнгринов, одного из оперы мудрого очарователя Вагнера и другого с будничной Гороховой улицы, Машенька почувствовала наконец, что любит своего Лоэнгрина. Эта забавная тайна, которою он облекал свою действительную жизнь, все менее смущала ее.
Но когда Лоэнгрин догадался, что Машенька его полюбила, сказал ей:
– Мария Константиновна, вы можете сделать меня самым счастливым из людей, – согласитесь быть моею женою.
То вот теперь, как ни готова была Машенька к тому, чтобы услышать эти слова, ее охватила жестокая тревога. Подозрения, ужасные, темные, уже уснувшие было в ней, опять овладели ее мыслями. Она смотрела на Лоэнгрина со страхом и думала:
«Не потому ли он скрывает свои занятия, что они постыдны и презренны? Может быть, он – сыщик или палач?»
Как раз незадолго перед этим Машенька прочитала в газете рассказ об одном молодом рабочем, нанявшемся в палачи. Такой же был тщедушный и невзрачный человек. И показалось даже Машеньке, что наружность ее Лоэнгрина соответствует описанию, прочитанному ею в газете.
– Скажите мне сначала, – робко молвила Машенька, – кто вы. Мне страшно.
Она чувствовала, что щеки ее побледнели и что ноги ее дрожат. Она села в глубокое мягкое кресло в углу гостиной, в то самое, где любила сидеть Машенькина мать; это кресло было в семье с незапамятных времен, и с ним было связано столько приятных и жутко-волнующих воспоминаний. Опустившись в глубину этого большого кресла, где пахло старым штофом и рогожкою, Машенька казалась маленькой и жалкой; руки ее, сложенные на коленях, бледные, вздрагивали, как от холода.
Лоэнгрин покраснел и смутился так, как еще никогда раньше. Машенька не видела его смущенным. Он стоял перед ней спиной к окнам, но и в полусвете видела Машенька, как по лицу его забегали странные тени. Часто моргая глазами, как-то странно двигая покрасневшими маленькими ушами, он делал руками странные жесты, мало соответствовавшие смыслу его слов, и говорил:
– Мария Константиновна, если госпожа Эльза была неблагоразумна и любопытна и если рыцарь Лоэнгрин не мог сопротивляться ее настойчивости, то зачем же мы с вами повторим эту роковую ошибку? Вы изволите говорить, Мария Константиновна, что вам страшно. Но что же из того? Я чувствую к вам любовь необыкновенную, которая в жизни почти никогда не встречается и описывается только в романах, да и то не нынешних, а прежних сочинителей. Любя вас, дорогая Машенька, столь необыкновенной любовью, столь пламенно, что и жить без вас не смогу, так что если вы меня отвергнете, то я принужден буду немедленно лишить себя жизни, я хочу, дорогая Машенька, чтобы и ваша любовь преодолела страх, который вы испытываете, и все то, чего вы еще не знаете. Любовь истинная, пламенная должна быть сильнее даже и самой смерти. Итак, дорогая Машенька, победите ваш страх и скажите мне, любите ли вы меня и будете ли вы меня любить, что бы вы обо мне ни узнали.
Машенька заплакала. Что же ей еще оставалось делать? Слезы так хорошо помогают в разных трудных обстоятельствах жизни. Она пошарила вокруг себя, нет ли платочка; платочка, конечно, не нашла и принялась вытирать слезы ладонью правой руки, – так, сразу с обеих щек, беспощадно тиская при этом свой слегка вздернутый нос. Плакала и говорила:
– Зачем, зачем вы не хотите сказать, кто вы такой? Зачем вы меня так мучаете? Может быть, вы делаете что-нибудь нехорошее.
Лоэнгрин пожал плечами и сказал:
– Это как кому может показаться, как на чей взгляд. Кому-нибудь мое занятие, может быть, и покажется низким, и кто-нибудь за это, может быть, погнушается мною. Но я делаю, что умею, а какой я человек кроме моего дела, это вы сами изволите видеть. Если вы меня полюбили, то вы должны мне довериться, и если бы даже оказалось, что я – вурдалак нечистый и кровь вашу выпить хочу, то и тогда вы в мою могилку за мною последуете, потому что, если я вижу в вас прекраснейшую из здешних девиц, очаровательную госпожу Эльзу, то и вы, полюбив меня, должны видеть во мне благородного рыцаря Лоэнгрина, отец которого, Парсиваль, хранит чашу святого Грааля. А что мы с вами обитаем в прозаическом городе Петербурге, на самых обыкновенных улицах, а не в рыцарских замках, и занимаемся обыкновенными делами, а не рыцарскими подвигами, так уж это такую нам судьба дала долю, – а пламенности наших чувств все это изменить не может.
Машенька плакала и смеялась. Замысловатые речи Лоэнгрина нежно и сладостно убаюкивали ее. И она думала:
«Уж я теперь – не Машенька, я – принцесса Эльза. Так я себя чувствую, – значит, так это и есть на самом деле, а не так, как это кажется другим. А он, мой Лоэнгрин? Неужели он и в самом деле ходит по улицам, подстерегает, шпионит, или занимается провокацией, или надевает веревочные петли на чьи-то шеи? Как страшно! Но пусть, пусть! Я его все-таки люблю, для меня он – Лоэнгрин, и если жить с ним мне будет страшно и тяжело, то умереть с возлюбленным Лоэнгрином сладостно будет мне».
Она встала, обняла его нежно и, плача горько, сказала:
– Лоэнгрин, мой Лоэнгрин, кто бы ты ни был, я люблю тебя! Куда бы ты ни повел меня, я пойду за тобою! Что бы ты ни делал, я помогу тебе, – я помогу тебе в жизни и помогу тебе в смерти. Я люблю тебя так, как ты хочешь, милый, смешной мой Лоэнгрин, – я люблю тебя так, как любили девушки в романах прежних сочинителей.
IX
Скоро ушел счастливый, гордый Машенькиной любовью Лоэнгрин. Плакала и смеялась Машенька. А мать недоумевала:
– Да как же, Машенька, за кого же ты замуж выходить собираешься? Как же ты слово-то ему дала, ничего толком не узнавши? А вдруг он окажется беглый каторжник или еще что похуже?
Машенька раскраснелась и повторяла упрямо:
– Пусть каторжник, пусть шпион, пусть палач, – и я такая же буду, потому что я его люблю!
Сережа говорил ей шепотом:
– Если он – атаман разбойников, то ты попроси, чтобы он и меня записал в свою шайку. Я могу лазать в форточки.
Машенька смеялась.
А Лоэнгрин, придя домой, решил, что дольше скрываться невозможно и не стоит. Положил в конверт свою визитную карточку и послал ее по почте Машеньке.
На другой день, когда Машенька вернулась из своей школы, Сережа с таинственным видом сказал ей:
– Там тебе письмо есть, должно быть, от Лоэнгрина. Должно быть, он тебе свидание назначает.
Машенька поспешила к себе, разорвала конверт, – там лежал только кусок картона, и на нем было что-то напечатано и что-то приписано фиолетовыми чернилами. Машенькины руки дрожали, и в глазах ее туманилось, и она с трудом прочла простые слова:
Николай Степанович Балкашин.
Переплетных дел мастер.
Матвеевская, 48.
А приписано было следующее:
«Скрывал свое настоящее звание от вас, дорогая Машенька, опасаясь, что вы погнушаетесь ремесленником, теперь же я ничего не боюсь, совершенно уверенный в неизменности вашей любви ко мне».
И Машенька, и Машенькина мать были рады, что нет ничего страшного. Машенькина мать поворчала было немного, зачем он ремесленник, но скоро утешилась, когда Машенька сказала ей, что они будут делать художественные переплеты и широко разовьют это дело. А Сережа был разочарован, – он так мечтал о ночных похождениях, и вот, не придется ему лазать в чужие форточки.
Может быть, Машеньке было немножко досадно, что прекратилось страшное и жуткое, что все объяснилось так просто и обыкновенно, но все-таки Лоэнгрин всегда останется Лоэнгрином и мечтательный образ не поблекнет, – потому что любовь сильнее не только смерти, но и страшной в своей обыкновенности жизни.
Мечта на камнях*
I
Год за годом проходит, проходят века, и все не открыта человеку тайна о мире, и еще большая тайна о его душе. Спрашивает, испытует человек и не находит ответа. Мудрые, как и дети, не знают. И даже не всякий сумеет спросить:
– Кто же я?
В конце мая в громадном городе уже было жарко. В узком переулке жарко и душно, еще душнее во дворе. Солнце, яркое с утра, накалило железные буро-красные крыши четырех, обставших тесный двор пятиэтажных каменных флигелей, их грязно-желтые стены и крупные булыжники сорной мостовой. Рядом с этим домом в переулке строили новый дом, такую же безобразную громаду с претензиями на новый стиль в нелепом фасаде. Оттуда тянуло на двор горьким, жестким запахом извести и сухой кирпичной пыли.
На дворе кричали, бегали и ссорились ребятишки, дети дворника, прислуг и жильцов попроще. Двенадцатилетний Гришка, сын кухарки Аннушки из семнадцатого номера, смотрел на них из кухни, из окна четвертого этажа, на животе лежа на подоконнике и вытянув прямо свои тоненькие в коротких синих штанишках босые ноги.
Мать сегодня Гришку на двор не пустила, – так, каприз нашел. Припомнила, что Гришка вчера чашку разбил. Хоть и был он за это своевременно поколочен, но сегодня Аннушка опять припомнила ему это.
– Только балуешься, – сказала она. – Нечего по двору бегать. Сиди дома. Уроки бы учил.
– Я без экзамена, – с гордостью напомнил Гришка.
И, как всегда при воспоминании о своем школьном торжестве, радостно засмеялся. Но мать посмотрела на него сурово и сказала:
– Без экзамена, так и сиди, пока не колочен. Чего зубы скалишь? Я бы на твоем месте никогда не улыбнулась.
Эту загадочную для Гришки фразу Аннушка любила иногда повторять. С тех пор как ее муж, портной, умер и ей пришлось жить в прислугах, она считала себя и Гришку несчастными и, думая о своем и о Гришкином будущем, всегда представляла себе это будущее в черном свете. Гришка перестал улыбаться, и ему стало неловко.
Впрочем, идти на двор ему не хотелось. Он и дома не скучал. У него была еще не прочтенная книжка с картинками, и он взялся за нее. Но он читал ее недолго. Взобрался на подоконник, засмотрелся на ребят. Потом, отгоняя ощущение легкой головной боли, принялся мечтать.
Мечтать – это было любимое Гришкино занятие. Мечтал он по-разному и о разном, но всегда ставил себя в центре своих мечтаний, преображая мечтою и себя, и мир. Ложась спать, Гришка всегда принимался мечтать о чем-нибудь нежном, радостном, немножко стыдном, жутком, иногда страшном, – и засыпал очень приятно, хотя бы днем и были неприятности. Днем часто выпадают неприятности на долю мальчика, который вырастает в кухне, у бедной, раздражительной, капризной, недовольной своею судьбою матери. Чем неприятнее были неприятности, тем слаще утешала мечта. И так жутко и весело было представить что-нибудь страшное, кутаясь с головою в одеяло.
Утром, проснувшись, Гришка вставать не торопился. В том коридоре, где он спал, идущем от кухни до барыниной спальни, было темно и душно; сундук, на котором расстилалась Гришкина постель, не так был мягок, как пружинный матрац на господских кроватях, куда он иногда забирался поваляться в отсутствие господ, если мать не доглядит. Но все-таки здесь было уютно и спокойно, пока не вспомнит, что пора идти в школу, или, не в учебный день, пока не прикрикнут, чтобы вставал. А бывало это только тогда, когда надобно было послать его в лавочку или заставить что-нибудь сделать. В другое время матери было не до него, и она даже рада была, что сын спит, не надоедает, не суется под ноги, не торчит в глазах.
– И без тебя тошно, – нередко говаривала она сыну.
И потому нередко довольно долго лежал по утрам Гришка в постели, нежась под рваным ватным одеялом, одним и тем же летом и зимою, так что летом, или когда бывало сильно натоплено в кухне, становилось ему очень жарко. И опять он мечтал о чем-нибудь приятном, радостном, веселом, но уже вовсе не страшном.
Днем всякая, самая ничтожная причина вызывала в Гришке разнообразные мечты. Понравившийся рассказ или интересную сказку из хрестоматии, занятную повесть из какой-нибудь растрепанной книги, одной из тех, что раз в неделю выдавал в школе заведовавший ученическою библиотекою учитель, любопытный эпизод из прочитанного вслух для матери нового романа, всякий услышанный от кого-нибудь и поразивший его воображение случай переиначивал Гришка в своих мечтах по-своему.
В городском училище, куда он ходил, учиться ему было нетрудно, но учился он посредственно, – некогда было. Так о многом надо было перемечтать! Притом же, когда Аннушка была свободна, она садилась что-нибудь шить или вязать, а Гришку заставляла читать какой-нибудь роман. До романов она была большая охотница, хотя грамоте и не была обучена, любила слушать романы с приключениями, увлекалась похождениями Шерлока Холмса и «Ключами счастия», но с охотою слушала и старые романы Диккенса, Теккерея и Эллиота. Романы для чтения доставала Аннушка то у своей барыни, то у барышни-курсистки из четырнадцатого номера, которая зачитывалась в то время книгами Вербицкой и Нагродской. Все прочитанное Аннушка очень хорошо запоминала и любила подробно рассказывать это своим приятельницам, – портнихе Даше Стальная Грудь или генеральшиной, из третьего номера, горничной Аманде. И вот частенько по вечерам, чинно положив локти на белый деревянный кухонный стол, прижимаясь к столу худенькою грудью в ситцевой голубенькой рубашке, скрестив под столом недостающие до полу тоненькие, как точеные веретенца, ноги, Гришка читал быстро, громко и звонко, не все понимая, но часто взволнованный любовными сценами. Его очень занимали опасные и трудные положения, но еще более страницы любви, ревности или нежности, слова ласковые и страстные, муки и томления влюбленных, счастью которых мешают злые люди.
И в мечтаниях Гришке чаще всего представлялись прекрасные дамы, улыбчивые, нежные, и порою жестокие и стройные, белокурые, голубоглазые пажи. У прекрасных дам были алые уста, так нежно улыбающиеся, так сладко целующие, говорящие такие милые, а иногда такие беспощадные слова, и были у этих прекрасных дам белые, нежные руки с длинными, тонкими пальчиками, – руки нежные, но иногда такие сильные и жестокие, сулящие всю радость и всю боль, что может один человек дать другому. И у милых пажей вились длинные по плечам светлые кудри, и голубые глаза блестели, и ноги в белых шелковых чулках и в башмаках с острыми носками были полны и стройны. Слышался в мечтаниях беззаботный смех, и розы уст безмятежно цвели, и зори щек пылали ярко, – а если проливались иногда слезы, то лишь из голубых глаз милых пажей. Дамы же, прекрасные, но безжалостные, никогда не плакали; они умели только смеяться, ласкать и мучить.
Теперь уже несколько дней Гришку занимала мечта о какой-то далекой стране, волшебной, прекрасной, счастливой, и о мудрых людях, конечно, не похожих на тех людей, которых он видел здесь, в этом скучном доме, похожем на тюрьму, в этих томительных улицах и переулках и во всей этой скучной северной столице. Да и кого здесь он видел? Прекрасных и ласковых дам, как в его мечтах, здесь не было, – были барыни и барышни, важные и грубые, и были простые женщины и девушки, крикливые, сварливые, злые. Рыцарей и пажей не было тоже. Никто не носил шарфа цветов своей дамы, и не слышно было, чтобы кто-нибудь сражался с великанами, защищая слабых. Господа здесь были неприятны и далеки, грубы или презрительно-ласковы, а простые люди тоже были грубы и тоже были далеки, и простота их была так же страшна, как и хитрая, непонятная сложность господ.
Все, что видел здесь Гришка, не нравилось ему, оскорбляло его нежную душу. Даже самого имени своего он не любил. Даже когда мать, в порыве неожиданной нежности, вдруг начинала величать его Гришенькою, и тогда это ласковое имя все-таки не нравилось ему. А эта глупая кличка Гришка, как его называли всегда и мать, и барыня, и барышни, и все на дворе, казалась ему совсем чужой, никак не соединимою с тем, что он сам о себе думал; ему представлялось иногда, что она отваливается от него, как плохо наклеенный этикет от бутылки с вином.
II
Аннушке понадобилось поставить какую-то посуду на подоконник. Она захватила своею большою, жесткою рукою обе тонкие в щиколотках Гришкины ноги и потянула его с подоконника. Сказала беспричинно грубо:
– Разлегся тут на все окно. И без тебя тесно, ничего поставить негде.
Гришка соскочил с окна. Испуганно глянул на суровое, сухощавое лицо матери, раскрасневшееся от жара кухонной печки, и на ее красные, до локтей открытые руки. В кухне было чадно, на плите что-то шипело и дымилось, пахло чем-то горьким и пригорелым. Дверь на лестницу была открыта. Гришка постоял у двери и, видя, что мать возится у печки и на него не смотрит, вышел на лестницу. Только там, почувствовав под ногами жесткие, сорные плиты площадки, он заметил, что голова его болит и кружится, сердце слегка замирает и во всем теле разливается лихорадочная томность.
«Какого чаду напустила!» – подумал он.
С каким-то недоумением оглядел он каменные серые ступеньки лестницы, выщербленные, сорные, бегущие вверх и вниз с неширокой площадки, на которой он остановился. Против их двери через площадку была другая дверь, закрытая глухо, и из-за нее доносились два звонкие женские голоса, – кто-то с кем-то бранился. Слова сыпались, как свинцовая дробь из неосторожно развинченной висячей лампы, и казалось Гришке, что они юрко разбегаются по сухому полу чужой кухни и шуршат, ударяясь о чугун и о железо. Было много этих слов, все они сливались в один визгливый гул, и только выделялись бранные слова. Гришка невесело усмехнулся. Он знал, что в этой квартире всегда бранятся и нередко бьют детей, злых и грязных.
Такое же окно, как в кухне, и из него виден тот же тесный, скучный мир – красные крыши, желтые стены, пыльный двор. Все странное, чужое, ненужное, совсем не похожее на милые, близкие образы мечты.
Гришка взобрался на истертую доску подоконника, прислонился спиною к одной из распахнутых рам, но на двор не глядел. Перед ним открылись светло украшенные палаты, и вот перед ним дверь в покой русокудрой принцессы Турандины, – и распахнулась дверь, и Турандина, у высокого, узкого окна свивавшая тонкий лен, оглянулась на шум открывшейся двери, придержала стройною белою рукою гулко жужжащую прялку, и глядела на него, и улыбалась нежно. Она говорила ему:
– Подойди ко мне поближе, мой милый мальчик. Я давно тебя ждала. Не бойся, подойди.
Гриша подошел, склонил колени у ее ног, и она спросила:
– Ты знаешь, кто я?
Очарованный золотыми звонами ее голоса, отвечал ей Гришка:
– Знаю, – ты – прекрасная принцесса Турандина, дочь могущественного короля этой страны, мудрого Турандоне.
Смеялась веселая принцесса Турандина и говорила:
– Ты это знаешь, но ты знаешь не все. От моего отца, мудрого короля Турандоне, я научилась чары деять, и что захочу, то с тобою и сделаю. Мне захотелось поиграть с тобою, я сказала над тобою чародейные слова, и ты ушел из гордого чертога, от своего отца, – и видишь, ты забыл свое настоящее имя, и сделался кухаркиным сыном, и зовут тебя Гришкою. И ты забыл, кто ты, и не вспомнишь, пока я этого не захочу.
– Кто же я? – спросил Гришка.
Смеялась Турандина. В ее васильково-синих глазах горели недобрые огоньки, как в глазах у молодой, еще не уставшей колдовать ведьмы. Тонкие пальчики Турандины сильно сжимали Гришкино тонкое плечо. Она говорила, дразня его, тоном маленькой уличной девчонки:
– А вот не скажу! Ни за что не скажу! Догадайся сам! Не скажу! Не скажу! Не догадаешься сам, – так и останешься Гришкою. Слышишь, кухарка Аннушка кличет тебя. Поди, поцелуй ее ручку. Иди скорее, а не то она тебя прибьет.
III
Гришка прислушался, – из кухни раздавался сиплый голос матери:
– Гриша, Гришка, куда ты, пострел, запропастился?
Гришка поспешно вскочил с подоконника и бросился в кухню. Он знал, что если мать зовет, нельзя мешкать, – достанется. Теперь тем более, что мать всегда бывает сердита, когда готовит обед, и особенно когда на кухне бывает чадно и угарно. Померкли светлые покои принцессы Турандины. Навстречу Гришке плыл кухонный синий дым. Гришкина голова опять сразу заболела и закружилась, и опять ему стало томно и тошно.
Мать говорила ему:
– Поворачивайся живо, беги скорее к Мильгану, купи лимонных сухарей полфунта и кекс в шесть гривен. Живо, сейчас подавать чай надо, у барыни – гости, – кого-то черт принес невовремя.
Гришка сунулся было в коридор, достать чулки и башмаки, но Аннушка сердито крикнула:
– Ну чего еще там! Сапоги трепать! Да и некогда, беги так, – чтобы одна нога здесь, другая там.
Гришка взял деньги, серебряный рубль, зажал его в горячей руке, надел шапку и побежал вниз по лестнице. Бежал и думал: «Кто же я? И как же это я забыл свое настоящее имя?»
Надобно было бежать далеко, за несколько улиц, потому что сухари и кекс велено было покупать не в той булочной, которая была напротив, в том же переулке, а непременно в другой, далекой. Барыня думала, что в этой булочной, которая близко, все скверно и все засижено мухами, а вот в той, далекой, которую она сама выбрала, все очень хорошо, чисто и необычайно вкусно.
«Кто же я?» – настойчиво думал Гришка.
Мечты о прекрасной Турандине перебивались этим досадным вопросом. Пробегая быстрыми, легкими ногами по жестким тротуарам шумных улиц, встречаясь с чужими, обгоняя чужих, среди этого множества неприятных, грубых людей, куда-то торопящихся, толкающихся, презрительно посматривающих на голубенькую ситцевую Гришкину рубаху и на его коротенькие синие штанишки, Гришка опять чувствовал странность и нелепость того, что он, мечтающий о прекрасных дамах, знающий много милых историй, живет вот именно здесь, в этом сером жестком городе, растет вот именно так, в этой чадной кухне, и все здесь так странно и чуждо ему.
Гришка вспомнил, как несколько дней тому назад живущий в том же доме, в двадцать четвертом номере, капитанский сын Володя зазвал его посидеть, поболтать на лестнице у их квартиры во втором этаже противоположного флигеля. Володя был одних лет с Гришею. Он был мальчик живой и ласковый, и весело разговаривали мальчики, сидя на подоконнике. Вдруг открылась дверь, и Володина мать, кислая капитанша, показалась на пороге. Щурясь, оглядела она с головы до ног вдруг струсившего Гришку. Протянула презрительно:
– Это что такое, Володя? Что тебе за компания этот босоногий мальчишка? Отправляйся в комнаты и вперед не смей с ним знаться.
Володя покраснел, заговорил было что-то, – но Гришка уже побежал к себе, в кухню.
Теперь, на улице, он думал: «Не может быть, что все это так. Не может быть, что я и в самом деле просто Гришка, кухаркин сын, и что со мною нельзя знаться хорошим мальчикам, капитанским и генеральским сыновьям».
И в булочной, той, далекой, покупая то, что ему велели купить и чего ему не дадут есть, и на обратном пути Гришка то принимался мечтать о прекрасной Турандине, мудрой и жестокой, то опять возвращался к странной действительности, окружавшей его, и думал: «Кто же я? И как же мое настоящее имя?»
Мечтал, что он – царский сын, что гордый чертог его предков стоит в стране прекрасной и далекой. Он заболел тяжким недугом давно, и лежит в своей тихой опочивальне, под золотым своим балдахином, на мягкой пуховой постели, покрытый легким атласным покрывалом, и бредит, воображая себя кухаркиным сыном Гришкою. Открыты настежь окна его опочивальни, доносится иногда к больному сладкий дух цветущих роз, и голос влюбленного соловья, и плеск жемчужного фонтана. А у изголовья постели сидит его мать, царица, и плачет, и ласкает своего сына. Глаза у царицы ласковы и печальны, и руки ее нежны, потому что она не стряпает, не шьет и не стирает. Если и делает что милая мама-царица, так только вышивает цветным шелком по золотой канве атласную подушку, и из-под ее нежных пальцев выходят алые розы, и белые лилии, и павлины с длинными глазастыми хвостами. И плачет мама-царица о том, что милый сын ее тяжко болен, что он, открывая порою мутные от болезни глаза, говорит непонятное что-то странными словами.
Но настанет день, и очнется сын царицы, и встанет со своего роскошного ложа, вспомнит, кто он и как его зовут в родной стране, и засмеется.
IV
Радостно стало Гришке, когда он домечтал до этого. Он побежал еще быстрее. Ничего не замечал вокруг себя. Вдруг неожиданный толчок заставил его опомниться. Он испугался прежде, чем успел понять, что с ним случилось.
Мешок с покупками из рук его выпал, тонкая бумага разорвалась, и желтые лимонные сухарики рассыпались по избитым, засоренным серым плитам тротуара.
– Скверный мальчишка, как ты смеешь толкаться! – визгливо кричала на Гришку высокая, полная дама, на которую он набежал.
От нее пахло противными духами, к ее сердитым маленьким глазам был приставлен противный черепаховый лорнет. Все лицо ее было противное, грубое, сердитое и наводило на Гришку страх и тоску. Гришка испуганно смотрел на барыню и не знал, что делать. Ему казалось, что уже дворники и городовые, страшные фантастические существа, идут со всех сторон и вот-вот схватят его и потащат куда-то.
Шедший рядом с барынею молодой человек, слишком щегольски одетый, в цилиндре, в перчатках противного желтого цвета, смотрел на Гришку разъяренными, вытаращенными красными глазами, – и весь он был красный и злой.
– Хулиганишка негодный! – процедил он сквозь зубы.
Небрежным движением сбил с Гришки шапку, больно подергал его за ухо, отвернулся и сказал барыне:
– Пойдемте, мамаша. С этою дрянью не стоит связываться.
– Но какой дерзкий мальчишка! – шипела барыня, отворачиваясь. – Грязный оборвыш, туда же толкается! Это прямо возмутительно! По улицам спокойно идти нельзя! Чего полиция смотрит!
Барыня и молодой человек, сердито переговариваясь, пошли прочь. Гришка поднял свою шапку, подобрал и запихал кое-как в лохмотья бумажного мешка рассыпавшиеся лимонно-желтые сухарики и побежал домой. Ему было стыдно и плакать хотелось, но он не заплакал. Уже не мечтал о Турандине и думал: «Она такая же злая, как и все здешние люди. Она навела на меня страшный сон, и никогда мне не проснуться от этого сна, и не вспомнить мне во веки моего настоящего имени. И не узнаю никогда взаправду, кто же я».
Кто же я, посланный в мир неведомою волею для неведомой цели? Если я – раб, то откуда же у меня сила судить и осуждать, и откуда мои надменные замыслы? Если же я – более чем раб, то отчего мир вкруг меня лежит во зле, безобразный и лживый? Кто же я?
Смеется над бедным Гришкою, и над его мечтами, и над его тщетными вопросами жестокая, но все же прекрасная Турандина.
Смутный день*
I
Людмила Григорьевна Полынцева вдруг почувствовала, что она влюблена.
Это случилось после нескольких лет жизни рассеянной и равнодушной, когда уже Людмила Григорьевна забыла своего первого мужа, когда уже она устроилась с двумя своими детьми, мальчиком и девочкою, так удобно и приятно, что они были с нею, если она хотела быть с ними, но нисколько ей не мешали.
Чувство неожиданной влюбленности было ей странно, не совсем даже приятно, – потому что и радость может иногда не радовать подобных ей людей, людей приблизительного понимания жизни, приблизительного образа мыслей и даже приблизительной наружности и приблизительного возраста.
Есть порода людей, очень распространенная, и даже, быть может, господствующая в нашей жизни, дающая ей общий неопределенный тон, – ни слишком темный, ни слишком светлый, ни горячий, ни холодный. Мир наш, лежащий во зле, не хочет яркой окраски, резких характеров, определенных личностей; он хочет быть тусклым, серым, не обращающим на себя внимания, не кидающимся в глаза, одним словом, приличным. Делать то же и так же, что делают и как делают все порядочные люди; быть похожим на всех людей своего круга; забывать все то, что уже не надобно, и брать все то, что берут, как приличную новость, другие, – вот вся несложная мудрость этой толпы, этого облака людской пыли.
Людмила Григорьевна с детства была приучена жить по этому благоразумному кодексу. Воспитывалась она, как все девицы среднедворянских, среднебогатых семейств; имела в свой черед бонну, потом гувернантку-англичанку; носила платья, сообразно возрасту и моде, – сначала покороче, потом подлиннее; находила, что природа, – в их имении, или на даче в Павловске, или в Ницце, – прекрасна; любила музыку; рисовала весьма недурно.
Сообразно общему духу своего времени, Людмила Григорьевна была несколько свободна в обращении и в разговорах и говорила иногда, всегда кстати, то дерзости, то наивности. Вышла она замуж рано; года через четыре внезапно овдовев, носила она траур очень красиво, и траур был ей к лицу. Да и всегда она одевалась к лицу, изящно, просто, модно и дорого.
Когда дети стали подрастать, а траур подходил к концу, Людмила Григорьевна подумала, что ей следует заняться чем-нибудь общественным. Она начала с благотворительного искусства, – устраивала в больших, нарядных залах большого, богатого города вечера с участием знаменитостей в пользу каких-то школ и приютов.
Вначале Людмила Григорьевна не разбирала, старое ли искусство, новое ли, – были бы только известные имена. Потом ей показалось, что в новом искусстве есть какая-то особая, пряная сладость, пригодная и для нее самой. Ей сказали, что вот эти художники стоят в искусстве высоко, а эти еще выше, а вот те – на средних местах, а еще иные – малого стоят; ей объяснили и то, какая разница между искусством, слепо копирующим жизнь, и другим искусством, творящим из жизни очаровательные легенды для того, чтобы силою вложенных в них чар была преобразована и самая жизнь. Все это она точно запомнила и ошибалась редко.
Но душа Людмилы Григорьевны еще спала, убаюканная серым единообразием дней и поступков, и она не могла понять, – хотя, конечно, и не признавалась в этом, – чем же Леонардо да Винчи сильнее, чем Гвидо Рени или Брюллов. Впрочем, танцы последовательниц Айседоры Дункан очаровали ее, и она сама стала усердно учиться этим танцам, свободному, радостному искусству.
Беседы с художниками, поэтами и актерами привели ее к тому, что она стала интересоваться литературою. В этой области все было приблизительно легко, что касалось книг иностранных. Ибсен и Метерлинк, Кнут Гамсун и Габриэль д'Аннунцио, Оскар Уайльд и Анатоль Франс, и еще несколько других были, бесспорно, признаны всеми. А вот в русской литературе все было совершенно приблизительно. Впрочем, и здесь отчасти помогало то, что вот такие-то имена были теперь в моде и вот такие-то пьесы шли на многих сценах с блистательным успехом.
От книг, написанных для легкого чтения, от всех этих романов и рассказов так естественно было сделать переход к тем книгам, о которых говорили много и в которых рассказывалось не о приключениях сочиненных людей, Генриетт и Аграфен, а о том, что знают и что думают их авторы о книгах, об искусстве, о религии, о философии. Притом же, нельзя было не бывать на тех собраниях, где известные, а иногда и неведомые, но умные и талантливые писатели и ученые спорили друг с другом о вопросах, тогда их занимавших.
Людмиле Григорьевне, как и прочим дамам и кавалерам приблизительного образа жизни, всем этим адвокатам, врачам, инженерам, артиллеристам, морякам, коммерсантам, фабрикантам, живущим и думающим, как все, было весьма интересно послушать, что говорят ученые и писатели о церкви, о свободе совести, об искании Бога, о новом искусстве. Ей казалось, что все эти обильные речи, которые она выслушивает, чрезвычайно расширяют ее умственный горизонт, приобщают ее к какой-то общественной, умной жизни, вообще придают какую-то значительность ее существованию.
Когда же Людмила Григорьевна влюбилась, ей вдруг показалось, что все это не то, что надо человеку; она начала понимать, что все это, словесно-красивое и ораторски-пышное, есть только «пленной мысли раздраженье». А что надобно человеку, она еще не знала, да и не могла узнать, потому что людям приблизительной жизни, пока не сгорит в каком-нибудь великом пламени постылая их приблизительность, дано иметь обо всем только приблизительные познания. Да и не о всем даже, а только кое о чем, неважном и второстепенном.
На одном из таких религиозно-философских собраний познакомилась Людмила Григорьевна с тем человеком, который вскоре овладел ее сердцем. И с того же самого вечера стала она чувствовать смутное, но все возраставшее недовольство своею жизнью.
II
Тот, кого она полюбила, приват-доцент Иван Андреевич Ковровский был тоже человек приблизительной жизни. В наследство от родителей он, когда еще был студентом, получил имение и капитал, процентов с которого не хватало на ту жизнь, которую он вел. Он писал статьи, обличавшие в нем большую эрудицию, но основные мысли этих статей всегда кем-нибудь немедленно же и с такою же эрудициею опровергались. Читал лекции, очень ученые, но по слишком специальным вопросам. Редактировал книги людей, давно истлевших в своих могилах, и за этот труд получал столько, сколько никогда не мечтали получать сами авторы. Одним словом, Иван Андреевич вел жизнь чрезвычайно деятельную и весьма полезную.
Сознание того, что он полезный общественный деятель и превосходный литератор, накладывало на его наружность и на его манеры отпечаток особой значительности. Хотя он уже приближался к сорока годам и был довольно красив, – приблизительно красив, – он был еще холост. Романов в его жизни было много, но все они кончались ничем. Привычка к приблизительности делала то, что ему ни разу не удавалось испытать настоящее, глубоко захватывающее душу чувство. Да и потребности в таком чувстве он не ощущал.
Любовь, как математика, такая же точная и такая же справедливая. Эти приблизительные люди, пока они остаются сами собою, такими, какими их сделала жизнь, по-настоящему полюбить не могут. Любовь хочет не красивого лица, не стройного стана, не румяных щек, не другой какой приметы, которую можно определить приблизительным словом. Любви нужно нечто, вносящее различие столь малое, столь слабо ощутимое, что влюбленный никогда не может сказать, чем именно он очарован в предмете его любви. Он только чувствует неотразимо, всем существом своим, что влечется вот именно к этому, что принимает вот именно это во всем его объеме, со всем тем, что есть в нем хорошего или дурного. И если прибавить или убавить хоть одну йоту, хоть на одну незаметную черточку что-нибудь изменить, – уже исчезнет очарование, уже поблекнет милый образ.
Люди приблизительной жизни думают и чувствуют совершенно иначе. Потому так переменчивы бывают они в своих чувствах.
К числу таких людей принадлежал всю эту значительную по времени часть жизни своей и Иван Андреевич Ковровский, принадлежал к ним до встречи своей с Людмилою Григорьевною. Когда же он влюбился в Людмилу Григорьевну, что-то медленно, но верно стало изменяться в его сознании и в его чувствах. Может быть, это происходило потому, что подобное же изменение началось и в душе Людмилы Григорьевны и заражало его.
Сначала совершенно такая же приблизительная, как он, Людмила Григорьевна начала становиться иною. Началось это с того, что она начала делать то, что людям ее круга казалось странным. Она завела знакомство с людьми, которые раньше у нее не бывали. Стали порою приходить к ней люди, одетые так бедно, что швейцар ворчал. Она сама появлялась в бедных, тесных квартирах, где курили ожесточенно и спорили шумно и страстно.
III
Однажды в пасмурный зимний день Иван Андреевич приехал к Людмиле Григорьевне. Он привез ей цветы, которые она любила, страстные, белые туберозы.
Людмила Григорьевна сидела одна, – читала. Она слабо улыбнулась, встречая гостя, но была рассеянна и задумчива. Иван Андреевич рассказывал, пытался вовлечь ее в разговор. Она старалась говорить весело и любезно, но это плохо ей удавалось, и чаще всего в оживленный говор Ивана Андреевича она вставляла только краткие, почти односложные реплики.
Наконец, пользуясь правами той близости, которая уже установилась между ними, Иван Андреевич спросил ее:
– Вы, Людмила Григорьевна, сегодня не в духе? Расстроены чем-нибудь? Что-нибудь случилось?
Людмила Григорьевна тихо покачала головою, и сказала, улыбаясь все тою же слабою улыбкою и с таким видом, как будто ей хотелось заплакать:
– Нет, ничего не случилось. Но это – правда, я все еще как-то не могу опомниться от этого впечатления, прийти в себя. Я прочитала удивительную страницу, и она взволновала меня чрезвычайно.
Улыбаясь, как всегда, любезно и слегка насмешливо, Иван Андреевич сказал:
– О, вы – счастливая! Я уже давно потерял способность волноваться, читая книги, и над вымыслом слезами обливаться.
Людмила Григорьевна опустила глаза, словно смущенная его словами. Даже слегка покраснела. В своем смущении она была очень мила Ивану Андреевичу, и он нежно пожал и поцеловал ее руку, белую, тонкую, с длинными гибкими пальцами, – изнеженную руку праздной женщины.
– Нет, – сказала Людмила Григорьевна, – это не роман. Не знаю, вымысел это или быль. Это – рассказ о жизни, такой далекой, простодушной, прекрасной. О жизни не нашей, но более желанной, чем наша.
Слова ее звучали элегическою, красивою грустью, и Иван Андреевич любовался ею. Но сам в ее тон впасть не мог, да и не хотел, и когда Людмила Григорьевна замолчала, он спросил обыкновенным будничным тоном:
– Можно взглянуть?
Людмила Григорьевна застенчиво и молча протянула ему раскрытую маленькую книгу в красивом переплете. Это была «Одиссея», и раскрыта она была на том месте, где рассказывается, как милая царевна Навзикая мыла одежды и потом играла в мяч со своими подругами на морском берегу в тот день, когда волны выбросили на этот берег мудрого странника Одиссея.
Иван Андреевич сказал неопределенным, свойственным ему приблизительным тоном:
– Рассказ о том, как Навзикая мыла на берегу одежды.
Во многих случаях очень удобно было так говорить, чтобы собеседник не догадался, шутит ли говорящий, говорит ли серьезно.
– И вот этот рассказ, – тихо говорила Людмила Григорьевна, – необычайно взволновал меня.
Иван Андреевич взглянул на нее вопросительно и слегка удивленно.
Людмила Григорьевна продолжала:
– Я сидела вот здесь, у этого окна, смотрела на этот мутный день, на эти безобразные дома-коробки, в которых живут пленные люди, на экипажи, на прохожих, на всех этих различных людей и принималась иногда плакать. Потом мне становилось стыдно самой себя, я вытирала слезы и спрашивала себя: «Да о чем же я плачу?» Такая глупая! О чем плачу, и сама ясно не пойму. И опять читала и перечитывала много раз все эти две милые страницы. Вот люди, какими должны быть люди. Какие они счастливые! А я, – когда я даже хочу приблизиться к ним, я только перенимаю их позы, нарисованные на каких-то вазах. Платья себе заказываю по образу их туник, – поддельные, жалкие в своей роскоши одежды! Подражаю знаменитой плясунье, и в душной гостиной, перед привычно-скучающими людьми, под музыку равнодушного ко всему на свете музыканта, на мягком ковре пляшу нагими ногами, – ногами и руками лгу.
– Простите, – тихо сказал Иван Андреевич, – но в чем же здесь уклонение от правды?
– Лгу, – горестно повторила Людмила Григорьевна. – Ложь это все. То самое, что для них было жизнью, для меня только поза, притворство, ломанье на забаву толпе праздных людей. Всенародное искусство божественной пляски, вакхический восторг первоначальной свободы – для меня только салонная забава. И так во всем, во всем. И я вижу ложь моей жизни, и завидую им, счастливым!
IV
Пока Людмила Григорьевна все это говорила, Иван Андреевич чувствовал смутное беспокойство. Усвоенные им привычки мысли заставляли его находить слова Людмилы Григорьевны странными, почти неприличными. Странны в них были, по его понятиям, собственно не самые слова, а серьезный тон и серьезное отношение к предмету речи. Если бы Людмила Григорьевна улыбнулась над простодушною Навзикаею и полушутя позавидовала бы ее наивному веселью, этой уже недоступной для нас близости с природою, то еще это было бы понятно и не выходило бы из пределов общепринятого. Но думать об этом серьезно было странно. Это было похоже на каприз скучающей дамы.
«Надо куда-нибудь с нею поехать, – подумал Иван Андреевич, – развлечься».
Но, несмотря на эти мысли, в душе его почему-то возникло еще неопределенное сознание, что в чувствах Людмилы Григорьевны и в этом ее волнении над рассказом о Навзикае есть какая-то глубокая правда. Хотя он продолжал улыбаться, но улыбка его была неуверенная, и голос звучал неверно, когда он говорил:
– Первобытное счастье, наивная веселость этой девушки, – что в этом привлекает вас? Простая, грубая жизнь, мало потребностей, потому что и средств мало к их удовлетворению. Тонкая, сложная душа современного человека не могла бы удовлетвориться этою первобытною веселостью. Хотел бы я посмотреть на современную барышню, поставленную в те же условия, как эта Навзикая. Дня бы не выдержала. И в самом деле, какая скука, – благонравные домашние заботы, игры с подругами, первобытная, полуживотная страсть, очень здоровая и очень однообразная, потом жизнь с мужем, дети, хозяйство – все, в сущности, как у нас, только все грубое, слишком простое.
Людмила Григорьевна с упрямым выражением в глазах досадливо покачала головою. Сказала:
– Не знаю, как вам передать ясно, что я думаю и чувствую. Так смутно я это ощущаю. Но как-то странно, что до этого дня я ни разу не задумывалась о том, как много лжи в моей жизни.
– Какая же ложь? – опять спросил Иван Андреевич.
С его лица сбежала улыбка. Он имел недоумевающий вид человека, которому внезапно приходится оправдываться в чем-то, в чем он не видит никакой вины, и оправдаться в чем потому еще труднее, так как нет готовых аргументов, и приходится их изобретать заново.
– В чем же ложь нашей жизни? – повторил он другими словами свой вопрос.
Людмила Григорьевна молчала, как будто она не находила слов или как будто не решалась говорить все то, что думает. Иван Андреевич пожал плечами, сел против нее у окна и говорил, как человек, приготовившийся разговорить заскучавшего ребенка:
– В нашей светской жизни есть, конечно, много условностей, есть порядочная доля неискренности, – но что же делать! Мы живем, как можем, и стараемся сделать жизнь нашу приятною и для себя, и для других.
– И все-таки, как мы ни стараемся об этом, – сказала Людмила Григорьевна, – жизнь наша не столько приятна, сколько кажется приятною. Вот я сижу у окна и вижу много людей. Из них так много бедных, голодных, злых, несчастных! А мне здесь хорошо, как может быть хорошо только тому, кто думает только о самом себе.
– Это – правда, – сказал Иван Андреевич, – все это есть, но если в нас есть эти великодушные чувства, то у нас есть и возможность дать им выход. Достаточно только заняться филантропиею.
Теперь Иван Андреевич опять почувствовал себя спокойнее, потому что можно было говорить так, чтобы нельзя было понять, говорит ли он серьезно или иронизирует.
V
Людмила Григорьевна почувствовала оттенок иронии в его словах. Она покраснела, быстро встала и, порывисто ходя взад и вперед по комнате, говорила страстно:
– Не то, не то, не то! Совсем не то! Не хочу я этого! И никому не нужна наша благотворительность, и над нашею помощью смеется тот, кому мы ее оказываем. Все – ложь, все – неправда в нашей жизни!
Иван Андреевич спросил с недоумением:
– Чего же вы хотите от жизни?
– Не знаю, не знаю, – говорила Людмила Григорьевна. – Ничего не хочу, ничего не знаю. Вдруг почувствовала, что живу как в тумане, как во сне каком-то. Только знаю, что все во мне и вокруг меня нехорошо, нехорошо! Все лживо, все скверно.
– Вы сегодня в дурном настроении, – сказал Иван Андреевич.
И ему стало приятно и удобно опять, потому что он подумал, что нашел верное объяснение.
Людмила Григорьевна засмеялась.
– Может быть, – сказала она, – но прежде, когда я бывала в дурном настроении, я все-таки думала и чувствовала иначе. Всегда был кто-нибудь виноват, на что-нибудь было досадно. А теперь я вижу ясно, что в мире виноватых нет. Никто не виноват, а мне тяжело. Не на кого досадовать, – напротив, я чувствую какую-то большую радость, когда думаю о том, что возможен рай на земле, что кто-то где-то на этой милой земле осуществляет своею жизнью очаровательно-наивные идиллии и сказочно-прекрасные легенды. В то самое время, когда я проливаю кровь, кто-то живет безгрешно и счастливо.
Иван Андреевич воскликнул полушутливо:
– Людмила Григорьевна, что вы говорите! В каких ужасных грехах вы признаетесь! Чью кровь вы проливаете?
– Ах, вы не хотите меня понять, – с досадою говорила Людмила Григорьевна. – Потворствовать, участвовать, не возмущаться, молчать – разве это не все то же самое, что самой делать все эти ужасные дела, которые вокруг нас совершаются!
Иван Андреевич слегка смутился. Какое-то обвинение почувствовалось ему в этих словах. Он холодно сказал:
– Мы делаем все, что можем, что в силах сделать. Мы не ответственны за то, что таково теперь реальное соотношение сил.
– А я вам говорю, – страстно и волнуясь говорила Людмила Григорьевна, – что не надо делать нам того, что мы можем делать и что мы делаем. Другое, совсем другое надобно, – то, чего мы не можем, не умеем, не хотим делать, но должны делать. Что-то, превышающее наши силы. Вчера был у меня Пряженцев. Говорил о том, как он был командирован в голодающие деревни. Раздавал там что-то, – что и как, и сам толком не знает. Разные анекдоты мне рассказывал. По его словам выходит, что все это – дикари какие-то, грубые, грязные, ленивые, потому и голодные. Очень обижался, что его мужички прозвали «барин со стеклышком» и что они не чувствовали к нему ни благоговения, ни благодарности. А я представляю себе, как противен был этот господин там, среди этих людей! Сколько злобы и негодования он должен был возбуждать!
– Но почему же? – спросил Иван Андреевич. – Он делал, что мог. А впрочем, если представить его изящную, выхоленную фигуру в этой обстановке, то и правда, как-то тоскливо становится.
Людмила Григорьевна радостно сказала:
– Вот, вы и сами чувствуете, как все это неладно. Я раньше мало думала об этом, да и теперь мало думала, – мы все очень мало думаем о главном, об основном, об оправдании всей жизни нашей. Так, живем привычною жизнью, изо дня в день. И думаем по привычке, и чувствуем по привычке. Но вот наступает час, и точно бабочка из своего кокона, выходит в нас новая душа, пробуждается то, чего мы в себе не ждали и не знали. И не то чтобы ясно я поняла что-то, а так, больше образами представляю себе. И осуждаю все это, что здесь.
VI
Иван Андреевич стоял у окна, смотрел на смутно темнеющую улицу и уже не думал, что Людмила Григорьевна капризничает, что она в дурном настроении. Какие-то новые для него, непривычно-значительные мысли рождались в его уме. Он сказал:
– Мы ничего не можем изменить в том, что вы говорите. Строй нашей жизни так для нас привычен, что мы ничего не можем.
– Не можем, или можем, – печально говорила Людмила Григорьевна, – не в том дело. С тех пор как я осудила всю мою жизнь, уже я не могу продолжать то, что было раньше. Я должна что-то сделать.
Возвращаясь на минуту к привычному способу выражения, Иван Андреевич улыбнулся и сказал:
– Ну что ж, возьмем да и переменим с этой минуты всю нашу жизнь.
Но тотчас же он почувствовал, что эта шутка совсем неуместна. А Людмила Григорьевна как будто и не слышала его слов. Она говорила:
– Когда я подумаю о том, как много людей занято тем, чтобы служить мне, одевать меня, кормить, согревать, забавлять, украшать, – как много трудов совершается для одной меня, молодой, сильной и праздной женщины, – мне становится страшно и стыдно.
Иван Андреевич сказал:
– Видно, что мы читали прилежно Льва Толстого. Он прав во многом, может быть, прав в самом главном, в самом существенном. Но его ошибка в том, что мы, на нашем уровне развития, не можем отказаться ни от одного из благ культуры, не можем отказаться от высокого искусства, от красоты и даже просто от удобств жизни, не только не можем отказаться потому, что привыкли ко всему этому и без этого будем страдать, но и не должны отказываться, не имеем права отказываться, потому что мы должны сберечь нашим потомкам все то, что создано трудами неисчислимого ряда поколений. Мы не смеем выйти из истории и разорвать преемственность культуры. Мы получили богатое наследство, и если пользуемся им и находим в этом наше счастье, то на нас лежит и обязанность все это сберечь.
– Так, – сказала Людмила Григорьевна, – сберечь. И что же мы делаем? Не слишком ли скупо мы бережем все это? Отчего какая-нибудь босоногая Маланья доит коров и жнет в поле, а я лежу на кушетке и читаю то, что мне рассказывает Поль Бурже или Коллет Билли о любви Армана и Генриетты? Арман и Генриетта очаровательны и умеют говорить превосходным французским языком, а Маланья и по-русски объясняется туго. А я, ничего не делающая, совсем никому ни на что ненужная женщина, я всеми своими силами, то есть моими деньгами, поддерживаю пустое, праздное существование Армана и Генриетты. А ведь они, Арман и Генриетта, при всей своей изысканности никаких культурных ценностей не создают; они своему потомству никаких культурных благ не оставят, – разве только какие-нибудь красивые безделушки да изящно переплетенные альбомы, в которых их внук с непочтительною улыбкою прочтет написанные выцветшими чернилами старомодные мадригалы, чувствительные и глупые, глупые!
Иван Андреевич молча слушал ее. Он знал, что надо что-то возразить. Если бы он говорил не с нею, а со студентом или с курсисткою, то у него бы нашлось много аргументов. Но теперь он все их забыл.
А Людмила Григорьевна говорила:
– Земной рай, жизнь простая и очаровательная, прекрасная и разумная, и почему-то недоступная мне! Как верно в Евангелии сказано, что легче вдеть канат в игольное ушко, чем провести богатого через тесные ворота райских обителей! Или, может быть, привыкать понемножку? Вот пойду на кухню и спеку сама себе оладьи? Вот летом пойду на речку босая и выстираю свои платочки? И все это будет только смешно. Или раздать все имение свое нищим и поступить классною дамою в институт? И это будет только смешно. Ничего, ничего мы не можем сделать. Только одно – умереть.
VII
Иван Андреевич с удивлением увидел, что при этих словах Людмила Григорьевна вдруг стала радостна и весела. Щеки ее раскраснелись, глаза заблестели, она быстро подошла к Ивану Андреевичу, охватила руками его шею, прижалась к нему и говорила:
– Милый, милый, я вас очень люблю, я чувствую, что очень счастлива теперь с вами. Но разве надо длить счастье до тех пор, пока оно не наскучит! Милый мой, я уже не могу жить так, как жила раньше, – может быть, если вы любите меня, и вы не захотите длить эту неправую жизнь. Но что же мы можем? Мы так слабы, мы только одно можем – умереть вместе. Ведь мы не верим в возможность для нас иной жизни, мы не можем войти в простодушный земной рай. Что же нам остается делать? Одно счастье – умереть вместе.
Иван Андреевич почувствовал теперь, что все то, что говорила Людмила Григорьевна, правда. И еще он чувствовал, что он любит ее больше своей жизни. И потому, что он это чувствовал, душа его вдруг стала спокойною и радостною, как будто заразилась она радостью и восторгом любимой.
Ему не было страшно умереть, и оттого, что в нем умер в эту минуту страх смерти, в нем воскресла такая жажда жизни, какой еще никогда он в себе не ощущал. Как-то быстро, одним взором, как будто вдруг прояснившимся, окинул он весь круг своей жизни, и осудил его, и уже чувствовал, что к этой жизни он вернуться не может. И не было в нем страха ни перед жизнью, ни перед смертью, – одна только радость того, что есть на земле великие возможности.
Он нежно обнял свою милую, и целовал ее в белый, прекрасный лоб и в ее алые, милые губы, и говорил:
– Мы не умрем никогда. Смерть не страшна, но мы будем жить для того, чтобы из жизни нашей создать ту очаровательную сказку, которой захотела твоя душа. Мы сожжем все то, что опутывает нас. Из лживой жизни нашей мы найдем исход, истинный, разумный и верный. То, что мы сделаем, не будет ни смешно, ни страшно, ни стыдно, – потому что мы будем вместе. Вместе с тобою. Вместе со многими. Жизнь вся перед нами, – жизнь, творимая по воле нашей, прекрасная, добрая, разумная.
Людмила Григорьевна подняла глаза, прижимаясь щекою к его груди, – он видел, что лицо ее радостно, что в глазах ее сияет неложное обещание счастья, – и он чувствовал, что она поверила ему.
Смутный день для них померк, и начался вечер нового дня.
А увидят ли они новый день, этого мы не знаем.
Турандина*
I
Начинающий юрист, помощник присяжного поверенного Петр Антонович Буланин, юноша лет тридцати, уже два года тому назад окончивший курс университета, жил летом на даче в семье своего двоюродного брата, учителя гимназии, филолога.
Прошлый год был для Петра Антоновича сравнительно счастлив, – ему удалось получить защиту по двум уголовным делам по назначению от суда и одно гражданское дело у мирового судьи по влечению сердца. Все три дела он блистательно выиграл: присяжные заседатели оправдали бедную швею, облившую серною кислотою лицо девушки, на которой хотел жениться ее любовник, и оправдали молодого человека, зарезавшего своего отца из жалости, потому что старик слишком усердно постился и от этого страдал; а мировой судья присудил взыскать полтораста рублей по векселю, так как дело было бесспорное, хотя ответчик и говорил, что деньги он отработал. За все эти дела гонорара получил Петр Антонович всего только пятнадцать рублей, – эти деньги дал ему держатель бесспорного векселя.
На такие деньги, понятно, жить нельзя, и Петру Антоновичу приходилось пока обходиться своими средствами, то есть получками от отца, занимавшего где-то в провинции довольно видное место. В суде же Петр Антонович пока довольствовался одною только славою.
Но слава еще не была очень громкая, и получки от отца были умеренные. Поэтому Петр Антонович бывал часто в элегическом настроении, смотрел на жизнь довольно пессимистически и пленял барышень красноречием, бледностью лица и томностью взглядов, а также сарказмами, расточаемыми по всякому удобному и неудобному поводу.
Однажды вечером, после быстро промчавшейся грозы, освежившей душный воздух, Петр Антонович вышел гулять один. По узким полевым дорожкам он забрался далеко от дома.
Перед ним раскрывалась очаровательная картина, осененная светло-голубым куполом неба с разбросанными на нем разорванными облаками, и озаренная неяркими, радостными лучами клонящегося к закату солнца. Тропинка, по которой он шел, вилась над высоким берегом неширокой, тихо льющейся по крутым изгибам русла реки; неглубокая вода в реке была прозрачна, и казалась отрадно-свежею и прохладною. Казалось, что стоит только войти в нее, и станешь вдруг обрадован простодушным счастьем, и сделаешься таким же легким, как те купающиеся в ней мальчишки, тела которых казались розовыми и необычайно гибкими.
Невдали от этой тропинки темнел радостный, успокоенный лес, а за рекою громадным полукругом тянулись равнины с раскиданными на них рощами и селами, и по ним змеились пыльно-серые ленточки дорог. Далеко по краям равнин загорались под огнем солнечных лучей золотые звездочки, кресты далеких церквей и колоколен.
Все кругом было радостно, наивно и свежо. А Петру Антоновичу было грустно. Ему казалось, что от этой прелести, которая окружает его, грусть становится еще острее, – как будто кто-то коварный и недобрый искушал его сердце, раскрывая перед ним в таком очаровательном виде всю прелесть земную.
Петр Антонович думал, что эта зримая прелесть, все это очарование взоров, вся эта нежнейшая сладость, легко льющаяся в его молодую, широко дышащую грудь, все это – лишь златотканый покров, наброшенный враждебною людям искусительницей, чтобы скрыть от простодушных взоров под личиною прелести нечисть, несовершенство и зло природы. Эта жизнь, нарядившаяся так красиво, обвеявшая себя такими ароматами, на самом деле была, думал Петр Антонович, только скучною прозой, тяжко скованною цепью причин и следствий, тягостным рабством, от которого не спастись человеку.
От этих дум становилось Петру Антоновичу порою так тоскливо, словно в груди его просыпалась душа древнего зверя, жалобно скулящего по ночам у околиц. И думал Петр Антонович:
«Хоть бы сказка вошла когда-нибудь в жизнь, хоть бы на короткое время расстроила она размеренный ход предопределенных событий! Сказка, сотворенная своенравным хотением человека, плененного жизнью и не мирящегося со своим пленом – милая сказка, где ты?».
Петр Антонович вспомнил прочитанную им вчера в журнале министерства народного просвещения статью, из которой ему особенно почему-то запомнилось в коротких словах пересказанное предание о лесной волшебнице Турандине. Она влюбилась в пастуха, оставила для него свою очарованную родину, и прожила с ним несколько счастливых лет, пока не призвали ее таинственные лесные голоса. Ушла, – но счастливые годы остались в благодарной памяти человека.
Хоть бы несколько лет сказки, хоть бы несколько дней!
Сладостно размечтавшись, Петр Антонович воскликнул:
– Турандина, где ты?
II
Солнце склонилось низко. Тишина упали на окрестные поля. Ближний лес был тих. Ни одного звука не доносилось ниоткуда, и воздух был недвижен, и трава, усеянная матовыми каплями, не двигалась.
Был тот миг, когда исполняются желания человека, миг для каждого человека, быть может, единственный в жизни. Во всем, что было вокруг, чувствовалось напряженное ожидание.
Петр Антонович остановился, вгляделся в светлую мглу перед собою, и повторил:
– Турандина, где ты?
И, очарованный странным впечатлением тишины, как бы потерявший всю свою, отдельную от общей жизни, волю, как бы сливаясь с великою общею волею, он сказал с великою силою и с великою властью, как только однажды в жизни дано говорить человеку:
– Турандина, приди!
Тихий и радостный голос ответил ему:
– Я здесь.
Петр Антонович вздрогнул, оглянулся. Все вокруг опять было обыкновенно, и душа Петра Антоновича опять стала обычною, отдельною от мирового процесса душою маленького человека, такого же человека, как и мы все, живущие в днях и в часах. А перед ним стояла та, кого он звал.
Это была прекрасная девушка с узким золотым венчиком на лбу, одетая в легкую, недлинную белую одежду. Ее косы, распустившиеся по плечам и упавшие ниже пояса, были так светлы, словно они были пропитаны пламенным солнцем. Ее глаза, устремленные прямо на молодого юриста, были так сини, словно в них открывалось небо, более чистое и более светлое, чем наши земные небеса. Ее лицо было так правильно, и так были стройны ее руки и ноги, и такое совершенное под складками ее одежды угадывалось тело, как будто вся она была воплощенным каноном девственной красоты. Она была бы подобна небесному ангелу, если бы ее тяжелые, черные брови не срослись над переносьем, обнаруживая в ней колдунью, и если бы цвет ее кожи не был смуглым, как бы облелеянный солнцем знойного лета.
Петр Антонович в удивлении молчал и глядел на странную девушку. Она сказала ему:
– Ты звал меня, и я к тебе пришла. Ты позвал меня вовремя, как раз тогда, когда мне понадобился приют среди людей. Ты возьмешь меня, и введешь в свой дом. А у меня нет ничего, кроме этого венца на голове, этой одежды на плечах и этой сумки в руках.
Она говорила тихо, так тихо, что звуки ее голоса не заглушили бы и легчайшего здешнего шума. Но и так явственно говорила она, и так вкрадчиво лились звуки ее голоса, что и самый невнимательный человек не проронил бы ни одного звука из ее нежно-звенящей речи.
Когда она заговорила о том, что она принесла с собою, об этих трех ее вещах, Петр Антонович увидел в ее руках мешок из красной кожи, верхний край которого стянут золотым шнурком, – очень простой и очень красивый мешок, немножко похожий на те мешочки, в которых дамы носят в театры бинокли. Петр Антонович спросил:
– Кто же ты?
Она ответила ему:
– Я – Турандина, дочь короля Турандоне. Мой отец очень любит меня. Но я сделала то, чего не следовало мне делать, – из простого любопытства я открыла будущее человеку. За это отец разгневался на меня и изгнал меня из своей страны. Будет день, мой отец простит меня, и я к нему вернусь. Но теперь я должна жить среди людей и мне даны вот только эти три вещи: золотой венец – знак моего происхождения, белая сорочка – мой бедный покров, и этот мешок, где лежит все, что мне понадобится. Хорошо, что я встретила тебя. Ты – тот человек, который защищает впавших в несчастье и заботится о том, чтобы среди людей торжествовала правда. Возьми меня к себе, и ты об этом не пожалеешь.
Петр Антонович не знал, что ему думать и что говорить. Одно было несомненно, что эту девушку, одетую так легко, говорящую такие странные слова, необходимо было приютить, потому что оставить ее одну далеко от человеческих домов было невозможно.
Петр Антонович догадывался, что это, может быть, какая-то беглянка, скрывающая свое настоящее имя и плетущая о себе небылицы. Может быть, она убежала из сумасшедшего дома, а может быть, просто от родителей.
Впрочем, ничто в ее лице и в ее наружности, кроме костюма и слов, не намекало на безумие. Она была тиха и спокойна. Если она назвала себя Турандиною, то это могло быть потому, что она слышала, как это имя он произносил; историю же о Турандине она могла прочитать в какой-нибудь книге.
III
Сообразив все это, Петр Антонович сказал прекрасной незнакомке:
– Хорошо, милая барышня, я приведу вас к себе домой. Но я должен вас предупредить, что я живу в семье моего двоюродного брата, и потому советовал бы вам назвать свое настоящее имя. Я боюсь, что мои родные никак не поверят в то, что вы – дочь короля Турандоне. Такого короля в настоящее время, насколько мне известно, нет.
Турандина улыбнулась. Сказала:
– Я говорю правду. Мне все равно, поверят или не поверят мне твои родные. Мне достаточно, чтобы ты мне поверил. И если ты мне поверишь, ты меня защитишь от всякого злого человека и от всякого несчастия, – ты ведь и есть человек, который избрал своим призванием стоять за правду и защищать слабых.
Петр Антонович пожал плечами.
– Если вы настаиваете на своем, – сказал он, – то я умываю руки, и слагаю с себя ответственность за возможные последствия. Конечно, я возьму вас к себе, пока вы не найдете более верного приюта, окажу вам всякую помощь и поддержку. Но, как юрист, я очень настойчиво советовал бы вам не скрывать своего имени и звания.
Турандина с улыбкою слушала его. Когда он кончил, она сказала:
– Ты ни о чем не заботься, все будет хорошо. Ты увидишь, я принесу тебе счастье, если ты будешь со мною ласков. И не говори мне так много о моем настоящем имени и звании, – я тебе сказала правду. Больше сказать тебе не могу, – не ведено мне говорить все. Веди же меня к себе. Солнце заходит, я пришла издалека, и хочу отдохнуть.
Петр Антонович поспешно сказал:
– Ах, извините, пожалуйста. Пойдемте. Очень жаль, что здесь такое уединенное место, – нельзя найти извозчика.
Петр Антонович быстро пошел по направлению к дому. Турандина шла рядом с ним. Походка ее была легкая, и незаметно было, что она устала. Казалось, что ее ноги едва касаются до жесткой глины, острых камешков и влажных трав, и что омытая дождем дорожка не пачкает стопы легких ног.
Когда уже над высоким берегом реки показались первые дачные домики, Петр Антонович беспокойно посмотрел на Турандину, и заговорил с некоторою неловкостью в тоне голоса:
– Извините, пожалуйста, милая барышня…
Турандина посмотрела на него, слегка нахмурила брови, и, перебивая его, сказала с укором:
– Разве ты забыл, как меня зовут, и кто я! Я – Турандина. Я – не милая барышня, а дочь короля Турандоне.
Петр Антонович почему-то смутился и забормотал:
– Извините, пожалуйста, мадмуазель Турандина, – очень красивое имя, хотя совершенно не употребительное у нас. Но я хотел сказать вам следующее.
Опять Турандина перебила его, и сказала:
– Говори не нам, а мне. Мои оставили меня, и я здесь одна. Не говори со мною, как с одною из знакомых тебе барышень. Говори мне ты, как должен говорить верный рыцарь своей прекрасной даме.
Петр Антонович почувствовал в словах Турандины такую настойчивую силу, что не мог не повиноваться ей. И когда он, обратясь к своей спутнице, в первый раз назвал ее Турандиною и первый раз сказал ей ты, он вдруг почувствовал себя легко и просто с нею. Он говорил:
– Турандина, неужели у тебя нет с собою какой-нибудь одежды? Если ты придешь в дом моего брата в этой легкой сорочке, то мои родные будут шокированы этим.
Турандина улыбнулась и сказала:
– Не знаю. Разве этой одежды мало? Мне сказали, что в этом мешке лежит все, что мне может понадобиться среди людей. Вот возьми, посмотри сам, – может быть, ты и найдешь там то, что хочешь.
С этими словами она протянула Петру Антоновичу свой мешок. Растягивая на тугом шнурке его верхнее отверстие, Петр Антонович думал:
«Хорошо, если догадались положить туда хоть какое-нибудь легкое платье».
Он опустил руку в мешок, нащупал там что-то мягкое, и вытащил небольшой сверток, – такой небольшой, что он мог бы весь поместиться в сжатой руке Турандины. Когда же Петр Антонович развернул этот сверток, то оказалось, что это было именно то самое, чего он хотел, – платье точь-в-точь такого покроя, о котором он сейчас подумал, потому что видел его на днях на одной знакомой барышне.
Петр Антонович помог Турандине надеть это платье и застегнул его на ней, – конечно, оно застегивалось сзади.
– Теперь хорошо? – спросила Турандина.
Петр Антонович с некоторым сожалением посмотрел на мешок. Конечно, в таком небольшом мешке не могло быть башмаков. Но все-таки Петр Антонович опять опустил туда руку, думая:
«Хоть бы сандалии нашлись».
Он нащупал какие-то ремешки и вытащил пару маленьких золоченых сандалий. Тогда он вытер травою ноги Турандины, надел на них сандалии, и затянул их ремешки.
– Теперь хорошо? – опять спросила Турандина. В голосе ее была покорность, и по лицу ее видел Петр Антонович, что она готова исполнить все, что он велит; ему стало радостно. Он сказал:
– Да, шляпу можно после.
IV
Так в жизнь человека вошла сказка. Конечно, жизнь молодого юриста оказалась совершенно не приспособленною для принятия сказки. Родные молодого юриста с полным недоверием отнеслись к рассказу странной гостьи, да и сам Петр Антонович долго не мог ему поверить. Долго он добивался у Турандины ее настоящего, по его мнению, имени: пускался на разные хитрости, чтобы поймать ее на словах и доказать ей, что она говорит неправду. Турандина никогда не сердилась на его упорство и на его подходы. Она улыбалась светло и простодушно, и терпеливо повторяла каждый раз одно и то же:
– Я сказала тебе правду.
– Где же находится та страна, где царствует король Турандоне? – спрашивал Петр Антонович.
– Далеко отсюда, – говорила Турандина, – а если хочешь, то и близко. Из вас никто туда войти не может. Только мы, рожденные в чародейной стране короля Турандоне, можем войти в этот очарованный край.
– А ты можешь показать мне туда дорогу? – спрашивал Петр Антонович.
– Не могу, – отвечала Турандина.
– А сама можешь вернуться туда? – спрашивал Петр Антонович.
– Теперь не могу, – отвечала Турандина, – а когда позовут меня, вернусь.
Не было ни грусти в ее словах и на ее лице, ни радости, когда она говорила о своем изгнании из чародейной страны и о своем возвращении туда. Голос Турандины звучал всегда ровно и спокойно. Она глядела на все любопытными глазами, как будто видела все в первый раз, но любопытство ее было спокойное, как будто она легко ко всему привыкала и легко узнавала все, что являлось ей. Узнав что-нибудь однажды, уже потом она не ошибалась и не путала. Все правила обихода, которые сказали ей люди, или которые сама она подметила, выполняла она легко и просто, как будто привычные ей с детства. Имена и лица людей запоминала она с первой встречи.
Турандина ни с кем не спорила, и никогда не говорила неправды. Когда ей советовали сказать обычную в светском мире неправду, она покачивала головою, и произносила странные слова:
– Нельзя сказать неправду. Земля все слышит.
Дома и в людях она вела себя с таким достоинством и с такою любезною приветливостью, что тот, кто способен был поверить в сказку, не мог не поверить тому, что перед ним стоит прекрасная принцесса, дочь мудрого, великого короля.
Но жизнь, которою жил молодой юрист и все его близкие и родные, трудно мирилась со сказкою. Боролась с нею, ставила ей всяческие ловушки.
V
Когда Турандина прожила несколько дней в семье филолога, пришел в кухню урядник, и сказал кухарке:
– Тут у вас, сказывают, барышня гостит чужая, так прописать надо.
Кухарка сказала жене филолога, жена своему мужу, филолог Петру Антоновичу, а Петр Антонович пошел к Турандине, которая сидела на террасе и читала с большим удовольствием.
– Турандина, – сказал Петр Антонович, – пришел урядник, требует твой паспорт, говорит, что тебя прописать надо.
Турандина очень внимательно выслушала Петра Антоновича. Спросила:
– Что такое паспорт?
– Это, видишь ли, Турандина, – объяснил Петр Антонович, – вид на жительство. Такая бумага, в которой обозначено твое имя, фамилия, звание, возраст. Без такой бумаги нигде нельзя жить.
– Если это надо, – спокойно сказал Турандина, – то это, должно быть, есть в моем мешке. Вот он лежит, – возьми, посмотри, нет ли в нем этого вида на жительство.
И точно, в чудном мешке нашелся вид на жительство, маленькая в шагреневой коричневой обложке бессрочная паспортная книжка, выданная из астраханского губернского правления на имя княжны Тамары Тимофеевны Турандоне, девицы, семнадцати лет. Все было по форме, печать, подпись чиновника, собственноручная подпись княжны Тамары Турандоне, казенный номер, – все, как во всех паспортных книжках.
Петр Антонович улыбаясь смотрел на Турандину.
– Так вот ты кто! – сказал он – Ты – княжна, и зовут тебя Тамарою.
Турандина отрицательно покачала головою.
– Нет, – сказала она, – меня никогда не звали Тамарою. Эта книжка говорит неправду, – она для твоего урядника и для всех тех, кто правды не знает и знать не может. А я – Турандина, дочь короля Турандоне. Живя среди людей, уже успела я увидеть, что правды они не хотят. Впрочем, об этой книжке я ничего не знаю. Кто положил ее мне в мешок, тот знал, что она мне понадобится. Верить же ты должен только моим словам.
Книжку прописали, чужие стали звать Турандину княжною или Тамарою Тимофеевною, а для своих она осталась Турандиною.
VI
Для своих, – потому что сказка вошла в жизнь, и все было, как полагается быть в сказке, и как бывает и в жизни: Петр Антонович полюбил Турандину, Турандина полюбила молодого юриста. Он решил повенчаться с нею, и родные молодого юриста слабо спорили с ним.
Говорили филолог и его жена:
– Несмотря на свое таинственное происхождение и на упорное молчание о своих родных, твоя Турандина – очень милая девушка, красивая, умная, весьма тактичная, добрая, прекрасно воспитанная, словом, обладает всеми качествами. Но ведь ты-то подумай, – у тебя денег нет, да и у нее тоже.
– На эти полтораста от отца жить в Петербурге будет трудно вдвоем.
– Особенно с княжною.
– При всех своих прекрасных качествах она все-таки, надо думать, привыкла к хорошей жизни.
– У нее нежные, маленькие ручки. Правда, она ведет себя очень скромно, и ты говоришь, что, когда ты ее встретил, она шла босая и в одной сорочке, но ведь мы не знаем, каких костюмов захочется ей в городе.
Петр Антонович сначала призадумался, было. Потом воспоминание о платье, вынутом из мешка Турандины, навело его на смелую мысль. Он засмеялся и сказал:
– В Турандиночкином мешочке нашлось для нее домашнее платьице. Кто знает, порыться хорошенько, может быть, и бальный туалет найдется.
Жена филолога, милая молодая дама с большими хозяйственными способностями, сказала:
– Лучше бы там деньги нашлись. Хоть бы рублей пятьсот было, хоть бы кое-какое приданое ей сшить. Петр Антонович смеясь говорил:
– Найдется и пятьсот тысяч, – приданое принцессы.
Жена филолога засмеялась и сказала:
– Размечтался! Довольно с тебя и ста тысяч.
В это время из сада на террасу, где шел этот разговор, тихо поднималась Турандина. Увидя ее, сказал Петр Антонович:
– Турандиночка, покажи-ка свой мешок, нет ли в нем ста тысяч.
Турандина протянула ему свой мешок, и сказала:
– Если надо, там есть.
Петр Антонович опять опустил руку в мешок, и вытащил оттуда пачку крупных кредитных бумажек. Стали считать, – но и без счета было видно, что денег много.
VII
Вошла сказка в жизнь молодого юриста. Хотя и не приспособлена была жизнь к принятию сказки, но кое-как дала сказке место. Купила сказка место в жизни, – очарованием своим и сокровищами волшебного мешка.
Женился молодой юрист на Турандине. Родила ему Турандина сына. Потом родила дочь. Сын был похож на мать, и вырастал мечтательным, нежным ребенком. Дочь была похожа на отца, и вырастала веселою, рассудительною девочкою.
Шли годы. Каждое лето, когда был самый длинный день, странная печаль овладевала Турандиною. Перед полуднем она уходила из дому, и стояла на опушке леса, прислушиваясь к лесным голосам. Потом медленно и печально возвращалась домой.
И вот однажды, стоя в полдень у опушки леса, услышала Турандина громкий зов:
– Турандина, приходи. Турандоне тебя простил.
Ушла Турандина, и не вернулась. В это время ее сыну было семь лет, а ее дочери пять лет.
Ушла из жизни сказка, и не вернулась. Но сын Турандины не забыл своей матери.
Иногда он уходил от людей далеко. Когда он возвращался к людям, на лице его было такое выражение, что жена филолога тихо говорила мужу:
– Он был у Турандины.
Алая лента*
I
Старый профессор, доктор международного права Эдуард Генрихович Роггенфельд и его старая жена, Агнеса Рудольфовна, уже много лет подряд проживали с мая до сентября в одной и той же дачной местности, в Эстляндии, на южном берегу Финского залива. Занимали они каждый год одну и ту же красивую, поместительную дачу в парке. С балкона этой дачи открывался восхитительный широкий вид на воды Финского залива, на прибрежные лужайки и на пляж.
Хотя эта дачная местность, населенная преимущественно семьями немцев, профессоров и врачей, и носила смешное, глупое название Трежоли, но все-таки здесь было очень хорошо, приятно, удобно жить. Все здешние дачники были твердо уверены, что Эстляндия – самая здоровая местность на свете, и что Трежоли – самое красивое место на северо-западе России. Они уверяли, что это напечатано и в энциклопедическом словаре, в том самом, где сообщаются и другие достоверные сведения, вроде того, что Эдгар По вел себя непривлекательно, лгал и унижался.
Постоянные местные жители, эстонцы, были мирны и честны; они вели себя привлекательно; о драках и грабежах совсем не было слышно. Почтово-телеграфное отделение находилось недалеко от Трежоли, всего верстах в четырех. Почтальон ходил дважды в день; он не только приносил почту, но и забирал письма.
Вблизи были две кофейни, одна – на морском берегу, другая – вглубь страны, близ баронского имения, в очень милом садоводстве. В одной из этих кофеен, на пляже, раз в неделю играла музыка. Не слишком далеко, тоже верстах в четырех, был кургауз, где раз в неделю танцевали и где всегда можно было достать вино и пиво, позавтракать и пообедать. Но все это было и не слишком близко, так что жители Трежоли и наслаждались мирною тишиною, и не совсем лишены были удобств культурной жизни. Провизию же торговцы привозили и приносили к самым дачам, – удобство чрезвычайное и вполне заменяющее городские рынки.
Дачи в Трежоли стояли на высоком берегу. От него к морю шли то отлогие склоны, то крутые обрывы, кое-где поросшие деревьями, кустами, дикими нарциссами, а кое-где совсем голые, слоистые; и в этих местах обнажались, радуя профессорские и студенческие сердца, отложения силлурийской системы, зеленые, бурые, желтые слои известняков и песчаников. А вдоль самого моря тянулась широкая полоса мелкого, сыпучего палево-желтого песка, усеянного крупными и мелкими валунами. Эти суровые камни украшали вид, мелкие мешали при ходьбе, но песок был восхитителен, и купанье превосходное, и пляж против дач был уставлен рядом чистеньких кабинок.
Вода в заливе принимала самые разнообразные тоны и оттенки, от самого нежного и наивного голубого при солнце до самого мрачного багрово-черного в пасмурную погоду. Она была иногда совершенно спокойною. Широкая гладь залива лежала тогда, как стальная огромная доска, по которой струились полосы перебегающего света.
Иногда волны шумно плескались о песчаный берег. Долгий, надоедливый шум, подобный реву скучающего, голодного зверя, мешал спать нервным дачникам, расстраивал истерических дачниц и нравился серьезным пятнадцатилетним гимназистам. Они приходили в такие дни на берег моря размышлять о проклятых вопросах бытия, точный перечень которых известен каждому развитому гимназисту этого возраста.
Закаты были превосходные, каждый вечер иные. Каждый вечер по-своему наряжал безоблачное или покрытое облаками небо.
Если облаков было мало или совсем их не было, то в убранстве неба соблюдалась изысканная, строгая простота. Тогда одинокое усталое багровое солнце, прикрытое дрожанием лиловых щитов, величественно опускалось к еле различимой роковой черте, медленно погружалось, умирая печально и прекрасно, и наконец, последнею тонкою искрою проблистав мгновение в мглистом ложе опечаленной дали, угасало, как вздох засыпающей вселенной. И тогда наступала невозмутимая в небесах и на земле ясность, и очарование умирающих багрянцев разливало на теплые пески и на холодные камни, на задумчивые деревья и на скромные кровли медленно холодеющую кровь.
Когда же небо к закату накопит побольше темных, плотных, как бычки, тучек и светлых, легких, как пена, облачков и разбросает их прихотливыми пятнами узоров по голубой своей эмали, тогда великолепие огней, красок, сияний, колыханий тонкими лучами и золотых окаймлений возникало над заходящим светилом. Уже не на солнце, в торжестве заходящее, смотрели тогда восхищенные взоры, ибо солнце становилось только одним из див небесных, и не самым прекрасным, – только монотонно блистающим, до алого каления однообразно раскаленным диском. Всю ширину и прелесть заката заполняли тогда эти медленные струи, колыхания и мерцания расплавленного, многотонного, сладостным, густым вином пролитого золота, горящих всеми желтизнами янтарей и полупрозрачных топазов, пылающей сквозь невинную небесную голубизну всеми страстностями и алостями крови, дрожащих и несгорающих в пламени ясписов, ониксов, изумрудов и карминно-красных рубинов. Казалось тогда, что гигантская радуга, раскаленная жаром небесного горна, вдруг разорвала свою тонкую, полупрозрачную оболочку, пролилась и рассеяла по небу свой многоцветный, вспыхнувший несчетными огнями сок.
Иногда в тумане опалы рассыплются по небу, и бледный ангел угасания немигающими очами смотрит на землю, прямо в очи людям, которые не могут его увидеть…
Да, впрочем, всего не описать, потому что бесконечно разнообразны зори, как бесконечно разнообразна и жизнь человеческая.
Приятнее всего для дачников в Трежоли было милое сочетание воды и леса, который начинался в иных местах почти у самых волн. Было поровну лиственных деревьев и хвойных, – угрюмо-стройные сосны и ели росли вперемежку с веселыми белоствольными березами, трепетными осинами, скучными ольхами, горькими рябинами и гордыми кленами. Богатый купец из Вышгорода насадил даже в своем имении каштаны и дубы.
Все было хорошо, и сердца дачников радовались.
А местные жители тщательно распахивали свои тощие, щедро усыпанные камнями поля, – по виду небес и по направлению ветров угадывали погоду, – ловили в море салаку, – сами в море не купались, – а в леса и на пляж выпускали коров. Известно, местные жители!
– Аборигены! – пренебрежительно называл их внук профессора Роггенфельда, гимназист Эдди, неутомимый охотник за отпечатками силлурийских гадин.
А госпожа Роггенфельд, седенькая старушка с милым и приветливым, когда-то очень красивым лицом, говорила:
– Эстонцы здешние – такие культурные. Они ставят в своем народном доме пьесы Мольера, устроили хор и оркестр, и у многих есть пианино. Их девушки играют и поют очень мило, и по праздникам, нарядившись, похожи на барышень.
Зажиточны были аборигены, обитатели деревни Мустаконды, которым принадлежала и земля поселка Трежоли.
II
В этой идиллической местности в один прекрасный летний день госпожа Роггенфельд праздновала свое рождение. Было очень весело и хорошо. Семья ее сына и ее дочери собралась вся. Внуки и внучки поднесли цветы и очень мило поздравили. Вечером ожидалась музыка и пение. Приехали гости из города.
После завтрака, в третьем часу дня, на веселой зеленой лужайке между склонами Трежоли и прибрежною рощею начались танцы. Для этого был приглашен местный эстонский оркестр.
Не было только старого друга семьи, профессора Бернгарда Хорна, и профессор Роггенфельд недоумевал, почему его нет, и уже собирался послать к нему. Да некогда было, – все на людях, и прислуга очень занята.
А старая госпожа Роггенфельд с самого утра была в нервном, беспокойном настроении.
Когда молодежь плясала на зеленой лужайке, профессор Роггенфельд и его жена сидели в своем саду на скамейке над высоким склоном и смотрели вниз на танцующих.
Солнце светило не слишком ярко, звуки музыки доносились до старых людей слегка затуманенные расстоянием, смех и голоса молодежи не казались отсюда резкими, и движения танцующих были медлительны и меланхоличны.
На трех скамеечках, поставленных одна за другою, спиною к морю, на краю ровной зеленой площадки сидели музыканты, местные крестьяне, в серых фетровых шляпах. Их коричневые от загара лица выражали усердие, и больше ничего. Их коричневые от загара руки двигались точно и механично. Оттого издали музыканты казались заведенными куклами, частями очень сложной музыкально-игральной машины.
Перед музыкантами у пюпитра стоял коротенький пожилой человек и помахивал палочкою спокойно, уверенно и так же механично. И у него была, как у остальных музыкантов коричневая от загара шея и коричневые руки. Когда он делал несколько шагов от пюпитра к музыкантам или к господам, было видно, что он сильно хромает. И казалось, что его хромота входит в план неведомого, но искусного мастера, сделавшего эту хорошую игрушку, годную для танцевальных мелодий.
Звуки музыки казались чрезмерно отчетливыми и ровными. Хотелось порою какой-нибудь легкой неправильности, какого-нибудь капризного перебоя в ритме, – но потом вспоминалось опять, что иначе нельзя, что уж таков закон этой серьезно-веселой и в то же время меланхолической игры.
Молодые люди и барышни сидели на скамейках с двух других сторон лужайки. Четвертая сторона с легкой изгородью, за которою начинался подъем наверх, была свободна. Там на траве расположились нетанцующие зрители, пришедшие поглазеть и послушать музыку.
Все здесь, казалось, было зачаровано дьявольски ровным, нечеловечески отчетливым ритмом этой на диво точно исполняемой, музыки. И молодые люди и барышни кружились и отплясывали с тем усердием и с тою отчетливостью, к которым принуждала их сила механической выучки, движущая коричневую руку хромого дирижера. И зрители сидели чинно, и эстонские ребята не двигались, точно и они были сделаны из того же негибкого материала и окрашены прочно теми же суриком и умброю.
III
Профессор Роггенфельд сказал:
– Не правда ли, Агнеса, как хорошо играют эти музыканты?
Агнеса Рудольфовна вздохнула, словно отрываясь от сладких мечтаний о былом, и сказала:
– Да, очень хорошо. Особенно если вспомнить, что ведь это – простые крестьяне.
– Здешние крестьяне очень культурны, – сказал профессор Роггенфельд, – и этим они очень выгодно отличаются от русских крестьян.
– О, да! – сказала Агнеса Рудольфовна.
– Но меня беспокоит, – продолжал профессор Роггенфельд, – отчего не идет к нам наш друг, доктор Бернгард Хорн. Я опасаюсь, не захворал ли он внезапно. Если он не придет вскоре, то немного погодя я думаю послать за ним.
Агнеса Рудольфовна ничего не ответила. Она смотрела на танцующих. Тонкие, все еще красивые пальцы ее дрожали, перебирая складки белого платья.
Было странно и жутко смотреть сверху на этот медлительный танец и слушать меланхолические звуки отчетливо исполняемого музыкантами с негибкими коричневыми руками вальса.
Жутко, но и сладко старой женщине вспоминалась далекая пора, когда еще Эдуард Роггенфельд и Агнеса были молоды, когда стан Эдуарда был строен и глаза блестели, и Агнеса была прекрасна, как может быть прекрасна только молодая любимая и любящая женщина. И сладко, и жутко оживало в ее душе воспоминание о далекой ночи в веселый месяц май и о старом сладком грехе давно минувшей юности.
Так много лет прошло, и таилась тайна. Но сегодня, чувствовала Агнеса Рудольфовна, настал срок, и надо было сказать страшные слова позднего признания.
Старая женщина долго плакала этою ночью, а утром рано она поднялась, написала письмо и послала его доктору Бернгарду Хорну.
Утром, вместе с букетом цветов, она получила ответ от своего старого друга, – несколько слов, набросанных твердым, ровным почерком сильного душою человека, и кусочек алой ленты.
И вот теперь старая Агнеса сидела рядом со своим старым Эдуардом на скамейке над крутым склоном, смотрела на веселую зелень, на лазурь неба и воды, прислушивалась к трепетному замиранию своего сердца и готовилась сказать. И все не решалась.
IV
Высокий, худощавый пожилой господин в потертом сером пальто, в серой выцветшей фетровой шляпе подошел, скрипя песчинками дорожки, и остановился недалеко от Роггенфельдов. Он глядел на музыкантов и на танцующих, прищуривая серые глаза. На его сухом, нервном лице изображалось изумление.
Наконец он сказал, приподнимая шляпу:
– Извините, – это что же такое? Это какой оркестр?
Профессор Роггенфельд поднял спокойные голубые глаза на неожиданного гостя, ответил на его поклон и сказал:
– Это – здешние эстонские крестьяне. Они организовали свой собственный оркестр и играют, если их пригласить. Один раз в лето, на этой же вот лужайке, они устраивают свой собственный концерт, присутствующие на котором дают им по желанию. Эти деньги идут на покупку нот и на прочие расходы. Но обыкновенно приглашают их весьма редко, а на их собственном концерте дают им небольшие суммы денег. И тем не менее они из года в год поддерживают свой удивительно хороший для деревни оркестр.
Госпожа Роггенфельд сказала:
– Здешние крестьяне культурны и музыкальны. Они даже имеют театр, где их молодые люди играют очень недурно преимущественно классические пьесы.
– Благодарю вас очень, – сказал незнакомый господин. – Но не находите ли вы, что эти люди играют очень странно?
Агнеса Рудольфовна слегка покраснела, легонько улыбнулась и тихо сказала:
– Я этого не нахожу.
Эдуард Роггенфельд повторил за нею:
– Да, и я этого не нахожу.
Незнакомец настаивал:
– Неужели вы не находите, что эти люди, похожие на деревянных, ровно ничего не понимают в музыке, так же, как они, по всей вероятности, ровно ничего не понимают в красотах окружающего мира?
Агнеса Рудольфовна покачала головою и сказала:
– Если бы они не понимали музыки, они не могли бы играть так хорошо.
– Да, – сказал старый профессор – в их игре неизбежно отразилось бы их непонимание. А мне кажется, или, точнее сказать, я даже уверен, что они играют безошибочно. По крайней мере, мое ухо не улавливает никакой фальши, а я хотя и не могу назваться музыкантом, но понимаю кое-что и сам играю недурно.
Агнеса Роггенфельд с нежностью посмотрела на мужа и сказала:
– Эдуард играет превосходно. У него мягкое туше и безукоризненный слух.
Профессор Роггенфельд поцеловал руку своей жены и сказал:
– Ну, ну, не будем увлекаться. Но, право, они играют очень верно.
– Верно! – воскликнул незнакомец, – лучше бы они хоть не раз сфальшивили, хоть не раз сбились с такта, только бы не играли так бездушно. Разве не находите вы, что лучше было бы, если бы эти люди совсем не умели играть? Взгляните, – разве не страшно смотреть на их деревянные движения? Они и молодежь заморозили, и ребятишки от их музыки застыли, как в трансе! Посмотрите, – ведь это словно какой-то жестокий дьявол превратил людей в марионеток!
Профессор Роггенфельд с недоумением взглянул на расходившегося незнакомца, потом посмотрел на музыкантов и сказал:
– Мне кажется, вы несколько преувеличиваете. Конечно, это не первоклассный оркестр, и не Никиш ими дирижирует, но все-таки они не заслуживают таких ожесточенных нападок.
Незнакомец как будто бы слегка смутился.
– Да, правда, – сказал он. – Я увлекся. Извините, пожалуйста. Вы совершенно правы. Но все-таки мне страшно смотреть на этих добрых чертей. Уйду от этого зрелища.
Он опять приподнял шляпу и поспешно скрылся в той же стороне парка, откуда пришел.
V
Старые супруги переглянулись. Улыбнулись оба.
– Какой странный этот господин! – сказал профессор Роггенфельд.
– Да, очень странный, – согласилась Агнеса. – Он требует от простых эстонцев какой-то необыкновенной игры. Что же делать! Эти бедные люди делают, что могут, и дают, что они в состоянии дать.
– Не больше этого, – сказал Роггенфельд, – но зато и не меньше.
Старики замолчали. Опять смотрели на танцы. Наконец профессор Роггенфельд сказал:
– Правда, они играют без всякого оживления. И так же вяло танцует под их музыку молодежь. Помнишь, Агнеса, мы с тобою не так танцевали? Пожалуй, прав этот поэт, который говорит, что земля становится умнее, но зато холоднее.
Агнеса молчала и улыбалась. Ее моложавое, тонкое лицо опять слегка зарумянилось.
Когда в промежутке между двумя танцами хромой дирижер разговаривал с распорядителем танцев, и слышался чей-то звонкий голос: «Мазурку! Пожалуйста, мазурку!», тогда Агнеса повернулась к профессору Роггенфельду и, странно волнуясь, сказала:
– Эдуард, и я думала когда-то, – или, вернее, чувствовала, – как этот странный господин. Да, так же, как он. И даже больше того. Мне тоже надоел размеренный темп жизни, и я, как он этого требует, взяла смелую, но неверную ноту.
Старый Эдуард покачал своею красивою седою головою, и улыбнулся, и тихо сказал:
– Нет, Агнеса, ты хорошо играла свою партию. Твоим партнерам не приходилось сбиваться с такта из-за твоих ошибок.
И еще более волнуясь и чуть не плача, говорила старая женщина:
– Нет, нет, Эдуард, ты не знаешь. Я долго молчала, но сегодня я решилась рассказать тебе все. И вот почему доктора Бернгарда Хорна нет с нами сегодня.
И старая женщина, трепеща и с трудом сдерживая слезы, торопливо рассказывала своему старому мужу о том, как много лет тому назад, в одну благоуханную и светлую майскую ночь она изменила своему Эдуарду с его другом, молодым тогда приват-доцентом, Бернгардом Хорном.
VI
– Это было на третьем году после нашей свадьбы, – говорила Агнеса. – Мы жили здесь первое лето, и тогда еще здесь было мало дачников, и покупать провизию приходилось иногда с большими затруднениями. Но так как наш юный друг Бернгард Хорн, – он еще не был тогда доктором, – часто ездил в город, то он привозил нам и себе что-нибудь из города. Ты же больше сидел дома, потому что в это время ты кончал свою докторскую диссертацию. По вечерам, если не шел дождик, мы гуляли, и к нам часто присоединялся наш друг Бернгард Хорн. Однажды в конце мая ты не захотел идти на обычную вечернюю прогулку. В новой книге Роленовского журнала, которую мы в тот день получили из Брюсселя, одна статья так заинтересовала тебя, что мы не могли оторвать тебя от книги и ушли, весело смеясь и болтая.
– Да, да, – тихо сказал Эдуард Роггенфельд, – автор так смешал верные суждения с парадоксами, что я и до сих пор не могу забыть этой статьи. Я сидел над нею долго, рылся кое в каких книгах, и потом из-за этой статьи я внес три лишние страницы в мою докторскую диссертацию. Лишние сравнительно с первоначальным планом, но, смею думать, не совсем лишние по существу.
После краткого молчания он прибавил:
– Впрочем, через полчаса после вашего ухода я пошел за вами. Помню, был очень хороший вечер. Мне хотелось кое о чем подумать, прогуливаясь над морем, которое едва слышно плескалось о песок. Но потом я вернулся, и опять засел за мои книги.
Агнеса продолжала:
– Мы с Бернгардом Хорном пошли на западный мыс. Закат солнца в тот вечер был очарователен. Мне кажется, что никогда раньше и никогда позже я не видела такого великолепного неба, такой воды и таких облаков. Все передо мною пламенело, и точно румянцем, таким счастливым, был залит весь берег, и воздух был так прозрачен, так тих и румян, что хотелось то плакать, то смеяться. Точно чистое золото света растворилось в слезах и в крови, и душа была полна восторгом и печалью. Ах, я не сумею сказать, что я чувствовала тогда. Я думаю, что тогда я даже и не понимала, что происходит со мною. Какая-то неведомая сила овладела мною, и я чувствовала, что не могу противиться ей. В то же время словно какая-то завеса поднялась над моею жизнью, словно торжественный свет этой небесной зари вдруг ярко осветил передо мною то, на что я раньше не обращала внимания, – и я вдруг поняла, что Бернгард Хорн влюблен в меня.
Эдуард Роггенфельд нежно погладил руку своей Агнесы и ласково сказал:
– Он влюбился в тебя с первого же раза, как тебя увидел.
Теперь Агнеса победила свое волнеие, и голос ее звучал звучно и молодо. Она говорила:
– Я смотрела на него. Я знала, что я грешила, но я знала, что в эту минуту я была счастлива. Любовь к тебе, мой милый Эдуард, ни на одну минуту не покидала моего сердца. Но кто-то могущественный и коварный шептал мне, что душа человека широка и велика, что душа человека больше мира, и что любовь не знает меры и предела. Не помню, что мы говорили, не помню, где мы шли. Уже темно стало, потому что мы углубились в лес, и только слабо сквозь деревья горела полночная заря. Я слушала слова любви, я целовала Бернгарда Хорна, я покорная лежала в его объятиях, и на ласки его отвечала пламенными ласками, и смеялась, и плакала. Смеялась, как уже давно не умею смеяться. Плакала, как плачу теперь.
Слезы тихо струились по щекам старой женщины. Эдуард Роггенфепьд обнял ее нежно, и утешал ее, и говорил:
– Не плачь, не плачь, моя милая Агнеса. Ты была мне верною женою.
И плача горько, и уже не удерживая слез, говорила старая Агнеса:
– В эту страшную, в эту прекрасную ночь я изменила тебе, милый Эдуард. Я обезумела, и мне не было страшно, и мне не было стыдно того, что я сделала. И я шла с Бернгардом под руку из этого леса, и слушала его, и говорила с ним, и не стыдилась, и не боялась. Когда мы с ним прощались недалеко от нашего дома, я дала ему на память мою алую ленту. И он хранил ее все эти годы.
VII
Агнеса замолчала на минуту. Расширенные глаза ее смотрели перед собою, и в них был восторг, и на лице ее было счастье. Потом она продолжала:
– На другой день я опомнилась. Стыд и ужас охватили меня. Я весь день ходила сама не своя. Бернгард пришел к нам, как всегда, под вечер. Он был задумчив и смущен. Он посмотрел мне прямо в глаза, понял, что у меня в душе, и опечалился. Я улучила минуту, когда мы с ним остались одни. Я сказала ему: «Милый Бернгард, я и вы поступили очень дурно; я забыла свой долг, я нарушила верность моему супругу, которого я люблю преданно и верно. Я не знаю, что было со мною, – говорила я Бернгарду Хорну, – и, когда мы гуляли вчера вместе, я почувствовала, что люблю вас».
Тихо, тихо сказал Эдуард Роггенфельд:
– Ты всегда любила его, Агнеса, с вашей первой встречи.
Агнеса слегка вздрогнула. Она хотела взглянуть на мужа, но не решилась и торопливо продолжала:
– «Я – очень порочная, – говорила я Бернгарду Хорну, – потому что люблю и моего милого Эдуарда, и вас, Бернгард. Это – большой грех перед Господом и перед людьми, – говорила я Бернгарду, – грех, потому что жена должна быть верна своему мужу, и муж своей жене. Милый Бернгард, – говорила я ему, – я навсегда сохраню сладкое воспоминание об этой ночи, но то, что было между нами, никогда не повторится, и я вперед никогда не буду гулять одна с вами на этих прекрасных берегах. И вы, милый Бернгард, – говорила я ему, – вы дадите мне слово, что никогда не потребуете от меня того, на что я не должна соглашаться, и не будете ждать от меня поцелуев». Я говорила и плакала, как девочка, и сердце мое разрывалось от печали и от странной радости. Грех мой был передо мною, и в груди моей трепетало сокрушенное сердце. Я раскаивалась и в то же время знала, что вина моя уже прощена Тем, Кто дал мне сердце любить и радоваться. Бернгард смотрел на меня ласково, и я видела, что он тронут до глубины души. Он поцеловал мою руку, и сказал: «А эту алую ленту не отнимайте у меня, милая Агнеса». Я шепнула ему: «Оставьте ее у себя», – и убежала в свою комнату. Я плакала там долго, и мне хотелось плакать без конца. Но я вспомнила, что должна позаботиться об ужине, и сошла вниз, тщательно освежив холодною водою мои заплаканные глаза.
Агнеса замолчала и подняла на Эдуарда робкий, молящий взор. Сияли глаза старого Эдуарда, как у молодого. Он нежно обнял свою Агнесу и сказал ей:
– Я помню этот день, милая Агнеса. Я помню его, потому что я знал все. Я вас видел и все понял.
– Ты знал! – тихо воскликнула Агнеса. – Ты знал и ничего не сказал мне!
– Я знал, – говорил профессор Роггенфельд, – что ты молчишь об этом, чтобы не огорчить меня. Я верил тебе, я знал, что ты мне верна, и если был твой грех передо мною, то я простил тебе его раньше, чем ты сама успела подумать, что это – грех. Как этот странный господин, который сейчас был здесь, и я готов был простить отступление от ритма и даже ошибку в игре, – только бы игра не была бездушною. А мою жизнь ты всегда согревала и освещала. Ты не была похожа на бездарного музыканта, твердо выучившего свою партию, которая ничего не говорит его душе. С тобою был я счастлив, потому что ты дала мне восторг любви.
– Дорогой мой, милый Эдуард, – говорила растроганная женщина, – я знала, что ты – великодушный и прекрасный человек. Да, я не хотела огорчать тебя. Но теперь, когда прошло так много времени и когда нам уже так мало осталось жить на этой очаровательной земле, я решилась наконец открыться тебе. Я написала сегодня доктору Хорну, и он по моей просьбе возвратил мне алую ленту. Сегодня после завтрака, перед тем, как нам выйти из дому, я положила алую ленту на твой письменный стол. Она – твоя.
Эдуард Роггенфельд с живостью возразил:
– Нет, нет, милая Агнеса. Эта лента должна остаться у нашего дорогого друга, доктора Бернгарда Хорна. Он оказал нам много услуг, и он был с тобою в ту роковую минуту, когда сердце твое было упоено безумием чрезмерной любви. К твоим жаждущим устам он поднес чашу сладостного напитка, и да благословит его за это Бог, как я его благословил. А теперь, Агнеса, вытри слезы, и пошли скорее за Бернгардом. Он должен прийти и сегодня со своею скрипкою, и мы опять будем музицировать.
VIII
В это время музыка внизу окончилась. Молодые люди и барышни со смехом, с шумными разговорами взбирались наверх по отлогим дорожкам, вьющимся по крутому склону.
Эдуард и Агнеса медленно шли к дому. Навстречу им нежно и сладостно благоухал шиповник, белые пионы гордились своею розоватою махровостью, и первые маки алели и пламенели на длинной куртине под окном. От опутанной темною зеленью дикого винограда террасы неслись томные благоухания левкоев, и безумные туберозы неистово мечтали безмерными ароматами о счастии непомерном и о любви, не знающей пределов.
У порога террасы Эдуард Роггенфельд остановился и сказал:
– Да, он прав, – деревянные музыканты ужасны. Я рад, что уже не слышу их музыки. А мы с тобою, Агнеса, пьесу нашей жизни исполнили не без вдохновения.
Звериный быт*
I
Подобно тому, как в природе кое-где встречаются места безнадежно унылые, как иногда восходят на земных просторах растения безуханные, не радующие глаз, – так и среди людских существований бывают такие, которые как бы заранее обречены кем-то недобрым и враждебным человеку на тоску и на печаль бытия. Будет ли виною тому какой-нибудь телесный недостаток, иногда совершенно незаметный для света, да зачастую забываемый и самим обладателем этого недостатка, плохое зрение, слабые легкие, маленькая неправильность в строении какого-нибудь органа, или что-нибудь иное, – или слишком нежная, слишком восприимчивая ко всем впечатлениям душа с самого начала своего сознательного бытия поражена была почти смертельно какими-нибудь безобразными, грубыми выходками жизни, – как бы то ни было, вся жизнь таких людей является сплошною цепью томлений, иногда с трудом скрываемых.
Кто из людей, знающих свет, не встречал таких людей, и кто не удивлялся их странной, капризной неуравновешенности!
Такою обреченною всегда томиться душою обладал некий петербуржец, Алексей Григорьевич Курганов. Один из многих.
Жизнь его с внешней стороны складывалась очень удачно. Раннее детство его протекало на лоне природы, в прекрасном, благоустроенном имении его родителей, расположенном в живописной местности средней России. Первые впечатления бытия были ему радостны, леса, поля и реки раскрывали перед ним много интересного, и люди вокруг были очень занятные. Воспитывали его тщательно, даже не слишком уж дурно, хотя и сообразно с неподвижными традициями хорошего дворянского рода.
Учился Алексей Григорьевич хорошо, нигде в классах не засиживался. В деньгах он никогда особенно не нуждался, – родители давали ему всегда ровно столько денег, сколько ему было нужно. Потом они умерли как-то очень вовремя, не слишком рано, но и не слишком поздно, и оставили ему приличные средства.
Когда Алексей Григорьевич сделался самостоятельным, его хорошие связи и знакомства всегда помогали ему очень недурно устраиваться. Он служил на видных, но совершенно спокойных местах, дававших ему порядочное жалованье и немало досуга.
Казенная служба скоро перестала нравиться Алексею Григорьевичу, – да ему и ничто не нравилось долго, – и тогда он некоторое время служил по выборам. Потом он устроился очень хорошо в правлении одного видного и крупного предприятия. Здесь он получал большое жалованье, играл удачно, хотя и осторожно, на бирже и выигрывал на скачках и на бегах, – помогали и счастье, и холодный расчет.
Когда Алексею Григорьевичу минуло двадцать восемь лет, он женился по любви на дочери видного земского деятеля, Шурочке Нерадовой. Шурочка была очаровательна и принесла ему прекрасное приданое. В Шурочкином нежном и задумчивом лице было что-то, что напоминало лучшие портреты Генсборо. Шурочка очень мило пела, недурно играла на рояли, любила читать стихи новых поэтов, особенно французских, и обладала изысканным, тонким вкусом. Туалеты Шурочкины были превосходны, и она ухитрялась тратить на них не слишком много, чем немало гордилась.
Со своею милою Шурочкою Алексей Григорьевич чувствовал себя наверху блаженства, а в обществе был горд женою. Только порою грустные Шурочкины глаза, остановившись на нем с неизъяснимым выражением, наводили на него смутный страх, и он старался разогнать его усиленной веселостью. А поездками в те места, где люди хотят веселиться, он пытался заставить Шурочку улыбаться и смеяться, как улыбаются и смеются другие веселящиеся дамы. И Шурочка улыбалась, – ей было весело.
Через два года Шурочка родила Алексею Григорьевичу сына, веселого, здорового мальчика. Она сама выкормила его. Когда он стал подрастать, было заметно, что он больше похож на мать, чем на отца.
Вот, все внешние признаки благополучия были налицо. Вся жизнь Алексея Григорьевича, казалось, идет легко и приятно, как сон в летний полдень. И все же…
II
Еще в детстве как-то болезненно и памятно чувствовались мелкие обиды, которые судьба не устает причинять даже и тем, к кому она, по-видимому, так благосклонна. Всякая несправедливость и неправда больно поражали впечатлительного мальчика. Его родители были не совсем довольны этою чрезмерною и часто неудобною чуткостью. Но они надеялись, что с годами это пройдет и что их сын будет как все. Порода и воспитание должны же сказаться.
Тогда еще он не знал, а потом, узнавши, не мог помириться с тем, что несправедливость и неправда очень удобны для людей, а справедливость и правду надобно еще создавать, – нет их в земной природе. Горько было ему узнать, что не лгать не могут люди, что ложью держится их жизнь, а правда разрушает ее.
Слишком рано пришлось Алексею Григорьевичу, – и слишком часто, – жалеть людей или презирать их, слишком часто, так что для любви к ним уже и немного осталось сил в его сердце.
С казенной службы ушел Алексей Григорьевич потому, что его заставили сделать что-то, совсем не согласное с законом, но очень выгодное для влиятельного лица.
Знакомые дивились щепетильности Алексея Григорьевича. Говорили ему:
– Зачем вы это делаете? Для чего? Вам-то что за дело? Ведь вы – только исполнитель. Отвечает за это ваш начальник.
И другие говорили:
– Все равно, вы ровно ничего этим не достигнете. Не вы, так другой это сделает. Вы только себе карьеру испортите.
Алексей Григорьевич молча улыбнулся. Он уже тогда знал, что спорить с людьми бесполезно. Но и с ним спорить было бесполезно также. Для себя самого он навсегда решился не делать лишних уступок злу и безобразию грубой жизни.
Служба по выборам сначала понравилась Алексею Григорьевичу очень. Ему казалось, что здесь можно многое сделать для народа, для приближения народной жизни к европейским нормам благополучия и культурности.
Скоро Алексей Григорьевич во всем этом разочаровался навсегда. Он точно с неба упал, когда познакомился с теми махинациями и интригами, которые беззастенчиво практиковались здесь. И отсюда он ушел.
Служба в коммерческом деле, откровенно преследующем цели личного обогащения, оказывалась пока самым чистым делом. Пока, конечно. Скоро Алексей Григорьевич разочаруется и в этом деле и покинет и эту службу.
III
Однажды Алексей Григорьевич сидел у себя в кабинете за какой-то работой. Он считал эту работу спешной, хотя никто особенно не был озабочен ее скорым окончанием.
Вдруг Алексей Григорьевич услышал из гостиной легкий кашель. Он удивился.
«Кто же это?» – подумал он.
Он знал, что никого чужого в доме нет и что Шурочка одна.
Кашель повторился. Алексей Григорьевич обеспокоился. Он поспешно вышел в гостиную. Так и есть, – кашляла Шурочка.
Алексей Григорьевич, подходя к жене и с тревогою глядя на нее, спрашивал:
– Шурочка, ты простудилась? Где ты простудилась?
Шурочка спокойно смотрела на Алексея Григорьевича. Она закрывала рот тонким маленьким платком, от которого нежно и слабо пахло ее любимыми духами, кигризом. В ее глазах было какое-то удивительное выражение, которого еще никогда не видел в них Алексей Григорьевич. То спокойствие, которое пугает прежде, чем поймешь причину своего испуга.
Алексей Григорьевич сел рядом с Шурочкой. Он ласково вынул из ее рук платок. По самой середине маленькой батистовой тряпочки краснелось крохотное пятнышко.
Алексей Григорьевич растерянно переводил глаза с красненького пятнышка среди платка на спокойное, только чуть-чуть побледневшее Шурочкино лицо. Он не знал, что сказать. Мысли его были спутанные и обрывочные.
Было ясно в комнате и тихо, и лампы горели по-зимнему, и камин тихонько трещал, бросая на ковер красноватый свет. В соседней комнате, в столовой, легонько позвякивали чайные ложки в руках расторопной горничной Даши.
Шурочка заговорила негромко:
– Алексей, но разве же ты не знал, что я скоро умру?
Алексей Григорьевич, чувствуя внезапный жар во всем теле, воскликнул:
– Шурочка, Бог с тобою! Разве можно говорить такие слова! Ты должна жить долго, долго. Тебе надобно серьезно полечиться, – и все это пройдет.
Шурочка покачала головой. Глаза ее были такие большие, такие печальные, а лицо у нее было спокойное. В эту минуту она казалась слишком красивой, – словно уже неживая, словно она была только мечтой вдохновенного художника, только вечным созданием совершенного и мудрого искусства, вознесенным над жизнью.
Но кто же этот художник, создающий, чтобы разрушить?
Шурочка спокойно сказала:
– Нет, я с детства чувствовала, что мне долго не прожить. Я никогда не могла так играть и так много бегать, как мои подруги. Даже пение меня всегда утомляло. У меня всегда была слабая грудь.
И, помолчав немного, Шурочка продолжала:
– Я – нехорошая. Мне бы не следовало выходить за тебя. Если я рано умру, я знаю, это будет для тебя таким большим горем. Но мне так хотелось счастья! И с тобою все эти годы я была так счастлива!
Она прижалась к плечу Алексея Григорьевича. Такая счастливая была на ее нежных губах улыбка, что Алексей Григорьевич подумал:
«Ничего нет серьезного, – одно воображение. Все пройдет, только полечить Шурочку надобно хорошенечко. Поправится Шурочка, и опять все будет хорошо».
Но что-то против его воли настойчиво говорило ему, что Шурочка не поправится, что Шурочка умрет скоро и что дом его будет пуст.
IV
Алексей Григорьевич принялся усердно лечить Шурочку. Врачи утешали его. Они брали гонорар и говорили беззаботно:
– Ничего нет опасного. Самое обычное явление. Пока пропишу микстурку, а самое главное – климатическое лечение. И больше ничего. Будьте спокойны. Волноваться нет ни малейшей причины.
Один врач, другой, третий, и еще, и еще, и здесь, и там, и в ином месте, – много перевидали врачей. И Алексей Григорьевич уже не мог поверить врачам. Да они об этом и не заботились. Лечение указано согласно науке, – чего же больше!
А Шурочка была совершенно спокойна и даже весела, Заботы о ней Алексея Григорьевича, видимо, доставляли ей удовольствие, и она смотрела на мужа благодарными глазами. Ей нравилось лежать на широких террасах элегантных санаториев, дышать редким горным воздухом, смотреть на снеговые вершины невозмутимо спокойных гор, слушать легкий плеск горного озера, похожий на лепечущий разговор каких-то мечтательных, очаровательных нежитей.
Шурочка часто говорила:
– Я – счастливая. Разве этого мало? Разве же надобно, чтобы счастье человеческое продолжалось долго, долго, пока не надоест? Конечно, нет. Я – счастливая, и больше мне ничего и ненадобно.
Когда Алексей Григорьевич слушал эти слова, ему хотелось плакать, – от любви, от нежности, от жалости к Шурочке, к себе, ко всем умирающим, ко всем переживающим смерть близких сердцу.
V
Климатическое лечение не помогло. Шурочка приметно с каждым днем угасала.
Был ясный день. Снежные горы белели вдали, похожие на красивую сказку, – безоблачное, синело небо, – легкий плеск озера был слышен в долине, плеск ласковый и веселый, – от зеленеющих молодо и весело деревьев ложились темные, отрадные тени, – птицы проносились высоко, высоко, легкие, свободные. Так все было спокойно и невозмутимо, как может быть только в мирной ограде земного рая или разве еще только в стране бережливых, аккуратных фермеров и рантьеров, так же уверенных в прочности своего благополучия, как уверены небесные ангелы в бесконечной невозмутимости их блаженства.
Шурочка сидела в саду. Тихая задумчивость баюкала ее. Она перебирала в памяти своей те радости, из которых составлена была ее жизнь. Вспоминала ясное милое детство, – пору вешних мечтаний, – время сладкой влюбленности, – жизнь с нежно-любимым мужем, – рождение сына. Все было хорошо, все радовало ее.
Только дышать было трудно. И совсем не было сил. Пройдет Шурочка несколько шагов, – и уже устала.
И вот скоро, стало быть, конец? Как же так?
Всю жизнь Шурочка думала, что умрет рано, и не боялась смерти ничуть. Даже немножко кокетничала сама с собой тем, что умрет молодая. Но когда стало близким то, чего она ожидала всегда, стала дивить ее эта готовящаяся таинственная перемена, потом печалить, и наконец уже ей стало страшно. Обидно было думать, что ее тело, привыкшее к нежным удобствам, к изысканным нарядам, зароют в черную яму.
Алексей Григорьевич подошел к Шурочке. Она сказала:
– Я умираю.
Ее глаза были широко открыты и неподвижно глядели на Алексея Григорьевича. Было в них выражение человека, который смотрит на то неведомое, что он уже перестал бояться, но от чего уже никогда не отведет взора.
– Полно, Шурочка, мы еще поживем, – сказал Алексей Григорьевич, пытаясь легким тоном этих слов успокоить ее.
Шурочка слегка нахмурила тонкие брови. Сказала:
– Как же я могу жить, если у меня легкие разваливаются?
И заплакала тихо.
Алексей Григорьевич, бледный и растерянный, стоял перед нею и не знал, что сказать.
VI
Потянулись для Алексея Григорьевича дни тупого отчаяния. Обострились эти ощущения, так памятные еще из детства, – тоска навстречу новому дню, так часто омрачавшая его утра, – и радостное облегчение, когда приближались ночь и сон, милое подобие утешительной смерти.
Ожидание Шурочкиной смерти претворялось иногда в страстное желание, чтобы смерть эта пришла скорее. Так было тяжело ждать, и так томилась бедная Шурочка. И так как Алексей Григорьевич любил правду человеческого чувства и ненавидел людские притворства, то и себя он не упрекал за это жестокое желание. Даже, может быть, если бы он с Шурочкою был один в пустыне, он бы сам убил ее, чтобы сделать смерть ее радостной и свободной. Перед смертью Шурочка улыбнулась бы ему кротко и посмотрела бы на него благодарными глазами.
Но люди злы: они убивают только тогда, когда ненавидят.
И вот настал день, – Шурочка умерла.
Хлопоты с перевозом тела на родину развлекли Алексея Григорьевича. Он не рыдал над милым прахом, как рыдают другие. Его близкие и родные не опасались за то, что он в порыве горя лишит себя жизни. Он был спокоен. Посторонним казалось, что он даже слишком спокоен.
Шурочкина смерть осталась в его сердце навсегда, – горем невозрастающим и незабываемым. Как бы частью его души, неизменной атмосферой его бытия. Через много лет в душе его повторялись все те же тихие Шурочкины слова:
– Я умираю.
И душа его трепетала от боли, которой не видел никто.
VII
Прошло несколько лет. Алексею Григорьевичу было сорок два года и его Грише – двенадцать лет. Алексей Григорьевич был директором правления в одном крупном предприятии. Но уже эта деятельность утомила и разочаровала его, и он думал все чаще о том, чтобы оставить ее. И все чаще приходило к нему желание переменить жизнь.
Грустные Шурочкины взоры говорили ему о тоске и о тщете этой скучной жизни в городе. Все темнее, все томительнее волновала его женщина города, это странное существо, созданное современным Содомом и стремящееся стать подобием парижанки, по-видимому, пустой, ничтожной и лживой, но в глубине своей непомерно искренней и подлинной, а потому всемирной, как чрезмерно искренным и потому всемирным становится все, исходящее из милого и страшного Парижа. И так колебался он между двумя влияниями, – жены отошедшей, тихой, зовущей к успокоению, – и жены чаемой, зовущей к жизни шумной, торопливой, широкой.
Но жизнь в городе становилась ненавистна ему, потому что все яснее представлялось, что в городе наших дней, великолепном Содоме, возрождается древний зверь и хочет властвовать. Все то жестокое, что свершалось в стране, шло отсюда. А в стране нашей в то время свершалось много жестокого.
Если было счастье в жизни Алексея Григорьевича, то оно было только в жизни его сына, в заботах о нем каждый день, и в одной великой заботе о том, чтобы Гриша был лучше своих предков, чтобы он жил для достойной жизни, свободный, чистый, смелый. Когда летом в деревне смотрел Алексей Григорьевич на обласканное ярким светом среди песков и трав, стремительное, сильное Гришино тело, – когда в городской квартире слышал он на паркетах комнат быстрый бег босых Гришиных ног, – то ему казалось, что нет большего счастья, как то, чтобы стать двенадцатилетним небоящимся и нестыдящимся отроком.
VIII
Была середина зимы. День праздничный, ясный, морозный смотрел в широкие и высокие окна кабинета Алексея Григорьевича. Белая снежная пелена зимней мостовой делала красивой эту тихую городскую улицу с рядом старавшихся быть пышными и богатыми домов, где жили в лицевых квартирах люди, тратящие много, а в квартирах во дворе, тесных, темных, неудобных, ютились те странные люди, которым нравилось сознание, что и они живут на аристократической улице.
Алексей Григорьевич был дома один. Он только что кончил завтрак. Никуда не собирался, никого к себе не ждал. Сидел в своем кабинете, удобно прижавшись к углу дивана, подобрав под себя ноги в легких лакированных ботинках. Внимательно читал новую книгу о многообразии религиозного опыта.
Раздался тихий стук в дверь.
– Войдите! – сказал Алексей Григорьевич, с некоторой досадой отрываясь от книги.
Не то чтобы книга очень интересовала его, – но ему сейчас не хотелось видеть людей, говорить с ними, – тягостное утомление жизнью в этом холодном, темном городе владело им.
Бесшумно открылась дверь. Колыхнув складки тяжелой темно-синей портьеры, гармонировавшей своим спокойным цветом с синими стенами кабинета, вошла горничная Наташа, молодая быстроглазая девушка. Тихо по темно-синему сукну, затянувшему пол кабинета, она неторопливо подошла к дивану, где сидел Алексей Григорьевич, подала ему карточку и очень тихо сказала:
– Просят, чтобы вы их приняли. Говорят, что они по очень важному делу и что им необходимо переговорить с вами сегодня же.
Алексей Григорьевич опустил глаза на карточку и на ней прочел совершенно незнакомое ему имя. В это время Наташа быстро глянула в зеркало над топившимся камином, поправила быстрым движением красивых, белых, открытых до локтя рук свою слишком сложную, как у барышни, прическу с вложенным в нее бледно-розовым цветком и, опуская руки, тесно прижала их к бокам, так что ясно и отчетливо обрисовалась ее высокая, слишком пышно развившаяся грудь молодой, здоровой девушки.
Алексей Григорьевич заметил все эти Наташины маневры и сердито поморщился.
«Положительно, следует отказать ей», – подумал он, уже не в первый раз за эту зиму. Алексею Григорьевичу очень не нравилось, что Наташа, такая скромная в первые два года службы у него, теперь очевидно кокетничает с ним. Она смотрит на него иногда какими-то странными глазами. Старается подойти к нему насколько можно поближе. Ночью выискивает предлоги, чтобы встать с постели, и, словно невзначай, встречается с ним неодетая.
Да, надобно ее рассчитать. Но за что? Она – такая услужливая. Все делает она исправно. Мебель и вещи Алексея Григорьевича держит в порядке. Не за что отказать.
Алексей Григорьевич быстро окинул Наташу сердитыми глазами. Она покраснела и чуть-чуть усмехнулась.
– Наташа, – строго сказал Алексей Григорьевич, – для чего вы вдели этот глупый цветок в прическу? Выньте и вперед не смейте являться ко мне с цветами в волосах.
Наташа сказала покорно:
– Слушаю, барин.
И вынула цветок из волос.
– И нельзя ли делать прическу попроще? – продолжал Алексей Григорьевич.
Наташа отвечала так же покорно:
– Слушаю, барин.
Она стояла перед ним прямая, почтительная, скромно опустив руки, чуть-чуть, едва заметно, усмехаясь, – так легка была усмешка, что нельзя было за нее сделать замечание. И у Наташи был такой вид, точно она понимает, что все это, и о цветке, и о прическе, только придирки, капризы скучающего барина, но что она и капризы его сносит покорно. И уже в самой этой сознательной и рассчитанной покорности было много досадного.
Алексей Григорьевич опять опустил глаза на карточку. Там типографским косым шрифтом было напечатано:
Илья Никанорович Кундик-Разноходский.
Комиссионер по наведению справок.
Селивановская, 18, кв. 73.
Алексей Григорьевич тщетно напрягал память, – положительно, он не помнил этого господина. Собирать о ком-нибудь или о чем-нибудь справки через комиссионеров ему никогда не приходилось, и теперь он не нуждался. Принимать совершенно незнакомых людей он не любил. Он знал по долгому опыту, что эти посещения всегда бывают неприятны. Все это были прожектеры с явно необоснованными проектами, или попрошайничающие лгуны, или, просто-напросто, воры.
Он сказал:
– Спросите его, Наташа, толком, какое именно у него до меня дело. Я его совершенно не знаю и не могу принять его, не зная, зачем он пришел. Притом же я очень занят.
С тою же стереотипною вежливостью отлично дисциплинированной горничной и с тою же едва заметною усмешкою Наташа отвечала:
– Слушаю, барин.
Проходя мимо камина, она приостановилась, нагнулась, – как будто бы для того, чтобы поправить дрова, хотя в этом не было никакой надобности, а на самом деле для того, чтобы лишний раз выказать свою ловкость и свои формы, – бросила в огонь свой смятый цветок, который она до того держала в руке, и постаралась сделать это так, чтобы Алексей Григорьевич это заметил и оценил бы ее покорность. Потом, легко поднявшись, Наташа опять быстро глянула в зеркало и той же неслышной походкой ушла.
IX
Через минуту Наташа вернулась, опять подошла к дивану, где все еще сидел Алексей Григорьевич, и сказала тихо, точно сообщала что-то секретное:
– Они говорят, что, безусловно, не могут мне сказать. Им беспременно надо вас лично повидать. Скажите, говорят, вашему барину, что, безусловно, необходимо повидаться немедленно по делу, лично для барина очень важному.
Алексей Григорьевич досадливо помолчал и спросил:
– Ну, а с виду-то он какой? Приличный? Или похож на просителя?
Наташа легонько повела круглым, полным плечом, изобразила на своем лице замешательство и, еще более понижая голос, сказала:
– Как сказать, уж, право, не знаю. Цилиндр на них и перчатки, ну, а пальто совсем не модное, потертое, а с лица, – так, не очень симпатичные. Борода большая, черная, очки синие, а сами как будто из цыган будут.
– Одним словом, темная личность, – тихо, как будто про себя, сказал Алексей Григорьевич.
– Не могу знать, – сказала Наташа.
Усмешка ее уже была смелая, словно она воспользовалась этими лишними словами Алексея Григорьевича. Алексею Григорьевичу стало досадно на самого себя. Как всегда в таких случаях, раздражение против себя обратилось на другого. Он резко сказал Наташе:
– Да я вас и не спрашиваю, Наташа. Пригласите.
Наташа покраснела, – и Алексей Григорьевич подумал, что она краснеет слишком часто. Опять ему стало досадно на то, что он слишком много внимания обращает на эту красивую, хитрую девушку и тем самым как бы поощряет ее старания кокетничать с ним.
Когда уже Наташа вышла, Алексей Григорьевич подумал, что этого подозрительного господина принимать не следует, и сообразил, что это слово «пригласите» нечаянно вырвалось у него и просто с досады. Он порывисто встал с дивана, быстрыми шагами подошел к большому, загроможденному множеством нужных и ненужных вещей письменному столу и схватился за лежащую на нем в холодной бронзовой оправе в виде зеленовато-голубой лягушки на длинном синем шнурке пуговку электрического звонка, чтобы позвать Наташу и отменить свое распоряжение. Но сразу же он сообразил, что уже поздно, что, по всей вероятности, Наташа уже сняла с господина в цилиндре его потертое, немодное пальто и с насмешливой почтительностью открыла перед ним дверь в комнаты.
Алексей Григорьевич выпустил из рук холодную лягушку, и она боком упала на зеленое сукно рядом с вазочкою для карандашей. Он подошел к среднему окошку. Стоял спиною к свету и ждал. Почему-то вдруг почувствовал, что предстоящее свидание с комиссионером для наведения справок его странно волнует. Досадливо подумал, что жизнь в городе очень расстраивает нервы.
X
После легкого Наташиного стука колыхнулась портьера. И, как-то странно ниже, чем можно было ждать, показалась голова смуглолицего, рябоватого человека с черной бородой и уже потом вся его облаченная во фрак фигура.
Алексей Григорьевич стоял у окна и смотрел на неожиданного гостя, нисколько не стараясь придать своему лицу любезное выражение. Комиссионер по наведению справок ему сразу не понравился. Это была уродливая помесь Урии Гипа из Диккенсова романа и капитана Лебедкина из Достоевского. Не по наружности, конечно, а по тому характеру, который всегда слишком ясными чертами изображается на лице, – ясными для всякого, привыкшего жить на свете. По наружности же это был довольно полный, хотя и не совсем чистоплотный господин. Фрак на нем был совсем приличный, сидел неплохо, крахмальная сорочка была почти чистая, а вот на галстуке, черном, слишком большом для фрака, виднелись два сероватых пятна. Черные в полоску брюки чем-то странно отличались от его фрака и были натянуты и лоснились на коленях. Синие стекла больших очков были слишком светлы, и это придавало его лицу странное выражение неудачного маскарада.
Как-то противно сгибаясь, потирая руки с таким видом, точно он был уверен, что руки ему не подадут, Кундик-Разноходский медленно подвигался к Алексею Григорьевичу. Руки у него были большие, красные, очевидно, недавно вымытые, – но почему-то, когда Алексей Григорьевич взглянул на них, то ему стало противно, и своей руки он, точно, не протянул. Вместо того он как-то поспешно показал левой рукой на приставленное сбоку письменного стола кресло и сказал:
– Прошу садиться.
Гость, продолжая неловко кланяться и потирать руки, говорил притворно-смущенным, жидковатым голосом, с противной пристрастностью улыбаясь:
– Прошу извинить меня. Побеспокоил, – может быть, оторвал от занятий? Кундик-Разноходский – моя фамилия. Впрочем, карточку мою изволили видеть? Там, извините, и моя профессия обозначена. Справочки собираю, по поручениям, а иногда и от себя, – такова уж моя специальность. Люблю узнавать разные сведения. С детства отличался любознательностью и, смею сказать, проявлял в этом направлении незаурядные способности. Вроде Лекока или, извините, Шерлока Холмса. И потому могу иногда сообщить чрезвычайно любопытные известия.
Говоря это, Кундик-Разноходский бочком пробрался к указанному ему креслу, еще раз поклонился и уселся. Тогда стало заметно, что устроен он как-то очень непропорционально, – ноги слишком короткие, туловище длинное, – и потому сидя он казался выше, чем стоя. И это тоже почему-то было противно Алексею Григорьевичу. Ему казалось, что неправильность тела должна сопровождаться каким-нибудь изломом или вывихом души.
Алексей Григорьевич сел в кресло перед письменным столом и спросил неприветливо:
– Чем же я могу вам служить? Справок я не собираю.
Кундик-Разноходский захихикал, заерзал в кресле, еще быстрее стал потирать свои руки и поспешно заговорил:
– Извините-с, Алексей Григорьевич, это я вам хочу служить. И надеюсь, что вы останетесь мною довольны. Я имею сделать вам чрезвычайно важное сообщение.
Он замолчал и смотрел на Алексея Григорьевича так, словно ждал чего-то. Алексея Григорьевича все больше раздражали красные руки гостя, и хотелось просить его, чтобы он перестал так сильно тереть их. Видя, что гость молчит, Алексей Григорьевич сказал ему холодно и строго, упорно глядя прямо в его вороватые глаза:
– Пожалуйста, говорите, господин Кундик-Разноходский, я вас слушаю.
Гость опять захихикал.
– Извините, – сказал он, – но так как это – моя специальность и так как я снискиваю этим средства к пропитанию, то, будучи человеком совершенно необеспеченным в материальном отношении, притом же имея на своем попечении больную жену, детей, которых надо учить, и престарелых родителей, которых надо покоить, и ввиду все возрастающей дороговизны припасов, то вы, милостивый государь, конечно, и сами поймете, что я не имею никакой возможности сообщать имеющиеся у меня сведения иначе, как за некоторый, хотя бы и самый умеренный, гонорарий.
Алексей Григорьевич с удивлением слушал это длинное, запутанное объяснение. Потом сказал:
– Да мне не нужно никаких от вас сведений, ни за деньги, ни даром.
Кундик-Разноходский развязно продолжал:
– После такого холодного ответа с вашей стороны я, собственно говоря, должен был бы немедленно встать и откланяться. Но, кроме желания заработать на вашем деле и возместить мои расходы по собиранию справок, и расходы довольно значительные, я руководствуюсь еще и человеколюбием. Сам имея детей, я обладаю, к сожалению, слишком чувствительным сердцем. Сведения, которые я могу вам сообщить, – не иначе, конечно, как за приличное вознаграждение, – могут избавить вас и ваших близких от большого несчастья.
Алексей Григорьевич улыбнулся. Самоуверенный тон Кундик-Разноходского начинал его забавлять. Он сказал:
– Несчастья для себя лично я не боюсь, а близких людей у меня нет.
Кундик-Разноходский сделал чрезвычайно серьезное лицо, рознял свои руки в первый раз с тех пор, как пришел сюда, поднял со значительным видом указательный палец и сказал забавно-торжественным тоном:
– Вы изволите забывать самого близкого к вам человека, вашего единственного сына, отрока Григория. А мне известно, что вы в нем души не чаете, хотя и воспитываете его на манер древнего спартанца, и потерять его было бы для вас весьма тягостно.
Кундик-Разноходский замолчал и сидел, уставясь на Алексея Григорьевича с видом опасливого сожаления.
XI
Алексей Григорьевич почувствовал, что бледнеет. Какие-то смутные подозрения, уже томившие его не раз после того, как в прошлом году его Гриша получил от своего деда большое наследство, опять зашевелились в его душе. Он пристально смотрел на Кундик-Разноходского и напряженно думал, можно ли ему хоть сколько-нибудь поверить.
Очевидно было по всему, что Кундик-Разноходский, действительно, человек подозрительный. Но потому-то он и может иметь такие сведения, какие можно получить только при постоянном общении с преступными и подозрительными элементами городского населения.
Алексей Григорьевич знал, что крупное наследство, доставшееся его Грише от Шурочкиного отца, вызвало большое озлобление среди других родственников, особенно у Гришиного дяди по матери, Дмитрия Нерадова, быстро разоряющегося господина.
Дети умирают так часто и так легко от какой-нибудь случайной заразной болезни, что никого бы не удивило, если бы и Гриша умер. Тогда его наследство опять вернулось бы в род его матери.
Гриша был всегда на глазах Алексея Григорьевича, и уберечь его, по-видимому, было нетрудно. Но кто может поручиться за то, что не случится, чтобы или он сам, или экономка, или Гришина воспитательница чего-нибудь не досмотрели?
И ведь весь вопрос теперь только в том, чтобы заплатить этому человеку сколько-то денег. Пусть он даже лжет, но разве жалко денег! И странно было бы предположить, что ничего не знающий человек приходит с улицы и рассказывает небылицы, требуя за это денег.
Алексей Григорьевич решительно спросил:
– Сколько вы хотите получить?
Кундик-Разноходский, ни на минуту не задумываясь, и уже не хихикая и не потирая рук, и даже слегка отвалившись на спинку кресла, с развязностью, почти наглой, сказал:
– За предварительное сообщение и, вообще, за мой сегодняшний визит соблаговолите уплатить мне сто целковых. Затем понадобятся еще кое-какие расходы, но, оценив значительность моих сообщений, вы уже сами определите подобающую сумму за передачу вам имеющихся в моих руках чрезвычайно любопытных документов.
Алексей Григорьевич выдвинул ящик письменного стола. Достал из него бумажник синей шагреневой кожи, большой, мягкий и удобный. Приоткрыл его с таким жестом, как будто опасался, что гость его ограбит. Вытащил оттуда сторублевую бумажку и протянул ее Кундик-Разноходскому.
Кундик-Разноходский взял бумажку бережно. Видно было по его лицу, что ему как будто бы жаль или досадно, того ли, что спросил мало, того ли, что нельзя заняться приятным делом пересчитывания засаленных, потрепанных кредитных бумажек. Он все-таки положил сторублевку себе на колено, погладил ее широкой ладонью, вздохнул и, наконец, спрятал ее в большой, с поломанной застежкой, рыжий кошелек, который он вытащил из кармана брюк и в котором виднелись, когда он его открыл, какие-то квитанции и расписки.
Потом Кундик-Разноходский сказал:
– Надеюсь, что вы позволите говорить с вами совершенно откровенно.
Алексей Григорьевич отвечал с досадой:
– Ну, конечно, иначе зачем же бы мне с вами и разговаривать!
– Кроме того, – говорил Кундик-Разноходский, – вы, конечно, соблаговолите дать мне обещание, что никому не откроете источника тех необычайных сведений, которые я вам сообщу. Потому что, как вы сами изволите понимать, для успеха моих специальных занятий совершенно необходимо, по крайней мере, в известных случаях, соблюдение строжайшей тайны.
– Хорошо, – сказал Алексей Григорьевич, – я обещаю, что никому не скажу, что от вас узнал то, о чем вы мне расскажете.
XII
Кундик-Разноходский помялся, поежился, потер руки и заговорил, понижая голос и принимая противное для Алексея Григорьевича выражение интимной и доверительной беседы:
– Позвольте мне начать немножко издалека и, так сказать, наметить некоторые ходы и нити. Дело, которое привело меня к вам, началось с того самого момента, когда вскрыто было духовное завещание покойного Николая Степановича Нерадова, по коему все имения и капиталы покойного перешли к его внуку, вашему единственному сыну, Грише. Конечно, вам не безызвестно, что таким завещанием был крайне обижен дядя сего наследника, сын покойного господина Нерадова, Дмитрий Николаевич. Хотя отношения Дмитрия Николаевича к его отцу всегда оставляли желать лучшего, но все-таки он рассчитывал, что получит хотя половину наследства. А деньги Дмитрию Николаевичу, как вы сами изволите знать, при его долгах и при его широком образе жизни, всегда крайне нужны. Это – первое обстоятельство. В нем, как вы изволите видеть, пока еще нет ничего угрожающего. Затем позвольте вам напомнить, что летом минувшего года вы с Гришей были приглашены в имение достопочтенной супруги Дмитрия Николаевича, но почему-то отклонили это приглашение. Причиной этого было, насколько мне известно, полученное тогда вами анонимное письмо предостерегающего характера.
Алексей Григорьевич резко прервал его вопросом:
– Уж не вы ли писали это письмо?
Кундик-Разноходский немедленно и с величайшей охотой согласился:
– Я-с. Единственно только из человеколюбия, не имея в виду никаких корыстных мотивов. Вы были в тот раз благоразумны и вняли предостерегающему вас голосу.
– Вы ошибаетесь, – возразил Алексей Григорьевич, – и без вашего письма я не имел намерения ни сам туда ехать, ни Гришу посылать.
– Смею спросить, почему? – спросил Кундик-Разноходский, нагло ухмыляясь.
Алексей Григорьевич улыбнулся и сказал:
– Вы слишком любопытны.
– Извините, – сказал Кундик-Разноходский, – любопытство есть черта, свойственная моей профессии и даже для нее необходимая.
– Довольно неприятная черта, – сказал Алексей Григорьевич.
Кундик-Разноходский отвечал с наглой ужимкой:
– Что делать! Тем живем. Так как вы изволили разрешить мне говорить с вами откровенно, то, принимая во внимание некоторые признаки, я так и заключил, извините, что вы отклонили это приглашение вследствие того, что система воспитания детей Дмитрия Николаевича вами не одобряется, ибо вашего Гришу вы воспитываете в трогательной близости к природе и в простоте и внушаете ему идеи демократические, – только потому, а отнюдь не вследствие опасения, что катание на лодке или купание в речке может окончиться катастрофой.
– Какой вздор! – сказал Алексей Григорьевич.
Но эти его слова не звучали убежденно.
– Из подслушанных разговоров, – возразил Кундик-Разноходский, – одно из наиболее щедро оплаченных мною сообщений.
Алексей Григорьевич насмешливо спросил:
– А не даром ли вы потратили ваши деньги?
Кундик-Разноходский возразил хвастливо:
– Ну, нет-с, извините, имею нюх, натаскан в такого рода делах. Прислуга, вообще, любит подслушивать и не всегда умеет хранить господские секреты, хотя бы и криминального свойства. Однако перехожу к третьему обстоятельству. Дмитрий Николаевич обладает натурой увлекающейся и наружностью обольстительной для женщин. Если бы, например, случилось, что достопочтенная, хотя и юная воспитательница сынка вашего Гриши, Елена Сергеевна, благосклонно отнеслась к ласковым словам Дмитрия Николаевича, то в этом не было бы ровно ничего удивительного. Может быть, извините, их сближение уже и началось. Хотя и вы очень доверяете этой молодой особе, приставленной вами к вашему единственному сыну, но если бы вам были известны некоторые обстоятельства или, так сказать, передачи вещей и денег, то, быть может, в ваше сердце закрались бы некоторые опасения.
– Кажется, – сказал Алексей Григорьевич, – все это – ваши фантазии. Елена Сергеевна – девушка скромная, честная, и напрасно вы позволяете себе все эти намеки. Вообще, как я вижу, вы сообщаете мне вещи, мне хорошо известные и совершенно обычные, хотя и прискорбные, и прибавляете к ним ваши собственные измышления.
– Пожалуйста, подождите, – сказал Кундик-Разноходский, – что вы скажете, если я перейду к таким предсказаниям, которые осуществятся в ближайшем будущем? И даже именно сегодня вечером? Известно ли вам, что Дмитрий Николаевич вчера приехал в здешнюю столицу?
– Нет, я этого не знал, – сказал Алексей Григорьевич.
– Дмитрий Николаевич скоро пожалует к вам, – говорил Кундик-Разноходский. – Вчера же Дмитрий Николаевич занимался покупками. Между прочим, было им куплено весьма большое количество очень тонких иголок. А вторая покупка показывает нежную заботливость Дмитрия Николаевича о его любимом племяннике Грише, – коробка конфет, тех самых, которые Гриша так любит, – тертые каштаны, в очень изящной коробочке.
Кундик-Разноходский замолчал. Он смотрел на Алексея Григорьевича с весьма значительным выражением лица. Алексей Григорьевич досадливо спросил:
– Что же из того?
– Не изволите усматривать тесной связи между этими двумя покупками? – спросил Кундик-Разноходский.
– Вижу, что вы намекаете на что-то скверное, – отвечал Алексей Григорьевич, – но на что именно, не понимаю, и при чем тут тонкие иголки, не вижу.
– Плагиат, – сказал Кундик-Разноходский, хихикая, – заимствование из рассказа знаменитого заграничного писателя. Я как раз на днях этот рассказ читал с большим удовольствием.
– И внушали кому-то повторить его в России? – холодно спросил Алексей Григорьевич.
Кундик-Разноходский с достоинством возразил:
– Провокацией не занимаюсь.
Но видно было, что он не обиделся. А по его легкому замешательству Алексей Григорьевич заключил, что его случайная догадка близка к истине. В самом деле, было подозрительно, что этот человек так отчетливо знает, чем именно занимался сегодня Дмитрий Николаевич.
XIII
Кундик-Разноходский продолжал:
– Преступники, извините, не всегда бывают достаточно изобретательны. Люди благонамеренные не напрасно жалуются на современную беллетристику, ибо она снабжает преступные элементы населения адскими замыслами и весьма, до тонкости разработанными преступными планами. Сочинители люди остроумные: они изобретают, а преступникам остается только применять. В заключение расскажу вам еще два факта: сегодня, в одиннадцать часов утра, в кофейне под Пассажем, Дмитрий Николаевич имел свидание с Еленой Сергеевной. Второе, – как вы думаете, чем изволил заниматься Дмитрий Николаевич у себя в номере гостиницы?
– Какое же мне до этого дело! – ответил Алексей Григорьевич.
Кундик-Разноходский возразил ухмыляясь:
– Ну, не скажите! Дмитрий Николаевич изволил отламывать кончики иголок. Тех самых, весьма тонких иголочек, которые были им вчера куплены. Вы скажете, что иголка без острия никуда не годится? Совершенно верно. Дмитрий Николаевич иголками и не интересуется. Все его внимание обращено на отломанные кончики. Вот эти-то кончики тщательно собраны и, смею думать, пошли в дело.
– Что же все это значит? – спросил Алексей Григорьевич.
Кундик-Разноходский ухмыльнулся, пожал плечами, развел руками, помолчал немного и продолжал:
– Уже совсем в заключение позволю себе обратить ваше внимание еще вот на что: если коробка с тертыми каштанами будет принесена при вас, то вы, осмотрев ее внимательно, может быть, и сами заметите, что она завернута и завязана не совсем так, как это делают искусные пальчики опытных магазинных барышень. Если же ее и не при вас принесут, то, смею рассчитывать, вы сделаете распоряжение, чтобы ее до вашего прихода не трогали.
Алексей Григорьевич смотрел на Кундик-Разноходского и чувствовал в себе с каждой минутой возрастающий страх. Ему хотелось думать, что все эти россказни – вздор, придуманный, чтобы оправдать получение ста рублей. Но преступление имеет свою неотразимую логику и свою мрачную убедительность. Алексей Григорьевич достаточно знал людей, чтобы никому из них не верить, – и потому теперь он готов был верить Кундик-Разноходскому. Да и были основания.
Дмитрий Николаевич Нерадов и его жена всегда были неприятны и даже немного противны Алексею Григорьевичу. Они принадлежали к числу тех жалких людей, вся жизнь которых – внешняя и сводится почти к механическому усвоению и повторению того, что делают другие люди их круга. Но так как среди этих других всегда бывает несколько человек очень богатых, сравнительно с другими, то вся жизнь людей, подобных Дмитрию Нерадову и его жене, наполняется мучительными стараниями делать то, что не по средствам, и томительными поисками денег, которых всегда недостает.
Когда Дмитрий Николаевич женился на дочери разорившегося титулованного предводителя дворянства, отец выделил для него большую часть своего имущества, намереваясь остальное оставить дочери. Широкий образ жизни, неудачные аферы и проигрыши скоро заставили Дмитрия Николаевича запутаться в долгах. Он требовал у отца денег, отец не давал. Дело дошло до открытой ссоры.
Потом Дмитрий Николаевич постарался помириться с отцом. Он употреблял все средства, какие только мог придумать, чтобы показать себя дельным и деловым человеком. Входил в компании с дельцами. В качестве гласного городской думы в одном губернском городе вникал в городское хозяйство, хлопотал, суетился, произносил искусные речи, собирал совещания избирателей и гласных и добился того, что его избрали городским головой, не столько за его деловитость, сколько в чаянии благ для города от его связей. В должности городского головы Дмитрий Николаевич принялся осуществлять грандиозные планы переустройства города на европейский лад.
Отец стал относиться к нему как будто благосклоннее. Говорил ему с тонкой усмешкой:
– Да ты у меня большой делец. Отцовское прожил, свое наживешь.
Дмитрий Николаевич уже надеялся, что отец оставит ему что-нибудь. Эти надежды были обмануты. Дмитрий Николаевич не умел скрыть своего раздражения. А потом вдруг словно переменился. Стал необычайно ласков с Алексеем Григорьевичем и с Гришей. И даже говаривал:
– С богатым наследником нашему брату, разорившемуся помещику, ссориться не приходится.
Эта перемена теперь казалась Алексею Григорьевичу подозрительной.
XIV
Кундик-Разноходский, помолчавши, заговорил опять:
– Вот и все, что я имел сообщить вам предварительно. Хотя мои сообщения и не подтверждаются документами, – за исключением имеющей быть подаренной Грише коробки, – но все-таки вы изволили убедиться, что стоимость этих сведений значительно превышает полученный мной, выражаясь литературно, аванс. Компенсацию надеюсь получить при передаче вам документов чрезвычайной важности.
Алексей Григорьевич спросил упавшим голосом:
– Какие документы?
И сам, по неверному звуку своего голоса, он различил в себе это, столь частое у него, томительное состояние упадка духа, странного равнодушия, бездеятельного безволия. Он повторил погромче свой вопрос.
Кундик-Разноходский отвечал:
– Краткая, но весьма выразительная переписка, в которой, кроме уже упомянутых в нашем разговоре лиц, участвует лицо, о котором я сегодня не решился вам сказать. Когда прикажете принести эти документы?
– А сколько вы хотите за них получить? – спросил Алексей Григорьевич каким-то странно равнодушным голосом.
Он сам знал, что спрашивает об этом так только, для формы, но что заплатит столько, сколько спросит этот противный, страшный человек. Страшный своим знанием.
Кундик-Разноходский отвечал развязно:
– В цене сойдемся.
– Однако сколько же? – так же спокойно допрашивал Алексей Григорьевич.
Если бы Кундик-Разноходский был очень тонкий психолог, то он бы понял, что может получить очень много. Но это состояние холодного безволия, в которое слова его повергли Алексея Григорьевича, показалось ему признаком того, что Алексей Григорьевич не очень ему верит, что он мало взволнован его сообщением и что он склонен торговаться. И Кундик-Разноходский уже стал досадовать на себя, что за эти сто рублей так много рассказал. Пожалуй, теперь Алексей Григорьевич подумает, что сможет обойтись и без дальнейших сообщений.
Поэтому голос Кундик-Разноходского звучал не совсем уверенно, когда он, наклоняясь в своем кресле, внимательно вглядываясь в лицо Алексея Григорьевича, сказал:
– Тысяча рублей не покажется вам много?
Алексей Григорьевич спокойно сказал:
– Да, это – очень много, но если в ваших документах есть что-нибудь интересное, то я вам уплачу эти деньги.
Кундик-Разноходский подумал, что опять ошибся и что спросил мало. Но в это время Алексей Григорьевич решительно и быстро встал и спросил:
– Когда вы мне принесете ваши документы?
– Если позволите, – сказал Кундик-Разноходский, – завтра в это же время.
Разговор кончился.
XV
Алексей Григорьевич остался один. Он чувствовал в себе какую-то странную растерянность, томительное замешательство. Прошелся несколько раз по темно-синему сукну, заглушавшему звук его легких, лакированных, с невысокими каблуками, ботинок. Подошел к камину, поглядел на себя в зеркало.
Перед ним была высокая, стройная фигура очень моложавого человека, которому на вид можно было дать лет тридцать пять, не более. В темных волосах, коротко подстриженных, ни одного седого волоска. На лице, теперь побледневшем от волнения, ни одной морщины. Глаза ясны и свежи, точно и не было бессонных ночей, скучных веселостей и одиноких, но милых печалей.
Алексей Григорьевич опять сел на свое любимое место, в привычном углу удобного, обтянутого мягкой темно-синей кожей, дивана, машинально взял в руки ту же книгу, но не читал. Он задумался о привычном.
Как всегда в значительные минуты жизни, вспомнилась жена, милая Шурочка. Расплавленным золотом опять упали в душу все те же ее два слова, – тяжело и больно упали:
– Я умираю.
Потом его мысль пробегала длинный ряд этих лет после Шурочкиной смерти, и совокупность их представлялась теперь Алексею Григорьевичу каким-то обширным, холодным, пустынным покоем, в котором, подобный ряду бледных призраков, проходит скучный ряд ненужных событий, и у четырех углов этого покоя видны четыре великие духа, господствующие над его жизнью. Черты их сначала были неопределенны и туманны, а теперь все яснее с каждым днем понимал Алексей Григорьевич их взаимную связь и характер их власти над жизнью.
Первый лик – призрак отошедшей от этой жизни и потому оставшейся навеки живой, неизменно властительной, – лик его жены. Она была подобна первой жене первого человека, полуночной, лунной Лилит, той, которую неразумные боятся.
Кто-то злой и порочный, кто-то из потомков страстной, земной Евы, придумал сказать про нежную Лилит, что она – злая и порочная, что она – первая колдунья и мать всех злых чародеек и ведьм. Услада горьких одиночеств, щедрая подательница нежных мечтаний, сладчайшая утешительница Лилит! У тебя есть чары и тайны, но очарования твои благи и тайны твои святы.
Подобная Лилит, покойная Шурочка всегда предстояла душе Алексея Григорьевича, никогда не докучая своим внешним присутствием в этом предметном мире. Переставшая быть предметом среди предметов, уже ничего для себя не желающая, не имеющая ни в чем, даже забывчивой совести не посылающая нежных укоров, вот в этом самом своем отречении от жизни хранила она такую дивную власть, преодолеть которую не может никакая земная сила.
В первые годы Алексею Григорьевичу казалось, что это обаяние покойной Шурочки – нечто личное, только ему свойственное, принадлежащее исключительно силе его любви. Он думал, что, может быть, никто на земле, переживший любимого, не любил почившего так. Он знал, что есть люди, которые умирают, не перенеся смерти любимого человека. И в первые годы как-то странно удивляло его, отчего после Шурочкиной смерти он не застрелился.
Но шли годы, и любовь его к покойной Шурочке не угасала, и если не возрастала, то потому только, что она была любовью истинной и потому безмерной, такой любовью, которая не может знать ни умалений, ни возрастаний. Это была любовь, неизменно господствующая над жизнью и над смертью.
Никаких внешних знаков не требовала эта любовь, – но Алексей Григорьевич хранил все, что осталось от Шурочки, и порядки, ею в доме заведенные, оставались без всякой перемены. Даже то, что прежде не нравилось Алексею Григорьевичу, против чего он спорил с Шурочкой, теперь делалось так, как она хотела. Даже цвета и рисунки обивки на мебели, портьер и обоев никогда не менялись. Если же надобно было переменить прислугу, то выбиралась такая, которая была как можно больше похожа на бывшую при Шурочке.
В последние годы стал думать Алексей Григорьевич, что отошедшие от жизни владычествуют не только в его доме. Вся жизнь всего человечества строится так, как ее когда-то придумали строить те, кого уже нет. И что хорошо, и что худо, – и что прекрасно, и что безобразно, – все это придумали они, которых увенчала смерть и торжественный сонм которых царствует над живыми. Они придумали для нас, как нам жить, как нам думать, и самый мир мы видим только их глазами. Из нестройного хаоса смутно ощущаемых энергий они по произволу своему выделили признаки, расположили их в стройные системы, воззвали к жизни носителей этих признаков и дали им имена. Набросив личины предметов на каждое пересечение энергий, они, великие перекрестки мировых токов, осознали себя отдельными существами двойственной природы, покорными причинам и в то же время творцами своих целей. Обманув самих себя произволом своих дивных личин, о названных ими предметах они напряженными трудами мысли создали понятия, воздвигли мир идей, сотворили философию, религию, искусство, науку. С тех путей, которые они для нас начертали, нам не сойти вовеки, как бы ни были произвольны и случайны эти унаследованные нами пути.
XVI
Во втором лике было что-то странно соблазнительное, нечистое, злое. Каким-то вечным соблазном дышало страстное лицо, чувственные улыбались губы, призывные глаза, казалось, звали к чему-то радостному, тайному. Образ женщины, еще неопределенный, смутный, волновал, требовал чего-то. С этим ликом соединялись воспоминания о ночах, проведенных скучно и томно в тех местах, где люди веселятся, где женщины любезны и нарядны, где светит много огней, где льется вино.
Случайных встреч было много в эти годы, – увлекала темная страстность. А ныне, над холодным равнодушием, стал подниматься определенный образ одной женщины, которую Алексей Григорьевич недавно встретил и которую, как ему казалось, он начинал любить.
Несколько месяцев тому назад он встретился с ней на вечере в знакомом доме. Там были танцы, ужин и картежная игра. Сидели до шести часов утра.
Хозяйка дома любила привлекать в свой салон художников, артистов и писателей. Следуя моде того года, одна из ее дочерей, худенькая, стройная девица, разучила несколько танцев в стиле Айседоры Дункан. Теперь она показывала эти танцы гостям.
Барышня танцевала не очень искусно, но вежливые гости, конечно, шумно рукоплескали ей. Дамы и барышни окружили ее, благодарили очень нежно и заставили несколько раз повторить, пока барышня не устала совсем.
Молодая дама, сидевшая рядом с Алексеем Григорьевичем, тихо сказала ему:
– Не правда ли, как она мила?
Алексей Григорьевич видел эту даму сегодня в первый раз. Что-то в ней привлекало его, почему, еще он и сам не знал. Может быть, это было выражение жадной радости жизни, спокойной веселости, разлитой во всем ее существе. Как противоположность тихим внушениям покойной Шурочки, она была для Алексея Григорьевича полна такого соблазна, какого еще он не испытывал, потому, может быть, что еще ни в ком доныне он не встречал такой полноты радостного жизнеощущения. Может быть, она была немного более полна, чем бы следовало, но это скрадывалось изысканной неторопливостью ее движений и рассчитанной простотой ее туалета.
Напрягая память, чтобы вспомнить имя своей собеседницы, Алексей Григорьевич сказал ей с привычной своей откровенностью:
– Она очень мила, но танцы могли бы быть исполнены лучше. Впрочем, приятно и то, что эта проповедь свободной красоты находит отклик и здесь.
И, вспомнив наконец имя этой дамы, он сказал:
– Вам, Татьяна Павловна, не кажется ли, что многие из присутствующих здесь выиграли бы в таком костюме?
– Нет, – сказала Татьяна Павловна, – я этого не нахожу. Нет, совсем напротив: то, что мы обыкновенно носим, так хорошо скрывает все многочисленные погрешности нашего тела. Чтобы смело открыть свое тело, надобно, чтобы это тело было прекрасно, как у древних. А у людей нашего времени тела очень часто безобразные, слабые, вялые, с искаженными формами.
Алексею Григорьевичу было известно это рассуждение; он слышал его часто, и оно всегда его досадовало. И теперь ему особенно досадно было слушать эти слова от этой женщины, тело которой было, по-видимому, так красиво, что мимо воли вызывало желание видеть его нагим. Он сказал:
– Так думают многие, но, как почти всегда, большинство бывает неправо.
Татьяна Павловна спросила улыбаясь:
– А кто же прав?
Алексей Григорьевич отвечал с такой же улыбкой:
– Прав я, а я думаю, что и у наших современников тела прекраснее лиц и даже менее поддаются влиянию старости, болезней, слабости.
Татьяна Павловна улыбаясь ответила:
– Все ж таки, мне бы не хотелось созерцать тела этих почтенных особ.
Она легким движением головы показала тот уголок гостиной, где в креслах мирно дремали два толстяка.
– Правда, – продолжала она, – прекрасное тело прекраснее всего, но непрекрасное надо скрывать, чтобы не оскорблять хорошего вкуса.
– Прекрасных лиц гораздо меньше, чем стройных тел, – возразил Алексей Григорьевич, – и если бы мы хотели быть последовательными и в самом деле руководились бы эстетическими соображениями, то нам пришлось бы носить маски.
Татьяна Павловна тихонько смеялась, прикрывая рот полуразвернутым белым кружевным веером. Она сказала:
– Это было бы забавно. И интересно. Постоянный маскарад. Постоянно раздражаемое любопытство.
– Этот маскарад скоро утомил бы, – сказал Алексей Григорьевич, – как утомляет всякая неискренность. Так и нас уже утомила неискренность и условность нашей жизни. Поэтому тем из нас, кто более чуток, уже давно хочется жизнь изменить. Уж очень скучно жить так, как мы живем.
– Маски могли бы носить не все, – возразила Татьяна Павловна. – И бедные дурнушки были бы в большом выигрыше.
– Пожалуй, – отвечал Алексей Григорьевич. – А так как вокруг нас много безобразных предметов, то уж тогда и на них пришлось бы надевать покровы и маски, чехлы и футляры. Представьте себе вид такого закутанного города.
Татьяна Павловна воскликнула со смехом:
– Какой ужас! Дома, затянутые серым холстом или кисеей, мебель в коленкоровых чехлах, столбы электрических фонарей в деревянных футлярах. Все закрыто, все обманчиво. Нет, это было бы слишком невесело.
– Но зато последовательно, – возразил Алексей Григорьевич.
Татьяна Павловна слегка склонила голову, помолчала немного и, медленно раскрывая и закрывая опущенной на колени нежной, обнаженной рукой свой легкий, белый на бледно-розовом платье веер, сказала задумчиво:
– Это – внешность, форма. Что носить, во что одеваться, это – только вопрос моды. Но мы и в самом деле ведем очень искусственный образ жизни. Мы делаем все, чтобы спорить с природой и со здоровым смыслом. И потому мы стали слабыми и неискренними. Правды мы не говорим и сами слушать ее не хотим. А если бы мы стали говорить правду, – вот странные бы произошли события!
Кто-то подошел, разговор прервался.
XVII
За ужином Алексею Григорьевичу пришлось сидеть между двумя мало знакомыми ему барышнями. Хозяйка думала, что его надобно посадить с непристроенными девицами: все в том обществе, где вращался Алексей Григорьевич, находили, что ему следует во второй раз жениться, не потому, что это нужно для него самого, а потому, что барышням надобно выходить замуж. Матери смотрели на Алексея Григорьевича, как на хорошего жениха, а девицам нравилась его спокойная, внушительная наружность, его любезные манеры, его экипажи и лошади.
Татьяна Павловна сидела далеко от Алексея Григорьевича. Ему стало скучно. Он с некоторым усилием скрывал это ощущение скуки и без обычного оживления поддерживал совсем не интересный для него разговор. К счастью, обе барышни были достаточно болтливы.
В начале седьмого часа утра Алексей Григорьевич вышел на улицу. Была поздняя осень, моросил мелкий дождь, но все-таки Алексей Григорьевич захотел пройти пешком и отпустил экипаж, за полчаса до того, по его просьбе, вызванный из дому швейцаром по телефону.
Алексей Григорьевич шел долго по пустым, тихим улицам. Уже начиналось раннее уличное движение, кто-то шел на работу, где-то далеко гудел фабричный гудок, где-то близко слышался медленный звон раннего церковного колокола.
В мелких выбоинах мокрого тротуара застаивались маленькие осенние лужицы. Воздух был сер и сыр. Небо, которого так мало было видно над простором пасмурной улицы, было затянуто скучной, серой пеленой. За легкой, мокрой чугунной решеткой и за влажными травами и кустиками цветника серой, стройной громадой поднимались колонны и купол собора.
Алексей Григорьевич свернул с тротуара, прошел мимо цветника, поднялся по широким ступеням лестницы, нашел скрытую среди колонн в деревянном барабане дверь, такую непропорционально маленькую сравнительно с громадой здания, – настоящий вход в храм держался всегда закрытым, кроме торжественных случаев, – и вошел в церковь, расстегивая свое отсыревшее под моросившим дождиком пальто.
Громадное пространство собора казалось совсем пустым. Только кое-где у высоких, темных колонн виднелось несколько старушек, пришедших к этой ранней службе. В правом приделе священник торопливо, негромко совершал литургию. На клиросе стоял, читая быстро и невнятно, один дьячок. Несколько восковых свечек и лампад слабо мерцали перед местными иконами и над средними дверями алтаря. Равнодушные, сонные сторожа мели пол, и иногда гулко слышался шум их разговора о каких-то мелочах.
Алексей Григорьевич давно уже не ходил в церковь, и давно уже не молился дома, и не испытывал никаких молитвенных волнений. И теперь он сам не знал, зачем он пришел сюда, в этот величественный храм древнего, прекрасного культа, в это здание, где все было ему чуждо и непонятно.
Правда, было что-то умилительное в тихом голосе священника и в смиренной молитве старух, – что-то, будившее старые воспоминания, отголоски детских лет. Но было досадно, зачем шуршат сухие метлы в руках сторожей, зачем за прилавком против алтаря разложены книжки и сидит готовая что-то продать просвирня с лицом скучающей попадьи из образованных.
Алексею Григорьевичу припомнилась благоговейная тишина парижских католических храмов, ряды соломенных низеньких стульев, робкий шепот исповедален. Он подумал, что там во время мессы пол мести не станут.
Он прошел в самый дальний от входа угол и там стоял долго в каком-то странном недоумении. Сначала мелочи развлекали его, – бормотание молящегося на коленях седого приказчика из соседнего рынка, – легкий топоток по плитам каблучков девочки-подростка, пришедшей вместе со своей бабушкой, – уютное, забавное ощущение испаряющейся быстро из его одежды уличной влаги. Потом внимание его углубилось в свое, тайное, заветное.
Алексею Григорьевичу казалось, что та неведомая сила, которая заставила его идти по влажной от дождя улице, которая привела его сюда, в это место молитвы, чего-то хочет от него или что-то хочет открыть ему. Он прислонился к стене, закрыл глаза и погрузился в задумчивость, которая вскоре перешла в легкую дремоту.
Лицо его Шурочки стояло перед ним. Ее грустная улыбка опять растрогала и взволновала его сердце. Губы ее легко двигались, слышались ее слова. Он не различал ясно слов, но знал, что это – слова о любви.
Потом другое лицо встало перед ним, лицо совсем иной красоты, неотразимо прельщающее. Но тогда как первое лицо, лицо его жены, было близким и единственно дорогим на свете, это новое лицо, веселый облик вновь явившейся ему женщины, казалось далеким и чужим, и все-таки неодолимо влекущим к чему-то тревожному. Улыбка ее была веселая, и глаза искрились смехом, – это было лицо Татьяны Павловны.
XVIII
Обедня кончилась. Послышался легкий шум шагов. Алексей Григорьевич очнулся от своей дремы и вслед за другими вышел из собора.
Что же это было с ним там, в полусумраке тихого храма? Зачем эти два лица предстали ему одно после другого? И о чем говорила ему Шурочка? И чему смеялась та, другая? Или это была только дремотная греза, коварный обман лукавого духа, таящегося иногда и вблизи святынь? И не сам ли он, войдя в храм, как входят в другие здания, не оградив себя спасающим крестом, привел с собой лукавого?
Алексей Григорьевич вдруг почувствовал, что он устал, что ему хочется спать. Захотелось поскорей вернуться домой. Он взял первого попавшегося извозчика.
Дома, когда он лег в постель и уже засыпал, перед ним опять встало весело смеющееся лицо Татьяны Павловны. Это видение было ярко, почти телесно, – не столько воспоминание, сколько галлюцинация. Оно смеялось все веселее. Глаза засверкали зеленым блеском, их зрачки сузились, и вдруг все это лицо стало странно изменяться. Лицо прекрасного зверя, веселой, хищной кошки явилось на одно мгновение, раскрылся жадный зев, и вдруг нахлынула тьма, в которой ярко сверкнули узкие, зеленые зрачки и погасли.
Алексей Григорьевич заснул.
XIX
На другой день Алексей Григорьевич сделал визит Татьяне Павловне. Потом они стали часто встречаться, – на вечерах и на обедах у знакомых, в театрах, в концертах, в изысканных кабачках, у нее.
Они сближались. Алексею Григорьевичу казалось, что между ним и Татьяной Павловной есть много общего, – одинаковые вкусы, взгляды, требования от жизни. Если же в чем они не сходились, Татьяна Павловна быстро усваивала его мнение. И порой даже слишком быстро. Словно она торопилась сказать:
– Да, Алексей Григорьевич, вы меня совершенно убедили в этом.
– Да, теперь я вижу, что ошиблась.
– Да, вы и в этом совершенно правы.
– Как я сама не понимала этого раньше!
– Я вам так благодарна, Алексей Григорьевич, – вы открыли мне глаза.
В первое время Алексей Григорьевич не очень доверял искренности этих поспешных обращений. Они казались ему внушенными чрезмерной любезностью. Потом, когда они познакомились поближе, эта недоверчивость исчезла.
И стало забываться понемногу беспокоившее в первое время странное явление в полусне, это превращение человеческого лица в лик зверя.
XX
Лик зверя, угнездившегося в городах, был третьим образом, господствующим в пустынной, просторной храмине его жизни. «Из-под таинственной, холодной полумаски», носимой светом, все чаще сквозил этот отвратительный лик. В разговорах, в поступках, в намерениях людей все чаще сказывалось его смрадное влияние.
Когда человек в изысканной одежде, похожий на ком жира, в дорогом ресторане, за дорогим ужином, за серебряной вазой со льдом, откуда виднелось горлышко бутылки дорогого вина, говорил о тех, кто уже безоружны, кто уже ввергнуты в темницу, кто уже осуждены на казнь:
– Так им и надо!
Алексею Григорьевичу казалось, что человека здесь нет, что человеческое сердце здесь умерло и что в оболочке человека диким ревом ревет дикий зверь.
Когда Алексей Григорьевич слышал слова «погром, национальная политика, черта оседлости, ставка на сильных», ему казалось, что он слышит все тот же, в человеческие формы облаченный, нечленораздельный, звериный вопль.
Эти ужасные слова, эти звериные вопли не оставались только звуками, оскверняющими изначально чистый воздух земного бытия. Они носились над русскими просторами, как действительные зовы, и воплощались в деяния, постыднее и ужаснее которых мало знает седая история. Дыханием Зверя была отравлена вся жизнь, и потому так умножилось число самоубийств: юные и чистые не могли вынести неистовых деяний Зверя, не могли вытерпеть смрада, исходящего от него. Не хотели задыхаться в этом смраде и шли на вольную смерть.
Исчислено и на таблице кривыми линиями начерчено было людьми науки число вольных смертей, но не Зверю в укор. Зверь скалил свои белые, страшные зубы, хохотал и говорил:
– Не моя вина. Виновен тот, кто говорит о смерти и этим соблазняет к ней. Сожгите книгу, замкните уста, – сживутся со мной дети.
И приспешники Зверя, прикрывшись личинами свободомыслия, правдивости и научного исследования, с великой злобой повторяли его нечестивые слова, проклинали Слово и влекли Его на Голгофу.
Ощущение близости Зверя в последнее время никогда не покидало Алексея Григорьевича. Если у Татьяны Павловны он его не чувствовал, то это даже иногда удивляло его. Но ему иногда становилось страшно думать о том, каким обществом она бывает окружена.
Когда она с любезной улыбкой слушала пошлую болтовню какого-нибудь посетителя ее гостиной, Алексею Григорьевичу казалось, что зрачки ее глаз суживаются и загораются зеленым блеском.
XXI
Светел и радостен был четвертый лик, – образ ребенка. В этом образе ребенка была непосредственная радость жизни, неложное оправдание всему, что было, родник великих надежд и неистощенных возможностей. Уберечь бы только его от разевающего пасть Зверя!
Алексею Григорьевичу представлялось стремительное, облелеянное солнцем, обнаженное тело его Гриши, одинаково прекрасное и в игре, и в труде, и в радостном делании, и в суровом претерпении. Он радовался, что Гриша растет не так, как он сам рос, и что в нем восстановлен тот природный человек, о котором мечтал ряд поколений, уставших от нашей европейской, точнее сказать, парижской цивилизации, милой, но к упадку клонящейся.
Дружба с вечными стихиями, постоянное единение детского тела с милой матерью, сырой землей, нежной и жестокой, с вечно подвижными струями холодных и ласковых вод, с легким воздухом земной жизни, с неистощимым пылом ярого солнца, – это радостное и суровое единение, в которое он поставил Гришу, было источником такой бодрой, здоровой жизни, что душа Алексея Григорьевича каждый раз при созерцании этого образа наполнялась радостью, похожей на первоначальную детскую веселость.
Вначале, когда еще Гриша был мал, Алексей Григорьевич был очень неуверен в себе и в своих мыслях об его воспитании. Он читал много книг, много беседовал с людьми, занимающимися теорией или практикой воспитания, – и все эти чтения и разговоры только усиливали в нем чувства неуверенности и беспокойства. Чем более он узнавал, что такое человек, как предмет воспитания, и какие педагогические эксперименты над ним в разные времена проделывались, тем более казалось ему, что в этом деле никто не знает наверное, что именно надобно делать.
Иногда даже казалось Алексею Григорьевичу, что следует бросить все книги, пренебречь указаниями всех детоведов и детоводов и поступать так, как поступали до него неисчислимые ряды поколений, воспитавшие своих детей или с мудрой осторожностью горожанина, удаляющего опасности от нежного детства, или с суровой, но не менее мудрой простотой деревенского жителя, бросающего нежное детство в широкий мир, благосклонный для сильных и счастливых и беспощадно истребляющий все слабое и неспособное радоваться жизни.
Но время шло, Гриша вырастал, и все увереннее и радостнее становился Алексей Григорьевич, потому что он видел, что избранный им путь прав, – путь, на котором сочетаются мудрая забота и суровая простота, путь, на котором постоянно воздвигаемые трудности рождают гордое чувство победы. Этот путь правого воспитания определился для Алексея Григорьевича сочетанием четырех начал: свободы, дисциплины, гимнастики и техники. Дух, освобожденный от власти общеобязательных норм, сам восставляет над собой догмы, которые служат ему, как берега текущим водам, оберегая их цельность и стремление их к цели, ибо освобождение возможно только на путях целесообразностей, – и в этом союз свободы и дисциплины. Тело, развившее все свои способности, дает человеческому духу возможность господствовать над миром посредством машин и выработанных методов, – и в этом союз гимнастики и техники. Все же четыре вместе образуют современного человека.
XXII
«Что же, однако, теперь делать?» – подумал Алексей Григорьевич, припомнив вдруг весь сегодняшний разговор с Кундик-Разноходским.
Елена Сергеевна, Гришина воспитательница, жила у него недавно, с весны. Она Алексею Григорьевичу нравилась, потому что аккуратно и старательно исполняла все то, что говорил ей Алексей Григорьевич. Ему было приятно, что она, по-видимому, совершенно искренно сочувствует его взглядам на воспитание, любит детей, не скучает говорить и заниматься с Гришей, во всем является для него не только воспитательницей, но и товарищем. Может быть, Алексею Григорьевичу и потому особенно была приятна эта скромная, миловидная девушка, что она была рекомендована ему Татьяной Павловной. Приятна была она и для Гриши.
Теперь Алексей Григорьевич припомнил, что за последний месяц он уже не так был доволен Еленой Сергеевной. Она стала очень рассеянной, беспокойной. Ее глаза иногда как-то странно избегали его взоров. В звуке ее голоса порой слышалось смущение. Алексей Григорьевич думал, что это происходит от того, что молодая девушка влюблена, и притом не очень счастливо.
Несколько недель тому назад Гришин дядя, Дмитрий Николаевич, приезжал в столицу из того города, где он был городским головою. Там уже стали осторожно поговаривать, что он запутался в делах, давно перестал различать свой карман от городской кассы и что затеянные им городские постройки и сами по себе для города убыточны, да и ведутся нечисто. Дмитрий Николаевич приезжал сюда с какими-то городскими ходатайствами. Он несколько раз заглядывал к Алексею Григорьевичу, был очень ласков с Гришей и чрезвычайно любезен с молодой гувернанткой.
Однажды, после ухода Дмитрия Николаевича, Алексей Григорьевич спросил Елену Сергеевну:
– Как вы находите этого моего родственника?
– Он – такой любезный, – отвечала Елена Сергеевна, – и разговорчивый.
Глаза ее радостно блестели, и щеки нежно зарумянились.
– А вы с ним раньше не встречались? – почему-то спросил Алексей Григорьевич.
Его очень удивило, что Елена Сергеевна при этом вопросе смутилась и покраснела. Он объяснил себе это тем, что она неравнодушна к Дмитрию Николаевичу. Пожалел бедную девушку, влюбившуюся в женатого и легкомысленного человека.
– Да, – сказала Елена Сергеевна, – я раза два встречалась с Дмитрием Николаевичем у Татьяны Павловны.
И это опять удивило Алексея Григорьевича. Он не знал, что Татьяна Павловна знакома с его родственником. Правда, он сейчас же сообразил, что в этом нет ничего удивительного и что, если Татьяна Павловна об этом не говорила, это было только случайно: просто, об этом не заходило разговора.
XXIII
На другой день после этого разговора с Еленой Сергеевной, возвращаясь домой с поздней вечерней прогулки, Алексей Григорьевич увидел, что окна гостиной в его квартире освещены. Значит, кто-то пришел и ждет его.
– Кто у меня? – спросил он швейцара.
Швейцар отвечал почтительно:
– Дмитрий Николаевич приехали. Уж с полчаса, как изволили подняться.
Алексей Григорьевич вошел в тесную, блестящую зеркалами клетку лифта. Он чувствовал в себе опять ту же досаду, которая всегда охватывала его перед встречами с Дмитрием Николаевичем. Он открыл дверь квартиры своим ключом и тихо вошел в переднюю. Ему хотелось сначала пройти к себе в кабинет, чтобы не сразу встретиться со своим родственником.
Из гостиной слышались веселые голоса и смех. Алексею Григорьевичу показалось даже, что он слышит звук поцелуя. Ему стало досадно. Он подумал, что надобно будет поговорить с Еленой Сергеевной. Но в гостиную он все же не пошел.
Проходя по темному коридору, Алексей Григорьевич заглянул в Гришину спальню. Там было темно. Слышалось ровное дыхание спящего мальчика. На невысокой железной кровати из-под отброшенного легкого покрывала смутно белелось нагое Гришино тело. Алексей Григорьевич постоял на пороге.
«Только тут свое, – подумал он, – а там чужие. И даже любимая женщина здесь, на этом пороге, останется чужой и не войдет в радость и в тайну этой кровной близости».
Было в душе его странное чувство отрешенности от всего мира. Казалось, что никто из людей не нужен, что лик Женщины обманчив, что он близок лику Зверя. Казалось, что только здесь, где тихо дышит спящий чистый ребенок, в жилах которого струится Шурочкина кровь, кровь отошедшей от мира, но вечно живой, только здесь, в этом интимном святилище, таится неложное откровение и необманчивая почивает надежда.
Алексей Григорьевич подошел к Гришиной кровати и провел рукой по Гришину смуглому телу. Под слегка похолодавшей в прохладном воздухе спальни кожей ощущалась горячая плоть и знойная кровь. Алексей Григорьевич прикрыл Гришу покрывалом. Гриша вытянулся, приоткрыл глаза, шепнул сонно:
– Папочка!
И заснул опять.
Алексей Григорьевич вошел в свой кабинет, не зажигая ламп. Свет электрического фонаря на улице бросал в окна с еще раздвинутыми синими занавесями полосы, похожие на блеск полной луны, и потому в комнате было почти светло, мечтательно и приятно. Алексей Григорьевич сел в угол своего дивана. Не хотелось ему выходить, и, может быть, он так бы и просидел здесь долго. Но вдруг голоса, смех и шум в гостиной вывели его из того состояния приятной задумчивости и мечтательности, в которое он погрузился.
Он вышел в гостиную.
XXIV
Алексею Григорьевичу показалось, что его неожиданное появление смутило и Дмитрия Николаевича, и Елену Сергеевну. Они как-то странно и поспешно отодвинулись один от другого в разные углы розовато-зеленого диванчика, на котором они сидели, весело и громко говоря о чем-то. Лицо Елены Сергеевны пылало. Глаза ее слишком сильно блестели. Над ее заалевшимся ухом билась прядь светло-русых волос.
Дмитрий Николаевич, с находчивостью светского человека, скорее Елены Сергеевны вышел из своего минутного замешательства. Он встал с дивана и быстро пошел навстречу Алексею Григорьевичу, округляющимся животом вперед, широко раскрывая руки, радостно улыбаясь. Его длинные усы были начернены и закручены узкими стрелками, слегка припухлые щеки были румяны, в глазах был маслянистый блеск, и все его приемы были фатоваты и слишком провинциальны.
На нем была серая визитка. В слишком пестром галстуке блестел большой бриллиант булавки. Пахло от него вином, шампунем и духами.
Дмитрий Николаевич весело заговорил:
– А я тебя заждался и уже хотел было уходить. Да вот, благодаря Елене Сергеевне, не поскучал. Поболтали с ней, позлословили.
Алексей Григорьевич спрашивал с чувством странной ему неловкости:
– Ну, как твои дела? Рассказывай, где был, что видел.
Дмитрий Николаевич с веселым хохотом отвечал:
– Дела – табак! Кажется, все мои старания исполнить пожелания моих достопочтенных сограждан успехом не увенчаются и придется мне возвращаться восвояси с носом. Да и сказать по правде, наши отцы города затеяли ужасную ерунду, и вполне понятно, что из этого ничего не выйдет.
Алексей Григорьевич с удивлением спросил:
– Да разве это – не твоя инициатива?
Дмитрий Николаевич хохотал, и было в его смехе что-то наглое и циничное.
– Между нами говоря, – сказал он, – все они – ужасные моветоны и дурачье непроходимое. До пяти сосчитать не сумеют. Если бы не я и не мои постройки, город до сих пор тонул бы в грязи и во мраке. Жаль только, что на хорошие дела нужны хорошие деньги, а доставать хорошие деньги трудненько, даже и при моих финансовых способностях и при моей изворотливости.
– Да ведь ваш город богат, – сказал Алексей Григорьевич.
Дмитрий Николаевич опять захохотал.
– До меня был богат, – развязно сказал он, – ну, а что касается меня, так я праздно лежащих богатств не выношу и стараюсь употребить их более или менее с толком. Не терплю я этой азиатчины, этих бухарских халатов. Я – европеец. Мне нужен широкий размах, я люблю создавать, строить и тратить. В кубышку откладывать – не мое дело. Капиталов в свете много, французский рантьер даст денег сколько хочешь и процент возьмет умеренный, – так отчего же не должны!
– А правду говорят, – спросил Алексей Григорьевич, – что ваше городское хозяйство сильно запуталось в последнее время?
– Совершенную правду, – с тем же циничным хохотом отвечал Дмитрий Николаевич.
Этот постоянный смех нагло откровенного хищника все более раздражал Алексея Григорьевича. Он поспешил перевести разговор на другие темы. Когда Дмитрий Николаевич уходил, показалось Алексею Григорьевичу, что он и Елена Сергеевна обменялись нежными взглядами. С тех пор и стал замечать в ней Алексей Григорьевич эту неприятную перемену.
После разговора с Кундик-Разноходским все это, казавшееся ему прежде вполне естественным, хотя и неприятным, стало тревожить его. А всего более тревожным было то, что в этом странном сплетении людей и отношений могла быть замешана каким-то непонятным образом и Татьяна Павловна. Конечно, если верны рассказы Кундика-Разноходского, то она окажется только слепым орудием темных замыслов Дмитрия Николаевича. Конечно, никакого участия в его планах она не могла принимать. Но все же тяжело думать, что людская злоба приблизилась и к этому светлому приюту, что дыхание Зверя проносится и над этой милой головой, что его гнойная пена может брызнуть и на эти очаровательно нежные руки.
XXV
Алексей Григорьевич позвонил и вошедшую на звонок Наташу спросил:
– Гриша дома?
– Дома, – отвечала Наташа, – сейчас Елена Сергеевна собираются идти с ним гулять.
– Попросите ко мне Елену Сергеевну, – сказал Алексей Григорьевич, – а Гриша пусть чем-нибудь пока займется.
Наташа ушла. Алексей Григорьевич не знал, что он может сказать Елене Сергеевне, о чем он может ее спросить. Но он чувствовал, что надобно что-то сделать, – и смутная тревога в его душе все возрастала. Он думал, что ход разговора сам приведет его к каким-нибудь заключениям, что лицо и глаза молодой девушки скажут больше ее слов.
Слегка запыхавшаяся и раскрасневшаяся, словно от возни, вошла Елена Сергеевна. Вглядевшись в ее миловидное лицо с ровно очерченными нетемными дугами бровей, Алексей Григорьевич вдруг подумал, что она доступна всяким влияниям. Как слушалась его, так легко готова слушаться других. Как охотно занималась вместе с Гришей гимнастикой и наравне с Гришей ходит дома и в деревне босиком, так охотно поднесет ребенку яд. Вечная исполнительница чужой воли!
Алексей Григорьевич смотрел на нее внимательно и пытливо. Ему показалось, что его пристальный взор смущает Елену Сергеевну. Она быстро сделала несколько шагов по кабинету и сказала:
– Вы желали меня видеть, Алексей Григорьевич? А я только что кончила урок с Гришей, и мы с ним уж собирались было одеваться для прогулки.
– Извините, я вас долго не задержу, – отвечал Алексей Григорьевич. – Пожалуйста, присядьте, мне надобно сказать вам, – спросить вас кое о чем.
– Пожалуйста, я слушаю, – сказала Елена Сергеевна. – Я пока заняла Гришу. Он у себя.
Глядя на Алексея Григорьевича с неискренним выражением человека, который боится, что ему могут задать неприятный воррос, Елена Сергеевна села в то же кресло, где перед этим сидел Кундик-Разноходский. И почему-то от этого сближения Алексей Григорьевич вдруг почувствовал опять жалость к этой девушке.
Может быть, она полюбила этого неискреннего, неразборчивого в средствах человека. Может быть, для него готова она даже и на преступление. Может быть, она в его руках является только слепым орудием и притворяется только пересиливая себя.
Или солгал все это Кундик-Разноходский? Но мало было надежды на то, что слова его – ложь.
Алексей Григорьевич заговорил негромко и осторожно:
– Извините меня, Елена Сергеевна, но я должен задать вам щекотливый вопрос. И делаю это я только потому, что для меня, в интересах Гриши, совершенно необходимо разъяснить некоторые обстоятельства. Скажите, пожалуйста, когда вы в последний раз видели Дмитрия Николаевича.
Елена Сергеевна, слегка краснея и, очевидно, волнуясь, сказала:
– Не помню. Право, не помню. Когда Дмитрий Николаевич приезжал к вам?
Алексей Григорьевич спросил:
– Вы знаете, что Дмитрий Николаевич со вчерашнего дня здесь, в городе?
Елена Сергеевна промолчала, пожала плечами, – может быть, волнение мешало ей говорить.
Алексей Григорьевич продолжал спрашивать:
– Сегодня утром вы его видели?
– Право, я не знаю, почему вы об этом спрашиваете, – нерешительно сказала Елена Сергеевна. – Мои встречи не касаются моей службы у вас. Это – мое частное дело. И, наконец, я имею право иметь свои секреты. Мне даже удивительно, что вы меня об этом спрашиваете.
Все это было странно, и никогда раньше Елена Сергеевна не говорила так, этим неприятным, не идущим воспитанной барышне тоном уличаемой в плутнях камеристки. Но ему нравилось то, что ей трудно солгать и что потому она не отрицает прямо сегодняшней встречи.
– Я бы не спрашивал вас, – сказал Алексей Григорьевич, – если бы дело не касалось, к сожалению, моего сына.
– Вы ставите мне в упрек мои поступки? – спросила Елена Сергеевна. – Но ведь вы не можете сказать, что я дурно влияю на Гришу. Я во всем точно следую вашим указаниям, и от меня Гриша не видит и не слышит ничего дурного и соблазнительного.
– Нет, – сказал Алексей Григорьевич, – я не об этом хочу с вами поговорить. Хотя мог бы и об этом. И даже, может быть, должен был бы поговорить с вами и об этом. Дмитрий Николаевич женат и имеет детей, но он увлекается женщинами и неспособен к длительным привязанностям. Мне давно следовало бы решительно предостеречь вас, как живущую в моем доме и, стало быть, под моей охраной молодую девушку, от возможного сближения с этим человеком. Это было бы и в ваших интересах, и в интересах того дела, которое вам в этом доме поручено.
Елена Сергеевна раскраснелась и не говорила ни слова. Алексей Григорьевич продолжал:
– Но сейчас меня интересует другое. Я говорю с вами, Елена Сергеевна, теперь только о Грише. Я боюсь, что вы разговаривали сегодня с Дмитрием Николаевичем, между прочим, и о Грише.
Елена Сергеевна в замешательстве, с притворным недоумением отвечала:
– Что ж такое! Разве нельзя разговаривать о Грише? Ведь ему от этого худо не станет!
– Может быть, и худо станет, – возразил Алексей Григорьевич. – Я бы очень хотел знать, что именно вы сегодня говорили с Дмитрием Николаевичем о Грише.
– Да ничего особенного, – отвечала Елена Сергеевна, – я даже не помню. Ну, о занятиях, об его здоровье, – не помню подробно.
Алексей Григорьевич молча смотрел на Елену Сергеевну. По ее возрастающему замешательству он видел, что она скрывает правду. И он решился сделать рискованный вопрос.
Твердым и решительным голосом, глядя прямо в глаза растерявшейся девушки, он спросил:
– Елена Сергеевна, что передал вам сегодня Дмитрий Николаевич? Отдайте мне это.
Елена Сергеевна спросила глухим шепотом:
– Откуда вы знаете?
Лицо ее странно и жалко побледнело, и глаза ее не могли оторваться от настойчивого взора черных глаз Алексея Григорьевича.
И уже не было в душе Алексея Григорьевича ни страха, ни жалости, ни сомнений. Даже мысли определенной никакой не было. Вся его жизнь, вся его воля сосредоточились в его глазах, – и они настойчиво требовали ответа.
Елена Сергеевна все более бледнела. Она встала, словно хотелось ей уйти дальше от этих настойчивых глаз, – схватилась рукой за спинку кресла, – и рука ее вздрагивала.
– Отдайте мне то, что вы получили от Дмитрия Николаевича, – опять сказал Алексей Григорьевич. – Это у вас? Принесите сейчас же сюда.
Елена Сергеевна низко опустила голову и медленно вышла из кабинета.
XXVI
Когда она ушла, Алексей Григорьевич почувствовал странную усталость. Он бессильно опустился в кресло и сидел, ни о чем не думая, как будто бы забыв о том, что сейчас было, и о том, чего он ждет. Лик Зверя встал перед ним: гнусная пасть звериная дымилась смрадно и омерзительно.
Потом вдруг Алексея Григорьевича поразила мысль, что Елена Сергеевна, опомнившись от первого потрясения и выйдя из-под власти его настойчивой воли, выбросит или сожжет то, что она с собой принесла сегодня от Дмитрия Николаевича. И тогда он не узнает, что это было, и ему придется еще долгие часы томиться страшной неизвестностью.
Он порывисто встал и быстро вышел из кабинета. Шаги его отчетливо и гулко раздавались на холодных, желтых паркетах залы. Но через столовую он постарался пройти бесшумно.
Войдя в длинный, полутемный коридор, Алексей Григорьевич увидел в полуоткрытую дверь буфетной, что Елена Сергеевна стоит у мраморной раковины, вделанной под краном водопровода в окрашенную синей масляной краской стену.
Елена Сергеевна услышала за своей спиной шаги. Поза ее выдавала растерянность и желание что-то скрыть.
Алексей Григорьевич быстро подошел к ней. Она повернулась боком к стене и держалась правой мокрой рукой за край раковины. Неловкими от торопливости движениями ноги она старалась оттолкнуть что-то к стене, – и Алексей Григорьевич увидел на полу близ края ее платья раскрытую, пустую коробку.
Увидев, что Алексей Григорьевич заметил эту коробку, бледная, готовая упасть без чувств девушка быстро нагнулась к раковине, левой рукой повернула кран, чтобы бежавшая из него вода текла сильнее, и правой рукой торопливо проводила по дну раковины, словно стараясь протолкнуть что-то в отверстие нижней решетки.
Алексей Григорьевич взял ее за руки, отстранил от раковины, – она не сопротивлялась, – потом закрыл кран и нагнулся над раковиной. Вода быстро сбегала, унося с собой остатки какого-то белого порошка, который в воде, очевидно, не растворялся. Когда последние капли воды сбежали, Алексей Григорьевич увидел, что на решетке осталось несколько мелких, белых крупинок.
Он осторожно собрал их двумя пальцами, бережно положил их на ладонь левой руки и подошел к выходившему на двор окну. Крупинки были прозрачно-белые, на ощупь твердые, колючие.
Алексей Григорьевич понял, что это было толченное мелко стекло. Он повернулся к Елене Сергеевне. Она стояла близ него и с тупым испугом глядела на его руки.
Он спокойно спросил Елену Сергеевну:
– Зачем вам понадобилось это стекло?
Она молчала.
– Оно было вот в этой коробке? – спросил ее Алексей Григорьевич, указывая глазами на валявшуюся на полу коробку.
– Да, – тихо сказала Елена Сергеевна.
Она нагнулась, подняла коробку, подала ее Алексею Григорьевичу. Все это она проделала как-то механически, почти бессознательно.
Это была небольшая картонная коробочка овальной формы, из тех, в которых продаются маленькие конфетки для театра.
– Зачем вы это взяли? – спросил Алексей Григорьевич.
Елена Сергеевна заплакала. Она закрыла лицо руками и тихо говорила:
– Не знаю. Он говорил, а я слушала и все готова была сделать. Он обошел меня ласковыми словами. Слушалась, как дура, как рыба. Он сказал мне: – Возьми, подсыпай понемножку Грише в пищу. – Я и взяла, даже не думала ничего. Точно во сне было. Только сейчас поняла, что хотела сделать, на что пошла.
Замолчала. Стояла перед Алексеем Григорьевичем, низко опуская голову, вытирая платком неудержно льющиеся слезы. Алексей Григорьевич спросил:
– Раньше он вам передавал что-нибудь для Гриши?
– Нет, – сказала Елена Сергеевна, тихо плача, – это первый раз. Раньше только уговаривал. Говорил, – у Гриши полтора миллиона. Говорил, – золотой дождь. Говорил, – жена надоела, разведусь. Да этому-то я не верила. Хоть так, – большие деньги. Соблазнилась. У меня, вы знаете, братья маленькие, учить надо. Да нет, что я! Ведь вы мне достаточно платили, – на всех бы хватило. Ужасно! Сама не понимаю, – что со мной было.
– Сколько же он вам обещал? – спросил Алексей Григорьевич.
– Пять тысяч сразу, – отвечала Елена Сергеевна, – и ежегодная пенсия по тысяче рублей. В обеспечение обещал векселя выдать.
– Выгодная сделка, – холодно сказал Алексей Григорьевич.
Он вышел в коридор. Из буфетной комнаты были слышны истерические рыдания.
XXVII
Алексей Григорьевич захотел увидеть Татьяну Павловну. Мучительное беспокойство, гнетущая мысль о том, что Татьяна Павловна знакома с Дмитрием Николаевичем, что это она рекомендовала ему Елену Сергеевну, – все это заставляло его спешить к ней, взглянуть в ее ясные, милые глаза, вслушаться в золотые звоны ее девически чистого голоса, прильнуть к ее нежным, прекрасным рукам, от которых пахло сладкими духами, немножко напоминавшими любимый Шурочкин кигриз, такой сладостный и радостно-забавный аромат.
Теперь, пока еще не были приняты меры к ограждению Гриши от покушения на его жизнь, Алексей Григорьевич не решился оставить его дома. Поручить его надзору экономки он не хотел, – пришлось бы этой преданной, но все-таки чужой женщине рассказывать, в чем дело, а это казалось ему теперь еще неудобным. Да и так страшно было с кем-нибудь говорить об этом?
Он пошел к Грише. Гриша сидел один за столом близ окна, скрестив стройные голые ноги, и с увлечением решал какую-то сложную задачу.
Услышав шаги отца, Гриша обратил к нему весело улыбающееся, забавно-озабоченное лицо, – задача попалась трудная. Это выражение озабоченности теперь особенно ясно выдавало Гришино сходство, с его покойной матерью.
Алексей Григорьевич вспомнил Шурочкино исхудалое лицо и ее тонкие руки, когда она лежала в белом гробу, вся белая в белом платье под белыми цветами, – Гришино лицо в гробу на белой подушке, и Гришины сложенные руки под белыми цветами вдруг померещились ему почти с отчетливостью галлюцинации. Холодный ужас охватил его. Он подумал:
«Нет, не будет так. На край света увезу его, схороню за океанами, не дам жадному, жестокому Зверю».
– Елене Сергеевне нездоровится, – сказал он. – Я отвезу тебя, Гриша, в гимнастический городок, а сам проеду к Татьяне Павловне. Потом за тобой заеду.
Гриша радостно начал одеваться. Он любил ездить или ходить куда-нибудь с отцом.
Натягивая теплые серые чулки на полные икры сильных ног, он сказал:
– Папочка, – сегодня утром я читал необыкновенно интересную книгу. Можешь себе представить, о чем?
– О чем, Гриша? – спросил Алексей Григорьевич.
И не было в его голосе той бодрой веселости, которая всегда охватывала его, когда он разговаривал с сыном. Он сел на стул около окна, спиной к свету, чтобы Гриша не заметил его волнения.
Но уже Гриша заметил, что отец расстроен чем-то. Он опасливо посматривал на отца. Припоминал, не сделал ли он чего-нибудь такого, на что Елена Сергеевна могла бы пожаловаться. И говорил негромко:
– Об Аргентине. Необыкновенно интересная страна. Знаешь что, папочка, – съездим когда-нибудь туда. На большом океанском пароходе через тропики, через экватор, – так интересно, что и сказать нельзя.
Алексей Григорьевич думал:
«Может быть, и в самом деле уехать нам с Гришей куда-нибудь, в Аргентину или на Сандвичевы острова, где жизнь людей еще близка к первоначальной дикости, где язык людей не так лжив, как наша коварная речь, где милые стихии родственнее человеку и ближе к нему, – туда, в далекий край, где нет нашей политики, и нашей цивилизации, и наших вопросов, и нашей злой и лукавой слабости».
Он представил Гришу и Татьяну Павловну в Океании, на коралловом атоле, под кушей тонких пальм, – и на минуту ему стало почти весело.
XXVIII
Санки бежали быстро по снежной мостовой. В лицо веял легкий морозный ветерок. На перекрестках улиц в железных круглых печках трещали дрова, рассыпая искры, распуская в воздухе теплый дым. Какие-то косматые, шершавые люди тянулись темными и на морозе лицами к сладкому дыму печей, прихлопывали громадными рукавицами и приплясывали, словно играли с искрами и с дымом.
Гришины щеки были румяны, Гришины глаза весело блестели, – русская зима нравилась Грише и веселила его северное сердце. Он был хорошо приучен к холоду и любил мороз.
Теперь, поддаваясь ощущению зимней бодрости, Алексей Григорьевич думал, что нельзя расстаться с родной землей, нельзя бежать за океан. Он думал, что надобно жить здесь, в этой суровой, но милой России. От Зверя, угнездившегося в городах, надобно уйти в широкие просторы русских долин, в бедный быт русской деревни, – быт бедный, темный, но подлинный, верный быт трудящегося мира. Надобно окунуться в эту величайшую изо всех стихий, в стихию простонародной жизни, в тот мир, где мать сырая земля неистощимо рождает все новые и новые силы, наперекор неистовству жестокой жизни.
Он вспомнил все то грубое и жестокое, что совершалось в деревне. Вспомнил разгром своей усадьбы крестьянами, теми самыми смирными и рабочими людьми, среди которых он провел свое детство, с которым он узнал, что его сверстники, товарищи его деревенских игр, Василий Менятов и Илья Цыганков, были вожаками громил, разрушивших и сжегших тот дом, в котором он родился. И ему вдруг опять стало страшно. С холодным отчаянием подумал он:
«Куда же идти?»
И ответил сам себе:
«Все-таки надобно идти к ним, на родную землю, к родному народу, и разделить его судьбу, какова бы она ни была».
Гриша весело говорил что-то, – Алексей Григорьевич едва слушал его, едва ему отвечал. И наконец Гриша замолчал. Задумался о чем-то своем.
Когда на повороте улицы санки раскатились и Гриша схватился рукой за его рукав, схватился почти бессознательно, продолжая додумывать свои думы, Алексей Григорьевич взглянул на него сбоку. Опять задумчивость, легшая на раскрасневшееся Гришино лицо, сделала его так радостно и так трогательно похожим на бледное Шурочкино лицо.
Сердце Алексея Григорьевича дрогнуло. И снова в душе его поднялась тоска.
XXIX
Уже было на улицах совсем темно, когда Алексей Григорьевич позвонил в квартиру Татьяны Павловны. Горничная в белом переднике, веселая молоденькая девушка с блудливыми серыми глазами, с неярким, городским цветом лица, скоро открыла ему дверь и, не дожидаясь его вопроса, сказала:
– Барыня дома, пожалуйте.
Показалось ли только так Алексею Григорьевичу, или сегодня он особенно отчетливо подмечал все, чем сказывается в людях и в предметах печаль, – только его удивило, что в серых Катиных глазах блестят слезинки. Он подумал:
«Мать больна, денег просит или барыня недовольна».
Ему казалось, что Катя стаскивает с него пальто не так ловко, как всегда. Он вошел в гостиную, где никого не было. Катя осветила комнату светом трех лампочек средней люстры и быстро ушла.
Алексей Григорьевич сел в кресло у стола. Повертел в руках альбом. Опять встал. Прошелся несколько раз по комнате. Томившее его беспокойство все возрастало.
Не зная сам, зачем он это делает, он взялся за ручку запертой двери, вошел в соседнюю темную комнату и не спеша подвигался вперед. Он даже не думал о том, что идет по комнатам чужой квартиры. Темнота успокаивала его, и он шел из комнаты в комнату.
Вдруг он увидел свет. Услышал голоса. Остановился. Хотел было повернуть назад, но стоял в странной нерешительности.
Слышалось два голоса, – тихий Катин голос и сдержанно-сердитый голос Татьяны Павловны. Казалось, что Татьяна Павловна за что-то бранит Катю. Потом она заговорила погромче, и Алексей Григорьевич услышал ее слова:
– Который раз я вам говорила, Катя. Никакого терпения нет. Если вы не хотите служить, так убирайтесь вон сейчас же.
Что-то отвечала Катя, очень тихо, но, судя по звуку ее голоса, что-то дерзкое. И тогда Татьяна Павловна, вдруг забывши, что в квартире есть гость и что надобно сдерживаться, звонко крикнула злым голосом:
– Как ты смеешь, дерзкая девчонка! Вот тебе! Вот тебе!
И вместе с этими словами послышались резкие звуки двух звонких пощечин и тихие вскрикивания Кати:
– Ах! Ах!
Алексей Григорьевич стоял, охваченный негодованием и страхом. Ему казалось, что этого не может быть, что это – какая-то ошибка. Может быть, кто-нибудь другой, экономка, что ли, стоит там и бьет по щекам девушку.
Он тихо сделал два шага вперед. Перед ним в зеркале, стоявшем над нарядным туалетом, отразилось в полуобороте сильно покрасневшее, сердитое лицо Татьяны Павловны и испуганное лицо плачущей Кати. Лицо Татьяны Павловны покраснело пятнами, углы рта неприятно опустились, и она казалась грубой и вульгарной.
Катины щеки ярко пылали. Она стояла прямо, опустив руки, не вытирая быстрых слез, и говорила тихо:
– Барыня, простите, я больше не буду.
И опять поднялась красивая, белая рука Татьяны Павловны, и так спокойно и ловко, словно совершая привычное движение, звонко опустилась на покорно подставленную Катину щеку. И в то же время Татьяна Павловна кричала, уже не сдерживая голоса, грубым тоном рассерженной женщины:
– Не смей дерзить, негодная девчонка! Вот тебе за это еще!
В благоуханном воздухе комнаты, нежно розовея в мягком озарении лампочек, прикрытых розовыми колпачками, мелькнула другая рука Татьяны Павловны, и четвертая пощечина раздалась как будто бы еще звонче первых трех. Катя громко зарыдала, быстро опустилась на колени и жалобным, похожим на детский, голосом говорила:
– Барыня, миленькая, больше не буду. Никогда больше не буду.
Татьяна Павловна отвернулась от нее.
Алексей Григорьевич поспешно пошел прочь. В полутьме неосвещенных комнат он задел за что-то, – послышался грохот сдвинутого с места стула. Татьяна Павловна, выглянув из двери, дрогнувшим от волнения голосом спросила:
– Кто там?
Алексей Григорьевич, не отвечая, вернулся в гостиную.
XXX
«Что же это? – думал Алексей Григорьевич. – Как может нежное сердце женщины распаляться такой злостью? Как может прекрасная рука очаровательной дамы с такой удивительной ловкостью и с такой силой опускаться на щеки перепуганной служанки? Что же это, – случайная вспышка, несчастный случай, один из тех, которые могут случиться со всяким? Или то, что делается не раз?»
«А эта глупая девчонка, которую бьют, зачем же она терпит? Зачем она сама подставляет под удары госпожи свои бледные щеки? Зачем, как рабыня, бросается к ногам обидевшей ее женщины? По привычке с детства? Или от испуга, потому что натворила что-нибудь очень скверное? Или, может быть, уже знает по опыту, что вспыльчивая барыня потом вознаградит ее за эти пощечины каким-нибудь подарком, – старым платьем, или ленточкой, или мало ли еще чем?»
Потом, вдумываясь в то, что он теперь чувствует, Алексей Григорьевич с удивлением заметил, что нет в его душе ни сильного гнева, ни яркого негодования. Скорее страх какой-то, какое-то холодное равнодушие.
Алексей Григорьевич закрыл глаза, стараясь вызвать прежний милый образ Татьяны Павловны, веселой, любезной женщины со смеющимися глазами. И это ему удалось. Он опять почувствовал в своем сердце нежную жалость к ней, к этой запутавшейся в лукавых сетях Зверя, но все-таки, конечно, милой, доброй женщины. Захотелось обойтись с ней, как с провинившимся ребенком, заставить ее застыдиться, покраснеть, раскаяться, – захотелось по-отцовски побранить, простить, увезти ее отсюда, перенести в иную жизнь, простую, здоровую, братскую, где люди не обижают друг друга.
Ведь все то, что говорила ему Татьяна Павловна, всегда казалось ему таким близким его душе. Разве не одинаково думают о жизни они оба? Разве не одинаково обоим им противен лютый Зверь, жестокий властелин города? И разве случайные победы его над нашим сердцем не должны равно печалить их обоих?
XXXI
Послышались за дверью легкие, быстрые шаги. Дверь бесшумно открылась, вошла Татьяна Павловна. Алексей Григорьевич почувствовал, что он взволнован. Он пошёл к ней навстречу.
Весело улыбаясь, она протянула ему руку, – и ни в лице ее, ни в звуке ее любезного привета, ни в ее уверенных движениях ничто не напоминало той сварливой бабы, растрепанной, красной, которая свирепо била по щекам свою служанку.
Алексей Григорьевич молча пожал ее руку. Не поднес ее к губам для поцелуя, как делал это всегда, следуя приятному светскому обычаю.
Татьяна Павловна всмотрелась в его лицо. Как будто бы смутилась слегка. Слегка прикрыла веки. Спросила участливым тоном, – и в звуке ее голоса Алексею Григорьевичу послышалось притворство:
– Как поживаете, Алексей Григорьевич? Что у вас дома? Все благополучно? Гриша, надеюсь, здоров? Вы как будто бы чем-то озабочены.
Алексей Григорьевич слегка сдвинул брови, строго посмотрел в ее глаза и сказал:
– Татьяна Павловна, извините меня. Ожидая вас, я увлекся здесь моими размышлениями, довольно невеселыми, и, по моей привычке ходить по комнатам, обдумывая что-нибудь, прошелся по вашей квартире. Этого мне не следовало делать, но я это зачем-то сделал и был жестоко наказан за свою неосторожность.
Татьяна Павловна стояла перед ним, опустив глаза. Досадливая гримаска мелькнула было на ее губах, но быстро исчезла. Краска стыда заливала ее нежные щеки, и красивые маленькие уши ее под завитками темных волос краснели. Алексей Григорьевич продолжал:
– Я увидел, как вы наказывали за что-то вашу Катю. Слишком патриархально.
Голос его дрогнул, и он сказал быстро, чувствуя в себе все возрастающий гнев:
– Вы били ее по щекам. Признаюсь, я не ожидал, что вы умеете делать это. Скажу откровенно, что хотя самое действие и казалось мне отвратительным, но я готов был аплодировать виртуозности исполнения.
Татьяна Павловна сказала в замешательстве:
– О, какой вы злой! Если бы вы знали, какая это дерзкая девчонка! С ней иначе нельзя. Она очень склонна забываться.
– Зачем же вы ее держите? – спросил Алексей Григорьевич.
– Но я к ней привыкла, – отвечала Татьяна Павловна. – Хорошую горничную нынче так трудно найти. И она все знает, где что у меня лежит, и все адреса знает. Она расторопная, услужливая, очень честная, и я ею, в общем, очень довольна и дорожу ею. Только иногда на нее вдруг находит желание говорить мне дерзости.
– И тогда вы ее бьете? – спросил Алексей Григорьевич.
Татьяна Павловна в замешательстве посмотрела на него, смущенно развела руками и сказала:
– Ну, я ее словами унимаю. Конечно, иногда она уж очень рассердит. Вы, кажется, думаете, что я – ужасно злая и что я только и делаю, что ее бью. Неужели вы меня так плохо знаете! Поверьте, она сама сознает, что заслужила это. Она меня любит. Ведь кто же бы ее держал здесь насильно? Она у меня уже пятый год. Она дорожит этим местом.
Алексей Григорьевич молча слушал все эти оправдания. Его молчание все более смущало Татьяну Павловну. Наконец Алексей Григорьевич увидел, как из уголка ее глаза медленная, маленькая выкатилась слезинка. Ему стало жалко эту застыдившуюся до слез даму, и он сказал:
– Никогда больше не делайте этого.
Татьяна Павловна наклонила голову и тихо сказала:
– Хорошо, я больше не буду.
– А теперь, – продолжал Алексей Григорьевич, – позовите Катю, приласкайте ее и извинитесь перед ней.
Татьяна Павловна быстро глянула на Алексея Григорьевича. Ее взгляд исподлобья был похож на сердитый, пристыженный взгляд попавшегося в шалости ребенка. Потом она опять опустила глаза, легонько пожала плечами и сказала:
– Алексей Григорьевич, это ее только поощрит на новые дерзости.
Алексей Григорьевич сказал настойчивым тоном:
– Татьяна Павловна, не огорчайте меня слишком, не заставляйте меня думать о вас так дурно, как вы этого не заслуживаете. Не кажитесь хуже, чем вы есть. Вы – добрая, милая, такие выходки вам не к лицу. Сделайте так, чтобы я мог с легким сердцем поцеловать вашу нежную руку.
Татьяна Павловна нахмурила брови. Опять пожала плечами, подумала минутку, потом вдруг ярко покраснела, и видно было, что краска румянца разлилась по ее шее и по плечам. Она быстро, неловкой походкой пристыженной школьницы подошла к столу и нажала белую пуговку электрического звонка.
XXXII
Через минуту вошла Катя. Алексей Григорьевич пристально посмотрел на нее.
Катя остановилась у дверей. По лицу ее почти совсем не было заметно, что ее только что побили. Губы ее улыбались сдержанно, глаза были веселы и блудливы. Только щеки все еще были очень красны. Но вся ее наружность говорила о том, что она довольна своим положением, что она охотно готова исполнить то, что ей сейчас прикажут. Катя стояла в скромной, почтительной позе, опустив руки, глядела прямо на Татьяну Павловну и ждала.
Алексей Григорьевич перевел глаза на Татьяну Павловну. Лицо ее все еще пылало, глаза были опущены, правая рука беспокойно раскрывала и закрывала альбом на столе, у которого она стояла. Видно было, что ей очень стыдно и что она не знает, как начать.
Прошла минута неловкого молчания. Катя как будто догадалась о чем-то. Глаза ее с любопытством перебегали с Татьяны Павловны на Алексея Григорьевича. Видно было, что ей хочется смеяться.
Наконец Татьяна Павловна сказала смущенно:
– Катя, Алексей Григорьевич недоволен тем, что я вас поколотила. Правда, я слишком погорячилась. Вы меня уж очень рассердили. Извините меня, Катя.
Перебивая ее, быстро заговорила Катя:
– Что вы, барыня! Да разве я жалуюсь на вас! Я вами очень даже довольна. А что вы погорячились, так я сама этому виновата. Разве можно говорить господам дерзости! Ведь это – не свой брат.
– Извините меня, Катя, – повторила Татьяна Павловна. – Я вас вперед не буду бить, а вы не должны говорить дерзостей. Постарайтесь, чтобы с вашей стороны это было в последний раз.
Катя с веселой улыбкой говорила:
– Да право же, барыня, я не обижаюсь. Мало ли что бывает! Нашему брату на все обижаться не приходится.
– Подойдите ко мне, Катя, – сказала Татьяна Павловна.
Катя подошла и остановилась перед Татьяной Павловной. Татьяна Павловна неловко и нерешительно подняла руку. Катя вздрогнула и слегка отстранилась. Но потом вдруг она сообразила, что рука поднимается, конечно, не для удара. Она весело засмеялась, потянулась лицом к Татьяне Павловне и подставила ей щеку.
Татьяна Павловна ласково погладила подставленную щеку. Потом она взяла Катю за подбородок и нежно поцеловала ее в щеку, в губы, в другую щеку. Тогда Катя быстро опустилась на колени, схватила обе руки Татьяны Павловны и поцеловала сначала одну, потом другую. Сказала:
– Простите меня, барыня, много довольна вашей лаской.
XXXIII
Когда Катя ушла, Татьяна Павловна села на диван и, поглаживая раскрасневшиеся щеки тонкими, стройными пальцами, сказала:
– Видите, какая трогательная сцена! Вот видите, она и не думала обижаться.
Но все-таки у нее был вид наказанной девочки. Алексей Григорьевич промолчал. Татьяна Павловна опасливо посмотрела на него и заговорила о другом.
Алексей Григорьевич спросил:
– Вы давно знакомы с моим родственником, Дмитрием Николаевичем Нерадовым?
– Да, приходилось встречаться, – равнодушно ответила Татьяна Павловна. – Он иногда бывает у моей тетушки Неделинской.
Ее спокойный тон совершенно рассеял опасения Алексея Григорьевича.
Но все-таки разговор их кончился сегодня как-то неприятно. Алексей Григорьевич заговорил о том, что он хочет уйти от города, уйти от этой лживой жизни, слиться с народом. Татьяна Павловна слушала его с каким-то неопределенным выражением на лице.
– А вы, Татьяна Павловна, пойдете ли за мною? – спросил он, опять чувствуя в себе неожиданное волнение.
Татьяна Павловна с принужденным видом улыбнулась и сказала:
– Я пойду за вами всюду, куда вы захотите меня повести, но я буду отчаянно скучать без города, должна сказать вам это откровенно. Да и вы тоже скоро захотите вернуться.
Алексей Григорьевич живо и уверенно сказал:
– Никогда!
– Не ручайтесь за себя, – сказала Татьяна Павловна, усмехаясь. – Знаете, мы, городские жители, как привычные пьяницы, так втягиваемся в городскую жизнь, что уже иначе не можем жить. Как русалку нельзя вытащить на берег, задохнется, – так и мы с вами там, в этой темной глуши, жить не сможем. Да и делать нам там нечего.
Алексей Григорьевич не спорил. Ему стало грустно.
Он хотел было рассказать ей о сегодняшнем разговоре с Кундик-Разноходским, – но почувствовал, что еще не может говорить ни с кем об этом. Решил рассказать когда-нибудь после.
XXXIV
Когда Алексей Григорьевич вечером вернулся домой вместе с Гришей, Елены Сергеевны уже не было. Серафима Андреевна, пожилая экономка, степенная вдова курьера, встретила его в передней. У нее было озабоченное, расстроенное лицо. Она говорила растерянно, поглядывая на Гришу:
– Елена-то Сергеевна наша расхворалась совсем, к маменьке уехала.
Алексей Григорьевич понял, что она что-то хочет рассказать ему. До обеда оставалось еще минут пятнадцать. Он сказал:
– Ты, Гриша, переоденься к обеду и займись пока чем-нибудь. А мне надобно с Серафимой Андреевной поговорить.
Когда они вдвоем вошли в кабинет, Серафима Андреевна испуганно заговорила:
– Что тут у нас делается, просто и ума не приложу.
– Садитесь, Серафима Андреевна, – сказал Алексей Григорьевич, – и рассказывайте. Уж я знаю, что хорошего ждать надобно мало.
Экономка рассказывала:
– Только что вы с Гришенькой уехали, слышу я, Елена Сергеевна разливается, плачет. Я к ней, – что, говорю, такое, что с вами? А Елена Сергеевна, вижу, вне себя, говорит совсем несообразные слова, – я, говорит, таких дел тут наделала, что не знаю, говорит, что мне за это и будет. Только, говорит, я ни в чем не виновата, а виноват во всем Дмитрий Николаевич, а быть мне здесь, говорит, больше никак нельзя. Живо-живехонько собралась, чемоданишко свой укладывает, говорит мне, – давайте мне паспорт, я сейчас съезжаю от вас к своей маменьке. Я не знаю, что и делать, что говорить, только думаю себе, как же это я ее без вас отпущу, – потом, может быть, чего не досчитаемся, кто будет в ответе. Говорю ей, – нет, Елена Сергеевна, говорю, вы меня извините, а только без Алексея Григорьевича я ни паспорта вашего, ни вещей из квартиры выпустить не могу. А она мне довольно спокойно говорит, – да вы, говорит, не бойтесь, я ничего здесь не украла, а только жить здесь мне нельзя ни одной секунды. Я, говорит, уйду, а вещи и паспорт вы мне пришлите, я у своей маменьки буду. Уж я не знаю, как и быть, и отпустить-то ее боюсь, да и задерживать не смею. Стараюсь ее словами разговорить всячески, но она никакого внимания не обращает, живо-живехонько оделась и побежала, – только каблучки по ступенькам зацокали. Только этому делу минут пять прошло, еще я и очухаться не успела, как вдруг новое происшествие, – заявляется Дмитрий Николаевич. А у меня сердце не на месте, ноги подкашиваются, успокоиться не могу, хожу по комнатам дура дурой, в окошки поглядываю. Вижу, Дмитрий Николаевич подъезжает, я сама в прихожую выхожу, Наташе строго-настрого приказала, – что ты, мол, Наташа, не суйся, язык за зубами держи, что тут было, ни о чем ни гугу. Вошли, пальто неглиже скинули, – дома? – спрашивают. Говорю, – только что уехали. – А Гриша, говорят, дома? Вот, говорят, я ему конфет привез, каштанов, знаю, говорят, что он до них большой охотник, пусть полакомится. Спрашивают про Елену Сергеевну, и тут я, уж не знаю с чего, возьми и проболтайся. Что-то, говорю, неладно с Еленой Сергеевной, – да и давай им все по порядку выкладывать. А Дмитрий Николаевич, вижу, в лице переменились, ворчат сквозь зубы – Экая дурища! – Тут мне как в голову ударило, что Елена-то Сергеевна про них что-то говорила, что они будто в чем-то виноваты. Ну, думаю, помолчать бы мне до Алексея Григорьевича. А они к дверям и конфеты с собой забирают, а то было их поставили на столик подзеркальный. Я им говорю, да вы, Дмитрий Николаевич, говорю, коробочку-то оставьте, я передам Гришеньке. Нет, говорят, я сам вечером занесу. И скоро-скорехонько пошли вон, как будто рассердившись на что-то, и так каштанов и не захотели оставить. Батюшка Алексей Григорьевич, что я, напутала тут что или что такое?
– Все хорошо обошлось, Серафима Андреевна, сказал Алексей Григорьевич, – а чуть было очень плохо не вышло. А вся беда в том, что у Гриши денег много. Дело-то вот и чем…
В это время раздался стук в дверь, и вошла Наташа с письмом. Сказала:
– Посыльный подал, от Елены Сергеевны.
Алексей Григорьевич торопливо разрезал конверт и прочел:
«Милостивый Государь
Алексей Григорьевич!
После нашего разговора с Вами и узнав, что Вы Бог знает в чем подозреваете меня, я, конечно, не могу оставаться в Вашем доме. Я переехала к моей маменьке. Мои вещи и паспорт прошу мне прислать, если можете, сегодня, а также и мое жалованье за последний месяц. Грише от души желаю всего наилучшего, и больше всего, чтобы он получил поскорее вторую мать и с ней теплую женскую ласку, которой ему не хватает в Вашем доме и которую ему может дать только Ваша супруга, а не наемная гувернантка, хотя бы и такая усердная и послушная Вам, как я была.
Готовая к услугам
Елена Кирпичевская».
Внизу был приписан адрес.
Алексей Григорьевич понял, что она виделась уже с Дмитрием Николаевичем. Вернее всего, что и письмо написано под его диктовку.
Алексей Григорьевич брезгливо швырнул письмо на стол. Глупые слова о второй матери, – конечно, подразумевалась Татьяна Павловна, – показались ему кощунственными. Как смеет эта низкая обманщица говорить об этой очаровательной женщине!
XXXV
На другой день Кундик-Разноходский опять сидел у Алексея Григорьевича. Прежде всего спросил:
– Могу я узнать, оправдалось ли мое вчерашнее предсказание насчет коробки конфет?
Алексей Григорьевич сказал:
– К сожалению, оправдалось. И даже раньше, чем вы говорили. Коробку принесли днем.
Кундик-Разноходский, хихикая, сказал:
– Поторопились. Итак, глубокоуважаемый Алексей Григорьевич, вы сами изволите видеть, что мои сведения основательны. Документики я принес и нахожусь в приятном ожидании получения денег.
Алексей Григорьевич достал из письменного стола приготовленные деньги и отдал их Кундик-Разноходскому. Тот пересчитал деньги с большим удовольствием. Потом вынул из бокового кармана перевязанную красной ленточкой пачку писем. Алексей Григорьевич взял письма, развязал алую ленточку, взглянул на первое письмо, – и сердце его упало.
Знакомый почерк. Почерк Татьяны Павловны. Даты недавние, – этот год, прошлый. Слова нежные. Письма написаны какому-то Диме. И между ними одно письмо мужским почерком, – и этот почерк знаком, – почерк Дмитрия Николаевича.
Прочел в одном из ее писем три только строчки:
«Дурак влюблен в меня без памяти. Его пресные рассуждения надоели мне до чертиков».
Больше не стал читать. Понял всю махинацию.
«Бежать, бежать за океаны или за горы!» – думал он.
Дама в узах Легенда белой ночи*
Н. И. Бутковской
У одного московского мецената (говорят, что меценаты водятся теперь только в Москве) есть великолепная картинная галерея, которая после смерти владельца перейдет в собственность города, а пока мало еще кому ведома и трудно доступна. В этой галерее висит превосходно написанная, странная по содержанию картина малопрославленного, хотя и весьма талантливого русского художника. В каталоге картина обозначена названием «Легенда белой ночи». Картина изображает сидящую на скамейке в едва только распускающемся по весне саду молодую даму в изысканно-простом черном платье, в черной широкополой шляпе с белым пером. Лицо дамы прекрасно, и выражение его загадочно. В неверном, очарованном свете белой ночи, который восхитительно передан художником, кажется порою, что улыбка дамы радостна; иногда же кажется эта улыбка бледною гримасою страха и отчаяния.
Рук не видно, – они заложены за спину, и по тому, как дама держит плечи, можно подумать, что руки ее связаны. Стопы ее ног обнажены. Они очень красивы. На них видны золотые браслеты, скованные недлинною золотою цепочкою. Это сочетание черного платья и белых необутых ног красиво, но странно.
Эта картина написана несколько лет тому назад, после странной белой ночи, проведенной ее автором, молодым живописцем Андреем Павловичем Крагаевым, у изображенной на картине дамы, Ирины Владимировны Омежиной, на ее даче близ Петербурга.
Это было в конце мая. День был теплый и очаровательно-ясный. Утром, то есть в ту пору, когда рабочий люд собирается обедать, Крагаева позвали к телефону.
Знакомый голос молодой дамы говорил ему:
– Это – я, Омежина. Андрей Павлович, сегодня ночью вы свободны? Я жду вас к себе на дачу ровно в два часа ночи.
– Да, Ирина Владимировна, благодарю, – начал было Крагаев. Но Омежина перебила его:
– Итак, я вас жду. Ровно в два часа.
И тотчас же повесила трубку. Голос Омежиной был необычайно холоден и ровен, каким бывает голос человека, готовящегося к чему-то значительному. Это, а также и краткость разговора немало удивили Крагаева. Он уже привык к тому, что разговор по телефону, и особенно с дамою, бывает всегда продолжительным. Ирина Владимировна, конечно, не составляла в этом отношении исключения. Сказать несколько слов, и повесить трубку – это было неожиданно и ново, и возбуждало любопытство.
Крагаев решился быть аккуратным и не опаздывать. Он заблаговременно заказал автомобиль, – своего еще не было.
Крагаев был довольно хорошо, хотя и не особенно близко, знаком с Омежиной. Она была вдова богатого помещика, умершего внезапно за несколько лет до этой весны. Она и сам? имела независимое состояние. Дача, куда она приглашала Крагаева, была ее собственная.
О ее жизни с мужем ходили в свое время странные слухи. Говорили, что он часто и жестоко бьет ее. Дивились тому, что она, женщина состоятельная, терпит это, и не оставляет его.
Детей у них не было. Говорили, что Омежин и неспособен иметь детей. И это еще более казалось всем странным, – зачем же она с ним живет?
Часы Крагаева показывали ровно два часа, и уже становилось совсем светло, когда его автомобиль, замедляя ход, приближался к ограде загородного дома Омежиной, где ему приходилось бывать несколько раз прошлым летом.
Крагаев чувствовал странное волнение.
«Будет еще кто-нибудь, или только я один зван? – думал он. – Приятнее быть наедине с милою дамою в эту очаровательную ночь. Разве и зимою не надоели достаточно все эти люди!»
У ворот не видно было ни одного экипажа. Было совсем тихо в темном саду. Окна в доме были не освещены.
– Ждать? – спросил шофер.
– Не надо, – решительно сказал Крагаев, и расплатился.
Калитка у темных ворот была немного приоткрыта. Крагаев вошел и закрыл за собою калитку. Оглянулся почему-то – увидел в калитке ключ и, повинуясь какому-то неясному предчувствию, замкнул калитку.
Тихо шел он по песочным дорожкам к дому. От реки тянуло прохладою, кое-где в кустах слабо и неуверенно чирикали первые, ранние птички.
Вдруг знакомый голос, опять, как утром, странно-ровный и холодный, окликнул его.
– Я здесь, Андрей Павлович, – говорила Омежина.
Крагаев повернул в ту сторону, откуда слышался голос, и на скамейке перед куртиною увидел хозяйку.
Она сидела и улыбалась, глядя на него. Одета она была точь-в-точь так, как он потом изобразил ее на картине: то же черное платье, изысканно простое покроем, никаких украшений; та же черная шляпа с широкими полями и с белым пером; так же руки заложены были за спину, и казались связанными; так же, спокойные на желтом сыроватом песке дорожки, видны были белые ноги, и на них, охватывая тонкие щиколотки, слабо поблескивало золото двух скованных золотою цепью браслетов.
Омежина улыбалась тою же неопределенною улыбкою, которую потом Крагаев перенес на портрет, и говорила ему:
– Здравствуйте, Андрей Павлович. Я почему-то была уверена, что вы непременно придете в назначенный час. Простите, я не могу подать вам руки, – мои руки крепко связаны.
Заметив движение Крагаева, она засмеялась невесело, и сказала:
– Нет, не беспокойтесь, – не надо развязывать. Так надо. Так он хочет. Нынче опять его ночь. Сядьте здесь, рядом со мною.
– Кто он, Ирина Владимировна? – с удивлением, но осторожно спросил Крагаев, садясь рядом с Омежиною.
– Он, мой муж, – спокойно отвечала она. – Сегодня годовщина его смерти. В этот самый час он умер, – и каждый год в эту ночь и в этот час я опять отдаю себя в его власть. Каждый год он выбирает того, в кого входит его душа. Он приходит ко мне, и мучит меня несколько часов. Пока не устанет. Потом уходит, – и я свободна до будущего года. На этот год он избрал вас. Я вижу, вы удивлены. Вы готовы думать, что я – сумасшедшая.
– Помилуйте, Ирина Владимировна, – начал было Крагаев. Омежина остановила его легким движением головы, и сказала:
– Нет, это – не безумие. Послушайте, я вам все расскажу и вы меня поймете. Не может быть, чтобы вы, такой чуткий и отзывчивый человек, такой прекрасный и тонкий художник, не поняли меня.
Когда человеку говорят, что он – тонкий и чуткий человек, то он, конечно, готов понять все, что угодно. И Крагаев почувствовал себя начинающим понимать душевное состояние молодой женщины. Следовало бы поцеловать, в знак сочувствия, ее руки, и Крагаев с удовольствием поднес бы к своим губам тонкую, маленькую ручку Омежиной. Но так как сделать это было неудобно, то он ограничился тем, что пожал локоть ее руки.
Омежина ответила ему благодарным наклонением головы. Улыбаясь странно и неверно, так что нельзя было понять, весело ли ей очень, или хочется плакать, она говорила:
– Мой муж был слабый, злой человек. Не понимаю теперь, почему, за что я его любила, почему не уходила от него. Сначала робко, потом все откровеннее и злее с каждым годом он мучил меня. Все виды мучений он разнообразил, чтобы терзать меня, но скоро он остановился на одной, самой простой и обыкновенной муке. Не понимаю, почему я все это терпела. И тогда не понимала, и теперь не понимаю. Может быть, ждала чего-то. Как бы то ни было, я была перед ним слабым и злым, как покорная раба.
И Омежина спокойно и подробно стала рассказывать Крагаеву, как мучил ее мух. Говорила, как о ком-то чужом, словно не она претерпела все эти мучительства и издевательства.
С жалостью и негодованием слушал ее Крагаев, но так тих и ровен был ее голос, и такая злая зараза дышала в нем, что вдруг Крагаев почувствовал в себе дикое желание повергнуть ее на землю и бить ее, как бил ее муж. Чем дольше она говорила, чем больше узнавал он подробностей этого злого мучительства, тем яснее он чувствовал и в себе это возрастающее злое желание. Сначала ему казалось, что говорит в нем досада на ту бесстыдную откровенность, с которою она передавала ему свою мучительную повесть, – что это ее тихий, почти невинный цинизм вызывает в нем дикое желание. Но скоро он понял, что это злобное чувство имеет более глубокую причину.
Или уже и в самом деле не душа ли покойного воплощалась в нем, изуродованная душа злого, слабого мучителя? Он ужаснулся, но скоро почувствовал, как в душе его умирает этот мгновенно-острый ужас, как все повелительнее разгорается в душе похоть к мучительству, злая и мелкая отрава.
Омежина говорила:
– Все это я терпела. И ни разу никому не пожаловалась. И даже в душе не роптала. Но был день весною, когда я была так же слаба, как и он. В душу мою вошло желание его смерти. Были ли очень мучительны те побои, которые он мне тогда наносил, весна ли с этими призрачными белыми ночами так на меня действовала – не знаю, откуда в меня вошло это желание. Так странно! Я никогда не была ни злою, ни слабою. Несколько дней я томилась этим подлым желанием. Я ночью садилась у окна, смотрела в тихий, неясный свет городской северной ночи, с тоскою я со злостью сжимала свои руки, и думала настойчиво и зло: «Умри, проклятый, умри!» И случилось так, что он вдруг умер, вот в этот самый день, ровно в два часа ночи. Но я не убила его. О, не думайте, что я убила его!
– Помилуйте, я не думаю этого, – сказал Крагаев, но голос его звучал почти сердито.
– Он умер сам, – продолжала Омежина. – Или, может быть, силою моего злого желания я свела его в могилу? Может быть, так могущественна бывает иногда воля человека? Не знаю. Но я не чувствовала раскаяния. Совесть моя была совершенно спокойна. И так продолжалось до следующей весны. Весною, чем яснее становились ночи, тем хуже было мне. Тоска томила меня все сильнее и сильнее. Наконец, в ночь его смерти он пришел ко мне и мучил меня долго.
– А, пришел! – с внезапным злорадством сказал Крагаев.
– Вы, конечно, понимаете, – говорила Омежина, – что это был не покойник, пришедший с кладбища. Для таких проделок он был все ж-таки слишком благовоспитанный и городской человек. Он сумел устроиться иначе. Он овладел волею и душою того, кто, как вы теперь, пришел ко мне в эту ночь, кто мучил меня жестоко и долго. Когда он ушел и оставил меня изнемогшею от мук, я плакала, как избитая девчонка. Но душа моя была спокойна, и я опять не думала о нем до следующей весны. И вот каждый год, когда наступают белые ночи, тоска начинает томить меня, а в ночь его смерти приходит ко мне мучитель мой.
– Каждый год? – задыхающимся от злости или от волнения голосом спросил Крагаев.
– Каждый год, – говорила Омежина, – бывает кто-нибудь, кто приходит ко мне в этот час, и каждый раз словно душа моего мужа вселяется в моего случайного мучителя. Потом, после мучительной ночи, тоска моя проходит, и я возвращаюсь в мир живых. Так было каждый год. В этот год он захотел, чтобы это были вы. Он захотел, чтобы я ждала вас здесь, в этом саду, в этой одежде, со связанными руками, босая. И вот я послушна его воле. Я сижу и жду.
Она смотрела на Крагаева, и на лице ее было то сложное выражение, которое он потом с таким искусством перенес на свою картину.
Крагаев как-то слишком поспешно встал. Лицо его стало очень бледным. Чувствуя в себе страшную злобу, он схватил Омежину за плечо, и диким, хриплым голосом, сам не узнавая его звука, крикнул:
– Так было каждый год, и нынче с тобою будет не иначе. Иди!
Омежина встала и заплакала. Крагаев, сжимая ее плечо, повлек ее к дому. Она покорно шла за ним, дрожа от холода и от сырости песчинок под нагими стопами, торопясь и спотыкаясь, больно на каждом шагу ощущая подергивание золотой цепи и толчки золотых браслетов. И так вошли они в дом.
Сдавшиеся*
«Гарнизон Сахалина сдался из-за недостатка перевязочных материалов».
Историческая фантазия
Война кончилась. Пленные возвращались домой. Ехали на пароходе через моря и океаны, целыми неделями не видели берега. Разговоров было много, – было о чем поговорить.
На палубе океанского парохода любопытный молодой офицер расспрашивал возвращавшихся солдат:
– Как же это так, братцы, сдались-то вы?
Рябой солдатик с добродушным лицом отвечал:
– Так точно, ваше благородие, были сдамшись, свет увидели.
– Ну какой там свет! – недовольно говорит офицер. – Что же хорошего в плену сидеть, когда твои товарищи за родину сражаются?
– Ты не мели, лешева мельница, – подслуживаясь офицеру, говорит другой солдат, рыжий, со стрижеными усами и с лукавыми глазками, – а что сдамшись мы были, на то, наше благородие, причина была, – провиант вышел.
Угрюмый хохол ворчит презрительно:
– Провиант! Жрали бы друг друга, ничем сдаваться, вот тебе и провиант.
Солдаты хохочут, рыжий солдатик сконфужен.
– А вот же и не догадались, – говорит он, хлопает руками по бедрам и при общем смехе скрывается в толпе.
– Ну а ваши отчего сдавались? – спрашивает офицер еще одного солдата.
Тот вытягивается в струнку и бойко отвечает:
– Пороху не хватило, ваше благородие.
Слышны голоса:
– Это точно, не хватило.
– Большая нехватка вышла.
Офицеру неловко. Он обращается к матросам:
– Ну а вы, матросы?
Заговорил один матросик:
– Ваше благородие, милый человек, да такое уж оно дело-то вышло, ну! Пошли мы, значит, на войну, ну что ж, значит, всем враз и помирать, ну? Нет, ты постой, милый человек, – пришли мы на войну, глядь-поглядь, спереди ён, сзади ён, и с боков ён же, ну, а мы в середке. Нас, может, на одном корабль тысяча душ было, а ён скрозь палит, хочет топить, ну и ничего с ним не поделаешь. Да неужто нам всем враз тонуть, ну? Сам адмирал стоит, плачет. Да ну тебя к ляду, бери наш кораб, отпусти душу на покаяние, ну! Шабаш, сдаемся!
– Смоленый зад, поросячья душа, – комментирует хохол.
– Матрос – правильная душа, – заступается пожилой бородатый солдат из запасных. – Можешь ты это понимать: кто на море не бывал, тот Богу не маливался? А это взять, – сам адмирал ежели плачет, это тоже понимать надо. А ежели всем враз тонуть, ты это как понимаешь? И выходит, что ты – из Мазеп анафема, тьфу!
Слышны голоса:
– Это точно.
– Верно.
– Правильно, что и говорить.
– Море тебе не поле, на нем пеш не походишь.
– Ну а ты что? – спрашивает офицер у другого, высокого бородача с тусклою серьгою в левом ухе.
– Мы соколинские, ваше благородие, – отвечает тот хриплым басом и смотрит прямо на офицера неестественно выпученными, глупыми глазами.
– Так! Ну что же? – опять спрашивает офицер.
– Сдамшись мы из-за веревок, значит, – неторопливо говорит сахалинец.
Офицер удивлен. Смотрит на сахалинца и спрашивает:
– Как так из-за веревок?
– Так, значит, перевязываться нечем, ваше благородие, – говорит сахалинец.
Солдаты смеются. Офицер пожимает плечами. Говорит:
– Какие веревки? Зачем перевязываться? Ничего не понимаю. Что ты путаешь?
Сахалинец смотрит на офицера невозмутимо-ясными глазами, и уже не разобрать по его лицу, глуп он или хитер, перевирает ли слышанное или сам сочиняет для потехи. И говорит:
– Так точно, ваше благородие. Народ у нас вор. Пришло дело к разделке, генерал говорит: «Перевязать их». Ему докладают: «Ваше присходительство, веревок нет, перевязывать нечем». Что ты тут станешь делать? Спосылали за японцем, – бери, владай, косоглазый, твоя взяла!
Венчанная*
В самой обыкновенной, небогато убранной комнате небольшой петербургской квартиры у окна стояла молодая женщина Елена Николаевна и смотрела на улицу.
Ничего интересного не было там, на этой шумной и грязноватой разъезжей столичной улице, и смотрела в окно Елена Николаевна не потому, что хотела увидеть что-то интересное. Правда, из-за угла другой, перекрестной улицы покажется сейчас ее мальчик, которому пора возвращаться из гимназии, но разве Елена Николаевна подошла к окну затем, чтобы ждать сына! Она так гордо уверена в нем и в себе! Придет в свой час, как всегда, – как и все в жизни совершается в свое время.
Елена Николаевна стояла гордая, прямая, с таким выражением на прекрасном бледном лице, как будто голова ее увенчана короною.
Стояла, вспоминала то, что было десять лет тому назад, в год смерти мужа, с которым прожила совсем недолго.
Такая страшная была смерть! В ясный день ранней весны вышел он из дома здоровый, веселый, а к вечеру принесли его труп – погиб под вагоном трамвая. Казалось тогда Елене Николаевне, что нет больше для нее в жизни счастья. Умерла бы от горя, да только маленький сын привязывал к жизни, да еще привычные с детства мечты порою утешали. И так трудно стало жить, так мало стало денег!
Летом Елена Николаевна с сыном и с младшею сестрою жила на даче. И вот сегодня опять вспомнилось ей с удивительною отчетливостью то ясное летнее утро, когда случилось такое радостное, странное и такое, по-видимому, незначительное событие, и на душу ее низошла эта удивительная ясность, озарившая всю ее жизнь. То удивительное утро, после которого всю жизнь Елена Николаевна чувствовала себя так гордо, так спокойно, словно она стала царицею великой и славной страны.
Утро это, столь памятное ей, началось темною печалью, как и каждое утро того лета, напоенного ее слезами.
Наскоро покончив с заботами бедного своего хозяйства, пошла Елена тогда в лес, от людей подальше.
Любила она забраться в глубину леса и там мечтать, иногда плакать, былое счастье вспоминать.
Была там прогалинка милая, – трава на ней мягкая, влажная, небо над нею высокое, ясное. Северная влажная, ласковая трава, северное неяркое, милое небо. Все согласное с ее печалью.
Пришла Елена, стала у серого камня посредине полянки, смотрит перед собою ясными синими глазами, – далеко унеслись ее мечты. Подойди теперь кто-нибудь к ней, окликни:
– Елена, о чем ты мечтаешь?
Вздрогнет Елена, забудет свой сладкий сон, вмиг разлетится пестрый рой мечтаний; ни за что не скажет Елена, о чем мечтала.
Да и что за дело людям до того, о чем она мечтает! Они все равно не поймут… Что им эти царевны мечтательного края, со светлыми лицами, с ясными глазами, в сияющих одеждах, – царевны, которые приходят к ней и утешают ее!
Стоит Елена на тихой поляне. В синих глазах Елениных печаль. Руки на груди скрещены. Солнце над ее головою высоко, греет сзади ее тонкие плечи, над русыми косами нимбом золотым играет. Мечтает Елена. И вдруг слышит голоса и смех.
Вот перед нею три светлые девы, три лесные царевны. Одежды у них белы, как у Елены; глаза у них сини, как у Елены; косы у них русы, как у Елены. На головах у них венцы – венки цветочные, многоцветные. Тонкие руки их открыты, как у Елены, и тонкие плечи их целует милое солнце, как плечи у Елены. Тонкие, легко загорелые ноги в траве сырой купаются, как ноги у Елены.
Смеются три сестры лесные, и подходят к Елене, и говорят:
– Какая красивая!
– Стоит, а солнце золотит ее волосы.
– Стоит, как царица.
Печаль и радость странно смешаны в Еленином сердце. Протягивает к ним легкие, стройные руки Елена и говорит радостно звенящим голосом:
– Здравствуйте, милые сестрицы, царевны лесные!
Звенит, звенит, как золотой колокольчик, Еленин голос; звенит, звенит, заливается золотыми колокольчиками легкий смех лесных царевен. И говорят Елене лесные царевны:
– Мы – царевны, а ты кто?
– Уж не здешняя ли ты царица?
Улыбается Елена печально и отвечает:
– Какая же я царица! Венца у меня нет золотого, и сердце мое печально, потому что умер милый мой. Никто меня не увенчает.
И уже не смеются сестры. И слышит Елена тихий голос старшей царевны лесной:
– Что же печаль земная! Милый твой умер, но разве он не всегда с тобою? Сердце твое тоскует, но разве у него нет сил побеждать, ликуя? И разве воля твоя не возводит тебя высоко?
И спрашивают Елену:
– А ты хочешь быть здесь нашею царицею?
– Хочу, – говорит Елена.
И дрожит от радости, и блестят радостные слезинки на синих Елениных глазах.
И опять спрашивает та лесная царевна:
– А будешь ты своего венца достойна?
Трепещет Елена от дивного страха и говорит:
– Буду венца своего достойна.
И говорит Елене та царевна:
– Всегда стой перед судьбою, чистая, смелая, как стоишь теперь перед нами, и прямо смотри людям в глаза. Над печалями торжествуй, не бойся жизни и перед смертью не трепещи. Гони от себя рабские помыслы и низкие чувства, и если в нищете будешь и в работе подневольной, и в заточении, – будь гордою, свободною, милая сестра.
Дрожит Елена и говорит:
– И в рабстве буду свободна.
– Мы тебя увенчаем, – говорит царевна.
– Увенчаем, увенчаем, – повторяют другие.
Цветы рвут золотые, белые; белыми руками быстро плетется венец душистый, цветочная корона лесной царицы.
И вот увенчана Елена, и лесные царевны, взявшись руками, ведут вкруг нее тихий хоровод, – в круг радостного кружения замкнули Елену.
Скорее, скорее – вьются легкие одежды, влажною травою перевиты легкие, пляшущие ноги. Замкнули, закружили, увлекли Елену в быстрое кружение восторга, – от печали, от жизни, робко и тускло тоскующей, увлекли они Елену.
И сгорало время, и таял день, и печаль, пламенея, претворялась в радость, и восторгом томилось Еленино сердце.
Целуют Елену лесные царевны, убегают.
– Прощай, милая царица!
– Прощайте, милые сестры, – отвечает им Елена.
За деревьями скрылись; осталась Елена одна.
Идет домой, гордая, увенчанная.
Никому не сказала дома, что было с нею в лесу. Но такая стала гордая и светлая, что насмешливая сестрица Ирочка говорила:
– Елена сияет сегодня, как именинница.
Никому не сказала Елена дома, но сказать кому-нибудь надобно.
К вечеру пошла Елена к мальчику Павлику, который скоро умрет. Любила его Елена за то, что он всегда был ясным, и за то, что навсегда останется он ясным. По ночам иногда просыпалась Елена от острой жалости к Павлику, – просыпалась поплакать о мальчике, который скоро умрет. И странно смешивалась в ее сердце жалость к мужу покойному, к себе, осиротелой рано, и к мальчику, который скоро умрет.
Павлик сидел один в высокой беседке над обрывом и смотрел на тихо пламенеющий закат. Увидал Елену, улыбнулся, – всегда радовался, когда приходила Елена. Любил ее за то, что она никогда не говорила ему неправды и не утешала его, как делали другие. Павлик знал, что он скоро умрет и что будут его долго помнить только две – мама родная и милая Елена Николаевна.
Рассказала Павлику Елена о том, что было с нею сегодня утром в лесу. Закрыл глаза Павлик, задумался. Потом улыбнулся радостно и сказал:
– Я рад, царица моя лесная. Я всегда знал, что вы – свободная и чистая. Ведь каждый, кто умеет сказать «я», должен быть господином на земле. Царь земли – человек.
Потом всмотрелся Павлик в трех барышень, проходивших внизу под обрывом, и сказал Елене:
– Смотрите, вот идут сюда ваши милые лесные царевны.
Посмотрела Елена, узнала, и сердце ее сжалось мгновенною тоскою. Три барышни! Такие же белые на них платья, как утром, и очи сини, и косы русы, и руки стройны, но уже не венки, а белые шляпки на их головах. Барышни обыкновенные, дачные барышни!
Они скрылись на минуту за кустами, и вот опять показались, повернули наверх, по узкой тропинке идут мимо беседки, где сидят Павлик с Еленою. Ласково Павлику кивают головами и Елену узнали.
– Здравствуй, милая царица!
– Сестры! – радостно кричит Елена.
И обрадована навсегда Елена. И в обычности явлена ей радость увенчанной жизни. Через все испытания бедной, скудной жизни пронесет она свою царственную гордость, высокое достоинство свое.
И вот теперь, через много лет, стоя перед окном, одетая в бедное, поношенное платье, ждет она сына и шепчет, вспоминая день своего венчания: «Человек – царь земли!»
Из рассказов, не вошедших в книги
Царица поцелуев*
Сколь неразумны бывают и легкомысленны женские лукавые желания и к каким приводят они страшным и соблазнительным последствиям, тому примером да послужит предлагаемый рассказ, очень назидательный и совершенно достоверный, о некоторой прекрасной даме, которая пожелала быть царицею поцелуев, и о том, что из этого произошло.
В одном славном и древнем городе жил богатый и старый купец по имени Бальтасар. Он женился на прекрасной юной девице, – ибо бес, сильный и над молодыми, и над старыми, представил ему прелести этой девицы в столь очаровательном свете, что старик не мог воспротивиться их обаянию.
Женившись, Бальтасар раскаивался немало, – преклонный возраст не давал ему в полной мере упиться сладостями брачных ночей, а ревность скоро начала мучить его. И не без основания: молодая госпожа Мафальда, – так звали его жену, – скучая скудными ласками престарелого супруга, с вожделением смотрела на юных и красивых. Бальтасару же по его делам приходилось отлучаться из дому на целые дни, и только в праздники мог он неотлучно быть с Мафальдою. И потому Бальтасар приставил к ней верную старую женщину Барбару, которая должна была неотступно следовать всегда за его женою.
Скучна стала жизнь молодой и страстной Мафальды: уже не только нельзя было ей поцеловать какого-нибудь красивого юношу, но и украдкою брошенный на кого-нибудь умильный взгляд навлекал на нее суровые укоры и беспощадные наказания от ее мужа: ему обо всем доносила сварливая, злая Барбара.
Однажды в знойный летний день, когда было так жарко, что даже солнце тяжело задремало в небе и не знало потом, куда ему надобно идти, направо или налево, заснула старая Барбара. Молодая Мафальда, сняв с себя лишнюю одежду и оставив на себе только то, что совершенно необходимо было бы даже и в раю, села на пороге своей комнаты и печальными глазами смотрела на тенистый сад, высокими окруженный стенами.
Конечно, никого чужого не было в этом саду, да и не могло быть, так как единственная калитка в заборе давно уже была наглухо заколочена и попасть в сад можно было только через дом, – а в дом никого не впускали крепко запертые наружные двери. Никого не видели печальные очи пленной молодой госпожи. Только резкие тени неподвижно лежали на песке расчищенных дорожек, да деревья с блеклою от зноя листвою изнывали в неподвижном безмолвии завороженной своей жизни, да цветы благоухали пряным и раздражающим ароматом.
И вдруг кто-то тихим, но внятным голосом окликнул Мафальду:
– Мафальда, чего же ты хочешь?
Промолчать бы ей, уйти бы ей в комнаты, закреститься бы ей от нечистого наваждения, – нет, Мафальда осталась. Мафальда встрепенулась. Мафальда с любопытством огляделась кругом. Мафальда лукаво усмехнулась и шепотом спросила:
– Кто там?
И недалеко от нее, в розовых кустах, откуда пахло так томно и нежно, засмеялся кто-то тихо, но таким звонким и сладким смехом, что от непонятной радости замерло сердце Мафальды. Вот только пошепталась она с лукавым искусителем – и уже подпала под власть его поганых чар.
И опять заговорил неведомый гость, и ароматом повеяли его обольстительные слова:
– Госпожа Мафальда, что тебе в моем имени? И показаться я тебе не могу. Ты же поспеши сказать мне, чего ты желаешь и о чем ты томишься, и я все исполню для тебя, прелестная дама.
– Почему не хочешь ты показаться мне? – спросила любопытная Мафальда.
– Госпожа, ты так легко одета, – отвечал Мафальде неведомый посетитель, – длинны и густы твои черные косы, но все-таки они не закрывают совсем твоих восхитительных ног, и если я выйду сейчас, то тебе, госпожа, будет стыдно.
– Ничего, никто нас не увидит, Барбара спит, – сказала Мафальда.
Но чуток сон злых старух, стерегущих молодых красавиц. Барбара услышала свое имя и проснулась. Стала на пороге рядом с госпожою, подозрительно осмотрелась и спросила:
– Госпожа Мафальда, с кем ты разговаривала сейчас? Кто был у тебя в этом саду?
– С кем говорить мне! – досадливо ответила Мафальда, – здесь никого не было, да и кто мог бы попасть в этот сад? Разве только нечистый, а что мне с ним разговаривать? Не большая услада!
Но старуха недоверчиво покачивала головою и бормотала:
– Хитры молодые жены старых мужей. Я чую, что здесь был кто-то: не чертом пахнет здесь, а молодым кавалером в бархатном берете и красном плаще. Крутя одной рукою черный ус и другою рукою опираясь в бок около рукоятки своей острой шпаги, он стоял там, за розовым кустом, и говорил тебе слова, за которые твой муж заплатит тебе ужо звонкою монетою.
Настала ночь, но не стало прохладно. Такая же душная, такая же томная, как день, была и черная ночь.
Жестоко высеченная мужем по доносу злой Барбары, долго плакала Мафальда и не хотела заснуть. Рядом с нею на супружеском ложе тихо похрапывал почтенный купец Бальтасар, насладившийся в меру своих старческих сил вынужденными ласками наказанной жены.
И вдруг опять услышала Мафальда над собою тот же искусительный сладкий голос:
– Мафальда, говори скорее, чего же ты хочешь? Говори скорее, пока не проснулся муж, пока никто не знает, что я здесь.
И уже не медлила Мафальда ни минуты и сказала, приподнявшись на подушках и в темноту ночную обратив вожделеющий взор:
– Хочу быть царицею поцелуев.
Засмеялся неведомый посетитель, и опять все стало тихо. Но в себе почувствовала Мафальда какую-то перемену. Еще не знала она, в чем состоит эта перемена, но уже радостно ей было.
Она заснула сладко и крепко и видела радостные и страстные сны. Многие прекрасные юноши приходили к ней и осыпали ее такими пламенными поцелуями, каких, казалось, никто еще не ведал ни на земле, ни на небе. И снилось Мафальде, что сила ее нескончаема и что она может перецеловать всех юношей того города и многих других городов и всех их одарить пламенными ласками до утомления, до смерти.
И утро настало, и загорелась великая в теле Мафальды жажда поцелуев. Едва только ушел на свою торговлю ее муж, Мафальда сбросила с себя все одежды и вознамерилась выйти на улицу.
Барбара закричала неистовым голосом, призывая слуг, и хотела силою удержать в доме госпожу. Но Мафальда быстрым ударом повергла на пол злую приставницу свою, локтями и кулаками растолкала всех слуг и служанок и выбежала на улицу нагая, громко вопия:
– Прекрасные юноши, вот иду я на перекрестки ваших улиц, нагая и прекрасная, жаждущая объятий и пламенных ласк, я, великая царица поцелуев. Вы все, смелые и юные, придите ко мне, насладитесь красотою и буйным дерзновением моим, в моих объятиях испейте напиток любви, сладостной до смерти любви, более могущественной, чем и самая смерть. Придите ко мне, ко мне, к царице поцелуев.
Заслышав пронзительно-звонкий зов Мафальды, отовсюду поспешно сбежались юноши того города.
Красота юной Мафальды и еще более, чем эта красота, бесовское обаяние, разлитое в ее бесстрашно и дерзко обнаженном предо всеми теле, распалили желания сбежавшихся юношей.
Первому же из них открыла юная Мафальда свои страстные объятия и упоила его блаженством сладостных поцелуев и страстных ласк. Отдала она его желаниям свое прекрасное тело, простертое здесь же, на улице, на поспешно разостланном широком плаще ее любовника. И пред очами вожделеющей толпы юношей, испускающих вопли страсти и бешеной ревности, быстро насладились они горячими ласками.
Едва разомкнулись объятия первого любовника, едва склонился он к ногам прекрасной Мафальды в страстной истоме, желая кратким отдыхом восстановить любовный неистовый пыл, оттащили его от Мафальды. И второй юноша завладел телом и жаркими ласками Мафальды.
Густая толпа вожделеющих юношей теснилась над ласкающимися на жестких камнях улицы.
– Им жестко, – сказал кто-то благоразумный и добрый, – подложим им свои плащи, чтобы и для себя приготовить пышное ложе, когда придет наш черед возлечь с царицею поцелуев.
И вмиг гора плащей воздвиглась среди улицы.
Один за другим бросались юноши в бездонные объятия Мафальды. И отходили в изнеможении один за другим, а прекрасная Мафальда лежала на мягком ложе из плащей всех цветов, от ярко-красного до самого черного, и обнимала, и целовала, и стонала от беспредельной страсти, от не утоляемой ничем жажды поцелуев. И свирельным голосом вопила, и далече окрест был слышен голос ее, взывающий так:
– Юноши этого города и других городов и селений, ближних и дальних, придите все в объятия мои, насладитесь любовью моею, потому что я – царица поцелуев, и ласкания мои неистощимы, и любовь моя безмерна и неутомима даже до смерти.
Разнеслась по городу быстрокрылая молва о неистовой Мафальде, которая лежит обнаженная на перекрестке улиц и предает свое прекрасное тело ласканиям юношей. И пришли на перекресток мужи и жены, старцы, и почтенные госпожи, и дети, и широким кругом обступили тесно сплотившуюся толпу неистовых. И подняли громкий крик, укоряли бесстыдных и повелевали им разойтись, угрожая всею силою родительской власти, и гневом Божиим, и строгою карою от городских властей. Но только воплями распаленной страсти отвечали им юноши.
И Бальтасар пришел и рвался к жене, яростно вопия, расточая удары и кусаясь. Но не пустили его юноши к Мафальде. Обессилел старик и, стоя поодаль, рвал на себе одежду и седые волосы.
Пришли городские старейшины и повелели бесстыдному сборищу разойтись. Но не послушались юноши и продолжали толпиться вокруг прекрасной обнаженной Мафальды. И уговоры патеров не подействовали на них. И уже долго длилось позорище, и уже клонился к вечеру день.
Позвали тогда стражу. Воины набросились на юношей, избили многих, других кое-как разогнали. Но вот увидели они обольстительное, хотя уже измятое многими ласками тело Мафальды и услышали ее свирельно-звонкий вопль:
– Я – царица поцелуев. Придите ко мне все, жаждущие сладостных утешений любви.
Забыли воины свой долг. И тщетно восклицали старейшины:
– Возьмите безумную Мафальду и отнесите ее в дом к ее супругу, почтенному Бальтасару.
Воины, как перед тем юноши, обступили Мафальду и жаждали ее объятий. Но так как они были грубые люди и не могли соблюдать очередь, как делали это учтивые и скромные юноши того города, хорошо воспитанные их благочестивыми родителями, то они разодрались, и пока один из них обнимал Мафальду, другие пускали в ход оружие, чтобы решить силою меча, кто должен насладиться несравненными прелестями Мафальды. И многие были ранены и убиты.
Не знали старейшины, что делать. Совещались на улице близ того места, где неистовая Мафальда вопила в объятиях солдат и осыпала их неутомимыми ласками.
Случай, который при всяких других обстоятельствах следовало бы признать ужасным, пришел на помощь сгорающим от бессильного гнева и стыда старейшинам города. Один из солдат, юный и сравнительно с другими слабый, но страстный не менее остальных, не мог дождаться возможности приблизиться к обольстительному телу Мафальды. Он ходил вокруг места, где сладостные звучали поцелуи, где неистощимая любовь дарила не сравнимые ни с чем наслаждения его товарищам, – и отталкивали его от этого милого места товарищи его и грубо смеялись над ним. Он лег на камни мостовой, жесткие, холодные, – ибо уже целый день прошел и ночная тьма спустилась над городом, – лег на камни, закрыл голову плащом и завыл жалобно от обиды, стыда и бессильного желания. Сожигаемый злобою, украдкою схватился он за свой кинжал и тихо, тихо, как в траве крадущаяся змея, пополз между ногами толпившихся солдат. И приблизился к Мафальде. Ощупал горячими руками ее похолодевшие ноги и в трепещущий бок ее вонзил быстрый кинжал.
Громкий визг раздался и прерывистый вой. В руках ласкавшего ее солдата умирала Мафальда и стонала все тише. Захрипела. Умерла.
Обрызганный ее кровью, поднялся солдат.
– Кто-то зарезал царицу поцелуев! – завопил он свирепо. – Кто-то злой помешал нам насладиться ласками, которых еще никто не знал на земле, потому что первый раз к нам сошла царица поцелуев.
Смутились солдаты. И стояли вокруг тела.
Тогда подошли старцы, уже бесстрастные от долготы пережитых ими лет, подняли тело Мафальды и отнесли его в дом к старому Бальтасару.
В ту же ночь молодой солдат, убивший Мафальду, вошел в ее дом. Как случилось, что его никто не заметил и не остановил, не знаю.
Он приблизился к телу Мафальды, лежащему на кровати, – еще не был сделан гроб для покойницы, – и лег рядом с нею под ее покрывалом. И, мертвая, разомкнула для него Мафальда свои холодные руки и обняла его крепко, и до утра отвечала его поцелуям поцелуями холодными и отрадными, как утешающая смерть, и отвечала его ласкам ласками темными и глубокими, как смерть, как вечная узорешительница смерть.
Когда взошло солнце и знойными лучами пронизало сумрак тихого покоя, в этот страшный и томный, в этот рассветный час в объятиях обнаженной и мертвой Мафальды, царицы поцелуев, под ее красным покрывалом умер молодой воин. Разъединяя свои объятия, в последний раз улыбнулась ему прекрасная Мафальда.
Я знаю, что найдутся неразумные жены и девы, которые назовут сладким и славным удел прекрасной Мафальды, царицы поцелуев, и что найдутся юноши столь безумные, чтобы позавидовать смерти ее последнего и наиболее обласканного ею любовника. Но вы, почтенные, добродетельные дамы, для поцелуев снимающие одни только перчатки, вы, которые так любите прелести семейного очага и благопристойность вашего дома, бойтесь, бойтесь легкомысленного желания, бегите от лукавого соблазнителя.
День шестьдесят седьмой*
Новелла
Ирина была юная, телесно чистая, прекрасная, и более всего на свете любила себя, любила свое стройное, гибкое, девственно-свежее тело, для сладостных созревшее объятий, для знойных радостей налившееся в совершенные формы.
Уже давно порочные помыслами подруги открыли Ирине тайны внешней любви, роковые соблазны грубой жизни. Но недолго томила ее ребяческая, преждевременная похотливость, – эта полная ранних предчувствий отрава скоро истощилась в томных ласках и нескромных объятиях ее сверстниц в жуткие и темные минуты робких уединений.
Когда же юная окрепла грудь, упруго выдавливая из нежной плоти совершенство чистых форм, и рдяностью налилась пара млечных почек, упругим натяжением кожи раздвинутых широко одна от другой, над пологими склонами к той очаровательной долине, на дне которой бьется пламенный родник, когда колыхания этих дивных склонов стали подобны приливу и отливу очаровательных волн, – когда синими зарницами очей и алыми зорями щек явственные чертились руны темных ворожащих сил, вожделения и стыда, – Ирине стала противна страшная мысль, что грубый варвар, овладев ею, изомнет пленительное цветение, достойное эллина. И варварски разграбит высокое достояние, совершенный и блаженный мир.
Совершенный и блаженный мир!
Ирина чувствовала в те дни, что весь мир замкнут в пределах ее нежной, озаренно-жемчужной, радостно-тревожной кожи. Вся жизнь восторгами пламенеющего мира таилась в этом пронизанном токами юной страсти тела, и все горизонты смыкались на прельщающих ее взор тонких очертаниях розовеющих пальчиков ее ног. И не было иной жизни, и не было и не могло быть иных времен.
Зенит и надир, оба полюса и экватор, все было на ее восхитительном теле, на этой радостно зеркалами стекла, воды, тусклых сталей и ярких воображений отраженной дивной плоти, от пышного океана черных волос, ниспадающих вдоль очаровательных изгибов, до попирающей доски и землю милой, ласканий и целований трепетно избегающей поверхности. И что же солнце! Яркий многоценный алмаз на светлой бирюзе ее венца. И что же луна! Легкий серебряный кокошник на темно-синем море ее бархатного убруса. И что же звезды! Золотые жужжащие пчелы на влажных шорохах ее покрывала.
Как счастлив будет тот смелый искатель, который пламенным ножом дерзких желаний рассечет ее пояс над жемчужною обнаженностью чресл?
Но неужели одни только грубые достижения подарит он ей? А где же изысканно-сладостные утехи, чередование ощущений, пронзающих и нежных, многозвучные и яркоцветные симфонии желаний, томлений, страстностей, наслаждений и стенящих ласканий?
Придет он, скажет приличное, совершат обычное, золотое наденут кольцо, повезут ее, томную, скромную, без румянца на лице к венцу, и пойдет канитель без конца!
Да не будет позора скучных объятий, разрешенного соединения!
Если я – воистину я, необъятная и блаженная вселенная, из себя изведшая и ворожащие мерцаниями сонмы золотокрылых звезд, и ясным холодом мечтающую луну, и пламенного, мечущего стрелы Дракона лазурных высот, если во мне жизнь – моя, моя единая, мною мне для меня ликующая, то что же мне закон, власть, предел? Призрачным врагом на меня брошенная призрачная сеть!
Призрачная сеть, – и я бьюсь в ее липких петлях. Зачем? Разорву, разорву душные плены!
Обнажая в своем строгом затворе свое невинное тело, мечтала и томилась Ирина. Смотрела на себя и еще себя не узнавала в этой сжатой связками платий томительности тела. И еще было стыдно любоваться им.
Как чиста и благоуханна невинная, свободная плоть! Пленительно пахнет все девичье тело, и особенно сладки запахи колен и плеч, и еще слаще пряный и влажный аромат, исходящий из тех заросших тонкими, вьющимися волосками ложбинок, глубоких и чутких, лежащих между пышностью грудей и упругою силою стройных рук.
Но ароматы, поднимающиеся от ее тела, еще казались Ирине отчасти чуждыми, смешанными с измятыми запахами одежд, с металлическими благоуханиями духов, с избыточными испарениями пота. И еще было стыдно вдыхать ароматы милого тела.
Это тело было обнажено и освобождено, но еще не было оно нагим и свободным, и еще не созрела смелость нести его навстречу вожделениям чистого и бестрепетного искателя, – навстречу его мечте и его страсти.
Было счастьем то, что начиналось тогда лето. Настояла на том, чтобы отпустили ее одну в далекую глушь. Оградилась пустынностью просторов и жила, как хотела.
Там, невидимая никем, уподобясь воскресшей дриаде или русалке, проводила Ирина под открытым небом долгие дни нагая. Входила в пустынные воды, надолго отдавалась широким, холодным объятиям глубин, ускоряющим биение пламенного сердца. Лежала на прибрежном пригретом песке, перебирая загорелыми пальцами его легкую и сухую сыпучесть. Шла по мягким и твердым почвам, по орошенным травам и по мягко-сухим мхам, по липким доньям дождевых луж, то пачкая теплыми землями, то омывая прохладными водами нагие стопы.
И стала вся гибкая, тонкая, сильная, бронзово-загорелая. Грудь дышала глубоко и сильно, и голос приобрел яркую звонкость и далеко слышную силу. Под эластичною кожею радостною и прекрасною стала игра сильных мускулов. Кожа стала более упругою, неподатливою и плотною, и уже ветки лесных кустарников не так сильно царапали бедра, икры и спину, и уже голые стопы смело перебегали через мощеные дороги по их острым камешкам. Все внешние восприятия стали точны и чутки, точно раздвинулся, расширился, запестрел и зазвучал невиданными и неслыханными восторгами весь мир, – ее блаженный мир. Свободный мир!
Шестьдесят шесть дней Ирина ни разу не надела другой одежды, кроме легкого иногда прохладными вечерами покрова, и ни разу не обула ног.
И настал день шестьдесят седьмой. Знойный день в конце июля, утро.
Ирина тихо шла по узкой долине в лесу. На светлой зелени трав и мхов, и на темной зелени листвы ее тело золотилось и пламенело, являя на своей поверхности неисчислимые переливы теплых тонов, созданные сочетанием просвечивающей сквозь кожу крови, пламенных поцелуев высокого Дракона, резвых прикосновений ветров и глубинных объятий вод. И казалось это тело сложенным из первобытной красной глины.
Когда Ирина проходила в тени деревьев, пронизанная светом листва набрасывала на ее тело трепещущую сеть, зыбко сотканную из расплавлено-золотых, скользящих и переливающихся кружочков. Вся от этого сделавшись пестрою, Ирина улыбалась радостно и смущенно, как будто льющееся по ее груди и животу навстречу ее шагам горячее солнце щекотало ее. Зеленые рефлексы на ее золотящемся многотонным золочением теле делали ее похожею на лесную деву, из недр земли первоначально восставшую. И лесным, первозданно ясным смехом искрились и сияли ее глаза.
Это был день шестьдесят седьмой, начало знойного и страстного дня. Радостная ликовала уверенность, что сегодня придет он, желанный и жданный.
И вот, выходя из лесу, в сквозном просвете ветвей, показался он, юный и прекрасный и совсем не похожий на поэта наших дней.
«Он?» – вопросительно подумала Ирина и с сожалением осмотрела его светлую летнюю одежду, сшитую просто и хорошо, потому что он приехал из большого города, издалека, гонимый мечтою найти ее, удалившуюся от людей прекрасную деву, ту, тело которой подобно цветом первозданной глине.
Ирина остановилась в тени дерев, в стороне от дороги, по которой ему бы идти, – и он уклонился от своей дороги и направился к тому дивному дереву, под которым яркими и жгучими переливами знойных сверканий сияла нагота нетрепетной и нестыдливой девы.
Кому-то обещанной.
«Ему ли?» – думала она.
«Мне ли?» – думал он.
И смотрели друг на друга, очи в очи. Подобный испугу ощущали восторг, и мгновенный синими холодными молниями вспыхивал стыд, ускоряя вдруг стук двух сердец, в лад одно другому бившихся, потому что высоко вздымались две знойные, две пламенные темные волны, яркие два колыхая на своих вершинах рубина, два напряженно-ярые цветка.
Если улыбается роза уст нагой девы на знойной смуглости ее лица, то какое белое открывается в ее легком раскрытии сверкание!
Если, синея и колеблясь сквозь длинные, дымно-стрельчатые ресницы, дрожат зарницы в двух небесах бездонных глаз нагой девы, то синий там холод претворяется в синее пламя, и вся она, обнаженная дева, – неопалимая купина.
Расплетенные, тяжелые упали косы по сторонам головы, упали на плечи, за плечами струятся, и зыбок их темный смех.
И его первые услышала слова:
– Если ты ждешь меня, вот, я пришел к тебе, милая царевна.
Сладко смеется радость, и радостное сладостно трепещет тело. Мерцали зарницы, и свирельные сказала слова, золотые сронила к цветам звоны:
– Разве я царевна? У царевны – диадема, а я только лесная дева.
Улыбался и говорил, и ясными смотрел на нее глазами, как небо смотрит в небо:
– Ты пришла сюда белою девою зыбких лент, ты возникла здесь золотою царевною голубых высот. Ты не лесная, потому что легкий стан твой объемлем, и твоя кожа опалена бессильною похотью злого Змия, мечущего ярые стрелы, – только стрелы, а ты для меня, – целуемое для моих уст, объемлемое твое для моих объятий, и мне почивать в колеблемом твоем лоне, потому что перед тобою я.
– Да, – сказала Ирина, – ты пришел ко мне, и о имени твоем не спрошу, чтобы от меня не увлек тебя по неведомым волнам белый лебедь к святыне твоего Грааля.
И обняла его одною рукою за шею, и в быстром беге увлекла его в долину, куда никому не придти, где никому не увидеть. Увлекаемый ею в быстром беге, на своей шее чувствовал он трепет тонких жилок ее руки, и влекущую тяжесть ее руки, знойное обаяние власти, очарование ее руки.
Там, в неведомой долине, ясное сияло солнце, там, в неведомой долине, в широко дышащую грудь сладостный и чистый вливался эдемский воздух первобытного, доброю землею взращенного рая, – потому что у входа в неведомую долину совлекла с него и бросила прочь скучные городские одежды, злую закутанность юного тела. И тело его было бело, прекрасно и стройно, и оно не было таким, как тела у поэтов наших дней, тусклых и порочных дней.
И обняла его, и целовала его, и хотела его любви, и поцелуев, и объятий, и ласканий.
И если были небеса и земля, то они были первозданны и новы. И сияло ли солнце четырем небесам, – двум в двух отразившимся близко и блаженно, – сияло ли солнце высокой лазури? И струилась ли от реки прохлада двум прижавшимся одна к другой грудям, – его белая грудь на колебаниях ее смуглых грудей, – струилась ли живая и сладкая прохлада дуновением свежим и отрадным для быстрых и счастливых вздыханий? Деревья и травы, берега и волны, шорохи и шумы, угретые камни и холодные ящерицы, – что предстояло и что проносилось? И вся жизнь была в согласном ритме двух тел.
Так невинно было очарование ее лобзаний, что долго лежали они, обнимаясь и целуясь, и сладостные говоря слова, но не вкушая последнего и сладчайшего счастья.
Склонясь к его белому плечу, Ирина раскрыла смеющийся рот, и нажала зубами на кожу его плеча, и легким укусом разбудила в нем ярость сладострастия. Чувствуя на своей шее сплетенные ее руки, и на лице своем частое и стенящее ее дыхание, он обвил ее тело руками, и соединил руки за ее спиною, и крепко обнял ее, и страстно приник, содрогаясь, к ее телу.
Насладясь первыми ласками, лежали рядом, томно пламенея и сладкие ощущая томления первого стыда. И опять соединили свои объятия, и поцелуи, и ласки желанных достижений.
Неведомой долине явлен, длился знойный день, а для них, знойных, юных и прекрасных, сгорало время. И свилось небо близким шатром над головами, и земля была ложем отрад, и земля была для легкого бега, игр и пляски. И в реке была вода для прохладной забавы, и, радужно дробясь, звонкие и плескучие взлетали над водою брызги. Выходили опять на берег, где мягкая была под ногами глина, и хрупкий песок, и ласкающая ноги трава, – и сплетались руками, и кружились, и плясали, и мчались в быстром беге, и падали на мягкое ложе трав в широкой тени деревьев возобновить радости сладких достижений.
Длился день, и сгорало время, и неистощимы были желания и страсть, – но что же ты, бедное тело человека? Утомление владеет тобою, и к смертной клонит тебя истоме. Уже прерывисто стало дыхание, и неровны биения сердец, и усталые бессильно раскинулись на земле руки и ноги, и томные глядели не глядели глаза.
Но, преодолевая усталость, приникли друг к другу, и соединили свои тела и свои вожделения для последних ласк. Насладились в последний раз, остаток страстных сил соединили и сожгли в блаженном пламени.
Лежали в изнеможении. К его плечу приникла ее голова, разметавшая косы черными струями. Поперек его белого тела лежала ее смуглая рука, бессильно протянутая. Лежали в изнеможении.
И уже не было дня, и уже заря отгорела, и холодною синевою покрылись небеса, и белые дымы закачались над рекою. Из-за вершины дальних деревьев, там, за рекою, поднялась и бесстрастно глядела на недвижные тела ясная круглая луна. Свершила все свои живые круги, истощила все свои любовные вздохи и влеклась теперь навеки холодная и бесстрастно-печальная.
Познала покой последнего утешения. И, утешая, ворожила мертвыми чарами.
Тогда она, имени которой не назову, она, блуждающая окрест и никогда не показывающая человеку своего земного лица, вышла из безмолвного леса, и приблизилась к спящим. Долго сидела над ними и глядела на их усталые лица. Под неподвижным взором косны и холодны были их прекрасные тела. И она томилась, и вздыхала, как ты, как ты, моя…
Сама себя вопрошала:
– Разве надо?
Сама себе отвечала другим вопросом:
– Зачем?
Сама с собою наконец решила:
– Сотку им новые покровы, и к земным отпущу их дням, к созиданию новой жизни.
С шеи своей сняла малый сосуд и открыла его неспешно, – но уже роковая решительность была во всех ее движениях, – и обрызгала их такою холодною водою, что долго дрожали их стройные тела. Ворожащими движениями рук быстро соткала из неведомой пряжи на станке из лунных лучей широко-мягкую ткань, и другую такую же, и двумя отрадными покрыла одеяниями Ирину и того, кто был с нею.
Когда ровным стало их дыхание и глубоким, и ровным и сильным стал стук их согласных сердец, она, ворожащая в тайне, ушла, легкий оставляя за собою по росе на луне слабо блестящий след.
И сохранили знак ее печали.
Заклинательница змей*
1
Богатый фабрикант, Иван Андреевич Горелов, с дочерью выезжал на дачном пароходе, по Волге в город Сонохту, для того чтобы встретить на станции железной дороги своего брата и племянницу. Теперь вместе с ними он возвращался к себе домой, на дачу возле фарфорового и кирпичного заводов. Ехали тоже на пароходе. Павел Иванович Башаров был брат Горелова по матери. В братьях было и много сходного и много разного. Горелов был полон и жив, лет пятидесяти, Башаров сух и сдержан, лет на пять моложе. Горелов охотно занимался и заводами своими, и своим великолепно поставленным садом. Башаров предпочитал быть рантьером и держал деньги в германских банках, – русским не доверял: боялся, что в России вспыхнет революция и что деньги из банков будут конфискованы.
Стоял жаркий летний день. Братья сидели на палубе парохода, разговаривали и любовались живописными берегами Волги. Милочка, дочь Горелова, и Елизавета, дочь Башарова, разговорились очень оживленно с худенькою, тоненькою девицею в элегантном костюме и широкополой соломенной шляпе с белыми перьями.
Башаров вдруг забеспокоился.
– Что это за цаца? – спросил он брата, показывая на девицу.
Горелов всмотрелся и громко захохотал.
– Да это – Ленка, – отвечал он брату.
– Что за Ленка? – испуганно спросил Башаров.
– Из здешних, сонохотских, дочь мещанки какой-то голодраной. Четыре года тому назад она еще по улицам босиком шлендала, милостинку выпрашивала для прокормления родительницы, а потом вдруг с цирком увязалась, наездницей заделалась, – вишь, какая красавица стала. И не узнаешь.
Башаров сердито забормотал:
– Ну, это я просто не понимаю, что такое! Неужели Милочка не могла сказать Лизе! Что за компания для молодых барышень!
И он закричал тревожно:
– Лиза, Лиза!
Все три девушки быстро повернулись в сторону двух солидных господ, из которых один очень сердито смотрел на них, а другой хохотал весело и громко.
Ленка сказала тихо:
– Лизавета Павловна, ваш батюшка сердится, зачем вы со мною разговариваете. Уж вы лучше идите к ним, – мы с вами еще встретимся в другой раз, без старших.
Елизавета быстро подошла к отцу, слегка кивнувши головою Ленке, и по лицу ее не было видно, что перерыв разговора неприятен. Милочка осталась разговаривать с Ленкою. Больше слушала, – Ленка рассказывала о своих приключениях, переездах, удачах и голодовках. Обо всем, удачном и неудачном, говорила одинаково легко и весело. Но Милочке казалось, что и теперь еще не совсем обсохли на худощавых, смуглых щеках нарядной наездницы росящиеся слезинки.
Кончая рассказ, говорила Ленка:
– Вот урвалась на месяц, мать проведать, на Сонохту посмотреть. Ехала сюда, все здешнее вспомнила. Я переменилась, Сонохта все та же, ленивая да сонная. Пуховиками обложилась, пирогами объедается, распевы нищих слепцов слушает, рвани да голи по-прежнему много. По дороге так думала, – поживу недельку, пойду к Светлому озеру. Девчонкой была, ни разу там не бывала, не собраться было. Ну вот, думала, нынче пойду. А как приехала, – думаю, – что я туда пойду? Грешными глазами все одно святых стен не увижу, грешными ушами святого благовеста не услышу.
– Никто не видел Китежа, – отвечала Милочка, – никто не слышал благовеста.
Ленка поглядела во все стороны быстро и тревожно, нагнулась к самому Милочкину уху и зашептала:
– Есть один человек, – его каждый год в святой день незримая сила восхищает и посреди града Китежа ставит.
2
Жена Горелова, Любовь Николаевна, и его сын Николай ждали его и гостей на пароходной пристани; а и вся-то пристань – ломаная барка, причаленная к берегу.
– Хотела выехать вам навстречу… – начала Любовь Николаевна.
Николай, студент четвертого курса и, по наружным признакам, балбес, перебил ее, ломаясь и кривляясь:
– Да задержали наиважнейшие хозяйственные заботы.
– А тебя что задержало? – спросила Милочка.
Как часто с ним бывало, сбитый с толку ее тоном, Николай на минуту потерял свою самоуверенность и не сумел ничего ответить. Горелов, громко хохоча, сказал жене:
– А мы с Павлом не успели встретиться, как уж опять сцепились спорить, – все на ту же тему.
– Насчет помещения капиталов? – спросил Николай.
Он бывал очень догадлив, когда шла речь о деньгах.
– В самую точку попал, – отвечал отец.
Продолжая оживленно разговаривать, пересекли песчаный берег, оживленный в час прибытия парохода, но уже готовый опять погрузиться в ленивую и сонную тишину, поднялись по крутой дорожке и вошли в гореловский сад. Сад содержался слишком хорошо. По тому, как хозяин поглядывал на гостей, видно было, что он гордился и садом, и всем, что здесь есть. С дорожек и с террас сада открывался очень красивый вид на Волгу и на недалекий город. Сквозь мглистую даль золотые главы многочисленных церквей радостно и переливно блистали на солнце. Белые стены домов, раскинувшихся широко над Волгою, создавали впечатление успокоенной ясности – светлее и чище, казалось, не предстал бы взорам и сам преславный град Китеж.
Но на все это великолепие Башаров посматривал скучающими глазами. Он только что возвратился с Ривьеры, где насмотрелся всяких естественных и искусственных красот. А русский человек не может поверить, что русские пейзажи не хуже заграничных. Башаров говорил обычным своим холодным и кислым тоном:
– Что ты там, Иван, ни говори, а я с тобою согласиться никак не могу. Хоть мы с тобой, как говорится, и братья, но, видно, мы оба не в мать – ты в своего отца уродился, я – в своего, и на вещи мы с тобою смотрим совершенно различно.
– Чудак! – весело возражал Горелов, – да ведь арифметика-то одинаковая, что у тебя, что у меня, – как ты на этот счет полагаешь?
– Кто ее знает, эту твою арифметику! – с кислою усмешкою отвечал Башаров. – В твоей арифметике, кроме сложения и умножения, есть еще вычитание и деление, а в моей нет. Единица и шесть нулей.
– Однако не рублей, а марок, – вставил Николай.
– Верных, честных германских марок, – отвечал Башаров с тем странным упоением, с которым русские люди хвалят чужое.
И по его лицу было видно, как приятно ему думать, что его сокровище лежит в Берлине, и как поэтому спокойна его душа. Не надо бояться никаких случайностей русской жизни, неурядиц, забастовок, волнений.
Не один Башаров, многие русские после событий 1905 года поместили свои капиталы в германские банки. В числе их были не только типичные буржуа, но и очень интеллигентные люди. Они довольствовались небольшим процентом, который казался им зато верным. Германцы были еще более довольны, – чужие деньги, в изобилии проливаемые русскими во множестве видов на германскую почву, были очень полезны для благоустройства германских городов и для процветания германской торговли и германской промышленности. Ах, глупость работает не плоше измены!
3
Вечером в помещении фабричного клуба был любительский спектакль и потом танцы. Актерами и актрисами выступали фабричные. Не искусно играли, но с большим увлечением. Так же танцевали они, без ловкости, но с азартом. Были и почетные гости: Николай Горелов с сестрою, Елизавета Башарова и ее жених, инженер Шубников, служащий на фабриках у Горелова. Все они усердно участвовали в танцах. Николай ухаживал за красивою работницею Верою Карпуниною. Тоже усердно, но без малейшего успеха.
Конторщик Пучков, красивый молодой человек с мечтательными глазами, которым странно и неприятно противоречил слишком легкомысленный галстук, розовый с лиловыми крапинками, говорил Милочке в перерыве между двумя танцами:
– Правду ли говорят, что ваш дядюшка, господин Башаров, держит свои капиталы в берлинском государственном банке?
Милочка посмотрела на Пучкова удивлением. Спросила:
– Почему вы этим интересуетесь?
– Конечно, это – не мое дело, – говорил Пучков, – но только очень печально. Господин Башаров не один. А все эти миллионы очень пригодились бы на русской скудной экономической почве. Все у нас так неустроенно, так везде много потребностей, много, извините за выражение, незаткнутых дыр, – каждая копейка пригодилась бы. А немцы и без нас богаты.
– Вы, конечно, правы, – сказала Милочка – но что ж делать, если многие не доверяют русским банкам?
– И напрасно не доверяют, – возражал Пучков. – Если власть перейдет к пролетариату, ничьи деньги не пропадут. Рабочим чужих денег не надо. А что именно им надобно, это вы сами хорошо знаете, да и мы с вами неоднократно на эту занятную тему беседовали. Так часто, что, боюсь, надоел я вам такими разговорами.
Милочка молча улыбнулась. В это время, шурша новенькими платьицами, подошли две здешние работницы, Иглуша и Улитайка. Иглуша, хихикая, сказала:
– Барышня, хотите, загадку загадаю? Николай Иванович никак не мог угадать, и господин Шубников не мог, а вы, может быть, угадаете.
Улыбчиво-простодушно было румяное Иглушино лицо. Милочка засмеялась:
– Скажите, Иглуша.
Красивая Вера и нарядная Ленка остановились тут же. Вера пренебрежительно сказала:
– Глупости!
– А ты знаешь отгадку, так не говори, – поспешно сказала Улитайка.
Вера пожала плечами. Стояла и слушала, усмехаясь, как взрослые слушают маленьких. Иглуша говорила:
– Вот загадка: когда мать у сына живет?
Милочка уже знала этот тип загадок-каламбуров. Подумала немного и сказала:
– Мать никогда усов не наживет.
Иглуша всплеснула руками.
– Скажите пожалуйста, – угадали!
Улитайка поторопилась с другою загадкою:
– Ну, слушайте, я вам другую загадаю, – у вас на балконе ходят?
Поощренная первою удачею, Милочка эту загадку решила еще быстрее:
– У нас на бал люди ходят, а не кони.
– Вы знали раньше, раньше знали загадку! – закричали обе девушки враз.
– Глупости! – повторила Вера. – Что это за загадки! Подумал немного и разгадал. А вот, Людмила Ивановна, этакие бывают загадки, – всю голову разломит, а все ничего не придумаешь. И надобно решить, – хоть умри, да реши, – а решить-то и нельзя. А то придумаешь решение, да непременно окажется, что разгадка-то не одна, – несколько их, и одна другой хуже. Как в сказке говорится: направо пойдешь, дорогое себе потеряешь; налево пойдешь, головы не сносишь; прямо пойдешь, назад не вернешься; на месте застоишься, в соляной столб обратишься; а назад повернешь, в болоте завязнешь.
Милочка, тихо улыбаясь, сказала:
– О, Вера, как вы подробно разработали сказочный мотив!
Вдруг Милочкин голос дрогнул. Она порывисто ущипнула Веру под подбородком, притянула ее к себе и поцеловала. И, когда Милочкины глаза были близки к Вериным, Вере показалось, что она глянула в синее озеро слез. Милочка повернулась и быстро пошла в коридор. Вера догнала ее. Крепкою рабочею рукою придержала ее за обнаженный локоть и золотозвенящим голосом спросила:
– Друг мой, солнышко, или я тебя обидела больно? Что плачешь, Милочка? О себе не плачь, обо мне тоже не надобно, не хочу.
Милочка, вытирая слезы, отвечала:
– Да уж я и не плачу. Так, вдруг в сердце укололо. Знаешь, Вера, если кожа сорвана с тела, пылинка ранит.
4
Так как у Башарова никакого практического дела не было, то он проводил жизнь, занимаясь наблюдениями и заботясь о чужих делах. С отношениями и с обстоятельствами жизни в семье Гореловых он был хорошо ознакомлен, – по крайней мере с внешней стороны, и в этот приезд очень быстро разобрался в том, что здесь случилось нового. И все новое ему не нравилось. Да и старое не пользовалось его симпатиями. Если он каждое лето приезжал к брату погостить несколько недель, то делал это просто по привычке, издавна усвоенной, по той странной привычке к туризму во что бы то ни стало, которая заставляет многих людей хорошего достатка вести кочевой образ жизни и большую часть года проводить вне того города, где находится их постоянное жилище.
Не нравилось теперь Башарову то, что здесь гостил профессор Абакумов, старый друг дома. Положим, Башаров и раньше очень часто встречался с профессором в этом доме. Но тогда постоянно с профессором бывала его жена, бойкая дама из здешних купчих. Теперь же Абакумов овдовел, и было что-то неприятное для Башарова в его гощении. Вставали в памяти старые сплетни, чудилась какая-то опасность семейному благополучию. В чем дело, Башаров догадывался, но сказать о своих догадках брату пока не решался, – не было доказательств.
Не нравилось то, что Ленка зачастила к Милочке. Не компания, – это одно. А второе, – Горелов начал засматриваться на Ленку, и дело могло принять обычный при влюбчивости Горелова оборот. Любовные приключения Горелова были бесчисленны. Они не мешали тому, что он нежно и почти благоговейно был влюблен до сих пор в свою жену. Жена была для него святынею в доме, а любовные приключения – веселыми уступками всесильному бесу плотской похоти.
Не нравилось Башарову то, что Николай часто ходил на фабрику. По-видимому, он увлекался какою-нибудь из фабричных работниц. И уже Башаров досадовал на себя, зачем не пошел на фабричный бал, – увидел бы своими глазами. Елизавета же ничего не заметила. По крайней мере, ничего не рассказывала. А расспрашивать Башаров не хотел. Он предпочитал ставить себя в такое положение, чтобы сведения сами собою текли к нему.
Не нравилось и то, что Шубников еще служил у Горелова и, очевидно, сидел очень прочно и пользовался большим доверием. Башаров надеялся, что те несколько месяцев, в течение которых его дочь не виделась с Шубниковым, а также и многие новые интересные встречи и знакомства изгладят из Елизаветиной памяти образ красивого, самоуверенного молодого инженера. Но оказалось, что надежды его были тщетны, – Елизавета и Шубников встретились так, как будто между ними уже все было решено и они только ждут удобного момента, чтобы прийти к нему с неприятным разговором. Положим, перед Шубниковым могла быть очень хорошая инженерская карьера, – малый способный, работающий и знающий, – но для Елизаветы Башаров хотел бы более блестящей партии, человека с уже готовым положением в свете, а не пробивающегося еще в свет выскочку Бог весть какого происхождения.
Не нравилось и то, что в саду ему часто встречался вместе с Милочкою молодой конторщик Пучков. Как только вечер, он уж тут как тут. Иногда и днем в свободное время забежит. Милочке его беседы, по-видимому, приятны. А Башарова все раздражало в нем, – и томный, мечтательный взгляд, и аккуратный костюмчик, и пестрый галстук, и тоненькая тросточка, и независимая манера, с которою Пучков помахивал этою тросточкою. Заговаривал с ним кое-когда Башаров, – ведь он же любил все знать верно, из первого источника, – и разговоры молодого человека ему не нравились независимостью суждений и чуть-чуть заметною ироничностью, с которою Пучков относился к его расспросам.
Однажды Башаров сказал Горелову:
– Зачем тут этот хаз лиловый ходит? Похаживает, тросточкой помахивает, с Милочкой о рабочем вопросе разговаривает, – подумаешь, – ровня!
Говорил тихо, потому что недалеко в саду, где все тогда были, стояла Милочка. Тихий голос Башарова был похож на потрескивание сухих хворостинок.
– Странное знакомство! – ворчал он. – Я бы на твоем месте не позволил.
Горелов отвечал ему так же тихо:
– Пустое! Все это пройдет, как ветром сдует. Запрещать хуже. Запретный плод слаще.
Милочка, улыбаясь, глянула в его сторону, и он заговорил еще тише, и слышалось, как будто по саду проносится с низким гудением большой, мохнатый шмель. Не слыша слов, Милочка слышала только эти гудящие звуки, догадывалась, что отец говорит о ней, знала, что он говорит о ней хорошее, и ласково улыбалась, глядя на озаренные солнцем счастливые дали.
Ах, счастливые, счастливые воды, чайки, шири, дали и небеса, голубеющие бездонно, и теплые веяния, напоенные ароматами лугов за рекою!
А Башаров потрескивал злобно:
– Вот неизбежное последствие этих слишком близких занятий фабрикою. Моя Елизавета, по крайней мере, с конторщиками не знается. А эти господа, – в шестнадцать лет уж он революционер.
5
Вечером были красивы огоньки пароходов и маяков на Волге. Горелов сидел в беседке-миловиде над крутым откосом берега. Видно было далеко, звуки доносились отовсюду ясные и проникнутые какою-то особенною свежестью и чистотою. Наверху по откосу, по дорожке к саду, шли Милочка и Пучков и разговаривали. Они говорили тихо, но Горелов слышал их последние слова. О том, что Маркс все-таки прав, а Зомбарт ошибается. Это говорил Пучков. Милочка что-то возражала.
У калитки они простились. Пучков пошел вниз. Милочка стояла и смотрела вслед ему. Горелов внимательно всмотрелся в нее. Подумал: «Уж не влюбилась ли?»
И тотчас же эта мысль отпала. Нет, так влюбленная не глядела бы, – таким хотя и сочувствующим, но все же критикующим взглядом. Горелов окликнул Милочку. Она глянула вверх, улыбнулась и вошла в миловиду. Горелов весело спросил ее:
– Просвещает?
И засмеялся. Хохотал долго и громко, так что эхо откликалось ему. Казалось, что далеко за Волгою кто-то озорной передразнивает его веселый хохот. Милочка улыбалась, молчала и краснела.
– Ты в него не влюбись, Милочка, – говорил Горелов. – Лучше в Шубникова. Дельный малый. Да нет, и в него нельзя.
– Почему нельзя? – спросила Милочка.
– В него Лизочка влюблена. Вот-то потеха будет, если вы в него сразу обе влюбитесь! Смотри, Милочка, ты из-за моего инженера не подерись с Лизочкой.
Милочка тихо отвечала:
– Папа, если мы и подеремся с Лизою, то не из-за инженера.
Горелов перестал хохотать и внимательно посмотрел на Милочку. В его глазах мелькнуло даже некоторое опасение, – как бы не напророчить! Хотя Милочка держалась очень скромно и тихо, но отец-то хорошо знал, что она вся в него и если рассердится, то себя не помнит.
– Знаю, – сказал он, – развоюешься, так только держись. Только за что тебе с Лизою ссориться?
– Я не собираюсь ссориться ни с кем, – отвечала Милочка, – но меня ужасно возмущает, как обращаются с Думкою.
Думка была молоденькая девушка, дочь сторожа при гореловской конторе. Училась на фельдшерских курсах в Петрограде. Башаровы давали Думке у себя приют, и за это она должна была исполнять обязанности горничной при Елизавете. Башаров придерживался того правила, что даром ничто не дается и что благотворительность развращает людей.
– Шалунья твоя Думка, – сказал Горелов. – Ей тоже воли давать нельзя.
– Она очень усердная, – возразила Милочка. – Сегодня утром я зашла к Лизе. Слышу, крик ужасный. Смотрю, – Думка окоченела от страха, а Лиза над нею коршуном вьется и такими словами ее ругает, что у меня в глазах потемнело, так я разозлилась. Лиза уже собралась за Думкиным отцом посылать, но я решительно потребовала, чтобы она не смела это делать.
– Надо быть, за дело? – спросил Горелов.
– Да просто ее башмаки забыла вычистить, вот и весь криминал. Обвинила в лености, в нежелании работать, в неблагодарности.
6
Каждый день на стол подавались ананасы и дыни. Ананасы у Горелова были свои, из собственной теплицы. Горелов очень ими гордился и любил угощать ими гостей. Башаров ананасы любил, кажется, не столько за вкус, сколько за то, что они дороги. Но затеи оранжерейные своего брата всегда порицал. Говорил ему:
– Волжские ананасы – это, ты меня прости, пожалуйста, просто самодурство купеческое.
Но Горелову льстило, что ананасы у него превосходные, виноград великолепный, дыни первоклассные. На выставках он всегда получал медали за произведения своей теплицы. Правда, это стоило ему дорого. Тратил он на парники и оранжереи тысяч до пятнадцати в год. Но зато кое-что и продавалось, – несколько сотен ананасов, несколько пудов винограда, земляника, клубника, дыни, арбузы, яблоки, груши, малина, барбарис, еще несколько сортов из ягодного и плодового сада и из огородов. В удачный год все это давало тысяч до пяти.
Когда Милочка первый раз познакомилась с этими цифрами, она была очень удивлена. Ведь в доме съедалось фруктов не на десять же тысяч в год! Значит, был большой убыток. Чем же он покрывается? Отец объяснил ей, что убыток покрывают его заводы. Из этого Милочка сделала тот вывод, что все эти превосходные ананасы, дыни, яблоки и виноград принадлежат рабочим. Горелов много смеялся, когда Милочка познакомила его с этим своим выводом.
– Признайся, Милочка, – говорил он, – это ты от Пучкова такой премудрости набралась?
Смех отца смутил Милочку. Она пыталась разобраться в этом вопросе при помощи книг и разговоров. Ничего утешительного не выходило, и только сердце щемило от грустной мысли, – отчего же одним так много, а другим так мало? Отец был слишком уверен в несомненности своего права, и от его уверенности все то, что он ей говорил об этом, было совсем не убедительно для нее. Ведь во всем этом для него не было никакого вопроса, не было потребности оправдать себя, а потому и не было никаких аргументов.
Аргументировать любил Башаров, потому что он вообще любил поучать и наставлять. Ведь у него же в Берлине прочно был помещен миллион марок, и от этой прочности помещения капитала и от несомненности вечного получения солидной ренты он казался самому себе необычайно умным и почтенным человеком; ему казалось, что он все знает и понимает лучше всякого другого. Он говорил:
– Тебя, Милочка, удивляет, что одни богаты, а другие бедны и голодны? Но это же так просто! Одни из рода в род работают, учатся, накопляют культурные богатства, приносят пользу отечеству, оживляют местный край, а другие против всего этого могут выставить только свою физическую силу. Ты говоришь, что они тоже работают? Да, работают. Но ты учти таланты, наследственную культуру, приносимую стране пользу и многое другое.
Милочка чувствовала, что это все – только слова и что настоящая правда только в том, что все это сложилось по каким-то неизбежным причинам и что люди ничего еще не научились ставить против безмерной всемирной власти золота.
7
Велели запрячь лошадей и поехали за версту от усадьбы, в дубовый лесок на берегу, с которого открывался очень красивый вид на Волгу. Назвали это пикником, и было это предлогом для того, чтобы на вольном воздухе, в тепле и свете утреннего летнего солнца, выпить вина. Горелову еще и потому была приятна эта прогулка, что лес принадлежал ему.
На лужайке Думка и гореловская горничная хлопотали над угощениями. Николай дребезжащим баритоном пел:
Кто бы нам поднес, мы бы выпили!Шубников подхватывал:
Рюмку водки, бочку хересу!Башаров брюзгливо морщился и ворчал:
– Старо, старо и вовсе не интересно.
Милочка заботливо раскрывала какие-то коробки. Елизавета скоро ушла куда-то с Шубниковым. Вслед за ними ушел и Николай. Горелова с профессором Абакумовым сидели на краю обрыва и тихо разговаривали. Братья, как приехали, так уселись на ковре и принялись за вино. Горелов сказал:
– Милочка, отрежь-ка ты нам по ломтику ананаса.
– Папочка, – с удивлением сказала Милочка, – разве ты не будешь завтракать? Сейчас разведут костер, сварим…
– Это для молодежи, – перебил ее Горелов, – а я есть ничего не стану, не хочется.
– Тебе, папочка, нездоровится, – тревожно сказала Милочка и посмотрела на отца вдруг испуганными глазами.
– В самом деле, Иван, ты что-то бледен, – сказал Башаров.
Лицо его пыталось выразить участие, но выражало только досаду, что за удовольствие жить в доме, где есть больной! Горелов весело рассмеялся.
– Пустяки! Немного устал за последнее время. Надобно бы съездить куда-нибудь. Да уж вот осенью поеду. Я ведь домосед, не то что ты. Да и дела держат. Но все-таки осенью урвусь.
Милочка принесла ему на блюдечке три ломтика ананаса, засыпанные сахаром. Башаров сказал:
– Дай уж и мне. Знаю, что испорчу себе аппетит. Да уж очень они у тебя вкусны.
Горелов радостно и гордо захохотал.
– А вот Милочка моя уверяет, что ананасы-то эти моим фабричным принадлежат. Милочка, вон там, – легки на помине, – три девицы. Кажись, из моих фабричных. Да больше-то и некому, городские сюда редко захаживают. Милочка, не угостить ли их ананасами? Что скажешь?
– Кого, папочка? – сдержанно и смущенно улыбаясь, спросила Милочка.
– Да вот этих босоногих девчонок, – видишь, в моем лесу грибы собирают.
– Почему же нет, папочка? – ответила Милочка. – Чем они хуже нас? И ананасы им понравятся.
– Ну что ж, Милочка, позови их, угости ананасами, – смеющимся голосом говорил Горелов.
Но не стал ждать, пока Милочка дойдет до показавшихся вдали девушек, и закричал:
– Эй вы, красавицы, подойдите-ка сюда!
Издалека донесся звонкий, веселый девичий голос:
– А зачем?
И голос этот был такой звучный, сочный и радующий, как будто человечьим голосом пропела обрадованная птица райская Сирин.
– А вот подойдете, так узнаете, – кричал Горелов.
И он весь оживился и загорелся, и лицо его дышало одушевлением, точно этот звонкий девичий голос напоил его силою и молодостью.
– Придут, – сказал он уверенно и радостно.
Его одушевление заражало и Милочку, – она улыбалась ласково и светло. Башаров хмурился и ворчал:
– Не понимаю, к чему это. Что за балаган!
8
Скоро из-за деревьев показались три девушки. Впереди шла Вера Карпунина, за нею Иглуша и Улитайка. На всех троих были надеты светленькие, чистые юбки и блузки. Их загорелые лица были очень веселы. Голые до локтя красивые руки казались сильными, как руки олимпийских богинь или русских фабричных работниц не из голодающих. Их босые ноги ступали легко и свободно; загорелые и запыленные, – и этот дышащий здоровьем загар резко, но все-таки очень мило оттенялся светлыми тонами юбок и блузок. В руках у каждой было по корзине, из тех, с которыми в деревнях ходят за грибами, а в городах – за хлебом, если он есть в лавках, а впрочем, и тогда, когда его в лавках не бывает. Вера шла уверенно и спокойно; она держалась очень прямо, как царица сказочной страны или как прирожденная русская крестьянка, одна из тех полевых Альдонс, в которых была влюблена суровая муза Некрасова. Ее сияющие бессмертной радостью глаза смотрели прямо на Горелова и на Милочку. Иглуша и Улитайка шептались, пугливо и любопытно озирались, иногда фыркали от сдержанного смеха, отвертывались, закрывались руками или прятались одна за другую. Видно было сразу, что они пришли сюда только потому, что их привела Вера. Не будь с ними Веры, они давно убежали бы, заслышав голос Горелова.
Пока девушки подходили, Николай и Шубников вернулись. Горелов знаком руки подозвал к себе Николая и тихо рассказывал ему что-то. Потом оба они залились хохотом, и громовые раскаты отцовского хохота сливались с резким ржанием Николая.
Девушки подошли совсем близко. Смех смутил их. Иглуша и Улитайка попятились. Вера нахмурилась, строго глянула на подруг и сказала тихим, густым, золотом звенящим голосом, строгая, как раскольничья начетчица или как весталка на форуме:
– Ничего, ничего, не бойтесь, девушки, не над нами хозяева смеются. Чего жметесь? Ведь мы не сами пришли, нас позвали.
Это было сказано так строго и внушительно, как лучше не могла бы сказать и сама гордая Марфа-Посадница Новгородская. Милочка опустила глаза, как будто к лицу ее коснулось торжественное веяние кадильно пылающего огня. Но сейчас же, как бы обрадованная чем-то, подняла на Веру влюбленные глаза, и первое, что она увидала, – синие васильки в загорелой Вериной руке, на сгибе которой висела тяжелая, полная грибов корзина.
Смех затих. Пронеслось краткое мгновение молчания. Вера стояла, прямая и гордая. Потом она степенно поклонилась всем, низко склоняя голову, но сохраняя при этом все тот же гордый и свободный вид. И сказала:
– Здравствуйте, господа! Ну вот, вы звали, мы пришли.
Иглуша и Улитайка вслед за нею торопливо поклонились, сдержанно смеясь, и видно было, что Верины слова сразу приободрили их. До того осмелели, что Иглуша даже сказала:
– Кликали зачем-то, вот мы и пришли.
9
Милочка быстро подошла к Вере, поцеловалась с нею, потом пожала руки Иглуше и Улитайке. Горелов во все глаза смотрел на Веру. Тяжелое вожделение уже начинало томить его. Слегка задыхающимся голосом он сказал:
– Ты, королева, подвинься-ка поближе. Как зовут-то тебя?
Вера подошла уверенными, быстрыми шагами и остановилась перед Гореловым. Горелов опустил глаза к ее ногам. Ему казалось, что лесной мох теплел под ее голыми ногами. Стало так тихо, что слышен был гудящий звук пролетающей пчелы. Иглуша и Улитайка, робея остаться одни, сделали вслед за Верою несколько нерешительных шагов. Вера сказала:
– Я – Вера Карпунина, с вашей фабрики работница.
– Знаю, знаю, – оживленно говорил Горелов. – Это как в песне поется: «Вашей милости крестьянка, отвечала ему я». Твою мать знаю, тебя ни разу не видел. Постой, постой, вспомнил, – в школе, на выпускном экзамене ты отличалась. Красавица, красавица выросла. Поди, красивее тебя на фабрике немного сыщется.
Улитайка высунулась из-за ее плеча и крикнула:
– Ни одной не найдется!
Но сейчас же смутилась и спряталась. Горелов не сводил глаз с Веры испрашивал:
– Ты что ж там, надо быть, писариха? На чашках розы малюешь?
– Что придется: цветы, фрукты, пестрых бабочек и пчел, Божьих работниц, – говорила Вера.
Видно было, что ее работа ей нравилась, она вспоминала ее с удовольствием, и самый звук ее голоса стал певучим и ласковым. Николай подошел к ней и, пожимая ее руку, сказал отцу:
– А ты бы посмотрел, папа, как она танцует! Прелесть, как хорошо! Не хуже любой сонохотской барышни.
– Что ж не танцевать! Не старуха, – спокойно отвечала Вера.
Горелов, беспокойно и суетливо двигаясь, ужаленный тайным желанием, говорил все тем же тревожным голосом:
– Ну что ж, пришли, так будьте гостьями. Милочка, угощай их ананасами.
И, вспомнив Милочкины разговоры об его теплицах и парниках, захохотал так громко, что эхо откликалось ему, словно кто-то озорной и веселый, не то в лесу, не то за Волгою, передразнивал фабриканта. Девушки пугливо озирались. Милочка, улыбаясь, принялась резать ананас. Меж тем Горелов расспрашивал девушек, как их зовут. Мудреные имена девушек позабавили его. Он спрашивал:
– Да как же вас поп-то крестил?
Оказалось, что крещеное имя Иглуши – Глафира, Улитайка окрещена Иулианою.
10
Заметив, что Милочка нарезала ломти ананаса и посыпала их сахаром, Горелов сказал девушкам:
– Ну, милые девушки, подходите, кушайте ананасы.
Башаров сердито ворчал. Это «кормление зверей» прямо-таки возмущало и раздражало. Он согласен был сливаться с народом на национальном празднике в Париже, или плясать с дебелою баварскою крестьянкою на Терезином лугу во время октоберфеста в Мюнхене, или целовать одетую в лохмотья и пахнущую морскою солью и рыбою девушку в Таормине, или пить кислое и терпкое вино в трактирчике на пыльной площади Эрнани, испанского городишка под Сан-Себастианом, – все это было в культурной Европе и потому для него было покрыто лаком почтения. Но эти босые девчонки казались ему слишком первобытным зверьем. А если бы он знал, какие книги читает Вера и о чем и с кем она разговаривает, то его пренебрежение только осложнилось бы злобою ограниченного и реакционно настроенного рантьера.
А Николай находил все очень забавным и с нетерпением ждал, как девушки набросятся на дорогое лакомство. Он был уверен, что будет непомерно смешно. И так как он сам уже несколько недель ухаживал за Верою и не терял надежды поссорить ее с ее женихом, то ему, по грубости его натуры, особенно приятно было думать, что Вера не сумеет по-благовоспитанному скушать ломтик ананаса, захватит его прямо в лапы и сжует вместе с чешуйками кожицы. Глаза его смешливо горели, когда Милочка, окончив свою работу с ананасами, позвала Веру и ее подруг. Вера заметила его смешливое настроение. Она багряно покраснела и досадливо сказала:
– Затем-то вы нас сюда и позвали! Я думала, за делом каким-нибудь.
А простодушные Иглуша и Улитайка обрадовались угощению. Смущенно подталкивая одна другую, они подошли к Милочке и неловко принялись есть ананасы. Даже не ждали на этот раз, что скажет или сделает Вера, уж так заманили красивые на вид, сочные, золотистые ломтики. Но Николаю пришлось разочароваться, – при всей неловкости и при всем смущении девушек ничего смешного не было, и девушки не жевали звериным обычаем, а ели как полагается. Только уж очень торопились, от неловкости и от застенчивости. По их лицам было видно, что им нравится не столько вкус, сколько необычайность угощения. Как будто они все ждали, что вот-вот будет вкусно, и не могли дождаться.
Горелов смотрел на них и хохотал. Он был уверен, что девушки не могут оценить вкуса ананасов, который казался ему необычайно изысканным, и что им гораздо больше понравилась бы морковь или репа. Потом вдруг он обратил внимание на то, что Вера отошла в сторону и стояла, опершись на тонкий ствол белой березы. Оттого ли, что Вера сумрачно глядела, стоя вдали, оттого ли, что где-то недалеко пронеслась, каркая, ворона, Горелову стало скучно. Он сказал Вере:
– Ну, а ты, королева, что же не подходишь? Кушай, не стесняйся.
И ему стало еще скучнее, когда Вера спокойно поблагодарила и отвечала, что не любит ананасов. Он вдруг подумал, что эта гордая, величавая красавица одевается бедно и ест грубую пищу, что, может быть, и теперь от нее пахнет луком. Он знал, что все его рабочие питаются не так, как он, и одеваются не так, и что жилища их не роскошны, и все это казалось ему совершенно естественным, – грубые и простые люди, грубая и простая жизнь, одно другому соответствует, казалось ему. Он раньше не догадывался, что эти люди совсем не так грубы и просты, как ему казалось, и теперь, глядя на Веру, он только смутно чувствовал, что в надменной строгости этой босоногой красавицы есть какая-то великая правда. Захотелось доказать, что этой правды нет, захотелось сбить эту спесь. Он сурово сказал:
– Подойди-ка сюда, краля босоногая.
11
Вера спокойно и неторопливо подошла к Горелову. Когда она стала совсем близко перед ним, ему показалось, что прежняя надменность как бы покинула ее. Она улыбалась доверчиво и ласково, и от этого Горелову казалось, что его сердце теплеет. Его голова слегка закружилась.
«Эх, хороша! – подумал он. – То-то хороша она бывает, когда чему-нибудь радуется!»
Ему захотелось увидеть ее обрадованное лицо.
– Что это у тебя в корзине? – спросил он.
Вера протянула ему корзину. Там лежали крупные белые грибы. Один к одному, как на подбор. Видно было, что Вера – мастерица сбирать грибы.
– Продай, – сказал Горелов. – Сколько хочешь?
– Не продаю, – отвечала Вера, – для себя сбирала, не на продажу.
Горелов досадливо нахмурил брови. Впился в Веру неотступным взглядом. Захохотал так неожиданно, что даже Вера, несмотря на все свое самообладание, вздрогнула. Ощущение вскипающей крови, столь знакомое Горелову, опять охватило его. Так досадно стало, что есть вокруг какие-то люди и что надобно говорить спокойно с этою девушкою, нельзя сказать ей настоящие слова, – ах, настоящие слова всегда покоряют девичье сердце! – сказать, и целовать, и овладеть этим стройным и очаровательным телом. А потом, – да что об этом думать!
– Богата очень? – спросил он.
Вера, раскрасневшись, оттого что ей стало досадно на свой мгновенный испуг, сказала:
– Богата была бы, на фабрику к вам не ходила бы. Сладость не великая. А грибов не продаю, – себе хочу оставить.
Сквозь ветки деревьев на Веру упали вдруг лучи солнца. Словно кровавое наваждение озарило ее волосы, золотисто загоревшиеся на солнце. И казалось Горелову, что светло только здесь, где она стоит, а лес закутан лиловою тенью и безмолвием. Голоса около костра доносились словно откуда-то очень издалека. И все вне круга, очерченного близостью Веры, казалось незнаемым и чуждым. Горелов сказал хриплым голосом:
– В моем лесу грибы насобирала. Мой лес, мои и грибы.
Вера презрительно усмехнулась. Повела круглым, упругим плечом. Сказала негромко и спокойно:
– Ваши грибы, так и возьмите их себе.
Она нагнулась и поставила корзину у ног Горелова. Горелов бормотал смущенно:
– За труд, что собирала, заплачу. Вот, получи.
И он протянул ей серебряный рубль. Он был уверен в том, что Вера будет очень обрадована такою необычайною щедростью. Но Вера не взяла рубля. Она презрительно усмехнулась, покачала головою и сказала:
– Мало. Я свой труд дороже ценю.
– Сколько же тебе надобно? – с удивлением спросил Горелов.
Вера смотрела на него пристально и неторопливо отвечала:
– Говорят, золото – хорошие деньги.
Горелов захохотал. Крикнул:
– Дорого хочешь!
– Берите даром, – чего дешевле! – спокойно отвечала Вера.
Горелов кричал в диком восторге:
– Королева, а не работница! Вот так девица! Золота захотела! Это я понимаю! Что ж ты на мое золото купишь?
Вера пожала плечами.
– Что мне на ваше золото покупать? Что мне надобно, на то я и сама заработаю.
– Ты башмаки себе купи, вот что тебе надобно, – говорил Горелов. – Зачем без башмаков по лесу ходишь? Еще тебя, пожалуй, змея ужалит прямо в голую пятку, – умрешь в одночасье.
Вера говорила дразнящим голосом:
– Меня змея не ужалит, я слово такое знаю.
И она улыбалась так, что не понять было, шутит ли она, или сама верит тому, что говорит. Горелов смотрел на нее, все более приходя в восторг и влюбляясь. Он спросил:
– Что ж, ты заклинательница змей, что ли? Ну, ну, говори, не стесняйся.
– Так оно и есть, – спокойно отвечала Вера, – заклинательница змей. И никакая змея меня не тронет.
Горелов хохотал и кричал:
– Ай да девка! Нет, вы послушайте, что она говорит!
12
Башаров злобно вслушивался в этот разговор. Наконец он не мог терпеть долее. С перекосившимся от бешенства лицом он закричал:
– Она над тобой издевается, а ты ее слушаешь. Гони ее вон!
– Зачем гнать, мы и сами уйдем! – с пренебрежительною улыбкою отвечала Вера.
Милочка наклонилась к Башарову и что-то оживленно шептала ему. Башаров выслушал угрюмо. Потом поднялся и сказал:
– Ну, я пройдусь немного. Николай, пойдем к Волге.
Николай замялся. Ему не хотелось уходить. Но он не решался прямо сказать об этом при отце. Надобно было придумать какой-нибудь предлог, чтобы можно было остаться. В это время Горелов обратился к брату:
– Погоди, Павел, – одолжи мне золотую монету. Ты знаешь, я денег дома не держу и с собою не ношу. Дай до вечера, – вечером я возьму из конторы.
Башарову не хотелось давать деньги, – да еще целый золотой! – для этой наглой, по его мнению, работницы. Но и отказать было неловко, особенно после того, что ему наговорила на ухо про Веру Милочка. Он полез в карман за кошельком. И вдруг придумал предлог отказать в вежливой форме, – сказал, что у него нет пятирублевок, а есть только монеты по десяти рублей.
Горелов, конечно, предполагал дать Вере только пять рублей. Его купеческая расчетливость не мирилась с чрезмерными тратами. Но Вера так очаровала его, что он решился на этот раз не скупиться и потребовал у брата десятирублевую золотую монету. Башаров ворчал:
– По-моему, это уж слишком по-купечески. Широкая волжская натура, – или сарынь на кичку, или сам все готов отдать. На, на, возьми, только не забудь, пожалуйста, отдать. Я не фабрикант, у меня бешеных денег нет.
Больше всего Башарову было досадно на то, что не удалась его хитрость. Удар по самолюбию. Если бы знать, уж лучше бы сразу дал пятирублевый. А теперь уже неудобно было сказать, что есть и маленький золотой. Он сунул монету Горелову и поспешно пошел к берегу. Николай тем временем придумал предлог остаться. Он закричал вслед Башарову:
– Сейчас, дядя, я вас догоню. Мне надо узнать у этих девушек насчет кружевницы вологодской.
Николай мог бы и не трудить головы, – Башаров был так раздосадован, что и не думал о нем, а отец еще меньше теперь мог думать о ком бы то ни было, кроме Веры. Горелов отдал Вере монету и, громко хохоча, говорил:
– На, возьми, Вера, получи условленную плату за собирание грибов в моем лесу. Каждый день можешь приносить мне в дом грибы, будешь получать столько же.
Сказал и сам себе ужаснулся, – да ведь это же составит триста рублей в месяц! Ну да грибы скоро кончатся.
Вера опустила монету за ворот сорочки, испещренной солнечными личиками, оглянулась на Иглушу и Улитайку и спросила:
– А они тоже получат?
– Ну, нет! – весело говорил Горелов. – Мне одной собирательницы грибов достаточно. С ними я не сговаривался. Да и у тебя беру только потому, что ты – заклинательница змей. Смотри, чтобы у меня здесь ни одной змеи не осталось.
– Папа, – сказала Милочка, – у нас в лесу нет никаких змей.
Вера быстро глянула на нее, покраснела, опустила глаза и сказала очень тихо:
– Змеи везде есть. Около каждого рабочего жилья, около каждой фабрики – змеиное гнездо.
Милочка, заметно волнуясь, спросила:
– Как же вы их заклинаете, Вера? Ведь они все равно жалят. Не пришлось бы вам с этими змеиными гнездами начать настоящую войну.
Вера еще больше потупилась и еще тише сказала:
– Война дворцам, мир хижинам.
Горелов вдруг нахмурился и сурово сказал:
– Ну, будет зубы скалить. Девки, поели, да и айда! Прощайте, будьте здоровы!
И схватился за стакан с вином.
13
Когда девушки отошли, Николай сказал отцу:
– Да, чуть не забыл! Надо спросить Улитайку, где остановилась эта вологодская кружевница. У нее есть шарф кружевной, – одна прелесть!
И он поспешно пошел за девушками. Отец хмуро смотрел за ним. Потом сказал подошедшему в это время Шубникову:
– На Улитайку это он так, зря. Это он за Верой увязался. Ну да она его отошьет. А он у меня без этого не может. Хлебом не корми, а девку дай. Скучно ему здесь, на Волге.
Меж тем Николай догнал девушек, и пошел рядом с Верою, и тихо сказал ей:
– Вера, мне надо поговорить с вами кое о чем.
Вера молча взглянула на него. В ее слишком спокойных в ту минуту глазах не видно было даже удивления. Николай торопливо шептал:
– Только здесь неудобно. Знаете что, Вера, – приходите сегодня в рощу к ручью.
– Что я там забыла? – спокойно и презрительно сказала Вера.
Голос ее прозвучал более звонко, чем бы хотелось теперь Николаю. Он торопливо оглянулся назад. И в ту же минуту послышался голос отца:
– Николай!
Вера остановилась, повернулась к Николаю и все тем же спокойным и звонким голосом, словно продолжая разговор, сказала:
– И передайте, пожалуйста, Людмиле Ивановне, что вологодская кружевница остановилась у нас на поселке, в доме у Любимовых. Дня три еще проживет здесь и поедет дальше, куда ей надобно. Ну, прощайте.
И так уверенно пошла прочь от Николая, что тому и в голову не пришло идти за нею. Он смущенно повернул назад. Громкий отцов хохот встретил его:
– Что, брат, отшила тебя краля-то наша?
Николай пожал плечами.
– Я об ней и не думал, – говорил он, не совсем успешно стараясь скрыть смущение. – Узнал адрес кружевницы, только и всего.
Милочка подошла к нему с тарелочкою, на которой лежали его любимые налимьи печенки из только что открытой сибирской плотниковской жестянки консервов. Милочкина ласковость была Николаю досаднее, чем отцов хохот, потому что она была очевидным утешением за неудачу с Верою. Притом же на эту ласковость нельзя было ответить иначе, как такою же ласковою благодарностью, и выходило, что приходится благодарить не столько за обычную любезность хозяйки, сколько за особую ласку утешительницы. Значит, приходилось смиренно, хотя и без слов, признать свое поражение.
14
Меж тем девушки, отойдя немного, опять запели. Начинала Вера:
Из-за острова на стрежень, На простор речной волны Выплывают расписные Атамановы челны.Когда вышли из рощи и высоким берегом приближались к фабричному поселку, Вера вытащила золотую монету, положила ее на раскрытую ладонь и смотрела на нее смеющимися глазами. Иглуша и Улитайка смеялись, и в глазах у них таилась простодушная зависть. Иглуша спросила:
– Ну что, опять ему грибы понесешь? Уж больно щедро он тебе платит.
Вера вздохнула, улыбнулась. Подкидывая золотой на ладони, она сказала:
– Что носить! Все равно этих денег домой не понесешь.
– А почему не понесешь? – спросила Иглуша.
– Мой Глеб узнает, голову мне оторвет, – отвечала Вера.
– Что ж, в землю зароешь? – спросила Улитайка.
Вера ничего не ответила. Иглуша и Улитайка смеялись. Вера закрыла глаза. Милый ее как живой стал перед нею в темном мире замкнутых глаз, озаренный светом любовного внимания и влюбленной памяти, – тонкий, высокий, с острым блеском пронзительных глаз, с насмешливою улыбкою на упрямых губах, чернобровый, худощавый, смуглолицый, с торчащими во все стороны вихрами непослушных волос.
– Шершавенький мой! – тихонько шепнула она, улыбаясь, и на лице ее было умиленное выражение, похожее на молитвенное.
Постояла с минутку, всматриваясь в милый образ. Голова слегка закружилась. Вере показалось, что она начинает падать на спину. Она вдруг встрепенулась, точно ожила, даже вздрогнула слегка, лицо ее приняло стремительное выражение, глаза стали внешне зоркими и обратились на синеющую недалеко внизу за узкою полосою песка Волгу. Вера порывисто схватила золотой маленький диск тремя пальцами правой руки, словно хотела перекреститься золотою иконкою, широко размахнулась и швырнула монету в реку.
Иглуша и Улитайка громко завизжали от ужаса, жалости, зависти и от пламенно опалившего их восторга.
15
Горелов говорил Шубникову:
– Слышали, Андрей Федорович, как эта краля, заклинательница-то змей, тут объясняться изволила? Змеиное гнездо, – ловко пущено? а? Про кого это она, как вы думаете? Война, – как это она говорила-то?
– Война дворцам, мир хижинам, – со сдержанною улыбкою подсказал Шубников.
– Что же это обозначать должно? – спросил Горелов.
– Должно быть, – отвечал Шубников, – сознательные товарищи пролетарии научили девочку, а она повторяет, уже не столь сознательно. Ведь не от писарих все это идет, что у нас назревает.
И, понизив голос, Шубников стал рассказывать Горелову, – уже не в первый раз, – что на фабрике неспокойно. Шубникову казалось, что теперь Горелов, после того как он услышал дерзкие слова фабричной работницы, отнесется к его сообщению с большим вниманием, чем прежде. Но Горелов выслушал его, как и всегда, со снисходительною и самоуверенною улыбкою.
Горелов был очень высокого мнения о своем умении обращаться с людьми вообще и в особенности со своими рабочими и в то же время очень невысокого мнения вообще о людях и в особенности о своих рабочих. Он думал, что они никогда и ничем не будут довольны, но что с ними, при известном уменье, всегда можно поладить, – кое-кому немного прибавить (причем надобно знать, как увеличить расценки, чтобы с наименьшими затратами заткнуть наиболее крикливые глотки), кое-кого подкупить, выдвинувши на хороший оклад и давши особое положение. Поэтому в контору он не брал посторонних, а выдвигал из рабочих. Теперешний управляющий, почтенный грузный человек с почтенною сивобоярскою окладистою бородою, служил у него с мальчиков, когда-то сапоги ему чистил, подвигался понемногу по службе, достиг высокого и уважаемого положения, – теперь уже и сам Горелов называл его Василием Ермилычем, – поворовывал осторожно, – и Горелов это знал, – но хозяину и фабрике был предан по-собачьи.
И многих таких знал Горелов, взятых им из фабричной среды. Все они, как только выбьются из черной работы, так сейчас усваивают все мелкобуржуазные городские признаки, – воротничок крахмальный, тросточка, – и на бывшего своего товарища рабочего начинают смотреть свысока. Таких было немало, и Горелов думал, что все такие. Он не замечал, да и не хотел замечать, что такие только и выдвигались вверх, подбираясь своеобразно один к одному, – а что типичные рабочие через этот подловатый грохот не просеивались.
Теперь Горелов даже невнимательнее обычного выслушал Шубникова. И всегда-то он принимал инженера не совсем всерьез, – держал его больше для шика, чем по необходимости, и о делах предпочитал совещаться с Василием Ермиловичем. Только чтобы оправдать перед самим собою расходы на крупное жалованье инженера, придумал строить кирпичный завод с дорогими машинами, выписанными из Англии вместе с англичанином-инструктором. Притом же теперь какая-то посторонняя мысль занимала Горелова, и на все жалобы и тревожные рассказы Шубникова он ответил небрежно:
– Пустое. Не впервой. Обойдется. Прибавлю писарихам по копейке, и будет.
– Дело не в писарихах, – начал было Шубников.
Но Горелов перебил его и заговорил совсем о другом, – об одном из тех обстоятельств, о которых он с Шубниковым разговаривал гораздо охотнее, чем о делах фабричных. Он зашептал:
– Погодите, Андрей Федорович, об этом поговорим после, а теперь вы должны помочь мне в другом.
16
Горелов отвел Шубникова в сторону, подальше от остальных. Шубников сразу догадался, в чем дело. И точно, – Горелов заговорил с ним о Вере Карпуниной. Он говорил доверчиво:
– Как увидел я эту красавицу босоногую, – сердце захолонуло. Поверите ли, – взяла она меня сразу. Взгляд-то у нее какой! Как королева смотрит. К такой и подступиться страшно. Вот ведь и в бедности какие крали вырастают!
Шубникову было досадно, что Горелов так мало внимания уделил его сообщениям. С досады он не мог удержаться от искушения хоть чем-нибудь омрачить в уме Горелова впечатление, произведенное Верою, и он сказал язвительно:
– Золотой, однако, взяла!
И сразу же спохватился, что это не в его интересах. Но Горелов на его слова только рукою махнул.
– Что золотой!
И, сторожко озираясь по сторонам, принялся упрашивать Шубникова, чтобы он убедил Веру прийти в маленький домик над устьем ручья, впадающего в Волгу. Этот домик стоял в самом дальнем и уединенном месте гореловского парка, за особою оградою, среди таких разросшихся кустов и к нему вели такие запутанные дорожки, что мало кто и знал о существовании этого приюта любви. Если кто из гостей и забредет туда случайно, то высокий забор заставит думать, что здесь уже конец сада. Калитка же в этот приют была совсем закрыта кустами.
Шубников уже не раз исполнял поручения Горелова, служа ему посредником в делах любви. Скромность и деловитость Шубникова при этих авантюрах в глазах Горелова были самыми ценными свойствами молодого инженера. Самое знакомство Горелова с Шубниковым состоялось в гостиной одной полудоступной дамы; благосклонностью этой дамы пользовался Шубников как раз в то время, когда в нее влюбился Горелов. Скромный молодой человек оказал Горелову очень ценную услугу, – вовремя и весьма тактично не только устранился, но и сделал это совершенно безвозмездно, однако так, что Горелову стала известна его уступчивость. Слов между уступившим и воспользовавшимся потрачено было немного, и наградою молодому человеку было место с очень крупным окладом и с очень небольшим кругом обязанностей.
17
Шубников видел, что Вера уж очень яро зажгла сердце Горелова. Не мог даже фабрикант потерпеть до дому и уже в лесу заговорил с Шубниковым на эту щекотливую тему, рискуя тем, что его может подслушать не в меру любопытный Николай. Горелов говорил:
– Обещайте ей все, чего она захочет, ничего не пожалею, все отдам, только не томите, не тяните времени, приведите ее ко мне в павильон сегодня же ночью. Вся она золотая, глаза как угли горящие, – вспомнить не могу без дрожи, забыть не сумею.
Он шептал эти слова бормочущим, захлебывающимся голосом, словно в бреду. Грузно навалился на плечо Шубникову, и инженер чувствовал жар и трепет тучного тела и обжигающее его ухо горячее, прерывистое дыхание. Шубников понимал, что привести Веру в павильон – очень трудное, может быть, и совсем невозможное дело. Да и настроение среди рабочих в эти дни было совсем не таково, чтобы с легким сердцем пускаться в такие опасные и неверные приключения. Проще всего было бы отказаться. Но Шубников имел свои причины дорожить хорошими отношениями со всеми в этом доме. Надобно было хоть выиграть время, а пока можно будет, если с Верою, как и следовало ожидать, ничего не выйдет, подыскать для Горелова более податливую красавицу. Одна уже была на примете – Ленка. И потому Шубников говорил неопределенным тоном:
– Так скоро не ручаюсь, Иван Андреевич. Сами видели, девица с норовом. Не сразу придумаешь, чем ее можно взять. Конечно, я для вас постараюсь.
Горелов посмотрел на него подозрительно:
– Да ты уж сам в нее не втюрился ли?
Но тотчас же вдруг вспомнил, что Шубников усердно ухаживает за Елизаветою и что испытанная осторожность молодого инженера не позволит ему завести любовные похождения в те дни, когда здесь гостит его будущая невеста. Вспомнил и то, что Шубников в такого рода делах уже доказал свою готовность не становиться на его дороге. Правда, Вера ни в какое сравнение ни с кем не могла идти. Но все же Горелов насчет Шубникова успокоился.
Однако Вера так его взволновала, что он даже почувствовал себя ослабевшим. Вернулся к остальным, потребовал себе плед, подушку, выпил подряд два стакана кианти, которое показалось ему кислым, но приятным чрезвычайно, лег и задремал. В полудремоте пролежал он часа два, пока другие завтракали и потом веселились как умели, – сквозь дремоту, как сквозь густые, плотные занавеси опочивальни, слышал смех, шум споров, возню и беготню молодежи, звон гитары и пение, – слышал иногда сквозь эту дрему гудение пчелы и во все это время чувствовал в себе ласковую теплоту и мужественную силу, ту таинственную и необъяснимую животворящую силу, которая возникает в темных глубинах, и восходит, внезапная и нежданная, и торжествует над слабостью и над временем.
18
Пением забавлял общество Шубников, а гитара звенела в проворных Думкиных руках. Думка бренчала, сидя на мху, Шубников принимал оперные позы и пел во весь голос:
На земле весь род людской Чтит один кумир священный. Это – идол золотой. Он царит над всей вселенной.Шубников пел, конечно, главным образом для того, чтобы очаровать Елизавету. Но по его лицу было видно, что его пение очень нравится ему самому. Он был чрезвычайно высокого мнения о своем голосе и о своем умении петь, да и вообще о себе. Он был уверен, что без него всем было бы скучно. Когда Милочка не без скрытой насмешки называла его «душа общества», он принимал это как вполне заслуженное им наименование. Ему казалось, что он поет, как Шаляпин. На сцену же он не поступал потому, что в душе презирал всякое искусство, – что роднило его с большинством людей, получивших специальное техническое образование, – и он был уверен, что сделает себе хорошую карьеру своими познаниями.
Елизавета слушала внимательно и любовалась певцом. Шубников это видел и чувствовал. Он пел все громче, все увереннее делал жесты и все патетичнее потрясал черною бородкою, – козлообразною. И в самом деле, голос у него был довольно приятный и сильный. Однако от Шаляпина он отличался, между прочим, и тем, что часто фальшивил. Притом же, – странное дело, – голос его почему-то звучал как голос совсем некультурного человека, так что самый звук голоса выдавал, что ни словесный смысл, ни музыкальный не доходили до его сознания.
Во время его пения Николай полулежал на ковре, погруженный в неприятные размышления. Больше всего ему было досадно, что отец увидел сегодня Веру и что она произвела на него такое очевидно сильное впечатление. Надобно было решительно подействовать на Веру, чтобы помешать ее сближению с отцом.
Николай наследовал от отца его отношение к женщинам. Они, по мнению отца и сына, делились на два разряда: одни, женщины приличного круга, в общем порядочные; соблазнять девушек этого круга не следует, чтобы не навлечь на себя весьма крупных неприятностей; за замужними ухаживать стоило, хотя по большей части было трудно и рискованно; во всяком случае, необходимо устраивать так, чтобы это ухаживание, принося наибольшую сумму приятностей, никогда не принимало слишком серьезных и обязывающих форм. Все остальные женщины казались отцу и сыну более или менее доступными; только не каждая стоила того, чтобы на нее тратить такое количество денег и такие старания, которые могли бы сломить ее упорство. Поэтому ни старший Горелов, ни Николай не сомневались в том, что и Веру можно покорить. Горелов готов был отдать на это много денег. Николай денег мог дать гораздо меньше, но он же зато был молод и считал себя красавцем.
Но неприятно было то, что у Николая в это время денег не было. Не считать же деньгами случайно завалявшуюся в кошельке мелочь, какие-нибудь рублей пятнадцать-двадцать. Ждать до двадцатого числа, когда в конторе Николаю выдадут положенные ему в месяц пятьсот рублей, оказывалось теперь опасно, – отец ждать не станет и предпримет поход на Веру теперь же. Притом же этих пятисот рублей Николаю никогда не хватало, – он скучал, если приходилось сидеть дома, и умел находить своим деньгам многие приюты. Надобно было действовать решительно. Да и сознание новой и сильной преграды между ним и Верою, – ее фабричный милый не казался ему сильным соперником, – разожгло вдруг его страсть. Уже ему казалось, что он и дня не может прожить без обладания Верою. Чисто животная сторона этой его страсти рисовала ему чудовищные картины его счастья с побежденною гордячкою, с этою темно-рыжею, большеглазою красавицею.
Но где же взять денег? Взять в конторе вперед нечего и думать; контора могла затянуть платеж, но никогда ни копейки не давала раньше срока. Отец ни за что не даст. Обратиться к матери? Но она недавно дала довольно крупную сумму, дала после длинного и весьма неприятного разговора, причем предупредила, что дает последний раз. Правда, эти предупреждения о последнем разе уже не в первый раз слушал Николай от матери. Но все же теперь прошло времени так мало, что опять просить у нее денег бесполезно.
Николай решил посоветоваться с Шубниковым. Правда, он знал, что у Шубникова лишних денег нет. А если и есть, не даст. Но он – малый изворотливый и догадливый. Поможет если не делом, так советом, как не раз помогал раньше, выручая в разных неприятных обстоятельствах.
19
Но как ни торопился Николай, все же разговор с Шубниковым он отложил до возвращения домой. Приятели уселись в комнате Николая у открытого широкого окна с дивным видом на Волгу. Стало немного пасмурно; небо ожемчужилось сплошным облачным налетом; воздух был тих, чист и влажен; Волга и весь простор за нею и перед нею удивительно тлели прозрачным паром; ветер налетал на серебристую листву двух старых бальзамических тополей, и они показывали то бледную, то темно-зеленую сторону своих широких, яйцевидно-ланцетных листьев. И все было как игра и музыка стихий в саду блаженных теней, и вся эта дивная гармония была устроена белокрылыми сероглазыми ангелами северного лета словно нарочно для того, чтобы в это сладостное очарование вливались гнусные слова двух тупоглазых и тупоголовых мерзавцев.
Николай жаловался на отца, не стесняясь выражениями; как бедные студенты, ищущие уроков, не стесняются расстоянием, так и для Николая не было достаточно далеких слов. Он говорил:
– Жидомор противоестественный! Прямо извергом становится, когда о деньгах заговорит. Даже в лице меняется. Угораздило же меня иметь отцом такого черта! Воображает, что пятьсот рублей в месяц – колоссальный капиталище! Идиотство!
Почти так же нестеснительно он жаловался и на мать.
– И откуда у этих баб такие дурацкие мысли? Она, изволите ли видеть, охраняет мою нравственность и потому не дает денег. Черт знает, что за ерунда! И непоследовательность самая кислая, бабья. С отцом, по крайней мере, дело ясно: вперед знаешь, что не даст. Хоть времени на разговоры не теряешь. А мамахен иногда и расскочится на какую-нибудь паршивую сотняжку, – но если бы вы видели, с какими это делается причитаниями и гримасами! Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Охраняет мою нравственность! Мою! Да что я – маленький, что ли? Не знаю сам, что мне вредно и что мне полезно?
И наконец Николай прямо сказал:
– Голубчик, Андрей Федорович, посоветуйте, как мне быть. Где достать денег?
– Если бы я имел столько же, сколько вы получаете из конторы… – начал было Шубников.
Но Николай нетерпеливо перебил его:
– Знаю, знаю, – вы полстолька предоставили бы мне. Все это я знаю и весьма ценю, как и прочие ваши качества и бесценные услуги. Но теперь, теперь, в настоящих обстоятельствах, что делать?
20
По самоуверенному лицу и по самодовольной улыбке Шубникова Николай видел, что у молодого инженера есть совершенно верный план получения денег. Но Шубников не торопился излагать свои настоящие соображения. И даже как будто потерял часть своей самоуверенности, когда Николай, истощившись в упреках, замолчал и с ожиданием стал смотреть на Шубникова.
Не оказать услуги человеку, который может пригодиться, не входило в правила Шубникова. Он начал перебирать разные возможности, но после краткого обсуждения каждая из них превращалась в очевидную невозможность.
Просить у Башарова – значило давать пищу его чрезмерному любопытству и развязывать его язык в гораздо большей степени, чем откроется его кошелек. Да и даст он разве только какую-нибудь малость, рублей тридцать-сорок.
У Милочки деньги бывали только после двадцатого, дня два-три, не больше, а затем испарялись. Когда самой Милочке нужна была какая-нибудь небольшая сумма, она брала до двадцатого у старого, почтенного лакея Якова Степановича. Тратить свои деньги Милочка уходила в фабричный поселок или ехала в город Сонохту; в обоих этих местах она участвовала в очень различных учреждениях воспитательных и воспомогательных.
Елизавета щедро тратила деньги на свои наряды. На все остальное она была чудовищно скупа. Иногда Николай дразнил ее:
– Лиза, дай мне в долг пятьдесят рублей до двадцатого.
И каждый раз Елизавета вздрагивала, лицо ее принимало вдруг испуганное и жадное выражение, она вся сторожко подбиралась и говорила трясущимися губами:
– Николай, что ты выдумал! Откуда у меня могут быть деньги? Я же ведь у отца живу, я – не курсистка, не телефонистка, чтобы давать деньги. И, наконец, это даже неделикатно с твоей стороны требовать у меня денег. Когда же и где же ты видел, чтобы барышни давали деньги в долг? Ты с ума сошел!
Потом она шла к отцу и с выражением крайнего ужаса в глазах, становившихся стеклянно-блестящими, жаловалась, чуть не плача:
– Можешь себе представить, папа, Николай просил у меня денег в долг! Пристал с ножом к горлу, – подай ему пятьдесят рублей! Так настаивал, что я прямо-таки начала бояться.
Башаров объяснял ей многословно, что это происходит от плохого воспитания, и при первой же встрече с братом передавал ему эту неприятную новость. Говорил со скрипучею злостью в голосе:
– Хотя ваша Сонохта на Париж ни с какой стороны не похожа, но Николай таки ухитрился просвистаться. У моей Лизаветы денег просил. Да так настойчиво, что она даже испугалась. Это мне нравится! Скоро он будет возить твои ананасы потихоньку в Москву на продажу. Да, может быть, уж и возит.
Горелов весело хохотал. Говорил:
– Да, уж Лиза и мне пожаловалась. Я спрашивал Николая, он говорит, что это – просто шутка, что он только хотел подразнить Лизу.
– Чисто волжская шутка, – ворчал Башаров. – Моя дочь к таким странным шуткам не приучена.
А Лиза жаловалась и Любови Николаевне, и Милочке, и Шубникову, и степенному Якову Степановичу, и легкомысленной Думке, забывая на этот раз все ее прегрешения и говоря с нею, как с наперсницею или субреткою из французской комедии. Вечером она старательно прятала все свои деньги, колечки, броши, браслеты в самые неожиданные места, обходила свои и отцовы комнаты, по нескольку раз пробовала, задвинуты ли задвижки окон, на местах ли шпингалеты у дверей. На ночь она замыкалась на ключ. Долго не ложилась спать. Спала тревожно. Легкомысленная Думка пугала ее ходьбою, шепотами и стуками. Елизавета вскакивала и поднимала шум на весь дом.
Очевидно, что замысел занять деньги у Елизаветы никуда не годился.
Шубников предложил подставить Горелову Ленку, – может быть, ею Горелов увлечется и забудет Веру. Горелов уже не раз видел Ленку, она ему понравилась, но явилась Вера, и память о Ленке погасла. Если Ленка захочет, то, может быть, она и сможет опять так очаровать Горелова, что он забудет Веру. Но на этом пути два сомнения, два риска: захочет ли Ленка? и если захочет, удастся ли ей? И потом, как это устроить? Сюда привезти ее неудобно. Устроить так, чтобы Горелов поехал в город сегодня или завтра, трудно. Все-таки Шубников обещал устроить встречу Горелова с Ленкою.
Но как же быть с Верою? Где же теперь достать денег, чтобы не упустить момент?
21
Наконец Шубников решился приступить к главному. Опустивши глаза и слегка как будто бы смутившись, он сказал:
– За неимением денег могу дать только еще один совет. Приналягте на вашу нежную родительницу.
Николай досадливо крякнул и махнул рукою. Шубников продолжал:
– Одна только минута терпения, и вы увидите, что это совсем не такой ненадежный путь, как это нам с вами сначала показалось. В данный момент, – вы понимаете?
Шубников подмигнул Николаю и состроил такое мефистофельское лицо, что на губах Николая сама собою выдавилась необыкновенно поганая улыбка. Шубников говорил:
– Настроения, сердце смягчено, старый друг близко, ну, словом, перспективочки есть. Стоит только не стесняться кое-какими предрассудками и рассматривать людей и события не с точки зрения родственных отношений, а брать людей, как они есть в природе.
И он запел щекочущим фальцетом:
Старый муж, грозный муж, Не боюсь я тебя.Николай смотрел на него внимательно и задумчиво и подсвистывал. Шубников продолжал мефистофелевским тоном:
– С тех пор как легкомысленная супруга профессора Абакумова почила, выражаясь поэтически, последним сном, профессор почувствовал необычайный прилив жизненной энергии. Вы, конечно, заметили, как ему нравится теперь эта живописная дача на Волге. Профессор – тонкий ценитель истинной красоты.
Николай задумчиво спросил:
– Вы думаете, мой отец ревнив? Он сам так часто изменял матери, что не имеет никакого права ревновать ее.
– Ну, знаете ли, – отвечал Шубников, – это – резон несостоятельный. Мало ли что изменял! Чем чаще изменял, тем она для него все дороже, – верная жена, любящая, кротко все прощающая. Тем более знаете, как об этих обстоятельствах народная мудрость выражается? Муж блудит из дому, жена блудит в дом. Если появится на свет лишний наследничек гореловских капиталов, так ведь доли-то поменьше будут, а? не правда ли?
Шубников, осмелевши окончательно, цинично захохотал. Николай нахмурился.
22
– Это действительно неприятно, – сказал он. – Впрочем, нет худа без добра. Вы мне даете перспективочки. Следует приналечь, выжать что можно, а потом принять меры предупреждения и пресечения.
– Вот именно! – одобрил Шубников.
Тусклые обыкновенно глаза Николая разгорались. Почти видно было, как прыгают в них пепельно-красные чертенята злобы и алчности. По лицу его пробегали судороги низких страстей, и казалось, что челюсти его вытягиваются и что изо рта, вдруг опененного яростью, того и гляди высунутся волчьи клыки.
Радуясь быстрому успеху своих внушений, Шубников, посмеиваясь, метался по комнате. Недавняя неловкость еще не совсем оставила его и была в его манерах, в нервных смешках, в бессмысленных гримасах, в нелепых ужимках и подергиваниях, какая-то отвратительная смесь смущения и радости, неловкости и механической развязности. Когда он отошел в угол комнаты, между окном в сад и стеною, и, вихляясь омерзительно, принялся подпрыгивать и приплясывать, остро, быстро, но все же неловко подкидывая колени, он вдруг стал похож на одетую обезьяну.
Он смотрел на что-то в саду и жестами звал Николая. Николай подошел и захохотал. И теперь они оба стали похожи друг на друга, и оба они были как пара кривляющихся горилл. Люди, – настоящие люди, – которые шли по дорожке сада мимо этой боковой стороны дома, не видели их, – не догадались посмотреть вверх, да, пожалуй, и не разглядели бы со свету того, что копошилось в паутинно-сером, мглистом полусвете высокого мезонина.
– А! Момент настал! Момент настал! – зашептал Николай и побежал радостною, но все же трусливою, шакальею трусцою из комнаты.
Шубников вышел вслед за ним, но на площадке лестницы остановился, поглядел недолго за сбегающим проворно с лестницы Николаем, усмехнулся злорадно и потом отправился в свою комнату, здесь же, в мезонине, недалеко от помещения Николая.
23
Любовь Николаевна любила быть в своем саду, когда в нем не было шумно и людно. Тогда так мечтательны становились его тенистые уюты, так просветлен и разнежен являлся ее глазам весь сад, и порядок его, при людях казавшийся слишком преднамеренным и резким, без их буйного веселья радостен был, как совершенное воплощение предустановленной гармонии. Казалось тогда ей, что она прошла длинную-длинную дорогу и стоит перед незримою дверью. И как будто бы иногда приоткрывается эта дверь, и является иной мир, чудесно сливающийся с этим зримым миром дневного скучного бывания. Шире становятся тогда широкие просторы, и яснее ясные дали, и зеленее зеленые долины, и милая, родная Волга жемчужно-мглистою дымкою навлекает на себя очарование вечно текущей реки блаженного рая, реки, где вода живая струится в счастливой долине, упоенной вольным и легким воздухом безмерного пространства.
Подойдет к крутому обрыву, смотрит в сторону города. Золотыми звездами в голубой мгле воздуха мерцают святые главы далеких церквей, и за зеленью милых садов серебром светятся белые стены, – не град ли Китеж перед нею? Тихий звон по воде донесется, – и забьется, забьется сердце, сладко томясь и тоскуя. Взять бы котомку, идти бы дорогой без конца и без края, бездомною странницею. Жалко мужа, такого сильного, но и такого слабого, жалко бабьею жалостью, не любовью. Не о нем, не о нем болит сердце. Дом, дети, – ах, что это все! Дети выросли, Николай отошел от нее далеко и пугает ее своею чуждою, слишком чуждою ей натурою. Милочка ей милее, да Милочка и сама бы охотно оставила дом, променяла бы душные стены на вольные просторы.
Но внимательна душа ищущая и окрыленная. Помнит первый миг сладкой влюбленности и друга милого не забыла. Давно простила ему его неожиданную измену. Вышла замуж, детей вырастила, а все эти годы одна была милая дума, один для души приют, – дума о милом.
И вот ее старый друг опять с нею. Он овдовел, он свободен, – она все в том же душном, но привычном плену. И быть ей вместе с ним где-нибудь в саду благоуханном тихом и мирном, в уютном доме, где покой и счастие, невозможно. Она – в плену.
И что же ей делать? Молиться, как молилась. Но что же ей делать? Любить, как любила. Не гасить огня любви, огонь любви перед иконою поставить свечою, затепленною утешно, перед иконою Скоропослушницы.
Чистая Богородица, успокой меня! Милый Бог, маленький Христосик на руках у Матери, утешь меня! Дева Голубица, у ног Твоих пролью слезы мои! Очисти мою душу, восхити меня в горний мир!
24
Станет иногда Любовь Николаевна перед зеркалом, смотрит на свое отражение. Ни одного седого волоска, ни одной морщинки. Правда, она вышла замуж очень молодою, – но все же ведь у нее взрослые дети!
Прислушается к своему голосу, – он еще молодо-звучен. Поднимет глаза на своего друга, – и былое оживает в памяти.
Профессор Абакумов немного старше ее. Но, когда они вместе, кажется иногда, что он так же молод, как и она, и что время не имеет и над ним власти.
Он носит на рукаве креп, потому что недавно умерла его жена. Его густые, волнистые волосы слегка тронуты проседью. Голос его, ясный и отчетливый, с очень уверенными интонациями, звучит совсем молодо. Во всем его обращении сказывается привычка к бесспорному влиянию на людей. Недаром он так долго пробыл профессором и всегда был любим и уважаем и слушателями, и товарищами.
Но вот целая полоса жизни легла между ними. И теперь Любовь Николаевна так часто вспоминала его покойную жену. Она была из богатого купеческого рода, из Сонохты. Любовь Николаевна была с нею хорошо знакома, почти дружна, и отношения их никогда не прерывались и не портились.
Так странно было, вспоминая Тамару Дмитриевну Абакумову, думать о ней как о покойнице. Она была такая живая, такая веселая, так радовалась земной легкой жизни! В памяти вставало лицо покойницы в гробу, – все то же веселое, легкомысленное лицо, и только черные брови были слегка приподняты, и словно отблеск удивления лежал на ее застывшей улыбке.
Четверть века тому назад молодой приват-доцент Абакумов встретился зимою в Москве с Любовью Николаевною. Они полюбили друг друга. Летом он приехал в Сонохту. Увидел Тамару, – и внезапно влюбился в нее. Так же внезапно повенчался с нею. И почти тотчас же, так же внезапно понял, что не любит ее. Угар внезапного очарования рассеялся быстро, он понял, что в его сердце одна только любовь, его первая, милая. Но Любовь его, успевшая поплакать немало, вышла за богатого фабриканта Горелова.
Тамара не замечала перемены в своем муже, в его отношениях к ней. Она так поспешно и жадно жила, что ей некогда было всматриваться в тонкости душевных переходов. Она была уверена в том, что муж любит ее, и сама ему никогда не изменяла. Она любила его так доверчиво и страстно, что у него никогда не хватило бы решимости сказать ей:
– Тамара, я тебя не люблю. Я люблю не тебя.
Что бы она тогда сказала? Что бы сделала? Абакумов даже не мог понять, была ли она ревнива. Может быть, да. И даже не то что ревнива, а уж очень неожиданна во всех своих поступках, ни добрая, ни злая, взбалмошная, непоследовательная, избалованная своим богатством, женщина с душою ребенка. Может быть, она способна была бы облить соперницу серною кислотою. Может быть, себя убила бы. А может быть, утешилась бы в потоках слез и горьких жалоб.
Но она не знала, что муж, лаская ее, любил другую. Она была слишком простая натура, очень жизненная и веселая, и не умела анализировать. Правда, в своих денежных делах она была очень умна, тонка и даже хитра. Она отлично вела свою фабрику, хотя занималась этим урывками, кое-когда. Ее нельзя было обмануть в этих денежных делах. Но Абакумов не считал ее поэтому особенно умною. Он думал, что ведь это все такие примитивные, почти зоологические отношения, – звериное хищничество и звериная осторожность.
25
Может быть, в последний год своей жизни она стала о чем-то догадываться. Она стала временами очень раздражительна. Говорила иногда Абакумову:
– Ты – ученый, а я – дура. Я тебе не пара, сама теперь вижу.
Раньше никогда этого не бывало. А в этот год довольно часто срывались у нее такие словечки. Говорила не раз:
– Как я молода была, так для тебя хорошее меня на свете не было, а теперь ты меня на любую смазливую курсисточку променять готов.
Может быть, это было оттого, что уже начиналась болезнь, которая свела Тамару Дмитриевну в могилу. Как бы то ни было, Абакумов чувствовал к ней большую жалость. Приходилось успокаивать жену. Тяжелое притворство было ему самому ненавистно. Тем более что он не знал, любит ли она его по-настоящему, так как, чувствовал он, любила его Любовь. Иногда казалось ему, что в любви Тамары было очень много от чувства собственницы, и сказывалось, что в этой любви много душевной пустоты, которую Тамаре надобно было чем-нибудь наполнить. Чувствовалось как бы одержание демоном, жаждущим плотской страсти и вошедшим в тело Тамары, чтобы насладиться утехами земной страстной жизни, такой телесной и завидной поэтому для бесплодного и унылого злого духа.
Теперь нередко, когда Любовь Николаевна разговаривала с Абакумовым о последних месяцах его семейной с Тамарою жизни, ей жутко вспоминалось одно ее тогдашнее впечатление. Незадолго до того, как Тамаре захворать, – может быть, даже накануне, – она была у Гореловых, здесь на даче, – это было прошлым летом. Случилось, что две женщины остались наедине в саду, на площадке над крутым обрывом. Любовь Николаевна сидела на скамейке, а Тамара Дмитриевна подошла к балюстраде и смотрела на реку. Она притихла на минуту и казалась вдруг непривычно бледною и грустною. Любовь Николаевна смотрела на нее с необычайным волнением и подумала вдруг, Бог весть почему: «Она скоро умрет».
Ей стало страшно. Она поспешно встала, подошла к Тамаре, хотела спросить:
– Вам нехорошо?
Но Тамара вдруг встрепенулась, словно сбросила с себя какую-то тяжесть, и опять весело болтала и смеялась, и щеки ее опять зарумянились.
26
Так вот странно жили эти четыре человека, соединившиеся по ошибке, прожили почти четверть века, и только двое из них ошибку эту знали. Не так бы им следовало соединиться, и тогда все было бы счастливо иначе в их жизни. Горелов и Тамара были бы во всем созвучны друг другу, и в их деловых наклонностях, и в их неугасающей жажде чувственных наслаждений, веселой, шумной жизни. У обоих – элементарные натуры и вульгарные вкусы, удобно и полно удовлетворяемые большими деньгами, везде встречающие себе ответ. Ах, шампанское везде и всегда опьяняет одинаково, и наряды радуют, и роскоши завидует простодушная толпа, и кабаки везде все те же, и везде много людей для всяческих услуг.
Абакумов и Любовь Николаевна, конечно, были созданы друг для друга. Она была бы ему верною, терпеливою спутницею его не всегда легкого пути. Его занятия не были бы ей так чужды, и все тонкие движения ее души нашли бы в нем сочувственный отклик.
Но жили они все это время все четверо странно раздробленною жизнью. У Горелова – фабрика, кутежи, любовницы. У Любови Николаевны – дети, хозяйство, книги, музыка, театр, беседы с художниками и с поэтами, благотворительность. У Абакумова – кафедра, наука, общественная деятельность. У Тамары Дмитриевны – светская жизнь, болтовня в своей и в чужих гостиных, неопасный флирт с неопасными кавалерами, заграничные поездки. У каждого свое. Случалось, что встречались супруги, – одна чета, как и другая, – только за обедом. Были очень нежны друг с другом, – одна чета, как и другая, – и не замечали, что живут вместе по ошибке.
Может быть, и дети у них были бы иными, если бы злой враг рода человеческого не перепутал нарочно кольца их судьбы, похищенные им у задремавших ангелов, которые в небесах обручали их души. Смущенные ангелы пытались потом поправить дело, и только одному Николаю враг успел вконец испакостить душу. Милочка и дети Абакумовых, – сын и две дочери, – были очень хорошие, искренние люди. Влияние врага сказалось, однако, в том, что на Милочку находили иногда припадки бешеной вспыльчивости, после которых у нее тяжело болела голова; дети же Абакумовых были очень нервные и неустойчивые. Мать обращалась с ними, как с красивыми и милыми куклами, отцу же они доставляли много тяжелой заботы, и ему зачастую страшно было думать о том, что сделает с ними взбалмошная русская жизнь.
27
Как часто в эти дни, и сегодня Абакумов и Любовь Николаевна ходили в саду вдвоем и беседовали. Был шестой час в начале, солнце еще было высоко. Стоял теплый, почти жаркий день. Но аллеи сада, тихие и тенистые, давали отдых от знойных лучей, и было в них свежо, душисто, зелено и молодо, когда Абакумов и Любовь Николаевна были там вдвоем. Абакумов говорил, – Бог весть в который раз:
– Вы знаете, все эти годы, долгие годы, я любил только вас.
Любовь Николаевна смотрела прямо перед собою, как бы ничего не видя. Глаза ее были наполнены слезами. Тихо-тихо, точно боясь, что от быстрого движения и от громкого голоса прольются эти слезы, непрошеные, ненужные, она сказала:
– Однако женою вашею была она, а не я.
И этими легко и прозрачно прозвучавшими словами точно пожаловалась кому-то на беспощадность злой судьбы! Показалась такою жалкою, слабою и несчастною, что Абакумову невольно захотелось оправдать себя или, может быть, утешить ее нежным упреком. Ласково сжимая ее руку, тихо, как и она, он сказал:
– Друг мой, не хочу вас упрекать, но и вы не замедлили ответить мне тем же.
– Да, и я не осталась ждать, – с горькою улыбкою отвечала Любовь Николаевна. – Да и чего ждать? Кого? Того, кто обо мне так скоро позабыл? Какая у меня могла быть надежда? Я была тогда так одинока, так несчастна! А он, Иван Андреевич, он был тогда так влюблен в меня, так ласков со мною, смотрел на меня так, точно не мог жить без меня, и так везде, всегда настигал меня своею преданностью и любовью! У меня не было сил отказать ему! Что ж! Он – простой, милый, искренний человек. Он и до сих пор меня любит, как в первые годы.
Голубые, по-молодому блестящие, глаза Абакумова ревниво зажглись. Он сказал досадливо:
– Однако он изменяет вам на каждом шагу.
Как всякая женщина, Любовь Николаевна сразу почувствовала яд ревности в звуке голоса ее милого, и, как всякую женщину, ревность любимого обрадовала и утешила ее. Она сказала спокойно:
– Ах, Боже мой, я это знаю! Это – порывы страстной натуры, и только. Ничего серьезного в этих его увлечениях не бывает. Чем больше он изменяет мне, тем я для него милее и чище. Я для него – святыня в доме.
И, поддаваясь женскому неглубокому, но неодолимому желанию усилить еще немного яд зажегшейся в сердце милого ревности, она говорила, ласково хваля Горелова:
– Он со мною так нежен, так ласков, так всегда кроток!
Сумрачно хмуря брови, Абакумов спросил:
– Но ведь вы его не любите?
– Он любит меня! – отвечала Любовь Николаевна.
И опять слезы послышались в ее голосе. Абакумов заглянул в ее наполнившиеся слезами глаза и страстно воскликнул:
– Милая моя! Любовь моя! Ведь вы любите меня!
28
И уже не могла больше, заплакала. И, словно обрадованная и освобожденная, омывшая все свое горе в слезных потоках, она говорила, плача:
– Люблю, всю жизнь любила. Вы это знаете.
Абакумов говорил настойчиво:
– Вы должны уйти со мною! Теперь, когда я стал свободен, уйдите со мною, умоляю вас, Люба моя милая!
И, плача, говорила Любовь Николаевна:
– Друг мой, вы знаете, я не свободна. У меня взрослые дети. Как я погляжу им в глаза? Подумайте, друг мой! Сердце мое разрывается. Отчего вы не позвали меня раньше?
– Я знаю, – говорил Абакумов, – моя вина пред вами так велика! Я боялся позвать вас. Это было малодушие с моей стороны, недостаток практической воли, свойственный такому книжному и кабинетному человеку, как я. И я не решался подвергнуть вас мщению ревнивой, взбалмошной женщины. Она была такая экспансивная! Она была бы на все способна!
Любовь Николаевна улыбнулась сквозь слезы.
– Что бы она могла мне сделать? – спросила она. – Что ж, она бы выжгла мне глаза серною кислотою? Но я и слепая любила бы вас так же!
– Милая моя! – говорил Абакумов, – любовь моя, зачем ненужные страдания!
По его лицу пробежало краткое содрогание боли и ужаса. Его воображение, всегда слишком живое и потому всегда чрезмерно пугливое, поставило пред ним образ обезображенной красоты. Он почувствовал, что это испытание для него было бы чрезмерно тягостным. Трагическая маска в квартире профессора – это было бы сочетание слишком нелепое и потрясающее. Эстетика обычной жизни не мирилась бы с этим вечным присутствием воплощенного ужаса и созданного из красоты злобою безобразия.
– Друг мой, – отвечала Любовь Николаевна, – все наши страдания не бесцельны. Одно только нам надобно в жизни, – знать, чего мы хотим, поставить себе неизменную цель и только к ней идти. Всем остальным нужно пренебречь, – тогда и самые страдания оправданы.
– Вы еще так молоды! – говорил Абакумов. – Зачем отказываться от счастия? Позднее счастие, но тем более сладкое. Любовь моя, Любовь моя милая!
Любовь Николаевна плакала, коротко и сладостно вздыхая и тихонько вскрикивая при каждом вздохе, – тихо и протяжно:
– Ах! Ах! Ах!
И казалось, что ее вздохи и нежные ее вопли нескончаемы. Абакумов обнял и целовал ее, повторяя настойчиво, тихо и нежно:
– Любовь моя! Милая! Любовь моя! Милая!
29
Вдруг сверху, из-за кустов, послышался нарочно громкий голос старого лакея Якова Степановича:
– Николай Иванович, осторожнее, – там на лестнице одна ступенька сломана, еще не успели починить, и у перил балясины повывалились.
Потом послышалось досадливое восклицание Николая, – слов было не разобрать, – и потом донеслось гнусное пение:
Любви все возрасты покорны,
Ее порывы благотворны!
Голос поющего Николая был фальшив, резок, оскорбителен. В нем слышалась насмешка, звучало подлое торжество. Казалось, что этим пением он говорит матери:
– Я видел, я слышал!
Любовь Николаевна быстро освободилась из объятий Абакумова. На ее лице отражались страдание, испуг, гнев, презрение. Она вдруг поняла: ее сын пробирался подсматривать за нею, а почтенный старик Яков Степанович оберегал ее и громким криком дал ей знать о приближающейся опасности. И такое ощущение охватило ее, как будто из-за всех кустов жалят ее острые, издевающиеся взоры и насмешливые, гнусные улыбки. Она сказала Абакумову очень тихо и настойчиво:
– Друг мой, прошу вас, уйдите отсюда.
Абакумов отвечал с презрительным спокойствием:
– Зачем? Это – ваш сын.
И по его лицу, вдруг принявшему строгое, решительное и презрительное выражение, она видела, что и он, как она, понял, в чем дело. Ей стало стыдно за себя, за сына, и от этого чувства, тяжелого, как низкий, грузный свод над головою в сыром подземелье, внезапный гнев охватил ее.
– Мой сын! – сказала она гневно.
И глаза ее засверкали зло и остро. Но опять смятение противоположных чувств овладело ею. Она представила себе, что могут сказать один другому Николай и Абакумов при этой встрече. И она торопливо зашептала:
– Ради Бога, друг мой! я очень взволнована! Я не хочу, чтобы нас теперь, в эту минуту, видели здесь вместе. И особенно он, мой сын!
Абакумов посмотрел на нее внимательно, поцеловал ее руку и по узкой тропинке, едва видной между густо разросшимися кустами, стал спускаться вниз, к забору, где была калитка на берег Волги.
Любовь Николаевна торопливо вытерла слезы, легкие на нежно зарумянившихся щеках, тонким маленьким платком, от которого слабо и сладко пахло фиалкою. Она остановилась в нерешительности, не зная, куда идти. Сначала она хотела избегнуть встречи с Николаем. Потом она вдруг вспомнила, что Николай мог видеть ее с Абакумовым из окна своей комнаты, когда они шли мимо цветочных куртин. Притом же голос Николая слышался все ближе и ближе. Каждый звук этого наглого голоса оскорблял ее и заставлял дрожать.
Николай забыл продолжение арии, которую он начал петь. Резким фальцетом он запел дурашливо, неверно и фальшиво из оперетки:
Я – вечно твоя Перикола,
Но больше страдать не могу.
Потом, опять перейдя на свой режущий ухо баритон, заревел из «Вампуки», все громче и громче:
– Бежим, спешим! Спешим, бежим! Спешим, спешим! Бежим, бежим! Людей смешим!
Любовь Николаевна беспокойно смотрела вслед спускающемуся вниз Абакумову. Уже начала жалеть, что заставила Абакумова уйти. Если Николай увидит его на этой тропинке, какие это вызовет комментарии, какое глумление! Наконец она решилась идти навстречу Николаю, задержать его, не дать ему возможности увидеть Абакумова. Она постаралась придать своему лицу спокойное выражение, но ее шаги были все же слишком торопливы, когда она шла, неся в сердце горькое презрение к сыну, по тенистой извилистой аллейке туда, где за кустами звучал его наглый голос. И уже завидев его неожиданно близко, она заметила, что почти бежит, и замедлила походку.
30
Глядя прямо на мать и нагло ухмыляясь, Николай громко пел:
– Я все видел, я все слышал!
Любовь Николаевна, проходя мимо него, спросила:
– Что ты видел, Николай, что ты слышал?
Она сама удивилась тому, что ее голос звучит совершенно спокойно и даже насмешливо. Николай круто остановился и сделал вид, что только сейчас увидел перед собою мать. Ее спокойствие обмануло его, и он не догадался пройти еще несколько шагов по дорожке. Даже и теперь, если бы он наконец замолчал, перестал оглушать самого себя звуками своего голоса и прислушался, то он мог бы услышать шелест в кустах, успел бы добежать до тропинки и увидеть Абакумова. Но, опьяненный своею собственною наглостью, он продолжал звучать, как струна разбитого рояля, слишком усердно надавленная педалью. Он говорил глумливым голосом:
– А, это ты, мамахен! Нет, это я так, из одной веселенькой опереточки. А видеть и слышать здесь, кажется, некого и нечего. А, не правда ли?
Любовь Николаевна молча пожала плечами и шла, не останавливаясь. Николай шел за нею. Но вдруг, словно вспомнивши что-то, резко засвистал, засунул руки в карманы, круто повернулся и пошел по аллее в ту сторону, откуда вышла Любовь Николаевна.
– Николай! – закричала Любовь Николаевна, остановившись.
– Ась? – дурашливо откликнулся Николай, оборачиваясь к ней, и тоже остановился.
Любовь Николаевна говорила с раздражением:
– Очень прошу тебя, – не свищи при мне. Твой свист положительно невозможно слушать.
Николай резко захохотал. Закричал все тем же глумливым голосом:
– Нервочки! Ну хорошо, не буду. Крайней необходимости свистать не ощущаю. Свищу просто от скуки, – от нечего делать, – от веселости, наконец, свойственной моему возрасту. Это тебе трудно понять, мамахен. Но что делать! Нельзя всегда иметь двадцать лет от роду, это я понимаю. Всякому овощу свое время.
Любовь Николаевна вышла на круглую песочную дорожку перед открытою полянкою с большою круглою куртиною посредине и с бордюром из мелких, голубеньких, лиловых, розовых летников. Она села на скамью, прислонилась к ее нагнутой, тонкой спинке и затуманившимися глазами смотрела на легкие, по небу бегущие тучки, на ясную синеву неба, и казалось ей, что безмерно грустен этот день, еще такой ясный, но уже охваченный боязливым предчувствием заката. Ах, дни, умирающие навсегда! Печальная неудержимость времени!
Николай нелепо маячил пред матерью и напевал бессмысленные слова:
Сердце с перцем, эрцум, цум, цум, цум!Любовь Николаевна смотрела на него внимательно и печально. Вот сын, которого она родила и воспитала! Тот, над которым почила святая любовь матери и ее неустанные заботы!
31
Николай вдруг придал лицу притворно-ласковое выражение, от чего стал еще противнее и страшнее, – жаба, вымазанная вареньем, – подошел к матери и, умильно глядя на нее, заговорил отвратительно сладким голосом:
– Мамочка, когда у любящего сына чего-нибудь необходимого не хватает, к кому же ему идти, как не к любящей матери?
Фальшиво и оскорбительно звучали эти слова. Может быть, сам того не замечая, он на слове «любящей» (матери) сделал какое-то неуловимо наглое ударение, так что в этом слове слышался гнусный намек.
Любовь Николаевна слегка покраснела. Почувствовала неприятное замирание в сердце. Спросила:
– Что тебе надобно? Ты хочешь опять просить денег?
Николай утвердительно кивнул головою. Любовь Николаевна говорила:
– Я не понимаю, Николай, – ты от отца получаешь так много!
– Большие деньги, подумаешь! – насмешливо воскликнул Николай. – Видишь ли, мама, ты этого не можешь понять, – дамы никогда не платят.
Любовь Николаевна поглядела на него с удивлением. Николай принялся объяснять:
– Ну, в ресторанах, за экипажи, цветы, на чай, ну там разные мелочи, – вообще, множество расходов, которых дамы не могут подсчитать, – ведь они же никогда ни за что не платят, – все мелочи, но в общем это составляет нечто. И весьма, скажу тебе, заметное в сумме. Притом же, странно мне было бы сквалыжничать! Я – не кто-нибудь. Я – Горелов. Так все на меня и смотрят. Того все от меня и ждут. И не могу же я!.. Имя, как ты хочешь, обязывает. Надеюсь, ты и сама понимаешь, что если носишь такое имя, то несешь и соответственные обязанности. По крайней мере, в порядочном обществе. Надеюсь, что это и тебе понятно!
Презрительное молчание матери раздражало его, и он продолжал на разные лады растолковывать все одно и то же. Как речь на чужом варварском языке звучало все это для Любови Николаевны. Как это грустно! Вот он, рожденный и воспитанный ею, провел с нею более двадцати лет, лучшую, самую чистую и впечатлительную пору своей жизни, и они словно говорят на разных языках!
Наконец она тихо и сдержанно сказала:
– Вот именно потому, что ты не кто-нибудь, как ты выражаешься, а Горелов, тебе и нет надобности швырять деньги направо и налево. Кому и что ты этим можешь доказать? Солидность фирмы известна всем. А если станут говорить про твою расточительность…
Николай, перебивая ее, закричал нахально:
– Ну, поехала! Все эти турусы на колесах я наизусть знаю.
Любовь Николаевна вздрогнула от этой неожиданной грубости. Сказала с упреком:
– Николай, ты очень странно выражаешься!
Николай спохватился, – в самом деле, надобно сначала попробовать, не приведет ли к цели ласковость. Он сказал, не слишком, впрочем, любезно:
– Извини, мама, но если бы ты знала мои дела, ты бы не удивлялась тому, что я несколько взволнован.
– Ты проигрался? – спросила Любовь Николаевна, бесцельно и тоскливо глядя перед собою.
За куртинами, жасминными кустами и песочною площадкою видна была боковая стена кирпичного, красного, большого дома. Красивая, но немного вычурная архитектура дома была сегодня неприятна Любови Николаевне. С Волги доносилось торопливое постукивание моторной лодки, и это было единственным звуком, нарушавшим теперь тишину здесь, в саду. Направо от цветника, вверх от Волги, тянулась липовая аллея. Любовь Николаевна вспомнила, что липы цветут, и ей показалось, что их пряный, нежный и волнующий аромат набегает на нее томными струями. Недалеко от нее на кусте сирени пестрая, верткая птица с красным брюшком и голубою шейкою закачала упругую ветку, осмотрелась и полетела, воровато и низко, за липы, в густой вишенник. Все эти разрозненно метнувшиеся в сознании черты развлекли Любовь Николаевну, и она очень невнимательно выслушала ответ от Николая.
32
– Проигрался? Нет. То есть да, – говорил Николай. – А, черт! Одним словом, мне не до выражений. Кажется, можно это понять и хоть иногда войти в мое положение. Одним словом, мама, мне очень нужны деньги, и я убедительно прошу тебя дать мне хоть рублей восемьсот, что ли. Без крайней необходимости я бы не стал беспокоить тебя. Собственно говоря, мне бы надо тысячу. Но я прошу только восемьсот.
Любовь Николаевна молчала. Николай говорил все громче, почти кричал:
– Мама, да ты, кажется, не слушаешь? На это ухо мы глухи? Проснись, пожалуйста! Пойми, я прошу у тебя всего восемьсот рублей. Ну, в крайнем случае, семьсот. Надеюсь, эта сумма тебя не разорит. А мне положительно до зарезу. Что называется, – вынь да положь.
Мечта поставила перед матерью иной дом, иную семью. Веселые глаза ласкового сына глянули в ее глаза так ясно, так живо, как наяву. Она тряхнула головою, отгоняя сладкое очарование мечты. Суровые подняла глаза на Николая и решительно сказала:
– Николай, я не дам тебе никаких денег. Из заботы о тебе я не дам тебе денег.
– Напрасно! – злобно сказал Николай. – Повторяю, мне деньги до зарезу нужны, и я на все готов, чтобы их достать. Для тебя деньги – меньги, как говорят армяшки, а для меня это – жизненный вопрос. Как порядочный человек, предупреждаю тебя, мама, что я ни перед чем не остановлюсь. Я говорю совершенно серьезно.
Любовь Николаевна внимательно посмотрела на него и сказала:
– Попроси у отца, если тебе так необходимы деньги.
Николай засмеялся злобно и нагло. Сказал:
– Ты напрасно посылаешь меня к отцу, мама. Предупреждаю тебя, – это не в твоих интересах.
– Проси у отца, – повторила Любовь Николаевна. – А я тебе не дам.
Она встала со скамьи и пошла к липам. Николай злобно кричал:
– Да и пойду, и буду просить у отца. Но ты, мама, лучше бы не доводила меня до этого.
Любовь Николаевна остановилась и смотрела на Николая с удивлением, слегка презрительным и грустным. Николай несколько понизил тон, слово вдруг загипнотизированный ее пристальным взглядом. Но тон его слов оставался все таким же злобным, когда он говорил:
– Ты знаешь, у отца на все свои правила, самые самодурские. То ему не жалко на свои прихоти тысячами швырять, а для сына, – да он скорее удавится, чем для меня лишний рубль даст. Поневоле влезаешь в долги, имея отцом такого аспида и жидомора.
Любовь Николаевна отвела глаза от искаженного злобою лица Николая и тихо, но решительно сказала:
– Николай, об отце нельзя так говорить. Неужели ты сам этого не понимаешь?
Николай грубо отвечал:
– Говорю правду. Имею на это достаточно оснований. Иногда, знаешь ли, сказать правду бывает очень пользительно. Знаю, отец не расположен давать мне деньги. Даром, знаю, не даст. Но я ему продам кое-что. Дело, так сказать, коммерческое.
Он смеялся нагло и трусливо и смотрел на мать, стараясь придать лицу многозначительное выражение, но от этих стараний его лицо становилось напряженно-тупым и более обыкновенного глупым. Наступило, по его соображениям, время пустить в ход последний, решительный аргумент, – и он волновался. Последние сдержки привитой воспитанием порядочности еще мешали ему бросить в мать приготовленные тяжелые слова. Он еще надеялся, что если намекнуть ей похитрее, в чем дело, и дать понять, что он не остановится перед разоблачением ее сердечной тайны, то она догадается, испугается, сделает вид, что уступила его просьбам, что вошла в его положение, и даст денег.
33
На лице Любови Николаевны была печаль и мука. Она давно уже поняла, к чему клонит Николай. Ей хотелось уйти, но уйти она почему-то не решалась. Странное ей самой любопытство удержало ее, – посмотреть, как Николай подойдет к своей щекотливой задаче. Она спросила:
– Что ж ты хочешь ему продать?
Николай говорил озорным голосом:
– Что? Это тебя интересует? Так, кое-какие сведения. Нечто крайне любопытное.
Любовь Николаевна пренебрежительно усмехнулась и сказала:
– Этим товаром Гореловы не торгуют. Тебе надо идти с ним в другое место.
– Нет, – запальчиво кричал Николай, – я знаю, куда мне надо идти. Именно к отцу. Эти сведения его заинтересуют. Именно его.
Любовь Николаевна очень внимательно смотрела на сына и молчала. Николай заговорил убеждающим голосом, предчувствуя близкое торжество и потому становясь спокойнее:
– Я, право, не понимаю, мама. Ей-Богу, не понимаю. Ты могла бы по себе судить. Любить – это не фунт изюму, ты сама это понимаешь.
Увидевши, что лицо матери начинает бледнеть, Николай подумал злорадно: «Догадалась! Наконец-то! Ну, теперь я живо ее обломаю».
Опустив глаза, Любовь Николаевна спросила тихо:
– Кого же ты любишь, Николай?
– Сейчас я этого не могу сказать, – отвечал Николай, самодовольно усмехаясь.
И уже он был уверен, что мать начинает сдаваться. Иначе зачем же было бы спрашивать о предмете его любви! А Любовь Николаевна продолжала спрашивать все тем же сдержанным тоном:
– И твоя любовь требует от тебя денег?
Исподтишка бросая на сына короткие, быстрые взгляды, как на опасного и дерзкого противника, она словно вела с ним роковой поединок. Дразнила его своею сдержанностью, своим спокойствием, притворным непониманием. И уже опять начиная злиться и больше всего досадуя на свою внутреннюю, непонятную ему и связывающую его неуверенность, он говорил:
– Ну, требует! Что это значит – требует? Это как один побитый еврейчик говорил: «Товарищи, что это значит, – он побил меня по левой морде?» Впрочем, это из другой оперы. Требует не требует, но без денег нигде нельзя и шагу ступить. И я не понимаю, как ты можешь не сочувствовать мне, мама!
Любовь Николаевна спросила усталым голосом:
– Почему я должна сочувствовать тебе в этой твоей любви?
И едва начала этот вопрос, как вдруг почувствовала, что помогает Николаю, давая ему возможность дерзкого ответа. Но уже утомилась настороженно ждать.
«Пусть говорит что хочет!» – успокоенно подумала она и даже слегка улыбнулась.
34
Николай говорил, нагло улыбаясь:
– Но раз что ты сама переживаешь это… Когда переживаешь такое блаженное состояние, то как же не сочувствовать другим!
Как ни была Любовь Николаевна подготовлена к такому повороту разговора, все же слова Николая и его наглая улыбка ударили ее по нервам, как хлесткие удары бича. С невольным страхом в голосе она сказала:
– Николай, я не понимаю, что ты говоришь.
И в душе ее еще гнездилась робкая надежда, что он смутится, покраснеет, скажет ласковые, нежные слова. Но Николай отвечал злобно и развязно:
– Вот! Я тоже не понимаю! Прогулки с другом сердца у ручейка, где незабудочки, – и такое бессердечие к своему собственному сыну, как ты хочешь, одно с другим не вяжется.
Любовь Николаевна с ужасом смотрела на злое лицо Николая и повторяла:
– Николай, замолчи, замолчи!
Николай говорил с возрастающею злобой:
– И, наконец, твои собственные интересы могли бы тебе подсказать… Я молчать не обязан, наконец! Я все скажу отцу. Если ты не хочешь помочь мне, так и я не стану тебя щадить.
Дрожа от негодования, Любовь Николаевна гневно говорила:
– Николай, ты меня шантажируешь! Какая гнусность! Как низко ты упал!
Она быстро пошла по направлению к узкой дорожке, которая, извиваясь среди кустов шиповника, вела к дому. Николай бежал за нею с перекосившимся от злости лицом и визгливо кричал:
– Я как сын так же имею право возмущаться! Честь моего отца задета! Я не позволю!
Любовь Николаевна остановилась в начале дорожки, у одной из двух тоненьких, молоденьких, чинно пряменьких березок. Сказала:
– Оставь меня! Я не хочу слушать тебя.
– А, что? – злорадно усмехаясь бешено трясущимися губами, говорил Николай. – Видно, правда глаза колет!
– Правда, которою ты торгуешь! – гневно крикнула Любовь Николаевна. – Не смей идти за мною!
Николай дерзко и яростно закричал:
– Ты не можешь мне запретить! Я здесь дома, на земле моего отца! Никто не запретит мне говорить, что я хочу сказать.
Любовь Николаевна огляделась тревожно во все стороны. Никого не было видно ни в саду, ни в окнах дома, ни на террасе, ни на балконах. Было тихо везде, только легкий ветер порою колебал ветки, да, скатившаяся с верхушек деревьев, по лужайке быстро проносилась от Волги к дому легкая, почти сквозная тень маленькой тучки. А Николай наступал на мать и готов был схватить ее за платье, если она вздумает бежать от него. Она растерянно говорила:
– Я буду кричать! Я позову людей!
Но Николай решил, что скандала не ему следует бояться, и отвечал язвительно:
– Вы хотите, чтобы я при свидетелях? Как вам будет угодно! Сделайте ваше одолжение, зовите, кого вам угодно. Вы не заткнете мне рта. Дудки-с.
Опять загораясь гневом, Любовь Николаевна кричала:
– Ты – подлый, подлый! Шантажировать свою мать! Подлый! Люди, люди, дайте мне уйти от этого человека!
35
Любовь Николаевна быстро побежала по узкой дорожке. Николай устремился было за нею, но вдруг наткнулся на Думку. Как раз в это время Думка вышла в сад. Услышавши крики, она побежала, увидела, что Николай гонится за матерью, сообразила, что происходит какая-то необычайная сцена, вроде читанных ею в романах, и решилась задержать Николая. Она подумала, что в его руке может быть нож, и сердце ее шибко забилось от героической готовности пожертвовать собою, от восторга, толкающего на подвиги, и от жуткого страха. Неожиданно для Николая выбежала она из-за кустов, стремительно бросилась между ним и матерью и с разбегу так толкнула его плечом и грудью, что он отскочил на несколько шагов назад, опять к цветнику. Едва удержался на ногах и злобно закричал:
– А, черт! Что ты тут под ноги суешься! Пошла прочь!
Испуганно, задыхаясь от волнения и от стремительного вдруг задержанного бега, Думка спрашивала:
– Николай Иванович, что же это? Вы гонитесь за вашей маменькою, Любовь Николаевна кричит, чтобы дали им от вас уйти. Так нельзя, Николай Иванович!
Ее продолговатое лицо красивой ярославки раскраснелось, и в душе ликовала жуткая ей самой гордость, что вот она за кого-то могла заступиться.
Николай грубо кричал:
– Не задерживай! Дурища, ослица, не твое дело!
И толкнул Думку кулаком по плечу, чтобы пройти; Думка тонко и негромко вскрикнула от ушиба, но не растерялась, – быстро, упруго изогнулась, забежала вперед Николая, схватилась обеими руками за березки по краям дорожки и загородила проход.
– Пусти! – неистовым голосом кричал Николай, напирая сильным, костлявым плечом на ее тоненькое девичье плечо. – Сейчас же отойди!
Думка держалась цепко за березку, изо всей силы упиралась ногами в мелкий песок тропинки и кричала:
– Не пущу! Ни за что не пущу! Что это, в самом деле, какой скандал вы устраиваете!
Николай визжал высоким фальцетом:
– Да как ты смеешь! Ах ты, дрянь ты этакая!
– За своей маменькой гонитесь, – кричала Думка, – это только у самых грубых мужиков бывают такие скандалы, да и то если в пьяном виде.
– Пусти, дрянная девчонка! – вопил Николай. – Я тебе оплеух надаю!
– Не пущу! – упрямо повторяла Думка. – Как вам не стыдно, Николай Иванович! Ай, ай! Руки сломаете!
Николай несколько раз грубо дернул Думку за плечи, потом с ожесточением принялся бить ее по рукам, крича:
– Пусти! Пусти! Пусти!
– Ой, ой! – кричала Думка. – Больно! Больно!
Она пронзительно завизжала, опустила левую руку и упала на землю около стволика березки, за который все еще держалась правою рукою. Николай бросился бежать мимо нее.
Думка вскочила и захохотала. Закричала торжествующим голосом:
– Поздно, Николай Иванович! Любовь Николаевна успела уйти, куда – вы не знаете. Теперь куда хотите идите.
Николай остановился. В самом деле, матери уж не было видно. За вознею он даже не успел посмотреть, куда она скрылась. Он со свирепым лицом повернулся к Думке и кричал:
– А, черт проклятый! Я вам этого не забуду, Думка! Вы совершенно напрасно вмешиваетесь в чужие дела.
Думка, смеясь и поддразнивая его, повторяла:
– Теперь куда хотите идите, мешать не стану.
Но, увидев его по-звериному оскаленные зубы и злобно горящие глаза совсем близко к своим глазам, она испугалась и сказала жалобно:
– Все мне руки обломали.
– Вам бы не одни только руки! – кричал Николай, надвигаясь на нее с угрожающим видом. – Уши оборвать!
Так как Думка была дочь сторожа, а не барышня, то Николай не считал нужным стесняться с нею. Ее уши были в большой опасности, но в это время послышались недалеко голоса Елизаветы и Шубникова. Николай сообразил, что драка с девушкою, довольно сильною и настроенною неизвестно как, могла бы принять не особенно лестные для него самого формы. Поэтому он отошел от Думки, бросая на нее, однако, яростные взгляды. Думка прислонилась спиною к стволику березки и смеющимися глазами смотрела на Николая и на вновь появившихся. Ей было любопытно послушать, что будет говорить Николай, – поспешная походка, почти переходящая в бег, Елизаветы и Шубникова показывала, что они появились здесь не случайно, а привлеченные криком.
36
Елизавета, запыхавшаяся и потому злая, остановилась перед Николаем и спрашивала:
– Что это здесь какой крик? Я так испугалась, думала, что с дядей что случилось или нападение экспроприаторов.
Может быть, она и в самом деле испугалась, но так как ни дяди, ни экспроприаторов не было видно, то ее страх переходил в любопытство, вульгарно-жадное, – не скандал ли какой? – и к этому примешивалась еще затаившаяся, но уже готовая шипеть и жалить злость на то, что ей, барышне, пришлось обеспокоиться и бежать в то самое время, когда ее собственная горничная Думка уже здесь, уже знает, и стоит, и ничуть не беспокоится, и даже осмеливается улыбаться с самым непринужденным видом.
На песке круглой дорожки вокруг куртины вслед за отшуршавшим бегом Елизаветы слышно было грузное шуршание под ногами Шубникова и еще какой-то четкий, быстрый, но все же явно неторопливый хруст. Думка поглядела в ту сторону, – отставши от людей, важно двигался широкогрудый, чернолицый, строгий бульдог, – он знал, что ничего страшного нет, никакие враждебные запахи отсюда не доносятся и что торопиться некуда. И если люди этого не чуют, тем хуже для них. Ведь и наоборот, они часто бывают совершенно спокойны, когда к ним приближается грозная опасность, подходит враг или слепо надвигается бесстрастная и незримая, от близости которой не может не завыть чуткий.
Шубников, озабоченно и вопросительно всматриваясь в Николая и боясь догадываться о неудаче его плана, говорил:
– На Волгу было слышно. Мы бегом сюда мчались. В чем дело?
Николай язвительно сказал, тыкая на Думку большим пальцем через плечо:
– Плоды твоей филантропии, Лиза!
Он, как и Башаровы, совершенно искренно считал, что держать девушку за горничную даром только потому, что зимой ей не препятствуют ходить на курсы, – это и есть самая настоящая филантропия.
Уже совсем было готовая броситься на Думку, но еще не нашедшая для этого подходящего повода, Елизаветина злость обрадовалась случаю пока куснуть хоть Николая. Кислым голосом запела, зашипела она на устах Елизаветы:
– Вот новости! Я же и виновата! Это мне нравится. И необыкновенно любезно с твоей стороны, Николай. Впрочем, мне пора привыкнуть к твоей любезности.
Николай досадливо отмахнулся и, нисколько не тронутый призывом к его любезности, говорил, жестикулируя развязно, но все-таки нелепо:
– Ну да, конечно. Эта девица с поэтическим именем Думка, которую попросту следовало бы звать Дунькой, не довольствуется своею скромною ролью горничной.
Шубников пронзительно свистнул, подмигнул Думке и сказал ей:
– Так-то, Евдокия Степановна!
Думка, не теряя ничуть своей веселости, возразила:
– Мне все равно, хоть чертом-дьволом назовите. Меня от этого не убудет. А я все делаю, что велят.
37
Елизаветина злость обрадовалась, предчувствуя хорошую поживу от Думки, и начала зеленеть и шершавиться, охорашиваясь под цвет крапивы. Выкидывая лиловато-желтые крапивные цветочки целыми пучками в зазмеившиеся Елизаветины глаза, она зашипела:
– Думка, не перебивай!
Николай меж тем продолжал жаловаться, жалиться ядом змеиным, очень окрепшим от внятной близости Елизаветиной родственной злости:
– Она не желает помнить своего социального положения дочери нашего сторожа…
Думка, ужаленная, вскрикнула:
– Что выдумали! Отца не забыла, да и не забуду никогда, вот-то уж никогда.
Она была ужалена змеею, скрытою в благоухающих розах Николаевых речей, но совсем не так ужалена, как рассчитывал Николай.
– Думка! – грозно зашипела Елизавета.
Думка нахмурилась, повернулась боком к Николаю и сказала:
– Да мне что! Я молчу.
Шубников слушал с восторгом, – разыгрывающаяся перед ним сцена обещала быть интересною.
А Николай неустанно жалился, жаловался:
– Она не желает забыть, что она – зубоврачебная курсистка.
Думка живо повернулась к Николаю, чтобы крикнуть:
– Как же мне забыть-то? Зачем? Что ни училась, так все и позабыть?
И опять зашипела Елизавета:
– Думка!
Думка проворчала:
– Да я же молчу!
И отвернулась опять. Николай продолжал:
– Но не желает помнить, что ты ей даешь возможность учиться.
Шубников засвистал и дурашливо, словно перенимая манеры Николая, крикнул:
– Черная неблагодарность! Как же это вы так, Евдокия Степановна?
Думка досадливо тряхнула головою и проворчала:
– Вас только не хватало.
Елизаветина злость, корчась от нетерпения, закричала, сухим, крапивно-шуршащим голосом:
– В чем дело, однако?
– В том дело, – отвечал Николай, – что эта ужасная растрепа вцепилась в меня руками, ногами и зубами.
– Еще чем? – сердито спросила Думка.
И на всякий случай наскоро поправила прическу, передничек, блузу, платье, – в самом деле, возясь с Николаем, стала ужасною растрепою. Елизавета зашипела:
– Вот я тебя!
Испугалась бы Думка в другое время и в другом месте, но здесь Милочка заступится, добрая, как заступалась, – а все-таки Думкино сердце екнуло боязливо. Николай продолжал:
– Когда я хотел идти за мамою. Мне, видишь ли, до зарезу необходимо было кончить разговор с мамою, но мама показала мне спину.
Шубников, улыбкою и шутливым тоном стараясь прикрыть охватившее его неловкое чувство, спросил:
– Ваш разговор принял слишком бурное течение?
Елизавета на минуту забыла о Думке и с нескрываемо насмешливым выражением смотрела на Николая. Он смутился и от этого еще более обозлился. Смущенно и злобно он говорил:
– У меня были свои причины. Наконец, мне совершенно необходимо было. Я иду за мамою, продолжаю мои объяснения. Вдруг вылетает откуда-то из-за кустов эта полоротая запятая, кричит, визжит: «Не пущу!» – и начинает меня всячески теребить и дергать.
Думка пыталась принять серьезный вид, но не выдержала и засмеялась. Елизавета строго посмотрела на нее и сказала внушительно:
– Я с нею поговорю.
Николай злорадно улыбнулся, воображая, что это будет за разговор. Его озлобление почти смягчилось, и почти только по инерции он сказал заключительную сентенцию:
– Вообще, таких истеричных субъектов не следует держать в доме.
– Не беспокойся, я ее уйму, – сказала Елизавета, нагружая свои слова всею тяжестью внушительной угрозы, – для Думки, – и завертывая их в плотную бумагу благовоспитанного спокойствия, – для Шубникова.
И она подошла к Думке, измеряя ее с головы до ног уничтожающим взглядом.
38
Шубников, воспользовавшись тем, что Елизавета занялась Думкою и от них отвернулась, подошел к Николаю и осторожным шепотом спросил его:
– Ну что, как?
Николай безнадежно махнул рукою и тоже шепотом ответил:
– Да что, дело дрянь! Пойдемте куда-нибудь, я вам расскажу все по порядку.
И, озабоченно шепчась, они потихоньку, чтобы Елизавета не заметила их ухода, пошли к липовой аллее. Меж тем Елизавета, наслаждаясь возможностью пробрать Думку, говорила:
– Думка, ты слишком распустилась.
Думка заговорила, смеясь:
– Да как же, – Николай Иванович…
Елизавету Думкин смех совсем вывел из равновесия. Уже не думая о том, что Шубников может услышать ее, и не заботясь ничуть о мелодичности своего голоса, она закричала:
– Как ты смеешь смеяться, когда с тобою разговаривают!
Фраза, которую в этом самом составе слов уже успели повторить целые полчища больших и маленьких, домашних, школьных, казарменных, канцелярских и всяких иных деспотов. И, как много раз раньше, формула произвела свое действие, – стукнула как раз по тем нервам, которые заставили вздрогнуть Думку, как заставляли под бичами тех же глупых слов вздрагивать неисчислимые множества других окрикнутых. Думка робко сказала:
– Извините, Елизавета Павловна, но Николай Иванович…
Елизавета опять оборвала ее криком, весьма далеким от музыкальности:
– Что это за фамильярности! Какая я тебе Елизавета Павловна! Помни свое место, дура этакая!
– Простите, барышня, – сказала Думка, улыбаясь.
В ее сознании все еще преобладала смешная сторона всего этого происшествия, и ей никак не удавалось испугаться гневных окриков и злых глаз разъяренной своей госпожи. И некстати вспоминались очень подходящие к обстоятельствам и совсем не соответствующие серьезному настроению слова старой кухарки про Елизавету:
– Так разгорячилась барышня, так разгорячилась, – ну, вот полей водой, зашипит, как плита горячая.
К визгливым крикам Елизаветы она прислушивалась с таким же жутким и остропритягательным чувством, с каким отважный сорванец прислушивается на приморском утесе к завываниям начинающейся бури. А Елизавета визжала, все ближе наступая на Думку:
– Да как ты смеешь улыбаться, когда я с тобою говорю? Что в моих словах ты нашла забавного? Этакая дерзкая, дрянная девчонка!
Думка постаралась сделать серьезное и почтительное лицо и сказала:
– Простите, барышня, но только барин рассказали вам не совсем правильно, как было дело.
– Что такое? – с негодованием закричала Елизавета.
Думкины слова показались ей непомерно дерзкими. А Думка, вдруг начиная волноваться, заговорила:
– Вовсе я на него не набрасывалась…
Но Елизавета не дала ей договорить. Кричала:
– Ты смеешь говорить, что барин врет! Да что он, уличный мальчишка, что ли, чтобы он стал врать?
– Барышня, да позвольте рассказать, – попыталась было опять заговорить Думка.
Но Елизавета кричала:
– Мне не надо твоего дурацкого рассказа! Я не хочу слушать, что ты мне будешь врать.
– Я правду… – начала было Думка, боязливо отодвигаясь от Елизаветы и искоса глядя на нее, не то испуганно, не то сердито, широкими зрачками голубеньких простодушных глаз.
Она покрепче прижалась к тоненькой березке, точно около нее было безопаснее. Елизавета кричала:
– Я барину одному слову больше верю, чем всей твоей мерзкой, поганой болтовне!
39
Милочка перед обедом пошла на фабричную слободку, – там у нее было какое-то дело. Теперь она торопилась домой к обеду. Войдя в сад от Волги, она услышала крик. Подумала: «Уж не опять ли Елизавета на Думку напала?» Милочке стало тоскливо, приятные и значительные впечатления от встреч и разговоров там внизу вдруг в ней померкли. Но она все же пошла еще скорее, почти взбежала, и уже не пологою извилистою в три оборота дорожкою, а прямиком, по крутой лесенке, причем ушибла ногу на сломанной ступеньке, оцарапала руку о какой-то колючий куст, да заодно и крапивою обожглась. Наконец выбежала к цветнику и остановилась перевести дух. Спиною к ней, недалеко, стояла Елизавета, кричала и махала руками, и перед нею, прижимаясь к березке, смущенная, раскрасневшаяся Думка, тоненькая, чуть пошире березки. Милочка невольно улыбнулась, так забавна была Елизаветина запальчивость, да и вся ситуация. Но уже скоро она перестала быть только забавною.
Затененная густо разросшимися деревьями, Милочка была не видна не только повернувшейся к ней спиною Елизавете, но и Думке, и Николаю с Шубниковым, еще не успевшим отойти далеко: Думке было против солнца, а те двое шли боком к ней, погруженные в свои разговоры.
– Да позвольте, барышня, – пыталась сказать что-то Думка.
Елизавета кричала резким голосом:
– Молчать! Я уж давно замечала, что ты дерзкая!
– Да когда же я, барышня? – уже начиная тоже раздражаться, заговорила Думка погромче, словно стараясь перекричать Елизавету.
Но это уже окончательно обозлило Елизавету.
– Молчать! – неистово закричала она. – Ты забываешься! Я тебя проучу!
Так громок и резок был этот визгливый крик, что Николай и Шубников остановились и оглянулись, а Милочка побежала вперед, прямо по траве мимо круглой большой куртины. А Елизавета уже наскочила на Думку, одною рукою схватила ее за плечо, другою со всего размаха дала ей такую сильную пощечину, что Думка покачнулась.
– Ай, барышня, что вы! – закричала Думка. – Да за что же? Бог с вами!
Елизавета, с радостною злостью глядя на быстро наливавшуюся кровавым румянцем Думкину щеку и чувствуя теплоту в ударившей руке, визжала:
– А, тебе мало одной! Ты еще прощенья не просишь! Дрянная девчонка!
Она неистово тряхнула Думку за плечи, плотнее прижала ее спиною к березке и наметила глазами другую Думкину щеку, которая казалась, хотя и румяная, нежно-белою сравнительно с тою, на которой горела пощечина. Потом замахнулась другою рукою. Думка в ужасе закрыла глаза и пронзительно закричала:
– Барышня, миленькая, простите! Простите!
40
Милочка подбежала как раз в это время. Она схватила Елизавету за руку и крикнула:
– Лиза!
Думка открыла глаза, отбежала в сторону, села, почти повалилась на траву, плакала и смеялась. Елизавета сердито вырвала руку из Милочкиных рук. Грубо сказала:
– Милочка, что ты суешься не в свое дело!
Но была крайне смущена. А тут, как назло, подошли Шубников и Николай. Стояли и хохотали. Особенно веселился Николай. Шубников смеялся принужденно, смутно надеясь смехом повернуть все в шутку. Милочка гневно говорила:
– Что за безобразие! Зачем ты ее бьешь?
Елизавета оправдывалась смущенно и злобно:
– Ты ведь еще не знаешь, в чем дело, и не можешь судить. Эту девчонку еще не так надо проучить.
– Ей-Богу, я не виновата! – говорила Думка.
Николай злорадно хохотал и покрикивал:
– Потеха!
Крепкие белые зубы его отвратительно сверкали и казались зубами мертвеца, вставленными человеку хитрым и жадным дантистом. А Шубникову, чем больше он вникал в случившееся, тем более это не нравилось. Ему хотелось бы, чтобы все то, что он внушал Николаю, прошло гораздо глаже и тише. Чрезмерность скандала начинала не на шутку страшить его. Он пытался успокоить Елизавету и уговаривал ее:
– Елизавета Павловна, бросьте! Охота вам связываться с какою-то Думкою! Только себя расстраиваете.
Но мысль о том, что какая-то ничтожная Думка заставила ее, барышню, расстроиться, только еще более ярила Елизаветину расходившуюся злость. Тем более что Милочка глядела сурово, и говорила гневные слова, и вся дрожала, точно все ее тело было сплетено из туго натянутых струн, по которым кто-то незримый и неистовый бешено водил невидимым смычком. Милочка говорила:
– Как это низко! Как это гнусно! Как это мерзко! Все твое воспитание вот на эту подлость тебя только и могло толкнуть! Барышня благовоспитанная! Или в самом деле правда сказана о вас, что около каждого рабочего поселка заводится змеиное гнездо?
Елизавета, задыхаясь от злости, сказала:
– Выбирай свои выражения, Милочка. Тебе не мешало бы помнить, что это гнездо не наше, – не мы его построили, твой отец.
– Умора! – злорадно и дурашливо кричал Николай.
Милочка обратилась к Думке:
– Что случилось?
Думка начала рассказывать:
– Николай Иванович погнался за Любовью Николавною, она от него убегала, я Николая Ивановича остановила, вот из-за этого все и вышло, потому что Николай Иванович пожаловался на меня Елизавете Павловне.
Шубников досадливо морщился. Дело в Думкином освещении принимало совсем скверный характер. Почувствовала это и Елизавета. Она яростно бросилась на Думку, вопя:
– Слышали, что она мелет! Нет, я тебя еще мало проучила, дрянь несчастная, лгунья мерзкая!
Милочка опять схватила Елизавету за руку и остановила ее.
41
– Не смей бить ее! – кричала Милочка, – не смей!
Елизавета, сверкая на Милочку глазами и от ярости не находя слов, пыталась вырваться. Лицо ее пошло кирпично-красными пятнами, вся миловидность ее слиняла вдруг, и она казалась безобразною бабою. Неистово вырывалась, но Милочка была сильнее и не пускала ее к Думке. Встревоженный Шубников уговаривал:
– Елизавета Павловна, ради Бога, уйдемте!
Он попытался было подойти поближе к сцепившимся девицам, но Николай удержал его. Зрелище его забавляло, о последствиях он не догадывался подумать. Наконец Елизавета нашла слова:
– Это – не твое дело, – сказала она Милочке. – Думка у меня служит, а не у тебя. Я не могу позволить ей устраивать скандалы…
Милочка продолжала кричать:
– Не смей бить ее!
– Мы учим ее на наши деньги, – говорила Елизавета, – она должна это помнить и не забываться.
Наконец, убедившись в том, что ей не вырваться из Милочкиных рук, и вся вдруг усталая от злости и от жары, она приняла притворно-равнодушный вид и сказала:
– Хорошо, Думка, иди, я с тобою после поговорю.
Думка вскочила и проворно убежала. Елизавета язвительно говорила Милочке:
– Милочка, отпусти мою руку. Ты делаешь мне больно.
Милочка разжала руки. Елизавета помахала в воздухе рукою с преувеличенною гримасою боли. Она говорила все с тою же язвительностью:
– Твое заступничество, Милочка, все равно ни к чему не приведет. Не все делается так, как ты хочешь. Я сегодня же надаю ей таких пощечин, что она долго этого не забудет. А потом я позову ее отца, чтобы он…
Но ей не удалось кончить. Милочка вдруг побледнела, сказала задыхающимся голосом:
– Так попробуй сначала на себе!
Бросилась на Елизавету и принялась бить ее по щекам, по спине, по чему попало. Елизавета отбивалась, и вмиг, не успели те двое опомниться, между девицами разгорелась отчаянная драка, – волосы у обеих растрепались, платья трещали. Елизавета не только защищалась, но и сама била Милочку. Больше доставалось Елизавете, потому что Милочка была сильнее и ловчее и нападала с ожесточением. Шубников бросился к девицам, чтобы разнять их, но Николай ухватил его за рукав пиджака и хохотал, повторяя:
– Вот так спектакль! В театр ходить не надо.
Бульдог стоял поодаль и смотрел на людей равнодушно и презрительно. Существа, в столь значительный и ответственный момент жизни пускающие в ход только лапы и забывающие о зубах, казались ему весьма нелепыми. Вдруг заревел пронзительный гонг, – сигнал к обеду. Милочка словно очнулась, оттолкнула Елизавету, оглянулась вокруг дикими глазами, коротко вскрикнула, закрыла лицо руками и убежала. Елизавета стояла растрепанная, избитая, разъяренная. Набросилась с упреками на брата, на Шубникова, – зачем они не удержали Милочку, не заступились за нее. Николай глупо хохотал, Шубников молча, серьезно и почтительно взял Елизавету под руку и повел ее к боковому крыльцу дома.
42
Вера вернулась из рощи домой одна, немного задумчивая. Мать стояла на пороге своего небольшого, но ладно построенного дома и смотрела на подходившую дочь уверенно-любующимися глазами. Гордое выражение ложилось на лицо пожилой красивой женщины, точно она думала: «Я хороша была в свое время, да и моя-то дочка – поискать другой такой, не сыщешь».
Но, скрывая любование суровостью, отчасти притворною, отчасти привычною, она спросила:
– Что долго гуляла, дочка? Аль дома делать нечего?
Вера, поднимаясь по ступенькам крылечка, спокойно отвечала:
– Грибы сбирала, мама. А домашних всех дел все одно в три года не переделаешь.
В доме по-праздничному чисто, и видна была во всем порядливая привычка к постоянной чистоте. На окнах – кисейные занавески и горшки герани и фуксий. На полах, вчера чисто вымытых Верою, гладко натянутые веревочные половики. Над окном висит в клетке канарейка, посвистывает, – люди заговорят, и она запоет. Мать спросила:
– Где же грибы твои, дочка? Куда ты их дела-то? Что-то и корзинки не видно.
– Продала, – отвечала Вера и засмеялась.
Пошла в спальню, села у окна, из которого виден огород, и занялась какою-то починкою. Не хотелось ей рассказывать, не могла и скрыть. Начать разговор о другом, чтобы заставить мать забыть о грибах, тоже не хотела, – не любила хитрить и потому чувствовала себя неловко. Мать пришла за нею в спальню. Стояла перед нею и спрашивала:
– Кому продала грибы? Дорого ли взяла-то? Да и на что продавала, – съели бы сами.
Вера неохотно сказала:
– Уж так вышло. Продала Горелову. Золотую монету дал, десять рублей.
– Да что ты! – вскрикнула мать. – Да не врешь ли ты, дочка? Покажи-ка, покажи!
– Деньги в Волгу бросила, – сказала Вера.
И вдруг застыдилась, засмеялась и сразу заплакала, закрыла лицо руками и вдруг опять засмеялась. Мать с удивлением говорила:
– Да ты с ума сошла, дочка! Что ты путаешь-то все, Вера? Говори толком, в чем дело. Петли путлять нечего.
И уже в голосе ее было большое беспокойство, – не случилось ли, Боже сохрани, чего-нибудь такого, о чем будут на фабрике и на поселке говорить с осуждением и что бросит тень на их доброе имя. Молодая девушка, – долго ли до греха? А Горелов недаром славится своими похождениями. Жена еще молодая и красивая, а у него чуть не каждую неделю все новые возлюбленные. Но уж Веру-то он не должен трогать. Для того ли она дочь растила, холила, строго берегла? За эти крепкие бревенчатые стены, оставшиеся от покойного мужа вместе с добрым именем, только друг войдет, а злому соблазну сюда и не пробраться, – думала тревожно мать. – Или уже пробрался?
Вера почуяла эту тревогу в словах матери, кинула на нее быстрый взгляд, вздохнула и – нечего делать! – принялась подробно рассказывать. Мать слушала и неодобрительно покачивала головою.
43
После пикника Шубников не сразу отправился домой. Он решился покончить сначала с тем трудным делом, которое взвалил на него Горелов, и пошел на фабричный поселок. Там он прошелся, словно прогуливаясь, по переулку, на который выходил огород Карпуниной. Может быть, и удастся повидать Веру. Когда он первый раз прошел вдоль изгороди, в огороде никого не было. Из дому чрез раскрытые окна слышались два женские голоса, и Шубникову послышался как будто Верин смех. В переулке бегали какие-то мальчишки, в соседней усадьбе кто-то возился за кустами малины, – неудобно было слишком долго медлить, чтобы не обратить на себя внимание. Шубников вышел на набережную улицу поселка, повернул в другой переулок, сделал большой круг и опять вернулся к огороду Карпуниной. На этот раз ему повезло. Вера стояла у колодца близ изгороди, вытаскивая тяжелое ведро, и все движения ее были радостны и легки, словно то был не труд, а божественная забава. Шубников спросил:
– Тяжело, Вера? Позвольте, я вам помогу.
Подошел к калитке, перекинул руку через изгородь, отвернул задвижку и вошел в огород. Вера весело глянула на него и сказала:
– Спасибо, я уже вытащила. Каждому свое дело, – я вам не могу чертежи чертить.
Она опустила легко и плавно ведро на землю к другому, уже ранее наполненному, и взялась за коромысло, приставленное к срубу колодца. Шубников сказал:
– Постойте, Вера, я вам хочу сказать что-то.
– Слушаю, – сказала Вера, усмехаясь.
Она посмотрела на него так просто и спокойно, что Шубников смутился было и не знал, с чего начать. Потом решил идти напролом. Подумал: «Скандалить, во всяком случае, не станет, девушка спокойная и с природным тактом».
– Знаете, Вера, – начал он все же не совсем уверенным тоном, – песня есть такая, где говорится: «Будешь жемчуги носить, в злате-серебре ходить».
Вера спокойно отвечала:
– Всякие песни есть. Иная песня совсем ни к чему. На что мне жемчуги? Жемчуги – слезы. И на что мне золото?
– Однако золотой сегодня взяла, – сказал Шубников.
А сам осторожно глянул на Веру, – не обиделась ли. Нет, ничего, улыбается, смотрит так, точно болтает о чем-нибудь случайном и незначительном. И тоном легкой полушутливой болтовни отвечала:
– Что мне золотой! Я его одной моей знакомой русалочке подарила, пусть играет, позабавится в волжском омуте.
Шубников смущенно сказал:
– Ну, что русалки! Какие там русалки! Вы, Вера, девушка умная и в русалок сами не верите. Вы знаете, что никаких русалок нет.
– И золотого нет, – все так же спокойно сказала Вера, – и меня когда-нибудь не станет, улечу с горькою кукушкою в теплый Вырий край за морями, где солнце ходит низко, к земле близко, – однако вы, хоть образованный человек, не то что мы, темные люди, а все-таки в золотой поверили и в меня верите.
Шубников засмеялся. Смех его был несколько натянутый, но он все ж таки был доволен, что разговор не обрывается. Он спросил:
– Так как по-вашему, Вера, надо верить?
Вера улыбнулась и промолчала. Шубников продолжал:
– Конечно, надо верить, и я так думаю. В русалок я не верю, уж это как хотите, Вера, а в любовь верю. А он вас полюбил. Да еще как полюбил!
– Надолго? – спросила Вера.
Спросила так просто и спокойно, что Шубников на минуту опять почувствовал себя сбитым с толку. Не сразу нашелся, что ответить. И уже Вера, подождав немного, нагнулась приладить коромысло к ведрам, когда он наконец заговорил:
– Вера, «вечно любить невозможно», это еще поэт Лермонтов сказал. Да и не все ли равно, надолго, навсегда, на один час, – разве любовь можно смерить какою-нибудь мерою? Да одна только минута – это и все для любви. И разве вы, Вера, не хотите судьбу попытать? Ведь он вас и в самом деле золотом осыплет!
– А вы из-за чего хлопочете? – спросила Вера.
Шубников, понижая голос и опуская руку в карман, сказал:
– Слушайте, Вера, – он просил меня передать вам ключ. За ручьем в заборе есть калитка, – я вам ее покажу, – в кустах ее и не видно. Вы придете, когда хотите, – но лучше поскорее, – сами откроете калитку этим ключом, пройдете прямо по дорожке, – там наверху над обрывом белый домик и стоит. Тем же самым ключом откроете и дверь в дом. Весь в зелени домик, ниоткуда не виден, только одно среднее окно наверху из его кабинета видно. Если его там не будет, дайте ему знак, что вы пришли: он будет ждать знака или сам придет, когда вы назначите. А знак вот какой: днем красную занавеску в том среднем окне задернете, а вечером против этого окна лампу электрическую зажгите. Он увидит и сейчас же придет.
Вера выслушала все это молча и со своим обычным величавым спокойствием. Потом усмехнулась и сказала:
– А жених мой что скажет?
– А жениху вашему вы ничего не говорите, – поспешно ответил Шубников.
Вера подумала минуту и сказала решительно:
– Ну, давайте ключ.
У Шубникова заметно дрожали руки, когда он торопливо и неловко вытащил ключ из кармана и сунул его Вере. Вера спрятала ключ в карман юбки, усмехнулась невесело и сказала:
– Вас послушать, так вы научите.
44
Шубников приободрился, – ему показалось, что дело сделано. Можно бы и подвинуть его еще немного. Он спросил:
– Когда придете, Вера? Как ему сказать? Вам же будет удобнее, если он будет знать заранее.
Вера вдруг засмеялась. Сказала насмешливо:
– Как же это вы, Андрей Федорович, так неосторожно мне ключ доверили? А вдруг я его жуликам отдам? Ведь вы у меня в душе не были и, что я думаю, не знаете, да и не можете знать. Отдам жуликам, а вы в ответе перед хозяином останетесь, коли он от жуликов убежать успеет?
Шубников, скрывая внезапно охватившую его тревогу, пожал плечами и сказал притворно-спокойно:
– Ничего этого я не боюсь, Вера. Бояться нечего, да и я не робкого десятка. Да я же знаю, что вы не из таких и воровских знакомств у вас никак не может быть. Только берегите ключ, чтобы его у вас не увидали и не украли. Да, в крайнем случае, если туда и заберутся воры, беда не большая. Сокровищ там никаких нет, в главный сад оттуда не попасть, – все на запоре, – а сам Иван Андреевич денег при себе никогда не носит, уж у него правило такое, и ничего ценного. Даже часов золотых при нем вор не найдет. Это все знают, даже и воры здешние.
Шубников говорил все время слишком многословно, потому что Вера смотрела на него очень внимательно и смеялась, и ему уже начинало делаться жутко. Он начала думать, – некстати поздно, – что если девушка-невеста так уж слишком просто и податливо согласилась взять ключ от хозяйского павильона любви, то совершенно невозможно учесть, что творится в ее душе и что из всего этого может выйти. Наконец он замолчал. Прирожденная и укрепленная соответствующим воспитанием наглость помогала ему сохранять непринужденный и развязный вид, далеко не согласный с его душевным смятением. Вера перестала смеяться. Лицо ее стало опять спокойным, но уже не радостным, а печальным. Она сказала:
– Днем идти – люди увидят, невесть что подумают. Ночью пойдешь – боязно. Еще хорошо, когда рыбаки костер разложат. Да и кто их там разберет ночью-то, рыбаки ли, плотовщики или еще кто. Плотовщикам тоже не попадайся в пустом месте. Взять придется с собою ножик поострее. А там и думай, кого резать, – встречника злого, хозяина доброго, советчика лукавого или уж себе нож в сердце всадить. Что, Андрей Федорович, не боитесь, что я хозяина прикончу? Ведь с меня станется, я не робкая тоже.
Шубников опасливо подумал: «Как бы здесь же чем-нибудь меня не хватила!»
Но, не показывая страха, призвав на помощь всю свою дерзость, он усмехнулся и сказал уже слишком спокойно:
– Ну, уж это – не мое дело. Он просил меня отдать вам ключ, я это сделал, а как вы там между собою поладите, это меня совсем не касается.
– А как начнется суд да дело, – говорила Вера, – спросят меня: откуда ключ взяла?
– Кто вас поймает? – вопросом ответил Шубников.
Вера говорила насмешливо:
– Царские сыщики хитры, вызнают, выследят. Спросят тогда инженера Шубникова: зачем убийцу пустил в дом?
«В самом деле, не попал ли я в нелепое положение?» – подумал Шубников и сказал серьезно и настойчиво:
– А вы, Вера, меня не выдавайте.
– А чего мне тогда скрывать будет? – спросила Вера.
Ее улыбка показалась Шубникову циничною и наглою.
Он сердито сказал:
– Я вам добра желаю, Вера, и надеюсь, что вы никаких глупостей не наделаете и уж, во всяком случае, меня не выдадите.
Вера покачала головою. Сказала:
– На такое дело вы меня толкаете, что уж что мне жалеть вас! Уж коли себя не пожалею!
Чувствуя, как у него падает сердце, и ненавидя в эту минуту и Веру, и Горелова, Шубников злобно заговорил:
– Да что вы мне грозите, Вера! Я тут совершенно ни при чем. Хотите – идите, не хотите – не надо. Вы – не маленькая и не глупенькая. И что из всего этого выйдет, это не мое дело. Лучше скажите, когда придете.
– Послезавтра ночью, – отвечала Вера.
Ответ был дан так охотно и быстро, что Шубников не мог понять, не шутка ли это. Он внимательно и опасливо посмотрел на Веру. Она засмеялась, глянула куда-то вбок, на переулок, сказала быстро и негромко:
– Заболталась я тут с вами. До свиданья, Андрей Федорович. Положила коромысло на плечо и поспешно пошла к дому плавною, спорою походкою, при которой ведра покачивались ровно настолько, чтобы вода не выливалась, не выплескивалась.
45
Шубников понуро и невесело повернулся к калитке. Уже она была открыта, – высокий, худощавый молодой человек в синей блузе и мягком сером картузике вошел только что в нее. За ним, еще в переулке, стоял седенький, маленький, худенький старичок в чесунчевом пиджаке, надетом на мягкую светлую рубашку, подпоясанную синим шнурочком. Молодой человек, приподняв картузик и бросив на Шубникова взгляд скорее суровый, чем любезный, сказал:
– Господину инженеру почтение!
Говорил он уверенным и низким голосом, немножко сутулился. Глаза его щурились, и губы под негустыми темно-русыми усами складывались в недобрую и невеселую улыбку, и оттого все лицо его принимало острое и едкое выражение. Такое выражение бывает у людей, которые раз навсегда убедили себя в чем-то и потому уже не могут понять чужой мысли и чужой правды. Все, не согласное с обретенною ими истиною, единоспасающею, представляется таким людям или неумным, или нечестным.
– А, здравствуйте, Сотнягин! – сказал Шубников.
«Налетел!» – подумал он, узнав молодого работника: это был Верин жених. Другой – незнакомый. Молодой человек возразил:
– Не столько Сотнягин, сколько Соснягин, но это не суть важно.
И, тотчас же отвернувшись от Шубникова, Соснягин сказал своему спутнику:
– Сергей Афанасьевич, мы уж тут пройдем, через огород, чем улицей обходить. Ничего, тут можно. Хозяйка добрая, не обидится.
Когда Сергей Афанасьевич вошел, Соснягин остановился у калитки с явным намерением затворить ее за Шубниковым. И вот вышел на улицу Шубников с таким ощущением в своей тощей душе, точно его выставили. И казалось ему, что на своей шее он чувствует колючий взор ярких глаз Соснягина. А за его спиною Сергей Афанасьевич тихо спросил:
– Что за личность?
Соснягин сдержанно отвечал, не громко, но и не понижая слишком голоса, словно не заботясь о том, услышит или не услышит его инженер:
– Так себе человечек. У Горелова на большом жалованье служит. На фабрике нашей ему равно бы и делать нечего, однако во все вмешивается. Кирпичный завод Горелов строит, – дело доходное, – так он там смотрит, как машину ставят. А что смотреть! Машина из Англии, и мастер при ней приехал. Мне этот субъект крепко несимпатичен. Показывает себя эсдеком, знакомства заводит, книги дает нашей публике, а мне таки сдается, что он душою и телом стоит за хозяйский интерес. За гореловскою племянницею ухаживает, – у нее отец тоже толстосум, а дочь одна. Дорога ему прямая, служить капиталу, а зачем он с нашим братом водится, – это для меня под знаком вопроса.
Сергей Афанасьевич значительно сказал:
– Всякие на свете есть люди. Только бы лучше от греха подальше.
Он улыбнулся хитро и посмотрел на Соснягина совсем молодыми, весело блестящими карими глазами! И весь он в эту минуту, тонкий, стройный, легкий, показался совсем молодым.
46
Соснягин и Сергей Афанасьевич прошли по тропинке меж грядками и поднялись по трем ступенькам заднего крыльца. Как раз в это время навстречу им вышла Верина мать. Тоном ласкового упрека она заговорила:
– Да что же это вы, Глеб Давыдович, через кухню! Да еще с гостем!
– Ничего, Анна Борисовна, гость не осудит, – сказал Соснягин, и голос его звучал неожиданно мягко и ласково.
Анна Борисовна через кухню, где Вера ставила самовар, провела гостей в комнату, где на столе у окна уже положена была скатерть и стояли чашки и стаканы. Скоро вошла и Вера. Соснягин сказал:
– Вот познакомьтесь, – Сергей Афанасьевич Малицын из Москвы приехал, поживет здесь пока. Учителем был, начальству неугоден оказался, – история довольно обыкновенная в нашем славном государстве. У вас, Анна Борисовна, нельзя ли ему будет пристроиться? Светелочка наверху как будто свободная стоит. Да и насчет стола авось сойдетесь. Ну, а пока вы тут столковываться будете, нам с Верою побалакать малость надобно. Пойдем, Вера, в сад.
В маленьком саду было уютно и порядливо. Две яблони обещали обильные и благие дары. Малина и смородина уже почти созрели. Густой низкорослый ельник сплошною стенкою вдоль забора заслонял сад от набережной улицы, откуда иногда доносились крики играющих детей или певучий разговор женщин. В тенистом углу под березами у забора стояли три скамейки покоем и среди них круглый, крашенный белой краскою стол. На одну из этих скамеек сели Вера и Соснягин. Ласково глядя на озаренное радостью Верино лицо, Соснягин сказал:
– Хорошо тут у вас, Вера! Тут бы ты нас и чайком напоила. На воздухе приятнее, чем в комнате.
– Хорошо, – сказала Вера.
И уже было поднялась идти, но Соснягин удержал ее.
– Да нет, Вера, не торопись. Дело не к спеху. Посиди пока. Сначала поговорим. Первое дело – насчет Малицына. Человек он сильно знающий, работает с нами, и мысли у него правильные и честные. Скажу тебе прямо, – один из лучших людей, каких я знаю. С фараонами у него отношения испортились, понимаешь, так что его надобно поберечь. Если заметишь слежку, сейчас же мне скажи. Человек он нам крепко нужный. Ну да, одним словом, ты понимаешь, как и что. Потому я его прямо к вам и привел.
– Он только что приехал? – спросила Вера.
– Сегодня утром.
– Хорошо, – сказала Вера, – будь спокоен. Я и маме объясню.
Соснягин помолчал, глянул сбоку на Веру, сторожко и востро, и спросил тревожно:
– А что это такое, Вера, Иглуша болтает? Я, признаться, что-то не совсем понимаю. Какие-то грибы, какой-то золотой, и все такое, вообще, несуразное. Не понимаю, знаешь ли.
– И понимать-то нечего, – спокойно сказала Вера.
И рассказала очень подробно, ничего не пропуская, ничему не стараясь дать какого-нибудь смягчающего неискреннего объяснения, все о грибах и о гореловском золотом. Память у нее была молодая, цепкая да крепкая; даже все слова свои и чужие запомнила Вера совсем точно и пересказала их. Говорила гораздо подробнее и даже охотнее, чем матери. Так добросовестно рассказывала, что не пропускала даже подробностей, к существу рассказа мало относящихся, если они почему-нибудь всплывали в ее памяти. Соснягин слушал внимательно, молча и только покачивал головою. Видно было, что рассказ смущает и тревожит его. В изредка бросаемых им на Веру взглядах иногда пробегали ревнивые огоньки. Но он ни словом не прервал длинный Верин рассказ. Когда она кончила, он помолчал еще немного, закурил папиросу и сказал негромко:
– Не нравится мне это, Вера. О змеином гнезде – это ты им верно сказала, а все же лучше бы от них подальше. И вообще от них, и от Горелова в особенности. Он, видишь ли ты, за неимением более важных дел, влюбляется в виде занятия и особенным уважением к нравственности не отличается.
Вера смотрела перед собою строгими большими глазами. Сказала сурово:
– Хоть бы одно змеиное гнездо разорить.
Потом, мечтательно вглядываясь вдаль, она заговорила тихим, густым, как золотой звон, голосом:
– Надобно, чтобы фабрика Милочке отошла, а Милочка ее нам передаст, всем рабочим.
– Ну, что ж одна фабрика! – возразил Соснягин. – Все фабрики и заводы отобрать надобно, а этого без цузаменбруха не сделаешь. А от твоей Милочки нашему брату ничего, кроме филантропии, не дождаться. Филантропии нам не надобно, а все, что нам требуется, мы возьмем сами. Ну, а что касается грибов этих заказанных…
– Конечно, – сказала Вера улыбаясь, – я ему носить грибы не стану.
Соснягин повеселел, и глаза его опять стали ласковыми.
47
Когда Вера и Соснягин вернулись в горницу, там уже покончили с делами и оживленно разговаривали на более общие темы. Малицын говорил:
– А почему бы его и не разрушить совсем, современное-то государство? Оно держится только насилием. Ограбить одних, отдать другим – вот его дело.
Карпунина, сдержанно улыбаясь и покачивая головою, отвечала:
– Батюшка, Сергей Афанасьевич, да мы-то сами тоже хороши, нечего сказать, охулки на руку не положим. Вот тут недалеко в деревне живет Иван Гаврилович Разин, тоже из ваших, московских, человек добрый и умный, всякого добру научит, и уж вот истинно-то его назвать можно другом народа, а его кругом обворовали.
С усмешечкою, неожиданно недоброю, Малицын сказал:
– Знаю я его, господина Разина! Юродствует Христа ради. Опрощение, непротивление и тому подобные сладости. Нам такие не надобны. Если бы их слушать, недалеко бы мы ушли и люди в нашей стране были бы еще более приниженными, чем теперь. А что у него воруют, так это потому, что современный режим развращает народ. Вы ведь и по своему опыту знаете, как здесь эксплуатируют рабочих.
– Да, – сказал Соснягин, – кстати, вы, Анна Борисовна, слышали, что замышляет наш уважаемый инженер Шубников?
– А мне-то что за дело до того, что он замышляет? – отвечала Карпунина с оттенком досады в голосе.
– Самая последняя новость, – продолжал Соснягин язвительным тоном, – заметили вы, что число поденщиков и поденщиц у нас увеличивается?
– Всегда были поденщики и поденщицы, – сказала Карпунина, – когда больше, когда меньше. Смотря по работе.
– Всегда были, к сожалению, это верно, – с сухою, колючею усмешечкою говорил Соснягин, – хотя и всегда было бы лучше, если бы их было поменьше. А теперь он вот что придумал, инженер Шубников: из поденщиков в рабочие по возможности не переводить, число рабочих постоянных всеми правдами и неправдами уменьшить, и все затем, чтобы не заводить при больнице второго врача, на его жалованье выгадать. Не Бог знает какой расчет, а все-таки в хозяйской кассе лишние гроши останутся. Загребале хоть один чужой грош, и тот хорош.
Вера спросила недоверчиво:
– Откуда ты это знаешь, Глеб?
Соснягин сухо ответил:
– Сорока на хвосте принесла. Вообще, видна птица по полету. И это так только я сказал, как черту для характеристики сих господ.
Малицын постучал пальцами по столу и многозначительно сказал:
– Перевертней пуще всего остерегайтесь. Пролетариату и капиталисты даже не такие злые враги, как эти господа хорошие, интеллигенты.
«А сам-то кто? – подумала Вера. – Тоже господинчик хороший и тоже не наш брат».
48
Милочка торопливо, точно спасаясь от погони, взбежала к себе, заперла дверь на ключ, бросилась на постель, зарылась пылающим лицом в подушки. Ей было нестерпимо стыдно, и от этого лицо ее горело, и ей казалось, что краска стыда разливается по всему ее телу.
Опять эта ужасная, внезапная, вульгарная вспыльчивость! Видно, никогда Милочка не научится управлять собою, владеть своими чувствами и страстями. Даже вспомнить мучительно о том, что произошло. Унизиться до этой нелепой, отвратительной драки! Какой позор! Смотрел и глумился Николай, и видел это противный Шубников, – видел и не мог догадаться стать между ними! Хоть бы затем, чтобы защитить свою невесту.
Кто-то постучался в дверь тремя тихими, осторожными, но четкими ударами. Милочка судорожно вскинулась с постели и, с ужасом глядя на затворенную дверь, закричала пронзительно:
– Я не могу, у меня мигрень, я не хочу есть, я не сойду. Оставьте меня, я сама позвоню.
Тихий старческий голос ответил:
– Слушаю, Людмила Ивановна.
Милочка быстро подбежала к двери и, не открывая, спросила вполголоса, губами почти прижавшись к дверному створу:
– Яков Степанович, милый, это – вы?
– Это – я, – так же тихо ответил старый лакей.
Милочка шептала:
– Яков Степанович, миленький, придите ко мне попозже, пожалуйста, очень прошу. Душа моя замутилась, придите непременно.
– Хорошо, приду, – отвечал спокойный, тихий голос. – А сейчас ничего принести не позволите?
– Нет, нет, ничего, – зашептала Милочка. – А что сегодня на обед?
Яков Степанович отвечал обстоятельно:
– Рекомендовал бы все-таки скушать хоть немного консоме и кусочек баранины жареной. Барашек прямо изумительный и приготовлен несравненно. Насчет рыбы особенно похвалить сегодня не могу, – весьма ординарное блюдо, приготовлено без всякого воображения. Зелень же весьма бы посоветовал, спаржа первоклассная, соус превосходный. Также и каштаны с битыми сливками, хотя и весьма обыкновенное сладкое, но сегодня высокого качества. Прикажете?
Милочка помолчала. Вздохнула. Сказала:
– Да уж пришлите, Яков Степанович. Да баранины выберите кусочек не самый маленький, – я проголодалась.
И Милочка вдруг заплакала. Старый лакей что-то ответил. Милочка не расслышала из-за слез, – и в коридоре послышались его удаляющиеся шаги.
Пока девушка накрывала стол, придвинув его к Милочкиной постели, и потом приносила и уносила блюда, Милочка ложилась лицом к стене. Но пообедала она с большим аппетитом. Когда девушка принесла кофе, Милочка спросила:
– Может быть, найдется еще немножко каштанов?
Девушка тихо ответила:
– Да я на всякий случай уж принесла, барышня. Знаю, что ваши любимые.
После обеда Милочка почувствовала себя почти спокойною и почти правою. Она вышла на свой балкон, уютный, неширокий, с высокою, мелко-сквозистою изгородью, села в уголке в плетеное кресло, положила голову на сложенные на плоском верху изгороди руки и стала смотреть на Волгу. Над Волгою стлался легкий туман, и потому закат казался дивным сновидением. Долина смиренная волжская опять предстала Милочке страною блаженных. Матово-мглистый туман иногда словно поблескивал крохотными, влажными, серебристыми искорками. С Волги слышна была внятная, грустная тишина, похожая на далекий колокольный звон. Деревья и кусты в саду были тепло обласканы и убаюканы этою нежною, бесконечно-легкою пеленою. Милочка чувствовала себя прощенною и доброю.
Изменчивые настроения пробегали в Милочкиной душе. Ей самой были непонятны эти колебания ее души, эти переходы от нежности к злости и то более глубокое душевное волнение, которое совершалось в ней. Может быть, то, что случилось, было только следствием ее постоянного стремления быть всегда искреннею? Но ведь эта чаемая искренность имеет все же два образа бытия, подчиняясь одному или другому требованию: выражать то чувство, которое имеешь, или не выражать того чувства, которого в душе нет; быть откровенною или быть только правдивою. Не злоупотребляет ли она своею откровенностью?
Она порывисто встала, вернулась в комнату, подошла к образу, стала на колени, молилась долго. Теплота и свет разливались в ее теле, – зажглись в ее душе. И беспредельна была умилительная глубина того света, и восхищенная душа вся занялась восторгом. Объятая восторгом и умилением упоенная, она склонилась и лежала долго, забыв обо всем. Потом какие-то шумы и крики донеслись до нее, разбудили ее. Она встала, прислушалась, – опять стало тихо. Но в ее душе стало тревожно. Захотелось пойти к матери, и вдруг стыдно стало. Подумала: «Лучше к маме потом. Сейчас придет Яков Степанович. А может быть, мама и сама придет».
Милочка открыла лежащую на ее письменном столе одну из книг Григория Нисского и прочла несколько страниц из беседы «О совершенстве». Опять совесть подняла в ее душе скорбный, укоряющий голос. Но вот стукнули в дверь, и на торопливо-радостное: «Войдите!» – вошел Яков Степанович. Он приходил иногда к Милочке, чтобы поговорить на религиозные темы, иногда же в своих разговорах случаи дня они пытались озарить светом немеркнущей истины, незаходящего солнца. Иногда в этих разговорах участвовала и Любовь Николаевна.
49
Обед прошел скучно и неприятно. Милочки не было, – сказали, что у нее болит голова. Не было и профессора Абакумова, – он еще раньше предупредил, что будет обедать на пароходе, который должен отойти из города в восемь часов вечера и с которым уезжал в Нижний старый приятель профессора, здешний присяжный поверенный Угрюмов; с этим пароходом профессор доедет до дачной пристани, откуда к пароходу пошлют за ним лодку. Любовь Николаевна была явно расстроена и неразговорчива. Елизавета сидела со злым лицом. Николай дулся. Шубников один спасал положение и рассказывал всякий вздор притворно-развязным тоном, обращаясь преимущественно к Горелову. После обеда дамы немедленно ушли, даже не заботясь о том, чтобы скрыть, затушевать свою поспешность.
Из-за Волги повеял шумный и влажный ветер. Дождь переплетенными струйками бежал по стеклам в окнах кабинета Горелова. После обеда мужчины одни сидели в этом кабинете, пили кофе и ликеры и курили сигары. Башаров сухим, неприятным голосом принялся жаловаться на Милочку:
– Я должен тебе, Иван, рассказать кое-что, – начал он. – Собственно говоря, следовало бы рассказать это тебе наедине. Но и Николай, и Андрей Федорович, к сожалению, присутствовали при той дикой сцене, о которой рассказала мне перед обедом Лиза. Они оба даже лучше меня могут рассказать об этом, – меня там не было, я знаю только по рассказу. Вот вы, Андрей Федорович, может быть, будете любезны рассказать как свидетель происшедшего.
Шубников молчал, и на лице его было недовольное выражение. Конечно, хорошо, что он там был, – это теперь дает ему возможность не уходить от дорогих сигар и от тонких ликеров. Но рассказывать ему положительно не хотелось. Как ни рассказывай, это может не понравиться или Горелову, или Башарову. И то и другое ему весьма не улыбалось. А Горелов, с любопытством глядя на него, торопил:
– Ну, ну, говорите, Андрей Федорович! В чем дело?
От дождя в комнате было полутемно, еще никто не догадался повернуть выключатели электрических ламп, и Шубников был рад тому, что Горелов не видит отчетливо выражение его лица. Взглянув значительно и остро на Николая, он неохотно сказал:
– Я не совсем разобрал, из-за чего это произошло. Думка заспорила с Елизаветою Павловною, кажется, была недостаточно почтительна, Елизавета Павловна рассердилась, Людмила Ивановна заступилась за Думку, вот, кажется, это и вся причина ссоры.
Башаров воскликнул с негодованием:
– Ссоры! Это вы называете ссорою! Очень мило! Нет, это – не ссора, это – черт знает, что такое!
И он принялся рассказывать сам, преувеличивая и обостряя и без того преувеличенный и злобный Елизаветин рассказ. Но эти чрезмерности явно пристрастного пересказа только веселили Горелова. Он громко хохотал и кричал:
– Узнаю Милочку! Это вполне в ее стиле и в ее манере! Вот так катавасия!
Башаров обиделся. Сухо сказал:
– Позволь тебе сказать, что этот стиль и эта манера очень неудобны, и я убедительно прошу тебя принять меры к тому, чтобы такие странные эксцессы не повторялись.
Горелов торопливо заговорил:
– Ну конечно, конечно, Милочка получит должное внушение, и я уверен, что этого больше не будет. Но из-за чего же, однако, все это произошло? Ты знаешь, Николай, что случилось? Что их обеих так рассердило?
Николай сделал значительное выражение лица и сказал внушительно:
– Это – очень сложная и щекотливая история. Рассказывать ее так, за рюмкою ликеру, мне не хочется. Когда-нибудь, потом, я тебе все расскажу.
– Может быть, я мешаю? – с достоинством спросил Башаров, опираясь обеими руками о локотники кресел, словно собирался вставать.
Горелов опять захохотал. Сказал брату:
– Придумал тоже! Просто Николай стесняется рассказывать, из-за чего он с Думкою сцепился. Хочет сначала придумать какую-нибудь благовидную историю, да пока фантазии не хватает.
Николай принял было обиженный вид, но скоро улыбнулся самодовольно, утешенный сознанием великой тайны, которую он в себе носит и которая, по его нелепому расчету, должна дать ему немалые и верные деньги. Однако настроение было вконец испорчено. Не помогли и зажженные наконец кем-то в кабинете яркие электрические лампочки. Первый поднялся уходить Шубников. Он отвел Горелова в сторону и что-то очень тихо сказал ему. Лицо Горелова радостно засияло. Он весело говорил, горячо пожимая руку Шубникову:
– Ну вот спасибо! Уж я знал, что вам можно довериться.
Шубников сделал ему еле заметный знак и повел глазами на Николая. Горелов замолчал. Но Николай ничего не слышал и не замечал. Он сидел, глубоко развалившись в кресле, погруженный в глубокую задумчивость, и, глядя со стороны, можно было подумать, что он сладко дремлет, упившись ликерами неосторожно.
50
Отец и сын остались одни. Николай встрепенулся, словно ожил, поднял голову и совсем трезвым и значительным тоном сказал:
– Папа, мне надо серьезно поговорить с тобою.
– Говори, – спокойно, немного даже вяло отвечал Горелов.
У него на столе лежали счета и другие бумаги, которые надобно было просмотреть, сообразить, решить по ним кое-что. А всего охотнее теперь он бы полежал на диване, отложивши дела на завтра, лениво перелистывая книгу, какая ни попадется, – роман, недавно вышедший, или научно-техническое сочинение с формулами и с чертежами, – и сладостно мечтая о лесной босоногой красавице, заклинательнице змей, гордой, дерзкой, милой и желанной. Но, когда имеешь семью, то это обязывает. Раз что сын обращается к отцу, необходимо его выслушать. Раз что на дочь жалуются, надобно ее призвать и поговорить с нею.
Горелов подошел к окну и смотрел на мокрые после отшумевшего дождя деревья сада, которые были слабо и смутно-розово освещены янтарною и фиолетовою зарею, омытою пронесшимися тучами и неспешно отгорающею за лиловостью разорванных туч. Смотрел и ждал, что скажет Николай. Но Николай молчал. Молчал так долго, что у Горелова в глазах завертелись три красные круглые рожи с фиолетовыми глазами и синими губами. Горелов отошел от окна, сел поудобнее на диван, закурил сигару. Сказал:
– Я тебя слушаю, Николай. Говори.
Николай начал нерешительно:
– Видишь, в чем дело, отец, – мне надо денег, тысячи две-три.
Горелов засмеялся. Спросил:
– А на что? Табачную лавочку открыть хочешь?
– Ну зачем же лавочку! – обидчиво отвечал Николай. – Мне нужно денег на некоторые неотложные расходы.
– А на что именно? Можно спросить, не секрет? – спрашивал Горелов, посмеиваясь.
Он чувствовал себя хорошо, тепло и удобно, а потому ровно и весело. Только иногда сердце слегка замирало, – это, думал Горелов, от шерри-бренди, – но и это ему нравилось, это жуткое ощущение в груди, и только располагало к тому, чтобы прилечь спокойно, вытянуть ноги, не делать резких движений и улыбчиво прислушиваться к осторожному на краткие миги приостанавливанию сердца, все еще жадного до земных страстей и волнений.
– В том-то и дело, что секрет, – отвечал Николай.
Горелов, осторожно шутя, сказал:
– Ну, мой друг, я, как тебе известно, суеверен и на неизвестное назначение боюсь отпускать суммы, тем более крупные.
Николай сказал досадливо:
– Для тебя это вовсе не крупная сумма, а мне она очень нужна. И я прошу ее у тебя совсем не даром. Если ты дашь мне эти деньги, я тебе продам кое-что.
Горелов лежал неподвижно и слушал спокойно, но что-то в тоне Николая не нравилось ему. Он спросил, слегка хмурясь:
– Что ты мне можешь продать?
– Кое-какие сведения, – отвечал Николай многозначительным, по его мнению, тоном.
– Что за ерунда! – спокойно возразил Горелов. – Никаких сведений мне от тебя не нужно, особенно платных, и никаких денег я тебе не дам. Ты получаешь от меня совершенно достаточно. Кажется, ветра нет? Сделай одолжение, открой окно, – нет, не это, крайнее, там, у двери.
Когда Николай раскрыл окно, издалека донеслись звуки рояли. Горелов вслушался и сказал:
– Профессор своего любимого Грига играет. Должно быть, только что вернулся.
Вдруг новая мысль озарила Николая. Он подумал: «Как я мог позабыть о самом профессоре! Загромоздил голову пустяками, а самое верное чуть не упустил. Профессор наверное даст. Он побоится скандала».
Меж тем Горелов повернулся лицом к спинке дивана. Николай спросил:
– Так не дашь денег?
– Не дам, – сухо отвечал Горелов.
– Ну, как хочешь, – рассеянно, поглощенный новою мыслью, сказал Николай. – Так я пойду.
Горелов промолчал. Николай торопливо вышел. Он хотел поговорить с Абакумовым раньше, чем профессор увидится с Любовью Николаевною.
Горелов, оставшись один, вспомнил о Милочке. Надобно позвать ее, побранить. Или нет, лучше подождать, пусть посидит у себя одна, подумает, успокоится. Да и чувствовал себя усталым, не хотелось двигаться, начинать что-нибудь. В мечте встала заклинательница змей, и душа была обласкана предвкушением встречи с нею.
51
Рояль замолкла. В гостиной Абакумов и Башаров о чем-то разговаривали, да несколько фотографических снимков равнодушно смотрели на них со стен. Больше никого там не было, когда Николай вошел туда слишком стремительно и шумно. Башаров посмотрел на него внимательно; привычным к многолюдству взором он сразу заметил, что Николай взволнован. Он насмешливо спросил:
– Что это у тебя, Николай, колени подгибаются?
Николай, в неловкой позе остановившись посреди гостиной, сказал с кислою миною:
– Я устал и немного расстроен.
– Чем же это? – опять спросил Башаров.
Николай притворился, что не расслышал, и обратился к Абакумову:
– Василий Матвеевич, мне надо поговорить с вами. У меня есть к вам просьба. Может быть, вы будете любезны пройти в мою комнату
– Хочешь просить денег в долг, – комментировал Башаров.
– Ничего подобного, – обидчиво ответил Николай.
Абакумов молча улыбнулся и наклонил голову в знак согласия. В его глазах, словно отсветы от электрической люстры, смешавшей свой свет с поздним догоранием вечера, зажглись на мгновение голубые огоньки.
Поднялись вдвоем наверх, в помещение Николая. На письменном столе валялось несколько маленьких картинок неприличного содержания, – Николай поспешно собрал их и сунул в один из ящиков. Потом быстро глянул на Абакумова, – тот смотрел в другую сторону и, по-видимому, не заметил этого маневра. Когда гость и хозяин сели, Николай развязно заговорил:
– Собственно говоря, дядя угадал. Он не лишен наблюдательности и остроумия, хотя порою и грубоватого. Но я не хотел при нем говорить. Понимаете, у него язык слишком остер. И он непременно разболтает. Дело в том, что мне до зарезу нужны тысячи три, и я надеюсь, что вы меня выручите.
Абакумов посмотрел на Николая спокойно и сухо ответил.
– К сожалению, я не располагаю такою большою суммою денег. Притом же, простите, я не понимаю, почему вы делаете из этого секрет от ваших родителей и вообще от родственников.
Николай усмехнулся. Сказал:
– Ну, у меня на это есть свои причины. Вполне достаточные. Да и родители мои скорее удавятся, чем расскочатся хоть на сто рублей лишних.
– Однако, – с удивлением сказал Абакумов, – вы немного странно выражаетесь о ваших родителях.
– А, черт, мне не до выражений! – закричал Николай.
Удивленный и суровый взор Абакумова заставил его понизить тон. Он сказал:
– Извините, пожалуйста, но это прямо смешно, в какое положение я поставлен. Дают гроши, но ведь я все-таки, черт возьми, не кто-нибудь, а сын моих родителей!
52
Абакумов спокойно и пристально смотрел на Николая и молчал. Глаза Николая забегали по всем углам. Он то краснел, то бледнел, но голос его был наглым, когда он говорил:
– Я еще понимаю, когда отец мне отказывает. Но мать поступает прямо-таки неосторожно и несправедливо, отказывая мне, и вы можете исправить ее ошибку. Для ее же собственного спокойствия. И для вашего. Я не даром прошу. Это – взаимная услуга. Вы можете выручить меня из неприятного положения, а я за это буду скромен и молчалив, как стена. Одним словом, услуга за услугу. Надеюсь, вы меня понимаете.
Абакумов, не отводя пристального взора от беспокойно-наглого лица Николая, вздохнул, помолчал немного и заговорил строго и медленно:
– Я хорошо понял вас, Николай Иванович. Для спокойствия вашей матери было бы, по вашему мнению, лучше, если бы я исполнил ваше желание. Но, видите ли, кроме соображений удобства и житейского благополучия есть другие соображения, которыми предпочтительно руководиться. Каково бы ни было вначале мое отношение к вашей просьбе, но при той постановке, которую вы придаете этому вопросу, я считаю своею обязанностью отклонить предлагаемую вами сделку. Чтобы привести аргумент, который и для вас будет понятен, скажу вам, что такого рода сделки имеют тенденцию повторяться, следовательно, дающий ничего не выигрывает, а требующий получает постоянный источник дохода.
Николай злобно сказал:
– Советую вам подумать. Поймите, что я не расположен шутить. Поймите, что это совсем не в ваших интересах, чтобы я рассказал отцу.
– О чем? – холодно спросил Абакумов.
Николай захохотал.
– Не воображайте меня дураком, – сказал он. – Я не глуп и не слеп, и я все знаю.
Абакумов спокойно отвечал:
– Знать вам нечего. Вы можете говорить кому угодно и что угодно, – ни вашей матери, ни мне ничего не надо скрывать и никого не надо бояться. Позвольте, Николай Иванович, кончить этот разговор, – он совершенно бесполезен и в высокой степени неприятен.
Николай в бешенстве вскочил, стукнул кулаком по столу и закричал во все горло:
– Нет, вы не обманете меня вашею профессорскою надутою важностью. Я сейчас же пойду к отцу и все расскажу ему. Вы со скандалом вылетите из нашего дома.
Он выскочил из комнаты, и, гремя каблуками, помчался по коридору и по лестнице вниз. Абакумов быстро шел, почти бежал за ним.
53
Николай стремительно вошел в кабинет отца, где теперь горела только одна лампочка около дивана. Он с таким шумом распахнул дверь, что Горелов, тихо дремавший на диване, вздрогнул и опустил ноги на пол. Всматриваясь в вошедшего, он спросил беспокойно:
– Что такое? А, это – ты, Николай! Что случилось?
Николай закричал преувеличенно отчаянным голосом:
– Я должен открыть тебе глаза! Я не могу больше выносить этого позора! Я должен наконец прекратить это! Я обязан сказать тебе, что твоя жена, моя мать изменяет тебе.
Горелов вскочил с дивана и схватился рукою за грудь. На его сердце словно легла какая-то громадная тяжесть.
– Ты, ты, – начал он, задыхаясь, и не мог кончить.
В это время поспешно и тревожно вошел Абакумов. Приостановился на пороге, всмотрелся в побагровевшее лицо Горелова и быстро пошел к нему мимо Николая.
Николай закричал:
– А, и вы пожаловали! Вот, отец, полюбуйся, – вот этот человек втерся в наш дом, чтобы воспользоваться твоею доверчивостью и обмануть тебя. Посмотри на эту иезуитскую профессорскую физиономию!
И он подбежал к двери и дважды повернул выключатель. Загорелись все четыре матовые лампочки бронзовой люстры. Лицо Горелова посинело. Глаза его были обращены на Николая с выражением, которого Николай, в эти минуты совсем одичалый и загрубелый от злобы и от жадности, не мог понять. Горелов силился сказать что-то, но только невнятное хрипение исходило из его перекосившегося рта. Казалось, что все его тучное тело сотрясается от тщетных усилий найти и выбросить слово или от какого-то тяжелого, скованного огня, зной которого воспламенял его, изливаясь из сердца тяжело, густо и рдяно. Абакумов налил в стакан воды. Сказал тихо:
– Выпейте, Иван Андреевич.
Николай захохотал злорадно и слишком громко. Он был уверен, что отвергнутый отцом стакан полетит прямо в лицо профессора. Но вдруг он широко открыл глаза и зашипел от злости: он увидел, что отец жадно пьет воду, поднесенную к его губам врагом. И не только выпил до дна, но еще пожал руку профессора и сказал совершенно непонятные Николаю в их простоте слова:
– Благодарю вас, друг мой.
Прежде чем Николай догадался, что острое копье, которое он злобно метнул, возвращается, как бумеранг, чтобы поразить его самого, отец повернулся к нему страшно побагровевшим лицом, сделал несколько тяжелых, колеблющихся шагов к Николаю и с бешеным выражением заговорил тихо, но таким сильным, выдыхающим звуком, точно старался раздавить этими словами сына:
– Ты, на родную мать, подлец! Вон!
Николай смотрел на отца непонимающими глазами. Тупо дивился тому, как Абакумов взял под руку Горелова и повел его к дивану. Шаги двух старых людей по мягкому ковру были грузны и тупы, и слышно было в комнате трудное дыхание фабриканта. Горелов тяжело опустился на диван и бормотал:
– Вы слышали, друг мой, – сын пришел с доносом на родную мать! Мать родную загрызть хочет! Хуже волка! Самое, что у нее было святое в жизни, он пришел осквернить, оболгать и затоптать! А, он еще здесь! Пусть он уйдет, пусть уйдет!
Горелов беспокойно и беспомощно заметался на диване, словно задыхаясь, и казался жалким, бессильным стариком. Абакумов подложил под его голову подушку, шепнул:
– Он уйдет.
Помог Горелову лечь и потом быстро подошел к Николаю. Сказал тихо, но решительно:
– Уйдите! Разве вы все еще не понимаете ужасного действия ваших слов? Уйдите.
Николай вздернул одно плечо выше другого, процедил сквозь зубы:
– В превосходной степени нелепо!
И вышел из комнаты, стараясь держаться развязно и независимо. Но на его лице пятнами выступил румянец тускло-кирпичного цвета, и он не знал, куда девать руки. Сунул их в карманы, но и это не стерло с его фигуры выражения жалкой растерянности и не выпрямило его упрямо сутулившихся плеч.
54
– Ушел? – спросил Горелов.
Абакумов ответил так же односложно:
– Ушел.
– Ну, теперь мне получше, легче дышать, – сказал Горелов. – Точно бес лукавый из комнаты мелким горошком высыпался. А пока здесь стоял, адскою серою пахло. Нечистый дух и правду ложью кажет, и у святого места смрадом чадит. Сколько лет я дом свой строил, а пришел в одночасье лукавый, говорит: «На песке строено, сейчас развалится». И подлинно, не дом, а гнездо змеиное.
Он встал с дивана почти бодро и нажал кнопку электрического звонка. Абакумов стоял у окна, и казалось, что он собирается уйти. Горелов сказал:
– Посидите со мною, Василий Матвеевич. Уж все равно не перемолчать. Побеседуем.
Абакумов спросил осторожно:
– Вы устали? Вам бы полежать спокойно.
Невесело усмехаясь, Горелов отвечал:
– Все равно, какой там покой! Вот сейчас принесут вина, вон там сигары, – выпьем, покурим, поговорим. Крепкие петли загуменщик этот закинул, не сразу распутаешь. Нам с вами есть о чем поговорить.
Вошел Яков Степанович. Спросил, остановясь у порога:
– Изволили звонить?
Абакумов тихо сказал Горелову:
– Иван Андреевич, на ваше сердце вино не подействовало бы нехорошо!
– А я его с водою, – отвечал Горелов. – Так вот что, Яков Степанович, пришлите вы нам бутылочки две красненького, согрейте как следует, да боржому, да сырку соответственного. И больше ничего.
Яков Степанович внимательно выслушал и бесшумно исчез. Горелов посмотрел вслед за ним и тихо сказал:
– А впрочем, воды бы и не надобно. Трезвость мне теперь некстати. Пить бы до рассвета.
Но Якова Степановича не вернул и боржома не отменил. Абакумов обрезал и закурил сигару. Он сел в кресло поодаль от стола. Синий легкий дым перед глазами, тонкий запах и своеобразно-острый вкус выросших в знойной дали и ароматно тлеющих здесь листьев придали его настроениям и мыслям ясную определенность. Он думал, что не следовало молчать и ждать так долго. Давно надобно было прийти сюда и сказать этому человеку всю правду. Так же ли поразила бы его эта весть, как теперь, – кто знает! Но зато он был бы избавлен от этого унижения, – увидеть раскрывавшуюся перед ним душевную низость своего сына.
– Да, Василий Матвеевич, – говорил Горелов, – так-то воскресает наше прошлое. И становится настоящим. Что ж, приходится его встречать! Скажу вам прямо, – я давно это знал. Этот, – он кивнул на дверь и приостановился, словно не находя слова, потом продолжал, – не сказал мне ничего нового, задачи не задал. Я еще тогда знал это, когда вы вдруг влюбились в Тамару Дмитриевну и повенчались с нею. Я был влюблен в Любочку, подозревал, что она любит вас. Когда вы ее оставили, мне стало ее очень жалко. Она была такая кроткая и печальная и так застенчиво, нежно и твердо скрывала свое горе. Вы знаете, жаленье – это и есть самая настоящая русская любовь. Пожалеть, полюбить, поверить, навсегда, навсегда, – кольцо обручальное нашей, русской любви. И никаким огнем этого кольца не распаять.
В дверь тихонько постучались. Послышался легкий стеклянный перезвон слегка столкнувшихся на подносе бокалов. Вошла Думка, неся поднос, на котором стояли две бутылки красного французского вина, бутылка воды, два стакана, кадочка с маслом, придавленным льдинкою, и несколько длинных, узких тарелочек с сырами и хлебом. Подбадривая себя громким голосом и веселою шуткою, Горелов сказал:
– Вот и Думка влюблена в кого-то. В кого, Думка? Открой нам свой секрет. Мы тебе поможем, жениха сосватаем какого хочешь.
Думка зарделась, улыбнулась смущенно и тихо промолвила:
– Нужна кому такая!
– А, Думка, не хочешь сказать? Больно велик секрет? – спрашивал Горелов.
И смех его был тяжелый, притворный. Думка, застыдившись, стояла у стола и так поеживалась просвечивавшимися сквозь тонкую блузку плечиками, точно собиралась заплакать. Горелов нахмурился. Сказал торопливо:
– Ну иди, иди себе, Думка, с Богом. Больше нам пока ничего не надобно.
55
Когда дверь затворилась за быстро выбежавшею Думкою, Абакумов заговорил тихо, раздумчиво, печально:
– Я не любил Тамару. Это было внезапное увлечение. Не понимаю, что со мною тогда случилось. Это – моя вина. Я один во всем виноват.
Горелов возразил спокойно:
– Никто ни в чем не виноват. Как поживешь на свете да как посмотришь на людей, видишь, что никто ни в чем не виноват. Нет виноватых, бывают только наказанные. Жизнь сама напроказничает, а нас за это бьет, и пребольно иногда. А я был счастлив с Любою. Она была верная, заботливая, ласковая, нежная. Я на нее готов был молиться. Она у меня была как икона чтимая в доме. Я часто влюблялся в других, изменял ей, но она была моя единственная радость, и утеха, и святыня моя. Все она дала мне, что может дать жена, одного не могла дать – любви. И я всегда это чувствовал.
Абакумов отвечал, и в голосе его звучали ревнивые ноты:
– Никто бы, глядя со стороны, не мог подумать, что она мало любит вас. Между вами даже споров и ссор никогда не бывало. И у вас есть дети.
Горелов вздохнул и улыбнулся. Сказал:
– Не ссорились, не спорили, – это могло происходить и от ее глубокого душевного равнодушия ко мне. Она во всем уступала мне. Как будто раз навсегда решила, что надо всему покориться, все перетерпеть. Да и я уступал ей, когда приходилось. Заражался ее уступчивостью. Но дело в том, что ссорятся и любящие друг друга. И спорят яростно. Помните, у Беранже говорится:
– Комиссар, комиссар! Бьет Колен свою Колетту! – Комиссара не зови, Ничего такого нету: Ссора – вестница любви.Горелов налил вино в оба стакана, причем свой стакан разбавил наполовину боржомом. Абакумов бросил окурок сигары в бронзовую пепельницу, пересел к столу и, нервно схватившись за стакан, сразу отпил почти половину. Горелов говорил:
– Она ни в чем мне не отказывала, но ее тело не радовалось моим ласкам. Этого нельзя было не чувствовать. Она приходила, когда я ее звал, и делала все, чего бы я от нее не потребовал. Никогда ничего не требовала сама. Всегда была со мною как целомудренная новобрачная. Но не сопротивлялась ни одной моей прихоти. Что ж! Человека, который любит, можно утешить немногим.
56
Лицо Абакумова было пасмурно и покрывалось тяжелым, темным старческим румянцем. Он придвинул к себе тарелку с сыром, первую, какая попалась, и только когда отрезал и положил себе на тарелочку ломкий зеленоватый кусок, заметил, что это – рокфор. Вдавил ножом раскрошившиеся кусочки в кусок белого хлеба, разрезал кусок крест-накрест на четыре доли и только потом подумал, что лучше бы сначала положить масло, а потом сыр. Придвинул было кадочку с маслом, но сейчас же и забыл о ней и принялся есть хлеб и сыр торопливо и невнимательно, не замечая их смешанного вкуса. Горелов помолчал, отпил немного из своего стакана, налил туда еще боржому и продолжал:
– А что касается детей, я тоже много думал об этом. И, по-моему, так выходит: дети хороши и счастливы только тогда, когда они – дети любви. И уже давно мне казалось, что моим детям чего-то не хватает. Теперь я вижу ясно, что мое чутье меня не обманывало.
– Милочка у вас – славная девушка, – сказал Абакумов.
– Да, – сказал Горелов, – только эти ее бешеные вспышки меня пугают. Вы знаете, что сегодня случилось?
Он рассказал Абакумову о ссоре Милочки с Елизаветою. Абакумов слушал очень внимательно, но ничего не сказал. Горелов говорил:
– Чем-то она кончит? Ее будущее тревожит меня. Ну да что говорить, – это непоправимо. А вот Николай, – сегодняшний случай окончательно открыл мне глаза, – это форменный негодяй. Я давно уже не доверял ему. И был прав, как оказывается. Он старший. Зачат в те дни, когда Любочке была еще очень горька разлука с вами, она была этим совсем задавлена, ей тяжело было притворяться любящею женою. Николай рожден в обмане, и потому весь он лживый. Что у его матери было жертвою и отчаянием, у него стало низостью, злом, ложью. И лучше было бы, если бы тогда Люба отказала мне. Или если бы у нас не было совсем детей.
– Отчего же Милочка не такая? – спросил Абакумов.
Его профессорскому уму рассуждения Горелова казались совсем не наукообразными, произвольными, наивными, каким-то сумбурным производным от суеверия, мистицизма и горьких личных переживаний. А Горелов говорил:
– Милочка – младшая. К тому времени Люба уже привыкла. Уже она чувствовала себя моею покорною рабою, купленною за большие деньги, чтобы радовать господина. Привыкла, кротко вошла в эту жизнь, уже стала чувствовать себя в доме хозяйкою и госпожою. Была, может быть, по-своему полусчастлива. И только иногда вспыхивало в ней возмущение против того ярма, которое она сама на себя надела. Она знала, что винить некого, и покорялась, и таила в душе своей гнев на себя, на меня, на судьбу. Только не на вас. Оттого Милочка вышла такая милая, услужливая, готовая всем помочь, все свое отдать другим, но и такая иногда гневливая чрезмерно. Но счастливою она не будет. Она всегда будет больше давать, чем брать. И полюбить ей всегда будет некого. Здесь не в Пучкова же влюбиться! Да так и всегда, и везде будет.
57
Абакумов осторожно посматривал на Горелова, – старый фабрикант казался ему слишком возбужденным. Он говорил не переставая, и был странен его слишком спокойный тон в беседе о таких острых и тяжелых обстоятельствах. Слова Горелова звучали, как давно привычные напевы панихиды в устах старого священника, которому все равно, кого отпевать, потому что всех своих он уже давно не только схоронил, но и позабыл. И под эти размеренные звуки особенно мрачным казался весь этот богато обставленный большой кабинет с его громадным, похищающим звук шагов ковром, с его тяжелою мебелью, с тусклою позолотою на рамах картин, со старыми гравюрами в широком багете, с темно-зелеными занавесями на трех больших окнах, с небольшим салонным роялем, зачем-то стоявшим в углу у двери.
«Надо его успокоить», – подумал Абакумов. Но тотчас же забыл об этом. Он допил второй стакан, машинально им себе налитый. Потянулся за бутылкой, налил третий, подумал: «Хорошо бы коньяку выпить. Или водки». Глаза его были прикованы к темному узору мягкого ковра. Мерещился шелест короткой шелковой юбки и чьи-то легкие, обнаженные ноги. Он думал ревниво и страстно: «Когда он звал Любу, она приходила, исполняла все, что он захочет. Если он, усталый, сидел здесь и если ему приходила фантазия увидеть мелькание голых, пляшущих ее ног, она обнажала ноги, и он садился за этот рояль, такой чужой, по-видимому, этой деловой храмине, играл, и она танцевала. Вот зачем здесь рояль. И недаром есть пьесы такие, что Люба всегда взволнована, когда слышит их».
Звук, подобный стону, вырвался из его уст.
Он встал и поспешно пошел по ковру, словно прогоняя мечтаемую легконогую плясунью. Дошел до двери, повернул, прошелся к окну и опять сел на свое место.
Горелов сидел, опершись локтями на стол, и продолжал говорить о своем, – о своей святыне, о своей любви, о падениях и об изменах своих, о великой тоске ее жизни и своей жизни. Абакумов слушал его невнимательно и думал, что у Любы, кроме ее души, и ее кротости, и ее нежности, есть еще и тело, страстное и чувственное сплетение волнений очарований и приманок, тело, в котором струится пламенная кровь, в котором бьется жаждущее радостей сердце; тело, влекущее к себе, когда оно скрыто одеждами, и осиянное всем яростным сонмом желаний, когда оно обнажено. И этим ее телом, со всем его зноем, со всеми его восторгами и упоениями, владел другой! И этого безмерно волнующего тела никогда не видел он, профессор Абакумов. И этим телом он, человек, уважаемый всеми и заметный в науке, хочет владеть, как дикарь, как зверь. И мысль об этом теле волнует его, и заставляет его ревновать, и делает его подобным всякому, кто на этой грубой земле готов вступить в единоборство с другим из-за той, которую хотят оба.
Минуты возбуждения сменялись тяжелыми, свинцовыми приступами гнетущей апатии. Абакумов старался направить свою мысль к созерцанию идеальных совершенств и достойных отношений, но непослушные мечты тяготели к страстным, волнующим областям темной жизни. И от этого такое презрение к себе самому вдруг почувствовал он, что иногда ему хотелось уйти поскорее отсюда и в эту же ночь убить себя.
«С этим надобно покончить, – говорил он сам себе, – и чем скорее, тем лучше».
58
Абакумов заметил наконец, что Горелов настойчиво повторяет одно какое-то слово. Вслушался.
– Да вы не волнуйтесь, Василий Матвеевич, – говорил Горелов, – успокойтесь, не волнуйтесь.
Абакумов принудил себя улыбнуться.
– Я совершенно спокоен, Иван Андреевич, – сказал он. – Настолько спокоен, насколько это возможно в данном положении. Если хотите, я, конечно, волнуюсь. Но вы понимаете…
– Понимаю, – сказал Горелов, – у всех у нас в жилах кровь, а не патока. Но мы должны решить это дело как разумные и добрые люди, как христиане, а не как дикари. Распинать женщину, терзать ее душу мы не станем.
– А если она уже распята? – угрюмо спросил Абакумов.
Голос его дрогнул. С внезапною ясностью представился ему угрюмый холм распятия под свинцовыми тучами, тяжело нависнувшими над безрадостною пустынею, – и на холме грубо сколоченный из двух неровных и суковатых бревен крест, – и на кресте пригвожденная нагая женщина, Любовь. Тело ее висит на пробитых громадными гвоздями тонких ладонях и тяжело опирается на гвозди, вбитые в нежные стопы. Колени согнуты, чтобы крепче были прибиты ноги к дереву, и все тело вытянуто и дрожит от непомерной страстной муки.
– И с креста снимем, – сказал Горелов. – Друг мой, она любит вас, вы – ее. Вот основное. Все остальное надо подчинить этому. Как это сделать, мы обдумаем. Самое простое и разумное, – я дам ей развод. По моей вине, конечно, чтобы ей не было помехи повенчаться с вами.
Абакумов молча пожал ему руку. С горьким упреком чему-то он подумал: «Надо мне радоваться? А эти долгие, долгие годы, – невыносимо долгие».
Но больно было думать, что эти долгие годы прошли спокойно, мирно, почти счастливо. И никто в эти долгие годы не думал о том, что ошибка изуродовала нежную ткань жизни. Может быть, только одна испытывала великую душевную боль, – распятая женщина, милая его Любовь, – только она одна!
Горелов заметил его грустный вид. Сказал:
– Ну что ж, мы поделимся: мне прошлое, вам будущее. Кто выиграл от этого дележа, подсчитаем на том свете.
И они еще долго сидели, разговаривали, пили. Принесли еще бутылку вина и осушили ее. Уже занималось утро, когда они наконец разошлись.
59
На другой день, когда работа на фабрике кончилась, Вера пошла не домой. Она повернула совсем в другую сторону.
Бледнолицые, осыпанные белою фарфоровою пылью, устало расходящиеся домой товарищи были сегодня как-то особенно жалки ей. Когда она приостановилась у ворот, она посмотрела на них глазами постороннего наблюдателя. Она вспомнила похороненных в этом году товарищей, умерших от чахотки. Каждому из них было меньше сорока лет. Теперь эти тихо идущие, негромко переговаривающиеся люди все казались ей обреченными на раннюю смерть.
Улитайка спросила ее:
– Куда ты, Вера?
Вера приостановилась. Сказала:
– Улитайка, пойдем мимо нашего дома, скажи маменьке, что я пошла к Разину, к Ивану Гавриловичу.
Любопытная Улитайка взмолилась было:
– Возьми меня с собою, Верунюшка!
Но Вера так решительно сказала:
– Я одна пойду, а ты не забудь маме моей сказать, – что Улитайка не решилась спорить. Только проводила Веру долгим, любопытным и завистливым взглядом.
По пути с Верою никто не шел, – фабричная слободка вся вытянулась в одну сторону от фабрики, – и скоро Вера осталась одна и негромкие разговоры ее усталых товарищей затихли за ее спиною. Когда она пошла по узкой тропинке через скошенное поле вверх от Волги к видневшейся невдалеке роще, через которую ей надобно было пройти, выражение ее лица переменилось. В глазах ее была и тоска, и решительность, и какая-то совсем не идущая к ней боязливость. Но Вера шла быстрою и уверенною походкою, – поле, роща, проселок через ниву с колосящеюся рожью, перелесок, опять луга, высокий берег Волги, вновь повернувшей сюда свое течение, и перед новою рощею невысокая ограда, ворота, калитка, за оградою на холме среди сада полускрытый деревьями дом, цель ее пути. Верино сердце сильно забилось.
Она немного постояла перед калиткою. Все было тихо и здесь, снаружи, и за оградою. Калитка была не замкнута. Вера толкнула ее, вошла в сад, приперла за собою калитку и остановилась в тени старых берез, распустивших над дорожкою множество тонких веток, перепутанных, несущих листья только ближе к воде и потому наполовину голых. Здесь Вера с беспокойным вниманием посмотрела вдоль садовых затененных дорожек.
Девочка лет четырнадцати, веселая и сильно загорелая, с садовыми ножницами в руках, показалась на повороте одной из дорожек. Потряхивая густыми, подстриженными у плеч черными волосами и улыбаясь сдержанно, девочка остановилась перед Верою. Оправляя лямочки голубого сарафанчика и сдвинув приоткрытые почти до колен бронзово-солнечные стройные ноги, она стояла молча и прямо и смотрела на Веру. Так смотрел бы добрый ангел на представшую в преддверии превысокого рая бедную земную душу. Так ждал бы добрый ангел трепетного земного слова, не торопя смущенную душу, но заграждая ей дорогу к обители блаженных.
60
Досадуя сама на себя за свое странное смущение, Вера наконец спросила, дома ли Иван Гаврилович и можно ли его видеть. Девочка ответила негромко:
– Отец здесь, в саду. Пойдемте, я вас проведу.
Ее тихий голос был очень мелодичен и вовсе не казался слабым. Зачарованный тишиною этого сада, он звучал с мерною ясностью, ровно настолько громко, чтобы собеседница услышала ее, только одна она. Но казалось, что, если бы Вера стояла на неизмеримом от нее расстоянии, в груди этой девочки достало бы силы добросить до Веры кристально-чистые звоны слов.
Девочка шла немного впереди Веры и говорила:
– Слава Богу, в этом году сад наш чист, не видно ни личинок, ни гусениц. Птицы поклевали немного вишен, но это ничего, от них все-таки больше пользы, чем вреда. Вот видите, на дорожке следы кротовых нор, – это тоже не опасно для сада. Бог и кроту дал разум на то, чтобы уничтожать злых вредителей и помогать человеку обратить землю в светлый сад. Затем и живем на земле, чтобы сделать ее земным раем. Только сами-то мы еще этого рая недостойны.
– Человек – царь земли, – сказала Вера, улыбаясь учительному тону девочки, и ясной ее улыбке, и яркой солнечной радости, озлатившей ее лицо, и шею, и плечи, и руки, и ноги.
Девочка приостановилась, глянула на Веру. Губы ее улыбались, вишнево-алые, все тою же вечною улыбкою, когда она сказала, – и уже улыбка эта казалась печальною:
– Да, царь, но только один человек и есть на земле, да и того толпа распинает, – человек Христос Иисус, наш небесный Царь и Спаситель.
– Наши друзья говорят, – сказала Вера, – что христианство – суеверие, полезное для богатых, чтобы держать бедных в покорности и смирении.
Черные, страстно-солнечные засверкали девочкины глаза, и она с живостью возразила:
– О, ваши друзья говорят это по неведению! Читайте Евангелие и читайте всю Библию, как читают благочестивые англичане. Там для страждущих и обремененных – великое утешение, для богатых и сильных – гроза и огненный гнев. Из бдолаха, золота хорошего, слили безумные золотого тельца, но с высокой горы пришел пророк и раздробил тельца. Золото, ливан и смирну принесли мудрые к яслям, где лежал Младенец Иисус, а гонителя фараона проклял Бог! и с колесницею, и с воинством покрыл волною морскою.
Так говорила девочка, в восторге и вдохновении сочетав разные сказания святой книги в одну быстро льющуюся огненную импровизацию. И когда при последних словах она подняла руки, чтобы отстранить перед Верою, – хозяйка, никогда не способная забыть любезной заботы гостеприимства, – нависшие над дорожкою спутанные, упругие ветки, так величественно и стройно было это движение, как будто это был ангел, показывающий дорогу. Сладким томлением наполнилось Верино сердце.
«Поцеловать бы легкие ноги, – думала надменная красавица, – да испугаешь милую девочку».
Вера вдруг почувствовала себя словно грешница перед святою, грешница, не торопящаяся раскаяться и все же растроганная чужою нежною чистотою. Она взяла девочкину руку, – перехватила около локтя, – мягкая, упругая, ровная, знойная до ощущения легкого обжога кожа, – немножко нагнулась, словно проходя под ветками дерева, поцеловала девочку немного пониже голого, тонкого плечика и сказала радостно и ласково:
– Милая проповедница, тебе бы по дорогам ходить, людям говорить правду о Боге.
Девочкины черные, как два полночные пламенника, глаза стали вдруг близки к Вериным глазам и блистали, как сквозь росу. И не успела Вера понять, на чьих глазах роса слез, тонкие руки охватили ее шею, стройное тело прижалось к ее груди, прямо в губы долгим поцелуем поцеловала ее девочка, и тихий услышала Вера, тихий-тихий голос:
– Сестрица, милая, веруй в Человека Христа.
61
Прошли несколько шагов. Было очень тихо. Ни один воробушек не перепорхнул; ни одна веточка не пошевелилась. Под ногами, сквозь плотную землю дорожки проросшие, тихо гнулись легкие, спутанные травинки. Девочка всмотрелась зоркими глазами туда, где за сплетением ветвей видны были столбики небольшой беседки, и сказала:
– Отец пишет в беседке. Если вы не очень торопитесь, подождите несколько минут, я знаю, он скоро выйдет.
Вера посмотрела туда же, и ей показалось, что она тоже увидит за ветвями склоненную седую голову. Она отвечала девочке:
– Я не тороплюсь. Работу на фабрике кончила, а мама знает, куда я пошла.
Отошли в сторону, к дому. Девочка сказала:
– Я пока дам вам молока, хлеба, меду, земляники. Что есть. Это все у нас свое.
И Вера почувствовала вдруг, что ей хочется есть и что ей приятно будет сидеть за одним столом с девочкою и пить молоко.
– Посидите на террасе, я сейчас, – сказала девочка.
И побежала вокруг дома. Вера поднялась по ступенькам на террасу. Перед нею открылся знакомый с детства вид на Волгу, на луга, поля, деревни. Блеснули в стороне золотые кресты на храмах старого города Сонохты. Все знакомое с детства, привычное и в последние годы такое волнующее. Вера прислонилась плечом к столбу, всматривалась в широкие дали и длинные тени и задумалась, замечталась. Как бы некий сон наяву опустился на нее, – и захотелось вдруг, чтобы умедлили быстролетные минуты. Зачем? Ведь сны золотые, снившиеся ей, о победе предвещали, и не знала она, что кровью орошен путь к победе. Или знала, знанием утаенным и темным, не восходящим к холодному свету сознания? Но теперь душа ее отдыхала. Вера слышала несколько раз прибегающие и убегающие звуки ног маленькой хозяйки и сквозь мечты следила их шум с ласковым душевным любованием, – простодушный идиллический шум.
– Сестры обе ушли, я одна, – сказала девочка.
Вера подошла к столу, где уже были расставлены обещанные снеди. Наливая холодное, с погреба, густое золотисто-желтое молоко в граненый стакан, девочка спросила:
– Ваши друзья – социалисты?
– Только социалисты – наши друзья, – отвечала Вера. – У бедных нет других друзей.
Девочка покачала головою, и черные кудри ее рассыпались, набегая на глаза. Сказала:
– Вы ужасно поспешная и очень доверчивая. Все хорошее в социализме принадлежит христианству.
– Христиане хотят, чтобы мы верили и молились, – возразила Вера. – Нет, мы хотим сами построить свою жизнь и сами возьмем все, что нам надобно.
– Да, – спокойно отвечала девочка, – христианство об этом и учит, о человеке, что он творит чудеса. Вы думаете, что Евангелие говорит о любви и милосердии? Об этом говорят и другие книги. Христианство учит, что такое человек и какая у него власть и сила.
Вера сказала упрямо:
– В чудеса мы не верим.
– Чудеса мы творим, – отвечала девочка, – мы, люди, спасенные Человеком Христом.
62
Вдруг послышался из сада сильный, низкий и негромкий голос:
– Валентина, с кем ты говоришь?
Вера не слышала, как подошел к террасе Разин. Она обрадовалась и испугалась. В замешательстве отставила стакан, поспешно встала из-за стола и повернулась к лестнице. По ступенькам легкою походкою всходил высокий, сильный старик с коротко подстриженною седою бородою и седыми курчавыми волосами. Его желтая полотняная рубашка была стянута широким кожаным поясом. Подходя к нему, Вера сказала:
– Иван Гаврилович, я к вам, посоветоваться. Очень важное для меня.
Он пожал ей руку, сказал:
– Здравствуйте. Садитесь, побеседуем.
И пошел к столу. Вера шла за ним, опустив глаза к его легко ступающим по доскам пола небольшим и красивым, сильно загорелым стопам. Он сел за стол и сказал дочери:
– Валечка, налей мне молока, а потом иди, милая, подальше, – наша гостья хочет поговорить со мною наедине.
Валентина быстро и ловко налила молоко в большую стеклянную кружку, поцеловала отца в мелкие морщинки на темно-желтом виске и быстро побежала в сад.
Вера смотрела на спокойное лицо Разина, на котором лежали пробившиеся из-за вьющихся вокруг проволок хмеля и дикого винограда лучи уже невысокого, но все еще жаркого солнца, – смотрела на игру лучей в гранях стекла, – и рассказывала. Кто она. Как жила. О матери. О родном доме. О работе на фабрике. О женихе. О его друзьях. И особенно подробно рассказала о встрече в лесу с Гореловым и о разговоре с Шубниковым.
Разин слушал внимательно и смотрел прямо в Верины глаза. Его неотступный взор не смущал Веру. Разин казался Вере совсем простым, доступным, понимающим все, что она говорит и думает, и ей легко было говорить с ним. Она испытывала такое чувство, как будто никого чужого перед нею нет, как будто она самой себе говорит о себе, приводя в ясность все свое былое, и свои мечты, и надежды.
Окончила, замолчала. Разин продолжал смотреть на нее молча. Потом, проведя рукою по седой своей бороде, он заговорил медленно и раздумчиво:
– Так, очаровала ты его. Заклинательница змей, сильного и хитрого змея хочешь ты подманить своими чарами. И не боишься, что змей обовьется вокруг тебя, красавица, сильный, чешуйчатый, кольчатый змей. Да, не боишься. Ты – смелая. И упрямая. Что задумала, то сделаешь. Нетерпеливая, хочешь сделать скоро. По глазам твоим вижу. Так что уж и не знаю, чего ты от меня хочешь, зачем ко мне пришла. Так, пойдешь ты к нему завтра ночью. Что же ты от него потребуешь?
В полнозвучном и замедленном течении его слов Верина душа жутко и радостно неслась, колеблясь, трепеща и замирая, навстречу сумеречно-мглистым теням будущего и, словно в зеркало широких вод, смотрелась в ясность этих слов. Улыбалась Вера и смотрела в его спокойные, глубокие глаза, и словно дыхание в ее груди захвачено было чем-то, и не могла сказать ни слова.
63
Улыбнулся и он. Словно разрешая или повелевая, сказал:
– Говори.
– Для меня он все сделает, – сказала Вера.
И вдруг вся багрово зарделась. На щеке тревожно забилась какая-то жилка.
– Все, чего я захочу, – тихо докончила она.
– Чего же ты захочешь? – спросил Разин.
– Он еще сам не знает, для чего я встретилась ему, – говорила Вера. – Я приду к нему и скажу ему: люби меня. И он полюбит меня больше, чем свою душу, и отдаст мне всю свою душу и все свое золото. Душу его я отдам тому, кто ее возьмет, а на земле она никому не нужна; его золото я отдам товарищам.
– Как же ты все это сделаешь? – опять спросил Разин.
Вера продолжала страстно и вдохновенно:
– Он еще сам не знает, что значит полюбить меня. Когда я приду к нему, он для меня оставит жену и детей и сделает для меня все, что я захочу. Ни одной минутки не призадумается.
– Сделает для тебя все, чего ты попросишь? – спросил Разин.
Вера воскликнула страстно:
– Нет, я не стану плясать перед ним и выпрашивать милости. Как царица я возьму все, как царица, как судьба, как смерть.
Она говорила как в полусне. Воля ее была подчинена прихотливому воображению, распаленному жаждою высокого дела. Мрачно было мерцание ее глаз.
Разин сказал:
– Ты уверена в том, что успеешь в своем замысле и что он приведет к добру. О каком золоте ты говоришь? У Горелова не золото, у него капитал вложен в фабрики. И вот ты думаешь, что он отдаст тебе свои фабрики, а ты передашь их рабочим. И вот машины станут собственностью рабочих, и они будут уже работать на самих себя, а не на хозяина и будут пользоваться полным продуктом своего труда. Так ты думаешь, что это для них будет лучше и что они будут тебе благодарны.
– О себе я не думаю, – отвечала Вера, – и благодарности мне не надо. Меня, может быть, за это мой жених зарежет, так на что мне тогда чья-нибудь благодарность? Для моего жениха я не просто фабричная девчонка, я для него – радость и утешение в жизни. И я его люблю.
Верин голос дрогнул, она быстро опустила голову, закрылась руками и заплакала.
64
Разин смотрел на нее жалостливо и думал: «Что это? Подвиг или безумие? Она заблудилась, но где я найду слова, чтобы показать ей глубину ее заблуждения? Да и кто знает, где ложь, где правда? И кто может остановить человека, если его увлекает золотая мечта?»
А Вера говорила:
– Каждый должен нести свой крест. Мой крест я не сама выбрала. Дана мне красота великая, и вместе с красотою дана страшная власть чаровать людей и змей. Назвала себя заклинательницею змей; думала, так, просто пошутила. А потом самой стало страшно. Нет, это – не шутка, это – правда. Сама не знаю почему, но в эти дни я ни о чем другом и думать не могу.
Разин положил руку на Верино плечо и сказал тихо и жалостливо:
– Успокойся, Вера! Если мы будем волноваться, мы совсем запутаемся. Разберемся спокойно. Как ты все это себе представляешь? Допустим, все будет, как ты хочешь. Он отдаст тебе все свои фабрики, – так? Ты передашь их рабочим, – так?
Вера смотрела на него во все глаза и утвердительно кивала головою. Разин продолжал спрашивать:
– Каким же рабочим? Тем, которые теперь работают на фабрике, – так? Этому случайному составу?
Вера опустила глаза. Трепеща, нахмурились ее брови. Она сказала:
– Всякое начало случайно. Рабочих на земле много, гореловских капиталов им не хватит, против них стоят другие капиталисты. Каждый пусть разоряет то змеиное гнездо, которое к нему ближе. Удача одних будет примером для других. Стоит дать первый толчок, потом движение станет нарастать само собою. Мы должны прекратить медленное убивание людей непосильною работою.
– Твои товарищи станут хозяевами, – сказал Разин, – вместо одного крупного капиталиста появится тысяча мелких, и трудно учесть, что из этого выйдет. Думаешь ли ты, что эгоизм людей умрет? Так ли скоро, как ты мечтаешь, может измениться природа человека? Средство против зла только одно, – братский и христианский союз для объединения труда и распределения земных благ. Ты хочешь начать этот союз со случайного подарка твоим случайным товарищам. Они должны будут выдержать конкуренцию других фабрикантов, – ведь их всех встревожит этот опыт. Чтобы рабочему жилось лучше, посуда должна стоить дороже, а твоим товарищам придется понижать ее цену, чтобы выдержать конкуренцию. Капиталисты выдержат убытки, но могут совсем выгнать ваш товар с рынка.
– Один из наших друзей рассказывал нам, – возразила Вера, – как социалисты хозяйничают в некоторых итальянских городах. Где городская дума в руках социалистов, говорил он нам, там условия жизни рабочих гораздо лучше. Мы в России никак не можем устроить, чтобы социалисты стали у городских и земских дел. Так сделаем, что можем, – передадим и гореловские фабрики, и через самое короткое время рабочий люд заживет здесь достойною человека жизнью. И если не мы сами, так дети товарищей наших будут сильны, спокойны и счастливы. И не будут рабами.
– Так, милая мечтательница, – отвечал Разин, – ты из тех, кого не убеждают слова. Мечта тебя очаровала, и ты пойдешь за нею, куда бы она тебя ни привела. Если ты ошибаешься, Бог тебя поправит, если ты грешишь, Бог тебя простит. Ты в Него не веруешь, но этим огнем Он зажег твое сердце.
Он улыбался печально, и в заходящих лучах солнца его улыбка казалась благостною, а седина его бороды приобретала янтарный оттенок послезакатных облаков.
65
Разин встал, поднялась и Вера. Сердце ее упало. Неужели он ничего не скажет ей, кроме этих спокойных слов?
– Я хочу показать тебе кое-что, – сказал он, – некоторое наглядное изображение твоего состояния. Иди за мною.
Он вошел в дом, и Вера пошла за ним. Сердце ее сильно билось, в глазах было туманно и багряно, и она едва различала убранство большой комнаты, по-видимому столовой, через которую они прошли в небольшую угловую комнату. Там стоял стол с книгами и бумагами. У стен несколько открытых полок с книгами. Несколько простых, легких стульев. На столе, среди книг и бумаг, по обе стороны бронзовой чернильницы стояли две небольшие фарфоровые фигурки, – нагие женские тела. Одну из этих фигурок Разин взял и подошел с нею к окну, хотя в комнате еще было светло. Солнце опустилось совсем низко. В его лучах фарфоровая фигурка казалась потеплевшею и ожившею.
Это была нагая девушка, совсем еще молоденькая, почти девочка, с красивым и суровым лицом, на котором лежало выражение упрямой, настойчивой воли. Одна рука девушки была приподнята, и девушка пристально смотрела на обвившуюся вокруг этой руки змею. Девушка сидела на каком-то пне, легкая и ловкая, и опиралась другою, напряженно вытянутою рукою об этот пень с такою силою и настороженностью, как будто готовая каждую минуту встать и нести людям заклятую ею злоокую, коварную змею. И казалось, что змея и заклинательница смотрят очи в очи одна другой, и было нечто змеиное в упругом изгибе голого, белого девичьего тела, и было девственное очарование в ползучем, обнимающем движении змеи. Покорная своей заклинательнице, змея льстиво прижималась к ней, как рабыня, но чему же была покорна ее нагая госпожа и чем она была очарована? Несомненно же было, что и она очарована, и беззащитна от чьего-то заклятия, и даже пояса не сохранила, оберегающего соблазны ее млечно-белого тела. Чувствовала всем своим по-змеиному гибким телом смеющийся взгляд далекого в пустыне миров змея, свернувшегося семью кольцами за щитами, за семью щитами, что мы видим в семи цветах зари, и за многими незримыми, раздробившими ту снежно-холодную белизну, которая в ней еще цела и непорочна.
Не змеем ли ты очарована, очаровательница? И в лебедино-белом теле твоем не таится ли огненный яд высокого змея, змеиноокая?
Но чего ты боишься, Вера? Улыбнись, – весь грех и все зло в руке учителя. Как будто прошел он, мудрый, за тебя, неразумную, весь твой скорбный путь, и оставил тебе только легкий труд последнего исполнения. Вот он стоит, как будто с детства близкий, и взор его кроток и мудр, змеиные чары побеждающий.
Кровь ли прольется, – не все ли равно? Сердце твое трепещет радостно, бедная сестра моя, и знает, что дерзание твое прощено, и над бедным неразумением твоим кроткая улыбка высокого сожаления. Бедная, пленная душа, восстань и сгорай в пламени сладостной веры.
66
Вера и Разин молча стояли друг против друга. Вера улыбалась радостно и смотрела на белое тело заклинательницы. Разин медленно опустил руку и поставил белую заклинательницу на подоконник, и она колыхалась в его руке, как только что сорванная белая на гибком стебле лилия, – такая белая из пены морской возникла бессмертная Афродита. Не розовела в алых лучах заходящего солнца и только затеплилась белою серебряною матовостью. Медленно нагибаясь за нею, Вера опустилась на колени. Темно-рыжие волосы ее были пламенны в багровом сквозь тяжелый воздух земли свете закатного солнца. Вера сложила молитвенно руки, немного подвинулась от окна, стоя на коленях, и смотрела в глаза Разина. Он положил руку на ее голову и говорил:
– Милая, мечта обманывает человека и приводит его не туда, куда он хотел прийти. Но мечта всегда правее разума, и всегда человек должен слушаться ее, идти за нею, исполнять волю того, кто умеет чаровать, как мы, люди, не умеем. Земная жизнь наша – трудный и темный путь в великой пустыне мира, и благословление Бога над тем из нас, кому дана мечта, кого ведет мечта. Даже и погибая, он счастлив, – он видел то, чего другим не дано видеть, он отмечен печатью высокого избрания. Смотри на эту маленькую белую чаровательницу. Не правда ли, ты узнала в ней себя?
– А кто же змея? – спросила Вера.
Разин продолжал:
– Смотри, как эта белая змея покорна ей. Покорна, потому что она сама знает сладость и власть очарований. Она сама, шипя от невинной злости, смотрела в чьи-то глаза и ползла тихо-тихо к ногам зачарованного, чтобы ужалить и умереть, – ужалив, жало свое сломает и оставит в ране, погубив, погибнет. А злость ее была невинная, потому что в темном лесу нет морального закона. Ведь и мы сами, пока живем под железным законом нужды и необходимости, невинны, как подколодные змеи. Нас не осудит Тот, Кто сплел нас в змеиный клубок. Кто дал нам так мало радостей и так много страданий. Кто и Сам страдает с нами и в нас.
«Никто осудить не посмеет», – думала Вера. И чувствовала себя так, точно вся она пламенная и легкая и возносится высоко над землею. Радостно улыбаясь, склонила голову и слушала, – и говорил Разин:
– Смотри, смотри, встает заклинательница, и сжимает змею, и разбивает ей голову о камень. И слышит чей-то зовущий голос. Прислушивается. Идет, уже очарованная. И льнет к его ногам. И змеею обвивается вокруг его сильной руки. И он возьмет тебя, и сожмет тебя сильною рукою, и ударит тебя головою о камень. И ты умрешь. Не знаю даже, успеешь ли ты порадоваться тому, что сделала так, как хотела. Но иди, делай, что замыслила. И когда душа твоя вступит в область совершенного покоя, ты найдешь радость, которой не знала никогда раньше.
Вера заплакала. Словно черное пламя метнулось в ее глазах, пламенный весь и весь черный ангел. Она склонилась к ногам Разина. Ей было страшно и радостно. Она чувствовала, что воля ее окрепла и уже не будет знать колебаний.
67
– Возьми на память, – сказал Разин.
И отдал Вере фарфоровую заклинательницу змей. Радостно взяла Вера этот подарок. Несла его домой бережно, завернула его в свой синий передник, чтобы никто встречный не увидел, не узнал, что она несет. А сама, пока безлюдными шла местами, перелесками или полями над лазурною Волгою, то и дело развертывала белую заклинательницу и смотрела на нее, – и словно купалась белая в речной синеве. Не то это был для Веры талисман, не то знаменование ее судьбы. Как Медный Змий изваянный, которому поклонились в пустыне, чтобы злые не ужалили до смерти змеи. Но это было тайное, для нее одной наговоренное и очарованное изваяние. И никому не надо было его знать и видеть.
Но любопытны в фабричном поселке встречные. Каждый посмотрит, спросит:
– Что несешь, Вера?
– В потребилке сыру купила, – отвечает Вера.
– Что ж ты его так в передник-то укутала?
– Мешка с собой не взяла, – отвечает Вера.
– А почем сыр-то?
– А я почем знаю! – отвечает Вера.
– О, шальная, да ведь ты покупала?
– На книжку записали, – отвечает Вера.
– Да ты бы в книжку-то поглядела.
– Книжка дома, они у себя записали, – отвечает Вера.
– Они там запишут, чего захотят. А матери-то что, девушка, скажешь? Ай у вас деньги-то несчитаны, что ли?
– Сколько с других берут, столько и с меня, авось не обманут, – отвечает Вера.
– А сыр-то хорош ли? Ай тоже не поглядела, глупая?
– Сыр хорош, дали попробовать, – отвечает Вера.
– А ну-ка покажь.
– Некогда, мама ждет, – отвечает Вера.
Смеется и бежит. А встречная баба ей смотрит вслед, и качает головою, и кричит:
– Экая ты, девушка, растяпа!
– А что? – спрашивает подошедшая другая.
И уже совместно обсуждают Верино легкомыслие, Верину расточительность.
И вот Вера дома. А дома ждет ее мать. И опять докучные расспросы:
– Что, дочушка, поздно вернулась? Да куда ходила-то? Да что принесла?
Что матери скажешь? Что она поймет?
– К Разину ходила, поговорить, посоветоваться.
– А что, с женихом, что ли, не поладила?
Вера засмеялась, промолчала.
– Ну да Разин худого не посоветует, – сказала мать. – Только ты бы, дочка, с матерью советовалась, чем к чужим ходить. Мать лучше скажет, как тебе жить; жить по-старому надобно пока, новое-то пускай большие люди выдумывают. Мы худо ли, хорошо ли, всю жизнь прожили. А ты, за новым-то погнавшись, смотри, как бы под чужую пятку не попасть.
Заклинательницу Вера хотела спрятать в сундук, да мать вошла вдруг и увидела. Рассердилась:
– А это что за кукла? Голая, бесстыжая! Да где ты ее взяла? Да для чего домой-то принесла такую скверную?
Хотела разбить да выбросить. Едва уговорила Вера:
– Спрячу, никто не увидит. А дал мне ее Разин против дурного глаза.
– Врешь, глупая! Да кто нонче в дурной глаз поверит? Вот на днях схожу сама, спрошу.
На том пока успокоилась. Долго ворчать не любила.
68
Горелов с утра был странно и тяжело взволнован. Вера обещала, что нынче ночью придет в домик над ручьем. Взволнованность ожидания почти сглаживала в душе Горелова тяжелые впечатления семейных неприятностей. Но не совсем. Слишком все это было неожиданно, тягостно и трагично.
Правда, и раньше Николай мало утешал Горелова. Все же фабрикант надеялся, что со временем обойдется, сын перебесится, остепенится, втянется в дело. Такой низости душевной в сыне он не ожидал.
Теперь вдруг Горелов почувствовал себя совсем одиноким. Милочку он очень любил, и теперь мысли о ней трогали его до слез. Но нежность к дочери не вознаграждала его за острые чувства гнева, ненависти, презрения к сыну, которые вдруг поднялись в душе. И поднялись с такою силою и отчетливостью, как будто уже давно таились, как будто нужен был только внешний повод для их проявления. Неужели ослепление отца могло быть так сильно, чтобы не видеть чудовищного нравственного уродства сына? Ведь каждый звук лживого, ненавистного голоса выдавал душевное растление, и каждый взгляд был противен, как выпавший глаз разваренной рыбы.
Не только чувства отца, – гордость фабриканта, которую так привык уважать в себе Горелов, была уязвлена в нем. Он твердо решил устроить так, чтобы Николай не наследовал его фабрик. Досадно было думать, что известные на всю Россию гореловские фабрики будут принадлежать не Горелову. А кому же? Этого он пока не знал. Отдать Милочке было бы бесполезно, – Николай добром или силою сумеет оттягать у нее все.
Как быть, пока еще Горелов не знал. С кем посоветоваться? Кому понести свое горе, открыть свою душу? Где друг, который мог бы сказать разумное, беспристрастное слово? Абакумов великодушен и благороден, – но не его же впутывать в соображение о том, как лишить наследства Николая! Да и Абакумов, из самого благородства своего, еще стал бы, конечно, отговаривать Горелова.
Видно, придется самому с собою наедине все это решить и все исполнить. А сегодня лучше забыть, и Горелов старался не думать обо всем этом, чтобы не отравлять радости обладания гордою красавицею. Будет время подумать и сделать потом. Верил, что Вера принесет счастие. А все же, как ни старался забыть, нет-нет да и вспомнится Николай и, тяжелою злобою гнетомое, забьется вдруг сердце.
Весь день для Горелова был, несмотря ни на что, жутко-сладостным ожиданием. Горелов не пошел на фабрику. Да и все эти дни он там не бывал. Точно боялся, что случайно встретит Веру, – не хотел этой преждевременной встречи.
Когда Горелов думал о Вере, он не хотел вспоминать, что она – работница на его фабрике. Не хотел думать о том, как она живет, что чувствует. Не хотел ничего знать о ее душе. Вспоминал только ее телесные признаки, как он увидел ее тогда в лесу, – очаровательное лицо, прекрасное, и надменное, и ласковое, золотозвенящий, насыщенный страстностью голос, обнаженные стройные руки, пламенно-знойные глаза, тяжелое золото кос. Он и не знал в ней ничего, кроме этих чарующих, волнующих признаков. Не знал даже той силы, которая приворожила его к Вере. Думал, что только влюбленность, только жажда наслаждения влекут его к ней. Любил самого себя и свои телесные удовольствия и думал, что это и есть прочная основа его поведения. И не знал, что чужая воля уже господствует над ним, и не знал, куда она его поведет. Если бы ему кто-нибудь сказал об этом, не поверил бы он, засмеялся бы.
– С бабами всю жизнь вожжался, – сказал бы, – это верно, а только под бабьим башмаком Горелову не улечься.
Не всю ли жизнь стремление к личному счастию казалось ему самым верным законом жизни? Он никогда не противился этому закону, работал для своего благополучия, наслаждался без боязни, был счастлив и весел. Чтобы его счастие было безоблачно, старался, чтобы все вокруг него были довольны. Был добр по расчету, из дальновидного эгоизма. Всякое иное основание морали казалось ему лицемерным, противным природе измышлением.
Не думал он и теперь о том, чего же она сама хочет, Вера. И все же иногда покажется ему вдруг, что Вера стоит на темном пороге, глядит на него, приоткрывая тяжелую завесу, и неотступно зовет куда-то, – и тягостное предчувствие начинает томить его. Предчувствие роковой встречи.
69
Соснягин и Вера сидели в лодке, он на веслах, она у руля. Легкая ладья быстро скользила вниз по течению, по направлению от города к гореловской усадьбе и фабричному поселку, держась ближе к противоположному, правому берегу Волги.
Ночь светлая, лунная была, теплая, молчаливая. Полная луна над лесами левого берега Волги стояла невысокая. Казалось, луна медлит всплывать выше по небосклону, отойти далеко от милой земли, от мглистой долины. Влажные благоухания доносились с лугового пологого берега, где днем весело косили, а теперь только кое-где виднелись слабые издали огоньки двух-трех разложенных косцами или рыбаками костров. Свет луны словно был слит с легкими мглисто-серебристыми мерцаниями и манил взоры к долам, и не хотелось усталыми за день глазами пересчитывать звезды, такие в ту ночь бледные, печальные и далекие, словно забытые всеми. Струйки бежали за плавными веслами и так лепетали и журчали, словно плакали смеючись или смеялись плачем серебристым. С запада, с лугов порою долетали теплые, сильные вздохи, точно кто-то непомерно сильный ровно дышал там на воду, так ровно, чтобы ни одна не всколыхнулась в реке зеленоволосая русалка, волною резвою не прокинулась бы.
Соснягин, исподлобья глядя на Веру, тихо сказал:
– Невеселая ты что-то сегодня, Вера. О чем печалишься?
Голос его звучал низко и глуховато. Вера почувствовала внезапный тонкий и острый укол в душу, – томление, похожее на визгливый плач недоброй совести. Замолчи, неотвязная! Ты – маленькая, ты – завистливая, ты об одном жалеешь, а я должна донести свой крест.
Покачала головою, засмеялась, сказала:
– О чем же мне печалиться, Глебушка? Пока я с тобою, мне хорошо. Только люби меня, люби покрепче, и верь.
– Я тебе верю, Вера, – отвечал Соснягин.
Вера опять покачала головою. Сказала:
– Ох, уж и не знаю я, кто кому теперь верить умеет. Все боятся, что их обманут. Разве только книжкам верят да газетам. И ты, Глеб, мне веришь не по любви своей, а по делам моим. Я тебя не обманываю, ты мне веришь.
Соснягин усмехнулся невесело. Спросил:
– А то как же иначе-то верить, Вера?
Так смотрел на Веру с недоумением и такое было у него лицо разом и рассудительное, и как-то по-детски простодушное, что Вере захотелось и смеяться, и плакать. Сердце ее шибко забилось, и на глазах задрожали слезы, – но руль не дрогнул под верною рукою. Трепетно и страстно звенел ее золотой голос, когда она говорила:
– Нет, милый Глебушка, ты мне верь и тогда, когда я тебя обманывать стану. Когда весь свет будет меня уличать, ты один мне все-таки верь и не оставь меня. Если я для всех стану хуже самой последней собаки и если даже мать родная отвернется от меня, ты мне и тогда верь, ты люби меня, Глеб.
Соснягин, мрачно и досадливо хмурясь и неловко подергивая плечами, отвечал:
– Ну, ты очень много хочешь, Вера. И я не пойму никак, к чему ты все это говоришь. Если только шутишь, так зачем такие шутки? Этим, знаешь ли, шутить не годится. А если ты вправду…
70
Вера не дала ему кончить. Еще трепетнее и звонче звенел ее голос, странно и торжественно разносясь над еле плещущеюся водою и как бы взлетая из мглистой полутьмы земной к луне внимательной и чуткой. И говорила Вера:
– Нет, желанный мой, Глеб мой милый, по делам верить – это разве вера? Так и всякий купец солидному покупателю верит и денег вперед не требует. За любовь любить – это совсем не любовь. Это – торг. Это выгодно для обоих. Спокойно, безопасно. Точно в конторе застраховался, – живи, не тужи. Нет, мой друг, единственный мой, я так хочу: ты люби меня, ты верь мне, если я на тебя с ножом пойду, если я сердце из груди твоей на ноже моем выну. Кровь твою буду пить и веселиться, – и тогда ты меня люби, ты мне верь, что и кровь твою я выпила, и сердце вынула потому, что так мне велел Бог, Который меня создал!
Необычайно взволнованная, Вера вскочила с места, подняла руки к небу, – лодка качнулась, Соснягин быстро положил весло вдоль борта и сделал движение вперед. Но Вера опять села, тяжело дыша. Сказала с непривычным ей смущением:
– Бог знает что я говорю! Не думай об этом, Глеб. Пора домой.
Вера повернула лодку к берегу. Луна смотрела Вере прямо в лицо. Оно казалось теперь очень бледным. Верины глаза с неопределенным выражением смотрели вдаль. Несколько минут длилось молчание. Потом Соснягин заговорил, и по звуку его голоса было видно, что он сильно взволнован.
– Хорошо, Вера. Как ты хочешь, так и будет. Я не понимаю, к чему ты это говоришь. Что-то ты задумала. От меня скрываешь. Скажу тебе, – это ты напрасно. Но если это тебе так надо, пусть! Я буду тебя любить, буду тебе верить, что бы ни случилось. Только смотри, Вера, вот ты про нож говорила, и про сердце, и все такое. Ну, такие слова на ветер не говорятся. Знаешь, одно дело любить и верить, другое – жить. Кровь, понимаешь, дело темное. В голову ударяет. Пьяное дело. Бывает, и любя зарежешь. Ну так вот, ты смотри, я знаю, я верю, что ты предо мною и перед людьми чиста. Но, видишь ли, если так повернется, что до ножа дойдет, так уж ты режь меня поскорее, не то я тебя зарежу.
Вера тихонько смеялась. Терпеливо выслушала медлительную, трудную речь. Потом сказала:
– Спасибо, милый, желанный, ненаглядный, Глебушка мой родненький. Уж ты меня прости, – шалая я, дикая. Пойми меня, если сможешь, а не сможешь, просто пожалей. Хочу что-то сделать, да ничего не умею. В сердце много огня, да на мой огонь у жизни вода холодная. А жизни мне вовсе не жаль. Что в жизни? Только одно, – хоть час, да мой. Хоть маревом, да просиять. Но ты знай, – ты у меня единственный, другого нет и не будет.
– Что будет, того мы не знаем, – хмуро отозвался Соснягин. – Сроков не положено. У нас только то наше, что с нами, теперь, здесь. Ни денег, ни счастья впрок, на проценты не запасено. Ни на банки, ни на царство небесное не уповаем. Все здесь, все теперь. Но зато уж то, что есть, пусть никто не отнимает.
71
Темный от лесной тени, берег казался еще далеким, когда дно лодки вдруг зашуршало по песку. Соснягин вогнал лодку носом на берег и хотел помочь Вере выйти, но уже она выбежала по неглубокой, теплой воде на берег. Порывисто поцеловала Соснягина. Сказала:
– Не провожай меня, Глеб. Я добегу одна. Здесь близко.
Соснягин огляделся. Разговор так его взволновал, что он не думал, где они пристали. Недалеко налево от этого места втекал в Волгу, широко разливаясь по песку, ручей. За ним темнели высокие деревья гореловского парка. Впереди берег круто поднимался к лесу. Направо виднелась темная груда фабричных зданий, и за ними, далеко по берегу, – домики фабричной слободки.
Вера проворно побежала по песку от берега, ее белая блуза мелькнула в густых кустах на дне оврага, где струился ручей. Соснягин вспомнил, что там вверх по оврагу тропинка выводит в лес и потом к слободке. Подумал: «Как она одна пойдет? Еще встретится хулиган какой. К хозяину на двор не забраться, – запоры крепки, собаки злы, – так девушку оберет».
И поспешно пошел за нею. Вот-вот сейчас догонит. Но на тропинке ее не было. Он взбежал наверх, в лес. Кликнул:
– Вера, Вера!
Ночная тишина приглушала голос. Ему становилось жутко. Вдруг он подумал: «Да ведь она мне сказала – добегу одна. Бежит теперь где-нибудь впереди».
И быстро пошел вперед, точно необходимо было догнать ее во что бы то ни стало. Длинные ноги мерили узкую тропинку так проворно, руки так ловко отстраняли набегавшие к лицу ветки, что, казалось бы, как не догнать ведь не на крыльях же летящей Веры! Но все было тихо и пусто. Веры не было.
Соснягин добежал лесною изгибистою тропинкою позади длинных фабричных корпусов до рабочей слободки. Здесь Вера могла пойти или прямо тропинкою по задворкам, или повернуть ближе к реке и пройти береговою улицею. На тропинке впереди никого не было видно. За углом дома на улице как будто мелькнуло что-то белое на одну секунду, – Вера ли пробежала? померещилось ли? Соснягин бросился туда. Но и на улице никого. Он дошел берегом до самого ее дома. В окнах было темно. Он хотел было постучаться. Уже взялся за калитку, чтобы войти в сад. Вдруг подумал: «Выходит, что я ее выслеживаю. А ведь только что обещал, что буду ей верить».
Постоял у калитки, приоткрыл ее, посмотрел на окна. Показалось, что за одним из окон мелькнуло что-то светлое. Подумал: «Может быть, она уже дома. Стоит там, за окном, видит, что я тут стою, а сама прячется, ни за что ко мне не выйдет, смеется или плачет. Странная она. Не поймешь. Но разве она не вольна поступать, как хочет? Разве она – моя собственность?»
Он отошел от калитки. Темное беспокойство томило его. Вычитанные в хороших книжках мысли боролись с этим беспокойством. Но живое человеческое чувство было сильнее книжных мыслей.
Соснягин не захотел идти домой. Тихо пошел обратно по слободке, по лесу. Может быть, Вера где-нибудь свернула в сторону, запуталась в темноте, хоть и не велик лес, отстала.
72
Когда разросшиеся дико и густо кусты скрыли Веру от Соснягина, она свернула с дорожки влево, по направлению к ручью. Пробежала несколько шагов, остановилась и прислушивалась. Лицо ее было мрачно. Скоро она услышала быстрые шаги Соснягина по дорожке вверх. Тогда она спустилась к ручью, к его широкому устью, и по неглубокой теплой воде перебежала на ту сторону. В душе ее была стремительная злость, и она чувствовала, что хорошо сыграет свою роль там, наверху. Поднимаясь по склону оврага, она усмехалась злобно и уверенно.
Вот забор, высокий, наглухо из прочного теса сколоченный, усаженный поверху длинными, острыми гвоздями. Под луною поблескивали гвозди. Вера глянула на их узкие блестки, усмехнулась, подумала: «Хорошо хозяин огородился. Коли и вылезет озорник, так того и гляди грудью на гвоздь напорется. Пожалуй, Жар-Птица золотые свои яблоки не злей берегла!»
Кусты лепились к забору совсем близко. Приходилось пробираться, отклоняя длинные, упругие ветки. В глухом, закрытом отовсюду месте Вера увидела глухо замкнутую невысокую калитку, и в ней темнел железный наличник замка, узкий и высокий, с дужкою тяги. Вера вынула из кармана тяжелый ключ, отомкнула калитку, вошла в сад, огляделась. Она стояла на нешироком мостике, перекинутом через глубокий ров. Вместо перил были два каната, наклонно идущие от колец в настилке мостика у калитки к двум круглым столбам на берегу. Очевидно, мостик был подъемный. Ров шел в обе стороны вдоль забора. Дно его было усеяно острыми камнями.
Вера прошла мостик, оглянула столбы. Канаты были пропущены через блоки, укрепленные под массивными воротцами из железа на верхах столбов. На концах канатов висели тяжелые железные противовесы. Вера потянула канаты обеими руками, – мостик легко приподнялся. Она рассмеялась.
– Так, так, так, – сказала она вслух, себе самой.
И дотянула мостик до столбов. Противовесы опустились в железные гнезда в земле. Тогда Вера увидела железные болтики и задвинула ими противовесы. Прочно!
На песочных дорожках, на густо разросшихся кустах лежал ровный, ясный, неяркий и все же волнующий и тревожащий свет полной луны. Он был такой настойчивый, чуткий и внимательный, как будто это кто-то странный и чужой непомерно ясными глазами неотступно смотрел на землю. И, когда Вера пошла прямо вперед по аллейке, в конце которой виднелось строение, ей было жутко, точно из-за каждого куста глядели таящиеся и со всех ветвей тянулись незримые.
73
С невысокой лестницы в четыре ступеньки сошел навстречу Вере Горелов. Лицо его было бледно и взволнованно. Зоркая Вера увидела на его лбу мелкие капли пота. Горелов громким полушепотом спросил:
– Это – ты, Вера?
Вера отвечала громко и звучно, совсем не тая от ночи своего голоса:
– Крепко огородились, а я все-таки пришла.
Горелов заговорил торопливо:
– Ну иди, иди в дом, да потише говори, ночью голос далеко слышно. Ты калиткой стукнула, я услышал.
Вера молча усмехнулась и вслед за Гореловым вошла в дом. Занавесы были опущены, и брошенный голубыми раковинами отражателей вверх свет нескольких электрических лампочек в люстре, освещавшей комнату направо от проходной, куда они вошли, был не виден наружу. На столе, накрытом белою скатертью, стояло серебряное ведерко с погруженною в лед бутылкою, расставлены были хрустальные вазы, серебряные блюда и судочки с фруктами, тонкими снедями и острыми приправами, стопочками тарелки разной величины, два широкие, на длинных ножках, бокала и лежали серебряные ножи, вилки, ложки. По обе стороны ведерка со льдом стояли два высокие кувшина с белыми розами. Розы стояли и на камине перед зеркалом, – два кувшина, – и на столике в углу, – еще один.
Горелов усадил Веру на диван у стола, сам сел в кресло. Смотрел на Веру и не знал, что сказать. Волновался, как неопытный юноша. Потеребил длинный темно-лиловый галстук; вытащил из кармана часы, но забыл посмотреть на них; зачем-то заглянул под стол. Потом вдруг сорвался с места и принялся угощать Веру.
Она почувствовала, что ей хочется есть. Если бы сейчас домой попала, разыскала бы чего ни есть в прикрытой русской печи, – щи, еще теплые, – или в столе на кухне, – хоть хлеба кусок, – или в погребе, – молока. Теперь ей было приятно есть совсем не похожее на щи, гречневую кашу, пирог с ливером, студень из телячьих ножек, селедку, простые домашние снеди, а все то вкусное и разнообразное, что подкладывал ей Горелов, то и дело меняя для нее тарелки. Может быть, и потому, что еда отодвигала другое, главное, для чего она пришла сюда и что было совсем не то, зачем пришел сюда Горелов.
Но ведь Горелов вправе думать о ней, как хочет. Ведь она таки пришла к нему и этим дала ему повод приписывать ей те свойства, которых в ней не было, но которые ему сподручны. Как знать, может быть, и в самом деле вместе с соками господских кушаний войдут в нее тонкие отравы, которые делают одних людей забавою для других. Горелов это знает и подходит к ней смело и просто: забавляй, мол, и вся недолга. С барышнею своего круга он был бы гораздо осторожнее. Другой был бы подход.
74
Эти мысли были неприятны Вере. Будили в ней злость, взращенную трудною жизнью, разожженную разговорами и книжками. Вера сказала почти резко:
– Вкусно все. Сразу видать, дорогое. Мы такого и не видывали. Как и назвать, не знаем. Поделились люди по-братски: одни много работают, другие вкусно едят.
Верин голос звучал слишком громко для небольшой комнаты. Она почувствовала это и кончила тише:
– То-то вот и сказано: люди братья.
И почему-то припомнила при этом девочку, дочь Разина, ее милую и наставительную речь.
Горелов отвечал беззаботным голосом:
– На всех не хватит, Верочка. Да не всякому и по носу. Ты – красавица. Захочешь, богато будешь жить, красиво одеваться, вкусно есть, сладко пить.
– Только о том и думать! – пренебрежительно сказала Вера.
Темно-синие обои, глубокие синие тона драпировок и голубовато отраженный от потолка рассеянный свет успокоительно действовали. Вино, холодное и сладкое, навлекало тоже спокойные, дремотные настроения. Вера подумала: «Так вот и приманиваются дуры!» Другие, не она. В ней над успокоенностью, навеваемою темностью обстановки, все время возносилось раздражение. Будоражились нервы сплетением тревожащих запахов, – тонкий дым дорогой сигары, испарения пряных, изысканных яств, дыхание белых роз в высоких узких кувшинах, – все это беспокоило, злило Веру. Волновало и то, что все это, что должно быть во власти человека, это, купленное на деньги, так на нее действует, как будто имеет власть над ее душою. Она казалась себе уже зараженною, заболевающею. Захотелось сбросить с себя поскорее власть этого злого очарования. Для нее в той игре, которую она здесь затеяла, не могло быть отдыха и передышки.
Остро и внимательно посмотрела Вера на Горелова и спросила:
– Зачем вы меня позвали? Вы хозяин, я – работница, вы университет прошли, я – двуклассную школу кончила. Что нам с вами?
Горелов говорил разнеженным голосом:
– Уж больно ты хороша! Как увидел я тебя тогда в лесу, мила ты мне стала, не могу сказать до чего.
– Вы меня совсем не знаете, – говорила Вера, – раз увидели, влюбились. Поиграете мною и бросите. А у меня жених есть.
– Жених – не муж, – отвечал Горелов. – Сегодня милый-хороший, завтра прощайте – до свиданья, – очень даже просто.
75
Вера засмеялась. Сказала:
– Ну вот я пришла. Любопытно было знать, что-то вы мне говорить будете. Как богатые господа про любовь объясняют, – занятно слышать. Поди, и жить без меня не можете? Только и радости в жизни, что я?
– Не смейся, Вера! – крикнул Горелов. – Ты сама сюда пришла, а теперь мы здесь с тобою одни.
Почувствовал, что сказал лишнее. Не знал, как поправить. Держал себя за галстук и натянуто улыбался. Прошла медлительная минута молчания. Вера спросила очень тихо:
– Не боитесь?
И отвела взор в сторону, точно спрятала от Горелова слишком мрачный огонь глаз. Горелов спросил:
– Чего мне бояться?
И захохотал. После тяжелых волнений последних дней теперь ему стало легко и приятно. Вначале, когда он только что увидел Веру, от волнения стало трудно дышать и сильно кололо сердце. Теперь спокойная близость Веры обратила его волнение в глубокую радость, а холодное вино разлилось веселостью по всему телу и делало ровною и сильною слегка ускоренную работу сердца.
Выждав, когда Горелов перестал хохотать, Вера тихо сказала:
– Может быть, я нож принесла.
Горелов беззаботно и весело спросил:
– Ой ли? зарезать меня хочешь?
– Не вас, себя, может быть, зарежу, – все так же тихо говорила Вера. – Враг всегда готов завладеть душою, близко стоит, змеиные речи шепчет, – долго ли до греха? Бога, скажете, вспомнить надо? Так ведь я – заклинательница змей. А когда со змеем переведаться захочешь, так «Отче наш» читать не приходится. Не одолеешь змея, сунет нож в руку, всадишь себе в сердце.
Горелов нахмурился и с удивлением смотрел на нее. Вести печальные разговоры, – разве он затем сюда пришел? Он сказал:
– Я тебе ничего худого не сделаю, зачем тебе резаться? Меня полюбишь, на всю жизнь счастлива будешь.
Вера засмеялась и смотрела на Горелова вдруг засверкавшими глазами.
– Слышала я от кого-то, что в старые годы такие купцы были, – навезут им из Индии слишком много рису, или корицы, или кофе, так они половину товара, а то и больше возьмут да и сожгут, чтобы цена не упала. Вот так купцы были! Сами свой товар жгли, только бы его по дешевым ценам не пустить в продажу, – а то, пожалуй, и беднота привыкнет к заморским сладостям, потом из-за дорогого кофе шуметь станет.
– К чему это ты? – спросил Горелов, улыбаясь ее веселым глазам.
– А к тому, – отвечала Вера, – что и я как такой купец. У нас, бедных девушек, товар – девичья честь, а у иных из нас и более редкий товар – красота. Пожалуй, иногда и неплохо товар уничтожить, чтобы цена ему была выше.
Засмеялась и смотрела на Горелова упоенно-дерзкими глазами. Горелов взволнованно заговорил:
– Твой товар и так дорог. Все за него отдам, ничего не жаль.
– Как в песне поется? – смеючись, сказала Вера.
И пропела:
«Все отдам, не пожалею, Буйну голову отдам», – Раздается голос звонкий По окрестным берегам.А потом дразнящим голосом:
– Так ведь то разбойничья песня, Стенькина, не купеческая. Про нашего брата поется.
Горелов говорил:
– Ты пойми, красавица, – для чего мы на свете живем? Для счастья, для радости. Милее радости, счастья ничего нет на свете.
Он говорил это так убежденно и наивно, точно первый раз в жизни изведал это простое влечение к простой радости. Вера низко опустила голову и сказала:
– Счастье – радость! Есть еще счастье – крест! Взвалишь на плечи да и не знаешь, донесешь ли. А донести надо, нельзя бросить. И не знаешь, Христов это крест или беспятый озорничает. Голова закружится от такого счастья.
Горелов кричал:
– Ты головы-то не вешай. Пей, красавица, пей!
И торопливо, проливая золотое вино на белый снег скатерти, долил ее бокал, пока усталая пена, слабо шипя, не сравнялась с краями.
76
– Иван Андреевич, – вдруг сказала Вера, – а ведь у вас жена есть.
– Я ей дам развод, – сказал Горелов. – Я ее не стою. Она – хорошая, славная, добрая. Я весь век ее обманывал. Легкое у меня сердце, изменчивое. Люблю красавиц и теперь, как в молодости.
Вера нахмурила тяжелые брови. Сказала:
– Других бросали и меня бросите.
– Ну что ж, что бросал! – отвечал Горелов. – На меня ни одна пожаловаться не может, ни одну не обидел.
– Бросили, вот и обида, деньгами не искупишь, – возразила Вера.
– Ты у меня будешь последняя, – сказал Горелов.
Сказал и задумался, словно завороженный печалью своих же слов. С минуту посидели молча. Потом Вера заговорила с непривычною для нее медлительностью:
– Иван Андреевич, на днях вы мне дали золотую монету. Думаете, я ее сберегла? Нет. Она теперь там лежит, на дне Волги.
Вера повела головою и рукою в ту сторону, где слышалось далекое пыхтение буксирного парохода. Горелов посмотрел на нее внимательно. Удивление мелькнуло на его лице и тотчас же сменилось выражением спокойного понимания. Он сказал:
– Да, ты – царица. Что тебе эта монетка! Я тебе все отдам.
Вера усмехнулась. Сказала:
– У вас есть дети.
Горелов ударил кулаком по столу. Гневно крикнул:
– Николай от меня копейки не получит! Я его знать не знаю, и мне до него дела нет.
– Как же сыну-то родному ничего не дать! – с легкою усмешкою сказала Вера.
Горелов гневно говорил:
– Он у матери денег вымогал на пьянство, на непотребство, – ну да не в этом мне его винить, а вот что гнусно: мать ему денег не дала, так он ко мне пришел, на родную мать донес, так о родной матери говорил, как самый последний человек, самый пропащий про мать свою запнется сказать. Мерзок он мне! Не хочу о нем думать, ему свое добро оставлять. Пусть сам себе добывает деньги, как знает.
– А Милочка? – с тою же усмешечкою спросила Вера.
Весь гнев сник с души и с лица Горелова. Его глаза стали веселые, и улыбка ласкова. Он погладил Веру по руке и сказал разнеженным, умиленным голосом:
– Что Милочку вспомнила, спасибо. А только Милочке денег не надо. Она все раздаст. Я ей пожизненную ренту оставлю, чтобы жила – не нуждалась, а раздать денег не могла бы. И Любови Николаевне тоже. Умру, – все твое будет. Только теперь полюби меня.
77
Вера покачала головою. Промолвила со странным, несколько диким воодушевлением, – как бы отголосок того волнения, там, в лодке, с ним:
– Я бы вам эти слова сказать должна! Вы меня полюбите, вы мне поверьте, вы сделайте все, что я захочу!
– Я с тобой не торгуюсь, Вера, – гордо, страстно и наивно отвечал Горелов. – Бери что хочешь. Хочешь, сейчас тебе чек напишу на миллион?
– Мне ничего не надо, – сказала Вера. – Ни копейки не надобно. Но вы все-таки все должны отдать. Не мне, вашим рабочим. На них подпишите завещание, тогда со мною что хотите делайте.
Она сказала это спокойно, почти холодно. Но Горелов зажегся радостью и восторгом. Бросился к ней.
Она отстранила его суровым взором и движением руки. Встала с места. Сказала:
– Я полюблю вас за эту щедрость. А теперь что вы от меня можете хотеть? Ведь мы с вами и не знаем друг друга. Сделаемте вместе хоть какое-нибудь дело. Это будет доброе дело, если вы так напишете завещание, что ваши фабрики, дома, деньги, все перейдет к вашим рабочим. Сделайте это как можете скорее и потом завещание отдайте мне. А для жены и для Милочки оставьте пожизненные пенсии, чтобы рабочие им выплачивали.
Замолчала и смотрела на Горелова. Он взял свой бокал, допил вино. Спросил:
– А ты? А тебе?
Вера усмехнулась. Сказала:
– Мне ничего не надобно. Я ничего не возьму. Только лист бумаги, – больше ничего.
– Ну и девка! – бормотал Горелов. – Приказывай, и больше никаких. Однако товарищи тебя обжулят.
– Это – их дело, – спокойно возразила Вера.
– Им пальца в рот не клади, – говорил Горелов. – Да и как ни верти, что на твою долю останется? Сущие пустяки.
– Это – мое дело, – так же спокойно возразила Вера. – Да и не так уж мало.
– Будто не мало? – спросил Горелов. – Уж не сосчитала ли сколько? Как, копейками счет вести надобно или сразу миллионами?
Вера обвела глазами уют и роскошь здешнего покоя и сказала:
– Вся прибавочная стоимость нам останется.
Горелов захохотал.
– Нет, красавица, – весело закричал он, – прибавочную стоимость только настоящий хозяин взять умеет. У товарищей она дымом по ветру развеется. Развалят дело твои товарищи. Но ты не сомневайся, – сделаю, как хочешь.
78
Горелов потянулся с бутылкою, налил Вере вина, но Вера отодвинула бокал, решительно поднялась из-за стола и сказала:
– Ну, я пойду. До свиданья, Иван Андреевич. За угощенье спасибо, за ласковую встречу – втрое.
Протянула Горелову руку; улыбнулась так ласково, точно солнце взошло, спросила:
– Когда за бумагой-то приходить?
Горелов побагровел, задрожал, вскрикнул отчаянно и наивно:
– А сегодня-то разве так и уйдешь? Хоть бы раз поцеловала, чтобы мне крепче помнить.
Вера покачала головою.
– В тот раз, – сказала она. – Теперь домой надо. Вернуться, пока мама не проснулась. Она думает, что я с женихом по Волге покататься ушла. А я вон куда залетела, – в высокие хоромы. Когда прийти?
Горелов мрачно смотрел на нее. Да уж видно, она не уступит. Что раз сказала, на том и стоит. Он сказал:
– Будь по-твоему, Вера. Вот в городе у нотариуса побываю. Потороплю, как можно. Когда будет готово, скажу через Шубникова. Или нет, что его лишний раз путать.
– Да, лучше без господина инженера, – сказала Вера. – Вы так мне знак подайте.
– Хорошо, – отвечал Горелов. – Вот мы как сделаем. Пока завещание не будет готово, я на фабрику и не загляну. А тогда приеду на фабрику, пройду по всем отделениям, – в ту ночь ты сюда и приходи.
Вера молча наклонила голову и пошла к выходу. Горелов шел за нею; непривычная для него робость сковывала его, и он ждал, что вот она повернется к нему, засмеется и поцелует его. Он смотрел на нее жадными глазами. На пороге она приостановилась, посмотрела на него. Он вздрогнул, и глаза его призакрылись, словно их ослепил солнечный свет. Стройная и высокая, она стояла, как царица, переодетая, развенчанная, забывшая сама свое помазание, но не забывшая каждым своим движением опрокидывать чахлую мечту о равенстве людей. Горелов перед нею казался неуклюжим толстяком, настоящим плебеем. Она опять пожала его руку сильною, теплою рукою и сказала:
– Ну, так буду ждать. Смотрите, не обманите. А не то я со дна Волги ваш золотой достану и вам его принесу. Приду ночью с мокрыми косами, холодная да зеленая, скажу: «Ну вот, теперь берите меня даром». Только вы тогда, пожалуй, не обрадуетесь.
– Злая ты, Вера! Зачем так шутить? – с упреком говорил Горелов. – Я что сказал, то сделаю. Ты меня не обмани.
Вера вышла на крыльцо, окунулась в теплую лунную ночь, спустилась на дорожку. Походка ее была тяжелая и звучная, точно тяжесть роковая огрузла на ее плечах, загорелых, солнечных, желанных. Горелов шел за нею. Говорил:
– Ах, Вера, Вера, кто тебя создал, Бог или черт?
Вера засмеялась, оглянулась на него, сказала весело:
– Видно, оба поработали немало. Один-то из них посильнее бывает, что один натворит, то все другой на свое переставит. Потому и говорят добрые люди: вражье лепко, да Божье крепко. А злые люди знаете как говорят?
– Как? – спросил Горелов.
Спросил только потому, что она замолчала. Вслушивался не столько в слова, сколько в золотые звоны голоса. Вера отвечала:
– Злые люди говорят: дал Бог денежку, а черт дырочку, ушла Божья денежка в чертову дырочку.
Ах, что все его деньги, фабрики, дома, экипажи, сады, – все, нажитое годами! Все бы отдал, бросил бы черту в пасть, только бы обладать телом и душою красавицы. Но темна, темна душа, надменно закрытая, – и уж впрямь, не адом ли она порождена ему на погибель? Но и погибнуть не страшно, только бы взять ее хоть на минуту. Хоть на час, – больше ведь ничего и не нужно усталому сердцу. Вот и теперь оно опять тяжело бьется в груди, и точно кто-то жестокий нет-нет да и кольнет его острым концом ножа, – вот, кажется, ударит посильнее, и конец.
Горелов бессильно опустился на скамейку. Смотрел, как в предутреннем неясном свете уходила, мелькая белою одеждою, Вера. Прислушивался к ее внятной походке и к скрипу песчинок под ее ногами. Сквозь тяжелое биение сердца услышал, как заскрипели блоки, как стукнула об устой настилка моста, как щелкнул затвор замка в калитке. Улыбнулся слабо, – догадался, что Вера высмотрела весь хитрый механизм. Потом кое-как дотащился до приготовленной в домике постели. Так был углублен в себя, что не обратил внимания на лампы в столовой, – и электрический равнодушный свет всю ночь ровно лился в оставленную людьми комнату.
Снимая жилет, Горелов нащупал стеклянную трубочку с бромуралом. Проглотил одну за другою три таблетки, лег и пролежал в тяжелом полузабытьи несколько часов, до позднего утра.
79
Светало. За Волгою, побледневшая на западе низко, стояла луна. Трава и кусты нежились в росе холодной, упруго осыпавшей каждый листок. Вера осторожно спустилась к ручью. Кто здесь мог встретиться в этот ранний час? Дорога в город шла гораздо выше. Но Вера чутко прислушивалась. Не думала, – так просто знала, что будет встреча, которой теперь не надо. Избегала этой встречи с бессознательною осторожностью лесного зверя. А в воображении становился все яснее образ жениха, – любимый, и такой теперь страшный, и от этого еще более, до боли сердечной, любимый.
Но что ж ей делать! Ведь теперь уже она не принадлежала себе. Загадка жизни, которую она разгадала вот так, вынуждала ее до конца пройти всю сеть созданного ею лабиринта. И то, что еще вчера было только ее замыслом, ее волею, ее мечтою несбыточною, вот такою, как если бы ребенок захотел взять луну с неба, – это теперь овладело ею, как чужая властная воля, и ведет, и не отпустит. Заклинательница сама зачарована, и никто ее не расчарует. Луна, склоняясь и убегая, ворожит над нею и напоминает ей предсказание знающего, белую заворожившего чаровницу нагую.
Мечта, которая еще вчера была случайною гостьею причудливой души, в это медленно светающее утро, под этим жемчужно-голубым, опалово-побледневшим небом, стала чудовищною химерою и угнездилась на ее плечах, – о, эти плечи крепки и сильны! – и под настойчивый шепот яроглазой, стремительнокрылой химеры возрастают буйно ее надежды, ее желания, но и ее страхи. Потому что и сильная душа умеет бояться, и, может быть, даже сильнее, чем слабая, – слабая гасит огонь грозы в слякоти слез, сильная испепеляется.
Предчувствие Веры скоро сбылось. По ту сторону ручья раздался невнятный шорох. Вера быстро подалась назад, опустилась на редкотравную сырую землю за кустом, охватила колени руками, слушала. Да, шел кто-то. Вера, пригибаясь лицом к коленям, смотрела из-за ветвей. В неясном свете двигался из кустов сверху кто-то длинный и тонкий, – он.
Он спускался по тропинке в слегка туманившуюся ложбину, неловко задевая сутулыми плечами кусты. С веток сыпались на него крупные капли росы, и он поеживался, когда роса падала на его лицо, но, по-видимому, не примечал росиных брызгов и холода росного. Подошел к самому ручью. Постоял, огляделся во все стороны. Лицо неясно видно было Вере, но во всех движениях пришедшего сказывалась растерянность, простодушное недоумение.
Милый, милый! Выйти бы, засмеяться, разговорить, утешить. Вера знала, что сумеет сказать слова, которым он поверит. Да как выйти? Ведь он может заметить, что от нее пахнет вином.
Вере хотелось и плакать, и смеяться.
Вот он пошел вниз, к Волге, сутуля плечи, неловкий и смущенный. Что ж, так всю ночь и проходит? И потом прямо на работу? Нет, во что бы то ни стало надо идти к нему. И неужели она боится? А если боится, разве нет в душе человека хитрости и на языке лукавых слов, сладких, обманчивых и чужому слуху невинных, чистых, как вода в ручье текучая?
Вброд не идти, – зашумишь, заплещешь. Да и близко, может увидеть. Там повыше есть мост через ручей. Вера проворно поднялась, перешла через мост, потом сбежала к берегу, опустилась на колени на влажную глину и редкую колючую траву и приникла губами к воде. И тогда вдруг почувствовала, как ее губы горячи и сухи.
Близко от ее глаз бежали чистые, прозрачные, холодные струи. Бежали, смеялись. Ее голова слегка кружилась, и от этого Вере казалось, что и она несется в каком-то легком потоке. Вдруг почувствовала она себя легко взвешенною вещью, уже не собою, легкою, легкою вещью, с которою кто-то сильный сделает все, что захочет.
80
Вера неторопливо вышла на тропинку и спустилась к берегу. Соснягин шел обратно, понуро глядя себе под ноги, приподнявши худые, широкие плечи. Вера остановилась, окликнула его:
– Глеб!
Он поднял глаза. Остановился перед Верою, удивленный. Спросил:
– Ты откуда, Вера?
Голос его звучал глухо, и глаза блестели остро. Лицо казалось вдруг осунувшимся и побледневшим. Вера отвечала вопросом:
– А ты откуда? Я-то над ручьем сидела, на луну неживую глядела, змеиный шип слушала да сказки змеиные хитрые.
– Какие сказки? – хмуро спросил Соснягин. – Заснула, что ли, под кустом?
– Может быть, и заснула, – улыбчиво ответила Вера. – Приползла змея, говорит мне, что три тысячи лет тому назад я была рабою в земле Египетской, куплена была золотом и плясала перед господином среди змей шипящих и жалящих. Шесть лет рабою была, на седьмой год подарил мне господин много скота, и хлеба, и вина, и отпустил на волю. А на что мне подарки господина? Продала, купила себе тканей сидонских, и нарядов, и масла благоуханного, и дом купила. Каждый вечер на порог выходила, друга милого ждала, тебя, Глебушка. До восхода солнца просидела бы, домой идти не хотелось, да шаги твои услышала, ушла от ручья, от змеиного шипа.
И думала: «Ушла, да недалеко. Ушла, да ненадолго».
Соснягин пристально смотрел на Веру. Самые разнообразные чувства сменялись в его душе, бросая его от светлой радости к темному недоверию. Не мог разобраться в своей душе, – все в ней было раскидано, как в неубранной горнице, где похозяйничал чужой, проказливый, без хозяина, и все внешние впечатления рождали только неясные и глухие отзвуки. Он сумрачно сказал:
– Я думал, ты домой побежала. Пошел за тобою, нигде тебя не видел. Побоялся, не случилось ли с тобой чего. Всю ночь по лесам прогуливаться, – а что мать подумает?
Вера усмехнулась. Сказала:
– И правда, пора домой идти. А мама спит. Знает, что я с тобою, и не тревожится.
Взяла Соснягина под руку и пошла с ним вверх по узкой тропинке. Тесно к нему прижалась. Говорила:
– Без тебя и домой идти не хотела, – хотела, чтобы ты меня поискал за кустами, верила, что придешь за мною.
– Я мог бы и не прийти. В прятки играть и днем можно, – сурово сказал Соснягин.
Вера еще теснее прижалась к нему. Улыбалась дразнящею улыбкою, грешною. Говорила нежно, звонко и ласково, будя ночную, лесную дремоту:
– Играешь, пока играть хочешь. Хочешь, веришь, – вот и играешь. Так вот, миленький дружочек!
Сурово хмурились брови Соснягина, но сердце его уже было разнежено любовью и ласковою жалостью к Вере. Он думал, что она мечется и тоскует, охваченная огнем еще не удовлетворенных желаний.
«Чего мы валандаемся! – думал он. – Сходить к попам, окрутиться, да и дело с концом».
И сказал:
– Чего ждем, Вера? Всегда чего-нибудь не хватать будет. Всего не прикупишь. Венчаться надо.
– По мне хоть завтра, – отвечала Вера, – маменька все придумки придумает, того нет, другого не хватает.
– Не знаю, чего ей тянуть, – сказал Соснягин. – Ведь я уж говорил ей, что согласен в ваш дом перейти. У меня же никого нет.
– Боится, что опять раздумаешь, – возразила Вера.
Соснягин сердито нахмурился.
– Раз что я сказал, так и сделаю. От своего слова пятиться не стану.
Когда вошли в лес, Вера оставила руку Соснягина и пошла быстро, почти побежала.
– Спать очень хочется, – сказала она, – утром вставать надо рано, уж немного ночи осталось.
81
Горелов проснулся в домике позже обыкновенного, часов в десять утра. Чувствовал себя тяжело и томно, во всем теле усталость, глаза отяжелелые. Нервно позевывая, он вошел в столовую и досадливо посмотрел на все еще горящие лампочки, днем такие нелепо-бледные, такие зловеще-печальные. Он поспешил погасить свет и торопливо отправился домой. Могло показаться, что он возвращается с утренней прогулки. Ни на фабрику, ни в контору он не поехал и дела все, с какими приходили к нему, отложил до завтра. Сидел один в своем кабинете и раздумывал.
Два дела надобно было наладить как можно скорее, развод и завещание. Противно было, что с этими делами придется обращаться к людям, говорить с адвокатом о разводе, с нотариусом о завещании. Притом неудобно приглашать их сюда, – заговорят в городе, зашевелятся нелепые слухи. Станут спрашивать:
– С кем Горелов судится?
Станут говорить:
– Богатым все мало. Еще что-нибудь хочет себе отсудить. За деньги адвокат все повернет в его сторону.
Придется ехать в город, самому, это будет не так заметно.
Прежде всего, думал Горелов, надобно уладить дело с завещанием, – еще умрешь в одночасье от всех этих волнений неожиданных, то сладостных, то горестных, но равно утомленному сердцу тяжелых. Умереть не страшно, пожил вовсю, насладился жизнью. Но перед смертью упиться поцелуями златокосой, златоголосой, пламенноокой заклинательницы змей, – последние желания насытить ее нежными и коварными ласками, горьким и сладким медом ее надменной души, благоуханнейшей аромата роз и злейшей змеиного жала, – разрезать сплетенные жизнью тугие сети, – и уйти спокойным и свободным. Нет, смерть не страшила. Только сердце порою замирало, и весь день томила тоска.
Весь день дул ветер с юга, из-за Волги, влажный, теплый. Тучи то заволакивали безмерно-светлую голубизну неба, то разбегались, и солнце, медленно огибая высокую дугу за Волгою, точно играло в прятки. Утомляло глаза постоянное качание листвы, веток и древесных вершин, это беспокойное порывание все на том же месте, как трепыхание связанными крыльями. Было душно сидеть с закрытыми окнами, а как только откроешь окно, ворвется неумолчный, надоедливый шум рощи да крики неуемных ворон. И весь день Горелов то откроет окно, то опять закроет.
Перед обедом он сказал, чтобы попросили к нему Любовь Николаевну. Она пришла тотчас же, точно ждала зова. Ее простого покроя белое платье, перепоясанное широкою и гладкою лентою ампирно-зеленого цвета, казалось внятным нарядом печали, утешаемой милою надеждою.
Посидели молча. Горелов хмуро усмехнулся и сказал раздумчиво и негромко:
– Жила ты, Люба, за мной, как в сказке сказывается, неразумная баба за медведем. Да вот, видно, пришел час расплаты. Не бойся, не вовсе медведь, не съем. За все, что было, я тебе крепко благодарен. А за ошибку прости. Поправлю. Дам развод. Моя вина. Будешь свободна, будь счастлива. Меня лихом не поминай.
Любовь Николаевна заплакала, встала, подошла к мужу. Он обнял ее, посадил рядом с собою на широком, привычном диване. Почувствовал, что из его глаз текут слезы. И не старался удержать их.
Сидели обнявшись, и плакали, и казались оба одинаково жалкими, старыми, не нужными жизни. А за открытым окном гудел теплый, тревожный ветер, набежали желтовато-серые тучи, недолгий, торопливый дождь шумел по крыше. Быстрое падение дождя казалось Горелову похожим на поспешные звуки беготни босых фабричных ребятишек, которые зашумят здесь скоро. Чудилось ему крушение той жизни, которою он жил, забвение всех истонченностей художества и культуры и вторжение жизни первобытной, дикой, простой, грубой и по-звериному здоровой. В рассеянном, бессолнечном свете все здешние предметы, все привычные, были упоены тоскою и знали, скучные, обычные, всегдашние, что вот так все кончается.
82
На фабрике шел смутный говор о Вере. Говорили об ее встрече с Гореловым в лесу, о подаренном ей золотом. Иные хвалили, что она бросила золотой в воду. Другие этому не верли. Но самое Веру об этом мало кто спрашивал. Кое-кто из товарищей начинал поглядывать на Веру с тупою угрюмостью или с недобрым, жадным любопытством. Все это заставляло Веру быть иногда особенно резкою. На редкие вопросы уж очень любопытных она отвечала так дерзко и насмешливо, что отбивала охоту и у других спрашивать ее. Скажет любопытный:
– Уж больно ты занозиста, Вера.
Да и отойдет под смешки товарищей, – толпа всегда, хоть на миг, становится на сторону дерзкого и бойкого на язык.
Казалось Вере, что здесь нет ни одного человека, который мог бы ее понять, который захотел бы ее простить, – но, гордая, никому и ничего она объяснять не стала бы. Она была здесь одна, как плененная в обширном Илионе Елена, и так же чувствовала иногда, что вот один только неосторожный шаг, и она будет ненавистна всем этим людям.
Иногда до Вериных ушей долетали такие словечки:
– Не на таковскую напал, – отскочит.
– Она его отошьет.
– Очень даже просто.
– Живым манером.
– Нет, он своего добьется. Не откажется.
– Одного золотого мало, так он ей насыплет, будет довольна.
– Чего не насыпать! Нашими трудами нажился, толстопузый, насосался.
Заинтересовался этими разговорами и поселившийся у Карпуниных Сергей Афанасьевич Малицын. Улучив такое время, когда Анны Борисовны дома не было, Малицын завел разговор с Верою, осторожно подводя к ухаживанию Горелова. Спрашивал:
– Хозяином вашим, как у вас на фабрике, довольны?
– Мы с хозяином дела не имеем, – отвечала Вера. – Хозяин если и придет, так только пройдет по фабрике и сейчас же в контору уходит. Иногда и в глаза не увидишь, только спина широкая в узкую дверь втешется.
– Ну, однако, говорят, – продолжал Малицын, – что он плантаторские наклонности не прочь проявить. На смазливеньких засматривается. Правда, или так просто врут?
Малицын говорил это с таким лихорадочным, слегка чувственным возбуждением, с каким говорят о гнусностях и прелестях разврата пожилые люди, не вкусившие до пресыщения его приторных сладостей.
Вера засмеялась. Видно было, к чему речи клонит Малицын. Рассказала ему подробно, с видом простодушной откровенности все, о чем уже давно болтали в слободке Иглуша с Улитайкою. Ведь им не запретишь, не упросишь. А и упросить бы, так еще хуже: шептали бы по секрету.
Малицын слушал с большим вниманием, но, однако, старался скрывать свое любопытство: курил, смотрел с видом задумчивости на желтовато-синий дымок от папиросы, покачивал ногою, бормотал:
– Так, так! Ну конечно! Да уж это они всегда так! Дело известное. Что ему стоит золотой выбросить!
Но, когда она кончила, на его лице довольно явственно изобразилось разочарование. Как будто все около глаз морщинки собрались в один знак вопроса, – только-то? Не утерпел, спросил:
– Ну, а дальше что же?
– Да ничего, – отвечала Вера.
– Деньги вы напрасно бросили, – кислым тоном выговорил Малицын, – их надо было отдать к нам в кассу.
Вера молча усмехнулась и повела плечом.
– Ну, а господин инженер Шубников? – продолжал спрашивать Малицын. – Удочки вам не закидывал? С намеками, с обиняками не обхаживал? Помните, мы его встретили на вашем огороде, когда я к вам первый раз пришел? Господин Горелов, по-видимому, загорелся страстью нежной, – а ведь все эти господа, эксплуататоры и паразиты, очень любят пользоваться посредниками.
Вера отвечала, смеючись:
– Ну, мало ли что они любят! А я моего Глебушку люблю и никогда ни на кого не променяю. Да и что мне за компания хозяин?
Заговорила о другом, оборвала разговор, вспомнила, что надобно куда-то очень спешно бежать, и ушла. Но видела, что Малицын что-то соображает и из разговоров о ней и о Горелове намерен сделать полезное употребление. Оно и кстати было – на фабриках шло глухое брожение, готовилась забастовка на экономической почве. Новая любовная авантюра Горелова, опять история с фабричною работницею – лишний повод для того, чтобы взвинтить раздражение рабочих, всегда готовое вспыхнуть, но и всегда задавленное тяжелым грузом боязливых сомнений и житейских тягот.
83
В тот же вечер Малицын говорил Вере и ее матери:
– Товарищи ваши начинают понимать. То, что вам платит фабрика, вы отрабатываете меньше, чем в восемь часов, а работаете вы на господ Гореловых больше, чем восемь часов. Вот на эту-то разницу господа Гореловы со своими прихвостнями и ведут роскошный образ жизни. Ничего сами не производят, а объедаются рябчиками и ананасами, пьют шампанское, икру да балычок кушают и на ваши же деньги покупают себе любовниц, иногда из вашей среды.
– Они ученые, – сказала Анна Борисовна, – за свое знание лишнее получают. Мы фабрик строить не умеем, да и управлять ими не знаем как, не нашим носом мух ловить, потому и приходится на чужих работать.
Досадливо поморщился Малицын. Добрый был человек, но старый учитель, а учительская привычка – не терпеть возражений. Он сказал наставительно:
– Так рассуждать – это значит за деревьями леса не видеть. Пролетариат должен сознать свою собственную силу. Что такое интеллигенция, инженеры, адвокаты, врачи? Люди, которые своими знаниями служат всякому хозяину. Гореловы владеют не наукою, а орудиями производства, – разница! Наука у них наемная. Ученый у них – господин инженер Шубников. Правда, вся современная наука буржуазная, но это потому, что пока еще нет для нее другого хозяина и заказчика. Переменится хозяин, повернется в другую сторону и наука. Все эти ученые господа станут всякому служить, кто им даст много денег.
– Ну, батюшка Сергей Афанасьевич, – возразила Карпунина, – бывает, что и лес мешает дерево разглядеть да оценить, какое чего стоит, а так все идет огулом. Не уравнял Бог леса, – так у нас говорят в простом народе. И в людях по человеку смотреть надо, кто чего стоит. Не всякий годится хозяином быть.
– Нет, мама, – сказала Вера, – Сергей Афанасьевич правильно говорит. Мы будем хозяева, так нам Шубников служить будет, да еще как усердно. Скажет: «Товарищи, интересы трудящихся масс мне всего дороже. Я сам – такой же работник и пролетарий, как вы, и мы с вами пойдем рука об руку к нашей общей светлой цели, к освобождению пролетариев всех стран от гнета эксплуататоров и паразитов».
Малицын насмешливо, – по адресу Шубникова, – рукоплескал и крикнул:
– Правильно, Вера! Так они все тогда заговорят, эти прихвостни буржуазии. Но мы еще разберем, кого брать, кого к сторонке отставить.
Мать смеялась, добродушно и ласково, как смеются старшие, слушая милые ребячливые мечтания детей с присказкой «когда я буду большой». Сказала:
– Больно прытки! Да когда же вы хозяевами-то будете?
Вера спокойно посмотрела на нее и сказала уверенно:
– Завтра.
– Да не больно ли скоро? – смеялась мать.
Малицын сказал внушительно:
– Завтра не завтра, для этого не все еще готово, но если только ваши товарищи поймут свою силу и захотят ее использовать для себя, а не для хозяев, то и довольно скоро.
Может быть, именно теперь самая пора приниматься за дело. Государство наше великое Всероссийское давно уж в воздухе висит, только само за себя и держится. Истинно самодержавие. Толкнуть хорошенько, все развалится, все в тартарары полетит.
– Народишко-то у нас темный, – сказала Анна Борисовна, с сомнением покачивая головою.
– Ну, отсталых ждать не приходится, – возразил Малицын. – Сознательные должны вести за собою темных.
Анна Борисовна опять засмеялась и сказала:
– Вот то-то и по вашим словам выходит, что неравны людишки: одни впереди идут, другие за ними плетутся ощупью, как слепой за поводырем. Только как бы поводырь слепым не оказался, а то оба в яму ввалятся.
Малицын возразил досадливо:
– Уж очень вы, Анна Борисовна, старым поговоркам верите. Надо не старое вспоминать, а новым жить.
– А старое? – спросила старая.
– А старое на слом.
– Все? – спросила старая, хмурясь.
– Все! Все начисто!
Малицын энергично махнул рукою, что не совсем шло к его хрупкой фигуре. Карпунина внимательно посмотрела на него, улыбнулась и замолчала.
84
Только Вере сказал Горелов о намерении лишить Николая наследства, больше никому. Вера тоже никому об этом не говорила. Да и кому скажешь? У Разина больше не была, довериться могла бы, пожалуй, только Ленке, да Ленки все эти дни не встречала.
А все-таки Шубников это знал. Знал все то, что знала и Вера, ни больше ни меньше. Теперь перед Шубниковым стояла трудная задача. Надобно было открыть это Николаю, чтобы знал Николай, какая грозит ему опасность и какого друга имеет он в Шубникове. Но не мог же Николаю сказать Шубников, что он подсматривал и подслушивал, забравшись на чердачок уютного домика. Нельзя было открывать секрета, который и впредь может пригодиться, да нельзя было и ставить себя в глазах Николая в положение человека, способного унизиться до подслушивания. Николай должен его уважать. Притом же Николай – такой человек, которому никак нельзя давать в руки оружие против себя: не задумается предать при нервом удобном случае, как не задумался бы сделать это при случае и сам Шубников: оба друг друга стоили. Николай может воспользоваться этим для примирения с отцом. Скажет, что его подстрекал Шубников, а в доказательство откроет секрет. Вывернуться Шубников, может быть, и сумеет, но, во всяком случае, навсегда утрачена будет возможность занятных наблюдений, – вечера на чердачке и сами по себе, кроме практической цели, давали Шубникову пряные возбуждения. Может быть, из-за этих поганых волнений Шубников главным образом и залезал на чердачок. Итак, секрет должен оставаться строжайшим секретом, известным только самому Шубникову.
На чердачок даже и лестницы не было: часто ходить туда незачем, а в кои-то веки раз и приставная пригодится. Проникнуть же туда Шубников мог двумя путями, оба были одинаково неудобны, и надобно было так и оставить их очевидно неудобными, чтобы не было никакого подозрения.
Один путь: в узком коридоре в потолке небольшой квадратный люк, только пролезть нетолстому человеку. Снизу люк совсем незаметен, да еще и в темном месте, в том конце коридора, где нет окна. Вечером голубые пятилепестные тюльпаны двух лампочек пропускали на потолок такой полосатый полусвет, что края люка надо было пристально искать, чтобы увидеть. В углу под этим люком высокий шкап с запасною на всякий случай одеждою, недалеко от шкапа – вешалка и небольшой стол, а около стола стул. Если стол передвинуть на другую сторону вешалки, к шкапу, а перед столом поставить стул, то это перемещение никому не бросится в глаза. Горелов, если и пройдет здесь, вряд ли заметит. А и заметит, не придаст значения. Такая комбинация предметов давала возможность Шубникову заблаговременно забраться на шкап, поднять снизу люк, влезть на чердак, опять опустить люк – для этих гимнастических упражнений Шубников был достаточно силен, ловок и нетолст. Преград нематериальных перед ним ни на каком пути не могло возникнуть: он был последовательный материалист, и сознание его всегда определялось бытием; способ, каким из данного в действительности становилась для него определенная форма действования, был простым соединением в мышлении.
85
Если бы случилось, что Горелов придет в домик внезапно и увидит упражнения Шубникова, у него было готово объяснение. Он сказал бы Горелову:
– А знаете, Иван Андреевич, меня этот люк в потолке серьезно беспокоит. Если кто-нибудь заберется в дом, так сюда очень просто спрятаться. Грабитель, а то и шантажист из товарищей. Я так думаю, что тут следует ввинтить два кольца и повесить замок. Так-то вернее будет.
Горелов посмеется над его чрезмерным усердием, найдет очень забавною самую мысль замкнуть замком потолок, но вот именно потому, что посмеется, он и не будет подозревать истины: подозрения рождаются в нахмуренных бровях, а не в улыбающихся губах.
Второй путь – через крышу и слуховое окно. На крышу взлезть по старой липе, которая росла у задней стены дома. Этот путь неудобен тем, что железо кровли гремит под ногами, если не ползти уж очень осторожно. Шубников испытал и этот путь, но для дела, – подслушивания, – еще ни разу им не пользовался.
На самом чердаке в полу Шубниковым устроены были два отверстия, для того чтобы видеть и слышать. Занялся он этим уже давно. Отверстия были проделаны снизу, в потолке столовой и спальни, и замаскированы в завитушках розово-голубой розетки лепного потолка. Сверху, чтобы случайно не сыпался мелкий сор с чердака и чтобы не видно было с потолка света, если в комнатах погасят лампы, каждый глазок был прикрыт гладко пригнанною дощечкою с колечком вверху. На чердачок вечером Шубников забирался с электрическим фонариком. Найдет при его помощи подходящий глазок, фонарик погасит, глазок откроет, приникнет к нему, смотрит, а больше слушает, – поле зрения было мало. Чтобы при таких занятиях не пачкалась всегда чистенькая одежда, на пол были брошены коврики; кстати, они прикрывали до прихода Шубникова глазки от всякого случайно пришедшего; коврики могли показаться заброшенными сюда за ненадобностью и ветхостью вместе с кое-каким еще хламом, обычным на всех чердаках. Шубникову же эти коврики помогали быстро найтись.
Всего этого открывать Николаю отнюдь не следовало. Шубников назвал бы сам себя олухом Царя Небесного, если бы это сделал. Надобно было выдумать другой источник сведений. И вот однажды утром Шубников отправился на пароходе в город. Вернувшись, скажет Николаю, что узнал новость от знакомого человека в конторе нотариуса. Чтобы ездить не даром, Шубников решил навестить Ленку: в теперешних обстоятельствах и она могла пригодиться.
86
В городе Шубников отправился в гастрономический магазин. Купил там вина, ликеров, закусок, фруктов, – до войны за небольшие деньги можно было накупить много всего этого. Подозвал извозчика, мальчик из магазина вынес тяжелую корзину с покупками, за что получил пятиалтынный, и Шубников покатил к Ленке. По дороге заехал в кондитерскую, купил конфет, пирожного и печенья, – сонохтяне любили поесть, и обжорное дело, ветчина, колбаса, печенья, варенья, соленья, сушенья, маринады, сласти – все это стояло на высокой степени совершенства и было очень недорого.
Ленку он застал дома. Она сидела на диване, поджав под себя ноги, и читала какую-то книжку. Солнце ярко светило сквозь кисейные занавески двух окон второго этажа. Ленкино золотисто-желтое платье на лиловой обивке дивана казалось ярким, солнечным. На ее тонких, длинных пальцах сверкали золотые колечки с яркими камешками. На груди приколота была светло-коричневая камея с белою головкою в профиль. Высоко в переднем углу в тяжелом киоте темнела из-за горящей ясно лампады темная икона. Чашка чаю стояла перед Ленкою на круглом столе, покрытом тонким шелковым платком сложного и наивного иранского рисунка, – зеленовато-золотистый фон, – разводы кирпично-коричневые, карминно-алые, шарлаховые, малиновые, травно-зеленые, бирюзовые, лазурные, млечно-белые, – золотистая кайма с трехрядною, того же цвета, чуть позеленее, плетенкою, разрешенною в длинную бахрому. Чай давно простыл, – Ленка увлеклась чтением. Когда Шубников постучал к ней в дверь, она подняла голову и как разбуженная смотрела на гостя из-за тесного снопа стоящих посреди стола в поливном зеленых тонов кувшинчике пестрых гвоздик, – малиновые сердечки, белые ободки.
Шубников с нелепыми гримасами и ужимками поставил свою корзинку на плетеный стул около двери, а пакет из кондитерской положил на круглый лакированный столик в углу. Ленка, не вставая с места, спросила с веселою улыбкою:
– Что-нибудь вкусненькое принесли? Зачем это вы тратились? Не на голодный остров пришли.
– И вкусненькое, Леночка, – отвечал Шубников, еще усерднее гримасничая, – и сладенькое, и выпить.
– Что ж, вы ко мне на побывашки пришли? – спрашивала Ленка. – Да что так рано? С утра вино пить я не привыкла. Еще грушу пожевать куда ни шло.
Но уже Шубников развязывал корзинку. Торопился сам это сделать, пока не позовет Ленка горничную, хотел взять веревку себе, пригодится. Он говорил:
– Дело к вам есть, Леночка, а за бутылочкой вина о деле веселей разговаривать. Позавтракаем, пропустим по стаканчику, сладким полакомимся.
– Уговорили, – сказала Ленка, – такой уж вы искуситель, что с вами всякие правила забудешь. Только очень-то на вино не налегайте, а то мама ворчать будет. Сняла, скажет, квартиру господскую, а живешь, как подвальная отеротница, с утра вином наливаешься.
87
Ленка встала, подошла к двери, крикнула:
– Диночка, накройте не в столовой, а у меня, – господин Шубников будет со мною завтракать.
– Надеюсь, что ваша уважаемая маменька… – начал было Шубников.
– Мама, кажется, собирается куда-то, – сказала Ленка, – я пойду, спрошу. И, во всяком случае, она позавтракает там, без нас. Она у меня застенчивая, с гостями не любит быть, к господскому обществу не привыкла.
Ленка вышла. Скоро явилась с посудою Диночка, горничная миловидная, хотя эстонка, накрыла на круглом столе на два прибора, помогла Шубникову расставить и разложить его покупки, хотела было взять бутылки откупорить, но Шубников сказал:
– Откупорю я сам, вы мне только штопор принесите.
Диночка широко улыбнулась, живо сбегала за штопором и ушла. За дверью слышался шепот, тихий смех. Шубников откупоривал бутылки.
Наконец Ленка вернулась. Сказала, закуривая папироску:
– А я думала, вы все эти дни на фабрике будете. Думала, все ваши дела там.
– Так оно и есть, Леночка, – отвечал Шубников, – я и к вам по фабричному, так сказать, делу.
– Вот оно что! – насмешливо протянула Ленка. – Только я так полагаю, что насчет забастовки со мною вам разговаривать нечего, не по моей части.
Шубников забеспокоился. Стукнул бутылкою о стол, чуть не уронил ее. Спрашивал тревожно:
– Какая забастовка? вы что-нибудь слышали?
Знал, что у Ленки много знакомых и друзей на фабрике и что она может знать многое. Забастовка была теперь особенно неприятна для Шубникова. Правда, она могла оказаться даже полезною, – для Николая, – Горелов от досады на рабочих, может быть, откажется от мысли передать им фабрику. Но наверное расчитывать на это нельзя было, могло случиться и наоборот, что Горелов вздумает теперь же с фабрикою разделаться. Но самое существенное для Шубникова было то, что забастовка угрожает ему лично. По многим признакам Шубников догадывался, что неприязнь рабочих к хозяину была гораздо слабее, чем их злоба к хозяйским прихвостням.
Ленка словно спохватилась, что сказала лишнее. Пожала плечами, отвечала спокойно и замкнуто:
– Что мне слышать? Вам ближе знать. Так, болтают в городе, что на гореловских фабриках забастовка будет.
– Да кто вам говорил? – допрашивал Шубников, крутя веревку и глядя на Ленку недоверчивыми, испуганными и злыми глазами.
– Слухом земля полнится, – неопределенно отвечала Ленка.
Но Шубников приставал с расспросами:
– Слухами! Скажите пожалуйста! Точно слухи сами по улицам прыгают да к вам в окошки вскакивают. Вы-то от кого слышали?
– Кто-то вчера на бульваре сказал, – отвечала Ленка. – Разве упомнишь? Мне-то и ни к чему. В одно ухо впустила, в другое выпустила. Только вот сейчас, вас увидела да про дело какое-то заговорили, вот я и вспомнила.
88
Шубников догадался, что Ленка чего-то недоговаривает и что слышала о забастовке она вовсе не на бульваре. Сообразил, что теперь от Ленки ничего не выведать, а вот выпьет, так, может быть, вино язык развяжет. Он сказал, притворяясь равнодушным:
– Я так думаю, Леночка, что все это – пустая болтовня, небылица в лицах. Нельзя верить всему, что на бульваре какой-нибудь кавалер сболтнет. Знают, что вы с товарищами знакомы, вот вам и рассказывают чепуху всякую. У нас нет никаких признаков забастовки. А такие вещи экспромтом не делаются.
Ленка глянула на Шубникова не то любопытно, не то насмешливо и спросила:
– И ничего рабочие не требовали?
– Ну, они всегда найдут, чего потребовать, – досадливо отвечал Шубников. – Капиталист налицо, есть с кого тянуть. И подстрекатели всегда найдутся, научат. Приходили ко мне на днях в контору два нахала, говорили, чтобы поденщиц считать постоянными работницами, ну да я их осадил. Ушли ни с чем, и больше никаких претензий не слышно.
– Да уж если бы что было, – говорила Ленка, – так вы бы оба сюда не пожаловали, а то и вы, и сам Горелов, оба в городе.
Этого Шубников не знал, но это не было для него неожиданным. Он подумал, что Горелов теперь у нотариуса. Вернее всего, что у Черноклеина, по дружбе и по привычке. А может быть, для большей конспирации, Горелов отправился к Невсееву или к Быстрову, с которыми обыкновенно не имел дела и у которых конторы помещались не на таком бойком месте, как у Черноклеина.
Шубников иронически искривил губы, сжал костлявою рукою свою козлиную бородку, чтобы она стала еще острее, изогнулся на стуле, положил высоко и остро ногу на ногу, локтем остроугольно оперся об острое колено, – всеми манерами придал себе такой необыкновенно мефистофелевский вид, что даже сам подумал: «Ну, для Ленки, пожалуй, слишком роскошно». И язвительным до козлиного дребезжания голосом спросил:
– А вы, Леночка, откуда об этом важном событии узнали? Сорока на хвосте принесла?
Насмешка подпущена была нарочно, чтобы подстрекнуть Ленку доказать верность сообщения. Но хитрость была излишня; Ленка не видела здесь никакого секрета и спокойно отвечала:
– Мама утром с базара шла, так видела, как Иван Андреевич к Волжско-Камскому банку подъехал в своей коляске. Кучеру что-то сказал, вошел в подъезд, а кучер куда-то поехал в город.
Так узнал Шубников, что ему было нужно: в том же доме на Горохваловой улице, где Волжско-Камский банк имел Сонохотское отделение, и даже в том же самом подъезде, помещалась контора нотариуса Черноклеина: нотариус внизу, банк наверху. Конторы других нотариусов были совсем в другом месте. Если бы Горелов приехал в банк, то вряд ли он отпустил бы коляску, – долго сидеть в банке ему не было причины: задерживать его в банке не станут и все, что ему понадобится, сделают быстро. Разговор же с нотариусом мог затянуться часа на два, и коляска была отправлена, чтобы не всему городу стало известно, где и как долго сидит Горелов. Вернее всего, что коляска отправлена в городской дом, откуда Горелов потребует ее по телефону, когда кончит у нотариуса. Горелов поехал не на пароходе, а в своем экипаже, – так было удобнее, спокойнее, скорее и меньше ненужных встреч и разговоров.
Все это Шубников быстро сообразил. Выяснившееся так бытие определило сознание: кончив с Ленкою, надо наведаться к Черноклеину и выведать что можно у знакомого клерка.
89
Диночка подала омлет, телятину под бешамелью, кувшин холодного молока с густым наверху слоем желтых, почти засметанившихся сливок и землянику мелкую, лесную.
– Роскошно живете, Леночка, – сказал Шубников.
Он был недоволен тем, что принесенное им – не единственное, а только дополняет Ленкин завтрак.
– Какая там роскошь! – отвечала Леночка. – Пожевать каждый день надобно, а то и ноги протянешь.
Завистливым взглядом окинул Шубников Ленкины золотые с камешками колечки на узких, длинных пальцах, золотой браслет цепочкой, брошку-камею. Спросил, усмехаясь едким, но к пороку благосклонным Мефистофелем:
– Подарочки от поклонников?
– Я – бедная девушка, – сказала Ленка, – мне покупать побрякушки не на что. Добрые люди иногда что и подарят на бедность. А вот спасибо, что напомнили. Невзначай, да кстати. Чуть не забыла, а нарочно с утра эту брошку надела, чтобы не забыть.
– А что такое? – спросил любопытный Шубников.
– Принес мне ее третьего дня Шкуратов. Я с ним не хочу водиться, что за удовольствие с женатыми! Здесь люди такие сплетники, купчихи такие жадные да ревнивые, еще ни за что жена кислотой глаза выжжет, потом адвоката-чистобреха наймет, реки слез на суде пустит, присяжные ее оправдают, публика ей цветы поднесет, а я останусь безобразная, всеми обруганная и вовсе нищая.
– Ну что вы, Леночка! – возразил Шубников. – У Шкуратовой не хватит на это смелости.
– Наймет кого ни есть, – говорила Ленка. – Продажных людей везде много, за сто рублей всякую пакость сделают. Да и сам Шкуратов очень малосимпатичный. Воображает себя красавцем! Вот-то уж на красавца не похож! Точно его из пшеничной голубой муки испекли, в печке подрумянили да белужьи глаза всунули.
Шубников сказал недовольным голосом, задетый тем, что какая-то Ленка туда же судит да рядит о мужчинах его круга:
– Уж вы очень разборчивы, Леночка! Шкуратов во всех смыслах хоть куда и малый умный.
– У себя в лавке, – возразила Ленка, – а разговоры-то его не так чтобы уж слишком бойкие. Ну, я от этой камеи отказывалась, а он навязал. Да еще рассказал, – вообразил, что мне это очень приятно будет, – что его жена видела эту камею у Грабилина. Понравилась ей, просила подарить, а он сказал: «Зачем кокетничала с Хоровичем? вот и не подарю». Потом купил, мне принес.
– Дорого заплатил, надо полагать! – сказал Шубников. – Грабилин и всегда лупил недешево, а как у него великий князь покупки сделал, так с тех пор он совсем осатанел. Оправдывает свою фамилию. Вам счастье, Леночка.
– Очень мне надо! – пренебрежительно сказала Ленка. – Я бы и совсем не взяла, да кстати догадалась, как избавиться. Сегодня жена Шкуратова именинница. Пока он в своем лабазе сидит, я пошлю эту брошку к ней с Диночкой, чтобы отдала на кухне. Пусть думает, что муж все-таки купил ей в подарок.
Шубников сказал насмешливо:
– Вы воображаете, Леночка, что вашу Диночку никто в городе не знает. Особенно по соседству, – ведь Шкуратовы чуть не рядом с вами живут. Шкуратова сразу догадается, в чем дело, и своему благоверному глаза выцарапает.
Ленка усмехнулась. Сказала:
– Это уж не моя забота.
Выбежала из комнаты и чрез несколько минут вернулась уже без брошки. Мефистофель, воплощенный в Шубникове, злорадно хохотал:
– Воображаю, какой именинный пирог она ему поднесет! – кричал он. – С пылу, с жару, и начинки не пожалеет.
– Напрасно воображаете, – спокойно возразила Ленка, – моя Диночка знает, как надо сделать. На глаза Шкуратовой она не попадется, а прислугу научит, что сказать.
– А они все-таки насплетничают! – злорадствовал Шубников.
– Нет, – говорила Ленка, – эти люди друг друга не выдадут.
– Сама Шкуратова увидит, – не сдавался злорадный.
Ленка усмехнулась. Сказала:
– Авось не увидит. А если Шкуратова ее случайно и увидит в людской или кухне, Диночка скажет: пришла в гости, горничная знакомая, – или скажет: забежала к кухарке спросить, как у вас тесто на пироги ставится. Все обойдется вполне благополучно. А на будущее время Шкуратов поостережется ко мне прилипать.
90
– Шутки шутками, Леночка, а ведь у меня к вам серьезное дело.
Шубников сделал значительное лицо, но на всякий случай подмигнул Ленке, и в тоне его оставался свойственный ему налет шутовства.
Ленка опустила глаза. На ее лице выразилась скука. Она сказала тихо:
– Ну что ж, обсказывайте ваше дело.
Она оперлась локтями о стол и сидела, готовая слушать, равнодушная и строгая, как усталая учительница, которой надобно, как ни надоело, выслушать ответ ученика. Шубников на минуту почувствовал себя неловко, – далекие воспоминания порядочности шевельнулись в его сознании, – но это сознание немедленно же опять подчинилось бытию, и Шубников принялся обсказывать, в чем дело и что должна сделать Ленка. Чтобы Ленка не вообразила, что она уж очень нужна, он скрыл от нее самое существенное, – намерение Горелова оставить завещание в пользу рабочих и совсем лишить Николая доли в наследстве. Осталось только соперничество отца и сына в любви к фабричной работнице.
Ленка выслушала и сказала:
– Пустое. Ничего из этого не выйдет.
Шубников попытался подольститься:
– Уж это, Леночка, от вашего искусства зависит, а вы – известная очаровательница, и против вас никто не устоит.
Но Ленка даже не улыбнулась. Она говорила уверенно и спокойно:
– Я Веру хорошо знаю. Она с таким типом, как Николай Иванович, никогда не спутается.
– Чем это вам Николай Иванович не угодил? – досадливо спросил Шубников.
Ленка спокойно продолжала:
– Да она и ни с кем путаться не станет. Она Соснягина любит. Не такая она, чтобы на хозяйские подачки польститься.
Шубников сказал злорадно:
– Однако она один раз уже приходила ночью к Горелову, в его домик укромный.
– Не врете, так правда, – с легонькою усмешечкою отозвалась Ленка. – Только если в самом деле у них так далеко зашло, так я-то что же могу сделать? Приворотной травы у меня нет, и отврат-корня нет. За этим уж вы идите к бабушке Мартемьяне в Рощенье.
Как ни бился Шубников, Ленка стояла на своем. Наконец, видя, что ничего не выходит, Шубников рассказал ей про ссору Горелова с сыном и про завещание. Для пущей убедительности прибавил:
– Про завещание мне сам Иван Андреевич говорил. Уж очень рассердился на сына. Видите, Леночка, как это важно, – отвести его от Веры. Да теперь это и не так уж трудно. Сгоряча он согласился, а потом одумается, да такая милая особа найдется, как вы, так ему жалко станет отдавать все совсем чужим людям. Выходит, что вы и для самого Горелова, и для его семьи хорошее дело сделаете.
Ленка оживилась. Слушала с интересом. Выспрашивала подробности. Наконец, когда уже видно было, что Шубников рассказал все, Ленка вздохнула и сказала:
– Если рабочим, так это – дело хорошее, я мешать не стану. Не все господам хорошим, пусть иногда и простому люду рабочему вкусный кусок достанется. Думка мне сказывала, – в гореловских погребах, да в ледниках, да в подвалах, да в чуланчиках всяких чего-чего не напасено, да всего помногу, точно на целый полк, – мясо соленое, и мясо копченое, и ветчина, и сыры, масло бочками на льду стоит, бочки меду, сахару, кофе пудами, чай самый лучший цыбиками, всякое соленье, варенье, – целые сотни банок больших и малых, с рыжичками, с груздочками, с брусникой, с яблоками мочеными, – муки всякой, круп разных столько, что в три года не прожрать, белые грибы сушеные точно на большой монастырь, висят саженными нитками, и привозного товару обжорного самого хорошего столько, что в час не перечтешь, консервы рыбные, консервы мясные, сибирские рыбные Плотникова, и французские сардины Кано, и большой погреб вин шампанских, бургонских, бордосских, рейнских, венгерских, кахетинских, малаги, хереса бочки, кианти, асти, лакрмакристи, ликеры, наливки, настойки, водки, меда польские лежалые, – едят-пьют, как богатыри святорусские. Все на доходы от фабрик. А у рабочих редечка триха, да редечка ломтиха, да редечка так, а покушать вкусно да сладко и они бы сумели.
Шубников прослушал не без удовольствия этот перечень гореловских съестных и питейных запасов, смакуя в своем воображении все эти прелести. Но вдруг вспомнил, зачем сюда пришел. Принялся уговаривать:
– Поймите, Леночка, рабочие вам ни копейки не дадут, а Николай Иванович вам будет благодарен. Кроме того, что вам даст Иван Андреевич, – а вы знаете, он щедрый, – и от Николая Ивановича вы получите.
– Сколько? – спросила Ленка со спокойным любопытством.
– Ну, он не пожалеет. Пятьсот рублей даст, – отвечал Шубников.
Ленка пренебрежительно усмехнулась. Шубников сообразил, что, хотя для Ленки пятьсот рублей должны быть большие деньги, но ведь дело идет о наследстве в несколько миллионов. И он прибавил:
– Даже тысячу рублей даст.
– Не густо! – сказала Ленка. – Да и то, когда он даст?
– Как только дело будет сделано, – сказал Шубников.
– На посуле, как на стуле, – отвечала Ленка. – Нет, что-то мне не хочется в это дело путаться. Еще что из этого выйдет, а меня Бог знает как назовут.
– Кто назовет? рабочие, что ли? – презрительно сказал Шубников. – Плюньте на них!
– Не одни рабочие, и в городе могут осудить, – сказала Ленка. – Будут кликать фабрикантовою услужницею.
Шубников покраснел от злости:
– Ну хорошо, – шипел он, – я буду помнить, что вы не хотели мне помочь. Да и не мне, – что тут я! – и Милочке, и Любови Николаевне.
– Что мне в чужие семейные дела путаться! – упрямо говорила Ленка.
91
В это время на пороге появилась Диночка. Негромко сказала:
– Простите, барышня. На одну минутку, пожалуйста, выйдите.
Ленка извинилась и вышла. Сразу догадалась, что ее зовет мать. Знала, что все это время старуха, жуя свой завтрак, то и дело подбегала тихонько в мягких туфлях к запертой ее двери, таилась за дверью и слушала. Ленка прибежала в кухню.
Там сидела на деревянном стуле у большого белого стола Ленкина мать, тощая высокая старуха. Ее лицо изобличало долголетнюю привязанность к водке, а порядливый новый костюм свидетельствовал о заботах дочери. Край стола, где сидела старуха, был прикрыт салфеткою; здесь стояла бутылка пива, из которой последнее уже было вылито в стакан; видны были остатки завтрака и сыр. На плите грелся коричневый объемистый кофейник, – старуха расширила теперь круг своих привязанностей и, оставаясь пьяницею, стала кофейницею.
Старая кофейница свирепо зашептала навстречу дочери:
– Глупая, зачем отказываешься?
– Подслушивала! – таким же свирепым шепотом отвечала Ленка, подходя к матери.
– Как же не подслушивать-то, коли ты глупишь! – говорила старая, опасливо посматривая на дверь. – Деньги сами в руки тебе плывут, ты их, дура, отпихиваешь. От денег никогда не отказывайся, глупая, береги деньги на черный день. Без денег-то ой как не сладко на свете живется! Нешто забыла, как мы в бедности-то жили?
– Что ж, ты хочешь, чтоб я за какие-то гроши совесть позабыла и продала Веру и рабочих? – сердито говорила Ленка. – Да что я, без гореловских подачек с голоду подохну, что ли?
Так увлеклась, что заговорила громко. Старуха сделала большие глаза и схватила ее за руку. Посадила на стул, зашептала ей совсем на ухо:
– Тише ты, оглашенная! Нужно тебе, что ли, чтоб он наши разговоры подслушивал?
Ленка тоже зашептала:
– Сама подслушиваешь, так воображаешь, что и все подслушивают. Очень ему надо! Занятно ему наши разговоры слушать, – вот-то вообразила!
– Воображать мне тут нечего, – резонно отвечала старуха. – Уж коли молодой образованный господин на такое последнее дело пошел, своему хозяину кралей в масть подбирать, так он и подслушивать недорого возьмет. Не знаешь, не видишь разве, что это за человек? Ты только на рожу-то его погляди, на ухмылки его анафемские полюбуйся, да на весь его обычай на поганый, на хрюк-то его свинячий, на глум-то его скаредый обрати внимание, сделай милость. Тем только от черного и отличается, что хвоста да копыт нет, – прости, Господи, мое великое согрешение.
И старуха истово открестилась от представлений нечистых, от чар вражьей силы. Ленка засмеялась:
– Еще что придумаешь?
– Да правда, сущий испанец, – уже несколько добродушнее говорила старуха, утихомиренная призванною ею силою святого имени и креста Господня. – Нет, а ты, Ленка, послушай-ка, что тебе мать-то скажет.
– Такой мерзости я не сделаю, – упрямо шептала Ленка. Мать махнула на нее рукою.
– Вот поговори с дурою! Слова молвить не даешь. Я разве это тебе хочу сказать, чтобы ты бедных людей купчишке продала? Ты только вид такой ему подай, аспиду-то этому безрогому, приспешнику комолому, будто ты с ним согласна.
– Что ж я ему врать-то стану! – недовольным голосом сказала Ленка.
– И ври, ври поглаже, прямо в глаза ему со всем твоим нахальством ври, бойко ври, как на кобыле будто едешь, – настаивала старуха. – Ареда этакого обмануть даже и не грех, совсем даже напротив. А он тебе сразу поверит, – эта анафемская команда злому слову всегда поверит, потому что настоящий разум только от Бога, а у них, у недобрых-то, вместо ума одно мечтание. Он поведет тебя к хозяину-то своему. А ты, как придешь к Горелову, ты не будь глупа да Горелову-то всю их подлую интригу возьми да и докажи. Только попроси, чтобы он тебя не выдавал. Вон и останутся они таким манером в дураках.
Ленка засмеялась. Поцеловала старуху. Сказала:
– Ты у меня, мамочка, министр, посоветуешь, тебя только слушайся. А я, пожалуй, и вправду так сделаю, натяну нос господину инженеру. Да еще какой большой!
Мать была очень довольна, – сидела и надмевалась: не часто бывало, что Ленка ее слушалась. Она повторяла:
– Ты мать-то свою слушайся, она тебе худого не посоветует, Леночка!
92
Ленка вернулась к своему гостю. Смешливо глянула на него, закурила папироску, села на диван, налила себе чашечку кофе.
Шубников свирепо шагал из угла в угол и дымил папироскою. Пока Ленка ходила, он успел наскоро проглотить несколько рюмок бенедиктина. Торопился допить ликер, чтобы дорогая влага не досталась упрямой девчонке. Но упоенное бытие не оставило без утешения упоенного сознания. Шубникову вдруг представилось, что Ленка еще небезнадежна, стоит только поговорить с нею поубедительнее. Цель стоила лишнего усилия. Он подошел к Ленке близко, дохнул на нее сладким перегаром, ухватил ее за руку около голого смуглого локтя, – точно кот добычу сцапал, – и умильным голосом заговорил:
– Леночка, да перестаньте вы глупить. Ведь это же – ерундища ужасная, что вы там вбили себе в голову о рабочих. Какое вам до них дело? Всякий заботится о себе, и больше никаких.
– Правильно! – насмешливо сказала Ленка.
Хотела было налить себе ликеру, но в крохотную узкую рюмочку только немножко упало сладких капелек. Ленка опрокинула их на свой узкий розовый язык.
– Никто о вас не позаботится, – продолжал Шубников, – если вы сами о себе не позаботитесь. Завещание! Важное кушанье! Не будет так, как Вера хочет. Или мы завещание уничтожим, или суд его не утвердит, или мало ли что мы придумаем. С деньгами все можно сделать, и у Николая Ивановича везде ходы есть. А вы, Леночка, пропустите случай хапнуть кушик. Соглашайтесь-ка лучше. На всю жизнь будете обеспечены. Ведь дело большими миллионами пахнет.
– И то правда! Уговорили! – отвечала Ленка. – Хорошо, я согласна. Если только ваш Горелов на меня глядеть захочет, не выставит сразу за двери.
Шубников даже не сообразил, что уж слишком круто и скоро переменила Ленка свое решение, – бытие, переслащенное бенедиктином, пересластило его сознание и окрасило его в цвет еще более золотой, чем проглоченный ликер. Инженер заликовал и запрыгал, но скромные размеры комнаты скоро умерили его азарт. Он взглянул на часы. Заговорил суетливою скороговоркою:
– Милая Леночка, мы вот как сделаем, – я кое-куда сбегаю, тут у меня дело есть, а вы пока собирайтесь. Оденьтесь поочаровательнее, к лицу, – ну да вас этому не учить! Я к вам зайду, и мы вместе на четырехчасовом пароходе поедем. Может быть, на наше счастие, и Горелов на том же пароходе возвращается. Если спросит, скажем, что я встретил вас на бульваре и что вы едете к вологодской кружевнице в нашу слободку. Ладно?
Ленка отрицательно покачала головою и сказала:
– Сегодня не могу. Я сегодня вечером должна быть совсем в другом месте.
– Голубушка! – взмолился Шубников, – да разве же мыслимо откладывать! Надо торопиться во что бы то ни стало. Поймите, Леночка, – ведь он приехал сюда завещание писать. Надо сегодня же на него атаку произвести. А то ведь он завещание отдаст Вере, и это страшно затруднит дело. Теперь это можно тихим манером уладить, а тогда рабочие узнают и без большого скандала дело не обойдется.
– Да я сегодня не свободна, – отвечала Ленка.
– Плюньте вы на все! – кричал в азарте Шубников. – Поймите, время не ждет. Ведь за один вечер сегодня вы можете взять столько, сколько во всю жизнь не сможете достать.
Но Ленка хотела сначала повидаться с Верою и сказать ей об умысле Шубникова. Надобно было оттянуть хоть до завтра.
– Может быть, сегодня ему и не сделают, – спросила она. – Он такой страшно богатый, пока все по порядку перепишут, сколько времени пройдет! Лучше я завтра приеду.
Шубников подумал. Мефистофель скромно отошел в сторону, уступил место Сганарелю.
– Нельзя завтра, – досадливо сказал он. – А впрочем, вот мы что сделаем. Я зайду к нотариусу, там у меня знакомый человечек есть, он мне расскажет, как и что.
– А если ему не велено рассказывать, потому секрет? – спросила Ленка.
Мефистофель высунулся вперед и запел козлетоном:
– Денег дай, денег дай и успеха ожидай.
А потом заверещал озабоченный и шустрый Сганарель:
– Уж мне-то он скажет. Если завещание готово, то ждать нельзя, и уж вы как хотите, Леночка, а я вас сегодня же с собою возьму. Так что вы меня до без четверти четыре подождите, никуда не уходите.
– Хорошо, – сказала Ленка. – Лучше бы мне завтра. Сегодня мне совсем неудобно. Но уж если вам так приспичит, поеду и сегодня, так и быть.
И думала: «Нашел дуру, стану я тебя ждать!»
93
Прямо от Ленки Шубников отправился на извозчике за двугривенный на Горохвалову улицу. Там против дома, где помещалась контора нотариуса Черноклеина, была гостиница и при ней ресторан. На просторном балконе ресторана Шубников занял столик, полузакрытый от улицы полотняною белою занавескою, и заказал себе пива и сыру. Было ветрено и пыльно, ликерный чад обдуло с Шубникова ветром и стрясло на дребезжащей пролетке, и Шубников опять соображал и сознавал соответственно преходящим моментам бытия.
Если Горелов выйдет от нотариуса, Шубников его увидит. Если ветер некстати отдернет занавеску, а Горелов случайно взглянет сюда и увидит его, то ничего подозрительного в этом не найдет: уж такое центральное в деловой части города место и такой известный ресторан, что сюда многие заходят. И уж если Шубников в городе, то где же ему позавтракать, как не здесь? Да вряд ли и станет Горелов смотреть на балкон, – озабочен своими мыслями, не до того ему.
Но ведь могло случиться, что Горелов уже уехал, так не сидеть же без конца! Было уже пять минут третьего, когда подали пиво и сыр, и терять времени не стоило. На всякий случай Шубников заговорил с официантом, благо он был знаком. О том, о сем. И уже по четвертой реплике узнал, что Горелова видели:
– Надо быть, в банк Иван Андреевич утром приезжали.
Шубников сделал знающее лицо и спросил:
– Еще там?
– Нет, уехали.
– Давно?
– Да так с час времени.
Послышался рядом призывающий стук ложечкою по стакану. Окрылив себя из-под мышки мятою салфеткою, официант порхнул легче чижика к соседнему столу. А Шубников на вырванном из записной книжки листке написал карандашом записку знакомому клерку от Черноклеина, – просьбу зайти сюда на четверть часика, раздавить за компанию бутылочку пивка. Послал записочку с ресторанным мальчиком.
Клерк пришел скоро. Это был просто двадцатилетний парнишка в куцем синеньком пиджачке, в крахмальном воротничке с голубым галстучком, светловолосый и мягкогубый, весь мягонький, пухленький, веснушчатый и такой веселый, точно сейчас только выпил стакан густых сливок потихоньку, обманувши маменькину хозяйственную бдительность. Теперь он весь сиял, даже его ботиночки казались только что покрытыми лаком и надетыми в первый раз, и у него был такой вид, как будто он знает что-то необыкновенно важное и едва удерживается от желания рассказать это. И точно, едва успел он поздороваться с Шубниковым, как начал:
– Хотите, я скажу вам что-то совсем новенькое.
– Ну, ну, говорите, – отвечал Шубников, наливая ему пива, придвигая сыр и уже вперед ласково улыбаясь ему.
Что могло быть новенького у человека из конторы нотариуса, кроме посещения Горелова по такому важному делу?
Клерк зарадовался, захихикал и заговорил:
– Что вы должны ответить, если вам скажут: добрей Ивана Андреевича?
Шубников увидел в этом прямой подход к делу: доброта Ивана Андреевича доказывается его завещанием в пользу рабочих. Инженер измефистофелился, насколько это можно было сделать на ресторанном балконе, и отвечал:
– Нельзя быть добрей Ивана Андреевича.
Но у клерка был совсем другой умысел. Он долго и основательно кис и пузырился от смеха, наконец, кое-как собравшись с силами, выпалил:
– Ничего подобного. Отвечайте: «Не добрею! Не умею брить».
И тут уже клерк совсем погиб от смеха. Пуская пузыри, выкрикивал:
– А? что? вот так каламбур!
94
Шубников мгновенно размефистофелился, обозлился совсем по-обывательски и чуть было не обругал клерка желтогубым идиотом. Да вспомнил вовремя, что теперь ссориться с клерком нельзя. Принудил себя даже посмеяться для приличия, а потом, не давая времени клерку киснуть над другими каламбурами, если они припасены, перешел прямо к делу. Придвинулся поближе к клерку и шепнул:
– Зачем у вас сегодня Иван Андреевич был?
Клерк попытался замкнуть зеркало своей души на замок, но зайчики, брошенные солнцем служебной тайны, все же запрыгали на Шубникова. Замкнутая совсем не прочно клеркова душа сигнализировала проворными зайчиками: «Я беременна такою большою тайною, что жду акушера сделать кесарево сечение».
А губы, притворяясь, мягкие, давно привыкшие к противной и горькой ему, как и пиво, папироске, произносили не спеша и важно:
– Я этого не знаю, а если бы и знал, то не мог бы сказать. Что мне доверяется по службе, то я обязан хранить в строжайшей тайне. Иначе я буду не клерк нотариуса, а паршивая собака, и мой патрон будет мне говорить не Николай Сергеевич, а просто: Ника! лай!
И, очень довольный, начал киснуть. На этот раз Шубников из вежливости подхихикнул, потом нагнулся к уху клерка и прошептал:
– Голубчик, да ведь я знаю. Горелов приезжал к вам писать завещание.
Клерк вдруг перестал киснуть и даже нахмурился. Ему не понравилось, что тайна известна. А Шубников продолжал шептать:
– И знаю даже, в чью пользу. Николаю Ивановичу – ничего, Любови Николаевне и Людмиле Ивановне – нечто, а существенное – фабричным рабочим.
Клерк засиял от радости.
– Ничего подобного, – воскликнул он, – и вовсе не рабочим, а какой-то девице. Звать Верой, а фамилии не запомнил. Моему патрону, кажется, это не совсем понравилось. Он с Иваном Андреевичем долго спорили о чем-то. Заперлись в кабинете. Законы требовали, сенатские разъяснения. Часа два проговорили. Я, конечно, старался кое-что услышать, но, вы сами понимаете, под дверью не совсем удобно торчать.
Шубников уверенно сказал:
– Ну, значит, о том и спорили, в чью пользу писать. Должно быть, на эту самую Веру удобнее.
– Кто такая эта Вера? – спросил клерк.
– Гореловская новенькая, – с поганою улыбкою отвечал Шубников. – Из наших фабричных работниц.
Клерк осклабился.
– Чем же она так Ивана Андреевича очаровала, что он ей завещание делает? – спросил он. – Очень хороша, что ли?
– Ну, на чей вкус! – пожимая плечами, сказал Шубников. – Рыжая, рослая, голос звонкий, сама веселая да бойкая, даже слишком бойкая. А когда завещание будет готово?
Клерк состроил непроницаемое лицо и замолк. Шубников запустил пальцы в жилетный карман, и там что-то хрустнуло. Клерк глазами и бровями выкинул сигнал ожидания. Пальцы Шубникова извлекли нечто из жилетного кармана и всунули клерку в руку под столом. Клерк кинул быстрый взгляд на цвет зажатой в его руке бумажки и сказал:
– Ровно через неделю. Знаете, наш патрон торопиться не любит.
95
Шубников решил не давать Ленке никакой отсрочки. Чем раньше начнется ее приступ на Горелова, тем лучше. И, конечно, надо начать теперь же: Горелов целую неделю не увидится с Верою и потому легче примет теперь Ленку как минутную забаву, а уж Ленка должна его увлечь прочно. Когда пройдут дни и срок ожидания для Горелова сократится, идти к нему с Ленкою будет гораздо труднее.
Попрощавшись наскоро с клерком, Шубников нанял извозчика к Ленке и оттуда на дачную пристань. Времени оставалось почти в обрез.
Но на Ленкиной квартире Шубникова ждало разочарование, – Ленки уже не было. Старуха сама вышла на звонок и говорила:
– Вот только, только что вышла. Как вы ее не встретили? Только я за нею дверь на крючок заложила, – Диночку-то Ленка послала куда-то, так что я одна осталась, – налила себе кофею, вдруг вы звоните. Ну вот каких-нибудь две минуты не застали.
– Куда она пошла? скоро вернется? – торопливо спрашивал Шубников.
– Разве она скажет, куда пошла? – отвечала старуха. – Сказала, что ночевать дома не будет. Да вы не господин ли Шубников будете?
– Ну да, я – Шубников. Она мне записку оставила?
– Записки нет, а так на словах велела передать, что она к вам завтра с утренним пароходом приедет.
Так Шубникову пришлось уехать ни с чем. Дорожные размышления привели его к мысли, которая показалась ему чрезвычайно удачною.
У Веры ключ от заветного домика. Она взбалмошная. Ей ничего не стоит самой вдруг прийти в домик и вызвать Горелова световым сигналом. Заградить калитку – невозможно: Горелов может это заметить. Надо иначе затруднить ей вход в домик. Но как? Вызвать подозрения в Соснягине.
Сам Шубников говорить с Соснягиным не решался. Это казалось ему по многим основаниям опасным. Придумал поговорить с Пучковым, чтобы тот передал, что надо, Соснягину.
96
А Ленка уже давно шла по дороге из города в фабричную слободку, босая, в белой блузке и недлинной голубой юбочке, накрывшись голубым платочком, однако тонким шелковым и дорогим. В руках она несла корзинку с кое-какою пищею, чтобы в слободке никого не стеснить своим прокормлением; там же, завернутые в газетную бумагу, лежали ее чулки и белые туфли на каблучках, – тропинка вдоль дороги была гладка и мягка. Раньше, чем пароход с Шубниковым подошел к гореловской пристани, Ленка уже была в слободке. Работа на фабрике кончилась. Ленка постояла у ворот в церковной ограде, мимо которой шла дорога из фабрики в слободку. Дождалась Веры. Сказала ей тихо:
– Мне с тобой поговорить надо о важном деле по секрету. Так я к тебе, пожалуй, не пойду, а ты ко мне выйди, я тебя подожду где-нибудь за слободкой, ну хоть в лесной сторожке у дяди Михея.
– Пойдем лучше к нам, поужинаем, – отвечала Вера, – так будет удобнее. В саду поговорим.
Ленка не спорила. Что подождет за слободкой, говорила только затем, чтобы не стеснить Веры, если у той дома что неладно.
– Ладно, – сказала она Вере. – Только я со своими харчами пришла, – ветчины принесла, балычку, телятинки холодной да миндального пирожного к чаю.
Вера засмеялась.
– Миндальничаешь! – смешливо сказала она. – Ну, а мы тебя щами угостим с убоинкою, – вкусные сегодня у нас щи, в русской печке стоят, совсем еще горячие, наварные.
Пошли вдоль берега, и Ленка, с корзинкою в руке, в голубом платочке, похожа была на работницу-писариху, девушку простую, кокетливую, веселую и милую. Кто встречался с нею знакомый, улыбался ей ласково, и – странное дело! – никто из этих суровых, тяжелых, всегда раздраженных и, в общем, весьма нравственных людей не сердился на нее за то, что она не столько наездница цирковая, сколько городская веселая блудница.
Вечером Вера и Ленка сидели в саду и тихо разговаривали. Ленка передала Вере весь свой разговор с Шубниковым и с матерью. Рассказала и Вера про свой замысел и про все, что уже было.
– Ну, даст он тебе бумагу, а потом что? – спросила Ленка.
– Не знаю, – мрачно сказала Вера. – Добром не кончится. Да только бы бумагу передать в верные руки, а о себе что думать! А вот что мне странно, – Горелов сам сказал, что Шубникова не надо в это дело путать. Не мог он сказать Шубникову про завещание, да и никому не сказал.
– Откуда же узнал Шубников? – спросила Ленка.
– Дрянной человечишка, – отвечала Вера. – Не иначе как подслушал. Ведь он мне и ключ от калитки дал. Он там все входы и выходы знает. Он и здесь везде шныряет, все старается узнать, одного только узнать не сумел, что у нас завтра в два часа забастовка начнется.
97
Нотариус Черноклеин наговорил Горелову много законных доводов, препятствующих составлению завещания в пользу всех рабочих гореловских фабрик, и все дело с завещанием представил чрезвычайно сложным и трудным. Поэтому после долгих споров Горелов согласился на то, чтобы завещание было написано в пользу Веры, – ведь она уже от себя может подарить фабрики кому вздумает, – согласился и на то, что завещание будет готово через пять дней. Относительно недели клерк приврал и для того, чтобы его сообщение казалось значительнее, и для того, чтобы все-таки не выдать служебной тайны.
Разговор с нотариусом очень утомил и взволновал Горелова. Хотя с Черноклеиным он был очень хорош, почти дружен, но все же тяжело было говорить с посторонним человеком о том, что он лишает своего сына наследства. И другое: сам Черноклеин – верный человек, он никому не расскажет. Он сам про себя говорил:
– Я не из болтливых; что мне доверено, как в могилу зарыто.
Но Горелов знал, что людишки всегда и везде подсматривают и подслушивают. Правда, двери притворяли, старались говорить потише, но порою и фабрикант, и нотариус увлекались и начинали говорить вслух, а голоса у обоих были зычные, волжские.
Сидя в своей быстро мчащейся коляске и всматриваясь в мелькающие по обе стороны лица горожан, из которых многие торопливо и почтительно сдергивали перед ним шапки, Горелов думал: «То-то будут языки чесать».
И эта мысль так крапивно язвила его самолюбие, что иногда в душе его вспыхивала злоба к заклинательнице змей. Но встанет перед закрытыми глазами ее яркий, словно из солнца скованный образ, – и гаснет злоба, и что ему вся слава и молва людская лукавая!
И еще томило то, что Черноклеин насказал ему о возможности оспаривать это завещание. Нотариус говорил:
– Все фабриканты всполошатся, правительство обеспокоится, на суд будет оказано большое давление.
Итак, значит, все впереди неопределенно и зыбко. И при этом – пять долгих дней ожидания.
Неровная, тяжелая работа сердца, быстрый бег коляски, настойчиво бьющийся в лицо теплый, тревожный ветер, мелькающие мимо поля и рощи, холмы, извивы Волги, пешеходы и проезжие, неприятная пыль из-под колес встречников, вскрики и всмехи ребятишек в перелесках, сухой шорох колосьев, внезапное карканье ворон и резкий клекот ястреба над двором попутной усадьбы, и бабий испуганный злой крик, все привычное и все странно-новое, волновало и томило. И жутко замерло сердце, когда коляска понеслась, ускоряя ход, по широкой березовой аллее к сложенным из тяжелых серых глыб воротам его владения.
Звуки рояля сквозь раскрытые окна дома внятно рассказали ему в нескольких тактах всю историю его жизни и втеснили в свое зыбкое течение все, чем отравлена душа, скука надоедливых повторений, суета и маета тщетных забот и трудов, сожаление о ряде совершенных ошибок, печаль о невозможном счастии, которого все еще жаждет страстное сердце, скорбь о невозвратно утраченном, горе отца, пустынное неверие и обманутая вера, робкая боязнь стерегущих бед, суетный страх мирских осуждений, лукавый стыд перед всякою тупоглазою ухмылкою, тоска гнетущих предчувствий, непобедимый ужас, неожиданно воздвигающий сонмы грозящих призраков, отчаяние души, вдруг ставшей на краю невозможной бездны, томительное бессилие, гнетущее безволие, – все переливалось в нем, и он казался себе растворенным в этой прозрачной, звучащей стихии.
Она владела им, как страсть, она переплавила пламенно всю сумятицу противоречивых чувств, из всех угнетенностей и слабостей извлекла сладчайший и крепчайший яд, все муки душевные сплела в один узел, зажгла одним костром, пылающим выше небес, и жажда обладания победно всплыла над морем этих пленительных звуков, над бушеванием печалей и страстей. Настойчивый и волевой характер стремительных звуков все ярче и сильнее действовал на Горелова, как заклинание ночной волшебницы, из мрака и бури творящей пламенные лики. И в душе старого человека желаемое властно требовало осуществления.
Намеренно замедляя шаги на лестнице и ни с кем не говоря, он прошел прямо к себе с таким чувством, как будто нес глубокую и полную чашу напитка, который нельзя разлить. У себя в кабинете он сел в покойное кресло у телефона, соединился с Черноклеиным и потребовал, чтобы документ был во что бы то ни стало изготовлен к завтрашнему утру.
– В десять часов я за ним приеду.
Черноклеин пытался поспорить. Но голос Горелова звучал так страстно и настойчиво, что Черноклеин вдруг понял неодолимость этой поздней страсти, заразился этим пряным ядом непреклонного желания и дрогнувшим голосом сказал:
– Ну хорошо, Иван Андреевич, сделаю.
А сам принялся за дело, и под его седыми стриженными жестко усами дрожала жалостливая улыбка.
98
Прямо с парохода Шубников отправился в фабричную контору. Управляющий, Василий Ермилович, уже ушел, и два-три оставшихся конторщика любезничали с вертлявою кассиршею потребительной лавки и смешили ее до упаду незатейливыми выдумками. Когда Шубников вошел, они притворились, будто перестали любезничать только потому, что подходит время уходить. Кассирша выпорхнула, как ласточка, весьма тяжеловесная, но все же быстрокрылая. Конторщики, тихонько переговариваясь, убирали свои бумаги.
Шубников отозвал к сторонке Пучкова. Спросил его тихо:
– Вы сегодня к Людмиле Ивановне не думаете зайти?
Пучков медлил ответить. Шубников сказал:
– Дело, видите ли, вот в чем: мне надобно с вами переговорить об одном очень важном и щекотливом деле. Здесь и в слободке неудобно. Вопрос, видите ли, довольно личного, интимного, так сказать, характера.
– Что-нибудь относящееся к Людмиле Ивановне? – с беспокойством спросил Пучков.
Нежное лицо его слегка покраснело, и мечтательные глаза на минуту стали острыми: ему было досадно с Шубниковым говорить о Милочке. Шубников с трудом подавил мефистофельскую усмешку, думая о том, что Пучков этим вопросом выдал свою смешную влюбленность. Он говорил:
– Нет, это касается Людмилы Ивановны только косвенно. Я хотел просить вас зайти ко мне. А впрочем…
Он огляделся, – из конторы уже все ушли.
– Пожалуй, можно и здесь, – продолжал он. – Дело, видите ли, вот в чем…
И он принялся полушепотом, многословно и запутанно, подводить Пучкова к опасной теме. Говорил, что ему, по его положению на фабрике и в доме, становится иногда случайно известным многое такое, чего он не хотел бы и знать: бывает иногда ужасно неприятно входить в чужие дела, но все же долг порядочного человека заставляет в случае необходимости не оставаться безучастным к тому, что может отразиться тяжело на чьей-нибудь судьбе. Говорил, что он всегда был другом рабочих, что он – социал-демократ по убеждениям, но что некоторые из рабочих относятся к нему недоверчиво. Он не винит в этом рабочих, – им, конечно, иногда трудно разобраться в том, кто им друг и кто им враг, но ему все-таки это очень горько, и он этого не заслуживает. Ему очень печально, что такой, например, сознательный рабочий и симпатичный во всех отношениях человек, как Соснягин, смотрит на него подозрительно и неприязненно. Потому он, Шубников, не может поговорить с Соснягиным откровенно о таких деликатных обстоятельствах, где все его симпатии на стороне рабочего против хозяина, так как Соснягин мог бы заподозрить искренность и правдивость его слов. Потому-то Шубникову и приходится обращаться к посредничеству Пучкова. Затем последовал целый поток комплиментов Пучкову, его интеллигентности, деликатности, тактичности, понятливости, уменью говорить с разными людьми и прочим его прекрасным душевным свойствам. Дальше – смутный, сбивчивый рассказ о любовных увлечениях Горелова, о его новой внезапной страсти к одной из фабричных работниц, – но имени Веры не было произнесено ни разу. Потом Шубников сделал предположение, что Горелов в одну из ближайших ночей, может быть, даже нынче, будет ждать нежного свидания в своем саду, в той его части, которая выходит в сторону к фабричной слободке; это Шубников заключил будто бы из того, что хозяин осведомлялся о какой-то калитке в том месте и ключ потребовал себе, а также из того, что Горелов сегодня с утра очень взволнован, делами не интересуется и поехал в город, надо полагать, с целью купить подарок своей новой возлюбленной.
Ошеломленный этим потоком неожиданных излияний, Пучков слушал молча. Как в тумане, дал он Шубникову честное слово хранить все это в тайне и только одному Соснягину, и то под большим секретом, сказать о калитке и о хозяйских вожделениях, отнюдь не говоря при этом, что получил эти сведения от Шубникова. Соснягин же поймет, что Пучков, часто бывая в доме Гореловых, мало ли от кого мог узнать это, но не может выдавать сообщившего, чтобы не подвести его под неприятность.
Получивши от Пучкова это обещание, скрепленное неоднократно честным словом и крепким рукопожатием, Шубников быстро ушел. Пучков надел соломенную шляпу, взял свою тросточку и отправился домой. По дороге он думал, что речь идет о Вере, и пенял на себя, что взялся за такое щекотливое и неприятное дело. В глазах его было мечтательное более обычного выражение, тросточка особенно нервически и тонко посвистывала, описывая быстрые круги в воздухе, а иногда вырывалась из рук. Пучков не без робости соображал, как же это он станет говорить с таким резким, суровым и гордым человеком, как Соснягин, о таком деле. Думал, не лучше ли сказать это сначала Вериной матери. Хотел было отложить до завтра, потому что утро вечера мудренее, но тотчас же ему пришла в голову мысль, что непоправимое событие может совершиться в любую ночь, даже и в эту. При этой мысли у него от страха похолодели ноги, тросточка вырвалась из рук и угодила прямо в спину высокому и тонкому человеку в блузе, засыпанной фарфорового пылью. Тот обернулся, – Пучков узнал Соснягина.
«Поразительное совпадение!» – думал Пучков, холодея.
99
После обеда Шубников, многозначительно подмигнувши Николаю, пошел к нему. Там, с обычными гримасами и ужимками, он рассказал Николаю, будто бы от одного знакомого человека, который служит у нотариуса, узнал о завещании Горелова в пользу рабочих. Не сказал, что в пользу Веры, потому что это могло бы смягчить злость Николая: пожалуй, решил бы, что если Вера и отвергает его свободную любовь, то согласится выйти за него замуж, да еще будет рада такой чести.
Николай осатанел от злости. Вопил, неистово мечась по комнате и бешено топая ногами при каждом сильном слове:
– Да он с ума сошел, старый черт! Да это грабеж на большой дороге! Да на него надобно опеку наложить!
– Вы подумайте еще и о том, – говорил Шубников, – какие волнения поднимутся на других фабриках, когда там прослышат, какое счастье привалило гореловским рабочим.
– На чужие фабрики мне наплевать, – злобно говорил Николай, – пусть хоть все они к черту провалятся! Моих фабрик пусть он от меня отнимать не смеет! Я его осрамлю, я это на весь свет разблаговещу! Я буду просить, чтобы назначили опеку.
– Опека опекой, – отвечал Шубников, – но это история длинная и довольно скандальная.
– Плевать мне на скандал! – вопил Николай, – я на все пойду, я у него из горла мой кусок вырву!
Шубников настойчиво продолжал:
– Но вы все-таки обратите внимание пока и на это обстоятельство, относительно других фабрик. Ведь это бунтом пахнет. Будь я на вашем месте, я бы поговорил по секрету с жандармским полковником. Он, может быть, прекратит всю эту затею без малейшего шума.
– Идея! – радостно воскликнул Николай. – Сейчас же еду в город!
– Теперь поздно, можете и не застать Солодовского, лучше завтра утром, – сказал Шубников.
Но до утра ждать Николаю не терпелось.
– Все равно, зайду к Грабилину, перехвачу хоть сотни две, переночую где-нибудь в городе.
И неистовым голосом завопил в домашний телефон, чтобы ему заложили немедленно пролетку ехать в город.
100
Николай потратил полчаса на тщательный туалет и спустился в обширный и темноватый холл. Там он застал Башарова и Елизавету, одетых по-городскому. Елизавета стояла перед узким окном рядом с выходною дверью, постукивая концом розового китайского зонтика, ни на какую потребу, кроме зависти пустых девчонок, не годного. Башаров сидел в кресле у праздного камина и докуривал сигару. Он сказал:
– Я слышал от кучера, что ты едешь в город. Вот и кстати, поедем вместе.
– Но у меня пролетка, – начал было Николай.
Башаров, делая вид, что не замечает его недовольного лица, сказал:
– Я уже распорядился, чтобы дали не пролетку, а коляску. Мы с Елизаветою собрались в театр, там сегодня гастрольный спектакль, для Сонохты и то – нечто вроде чего-то.
Николаю было досадно, но ничего не оставалось делать, как согласиться. Подана была четырехместная коляска, и Николай уселся на переднем сиденье, спиною к кучеру, что ему всегда не нравилось.
Елизавета все еще дулась и почти ничего не говорила. Башаров говорил по-французски, – чтобы не понял сурово торчавший на козлах кучер:
– Объясни мне, пожалуйста, Николай, что происходит в нашем доме? Все движутся и говорят, как автоматы, внутри которых самое интересное замкнуто и ключ спрятан. Твоя мать ходит с нездешним видом. Милочка ничего не понимает, ты чем-то наполнен взрывчатым, профессор печален и великолепен, как Герцен на могиле Огарева, у твоего отца удивительно странный вид.
– Мой отец сошел с ума! – яростно закричал Николай.
– О! – протяжно сказала Елизавета.
И с видом страдалицы приложила тонкий палец в тесной лайке к правому виску, точно вскрик Николая причинил ей жестокую мигрень.
– О! – повторил за нею Башаров, – ты выражаешься слишком сильно. Скажи, ради Бога, по возможности спокойно, в чем дело.
Николай, ни минуты не думая о том, зачем он это делает, стремительно и злобно рассказал, что отец влюбился в фабричную работницу, что по этой причине он равнодушен к адюльтеру своей жены с профессором, когда же Николай, оберегая честь семьи, попытался открыть отцу глаза на эту связь, отец на него же взбесился, сделал ему страшную сцену, совсем неприлично стал обниматься и лизаться с любовником своей жены, а его, Николая, намеревался лишить наследства и с этою целью пишет завещание в пользу рабочих.
Елизавета, слушая все это с очевидным удовольствием, то и дело вставляла язвительные словечки:
– Как все это неприлично! Как все это скандально! Это может быть только в России! Как это похоже на кузину, которая дерется!
Башаров слушал молча и с большим любопытством. Он должен был сначала узнать все до конца и уже только потом подумать, почувствовать и реагировать. А вообще-то, все это ничуть не противоречило его общему настроению в этот приезд к брату, – не нравилось, сразу казалось неприличным.
Окончивши рассказ, Николай долго еще изливал свои чувства. Елизавета наконец замолчала и сидела, презрительно поджимая губы. Она думала, что сын стоит своего отца и не лучше своей сестры и что вся эта родственная ей, к сожалению, волжская семья не может выдержать никакого сравнения с почтенными семьями того же круга в Германии, Франции и Англии.
Вдруг из-за поворота дороги послышалось негромкое и не совсем стройное пение:
Вставай, поднимайся, рабочий народ.
Башаров позеленел от злости и от страха. Елизавета испуганно вскрикнула и прижалась к отцу, пытаясь в то же время скрыть под своею легкою накидкою цвета сомон надетые на ней ценные побрякушки: осыпанные брильянтами золотые часики на паутинно-тонкой золотой цепочке, брошь, браслет, – как бы не ограбили.
– Что же это, опять здесь бунт начинается? – спросил Башаров скрипучим более обычного голосом.
Николай повернулся на своем месте и злобно смотрел на дорогу. Из-за кустов выдвинулось десятка два рабочих. Увидев гореловскую коляску, они замолчали и угрюмо смотрели на проезжающих. Когда коляска проехала мимо них, послышался отрывочный говор, смех. До ушей Николая донеслось слово:
– Лоботряс!
Николай сделал вид, что не слышит, и говорил:
– Нет, это не бунт, а просто прогуливаются апаши с нашей или с какой-нибудь другой фабрики. Но я не хотел бы встретиться с ними где-нибудь в пустом месте. И эти разбойники – наследники наших фабрик! Для этих господ я должен уступить мое достояние! Нет, я на это никогда не соглашусь. Я приму свои меры.
– Что же ты хочешь сделать? – спросил Башаров.
– Поговорю прежде всего с Солодовским, – отвечал Николай.
– Это кто же?
– Здешний начальник жандармов.
Елизавета презрительно глянула на Николая и отвернулась. Николай вытаращил глаза, выпрямился и приготовился отразить все возражения. Башаров подумал, поморщился, пожевал губами, потом сказал тихо и веско:
– Пожалуй, это – самое умное, что можно сделать. Конечно, такое завещание колеблет фундамент общественного порядка.
В это время коляска обогнала двух гореловских рабочих, которые быстро шли по дороге в город. Николай язвительно засмеялся и сказал:
– Ходят наследники, точно добычу почуяли.
101
Утром Горелов позвонил к Черноклеину по телефону:
– Готово?
– К десяти будет готово, как сказано. Приедете сами или я вечером приеду с книгами?
– Приеду сам.
Радостно взволнованный, Горелов велел подать коляску. Поехал сначала на фабрику. Там посидел недолго в конторе, сделал два-три распоряжения, едва вникая в то, что говорит он и что ему говорят, оттуда прошел прямо в то отделение, где было тихо, не пылал огонь, не громыхали машины, где писарихи чинно сидели за станками и разрисовывали блюдечки и чашки идиллическими, шаблонными цветочками или на поворотном круге выводили золотые ободки и кружочки. Прошел мимо Веры. Едва глянул на нее, но отчетливо заметил, что она делает, и видел, что она его видит. Значит, сегодня ночью придет. Сердце сильно забилось, и он почувствовал, что не может пройти по другим отделениям. Да и не надо, ничего теперь не надо – какие там дела, когда такое солнце восходит и такая райская птица сладостно поет в душе, поет-заливается! Горелов опять прошел в свой небольшой кабинет при конторе. Пришли с какими-то делами, но он коротко сказал:
– Потом. К вечеру еще раз заеду. Теперь тороплюсь в город.
С минуту посидел один и уже хотел было подняться и идти к выходу, как появился Шубников. Горелов неласково глянул на него, но это не смутило Шубникова. Придавши своему лицу необычайно скабрезное выражение и изгибаясь с удивительною выворотностью, не хуже угря или балерины, он нагнулся к уху Горелова и с почтительною фамильярностью доложил:
– Иван Андреевич, сегодня ночью вас ждут в домике.
Горелов нахмурился. Подумал: «Да что это Вера выдумала через Шубникова передавать? Ведь она же меня видела!»
Потом сообразил, что Вера могла сказать это Шубникову с самого утра, когда Горелова еще не было здесь, и что, значит, она хочет прийти к нему, не дожидаясь завещания. Что же это может значить? Поверила? Полюбила? Сердце Горелова наполнилось радостью, гордостью, надеждою; страсть к Вере загорелась в нем с удесятеренною силою, отгоняя всякую скорбь и всякое зло и даже злое предвкушение смерти обращая в восторг. Он с восхищением вспомнил, как видел ее сейчас, когда она расписывала чайную чашку с широким золотым ободком, и подумал, что она вся удивительная, – и оттого, что она сегодня придет, и сама захотела прийти, мгновенным ужасом захолонуло сердце.
Но не с Шубниковым же делиться своим восторгом! Горелов сурово нахмурился, коротко сказал:
– Приду, – и торопливо вышел, чтобы сесть в коляску и ехать в город.
102
Утром Ленка поднялась очень рано и ушла в город. С Верою все было сговорено и условлено, и теперь Ленка знала, что ей делать. Когда ее порозовевшие от утренней росы легкие ноги быстро бежали по тропинке вдоль знакомого пути, она весело думала, что и грешница иногда может если не сделать доброе дело, то хотя помешать лукавому.
По одному направлению с нею, на базар в город, шли и ехали деревенские люди, то обгоняя, то отставая. Иногда они переговаривались с нею ленивыми голосами. Иногда без всякой нужды в воздухе висла крепкая брань. Но все эти люди казались Ленке неподвижными, косными, почти не коснувшимися жизни и не сознавшими той ее тяготы, которую несли хрупкие Ленкины плечики. Все эти частые попутчики и редкие встречники не мешали ей тревожно думать о том, что будет нынче вечером, и мысли ее были быстры и точны, как длинный бич в ловкой руке наездницы.
Дома Ленка тщательно и нарядно оделась и отправилась на пароход. На гореловской пристани ее встретил Шубников.
– Ну вот спасибо, что не обманули, – тихо говорил он, пожимая ее руку, – я его уже подготовил.
Но видно было, что он озабочен и еще чем-то другим: глаза его то и дело обращались к теснившимся на пристани. Ленка огляделась и увидела Малицына. По-видимому, он ехал вниз. В его руках ничего не было. Но вслед за ним прошла на пароход не знакомая никому здесь девушка в синих очках; она несла парусиновый чемоданчик. Ленка вспомнила, что Вера рассказала ей вчера о решении рабочих перед забастовкою отправить Малицына из слободки, чтобы сохранить нужного человека. Быстроглазая Ленка заметила, что Шубников украдкой смотрит и на Малицына, и на девицу в очках. Подумала с досадою: «Ну зачем же они его на пароход направили».
Пароход отошел, пристань опустела, Шубников повел Ленку в гореловскую усадьбу. Долго шли мимо заборов, сараев, какими-то окольными тропками. Через калитку у запертых ворот прошли на пустынный двор, оттуда через ворота в сад и опять шли по тропке вдоль забора. У другой калитки, закрытой со всех сторон кустами сирени, Шубников остановился, достал из кармана ключ, – и через минуту Ленка очутилась в том самом уютном саду, куда недавно с противоположной стороны вошла ночью Вера.
– Вот, Леночка, здесь вам придется проскучать до вечера, – говорил Шубников, вводя Ленку в дом.
Ленка с любопытством осматривалась.
– Ну что ж, поскучаю, – сказала она. – Может быть, книжка найдется.
Шубников скабрезно осклабился и отвечал:
– Найдутся здесь и книжки, и картинки. Пока позавтракайте, потом вам обед принесут.
103
От ранней прогулки Ленка проголодалась и с удовольствием села за стол. Что еще будет вечером, – но теперь надо хорошенько отдохнуть, выкинуть из головы тревожные мысли, быть беззаботною, собрать силу и внимание для трудного сеанса.
– Пока вы кушаете, Леночка, я тут кое-что посмотрю в доме, – сказал Шубников и вышел в коридор.
Ушел и точно потонул: ковры, застилавшие полы в комнатах и коридоре, скрадывали звук шагов. Ленка положила себе осетрины, облила ее белым соусом, потом тихонько подбежала к двери, прислушалась. Звякнул телефонный звонок и замер, задушенный нажимом кнопки, только слышно было гудение быстро поворачиваемой ручки, потом голос Шубникова:
– Пожалуйста, 37.
Ленка осторожно высунула голову, – в коридоре никого, голос слышен из комнаты в дальнем темном конце коридора. Опять заглушённый звонок, – ожидание, – голос Шубникова, слова неотчетливо слышны. Ленка сделала несколько шагов по коридору, – сквозь гудение негромкой речи как будто слова:
– Агитатор, – пароход, – девица в синих очках, – парусиновый чемоданчик, – да, вниз, – там, может, на «Самолет»…
Не столько слышала эти слова, сколько догадывалась, что они могут быть такими.
Молчание, короткий треск отбоя.
Ленка мигом очутилась опять за столом. Когда вскоре вошел Шубников, Ленка не спеша, с видимым удовольствием ела осетрину и так была угублена в это занятие, что даже, казалось Шубникову, не сразу заметила его появление. Он спросил:
– Ну что, как? Отдаете должную дань гореловской кухне? Так в ресторане нигде не накормят. Какова рыбка, а?
Он расхваливал гореловскую кухню с усердием верного слуги и с удовольствием будущего участника таких же богатств. Ленка, улыбаясь, посмотрела на него и сказала:
– Вкусненькая. Все здесь вкусненькое.
– Обед еще вкуснее будет, – говорил Шубников, присаживаясь к столу и принимаясь за водку и закуски. – А что же вы икорки не попробовали? Дайте-ка я вам положу вот этой. Я сейчас сказал по домашнему телефону Анфисе Егоровне, чтобы вам часов в шесть принесли обед. Сам-то я в доме не буду до обеда, на кирпичный завод надо пройти, так пришлось по телефону сказать.
– Я сегодня плохо спала, рано встала, – говорила Ленка, – хорошо бы соснуть до обеда.
– Вот позавтракаем, я вас провожу в спальню. Там же рядом ванная комната, можете перед обедом ванну взять.
– Лучше теперь, а потом я посплю.
– Сразу-то после завтрака? – спросил Шубников. – Это, Леночка, негигиенично. А впрочем, надо сначала печку затопить. Пока вода согреется, время пройдет.
После завтрака Шубников провел Ленку в спальню, откуда был ход в комнату с ванною, умывальником, туалетными принадлежностями.
– Печку я сам затоплю, Леночка, – сказал он, – не надо, чтобы лишние люди здесь видели вас.
И принялся за дело. Скоро дрова, уже наложенные в печку заранее, запылали.
Ленка прошлась по спальне, по уборной. Уж очень все здесь было бело, мягко, душисто, легко, светло, свежо, празднично, уютно, все так располагало к отдыху и лени. Этот уют, потрескивание дров, спущенные на окнах занавески, яркое в окно спальни солнце, пронизавшее легкую занавеску, да еще к этому ощущение нетяжелой сытости да истома от рано прерванного сна, – не устоять от их искушения. Ленка зевнула.
– Нет, – сказала она, – пожалуй, сначала высплюсь. Здесь, я вижу, припасены за печкой поленца, – так я сама подтоплю потом.
– Ну, ну, ваше дело!
104
Шубников распростился с Ленкою, улыбаясь весьма скабрезно, и ушел. Ленка замкнула дверь спальни, опустила штофную малинового цвета портьеру и начала было раздеваться, чтобы полежать в постели, сняла платье и башмаки и вдруг услышала какой-то шорох. Уж не вывалилось ли поленце из печки? Как бы не наделать пожара. Ленка вошла в уборную. Но там все было в порядке. Что же ей послышалось? Не мышка ли здесь бегает? И Ленка внимательно обшарила глазами всю уборную.
На белом лакированном столике возле нарядной белой кушетки лежала маленькая книжка в сиреневом с золотыми звездочками мягком сафьяновом переплете. Ленка взяла ее, первая страничка была занятная, картинка за нею забавная и чуть-чуть неприличная, – Ленка села на кушетку, увлеклась было чтением. Но не прошло и пяти минут, как за стеною послышался шум, как от падения тяжелого тела, соединенный со стуком, точно упал стул, потом заглушённый вскрик. Ленка в испуге вскочила. В доме кто-то есть: или Шубников еще не ушел, или кто-то забрался чужой. Но что же здесь делает Шубников? Подслушивать пока еще нечего.
Впрочем, чего же ей бояться? Дверь замкнута, оба окна спальни, одно по фасаду, другое на боковой стене, и окно уборной закрыты и занавешены. Ленка подошла к окну в уборной. Ярко освещенный солнцем, – было часа два, – лежал перед нею сад. Сквозь неплотную занавеску из прозрачной светло-розовой ткани она видела все ясно, хотя и слегка затуманенным, – жаркие лучи солнца падали слева, скользя по боковой стене и зажигая острою золотою полоскою правый край рамы, – Ленку же никто из сада не увидел бы. А если бы она захотела спрятаться еще лучше, если бы, например, кто-нибудь влез на каменный приступок и стал бы всматриваться в окно, заслоняя глаза от солнца руками, – то Ленка могла бы задернуть замеченную ею только теперь ярко-красную плотную занавеску. Прямо перед окном шла, немного понижаясь, недлинная дорожка, вся прямая, к забору и калитке; за забором из-за деревьев виднелась вдали часть гореловского дома. Одно окно там было открыто, и казалось, что большой дом внимательно смотрит этим окном прямо сюда.
Ленка стояла и ждала, не отводя глаз от дорожки. Прошло несколько минут. Вдруг у самого забора из-за куста сирени выдвинулся Шубников, быстро отомкнул калитку и вышел.
Ленка надела платье и башмаки, выбежала в сад – к калитке, потрогала ее, она была замкнута. Ленка подумала: «Господин инженер взял меня в плен. Ну а сам-то он что делал сейчас?» Вернулась, обошла весь дом. По фасаду три комнаты: с крыльца проходная гостиная, направо столовая, налево спальня и от нее отдельная уборная. Позади этих трех комнат поперек всего дома коридор, в него двери из гостиной и столовой, – уборная имеет выход только в спальню, – по другой стене три двери. В правом конце коридора, около столовой, двойная дверь с большими застекленными рамами и выход в сад. Дверь против столовой вела в буфетную, вторая дверь в кухню: между кухнею и буфетною – арка без двери; в кухне одно окно и рядом с ним дверь на заднее крыльцо. Третья дверь в комнату тоже угловую и тоже с двумя окнами, как и буфетная. В ней телефон с городом и телефон домашний, оба на стене. На столике около телефонов – книжка, список абонентов сначала по порядку номеров, потом по алфавиту. На стене рядом с домашним телефоном ровно прикреплен четырьмя кнопками лист с номерами и названиями помещений, где стоят аппараты дома и на фабрике, всего 31 название.
Ну вот и весь домик. Где тут прятаться и подслушивать? Надо поискать. Но сперва телефон. Анфиса Егоровна – экономка; какой ее номер? Девятый. А кто же тридцать седьмой? Да и нет здесь такого.
Ленка взяла городской список. Нашла строчку: «37. Солодовский, Вл. Ник., полк., нач. Сен. губ. жанд. упр.».
Ленка подумала: «Правду мама говорит, что у этих людей нет ума, а только одно мечтание».
Что ж, Малицына сцапают, этому не помешать никак, разве только сойдет на одной из ближайших дачных пристаней и поедет дальше не на пароходе, – но зато рабочие узнают, что за птица – инженер Шубников.
105
Обойдя еще раз весь дом, Ленка сообразила, что шум, который она слышала, шел из темного конца коридора. Внимательно высмотрела она там все стены и уголки, провозилась более получаса, сначала в полусвете от дальней двери, потом догадалась зажечь электрическую лампочку и наконец увидела люк.
«Не чердак ли?» – подумала она.
Окинула быстрым взглядом платье, сбегала в спальню, платье скинула, да и башмаки и чулки, чтобы не запылить, вернулась в коридор. Взобраться на шкап и оттуда проникнуть на чердак было для нее делом одной минуты.
Сквозь слуховое окно ложился короткий, пропыленный сноп высоких солнечных лучей. Было светло, сухо и, как всегда на чердаках, почему-то грустно и жутко.
Ленка прошла по чердаку несколько раз по всем направлениям. В нескольких местах ложилась на пол, прижимаясь к полу ухом, – не услышит ли случайно звука. Вспомнила, что в столовой есть часы, стенные, в футляре красного дерева, с тяжелым и звучным ходом. Пошла в тот угол чердака, который, по ее расчету, был над столовой. Там долго слушала в разных местах, – ничего не слышно. Не коврик ли мешает? Отбросила его и тотчас же увидела крышку глазка.
Так вот для чего здесь два коврика!
Откинула и другой. Так, один над столовою, другой над спальнею. Видно неважно, открывается небольшая площадь для наблюдений, – здесь стол и перед ним диван, вокруг стулья, там постель. Зато хорошо слушать.
Обшарила весь пол, больше ничего не нашла. Ну что ж, гостиная – проходная, в ней не засиживаются.
Ленка спустилась вниз. Помылась, оделась. Обошла весь сад, – нет ли чего интересного. Нашла три беседки, – все скрыты в кустах, но из одной видна часть берега с пристанью, из другой – фабрика, из третьей – гореловский дом.
Было четыре часа. Перед фабрикой небольшими толпами стояли рабочие, работницы, сновали дети. По всему видно было, что забастовка началась. В гореловском доме все окна закрыты. На пристани люди ждут парохода, стоят, как всегда, точно сонные, только около воды ребятишки балуются, да и то без особенного одушевления.
Что ж теперь делать Ленке? Замкнут сад, ни ей выйти, ни к ней никто не придет. Ленка пошла в спальню, открыла окно, чтобы не было душно и чтобы услышать, если будет какой-нибудь особенный шум, разделась и легла в постель. Спала до половины седьмого.
Разбудил ее какой-то монотонный звук. Она полежала, вслушиваясь, – похоже на далекий барабанный бой, как будто где-то идут солдаты. Спальня была пронизана лучами солнца из обоих окон. Ленка встала. Было грустно, как всегда, когда просыпаешься днем. Или, может быть, этот сухой звук барабанов нагонял на нее грусть?
Ленка подтопила печку, посидела в теплой ванне минут десять, потом облилась холодною водою, оделась, вышла в столовую. Там уже ожидал ее обед.
После обеда она взяла опять ту же занятную книжку и вышла с нею в сад. Солнце было уже низко. Время от времени слышны были издалека громкие голоса, – как будто там за оградою и около ручья ходили толпы; ничего не было угрожающего в этих звуках, иногда весело взвизгивала гармоника, доносилось пение, смех, – но Ленке было жутко. Она поднялась в беседку, глянула к фабрике, – на дворе и перед оградою было пусто, у ворот стоял часовой с ружьем. Ленка села, взялась за книгу. Но ее хватило не больше как на полчаса.
Ленка вышла из беседки, посидела на скамейке, потом пошла по дорожкам вдоль забора. Дошла до внешнего забора, подивилась на ров. Потом прислушалась, – кто-то шел недалеко, нарочно громко переговариваясь. Голоса все ближе, слышен шум и треск ветвей. Звонкий голос подростка закричал:
– Хозяин, а хозяин, где полюбовниц принимаешь?
Смех, топот убегающих ног, и в то же время шагах в двадцати от Ленки упал на дорожку небольшой камень. Ленка подобрала его, вернулась с ним в дом, легла в гостиной на диван и опять заснула.
106
Она проснулась точно от толчка. Вскочила на ноги. Было уже темно. В столовой звенела посуда.
– Кто там? – спросила Ленка.
Вошел Шубников, повернул выключатель электрической люстры. Ленка окинула его внимательным и быстрым взглядом. Он был красен, взъерошен, взбудоражен. От Мефистофеля в нем теперь ничего не оставалось, и из оперных персонажей он напоминал скорее всего Лепорелло через час после испуга перед гробницею командора, – на его лице еще не улеглись судороги, и в руках не успокоилась дрожь, и весь он иногда чуть-чуть передергивался.
– Ужин вам принес, Леночка, – говорил он. – Так через полчасика Иван Андреевич припожалует.
– А что на фабрике? – спросила Ленка.
Шубников воззрился на нее сердито и тревожно.
– На какой фабрике? При чем тут фабрика!
Голос его дребезжал, карабкаясь и срываясь на всех ступенях неширокой гаммы. Ленка говорила с усмешкою:
– Я слышала, барабаны били, думала, солдаты пришли, забастовщиков унимать.
Шубников хмурился и злобно ерошил волосы.
– Какие там солдаты! – угрюмо бормотал он, и лицо его передернулось злою гримасою. – Это вы во сне видели, уж очень крепко заснули, надо полагать.
– А забастовка? – спросила Ленка.
Шубников совсем обозлился и задрожал мелкою дрожью.
– Да что вы мне все про забастовку толкуете! – закричал он. – Далась вам эта забастовка! Ни забастовки, ни солдат нет, и вы это выбросьте из головы. Думайте о вашем деле, и больше никаких.
Ленка поискала глазами принесенный ею из сада камень, вот он, лежит на кресле около дивана. Подала его Шубникову. Сказала:
– Мне страшно, – тут и днем-то не дай Бог сидеть. В сад после обеда ненадолго вышла, а тут мимо какие-то шлялись, камнем через забор швырнули.
Шубников испуганно оглядывал камень. Потом вдруг набросился на Ленку с упреками:
– Что же вы, на забор, что ли, полезли? Или так переговаривались с ними? Они вас видели? Слышали? Не могли вы посидеть спокойно? Этак вы всех этих хулиганов сюда подманите, начнут забор ломать.
– Да вы не волнуйтесь, Андрей Федорович, – спокойно отвечала Ленка, – видеть и слышать они меня не могли, забор высокий, я не шумела, они так просто озорничали, да и камень пустяковый, и попал бы, не убил бы, и всего-то бы дела – синяк нашиб. А только напрасно вы меня в такое время сюда привели, когда на фабрике неспокойно. Еще сюда ворвутся и меня изобьют, да и хозяина грешным делом зашибут до смерти, – много ли старому человеку надобно!
– Ну, ну, поехала с орехами! – сердито бормотал Шубников. – Никто вас не тронет, и никому сюда не попасть.
– Сами сейчас говорили, забор ломать станут.
Шубников сердито козлом глянул на Ленку. Она смеялась.
– Вы ко мне не придирайтесь! – визгливо крикнул он. – И так голова кругом идет. – Я говорил, если бы вы их дразнить вздумали. А так зачем сюда пойдут? Кто на Горелова захочет напасть, тот в дом к нему пойдет, а этого места никто не знает.
– А камень? – спросила Ленка.
– Ну, просто озорники-мальчишки шли откуда-то и швырнули. Потому и бросили, – думали, никого нет. Ближе к дому не посмели бы. Да и вообще, теперь уж поздно рассуждать. Пришли, и он сейчас придет. Сидите и ждите.
Шубников вдруг изменил ворчливый тон на просительный.
– Леночка, миленькая, ангел дорогой, будьте душенькой, постарайтесь. У Николая Ивановича сегодня опять с Иваном Андреевичем неприятность вышла. Так досадно! Николай Иванович – такой неосторожный и несдержанный человек. В глаза отцу про Веру брякнул, да еще при Солодовском.
– А зачем здесь Солодовский? – опять спросила Ленка.
Шубников досадливо поморщился.
– Ну я почем знаю! Мало ли какие у них могут быть дела! Леночка, голубчик, не развлекайтесь посторонними соображениями, думайте о своем. Да и я-то дурак, болтаю с вами о чем не надо. У меня голова болит, Леночка, сегодня весь день дела, хлопоты, неприятности. Устал как собака. Пойду домой. А вы, Леночка, будьте паинькой, сидите здесь тихонько и ждите. Пожелаю вам всяческих успехов и улетучусь.
И быстро пошел в коридор. Ленка улыбалась, представляя себе, как Шубников станет сейчас карабкаться на чердак.
107
Разговаривать с Гореловым в доме, где таится подслушивающий, неудобно. Ленка помедлила немного и тихонько, стараясь не стукнуть дверью, вышла на переднее крыльцо. Сошла по боковой лесенке, пробежала под передним окном спальни и по боковой дорожке пошла к калитке. Слуховые окна чердака проделаны на переднем и на заднем скатах железного шатра кровли; боковые стороны чердака забраны тесом и без окон. Значит, если Шубников и станет смотреть в слуховое окно, там ее не увидит, – а на крышу вылезать ему не резон. Там в кустах у калитки Ленка подождет Горелова и там же или в одной из беседок все ему расскажет.
В саду была светлая ночь, – немного ущербленная справа, только что начавшая убывать луна за Волгою близилась к югу, бросая недлинные тени. Казалось, что она бледна от печали и, любопытная, заглядывает поверх высоких деревьев в этот красиво и старательно возделанный и белыми ночными цветами благоухающий сад, чтобы тоску свою утешить созерцанием сладостных поцелуев, – ей, чистой, и грешная земная ласка является непорочною эдемскою забавою.
Подходя к калитке, Ленка заметила, что за кустами у забора справа от нее движется что-то белое. Ленка остановилась, вгляделась, – освещенная прямо в лицо луною, шла Вера. На ней было белое платье, то, в котором на днях она танцевала и веселилась до слез на товарищеском балу, белые чулки и белые башмаки. На голове белый платочек, и лицо бледное от лунной высокой печали.
Ленка пошла к ней навстречу, и сердце ее забилось от печали и жалости.
– Верочка, милая, ты сама пришла? или он тебя позвал? Вот-то сошлись.
– Подал знак, – отрывисто и тихо говорила Вера. – Был у нас утром. Видно, готова бумага. Спроворил. А я пришла, думаю, ты с Иван Андреевичем. Ну, думаю, что мешать. Потом думаю, войти все-таки надобно. Думаю, пришел ли? Подкралась тихо, – сквозь занавески в угловой будто свет. Тихонько с бокового крылечка поднялась, вошла в коридор, слышу твой голос, и еще Шубников козлом дребезжит. Ну, думаю, холоп распространяется, значит, хозяина еще нет. Выбралась, в кустах схоронилась, как воровка. Жду, когда приспешник комолый выкатится.
Вера засмеялась. Сказала вдруг весело:
– Мама твоя о нем верно говорит.
– Да уж у меня мама умеет словечки подбирать.
– Ну вот, – говорила Вера, – стою, вдруг вижу, ты идешь. Пошла и я. А что же тот-то?
– Инженер Шубников на чердак полез, – сказала Ленка.
И передала Вере все, что узнала днем в домике.
– О, – сказала Вера, – недаром его наши так не любят. Вот-то негодяй! Видно, все прихвостни таковы, – мастера на все руки.
– Ну, а у вас что? – спросила Ленка.
– У нас тревожно, – сказала Вера. – Забастовка. Хозяин говорил с рабочими. Почти на все согласен. Только в одном разошлись. Товарищи требуют увольнения Шубникова, хозяин и слышать не хочет. Ну да сошлись бы, – хозяин уступил, в этом наши бы ему уступили. Да вдруг солдаты нагрянули. Говорят, сам-то даже и не знал, без его ведома Николай да инженер вызвали. Теперь плохо. Кто у нас за мировую говорили, теперь воды в рот набрали, молчат. Наши о Шубникове больше не хотят и слушать. Шубников на дворе у потребилки от хозяина как-то отстал, так наша молодежь его помяла немного. Ну, постарше вступились, хозяин его в коляске увез.
– А что ж солдаты? – спросила Ленка.
– Да что солдаты! Солодовский заорал, офицер начал петушиться, чего-то командовать, горнист заиграл, воины ружьишками брякнули, – ну, наши поразбежались, обошлось пока без крови. Хорошо, что моего Глеба там не случилось. Потом говорит мне: будь я там, я бы его двинул. Не любит он Шубникова. Да и за дело, видно. У Малицына, видно, глаз верный, сразу его понял.
108
– Вера, у тебя пятно на платье, – сказала Ленка.
Вера оглянула себя, – спереди, внизу белой юбки, серое пятно. Припоминая, сказала:
– Там у калитки камень большой, не видела, споткнулась, упала.
– В доме вода есть горячая, пойдем, замоем, пока не влипло, – заботливо говорила Ленка.
Вера усмехнулась, пожала Ленкину руку, сказала:
– Подожди, дай отдохнуть.
– Ну посиди, я сюда принесу одеколон и полотенце.
И быстро побежала в дом. Это пятно на белом платье, – нельзя его стерпеть Ленке, плакать от него хочется. Вера, улыбаясь, смотрела вслед за нею, потом села на скамейку, – так устала!
Скоро Ленка вернулась с флаконом и с полотенцем. Стала на колени, лила одеколон и снимала осторожно полотенцем грязь. Ну вот опять чисто, а мокрое пятно живо высохнет.
Вдруг Ленка уронила флакон и полотенце на песок, ухватила Верины колени и заплакала.
– Верочка, милая, сестрица дорогая!
– Ну, ну, не плачь, – лаская, унимала ее Вера, – потом еще успеем поплакать, времени будет много и для слез, и для смеха. А теперь к нему с красными глазами не идти.
Ленка вытерла слезы, села рядом с Верою. Помолчали.
«Да, не надо распускаться», – думала Ленка.
Спросила, опять собирая всю свою силу и все внимание:
– Что же мы будем делать? Поздно, Горелову сегодня не до того, пожалуй, и не придет.
Вера усмехнулась и сказала уверенно:
– Придет! Ты одна его встреть, Леночка, расскажи ему все, что надо. А я пока тут в саду подожду. Хорошо тут, спокойно. Потом, когда кончишь, дай мне знак, – ну, запой что-нибудь, хоть про Стеньку, что ли. А пока объясни мне хорошенько, как там чердачок-то устроен.
Сидели на скамейке и разговаривали тихо. Луна поднималась выше, все пристальнее оглядывая сад. Уже она была на юге, когда заскрипел в замке ключ. Вера быстро отошла за кусты. Ленка подняла флакон, хотела положить его на скамейку, да заторопилась, забыла о нем и, машинально вертя его в руках, стала около калитки. Горелов вошел. Огляделся. Спросил с удивлением:
– Это кто? А, да это – Ленка! Как ты сюда попала?
– Господин Шубников привел, – отвечала Ленка.
Брови Горелова сурово сдвинулись. Гневным окриком хозяина он спросил:
– Зачем?
– Иван Андреевич, пойдемте подальше, в беседку, я вам все объясню, – говорила Ленка.
Горелов подозрительно глянул на нее. Флакон в ее руках навел его на тревожные мысли. Он спросил:
– С Верою что случилось?
– С Верою ничего, не беспокойтесь, Иван Андреевич, только говорите тише, он подслушивает.
– Кто? жених? Как он сюда попал?
– Господин Шубников подслушивает.
– Час от часу не легче! Что за ерунда!
Вера услышала, как Ленка и Горелов ушли по дорожке вдоль забора к Волге. Тогда она вышла к калитке, села на скамейку, прислушивалась, ждала.
Прошло более получаса. Было тихо и в ограде, и за оградою. Только раза два-три откуда-то издалека донеслись веселые вскрики, песня, стук телеги, – и опять тихо. Тени заметно передвинулись. Боковая стена домика отчетливо белела. Из ее трех окошек два были видны Вере, в спальне и в уборной, занавешенные, и домик казался ослепшим и чутко слушающим, а красный железный ободок переднего слухового окна казался настороженным ухом, продетым сквозь зеленую железную шапку.
Вот скрип песчинок, негромкие голоса. В узком просвете между деревьями дорожки и ребром дома на короткий миг показались, подходя к переднему крыльцу, Горелов и Ленка. И тотчас же Ленка негромко запела:
Из-за острова на стрежень…
Но Горелов тревожно остановил ее:
– Тише, замолчи! Не ровен час, услышат. Я здесь в домике и инструмента никакого не держу, кроме гитары, – она тихая.
Ленка перестала петь и тихо смеялась. Вот шаги на ступеньках, легкий шум открытой и опять закрытой двери.
«Унимает, как меня тогда, – подумала Ленка, – осторожен, а от Шубникова не остерегся».
Она бежала вдоль забора и по той же дорожке, как в первый раз, вышла к домику.
109
Когда Вера вошла в домик, Горелов сидел на диване в гостиной и хохотал, Ленка стояла перед ним. Лицо Горелова очень покраснело, глаза налились кровью, и он казался непомерно взволнованным и возбужденным. Распахнутый сюртук и полузастегнутый жилет давали простор широкой груди быстро и тяжело дышать под слабо накрахмаленною сорочкою.
– А, заклинательница! – громко закричал он. – Вот так раз! Ждал одну, две пожаловали.
И он захохотал еще громче. Ленка повернулась к Вере. Ее глаза были тревожны.
– Ну, девицы, пойдемте ужинать, – сказал Горелов, – пока еще горячее не простыло.
И пошел в столовую, тяжело прихрамывая. Ленка шепнула Вере:
– Ему очень худо. В беседке обморок был.
Горелов шел по столовой, опустив голову, все медленнее и тяжелее. Наткнулся тучным животом на стол, так что дрогнули белые розы и уронили два-три лепестка, – Горелов точно очнулся. Поднял голову, прошел к дивану, сел. Смотрел хмуро, дышал тяжело, точно прошел дальнюю дорогу.
– Два прибора только, – сказал он.
Ленка подошла к нему.
– До свиданья, Иван Андреевич, я пойду. Вера меня выпустит.
Горелов посмотрел на нее, с усилием что-то соображая. Потом вдруг захохотал:
– Подойди, уйти успеешь, пока поужинай с нами. Вон там в буфете найдешь, возьми себе прибор, распоряжайся как дома. А ты, Вера, садись рядом со мною здесь на диване, ешь, пей и веселись. Сегодня твой день, твой праздник, все по-твоему сделано.
Ленка пошла к буфету. Горелов говорил:
– А инженер-то у меня каков! Видит, хозяин заскучал, так он ему для развлечения сейчас же милую девицу предоставил. Значит, пока еще Вера надумает, придет, а вот тебе для забавы другая. Ай да инженер! Ну, Вера, что ж не спрашиваешь, принес ли я обещанное?
– Что мне спрашивать! – отвечала Вера. – Сами скажете. Обещали, значит, сделаете, а мне беспокоиться нечего.
– Правильно говоришь, Вера! – закричал Горелов, хлопая ее по плечу. – Леночка, подставляй свой бокал. Эх, жаль, услужливого инженера нет, был бы тебе кавалером.
Вера сказала со злою усмешкою:
– Что ж, Иван Андреевич, может быть, у вас тут телефон есть, так господина Шубникова вызвать можно.
Горелов подумал, усмехнулся, сказал:
– А ну, Леночка, сходи к телефону. По коридору налево, третья дверь направо. Выключатель у двери слева. Телефон тут же, как войдешь, на стене под лампочкой. Одиннадцатый номер позови.
Усмехался хитро и лукаво, но почему-то Ленке было жутко видеть шутливую улыбку на лице, которое она недавно видела покрытое холодным потом.
110
Когда Ленка вышла, Горелов перестал улыбаться. Лицо его побледнело, он весь осунулся, тяжело привалился в угол дивана и говорил медленно, тяжело, точно каждое слово давалось ему с трудом:
– Слушай, Вера. Бумагу я принес. Вот она. Крепко сделано. По форме. У нотариуса в книгу вписана от слова до слова. И свидетели, и печати, и все, как следует.
Он долго шарил правою рукою в боковом кармане сюртука. Вытащил плотный конверт. Вынул оттуда документ, – сложенные вчетверо, сначала вдоль, потом поперек, два больших листа плотной синеватой бумаги, семь страниц исписаны, восьмая чистая. Оба листа сшиты внутренним швом, и концы ниток припечатаны внизу седьмой страницы двумя печатями, нотариуса Черноклеина и Горелова. Горелов осмотрел документ и развернутым отдал его Вере вместе с конвертом.
– Крепко, – повторил он. – Только ты прочти.
– Я верю, – тихо сказала Вера.
– Прочти, – настойчиво повторил Горелов. – Не в дурачки играем. Должна знать. Не совсем так написано, как сказала. На одну тебя. Иначе неудобно. Мне объяснили, – так крепче. Ну, когда в правах утвердишься, можешь им передать, тогда с тебя воли не снимут. Ну читай, читай.
Верины руки дрожали, когда она положила перед собою документ.
– Читай вслух, – сказал Горелов, – сумятица такая была сегодня, не вчитался толком. Не забыл ли кого.
Вера читала, Горелов слушал, кивая головою:
– Так, так! – говорил он после каждого пункта.
Обычное введение, – назначение душеприказчиком профессора Абакумова, – отказ Вере фабрик, капиталов, домов и земель в полную собственность за изъятиями, означенными ниже, – дом в Москве, дом в Сонохте, дом в усадьбе при фабрике с садами, огородами и службами при них в пожизненное владение Любови Николаевне, – ей же и Милочке пожизненное отчисление по десяти процентов с доходов от фабрик и во всяком случае не менее тридцати тысяч каждой, – отчисления на содержание домов и служащих при них во время пожизненного владения, – длинный ряд выдач родственникам, слугам, друзьям и учреждениям.
Во время чтения вернулась Ленка. Вера приостановилась. Горелов спросил:
– Ну, что инженер?
– Никто не отвечает, – сказала Ленка.
– Крепко спит, – сказал Горелов, смеясь. – Ну, Вера, читай дальше. А ты, Леночка, садись.
111
Наконец чтение окончено. Вера молча сложила бумагу и сунула ее за ворот платья.
– Слушай, Вера, – опять начал Горелов. – И ты, Ленка, слушай. Потом скажешь людям, что Горелов говорил своей наследнице. Сегодня мой сын…
Он тяжело перевел дыхание. Ленка тревожно встала.
– Ничего. Пройдет. Налей вина.
Отпил немного холодного шампанского, грузно привалился к столу, облокотился, положил голову на ладонь правой руки, сжатою в кулак левою рукою ударял по столу и говорил, тяжело останавливаясь на каждом слове:
– Мой сын, – мне в глаза, – и при чужих, – при жандарме, – в моем доме, – при моей жене, – при моей дочери, – посмел мне сказать: «Твоя любовница велела тебе меня ограбить и отдать все рабочим». Он лжет!
Горелов поднялся, весь багровый и дрожащий. Хриплым голосом он выкрикивал:
– Я ему сказал: «Проклятый, лжешь, и будь ты проклят отныне и до века. Не за блуд, нет, ты лжешь!»
Вера бросилась к нему.
– Иван Андреевич, милый, не волнуйтесь.
Горелов отстранил ее дрожащею рукою. Тяжело колеблясь, ухватясь за локотник дивана, он говорил рыдающим голосом:
– Стой, Вера, слушай. Никогда никого так не любил, как тебя, но что тебе дал, не за блуд даю, не за ласку краденую. Даю за то, что я люблю, я, Горелов. А ты какая ко мне пришла, такая и уйдешь, к жениху, уйдешь, без стыда в глаза ему глянешь.
Ленка отошла к окну и тихонько плакала. Горелов замолчал, тяжело опустился на диван и опять провалился в угол. Дрожащими руками он обшарил себя и не видел, что портсигар лежит перед ним на краю стола. Вера обеими руками схватилась за грудь, – никогда так больно не билось сердце. И не знала, что сказать, что сделать. Сказала:
– Иван Андреевич, вот портсигар.
Горелов поднял голову.
– Да? А я ищу в кармане. Спасибо, Вера.
Вера обошла вокруг стола, не спеша опустилась на колени и медленно поклонилась в ноги Горелову.
– Что ты, что ты, Вера! – испуганно бормотал Горелов, – тебе ли кланяться? Ты – царица и очаровательница. Встань.
Пытался подняться, но ослабевшие вдруг ноги не держали. Вера поднялась, – лицо в слезах, щеки стыдливо и радостно раскраснелись. Не вставая с колен, она говорила:
– Иван Андреевич, милый, как вам благодарна, сказать не могу. Чем заслужить, не знаю. Все сделаю, что скажете.
– Ну что, встань, – тихо говорил Горелов. – Я себя переломил, мне ничего не надо. Разве одно, – на прощание поцелуй меня, как сестра милая.
Вера встала, нагнулась к Горелову, и он потянулся к ней, но вдруг, испуганно протягивая руки, закричал:
– Нет, нет, не надо! Поцелуешь, – зверем стану.
Вера опустила голову и отошла. Горелов, весь поникнувший, тихо говорил:
– Так и уйду, ни разу тебя не поцеловавши.
Потом, делая над собою усилие, сказал притворно-весело:
– Ну, девушки, что приуныли? Вино еще есть, выпьем. Ключ у тебя, Вера? Когда уйдешь отсюда, брось его в Волгу. И мой ключ, как уходить буду, тебе отдам, – туда же его. Я себя переломил, больше мне сюда не ходить.
112
Послышался далекий шум.
– Что там? – спросил тревожно Горелов. – Леночка, открой окно.
Через открытое окно шум стал слышен яснее. Как будто у самого забора над оврагом кричали несколько человек. Слов было не разобрать. Только раз какой-то особенно звонкий выкрик донесся:
– Эй, хозяин!
Конец фразы потонул в гаме и смехе. Потом несколько сильных ударов по забору, не то дубиною, не то камнями, – брань, – хохот, – топот убегающих шагов, – треск ломаемых сучьев, – удаляющийся шум голосов.
Вера стояла у окна рядом с Ленкою. Побледневшая луна склонялась к западу. Ее тени умирали в неясных предсветах едва занимавшейся еще бледной зари.
Когда голоса стали смолкать, Ленка закрыла окно, и они обе вернулись к столу. Вера увидела, что на столе рядом с бокалом Горелова лежит револьвер. Она сказала:
– Иван Андреевич, зачем это? Сюда никто не попадет.
– А слышала шум? – хмуро спросил Горелов.
– Озорники мимо шли, – отвечала Вера. – Товарищи вас не тронут.
– Там не товарищи были, – бормотал Горелов, опуская голову на грудь.
И похоже было на то, что он бредит.
– А кто же? – спросила Вера.
– Черти. Или хулиганы. Николай да Шубников их наняли на меня напасть, пока, думают, я еще не успел завещание сделать. От них всего можно ждать.
– Да они ушли, Иван Андреевич, – уверяла Вера. – Если бы так было, как вы думаете, так они шуметь бы не стали, тихо бы это дело сделали. А это просто озорники. Завтра на работу не идти, вот они и колобродят всю ночь напролет.
– Ну, ну, правильно, – говорил Горелов, – ты умная.
Вера взяла револьвер, осмотрела его. Весь стальной, простой с виду, а человека убить можно. Злые мысли визгливым роем накинулись на нее.
– Осторожнее, заряжен, – сказал Горелов.
Вера усмехнулась.
– Умею обращаться. Я пули выну.
Быстро вскинула револьвер кверху и одну за другою всадила все шесть пуль в потолок прямо над серединою стола. Зазвенели, падая, раскрашенные отражатели, сыпалась штукатурка.
– Ах! ах! – вскрикивала при каждом выстреле побледневшая Ленка.
Горелов с диким восторгом смотрел на Веру.
– Вот так вынула пули! – сказал он.
Вера бросила револьвер на кресло и громко, точно заглушая все другие звуки, сказала:
– Простите, Иван Андреевич, нашумела, потолок испортила. Да что! Сами сказали, что здесь больше не будете веселиться. Простите. А мне домой пора. Леночка, иди к нам, поспишь у меня. Маме что ни есть скажем, придумаем дорогой.
– Пора и мне, – сказал Горелов.
Сделал над собою усилие, точно весь собрался, встал и быстро пошел к выходу.
113
В саду было прохладно. Млечный свет развеялся по небу. Тени смешались, поднялись в посветлевший воздух, и все кусты и деревья казались блаженно-успокоенными.
Горелов сошел на дорожку, остановился, глянул на домик, повернулся к востоку, где за деревьями уже розовело небо, перекрестился. Вера и Ленка стояли на крыльце.
– Вера, – негромко, слегка дрогнувшим голосом сказал Горелов, – проводи меня до калитки. Ключ там от меня возьмешь, замкнешь за мною.
Молча дошли вдвоем до калитки.
– Так-то, красавица, – сказал Горелов, – переломил я себя, а чего это мне стоит, один Бог…
Пропустил слово «знает» и не заметил этого. Продолжал:
– Стань к свету, к заре лицом, дай на тебя в последнее наглядеться.
Вера прижалась спиною к калитке. По ее лицу текли слезы. Горелов сказал с тихою радостью:
– Плачешь? пожалела? Дороже бриллиантов мне твои слезы.
Долго смотрел. Потом отошел, сел на скамейку, опустил голову. Вздохнул, встал, сказал решительно:
– Ну, будет. Ты не размазня да и не кисель. Вытри слезы, улыбайся.
Вера достала платок, прижала его обеими руками к лицу, точно всю печаль им с себя сняла, и стала перед Гореловым. Она светло улыбалась, и лицо ее легко порозовело от радости, побеждающей все печали и страхи, да от легкой зари, в небе светлом весело разливающейся, да от свежести ранней утренней, милее которой на свете только ласка милой, только радость милого.
– Вот такой тебя навсегда запомню, заклинательница змей, – медлительно и печально говорил Горелов. – Радость твою вижу ясную. Спросят: «Что хорошего сделал?» Скажу: «Веру обрадовал». Прощай.
Встал, крепко сжал Верину руку. Отомкнул калитку, ключ отдал Вере. Помедлил, сдвинув брови. Потом быстро и тихо сказал:
– В домик лучше бы и не заглядывала. Ну да как знаешь. Будешь уходить, замкни. Если твои пули невзначай попали куда не надо, – Ленка скажет, в чем дело, – так ты не беспокойся. На себя возьму. Вот и при Ленке скажу. Пусть она сюда придет.
Вера пошла к домику. Ленки не было видно.
– Леночка! – тихо окликнула Вера.
Постояла, поднялась на крыльцо. В это время дверь быстро открылась, и Ленка вышла поспешно, точно испуганная.
– Иван Андреевич тебя зовет, – сказала Вера.
Горелов ждал, прислонясь плечом к притворенной калитке. Спросил:
– Леночка, была после нас в столовой?
– Была, – отвечала Ленка.
– Ничего не слышно?
– Тихо.
– Ну, слушай, вот при тебе Вере скажу. Если что неблагополучно, Вера ни при чем. Она револьвера и в руки не брала. Понимаешь?
– Понимаю, – отвечала Ленка.
– Мой револьвер, я стрелял, чтобы хулиганы слышали да боялись, я за все и в ответе. Ну, прощай, Вера. Не поминай меня лихом. Прощай, Леночка. Спасибо, что пришла и побыла здесь. Если жениху злые люди наговорят небылиц, ты скажешь, что я к Вере не прикоснулся, что она мне даже поцелуя не дала.
Повернулся и пошел тяжелыми и неровными шагами к своему дому. Вера стояла у калитки и смотрела за ним, пока его грузная фигура не скрылась за кустами и деревьями. Жалость, странно похожая на любовь, больно горела в ней.
Когда она повернулась лицом к разгоравшейся заре, все перед нею показалось ей странно переменившимся. И она вспомнила: «Что ж я! Зачем здесь? Змеиное гнездо растоптано, радуйся, Вера, радуйся, невеста!»
114
Горелов медленно и долго шел по аллеям своего сада. Становилось все светлее вокруг и все сумеречнее в сознании Горелова. Короткие мысли, одна печальнее другой, вспыхивали и гасли, точно остуженные диким холодом, ложащимся на сердце. И все чаще повторялась одна: «Я умираю». И все труднее было идти и тяжелее дышать. Присаживался на скамейки, отдыхал, шел дальше. Было тихо, птицы не пели, ветер не веял. Где-то, ему незримое, за насаждениями его сада от его помутневших глаз скрытое, медленно-медленно, как запаздывающая радость, всходило солнце. Но в золотую радость восхода кто-то злой раскидывал перед его глазами черные нити, сплетал их в сети и паучьими серыми лапами быстро и бесшумно сновал где-то сбоку, таясь и дразня беззвучно.
Кое-как поднявшись на террасу, Горелов посидел там в плетеном кресле, отдышался немного, потом отворил французским ключиком боковую дверь и вошел прямо в холл. И точно кто-то шепнул ему злорадно: «Пришел домой». И сумеречный холл похож был на склеп.
На столике в дальнем углу светилась электрическая лампа, прикрытая шелковым голубым колпаком. Любовь Николаевна сидела перед столиком на стуле. Ее голова лежала на развернутой на столике книге, прическа немного развилась, рука свешивалась вниз, и платок белел на темно-синем ковре. На ней было то же кремовое платье, в котором видел ее Горелов вечером. Но теперь казалось ему, что оно покрыто слоем серой пыли.
Мимо широкой дубовой лестницы, откуда падал сверху неверный и неясный, слегка розовым окрашенный свет, он прошел через весь холл и тяжело опустился в массивное дубовое кресло с высокою спинкою, обитое темною кожею и стоящее около того же столика.
От медленного шума его тяжелых шагов Любовь Николаевна проснулась, открыла глаза, огляделась. Сказала, дивясь:
– Уже утро!
«Надо сказать, – подумал Горелов, – проститься, освободить, утешить».
Но мысли не складывались в речь, и тяжело было думать, и всякое чувство отходило, сменяясь усталым равнодушием.
Он тихо спросил:
– Люба, ты так и не ложилась?
Любовь Николаевна смущенно, точно оправдываясь, говорила:
– Я сидела у себя, читала. Потом стало как-то тревожно. С Волги крики какие-то доносились. Посмотрела в окно, – в саду такой ясный лунный свет, что у меня голова закружилась. Я спустилась сюда с книгою, здесь мне показалось так уютно, почитала да и заснула невзначай.
– Устала ты вчера, Люба, – тихо молвил Горелов.
– Что я! – отвечала Любовь Николаевна. – Тебе тяжелее было. Ты не спал?
Горелов промолчал. Дышал трудно. Опустил голову на грудь. Любовь Николаевна подошла к нему. С тревогою глядела на его осунувшееся лицо, потемневшее, точно чужое в этом неверном освещении полутемного холла ранним утром. Спросила:
– Тебе плохо?
Оттого, что она встала близко, Горелов почувствовал, что всегда милое ему лицо было как лицо прощающего ангела, и ее платье просветлело светом неувядающей райской розы, и он знал, что она все поймет и простит. Только сумеет ли, успеет ли он сказать?
Он отвечал на ее вопрос:
– Нездоровится, знобит. Помоги мне подняться по лестнице. Или нет, постой, сперва приму лекарство. Капли, что в кабинете, – на столике в простенке, – темный, с сигнатуркой.
– Знаю, – сказала Любовь Николаевна.
Быстро пошла вверх по лестнице. Горелов с усилием поднял голову и смотрел вслед за нею. Было тоскливо и страшно, – убывал свет, уходило последнее утешение. Хотел позвать, вернуть, но вместо громкого зова только хриплый шепот:
– Люба.
И она не слышала, – в шелесте легкого платья потонул тихий шепот.
Когда ее светлое платье последний раз мелькнуло за темною дубовою решеткою лестницы, Горелову показалось, что кто-то, тяжело ступая в подкованных железом сапогах, подошел к нему сзади и у самых его глаз поставил, не прижимая, две громадные ладони цвета первозданной земли, и они стояли, слегка колеблясь, как два изрытые временем ржавые заступа. Холодное и скользкое поползло по спине, точно лили за ворот густо замешанную землею воду. Стало вдруг тошно, словно грубый локоть в тяжелом железе надавил под сердцем. Ломило голову, как будто кто-то сильными пальцами сжимал виски. Ощущение дурноты возрастало невыносимо, и вдруг словно обрушил кто-то на его темя непомерную тяжесть, и погасил весь свет, и задул дыхание жизни.
Когда Любовь Николаевна вернулась, ее встретило безмолвие смерти.
115
Ленка сказала Вере:
– Вера, я сейчас была в столовой. На чердаке ничего не слышно. Если Шубников подвернулся…
Она не кончила. Вера сказала просто и спокойно:
– Поднимемся, посмотрим.
– Ты не боишься? – спросила Ленка.
Вера невесело улыбнулась и отвечала:
– Что мне теперь о страхе думать! Надо кончать, нести домой бумагу, потом с верными людьми посоветоваться. А насчет чердака надо знать наверное, не случилось ли там несчастия. Я, как увидела эту игрушку, у меня в глазах позеленело. Вспомнила Шубникова, Малицына, такое меня зло взяло, себя не помнила. Пойдем, Леночка.
Ленка первая взобралась на чердак и помогла Вере подняться туда. На чердаке им показалось сначала очень темно. Но понемногу глаза привыкли к слабому свету, мутно льющемуся из двух слуховых окон. Прошли через эту светлую полосу и опять словно потонули в серой тьме.
Вдруг Ленка слабо вскрикнула.
– Что ты, Леночка?
Вера взяла ее за руку. Ленка шептала:
– Запнулась. Сапог. Здесь он лежит.
Обе нагнулись и всматривались в тяжелое длинное тело, лежавшее перед ними. Вера подвинулась вперед, нашла руку, – холодная, – увидела мертвое лицо: лежит как лежал, на правом ухе. Вера встала на колени, перекрестилась несколько раз. Потом сказала ему отчетливо и громко, точно он мог ее услышать:
– Прости меня, Андрей Федорович. Не знал, куда идешь, и не то сделал, что хотел сделать. Бог рассудит. Прощай.
Наклонила голову, постояла, точно ожидая ответа, поднялась.
– Пойдем, Леночка.
Молча выбрались из домика. На крыльце, когда Вера замыкала дверь, Ленка спросила:
– Вера, что же нам делать? молчать? или заявить?
Вера посмотрела на ясную зарю. Сказала:
– Тяжело, Леночка, да ведь что ж делать? Помолчим лучше. Ключи в Волгу, хозяин сюда не придет, – пусть лежит.
– Будут искать? – спросила Ленка.
– Ну поищут, подумают, сбежал с перепуга. Если будет подозрение на товарищей, скажем. Выстрелы хозяин на себя возьмет. Несчастный случай, никто не виноват, никто не обязан был знать, что он там прячется, подслушивает. За чем пошел, то и нашел.
– Прислуга скажет, – говорила Ленка, – обед сюда носили.
– Чего им говорить! – возразила Вера. – Да, поди, и не узнают. От хозяина прятался, и от других надобно прятаться. Да, впрочем, об этом потом подумаем. Может быть, и заявим. Там будет видно. Теперь домой. Бумагу надо донести да спрятать пока что. Матери скажем, что увидела тебя на пароходной пристани и с тобой в лодке каталась. Уж больно хороша была ночь!
116
Когда подошли к подъемному мостику, было уже совсем светло.
– Сейчас солнце взойдет, – тихо сказала Вера.
– Уж очень светло, – говорила Ленка, – как мы пойдем? Встретится кто, догадаются откуда.
– Только бы из калитки выбраться не увидели, – отвечала Вера, – а там кусты. Послушаем, не слышно ли чего.
Постояли молча. Все было тихо. Ленка сказала:
– Я вперед выйду, а ты калитку за мною притвори. Если никого близко нет, я тебе стукну.
Вера подумала и молча наклонила голову. Спустила подъемный мост, отдала Ленке ключ, сама прислонилась плечом к столбу, задумалась. Ленка перешла мостик, отомкнула калитку, приоткрыла ее, просунула голову, – никого не видно. Повернулась к Вере, шепнула:
– Замкни пока.
Вера подошла к калитке. Вдруг послышался треск веток, кто-то сильно рванул и распахнул калитку, – Соснягин. Он оттолкнул Ленку и бросился к Вере. Закричал:
– Ты, ночью, в гореловском саду? Зачем?
– Глеб, успокойтесь. Вера не виновата, – говорила Ленка.
Соснягин кричал:
– Я думал, такой, как ты, и на свете нет, а ты такая же.
– Глеб, послушай, я тебе все расскажу, – спокойно сказала Вера. – Я перед тобою чиста.
– Чиста! – мрачно сказал Соснягин. – Ты мне одно скажи, – ты была ночью у Горелова?
– Была, – отвечала Вера, – но ты дай мне рассказать все.
– Молчи! – крикнул Соснягин, нагибаясь и глядя на нее налитыми кровью глазами.
– Глеб, я не боюсь твоего ножа, – сурово сказала Вера.
Ленка цепко ухватилась за правую руку Соснягина. Он рванулся. Почувствовал, что Ленка ловка и сильна. Выпрямился.
– Глеб, мы вместе с нею были, – говорила Ленка.
– С подружкою веселою, – язвительно усмехаясь, прошептал Соснягин.
Вера говорила:
– Глеб, успокойся, пойдем домой, по дороге я тебе все расскажу.
– Змеиными сказками позабавишь? – все с тою ж усмешкою говорил Соснягин.
Вдруг он весь изогнулся, левою рукою выхватил из голенища нож, неистово крикнул:
– Змея!
И ударил Веру ножом в грудь. Вера стремительно опрокинулась на деревянную настилку мостика.
– Вера, Вера! – пронзительно закричала Ленка.
Оттолкнула Соснягина, бросилась к Вере, – заклинательница змей умирала.
Статьи, эссе, заметки
Смертный лик Гюи де Мопассана*
Гюи де Мопассан очень любим в России. Может быть, потому, что никто так не выразил гения латинской расы, как он.
Ум точный, ясный, приемлющий мир, – и загадочная наклонность уйти из этого мира вовсе, тенденция к декадансу и смерти, – вот отличительные черты расы, с удивительною силою сказавшиеся в Мопассане; и в его творчестве, и в его жизни, блестящей в своем течении и страшной в своем конце. Это же сказалось и в наружности Мопассана, насколько мы знаем ее по портретам. Беззаботное лицо доброго малого и страшное напряжение мысли в морщинах невысокого, рокового лба. Отмеченное лицо, – как было отмеченным лицо Ницше.
Творчество Мопассана было, по-видимому, сплошь приятием мира в его повседневности. Альдонса, которая Дон Кихоту была только основою для создания сладкой мечты о Дульцинее, для Мопассана была только Альдонсою, единственною подлинною реальностью мира. И какая же ему еще Дульцинея? Пред ним стояла всегда жизнь подлинная, обычно представляемая, всегдашняя, наша «бабища румяная и дебелая». И ее румяный, близкий нам всем лик отразился в милых зеркалах мопассановских рассказов.
Но принять мир искренно и до конца, как принял его Мопассан, с полным забвением вечной мечты о мире, творимом творческою волею человека, о светлом тереме Дульцинеи, – принять мир Альдонсы, наш мир, – дело страшное и роковое. Отвергнуты утешительные иллюзии, маска за маскою сбрасываются, – и явлен наконец двойной, противоречивый лик Чудовища. Принять мир – значит вскрыть его извечные антиномии.
И в страшном сочетании предстают Жизнь и Смерть, ясный, точный Разум и слепое Безумие.
Так веянием и близостью смерти чаруют блистательные страницы мопассановской прозы. Смеемся, забавляемся, но «кто жил и чувствовал», не может не почувствовать тайного яда, разлитого в этих страницах.
Не потому ли мы, как и народы Запада, любим Мопассана?
Вместо предисловия*
Ты скажешь ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.
Ф. ТютчевОдно из сладчайших утешений жизни – поэзия свободная, легкий, радостный дар небес. Появление поэта радует, и, когда возникает новый поэт, душа бывает взволнована, как взволнована бывает она приходом весны.
«Люблю грозу в начале мая!»
Люблю стихи Игоря Северянина. Пусть мне говорят, что в них то или другое неверно с правилами пиитики, раздражает и дразнит, – что мне до этого! Стихи могут быть лучше или хуже, но самое значительное то, чтобы они мне понравились.
Я люблю их за их легкое, улыбчивое, вдохновенное происхождение. Люблю их потому, что они рождены в недрах дерзающей, пламенною волею упоенной души поэта. Он хочет, он дерзает не потому, что он поставил себе литературною задачею хотеть и дерзать, а только потому он хочет и дерзает, что хочет и дерзает. Воля к свободному творчеству составляет ненарочную и неотъемлемую стихию души его, и потому явление его – воистину нечаянная радость в серой мгле северного дня. Стихи его, такие капризные, легкие, сверкающие и звенящие, льются потому, что переполнен громокипящий кубок в легких руках нечаянно наклонившей его ветреной Гебы, небожительницы смеющейся и щедрой. Засмотрелась на Зевесова орла, которого кормила, и льются из кубка вскипающие струи, и смеется резвая, беспечно слушая, как «весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом». О резвая! О милая!
Февраль 1913 г.
Предисловие*
Ни в чем так полно, радостно и светло не выражается душа человека, как в отношениях любви. Когда к человеку приходит любовь, могущественная сила, движущая мирами и сердцами, низводящая небо на землю и землю преображающая в сладостный Эдем, то в душе человека умирает все случайное и раскрываются лучшие ее стороны. Как цветение по весне, как звонкий и страстный голос и красивое оперение у птиц, так и в человеке, в его телесном и душевном облике, возникают очаровательные признаки, прельщающие не потому только, что они сами по себе прекрасны, но и потому, что в них наиболее ярко выраженные индивидуальные черты наиболее ясно соприкасаются с началом бесконечного, с тем неутолимым стремлением к идеальному и недостижимому, которое заложено в каждой живой душе.
Все мы любим так же, как понимаем мир. История любви каждого человека – точный слепок с истории его отношений к миру вообще. Образ любимой, носящейся в восторженных мечтах влюбленного, и образ любимого в мечтах влюбленной – вот наиболее ясные и неложные символы их мироощущения. Недаром изображения любви и любовных тревог и томлений занимают такое большое, такое центральное место в произведениях искусства всех времен. Это происходит не оттого, что поэты, живописцы, скульпторы обуреваемы любовным пылом, а потому, что верный творческий инстинкт указывает им то состояние человека, когда душа его наиболее открыта верховным началам добра, истины и красоты. Тот, кто любит, не только требует, но и отдаст, – не только жаждет наслаждений, но и готов к наивысшим подвигам самоотречения. Зажженный любовью, он дерзает и на то, что превышает его силы.
Составленная в свете этих общих положений, предлагаемая вниманию читателей книга не является сборником писем эротических в точном значении этого слова; равным образом ее не следует рассматривать как сборник, имеющий притязания на историческую полноту и законченность. Эта книга имеет характер исключительно психологический; она задается целью поставить читателя перед зрелищем души, глубоко и сильно переживающей всякое чувство, полнозвучно отзывающейся на всякое проходящее перед нею явление, – одним словом, перед зрелищем души, озаренной любовью.
Письма, собранные в этой книге и написанные теми, кто любил, к тем, кто были любимы, говорят о любви, но не об одной только любви. Душа, просветленная любовью, весь круг своих переживаний озирает с особенным, иногда возвышенный, иногда нежно-интимным, иногда страстным, иногда еще иначе окрашенным, но всегда значительным чувством. Только тс письма, в которых выражается это очаровательное излияние любви на весь круг и повседневных, и чрезвычайных переживаний, только их и выбирала составительница этой книги, и только тех авторов включила она в круг своего выбора, которые давали в своих письмах эту восхитительную эманацию любви.
О символизме*
Открывая настоящее собеседование о современной литературе[1], я позволяю себе предпослать нашей беседе несколько кратких вступительных замечаний. Вопросы искусства, как мы все знаем, часто отступают на второй план перед вопросами практической жизни, так что, например, рассуждать о законах печати, конечно, гораздо интереснее и легче, чем о самой печати, чем о самой литературе.
А между тем, если есть на земле какая-нибудь ценность, действительно необходимая для человека, то это, конечно, искусство, или, выражаясь более общим термином, творчество. Другими многими делами занимается человек, по необходимости, из-за соображений практической жизни, многое делает принужденно, с неохотой, почти с отвращением; к искусству же он приходит только потому, что искусство его утешает и радует; всегда приходит свободный, ничем к этому не гонимый. Да и невозможно подойти к искусству, если душой владеют тёмные и тяжёлые страсти и чувства. Всю свою душу вкладывает человек в искусство, и поэтому ни в чём так, как в искусстве, не отпечатлевается душевный мир человека, то, «чем люди живы». Когда мы хотим составить суждение о человеке той или другой эпохи, то единственным надёжным руководством для нас в этом отношении служит только искусство этой расы, этого времени, или точнее отношение этих людей к искусству.
Поэтому странно было бы смотреть на искусство, только как на способ красиво или выразительно изображать избранный момент жизни. Искусство не есть только зеркало, поставленное перед случайностями жизни, оно не хочет быть таким зеркалом. Это для него неинтересно, скучно. Скучное занятие – отражать случайности жизни, пересказывать малозабавные анекдоты, во что никак нельзя вложить живую душу. Живая душа человека всегда жаждет живого дела, живого творчества, жаждет созидания в себе самой мира, подобного миру внешних предметов, но мира действительного, созданного. Живая жизнь души протекает не только в наблюдении предметов и в приурочивании им имён, но и в постоянном стремлении понять их живую связь и поставить всё, являющееся нашему сознанию, в некоторый всеобщий всемирный чертёж.
Таким образом, для сознания нашего предметы являются не отдельными случайными существованиями, но в общей связи между собой. И, вот, по мере усложнения в нашем сознании связанности отношений, всё сложное представляющегося нам мира сводится к возможно меньшему числу общих начал, и каждый предмет постигается в его отношении к наиболее общему, что может быть мыслимо. Вот при таком отношении все предметы становятся только вразумительным зеркалом некоторых общих отношений, только многообразным проявлением некоторой мирообъемлющей общности. Сама жизнь перестаёт казаться рядом случайностей, анекдотов, является в сознании, как часть мирового процесса, направляемого единой волей. Все сходства и несходства явлений представляются раскрытием многообразных возможностей, носителем которых становится мир. Самодовлеющей же ценности не имеет ни один из предметов предметной действительности. Всё в мире относительно, как это и признано в наши дни наукой относительно времён и пространств[2].
Символическое миропостижение, однако, упраздняет эту всеобщую относительность явлений так, что, принимая эту относительность предметов и явлений в мире предметов, вместе с тем оно признаёт нечто единое, к чему все предметы и все явления относятся. По отношению к этому единому всё являющееся, всё существующее в предметном мире только и получает свой смысл. И, вот, только это миропостижение до настоящих времён всегда давало основание высокому большому искусству. Когда искусство не остаётся на степени праздной забавы, оно всегда бывает выражением наиболее общего миропостижения данного времени. Искусство только кажется обращением всегда к конкретному, частному, только кажется рассыпающимися пёстрыми сцеплениями случайных анекдотов; по существу же искусство всегда является выразителем наиболее глубоких и общих дум современности, дум, направленных к мирозданию человеком в обществе. Самая образность, присущая созданиям высокого искусства, обусловливается тем, что для искусства на его высоких степенях образы предметного мира только пробивают окно в бесконечность, суть один из способов миропостижения. Высокое внешнее совершенство образов в искусстве соответствует их назначению, всегда возвышенному и значительному. Поэтому в высоком искусстве образ стремится стать символом, т. е. стремится к тому, чтобы вместить в себя многозначительное содержание, стремится к тому, чтобы это содержание образа в процессе восприятия его зрителем, читателем было способно раскрыть всё более и более своё глубокое значение.
В этой способности образа к бесконечному его раскрытию только и лежит тайна бесконечного существования высоких произведений искусства. Художественное произведение, до дна истолкованное, до глубины разъяснённое, немедленно умирает; жить дальше ему нечем и незачем. Оно исполнило своё маленькое временное назначение и померкло, погасло. Так гаснут полезные огни костров, когда они исполнили то, для чего предназначались, – а звёзды высокого неба продолжают светиться дальше.
Для того, чтобы иметь возможность дать символу сделаться открывающимся вечно окном в бесконечность, образ должен обладать двойной точностью. Он должен и сам быть точным изображением, чтобы не стать образом случайным и праздно измышленным, – за праздными измышлениями никакой глубины не откроешь. Кроме того, образ должен быть взят в точном отношении его с другими предметами предметного мира, должен быть поставлен в чертежи мира на своё надлежащее место. Только тогда он будет способствовать выражению наиболее общего миропонимания в данное время. Из этого следует, конечно, что наиболее законной формой символического искусства является реализм, и, действительно, так почти всегда и было.
Если мы возьмём даже сказки, сложенные народом, то и в них мы различим, с одной стороны, выражение наиболее общего миропостижения того народа, которым сказки созданы, с другой стороны – удивительную точность житейских и бытовых подробностей, сплетённых с фантастическими измышлениями. Сказка не является, конечно, механическим изображением жизни, она по произволу комбинирует её составные элементы, остаётся искусством в этом смысле свободным от жизни, но она не обманет того, кто, не углубляясь в её мифологическое значение, захочет искать только изображения народного быта.
Это свойство символического искусства проявлялось и в наше время неоднократно. Те, кому новое искусство не нравится, говорили, что оно постоянно отвращается от жизни и отвращает людей от жизни. Конечно, это ошибка! Ничего подобного при пристальном ознакомлении с новым искусством мы не найдём. Если возьмём роман такого упорно отрицаемого поэта, как Рукавишников, роман «Железный род», то не найдём ошибки против быта. Такое же точно изображение быта и жизни мы видим в романах Андрея Белого, в повестях и рассказах, как из современной жизни, так и исторической, Валерия Брюсова и др. деятелей новой поэзии.
Иначе, конечно, не может быть. Искусство символическое не тенденциозное, не заинтересованное ни в какой степени в том, чтобы так или иначе изображать жизнь, – заинтересовано только в том, чтобы сказать свою правду о мире. Такое искусство не имеет никакого побуждения к неточному пользованию своими моделями, каковыми являются для него все предметы предметного мира. Случается в истории литературы, что реализм забывает своё истинное назначение служить формой того искусства, которое выражает символическое миропостижение, – тогда искусство обращается к простому копированию действительности, причём иногда этому копированию ставятся задачи публицистического характера. Тогда реализм – искусство высокое и прекрасное – вырождается и падает до степени наивного натурализма. В этом наивном натурализме, сменившем высокое творчество Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Льва Толстого, пребывала русская литература почти до конца XIX-го столетия.
Тогда, лет 20 тому назад возникло то литературное движение, которое было встречено так неодобрительно, так недоброжелательно, то, которое получило название «декаданса», «модернизма», быть может, и некоторые другие ещё названия. Представители этого нового течения весьма различались и различаются между собой, и не представляют одной литературной школы, но всех их объединяет стремление возвратить поэзии её истинное назначение, быть выразительницей наиболее общего миропостижения, т. е. всем этим поэтам свойственно стремление восстановить права символизма, и, с другой стороны, возродить реализм, как законную форму символического искусства. Это было сделано в последние 20 лет, сделано с такой силой и властью, что в наши дни возвращение искусства к наивному натурализму представляется очень невероятным. Само собою разумеется, что на протяжении этого последнего периода, обнимающего приблизительно лет 20, новое искусство не стояло на одном месте. Общий закон сменяемости коснулся его.
Можно различать в этом движении три стадии, но при этом необходимо отметить, что точной хронологической последовательности здесь нет, и смешиваются границы этих стадий, которые я обозначил бы: 1) космический символизм; 2) индивидуалистический символизм, и 3) демократический символизм.
Первая стадия символического искусства представляет раздумье о мире, о смысле мировой жизни и о господствующей в мире единой воли, если она признаётся, или о господствующих в мире волях, если признаются несколько управляющих миром божеств. На пути этих возвышенных вдохновений предшественником нашим был великий поэт Тютчев. Из современных поэтов справедливо указать на Вячеслава Иванова, автора превосходных стихотворений и глубоких теоретических статей. Быть может, не веря в миродержавную волю, потому что мудрость не всегда согласна с верой, этот поэт является выразителем наиболее глубоких дум о мироздании.
Резким переломом в литературной жизни было, однако, не это космическое стремление к символизму. Индивидуалистические стихи русских модернистов казались особенно неприятными русской критике и навлекли наиболее нареканий. Индивидуализм русских модернистов истолковывался, как тенденция противообщественная, что, конечно – ошибочно. Индивидуализм никогда и нигде не мог иметь значение противообщественного явления. Сама общественность имеет цену только тогда, когда она опирается на ярко выраженное сознание отдельных личностей. Ведь только для того и стоит соединиться с другими людьми, чтобы сохранить себе своё лицо, свою душу, своё право на жизнь. Недаром заветом наикрепчайшей общественности служат слова: «мой дом – моя крепость». В частности индивидуализм русских модернистов обращал своё жало не против общественности, а совершенно в другую сторону. Мы уходили в себя, в свою пустыню, чтобы, в мире внешнем, в великом царстве единой воли найти наше место. Если единая воля образует мир, то что? же моя воля? Если весь мир лежит в цепях необходимости, то что? же моя свобода? Ведь мою свободу я ощущаю тоже, как необходимый закон моего бытия, и без свободы я жить никак не могу.
Не бунтом против общественности был наш индивидуализм, а восстанием против механической необходимости. В нашем индивидуализме мы искали не эгоистического обособления от других людей, а освобождения, самоутверждения на путях экстаза, искания чуда, или на каких-нибудь иных путях. Нам предстоял вопрос, что такое человек, и каково его отношение к единой воле. Если всё в мире связано цепями необходимости, то на себе я вынес и каждый несёт всю тяжесть совершенного когда-то зла и всё торжество содеянного блага когда бы то ни было и кем бы то ни было. Каждый из нас явится впоследствии виновником каждого его поступка. На меня и на каждого из нас налагается на наши слабые плечи ярмо всеобъемлющей ответственности за греховность всего мира. Это даёт вместе с тем и возвышающую нас возможность находить свою волю, как могучую поэтику, волю всемирную. И вот через надменный солипсизм и эгоцентризм это настроение души приводило нас к возвышенному понятию о богочеловечестве. Слияние с единой волей нашего индивидуализма было основанием религиозно-философского стремления русской поэзии последнего времени. Сам по себе этот индивидуализм был лишь переходом в третий момент движения искусства, в демократический символизм, жаждущий соборности и коллегиальности.
В этой последней стадии и пребывает русский символизм в настоящее время. Здесь он встречается с тем требованием, которое в предыдущие века никогда не предъявлялось ни жизнью, ни искусством, требованием, которое звучит странно и многим не нравится. Это требование – любить жизнь. По-видимому, этого и требовать не стоит, ибо кому же несвойственно любить себя, свою маленькую отдельную жизнь, в которой есть так много малых и больших радостей. Но в наш век, когда непосредственное жизнеощущение так ослабело, это требование получает особенную трагичность. Мы требуем любить жизнь как будто бы потому, что чувствуем в себе неспособность любить. Между тем, что значит требование любить жизнь? В жизни есть много прекрасного, но есть и много безобразного, отвратительного, что надо ненавидеть всеми силами души. Любить жизнь, вообще жизнь, жизнь, какую бы то ни было, конечно, это нелепо, потому что это значить любить палача и любить жертву. Надо, конечно, выбирать, любить одно и ненавидеть другое. Не любите жизнь таковой, как она есть, потому что в общем своём течении современная жизнь вовсе не стоит этого. Жизнь требует преобразования в творческой воле. В этой жажде преобразования искусство должно идти впереди жизни, потому что оно указывает жизни прекрасные идеалы, по которым жизнь имеет быть преобразована, если она этого хочет; а если не хочет – то будет коснеть
(Продолжительные аплодисменты).
Заметки*
Профессор Овсянико-Куликовский хвалит бодрость. Пушкин имел повышенное жизнеощущение, Лермонтов – пониженное. Первое лучше второго. Человеку гораздо приятнее жить, когда у него повышенное жизнеощущение, и плохо живется, когда жизнеощущение понижено. Итак, юноши, будьте бодры. Верьте в светлое будущее и не падайте духом.
В те же приблизительно дни, как проф<ессор> Овсянико-Куликовский читал лекцию о бодрости, с другими профессорами случались неприятности: проф. Д. Д. Гримм потерял ценз, и могло случиться, что ему пришлось бы уйти из Государственного совета. Проф<ессор> Бодуэн де Куртенэ предсказывал черные дни для государства, приговорен за это к двум годам крепости, и может случиться, что день своего 70-летия почтенный ученый встретит в заключении.
Может быть, если бы у этих двух профессоров было повышенное жизнеощущение, то все обошлось бы благополучно. Д. Д. Гримм не сказал бы: «Нехорошо-с!» – когда надо было сказать: «Бонжур!» А проф<ессор> Бодуэн де Куртенэ видел бы грядущее в розовом свете, что, по-видимому, одобряется.
Впрочем, какое же отношение к судьбе Пушкина и Лермонтова имело их повышенное и пониженное жизнеощущение? Оба всю жизнь бились в жестоких тисках, и обоих одинаково загрызла русская действительность. Только и разницы: одного повышенное жизнеощущение влекло к компромиссу, вело к чуждым ему людям. «И прежний сняв венок, они венец терновый, увитый лаврами, надели на него, но иглы тайные сурово язвили славное чело». Другой не сделал этой прискорбной ошибки и с надменною презрительностью шел навстречу своей судьбе. Блистательный двойник Пушкина, Лермонтов замкнул пламенное кольцо наших судеб. Два ужасные выстрела все еще звучат для нас предостережением более грозным, чем ученые гадания 69-летней Кассандры.
«Уж коли зло пресечь, забрать бы книги все да сжечь», – говаривал Фамусов. Загорецкий с кротостью возражал: «Нет-с, книги книгам рознь… Я… на басни бы налег».
Христиански кроткий Д. С. Мережковский не согласен с Фамусовым: он придерживается мнения Загорецкого и налег не на все книги. Есть полезные книги, и есть вредные, полезные авторы и вредные. Полезен – Мережковский, вредны – Тютчев, Сологуб и другие. Почему? Они говорят о темном в жизни, стало быть, они отвращают от жизни и учат самоубийству.
Многим кажется, что изображение зла – это и есть зло. Добро же есть, по их мнению, говорить о добре. «О честности высокой говорит, каким-то демоном внушаем, – глаза в крови, лицо горит, сам плачет, и мы все рыдаем».
«Ему сочувствие в толпе, как ропот волн, ласкает ухо».
«Но нет пощады от судьбы тому, чей благородный гений стал обличителем толпы».
Он изображает зло, он злой, он вредный.
Какая темная и глупая мысль! Как может быть вредным художественное произведение?
Для всякого, кто хочет истины и блага, слово не должно казаться враждебным и вредным. «На всякую лживую речь в тебе и целенье готово, о духа единственный меч, свободное слово!»
Враждебным и вредным художественное слово может казаться только тому, кто боится темную душу свою озарить светом правды.
Какое бы зло ни изобразил художник, его общественная заслуга в том и состоит, чтобы изобразить всю силу этого зла, всю ту прелесть его, которою оно очаровывает слабые души. Если зло – наш враг, то мы должны видеть всю его силу. Воину полезно знать, чем силен тот, с кем он сражается, – иначе подвиг воина будет бесплоден. Художник, показавший всю силу и всю прелесть зла, подобен тому летчику, который пролетел не напрасно над вражьими станами. А вот Д. С. Мережковский и Загорецкий такого художника готовы истреблять, как свирепого волка, – вреден очень.
Впрочем, на этот раз никто не поверил очередной «крылатой нелепости» Д. С. Мережковского.
Привилегированное положение приятно. Это знал всякий рыцарь и всякий прелат и знает всякий буржуа. И наш брат писатель спешит иногда взять себе привилегию. Есть такие, которые выправили себе патент на общественность. Так и называют себя: «Мы – общественники». Так и говорят: «Только наши писания имеют общественную ценность; а кто не с нами, те общественно вредны, все эти декаденты, модернисты, символисты». И тут же говорят: «Символизм умер, торжествует быт». Пляшут на пустом месте, а думают, что пляшут над трупом поверженного врага. А сами, как метко сказал о них критик В. Ф. Матвеев, бегают на привязи вокруг столбика с надписью «общественность». Думают, далеко убегут. Но все на одном месте. Увлечены своим круговращением.
Иные слабые смущаются. Недавно вокруг столбика побежал Д. С. Мережковский. За ним Антон Крайний. Бегают и ласково посматривают на Максима Горького. Что-то он скажет? Подумаешь, давно ли был провозглашен конец Горького!
Я думаю, что ни к чему все эти перекоры:
– Мы лучше вас!
– Мы настоящие христиане!
– Тютчев – вредный, а мы – хорошие, полезные.
Как дети.
Я думаю, что в общем культурном движении и наши, проклятых поэтов, капли меду есть. Худо или хорошо делали мы наше дело, но мы работали не разоряя, а приумножая, никогда не чуждые творческим подвигам жизни. И те, кто придут на смену нашей интеллигенции, поймут это.
В Вологде сказали мне, что на местных сельских театрах ставятся пьесы невысокого художественного достоинства. Мой собеседник, человек делу не сторонний, говорил это с сожалением. Я вспомнил народный дом в эстонской деревне. На афише – Пшибышевский и Мольер. Исполнители – местные крестьяне и крестьянки. Мольеровскую изящную, веселую героиню изображала молодая эстонская девушка. В деревне она работала, как все, ходила босая, а в свободное время играла на пианино. Ей, ее родным и соседям нужен был Мольер, понадобилось высокое искусство и совсем не интересны были полезные на сегодня пьесы.
В прошлое лето наш дачный сосед, эстонский крестьянин-садовник, дал нам напрокат свой рояль. Руками, жесткими от садовых работ, но с пальцами гибкими от упражнений с детства, он сыграл нам вальс Шопена, чтобы показать, как его рояль звучит. И с гордостью сказал:
– На этом рояле играл Рихард Вагнер, когда был в Риге.
Кто хочет напитать свой дух мужеством и силою для высоких достижений, тот выбирает все настоящее, подлинное и отвращается от суррогатов.
Или вы скажете, что эти эстонцы не любят свободы и не стремятся к ней?
Милые, хотя и упрямые эстонцы! Милые эстонки! Любите, любите Мольера и Рихарда Вагнера!
Каким Горький уехал, таким и вернулся. Талант – топор, как было сказано о Некрасове. Рубит фигуры из слов, как Ерьзя из мрамора. Но главное – превосходный рассказчик.
«Детство» в фельетонах «Русского слова». Читаешь и досадуешь. Невольно вспоминаешь благоуханное детство Льва Толстого. По контрасту. Такое злое и грубое это детство. Дерутся, бьют, порют в каждом фельетоне. Какой-то сплошной садизм, психологически совсем не объясненный. Не видим, какая душевная сила движет людей к совершению неистовств. Но ткань рассказа все же так добротна, что невольно следишь за нею. Все ждешь, что в темные, узкие души этих людей прольется свет творящего искусства и мы поймем почему.
Г. Биду в газете «День» очень красиво и трогательно написал о смерти Кальметта. Да, в своем высоком служении истине журналист должен быть готов отдать и самую свою жизнь. Мы знаем доблестные примеры.
Однако эти возвышенные слова едва ли подходят к таким случаям. Кто своим оружием избрал комки грязи, того и мучительная смерть не делает героем.
Это – очень прискорбная смерть. Нельзя бить и убивать людей. Для самого высокого и чистого негодования должен быть ясен предел, преступать который не следует. Притом же господа, разводящие «опиум чернил слюною бешеной собаки», и не заслуживают такого мщения.
Я не верю, что Кайо сказал своей жене эти ужасные слова:
– Ты меня погубила навеки.
Слова, которые, говорят, отняли все мужество у несчастной женщины.
Женщине, которая так его любит, которая за него готова положить свою голову под нож гильотины, бросить такой упрек! Говоря с такою женщиною, не забыть о своей карьере!
Не может человек в положении г. Кайо быть столь ничтожным.
Искусство наших дней*
1. Думая об искусстве наших дней, я разумею не то, что в моде сегодня или было модным вчера. Наши дни имеют для меня длительность большую, чем длительность этого сезона. Новые направления в искусстве могут возникать очень часто, но существенно новое является миру очень редко. И лицо, и душа мира изменяются очень медленно.
Можно смотреть на дела и задачи искусства различно. Моя мысль обращена главным образом к тому, чего я хочу от искусства. Значительно не то, что есть, а то, к чему наши устремлены желания. Стоит захотеть очень сильно, слить свою волю с мировою волею, чтобы сбылось желанное. Недаром Вячеслав Иванов говорит, что «высший завет художника – не налагать волю на поверхность вещей, но прозревать и благовествовать сокровенную волю сущностей. Художник должен облегчать вещам выявления красоты. Он утончит слух и будет слышать, „что говорят вещи“; изощрит зрение и научится понимать смысл форм и видеть разум явлений. Нежными и вещими станут его творческие прикосновения» («По звездам», стр. 250).
И об этом же волевом свойстве художника говорит Боратынский:
С природой одною он жизнью дышал: Ручья разумел лепетанье, И говор древесных листов понимал, И чувствовал трав прозябаньс Была ему звездная книга ясна, И с ним говорила морская волнаИскусство наших дней следует отграничить в двух направлениях. С одной стороны, оно существенно отличается от тенденциозного искусства предыдущего периода; с другой стороны, оно отличается и от самодовлеющего эстетизма «искусства для искусства». Искусство для жизни и искусство для искусства – одинаково несовершенные виды искусства.
Искусство наших дней опять выходит на широкий путь свободного творчества, потому что в нем опять начинают преобладать волевые элементы. Искусство наших дней сознает свое превосходство над жизнью и над природою.
В сознании общества вопросы искусства часто отступают на второй план сравнительно с вопросами практической жизни, а между тем если есть на земле какая-нибудь ценность, без которой человек не может обойтись, то это, конечно, искусство, или, употребляя более общее выражение, творчество. Многими делами занимается человек по необходимости или из соображений практической пользы, многое делает принуждаемый и с неохотою, иногда с отвращением, – к искусству же он приходит только потому, что хочет этого, и искусство всегда его радует и утешает. Даже и невозможно подойти к искусству, если душою владеют темные и мелкие чувства. Всю свою душу вкладывает человек в искусство, и вследствие этого ни в чем так, как в искусстве, не отпечатлен душевный мир человека, то, чем люди живы. Когда мы хотим составить суждение о человеке той или другой эпохи, той или иной расы, то единственным надежным руководством для нас может служить только искусство этого народа и этого времени.
Поэтому странно было бы смотреть на искусство только как на способ красиво или выразительно изображать избранные моменты жизни. Искусство не есть только зеркало, поставленное перед случайностями жизни, и не хочет быть таким зеркалом, – это для искусства неинтересно, скучно. В скучное занятие – отражать случайности жизни, пересказывать малозабавные анекдоты – никак нельзя вложить живой души. Душа человека всегда жаждет живого делания, живого творчества, жаждет созидания в себе мира, подобного миру внешнему, предметному, но свободно построенного. Живая жизнь души протекает не только в наблюдении предметов и в наречении им выразительных имен, но и в постоянном стремлении понять их живую связь и поставить все являющееся в общий чертеж вселенской жизни. Для сознания нашего предметы являются не в их отдельном существовании, но в общей связности между собою. По мере усложнения в нашем сознании связности отношений все содержание предстоящего нам мира сводится к наименьшему числу общих начал, и каждый предмет постигается в его отношениях к наиболее общему, что может быть мыслимо. Тогда все предметы становятся только вразумительными знаками некоторых всеобщих отношений, только многообразными проявлениями некоторой мирообъемлемой общности. Самая жизнь перестает казаться рядом анекдотов, более или менее занимательных, и является сознанию как часть мирового процесса, движимого Единою Волею. Все сходства и несходства явлений представляются раскрытием многообразных возможностей, носителем которых становится мир. Самодовлеющей же ценности не имеет ни одно из явлений мимотекущей действительности. Все в мире относительно, как это и признано в наши дни относительно времен и пространств.
Весьма распространено заблуждение, что искусство есть зеркало жизни, что искусство есть производное от жизни. Думают люди, что вот они живут, а поэты их наблюдают и изображают; думают люди, что они-то и есть сюжеты романов, драм, поэм. Думая, что искусство изображает их, они приходят к искусству, чтобы узнавать себя и выносить из зрелища нравственные уроки.
Это заблуждение опасное, потому что в нем, как и во всяком заблуждении, есть зерно истины, извращенное до неузнаваемости. Это зерно истины состоит в том, что люди действительно служат поэту, но не сюжетами, а материалом, или, точнее, моделями, как натура для живописца.
Можно еще более уступить общему предрассудку. Если хотите, и зеркало есть, но не в искусстве перед жизнью, а в жизни перед искусством, и то, что делается в искусстве, отражается на лице и в душе воспринимающего.
Воспринимающему, зрителю, читателю, только кажется, что он – живой человек, наделенный разумом и волею. Какая скорбная ошибка! Разум наш есть часто система чужих слов, мнений, привычек, чужой лжи и чужой правды, а воля наша почти всегда подобна более той марионетке, которую подергивает за веревочку спрятанный за кулисами господин. Сегодня он, человек нынешнего дня, говорит одно, а завтра, пожалуй, скажет другое. Он полагает свою свободу в том, что
Что ему книжка последняя скажет, То на душе его сверху и ляжетИ когда мы имеем дело с этими нашими живыми знакомцами, приятелями и врагами, мы зачастую не знаем, чего следует от них ожидать: сегодня у него такое настроение, а завтра будет другое. Иногда как будто перед вами в том же обличий стоит совершенно другой человек, невесть откуда взявшийся. Вы всматриваетесь в вашего знакомца, вдумываетесь в его поступки и соображаете:
– Кто же это такой?
И наконец догадываетесь:
– Да ведь это Чацкий.
Или Фамусов, Хлестаков, Митрофанушка, Плюшкин, Евгений Онегин, Гамлет, Дон Кихот. И вы начинаете понимать, с кем имеете дело.
Неизвестное познается из сравнения с известным. И кто же станет спорить против того, что мы гораздо лучше знаем Гамлета или Фальстафа, чем любого из наших знакомых? Темная душа тех, кого мы встречаем на улицах или в гостиных, о ком говорим: «Чужая душа – потемки», – она освещается для нас светом нетленных образов искусства. Вот они-то и есть наши истинные знакомые и друзья, все эти люди, вышедшие из творческой фантазии. Они только и живут на земле, а вовсе не мы. Они-то и есть настоящие, подлинные люди, истинное, неумирающее население нашей планеты, прирожденные властелины наших дум, могущественные строители наших душ, хозяева нашей земли. Слова их вплелись в ткань нашей речи, мысли их овладели нашим мозгом, чувства их воцарились в нашей душе. Они заставили нас перенимать их привычки и жесты, их костюмы и быт. Цели их стали нашими целями, и суждения их, господ наших, владычествуют над поступками нашими. Мы перед ними – только бледные тени, как видения кинематографа. Мы повторяем во многих экземплярах снимков чьи-то подлинные образы, совершенно так, как на множестве экранов мелькают образы многих женщин, раз навсегда наигранные некоею Астою Нильсен, знаменитою в своем мире. И мы не живем, а только делаем что-то, бедные рабы своей темной судьбы. И если мы сами создали это племя господствующих над нами образов, то все же несомненно, что в этом случай творение стало выше творца. И какое нам дело до самого Шекспира и до того, кто он, Бэкон, или Рутленд, или так Шекспир и есть, что нам до этого, если душою нашею играет капризный очарователь Гамлет, и играет, и строит из нее то, что хочет!
Нам хочется иногда отмахнуться от этого владычества придуманных кем-то образов, избавиться от них во имя нашей жизни, нашей души. Хочется сказать:
– Да ведь вне моей мысли нет Гамлета и нет Офелии. Дездемона оживает только тогда, когда я о ней читаю, и простодушно-ревнивый мавр так и не задушит ее, если я не открою той страницы. Значит, я живу, а они – фантомы.
Эти фантомы улыбаются и отвечают спокойно:
– Живи, если хочешь, мы подождем, перед нами вечность. Живи без нас, если можешь. Но что будет с тобою, если мы уйдем от тебя? Как же ты проживешь без Гамлета и без Дон Кихота, без Альдонсы и Дульцинеи? И что же ты, наша бедная, бледная тень, что же ты-будешь, когда отойдут от плоского экрана твоей жизни наши образы?
Та великая энергия творчества, которая в непостижимом акте созидания была вложена в художественный образ, только она и заражает читателя или зрителя. Слова обычной речи, сегодняшний быт, облики нынешних людей, – все это для поэта лишь материал, как для живописца холст и краски. Сила не в них, а в той художественной энергии, которая заставила этот косный материал служить творческому замыслу.
– А как же нравственные уроки? – спрашивает читатель или зритель. – Ведь если в романе или в драме действуют люди, то должны же они подчиняться нравственным законам? И поэт, что бы он ни изображал, должен же показать нравственное отношение к их поступкам?
Доктор Филиппо Меччио говаривал:
– Этика и эстетика – родные сестры. Обидишь одну, – обижена и другая («Королева Ортруда»).
Итак, будем верить, что эстетика сестры своей в обиду не даст. Где образ явился плодом подлинного художественного процесса, там блюстителям морали беспокоиться не о чем. Тартюф грешен, но бессмертен; ходит по свету, и заглядывает в наши обители, и где найдет привет, там и поселится. И так же каждый ясно поставленный в искусстве образ находит себе приют и в нас находит обезьян для подражания, для забавы и для услуг. А весь вместе этот нетленный народ и дает нам, быстро в жизни преходящим, неложное мерило добра, истины и красоты.
Люди мелькающих дней, рожденные, чтобы умереть, мы должны чаще возвращаться в общество наших господ, этих истинных людей, чтобы учиться у них познанию добра и зла, правды и лжи, красоты и безобразия. Будем всматриваться пристальнее в их живую жизнь, и тогда прольются на нашу призрачную, убегающую жизнь лучи их ясного света.
Ведь не только мы подражаем искусству, но и природа, по остроумному мнению Оскара Уайльда, занимается тем же.
«У природы есть добрые намерения, – говорит Оскар Уайльд, – но искусство находит свое совершенство внутри, а не вне себя. Его нельзя судить ни по какому внешнему образу и подобию. Оно – скорее покрывало, чем зеркало. У него есть цветы, каких не знает ни один лес, птицы, каких нет ни в одной роще. Оно создает и разрушает миры, и оно может свести луну с небес пурпурною нитью. Ему принадлежат формы, которые реальнее живых людей, и великие архетипы, чьими незаконченными копиями является все, что существует» («Замыслы», стр. 19).
Искусство, сознавшее себя столь могущественным, не может не чувствовать себя свободным.
Но свобода не есть понятие безусловное. Свобода искусства есть его обусловленность законами, лежащими в нем самом.
2. Освобождаясь от власти публицистических тенденций и от власти самой жизни, искусство не становится от этого антиобщественным и аморальным.
Эстетические и этические основы нового искусства неразрывно связаны. Хотя эстетику и нельзя подчинить соображениям моральной природы, но все же эстетика и этика – родные сестры и очень дружны. Быть свободным и в своей свободе сильным – это и есть общественный долг всякого человеческого деяния. Общественную ценность имеет только то, что свободно; принуждение, хотя бы и по наилучшим побуждениям, непрочно. Моральность же искусства зиждется на его правдивости и искренности. Никогда не на том, что сказано, полезное или вредное, согласное или несогласное с тою или другою программою, а всегда на том основана моральность искусства, как сказано, со всею ли верою, со всем ли напряжением творческой энергии и творческой совести.
Правдивым и моральным, воистину свободным вполне может быть только искусство символическое, – искусство, основанное на символах, в противоположность натурализму, основанному на изображении мира, каким он является, каким он кажется нам.
Когда художественный образ дает возможность наиболее углубить его смысл, когда он будит в душе воспринимающего обширные сцепления мыслей, чувств, настроений, более или менее неопределенных и многозначительных, тогда изображаемый предмет становится символом и в соприкосновении с различными переживаниями делается способным порождать из себя мифы.
Для символизма предметы этого преходящего мира представляются не в их отдельном, случайном существовании, как для натурализма, но в общей связности не только между собою, но и с миром более широким, чем наш, с тем обширным домом, о котором сказано: «В доме Отца Моего обители мнози». Поэтому искусство символическое неизбежно приводит к раздумью о смысле жизни. И обратно, когда перед обществом по той или иной причине встают вопросы о смысле жизни, этим вопросам отвечает интерес к искусству символическому. Вопросы же о смысле жизни возникают всегда, когда человек освобождается от практически-плоского вопроса: что делать сейчас, сию минуту, т. е. этот вопрос о смысле жизни возникает во все периоды творческого раздумья, предшествующие великим, но уже предрешенным событиям, предрешаются же события именно этими периодами творческой углубленности.
Символическое миропостижение упраздняет всеобщую относительность явлений тем, что, принимая ее до конца в мире предметном, признает нечто единое, уже безотносительное, по отношению к чему все получает свой смысл. Только это миропостижение всегда до наших времен было основою всякого значительного искусства. Когда искусство не остается на степени пустой забавы, оно всегда бывает выражением наиболее общего миропостижения своего времени. Оно только кажется обращенным всегда к конкретному, к частному, только кажется рассыпающим пестрые сцепления случайных анекдотов. По существу же искусство всегда является выразителем наиболее глубоких и общих дум современности, – дум, направленных к мирозданию, к человеку и к обществу. Самая образность, присущая искусству, обусловливается тем, что для высокого искусства образ предметного мира – только окно в бесконечность. Высокое внешнее совершенство образа в искусстве соответствует его назначению, всегда возвышенному и значительному.
Поэтому в высоком искусстве образы стремятся стать символами, т. е. стремятся к тому, чтобы вместить в себя многозначительное содержание, стремятся к тому, чтобы это содержание их в процессе восприятия было способно вскрывать все более и более глубокие значения. В этой способности образа к бесконечному его раскрытию и лежит тайна бессмертия высоких созданий искусства. Художественное произведение, до дна истолкованное, до конца разъясненное, немедленно же умирает, жить дальше ему нечем и незачем: оно исполнило свое маленькое временное значение и померкло, погасло, как гаснут полезные земные костры, разведенные каждый раз на особый случай. Звезды же высокого неба продолжают светиться.
Символизм является одною из основных черт нового искусства, столь существенною, что теперь всякая литературная школа, которая отреклась бы от символизма, представляла бы лишь возврат к прежним формам искусства, наприм<ер> к натурализму. Быть символическим столь естественно для нового искусства, что лет двадцать тому назад некоторые русские поэты так и назвали себя символистами. Можно было сказать, что эти поэты присвоили себе слишком широкое обозначение. Ведь символизм не есть новое свойство, принадлежащее исключительно этому направлению поэзии.
3. Символизм есть основа всякого большого искусства. Это – стихия, в которую погружено большое искусство и которая создает неразрывную связь содержания и формы. Искусство тенденциозное предпочтение отдает содержанию, пренебрегая формою; искусство эстетов заботится только о форме, так что виртуозность формы прикрывает иногда ничтожное содержание; искусство же символическое отвергает оба эти неправые уклона и требует полнейшего соответствия между содержанием и формою. Кого бы из великих писателей прежних и новых веков мы ни вспомнили, от Эсхила и Софокла до Ибсена и Метерлинка, все они создавали образы, ставшие для нас символами, источниками живых мифов. Примеры: миф о похищении небесного огня Прометеем, о рыцарских подвигах Дон Кихота во славу Дульцинеи, о преступлении и наказании Раскольникова.
Для того чтобы иметь возможность стать символом, сделаться приоткрываемым окном в бесконечность, образ должен обладать двойною точностью: он должен и сам быть точно изображен, чтобы не быть образом случайно и праздно измышленным, – за праздными измышлениями никаких глубин не откроешь; кроме того, он должен быть взят в точных отношениях его к другим предметам предметного мира, должен быть поставлен в чертеже мира на свое настоящее место, – только тогда он будет способствовать выражению наиболее общего миропостижения данного времени. Из этого следует, что наиболее законная форма символического искусства есть реализм. И действительно, так почти всегда было.
Если мы возьмем даже сказки, сложенные народами, то и в них мы различим, с одной стороны, выражение наиболее общего миропостижения того народа, которым сказки созданы, с другой стороны – удивительную точность житейских и бытовых подробностей, хотя бы и сплетенных с фантастическими измышлениями. Не являясь механическим отображением жизни, по произволу комбинируя ее составные элементы, оставаясь искусством, в этом смысле свободным от жизни, сказка не обманет и того, кто, не углубляясь в ее мифологическое значение, захочет искать в ней только изображение народного быта.
Это свойство символического искусства проявляется и в наши дни. Те, кому новое искусство не нравится, говорят, что оно отвращается от жизни и отвращает людей от жизни. Ничего подобного! Если возьмем роман хотя бы такого упорно отвергаемого поэта, как Ив. Рукавишников, роман «Проклятый род», то мы не найдем в нем никаких ошибок против быта. Такое же точное изображение быта мы видим в романах Андрея Белого, в повестях и рассказах Валерия Брю-сова, как исторических, так и из современной жизни, и у других деятелей новой поэзии. Да и как же может быть иначе? Искусство символическое, нетенденциозное, незаинтересованное, не имеет никакого побуждения к неточному пользованию своими моделями.
Случается, что реализм забывает свое истинное назначение – служить формою того искусства, которое выражает символическое миропостижение. Тогда он обращается к простому копированию действительности, причем иногда этому копированию ставятся задачи публицистического характера. Тогда реализм, искусство высокое и прекрасное, вырождается и падает до степени наивного натурализма. В этом наивном натурализме, сменившем высокое творчество Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Льва Толстого, пребывала русская литература почти до конца XIX века. Тогда возникло то литературное движение, которое было встречено так недоброжелательно и которое получило наименование декадентства, или модернизма. Представители этого нового течения весьма различались между собою и не составляют единой литературной школы, но всех их объединяло стремление возвратить поэзии ее истинное назначение – быть выразительницею наиболее общего миропостижения, т. е. восстановить права символизма и, с другой стороны, возродить реализм как законную форму символического искусства. Это и было сделано за последние 20 лет, сделано с такою силою и властью, что в наши дни возврат к наивному натурализму почти невероятен.
4. Само собою разумеется, что на протяжении этого последнего периода, обнимающего приблизительно лет 20, новое искусство не стояло на одном месте. Общий закон изменяемости коснулся и его. Можно было бы различить в этом движении три стадии, но при этом необходимо отметить, что точной хронологической последовательности здесь нет и смешиваются границы этих стадий, которые я обозначил бы так: первая – космический символизм, вторая – индивидуалистический, и третья – демократический.
Первая стадия символического искусства представляет раздумье о мире, о смысле мировой жизни и о господствующей в мире Единой Воле. На пути этих возвышенных вдохновений предшественником нашим был великий поэт Тютчев, столь близкий душе современности и столь жестоко оклеветанный христиански злобствующим Д. С. Мережковским. Из современных поэтов справедливо указать на Вячеслава Иванова, автора превосходных стихотворений и глубоких теоретических статей. Может быть, и не веря в миродержавную Единую Волю, потому что мудрость не всегда согласна с верою, этот поэт в наши дни является выразителем наиболее глубоких дум о мироздании.
Резким переломом в русской литературе было, однако, не это космическое устремление символизма. Индивидуалистическая стихия русского модернизма казалась особенно неприятною русской критике и навлекла наиболее нареканий. Индивидуализм русских модернистов истолковывался как тенденция противообщественная, что, конечно, ошибочно. Индивидуализм никогда и нигде не мог иметь значения противообщественного. Сама общественность имеет цену только тогда, когда она опирается на ярко выраженное сознание отдельных личностей. Ведь только для того и стоит соединяться с другими, чтобы сохранить себя, свое лицо, свою душу, свое право на жизнь. Недаром заветом наикрепчайшей общественности служат слова: «Мой дом – моя крепость».
В частности, индивидуализм русских модернистов обращал свое жало не против общественности, а совсем в другую сторону. Мы уходили в себя, в свою пустыню, чтобы в мире внешнем, в великом царстве Единой Воли найти свое место. Если Единая Воля правит миром, то что же моя воля? Если весь мир лежит в цепях необходимости, то что же моя свобода, которую я ощущаю тоже как необходимый закон моего бытия? Не бунтом против общественности был наш индивидуализм, а восстанием против механической необходимости, против миропонимания чрезмерно материалистического. В нашем индивидуализме мы искали не эгоистического обособления, а освобождения и самоутверждения, на путях ли экстаза, на иных ли путях. Предстоял нам вопрос, что такое человек в мире и какое его отношение к Единой Воле.
Если все в мире связано цепями необходимости, то на себе я несу, и каждый из нас несет, всю тягость совершенного когда бы то ни было зла и все торжество содеянного когда бы то ни было блага. В этой цепи причинностей каждый из нас является также и виновником последствий каждого своего поступка. Весь мир взвешен на мне и на каждом из нас, и это, налагая на наши слабые плечи ярмо всеобщей ответственности за греховность мира, дает нам и возвышающую нас возможность присоединить свою волю к могучему потоку воли всемирной. Через крайности надменного солипсизма или эгоцентризма это настроение души приводит нас к возвышенным понятиям о богочеловечестве и богосыновстве. Уча слиянию своей частной воли с Единою миродержавною Волею, наш индивидуализм был основою религиозно-философских устремлений русской поэзии последних лет. Сам же по себе наш индивидуализм не был длительным и легко переходил в третий момент русского символического движения последних лет, в демократический символизм, жаждущий соборности и соборного деяния. В этой последней стадии преимущественно и пребывает наш символизм в настоящее время.
5. Всякое искусство по существу символично, так как оно есть интуитивное познание. Разве не символично искусство таких реалистов, как Гоголь, Тургенев, Лев Толстой? Образы Чичикова, Рудина, Хозяина и Работника являют нам содержание, далеко превышающее то временное значение, которое могли придавать этим образам современники. Символизм имеет задачею соединить вечное, непреходящее с временным, с миром явлений. Эта задача искусства как особого рода познания, всегда остается одна и та же, как бы ни изменялись способы выражения.
Как способ познания совершенно особенный, искусство не может обращаться только к разуму. Оно требует параллельного переживания от воспринимающего. Ведь каждый человек воспринимает мир с некоторой особенной, субъективной точки зрения. Чередование поколений не имело бы никакого смысла и не было бы смысла в многолюдстве, если бы эти явления во времени, в сменах жизней и явления в пространстве, в преизобилии открытых на мир глаз не сопровождались многообразием опытов, переживаний и мировоззрений, уживающихся одновременно. Это многообразие впечатлений и опытов, эта живая жизнь образов искусства в наших душах способствует основной задаче символического искусства – прозрению мира сущностей за миром явлений.
Прозреваем мир сущностей не разумно и не доказательно, а лишь интуитивно, не словесно, а музыкально. Не напрасно заветом искусства поставил Поль Верлен требование:
Музыка, музыка прежде всегоПрозреваем за миром явлений мир сущностей, и в свете ценностей непреходящих оцениваем бренность и зло жизни, а что же этот мир? Этот мир явлений, где все появившееся на свет, обрадовавшееся жизни и обрадовавшее кого-то, все, все обречено увяданию, изнеможению, гибели, и еще раньше, чем настанет смерть, все обречено порочности, всему живому дано почувствовать ложь и зло жизни, – что же этот мир? Мое маленькое Я, мое личное сознание, прикованное к месту и времени, пространственно и временно ограничено; мое сознание прозревает сокрытую сущность вещей, но само устрашается той перемены, которую люди зовут смертью и которая ограниченному сознанию моему представляется роковым пределом. В этом предчувствии гибели причина того, что искусство стремится к трагическому.
Устремление к трагическому является вторым отличительным признаком нового искусства. Угрозы неумолимого рока, бунт против судьбы, жуткое колебание всех основ действительности, – все это опять входит в область искусства наших дней и пророчит нам наступление эпохи великого искусства, подобного тому, каким было искусство Эсхила и Софокла.
Цель трагедии – очищение души зрителя в волевом акте сочувствия и сопереживания. Драма хочет стать активным фактором нашей душевной жизни, произвести в ней некоторое внутреннее потрясение. Искусство научилось хотеть, и велико волевое напряжение нового искусства. Все творчество Максима Горького проникнуто ярко выраженным волевым напряжением. Настойчиво повторяется «хочу» у новых поэтов.
Достаточно перелистать любую книгу стихов Бальмонта, чтобы почти на каждой странице найти слово «хочу» или повелительное наклонение какого-нибудь другого глагола. Бальмонт говорит:
Лишь пойми, скажи, – и будет Захоти сейчас, сейчас, – Будешь светлым, будешь сильным, будешь утром в первый раз!И в другом месте, в другом настроении, но с таким же волевым напряжением:
Я вновь хочу быть нежным, Быть кротким навсегда, Прозрачным и безбрежным, Как воздух и вода, Безоблачно прекрасным, Как зеркало мечты, Непонятым и ясным, Как небо и цветы Я вновь хочу быть сонным, Быть в грезе голубой, И быть в тебя влюбленным, И быть всегда с тобой.И еще в другом месте:
Я люблю одну бездонность, это воля, это я.И еще:
Я хочу порвать лазурь Успокоенных мечтаний. Я хочу горящих зданий, Я хочу кричащих бурь!И еще:
Я хочу быть кузнецом, Я, работая, поюИ еще стихотворение, всем известное, которое начинается словами:
Хочу быть дерзким, хочу быть смелым.И кончается этими строчками:
Я буду счастлив! Я буду молод! Я буду дерзок! Я так хочу!Даже когда о смерти говорит Бальмонт, повторяется та же настойчивость воли:
Я хочу, чтобы белым немеркнущим светом Засветилась мне смерть!Даже любовь к женщине у современных поэтов – любовь настойчивая и водящая. В самом высшем своем выражении, в полном самоотвержении и подчинении она все же носит этот волевой характер.
Это волевое напряжение так сильно в новом искусстве, так перво-начальнее всех его свойств, что воспринимающий принуждается хотеть того же, что и автор. Происходит заражение чарами искусства, а не убеждение посредством искусства. И оно же, это волевое напряжение, ведет к тому, что искусство выходит из своих келейных затворов и из тесных аристократических кругов и хочет говорить толпе, народу. Новое искусство имеет, несомненно, демократический наклон. Не в том, конечно, смысле, что оно хочет искать в народе поучения, идеалов, творимого бога. Оно хочет быть демократическим потому, что настал час его влияния на широкие массы. Художник наших дней не может не видеть, что пришла пора, чтобы интимное стало всемирным, всенародным. Толпа, захотевшая не только хлеба, но и зрелищ, уже готова отдать свою душу искусству.
Если еще нет условий, создающих всенародное искусство, то все же оно к этому стремится. Искусство хочет быть демократическим, потому что в этом оно видит трудную для себя, а потому и заманчивую задачу.
Искусство, которое не хочет быть всенародным, вырождается. Если оно не хочет вырождаться, то оно должно принять в себя нечто от варваров, от вновь приходящих из глубин народных. Варвары внесут в наше искусство немножко беспорядка и много новой, вольной, своеобразной красоты.
Новое искусство и по форме своей демократично. Оно отвергает гармонию данных форм, власть унаследованных традиций, привычные понятия о красоте канонической, данной. Оно хочет творить новую красоту буйственно, дерзновенно, из всякого материала, и всякое житейское переживание увлечь в тот поток, которым стремится душа к прекрасному и высокому.
Как искусство демократическое, искусство в наши дни не может не быть насыщено трагическими элементами, так как великая задача борьбы с роком и великая жажда очищения дана уже не герою, а хору трагедии, народу, который все чаще и чаще является объектом искусства. Так, например, объектом искусства является не герой, а народ в трагедиях Эмиля Верхарна («Зори»), в драмах Октава Мирбо («Дурные пастыри»), Гергарда Гауптмана («Ткачи»), из русских – в трагедиях Валерия Брюсова («Земля»), Леонида Андреева («Царь голод» и «Океан»), Вячеслава Иванова («Тантал»), в драмах Минского.
Как искусство демократическое, искусство наших дней не может не быть символическим, потому что народ и есть та среда, в которой мир воспринимается не рассудочно, а интуитивно, – та среда, в которой поэтому все предметы явственно претворены в символы, и в этой же среде, в многообразии ее отношений, из символов рождаются мифы.
Так определяется тройная связь свойств искусства наших дней. Оно хочет быть символическим, оно обвеяно духом трагедии, оно стремится стать всенародным. Это искусство является постоянною думою о мироздании. Оно является неустанным строительством миропониманий.
6. Есть два способа отношения к миру – ирония и лирика. В поэтическом творчестве я различаю два стремления: положительное, ироническое, говорящее миру «да» и этим вскрывающее роковую противоречивость жизни, и отрицательное, лирическое, говорящее миру «нет» и этим созидающее иной мир, желанный, необходимый, но и невозможный без конечного преображения мира.
Называя эти два способа отношения к миру лирикою одно и другое ирониею, я беру эти два слова не в их обычном значении. Со словом «ирония» я не хочу соединять представление о намеренно притворной похвале, об очевидном несоответствии кажущегося с действительным. Ирония в моем словоупотреблении хочет принять, благословить, восхвалить, несоответствие же кажущегося с действительным является невольно, но неизбежно. Слово «лирика» я здесь употребляю не только в смысле лирической, субъективной поэзии, но в более широком смысле лирической настроенности, миропонимания субъективного, волевого, активного, в противность миропониманию пассивному, обусловленному, научному.
Две вечные истины, два познания даны человеку. Одна истина, один способ понимания мира – ирония. Она принимает мир до конца. Этим покорным приятием мира она вскрывает роковые противоречия нашего мира, уравновешивает их на дивных весах сверхчеловеческой справедливости.
Другая истина о мире – лирика. Она отрицает и разрушает здешний мир, и на великолепных развалинах его строит новый. К радостям этого нового мира вечно влечется слабое сердце человека.
Вокруг простор, никто не держит, И нет оков, И Божий гнев с небес не вержет Своих громов, Но светлый край далек отсюда, И где же он? Его приблизит только чудо Иль вещий сонТрудно указать поэта, который был бы исключительно лириком или ироником в указанном мною смысле. Всякая поэзия представляет сочетание иронии и лирики в том или ином взаимном отношении.
Преобладает ирония у таких поэтов, как Гёте, Пушкин, из современных Бальмонт, Брюсов. Преобладает лирика у Шиллера, Гейне, Лермонтова, из современных у Ал. Блока.
Писатели, любящие быт, натуралисты, этнографы, силою вещей принуждаются к иронии. Как бы идиллически ни изображался быт, всегда поэту приходится вскрыть его несовершенства и противоречия. Сладчайшая из идиллий «Дафнис и Хлоя», и более поздняя «Павел и Виргиния», и еще более поздняя «Старосветские помещики», и совсем недавняя «Движения» Сергеева-Ценского, изобразив с необычайною ясностью всю радость простодушной земной жизни, не могли избавить этой радости от злых и горьких отрав. Искусство, как бы оно ни любило жизнь, никогда еще не сумело изобразить рай на земле. Об этом блаженстве людей на земле говорят иногда только авторы утопий, но мечта их устремлена к будущему.
Ныне же мы видим, что писатели, называющие себя реалистами, принуждены изображать преимущественно отрицательные стороны быта, даже и тогда, когда изображается быт культурный.
Есть два типа быта, прямо противоположных один другому, хотя один из них и рождается из другого как его неизбежное последствие: есть быт устоявшийся, культурный, и есть быт застоявшийся, реакционный; быт нивы и быт болота. Когда устоявшийся, культурный быт исчерпывает все свое живое содержание, изживает всю свою культурную ценность, тогда он начинает переходить в свою противоположность, в свое резкое отрицание.
То, что было разумно, необходимо, прекрасно в быте культурном, что в нем было благо и почти свято, что возвышалось почти до степени почитаемого культа, – все это в периоды упадка бытовой жизни, в периоды болезни обществ и их переустройств становится нелепо, ненужно, безобразно, становится тягостно, как кошмар. Вес те страдания отдельной личности, которые прежде находили себе оправдание в прочности всего жизненного уклада, теперь являют ужасный вид напрасной и ничем не оправданной жестокости. Все, в чем видел человек смысл жизни, становится вдруг двусмысленным; весь нравственный мир поколеблен, и при таком настроении присутствовать на зрелище бытовых картин представляется человеку, охваченному этою болезнью времени, этою лихорадкою перемены, так же странно и дико, как странно и дико было Гамлету присутствовать на венчальных торжествах своей матери.
Быт в такие эпохи становится кошмарным и сам переходит в свою крайнюю противоположность, в дикую фантастику, подобную кошмарам Гойи.
Тогда вывести человека из ужасов этого кошмара хочет символическое искусство. Оно хочет преображения быта творческою волею. Об этом говорит один из самых очаровательных мифов нового времени, данный в бессмертном романе Сервантеса, – миф о выборе дамы Дон Кихотом; с ним сочетается и творимый ныне миф об Альдонсе, становящейся Дульцинеею.
7. Во времена рыцарства рыцарь выбирал знатную даму и во славу ее совершал подвиги, требовал, чтобы все признали его даму – прекраснейшею из дам.
Прекраснейшая из дам! Но кто же по праву единственная прекрасная дама?
В гордом замысле бедного Ламанчского рыцаря прекраснейшая из дам – Дульцинея Тобосская. Так назвал он крестьянскую девушку Альдонсу, как бы предсказывая появление в иной стране и через много лет иного поэта, Некрасова, с такою нежностью прославившего крестьянку.
И она– воистину прекраснейшая, потому что в ней красота не та, которая уже сотворена, и уже закончена, и уже клонится к упадку, – в ней красота творимая и вечно поэтому живая.
И эта красота творимая соответствует жажде истинного преображения.
Всякий знает лирически нежное имя Дульцинеи Тобосской, прекраснейшей из женщин. Ее прелести затмевают красоту Елены Прекрасной и очарование небесной Афродиты. Всякая Прекрасная дама и всякая Невинная дева – только небесные и земные лики Дульцинеи. Но не всякий сразу вспомнит иронически точное, в метрику приходской церкви занесенное имя Альдонсы; это была та дебелая красотка, которую нашел Санчо Панса, посланный Дон Кихотом в Тобозо к Дульцинее.
Как истинный мудрец, Дон Кихот для творения красоты взял материал наименее обработанный и потому оставляющий наиболее свободы для творца. Альдонса – простая крестьянская девица, смазливая, сильная, веселая. Ничего себе невеста для деревенского жениха. Бойко спляшет на празднике. А выйдет замуж, – хорошею будет хозяйкою и нарожает здоровых, сильных ребят.
Таково обычное, санчо-пансовское восприятие действительности, сильная и прекрасная ирония, вдохновляющая всех прозаиков и точных наблюдателей. А восприятие Дон Кихота, лирическое понимание действительности из этого грубого материала творит ценность неоцененную, сокровище непреходящее, – то, чего нет, но что должно быть. То, что не сотворено во внешнем творении, но что творится поэтом, что вскрывается им за обликом обычности.
Санчо-пансовское понимание мира видит среди предметов обычного мира только зримую Альдонсу, только то, что есть, что явлено во внешнем, не более. Это понимание и есть натурализм, поэзия иронии. Конечно, Альдонса, что же еще? И вся задача – изобразить зримую в мире Альдонсу точно.
Не таково настроение лирического поэта, Дон Кихота. Дон Кихот требует преображения мира, требует раскрытия заключенных в нем прекрасных возможностей. Посылает верного Санчо Пансу и говорит ему:
– Приветствуй Дульцинею, прекраснейшую из дев земных.
Иронически, точно настроенный Санчо Панса видит только Альдонсу, простую и обыкновенную. Тем хуже для него. Грубы его чувства и за пеленою тусклой обычности не различают возможностей и обетовании великой красоты. Надлежит ему преобразиться, пройти длинный путь культуры, истончить свои восприятия, – и тогда приблизится он к своему господину и поверит в обетованную Дульцинею.
И сам Дон Кихот увидит наконец Альдонсу не в мечтаемых чертогах, а в ее действительной хижине. Но что ему до Альдонсы! В зримой Альдонсе для него только материал для творения желаемой Дульцинеи. Его слишком волевой темперамент не позволяет ему только любоваться уже данною красотою. Так в близкие к нашим дни волевой темперамент Некрасова увел его от любования красотою дам к опоэтизированию слез не жемчужных, слез горюшки-вдовы. Альдонса для Дон Кихота и для лирического поэта только затем и нужна, чтобы ее дульцинировать.
Для лирического поэта, для Некрасова, как для Дон Кихота, нет Альдонсы, – есть Дульцинея. Для иронического поэта, как для Санчо Пансы, нет Дульцинеи, – есть Альдонса.
Подвиг лирического поэта в том, чтобы сказать тусклой земной обычности сжигающее «нет»; поставить выше жизни прекрасную, хотя бы и пустую от земного содержания форму; силою обаяния и дерзновения устремить косное земное к воплощению в эту прекрасную форму. Лирический подвиг Дон Кихота в том, что Альдонса отвергнута как Альдонса и принята лишь как Дульцинея. Не мечтательная Дульцинея, а вот та самая, которую зовут Альдонсою, или Дарьею, или Ириною. Для вас, – говорит лирический поэт, – смазливая, грубая девка, для меня – прекраснейшая из дам. Ибо не должно быть на земле грубой, смазливой, неприятной Альдонсы. И если кажется, что она есть, то лирическое восприятие мира требует чуда, требует преображения плоти. Требует изменения жизни, просветления жизни, ореола над нею.
Когда Поль Верлен, лирический, нежный поэт, влача дни свои в нищете, был близок к смерти, он принялся золотить все бедные предметы своей скудной обстановки: колченогий стул, убогая кровать – все засияло перед ним, обманывая воображение бедного поэта блеском творимой красоты. Вот – трогательный пример дульцинирования жизни.
Труден лирический путь дульцинирования Альдонсы, но легок обратный путь альдонсирования Дульцинеи. Если бы Санчо Панса встретил каким-нибудь чудом Дульцинею, такую, какою ее воображал Дон Кихот, или увидел бы ее изображение в искусстве, то он, конечно, искал бы в ней привычных ему черт Альдонсы. Ведь видели же мы недавно карикатурные изображения Джоконды. Для Леонардо да Винчи Джоконда – очаровательная дама с загадочною улыбкою, для автора карикатуры – только дебелая баба, вовсе не красивая. Ничего нет легче – передразнить, осмеять, написать пародию, нарисовать шарж, найти во всем черты пошлого и смешного. Кто этого не умеет!
Натурализм принуждается принять Альдонсу со всеми ее противоречиями как единственную истину и отвергнуть Дульцинею как нелепую и смешную мечту. Это есть то, о чем Пушкин говорил: «Прозаические бредни, фламандской школы пестрый сор».
Лирика и сама на высочайших ее высотах открывает роковую противоречивость в самом своем восторге, открывает неизбежность грехопадения во всяком мыслимом мироздании. Она становится трагическою ирониею. Такова была поэзия Лермонтова, и к такому же типу приближается прекрасная, глубокая и столь мало оцененная поэзия Минского.
Невозможность воплощения мечты, невозможность дульцинирования Альдонсы погружает душу в беспредельную мечтательность и в смертную истому. Лунная мечта Лилит обвеяна тишиною и тайною, подобными тишине и тайне могилы.
Или в нисходящей, роняющей венец превосходства Дульцинее обличаются черты земной Альдонсы. Но так как лирик говорит Альдонсе «нет», то и Дульцинею отвергает он. Получается скептическая лирика, очаровательная поэзия Александра Блока.
И, наконец, возможна такая поэзия, когда принята Альдонса как подлинная Альдонса и подлинная Дульцинея. Каждое ее переживание ощущается в его роковых противоречиях, вся невозможность утверждается как необходимость, за пестрою завесою случайностей обретен вечный мир свободы. В каждом земном, грубом упоении таинственно явлены красота и восторг. Ирония становится мистическою. Такою мистическою ирониею была поэзия Поля Верлена. Такое же принятие зримой Альдонсы, земной девы, за подлинную Альдонсу и за подлинную Дульцинею представляет образ Анны Ермолиной в моем романе «Тяжелые сны».
8. Много можно найти и в жизни, и в искусстве примеров претворения Альдонсы в Дульцинею. Между прочим, мечту Дон Кихота о претворении Альдонсы в Дульцинею воплотила Айседора Дункан. Ею, как и другими подобными примерами, оправдана милая, странная, смешная для глупых детей мечта.
Альдонса, в течение веков сознавая свое место в мире и свое отношение к таящейся в ней Дульцинее, наконец говорит миру и себе:
– Хочу быть Дульцинеею!
И вот приходит Айседора Дункан и являет миру высокое, обольстительное зрелище творимой по воле красоты. Творится эта красота не из какого-нибудь особенно выбранного, чрезвычайно изысканного материала. Ничего подобного. Здесь мы видим образец этой удивительной наклонности нового искусства, как бы ни различались его произведения в других отношениях и к каким бы различным школам они ни принадлежали, – наклонности брать материал, так сказать, без выбора. Таков и материал, из которого творит свои очарования Айседора Дункан. И лицо, и тело у нее совсем обыкновенные, как у всех. Но видевшие танец Айседоры Дункан хоть однажды видели это истинное чудо преображения, обычной несовершенной плоти в необычайную, творимую по воле на глазах наших красоту, видели, как зримая Альдонса преображается в истинную Дульцинею, в настоящую красоту этого мира, в ту оча-ровательницу, которой захотел служить Дон Кихот, – и вместе с тем это чудо преображения чувствуем мы и в себе самих, как и всегда, когда жизнь или искусство вскрывают нам Дульцинею под личиною Альдонсы. Если, конечно, хотим преображения и если хотим его почувствовать. Потому что без устремления воли ничто не дается человеку; искусство не берет на себя обязанности производить насильственные, принудительные преображения хотя бы только в душе нашей. Получаем от искусства лишь то, чего в явлениях искусства ищем.
Но чувствует зритель Айседоры Дункан это веяние свободы в своей душе, это удивительное преображение. Он, в предметах видимого мира замечавший только несовершенное и смешное, всегда так иронически улыбавшийся, – иронически, конечно, потому, что этот мир и этот быт им совершенно и навсегда приняты, он восторгается и ликует. Видит перед собою полуобнаженное тело и не испытывает никакого дурного, затаенного чувства. Прощает невинности ее невинность и ничего для себя от нее не хочет. И если бы увидел ее совсем нагую, то и тогда таким же чистым и пламенным горел бы перед нею восторгом.
И хочется сказать многим:
– Милые, бедные работницы, с серпом или с иглою в утомленных руках, придите, взгляните на вашу сестру, на эту пляшущую и пляскою трудящуюся Альдонсу, – придите и научитесь, какие возможности красоты и восторга сокрыты в ваших телах; поймите, как прекрасна, как благоуханна преображенная в дерзновенном подвиге, нестыдливо обнаженная, милая плоть, прекрасное тело творимой Дульцинеи.
Озарение некрасивого и обычного, вознесение его к вершинам жизни и счастья – вот смысл лирического подвига как в танце Айседоры Дункан, так и в ином явлении Дульцинеи. Это – оправданная надежда на возможное еще на земле преображение нашей обычной жизни, такой некрасивой, нерадостной и потому злой, – жизни, где неохотно пляшут и неумело радуются, и если радуются, то радуются со злостью. В проявлении же Дульцинеи как бы начинает оправдываться пророчество Ибсена о том, что красота вся станет жизнью, и вся жизнь – красотою.
Это стремление к преобразованию простой и грубой, простонародной жизни красотою мы видим и в трудах Далькроза, которые с таким прекрасным энтузиазмом прославляются и пропагандируются в России князем Сергеем Волконским. Но нельзя не отметить существенной разницы между танцами Айседоры Дункан и ритмическою гимнастикою Далькроза. Танец Айседоры Дункан идет от внутреннего переживания, которое выражается в ряде поз, связывающихся в свободное и легкое движение; этот очаровательный танец явственно идет от воли, имеет волевой характер. Ритмическая же гимнастика Далькроза идет от внешнего побуждения, от внушения музыки, требует внимания, точного исполнения, строгого послушания. С танцем Айседоры Дункан исполняемая ею музыка находится в отношении предустановленной гармонии, так что для данного переживания надобно взять вот эту именно музыку, а не какую-нибудь другую. В ритмической же гимнастике Далькроза начало идет от музыки. Музыка подчиняет себе душу упражняющегося, заражает его теми или другими настроениями, – просто говоря, музыка повелевает душою танцующего. Танец Айседоры Дункан пробуждает душу, освобождает ее, возносит, – гимнастика Далькроза усыпляет душу, хотя и прекрасно дисциплинирует ее. Отдавая полную справедливость этой удивительной системе хитро соображенных упражнений, я все-таки отдам предпочтение дунканскому танцу. Для меня танец даже и неопытной дунканистки всегда приятен. Далькрозовские упражнения несколько скучны, и всегда немного жаль этих учениц и учеников, проделывающих такие головоломные и в конце концов ни на что не нужные упражнения. Мне кажется даже, что эти упражнения не хорошо должны действовать на волю танцующего, принужденного раздроблять свое внимание, свою душу. Впрочем, для многих из людей нашего времени нужна еще первоначальная выучка воли, элементарные упражнения в дисциплине. Для таких система Далькроза, по всей вероятности, очень полезна.
9. Созданный в новые века символ Дульцинеи Тобосской и основанный на нем миф о служении Прекраснейшей из дам – очаровательны. Они волнуют и стремят к великим достижениям, как великие идеи-силы. Действенная сила символа и этого мифа тем выше, что, в отличие от мифов глубокой древности, здесь мы видим, в самом символе, а не в исторических или филологических изысканиях, происхождение мифа. Не из пены морской встает сладчайшая очарователь-ница, Прекраснейшая из дам, а из великого источника всякой живой и действенной красоты, из могучего океана народной жизни, на который низошла творческая мечта поэта.
Так как новое искусство соответствует более активному, более деятельному состоянию души современного человека, то и образы его тогда имеют наиболее действенную силу, когда они в себе самих несут историю своего происхождения. Ведь потому так и интересуют современных знатоков и просто любителей искусства вопросы техники. Как это сделано? – это для нас часто интереснее, чем вопрос о том, что изображает сделанное. Потому так и нравится нам скульптура Родена, что в ней мы видим, как образ возникает из глыб грубого материала.
Все искусство наших дней – искусство устремительное и волевое. Для него характерны не столько те новые направления, которые так часто возникают в нем, сколько самая неустанная смена этих направлений. В искусстве мы, люди наших дней, постоянно стремимся к новому. А история дополняет наши искания, немножко успокаивает нашу суету, порою крикливую и неприятную, и из нового отбирает для хранения в благодарной памяти потомства только достойное. Впрочем, может быть, было бы неплохо, если бы и мы сами, проникшись справедливым духом строгой истории, радостно и жадно приветствуя все новое, отбирали из него достойное. Это ведь и соответствовало бы волевому характеру нашей эпохи. Зачем же нам ждать приговоров неторопливой истории, когда мы и сами легко различим, что приходит к нам в широком русле общемирового устремления и что подарено нам прихотью взбалмошной Айсы, веселой Мойры, любящей только анекдоты и охотничьи рассказы?
Чем явственнее волевой характер произведения искусства, чем более творческой энергии вложено в него, тем действеннее это создание искусства, тем более достойно долговечности.
Мы хотим от искусства того, чтобы оно творило новые художественные ценности из косного, неподатливого материала. По воле нашей должны твориться ценности. Не то мы признаем художественно ценным, что подходит под установленный канон, а лишь то, что мы захотим признать прекрасным. Глазами отживших мы не хотим смотреть ни на один предмет земной жизни, – своими глазами должны мы все увидеть и всем предметам заново дать имена. Все предметы хотим мы включить в круг нашего творчества, потому что мы знаем, что на этой, на нашей земле нет предметов недостойных, низких или грязных, – есть только наше отношение к этим предметам, то или иное по воле нашей. Как сказал Некрасов:
Если в душе твоей ясны Типы добра и любви, В мире все темы прекрасны, – Музу смелее зовиЧем неподатливее материал и чем больше вложено в дело созидания творческой энергии, тем прекраснее победа. Может быть, здесь уместно будет повторить те слова, которыми начинается «Творимая легенда» и которые неоднократно уже повторялись многими критиками: «Беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю из него сладостную легенду, ибо я – поэт. Косней во тьме, тусклая, бытовая, или бушуй яростным пожаром, – над тобою, жизнь, я, поэт, воздвигну творимую мною легенду об очаровательном и прекрасном».
Прежнее понятие о художественной ценности как начале статическом навсегда неизменно незыблемом, чисто эстетическом, о ценности прекрасного, высокого или трогательного, это понятие умирает, и ему на смену приходит понятие о художественной ценности становящейся как начало динамическое, как внутреннее оправдание. Новая, не данная нам извне, не наследованная нами с множеством других предрассуждений от наших предков художественная ценность, творимая нами по воле нашей, творимая интуитивно, является началом созидательным, ферментом великого брожения.
Формальным признаком нового, волевого, жаждущего трудностей искусства является отклонение его от завещанных веками канонов, то отклонение, которое так часто выводит из себя прилежных теоретиков и историков искусства.
По словам Андрея Белого: «Символисты, в противовес догматикам творчества, противопоставили самую энергию творчества безотносительно к способам выражения этой энергии… Символизм подводит искусство к той роковой черте, за которою оно перестает быть только искусством; оно становится новою жизнью и религиею свободного человечества…»
Итак, к великому труду призывает нас новое искусство, к труду преображения жизни нашей, к подвигу восстановления свободной души в человечестве. Это – труд, превышающий силы человека и возможный лишь в состоянии того экстаза, который рождается в душе человека лишь под влиянием высоких внушений искусства. Жаждою подвига все более и более проникается современное искусство, жаждою бодрой и деятельной жизни, ярких красочных впечатлений, смелой и свободной живописи, совсем не похожей на то, что мы привыкли видеть в музеях. Это соответствует волевой, стремительной душе современного демократического общества, того общества, в которое непрерывно входят широкие потоки вновь приобщающихся к благам культуры варваров. Эти варвары вносят некоторую смуту во все наши понятия и о жизни, и об искусстве, но зато вливают свежую кровь в вялые вены дряхлеющего мира. И не большая беда в том, что в Италии последователи Маринетти хотели бы уничтожить произведения старого искусства и что у нас в России кто-то хочет музеи картин заменить музеями вывесок; для наших городов не будет обидно, если юные художники будут разрисовывать вывески. И счастье современной цивилизации, что расшатывающие ее варвары приходят не из далеких пустынь, а из дебрей наших же городов; не гунны грозят Риму. 10. Так жаждем подвига.
Славнейший подвиг и величайшая жертва – подвиг, приводящий к смерти, жертва жизни.
Вопрос о смерти с такою же неодолимою силою влечет многих современных поэтов, как и вопрос о смысле жизни.
По-видимому, нам, находящимся в жизни, совершенно неестественно любить смерть. Мы привыкли думать, что смерть страшна, безобразна и бессмысленна, что она отнимает от жизни весь ее смысл. Стоит ли жить, если все равно придет смерть? А между тем только смерть и дает весь смысл жизни, и без нее она была бы бессмысленна, как процесс, бесконечно, а стало быть, и бесцельно продолженный.
Смерть, подводя итоги всем жизненным явлениям, укрощая всякую вражду и злобу, разрешая все противоречия, спасая от нестерпимого, не только осмысливает, но и освящает жизнь. Все мы знаем, что вместе со смертью в дома наши входит торжественное, умиротворяющее настроение.
Метерлинк говорит, что если бы люди чаще вспоминали о смерти, то они относились бы к жизни и друг к другу с большею нежностью, осторожностью и вдумчивостью.
О смерти еще Боратынский говорил:
О дочь верховного Эфира! О светозарная краса! В руке твоей олива мира, А не губящая коса Когда возникнул мир цветущий Из равновссья диких сил, В Твое храненье Всемогущий Его устройство поручил. И ты летаешь над твореньем, Согласье прям его лия И в нем прохладным дуновеньем Смиряя буйство бытия А человек! Святая Дева! Перед Тобой с его ланит Мгновенно сходят пятна гнева, Жар любострастия бежит. Дружится праведной Тобою Людей недружная судьба. Ласкаешь тою же рукою Ты властелина и раба Недоуменье, принужденье – Условье смутных наших дней; Ты – всех загадок разрешенье, Ты – разрешенье всех цепей.Все великое в жизни приходит к нам вратами жертвенной смерти. И всякий, кто, смертельно тоскуя, изнемогая в непосильной борьбе со злом нашей жизни, самовольно приближает к себе великую разрушительницу бедствий нестерпимых, бросает в душу нашу великий и правый укор безобразию и злу нашей жизни.
Жертвенною смертью преобразится мир, смертью и искусством. Этими двумя одинаково, потому что искусство своим возвышающим и очищающим влиянием на жизнь воистину подобно смерти. Жаждем невозможного, того невозможного, что мыслится нами как необходимое для нас, – испытываем, по выражению Минского, жажду жгучую святынь, которых нет, – и что же на земле может утолить эту жажду, кроме искусства, подобного смерти невозмутимым совершенством своим?
11. Так как все связано в жизни нашей, то и творчество в искусстве влечет за собою творчество в жизни. Особенно искусство наших дней, все проникнутое волевыми элементами. Чем более насыщено искусство творческою энергиею, тем более энергия эта переливается в жизнь. Искусство идет впереди жизни и требует от нее творческого подвига, заражает жизнь жаждою этого подвига. Где искусство не выполняет своей верховной, руководящей деятельности, там жизнь обращается из деятельного, хотя и подражательного искусству подвига в быт, от искусства независимый, но зато застойный. Искусство, идущее за жизнью, знаменует всегда эпохи застоя, хотя бы и блистательного. Если в искусстве торжествует быт, это значит, что жизнь обнесена Китайскою стеною и тоскует в плену застойного быта. А искусство, возвратившееся к жизни, становится, если верить парадоксальному утверждению Оскара Уайльда, просто плохим искусством.
Но почему становится возможным творчество жизни? Творить жизнь может и хочет только тот, кто смеет сказать «Я». Только ставящий себя в центр мирового процесса может найти в себе достаточно силы для того, чтобы целью своей деятельности поставить творчество жизни. Где личность подавлена, там творчество невозможно. Возможна лишь тоска по творчеству, тоска пророческая, потому что за периодами застоя и угнетенности всегда следуют периоды повышенной деятельности.
Тоска по свободному и деятельному проявлению творчества, тоска скованных творческих сил сказывается иногда в искусстве преувеличенным культом личности, как это и было в тот недолгий период, когда русский символизм пребывал в стадии самоуглубленного индивидуализма. Подавленная в жизни, в утешающей мечте личность вознаграждала себя за свой плен пророческими представлениями. Отсюда возникало чистое выражение суверенного Я, надменный солипсизм или эгоцентризм, бывший только кратким, но значительным переходом к современному состоянию русского символизма.
Это самосознание личности, становящей себя в центре мирового процесса, было выражено, между прочим, в моей статье «Книга совершенного самоутверждения» и в моей поэме «Литургия Мне».
Полагая единственною основою всякого возможного познания только свое ощущение, каждый придет к выводу, что единственное достоверное бытие – мое бытие. Все же, что мне является, для меня только образ моего воображения, и весь мир становится для меня только моим представлением, как и для каждого. И потому солипсист говорил: «Все и во всем – Я, и только Я, и нет иного, и не было, и не будет» («Книга совер-ш<енного> самоутвержд<ения>»).
Это не значит, что другие люди – мои призраки. Для солипсиста другой человек – другое Я, столь же ценное.
Здесь, с вами, и в ином пределе, Во всех просторах бытия, И в каждом духе, в каждом теле, Все – Я. И все лишь только Я(«Литургия Мне»)
Все – Я, а что же внешний мир, такой яркий, назойливый, красочный и в то же время такой враждебный мне? Враждебный, но и такой привычный, такой легкий, так сразу воспринятый с детских лет, воспринятый с такою легкостью, как будто я прихожу на землю уже не первый раз и уже не узнаю предметов вновь, а только воспоминаю их. Может быть, эта легкость восприятия мира, эта врожденная привычка к нему, это знакомое многим ощущение того, что некоторые переживания уже знакомы мне по какой-то неведомой прежней жизни, – может быть, все это указывало солипсисту на то, что мир не что иное, как моя же мечта.
И говорил солипсист: «Вне Меня нет бытия, ни возможности бытия. Всякое познание есть тать ко путь ко Мне, только средство самопознания, только исполнение старого мудрого требования: „Познай самого себя“».
Вывод отсюда, конечно, не тот, который делается поверхностным эгоизмом. Поверхностный, хотя и последовательный эгоизм полагает, что все позволено. Солипсист, не видящий в мире ничего, кроме своих же переживаний, к этому разрешению себе всего прибавляет тот неизбежный вывод совести, что ведь зато и ответственность за все, в этом мире совершающееся, лежит на Мне. Эта всеобщая ответственность за грехи мира была ясна Достоевскому. Она же поражала иногда Леонида Андреева. Пример – рассказ «Тьма».
И солипсист говорил: «Если есть в мире грех, то это – Мой грех. Все могу, чего хочу, – и все хочу, что могу. Я одно и то же во всяком человеке, почему и не следует человеку бояться смерти как уничтожения. Смерти как конечного уничтожения нет. Но не следует человеку и надеяться на смерть как на конечное уничтожение. Нет уничтожения, нет забвения, жизнь бесконечна, и потому грехи всего мира на Мне и вечная на Мне казнь».
Последовательный солипсизм приводит, таким образом, душу человека к религиозному слиянию с единою мировою волею, и в себе ощущает человек веяние той великой силы, которая движет миры и сердца.
Так, по закону тождества совершенных противоположностей, наибольшая свобода равняется совершенной необходимости. Обособление, сообразно тому же закону, становится тождественным с общностью.
И солипсист говорил: «Между Мною и тобою нет разницы, нет границ, нет разделения. Ты и Я – одно. Забыть Меня – великий грех».
Давая ощущение этой вселенской общности, искусство наших дней стремится перешагнуть за пределы чистого искусства, стремится преобразовать мир усилием творческой воли. В этом искусстве дано стремление к иной жизни, и потому художник является проповедником будущего. Но проповедует он не догматически, а только отчетливым выражением и самоутверждением своего внутреннего Я. Самоутверждение личности и есть начало ее стремления к лучшему будущему.
12. Из этого вытекают религиозные отношения искусства наших дней. Это искусство религиозно, потому что имеет трагические, волевые устремления. Трагедия всегда религиозна, и воля в мире только одна. Искусство наших дней религиозно и потому, что оно – искусство символическое, а символизм всегда дает нам ощущение всеобщей связности; он относит все являющееся к одному общему началу и, подобно религии, стремится проникнуть в смысл жизни. Искусство наших дней и потому религиозно, что оно хочет стремиться к искусству всенародному, т. е. уже и в земных формах осуществить живое ощущение вселенской связности и общности.
Поэтому в искусстве наших дней так сильны религиозно-философские устремления, выраженные в творчестве Минского, Мережковского, З. Гиппиус, Блока, Чулкова, Вячеслава Иванова, Ремизова.
Искусство наших дней подобно тому видению, которое имел в детстве Блэк, английский поэт XVIII столетия.
«В то утро ко мне в окно заглянул Бог», – говорит Блэк, вспоминая это видение.
Поэт опять становится жрецом и пророком, и в том храме, где он совершает свое служение, искусство должно стать куполом, должно стать широким и блистающим куполом над жизнью.
Куполом над жизнью возвышается искусство наших дней, не потому, что оно служит целям жизни, – жизнь своих целей не имеет, – а потому искусство раскидывает свой купол над жизнью, что в нем жизнь получает свое достойное завершение. Высокое произведение – это и есть достигнутая цель, то, для чего жили люди, – цель, искусством достигнутая, жизни поставленная. Цель эта ставится перед жизнью потому, что и сама жизнь не хочет оставаться только бытом. Очарованная высокими внушениями искусства, жизнь стремится в те области, которые открыты перед нею и осенены высоким куполом искусства.
Покрывая жизнь этим величавым куполом, хотя и не для жизни построенным, а для свойственных искусству заданий, искусство наших дней утверждает жизнь как творческий процесс. Утверждает только жизнь, стремящуюся к творчеству, и не приемлет жизни, коснеющей в оковах быта. Искусство, являя образ истинного бытия, ведет человека к утверждению наиболее высоких благ жизни, к самоутверждению и творчеству.
Воспоминания современников
Зинаида Гиппиус. Отрывочное о Сологубе*
1
Люблю я грусть твоих просторов,
Мой милый край, святая Русь…
. . . . . . . . . . . . . . .
И все твои пути мне милы.
И пусть грозит безумный путь
И тьмой, и холодом могилы, –
Я не хочу с него свернуть.
О Блоке можно было написать почти все, что помнилось: он умер. И о Розанове. Да и о Брюсове: он хуже, чем умер, он – большевистский цензор, сумасшедше-жестокий коммунист, пишет оды на смерть Ленина и превратился, из поэта, в беспомощного рифмоплета… что даже удивительно (или, напротив, не удивительно).
Но могу ли я говорить о Сологубе?
Он в России.
Я его знаю, люблю неизменно, уважаю неизменно, вот уже почти тридцать лет. В последние годы, пожалуй, еще более люблю, еще более уважаю.
Но он в России.
По-прежнему я считаю его одним из лучших русских поэтов и русских прозаиков. Для меня было бы только удовольствием написать еще одну (которую?) статью о его произведениях.
Но… он в России. Об это «он в России» – разбиваются, как о камень, все мои намерения. Нельзя писать о его литературе, у нас нет здесь его книг (есть ли они там?). Нет старого, о новом же мы почти и совсем ничего не знаем. Едва настолько, чтобы не сомневаться в непрестанном росте его души и таланта.
Он в России, в России, в родном городе святого Петра – Санкт-Петербурге, – на его глазах разрушенном до последнего камня, до Ленинграда… и одну ли эту потерю видели его глаза? Он в России… и пусть, кто может, поймет, почему мои слова о Сологубе будут сегодня краткими, отрывочными, целомудренно-бледными. Главное – отрывочными.
Даже хотелось бы никаких не говорить… но все равно. Не для себя и не для него – для других вызову из прошлого милые тени наших встреч.
2
Быть с людьми – какое бремя!
О, зачем же надо с ними жить,
Отчего нельзя все время
Чары деять, тихо ворожить?
«Тени» – первый рассказ Сологуба, напечатанный в «Северном вестнике». Свежий и сейчас, как тогда. Но ранее там было напечатано его стихотворение, – кажется, «Ограда». Коротенькое, но такое, что пройти мимо нельзя. Магия какая-то в каждой вещи Сологуба, даже в более слабой.
Мы уже знали, что это – скромный учитель, школьный. Петербуржец, но служил до сих пор в провинции. Молодой? Даже не очень молодой. А фамилия его – Тетерников.
И Минский, тогда секретарь «Северного вестника», решил, что с такой фамилией нельзя выступать. Предложил ему наскоро, очевидно по неудачной ассоциации (выдумать не успел), – псевдоним «Сологуб». Только и было его выдумки, что одно «л», – вместо двух в имени старого, весьма среднего, писателя – графа Соллогуба.
Не знаю, как понравился псевдоним новому поэту, но он его принял. Минский очень увлекался и псевдонимом, и самим поэтом. В то время (дни декаденства) «Северный вестник» шел навстречу «новым талантам», даже искал их (добрая память ему за это).
У меня, при моем и тогда неувлекающемся характере, увлечения Сологубом не было, просто он мне очень нравился. Даже он один из всех и нравился, а немало их было, новых, из которых иные пропали, а многие имеют ныне старые, заслуженно или незаслуженно, громкие имена.
На Пушкинской улице в Петербурге был громадный, пятиэтажный дом, – гостиница, не первоклассная, но и не так чтобы очень затрапезная. Ее почему-то возлюбили литераторы и живали там, особенно несемейные, по месяцам, а то и по годам.
Не избегал ее и Минский. Говорил про себя тогда:
Он жил в Палэ, Он пел в Рояле.Немало интересных собраний повидали на своем веку номерки этого «Палэ-Рояля», скромные, серым штофом перегороженные. Там, впоследствии, жил Перцов, там бывал Розанов, эстеты Мира искусства…
Там пришлось мне в первый раз увидать и Сологуба-Тетерникова.
Это было в летний, или весенний, солнечный день. В комнате Минского, на кресле у овального, с обычной бархатной скатертью, стола, сидел весь светлый, бледно-рыжеватый, человек. Прямая, не вьющаяся, борода, такие же бледные, падающие усы, со лба лысина, pince-nez на черном шнурочке.
В лице, в глазах с тяжелыми веками, во всей мешковатой фигуре – спокойствие до неподвижности. Человек, который никогда, ни при каких условиях, не мог бы «суетиться». Молчание к нему удивительно шло. Когда он говорил – это было несколько внятных слов, сказанных голосом очень ровным, почти монотонным, без тени торопливости. Его речь – такая же спокойная непроницаемость, как и молчание.
Минский болтал все время. Конечно, Сологуб слушал… а, может быть, и не слушал, просто сидел и естественно, спокойно, молчал.
– Как же вам понравилась наша восходящая звезда? – пристал ко мне Минский, когда Сологуб, неторопливо простившись, ушел. – Можно ли вообразить менее «поэтическую» наружность? Лысый, да еще каменный… Подумайте!
– Нечего и думать, – отвечаю. – Отличный, никакой ему другой наружности не надо. Он сидит – будто ворожит, или сам заворожен.
В нем, правда, был колдун. Когда мы после подружились, то нередко и в глаза дразнили его этим колдовством.
3
…Приветствую тихие стены
Обители бедной моей…
На Васильевском острове, в одной из дальних линий, где по ночам едва тусклятся редкие фонари, а по веснам извозчик качается на глыбах несколотого льда, – серый деревянный домик с широким мезонином. Городская школа.
Внизу – большие низкие горницы, уставленные партами. Там вечером темно и еще носится особый школьный запах; пыли меловой, усыхающих чернил, сапог и мальчишеских затылков.
А наверху – квартира Сологуба, «казенная». Он учитель и директор (или что-то вроде) этой школы.
Совсем они особенные – квартиры в старых деревянных, с мезонинами, домах. Свой лик во всем: в стенах, в порогах, в убранстве… Как милое лицо деревенской девушки исказилось бы под парижской шляпкой, так и уют квартирки исказило бы современство, все равно в чем: в мебели, в занавесях, даже в самих людях, там живущих. Исчезла бы гармония.
Квартира Сологуба воистину была прекрасна, ибо вся гармонична.
Он жил с сестрой, пожилой девушкой, тихой, скромной, худенькой. Сразу было видно, что они очень любят друг друга. Когда собирались гости (Сологуба уже знали тогда) – так заботливо приготовляла тихая сестра чай на тоненьком квадратном столе, и салфеточки были такие белые, блестящие, в кольце света висячей керосиновой лампы. Точно и везде все было белое: стены, тюль на окнах… Но разноцветные теплились перед образами, в каждой комнате, лампадки: в одной розовая, в другой изумрудная, в третьей, в углу, темно-пурпуровый дышал огонек.
Сестра, тихая, нисколько не дичилась новых людей – литераторов. Она умела приветливо молчать, и приветливо и просто говорить. Я еще как будто вижу ее, тонкую, в черном платье, часто кашляющую: у нее слабое здоровье, и по зимам не проходит «бронхит».
После чаю иногда уходили в узкий кабинетик Федора Кузьмича (он всегда писал свое имя с «фиты»). В кабинетике много книг и не очень светло: одна лампа под зеленым фарфоровым абажуром (в углу лампадка тоже бледно-зеленая).
Сестру Сологуба, если память не изменяет мне, звали Ольгой: Ольгой Кузьминишной. Иногда помогала разливать чай ее подруга, такая же тихая, в таком же глухом черном платье.
Шли годы. Сологуб становился все известнее. Появлялись одна за другой его книжки, – первая, тоненькая, стихи. Потом роман, ранее напечатанный в «Северном вестнике», рассказы… Он занял в литературе такое свое место и так твердо стоял на нем, что не понявшие его сначала – остались непонимающими и тогда, когда не признавать его уже сделалось нельзя.
Он бывал всюду, везде непроницаемо-спокойный, скупой на слова. Подчас зло, без улыбки, остроумный. Всегда немножко волшебник и колдун. Ведь и в романах у него, и в рассказах, и в стихах – одна черта отличающая: тесное сплетение реального, обыденного, с волшебным. Сказка ходит в жизни, сказка обедает с нами за столом, и не перестает быть сказкой.
Мечта и действительность в вечном притяжении и в вечной борьбе – вот трагедия Сологуба.
…Хочу конца, ищу начала, Предвижу роковой предел. Противоречий я хотел, Мечта владычицею стала.Его влечет таинственная «звезда Маир» и – не наша «земля Ойле»… с которой он вдруг опять хочет возвратиться на родную, свою, нашу. Но на ней Дульцинея не превращается ли слишком часто в «дебелую Альдонсу»? И Сологуб, как праотец Адам, которому неожиданно была дана Ева, горько тоскует об ушедшей, легкой Лилит.
Когда Сологуб выходил на эстраду, с неподвижным лицом, в pince-nez на черном шнурочке, и совершенно бестрепетным, каменно-спокойным голосом читал действительно волшебные стихи, – он сам казался трагическим противоречием своим, сплетением здешнего с нездешним, реального с небывалым. И еще вопрос: может быть, настоящая-то реальность и есть это таинственное сплетение двух изначальных линий?
Сологуб – скажу кстати – совершенно не мог слышать своих собственных стихов, когда их с эстрады читал кто-нибудь другой, «с выражением». Я, впрочем, тоже, и на одном вечере, где читали все его и мои стихи, мы с ним столкнулись в дверях, оба стремясь вон из залы. Но это что! Воображаю, как был бы доволен поэт, если бы слышал свои «Чертовы качели», исполнявшиеся раз в Минске (под поляками, в 20 году) на шумной студенческой вечеринке! Рыжая молодая любительница, дебелая «Альдонса», вопила истошным голосом, мечась по эстраде, а когда зыкнула уже совершенно как труба: «Качайся, черт с тобой!» – зал радостно захохотал и зааплодировал.
Хорошо, что не было Сологуба!
Вспоминается один мой деловой визит на Остров, в светлый, холодный весенний вечер.
Брат и сестра кончали обед, на том же шатком четырехугольном столе, у окна с тюлевыми занавесями.
Свет бело-зеленый, неумирающий. Виноградная кисточка в стеклянной вазе. Я зову Сологуба участвовать в благотворительном вечере. В частной квартире, ибо цель его не может быть указана. Один из вечеров, которые устраивали постоянно русские писатели в пользу политических заключенных (Полит. Кр. Крест). Богатые люди, аристократия, генералы, – охотно давали свои квартиры, рассылая билеты-приглашения «на чашку чая», и эти билеты недурно оплачивались.
Ближайший вечер – в квартире пожилого генерала, литераторам почти не знакомого (погиб, помнится, во время революции).
Объясняю все это Сологубу. Он согласен, конечно, только затрудняется:
– Что же мне прочитать?
– Ну, вот, мало ли у вас стихов! Мне куда труднее… Знаете, что? Давайте прочтем нашу переписку шутливую? Хотите? Вы свое читайте, а я свое… Будет забавно.
Мы так и решили, и действительно прочли на этом вечере нашу краткую переписку в стихах (Сологуб, конечно, читал и другие вещи).
Оба прекрасные, ответные стихотворения Сологуба вошли потом в его книги, мои не были напечатаны и затерялись. Помню лишь первое, совсем шутливое, поводом к которому послужили разные мелкие «колдовства» Сологуба – над чьими-то калошами, а, главное, случай с Вяч. Ивановым: только что приехавший тогда из-за границы поэт-европеец отправился знакомиться с Сологубом. Да так пропал, с утра, что жена тщетно искала его по всему городу. И сидела у нас, в ужасе, когда ей дали знать, что он обретен, наконец, у себя в постели и в крапивной лихорадке. Словом, смешные пустяки, не знаю, почему и запомнилось:
Все колдует, все морочит Лысоглавый наш Кузьмич. И чего он только хочет Колдовством своим достичь? Невысокая природа Колдовских его забав: То калоши, то погода, То Иванов Вячеслав… Нет, уж ежели ты вещий, Так не трогай эти вещи, Потягайся с ведьмой мудрой, Силу в силе покажи… О Кузьмич мой беднокудрый, Ты меня заворожи!Он и принялся меня «завораживать» прекрасным стихотворением о «Кругах». Отсюда уж пошла у нас поэтическая геометрия:
…Ты не в круге, весь ты в точке, Я же в точку не вмещусь… …будешь умирать, И тогда поймешь и примешь Троецветную печать…О следующем стихотворении Сологуба помню только, что было оно написано мастерски, в удивительном ритме.
А кто знает здесь его строки, такие загадочные и таинственные, что даже духовные цензоры (в журнале «Новый путь») долго сомневались, пропускать ли их:
Водой спокойной отражены, Они бесстрастно обнажены При свете тихом ночной луны. Два отрока, две девы творят ночной обряд…Эти стихи были специально выучены мною наизусть – чтобы дразнить В. В. Розанова. Он от них в ярость приходил.
Стопами белых ног едва колеблют струи, И волны, зыбляся у ног, звучат, как поцелуи…– Ерунда, чепуха! – сердился Розанов. – Какие это поцелуи?
Огонь, пылавший в теле, томительно погас, В торжественном пределе настал последний час…– Да вы скажите, сколько их, сколько их? Двое или четверо? «Отражения в воде видны»… значит, двое?
Стопами белых ног, омытыми от пыли, Таинственный порог они переступили…Этот «порог» и «предел» приводили Розанова в особый раж. Непременно желал знать, что это такое. Однако самого Сологуба спросить никогда не решался. Со всеми интимничающий Розанов знал, что к Сологубу не очень подъедешь: «Кирпич в сюртуке!»
4
…в молчании
Ты постигнешь закон бытия.
Все едино в создании,
Где сознанью возникнуть –
Там Я.
…Я – все во всем, и нет иного.
Во мне родник живого дня.
Во тьме томления земного
Я – верный путь. Люби меня.
Костюмированный вечер.
Небольшая зала изящно отделанного особняка в переулке близ Невского. Розово-рыжие панно на стенах. Много электричества. Есть забавные костюмы. Смех, танцы… В открытые двери виден длинный стол, сервированный к ужину. Цветы.
Что это за бал? Большинство без масок, и какие все знакомые лица! Хозяйка – маленькая, черноволосая, живая, нервная молодая женщина, с большими возбужденными глазами. А хозяин – Сологуб. Он теперь похож на старого римлянина: совсем лысый, гладко выбритый. В черном сюртуке, по-прежнему не суетливый и спокойный, любезный с гостями. Он много принимает. Новый литературный Петербург, пережив неудачную революцию, шумит и веселится, как никогда.
За время моего трехлетнего отсутствия многое изменилось, умерла тихая сестра Сологуба: не «бронхит» у нее был, а чахотка. Очень выросла известность писателя. Какой он теперь «городской учитель»! Да и есть ли, существует ли еще серенький домик на Острове? Может быть – да, может быть, еще пахнет внизу пылью и мелками, но уже наверху-то, наверное, не теплятся разноцветные лампадки…
Сологуб женился на молодой писательнице и переводчице А. Н. Чеботаревской.
Порывистая, впечатлительная, она окружила его атмосферой самого ревнивого поклонения. Слава Сологуба возрастала, никто не думал ее оспаривать, только любящей жене все казалось, что к нему несправедливы, что у него там или здесь – враги.
Сам Сологуб остался верен себе. Так же он замкнут в кольце холодка – «не подступиться». Так же, если не больше, спокоен, непроницаем, зло-остроумен. Если бы нужно было одним словом определить узел его существа, первый и главный, то это можно бы сделать даже одной буквой: Я. В самом глубоком смысле, конечно: в смысле понятия личности. Не знаю человека с более острым, подземным, всесторонним ощущением единства человеческой личности.
Каждая строка его стихов, его лирика, его нежность и горечь насмешки, его сказка, вплетенная в обыденность, его лучшие рассказы (и лучший из лучших, Иринушка. «Помнишь, не забудешь?») – все это о том же, о неумирающей памяти, о неумирающей единой любви единого Я. Весь он в этом божественном узле… или в этой одной, воистину божественной, точке.
Да и теперь, в наши неслыханные дни, не то же ли звучит в его отрывочно долетающих к нам строках? То же, и только еще новая какая-то нота, мудрая и сильная. Мне вспомнилось недавно тютчевское «непризнание времени», а в звуках – шиллеровское:
Не узнавай, куда я путь склонила, В какой предел от мира перешла…Но лишь вспомнились они, Тютчев и Шиллер, а сравнивать с ними Сологуба я не хочу. Пусть будут они, и пусть будет он, единственный: ведь в этом все, что каждый – единственный. Только этого-то, как раз, никто и не понимает.
5
Я здесь один, жесток мой рок,
А ты покоишься далече.
Но предуставлен Богом срок,
Когда свершиться нашей встрече.
Темно. Серые, промозглые сумерки. Очень холодно в нетопленой комнате. Сидим за столом, у нас. Сереется каждый, закутанный. И кажется закутанным в тряпки. Впрочем, так оно почти и есть. На Сологубе пальто старое пузырится, на Анастасии Николаевне какая-то серая кофта в махрах, валенки. А личико у нее – в кулачок, только глаза беспокойно блестят.
И мы не лучше. Мережковский в женском бархатном, вытертом, шушуне и в калошах на туфлях войлочных.
Это Сологубы пришли к нам (пешком, конечно) с Васильевского острова, как часто приходят. На Васильевский они перебрались давно, еще с войны (потянуло на «родную сторону», говорил Сологуб). Но едва стукнул «красный Октябрь» – их с квартиры выгнали, забрав все, и мебель, и книги, и теперь они ютятся на Острове же, в каком-то «павильоне», где за ночь нарастает ледяная кора на полу.
– Видите, видите, Федор Кузьмич, – говорит с нервным хохотом Анастасия Николаевна, – вон у них какой хлеб, целый кусок…
На столе, действительно, лежит целый фунт черного хлеба, иглистого от соломы.
– Не завидуйте, Анастасия Николаевна. Не надо завидовать. И у нас вчера был хлеб.
У Сологуба такой же спокойный голос, чуть-чуть, разве, поглуше.
Мы беседуем… ну, как беседовали в то время в Петербурге люди, чуть живые не от холода и голода только, а от того, что отнята у них, с пищей и теплом, еще свобода самого дыханья.
Чуть живые, а все-таки живые. Говорим друг другу, что есть на земле иные страны. Есть, например, Франция, Париж. Там улицы, по улицам люди ходят, т. е. по тротуарам, а по середине – ездят. И ничего. И даже кафе есть, не запрещены. Анастасия Николаевна вдруг вспомнила, что долго жила в Париже. Уверяет, что русскому писателю при всех обстоятельствах хорошо быть наполовину парижанином.
– Вот и Федор Кузьмич так думает. Он даже по-французски стал стихи писать…
Но я хочу не французских, а русских стихов Сологуба. И он начинает читать, медленно, монотонно, твердо, – одно стихотворение за другим.
Они такие, что я прошу А. Н., в передней: «Перепишите их для меня. Хочу их иметь. Все». Вышло много листков. Об одном. Было и ужасно – и хорошо перечитывать их. Но я их не помню, их нет, не надо о них.
Так мы видались, над коркой хлеба, в мертвом холоде, – не раз…
Через долгие, долгие месяцы после разлуки, весной, – письмо. В тот самый Париж, где «улицы и люди ездят, и ничего». Бездомная воля! Горька ты, а все слаще и достойнее такой же бездомной неволи…
Писали нам оба, и сам Сологуб, и она. Писали радостно, что свершилось, наконец, что их «выпускают». Дело только за «формальностями». Едут, конечно, в Париж.
Не приехали. Не выпустили их: обещали выпустить. Прошла весна, лето прошло, и новая осень наступила.
Этого томленья уже не могла выдержать А. Н. Ни душа ее, ни тонкое, как призрак, тело. Глухой осенней ночью она бросилась в замерзающую, черную воду Невы. Говорили, будто видел это какой-то прохожий… Но не знали. А нашли ее только после половодья, следующей весной.
И было еще одно письмо Сологуба, – вот об этом. Что нашли тело и похоронили Анастасию Николаевну.
Больше ничего не было. Больше я ничего не знаю.
Пылавшие в огне – сгорели, Сказала мне она. Тебе, в земном твоем пределе. Я больше не нужна. Любовью сожжена безмерной И смертью смерть поправ, Я вознеслась стопою верной На росы райских трав, И ты найдешь меня, любимый…Да, вот это я знаю твердо, что он ее найдет. Знаю потому, что для него нет мертвых, но все живы.
1924
Игорь Северянин. Салон Сологуба*
1
Когда я познакомился в октябре 1912 года с Сологубом, – об этом достаточно подробно рассказано в моем романе «Колокола собора чувств», – он жил на Разъезжей улице в бельэтаже, где изредка давал многолюдные вечера, на которых можно было встретить многих видных представителей литературно-театрального Петербурга. Собирались обыкновенно поздно: часам к десяти-одиннадцати и засиживались до четырех-пяти утра. Люди же более близкие, случалось, встречали в столовой, за утренним чаем, и запоздалый зимний рассвет.
Съезжавшиеся гости, раздевшись в просторной передней, входили во вместительный белый зал, несколько церемонно рассаживаясь на его белых же cтульях вдоль стен. В одном из углов зала, ближе к столовой, стоял мягкий шелковый диван и такие же кресла вокруг круглого столика. У двери, ведущей в кабинет хозяина, помещался рояль и близ него кожаная кушетка. Одну из стен золотила своим солнечным дождем «Даная» Калмакова, и громадное панно по эскизу Судейкина звучало своим тоном.
Собиравшиеся вполголоса беседовали по гpyппам, хозяин обходил то одну, то другую группу, иногда на мгновение присаживаясь и вставляя, как всегда, значительно несколько незначительных фраз. Затем все как-то само собой стихало, и поэты и актеры по предложению Сологуба читали стихи. Аплодисменты не были приняты, и поэтому после каждой пиесы возникала подчас несколько томительная пауза. Большей частью читал сам Сологуб и я, иногда – Ахматова, Тэффи, Глебова-Судейкина (стихи Сологуба), Вл. Бестужев-Гиппиус и К. Эрберг. Однажды приехала Т. Л. Щепкина-Куперник, но на просьбу Сологуба и его гостей прочесть что-нибудь, искренне смущенная, отказалась: «Уж какой я поэт, а тем более чтец, – отнекивалась она, – и без меня найдутся здесь, кому читать более к лицу».
Я подошел к ней, разговорился, и мы весь вечер провели вдвоем в кабинете Чеботаревской, поочередно читая друг другу, очень смущенные и разоткровенничавшиеся. У меня осталось об этом вечере прелестное впечатление: сколько уюта и пленительной ласковой интимности было в этой маленькой, глубоко симпатичной и скромной женщине в темном. Она приглашала меня к себе, обещала познакомить с мужем, о котором отзывалась положительно с благоговением. Мне так и не удалось, к сожалению, побывать у нее. Впрочем, одно время мы с нею даже переписывались во время пребывания ее в Италии.
2
Сологуб читал очень просто, четко и всегда, даже в минуты бодрости, казалось, устало. Я очень любил его колдовской, усмешливый и строгий голос. Но монотонность его интонаций, в особенности под утомительное утро, действовало усыпительно: был случай, когда я однажды уснул под его чтение. Пробудился я от звонко расслышанного под виноградным утомлением шума внезапно наставшей тишины: Федор Кузмич и два-три засидевшихся более иных близких его дому человека легчайшими улыбками ободряли мое пробуждение.
Около часа ночи подавался ужин, на много кувертов сервированный, всегда очень нарядный и тонкий. Случалось, прислуживали лакеи из модного ресторана. Пили много вина, воцарялось оживление. Сологуб собственноручно подливал в заостренном разговоре быстро пустующие бокалы.
Он любил во время ужина произносить спитчи. Блистательными, большей частью ироническими афоризмами изобиловали они. В сером своем, излюбленного мышиного цвета, костюмчике он вставал с места терпеливо и чуть усмешливо выжидая момента, когда стол, разгоряченный темами вина и вином тем, стихнет. Все взоры обращались на поэта. Гости заранее предвкушали жгучее наслаждение. С бокалом в руке он начинал спитч, и вскоре весь стол прыскал от неудержимого смеха или конфузливо опускал глаза. Но спитч Федора Кузмича под новый – 1914-й год – был несколько иного порядка.
Во время ужина писатель ушел к себе в кабинет. Исчезновению Сологуба никто не придал значения: он нередко в разгаре вечера любил уединяться у себя в кабинете. Выходил он оттуда всегда отдохнувшим, набравшимся свежих сил. В рассказываемую ночь он принес только что воспринятое в кабинете стихотворение и, вместо обычного спитча, прочел его за столом. Кончалось оно так:
…И ныне, в этой зале шумной, Во власти смеха и вина, К Тебе, Отец, в мольбе бездумной Моя душа обращена.Упоминание о Боге во время пира показалось всем несколько странным, необычным. Веселие смолкло. В наступившем году началась мировая война, и я думаю, многие из встречавших зарождение того проклятого года в столовой Сологуба с жутью вспоминали его предостерегавшие стихи.
3
Вспоминается мне и тост, провозглашенный однажды Сологубом по поводу романтической истории общественной деятельницы Z. Дело в том, что госпожа Z находилась в связи с одним лицом, и это лицо однажды, неожиданно приехав к ней, застал у нее лицо друга, тоже мужское. Приехавшее лицо произвело в сидевшее летящий выстрел и ранило руку сидевшего лица. Возник процесс. Слух о происшествии облетел весь город. Затрезвонили колокола и колокольчики газет. По злой иронии судьбы оба лица носили «городские» фамилии: одно – города отечественного, скажем – Грубешева, другое немецкого – назовем его хотя бы Кенигсбергом. Вскоре после этого, выражаясь названием рассказа Вяч. Шишкова, «рокового выстрела» в салоне у Сологуба состоялся очередной вечер. Под конец ужина, на котором присутствовала и госпожа Z, Федор Кузмич и произнес свой изумительный по остроумию спитч, укоряя в нем госпожу Z в отсутствии… патриотизма.
«Не стыдно ли было, – безустанно вопрошал он, – во время войны ездить уважаемой гражданке из русского города Грубешева в неприятельский Кенигсберг?» Эффект превзошел все ожидания: в гомерическом хохоте корчилась не только вся столовая, но и сама пострадавшая, кстати сказать, женщина весьма остроумная и ядовитая, не находя от неожиданного убийственного выпада слов для парирования удара, смеялась, малиново переконфуженная, до слез. Смелость подобного тоста граничила с дерзостью, и только одному неподражаемому Сологубу возможно было его простить.
4
В один из званых вечеров я уединился в турецкой комнате с артисткой N. Мы долго с ней оживленно разговаривали и договорились в конце концов до бессловесных поцелуев. В разгаре их распахнулась дверь, и муж артистки, человек с большим в искусстве именем, предстал перед нами. Я приподнялся ему навстречу. Взволнованная актриса незаметно потянула меня сзади за фалды сюртука. «Александра (допустим, что ее так звали), пора домой», – произнес он в дверях, мастерски владея собой, и, не дожидаясь жены, быстро вышел из комнаты. Я, мужа, конечно не задерживая, пробовал удержать его жену. «Из этого может получиться слишком громыхательная история, – испуганно прошептала она, силясь пошутить и торопливо целуя меня на прощание. – Не провожайте меня, заклинаю Вас». Но все же, пока они одевались, я вместе с хозяевами стоял в дверях передней.
5
Кстати, по поводу «громыхательных» историй. Не все избегали их. Были даже и любительницы таковых. Одна актриса, изредка встречаемая мною в доме Сологуба, совершенно серьезно просила меня в одну из «лирических» минут выстрелить в нее из револьвера, но, разумеется, не попасть в цель. «Это было бы отлично для рекламы», – заискивающе откровенно пояснила она.
Чеботаревская терпеть не могла, между прочим, этой американизированной нашей соотечественницы, принимая ее только из «дипломатических» соображений, и, когда я как-то вместе с нею приехал к ним, Анастасия Николаевна была более чем холодна с нею, а на другой день формально отказала ей письменно от дома. Оскорбленная и растерявшаяся жрица искусства спешно вызвала меня к себе через рассыльного и потребовала, чтобы я отправился к Чеботаревской объясняться. «Я в грош не ставлю ее, – плакала прелестница, – но мне для карьеры во что бы то ни стало нужно сохранить салон Сологуба».
Требование ее было попросту диким, но, каюсь, я был не совсем к ней, мягко поясняя, равнодушен и только поэтому, скрепя сердце, решил исполнить ее истерическое желание. «Я оберегаю Вас, молодого человека, от разлагающего влияния этой интриганки, – возмущалась Чеботаревская. – Мы с Федором Кузмичом любим Вас и заботимся. Да и вообще, на каком основании Вы взяли на себя роль парламентария?» Однако я категорически просил ее аннулировать утреннее письмо, на что негодующая Анастасия Николаевна долго упрямо не соглашалась. Целый вечер проговорили мы с ней, и лишь после того как я заявил, что от ее извинения перед госпожой Икс будет зависеть мое дальнейшее с четою Сологубов знакомство, вынуждена была нехотя согласиться. На другое же утро почтальон принес обиженной примирительное (внешне) письмо, в котором Анастасия Николаевна просила извинить ее за горячность.
6
Вообще, Чеботаревская делила людей на две определенные категории: приемлемых и отторгнутых. В своих симпатиях и антипатиях она оставалась всегда себе верной. Периодическое издание, на страницах коего кто-либо осмеливался когда-нибудь хотя бы чуть неодобрительно отозваться о Сологубе, никогда уже не могло рассчитывать, при наличии данного редактора, на сотрудничество Сологуба. Она за этим следила зорко. Были люди – одни фамилии и имена – которые приводили Анастасию Николаевну в неистовство. Временами, правда, стали намечаться какие-либо точки соприкосновения, Чеботаревская с лихорадочной поспешностью стремилась использовать намечавшиеся возможности, но, едва возникали новые расхождения, она с новым пылом и подчас беспощадной, какою-то клинической резкостью, порывала всякие отношения. В своем боготворении Сологуба, сделав его волшбящее имя для себя культом, со всею прямотою и честностью своей натуры она оберегала и дорогого ей человека и, несравнимое имя его.
Всю жизнь, несмотря на врожденную свою кокетливость, склонность к легкому флирту и болезненную эксцессность, она оставалась безукоризненно верной ему, и в наших духовно обнаженных длительных беседах неоднократно утверждала эта некрасивая, пожалуй даже неприятная, но все же обаятельная женщина: «Поверьте, я никогда и ни при каких обстоятельствах не могла бы изменить Федору Кузмичу». И я, не очень-то вообще доверявший женщинам, ей верил безусловно: воистину сама истина чувствовалась в ее словах. Сологуб платил ей тою же монетой и, если на некоторых своих, в кругу ближайших людей, вакхических вечерах и истомлял себя какою-нибудь «утонченкой», дальше неги, каждому видной, дело не шло, в такой же «неге» нет измены, как понимают это слово углубленные.
7
На интимных вечерах, когда после ужина гости переходили в зал и рассаживались кто на стульях, кто на диване, кто просто на диванных подушках на полу и пили коньяк и всех цветов радуги ликеры, как-то само собою гасло электричество, и зал погружался в темноту, нервно посмеивающуюся, упоенно перешептывающуюся, истомно вздрагивающую, мягко поцелуйную. Сологуб, любивший неслышную обувь, внезапно повертывал выключатель, и вспыхнувший свет заставал каждого в позах, могших возникнуть только без света…
Я должен констатировать, однако, что эти «томные» позы, порою очень непринужденные, нежащиеся и нежные, не выходили все же за грани дозволенного. Я имею в виду, конечно, дозволенного в мире людей искусства, так сказать, в богеме par excellance, ибо богема, например, «Бродячей собаки» уже несколько иной тональности: у Сологуба именитым мужьям не пришло бы в голову таскать за волосы своих не менее именитых жен, что могло произойти (однажды и произошло!) в знаменитом петербургском литературно-художественном подвале.
8
Общую «рокфорность» интимных сологубовских вечеринок мне хочется заключить и эпизодом о рокфоре. Дарья Михайловна Озаровская и я с ужасом смотрели на этот сыр, готовый, казалось, уползти с тарелки. Ни она, ни я никогда раньше не решались его попробовать, хотя бри или камамбер я всегда очень любил. Федор Кузмич, посмеиваясь, сделал саморучно для нас два бутерброда, и мы… решились. Одновременно мы откусили по маленькому кусочку булки с «живым» этим сыром, с испугом и отвращением взглянули друг на друга и одновременно же бросились из столовой под веселый смех хозяев. Вернувшись, мы долго еще не могли в себя придти от «опыта», стараясь сардинками от Кано заглушить вкус проглоченного деликатеса.
А Сологуб в это время, блаженно щурясь и выпятив, по своей привычке, нижнюю губу, пил из узкой длинноногой рюмочки «ликерный ерш», разноцветными пластами в нее мастерски влитый. И смакуя его, предлагал испробовать и нам. Но проба рокфора была еще так свежа в памяти нашего вкуса, что мы предпочли ограничиться, выражаясь стихом Брюсова, выпустившего книжку «северянизированных» стихов под псевдонимом моей героини Нелли, «маленькою рюмкой triple sec Couantreau…»
9
Кто же бывал у Сологуба на его «открытых» больших вечерах? К. И. Арабажин, Е. И. Аничков, Ю. Н. Верховский, П. Е. Щеголев, присяжный повереный Н. Переверзев, С. Ю. Судейкин, Д. В. Философов, Вс. Мейерхольд, кн. Шервашидзе, Калмаков, И. Рукавишников, П. П. Потемкин, Е. А. Хованская, Тимме, Тхоржевская, Каратыгин, С. А. Кречетов, Н. А. Тэффи, Э. Озаровский, Тиняков (Одинокий) и многие другие, фамилии которых я умышленно опускаю, и это уж из области вечеров интимных.
Бывали (и помимо приемов) З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковский. Посещали его (но это очень редко) Леонид Андреев, Бальмонт, Блок, Брюсов, Гумилев, но с ними мне там встречаться не приходилось, хотя я и бывал письменно приглашаем каждоразно: то мешала какая-нибудь очередная инфлуэнца, то очередное увлечение, то меня не бывало в столице.
Стоило мне упомянуть о Тимме и Тхоржевской, как возникла перед глазами премьера «Заложников жизни» в Александрийском театре. Сологуб пригласил меня на нее в авторскую ложу. Была приглашена и Тэффи. Первая из актрис играла Катю, вторая – Лилит. Пьеса имела у александрийской публики успех средний. Презрительное бесстрастие Сологуба было обычным.
1927
Надежда Тэффи. Федор Сологуб*
Знакомство мое с Сологубом началось довольно занятно и дружбы не предвещало. Но впоследствии мы подружились.
Как-то давно, еще в самом начале моей литературной жизни, сочинила я, покорная духу времени, революционное стихотворение «Пчелки». Там было все, что полагалось для свержения царизма: и «красное знамя свободы», и «Мы ждем, не пробьет ли тревога, не стукнет ли жданный сигнал у порога…», и прочие молнии революционной грозы.
Кто-то послал это стихотворение Ленину в Женеву, и оно было напечатано в большевистском журнале.
Впоследствии в дни «полусвободы» я читала его с эстрады, причем распорядители-студенты уводили присутствовавшего для порядка полицейского в буфет и поили его водкой, пока я колебала устои. Тогда еще действовала цензура, и вне разрешенной программы ничего нельзя было читать.
Вернувшийся в залу пристав, удивляясь чрезмерной возбужденности аудитории, спрашивал:
– Что она там такое читала?
– А вот только то, что в программе. «Моя любовь, как странный сон».
– Чего же они, чудаки, так волнуются? Ведь это же ейная любовь, а не ихняя.
Но в то время, с которого я начинаю свой рассказ, стихи эти я читала только в тесном писательском кружке. И вот мне говорят странную вещь:
– Вы знаете, что Сологуб написал ваших «Пчелок»?
Я Сологуба еще не знала, но раз где-то мне его показывали.
Это был человек, как я теперь понимаю, лет сорока, но тогда, вероятно потому, что я сама была очень молода, он мне показался старым, даже не старым, а каким-то древним. Лицо у него было бледное, длинное, безбровое, около носа большая бородавка, жиденькая рыжеватая бородка словно оттягивала вниз худые щеки, тусклые, полузакрытые глаза. Всегда усталое, всегда скучающее лицо. Помню, в одном своем стихотворении он говорит:
Сам я и беден и мал, Сам я смертельно устал…[3]Вот эту смертельную усталость и выражало всегда его лицо. Иногда где-нибудь в гостях за столом он закрывал глаза и так, словно забыв их открыть, оставался несколько минут. Он никогда не смеялся.
Такова была внешность Сологуба.
Я попросила, чтоб нас познакомили.
– Федор Кузьмич, вы, говорят, переделали на свой лад мои стихи.
– Какие стихи?
– «Пчелка».
– Это ваши стихи?
– Мои. Почему вы их забрали себе?
– Да, я помню, какая-то дама читала эти стихи, мне понравилось, я и переделал их по-своему.
– Эта дама – я. Слушайте, ведь это же нехорошо так забрать себе чужую вещь.
– Нехорошо тому, у кого берут, и недурно тому, кто берет.
Я засмеялась.
– Во всяком случае, мне лестно, что мои стихи вам понравились.
– Ну вот видите. Значит, мы оба довольны.
На этом дело и кончилось.
Через несколько дней получила я от Сологуба приглашение непременно прийти к нему в субботу. Будут братья-писатели.
Жил Сологуб на Васильевском острове в казенной квартирке городского училища, где был преподавателем и инспектором. Жил он с сестрой, плоскогрудой, чахоточной старой девой. Тихая она была и робкая, брата обожала и побаивалась, говорила о нем шепотом.
Он рассказывал в своих стихах:
Мы были праздничные дети, Сестра и я…[4]Они были очень бедные, эти праздничные дети, мечтавшие, чтоб дали им «хоть пестрых раковинок из ручья»[5]. Печально и тускло протянули они трудные дни своей молодости. Чахоточная сестра, не получившая своей доли пестрых раковинок, уже догорала. Он сам изнывал от скучной учительской работы, писал урывками по ночам, всегда усталый от мальчишечьего шума своих учеников[6].
Печатался он у Нотовича в «Новостях», причем Нотович сурово правил его волшебные и мудрые сказочки.
– Опять принес декадентскую ерунду.
Платил гроши. Считал себя благодетелем.
– Ну кто его вообще будет печатать. И кто будет читать!
В сказочках говорилось о красоте и смерти.
Очаровательна была сказочка о полевой лилии, которую потом без конца читали с эстрады. Сам Соломон во всей славе своей не превосходил ее пышностью. Пересказываю, как помню. Но капуста ее осуждала. Что это? Стоит голая! Вот я так оделась: сначала рубашку, на рубашку пряжку, на пряжку одежку, на одежку застежку, потом рубашку, на рубашку пряжку, на пряжку покрышку, не видать кочерыжку, – тепло и прилично.
О смерти рассказывается, как послал Бог ангела своего Степаниду Курносую отнять у матери ребенка. Мать плакала и не могла утешиться. Тогда ангел Божий Степанида Курносая стала ее утешать:
– Ты не плачь.
А мать ответила:
– Ты свое дело сделала, отняла от меня ребенка. Теперь не мешай мне мое дело делать – плакать о нем.
О смерти говорит и маленькая сказочка «О волшебной палочке». Кому очень тяжело на свете, тот должен только прижать ее к виску, и все горе сразу уйдет.
Так жил Сологуб в маленькой казенной квартирке, с лампадками, угощая мятными пряниками, румяными булочками, пастилой и медовыми лепешками, за которыми сестра его ездила куда-то через реку на конке. Рассказывала нам по секрету:
– Хотелось мне как-нибудь проехаться на конке на империяле, да «мой» не позволяет. Это, говорит, для дамы неприлично.
Хозяином Сологуб был приветливым, ходил вокруг стола и потчевал гостей.
– Вот это яблочко коробовка, а вот там анисовка, а вот то антоновка. А это пастила рябиновая.
В маленьком темном его кабинете на простом столе лежали грудой рукописи и смотрело из темной рамки женское лицо, красивое и умное, – портрет Зинаиды Гиппиус.
Вечера в казенной квартирке, когда собирались близкие литературные друзья, бывали очень интересны[7]. Там слышали мы «Мелкого беса» и начало «Навьих чар». Последняя вещь совсем сумбурная, и в ней он как-то запутался. Там как раз появились «тихие мальчики», над которыми многие посмеивались, подозревая в них что-то сексуально неблагочестивое, хотя сам автор определенно говорил, что мальчики эти были тихие, потому что были полуживые-полумертвые. Ему вообще приятен был образ ребенка, полуотошедшего от жизни. В одном из первых рассказов был у него такой мальчик, ненавидящий жизнь и смех и мечтавший о звездах, где живут мудрые звери и никто никогда не смеется.
В «Навьих чарах» он предполагал вывести Христа, который должен был явиться как светский господин, даже с визитной карточкой «Осип Осипович Давидов». Но до этого в романе дело не дошло. Должно быть, одумался или не справился.
* * *
Когда мы познакомились ближе и как бы подружились (насколько возможна была дружба с этим странным человеком), я все искала к нему ключ, хотела до конца понять его и не могла. Чувствовалась в нем затаенная нежность, которой он стыдился и которую не хотел показывать. Вот, например, прорвалось у него как-то о школьниках, его учениках: «поднимают лапки, замазанные чернилами». Значит, любил он этих детей, если так ласково сказал. Но это проскользнуло случайно.
Вспоминала его стихи, где даже смех благословляется, потому что он детский.
Я верю в творящего Бога, В святые завесы небес, Я верю, что явлено много Бездумному миру чудес. Но высшее чудо на свете, Великий источник утех – Блаженно-невинные дети, Их тихий и радостный смех.Да, нежность души своей он прятал. Он хотел быть демоничным.
* * *
И вот начались вечера с уклоном эстето-эротическим. Писались, читались и обсуждались вещи изощренно-эротические. Помню один рассказ Сологуба – не знаю, был ли он напечатан, – где старый король приводит к своей молодой жене юного пажа и смотрит на их ласки. Когда у королевы родился сын, и король и народ ликовали.
– Это мой сын, – заявлял король. – Я принимал участие в его зарождении.
Ребенка объявили наследником, а пажа повесили на воротах города, как собаку.
Все слушатели, конечно, согласились, что этот ребенок – сын короля, а паж тут абсолютно ни при чем. Паж – собака, и кончено. Кто-то, однако, робко заметил:
– А вдруг ребенок вышел как две капли воды похожим на пажа?
Все замахали руками.
– Не все ли равно. Мало ли какое бывает случайное сходство.
И участники вечеров старались превзойти друг друга эстето-эротизмом. Часто выходило совсем неладно, хотя и подано было искусными стихами.
* * *
Но вот умерла тихая сестра Сологуба. Он сообщил мне об этом очень милым и нежным письмом.
«…Пишу Вам об этом, потому что она очень Вас любила и велела Вам жить подольше. А мое начальство заботится, чтобы я не слишком горевал: гонит меня с квартиры…»
И тут начался перелом.
Он бросил службу, женился на переводчице Анастасии Чеботаревской, которая перекроила его быт по-новому, по-ненужному. Была взята большая квартира, повешены розовые шторы, куплены золоченые стулики. На стенах большого холодного кабинета красовались почему-то Леды разных художников.
– Не кабинет, а ледник, – сострил кто-то.
Тихие беседы сменились шумными сборищами с танцами, с масками.
Сологуб сбрил усы и бороду, и все стали говорить, что он похож на римлянина времен упадка. Он ходил как гость по новым комнатам, надменно сжимал бритые губы, щурил глаза, искал гаснущие сны.
Жена его, Анастасия Чеботаревская, создала вокруг него атмосферу беспокойную и напряженную. Ей все казалось, что к Сологубу относятся недостаточно почтительно, всюду чудились ей обиды, намеки, невнимание. Она пачками писала письма в редакцию, совершенно для Сологуба ненужные и даже вредные, защищая его от воображаемых нападок, ссорилась и ссорила. Сологуб поддавался ее влиянию, так как по природе был очень мнителен и обидчив. Обиду чувствовал и за других. Поэтому очень бережно обходился с молодыми начинающими поэтами, слушал их порою прескверные стихи внимательно и серьезно и строгими глазами обводил присутствовавших, чтобы никто не смел улыбаться[8]. Но авторов слишком самонадеянных любил ставить на место.
Приехал как-то из Москвы плотный, выхоленный господин, печатавшийся там в каких-то сборниках, на которые давал деньги. Был он, между прочим, присяжным поверенным. И весь вечер Сологуб называл его именно присяжным поверенным.
– Ну а теперь московский присяжный поверенный прочтет нам свои стихи.
Или:
– Вот какие стихи пишут московские присяжные поверенные.
Выходило как-то очень обидно, и всем было неловко, что хозяин дома так измывается над гостем.
Зато когда привел к нему кто-то испуганного, от подобострастия заикающегося юношу, Сологуб весь вечер называл его без всякой усмешки «молодой поэт» и очень внимательно слушал его стихи, которые тот бормотал, сбиваясь и шепелявя.
* * *
Маленькие литературные сборища у Сологуба обыкновенно протекали так: все садились в кружок. Сологуб обращался к кому-нибудь и говорил:
– Ну, вот начнете вы.
Ответ – всегда был смущенный.
– Почему же именно я? У меня нет ничего нового.
– Поищите в кармане. Найдется.
Испытуемый вынимает записную книжку, долго перелистывает.
– Да у меня правда ничего нового нет.
– Читайте старые.
– Старые неинтересно.
– Все равно.
Испытуемый снова перелистывает книжку.
– Ну вот одно новое. Только оно, пожалуй, слишком длинно.
– Все равно.
Начинается чтение. Кончается при гробовом молчании, потому что выражать какое-нибудь мнение или одобрение было не принято.
– Следующее, – говорит Сологуб и закрывает глаза.
– Да собственно говоря… – мечется испытуемый. – Впрочем, вот еще одно. Только оно, пожалуй, слишком коротенькое.
– Все равно.
Читает. Молчание.
– Третье стихотворение.
Испытуемый уже не защищается. Видно, как спешит скорее покончить. Читает. Молчание.
Вот так, наверно, Федор Кузьмич, учитель городского училища, в холодном жестоком спокойствии терзал своих мальчишек.
– Теперь ваша очередь, – обращается мертвым голосом Сологуб к соседу выпотрошенного поэта. И тот тоже отнекивается, и мечется, и шарит по карманам под змеиным взглядом хозяина, и тоже читает три стихотворения. И так в тоскливой муке смыкался круг стихов.
Раз как-то я долго уверяла, что у меня нет третьего стихотворения, и, когда Сологуб все-таки его требовал, сказала:
– Ну если так, так хорошо же.
И прочла Пушкина «Заклинание».
По лицам присутствующих сразу поняла, что никто из них не слушает. Только Бальмонт при словах «Я жду Лейлы» чуть-чуть шевельнул бровями. Но уже после ужина, когда я уходила домой, Сологуб, прощаясь со мной, промямлил:
– Да, да. Пушкин писал хорошие стихи.
На этих вечерах Сологуб и сам читал какой-нибудь отрывок из своего нового романа. Чаще переводы Верлена, Рембо. Переводил он неудачно, тяжело, неуклюже. Читал вяло, сонно, и всем хотелось спать. Профессор Аничков[9], очень быстро засыпавший и знавший за собой эту слабость, обыкновенно слушал стоя, прислонясь к стене или к печке, но и это не помогало. Он засыпал стоя, как лошадь. Изредка, очнувшись, чтобы показать, что он слушает, начинал совершенно некстати громко хохотать. Тогда Сологуб на минуту прерывал чтение и медленно поворачивал к виновному свои мертвые глаза. И тот стихал и сжимался, как кролик под взглядом удава.
Писал Сологуб всегда очень много.
– Я всех писателей разделяю на графоманов и дилетантов. Я графоман, а вы дилетантка.
Издатели набросились на него. Перепечатали его старые произведения, прошедшие когда-то незаметно. Он закончил свой роман «Навьи чары». Конец, написанный после перелома, то есть когда судьба вознесла его, не оправдал обещанного. И то, что намечал он в тихой комнате с лампадкой, осталось невыполненным. Я помнила, как он рассказывал о дальнейшем ходе романа, и этого в напечатанной книге не нашла. Дух отлетел от него. И только в стихах своих был он прежним, одиноким, усталым, боялся жизни, «бабищи румяной и дебелой», и любил ту, чье имя писал с большой буквы, – Смерть.
Смертерадостный – называли его.
Рыцарь Смерти – называла я.
Но и в стихах своих принялся он фокусничать, играть пустяками.
Белей лилий, алее лала Была бела ты и ала.Я ему говорила, что это похоже на скороговорку: «Сшит колпак, да не по-колпаковски», и заставляла одного косноязычного поэта, не выговаривавшего букву «л», декламировать эти стихи. У него выходило:
Бевей вивий, авее вава Быва бева ты и ава.А о Смерти еще находил прежние слова и говорил о ней нежно. Она приходила и просила под окном, чтобы брат ее Сон открыл ей двери. Она устала. «Я косила целый день…»
Она хотела накормить голодных своих смертенышей…
* * *
Настоящая фамилия Сологуба была Тетерников, но, как мне рассказывали, в редакции, куда он отнес первые свои произведения, посоветовали ему придумать псевдоним.
– Неудобно музе увенчать лаврами голову Тетерникова.
Кто-то вступился, сказал, что знал почтенного полковника с такой фамилией и тот ничуть не огорчался.
– А почем вы знаете? Может быть, и полковнику приятнее было бы более поэтическое имя, только вот в армии нельзя служить под псевдонимом.
И тут же придумали Тетерникову псевдоним – Федор Сологуб. С одним «л», чтобы не путали с автором «Тарантаса». И мы знаем, что муза этот псевдоним почтила своим вниманием[10].
Венец славы своей нес Сологуб спокойно и как бы презрительно. С журналистами и интервьюерами обращался надменно[11].
Помню, как шли мы вместе по фойе театра и к нему подбежал какой-то газетный сотрудник и почтительно спрашивал его мнение о новой пьесе. Сологуб шел, не замедляя шага, не поворачивая головы, лениво цедя слова сквозь зубы, а журналист забегал, как собачонка, то справа, то слева, переспрашивал и не всегда получал ответ. Так мстил (вероятно, бессознательно) Сологуб за измывательства над его первыми, лучшими и самыми вдохновенными вещами.
Сологуба считали колдуном и садистом. В своих стихах он и бичевал, и казнил, и колдовал. Черная сила играла в них.
Когда я в бурном море плавал И мой корабль пошел ко дну, Я возопил: «Отец мой, Дьявол, Спаси меня, ведь я тону»[12].Признав отцом своим дьявола, он принял от него и все черное его наследство: злобную тоску, душевное одиночество, холод сердца, отвращение от земной радости и презрение к человеку. Как сон вспоминались его грустные, нежные стихи:
В поле не видно ни зги. Кто-то зовёт: «Помоги!» Что я могу? Сам я и беден, и мал, Сам я смертельно устал, Как помогу? Кто-то зовёт в тишине: «Брат мой, приблизься ко мне! Легче вдвоём. Если не сможем идти, Вместе умрём на пути, Вместе умрём!»[13]Теперь пошла эротика, нагие флагелянты, мертвые люди, живые мертвецы, колдовство, комплекс Эдипа, воющие собаки, оборотни.
Было:
Я верю в творящего Бога, В святые завесы небес…Стало:
Собираю ночью травы И варю из них отравы…* * *
Что за человек Сологуб, понять было трудно. Его отношение ко мне я тоже не понимала. Казалось бы, совершенно безразлично. Но вот неожиданно узнаю, что мою пьесу «Царица Шамурамат» (я тогда увлекалась Древним Востоком) он старался устроить в театр Комиссаржевской.
Раз как-то пришел он ко мне с Георгием Чулковым. Я была в самой лютой неврастении. Чулков ничего не заметил, а Сологуб странно-пристально присматривался ко мне и все приговаривал:
– Так-так. Так-так.
Вечером пришел снова и настаивал, чтобы я пошла с ним в ресторан обедать, и оттуда повел по набережной.
– Не надо вам домой торопиться. Дома будет хуже.
Была белая ночь, нервная и тоскливая, как раз бы Рыцарю Смерти поговорить о своей Даме. Но он был неестественно весел, болтал и шутил, и я поняла, что он жалеет меня и хочет развлечь. Потом выяснилось, что так это и было. Его мертвые глаза видели многое, живым глазам недоступное и ненужное.
Он ненавидел шаржи, карикатуры и пародии.
В каком-то журнале появилась пародия на него Сергея Городецкого под случайным псевдонимом. Сологуб почему-то решил, что сочинила ее я, и остро обиделся. Вечером у себя за ужином он подошел ко мне и сказал:
– Вы, кажется, огорчены, что я узнал про вашу проделку?
– Какую проделку?
– Да ваш пасквиль на меня.
– Я знаю, о чем вы говорите. Это не я сочинила. Все свои произведения, как бы плохи они ни были, я всегда подписываю своим именем.
Он отошел, но в конце ужина подошел снова.
– Вы не расстраивайтесь, – сказал он. – Мне все это совершенно безразлично.
– Вот это меня и расстраивает, – отвечала я. – Вы думаете, что я вас высмеяла, и говорите, что вам это безразлично. Вот именно это меня и расстраивает.
Он задумался и потом весь вечер был со мной необычайно ласков.
Несмотря на свою надменную мрачность, он иногда охотно втягивался в какую-нибудь забавную чепуху.
Как-то вспомнил школьную забаву:
– Почему говорят гимн-Азия, а не гимн-Африка? Почему чер-Нила, а не чер-Волги?
С этого и пошло. Решили писать роман по новому ладу. Начало было такое:
«На улицу вышел человек в синих панталонах». По-новому писали так:
«На у-роже ты-шел лобстолетие в ре-них хам-купонах».
Игра была из рук вон глупая, но страшно завлекательная, и многие из нашего кружка охотно разделывали эту чепуху. И многие серьезные и даже мрачные, как и сам Сологуб, сначала недоуменно пожимали плечами, потом, словно нехотя, придумывали слова два-три, а там и пошло. Втягивались.
* * *
Как-то занялись мы с ним определением метафизического возраста общих знакомых. Установили, что у каждого человека кроме его реального возраста есть еще другой, вечный, метафизический. Например, старику шлиссельбуржцу Морозову мы сразу согласно определили 18 лет
– А мой метафизический возраст? – спросила я.
– Вы же сами знаете – тринадцать лет.
Я подумала. Вспомнила, как жила прошлым летом у друзей в имении. Вспомнила, как кучер принес с болота какой-то страшно длинный рогатый тростник и велел непременно показать его мне. Вспомнила, как двенадцатилетний мальчишка требовал, чтобы я пошла с ним за три версты смотреть на какой-то древесный нарост, под которым, видно, живет какой-то зверь, потому что даже шевелится. И я, конечно, пошла, и, конечно, ни нароста, ни зверя мы не нашли. Потом пастух принес с поля осиный мед и опять решил, что именно мне это будет интересно. Показывал на грязной ладони какую-то бурую слякоть. И каждый раз в таких случаях вся прислуга выбегала посмотреть, как я буду ахать и удивляться. И мне действительно все это было интересно.
Да, мой метафизический возраст был тринадцать лет.
– А мой? – спросил Сологуб.
– Конечно, шестьсот, и задумываться не о чем.
Он вздохнул и промолчал. Очевидно, согласился[14].
* * *
Колдун и ведун однажды позорно провалился.
Был доклад Мережковского «О России».
Большевики в ту пору еще не утвердились, и Мережковский, с присущим ему пафосом, говорил о том, что из могилы царизма поднялся упырь.
Упырь этот Ленин.
Вот тут Сологуб и изрек свое «вещее слово»:
– Никогда Ленину не быть диктатором. Пузатый и плешивый. Уж скорее мог бы Савинков.
Мы слушали с благоговением и не отрицали, что роскошная шевелюра и стройный стан суть необходимейшие атрибуты народного вождя. Мы тогда еще не видали ни Муссолини, ни Гитлера, этих грядущих аполлонов. Нас можно простить.
В начале революции по инициативе Сологуба создалось общество охранения художественных зданий и предметов искусств. Заседали мы в Академии художеств. Требовали охраны Эрмитажа и картинных галерей, чтобы там не устраивали ни засад, ни побоищ. Хлопотали, ходили к Луначарскому. Кто лучше него мог бы понять нашу святую тревогу? Ведь этот эстет, когда умер его ребенок, читал над гробиком «Литургию красоты» Бальмонта. Но из хлопот наших ничего не вышло.
* * *
Одно время Сологуб дружил с Блоком. Они часто выходили вместе и часто снимались. Он всегда приносил мне эти снимки. Чулков тоже бывал с ними. Потом, в период «Двенадцати», он уже к Блоку охладел.
Имя Сологуба гремело. Все так называемые «друзья искусства», носившие в нашем тесном кругу скромное имя «фармацевтов» (хотя среди них были люди, достойные именно первого названия), говорили словами Сологуба об Альдонсе, Дульцинее и творимой легенде.
Актеры наперерыв выли с эстрады:
Качает черт качели Вперед – назад, вперед – назад…Фотографы снимали его у письменного стола и на копне сена с подписью: «Как проводит лето Федор Сологуб».
Сомов написал его портрет, затушевав бородавку. Сенилов переложил его стихи на музыку.
Сологуба пели, читали, играли, декламировали и танцевали.
Явились переводчики и карикатуристы. Журналисты печатали беседы.
Приезжали на поклон московские люди – писатели, артисты, музыканты, меценаты.
И черт качал качели Вперед – назад, вперед – назад…Качал вперед[15].
* * *
Работал Сологуб по-прежнему много, но больше все переводил. Новые повести писал в сотрудничестве с Чеботаревской. Они были не совсем удачны, а иногда настолько неудачны и так не чувствовалось в них даже дыхания Сологуба, что многие, в том числе и я, решили, что пишет их одна Чеботаревская, даже без присмотра Сологуба. Впоследствии эта догадка оказалась верной.
Чем это объяснить? Творчество иссякло? Равнодушие к общественному мнению дошло до полного презрения? «Прежде нотовичи воротили нос от прекрасных моих творений, теперь что ни дай – все слопают». Чеботаревская хочет писать – пусть пишет. Ее печатать не станут – пусть подписывается Сологубом.
Как-то в рижской газете «Сегодня» я прочла строки:
«Немногие, вероятно, знают, как была талантлива Чеботаревская и что последние повести Сологуба принадлежат всецело ее перу».
Увы! Эти немногие отлично догадывались. Только не могли себе этого объяснить так отчетливо, как мы видим теперь. Теперь мы знаем его безграничное презрение к критикам, не ценившим его прежних вещей и поднимавшим шум и бум над новыми, небрежно набросанными пустяками. Вот тогда он и решил, что довольно с них и Чеботаревской.
Всем известна фраза его: «Что мне еще придумать? Лысину позолотить, что ли?» – вполне определяет наступившую для него душевную пустоту.
* * *
Во время революции Сологубу жилось трудно. Он приглядывался, хотел понять и не понимал.
Кажется, в их идеях есть что-то гуманное, говорил он, вспоминая свою униженную юность и сознавая себя «сыном трудящегося народа». Но ведь жить с ними все-таки нельзя!
Еще старался творить из «бабищи грубой», из нелепой жизни своей легенду. Но бабища ухватила цепко.
В одну из последних петербургских зим встречали мы вместе Новый год.
– Что вам пожелать? – спросила я.
– Чтобы все осталось как сейчас. Чтобы ничто не изменилось.
Оказывается, что этот странный человек был счастлив! Но тут же подумалось – боится и предчувствует злое.
Как хорошо, что реют пчелы, Что золот лук в руках у Феба…Да, лук у Феба вечно золот, но…
Быстро мчатся кони Феба под уклон.
Загремели страшные годы. «Бабища румяная и дебелая» измывалась над бледным Рыцарем Смерти. Судорожно цеплялась за жизнь Чеботаревская. Кричала всем, всем, всем: SOS. Спасите!
Она уже в самом начале революционных годов была совершенно нервнобольная. Помню, как на одном из заседаний в Академии художеств она вдруг без всякой видимой причины вскрикнула и затопала ногами.
* * *
В 1920 году, когда я в Париже лежала больная в тифу, передали мне записку. На обрывке бумаги, сложенном, как гимназическая шпаргалка, спешными сокращенными словами было набросано:
«Умол. помочь похлопоч. визу погибаем, будьте другом добр, как были всегда Сол. Чебот.».
Записка, очевидно привезенная кем-то в перчатке или зашитая в платье, была от Сологуба и Чеботаревской. Кто ее принес, не выяснилось.
Когда я поправилась, мне сказали, что виза Сологубу и его жене уже давно устроена. Но, как потом оказалось, большевики еще долго не выпускали их. То давали разрешение на выезд, то снова задерживали. Чеботаревская, не выдержав этой пытки, покончила с собой. Она утопилась. Рассказывают легенду, будто труп ее летом прибило к берегу, где на даче жил Сологуб[16].
После ее смерти началось умирание Сологуба.
Он долго умирал, несколько лет. Судьба, дописав повесть его жизни, словно призадумалась, перед тем как поставить последнюю точку.
«День только к вечеру хорош…» – писал он когда-то.
Нет, вечер его жизни не был хорош.
О его душевном состоянии говорят кое-какие дошедшие до нас стихи.
Человек иль злобный бес В душу, как в карман, залез, Наплевал там и нагадил, Все испортил, все разладил И, хихикая, исчез. Дурачок, ты всем нам верь, – Шепчет самый гнусный зверь, – Хоть блевотину на блюде Поднесут с поклоном люди, Ешь и зубы им не щерь.Тяжело и озлобленно уходил он.
В мире ты живешь с людьми, – Словно в лесе, в темном лесе, Где написан бес на бесе, – Зверь с такими же зверьми.Это, как он его воспринимал, Звериное Царство он, Дон-Кихот, не смог уже претворить в мечту, в прекрасную Дульцинею, как делал из жизни, «бабищи румяной и дебелой».
Тяжело и озлобленно уходил он. И умер он, в сущности, уже давно и только пребывал в полужизни, ни живой ни мертвый, как его тихие мальчики в «Навьих чарах»… «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв» (Апокалипсис, гл. 3. 1). И та его смерть, о которой дошла до нас весть в эмиграцию, является только как бы простой формальностью.
И может быть, смерть эта, для которой его муза находила такие странные, необычно нежные слова, может быть, она, жданная и призываемая, пришла к своему Рыцарю тихая и увела его ласково.
Париж
Владислав Ходасевич. Сологуб*
И верен я, отец мой, Дьявол,
Обету, данному в злой час,
Когда я в бурном море плавал
И Ты меня из бездны спас.
Тебя, отец мой, я прославлю
В укор неправедному дню,
Хулу над миром я восставлю
И соблазняя соблазню.
Федор СологубУ тебя, милосердного Бога,
Много славы, и света, и сил.
Дай мне жизни земной хоть немного,
Чтоб я новые песни сложил.
Федор СологубОн был сыном портного и кухарки. Родился в 1863 году. В те времена «выйти в люди» человеку такого происхождения было нелегко. Должно быть, это нелегко далось и ему. Но он выбрался, получил образование, стал учителем. О детских и юношеских годах его мы почти ничего не знаем. Учителя Федора Кузьмича Тетерникова, автора учебника геометрии, мы тоже не видим. В нашем поле зрения он является прямо уже писателем Федором Сологубом, лет котррому уже за тридцать, а по виду и того много больше. Никто не видел его молодым, никто не видел, как он старел. Точно вдруг откуда-то появился – древний и молчаливый. «Рожденный не в первый раз и уже не первый завершая круг внешних преображений…» – так начинает он предисловие к лучшей, центральной в его творчестве книге стихов. Кто-то рассказывал, как Сологуб иногда покидал многолюдное собрание своих гостей, молча уходил в кабинет и там оставался долго. Был радушным хозяином, но жажда одиночества была в нем сильнее гостеприимства. Впрочем, и на людях он порой точно отсутствовал. Слушал – и не слышал. Молчал. Закрывал глаза. Засыпал. Витал где-то, куда нам пути не было. Звали его колдуном, ведуном, чародеем.
Я впервые увидел его в начале 1908 года, в Москве, у одного литератора. Это был тот самый Сологуб, которого на известном портрете так схоже изобразил Кустодиев. Сидит мешковато на кресле, нога на ногу, слегка потирает маленькие, очень белые руки. Лысая голова, темя слегка заостренное, крышей, вокруг лысины – седина. Лицо чуть мучнистое, чуть одутловатое. На левой щеке, возле носа с легкой горбинкой, – большая белая бородавка. Рыжевато-седая борода клином, небольшая, и рыжевато-седые висящие вниз усы. Пенсне на тонком шнурке, над переносицей складка, глаза полузакрыты. Когда Сологуб их открывает, их выражение можно бы передать вопросом:
– А вы все еще существуете?
Таким выражением глаз встретил и меня Сологуб, когда был я ему представлен. Шел мне двадцать второй год, и я Сологуба испугался. И этот страх никогда уже не проходил.
А в последний раз видел я Сологуба четырнадцать лет спустя, в Петербурге, тоже весной, после страшной смерти его жены. Постарел ли он? Нет, нисколько, все тот же. И молод никогда не был, и не старел.
* * *
Обычно в творчестве поэта легко проследить изменение формальных навыков. Разнятся темпы таких изменений: у некоторых поэтов медленней, у других быстрее; у одного и того же поэта смены происходят в разные периоды с неодинаковой скоростью. Разнятся и направления, в которых совершается эволюция формы: один поэт идет от сложности к простоте, другой от простоты к сложности; одни расширяют словарь свой, другие суживают; одни модернизируют свои приемы, другие архаизируют; одни поэты становятся самостоятельны после ряда подражаний, другие (это случается совсем не так редко, как принято думать) – напротив, утрачивают самостоятельность и делаются подражателями. Я намечаю лишь для примера самые основные линии творческих путей. В действительности, конечно, их несравненно больше, и главное– они несравненно сложнее. Каждая поэтическая судьба представляет собою единственный и неповторимый случай поэтического развития. Впрочем, все это, разумеется, слишком общеизвестно, и я бы не стал говорить об этом, если бы не то обстоятельство, что поэзия Сологуба мне кажется едва ли не исключительным случаем, когда проследить эволюцию формы почти невозможно. По-видимому, она почти отсутствует.
Сейчас нам известны стихи Сологуба за сорок лет. Он писал очень много, быть может – слишком. Число его стихотворений выражается цифрой во всяком случае четырехзначной. У Сологуба всегда имелся большой запас неизданных пьес, написанных в разные времена. Собирая их в книги, он руководствовался не хронологией, а иными, чаще всего тематическими признаками (но иногда чисто просодическими: такова его книга, составленная из одних триолетов). Составлял книги приблизительно так, как составляют букеты; запас, о котором сказано выше, служил ему богатой оранжереей. И вот замечательно, что букеты оказывались очень стройными, легкими, лишенными стилистической пестроты или разноголосицы. Стихи самых разных эпох и отдаленных годов не только вполне уживались друг с другом, но и казались написанными одновременно. Сам Сологуб несомненно знал это свойство своих стихов. Порой, когда это ему было нужно, он брал стихи из одной книги и переносил их в другую. Они снова оказывались на месте, вплетались в новые сочетания, столь же стройные, как те, из которых были вынуты.
Вот, например, книга «Жемчужные светила». В нее вошли стихи с 1884 до 1911 года. Тут лишь небольшая часть написанного за этот период. Но Сологуб вознамерился дать известную гамму, собрать стихи определенного оттенка – и вполне мог это сделать, отобрав подходящие пьесы из написанного за целых двадцать восемь лет. И снова – не только ни одного формального или стилистического скачка, броска, диссонанса, но напротив: все точно бы одновременно писано. Несомненно, можно различить большую уверенность, твердость, законченность, больше вкуса и мастерства в поздних вещах – да и только разве лишь по сравнению с самыми ранними. В сущности, уже с начала девяностых годов Сологуб является во всеоружии. Он сразу «нашел себя», сразу очертил круг свой – и не выходит из него. С годами ему только легче и лучше удавалось то, что с самого начала сделалось сущностью его стиля. Раствор крепчал, насыщался, но по химическому составу оставался неизменным.
Сологуб появился на литературном поприще как один из зачинателей самой молодой по тому времени поэтической группы. Но вступил он в нее уже поэтически не молодым. Среди своих литературных сверстников он сразу оказался самым зрелым, сложившимся и законченным. Его жизнь – без молодости, его поэзия – без ювенилий. И как в жизни, явившись старым, он больше уже не старел, так и мастерству его не был сужден закат. Одних своих литературных сверстников переживая физически, других он пережил поэтически: умер в полноте творческих сил, мастером трудолюбивым и строгим к себе.
* * *
Не раз приходилось читать, будто в последние годы отрекся он от «сатанических» пристрастий, исцелился от ядов, отравлявших его душу, перестал витать в мире пороков и призраков, примирился с простою жизнью, которую некогда проклинал, обратил благосклонный взор к земле и полюбил родину. Высказывалось при этом, будто благодетельную роль в «просветлении» Сологуба сыграла тягостная судьба России, которой декадентский поэт до тех пор как бы и не замечал и которую он увидел и полюбил в годы ее страданий.
Не спорю: такая концепция содержит в себе чрезвычайно много приятного. Мы любим наблюдать, как поэты перед смертью исправляются и просветляются. Предсмертная эволюция – наш конек. Открыли «эволюцию» – и можем с чистым сердцем хвалить покойника: хоть перед смертью, а сделался он таким же хорошим, как мы, и каким ему давно пора было сделаться.
К сожалению, все же приходится отказаться от наблюдений над эволюцией Сологуба: ее не было. Я нисколько не собираюсь отрицать наличность у Сологуба этих «просветленных» и «примиренных» мотивов, в частности– его любви к России. Но видеть в них «эволюцию» я бессилен. Эволюция была бы налицо, если б эти мотивы составляли характерный и исключительный признак сологубовской поэзии последнего периода; если бы можно было наблюдать их первое появление, затем нарастание, наконец – то, как ими вытесняются прежние, с ними несогласные. Но именно этих явлений, необходимых для того, чтобы можно было говорить об эволюции, в наличности нет. Те мотивы, которые в случае эволюции должны бы исчезнуть из поэзии Сологуба, в действительности сохраняются до конца. Те, что должны бы теперь явиться впервые, – на самом деле существовали всегда или так давно, что их появление никак нельзя связывать ни с российской жизнью последних лет, ни с личным предсмертным «просветлением» Сологуба.
Я не пишу исследования, но и не хочу быть голословным. Сологуб будто бы в эти последние свои годы склонил благосклонный взор к явлениям обыденной жизни, полюбил землю, благословил родину и примирился с Богом. В том-то и дело, что последние годы здесь ни при чем. Разве простенькие стихи, обращенные к ручью, «прогнавшему скорбные думы», не в 1884 году писаны? А разве ясное, ничем не омраченное любование речкой с купающимися ребятами не 1888 годом помечено? Да мало ли у Сологуба таких стихов! А вот это:
Не забудем же дорог В Божий радостный чертог, В обиталище блаженных, И пойдем под Божий кров Мы в толпе Его рабов Терпеливых и смиренных.Разве страдания России или близость кончины привели Сологуба к этим стихам – в 1898 году? А вот – о земле:
Вы не умеете целовать мою землю, Не умеете слушать Мать Землю сырую, Так, как я ей внемлю, Так, как я ее целую. О, приникну, приникну всем телом К святому материнскому телу, В озарении святом и белом К последнему склонюсь пределу, – Откуда вышли цветы и травы, Откуда вышли вы, сестры и братья. Только мои лобзанья чисты и правы, Только мои святы объятья.Не знаю, когда написаны эти стихи, но в 1907 году они были уже напечатаны в «Пламенном круге».
Неверно и то, что будто бы «декадент» Сологуб увидел и полюбил Россию только после революции. В 1906 году вышла книга его стихов, коротко и выразительно озаглавленная: «Родине». Тогда же появились и «Политические сказочки», свидетельницы о том, что «певец порока и мутной мистики» не чуждался реальнейших вопросов своего века.
И в 1911 году он писал:
Прекрасные, чужие, – От них в душе туман; Но ты, моя Россия, Прекраснее всех стран.Нет, не предсмертному просветлению обязан Сологуб своей любовью к России. Это не он не видел Россию, а мы проглядели его любовь к ней.
Обратно: так ли уж он до конца, весь просветлел, так ли бежал от своего прошлого, так ли ясно и просто обратился к Богу?
Адонаи Взошел на престолы, Адонаи Требует себе поклоненья, – И наша слабость, Земная слабость Алтари ему воздвигала. Но всеблагий Люцифер с нами, Пламенное дыхание свободы, Пресвятой свет познанья, Люцифер с нами, И Адонаи, Бог темный и мстящий, Будет низвергнут И развенчан Ангелами, Люцифер, твоими, Вельзевулом и Молохом.Это сказано в большевицкой России, за несколько лет до смерти. Правда, через несколько страниц читаем иное:
Знаю знанием последним, Что бессильна эта тьма, И не верю темным бредням Суеверного ума. Посягнуть на правду Божью – То же, что распять Христа, Заградить земною ложью Непорочные устаИли:
В ясном небе – светлый Бог Отец, Здесь со мной – Земля, святая Мать…Но – через несколько страниц снова:
Зачем любить? Земля не стоит Любви твоей. Пройди над ней, как астероид, Пройди скорей.А пока что – восхваляя пройденный им на земле «лукавый путь веселого порока», Сологуб приглашает: «Греши со мной».
По совести – очень далеко все это от покаяния и исправления. Нет, духовного «прогресса» мы в творчестве Сологуба не найдем, – так же, как и «регресса». Тем-то и примечательна, между прочим, его поэзия, что она – без какой бы то ни было эволюции. Сологуб никогда не отрекался от своего прошлого и не обретал ничего, что не было бы ему известно ранее. Конечно, к тому, что составляет основные мотивы его поэзии, пришел он не сразу. Но именно того, как и когда слагался Сологуб, – мы не знаем. Застаем его сразу уже сложившимся – и таким пребывшим до конца. Его «сложение» очень сложно; оно как будто внутренне противоречиво, если судить по отдельным стихам. Оно отливает многими переливами, но по существу, по составу, всегда неизменно. Как жизнь Сологуба – без молодости, как поэзия – без ювенилий, так и духовная жизнь – без эволюции.
Сологуб кощунствовал и славословил, проклинал и благословлял, воспевал грех и святость, был жесток и добр, призывал смерть и наслаждался жизнью. Все это и еще многое можно доказать огромным количеством цитат. Одного только не удастся доказать никогда: будто Сологуб от чего-то «шел» и к чему-то «пришел», от кощунств к славословиям или от славословий к кощунствам, от благословений к проклятиям или от проклятий к благословениям. Ничто у него ничем не вытеснялось, противоречия в нем уживались мирно, потому что самая наличность их была частью его мировоззрения. Об этом мировоззрении скажу несколько слов, без критики и без указания на его источники. Дело не в том, было ли оно оригинально и верно и какие в нем самом были противоречия. Оно – ключ к пониманию Сологуба и только в этом качестве нас в данную минуту занимает.
«Рожденный не в первый раз и уже не первый завершая круг внешних преображений, я спокойно и просто открываю свою душу», – говорит Сологуб в предисловии к «Пламенному Кругу» и не устает повторять это в стихах и в прозе.
Свою жизнь, которая кончилась 5 декабря 1927 года, Сологуб почитал не первой и не последней. Она казалась ему звеном в нескончаемой цепи преобразований. Меняются личины, но под ними вечно сохраняется неизменное Я: «Ибо все и во всем – Я, и только Я, и нет иного, и не было и не будет». «Темная земная душа человека пламенеет сладкими и горькими восторгами, истончается и восходит по нескончаемой лестнице совершенств в обители навеки недостижимые и вовеки вожделенные». В процессе этого нескончаемого восхождения Я созидает миры видимые и невидимые: вещи, явления, понятия, добро и зло, Бога и дьявола. И добро, и зло, и Бог, и дьявол – только равноценные формы сладких и горьких восторгов, пламенеющих в душе. Временная жизнь, цикл переживаний, кончается столь же временной смертью – переходом к новому циклу:
И все, что жило и дышало И отцвело, В иной стране взойдет сначала, Свежо, светло.То звено цепи, та жизнь, которую изживал на наших глазах поэт Федор Сологуб, содержала для него великое множество переживаний, «восторгов», говоря его словом (и словом Пушкина). То были приливы страстной любви к женщине, красоте, жизни, родине, Богу. И очарования зла, злобы, порока, уродства, дьявола, смерти наполняли его душу тоже восторгами, иного цвета и вкуса («горькими»).
Поскольку, однако, вся эта жизнь была лишь ступенью в «нескончаемой лестнице совершенств», она не могла не казаться Сологубу еще слишком несовершенной, – как были, пожалуй, еще менее совершенны жизни, им раньше пройденные. Но неверно распространенное мнение, будто для Сологуба жизнь абсолютно мерзка, груба, грязна. Она и мерзка, и груба, и пошла – только по отношению к последующим ступеням, которые еще впереди. Сологуб умеет любить жизнь и восторгаться ею, но лишь до тех пор, пока созерцает ее безотносительно к «лестнице совершенств». По сравнению с утраченной и вечно искомой Лилит, эта жизнь – Ева, «бабища дебелая и румяная». Это – грязная девка Альдонса, ей бесконечно далеко до той прекрасной Дульцинеи, которая мечтается человеку, вечному Адаму и вечному Дон Кихоту. Но и в последующих воплощениях, на будущих ступенях, ему тоже не суждено встретить подлинную Дульцинею, которая живет в «обителях навеки недостижимых и вовеки вожделенных».
Где ж эти обители? Сологуб знает, что это не наша Земля, не Марс, не Венера и никакая из существующих планет. Эта обитель недостижима, она носит условное и заветное имя «земля Ойле». Над той землей светит небывалая звезда Маир, небывалая река ее орошает:
Звезда Маир сияет надо мною, Звезда Маир, И озарен прекрасною звездою Далекий мир. Земля Ойле плывет в волнах эфира, Земля Ойле, И ясен свет мерцающий Маира На той земле. Река Лигой в стране любви и мира, Река Лигой Колеблет тихо ясный лик Маира Своей волной. Бряцанье лир, цветов благоуханье, Бряцанье лир И песни жен слились в одно дыханье, Хваля Маир.Был ли сам он утешен своей «лестницей»? Я не знаю. Думаю, что самый вопрос об утешительности или неутешительности был для него несуществен. Однажды обретенной им для себя истине он смотрел в глаза мужественно, и во всяком случае не в его характере было пытаться ее прикрашивать или подслащать. Кажется, «лестница» иногда казалась ему скучновата. Утомительна и сурова – это уж непременно:
Кто смеется? Боги, Дети да глупцы. Люди, будьте строги, Будьте мудрецы, Пусть смеются боги, Дети да глупцы.Сам он, впрочем, часто шутил. Но шутки его всегда горьки и почти всегда сводятся к каламбуру, к улыбке слов. «Нож да вилка есть, а нож-резалка есть?» «Вот и не поймешь: ты Илия или я Илия?» «Она Селениточка – а на селе ниточка». Смешных положений он почти не знает, улыбок в явлениях жизни не видит. А если видит, то страшные или злые.
* * *
Несовершенна, слишком несовершенна казалась Сологубу жизнь. «Земное бремя – пространство, время» слишком часто было ему тяжело. И люди его не прельщали: «мелкого беса» видел он за спиной у них. Познакомившись с Передоновым, русское общество пожелало увидеть в нем автопортрет Сологуба. «Это он о себе», – намекала критика. В предисловии ко второму изданию своего романа Сологуб ответил спокойно и ясно: «Нет, мои милые современники, это о вас».
О нем было принято говорить: злой. Мне никогда не казалось, однако, что Сологуб деятельно зол. Скорее – он только не любил прощать. После женитьбы на Анастасии Николаевне Чеботаревской, обладавшей, говорят, неуживчивым характером (я сам не имел случая на него жаловаться), Сологубу, кажется, приходилось нередко ссориться с людьми, чтобы, справедливо или нет, вступаться за Анастасию Николаевну. Впрочем, и сам он долго помнил обиды. Еще в 1906 или 1907 году Андрей Белый напечатал в «Весах» о Сологубе статью, которая показалась ему неприятной. В 1924 году, т. е. лет через семнадцать, Белый явился на публичное чествование Сологуба, устроенное в Петербурге по случаю его шестидесятилетия, и произнес, по обыкновению своему, чрезвычайно экзальтированную, бурно-восторженную речь (передаю со слов одного из присутствовавших). Закончив, Белый осклабился улыбкой, столь же восторженной и неискренней, как была его речь, и принялся изо всех сил жать Сологубу руку. Сологуб гадливо сморщился и произнес с расстановкой, сквозь зубы:
– Вы делаете мне больно.
И больше ни слова. Эффект восторженной речи был сорван. Сологуб отомстил[17].
В общем, мне кажется, люди утомляли Сологуба. Он часто старался не видеть их и не слышать:
Быть с людьми – какое бремя! О, зачем же надо с ними жить, Отчего нельзя все время Чары деять, тихо ворожить?Для меня эта нота всегда очень явственно звучала в словах Сологуба, в лениво-досадливых жестах, в полудремоте его, в молчании, в закрывании глаз, во всей повадке. Когда я жил в Петербурге, мы встречались сравнительно много, бывали друг у друга, но в общем, несмотря на восхитительный ум Сологуба, на прекрасные стихи, которые он читал при встречах, на его любезное, впрочем – суховатое обращение, я как-то старался поменьше попадаться ему на глаза. Я видел, что люди Сологубу в конечном счете решительно не нужны, и я в том числе. Уверен, что он носил в себе очень большой запас любви, но не в силах был обратить ее на людей.
На Ойле, далекой и прекрасной, Вся мечта и вся любовь моя…На земле знавал он только несовершенный отсвет любви ойлейской.
* * *
Впрочем, двух людей, двух женщин, он любил – и обеих утратил. Первая была его сестра, Ольга Кузьми-нишна, тихая, немолодая девушка, болезненная, чуть слышная, ходившая всегда в черном. Она умерла от чахотки, кажется, в 1907 году. Следы этой любви есть во многих стихах Сологуба. О ней он не забывал. В 1920 году писал:
…Рассказать, чем сердце жило, Чем болело и горело, И кого оно любило, И чего оно хотело. Так мечтаешь хоть недолго О далекой, об отцветшей. Имя сладостное Волга Сходно с именем ушедшей.Вторая была Анастасия Николаевна Чеботаревская, на которой он женился вскоре после смерти сестры. Годы военного коммунизма Сологубы провели частию в Костроме, частию в Петербурге. Мечтой их было уехать из советской России, где господствовали, по его выражению, «вчеловеченные звери». Сологуб писал:
Снова саваны надели Рощи, нивы и луга. Надоели, надоели Эти белые снега, Эта мертвая пустыня, Эта дремлющая тишь! Отчего ж, душа-рабыня, Ты на волю не летишь, К буйным волнам океана, К шумным стогнам городов, На размах аэроплана, В громыханье поездов, Или, жажду жизни здешней Горьким ядом утоля, В край невинный, вечно-вешний, В Элизийские поля?Анастасия Николаевна приходилась родственницей Луначарскому (кажется, двоюродной сестрой). Весной 1921 года Луначарский подал в Политбюро заявление о необходимости выпустить за границу больных писателей: Сологуба и Блока. Ходатайство было поддержано Горьким. Политбюро почему-то решило Сологуба выпустить, а Блока задержать. Узнав об этом, Луначарский отправил в Политбюро чуть ли не истерическое письмо, в котором ни с того ни с сего потопил Сологуба. Аргументация его была приблизительно такова: товарищи, что ж вы делаете? Я просил за Блока и Сологуба, а вы выпускаете одного Сологуба, меж тем как Блок – поэт революции, наша гордость, о нем даже была статья в Times'e, а Сологуб – ненавистник пролетариата, автор контрреволюционных памфлетов и т. д.
Копия этого письма, датированного, кажется, 22 июня, была прислана Горькому, который его мне и показал тогда же. Политбюро вывернуло свое решение наизнанку: Блоку дало заграничный паспорт, которым он уже не успел воспользоваться, а Сологуба задержало. Осенью, после многих стараний Горького, Сологубу все-таки дали заграничный паспорт, потом опять отняли, потом опять дали. Вся эта история поколебала душевное равновесие Анастасии Николаевны: когда все уже было улажено и чуть ли не назначен день отъезда, в припадке меланхолии она бросилась в Неву с Тучкова моста[18].
Тело ее было извлечено из воды только через семь с половиною месяцев. Все это время Сологуб еще надеялся, что, может быть, женщина, которая бросилась в Неву, была не Анастасия Николаевна. Допускал, что она где-нибудь скрывается. К обеду ставил на стол лишний прибор – на случай, если она вернется. Из этого сделали пошлый рассказ о том, как Сологуб «ужинает в незримом присутствии покойницы». В ту пору я видел его два раза: вскоре после исчезновения Анастасии Николаевны – у П. Е. Щеголева, где он за весь вечер не проронил ни слова, и весной 1922 г. – у меня. Он пришел неожиданно, сел, прочитал несколько стихотворений и ушел так же внезапно, точно и не заметив моего присутствия.
Убедившись в гибели жены, он уже не захотел уезжать. Его почти не печатали (в последние три года – вовсе нигде), но он много писал. Не в первый раз мечтой побеждал действительность, духовно торжествовал над ней. Недаром, упорствуя, не сдаваясь, в холоде и голоде, весной 1921 года, в двенадцать дней написал он веселый, задорный, в той обстановке как будто даже немыслимый цикл стихов: двадцать семь пьес в стиле французских бержерет. Стиснув зубы, упрямый мечтатель, уверенный, твердый, неуклонный мастер, он во дни «пролетарского искусства» выводил с усмешкой и над врагами, и над собой, и над «злою жизнью»:
Тирсис под сенью ив Мечтает о Нанетте И, голову склонив, Выводит на мюзетте: Любовью я, – тра, та, там, та, – томлюсь, К могиле я, – тра, та, там, та, – клонюсь. И эхо меж кустов, Внимая воплям горя, Не изменяет слов, Напевам томным вторя: Любовью я, – тра, та, там, та, – томлюсь, К могиле я, – тра, та, там, та, – клонюсь…Париж, январь 1928
Владислав Ходасевич. Из петербургских воспоминаний <Сологуб>*
Время бежит. Скоро уже десять лет, как умер Федор Сологуб, – это случилось в декабре 1927 года. Теперь его деятельности можно бы подвести итоги более объективные, нежели в ту пору, когда память о нем еще была свежа и когда его эпоха еще не столь далеко отступила в прошлое. Некогда я писал, что со временем «о Сологубе напишут большую, хорошую книгу». Теперь я думаю, что, пожалуй, книгу-то писать и не станут – разве что это сделает какой-нибудь литературный сноб лет через сто (если будут тогда литературные снобы). Вероятно, от Сологуба останется некоторое количество хороших и даже очень хороших стихов, из которых можно будет составить целый том. В пантеоне русской поэзии он займет приличное место – приблизительно на уровне Полонского: повыше Майкова, но пониже Фета. Прозу его читать не будут – ее уже и сейчас не читают, и время этого не отменит. Романы, которые он писал в сотрудничестве со своей женой Анастасией Чеботаревской («Заклинательница змей», «Слаще яда»), совершенно невыносимы. Вещи вполне оригинальные, как «Творимая легенда», немногим лучше. На поверку выходит плох и знаменитый «Мелкий бес», которым когда-то мы зачитывались и который останется разве что лишь в качестве документа о быте, и то, конечно, столь шаржированного, что строгий историк вряд ли станет им пользоваться. По-видимому, лучшее из написанного Сологубом в прозе – два-три небольших рассказа, вроде «Стригаль и компания».
И все-таки если не произведения Сологуба, то самая его личность должна занять видное место в литературной панораме символистской поры. Опять же – не потому, что общие или литературные идеи Сологуба занимали центральное или определяющее положение в самом символизме (этого не было), но потому, что в литературной жизни, в обществах, кружках и редакциях он непременно хотел играть и играл весьма заметную роль. Он был вполне искренен в любви к одиночеству и в отвращении к миру. Но и в мире, им отвергаемом, хотел занимать важное место. Наконец, нельзя отрицать, что как человек он был очень своеобразен и это сказывалось во всех его поступках и повадках. Люди символизма вообще отличались таким ярким «оперением», какого русская литературная среда перед тем не видала по крайней мере лет пятьдесят – с тех пор, как исчезли последние представители ее золотого века. Блок, Брюсов, Белый выделялись из толпы с первого взгляда. Таковы же и ныне здравствующие их соратники. Таков был и Сологуб. Представители иных тогдашних групп и течений были куда безличнее и серее.
Принято было говорить о нем, что он злой. Думаю, что это не совсем так. Его несчастием было то, что несовершенство людей, их грубость, их пошлость, их малость нестерпимо кололи ему глаза. Он злобился на людей именно за то, что своими пороками они словно бы мешали ему любить их. И за это он мстил им, нечаянно, а может быть, и нарочно платя им той же монетою: грубостью, пошлостью. Неверно, что в нем самом сидел Передонов, как многие говорили; но верно, что, досадуя на Передоновых, он нередко поступал с ними по-передоновски.
Излюбленный его прием заключался в том, чтобы поставить человека в неловкое, глупое, а то и тягостное положение. В 1911 году я приехал к нему в Петербург по поручению одного московского издательства. Он пригласил меня завтракать. За столом, в присутствии его жены, с которой я только что познакомился, он стал задавать мне столь непристойные вопросы и произносить такие слова, что я решительно не знал, как быть и куда смотреть. Вести разговор в его тоне было немыслимо, оборвать его резко было бы донкихотством и мальчишеством (он был меня много старше). Я старался переменить тему (вернее – темы, ибо от одной непристойности Сологуб тотчас переходил к другой), но он гнул свою линию и откровенно наслаждался моим смущением.
По-видимому, он до крайности был обидчив, как часто бывает с людьми, прошедшими нелегкий жизненный путь и изведавшими немало унижений. Он тратил немало времени и душевных сил на непрестанное, мелочное оберегание своего достоинства, на которое никому и в голову не приходило посягать. С еще большею скрупулезностью оберегал он достоинство своей жены, которую, в общем, недолюбливал. Казалось бы, этому противоречит тот случай, о котором я только что рассказал. Но я вполне допускаю, что если бы я не смутился, а позволил себе в присутствии Анастасии Николаевны быть столь же развязным, как он сам, то Сологуб счел бы долгом своим за нее обидеться. За справедливостью он не гнался.
Обидчиков (действительных и воображаемых) своих и своей жены он преследовал деятельно и неумолимо. Не стану в подробностях излагать знаменитую в свое время историю с обезьяньими хвостами: о ней уже было писано. Отмечу лишь, что и после того, как она закончилась официальным примирением, Сологуб все-таки буквально выжил из Петербурга двух-трех видных литераторов, которых считал виновниками происшедших событий. Для этого он пустил в ход целый сложный механизм интриг и происков, столь же отчетливо окрашенных в передоновские тона, как и вся история, из-за которой сыр-бор загорелся.
Однако кроме настоящей обидчивости сидела еще в нем искусственная, наигранная. Ему доставляло удовольствие ставить людей по отношению к нему в положение обидчиков – единственно для того, чтобы видеть, как они смущаются и оправдываются. И чем больше было смущение, чем нелепее было обвинение, тем живее радовался Сологуб. Вот совершенно нелепая сцена, которую разыграл он со мною же в начале 1921 года, когда он только приехал в Петербург из Вологды или из Ярославля, где перед тем прожил, кажется, года два. Я пришел в редакцию «Всемирной Литературы» и там его встретил. Он сидел у камина в кресле. Между нами произошел буквально такой разговор:
Я. Здравствуйте, Федор Кузьмич.
Сологуб. Ага, теперь «здравствуйте», а то небось (!) уже радовались, что старик околел где-нибудь на большой дороге.
Я (совершенно остолбенев). Помилуйте, почему же я должен был это вообразить и с чего бы стал радоваться?
Сологуб. То есть вы хотите сказать, что я на вас взвел напраслину.
Я. Дело не в напраслине, а в том, что вы, очевидно, плохо осведомлены…
Сологуб. Ах, вот как! Значит, я уже, по-вашему, из ума выжил?
Не помню, как я от него отвертелся, но через несколько дней он первый пришел ко мне, читал новые стихи и был так мил, как умел быть, когда хотел.
Другая история, в которую он пытался меня вовлечь, была сложнее и могла кончиться хуже. Расскажу о ней в подробностях – некоторые из них, пожалуй, стоит сберечь «для потомства».
Аким Львович Волынский был человек умный, но ум у него был взбалмошный, беспорядочный – недаром в конце концов его мысль запуталась где-то между историей религии и историей балета. В молодости он сильно пострадал от каких-то интриг, и в нем осталась глубокая уязвленность, к тому же питаемая тайною неуверенностью в себе, запрятанною в душе опаскою, что, может быть, враги, некогда объявившие его ничтожеством, были правы.
В спорах, которые любил страстно, он всегда петушился – вплоть до того мгновения, когда, растерявшись, внезапно сдавал все свои позиции.
В 1921–1922 годах мы с ним вместе жили в петербургском Доме Искусств. Однажды, глядя в окно, я увидел, что он откуда-то возвращается, на ходу читая газету. У меня к нему было дело, и через полчаса я к нему отправился. Общежитие наше помещалось в доме известного богача Елисеева. Волынскому отвели какой-то будуар с золоченой мебелью, бессовестно размалеванный амурами и зефирами, которые так и порхали по стенам комнаты, среди громоздящихся облаков, лир и гирлянд. На потолке кувыркались музы и грации – у Тьеполо сделался бы при виде их нервный припадок. Центральное отопление не действовало, и Волынский топил буржуйку, немилосердно коптившую на весь мифологический мир. В отсутствие хозяина комната простывала. Я застал Волынского лежащим на постели в шубе, меховой шапке и огромных калошах. В руках он держал все ту же газету. Он меня еле слушал – мысли его были не здесь. Наконец он сказал:
– Дорогой, простите. Я слишком взволнован. Мне нужно побыть одному, чтобы пережить то, что свершилось.
«Свершилась» просто небольшая статья, написанная о нем Мариэттой Шагинян в еженедельной газетке «Жизнь Искусства»: первая хвалебная статья за много лет. Он ходил с газетой по всему Дому Искусств, всем показывая и бормоча что-то о нелицеприятном суде грядущей России. Смотреть на него было жалко. Бледная улыбка славы лишила его душевного равновесия…
Мы переживали эпоху пайков. Они выдавались всем ученым и лишь двадцати пяти писателям. В марте 1921 года Горький привез из Москвы еще восемьдесят. Надо было составить список писателей-кандидатов. Образовали комиссию, в которую вошли Н. М. Волковыский, Б. И. Харитон, Е. П. Султанова-Леткова, А. Н. Тихонов, Волынский, Гумилев и я. Заседали долго, часов до пяти. Все устали, а еще предстояло самое трудное. Так как мы не знали, сколько именно пайков удастся отвоевать для писателей, то имена в списке надо было расположить в убывающей прогрессии: от самых заслуженных и нуждающихся к менее отвечающим этим признакам. Сделать это было необходимо в тот же вечер. Меж тем как раз в день заседания началось восстание в Кронштадте. Настроение в городе было тревожное, и собраться вновь вечером надежды не было. Решили поручить дело тем, кто может друг с другом встретиться, не выходя из дому, то есть обитателям Дома Искусств: Султановой, Волынскому, Гумилеву и мне. Кроме того, мне поручили о чем-то переговорить с Горьким.
После заседания (оно происходило на Бассейной в Доме Литераторов) мы с Гумилевым вышли вместе: я направился к Горькому на Кронверкский, Гумилев – куда-то на Васильевский остров. Чтобы сократить путь, мы пошли наперерез по льду Невы. На улицах и на Неве была уже зловещая пустота. Таяло, снег был липкий, на льду кое-где появились лужи. Солнце садилось влево от нас, и оттуда же, из дымно-красного тумана, уже доносились первые пушечные выстрелы. Прощаясь, Гумилев мне сказал, что если задержится на Васильевском до темноты, то останется там ночевать – и чтобы мы заседали без него.
К десяти часам вечера, как было условлено, мы с Волынским пришли в комнату Султановой. Гумилева не было. Мы принялись за трудное и щекотливое дело – расставлять писателей, так сказать, по росту.
Однако особенных разногласий не было. Работа шла быстро. Наконец дошла очередь до Сологуба, который перед тем пайка не имел, ибо, как выше сказано, только что возвратился в Петербург. Волынский внезапно пришел в совершенную ярость. Вытаращив глаза, втягивая щеки, и без того впалые, стуча сухим кулачком по столу, он стал требовать, чтобы Сологуба поместили в самый конец списка, потому что это «ничтожество, жалкий кретин, сифилитический талант». Одному Богу ведомо, что должно было значить это последнее определение, но Волынский его выкрикивал без устали. Видимо, оно ему нравилось. Наконец, после долгих споров (немножко совестно вспомнить, что они происходили под равномерный гул кронштадтской пальбы), мы с Султановой отстояли Сологуба, закончили список и разошлись.
Надо заметить, что в начале заседания мы дали друг другу слово сохранить в тайне все, что будет говорено об отдельных лицах. Такое же слово мы взяли и с одной барышни, которая случайно присутствовала, ибо пришла в гости к Султановой – и осталась ночевать. Не тут-то было. Прошло месяца полтора. Сологуб давно уже получал свой паек. В один непрекрасный день я пришел домой и застал у себя Сологуба. Он меня ждал. Сидел в кресле, каменный, неподвижный, злой. Я сразу почуял неладное, а он сразу, деревянным голосом, задал мне вопрос:
– Дозвольте спросить, на каком основании намеревались вы лишить меня с женой пропитания и позволяли себе оскорбительные на мой счет выражения в заседании, имевшем место тогда-то и там-то?
– Федор Кузьмич, я ничего неблагоприятного о вас не говорил.
– А если вы не говорили, то кто?
– Я не могу дать вам никаких сведений на сей счет.
– Но не отрицаете, что слова были кем-то сказаны?
– Не отрицаю и не подтверждаю, потому что не имею права рассказывать ничего.
– В таком случае я буду считать, что сифилитиком именовали меня вы, и потому почту долгом привлечь вас к суду, как персонального оскорбителя и клеветника.
Это уже было сказано с усмешечкой, по которой я понял, что Сологубу отлично известно, кто был в действительности его «персональным оскорбителем». Пришел же он ко мне, чтобы «добыть языка»: надеялся что, поразив меня, своего же заступника, нелепым обвинением, он заставит меня проговориться – а затем, уже на основании моих слов, притянет к суду Волынского.
Препирались мы долго – подробностей не помню. Он, наконец, ушел, ничего не добившись. Но вот что примечательно: уходил он уже в другом настроении: тихий, ласковый. По-видимому, ему нужно было только насытить злобу. Не удалось посчитаться с Волынским – он удовольствовался и тем, что заставил меня пережить несколько неприятных минут.
Это было наше предпоследнее свидание. После того я видел его лишь раз, уже осенью, после смерти его жены, у П. Е. Щеголева. От кого он узнал, что говорил про него Волынский, осталось мне неизвестно. Султанова вне подозрений. Может быть, где-нибудь проговорилась барышня, а всего вероятнее – разболтал сам Волынский.
Иванов-Разумник. Федор Сологуб*
Уже в первой книжке стихов Ф. Сологуба намечаются те мотивы, которые впоследствии стали преобладающими в творчестве этого автора.
Мы находим сначала у Ф. Сологуба легкое недоумение, тихую грусть о смысли жизни:
Грустно грежу, скорбь лелею, Паутину жизни рву, И дознаться не умею, Для чего и чем живу…В таком настроении духа поэт переносится «попеременно от безнадежности к желаниям», в поисках за той истиной, которая, несмотря ни на что, остается для него скрытой; сам он выражает это, говоря про себя:
Блуждает песня странная, Безумная моя. Есть тайна несказанная, Ее найду ли я?Какой тайны жаждет поэт – это мы еще увидим; но во всяком случае поиски эти оставались тщетными, а больные томленья поэта перед бедою становились все более и более острыми. И если иногда он еще готов в минуту примиренья оправдать свою жизнь («Благословляю, жизнь моя, твои печали…»), то от большинства стихов его первой книги все больше и больше начинает веять холодом отчаянья. В жизни Ф. Сологуб не находит ответа и ищет его в смерти:
Мы устали преследовать цели, На работу затрачивать силы, – Мы созрели Для могилы. Отдадимся могиле без спора, Как малютки своей колыбели, Мы истлеем в ней скоро, И без цели…К такому взгляду отчаянья пришел Ф. Сологуб в первой книге своих стихов – больные томленья разрешились бедою. Весь дальнейший период творчества Ф. Сологуба отмечен этим знаком отчаянья, сопровождаемого страхом жизни, и в то же время попытками уяснить себе суть жизни, смысл жизни.
Любопытно отметить, что поэта одинаково не удовлетворяет ни субъективное оправдание жизни, ни вера в ее объективную целесообразность. С одной стороны, ему хочется найти общий смысл и в жизни мира, и в жизни человека, одно субъективное оправдание жизни его не удовлетворяет; устами Нюты Ермолиной, героини романа «Тяжелые сны», он грустит о том, что природа равнодушна к человеку: «…все к нам безучастно и не для нас: и ветер, и звери, и птицы, которые для чего-то развивают всю эту страшную энергию». С другой стороны, Ф. Сологуб не устает высмеивать веру в тот антропоцентризм, который отразился и в словах Нюты Ермолиной; он ядовито иллюстрирует эту точку зрения в своих прелестных сказках и сказочках. И в то же время у Ф. Сологуба нет веры в объективную целесообразность жизни, для него «безнадежностью великой беспощадный веет свет»; подобно Герцену, он не верит в цель прогресса, в того Молоха, который «по мере приближения к нему тружеников вместо награды пятится назад»:
В путях томительной печали Стремится вечно род людской В недосягаемые дали, К какой-то цели роковой. И создает неутомимо Судьба преграды перед ним. И все далек от пилигрима Его святой Ерусалим.А между тем без «святого Ерусалима» Ф. Сологуб обойтись не может; и вот почему он одно время, подобно Чехову, приходит к своеобразной «вере в прогресс», утешается шигалевщиной, утверждает, что цель – в будущем. В этой вере он искал прибежища от того холодного отчаянья, которое сказалось в первом сборнике его стихов и продиктовало ему лучший рассказ его второй книги – «Тени». Двенадцатилетний мальчик Володя увлекается детской игрой – складывая разными способами руки, он получает на освещенной стене силуэты, изображающие разные фигуры; но забава эта скоро становится трагической. Чтобы отвлечь Володю от царства теней и царства стен, мать идет с ним на улицу, но «и на улице были повсюду тени, вечерние, таинственные, неуловимые…». Уйти от них, скрыться – некуда; вся наша жизнь окружена стенами. И на угрозу карцером, которым хотят излечить его болезнь, Володя угрюмо отвечает: «И там есть стена… везде стена….» Стена и тень – вот и вся человеческая жизнь: более того – вот и вся жизнь человечества. Этой идеи не выдерживает и мать Володи.
«…Она поверяет свою душу, вспоминает свою жизнь – и видит ее пустоту, ненужность, бесцельность. Одно только бессмысленное мелькание теней, сливающихся в густеющих сумерках. „Зачем я жила? – спрашивает она себя: – для сына? Но для чего? Чтобы и он стал добычею теней, маньяком с узким горизонтом, прикованный к иллюзиям, к бессмысленным отражениям на безжизненной стене? И он тоже войдет в жизнь и даст жизнь ряду существований, призрачных и ненужных, как сон“…» И бежать от этих теней жизни и от этой жизни теней – некуда, так как «и там будет стена… везде стена…». Трагедия кончена: жизнь теней победила тени жизни. «В Володиной комнате на полу горит лампа. За нею, у стены, на полу, сидят мама и Володя. Они смотрят на стену и делают руками странные движения… По стене бегут и зыблются тени. Володя и мама понимают их. Они улыбаются грустно и говорят друг другу что-то томительное и невозможное. Лица их мирны, и грезы их ясны – их радость безнадежно-печальна, и дико-радостна их печаль. В глазах их светится безумие, блаженное безумие…»
Это – выход, блаженное безумие – это лучше и выше жизни, состоящей из бессмысленного мелькания теней и бессмысленного отражения их на безжизненной стене.
Жизнь – это зловонный зверинец, а мы – навеки заключенные в его стенах звери, говорит нам поэт даже в последней книге своих стихов («Пламенный круг»).
Мы – плененные звери, Голосим, как умеем. Глухо заперты двери, Мы открыть их не смеем…И если это удивительное по силе чувства стихотворение (трудно было удержаться от искушения переписать его целиком) действительно рисует нам человеческую жизнь, если мир только зловонный зверинец, а мы – запертые в клетках звери, то как же не пожелать себе и всем «блаженного безумия», спасающего нас от этой звериной жизни? Но этот порожденный отчаянием ответ на вопрос о смысле жизни – не выход, а тупик, тоже своего рода «стена». И Ф. Сологуб ищет выхода, ищет свой «святой Ерусалим» на земле или на небе; отсюда его временная шигалевщина, его попытка утверждения цели в будущем.
Ряд подобных мотивов мы находим в ряде следующих стихотворений Сологуба. На небе или на земле ждет этого будущего Ф. Сологуб, Иерусалим духовный или телесный привлекает его к себе – это для нас пока безразлично; но во всяком случае очевидно, что не в Zukunftstaat верует наш автор. Земная жизнь для него – какой-то внешний эпизод, какое-то нелепое недоразумение. Его мечты и надежды – в будущем:
И промечтаю до конца, И, мирно улыбаясь жизни, Уйду к неведомой отчизне, В чертоги мудрого отца…Вера эта принимала у Ф. Сологуба и более конкретные формы, особенно ярко выраженные в цикле стихотворений «Звезда Маир». В звездных пространствах есть далекое солнце Маир, освещающее своими лучами землю Ойле – вот Zukunftstaat Федора Сологуба! «На Ойле далекой и прекрасной вся любовь и вся душа моя», – заявляет поэт и видит на Ойле «вечный мир блаженства и покоя, вечный мир свершившейся мечты…». В этот Zukunftstaat со временем придет и Ф. Сологуб:
Мой прах истлеет понемногу, Истлеет он в сырой земле, А я меж звезд найду дорогу К иной стране, к моей Ойле. Я все земное позабуду, И там я буду не чужой, Доверюсь я иному чуду, Как обычайности земной.Эти мотивы можно встретить еще в нескольких стихотворениях Ф. Сологуба (см., например, «В мерцаньи звезд нисходит на меня…» и «Звезды, приветствуйте брата!..»); и они крайне любопытны для уяснения бессилия этой веры в будущее раскрыть смысл настоящего. Конечно, блажен, кто верует в Ойле или в Zukunftstaat; но это самоутешение не есть объяснение смысла нашей жизни.
Ведь дело вовсе не в забвеньи, а именно в страданиях!
Никакие Ойле, никакие дымы благоуханий не искупят этого мгновенья безвинной человеческой муки; слишком дорого оценена такая гармония – и сам Ф. Сологуб еще во второй книге своих стихов ясно высказал, что это единственно возможный ответ на вопрос.
Отсюда только один шаг до возвращения к старому признанию человеческой жизни дьяволовым водевилем, к совершенному разрыву с Богом.
«…На самом деле ничего нет, обман один. Подумай сам, если бы все это было в самом деле, так разве люди умирали бы? Разве можно было бы умереть? Все здесь уходит, исчезает, как привидение» – так в сологубовском рассказе «Жало смерти» один мальчик подговаривает другого к самоубийству. Все обман, реальны только страдания и обиды, к которым привыкнуть нельзя. «Ваня говорил, а Коля смотрел на него доверчивыми, покорными глазами. И обиды, о которых говорил Ваня, больно мучили его, больнее, чем если бы это были его собственные обиды. И не все ли равно, чьи обиды!..» «…Коле захотелось вдруг возразить ему так, чтобы это было последнее и сильное слово. Вечно радостное и успокоительное чувство осенило его. Он поднял на Ваню повеселелые глаза и сказал нежно звенящим голосом: „А Бог?“ Ваня повернулся к нему, усмехнулся, и Коле опять стало страшно. Прозрачные Ванины глаза зажглись недетскою злобою. Он сказал тихо и угрюмо: „А Бога нет. А и есть – нужен ты ему очень. Упадешь нечаянно в воду – Бог и не подумает спасти“. Коля, бледный, слушал его в ужасе…» Бога нет. Ойле нет. Нет и не надо ничего за пределами человеческой жизни, – говорит Ф. Сологуб устами Вани, и повторяет неоднократно от себя:
Я воскресенья не хочу, И мне совсем не надо рая, – Не опечалюсь, умирая, И никуда я не взлечу…Никуда – значит, и мечта об Ойле перестала уже тешить поэта…
Коля и Ваня – это две стороны души одного Ф. Сологуба. Борьба шуйцы с десницей – очень это истрепанная, с легкой руки Михайловского, фраза; однако и само явление, характеризуемое ею, старо, как человечество. Повторяется оно и у Ф. Сологуба. «„Красивое местечко“, – нежно звенящим голоском говорит Коля. „Что красивого?“ – хмуро возражает Ваня». Коля видит за рекой красивый обрыв; в лесу так славно пахнет смолой; белка так ловко карабкается на сосну; перед ними лежит такой красивый луг… Но вода подмоет, обрыв обвалится, – слышим мы ответы Вани, – в лесу пахнет «шкипидаром»; под кустом лежит дохлая ворона, а на лугу коровы нагадили… Коля – это тот Ф. Сологуб, который сам говорит о себе: «И промечтаю до конца, и, мирно улыбаясь жизни, уйду… в чертоги мудрого отца»; это тот Ф. Сологуб, который нежно звенящим голосом мечтает вслух о «блаженном крае вечной красоты», об Ойле, освещаемой лучами Маира, об ангельских ликах и дыме благоуханий; Ваня – это тот Ф. Сологуб, который сам не знает, «для чего и чем живет», который устал преследовать цели, который созрел для могилы и для которого «вся жизнь, весь мир – игра без цели: не надо жить…»! В Ф. Сологубе Коля пробует иногда протестовать, старается сказать нежно звенящим голосом «последнее и сильное слово»: «А Бог?..» Но побеждает в нем всегда Ваня со своим негодующим отрицанием: «А Бога нет. А и есть – нужен ты ему очень…» И Ваня не может не победить, так как Коля, со своими мечтами об Ойле, бессилен оправдать ту жизнь, слезы и кровь которой понятны только после своего превращения в алмазы и рубины райских обителей… Но алмазы и рубины эти – поистине – камни, которые нам хотят подать вместо хлеба…
Ваня победил. Это значит, что попытка Ф. Сологуба уверовать в «святой Ерусалим», увидеть цель и смысл существования в будущем или даже в мире трансцендентного закончилась неудачей и возвращением к прежнему холодному отчаянью. В жизни нет смысла, в жизни нет цели, а значит, жизнь страшна, как бы ни была она подчас прекрасна; жизнь страшна, потому что она заперта в бессмысленных стенах, потому что вся она – только бессмысленное мелькание теней по стене. И во второй книге стихов, которая идет непосредственно вслед за этим рассказом, Ф. Сологуб много раз варьирует эту же тему – «как не нужен мне мир и постыл», «как мне трудно идти», «как мне страшно»… Остается ждать только смерти-избавительницы и надеяться на то, что «мы потонем во тьме безответной»; поэтому «блестящими лучами улыбается смерть», для него «есть блаженство одно: сном безгрезным забыться навсегда – умереть…», ибо «неизбежная могила не обманет лишь одна». Смысла же жизни нет – ни до смерти, ни после смерти.
«– Если и до звезд вознесется трепет моей души и в далеких мирах зажжет неутоляемую жажду и восторг бытия – мне-то что? (так спрашивает у своей „смерти“ герой одного из позднейших сологубовских рассказов „Смерть по объявлению“). Истлевая, истлею здесь, в страшной могиле, куда меня зароют зачем-то равнодушные люди. Что же мне в красноречии твоих обещаний, что мне? что мне? скажи?»
«Сказала, улыбаясь кротко:
– Во блаженном успении вечный покой.
Повторил тихо:
– Вечный покой. И это – утешение?
– Утешаю, чем могу, – сказала она, улыбаясь все тою же неподвижною, кроткою улыбкою…»
Так же утешает сам себя, утешает всех нас и Федор Сологуб. Конечно, он не мог не видеть, что ответить словом «смерть» на вопросы о смысле жизни – значит не ответить на них совершенно; но как ответить иначе и что делать – он не знает. «Если бы я знал! – говорит он устами героя романа „Тяжелые сны“, учителя Логина: – А то я как-то запутался в своих отношениях к людям и себе. Светоча у меня нет… Мне жизнь страшна…» «А чем страшна жизнь?» – спрашивает его Нюта и слышит в ответ: «Мертва она слишком! Не столько живем, сколько играем. Живые люди гибнут, а мертвецы хоронят своих мертвецов…» Откуда, однако, этот страх жизни? И чем же страшна жизнь? Окружающая нас реальность, мир явлений, все эти «предметы предметного мира» – страшны для Ф. Сологуба своей отчужденностью от человека, своим объективным безличием, безразличием ко всему человеческому. Но этот внешний мир далеко не так страшен, как мир души человека, жизнь людей страшнее всего на свете. Ужаснее всего то, что не только в окружающей немой природе, но и в жизни людей нельзя найти осмысленности, правды и цели. У смерти есть свое оправдание – она смерть-успокоительница, переносящая нас в царство чистого отрицания, в царство безволия, бессознания, отсутствия зла, отсутствия неповинной муки и горя; но в чем и где оправдание жизни, с ее горем, бессмысленными страданиями и неповинной мукой? В одной сказочке Ф. Сологуба («Плененная смерть») некий рыцарь взял в плен однажды самую смерть и собирался ее истребить: «„Смерть, я тебе голову срубить хочу, много ты зла на свете наделала“. Но смерть молчит себе. Рыцарь и говорит: „Вот даю тебе сроку, защищайся, коли можешь. Что ты скажешь в свое оправдание?“ А смерть отвечает: „Я-то тебе пока ничего не скажу, а вот пусть жизнь поговорит за меня“. И увидел рыцарь – стоит возле него жизнь, бабища дебелая и румяная, но безобразная. И стала она говорить такие скверные и нечестивые слова, что затрепетал храбрый и непобедимый рыцарь и поспешил отворить темницу. Пошла смерть, и опять умирали люди. Умер в свой срок и рыцарь – и никому на земле никогда не сказал он того, что слышал от жизни, бабищи безобразной и нечестивой». Ф. Сологуб тоже многое слышал от дебелой и румяной бабищи жизни, тоже затрепетал от ужаса – и то, что слышал, рассказал нам в своем романе «Мелкий бес», в этом лучшем своем произведении.
Несмотря на недавнее появление «Мелкого беса», крылатое слово «передоновщина» сразу вошло в обиход русской жизни и литературы – ибо это именно то слово, которое Ф. Сологуб услышал от безобразной и нечестивой бабищи жизни. Не надо только понимать это слово так узко, как поняли его многие читатели и критики. Видеть в «Мелком бесе» сатиру на провинциальную жизнь, видеть в Передонове развитие чеховского человека в футляре – значит совершенно не понимать внутреннего смысла сологубовского романа. Нe одна провинциальная жизнь какого-то захолустного городишки, а вся жизнь в ее целом есть сплошное мещанство, сплошная передоновщина; в этом-то и состоит весь ужас жизни, этим и объясняется страх жизни.
Жизнь бессмысленна, бесцельна, жизнь – сплошная передоновщина.
Торжествующая пошлость на все кладет свою печать, только одни дети до поры до времени свободны от этой передоновщины, которая, однако, со временем и их пожрет в своей пасти. «Только дети, вечные, неустанные сосуды Божьей радости над землею, были живы, и бежали, – но уже и на них налегала косность, и какое-то безликое и незримое чудище, угнездясь за их плечами, заглядывало порою глазами, полными угроз, на их внезапно тупеющие лица». Мы знаем, что это за чудище: это – дебелая и румяная, но безобразная бабища жизнь, столь же страшная в своей обыденности, как и «румяный, равнодушно-сонный» Передонов, со своими «маленькими, заплывшими глазами». Страшна же эта обыденность своим полным бесцелием; еще страшнее, когда эту бессмысленность жизни люди хотят побороть, вкладывая в нее свой маленький смысл, ставя ей свои мизерные цели. Последнее горше первого, так как пусть лучше жизнь будет совсем бесцельна, чем целью ее считать, говоря фигурально, то инспекторское место, которое княгиня Волчанская якобы обещала Передонову. Независимо от намерений автора, это инспекторское место получает в романе такое символическое и трагическое значение, что поистине иногда становится «страшно, за человека страшно»…
Жизнь бесцельна, но у Передонова есть цель: ему надо получить инспекторское место, которое сразу осмыслит все его существование… Не кажется ли вам, что мы уже что-то слышали об «инспекторском месте», что мы знаем его под другими названиями? Да, совершенно справедливо: ибо что же такое это Zukunftstaat марксистов и эта земля Ойле самого Ф. Сологуба, как не то же самое «инспекторское место», охарактеризованное лишь «mit ein bisschen anderen Worten».
Передонов сходит с ума, после чего многие читатели вздыхают с облегчением: слава Богу! если Передонов – сумасшедший, то, быть может, и вся передоновщина есть сплошная патология. При этом они закрывают глаза на то обстоятельство, что остальные действующие лица романа, все вместе и каждый в отдельности, нисколько не менее страшны по своей духовной сущности, чем сам Передонов. У каждого из них есть своя цель, своего рода «инспекторское место», которой они тщетно пытаются осмыслить свое мещанское существование и побороть гнетущую бессмысленность жизни: глупая и грязная Варвара добивается женить на себе Передонова, его же и для этой же цели ловят Вершина, Марта, Рутиловы; предводитель дворянства Верига «метит в губернаторы» – все это своего рода «инспекторские места»… Да и вообще все эти Володины, Преполовенские, Грушины, Тишковы, Кирилловы, Гудаевские – чем они менее страшны в своей пошлости по сравнению с Передоновым? А все они живут и прозябают, пребывают в здравом уме и твердой памяти и до сего дня… Тем-то и страшна для Ф. Сологуба жизнь, что она – мещанство и передоновщина сама по себе, что такою ее делают люди, делает человечество, эта миллионноголовая гидра пошлости. Пугающее его мещанство он видит везде и во всем. Передонов сошел с ума, передоновщина осталась…
Вот откуда у Ф. Сологуба этот страх жизни, вот чем страшна жизнь. Жизнь – бессмысленна, жизнь – мещанство. А между тем цели, смысла, правды ищут все, ищет и сам Передонов. «Есть же и правда на свете», – тоскливо думает он, а автор прибавляет от себя: «Да, ведь и Передонов стремился к истине, по общему закону всякой сознательной жизни, и это стремление томило его. Он и сам не сознавал, что тоже, как и все люди, стремится к истине, и потому смутно было его беспокойство. Он не мог найти для себя истины и запутался, и погибал». Вместо истины – ложь, вместо реальности – бред, та «маленькая, серая, юркая недотыкомка», которая, быть может, ярче всего воплощает в себе серое и ускользающее от ударов мещанство жизни. Для Передонова она-то и была той ложью, которую он принял за истину; она была для него несомненнее и реальнее всей окружающей действительности.
Сам Ф. Сологуб не мог найти для себя истины, не мог найти выхода из поставленных жизнью вопросов. А найти его необходимо, необходимо выйти из фатального круга признаний:
Я безделицей измучен, Житие кляну мое…И еще, и еще раз начинает писатель искать ощупью дорогу, преломляя в своем творчестве новые лучи, посылаемые жизнью. Теперь он ищет новый выход и хочет найти его в той красоте человеческой жизни (или, вернее, человеческого тела), в той области прекрасного, которую он склонен считать спасением от передоновщины. Вот почему в «Мелком бесе» история самого Передонова и всей этой кишащей вокруг него передоновщины идет, чередуясь с историей отношений Саши и Людмилы, историей, на первый взгляд как бы совершенно произвольно вставленной в передоновщину, а в действительности тесно связанной с нею. «Красота» – вот то «заветное слово», которым Ф. Сологуб хочет отогнать от себя серую недотыкомку мещанства и победить передоновщину жизни.
Еще в первом сборнике своих стихов Ф. Сологуб призывал эту ушедшую из мира красоту:
Где ты делась, несказанная Тайна жизни, красота? Где твоя благоуханная, Чистым светом осиянная, Радость взоров, нагота?Весь этот серый мир передоновщины для Ф. Сологуба «суров и нелеп: он – немой и таинственный склеп над могилой, где скрыта навек красота…». Надо разрушить этот склеп, надо воскресить красоту, и прежде всего – красоту человеческого тела. Мещанство в своем отношении к человеческому телу знает только две крайности: или откровенный разврат, или лицемерную стыдливость, причем обе эти крайности превосходно уживаются рядом одна с другою в одно и то же время и в одном и том же человеке. Наготы, «осиянной чистым светом», мещанин не знает и не переносит; для него она всегда только объект грязных мыслей и побуждений. И вот почему «капустный кочан» негодует на наготу лилии и гордится тем, что «вот я выучил людей одеваться, уж могу себе чести приписать: на голышку-кочерыжку первую покрышку, рубашку, на рубашку стяжку, на стяжку пододежду, на нее застежку, на застежку одежку, на одежку застежку, на застежку пряжку, на пряжку опять рубашку, одежку, застежку, рубашку, пряжку, с боков покрышку, сверху покрышку, не видать кочерыжку. Тепло и прилично…» (так иронизирует Ф. Сологуб в своей сказочке «Одежды лилии и капустные одежки»). И если под капустными одежками мещанин пытается лицемерно похоронить наготу, то это нисколько ему не мешает смотреть на человеческое тело только как на объект грязных вожделений. Какая уж тут «чистым светом осиянная, радость взоров, нагота», если при одной мысли о наготе Передонова охватывают только грязно-эротические мысли, «паскудные детища его скудного воображения». И по прямой линии от Передонова идут все эти эстеты наших дней, все эти глашатаи не красоты, а похоти; между ними и Ф. Сологубом – дистанция громадного размера. Для Ф. Сологуба человеческое тело – воплощение красоты, «чистым светом осиянной»; а для всех этих «пьяных и грязных людишек (повторим мы в переносном смысле слова Ф. Сологуба) это восхитительное тело является только источником низкого соблазна. Так это и часто бывает, и воистину в нашем веке надлежит красоте быть попранной и поруганной».
Взамен такого отношения к красоте человеческого тела Ф. Сологуб рисует нам наготу, «осиянную чистым светом», и это не мешало бы понять всем блюстителям строгой нравственности, столь возмущенным эпизодом с Людмилой и Сашей в «Мелком бесе» и готовым счесть этот эпизод просто вкрапленным в роман порнографическим элементом. Думать так – значит не понимать ни этого романа, ни всего творчества Ф. Сопогуба. Людмила и Саша для Ф. Сологуба – не только не эпизод, а один из центральных пунктов романа, так как именно в красоте Ф. Сологуб хочет найти выход из передоновщины. Мрачную, серую, бессмысленную жизнь он хочет осмыслить культом тела, чистым эстетическим наслаждением, «радостью взоров». «Сколько прелести в мире! – думает Людмила: – люди закрывают от себя столько красоты; зачем?..» «Точно стыдно иметь тело, что даже мальчишки прячут его», – думает она другой раз… И, к ужасу стыдливых критиков, идейные предки которых ужасались во время оно неприличию «Графа Нулина», – она раздевает Сашу и целует его плечи…
«– Да зачем тебе это, Людмилочка? – спрашивает Саша.
– Зачем? – страстно заговорила Людмила. – Люблю красоту. Язычница я, грешница. Мне бы в древних Афинах родиться. Люблю цветы, духи, яркие одежды, голое тело. Говорят, есть душа. Не знаю, не видела. Да и на что она мне? Пусть умру совсем как русалка, как тучка под солнцем растаю. Я тело люблю – сильное, ловкое, голое, которое может наслаждаться.
– Да и страдать ведь может, – тихо сказал Саша.
– И страдать, и это хорошо, – страстно шепнула Людмила. – Сладко и когда больно, только бы тело чувствовать, только бы видеть наготу и красоту телесную…»
Вот ответ Ф. Сологуба на карамазовские вопросы. Оказывается, что «красота» не только открывает выход из передоновщины, но и оправдывает иррациональное по своей сущности зло; вопрос о людских страданиях покрывается идеей красоты страждущего тела. Но в том-то и беда, что именно только «вопрос» покрывается «идеей», а вовсе не страдания тела – красотой его; в этом пункте напрасна попытка устранить с дороги карамазовские вопросы повторением излюбленного Достоевским мотива: «Сладко и когда больно…» И если даже «сладко» и «больно» относятся не к двум различным субъектам, созерцающему и страдающему, а к одному и тому же, как мы скоро услышим от сологубовской Нюты Ермолиной, то все же на таком общем месте далеко не уедешь. И при чем «телесная красота» в случае хотя бы с тем мальчиком, которого «мать с отцом замучили: долго палкой били, долго розгами терзали»? Вся красота всего мира – стоит ли она одной слезинки этого замученного ребенка? Со стороны глядя – быть может; «страдать – и это хорошо» – но только когда страдает другой… Вот и Людмила любит не только одно «голое тело, которое может наслаждаться», но любит и «Его… знаешь… Распятого… Знаешь, приснится иногда – Он на кресте, и на теле кровавые капельки». Но какие эстетические переживания могут оправдать человеческую муку, если ее не оправдывает даже всемирная гармония, даже будущее райское блаженство?
Нет, красота не «оправдывает» жизни, не уравновешивает человеческие страдания; довольно и того, что она, быть может, открывает выход из передоновщины; с этой последней точки зрения особенно интересны все сцены между Людмилой и Сашей, особенно в их сопоставлении с аналогичными сценами между другими лицами романа. Такое сопоставление все время делает сам Ф. Сологуб, подчеркивая разницу между чистым светом осиянной наготы и грязным мещанским отношением к ней; это особенно следовало бы иметь в виду тем читателям, которые возмущаются порнографичностью этого романа Ф. Сологуба. Беспрестанно предлагает он читателю сравнивать отношение к «телесной красоте», с одной стороны – Саши и Людмилы, с другой – «пьяных и грязных людишек», Передонова и присных его. «Воистину в нашем веке надлежит красоте быть попранной и поруганной», – говорит он про последних; и попирают они красоту тела, не только закутывая его в капустные одежки, но и открывая его грубо и цинично. Культ красоты, культ тела – это культ Ф. Сологуба; но когда Грушина (в «Мелком бесе») собирается на маскарад и одевается «головато», то автор замечает от себя: «Все так смело открытое у Грушиной было красиво – но какие противоречия! На коже – блошьи укусы, ухватки грубы, слова нестерпимой пошлости. Снова поруганная телесная красота!»
В рассказе Ф. Сологуба «Красота» мы снова встречаемся с попыткой оправдать жизнь красотою. Мы снова встречаемся здесь с Людмилой, но уже без Саши; Елена – героиня этого рассказа – влюблена в свое тело, наслаждается его красотою и повторяет сама над собою то, что Людмила проделывала над Сашей. Своим одиночеством она спасается от передоновщины – но ненадолго: ведь она живет среди людей, она связана с ними тысячью нитей. Закупорить окна и двери – еще не значит найти выход из передоновщины; Елена сознает это. Людей она не любит, потому что «они не понимают того, что одно достойно любви, – не понимают красоты. О красоте у них пошлые мысли, такие пошлые, что становится стыдно, что родилась на этой земле. Не хочется жить здесь…» А так как земли Ойле все равно нет, то единственно, что остается, – покончить с собою, уйти в небытие. Так Елена и поступает, и это – тоже своего рода выход из передоновщины; но этот выход показывает, что Ф. Сологуб убедился, что словом «красота» от серой недотыкомки не зачураешься. Попытка найти спасение от бессмысленной передоновщины в культе красоты человеческого тела оказалась полна невозможностями и противоречиями.
Несмотря на все эти невозможности и противоречия, Ф. Сологуб крепко держится за красоту, как за избавление от мещанства жизни, как за спасение от страха; он только расширяет рамки и от красоты тела переходит к красоте вообще, красоте природы, красоте духа, красоте вымысла. От мещанства жизни, от ее нелепости и бессмысленности он хочет спрятаться за стенами призрачного мира, за творением своей собственной фантазии, в этом – связь Ф. Сологуба с молодым русским романтизмом, одним из крупных представителей которого он и является. Пусть жизнь бессмысленна, бесцельна, пусть на земле царит передоновщина; не будем и искать смысла в бессмысленном по существу, но уйдем от этого мира «за пределы предельного», в создаваемый нашей фантазией мир четырех измерений – так говорит нам поэт.
Не я воздвиг ограду – Не мне ее разбить. И что ж! Найду отраду За той оградой быть. И что мне помешает Воздвигнуть все миры, Которых пожелает Закон моей игры? Я призрачную душу До неба вознесу, Воздвигну – и разрушу Мгновенную красу. Что бьется за стеною – Не все ли мне равно! Для смерти лишь открою Потайное окно.Так говорил Ф. Сологуб в начале четвертой книги своих стихов; то же он повторяет и в самое последнее время, в своем романе «Творимая легенда» («Навьи чары»). «Беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю из него сладостную легенду, ибо я – поэт. Косней во тьме тусклая, бытовая, или бушуй яростным пожаром – над тобою, жизнь, я, поэт, воздвигну творимую мною легенду об очаровательном и прекрасном…» Это достаточно определенно сказано и, как говорится, «в комментариях не нуждается». Теперь становится ясно, каким образом Ф. Сологуб собирается зачураться от передоновщины словом «красота»: он хочет жить в мире фантазии, в области «творимой легенды», он пытается запереться от мира действительности, оградиться от него стеною красоты и вымысла.
Но если это не ответ, то во всяком случае это исход, спасение от передоновщины. И в сущности ведь это только повторение слов, когда-то сказанных Иваном Карамазовым: «Я не Бога не принимаю, я мира, им созданного, мира-то Божьего не принимаю и не могу согласиться принять…» Ф. Сологуб тоже не принимает окружающего его действительного мира, но зато хочет утешиться творчеством своего мира, создаваемого художественным произволом поэта, «законом игры» его воображения; реалистическому миру передоновщины он хочет противопоставить романтический мир красоты. «Вся область поэтического творчества явственно делится на две части, тяготея к одному или другому полюсу, – говорит Ф. Сологуб в одной из позднейших своих статей „Демоны поэтов“. – Один полюс – лирическое забвение данного мира, отрицание его скудных и скучных двух берегов, вечно текущей обыденности и вечно возвращающейся ежедневности, вечное стремление к тому, чего нет. Мечтою строятся дивные чертоги несбыточного, и для предварения того, чего нет, сожигается огнем сладкого песнотворчества все, что есть, что дано, что явлено. Всему, чем радует жизнь, сказано нет». Вечным выразителем такого лирического отношения к миру является, по мнению Ф. Сологуба, Дон-Кихот, который из данной ему реальным миром Альдонсы творит романтический облик Дульцинеи Тобосской. «Дон-Кихот знал, конечно, что Альдонса – только Альдонса, простая крестьянская девица с вульгарными привычками и узким кругозором ограниченного существа. Но на что же ему Альдонса? И что ему Альдонса? Альдонсы нет, Альдонсы не надо. Альдонса – нелепая случайность, мгновенный и мгновенно изживаемый каприз пьяной Айсы…» И Ф. Сопогуб так относится к окружающей действительности: на что она ему? ее нет, ее не надо; действительность – нелепая случайность, каприз пьяной Судьбы…
Одиночество не страшно, ибо я во всем и все во мне. Вне моего «я» нет волевых актов, нет ничего; мир есть только моя воля, только мое представление. К этому циклу идей Ф. Сологуб с самого начала своего творчества подходил медленными, но верными шагами.
Весь отдел «Единая воля» (одиннадцать стихотворений в книге «Пламенный круг») проникнут такими настроениями; немало их и в других книгах Ф. Сологуба. «Это Я своею волей жизнь к сознанию вознес»; «Я – все во всем, и нет Иного»; «весь мир – одно мое убранство, мои следы»; «Я сам – творец, и сам – свое творенье, бесстрастен и один»; «Я один в безбрежном мире, Я обман личин отверг»; «и над тобою, мать-природа, мои законы Я воздвиг», и т. д. и т. д. Вы видите разницу: раньше был «закон моей игры», который, разумеется, не имел никакого общего значения – и тогда одиночество от мира оказалось страшным; теперь этот детский «закон игры» обратился в мировые законы – и поэту уже не страшно в «гордом одиночестве»:
Я – Бог таинственного мира, Весь мир в одних моих мечтах…Теперь ничто не страшно – даже мировое зло, даже людские страдания, даже бессмыслица жизни; а если и страшно, то есть простое средство раз навсегда покончить со всем этим злом: «Мир весь во мне. Но страшно, что он таков, каков он есть, – и как только его поймешь, так и увидишь, что он не должен быть, потому что он лежит в пороке и во зле. Надо обречь его на казнь – и себя вместе с ним…» С этими словами Елена (из рассказа «Красота») убивает себя, и хотя после этого мировое зло остается, каким было и раньше, но это не мешает Ф. Сологубу продолжать свое «само-утверждение» и последовательно развивать философию солипсизма.
Но если все есть Федор Сологуб и Федор Сологуб есть все, то, следовательно, и все мы – только состояния сознания Федора Сологуба? Казалось бы, что наш автор сперва дает именно такой ответ: ведь мы слышали от него – «Я один в безбрежном мире, я обман личин отверг»; и теперь в своей «книге» он повторяет – «Разделенные и многообразные лики – все они только личины Мои…» Но доходить по этому пути до крайних выводов Ф. Сологуб все же не решается. «Все есть – Я», – по-прежнему утверждает он, но, кроме того, есть и «непостижимая Тайна Моя, Тайна о том, что не-Я…». «И если есть жизнь иная… о, безликая Тайна Моя! Ты – Моя, но Ты – не Я. Тайна Моя, Ты – Отрицание Мое…» В противоположности между Я и Ты Ф. Сологуб ищет теперь объяснение всему злу, существующему в мире, всему мещанству, всей передоновщине; этой идее посвящена его статья «Человек человеку – дьявол».
Все зло мира – в случайном и кажущемся разъединении; надо преодолеть очевидность множества и уверовать в непреложность своего единства с миром; надо не рассуждать, а верить. Надо верить, что и Лука, и Клеопа, и все миллионы людей – только «личины», только безвольные автоматы и что только мое «я» истинно, неразделимо и едино. В царстве этих личин – зло, насилие, страдание; но все это только фата-моргана, козни дьявола. «В дьявольском огне земного мучительства» горят и страдают марионетки, разыгрывающие нелепый дьяволов водевиль; но я, Иван Иваныч, этого мира не принимаю, более того – я не признаю его реально существующим. Существую только Я.
Одно из двух: или последовательнейший солипсизм, или признание бытия других людей. Солипсизм, последовательно проведенный, является логически неопровержимым, как уже давно известно; но он совершенно бессилен разрешить карамазовские вопросы. Если жизнь других людей и объясняется как состояние моего сознания, то зато ведь моя жизнь, жизнь единого сознающего, остается совершенно необъяснимой и неосмысленной; если страдания людей оказываются только тенью, видимостью, так как и людей-то этих не существует, то зато ведь мои страдания, мои безвинные муки остаются неоправданными! Мы видели, однако, что такой точки зрения чистого солипсизма Ф. Сологуб не выдерживает до конца: кроме «я» у него появляется и сознающее «ты», которое делает солипсизм Ф. Сологуба уязвимым даже логически. На вершинах чистого солипсизма человека с еще большей силой охватывает ужас одиночества; и поистине, искать от одиночества спасения в солипсизме не более целесообразно, чем, укрываясь от проливного дождя, броситься в воду.
Но если не солипсизм, то – признание бытия других людей: это вторая и последняя возможность; признание бытия других, а значит, признание действительности всего того мира человеческой муки, бессмысленной жизни, бесцельной смены явлений, от которого так безрезультатно всегда убегал Ф. Сологуб и от которого тщетно пытался зачураться всякими громкими словами. Мы видели, сколько выходов из этого жизненного тупика перепробовал Ф. Сологуб – и все безрезультатно; остался один, последний выход – и его надо испробовать. Этот выход – не отвержение, а принятие мира во всей его сложности, искание цели не в будущем и трансцендентном, а в имманентном и настоящем. Вместо того, чтобы убегать от жизни, искать выхода в разных необитаемых вершинах, надо остановиться и посмотреть жизни в глаза; вместо того, чтобы обольщать себя иллюзиями и вместо Альдонсы видеть Дульцинею, надо Альдонсу обращать в Дульцинею; а кроме того – и Альдонса, по свидетельству Сервантеса, была молодой и хорошенькой. И Ф. Сологуб решается испробовать такой выход; этим объясняются те примирительные мотивы, которые мы находим в его творчестве.
Мотивы «приятия жизни», проявляющиеся у Ф. Сопогуба в творчестве последнего времени, встречались еще в самом начале этого творчества; уже давно он стремился не отринуть мир, а сказать ему «да», не измышлять Дульцинею, а взглянуть на Альдонсу. «Благословляю, жизнь моя, твои печали» – этот примирительный мотив идет в творчестве Ф. Сологуба от самых первых его произведений.
Он принимает весь мир в его целом, не отвергая ничего, он торопится принять его, пока еще есть время:
Я люблю мою темную землю, И в предчувствии вечной разлуки Не одну только радость приемлю, Но, смиренно, и тяжкие муки. Ничего не отвергну в созданьи…Всякое истинное творчество, по мнению Ф. Сологуба, должно быть сочетанием «да» и «нет», реализма и романтизма или, как их называет Ф. Сологуб, иронических и лирических моментов. «Лирика всегда говорит миру нет, лирика всегда обращена к миру желанных возможностей, а не к тому миру, который непосредственно дан»; «ирония», наоборот, всегда говорит миру да и всегда обращена лицом к миру непосредственно данного; лирика рисует нам Дульцинею, ирония описывает Альдонсу. Сочетание этих элементов является признаком всякой истинной поэзии; в виде примера Ф. Сологуб указывает на героиню своего романа «Тяжелые сны» – Нюту Ермолину, которая «приняла мир кисейный и мир пестрядинный» и стала «дульцинированной Альдонсой»… И Ф. Сологуб тоже хочет принять оба эти мира. Он продолжает говорить нет данному миру для того, «чтобы восхвалить мир, которого нет, который долженствует быть, который Я хочу»; он не отвергает Дульцинею, но в то же самое время он не отвергает и Альдонсу. Он стремится к сочетанию обоих элементов. И если в своей Нюте Ермолиной он хочет видеть, по его же выражению, «дульцинированную Альдонсу», то в одном из последних своих произведений, в трагедии «Победа смерти», он выводит на сцену «альдонсированную Дульцинею»…
Ф. Сологуб – типичный романтик, а потому нетрудно предсказать, что все его попытки примириться с Альдонсой раньше или позже обречены на неудачу; но любопытно уже то, что наш автор видит теперь невозможность остаться при одной Дульцинее, при одном мире своей фантазии, – так или иначе, но этот мир надо дополнить миром реального, приятием Альдонсы.
И с этой точки зрения «приятия мира» Ф. Сологуб находит оправдание и миру, и жизни. Мы уже видели, в чем хочет найти это оправдание Ф. Сологуб, – в «красоте», и тогда уже отметили ту долю правды, которая скрыта в таком ответе; возобновим теперь это в памяти на отдельном примере. «Люблю красоту, – страстно говорит Людмила, – …люблю цветы, духи, яркие одежды, голое тело. Говорят, есть душа. Не знаю, не видела. Да и на что она мне? Пусть умру совсем как русалка; как тучка под солнцем растаю. Я тело люблю – сильное, ловкое, голое, которое может наслаждаться…» Ошибочно, разумеется, думать, что в этом – вся правда: правда шире этого узкого самоограничения красотою; но в этом несомненно есть доля правды, заключающаяся в том, что смысла жизни надо искать не в будущем, не на земле Ойле, не в Zukunftstaat'e не через двести-триста лет, а в переживаниях каждого данного момента. Жизнь наша получает непосредственный – но не объективный, а субъективный – смысл, если мы поймем, что не одно будущее осмысливает нашу жизнь, а и настоящее, что не на небе, а на земле можем мы найти свои идеалы. И сам Ф. Сологуб готов признать это:
…небо далеко, И даже – неба нет. Пойми – и жить легко, – Ведь тут же, с нами, свет. Огнем горит эфир, И ярки наши дни…Вот та точка зрения – на развитии ее мы еще подробно остановимся, – с которой и Ф. Сологуб иногда принимает мир и осмысливает существование. Не через двести-триста лет, не в Zukunftstaat'e лежит цель человеческой жизни, цель жизни каждого человека и всего человечества, а в каждом данном моменте. Цель – в настоящем, и этим оправдывается жизнь; это сознает Нюта Ермолина («Тяжелые сны»), за которой несомненно стоит сам Ф. Сологуб, – недаром же он эту Нюту торжественно именует «Моею вечною Невестою»…
Недаром поэтому Ф. Сологуб в своей трагедии «Дар мудрых пчел» заставляет тени умерших искать смысла минувшей жизни в ней самой, а не в туманах Аида. Персефона тоскует по живой жизни, и тени умерших вспоминают об этой жизни, как имевшей ясный субъективный смысл.
Итоги
Вся жизнь в ее целом, жизнь как таковая – сплошное мещанство: вот положение, проходящее через все творчество Ф. Сологуба и сближающее его прежде всего с Чеховым, а через него и с Лермонтовым. Вся жизнь – сплошная передоновщина: вот впечатление, вынесенное Ф. Сологубом от столкновения с «дебелой бабищей жизнью»… Если это так, то праздны и тщетны все попытки найти общий смысл и жизни человека, и жизни человечества; единственным спасением из этого омута мещанства для захлебывающихся в нем отдельных людей является либо «блаженное безумие», либо избавительница смерть. Есть, впрочем, и иной выход; этот выход – одиночество, пытающееся найти себе метафизическое оправдание в солипсизме и ищущее дорогу индивидуального спасения в культе красоты. Последнее ведет, в свою очередь, к двум противоположным результатам, которые могут быть охарактеризованы нами как романтизм и реализм поэта. С одной стороны, Ф. Сологуб воздвигает причудливые миры своей фантазии, в которых он ищет смысла и спасения от бессмысленности окружающего мещанства; с другой стороны, он начинает ценить красоту не только в своем вымышленном, но и в действительном мире. Оба эти мира он совмещает: надо жить всей полнотой переживаний в данном нам мире трех измерений и надо восполнять эти переживания творчеством мира четырех измерений, полетом «за пределы предельного»… В общей полноте переживаний и заключается единственный смысл жизни, поднявшейся над уровнем передоновщины: но смысл этот исключительно субъективный, а объективного нет и быть не может. Объективного смысла человеческой жизни нет, ибо жизнь эта – «каприз пьяной Айсы»; объективного смысла истории человечества нет, ибо история эта – «анекдот, рожденный Айсою».
Так говорит нам Ф. Сологуб. Хотел ли он сказать это – для нас безразлично, но это сказалось во всем его творчестве; и в этом его связь не только с Чеховым и Лермонтовым, но и с Достоевским.
И Ф. Сологуб, и Л. Андреев, и Л. Шестов – все они вышли из Ивана Карамазова, как ни различны они по настроению, по взглядам, по значению в русской литературе. Значение Ф. Сологуба в истории русской литературы – не велико: он слишком интимный, слишком индивидуальный поэт, чтоб занять своим именем десятилетие, создать эпоху, школу. В этом отношении он родствен Л. Шестову и совершенно противоположен Л. Андрееву: и Ф. Сологуб, и Л. Шестов – писатели «для немногих», они никогда не будут пользоваться всеобщим признанием. Это не порицание и не хвала: с одной стороны, художником «для немногих» является такой глубокий и тонкий писатель, как Тютчев; а с другой – писателем «для всех» оказывается такой тонкий и проникновенный художник, как Чехов. Про Ф. Сологуба можно сказать словами Тэна об одном из французских писателей: он занимает в литературе высокое, но узкое место. Вернее, наоборот: Ф. Сологуб занимает в нашей литературе узкое, но высокое место. Его «Мелкий бес» один закрепляет за ним такое место в литературе, если даже не говорить об его стихах и о таких маленьких шедеврах, как многие мелкие рассказы Ф. Сологуба – особенно те, в которых на сцену выводятся дети (например, «В плену», «Два Готика», «Земле земное» и др.). Такое же узкое, но высокое место занимает Ф. Сологуб и своими стихами: в истории русской поэзии девяностые годы будут охарактеризованы именами К. Бальмонта и В. Брюсова, а Ф. Сологуб со своей тонкой, интимной поэзией и здесь займет обособленное место – узкое, но высокое. Это не мешает ему быть тесно связанным с отдельными великанами русской литературы – с Лермонтовым, с Чеховым и Достоевским; с первыми двумя он связан своим отношением к мещанству жизни, а с последним – своим отношением к карамазовским вопросам, которые своим ядом отравили его сердце.
Это – главное, это – существенное в творчестве Ф. Сологуба. И по сравнению с этим ничтожными и мелкими являются все черты самовосхваления, самообожания и вообще того горделивого юродства, которые мы находим не у одного Ф. Сологуба, но и у многих родственных ему современных писателей. Многих читателей приводят в негодование такие перлы, как, например, предисловие Ф. Сологуба к его трагедии «Победа смерти»: «Разве стихи его не прекрасны? – говорит в третьем лице о самом себе Ф. Сологуб в этом предисловии, – разве проза его не благоуханна? разве не обладает он чарами послушного ему слова?»… И читатель со смехом или негодованием отодвигает от себя книгу самоупивающегося автора… Но, конечно, поступать так – значит, из-за деревьев не видеть леса. Надо подняться выше подобного мелкого самовосхваления, надо обращать фокус своего внимания не на эти мелкие авторские причуды, всегда так или иначе объяснимыми нравами литературной кружковщины или условиями личной психики; надо «смотреть в корень» творчества писателя, искать общей связующей нити этого творчества. И в том же предисловии, из которого многие злорадно вырывают только что приведенную фразу, есть другая, гораздо больше заслуживающая внимания, «Всеми словами, какие находит, он говорит об одном и том же. К одному и тому же зовет он неутомимо», – говорит о себе сам Ф. Сологуб в этом же предисловии; и на эти слова надо обратить внимание, так как действительно они подчеркивают то единство творчества Ф. Сологуба, о котором мы говорили на предыдущих страницах. Нити творчества Ф. Сологуба – многочисленны, сложны и идут переплетаясь, но направление этого пути – действительно, едино. «Безумие», «одиночество», «любовь», «красота», «смерть» – как бы ни отвечал Ф. Сологуб на стоящие перед нашим сознанием карамазовские вопросы, но несомненно во всяком случае, что «всеми словами, какие находит, Ф. Сологуб говорит об одном и том же…». Он говорит о смысле жизни, о цели жизни, об оправдании жизни…
Приложения
Камень, брошенный в воду (Семья Воронцовых)*
Драматические сцены в четырех действиях
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Анна Павловна Воронцова – 70 лет, бодрая старуха, вдова-генеральша, живет безвыездно в родовом имении на Волге.
Гавриил Алексеевич – ее сын, 49 лет, бывший профессор.
Мария Александровна (Мэри) – его жена, 29 лет.
Кирилл – брат Гавриила, 25 лет, холостой, живет в имении, хозяйничает, служит по земским выборам.
Римма Николаевна Критская – 31 год, школьная подруга Мэри.
Михаил Сергеевич Левченко – 28 лет, горный инженер, гражданский муж Критской.
Аглая Семеновна – переписчица, работающая у Воронцова, – бесцветная девица, 28 лет.
Сергей Петрович Куликов – приятель Кирилла, местный врач, 45 лет.
Глаша – горничная Мэри, 22 года.
Садовник Павел – в усадьбе Воронцовых, 25 лет.
Михаил – его брат, 35 лет.
Деревенская баба, девчонки.
Действие происходит летом 1914 года в усадьбе Воронцовых на Волге, в одной из верхневолжских губерний.
Действие первое
Открытая терраса с видом на Волгу; ступеньки в сад от террасы. У края цветника на площадке белый садовый диван. Куртины цветущих пионов. Вдали березовая аллея. Солнечное утро в конце мая.
Явление первое
На террасе Анна Павловна и Гавриил, пьют кофе. У Гавриила мягкое, интеллигентное выражение лица: большой лысый лоб, утомленные глаза; золотое пенсне, рыжеватая бородка клином. Он рассеян, часто кладет руки в карманы, точно что-то ищет.
Анна Павловна. Уж так я рада, так рада, что и слов нет… И как это вы надумали – в деревне пожить… А я уж не чаяла, – век, думала, будете по заграницам да по Павловскам мотаться.
Гавриил. Доктора Мэри прямо сказали, что для нее город – отрава. Даже и зиму велели в деревне жить. Да только уж не знаю, – соскучится, пожалуй. Вот разве цветами займется, – она все мечтала розы разводить.
Анна Павловна. Слава Богу, цветов у нас хоть отбавляй. Живем, можно сказать, среди роз… А вот скажи мне, Гаврюша, отчего твоя Мэри чудная такая: все что-то думает, плачет, – тоскует, что ли? Да о чем?
Гавриил. Это после болезни… Впрочем, у нее вообще нервы неважные. Все ее чрезвычайно волнует, огорчает. Грубость всякая человеческая.
Анна Павловна. Да чего же ей не хватает? (Пауза.) Ты меня прости, Гаврюша, а только женщине без детей в ее летах ух… как скучно должно быть. Какая же это жизнь – без детей. Да отчего это нынче дети не рождаются? Не хотят их, что ли? Сколько ты уже лет женат, Гаврюша?
Гавриил (не поднимая глаз). Пять.
Анна Павловна. Вон, поди ж ты, пять лет… (Задумывается.) Нет, Гаврюша, прости меня, а все то как будто не так. Не знаю уж, – я ли ничего не понимаю, или уж свет кругом пошел, – только мы лучше вас жили, проще как-то и веселее. Выезжали, танцевали, веселились; замуж выходили рано, жили на просторе, в усадьбах, дети рождались здоровые, сами хозяйством занимались. И всего было много, всего хватало, и жили весело и привольно. Никаких этих мечтаний, тоскований и в помине не было. Чтобы замуж выходить под тридцать лет, как теперь, или без детей с мужьями жить, – что-то об этом мы и не слыхивали.
Гавриил. Ну, не только же веселились. И крепостное право было. Картины довольно мрачные. И до смерти засекали.
Анна Павловна. Мало ли что… Я не говорю… Вон сосед наш, Пошуканин, медведя держал у себя в подвале и со всей деревней породнился. А только все от человека зависит. У нас, когда воля пришла, так наши дворовые ревмя ревели. Никто их не сек, и отец твой комара в жизни не задавил. Жили себе, как у Христа за пазухой. И вообще как-то люди другие были. Доброты, тепла, души будто больше было. А нынче и зла, может быть, меньше, да и добро куда-то спряталось.
Гавриил (качая головой). Нет, и зла не меньше.
Анна Павловна. Или уж это всегда так в старости: все кажется, будто лучше было в твое время, а может быть, просто сам лучше был, моложе, здоровее. Гаврюша, помяни мое слово, – и твой черед придет, – все будешь прошлое добром поминать, как бы худо не было.
Гавриил. Нет, мама, ты знаешь, – я весь в мыслях о будущем, мне прошлого не жаль, Бог с ним. Придет иное поколение, построит жизнь лучше нашей.
Анна Павловна. И хлеба больше родилось, и лен лучше был, – посмотри, какие у меня еще сейчас сорочки, полотенца от приданого, – хоть куда… А какие яблоки, какие ягоды родились… Крыжовник у нас был – смотреть приезжали. Малина белая… А нынче – все с чего-то сохнет, мошкара ест, леса рубят, – ветры, ураганы пошли, мнут все, ломают. Или уж, может быть, земля-матушка отказывается, истощилась, что ли, ума не приложу, только все что-то не то… А что я тебя спрошу, Гаврюша, как же ты с лекциями, – читать нынче не будешь?
Гавриил (отрывисто, мрачно). Нет, не буду. Я совсем ушел.
Анна Павловна. Да как же так, Гаврюша? Ведь ты так любил свой университет!
Гавриил. Что делать, мама, – так надо было поступить. (Задумчиво.) А сказать по правде, какая-то пустота в жизни образовалась. Ведь вся жизнь – гимназия, студенчество, кафедра, – вся жизнь для науки. Как-то и не представлял себе жизни иначе: научные исследования, лекции, общение со студентами…
Анна Павловна. Так зачем же ты, Гаврюша?
Гавриил. Один из моих товарищей, профессор Глиницкий, говорил мне не без укора: «Вам хорошо, – у вас имение, а вот у меня на руках шестерка детей, да капитала всего у жены на сберегательной книжке триста пятьдесят рублей». Но, мама, и он тоже ушел вместе с нами, вся наша группа вместе.
Анна Павловна. Да как же, Гаврюша? Шестеро детей, и ни копейки денег… Да ты бы их хоть к нам на лето пригласил…
Гавриил (улыбаясь). Ты – добрая, мама. Но, видишь ли, у нас в России все-таки есть спрос на ученых людей. Дети профессора Глинского не останутся без образования.
Анна Павловна. Ну, а ты-то, Гаврюша, что будешь?
Гавриил. Мой друг, профессор Эдуард Райт, пишет мне: «Ваша и без того бедная научными силами высшая школа опять понесла чувствительную потерю». Ну, и еще много теплых слов по моему адресу… К себе в Оксфорд приглашает, но я решил – никуда из России. Да, у меня есть начатая работа, давно задуманная, очень интересная, – на остаток жизни хватит.
Анна Павловна. Что ты себя старишь, Гаврюша…
Гавриил (с рассеянным видом поднимается, идет к саду. На верхней ступеньке вдруг останавливается, словно что-то вспомнил, и возвращается к столу). А вот что, мамочка, я вас попрошу: сегодня Мэри ждет к себе подругу свою любимую из Москвы… Она такая… немножко взбалмошная, – так уж вы, пожалуйста, будьте с ней милою, как вы умеете.
Анна Павловна. Да уж не учи, сами знаем. Кто ж это такая? Замужняя?
Гавриил. Да, была. Она уже замужем второй раз… Критская… Левченко…
Анна Павловна. Две фамилии сразу носит? И ты, мой батюшка, с ними заврался. Ну, да уж ладно, пойду комнату готовить. В диванную, что ли, положить? С мужем она?
Гавриил. Да, муж, кажется, после приедет. Мамочка, Мэри ее ужасно любит… И она на нее хорошо действует, – сразу веселеет… Да и она ничего, – славная, только взбалмошная немножко… Мэри с ней скучать не станет… А это главное…
Анна Павловна. А когда они приедут?
Гавриил. С дневным поездом.
Анна Павловна. Гаврюша, да что ж ты мне раньше не сказал? Ведь надо…
Гавриил. Только утром письмо пришло…
Анна Павловна, звеня ключами, поспешно уходит.
Гавриил (улыбаясь). Хлопотунья ты, мама…
Из-за сцены доносится громкий, хозяйственный голос Кирилла.
Кирилл. Знаю я вас… За вами только недосмотри… Чтобы к вечеру было готово.
Слышен чей-то не то угодливый, не то насмешливый голос: «Да уж не извольте беспокоиться, барин».
Явление второе
Гавриил и Кирилл.
Кирилл – рослый, румяный брюнет, красивый, загорелый. Одет по-русски, в поддевку и высокие сапоги. Темно-русые, блестящие волосы на прямой пробор над высоким лбом.
Кирилл (шутливо). Ну, что, Гавриил, бацилл размышления культивируешь? Что, как у нас, на вольном воздухе, поди, не нравится? Стоят деревья, ни одно не занумеровано?
Гавриил. Ты все шутишь, а мне здесь, право, нравится. Кажется, так хорошо, что мы сюда приехали. Мэри спит лучше, и вид гораздо лучше, и нервы. Все ее здесь радует – все нравится. А мне здесь удобно будет работать.
Кирилл. Работай, работай, корпи себе помаленьку. А меня эти лодыри так изводят, – иного так бы и разорвал пополам. Весь день верчусь, как в колесе. (Уходит.)
Явление третье
Гавриил и Мэри.
Мэри – стройная женщина, темноволосая, слегка смуглая; благодаря худощавости и девической манере одеваться кажется моложе своих лет. Очень женственная: легкая походка, легкие движения, быстрый взгляд. На ней недлинное полотняное платье с голубым матросским воротником; в руках вязка полевых цветов. Подходит к Гавриилу, кладет ему руку на плечо.
Мэри. А я на деревню ходила и в поле была, – как чудесно… Как жаль, что ты гулять не ходил… Цветов, цветов, – я никогда столько и не видала. Целый ворох колокольчиков и ромашек отнесла тебе в кабинет…
Гавриил (рассеянно). Спасибо… Только куда ты их поставила? Там у меня на столе все рукописи.
Мэри. Не беспокойся, все на месте. Я осторожно подвинула их.
Гавриил. Ну вот, я так и знал. Подвинула, – потом ищи. А по-моему, цветы гораздо лучше в поле.
Мэри (вспыхнув). Да? Я и забыла, что ты их не любишь. Я сама люблю. Прости. Я велю вынести.
Гавриил (спохватись). Нет, нет, зачем же… Я очень рад. (Целует ей руку.)
Мэри (задумчиво). Все, что мне нравится, – тебе – нет. Как странно…
Гавриил. Совсем не все. К цветам я просто равнодушен. Я занят другим, ты знаешь.
Мэри. Да, но одно другому не мешает. Впрочем… Который час?
Гавриил. Половина второго.
Мэри. Послали лошадей за Риммой? Ведь поезд в два часа приходит…
Гавриил. Наверное, – я, кажется, говорил. Впрочем, спроси. (Звонит.)
Явление четвертое
Те же и Глаша.
Мэри. Послали лошадей на станцию?
Глаша. Не могу знать. Здесь Павел за кучера. А он сейчас розы в грунт высаживает.
Мэри. Неужели забыли? (Гавриилу.) Ведь я просила тебя, уходя… Боже мой, да как же это… (Горничной.) Скорее беги, скажи Павлу… Да, впрочем, уже поздно. Пока залежатся… Какая досада…
Глаша уходит.
Явление пятое
Гавриил и Мэри.
Гавриил. Я маме сказал про комнату, а про лошадей, должно быть, забыл. Ну, прости меня, Мэричка.
Мэри (нервно ходит по террасе), Риммочка, конечно, не догадается у начальника станции лошадей спросить. Какая досада.
Гавриил (примирительно). Ну, твоя Риммочка догадается. Какого-нибудь мальчика пошлет…
Мэри (про себя). И я опять вспылила, – так не красиво… Никогда не надо поддаваться… (Подходя к Гавриилу, целует его.) Прости…
Явление шестое
Те же и Аглая Семеновна.
Аглая Семеновна. Гавриил Алексеевич, вы сегодня будете диктовать?
Гавриил. Ах, простите, я и забыл о работе. Как же, как же, сейчас. (Спешно встает, целуя Мэри.) Мэричка, прости… Мне совершенно необходимо сегодня закончить главу, – меня очень интересует моя тема. (В дверях оборачивается.) Мэри, почему ты пением не занимаешься?
Мэри (коротко). У меня после болезни еще голос не восстановился.
Гавриил (в дверях). Может быть, этот рояль плох? Другой выписать?
Мэри. Нет, здешний рояль вполне приличен.
Мэри одна. Нервно ходит по террасе, часто подходит к ступенькам, смотрит вдаль.
Явление седьмое
Мэри и Анна Павловна.
Анна Павловна (входя). Ну вот, все готово, пусть едут… Мэри, когда поезд придет?
Мэри. Уже пришел, а лошадей не послали. Гавриил забыл сказать… (Улыбаясь.) Придется бедной Риммочке пешком с багажом тащиться.
Анна Павловна (добродушно). Ах ты, грех какой… Гаврюше-то не след было передавать, он ведь всегда мечтает, витает где-то… Он никогда хозяйством не интересовался. Я диву далась, когда он сам себе первый раз шляпу купил. Он и людей-то видит точно сквозь стекла разноцветные, – никогда ни к кому не подойдет сам, не подольстится. Что уж на него рассчитывать… Самой надо было распорядиться. Хозяйка ведь ты теперь…
Мэри. Ну, какая я хозяйка… Да я думала, сама вернусь, а ушла в поле, к реке, да там и увлеклась цветами… Какая уж я хозяйка… Но какие здесь луга дивные…
Анна Павловна (с гордостью). Заливные луга, волжские.
Мэри. Ах, как здесь чудесно, как хорошо. (Подходя к Анне Павловне.) Мама, я у вас здесь и на зиму останусь, – не прогоните?
Анна Павловна (ласково). Что ты, деточка, прогоним… Ведь это теперь все ваше – Гаврюшино да Кирюшино, – а я здесь у вас на хлебах жить стану. (Целуя Мэри.) Живите, Христос с вами, – здесь ведь у нас хорошо, правда? Гаврюша говорит, ты цветы любишь, вот розы высадим, зацветут…
Мэри. Цветы люблю безумно, у меня и зимой их всегда много, – гиацинты, тюльпаны, ландыши. Странное чувство, когда они в комнате, я точно не одна, точно кто-то живой здесь со мною. А то другой рал так скучно по вечерам одной. Я ведь все больше одна – пою, мечтаю… Иной раз такая тоска возьмет…
Анна Павловна (тихо и нежно). Деточек тебе надо бы, Мэричка.
Мэри (ласкаясь к Анне Павловне). Устрой мне тепличку, мама, вот у меня и будут деточки – розы, орхидеи… (Задумчиво.) А знаешь, я как-то не очень жалею, что у меня нет детей. Дети какие-то теперь все больше неприятные, резкие. Меня бы это огорчало. У наших всех знакомых… Я бы совсем иначе детей воспитывала… Что это?
Слышен звон бубенчиков. Мэри бежит со ступенек за клумбы, во двор. Анна Павловна тоже уходит.
Явление восьмое
Мэри, Критская и Левченко.
Критская – красивая, элегантная женщина, слегка подпудренная, с крашеными, темно-золотыми волосами, смеющимися карими глазами и яркими губами, экспансивная, кокетливая, но без всякой вульгарности. У нее приятный, звонкий голос. Носит яркие, смелые платья, много колец, украшений, браслеты.
Левченко – кудрявый блондин, отлично сложенный, высокий. Одеты по-дорожному; Критская несколько кричаще. Шум, поцелуи, приветствия.
Критская. Вот, позволь тебе представить, Мэричка, моего Мишука – Мишеньку… Или Левушку, – я его Левушкой зову – по фамилии. Он у меня славный – не кусается… С тобой познакомиться – спит и видит.
Мэри (протягивает руку). Я очень рада. Не угодно ли вам, господа, с дороги умыться? Ведь пыль ужасная.
Критская. Я была в таком восторге, что к тебе аду, Мэричка, что ничего не заметила… Дусенька… Дай на тебя поглядеть, какая ты стала… Ведь два года не виделись. (Берет лицо Мэри в руки.) Такой же цыганенок… (Целуются.)
Мэри. Да на каких же лошадях вы приехали? У нас такая глупость вышла…
Критская. Это уж его спросите (указывая на Левченко). Он всегда все достанет, узнает, из-под земли вызвать может… Он у меня за Марфу…
Мэри. А ты за Марию? (Смеется.)
Критская. Ну, уж Марией – это тебя нарекли от рождения. (Указывает на Левченко.) А ведь этот сэр экспромтом удрал, за неделю до отпуска…
Левченко (оправдываясь). Так опостылел город… Я ног под собой не чувствую от радости…
Явление девятое
Те же, Анна Павловна и Кирилл, здороваются.
Анна Павловна (входя). Очень, очень рада, что вы приехали. Мэри вас ждала, так много о вас говорила.
Римма. Мы с Мэричкой – давно друзья. А вот мой Мишук.
Анна Павловна. Милости просим. Очень рада. Гости дорогие, пожалуйте с дороги закусить. (Кириллу.) А ты, Кирюша, гостя спросил бы, не желает ли к себе пройти.
Кирилл (Левченко). Пойдемте, я вас провожу…
Уходят с Левченко.
Явление десятое
Мэри и Римма одни.
Римма (бросаясь на шею Мэри). Мэричка, Мэричка, что я тебе расскажу, что расскажу… На целую неделю хватит… Чего со мной за этот год не было…
Мэри. Ну, уж я думаю… А когда ж ты (указывая на волосы) успела шкурку переменить?
Римма (небрежно). Долго ли… Ведь так лучше, правда? Левке так нравится, а я теперь для него все.
Мэри. Любишь?
Римма. Безумно. То есть, понимаешь, по уши втюрилась. Это я-то, с моим характером! Не чудеса ли делаются? Но, если ты только его узнаешь, его нельзя не полюбить.
Мэри (обнимает ее; ходят по террасе вдвоем, обнявшись). Как я рада, Риммочка… Мне тоже тебе надо много, много рассказать. Здесь чудесно, и мне лучше гораздо. Я с крестьянами познакомилась, – лечу их… Видишь, как здесь красиво… (Жест в сторону сада.) И цветов много, моих любимых. (Срывает и прикалывает ей к поясу пион.) А только все же порою тоска: все я одна – с моими думами и мечтами… Гавриил всегда в кабинете. Мама хоть и славная… Хочу пением серьезно заняться…
Уходят в сад, обнявшись.
Явление одиннадцатое
Анна Павловна (входя). Да где же они? Готово, исчезли. (Кричит в сад.) Мэри, Римма Николаевна, – обед подан… У нас по-деревенски, рано… (Уходит.)
Явление двенадцатое
Левченко и Гавриил выходят на террасу. Левченко переоделся в светлый летний костюм.
Гавриил. Ну, как вам наше захолустье нравится?
Левченко. Очаровательно… Признаться, я так люблю Волгу – ведь я и сам в этих местах вырос, – что когда вырвусь сюда, прихожу прямо в экстаз. Эта спокойная, величавая река, эти милые березки, эти церкви, эти поля, эта скромность и прелесть чисто русского ландшафта, благодать…
Разговаривая, идут под руку навстречу Римме и Мэри, идущим обнявшись по аллее.
Явление тринадцатое
Те же, Мэри и Римма.
Мэри (Римме). После обеда, Риммочка, заберемся в липовую беседку, и там – до вечера, вдвоем. Хорошо, родная?
Римма (оглядываясь на аллею). Как здесь живописно… О, мы здесь поживем… На лодке, в лес, пикники, в теннис… (Мэри.) У вас и площадка, кажется, есть? (Гавриилу.) Вашу руку, сэр!
Гавриил дает руку Римме, Левченко – почтительно Мэри. Все уходят через террасу в дом.
Занавес.
Действие второе
«Диванная» комната в доме Воронцовых. По трем стенам – широкие пестрые ситцевые диваны покоем. Перед средним диваном – овальный стол, на нем целый сноп полевых цветов. Над столом высоко – квадратное окно с пестрой ситцевой драпировкой в тон обивки. Возле двери, в углу – старинный ореховый шкапчик с зеркалом. Над боковым диваном – полка с книгами. Между первым и вторым действиями прошло три дня.
Явление первое
Мэри и Римма, в домашних светлых платьях, несколько детского покроя, с широкими цветными кушаками-шарфами (у Риммы поярче), полулежат на диванах. Серенький денек; дождит.
Мэри. Я по твоим письмам совсем другим представляла себе Михаила Сергеевича… Каким-то увальнем, медведем.
Римма. Да? Ну, ведь ты знаешь, что такое мои письма… Я и вообще-то в правописании слаба… (Смеется.) Жду не дождусь, когда букву «Ъ» упразднят? А тут столько событий зараз. Ведь Левка меня от супруга буквально выкрал…
Мэри (с любопытством). Ну? Как?
Римма. Да так, очень просто. Я под Новый год в театр поехала, да оттуда с ним на поезде, прямо на Урал. Ищи там, в сугробах… А супруг меня добродетельно дома с шампанским дожидался. (Смеется.)
Мэри. А тебе не было жаль… так… порвать отношения с мужем?..
Римма. Ну, какие там отношения… Одна шелуха оставалась…
Мэри. Да как же ты с Михаилом Сергеевичем познакомилась?
Римма (лаконично). В поезде.
Мэри (удивленно). Как в поезде?
Римма. Возвращалась из Ялты осенью домой, одна. В вагоне – мамаша с детками, два гимназиста и какая-то руина с красными лампасами… Тоска адская… Вдруг, в Лозовой, садится этот самый сэр, элегантный, предупредительный. Сразу разговорились, потом обедали вместе в салоне… Ну, и так…
Мэри. Ну, а потом?
Римма. Он мне свой адрес записал на конфектной коробке и телефон, а я домой приехала, тут супруг, «дела домашние», – коробку Саша, конечно, выбросила, и потеряла я сеньора Левченко из виду… Потом, уж в октябре, встречаю в балете. Обрадовалась ему страшно, проводил он меня домой… Потом уж пошли встречи, то в театре, то в кафе, то у общих знакомых, то на выставках… И знаешь, чем он меня больше всего пленил? Всегда он какой-то праздничный, бодрый, смелый, «на все готов», как говорят английские бойскоуты. С ним никогда не видишь будней жизни, никогда не распускаешься. А работать умеет… Все ночи за проектами просиживает… Ведь это у него за два года первый настоящий отпуск…
Мэри (задумчиво). Как странно, в поезде… Обычно такие нахалы…
Римма. Все это, деточка, старье, предрассудки, – я уж давно с ними не считаюсь. Я ведь уж пожила на свете, – так знаешь, к чему пришла?
Мэри. Ну?
Римма (говорит оживленно, с жестами). Собственно, это я от Левушки, – это он мне внушил. Ну, видишь ты, – жизнь, ее явления, движения всякие представляются мне в виде концентрических кругов в воде… Кто-то, неведомый, бросает по временам в спокойную глубину воды – сферу одновременно и движения, и застоя – камень, побольше, поменьше, – вода взбаламучивается, набегают круги, разбегаются, шире, дальше, – на воде необычное смятение, движение, оживление. Потом успокоится, – снова тишь да гладь, – мертвечина, плесень, обычное… И вот эти моменты – заметь, это всегда только моменты в сравнении с длительностью застоя, – и надо ценить выше всего на свете. В них радость, блеск, жизнь, – вся яркость и неизбывность всплеска, метаморфозы, окрашивающие целые столетия и эпохи отблеском своего пламени, искрами своих лучей… Так и в нашей личной, частной, маленькой жизни. Но тогда уже не надо считаться ни с какими предрассудками, надо отрешиться от всего старого, привычного, рутинного, ничего не жалеть, забыть обо всех сантиментах и носовых платках, быть, если хочешь, жестокой, упорной в достижении цели…
Мэри. О, как все это не для меня. (Задумчиво.) Ты знаешь, Римма, я часто о себе думаю – должно быть, я по ошибке теперь на свет родилась… В разговорах, вкусах, отношениях с людьми, – все кажутся Мне такими неимоверно чужими, такими неимоверно Грубыми. Гавриил надо мною часто трунит – говорит, что когда я выхожу, мне надо лицо завешивать непроницаемой вуалью от человеческой грубости…
Римма. Ну, ты всегда была недотрогой, мечтательницей. Помнишь, как тебя еще гимназисты прозвали Мимозой… (Потягиваясь). Милая Мэричка, ты все еще та же детка, какой была в гимназии. Ты меня извини, – но что это у тебя за отношения с мужем? Какое-то миндальное молоко… (Твердо.) Мужчина должен быть или любовником, или товарищем, или господином, или рабом, а это что? Он тебе отец родной, что ли?
Мэри (вспыхнув). Я Гавриила очень уважаю и люблю. Он – замечательный человек, умный, чуткий, нежный… Если бы ты знала, сколько он перенес, сколько выстрадал… Видишь, мне очень трудно объяснить тебе наши отношения… Даже слова трудно подыскать… нужны какие-то полутона… как в музыке… Мы и ссоримся часто, разно на многое смотрим, а все же… он мне – какой-то родной и единственный… (Горячо.) Никогда, никогда я бы не могла его оставить и никого другого…
Римма (мягко). Детка дорогая, это все очень хорошо, но как-то нежизненно, отвлеченно, книжно… Где вы живете – на облаках, что ли? В отношениях людей надо больше ясности, определенности, – ну, говоря грубо, больше материальности, больше плоти…
Мэри (затыкая уши). Не говори мне этих слов. Я не хочу, чтобы моя умница, Риммочка, говорила пошлости, какие позволительно только дамскому доктору…
Римма (вставая, ходит по комнате). Нет, Мэри, я и сама не выношу пошлости, но в твоих отношениях к жизни меня всегда поражала какая-то странная оторванность, утопичность, самообман, самогипноз какой-то. И это всегда твое пренебрежение к плоти, к телу, к тому, на чем, в конце концов, зиждутся наши бедные земные радости. Я расскажу тебе случай, который тебя повергнет в ужас, – оговорюсь заранее. Раз зимою, когда у меня особенно обострились отношения с супругом и все на свете осточертело, поехала я одна в оперу. Рядом со мною в кресле – изящный сэр, монокль, смокинг, – англичанин, как потом оказалось. Одет шикарно, и физиономия такая – презабавная… Сразу мне в душу вонзился… Сидим плечом к плечу, – мечтательный полумрак, там арию Надира какой-то тенор сладкогласный выводит, оркестр замирает, а он – на меня уставился в упор и весь акт и не взглянул на сцену. В антракте, возвращаюсь я на свое кресло, – под муфтой – его карточка визитная, и определенно: где, когда и прочее… Ты возмутишься, назовешь это скандалом, каботиниством, – могло бы быть и так. Но представь себе, что на другой день я встретила его за файв-о-клоком в «Паласе», и мы провели с ним неделю… Это была сплошная музыка, – какая-то благоуханная поэма, сотканная из преклонения, нежности, благодарности. (Убежденно.) Никто, никогда из всех моих светских поклонников, художников, артистов, с которыми мы бессмысленно болтаем целые вечера в гостиных, – не смог бы мне дать того, что этот безвестный чужестранец, какой-то заезжий коммерсант…
Мэри (делая движение). Римма…
Римма (взволнованно, останавливаясь на ходу). Разве можно передать это словами? Надо почувствовать настроение этого вечера, тогда, когда, в полумраке, под эту музыку, мы, совсем не зная друг друга, увидясь, быть может, в первый и последний раз в жизни, с каким-то инстинктивным доверием двух жаждущих тел…
Мэри. Римма… Ради Бога…
Римма (опускаясь на диван, устало). Простите, госпожа Мимоза… Нет, Мэри, тебе этого не понять. Ты, которая никогда не изменяла… Но я, любя тебя так, как только можно любить друга, от души желаю тебе, ценою твоего спокойствия, ценою благополучия всех твоих близких, какой-то встряски, передряги, которая заставит тебя проснуться, раскрыть глаза, ощутить радость мгновения во всей ее полноте. (Шутливо напевает.)
Дитя, торопись, торопися… Помни, что летом фиалок уж нет.Мэри. Нет, Римма, я бы так не могла. Мне всегда чудилось какое-то страшное несоответствие между близостью физической и духовной. Какое-то огромное оскорбление, какая-то невероятная грубость в близости ко мне, в сущности, совершенно чужого человека. Я много об этом думала и верю, что когда-нибудь все это переменится, – как, не знаю, но только будет все иначе – красивее, цельнее, углубленнее. Люди поймут, что в основе физического влечения заложена какая-то огромная тайна, освящающая человеческие отношения. Почему этот – именно этот человек, а не другой, – эти губы, эти глаза, а не другие… Вот Гавриил увлечен сейчас своей теорией перевоспитания человечества. Он думает, что все огромное зло нашей жизни проистекает из того, что нас в корне ложно воспитывают, что мы все – мелкие эгоисты, боимся лишений, бежим от страданий, тогда как радость и страдание – родные сестры и не должны чуждаться друг друга. (Вдохновенно.) Преодолеть все тяжелое, победить все темное, принять без ропота и без боязни крест жизни, – и вознести надо всем Бога своей души, – вот в чем задача будущего, истинного человечества. А мы – только мост к этому будущему и должны терпеть, страдать и расчищать путь иному, светлому…
Римма. Браво, браво, Мэричка… Тебе бы прямо лекции читать в университете Шинявского… Однако (смотрит в окно), что же это, дождь на весь день зарядил… (Зевает.) Какая тоска.
Мэри (обнимая ее). А я так рада дождю, – хоть удилось вдвоем побыть… а то целых три дня…
Римма. Как этот романс, который ты пела вчера?
Мэри. «Среди роз» Грига. (Напевает.)
В гробу неподвижно младенец лежал, И мать повторяла, рыдая над ним: «Мой сын – среди роз, среди ро-оз»…Этот и Шопена «Грусть» – мои любимые. (Поет.)
Жаль мне себя, – своих погибших грез…Римма. Уж очень меланхолично, печально… Ты, Мэри, в твоем Питере совсем декаденткой сделалась… (Идет к двери.) Куда же наши кавалеры делись? Левушка… Ау…
Мэри (задумчиво). Печаль – хорошо, печаль – Красиво… (В дверь легкий стук.) Войдите…
Явление второе
Те же и садовник Павел.
Павел (топчется мокрыми сапогами у двери). Так что, барин, Михаил Сергеевич, виноград изволили в лесу накопать для барыниного балкону… Когда сажать прикажете?
Мэри (вспыхнув). Какой виноград? Куда?
Павел. Так что, они сегодня с шести часов в лесу, накопали целую охапку. Оно бы в дождь сажать способнее, да я созвал баб на клубнику…
Римма (вскакивая). Узнаю Левку… Ты, Мэри, вчера в лесу восхищалась этими лианами дикого винограда, вот тебе и результаты…
Мэри (растерянно). Неужели… Ведь я только сказала, что хотела бы у моего балкона…
Павел (мнет фуражку). Так что, дозвольте до послеобеда посадку…
Мэри. Конечно, конечно, голубчик… Когда вам удобнее…
Павел. Покорнейше благодарим. (Уходит, осторожно ступая.)
За дверью крик Кирилла.
– Сколько раз тебе, болван, говорено, – с мокрыми сапогами не лезть.
Явление третье
Мэри, Римма, Гавриил, Кирилл, Левченко.
Кирилл (радостно Римме) А мы вас с Гаврюшей добрых четверть часа ищем… Я уж и в беседку бегал. Лодка готова…
Левченко (целует руку Мэри). С добрым утром, Мария Александровна.
Гавриил. Как, разве вы еще не виделись?
Римма. Тсс… Левушка сегодня захотел быть рыцарем, заслужить шарф Прекрасной Дамы… (Левченко.) Сэр, – ваша головная боль?
Левченко (слегка смущенный). Прошла безвозвратно. Рекомендую всем единственно верный способ избавиться от мигрени, неврастении и прочего, – вставать ежедневно в шесть утра и работать в лесу…
Мэри. Да, наша городская жизнь…
Гавриил (с любопытством). А, вы сегодня работали?
Римма (слегка насмешливо). О, и как продуктивно… Сейчас Павел приходил жаловаться, что инженер Левченко успел за одно утро свезти весь лес в имение…
Гавриил. Ничего не понимаю…
Римма. Наши планы на сегодня, кажется, разрушены коварным неприятелем – дождем. Что ж, господа, давайте хоть чай пить, с горя…
Мэри. Я велю сюда подать. Здесь как-то интимнее… Да, Римма?
Римма. Восхитительно…
Мэри. Да что-то Глаша не торопится. Кирюша, распорядись…
Кирилл уходит.
Явление четвертое
Те же без Кирилла и Глаша.
Глаша вносит чай на подносе, расставляет на столе, где стоит букет, и в конце явления уходит. Все теснятся вокруг стола, тихо переговариваясь.
Мэри (во время суеты тихо Левченко). Я очень тронута…
Левченко (тихо, целуя ее руку). Я так счастлив, что мог…
За дверью голоса Кирилла и Анны Павловны.
Кирилл (за дверью). Мама, право, ты балуешь этих обормотов…
Анна Павловна. Ах, Кирюша, как же…
Явление пятое
Те же, без Глаши, Кирилл и Анна Павловна.
Анна Павловна. Что это вы, милые, словно цыплята в клетушку запрятались? Что ж, у нас столовой нет, что ли?
Мэри. Это я затеяла… Здесь уютнее…
Левченко (за нею). Интимнее.
Гавриил (Кириллу). Ну, что опять вышло?
Кирилл. Да, вот, мама мне все хозяйство портит. Кончали бабы в 8, а теперь она их в 7 отпускать распорядилась. Начинаем в 6 и кончаем в 7… Неслыханно… Так – ни у кого… Прямо разврат…
Анна Павловна (оправдываясь). Бабы просятся – говорят, ребят прибрать некогда…
Римма (кокетливо Кириллу). А вы – строгий хозяин? Перун-громовержец?
Кирилл. В хозяйстве нужна система, дисциплина, – иначе это просто дилетантство… (Громко.) Я в деревне вырос и мужиков как свои пять пальцев знаю. Им пальца в рот не клади – откусят.
Все смеются.
Анна Павловна (тихонько Римме). А сам мужику – последнее зерно готов ссыпать…
Гавриил (Левченко). Все дело в перевоспитании, как я уже вам говорил.
Левченко. Дорогой Гавриил Алексеевич, я с вами не совсем согласен. Вы находите, что нежизнеспособность нашей интеллигенции зависит от ее неустойчивости, неуменья и нежеланья преодолевать Известные моральные и физические лишения. Но я опрошу вас, – разве народ наш не страдал, не преодолевал, бесконечно, безысходно, веками, муки горше крестных? И каковы результаты?
Гавриил. Вы сказали… безысходно – c'est le mot. Именно – безысходно, безропотно, изумляя своим многовековым терпением народы и нации… Но не то требуется, поймите… Надо именно исход – не безысходность. Я смотрю гораздо шире. Глубоко убежден, что путь к совершенству, к идеалу, – если он только осуществим, – лежит через страдания, через Голгофу… Ничто так не очищает, не возвышает душу человеческую… Поэтому мне глубоко ненавистна вся эта квазиевропейская, мещанская «культура» берлинского жанра, все эти автобусы, автомоторы, машинки, подставки, имеющие целью избавить человека от всякого еле ощутимого неудобства и превратить его в автомат, нажимающий кнопки, – одну для рта, другую для ног, третью для рук… (Ходит по комнате, заложив руки в карманы.) В этом я вижу великую грядущую особенность России, что она найдет другой путь к свободе духа – никогда не создаст себе фетишей из вещей и быта. Дело не в том, – прожить ли жизнь с большим или меньшим комфортом, в рабстве у «вещей» – идеал всей мещанской Европы, а в том, чтобы прожить достойно, выявляя в каждом жизненном конфликте, общественном, личном, семейном, наивысшую степень человеческой духовности. Технический прогресс – вот идеал, вот все устремление мещанства… Материализм забил, чрезмерно упредил духовность – вот в чем трагедия современности. (Левченко внимательно слушает. Мэри и Римма шепчутся на диване.) Люди не хотят понять, что в силу неизбывных противоречий жизни, из коих первое – смерть, цель человечества не должна заключаться в достижении счастья. И что знаем мы вообще о счастье? Ведь то, что считалось радостью вчера, – потускнело сегодня, и счастье для меня – может быть несчастьем для Павла, Ивана и прочих… Нет никакого счастья, общего для всех. Мы можем только стремиться к достойному отношению к жизни и смерти – вот на что следует устремить внимание человечества… Нужны великие потрясения – война, революция, мировое землетрясение, – какая-нибудь колоссальная катастрофа, кровопролитие, несчетные жертвы, чтобы человечество спохватилось и поняло наконец, что оно на ложном пути. Мы, гуманисты, знаем, в каком мы живем зле, знаем, что лежит в основе всякого переворота, – страстная жажда очищения, великая тоска по идеалу.
Анна Павловна (вздыхая). Верно ты все говоришь, Гаврюша…
Левченко. Ненавистное вам мещанство – тоже ведь палка о двух концах… Все это, пожалуй, гораздо сложнее и запутаннее, чем нам кажется. Ведь это бюргерство покрыло Западную Европу сетью железных дорог, ввело всеобщую грамотность, рациональное сельское хозяйство, поняв, что элементарная культурность и благосостояние государства – синонимы… Посмотрите, – если вспыхнет война, как Отчаянно ринутся все эти бюргеры защищать свои Очаги, именно в силу этого обожания своего мещанского уюта. А у нас, где же этот технический прогресс? Все, что вы сказали, если и справедливо, то только в отношении Европы. У нас же чудовищная Техническая отсталость, разрешающая нам только униженно тащиться в хвосте Европы. Все наши неимоверные природные богатства лежат до сих пор под спудом… Я, как инженер, знаю, каких трудов стоило раскачать нашу горнопромышленность на Урале… Победить нашу органическую инертность…
Кирилл. Совсем не так безнадежно. Дайте мужику, во-первых, всеобщее образование, во-вторых, мелкий кредит и кооперативы, в-третьих, народные дома и читальни, – и вы через десять лет не узнаете наших лапотников…
Римма (Кириллу). О, да вы только кажетесь Громовержцем… А на деле – пай-мальчик… (Категорически.) Нет, впрочем, вы – Бова-Королевич…
Анна Павловна (с гордостью). Кирюша-то наш в земстве за грамотность – изо всех первый. (Тихо Римме.) А у вас деток своих нет?
Римма (небрежно). Был один мальчишка, да дрянь, отдала его в морской корпус.
Гавриил. У нашего несчастного народа все есть: и способности, и смекалка, и охота, надо только дать, – понимаете, дать ему возможность получить познания, дисциплинировать ум…
Левченко. В этом я с вами глубоко согласен. В моих поездках в глубь России, постоянно наталкиваясь на всевозможные экономические дефекты, я только одному поражаюсь…
Римма. Господа, помилосердствуйте… Вы здесь прямо заседание «Вольной экономии» устроили. (Подходит к окну.) Ура… Дождь кончился… Сейчас солнышко выглянет… Едем на лодке на тот берег – в сосновый бор…
Мэри (Левченко). Едем? Вы обещали грести…
Левченко (весело). «Всегда готов»…
Кирилл. Молодчина… (Римме.) Я вам завидую…
Римма. Это его девиз… Господа, я вам выдам секрет. (Подбегая к Левченко и взъерошивая ему волосы, смеясь.) У инженера Левченко, как у Самсона, вся сила в его шевелюре… Стоит только ему во сне ее обрезать, – и пропал мальчик…
Все смеются. Левченко смущенно отстраняет Римму.
Римма. Идем… (Запевает.) «Allons, enfants de la Patrie».
Кирилл (Римме, поднимая оброненный ею платок). Какие это у вас духи?
Римма. «White Rose»… (Лукаво взглядывает на Мэри.) Я с некоторых пор признаю только английские…
Мэри. А ты, Гавриил? Останешься?
Гавриил. Да, мне что-то нехорошо…
Мэри подходит к нему, целует его в голову.
Шумно уходят все – Кирилл, насвистывая «Из-за острова на стрежень», – кроме Гавриила и Анны Павловны.
Явление шестое
Гавриил, Анна Павловна, Аглая Семеновна.
Аглая Семеновна (просовывая в дверь голову). Гавриил Алексеевич, вы диктовать еще будете?
Гавриил. Ах, простите, Аглая Семеновна, сейчас приготовлю следующую главу. Попрошу вас минут через десять… Мама, дай мне порошок от головы…
Анна Павловна. Сейчас, сейчас, батюшка, тебе в кабинет принесу. Да ты уж второй день невесел…
Гавриил. Голова у меня болит невыносимо… (Уходит.)
Явление седьмое
Анна Павловна, Глаша.
Анна Павловна. Не нравится мне эта шмыгала… Чуть что – нос в дверь, нюхает… Пойти Гаврюше порошки поискать… (Уходит.)
Явление восьмое
Глаша убирает со стола. Аглая Семеновна, оглядываясь и видя, что никого нет, быстро идет к столу, мажет на хлеб варенье и торопливо ест.
Аглая Семеновна. Глаша, вы мою записочку Кириллу Алексеевичу на стол положили?
Глаша (небрежно). Положила.
Аглая Семеновна. На машинке написано, – он не догадается, от кого… Ну, я ему хорошо там эту ломаку расписала… Вы, Глаша, не говорите, от кого…
Глаша. Что ж это вас, барышня, с собой гулять не взяли?
Аглая Семеновна (скрывая обиду). Мне надо с Гавриилом Алексеевичем заниматься. Да я вовсе и не желаю… Мне совсем не интересно… Смотреть, как эта крашеная Кириллу Алексеевичу глаза строит, а ее-то муженек около Марии Александровны тает… Я – девушка серьезная, я всего этого…
Глаша. А зачем барину молодому записки пишете? Поди, через день по письму…
Аглая Семеновна (вспыхнув). Это не ваше дело, Глаша. Я ему пишу не какие-нибудь глупости…
Глаша (дразня ее). Вот-то вы и курсы покончили, И по-всякому пишете, а не возьмет вас никто замуж…
Аглая Семеновна. Дура. Может быть, я и сама не хочу…
Глаша. То-то не хотите… А вот нашей барыне, хочешь – не хочешь, чего, чего зимой ни присылают и знакомые, и незнакомые… И писем, и цветов…
Аглая Семеновна (жадно). Ну, и что ж, – она принимает?
Глаша (степенно). Как от кого, с разбором… А больше – письма посыльному обратно, а цветы – в магазин…
Аглая Семеновна. Мужчины – дураки. Им бы только рожицу смазливенькую да ха-ха, хи-хи… А серьезную девушку… и не замечают… (Рассматривает себя в зеркало.) Чем я хуже этих красавиц?
Аглая Семеновна уходит.
Глаша. То-то, больно им твоя серьезность нужна. А сама к зеркалу так и липнет. Коки завивает. Туда же, – дурында… Куда ей с нашими сравниться. (Уходит с подносом.)
Явление девятое
Левченко и Мэри быстро входят, споря.
Левченко. Нет, кроме шуток, Мария Александровна… Если вы не перемените ваших туфелек, я с вами не ездок… Опять заболеете, как прошлый год… Так сыро после дождя… Лодка вся мокрая…
Мэри (садясь на диван). Да ведь высокие ботинки целый час зашнуровывать…
Левченко. Ради Бога… Где ваши ботинки? Ручаюсь, что через пять минут мы их догоним.
Мэри. Вы слишком любезны… Я позову Глашу… Кажется, здесь, в этом шкапчике.
Левченко (вынимает из углового шкапчика высокие ботинки). Дозвольте мне, Мария Александровна… Я вас прошу… Я в одну минуту… (Становится на колени и почтительно, еле касаясь, ловко и быстро шнурует ботинки Мэри.)
Мэри (задумчиво). Откуда вы знаете о моей болезни?
Левченко. О, я все о вас знаю… Римма мне каждый пустяк передает. Знаю, какие ваши любимые книги, как вы любите цветы, какие стихи вы читаете. Даже мечты ваши стараюсь угадать.
Мэри (по-прежнему задумчиво). Да? Я люблю музыку, стихи… А вы? Тоже? (Оживляясь.) Давайте вместе читать… Сейчас… (Подходит к полке с книгами, берет томик в парчовом переплете.) Вот стихи Фета.
Левченко. С каким бы я восторгом, здесь, сейчас… (Вспомнив.) А как же наша компания?
Мэри (вставая). Нет, нет, это не по-джентльменски… Они нас ждут. Идем… (Левченко подает ей тросточку.) Благодарю… Какой вы милый…
Уходят под руку.
Явление десятое
Аглая Семеновна (с тетрадкой в руке). Маркиз с маркизою… Как вам это нравится… Надо будет Гавриилу Алексеевичу написать… На машинке – не узнает, от кого… А то вчера весь вечер музицировали, романсы распевали… квартет изображали. Ночью, при луне, верхом, в амазонках… Сплошной карнавал какой-то. Вот ужо погодите, заварится каша. (Уходит.)
Действие третье
Декорация первого акта. Вечер. Терраса и сад у террасы увешаны разноцветными фонариками. Аглая Семеновна и Кирилл зажигают их. Между вторым и третьим действием прошло полтора месяца.
Явление первое
Аглая Семеновна. Кирилл Алексеевич, будьте любезны, передайте мне еще фонарик.
Кирилл (не глядя на нее). К вашим услугам. (Передает.)
Аглая Семеновна. Как красиво… Вы, Кирилл Алексеевич, любите (жеманно) блеск жизни?
Кирилл. Я вас не понимаю, Аглая Семеновна, – какой блеск? Что вы под этим подразумеваете?
Аглая Семеновна. Ну вот, разные искусственные ухищрения, – наряды, духи, косметики, фейерверки…
Кирилл (коротко). Я люблю все красивое.
Аглая Семеновна. Я – тоже. Но только есть разница между естественным и…
Кирилл. Извините, – мне некогда, я обещал Римме Николаевне приготовить букеты… (Убегает.)
Аглая Семеновна (одна). Один разговор теперь у него: Римма да Римма… Невежа…
Явление второе
Аглая Семеновна и Гавриил.
Гавриил (бледный, осунувшийся, в пальто). Аглая Семеновна, будьте добры отыскать мне предпоследнюю главу. Я должен ее сегодня просмотреть…
Аглая Семеновна. Сию минуту, Гавриил Алексеевич. Разве вы сегодня будете работать?
Гавриил (рассеянно). А что сегодня?
Аглая Семеновна. Да как же, для дня рождения Марии Александровны зажгут иллюминацию… Фейерверк… Разве вы не хотите посмотреть?
Гавриил. Ах… Нет, я не могу, мне очень нездоровится… И работать надо, я и так уж запустил… (Хочет уйти, в дверях.) Аглая Семеновна, я вас очень прошу – не пишите мне никакого вздора и не позволяйте себе никогда затрагивать моих домашних. Иначе мы принуждены будем расстаться…
Аглая Семеновна (вспыхнув). Это вовсе не я.
Гавриил. Кто же, как не вы… Кто кроме вас здесь пишет на машинке? (Уходя.) Пожалуйста, не забудьте – главу.
Аглая Семеновна поспешно выходит.
Сцена мгновение пустая, потом за сценой голос Кирилла:
– Где же Павел? Павел, сколько раз я говорил…
Явление третье
Кирилл, с ворохом роз и левкоев в руках.
Кирилл. Ведь это надо придумать… Отлучиться без спросу сегодня, когда, как нарочно…
Глаша. На деревню старшина вызвал, – говорит, экстренно…
Кирилл. Что такое – экстренно? Я сейчас себе все руки об розы переколол… Вечная история… Сказано, без спроса… Ступай – принеси ножницы…
Глаша уходит.
Явление четвертое
Римма, нарядная, в кружевном белом платье, оживленная.
Кирилл (навстречу ей). Римма Николаевна… простите, Павел куда-то отлучался, я не успел приготовить букеты… (Оглядывая ее.) Боже, как вы хороши… (Подает ей розу.)
Римма. Вы находите? (Ударяет его розой по руке.) У, бука… А кто вчера отказался со мной ночью на мельницу идти? Я из-за вас пари проиграла…
Кирилл (смотрит в землю, упрямо). Да, и отказался. Но вам легче было проиграть пари, чем мне пойти с вами.
Римма (кокетливо). Почему, господин Букин?
Кирилл (глухо). Римма Николаевна, вы мною играете… А я… этого не могу…
Римма (шутливо). Какие мы сердитые… (Берет Кирилла за руку, дружески.) Полноте, дружок, ведь так все было славно, – зачем это? (Смеясь.) Мы всегда влюбленным гимназистам говаривали: «Скушайте конфетку, и все пройдет»…
Кирилл (мрачно). Я не гимназист, Римма Николаевна, и конфетками вам меня кормить не придется… Вы меня совсем не знаете… (Взволнованно.) Я – человек прямой, цельный, – в жизни у меня не было никаких… авантюр… Я никогда не любил… (Порывисто.) Римма Николаевна, я буду вашим рабом, буду целовать следы ваших ног, – возьмите меня таким, какой я есть…
Римма (как бы изумленно). Ну вот, ну вот, голубчик, зачем все это…
Кирилл (в том же тоне). Зачем же вы меня мучили, зачем все лето вы были со мной так ласковы, так милы, так очаровательны… Я теперь всю жизнь… (Наклоняется, хочет скрыть слезы.)
Римма (растроганно). Ай-ай-ай… Бова-Королевич… и плачет… Полно, полно, дружок… (Шутливо смахивает ему слезы своим платком.) А то и я заплачу… Сейчас сюда все придут… Вот – сюрприз для Мэриного рождения… Ну, я прошу моего милого рыцаря… (Нежно гладит ему лоб и волосы.) Сегодня не надо… А после – мы поговорим… (Напевает.) «Ты – дитя, жизнь еще не успела…»
Кирилл (смахнул слезы и стоит перед нею смущенный и взволнованный). Простите, ради Бога… Первый раз в жизни у меня слезы… Я не имел права… (Целует ей руку.) Мне не в чем вас винить… Вы – чудная, прекрасная, единственная… Я сам вообразил…
Римма (хочет переменить разговор). Давайте скорее сделаем букеты. Один для Мэри, другой для Гавриила Алексеевича. (Напевает.) «В том саду, где цвели хризантемы…» Как вы думаете, – он не рассердится? (Делают букеты, подбирая цветы.)
Кирилл (оправившись). Разве Гавриил может на что-нибудь сердиться? Это ангел, а не человек… Только он последние дни мне не нравится… Пожелтел, осунулся… Я маме давно говорю, – надо доктора пригласить.
Римма. Кажется, ведь доктор сегодня здесь, в гостях?
Кирилл. Да, Сергей Петрович, но вы не знаете Гавриила… Он ни за что не даст себя посмотреть, не захочет испортить другим настроения… Знаете, какой это человек… Пока Мэри спит, он из деликатности не решается сапог надеть… Другой раз до полудня…
Римма. Готово… (Отряхивает букеты.) Ну и мы – молодцы… А где же сеньор Поль?
Кирилл. Его зачем-то в деревню вызвали…
Явление пятое
Через террасу входят Анна Павловна, Мэри, Левченко, Аглая Семеновна, доктор Куликов. Мэри в белом, в прическе 20-х годов с локонами, на шее медальон; она бледнее обыкновенного. Доктор Куликов средних лет, заурядная наружность, в очках.
Куликов. Ба, да у вас сегодня форменное торжество… А я и не знал, что Мария Александровна с Гавриилом Алексеевичем к нам на все лето пожаловали…
Кирилл (зажигает последний фонарик). Ну, господа, бал начинается… Римма Николаевна, прошу вас на тур вальса…
Римма (радостно). Танцевать, танцевать… А кто же нам сыграет? (К Аглае Семеновне.) Может быть, вы?
Аглая Семеновна (сухо). Я не играю. И не танцую.
Анна Павловна. Ну, кто же, кто… Конечно, мать родная… Только я ведь одну старину знаю…
Идет в дом и играет старинный, медленный вальс; на террасе танцуют Левченко с Мэри и Кирилл с Риммой, Аглая Семеновна и Куликов смотрят.
Куликов. А вы что ж, барышня, не танцуете?
Аглая Семеновна (напыщенно). Меня это не интересует. У меня другие симпатии…
Куликов. Какие же? Можно узнать?
Аглая Семеновна (хочет заинтриговать). Разные… А вы – разве не танцуете?
Куликов. В год – раз. Нашему брату некогда. (Любуясь Мэри.) Боже, какая интересная стала Мария Александровна… Помню ее в год свадьбы… (Указывая на Левченко.) А кто сей красавец?
Аглая Семеновна. Гость… (Нерешительно.) Может быть, вы желаете со мной?
Куликов (добродушно). Почему бы и нет… Только я по старине…
Неловко берет Аглаю Семеновну за талию и танцует с нею вальс в три па. Аглая Семеновна сбивается и никак не может попасть в такт. Вальс продолжается.
Кирилл (сбегая с террасы, разгоряченный). Жарко…
Куликов (ему вслед). Браво, браво, Кирюша… Вальсируешь, что твой ротмистр гвардейский…
Римма (подбегая к Мэри). В каком ухе звенит? Говори скорей, – да или нет?
Мэри (под руку с Левченко, Римме). Ну, конечно, – нет. Помнишь, Римма, этот вальс?.. Мы еще гимназистками на катке под него катались… Боже, как это давно было…
Римма (грозит ей пальцем). Мэри, Мэри… Помнишь наш разговор, тогда, в диванной? (Левченко.) Сэр, не увлекайтесь… (Направляется с Кириллом под руку в аллею, напевая: «О милый друг, тебя я не ревную».)
Навстречу им кто-то бежит.
Явление шестое
Из аллеи появляются девочки-подростки в разноцветных местных костюмах.
Кирилл. Вы что, девчата?
Девчонки (хором). Барыню молодую поздравить…
Мэри. Спасибо, спасибо, милые… Побудьте с нами.
Римма. Как это живописно… Couleur locale.3 Ну что ж? Девушки, спляшите нам…
Девчонки. Парней нету… И гармошки нет… Парни все куда-то убегли.
Римма. А вы без парней, промеж себя…
Девчонки пляшут, прихлопывая в такт руками. Все тоже хлопают.
Римма (Кириллу). Какая это, крайняя, хорошенькая…
Кирилл. Здесь вообще народ красивый, ловкий, способный…
Девчонки. Без парней неладно… Скушено… (Разбегаются.)
Кирилл (им вслед). Ступайте на двор, гостинцев дадут…
Девчонки (на ходу). Покорнейше благодарим. (Убежали.)
Римма (у клумбы цветов, восторженно). Какая мочь… Как чудно, как сладко пахнут левкои… (Напевает.) «И ночь, и любовь, и луна»… Цветы, музыка, любовь… (Кириллу, возбужденно.) Знаете вы это настроение, когда хочется, чтобы время остановилось?
Кирилл (восхищенно глядя на нее). О, если бы вечно благоухали левкои, если бы вечно глядеть в ваши глаза…
Уходят в аллею.
Явление седьмое
Левченко и Мэри на площадке у террасы.
Левченко (не отрывая от Мэри глаз). Вы сегодня, в белом, похожи на ангела… И как вы пели…
Мэри (опускаясь на садовый диван, мечтательно). Сегодня мне 29 лет, – а я все еще чувствую себя молодой… Еще все чего-то жду, кажется, – вся жизнь еще впереди, я вся в предчувствиях, в ожидании… (Вдруг, быстро.) Какого еще чуда я жду?
Левченко. Перед вами вся жизнь… Вы молоды, прекрасны…
Мэри (задумчиво, себе самой). Когда я пою или мечтаю, весь мир кажется мне иным… Чувства – утонченными, романтичными, люди – изящными, нежными. (С горечью.) Почему все не так? (Пауза. В том же тоне.) Всегда, всегда, всю жизнь это странное ощущение, точно все это только прелюдия, а жизнь – прекрасная, таинственная, как сказка, как мечта, еще впереди… Я все еще чего-то жду, живу точно во сне, в волшебных грезах, волнуясь необычайно… (Хочет уйти.)
Левченко (с мольбою). Побудьте здесь мгновенье… Весь день я вас не видел…
Мэри (с тоской, себе). Мой муж болен, я люблю его и знаю это, сердце мне говорит, я вся сжимаюсь от ужасного предчувствия какой-то беды… Весь день места себе не нахожу от гнетущей тоски, а сейчас, – о, как странно, я здесь, – с вами, смеюсь, танцую, мечтаю о невозможном…
На террасе никого нет, вальс все еще доносится.
Мэри (тихо, сжимая руки). О мечты мои…
Левченко. Мэри… (Берет ее за руку.)
Мэри (холодно отдергивая руку). Что с вами? Что со мной? (Медленно проводит по лбу, хочет встать.) Как все это странно…
Левченко (удерживая ее). Ради Бога… Мария Александровна… Я сошел с ума… Выслушайте меня… Вчера, в этой аллее, когда вы мне рассказали о себе, когда я понял, какой крест вы несете под этой вечно улыбчивой маской счастливой женщины…
Мэри (гордо). Я вам ничего не говорила о себе… Вы не поняли… (С горечью.) Конечно, я счастлива, – у меня чудный, талантливый муж, я здорова, обеспечена… Никому нет дела… (Вдруг, с отчаяньем.) Я ненавижу ложь… Вчера я в первый раз солгала Римме…
Левченко (серьезно). Лгать не надо… (Вдруг становясь нежным.) Зачем этот тон? Мэри… дорогая… За каждую вашу слезу я готов заплатить годами жизни… (Страстно.) Мэри, я без вас жить не могу… (Наклоняется к ней. Мэри, неожиданно для самой себя, словно во сне, берет его голову и, закрыв глаза, целует его в губы) Мэри…
Музыка обрывается.
Мэри (в ужасе, сжимая руки, глухим голосом). Кто сказал, что любовь – радость? Какая невыразимая грусть… (Встает, бледная, шатаясь.) Так вот что значила… эта тоска… это волнение…
Левченко (вставая, простирает к ней руки, в порыве). Мэри, мечта моя, Мэри…
Идет за Мэри бледный, словно ничего не сознавая. Мимо них из сада на террасу бегут Римма и Кирилл, весело возбужденные.
Римма (напевает). «Тебя любить, обнять и плакать над тобой»… (На террасе берет со стола позабытые букеты.) Букет новорожденной… Букет царице бала… (Подает Мэри букет, целуя ее.) Дуся… Ты сегодня похожа на лермонтовскую Тамару… Что с тобой? Бледна, как изваянье…
Мэри (с усилием над собой). Мне холодно, в саду сыро… (Берет букет, подносит к лицу.) Какая красота… А кому же другой?
Кирилл. Гавриилу предназначался. Да его что-то не видно.
Мэри (вдруг, словно очнувшись, вскрикивает). Где Гавриил? Где он? Что с ним?
Явление восьмое
На террасу выходят Анна Павловна и Куликов, чем-то тихо разговаривая. У Куликова в руках рецепт.
Анна Павловна (испуганно). Кто это вскрикнул?
Куликов. Господа, попрошу вас потише… Гавриилу Алексеевичу сейчас было худо… Он лежит…
Все. Что? Что такое?
Мэри (бросаясь). Пустите, я к нему…
Куликов. Не волнуйтесь, ради Бога… Ничего серьезного… Лучше попозже, – он, кажется, задремал…
Мэри, не слушая, убегает. Кирилл за ней.
Явление девятое
Анна Павловна. Вот и праздник, да невесело… (Крестится.) Господи, спаси и помилуй… Как на грех, надо в аптеку послать, а Павла все нет да нет…
Левченко. Позвольте, я съезжу верхом…
Анна Павловна. Зачем же вам, батюшка, беспокоиться…
Левченко (берет у нее рецепт). Я моментально слетаю… Через час буду обратно… (Поспешно уходит. Доктору.) Я не прощаюсь…
Явление десятое
Те же и Кирилл. На террасе Куликов, Анна Павловна, Римма. В саду фонарики гаснут.
Куликов. Ну, что больной?
Кирилл (спокойно). Ничего. Спит. Напрасно вы Мэри пустили. На ней лица нет…
Анна Павловна. Уж вы, Риммочка, – я вас попрошу, фейерверки-то нынче не пускайте… Ни к чему…
Кирилл. Отложим до Мэриных именин, – через три дня.
Римма. 22-го? Ну, что ж, отложим. Жаль только, – сегодня вечер такой дивный. А тогда можно живые картины… (Кириллу.) Вы любите фейерверк, Кирилл Алексеевич? Я обожаю…
Кирилл. Я – тоже…
Римма. Так призрачно, так похоже на сказку… Так уносит от действительности… Все, что повышает жизнеощущение…
Отходят в сторону, разговаривая.
Анна Павловна (доктору). С чего это, батюшка, с Гаврюшей случилось?
Куликов. Ослабление сердечной деятельности… Нервное переутомление, раздражение… Не было ли у Гавриила Алексеевича за эти дни какого-нибудь сильного огорчения, взволновавшего его известия, письма?
Анна Павловна. Кажется, ничего такого, батюшка… Эти-то, молодежь, все в гулянки, верхами да в мячики, а он, мой батюшка, и с мол оду-то не любил… все за книжками… (Плачет.)
Куликов. Ну, полно, Анна Павловна, уж от вас-то я не ожидал…
Явление одиннадцатое
Те же и Глаша.
Глаша (доктору). За вами нарочный прискакал. Говорит, пакет важный, – в присутствие вызывают…
Куликов. Ах, Боже мой, что там такое… (Вынимает часы.) Анна Павловна, я извиняюсь, должен ехать, вероятно, что-нибудь серьезное… Я полагаюсь на вас… Микстуру – через час по столовой ложке… В случае повторения – теплые компрессы на сердце и затылок. И ради Бога – не волнуйтесь… Я завтра заеду… (Уходит через аллеею.) Чертова тьма! (Вскрикивает.) Кто тут?
Явление двенадцатое
Куликов, баба, Анна Павловна.
Баба (на дорожке сада, голосит). Батюшки-светы… И пришел конец свету белому… Ваську возьмут и Ваньку… (Ревет.)
Куликов. Да что ты, говори толком. Белены объелась, что ли?
Баба (размахивая руками). Батюшка, народ скликают… Мобилизацию расклеили… Идет на нас Антихрист, Ерман окаянный. Ваньку, Ваську возьму-ут серде-ешных… (Ревет и убегает.)
Куликов. Мобилизация… Значит, – свершится? Потоки крови… (Поспешно убегает.)
Анна Павловна (закрыв лицо руками). Господи Боже, смилостивись над нами, грешными.
На балкон выбегает Аглая Семеновна, машет руками.
Аглая Семеновна. Скорее, скорее. Гавриилу Алексеевичу опять худо… Упал с кровати…
Анна Павловна бежит в дом. Откуда-то из темноты появляются Римма и Кирилл, оба встревоженные, и бегут на террасу.
Римма (взволнованно). Что такое? Кто здесь плакал?
Аглая Семеновна (кричит с балкона бесстрастно). Война объявлена… У Гавриила Алексеевича – удар…
Римма. Не может быть…
Все в смятении бегут в дом. На сцене пустота. В саду всходит низкая, красная луна. Из-за деревьев выходит Павел. Ему навстречу из-за кустов Глаша.
Явление тринадцатое
Павел и Глаша.
Глаша (тревожно). Ну, что, Павлушенька? А ежели и вправду с Ерманом воевать будем?
Павел (решительно, притворно-весело). Завтра утречком прощайте, Глафира Ивановна… Пойдем служить царю-батюшке…
Глаша (вскрикивает). Аи, батюшки-светы… На кого ж ты меня, Павлушенька, оставляешь… (Плачет.)
Павел (деланно-презрительно). Ну, бабье… Разве с вами можно о деле говорить… (Нежно.) Ну, Глаша, не плачь, я тебя не оставлю…
Уходят, обнявшись.
Явление четырнадцатое
На террасе Мэри, одна; сверх белого платья накинут черный плащ.
Мэри. Так вот к чему этот сон, это предчувствие… Вот отчего у меня щемило сердце… Вот где мой крест… (Крестится сквозь слезы.) Господи, – твоя воля…
Явление пятнадцатое
Мэри. На террасу из дому выходит Левченко.
Мэри (навстречу ему). А, это вы…
Смотрят друг на друга серьезно и прямо.
Левченко. Мэри… (Тихо, бережно берет ее за руку и ведет к скамье.) Мэри… Я все знаю… Доктор попался мне навстречу… Это не так опасно, – с этим живут годы… Гавриил Алексеевич перенесет, у него хорошее сердце… Мэри, я завтра уеду… Даю вам слово, что из-за меня вы не прольете больше ни одной слезы… (Мэри плачет. Нежно, тихо.) Дорогая, о чем же плакать? (Взволнованно.) Сегодня такой великий день.
Мэри. Сколько страданий, сколько слез…
Левченко (твердо). Но ведь вы сами говорили, что страданий не надо бояться, что страдания – очищают? Помните: «Очарование печали»? Мэри, я многому научился за это время от вас (нежно берет ее за пальчики), от этих нежных, хрупких цветков… Мэри, великие испытания ждут нашу страну… Мы все должны с радостью пойти навстречу ее судьбе.
Мэри. Радость печали? «Счастье – не цель жизни», – как говорит Гавриил.
Левченко. Сейчас, когда я ехал, один среди жуткого мрака леса, я пережил в один час столько, сколько, может быть, за всю жизнь не пережил… И вот изо всего этого, из сплетения всех этих печалей и радостей, ужаса и восторга, мне видится один исход, я слышу один завет: страдай, борись, неси крест свой…
Мэри. Я видела сегодня сон… Иду по лугу… Такой странный красноватый свет. Ни день, ни ночь… Все цветы завяли, поникли… (Вдруг громко, с горечью.) О, как могла я мечтать о мирной жизни здесь, о цветах, о розах, когда повсюду вокруг такая печаль, мы живем во зле. Вчера я возвращалась домой так беззаботно, с цветами… Вдруг возле лесной сторожки ужасный кашель… Зашла, – дочь лесника, молоденькая, в последнем градусе чахотки… Исхудалая… одни глаза… И вот она передо мною день и ночь…
Левченко (нежно). Вы слишком впечатлительны, милая Мэри. Простите, что я вас так называю, но ведь это последний вечер.
Мэри. Вы завтра уедете, вас призовут.
Левченко (взволнованно). А если нет, – неужели бы я мог спокойно оставаться здесь… Я с радостью пойду послужить родине в такой час. Умереть в открытом бою… (Задумчиво.) Я жил, я любил, я знаю, как прекрасна жизнь со всеми ее радостями, но прекрасны могут быть и смерть, и страдания… (Берет обе руки Мэри.) Мэри, попрошу у вас одного: разрешите мне вам писать… Ваш образ будет меня хранить… А если мне суждено… я унесу с собой память о том – единственном и последнем…
Мэри в тоске встает; Левченко целует ей руку, она целует его в лоб.
Мэри. Да хранит вас Бог… Я буду молиться за вас… (Левченко, бережно поддерживая ее, ведет ее на балкон.) Посмотрите на небо… Какая странная луна… Точно кровь.
Явление шестнадцатое
Те же и Кирилл.
Кирилл (участливо). Мэри, ему лучше после лекарства. Тебе нужно отдохнуть. Уже третий час… Мама тебя ищет…
Мэри прощается с обоими и покорно идет в дом.
Явление семнадцатое
Кирилл и Левченко, на ступеньках балкона, закуривают.
Кирилл (возбужденно). Что ж, сэр, завтра – в путь? «Война, подъяты знамена…»
Левченко. Да, с первым поездом… А вы?
Кирилл. Я еще не решил… пойду ли добровольцем или с земским санитарным отрядом… Вероятнее последнее, здесь скорее в дело… (Прислушивается. По реке слышен топот, – кто-то бежит.) Побежали наши Иваны… Земля-мать позвала…
Левченко (смотрит вдаль). Уж светает… Великий день… Сколько судеб решается сейчас, где-то там, на страницах великой книги Бытия…
Кирилл. Не знаю, как вы, а я рад… Что-то много чего-то накопилось, – «судьба жертв искупительных просит…» А в опасности есть своя красота… Я на пожар в деревне, еще мальчиком, всегда рвался, как на праздник… Как это у поэта:
Все, все, что гибелью грозит, Для сердца смертного таит Неизъяснимы наслажденья, Бессмертья, может быть, залог.Красиво сказано, а? Послушайте, сэр, неужели вы спать пойдете?
Левченко (закуривая новую папиросу). Нет, – я сегодня спать не могу… Слишком много впечатлений…
Кирилл. Пойдемте к реке, пошатаемся… Когда еще на Волгу взглянуть придется…
Левченко (бросая папиросу). Вот отлично… Идем к Волге, прощаться.
Уходят вместе. Кирилл насвистывает «Что наша жизнь – игра».
Левченко (на ходу). Сколько сегодня людей не спит…
Занавес.
Действие четвертое
Кабинет Гавриила в усадьбе Воронцовых. Светлая, уютная комната с печкою в виде камина, уцелевшею старинною обстановкою и книжными шкафами. У большого окна в сад – пишущая машинка; на стене карта фронта. Яркое декабрьское утро. Между третьим и четвертым действиями прошло шесть месяцев.
Явление первое
Гавриил, постаревший; в глубоком кресле, с закутанными пледом ногами, близ топящейся печки, читает газеты. Входит Анна Павловна, сильно похудевшая, в черном.
Анна Павловна. Ну что, Гаврюша, как ночь спал?
Гавриил. Превосходно. Право, мамочка, я скоро на балы смогу выезжать.
Анна Павловна (радостно). Услышал Господь наши молитвы… А только нынче, должно быть, уж не до балов нашим будет… Что в газетах пишут, Гавриил?
Гавриил. Да это старая… Наши войска отошли на новые позиции…
Анна Павловна. Что ж, Гаврюша, – это худо?
Гавриил. Ах, мама, вы все воображаете, что война – это прогулка церемониальным маршем к чужим столицам… Бывает и худо, бывает и хорошо… И вообще, ведь эта война вовсе уж не так внезапна, не так случайна, как кажется… Разве не чувствовалось еще задолго до нее во всех сферах – общественной, личной, семейной, – даже в литературе, в искусстве, что назревает какой-то колоссальный взрыв, надвигается мировая гроза, которой суждено или вырвать все с корнем, или изменить все основы жизни? Ведь мы все задыхались в этой атмосфере взаимной ненависти, вражды, злопыхательства, неимоверной грубости… Чувствовалось, что дольше так жить нельзя. Война только выявила наружу, только освободила эти глухо-клокотавшие силы, все равно грозившие вырваться наружу.
Анна Павловна (не слушая его). От Кирюши писем что-то нет уж давно. Душа не на месте, – не случилось ли с ним чего. Не дай Бог, захворает.
Гавриил. А что, Михаил поехал за почтой? Где Мэри?
Анна Павловна. Почта скоро должна быть… Мэри у обедни, сейчас вернется…
Гавриил (перевертывает газету). Вот и здесь есть известие об учреждении этого Свободного Университета, куда меня зовут… Поистине неисповедимы пути твои, Россия… Кто бы подумал, что в разгар самых невероятных, самых кровопролитных битв в тылу будут возникать и множиться те культурные предприятия, в которых Россия нуждалась полвека тому назад… (Задумывается.) Кооперативы, народные дома, союзы, съезды…
Явление второе
Те же и Мэри. Она в простом, темном платье и белой кружевной косынке на плечах; в руках муфта. С морозу румяная, выглядит хорошо; вся как-то спокойнее, мягче. Целует Гавриила.
Мэри. Я потихоньку ушла, чтобы тебя не разбудить… Какой чудесный день. Ясно, солнечно, – снег чистый, словно сахар. Тебе бы надо покататься сегодня. Воздух чудный.
Гавриил (шутливо). О ком молилась, донна Анна?
Мэри (тоже шутя). «О всех плавающих, путешествующих, недугующих…» (Серьезно.) Свечу поставила за помин души нашего Павла…
Анна Павловна. Вот это дело сделала, Мэричка.
Мэри. Какую проповедь хорошую отец Николай сказал… «Больше сея любви никто же имать…» (К Анне Павловне.) Ну, а что Глаша?
Анна Павловна. Все мучается, бедняга… Стонет – вся почернела. Ужо придет Куликов, – надо его попросить поглядеть…
Мэри. И зачем только ей письмо это дали… Неужели же Михаил не понимает, что беременной женщине нельзя…
Анна Павловна. Да уж я его ругала, ругала… Затвердил – последняя воля брата… Пойти Глашу проведать? (Выходит.)
Явление третье
Гавриил и Мэри.
Гавриил. Мэри, я тебе еще не говорил… Я получил предложение от нашего университетского кружка вступить в число лекторов учреждаемого в Москве Свободного Университета… Что ты на это скажешь?
Мэри. Что ж… Превосходная идея.
Гавриил. Если, Бог даст, я к Новому году совсем поправлюсь, мы можем, значит, в Москву перебраться… Поди, тебе уж в деревне прискучило?
Мэри (спокойно). Гавриил, – мне безразлично. Теперь надо сообразовываться с твоими, а не с моими желаниями… Мне и здесь – хорошо. Да и некогда скучать. Сначала твоя болезнь, потом заменяла учителя в школе, теперь писать тебе на машинке…
Гавриил (нахмурившись). Не нравится мне этот твой новый тон. Мэри, что ты – в сестры милосердия при мне поступила, что ли? Я давно хочу с тобой поговорить. Теперь скоро я буду на ногах, и нам предстоит решить вопрос о дальнейшем… (Мнется.) Я не хочу тебя ни в чем стеснять… Если у тебя есть намерения… Словом, – ты понимаешь, – для меня человеческая личность священна…
Мэри слушает, в конце речи Гавриила нежно целует в лоб.
Гавриил (неожиданно резко, отодвигая ее). Я еще не умер, чтобы меня целовали в лоб…
Мэри (удивленно). Гавриил, что ты говоришь? Я тебя не понимаю. О каких намерениях? Я никуда не собираюсь…
Гавриил (утих). Видишь ли… при нашей разнице лет, легко может случиться… Словом, – я считаю тебя свободною во всех отношениях.
Мэри. Гавриил, это совсем не твой стиль… (Быстро подходя к нему.) Давай объяснимся. Неужели ты думаешь, что… если бы со мной… что-нибудь «случилось», – я бы не сказала тебе первому? Неужели была бы способна проделывать безвкусную тривиальность, именуемую адюльтером? Скажи, – ты это подумал?
Гавриил (уклончиво). Ведь много есть моложе меня и интереснее.
Мэри (внезапно резко). И что же? Что же, ты меня на «конкурс мужской красоты» посылаешь? Чтобы я могла себе выбрать «резвого фокстерьера» по вкусу? Что случилось, Гавриил? Допустим даже, что вдруг каким-нибудь чудом я увлекусь кем-нибудь… достойным… Что же, – разве это изменит мое отношение к тебе, раз навсегда определившееся и непоколебимое… Разве наш союз для тебя не свят?
Гавриил (мягко). В этих-то случаях и происходят драмы…
Мэри. Пусть даже – трагедия, – так что ж? Я даже не представляю себе, как одни отношения, – если они подлинны и святы, могут быть вытеснены, заменены другими, – так же подлинными… Будет боль, будет тоска, будет внутренняя борьба, но – позабыть, предать, выключить из сознания. Ведь есть же у нас в душе святыни…
Гавриил (радостно). Так, так, узнаю мою Мэри… (Заключает ее в объятия.) Ну, мне, старику, еще позволительно так думать, а тебе… Ведь ты и скрывать не способна…
Мэри (смеясь, закрывает ему рот поцелуем). Мы оба на это не способны…
Пауза. Ни звука; только дрова в печке трещат.
Мэри (отходя к окну, с горечью). Скоро, скоро, Гавриил, ты перестанешь за меня тревожиться… Еще каких-нибудь 3–4 года, и я перестану и мечтать, и тосковать, и петь…
Явление четвертое
Те же, Анна Павловна и Михаил с почтой.
Мэри (бежит навстречу). Ну, что, Михаил, мне письмо привез?
Михаил (ищет в сумке). Вам – целых два. Барыне – из действующей армии… Барину – газеты… Сказывают – наши дюже много австрийцев в плен взяли. (Подает письма.)
Гавриил. Ну вот, мама, видишь, – не все худо…
Мэри (беря письма, взглядывает на Михаила). Как Глаша, Михаил?
Михаил. Известно что – ревет. (Спокойно.) Помрет, – должно, к вечеру.
Мэри (встревоженно). Что ты, Михаил, говоришь? Зачем помрет? Все рожают… Погоди, я погляжу, как она у вас лежит…
Михаил (уходя, угрюмо). Помирать, видно, никому не хочется…
Мэри и Михаил выходят.
Явление пятое
Гавриил развертывает газеты. Анна Павловна раскрывает письмо.
Анна Павловна (вскрикивает). Кирюша… Кирюша мой… (Беспомощно опускается в кресло.)
Гавриил (хочет ей помочь, но встать один не может, кричит). Мэри… Мэри… Скорее… Кто там…
Явление шестое
Те же и Мэри.
Мэри (вбегает). Мама… Кирилл… Я знала… Я чувствовала, что больше его не увижу. (Дает Анне Павловне воды из графина.) Он убит… Я знаю… Он для того пошел… Мама, родная…
Анна Павловна (приходит в себя, смотрит на всех растерянно). Мой сын, мой Кирюша, такой чистый, такой светлый… Никого никогда… Никто не знает, какой он был чистый… Мой мальчик… (Плачет тихо, неудержимо, жалобно всхлипывая.)
Явление седьмое
Те же и доктор Куликов в военной форме. Останавливается, пораженный.
Куликов. В чем дело? (Видя письмо на коленях плачущей Анны Павловны, догадывается.) Господи, неужели? Кирюша…
Мэри берет письмо у Анны Павловны и молча передает его Гавриилу.
Гавриил (читает). «Имею честь уведомить, что 12-го сего месяца в земском санитарном отряде пал смертью храбрых ваш сын Кирилл Алексеевич Воронцов, самоотверженно, с явной опасностью для жизни выносивший раненых из сфер огня под обстрелом. Санитар Воронцов скончался на месте, пораженный разрывной пулей».
Пауза. Тяжелое молчание. Мэри закрывает лицо руками.
Куликов (громко сморкается). Что бы меня, старую собаку, вместо него на тот свет отправили… (Смахивает слезы.) Да нет, он должен был погибнуть… Не на войне, так на дуэли, защищая кого-нибудь или ради женщины… Слишком уж был он прост и горяч… (Вынимает папиросу.)
Анна Павловна (тихо плача). Он женщин и не знал, и боялся… Все говорил: мама, я никогда не женюсь, всегда с тобой буду. Так на суде Господнем и предстал чистый… (Плачет.)
Куликов (тихо). Берег себя для родины… Как жених для невесты.
Гавриил. Мама, что же нам плакать? Мы отдали родине все, что у нас было самого прекрасного, самого дорогого… Такие жертвы только и угодны Богу, только и ценны… Мама, – в твоем сердце – печаль и скорбь, но и радость, и гордость…
Мэри (смотрит куда-то далеко, про себя, вдохновенно). Там, где-то далеко, далеко, лежит среди чужих на поле брани наш милый брат, погибший славной смертью, положивший душу свою и жизнь за родину. Не бьется больше горячее сердце, тихо легли послушные руки на груди, чужие закрыли ему глаза, смотревшие на мир с такою верою, с такой любовью… А рядом, может быть, тысячи таких же юных, чистых душою и телом уснули сном праведных… Что может быть прекраснее.
И поистине светло и свято Дело величавое войны. Серафимы, – ясны и крылаты, За плечами воинов видны…Куликов. Народ говорит, – души убитых прямо с поля смерти возносятся к престолу Господню… (Вынимая часы.) Ну, мне в лазарет пора… Нам сегодня новеньких привезут… (Гавриилу.) Мне бы вас, голубчик, на моментик потревожить…
Гавриил. Да полно, батюшка… Скоро, кажется, я вас лечить буду… Если ноги позволят (раздраженно), я в Москве с Нового года курс лекций по теории истребления тевтонов начну читать…
Куликов. Давно пора… (Взглядывает ему в лицо.) Да вы, право, молодцом… Это вы на волжском воздухе… Я, голубчик, сегодня вас мучить не стану… (Прощается.)
Анна Павловна. Батюшка, погоди, взгляни на Глашу-то… Ведь тоже мучается… Пойду и я… (Хочет встать.)
Мэри (тихо Гавриилу). Пусть идет… Это ее отвлечет… (Помогает Анне Павловне встать и провожает ее и доктора до двери.) В нашем доме уже вторая жертва. (Доктору, тихо.) Наш Павел?
Куликов. Смерть всех равняет…
Анна Павловна и Куликов уходят.
Явление восьмое
Гавриил и Мэри.
Мэри. Как маме тяжело…
Гавриил (не скрывая скорби). Кирюша, Кирюша, мой маленький братик…
Мэри (отходит к окну). Кто бы подумал, что это последнее лето… Такое оно было тревожное… Никогда его не забыть…
Тяжелая пауза.
Гавриил (приходя в себя, притворно-равнодушно). Что тебе пишут?
Мэри (протягивая ему оба письма). На, читай… Одно – из Москвы от Риммы, другое…
Гавриил (не берет). Мэри, я, кажется, никогда…
Мэри. Римма в восторге от своего лазарета… устраивает сборы, спектакли… В Москве очень оживленно… Все дружно работают…
Гавриил (дружелюбно). А на фронте что?
Мэри (спокойно). Все как следует. Михаил Сергеевич там совсем обжился, находит, что только там и жизнь, а здесь у нас – прозябанье… Пишет (читает по письму): «Вы вот все время на одной реке, а я – каждый день на разных…» Скучает, когда в бою долго не приходится быть. Пишет, что все мужчины должны всегда носить форму и отбывать даже в мирное время военную службу, – так режим и дисциплина нервы закаляют… Такой бодрый тон… Про неприятеля пишет: «Он нас пугает, а мы его – тоже».
Гавриил. Ну, а «крещенья» еще не получал? Или, как они называют, «подарка»?
Мэри. Нет пока. Да он уцелеет (задумчиво), он не такой… Одни – жертвы, обреченные, ищут, чтобы умереть, чтобы погибнуть, вот – Павел, Кирилл наш, а другие – чтобы сражаться, чтобы победить, как Михаил Сергеевич…
Гавриил (проводит рукой по лбу). Ах, Кирилл… Не могу себе представить… Надо, Мэри, за его телом съездить… Он так любил родную землю… Маме будет хоть его могилка утешением…
Мэри. Я сегодня же выеду… А ты маму удержи… Ее нельзя пускать… (Пауза. Отходит к окну, смотрит в сад, тихо.). Как давно это все, кажется, было… (Про себя, напевает.) «Отцвели, о, давно отцвели…» Что это я? (Умолкает.)
Откуда-то снизу доносится слабый детский крик.
Явление девятое
Те же, Куликов и Анна Павловна.
Куликов (в дверях). Поздравляю вас с новым гражданином вселенной… У Глафиры Ивановны сын родился…
Мэри. Так скоро? Ну, а сама она как?
Куликов (шутливо). Через неделю рожь колотить сможет…
Анна Павловна. В год войны все мальчики родятся…
Гавриил. Над полем смерти – новые всходы…
Анна Павловна (со вздохом). Человек в муках рождается, в муках и умирает…
Мэри. Пойду взгляну на нового гражданина…
Явление десятое
Те же без Мэри.
Куликов (взял за руку Анну Павловну, которая ищет портрет Кирилла на письменном столе). Анна Павловна, дорогая… Вы должны гордиться… Голубушка, ведь так у России слез не хватит…
Анна Павловна (нашла портрет, заливаясь слезами). Кирюша, сын мой… Красавец… Если бы покойный знал…
Гавриил (строго). Отец завещал нам любить Россию… Он бы сам Кирилла благословил…
Анна Павловна (плача). Красавец мой… голубь чистый…
Явление одиннадцатое
Те же и Мэри с букетом белых лилий.
Мэри. Мама, дайте я ему цветов… (Ставит портрет в рамке на отдельный столик, – сбоку букет в вазе.) Все цветы мира – павшим за славу… (К Анне Павловне, утешая ее.) Мама, эти чудные, благоуханные лилии завтра тоже умрут, отцветут… Вырастут новые, еще прекраснее… Все очарование цветов – в мгновенности их благоухания, в мимолетности их красоты… Чем прекраснее цветок, тем кратче его цветение… Мама, мы ведь не оплакиваем цветов… Мы благодарны им за краткую радость… Не надо плакать, надо молиться…
Анна Павловна (обнимая Мэри). Одни вы у меня теперь, дети…
Гавриил (задумчиво). Все великое приходит в мир вратами жертвенного подвига…
Занавес (медленно).
Конец.
<1915>
Символисты о символизме*
Георгий Чулков. Символизм как мироотношение*
Гг., мы сейчас выслушали вступительное слово поэта. Я хочу сказать несколько слов на ту же тему, но моя точка зрения будет отличаться от его точки зрения. Я с радостью слушал вступительное слово нашего высокого поэта, чувствовал гармонию в его словах с его стихами и его творчеством. Я люблю и ценю этого поэта и еще раз услышать его credo было мне очень радостно; но не все было сказано в этом слове вступительном, и невозможно было, конечно, сказать все, а кое-что из того, что утаил от нас поэт, мне очень дорого и об этом-то я бы хотел сказать несколько слов. Может быть, правы те, которые думают, что нужно говорить иначе в маленьком кружке и в большом зале, перед громадной толпой случайных посетителей. Вероятно, так и нужно по-разному говорить, но я не умею и буду бестактен, может быть, извиняюсь, но я буду говорить так, как если бы здесь были только те немногие, которые близко стоят к литературе и к современному творчеству.
Мне кажется, что не надо защищать наше новое искусство, умаляя его ценность тем, чтобы стараться приурочивать сказанное поэтами нашего времени к действительности, оправдывать искусство в связи с современностью, показывать практическое и нужное в этом искусстве. Мне кажется, что оно само за себя говорит и надо раскрывать его в целом. Насколько я понял поэта, который сказал вступительное слово, он думает, что последняя ценность в этом мире – искусство, высшая ценность – искусство. И вот эта высшая ценность оправдывает, освещает действительность.
Я думаю не так. Я думаю, что искусство – не последняя ценность, есть более высокий принцип, покрывающий искусство. Но если искусство служит утилитарным целям, моральным, научным, общественным, тогда искусство умаляется в своем значении и говорить тогда об искусстве – это значит унижать его. Но если искусство оправдано с высшей точки зрения тем принципом, который покрывает всю культуру и, между прочим, и искусство, то такое искусство утверждать можно и нужно. Я думаю, что символизм как мироотношение этим высоким принципом, покрывающим всю культуру, оправдан, но символизм как школа есть явление преходящее. Является новая школа, возникает новое литературное течение, и пусть возникает, и прекрасно! Новый метод предлагают – превосходно, мы оценим этот метод. Но символизм как мироотношение не умрет, символизм как мироотношение останется. Всю культуру, все искусство можно оценивать с точки зрения символизма как мироотношения. И я думаю, что символизм как мироотношение есть та система идей и принципов, которая совпадает с принципом, покрывающим всю нашу культуру, всю нашу жизнь.
В чем же пафос, в чем же значение символизма? Я думаю, что пафос символизма как мироотношения заключается прежде всего в том, что человек, который стоит на точке зрения символизма, переоценивает данную нам действительность, переоценивает не в зависимости от внешних данных пространства и времени, а переоценивает по существу. Но это не последнее, что есть в символизме, а первое, но первое важное и значительное, потому что эта переоценка совершенно изменяет наше отношение к жизни. Эта переоценка есть мятеж, есть бунт в глубоком и таинственном значении этого слова.
Символизм не потому хорош, что отдельные поэты-символисты пели гражданственность – могли петь, могли и не петь. Не в этом дело. Не потому хорош символизм, что он иногда отвечает демократическим интересам текущего времени, а потому хорош символизм, что он заключает в себе более глубокий бунт, и тогда из этой внутренней переоценки могут возникнуть и другие моменты, не менее важные практически, прагматически. Так вот, я подчеркиваю этот бунт. Дело в том, успехи символизма как эстетического явления ровно ничего не доказывают, если жизнь не изменится. Вот если символизм как мироотношение будет принят обществом как реальный факт, если общество примет символизм по существу, тогда жизнь изменится. И я сейчас с трудом представляю, каким пламенем будет душа у людей, если символизм проникнет в жизнь не как что-то книжное, литературное, а как мироотношение. Ведь символизм – огонь! Ведь принять символизм – это значит зажечь великолепный костер, который осветит нам черную ночь действительности!
Недавно я имел честь в религиозно-философском собрании делать доклад на тему о символизме, и мне возражали. Я выслушал речь Вяч. Иванова, выслушал замечания взволнованного Д. С. Мережковского, отвечал им, возражал им. А потом, потом раздался голос какого-то человека, – я фамилии его не помню, – он встал из публики. Я прислушался к этой сердитой реплике. Он был недоволен мною, Вяч. Ивановым, Мережковским, но особенно был недоволен мною. И этот сердитый человек сказал: «Что вы там рассуждаете о смерти, о символизме, говорите, что только тот поэт, который заглянул в глаза смерти, а если не заглянул, так и не поэт, что вы к нам идете с вашим пессимизмом, мы не хотим пессимизма, мы жизни хотим». Я ему не успел ответить, но здесь среди вас, наверное, присутствуют согласные с ним, – я думаю, что это не единственный голос, – то я сейчас воспользуюсь случаем и отвечу. Да, я думаю, что смерти в глаза надо заглянуть, и обычная точка зрения нашей публицистической критики, что мы заняты темой смерти, есть точка зрения ложная. Ложная потому, что и жизнь мы не сможем полюбить по-настоящему, если не сумеем заглянуть в глаза смерти по-настоящему. Ведь слова – любите жизнь, не думайте о смерти – слова легкомысленные! Ведь умрем мы! Поэтому нужно же нам знать, что нас ждет.
И не случайно, не случайно в глубокой древности в египетских мистериях, не случайно посвященного погружали в гипнотический таинственный сон и внушали, что он умер телесно, и только восстав из этого сна, он делался посвященным. Только тогда мы будем мудры, если все будем поэтами, а поэтами все мы имеем право быть, потому что всем нам этот опыт может быть доступен, только надо быть смелыми! Ведь символизм – это пафос, это дерзание. Жизнь должна быть дерзанием, должна быть мятежом. А для того чтобы она была мятежной, надо ее растревожить, и только пафос смерти вносит должную тревогу. А мы шутим над смертью, шутим, как пошутил Рабле: «Веап qui moriunt in Domino»[19]. Вот этот ужасный предсмертный каламбур теперь как будто на устах у многих. Morituri in Dcimino[20] – так не должно быть. Вот почему я защищаю символизм, который полагает, что искусство – огонь, с которым шутить нельзя.
(Аплодисменты.)
Вячеслав Иванов. Искусство как символизм*
Милостивые государыни и милостивые государи! Недолго я буду утруждать ваше внимание. Говорено было о новой школе символизма уже достаточно. Я вынес то впечатление, что большей частью нас, символистов, хвалили, провозглашали наше направление победоносным. Я не знаю ничего по этому поводу. Что касается символизма не нашего направления, – господа, я один из символистов, – то он победил. Объяснюсь.
Совершенно не важно для общего учета жизни, каким образом будут оценены деятели, скажем, последних двух десятилетий, будет ли оценка высока или сравнительно низка. Скорее всего, будет переменчива: в одну эпоху более высокая, в другую более низкая. Такому опыту учит нас история литературы вообще. Вовсе не это важно, а важно то, что утверждено известное общее основоположение.
В самом деле, господа, если вы послушаете наши рассуждения или почитаете наши теоретические писания, то зачастую вы встретитесь с такими утверждениями: Данте и Эсхил – символисты. Что это значит? Это значит, что мы упраздняем самих себя. Да, мы упраздняем самих себя как школу; не то что мы от чего-нибудь отступаем и хотим сделаться другими людьми, другими писателями, – нет, наоборот, мы остаемся вполне верными себе и раз начатой нами деятельности. Дело заключается в том, что истинный символист заботится, конечно, не о судьбе того, что принято признавать школой, направлением, определенно очерчивая это понятие хронологически и именами деятелей, – он заботится о том, чтобы установить яркий общий принцип, принцип, который стремился бы утвердить символизм. Это символизм всякого истинного искусства. Мы убеждены, что этой цели достигли, что символизм отныне навсегда утвержден как принцип всякого истинного искусства, из чего вовсе не следует, что мы хорошо применяли этот принцип. Быть может, окажется, что мы, именно мы, утвердившие этот принцип, мы были вместе с тем самыми недостойными применителями его. Так, на практике символисты не всегда оправдывали свое название и по существу дела вовсе не были ими.
Я позволю себе для большей ясности своего изложения еще одно сравнение, которое почерпнуто из истории церкви, из истории церковного догмата, потому что в истории церковного догмата это яснее вследствие определенности этого догмата, нежели в истории каких-либо иных идей. Тут всякий принцип окончательно ясно формулируется. Когда отцы первых вселенских соборов провозгласили «единосущие», то вера именно именно в этот догмат, приятие этого догмата и абсолютное неприятие обратного спорящего догмата о «подобосущий» – все это было истинным признаком всякого «православного» христианина и отличием от еретика. Но как же люди, провозгласившие это, должны были смотреть на своих предшественников, за первые века христианства? Ясно, что они еретиками провозглашены не были, а, напротив, было признано, что они и учили, и признавали догмат о единосущии. Но с тех пор как этот догмат был осознан и формулирован, он сделался формальным требованием принадлежности к церкви. Подобное происходит и с символизмом.
Начиная с Гете идет в истории новой литературы движение, которое стремится к тому, чтобы утвердить символический характер всякого истинного искусства. С особенной интенсивностью и с особенной четкостью это было достигнуто как раз в новейшей русской литературе. Родоначальником символизма является в этом смысле Тютчев. Если я говорю, что символизм восторжествовал, то не хочу сказать, что восторжествовал Сологуб, Брюсов, а что, несомненно, восторжествовал Тютчев, который сделался народной русской славой. Между тем не так давно его оценивали как мелкого поэта прошлого. Точно так же восторжествовал Достоевский как символист. Правда, Достоевский всегда оценивался высоко, но потом стали оценивать все выше и выше, и характерно, что последняя оценка Достоевского базировалась, зиждилась на его истолковании как символиста. Таким образом, словам «символист» и «символизм» я придаю более широкое значение и не склонен защищать нашу школу, наши навыки, наши каноны, а думаю провозгласить догмат православия искусства в его церковном сознании. Я делаю это с полным уважением к тому источнику, откуда я почерпаю свою метафору, ибо искусство есть поистине святыня.
Но после того как утверждено искусство как символизм, после этого, казалось, должны были прекратиться все толки о том, кончилась школа или не кончилась, каков специальный канон символистов и т. п., ибо если всякое искусство символично, то может быть символизм классический, романтический, может быть символизм футуристический, если футуризм окажется чем-нибудь достойным внимания. Символизм есть общий признак искусства и сознан был как нечто важное. Почему важное, конечно, здесь я не могу разъяснить за неимением времени. Настоящие возражения против новейшего искусства должны быть сообразованы с этим. Надо различать возражения, направленные на школу или на ее представителей, и возражения, направленные на самый догмат, на самый принцип, иначе мы будем путаться.
Что касается первых возражений, то мне их отпарировать вовсе неинтересно, даже если бы дело шло о критике, направленной против меня самого; но если возражения направлены на самый догмат, то я назвал бы это эстетической ересью. Есть различные типы ересей. Мне хотелось бы остановиться на ереси общественного утилитаризма. Димитрий Мережковский, один из бывших символистов, оглашает воздух призывами к разрушению красоты вообще, искусства в частности и символического искусства частнейшим образом. Конечно, он говорит это не серьезно. Слишком это искусившийся человек, чтобы я не чувствовал в его словах бессознательного притворства. Он не может серьезно верить, что тютчевщина и обломовщина – одно и то же, что от Тютчева пошли самоубийства. Все это он при помощи своих демагогических приемов распространяет по России. Я говорю с некоторым негодованием, потому что самое существо дела возбуждает негодование. Я готов подчеркнуть и положительные стороны этого явления и помочь вам понять это патологическое состояние Мережковского, патологическое и только патологическое, потому что общественность при наших теперешних понятиях никоим образом не затронута вопросом, что Тютчев великий поэт или нет. И, конечно, Тютчев, если он нужен человеку вообще, то, понятно, нужен и человеку, который выступает в общественной борьбе. Не это, собственно говоря, интересно, а интересно, почему возможен феномен Мережковского. Вот почему возможен.
Для символиста, – и здесь я не буду говорить о нашей школе, – характерно именно быть самим собой. Я так понимаю истинного символиста. Только этим определяется истинный символист. Перестать быть символистом для того, чтобы сделаться наивным и жизнерадостным акмеистом, которые говорят, что если вы рассуждаете о Боге, о душе, то это плохо, а если о каких-то экзотических странах, то это хорошо, – это простое ребячество. Символист хочет перестать быть символистом, потому что истинный символист, – быть может, никто из нас не есть истинный символист, – хочет создавать символы. Допустим даже, что великие поэты символисты, как Эсхил, Пиндар, Гезиод, Данте, Гете создают действительно символы. Но между тем именно поэт хочет, чтобы символы были действительными, чтобы они вызывались внутренней жизнью. Он хочет перейти через некоторый таинственный предел, когда слово становится плотью и слово становится делом. Вот стремление к тому, чтобы символ обратился в дело, и побуждает некоторых из наших символистов покидать искусство и создает этот феномен, оппозицию Мережковского не только символизму, но всему искусству вообще.
Что касается других возражений, со стороны чистого эстетизма, что «искусство для искусства и больше ни для чего», то, конечно, это мнение, встречающееся время от времени на протяжении тысячелетней истории человечества как раз в эпохи упадка, в эпохи поверхностного эстетизма, не имеет за собой никакого внутреннего основания и зиждется на недоразумении я выражу свое отношение к этой ереси просто. Единственное задание, предмет всякого искусства есть человек, но не польза человека, а тайна человека, человек, взятый по вертикали, в его росте вглубь и ввысь. Следовательно, человек, изображенный уже вставшим, интересен в искусстве постольку, поскольку он намечает, чем он будет, следовательно, вечный рост, вечный прогресс Человека, человека с большой буквы, тайну Человека, человека в вертикальном развитии.
Вот содержание всякого искусства, и иного содержания нет. Весь внешний мир координируется с ним и становится частью. Религия всегда умещалась в большом и истинном искусстве: достаточно обратиться к зодчеству, живописи и музыке, для того чтобы убедиться, что религия умещается в искусстве. Религиозное задание никогда искусства не понижает, потому что лучшее свое человек отдает Богу и Бог лежит на вертикали. Следовательно, все, что идет по вертикали и не сдвигает ось искусства, дорого, и поскольку вертикально, постольку и символично. Польза же, утилитаризм, лежит, наоборот, по горизонтали на перпендикулярной поверхности, пересекающей вертикаль. Ясное дело, стремление к утилитарному сейчас же прекращает всякое художественное действие, и искусство перестает быть искусством!
Таким образом, я отстранил две типические ереси: ересь возрождения утилитаризма и ересь поверхностного эстетизма, и повторяю, что с удалением этой ереси явится провозглашение и как бы подтверждение в художественном сознании торжествующего искусства, символичного по своей природе, всегда и навеки.
(Продолжительные аплодисменты.)
Комментарии
Неутолимое*
Все рассказы цикла печ. по изд.: Сологуб Ф. Собр. соч.: В 20 т. Т. 14. Неутолимое. СПб.: Сирин, 1913. Источники первых публикаций названы в примечаниях автора к этому тому.
Поцелуй нерожденного*
Утро России. 1911. 25 декабря. № 297.
Лоэнгрин*
Речь. 1911. 25 декабря.№ 354.
Мечта на камнях*
Речь. 1912. 1 января. № 1.
…увлеклась… «Ключами счастия», но с охотою слушала и старые романы Диккенса, Теккерея и Элиота. – «Ключи счастья» – роман А. А. Вербицкой. Диккенс, Теккерей, Элиот – классики английского романа Чарльз Диккенс (1812–1870), Уильям Мейкпис Теккерей (1811–1863), Джордж Элиот (наст, имя Мэри Анн Эванс; 1819–1880).
…зачитывалась в то время книгами Вербицкой и Нагродской. – Вербицкая Анастасия Алексеевна (1861–1928) – писательница, автор романов, ориентированных на массового читателя и посвященных проблемам женской эмансипации и отношению полов. Нагродская Евдокия Аполлоновна (1866–1930) – писательница, дочь А. Л. Панаевой, автор романов, имеющих эротическую направленность.
Смутный день*
Русское слово. 1912. 8 января. № 6.
Турандина*
Голос земли. 1912. 15 и 17 января. № 6, 8.
Алая лента*
Новое слово. 1912. № 1.
Звериный быт*
Земля. 1912. № 8.
…уродливая помесь Урии Типа из Диккенсова романа и капитана Лебедкина из Достоевского. – Урия Гип – персонаж романа Диккенса «Дэвид Копперфильд». Капитан Лебедкин (правильно – Лебядкин) – персонаж романа Достоевского «Бесы».
Дама в узах. Легенда белой ночи*
Огонек. 1912. 19 мая. № 21. Посвящение – Наталье Ильиничне Бутковской (1878–1948), актрисе и режиссеру постановок в «Бродячей собаке» и «Старинном театре», издательнице книг Н. Н. Евреинова, второй жене театрального художника А. К. Шервашидзе, с которым в 1920 г. уехала в эмиграцию.
Сдавшиеся*
Русское слово. 1912. 25 декабря.
Венчанная*
Русское слово. 1913. 14 апреля.
Из рассказов, не вошедших в книги
Царица поцелуев*
Перевал. 1907. Март. № 5; Сказки для взрослых: Сборник. М., 1908. Печ. по отдельному изд.: Сологуб Ф. Царица поцелуев. Пг.: Myosotis, 1921.
День шестьдесят седьмой*
Золотое руно. 1908. № 7–9.
Заклинательница змей*
Пг.: Эпоха, 1921. Печ. по этому изд. О том, когда писался роман, говорит заметка, появившаяся в «Вестнике литературы» (СПб., 1914 № 3. С 48): «Федор Сологуб заканчивает новый роман под заглавием „Заклинательница змей“. Другой, задуманный писателем, – „Дочь депутата“. Героиня этого романа продает в деревне молоко, в то время как дочь ее в Петербурге законодательствует» «Заклинательница змей» была написана по мотивам одноименной пьесы, которая осталась незавершенной. Рецензируя роман в журнале «Петербург» (1922. № 2), В. Б. Шкловский писал: «Если перечислять направления, существующие в современной русской литературе, то нужно будет прибавить к немногому числу их еще одно направление: „Федор Сологуб“. Писать об этом человеке-направлении очень трудно, потому что не с кем сравнивать и нечем мерить. Он возник во время символизма, но умер символизм, умерли его формы, а в мире Федора Сологуба идет своя жизнь этих форм. Может быть, эти формы и родились для того, чтобы жить в мире Сологуба» (Цит. по кн.: Шкловский В. Гамбургский счет. М., 1990. С. 141)
Рантьер (от фр. rentier) – рантье, лицо, живущее на проценты с капитала.
…пойду к Светлому озеру. – По преданию, у берегов Светлого озера (Светлояр в Нижегородской обл.) находился Китеж-град, легендарный русский город, чудесно спасшийся во время монголо-татарского нашествия в XIII в.: как только войска Батыя подошли к Китежу, город стал невидимым и опустился на дно озера Светлояр.
Зачем тут этот хаз лиловый ходит? – Хаз – франт, щеголь, мот; наглец, нахал и пройдоха (В. И. Даль).
Марфа-Посадница – вдова новгородского посадника Исаака Андреевича Борецкого (конец XIV – до 1471). После смерти мужа возглавила вместе с сыном Дмитрием антимосковскую партию бояр Новгорода, которые вели переговоры о переходе в подданство Великого княжества Литовского. В 1478 г. арестована и выслана в Москву.
…во время октоберферста в Мюнхене… – Октябрьские народные гуляния (нем. Octoberstfest), празднества, традиционно проводившиеся в Мюнхене.
Таормина – древний итальянский город на о. Сицилия.
Сан-Себастиан – испанский город на берегу Бискайского залива.
Из-за острова на стрежень… – Первая строфа из народно-песенной обработки стихотворения Дмитрия Николаевича Садовникова (1847–1883). Песня входила в репертуар Ф. И. Шаляпина, Н. В. Плевицкой и др.
На земле весь род людской… – Куплеты Мефистофиля из второго акта оперы французского композитора Шарля Гуно (1818–1893) «Фауст» (1859). Эту роль триумфально исполнял Ф. И. Шаляпин.
Старый муж, грозный муж… – Песня Земфиры из оперы Сергея Васильевича Рахманинова (1873–1943) «Алеко» (1892) по поэме Пушкина «Цыганы».
Любви все возрасты покорны… – Ария Гремина из оперы Петра Ильича Чайковского (1840–1893) «Евгений Онегин» (1878) на сюжет одноименного романа А. С. Пушкина.
Я – вечно твоя Перикола… – Из оперетты французского композитора Жака Оффенбаха «Перикола» (1868).
…«вечно любить невозможно»… – Из стихотворения Лермонтова «И скучно, и грустно» (1840).
Григорий Нисский – (ок. 335–394) – церковный писатель, теолог, епископ г. Нисса (М. Азия).
Комиссар, комиссар! Бьет Колен свою Колетту!.. – Из песни французского поэта Пьера Жана Беранже (1780–1857) «Счастливая чета».
…из пены морской возникла бессмертная Афродита. – Имеется в виду древнегреческий миф о рождении богини любви и красоты.
…как плененная в обширном Илионе Елена… – Илион – второе название древней Трои, место действия поэмы Гомера «Илиада». Елена – прекраснейшая из женщин, из-за которой разразилась Троянская война.
Статьи. Эссе. Заметки
Смертный лик Гюи де Мопассана*
Печ. по изд.: Мопассан Гюи де. Поли. собр. соч.: В 30 т. Новые переводы с последнего (юбилейного) издания Ал. Чеботаревской, 3. Венгеровой, С. Городецкого, Б. Зайцева, Ф. Сологуба, Ан. Чеботаревской и др. Т. 30. Жизнь и творчество Гюи де Мопассана. Статьи Эд. Мэниаля, Поля Нею и Федора Сологуба. СПб.: Шиповник, <1912>. В этом издании были опубликованы переводы в основном Александры Николаевны Чеботаревской (1869–1925). Сологуб перевел роман «Сильна как смерть», а его жена Ан. Н. Чеботаревская – роман «Наш милый друг». Участвовала в этом «семейном» проекте также третья из пяти сестер Чеботаревских – О. Н. Черносвитова (перевела роман «Пьер и Жан» и новеллу «Орля»).
Вместо предисловия*
Печ. по изд.: Северянин И. Громокипящий кубок. Поэзы. М.: Гриф, 1913.
Предисловие*
Печ. по изд.: Любовь в письмах выдающихся людей XVIII и XIX века. Составлено Анастасией Чеботаревской. М: Московское книгоиздательство, 1913. В книге представлены избранные письма к возлюбленным Байрона, Бальзака, Белинского, Бетховена, Бодлера, Вагнера, Вольтера, Гамбетты, Гарибальди, Гейне, Герцена, Гете, Грибоедова, Гюго, Державина, Жуковского, Ибсена, Клейста, Лассаля, Лакло, Мирабо, Мюссе, Наполеона, Огарева, Э. По, Пушкина, Ж. Санд, Соловьева, Стендаля, А. Толстого, Л. Толстого, Тургенева, Успенского, Фихте, Флобера, Чернышевского, Шатобриана, Шиллера, Шумана и др.
О символизме*
Заветы, 1914. Кн. 2. Отд. 2; под названием «Символисты о символизме». Вступительное слово на публичном «Диспуте о современной литературе», состоявшемся в Петербурге в январе 1914 г. Выступления оппонентов Сологуба – Г. И. Чулкова и Вяч. И. Иванова – публикуются в Приложении.
Рукавишников Иван Сергеевич (1877–1930) – поэт-символист, прозаик. Автор автобиографического романа «Проклятый род» (1912), принесшего писателю известность. В статье Сологуб допустил неточность, назвав роман «Железный род».
Белый Андрей (наст, имя и фам. Борис Николаевич Бугаев; 1880–1934) – поэт, прозаик, литературовед, мемуарист; теоретик символизма.
Брюсов Валерий Яковлевич (1873–1924) – поэт, прозаик, драматург, критик, литературовед, переводчик, литературно-общественный деятель; один из вождей и теоретиков русского символизма.
Иванов Вячеслав Иванович (1866–1949) – поэт, драматург, филолог, критик, теоретик символизма
Заметки*
Дневники писателей. СПб., 1914.Март.№ 1. С. 12–18. С. 407.
Овсянико-Куликовский Дмитрий Николаевич (1853–1920) – литературовед, лингвист, критик, публицист
Гримм Давид Давидович (1864–1941) – юрист, профессор правоведения, ректор Петербургского университета (оставил должность вследствие студенческих беспорядков в 1911 г.). Член Государственного совета (1907). В 1917 г. министр просвещения во Временном правительстве. После Октябрьского переворота в эмиграции.
Проф<ессор> Бодуэн де Куртенэ предсказывал черные дни для государства, приговорен за это к двум годам крепости… – Сообщение об этом появилось в «Вестнике литературы» (1914. № 4. С. 76): «В особом присутствии судебной палаты с участием сословных представителей рассмотрено 28 февраля дело профессора И. А. Бодуэна-де-Куртенэ, 68 лет, привлеченного по 1 п. 129 ст. уголовного уложения за составление брошюры „Национальный и территориальный признак в автономии“, в содержании которой усмотрен призыв к ниспровержению существующего в России государственного и общественного строя. Автор книги старался доказать, что такое обширное государство, как Россия, представляющее собою „географический колосс“ и „государственное чудовище“, не может жить без политической автономии отдельных областей. Бодуэн-де-Куртенэ виновным себя не признал. Особое присутствие после очень продолжительного совещания вынесло обвинительный приговор, присудив обвиняемого в крепость на 2 года Бодуэн-де-Куртенэ был взят под стражу, но тут же освобожден под залог 6000 рублей, которые внес бывший член Государственной думы Бабянский». Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ (184S-1929) – языковед, один из виднейших представителей общего и славянского историко-сравни-тельного языкознания. Подготовил новое издание (со своими дополнениями) «Толковый словарь» В. И. Даля (3-е изд., 1902–1909).
«И прежний сняв венок, они венец терновый…» – Из стихотворения Лермонтова «Смерть поэта» (1837).
Кассандра – в греческой мифологии предсказательница, вещим словам которой никто не верил.
Фамусов, Загорецкий – персонажи комедии Грибоедова «Горе от ума» (1824).
«Уж коли зло пресечь…» – Здесь и ниже цитаты из «Горя от ума» А. С. Грибоедова.
Антон Крайний–один из псевдонимов поэта, прозаика, публициста, драматурга Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869–1945).
…давно ли был провозглашен конец Горького! – Имется в виду вызвавшая полемику статья «Конец Горького» (1907) Дмитрия Владимировича Философом (1872–1940).
Пшибышевский Станислав (1868–1927) – польский писатель.
Мольер (наст, имя и фам. Жан Батист Поклен; 1622–1673) – французский комедиограф, актер, реформатор театра.
Рихард Вагнер (1813–1883) – немецкий композитор, дирижер, музыкальный писатель. Автор оперной тетралогии «Кольцо Нибелунга».
…как Ерьзя из мрамора. – Степан Дмитриевич Эрьзя (наст. фам. Нефедов; 1876–1959) – скульптор.
«Детство» в фельетонах «Русского слова». – Автобиографическая повесть Горького «Детство» публиковалась в газете «Русское слово» (с 25 августа 1913 г. по 30 января 1914 г.).
Кайо Жозеф (1863–1944) – в 1899–1914 гт. и 1925–1926 гт. министр финансов в правительстве Франции. Газета «Фигаро» в 1913 г. начала против него кампанию, в ходе которой редактор Кальмет опубликовал интимные письма Кайо к жене, что привело к трагедии: жена Кайо 16 марта 1914 г. застрелила Кальмета.
Искусство наших дней*
Русская мысль. 1915. № 12. В основе статьи – лекция, которую Сологуб прочитал в 39 городах (см.: Дневники писателей. Вести о писателях и о книгах. СПб., 1914. Март. № 1. С. 54). О лекционных поездках Сологуба см. подробно: Лавров А.В. Федор Сологуб и Анастасия Чеботаревская. В кн.: Неизданный Федор Сологуб. М, 1997. С. 296–299.
«По звездам» (1909) – сборник статей 1904–1909 гг. Вяч. И. Иванова, посвященных теории символизма.
С природой одною он жизнью дышал… – Из стихотворения Е.А Баратынского <<На смерть Гете>> (1832).
Чацкий – герой комедии Грибоедова «Горе от ума».
Митрофанушка – герой комедии Фонвизина «Недоросль» (1782).
Плюшкин – персонаж поэмы Гоголя «Мертвые души».
Евгений Онегин – герой одноименного романа Пушкина.
Гамлет – герой одноименной трагедии Шекспира.
Фальстаф – комический персонаж пьес Шекспира «Генрих IV» (1596–1598), «Виндзорские насмешницы» (1597–1600) и др.
Аста Нильсен (1881–1972) – датская актриса, популярная исполнительница ролей «роковых» женщин в немом кино.
И какое нам дело до самого Шекспира и до того, кто он, Бэкон, или Рутленд… – Названы два имени (из многих), которым антишекспиристы гипотетически приписывали авторство пьес Шекспира: философ Фрэнсис Бэкон (1561–1626) и граф Ретлэнд. Сологуб, вероятно, был знаком с так называемой «ретлэндовской теорией» Карла Блейбтрея (1907), которую в 1918 г. обстоятельно разработал бельгиец Дамблон, а на русском языке изложил Ф. Шипулинский в своей книге «Шекспир – Ретлэнд» (1924).
Доктор Филиппе Меччио – персонаж романа Сологуба «Творимая легенда» (ч. 2. Королева Ортруда).
Тартюф – персонаж комедии Мольера «Тартюф, или Обманщик» (1664).
Оскар Уайльд (1854–1900) – английский поэт, прозаик, драматург, эссеист.
Эсхил (ок. 525–456 до н. э.) – древнегреческий драматург, «отец трагедии»; автор 80 драм, из которых до нас дошли семь, в том числе трагедии «Семеро против Фив», трилогия «Орестея», «Прикованный Прометей».
Софокл (ок. 496–406 до н. э.) – древнегреческий драматург, автор семи дошедших до нас трагедий: «Антигона», «Эдип-царь», «Электра» и др.
Ибсен Генрик (1828–1906) – норвежский драматург.
Метерлинк Морис (1862–1949) – бельгийский драматург, поэт-символист, критик; автор шедевра мировой драматургии – драмы «Синяя птица», впервые поставленной в 1908 г. на сцене МХТ. Лауреат Нобелевской премии (1911).
Раскольников – герой романа Достоевского «Преступление и наказание» (1866).
…великий поэт Тютчев… столь жестоко оклеветанный христиански злобствующим Д. С. Мережковским. – Сологуб имеет в виду книгу Д. С. Мережковского «Две тайны русской поэзии. Некрасов и Тютчев» (1915), содержащую остро полемические суждения о поэтах. Называя Тютчева «пророком, учителем жизни», «всемирнейшим из русских поэтов», Мережковский вместе с тем пишет о нем так. «Русская поэзия больна, потому что больна Россия. Больна, заражена, отравлена. Чистейший кристалл этого яда или чистейшая культура этой бациллы – в Тютчеве. <… > Трудно больному судить о болезни: так трудно нам судить о Тютчеве, быть к нему справедливыми… Будем же не только справедливы к Тютчеву, будем любить и ненавидеть его до конца, иначе не поймем, а понять его нам нужно: понять его значит выздороветь… Его болезнь – наша: индивидуализм, одиночество, безобщественность». Это «тайно-видение» Мережковского критики, с которыми был солидарен Сологуб, единодушно сочли за литературное фокусничанье (Б. М. Эйхенбаум, Ю. А. Никольский, П. П. Перцов и др.).
Чичиков – герой поэмы Гоголя «Мертвые души».
Рудин – герой одноименного романа Тургенева.
Хозяин и Работник – из одноименного рассказа Л. Н. Толстого.
…заветом искусства поставил Поль Верлен требование: «Музыка, музыка прежде всего». – Эти взгляды на стихотворчество французский поэт Поль Верлен (1844–1896) выразил в знаменитом программном стихотворении «Искусство поэзии» (1882):
За музыкою только дело. Итак, не размеряй пути. Почти бесплотность предпочти Всему, что слишком плоть и тело. Не церемонься с языком И торной не ходи дорожкой. Всех лучше песни, где немножко И точность точно под хмельком. Так смотрят из-за покрывала, Так зыблет полдни южный зной. Так осень небосвод ночной Вызвезживает как попало. Всего милее полутон. Не полный тон, но лишь полтона. Лишь он венчает по закону Мечту с мечтою, альт, басон. Нет ничего острот коварней И смеха ради шутовства: Слезами плачет синева От чесноку такой поварни. Хребет риторике сверни. О, если б в бунте против правил Ты рифмам совести прибавил! Не ты – куда зайдут они? Кто смерит вред от их подрыва? Какой глухой или дикарь Всучил нам побрякушек ларь И весь их пустозвон фальшивый? Так музыки же вновь и вновь! Пускай в твоем стихе с разгону Блеснут в дали преображенной Другое небо и любовь. Пускай он выболтает сдуру Все, что впотьмах, чудотвора, Наворожит ему заря… Все прочее – литература.(Перевод Б. Пастернака)
Лишь пойми, скажи, – и будет. Захоти сейчас, сейчас… – Из стихотворения Бальмонта «Быть утром». Константин Дмитриевич Бальмонт (1867–1942) – поэт, критик, эссеист, переводчик; один из вождей русского символизма. В 1906–1913 гт жил за границей. С 25 июля 1920 г. в эмиграции во Франции.
Я люблю одну бездонность… – Из стихотворения Бальмонта «Пронунси-амиэнто» (от исп. pronunciamiento возмущение, восстание).
Я хочу порвать лазурь… – Из стихотворения Бальмонта «Кинжальные слова».
Я хочу быть кузнецом… – Из стихотворения Бальмонта «Кузнец». Хочу быть дерзким, хочу быть смелым… – Из стихотворения Бальмонта «Хочу».
Я хочу, чтобы белым немеркнущим светом… – Из стихотворения Бальмонта «Гимн огню».
Верхарн Эмиль (1855–1916) – бельгийский поэт-символист, драматург, критик.
Мирбо Октав (1848 или 1850–1917) – французский прозаики драматург.
Гауптман Герхард (1862–1846) – немецкий драматург, прозаик, глава немецкого натурализма. Нобелевский лауреат (1912).
Минский Николай Максимович (наст. фам. Виленкин; 1855–1937) – поэт, философ, публицист, драматург, переводчик.
«Дафнис и Хлоя» – любовно-буколический роман древнегреческого писателя Лонга (II–III вв. н. э.), написанный ритмической прозой.
«Павел и Виргиния» («Поль и Виржини»; 1787) – пасторально-идиллический роман французского писателя Жака Анри Бернардена де Сен-Пьера (1737–1814).
«Старосветские помещики» (1835) – повесть Гоголя.
«Движения» (1910) – повесть Сергея Николаевича Сергеева-Ценского (1875–1958).
…миф об Альдонсе, становящейся Дульцинеею. – В романе Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (1605–1615) воображение влюбленного Рыцаря Печального Образа превратило в благородную красавицу Дульсинею Тобосскую крестьянку Альдонсу Лоренсо. «Девка ой-ой-ой, с ней не шути… – рассказывает своему сеньору оруженосец Сан-чо Панса. – А уж глотка, мать честная, а уж голосина!» Но для рыцаря она не деревенская простушка, от зари до зари гнущая спину на скотном дворе или в поле, а – принцесса, о которой он слагает высокопарные вирши. Этот романтический пафос великого романа вдохновил русских символистов, из них в первую очередь Сологуба, на такое же рыцарское служение Красоте. «Подвиг лирического поэта, – пишет Сологуб в очерке „Мечта Дон Кихота“, – в том, чтобы сказать тусклой земной обычности сжигающее нет; поставить выше жизни прекрасную, хотя и пустую от земного содержания форму; силою обаяния и дерзновения устремить косное земное к воплощению в эту прекрасную форму. Лирический подвиг Дон Кихота в том, что Альдонса отвергнута как Альдонса, и принята лишь как Дульцинея. Не мечтательная Дульцинея, а вот та самая, которую зовут Альдонсою. Для вас – смазливая, грубая девка, для меня – прекраснейшая из дам. Ибо не должно быть на земле грубой, смазливой, козлом пахнущей Альдонсы. И если кажется, что она есть, то лирическое восприятие мира требует чуда, требует преображения плоти» (см. т. 2. С. 510).
…«Прозаические бредни, фламандской школы пестрый сор». – Из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (Отрывки из «Путешествия Онегина»).
Лилит – согласно одному из преданий, Бог, сотворив Адама, сделал ему из глины жену и назвал ее Лилит. Не сумев добиться равноправия с Адамом, она взлетела в небо и исчезла. В иудейской демонологии Лилит – злой дух, обычно женского пола.
Айседора Дункан (1877–1927) – знаменитая американская танцовщица, гастролировавшая в 1904–1905 гт с огромным успехом в России. См. о ней подробно в очерке Сологуба «Мечта Дон Кихота (Айседора Дункан)» и в примеч. к нему (см. т. 2. С. 509 и 605).
…в трудах Далькроза, которые… пропагандируются в России князем Сергеем Волконским. – Эмиль Жак-Далькроз (наст, имя Жак; 1865–1950) – швейцарский композитор и педагог, профессор Женевской консерватории; соз-датель новой ритмической гимнастики, основатель и руководитель Института ритмической гимнастики в Хеллерау (близ Дрездена в Германии). Сергей Михайлович Волконский (1860–1937) – театральный деятель, художественный критик, прозаик, литературовед, мемуарист. В 1899–1901 гг. директор Императорских театров. В 1910-х гг. был увлечен системой ритмической гимнастики Жак-Далькроза, которой придавал универсальный смысл, видел в ней средство не только эстетического, но и нравственного воспитания (статьи. «Человек и ритм» // Аполлон. 1911. № 6; «Ритм в истории человечества» // Ежегодник Императорских театров. 1912. № 3; «Ритм в сценических искусствах» // Аполлон. 1912. № 3–4). С конца 1921 г. в эмиграции. В 1930-х гг. директор русской консерватории в Париже. Автор двухтомника «Мои воспоминания» (Берлин, 1923–1924; М, 1992) и книги философских очерков «Быт и бытие. Из прошлого, настоящего и вечного» (Берлин, 1924), посвященного М. И. Цветаевой.
Роден Рене Франсуа О пост (1840–1917) – французский скульптор.
Если в душе твоей ясны… – Из стихотворения Некрасова «Подражание Шиллеру» (опубл. 1879).
«Творимая легенда» – роман Сологуба (см. т. 4).
Маринетти Филиппе Томмазо (1876–1944) – итальянский прозаик, поэт, драматург, теоретик футуризма. Автор книги «Манифесты итальянского футуризма» (М, 1914). Как и его последователи, сотрудничал с Бенито Муссолини, считая фашизм идеологически родственным футуризму. В 1913 г приезжал в Россию.
Воспоминания современников
Зинаида Гиппиус. Отрывочное о Сологубе*
Звено. Париж, 1924.14 апреля. Печ. по изд.: Гиппиус З. Живые лица. Прага, 1925.
Люблю я грусть твоих просторов… – Из стихотворения Сологуба без названия (в цикле «Гимны Родине»; 1903).
Розанов Василий Васильевич (1856–1919) – философ, писатель, критик, публицист.
Да и о Брюсове… он – большевицкий цензор, сумасшедше-жестокий коммунист… – Брюсов в 1917–1919 гт. возглавлял Комитет по регистрации печати, заведовал московским библиотечным отделом и литературным подотделом (ЛИТО) при Наркомпросе, в круг обязанностей которых входили и цензурные функции. «Ввести прямую цензуру, – вспоминает В. Ф. Ходасевич, – большевики еще не решались – они ввели ее только в конце 1921 года» (Ходасевич В. Книжная палата Из советских воспоминаний // Собр. соч. в 4 т. Т. 4. М, 1997. С. 229). В компартию большевиков Брюсов вступил в июле 1920 г. «Но я, – рассказывал Брюсов М. А. Волошину за месяц до своей кончины в 1924 г, – исполнял лишь минимум того, что от меня требовалось, и бывал только на необходимейших собраниях. Три раза я уже подвергался чистке и три раза меня восстанавливали снова в правах без всяких ходатайстве моей стороны. В настоящее время партийный билету меня снова отобран, и я вовсе не уверен, буду ли я восстановлен на этот раз» (Волошин М. Л. В. Брюсов. Воспоминания. Фрагменты. В кн.: Лит. наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты: В 2-х кн. Кн. 2. М, 1994. С. 396). А вот свидетельство Р. Б. Гуля: «При жизни Брюсова партия и правительство окружили его почестями, как сдавшегося в плен полководца вражеской армии, сдавшегося на милость победителей. Но и партия и Брюсов хорошо понимали, что Валерий Яковлевич – коммунист, вульгарно говоря, бутербродный. Ни вождя Пролеткульта, ни искусствоведа-марксиста из него не сделать. Ведь именно Брюсов до революции определил Ленина и его партию как „врагов искусства“») (Руль Р. Одвуконь. Нью-Йорк, 1973. С. 313).
…пишет оды на смерть Ленина… – Стихотворениями «После смерти В. И. Ленина», «Ленин», «У Кремля» и др. Брюсов открыл свой последний прижизненный сборник «Меа» (лат.: «Спеши»; 1924). А затри года до этих «од Ленину» Брюсов издал сборник «В такие дни. Стихи 1919–1920» (М, 1921), который удивил всех его друзей. Гиппиус была раздражена многими текстами этой книги («Третья осень», «К русской революции», «Серп и Молот» и др.), высокопарно славившими Октябрьский переворот большевиков и гражданскую войну.
…написать еще одну (которую?) статью о его произведениях. – Гиппиус – автор статей «Слезинка Передонова. То, чего не знает Ф. Сологуб» (Речь. 1908. № 273) и «Иринушка и Ф. Сологуб. По поводу пьесы „Заложники жизни“» (Русская мысль. 1912. № 12).
Быть с людьми – какое бремя!.. – Из стихотворения Сологуба, начинающегося этой строкой (1901).
«Тени» – рассказ Сологуба, напечатанный в журнале «Северный вестник» (1894. № 12), в третий том его прижизненного собрания сочинений вошел под названием «Свет и тени» (1913).
…кажется, «Ограда». – Вероятно, стихотворение Сологуба, начальные строки которого «Проходил я мимо сада. // Высока была ограда» (Северный вестник. 1896. № 10).
Граф Соллогуб Владимир Александрович (1813–1882) – прозаик, автор повести «Тарантас» (1845), сделавшей его знаменитым.
Поле-Рояль – дом с меблированными комнатами на Пушкинской улице в Петербурге, в котором селились многие литераторы.
Перцов Петр Петрович (1868–1947) – критик, публицист, издатель журнала «Но-вый путь» (1903–1904). Автор «Литературных воспоминаний. 1890–1902» (1933).
…эстеты «Мира искусства»… – Имеются в виду художники и литераторы, входившие в объединение «Мир искусства» (юнец 1890-х-1904,1910–1924). Это были теоретики и практики русского модерна, выдающиеся деятели русской культуры Серебряного века: Л. Бакст, А. Н. Бенуа, ИЛ. Билибин, И. Э. Грабарь, MB. Добужинский. СП. Дягилев, К. А. Коровин, Б. М. Кустодиев, Е. Е. Лансере, И. И. Левитан, Н. К. Рерих, В.А Серов, К. А. Сомов. В1899-1904 гг. кружковцы выпускали журнал «Мир искусства» (его издателями были князь М.К Тенишев и СИ Мамонтов, редакторами – Дягилев и Бенуа). В «Мире искусства» активно печатались Сологуб, Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, Д. В. Философов, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, В. В. Розанов, А Белый, Н. М. Минский, Л. Шестов.
…Приветствую тихие стены… – Из стихотворения Сологуба «Тихие стены» (1897).
Он учитель и директор… этой школы. – Переехав в Петербург, Сологуб в 1893–1899 гг. преподавал математику в Рождественском городском училище, а в 1899–1907 гг. служил учителем-инспектором в Андреевском городском училище на Васильевском острове, где и жил на казенной квартире.
…с сестрой, пожилой девушкой… – Младшая сестра, друг и помощник Сологуба Ольга Кузьминична Тетерникова (1865–1907) – медик; в 1893 г. окончила Повивальный институт, ей был вручен диплом повивальной бабки. В 1895 г. получила свидетельство акушерки. Умерла от туберкулеза.
Появлялись одна за другой его книжки… потом роман… – Первые книги Сологуба – «Стихи. Книга I», «Тени. Рассказы и стихи», «Тяжелые сны. Роман» вышли в Петербурге одновременно в 1896 г.
…Хочу конца, ищу начала… – Из стихотворения Сологуба «Наивно верю временам…» (1904).
«Звезда Маир», «земля Ойле» – образы из стихотворного цикла Сологуба «ЗвездаМаир» (1898–1901). По предположению МИ. Дикман(см.: Сологуб Ф. Стихотворения. Л., 1975. С. 599), «земля Ойле» – по имени Оле-Лукойе(датск: «Оле – закрой глазки»), которое носят братья из одноименной сказки Андерсена, олицетворяющие сон и смерть; звезда Маир – по аналогии с Альтаир из созвездия Орла
Адам… тоскует об ушедшей, легкой Лилит. – Согласно одному из преданий, Бог, сотворив Адама, сделал ему из глины жену и назвал ее Лилит. Не сумев добиться равенства с Адамом, она улетела.
«Чертовы качели» (1907) – стихотворение Сологуба, положенное на музыку А. А. Архангельским, B. C. Якушевским (оба – мелодекламация; 1910) и Д. В. Морозовым.
Полит<ический> Кр<асный> Крест – название нелегальных организаций, создававшихся в России и за рубежом с 1881 по 1917 г. для помощи политзаключенным и ссыльным. В 1922–1938 гг. под руководством первой жены Горького Екатерины Павловны Пешковой (1878–1965) действовала организация «Помощь политическим заключенным», участники которой разделили трагическую судьбу тех, о ком заботились: они, за редким исключением, были репрессированы.
….прочтем нашу перетеку шутливую? – Эта переписка (1905) состоит из трех стихотворений Гиппиус («Все колдует, все пророчит…», «Реплика ведьмы», «Ты не один в своей печали…») и двух – Сологуба («Заклятие первое. Зинаиде Гиппиус», «Заклятие второе. Зинаиде Гиппиус»). См. об этом подробно: Русская литература 1991. № 2. Публикация и примеч. А. Л. Соболева, а также в кн.: Гиппиус З. Н. Стихотворения. Подголовка текста (по автографу ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 7. Ед. хр. 10) и примеч. А. В. Лаврова СПб., 1999. С. 530–531.
Все колдует, все морочит… – Вариант стихотворения Гиппиус «Все колдует, все пророчит…».
…прекрасным стихотворением о «Кругах». – Имеется в виду стихотворение Гиппиус «Реплика ведьмы» («Эко диво, ну и страхи!..»). Далее по памяти (неточно) цитируются строки из этого стихотворения.
Водой спокойной отражены… – Начало стихотворения Сологуба без названия (1903) из книги «Пламенный круг» (М., 1908; впервые: Новый путь. 1904. № 7). Ниже цитируются другие строки этого стихотворения.
…«кирпич в сюртуке»! – Из мемуарной книги поэта Георгия Владимировича Иванова (1894–1958) «Петербургские зимы». Глава XIV, посвященная Сологубу, начинается таким портретом: ««Кирпич в сюртуке» – словцо Розанова о Сологубе. По внешности, действительно, не человек – камень. Движения медленные, натянуто-угловатые. Лысый огромный череп, маленькие, ледяные, сверлящие глазки. Лицо бледное, неподвижное, гладко выбритое. И даже большая бородавка на этом лице – каменная. И голос такой же:
Лила, лила, лила, качала Два темно-алые стекла. Белей лилей, алее лала Была бела ты и ала… –читает Сологуб, и кажется, что это не человек читает, а молоток о стену выстукивает эти ровные, мерные, ничего не значащие слова». Неточная цитата. У Сологуба: «…два тельно-алые стекла. // Белей лилей, алее лапа //Бела была ты и ала…»
…в молчании // Ты постигнешь закон бытия. – Из стихотворения Сологуба «Своеволием рока…»(1900).
…Я – все во всем, и нет иного… – Из стихотворения Сологуба «В последнем свете злого дня…» (1903).
Чеботаревская Анастасия Николаевна (1876–1921) – критик, переводчик. Жена Сологуба. Покончила с собой. См. также примеч. к с. 458.
«Помнишь, не забудешь?» (1911) – рассказ Сологуба, о котором Гиппиус написала рецензию «Иринушка и Сологуб» (Русская мысль. 1912. № № 12). У Сологуба в названии рассказа вопросительный знак отсутствует.
Не узнавай, куда я путь склонила… – Из стихотворения Жуковского «Голос с того света» (1815); вольный перевод стихотворения Ф. Шиллера «Текла. Голос духа».
Я здесь один, жесток мой рок… – Первая строка стихотворения Сологуба без названия (1900).
Писали радостно… что их «выпускают». – Прошение о выезде за границу на лечение Сологуб написал в Совет Народных Комиссаров 10 декабря 1919 г Положительный ответ был получен в начале 1921 г, но 15 июня того же года пришел отказ. См. об этом в рецензии Ходасевича (приложение к этому тому). Осенью Сологубу и Чеботаревской выезд вновь разрешили. «Вся эта история, – вспоминает Ходасевич, – поколебала душевное равновесие Анастасии Николаевны: когда все уже было улажено и чуть ли не назначен день отъезда, в припадке меланхолии она бросилась в Неву с Тучкова моста» (Ходасевич В. Ф. Некрополь. В изд.: Собр. соч.: В 4 т. М.: Согласие, 1997. Т. 4. С. 118).
Пылавшие в огне – сгорели… – Стихотворение Гиппиус, написанное для очерка о Сологубе.
Игорь Северянин. Салон Сологуба*
Газета «Сегодня вечером». Рига. 1927. № 291. Републикация: Даугава. Рига. 1989. № 7.
Калмаков Николай Константинович (1873–1955) – живописец, график, сценограф, оформлявший обложки книг Сологуба, создававший декорации и костюмы к спектаклям по его пьесам «Ночные пляски» и «Мечта-победительница». С 1918 г. в эмиграции. С1924 г. в Париже. В1982 г режиссер Анни Тресгот сняла фильм о судьбе художника «Ангел бездны» (в 1986 г. под таким названием в Париже прошла также ретроспективная выставка картин Калмакова).
Ахматова Анна Андреевна (наст. фам. Горенко, в замуж. Гумилева; 1889–1966) – поэт.
Глебова-Судейкина Ольга Афанасьевна(1885–1945) – драматическая актриса, танцовщица театра В. Ф. Комиссаржевской, выступала в литературно-артистических кабаре «Бродячая собака» и «Привал комедиантов». В 1907–1916 гт первая жена С. Ю. Судейкина. «Коломбине десятых годов», так ее называла А Ахматова, она адресовала «Второе посвящение» к «Поэме без героя» (1945) Ей также посвятили стихи Ф. Сологуб (более десяти), М Кузмин, И Северянин, Г Иванов, Вс. Князев и др. С 1924 г в эмиграции.
Вл. Бестужев-Гиппиус – Владимир (Вольдемар) Васильевич (псевд. Вл. Бестужев, Вл. Нелединский; 1876–1941) – поэт, прозаик, критик, педагог.
…И ныне, в этой зале шумной… – Последняя строфа стихотворения «Люблю я все соблазны тела…»(датировано: «Ночь на 1 января 1914 г»), завершающего книгу «Очарования земли. Стихи 1913 года» (Сологуб Ф. Собр. соч. Т. 17. СПб.: Сирин, 1914).
Шишков Вячеслав Яювлевич (1873–1945) – русский писатель, прозаик.
«Бродячая собака» (1911–1915) – литературно-артистическое кабаре в Петербурге, весьма популярное среди творческой элиты того времени, где проводились театральные спектакли, балетные и музыкальные представления, литературные вечера и чествования, а также читались лекции и доклады, представлявшие различные аспекты литературно-художественной жизни.
Арабажин Константин Иванович (1866–1929) – критик, историк литературы. С 1913 г. профессор Гельсингфорского университета. Редактор рижской газеты «День» (1922).
Верховский Юрий Никандрович (1878–1956) – поэт, историк литературы, переводчик. В 1920-е гг. друг Сологуба и семьи Черносвитовых.
Судейкин Сергей Юрьевич (Георгиевич; 1882–1946) – живописец, график, театральный художник. Один из организаторов московской выставки и объединения «Голубая роза» (1907), член-учредитель «Мира искусства» (с 1911 г). Оформлял спектакли для оперной антрепризы С. И. Мамонтова, в театрах В. Ф. Комиссаржевской, Малом, Камерном и др. В 1920 г эмигрировал в Париж В сентябре 1922 г. вместе с театром Н. Ф. Балиева выехал в США и поселился в Нью-Йорке, где оформлял спектакли А. П. Павловой,И. Ф. Стравинского и др.
Философов Дмитрий Владимирович (1872–1940) – критик, публицист; один из организаторов и руководителей Религиозно-философского общества в Петербурге (1907–1917). Автор книг «Слова и жизнь. Литературные споры новейшего времени. 1901–1908» (1909), «Неугасимая лампада», «Старое и новое. Сборник статей по вопросам искусства и литературы» (обе 1912). С 1920 г. в эмиграции в Варшаве. Соредактор газет «За свободу!» (1921–1932), «Молва» (1932–1934) и «Меч» (1934–1939).
Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874–1940) – актер МХТ (с 1898), режиссер-новатор. Постановщик пьес Сологуба «Победа смерти» и «Заложники жизни». Необоснованно репрессирован.
Шерваишдзе (Чачба) Александр Константинович, князь (1867–1968) – сценограф, живописец, график, художественный критик. В 1900–1910 гт. художник Императорских театров и Старинного театра. Оформил около 40 спектаклей для Мариинского и Александрийского театров. Автор портретов артистов, художников, писателей. Активно сотрудничал в журналах «Мир искусства», «Аполлон», «Золотое руно». С 1920 г. в эмиграции.
Потемкин Петр Петрович (1886–1926) – поэт, прозаик, драматург, переводчик, актер, шахматист. В 1910-е гг. успехом пользовались его театральные миниатюры для театров-кабаре «Дом интермедий», «Летучая мышь», литературно-артистических кабаре «Бродячая собака», «Привал комедиантов», «Кривое зеркало». С ноября 1920 г. в эмиграции.
Хованская Евгения Алексеевна (1887–1977) – актриса, исполнительница главных ролей в театрах «Кривое зеркало», «Дом интермедий» и др. Первая жена П. Л. Потемкина.
Тимме – вероятно, Елизавета Ивановна Тиме (1884–1968), актриса Александрийского театра. Участница спектаклей в «Доме интермедий».
Тхоржевская Н.К. – актриса Александрийского театра.
Каратыгин Вячеслав Гаврилович (1875–1925) – музыкальный критик, композитор, педагог. Исследователь и пропагандист музыки А. Н. Скрябина. В 1908–1915 гг. писал музыку к спектаклям В. Э. Мейерхольда в театре В. Ф. Комиссар жевской и др. Вел музыкально-критические разделы в журнале «Аполлон» и газете «Речь», сотрудничал в журналах «Театр и искусство», «Музыкальный современник» и в «Ежегоднике Императорских театров».
Кречетов–псевдоним Сергея Алексеевича Соколова (1878–1936), поэ-та, прозаика, переводчика, критика, публициста, издателя До начала июля 1906 г. Соколов заведовал литературно-критическим отделом в журнале «Золотое руно». В 1903–1914 гг. владелец московского издательства «Гриф», издатель журнала «Перевал». Участник Первой мировой войны (с 1915 до 1918 г. был в немецком плену). С1920 г. в эмиграции. В Берлине возглавлял издательство «Медный всадник», выпускавшее одноименный альманах. В 1922–1933 гг. редактор (совместно с генералом П. Н. Красновым) журнала «Русская правда».
Озаровский Э. – Вероятно, Озаровский Юрий (Георгий) Эрастович (1869–1927), актер Александрийского театра, режиссер, педагог.
Тиняков Александр Иванович (один из многих псевд. Одинокий; 1886–1934) – поэт, публицист, критик.
Гумилев Николай Степанович (1886–1921) – поэт, критик, переводчик; один из ведущих акмеистов. Осенью 1920 г. был вовлечен в так называемый «таганцевский заговор» и 25 августа 1921 г. расстрелян.
…премьера «Заложников жизни» в Александрийском театре. – В Александринке эту драму Сологуба В. Э. Мейерхольд впервые поставил б ноября 1912 г. В сезон 1912/13 гт спектакль был показан 24 раза и вызвал полемику в печати.
Надежда Тэффи. Федор Сологуб*
Новое русское слово. Нью-Йорк. 1949.9 января. Печ. по изд.: Воспоминания о Серебряном веке. М: Республика, 1993. Автор очерка – прозаик, поэт, критик, драматург Тэффи (наст, имя и фам. Надежда Александровна Лохвицкая; 1872–1952). С 1919 г в эмиграции. Собрат Тэффи по острословию Саша Черный писал о ней: «Прежние писательницы приучили нас ухмыляться при виде женщин, берущихся за перо, но Аполлон сжалился и послал нам в награду Тэффи, не „женщину-писательницу“, а писателя большого, глубокого и своеобразного».
…Сологуб написал ваших «Пчелок»? – Стихотворение «Швея» Сологуба было опубликовано с примечанием: «От редакции. Г. Сологуб просил нас предупредить читателей, что тема его стихотворения „Швея“ совпадает с темой стихотворения „Пчелки“, которое было написано самостоятельно одним из современных поэтов» (Вопросы жизни. 1905. № 9).
Сам я и беден и мал… – Из стихотворения Сологуба «В поле не видно ни зги…»(1897).
Мы были праздничные дети… – Первые строки стихотворения Сологуба без названия (1906).
…«хоть пестрых раковинок из ручья». – У Сологуба в стихотворении «Мы были праздничные дети…»: «Хоть бедных раковин случайно // Набрать бы у ручья…»
Печатайся он у Нотовича в «Новостях»… – Сологуб не только сказки, но и свои статьи публиковал 1903–1905 гг. в газете «Новости», владельцем которой был публицист, драматург Осип (Иосиф) Константинович Нотович (1847–1914). В основном это были полемические публикации о проблемах школьного образования и воспитания («О дачных детях», «Школа за город», «Борода в гимназии», «Поведение», «Если наказали», «Учитель или начальник?», «Дети в форме», «Дисциплина», «Техника в школе», «Власть школы», «Полицейская школа» и др.).
…сказочка о полевой лилии… – Речь идет о сказке Сологуба «Одежды лилии и капустные одежки» (Новости. 1904.14 августа № 223), вошедшая вт. 10 Собрания сочинений Сологуба (СПб.: Шиповник, 1910).
Степанида Курносая – персонаж сказки Сологуба «Ангел Степанида Курносая» (Речь. 1907.25 декабря. № 304).
«О волшебной палочке» – в т. 10 Собрания сочинений сказка Сологуба вошла под названием «Палочка».
Я верю в творящего Бога… – Неточно цитируется стихотворение Сологуба без названия (1897). У автора: «Я верю в творящего Бога, //В святые заветы небес, // И верю, что явлено много // Безумному миру чудес. // И первое чудо на свете, // Великий источник утех – // Блаженно-невинные дети, // Их сладкий и радостный смех» (Сологуб Ф. Собр. соч. Т. 9. Змеиные очи. СПб.: Сирин, 1914. С. 79).
Помню один рассказ Сологуба… – Имеется в виду один из вариантов рассказа «Милый паж» (Весы. 1906. № 8), вошедшего в сборник «Книга превращений»(1914).
…умерла тихая сестра Сологуба. – О. К. Тетерникова скончалась 28 июня 1907 г
Он бросил службу… – 1 июля 1907 г писатель, отслужив 25 лет, уволился в отставку с поста учителя-инспектора петербургского Андреевского городского четырехклассного училища.
…женился на переводчице Анастасии Чеботаревской… – Совместная жизнь Сологуба и Чеботаревской началась осенью 1908 г Официально их брак был оформлен 14 сентября 1914 г.
…Леды разных художников. – Вероятно, имеются в виду репродукции с картин «Леда» итальянских живописцев Корреджо (наст, имя и фам. Антонио Аллегри; ок. 1499–1534) и Микеланджело Буонаротти (1475–1564). Леда – в греческой мифологии возлюбленная Зевса, который явился ей в образе лебедя. От этого союза Леда родила яйцо, из которого появилась Елена, будущая царица Спарты.
…переводы Вердена, Рембо. – В отличие от Тэффи, высокое мастерство Сологуба-переводчика отмечали М. А Волошин, Н. О. Лернер, Ю. Н. Верховский и др. «Переводы Сологуба из Верлэна, – писал восторженно Волошин, – это осуществленное чудо Ему удалось осуществить то, что казалось невозможным и немыслимым: передать в русском стихе голос Верлэна. С появлением этой небольшой книжки, заключающей в себе тридцать семь переводов, избранных не по системе, а по капризу любви из различных книг поэта, Верлэн становится русским поэтом» (Волошин М. Поль Верлэн. Стихи избранные и переведенные Ф. Сологубом. // Русь. 1907. 22 дек. № 343). Сологуб переводил также Вольтера, Мопассана, Готье, Бодлера, Гейне, Уайльда и др.
Аничков Евгений Васильевич (1866–1937) – критик, историк литературы, прозаик; «веселонравный ученый» (А. В. Амфитеатров). Участник собраний на «Башне» Вяч. Иванова и в литературно-артистическом кабаре «Бродячая собака». С 1917 г. в Югославии; профессор в университетах Белграда и Скопле. Автор монографии «Язычество и Древняя Русь» (1914), сборника статей о символистах, акмеистах и футуристах «Новая русская поэзия» (1923) и др.
«Навьи чары» – под таким названием печаталась первая редакция романа Сологуба «Творимая легенда» (1907–1913).
Смертерадостный – называли его. – Прозвище Сологубу дали по его сказке «Смертерадостный покойничек» (Адская почта. 1906. № 1).
Белей лилей, алее лала // Была бела ты и ала. – Неточная цитата из стихотворения Сологуба «Любовью легкою играя» (1901). Вторая строка: «Бела была ты и ала».
«Я косила целый день…» – Из рассказа Сологуба «Смерть по объявлению» (Золотое руно. 1907. № 6).
Когда я в бурном море плавал… – Неточно цитируется первая строфа стихотворения без названия (1902). У Сологуба:
…Я так воззвал: «Отец мой, Дьявол, Спаси, помилуй, – я тону».В поле не видно ни зги… – Неточно цитируется стихотворение Сологуба без названия, датированное 18 мая 1897 г.
Комплекс Эдипа – термин психоанализа З. Фрейда, характеризующий вытеснение в раннем детстве враждебных импульсов по отношению к отцу и сексуальных – по отношению к матери. Эдип – сын царя Фив, которому оракул предсказал, что ему суждено убить отца и жениться на матери.
Комиссаржевская Вера Федоровна (1864–1910) – актриса; в 1904 г в Александрийском театре создала свой театр символистской ориентации. В сезон 1906/07 г театр переехал на Офицерскую улицу, где режиссером и руководителем труппы стал В. Э. Мейерхольд (ненадолго; осенью 1907 г он из-за творческих конфликтов с Комиссаржевской ушел в Александрийский театр). Брат выдающейся актрисы, режиссер, педагог и теоретик театра Ф. Ф. Комиссаржевский (1882–1954) основал в 1910 г в Москве сначала студию, а в 1914 г. Театр имени В. Ф. Комиссаржевской.
Чулков Георгий Иванович (1879–1939) – прозаик, поэт, критик, философ, мемуарист. Издавал альманахи «Факелы» (кн. 1–3,1906–1908), «Белые ночи» (1907), газету «Народоправство» (1917). Автор вызвавших полемику книг «О мистическом анархизме» (1906), «Покрывало Изиды» (1909) и мемуаров «Годы странствий» (1930) и др.
Городецкий Сергей Митрофанович (1884–1967) – поэт, прозаик, переводчик, драматург. С 1908 г публиковал в журнале «Сатирикон» и других изданиях пародии под псевдонимом Сатир. Одна из них была посвящена Сологубу (Биржевые ведомости. 1909. 22 августа. Вечерний выпуск):
Новый век
…Это дульцинировало ее влечение к принцу Танкреду и альдонсировало ее любовь к жениху…
Сологуб, «Королева Ортруда»
Офеоктистовшись сначала, Осоловьевившись поздней, Живет успехами скандала Писатель наших серых дней. Подонкихотил он изрядно, Как был прогресс в умах у всех, И человек не мыслил стадно, И салтыковился нещадно Над пошляками гневный смех. Теперь иных поэтов куча, Завет отцов сочтя за гиль, Претенциозна и трескуча, Морализировать наскуча, Рамолизирует свой стиль. И тщетно с ними кто бы спорил: Уж блещет свет иных светил. Егор Чулков нас объегорил, Кузмин нас крепко подкузьмил. Одульцинирован успехом И альдонсирован толпой, Одетый в шубу кверху мехом, В лицо смеется явным смехом Модернизованный герой. И с легкомысленностью женской Толпа все славит сотней губ, Что санатолит ей Каменский, И намудрит Сергеев-Ценский, И нафедорит Сологуб…Офеоктистовшись… осоловьевивишеь… – Евгений Михайлович Феоктисов (1829–1896) – начальник Главного управления по делам печати в 1883–1896 гг. Его сменил на этом посту Михаил Петрович Соловьев (1842–1902). Салтыковился – от фамилии писателя-сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (наст. фам. Салтыков, псевд. Н. Щедрин; 1826–1889). Егор Чулков – Г. И. Чулков. Дульцинировало, альдонсировало – от имени крестьянки Альдонсы Лоренцо, которую Дон Кихот, герой романа Сервантеса, высокопарно именовал Дульсинеей Тобосской. Рамолизирует – т. е. расслабляет (от старческого слабоумия). Санатолит – от имени прозаика Анатолия Павловича Каменского (1876–1941). Сергей Николаевич Сергеев-Ценский (1875–1958) – прозаик. Нафедорит – от имени Федора Сологуба.
Морозов Николай Александрович (1854–1946) – ученый, поэт, мыслитель, мемуарист. Участник заговорщицких организаций «Народная воля», «Земля и воля», считавший политический террор регулятором общественной жизни. В 1882 г. приговорен к пожизненному заключению в Шлис-сельбургской крепости. По амнистии 1905 г. вышел на свободу с 26 томами рукописей научных трудов по естествознанию, физике, химии, астрономии, истории культуры, которые печатал в журналах, издавал в книгах. Автор известных мемуаров «Повести моей жизни» (т. 1–4,1916–1918).
Савинков Борис Викторович (псевд. В. Ропшин; 1879–1925) – один из руководителей «Боевой организации» партии эсеров, участник террористических актов. Поэт, прозаик, публицист; автор «Воспоминаний террориста» (1909), повести «Конь бледный» (1909), романа «То, чего не было» (1912) и др.
…еще не видали ни Муссолини, ни Гитлера… – Бенито Муссолини (1883–1945) – фашистский диктатор Италии в 1822–1943 гг Казнен. Адольф Гитлер (наст. фам. Шикльгрубер; 1889–1945) – лидер (фюрер) национал-социалистской партии с 1921 г., глава германского фашистского государства (с 1933 г.). Инициатор развязывания Второй мировой войны. Покончил с собой после вступления советских войск в Берлин.
Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) – критик, публицист, драматург; с 1917 г. нарком просвещения.
«Литургия красоты» (1905) – цикл «стихийных гимнов» Бальмонта.
Качает черт качели… – Из стихотворения Сологуба «Чертовы качели» (1907).
Сомов написал его портрет, затушевав бородавку. – На портрете Сологуба, написанном в 1910 г. Константином Андреевичем Сомовым (1869–1939), бородавка не затушевана.
Сенилов переложил его стихи на музыку. – Владимир Алексеевич Сенилов (1875–1918) – композитор, написавший музыку на стихи Сологуба, А. А. Блока, А. С. Рославлева, к сказке A. M. Ремизова «Калечина-Малечина» и др.
Рассказывают легенду, будто труп ее летом прибило к берегу, где на даче жил Сологуб. – См. стихотворение Сологуба «Полуисточенное смертью тело…»(написано 3 мая 1922 г) в кн.: Сологуб Ф. Стихотворения Л., 1975. С. 457). Легенду (или правду?) об этом рассказывают О. Форш в автобиографическом романе «Сумасшедший корабль» (Л., 1931. С. 116–117) и П. Пильский в мемуарах «Затуманившийся мир» (Рига, 1929. С. 66). После того как Чеботаревская покончила с собой, бросившись в реку Ждановку, ее долго искали водолазы и не нашли. А через полгода, весной, поэт с приятелем-художником шли по берегу реки. Их остановила толпа, собравшаяся возле выловленного из реки трупа, в котором они узнали Чеботаревскую по одежде и обручальному кольцу.
День только к вечеру хорош… – Из стихотворения Сологуба, начинающегося этой строкой (в цикле «Триолеты»; 1913).
Владислав Ходасевич. Сологуб*
Современные записки. Париж 1928. № 34. Печ. по изд. .Ходасевич В. Собр. соч.: В 4 т. М: Согласие, 1997. Т. 4. Очерк, приуроченный к годовщине со дня кончины Сологуба, позднее вошел в книгу В. Ходасевича «Некрополь: Воспоминания» (Брюссель: Петрополис, 1939).
И верен я, отец мой, Дьявол… – Из стихотворения Сологуба «Когда я в бурном море плавал…»(1902).
У тебя, милосердного Бога… – Из стихотворения Сологуба «Измотал я безумное тело…»(1917), которым открывается его сборник «Небо голубое» (1921).
…так начинает он предисловие к лучшей… книге стихов. – Имеется в виду предисловие к сборнику «Пламенный крут». М, 1908. А А Блок, одним из первых отозвавшийся на выход «Пламенного круга», писал, что в этой книге Сологуб «достиг вершины простоты и строгости… подобного совершенства в стихах Сологуб еще не достигал». Высокую оценку сборнику и всей поэзии Сологуба дали также И. Ф. Анненский, В. Я. Брюсов, А. Белый, А. Г. Горнфельд, М. А. Волошин и др.
…так схоже изобразил Кустодиев. – Портрет Сологуба был написан Борисом Михайловичем Кустодиевым (1878–1927) в 1907 г. Художник воспроизвел в писателе скромный облик гимназического учителя. Совсем иным Сологуб предстал на портрете, созданном в 1910 г. К. А Сомовым: здесь он гордый, знающий себе цену мэтр, словно свысока взирающий на нас и прячущий свою снисходительную усмешку. В этих портретах двух мастеров живописи нашли достоверное отражение два Сологуба: один – в начале своего творческого пути, еще не познавший искуса славы, а второй – уже на Олимпе избранных.
…книга, составленная из одних триолетов. – Цикл «Триолеты» занял почти весь том 17 («Очарования земли») в Собрании сочинений Сологуба (СПб.: Сирин, 1914).
«Жемчужные светила» – так назван цикл стихов, составивший т. 13 в Собрании сочинений Сологуба (СПб.: Сирин, 1913).
…его поэзия – без ювенилий. – Т. е. без признаков ученичества (от лат. juvenalis – юный).
…приходилось читать, будто в последние годы отрекся он от «сатанических» пристрастий… – Этот упрек воспринял на свой счет Ю. И. Айхенвальд, автор статьи «Памяти Сологуба» (Руль. Берлин. 1927.14 декабря). Ходасевич вынужден был оправдываться в письме от 22 марта 1928 г: «Только что некто спросил меня, не в Вас ли я „метил“, пишучи о Сологубе („Современные записки“). Вы будто бы тоже писали о „просветлении“ Сологуба перед смертью и т. д. Все это меня встревожило. <…> Вашей статьи о Сологубе я не читал. Если Вы в самом деле писали о „просветлении“ – я с Вами не согласен. Но у меня, сами понимаете, не было и причин эдак взъедаться на Вас, ибо, во-первых, каюсь, не помню Ваших прежних высказываний о Сологубе. „Метил“ же я в Адамовича, который подряд дважды (в „Днях“ и в „Звене“) писал что-то слезливое о Сологубе и о России и вообще умилялся по случаю его смерти – а пока Сологуб был жив, отзывался о нем презрительно. <…> Сам был вчера распродекадент, а туда же – „примиряется“ с Сологубом, который, дескать тоже прозрел..» (Ходасевич В. Собр. соч.: В 4 т. М., 1997. Т. 4. С. 508).
Вы не умеете целовать мою землю… – Стихотворение Сологуба (1907).
Адонаи // Взошел на престолы… – Из стихотворения Сологуба «Моя верховная воля…» (сборник «Фимиамы»; 1921).
Знаю знанием последним… – Стихотворение (в цитате опущена третья строфа) из сборника «Фимиамы» (1921).
В ясном небе – светлый Бог Отец… – Начальные строки стихотворения без названия из сборника «Фимиамы» (1921).
Зачем любить? Земля не стоит… – Первая строфа стихотворения без названия из сборника «Фимиамы» (1921).
Звезда Маир сияет надо мною… – Стихотворение Сологуба без названия (1898), открывающее цикл «Звезда Маир».
Передонов – герой романа Сологуба «Мелкий бес» (1905). В цитируемом ниже предисловии автора ко второму изданию романа (см. т. 2 в наст, изд.) Сологуб, отвечая читателям, пишет: «…Им не верится, когда перед ними стоит изображение верное, точное, мрачное, злое. Хочется сказать:
– Это он о себе.
Нет, милые мои современники, это о вас я писал мой роман о Мелком бесе и жуткой его Недотыкомке, об Ардалионе и Варваре Передоновых, Павле Володине, Дарье, Людмиле и Валерии Рутиловых, Александре Пыльникове и других.
О вас».
…Андрей Белый напечатал в «Весах» о Сологубе статью… – Имеется в виду статья А. Белого «„Далай-лама“ из Сапожка. О творчестве Ф. Сологуба» (Весы. 1908. № 3).
…публичное чествование Сологуба… – Сологуба торжественно чествовали в Петроградском академическом театре драмы (бывшем Александрийском) 11 февраля 1924 г по случаю 40-летия его литературной деятельности, а не 60-летия со дня рождения, которое писатель отметил годом раньше (он родился 17 февраля / 1 марта 1863 г). В РГАЛИ хранятся текста двух приветствий Белого Сологубу – от имени Вольной философской ассоциации (Вольфилы) и от себя лично (Ф. 53. On. 1. Едхр. 133). Сцену чествования Белый в своих мемуарах передает иначе, чем Ходасевич: «Во время чтения ему адреса молчал церемонный старик, став во фраке, закинувши мумиевидную голову, белый, как смерть; вдруг, пленительно зуб показав (и отсутствие зуба), он руку потряс сердечно, и – облобызал меня. За кулисами, сжав ему руку, едва не упал вместе с ним, потому что орнул он белугой: „Ой, сделали больно, – и палец тряс, сморщась, – ну можно ли эдаким способом пальцы сжимать?“ И, качая над носом моим своим пальцем, откинувшись, фалдами фрака тряся, он сурово меня распекал» (Белый А. Начало века М, 1990. С. 490).
На Ойле, далекой и прекрасной… – Первая строка стихотворения Сологуба без названия (1898), входящего в цикл «Звезда Маир». Вторая строка у Сологуба: «Вся любовь и вся душа моя».
…Рассказать, чем сердце жило… – Из стихотворения «Узнаешь в тумане зыбком…» (1920), вошедшего в сборник Сологуб Ф. Небо голубое. Стихи. Ревель: Библиофил, 1921.
Снова саваны надели… – Стихотворение без названия из сборника Сологуба «Небо голубое» (1921).
Щеголев Павел Елисеевич (1877–1931) – литературовед; автор книг о Пушкине, Лермонтове, декабристах. В1920-е гт вместе с женой, актрисой Валентиной Андреевной (1878–1931), дружил с Сологубом и семьей Черносвитовых.
…в двенадцать дней, написал… цикл стихов… – Имеется в виду сб.: Сологуб Ф. Свирель. Русские бержереты. Пб., 1922 (с посвящением Ан. Н. Чеботаревской). Бержерета – старинная (XV в.) французская танцевальная песенка пасторального характера (от фр. bergerette маленькая пастушка). В альбоме Сологуб записал: «„Свирель“ вся написана, чтоб ее позабавить. Голодные были дни» (цит по изд.: Сологуб Ф. Стихотворения. М, 1975. С. 628).
Тирсис под сенью ив… – Первые две строфы из стихотворения без названия, вошедшего в сборники Сологуба «Небо голубое» (1921) и «Свирель» (1922).
Владислав Ходасевич. Из петербургских воспоминаний. <Сологуб>*
Возрождение. Париж. 1937.23 июля. Печ. по изд. Ходасевич В. Собр. соч.: В 4 т. М, 1997. Т. 4.
…историю с обезьяньими хвостами… – См. об этом подробно в кн.: Обатнина Е. Р. От маскарада к третейскому суду: «Судное дело об обезьяньем хвосте» в жизни и творчестве A. M. Ремизова // Лица: Биографический альманах. М; СПб., 1993. № 3.
…он только приехал в Петербург из Вологды или из Ярославля… – В годы после большевистского переворота в 1917 г. Сологуб (главным образом в летние месяцы) жил на даче под Костромой.
Тьеполо Джованни Батиста (1696–1770) – итальянский живописец.
…статья, написанная о нем Мариэттой Шагинян… – Имеется в виду статья М. С. Шагинян «К переизданию „Леонардо“» (Жизнь искусства. 1921. 13 августа), посвященная книге А. Л. Волынского «Леонардо да Винчи» (1900).
Волковыский Николай Моисеевич (1880 – не ранее 1940) – журналист. Один из организаторов Дома литераторов в Петрограде (1918–1922). В ноябре 1922 г выслан из России. В 1922–1939 гг. постоянный корреспондент в Германии, а затем в Польше рижской газеты «Сегодня». Участник и докладчик от берлинской делегации на Первом съезде зарубежных писателей и журналистов в Белграде (1928).
Харитон Борис Осипович (Иосифович; 1877–1941) – литератор, журналист. В 1922 г. выслан за границу.
Султанова Екатерина Павловна (урожд. Леткова; 1856–1937) – прозаик, переводчик, автор мемуаров (рукопись книги в РГАЛИ). С юнца 1880-х гг. вела активную работу в Литературном фонде.
Тихонов Александр Николаевич (псевд. Серебров; 1880–1956) – прозаик. В 1915–1918 гг. редактор журнала «Летопись», издательства «Парус», газеты «Новая жизнь», а также заведовал издательством «Всемирная литература». Автор книги «Время и люди. Воспоминания» (1949).
Волынский Аким Львович (наст. фам. Флексер; 1863–1926) – литературный и балетный критик, историк и теоретик искусства.
…в день заседания началось восстание в Кронштадте. – Так называемый Кронштадский антисоветский мятеж начался 1 марта и был подавлен 18 марта 1921 г.
Иванов-Разумник. Федор Сологуб*
Еженедельник «Новее слово». Берлин 1942 31 мая № 43 (425); 7 июня № 45 (425). Печ. по изд.: Иванов-Разумник. Писательские судьбы. Тюрьмы и ссылки М: Новое литературное обозрение, 2000.
Автор – Иванов-Разумник (наст, имя и фам. Разумник Васильевич Иванов; 1878–1946), критик, историк литературы и общественной мысли. Автор публикаций о Сологубе. Стал его близким другом в 1925–1927 гг
Черносвитова Ольга Николаевна (урожд. Чеботаревская; 1872–1943) – сестра Ан. Н Чеботаревской, жены Сологуба. Автор «Материалов к биографии Ф. Сологуба» (см. в кн.: Неизданный Федор Сологуб. Вступит, ст., публикация и коммент. М. М. Павловой. М: Новое литературное обозрение, 1997).
Смерть меня погубит в декабре… – Неточная цитата из триолета «Каждый год я болен в декабре…»(1913). У Сологуба: «Тьма меня погубит в декабре».
Перехитрив свою судьбу… – У Сологуба это стихотворение без названия (1910) начинается так: «Перехитрив мою судьбу…»
…вызвав на помощь одного доброго приятеля… – Речь идет о Дмитрии Михайловиче Пинесе (1891–1937), библиографе, историке литературы, ученом секретаре петроградской Вольной философской ассоциации (1922–1924). Пинес был безвинно расстрелян в Архангельске, во время отбывания ссылки.
Выморочное имущество – имущество, оставшееся после владельца без наследника.
Платонов Сергей Федорович (1860–1933) – историк, академик (1920). Председатель Археографической комиссии (1918–1929). Директор Пушкинского Дома (1925–1929). Безвинно подвергся репрессии.
Сакуяин Павел Никитич (1868–1930) – литературовед, академик.
Модзаяевский Борис Львович (1874–1928) – литературовед-архивист, пушкинист. Собрал основные рукописные, книжные и изобразительные фонды Пушкинского Дома.
Измайлов Николай Васильевич (1893–1981) – литературовед, текстолог. До ареста в ноябре 1929 г. заведовал Рукописным отделом Пушкинского Дома.
Молас Борис Николаевич (1874–1938) – юрист, музеевед. До ареста в декабре 1929 г. заведовал секретариатом АН СССР. Безвинно расстрелян.
Пришвин Михаил Михайлович (1873–1954) – прозаик. Автор многотомных «Дневников» (1991–1999).
Римский-Корсаков Андрей Николаевич (1878–1940) – музыковед, библиограф, философ. Сын композитора Н. А. Римского-Корсакова.
Уткин Иосиф Павлович (1903–1944) – поэт; погиб на фронте.
Алтаузен Джек(наст. имя Яков Моисеевич; 1907–1942) – поэт, погиб на фронте.
Светлов Михаил Аркадьевич (1903–1964) – поэт, драматург.
…комментированного мною… «избранного Салтыкова». – Имеется в виду изд.: Салтыков-Щедрин М. Е. Сочинения: В 6 т. Биографический очерк и примеч. Иванова-Разумника. М; Л., 1926–1928.
Подыши еще немного… – Стихотворение датировано: 30 июля 1927 г. По автографу опубл. МИ. Дикман в изд.: Сологуб Ф. Стихотворения. Л., 1975.
Петров-Водкин Кузьма Сергеевич (1878–1939) – живописец, писатель.
Спорит Башня с черной Пашней… – Разночтения в тексте этого стихотворения, написанного 23 сентября 1927 г., исправлены М. И. Дикман в первой публикации по автографу: Сологуб Ф. Стихотворения. Л., 1975.
…Д. М. Шаховской открыл новые, неизвестные «Философические письма» Чаадаева… – Дмитрий Иванович Шаховской князь (1861–1939) – историк, литератор, публицист Депутат I Государственной думы. Член ЦК кадетской партии. В 1917 г министр государственного призрения во Временном правительстве. Исследователь творчества ПЛ. Чаадаева (публикатор пяти его неизвестных «Философических писем» в «Литературном наследстве». Т. 22–24. М, 1935). В ноябре 1938 г. арестован. Погиб в сталинском концлагере.
…бросилась в ледяную воду Невы с Тучкова моста, рядом с тем домом на Ждановке… – Ан. Н. Чеботаревская 23 сентября 1921 г. покончила с собой, бросившись с дамбы Тучкова моста в р. Ждановку. В дом на Ждановской набережной (в квартиру Черносвитовых) Сологуб переселился с Васильевского острова после смерти жены.
Приложения
Камень, брошенный в воду (Семья Воронцовых)*
Печ. по изд.: Сологуб Ф., Чеботаревская Ан. Камень, брошенный в воду (Семья Воронцовых). Драматические сцены в 4-х действиях. Пг: издание журнала «Театр и искусство», 1915.
Кузмин Михаил Александрович (1875–1936) – поэт, прозаик, композитор, сочинивший музыку к своим стихотворным циклам «Куранты любви», «Александрийские песни», «Лесок», а также автор опер и балетов.
Григ Эдвард (1843–1907) – норвежский композитор.
Шопен Фридерик(1810–1849) – польский композитор, автор 19 песен для голоса.
«В том саду, где цвели хризантемы…» – Неточно цитируется романс «Отцвели хризантемы» (1913; слова В. Д. Шуйского, музыка Н. Н. Харито).
«О милый друг, тебя я не ревную…» – Произвольно цитируется романс на стихи А. К. Толстого «Минула страсть, и пыл ее тревожный…» (1858).
«И ночь, и любовь, и луна…» – Романс на стихи Н. П. Грекова, положенный на музыку несколькими композиторами.
Все, все, что гибелью грозит, // Для сердца смертного таит // Неизъяснимы наслажденья, // Бессмертья, может быть, залог. – Цитата из «маленькой трагедии» Пушкина «Пир во время чумы».
«Что наша жизнь? Игра!» – Ария Германа из оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама» (1890) на сюжет одноименной повести А. С. Пушкина.
И поистине светло и свято… – Неточная цитата из стихотворения Н. С. Гумилева «Война» («Как собака на цепи тяжелой…»; 1914). У автора: «И воистину светло и свято…»
«Отцвели, о, давно отцвели…» – См. примеч. к с. 541.
Символисты о символизме*
Вступительное слово Сологуба «О символизме», публикуемое в этом томе в разделе «Статьи, эссе, заметки», предварялось редакционным предисловием журнала «Заветы» (1914): «В конце января настоящего года в Петербурге состоялся публичный „Диспут о современной литературе“ при участии Федора Сологуба, Вячеслава Иванова, Г. Чулкова, Евг. Аничкова и многих других представителей так называемого „символизма“ и позднейших литературных течений. В сущности „диспута“ никакого не было, а было только изложение с разных точек зрения мнений самих символистов о символизме. Мы предлагаем читателям здесь стенографическую запись наиболее интересных речей трех из выступивших на этом диспуте ораторов: вступительное слово Федора Сологуба и речи Вячеслава Иванова и Георгия Чулкова. Суждения о „символизме“ таких крупных представителей его, как Ф. Сологуб или В. Иванов, не могут не быть глубоко интересными и поучительными – хотя бы против них пришлось и возражать, хотя бы с ними пришлось и не соглашаться. Наше суждение о символизме читатели найдут в следующей книге журнала (в статье „Вечные пути“), а в этих речах читатели пока познакомятся с отношением к „символизму“ самих современных „символистов“.»
Ниже публикуем тексты речей оппонентов Сологуба – Г. И. Чулкова и Вяч. И. Иванова, суждения которых важны для понимания сути разногласий в рядах русского литературного модерна.
Георгий Чулков. Символизм как мироотношение*
Заветы. 1914. Кн. 2. Отд. 2. Выступление Г. И. Чулкова на публичном «Диспуте о современной литературе», состоявшемся в Петербурге в январе 1914 г., стало основой для его большой статьи «Оправдание символизма», вошедшей в книгу: Чулков Г. Вчера и сегодня. М., 1916.
Вячеслав Иванов. Искусство как символизм*
Заветы. 1914. Кн. 2. Отд. 2.
Данте Алигьери (1265–1321) – итальянский поэт, создатель итальянского литературного языка. Автор шедевра мировой литературы – поэмы «Божественная Комедия» (1321).
Пиндар (ок. 518–442 или 438 до нэ.) – древнегреческий поэт-лирик.
Гезиод (Гесиод) – первый исторически достоверно установленный поэт древней Греции, живший в VIII–VII вв. до нэ. Автор полностью дошедших до нашего времени дидактических поэм «Труды и дни» и «Теогония» («Родословная богов»).
Примечания
1
Статья представляет стенограмму выступления Сологуба на публичном «Диспуте о современной литературе», который состоялся январе 1914 года в Санкт-Петербурге. Помимо Сологуба (выступавшего первым) в диспуте участвовали Вяч. Иванов, Г. Чулков, Е. Аничков и др. модернисты.
(обратно)2
Разумеется теория относительности немецкого учёного Альберта Эйнштейна (1879–1955), представленная им в 1905 году.
(обратно)3
Из стихотворения Ф. Сологуба «В поле не видно ни зги» (написано 18 мая 1897 г.).
(обратно)4
Цитируются две первые строки стихотворения Ф. Сологуба, написанного 30 августа 1906 г. и напечатанного в «Русской мысли» в 1907 г. (кн. II).
(обратно)5
У Ф. Сологуба:
Хоть белых раковин случайно Набрать бы у ручья,– Нет, умираем, плача тайно, Сестра и я. (обратно)6
Оба события – смерть сестры и увольнение в отставку – имели место в 1907 г. Анастасия Чеботаревская, жена поэта, писала: «1907 г. явился поворотом и в смысле служебной деятельности Сологуба; по выслуге 25-летней пенсии он был уволен в отставку и уже всецело и окончательно предался литературе. В 1907 г. Сологуб лишился любимой и единственной сестры, скончавшейся летом в Финляндии от наследственной чахотки. Памяти ее посвящена написанная непосредственно вслед за ее смертью трагедия „Победа смерти“…» (Русская литература XX века. Т. 2/Под ред. С. А. Венгерова. М., 1915. С. 12).
(обратно)7
О вечерах у Сологуба оставлено немало мемуарных зарисовок. Рассказывает об этих вечерах и В. Пяст: «…на одном из своих „журфиксов“ этот небольшой, седой и старообразный, профессионально злой Федор Сологуб как-то начал такой шуточный экспромт:»
Из леса криптомерии Встает Комплиментарий, – И это не Валерий, А просто ересь – Арий…«– Я хочу сказать, – лукаво пояснил он, – „ерисиарх“ Арий… распространитель еретических учений. Подразумевалось: „мистический анархизм“» (Пяст В. Встречи. М.: Федерация, 1929, С. 48–49).
Изобретатель этого «мистического анархизма» Г. Чулков вспоминал о вечерах у Сологуба в книге «Годы странствий»: «В кабинете хозяина, где стояла темная, несколько холодная кожаная мебель, сидели чинно поэты, читали покорно по желанию хозяина свои стихи и послушно выслушивали суждения мэтра, точные и строгие, почти всегда, впрочем, благожелательные, но иногда острые и беспощадные, если стихотворец рискнул выступить со стихами легкомысленными и несовершенными. Это был ареопаг петербургских поэтов» (М.: Федерация, 1930. С. 146–147).
(обратно)8
Ср. с воспоминаниями Г. Чулкова:
«Но обидчив и мнителен он был в самом деле болезненно. Несколько раз даже у меня с ним были недоразумения по разным незначительным поводам. Правда, эти недоразумения кончались благополучно и очень скоро, потому что Сологуб всегда чувствовал, что я его ценю и люблю, и охотно мирился.
Однажды мне пришлось даже получить от него довольно неприятное письмо, написанное им под впечатлением только что напечатанной тогда повести Кузмина „Картонный домик“. К несчастию, эта повесть напечатана была в альманахе „Белые ночи“, в коем я принимал ближайшее участие и где я напечатал также стихи самого Сологуба. А в повести Кузмина – надо признаться – не очень скромно описан был интимный вечер в театре В. Ф. Комиссаржевской, где Сологуб читал свою пьесу. И сам поэт изображен был Кузминым насмешливо, как некий „седой человек, медлительным старческим голосом, как архимандрит в великий четверг“, возглашавший реплики своей пьесы. Оскорбительного, впрочем, ничего не было. Но Сологуб обиделся. Мне это было особенно тяжело, потому что вся эта история совпала с мучительною предсмертною болезнью сестры поэта» (Годы странствий. С. 147–148).
(обратно)9
Аничков Евгений Васильевич (1866–1937) – литературовед и критик, писавший о символистах, автор книги «Новая русская поэзия» и др. В дневниках, письмах, мемуарах находим многочисленные упоминания Аничкова, лично встречавшегося почти со всеми значительными писателями и поэтами серебряного века.
(обратно)10
Ср. с воспоминаниями И. Ясинского: «Тетерников служил учителем и смотрителем городской школы на Васильевском острове, где имел квартиру; женат не был и жил с сестрой, был уже сед. Приютил его у себя „Северный вестник“, напечатавший его рассказ „Тени“. Содержание „Теней“ понравилось критике; Венгеров восторгался, а состояло оно в том, что мать, делая из пальцев зайчиков на стене своему ребенку, сама проникается суеверным ужасом к игре теней и сходит вместе с сыном с ума» (Роман моей жизни. М.; Л., 1926. С. 255).
(обратно)11
Обратившемуся к нему за автобиографией Модесту Гофману Сологуб ответил: «Я с большим удовольствием исполнил бы всякую Вашу просьбу, но это Ваше желание не могу исполнить. Моя биография никому не нужна. Биография писателя должна идти только после основательного внимания критики и публики к сочинениям».
(обратно)12
Цитата не точна. У Сологуба:
Когда я в бурном море плавал И мой корабль пошел ко дну, Я так воззвал: «Отец мой. Дьявол, Спаси, помилуй, – я тону». (обратно)13
Цитируется неточно.
(обратно)14
Любопытная параллель в воспоминаниях Г. Чулкова: «Сологубу можно было тогда дать лет пятьдесят и более. Впрочем, он был один из тех, чей возраст определялся не десятилетиями, а по крайней мере тысячелетиями – такая давняя человеческая мудрость светилась в его иронических глазах» (Годы странствий. С. 146).
(обратно)15
Стихотворение Ф. Сологуба «Чертовы качели», написано 14 июня 1907 г.
(обратно)16
Ср. со свидетельством другого мемуариста: «…измучившаяся в Советской России, издерганная обещаниями коммунистов, с ними никогда не имевшая ни единой точки соприкосновения, как и сам Сологуб, отчаявшись попасть за границу, Чеботаревская бросилась в Неву. Ее тело нашли только через год. Непостижимо, каким образом Сологуб пережил этот ужас» (Пильский Петр. Затуманившийся мир. Рига, 1929. С. 66).
(обратно)17
Сам Андрей Белый («Начало века», стр. 448) передает эту сцену несколько иначе: «Во время чтения ему адреса молчал церемонный старик, став во фраке, закинувши мумиевидную голову, белый, как смерть; вдруг пленительно зуб показав (и отсутствие зуба), он руку потряс сердечно; и – облобызал меня. За кулисами, сжав ему руку, едва не упал вместе с ним, потому что орнул он белугой: – „Ой, сделали больно, – и пальцы тряс, сморщась, – ну, можно ли эдаким способом пальцы сжимать?“ И качая над носом моим своим пальцем, откинувшись, фалдами фрака тряся, он сурово меня распекал». Должно заметить, однако, что лицо, рассказавшее мне об этом эпизоде, находилось среди публики и могло видеть лишь то, что происходило именно на сцене, а не за кулисами.
(обратно)18
Ее сестра, тоже переводчица и писательница, Александра Николаевна Чеботаревская, жила в Москве. В день похорон Гершензона (февраль 1925) было решено речей не произносить. Однако какой-то коммунист, растолкав присутствовавших, подошел к могиле и стал говорить о том, что хотя Гершензон был «не наш», все же пролетариат чтит память этого пережитка буржуазной культуры. Александра Николаевна не выдержала и тут же высказала все, что накипело у нее на душе. Когда разошлись с кладбища, она весь день не могла успокоиться. Вечером, после нервного припадка, она пошла на Большой Каменный мост, перекрестилась, осенила крестным знамением Москву на все четыре стороны и бросилась с моста в полынью. Прохожие ее вытащили, но час спустя она скончалась в приемном покое от разрыва сердца. Рассказываю со слов советского писателя, который тогда был в Москве, а затем на время приезжал в Париж. Андрей Белый («Начало века», стр. 447) пишет, что обе сестры покончили с собой «на почве психического заболевания».
(обратно)19
Блаженны, кто умирает в Господе (лат.).
(обратно)20
Обреченные на смерть в Господе (лат.).
(обратно)
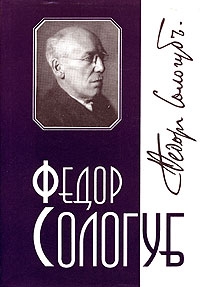


Комментарии к книге «Том 6. Заклинательница змей», Фёдор Сологуб
Всего 0 комментариев