Александр Исаевич Солженицын Красное колесо. Повествованье в отмеренных сроках
Узел 3 Март Семнадцатого 23 февраля – 18 марта ст. ст Книга 2
Двадцать восьмое февраля Вторник
171
Заботы Шляпникова. – Спасать Горького!
Всё же в Исполнительном Комитете Шляпников продвинулся неплохо: доверена ему была вся Выборгская сторона и сколачивать рабочую милицию. Сколько он мог сообразить своей безсонной, уже помрачённой головой, это была реальная и важная победа: вооружённая Выборгская сторона будет весить больше, чем любое голосование в Совете депутатов, и уж конечно больше, чем вся эта Государственная Дума. Как любит выражаться Ленин – главное звено . И вот показалось теперь Шляпникову, что он это главное звено ухватил.
А может – не его? А может – не главное? Если пойдут дела и дальше как сегодня – то сразу хлынут эмигранты. И быстро приедет Ленин – и станет за каждую ошибку бранчиво, обидно выговаривать, по своей въедливой манере. Шляпников заранее сжимался, представляя эту грызуху.
Но так вдруг просторно раздвинулись события и возможности – поди догадайся, какую седлать.
Кончилось безтолковое заседание ИК уже под утро, Шляпников на что силён, а пошатывался.
Надо устроить своё постоянное дежурство здесь, в Таврическом, чтоб о каждой новости сразу же узнавать. Но даже на это нет человека, не придумаешь подходящего кого. Разве что Стасову пристроить? (Она из ссылки приехала осенью в Петербург, для свидания с престарелыми родителями, и зацепилась тут.) Хотя б на дневное время: пусть ходит как на службу и здесь высматривает. И назовём – секретариат ЦК? Она ещё какую девчёнку приспособит.
Ну, ехать поспать. Теперь уже не пешкá мерить, теперь Шляпников мог взять и автомобиль.
Но тут подбежал студент от телефона: сейчас звонили, что на квартиру Горького нападение банды!
Вот те на! Так и кольнуло! И правда, не могло быть всё слишком уж хорошо. Так и должно было случиться: заметная революционная фигура! Алексей Максимыча – никак в обиду дать нельзя, он – как лучший партийный наш, он больше наш, чем меньшевицкий. Он – и деньги даёт, он в Девятьсот Пятом на своей московской квартире в дни восстания содержал тринадцать грузин-дружинников, и бомбы у него делали.
Большевицкий закон: своих – надо выручать!
Застёгивая пальто и нахлобучивая шапку (не снимал их и все часы заседания в тёплом дворце, некуда деть), – вышел наружу.
В сквере перед дворцом горело три костра, около них грелись. И там-сям солдаты.
– Я – комиссар Выборгской стороны! – закричал Шляпников не так громко, уже голоса не было, но с новым для себя тоном, новым правом распоряжаться громко вслух. – Есть автомобиль?
И сразу тон его услышали и поняли (никто б из думских так бы крикнуть не посмел), подбежало несколько солдат-доброхотов, всё им лучше, чем мёрзнуть:
– Есть автомобили! Куда ехать?
Уже вели его к одному.
– А чей автомобиль? – просто так, для интереса спросил Шляпников.
– Военного министра Беляева! Со двора увели.
Вот и шофёра в полушубке расталкивали за рулём.
– Я член Исполнительного Комитета Совета Рабочих Депутатов! Заводи машину! – Отступил и крикнул: – Эй, ребята! Кто поедет на Петербургскую сторону, задание есть!
И сразу побежала от костра дюжина охотников. Троих с винтовками впустил на заднее сидение, сам сел спереди, дверцу захлопнул, двое сейчас же легли на подножки, винтовками через крылья вперёд.
Па-й-йехали!
Улицы были малолюдны, но жили. Где-то изредка постреливали. То погуливали с винтовками, гурьбой. То навстречу, то стороной проносились грузовики и гудели, в кузовах торчало по несколько людей со штыками. Пешком пробирались и напуганные обыватели.
Гнал шофёра, гнали дальше: что там с Горьким? успеем ли отбить Максимыча?
Ну мог ли Шляпников вчера, перепрятываясь у Павловых, представить, что в следующую ночь будет ехать в автомобиле военного министра?!
Около пожарища Окружного суда – ещё сильно калилось, и пар от уличного снега – их остановили расспрашивать и кричали «ура», – а потом они дёрнули без остановки по Французской набережной и взлетели на пустынный Троицкий мост.
Если б не зарева за спиной, а впереди темно, нет, один есть пожарчик сильно налево, это наверно Охранное, да если б не встречный шальной грузовик на мосту со штыками, – ночь была как ночь: снежная в черноте Нева, тёмная Петропавловка, редкие цепочки фонарей там и здесь – обыкновенная петербургская ночь. Вот только зарева.
Оглянулся налево за спину Шляпников: вся полоса дворцов была совсем темна, и Зимний – тоже.
А небо – чистое, звёздное, морозное.
Большим крюком объехали Петропавловку, сбросив огни, чтоб не привлечь на себя стрельбы. Нырнули в тёмный Кронверкский.
Вот и дом Горького, в темноте его Шляпников узнаёт.
Внешне – погрома не видно. Все окна тёмные. Парадное заперто.
Но нельзя так оставить. Стал громко стучать.
Швейцар не сразу вышел. Потом открывать не хотел. Но, увидя штыки, открыл.
– Что там у вас? Какая банда? Был налёт?
– Ника-кого.
Шляпников не поверил. Метнулись по лестнице.
И перед дверью Горького – ненатоптанный пол, чистота, тишина, никакого разгрома.
Шутники какие-то обманули?
Но и не уезжать теперь так! Всё же нажал кнопку звонка.
Ещё раз позвонил. Там испуг, переполох: «кто?».
– Это – Шляпников. Мне Алексей Максимыча, простите.
Хоть заверить его в безопасности. Хоть научить, если что – так пусть…
Наконец отворили дверь. За несколькими женщинами – Алексей Максимович в мохнатом халате, сутулясь, недовольный, подморщивая свой раскляплый, утиный нос, жёлтые усы обвисли аж на подбородок, а голос обиженный:
– Ну что-о такое, Алексан Гаврилыч? За-чем? За-чем же вы?
Не пригласил войти, отпустил – и даже не спросил о новостях.
172
Государь в вагоне перед отъездом.
Николай не мог жить без Аликс настолько, насколько человек не может жить с выеденной грудью или отсеченной половиной головы. Сам с большими военными пристрастиями, попадая в атмосферу Ставки, он как будто должен был бы расцветать мужскою военною жизнью, – нет! Уже в первый день он испытывал рассеянность, недохват, тоску, – и пуст и печален был тот редкий день, когда не приходило от неё письмо. (Зато уж назавтра – всегда два.) А приходило – Николай распечатывал его всякий раз с усиленным биением сердца, и окунался, вдыхал аромат надушенных листков (а иногда были вложены и цветки), – и так тянуло к жене тотчас, сейчас! Как всегда повторяла она, так убедился и он: разлука делает любовь ещё сильней. И сам он не писал ей письма только в тот день, когда уж было слишком много бумаг или приёмов, – но и над бумагами и во время приёмов он помнил её постоянно, как тем более в часы досуга или прогулок. Только когда он проходил смотром перед выстроенными полками – он забывал её на короткие минуты. Даже присутствие наследника с отцом в Ставке лишь немного развеивало и смягчало эту вечную недохватку разумницы-жены в существовании. Но наследник по нездоровью часто не мог ехать с отцом – и тогда тоскливое одиночество обступало стеною, и даже одна неделя в Ставке казалась годом, а три недели – вечностью, да три недели он почти никогда и не выживал тут, либо уж сама государыня приезжала в Могилёв.
И ещё насколько мучительней были четыре дня, в этот раз проведенные в Ставке: из-за болезни детей и тревожных сведений из Петрограда. Государь перетратился нервами и упорством воли – отказывать в уступках нарастающему сводному хору. Он – перетратился и нуждался скорее соединиться с женой, с которой за 22 года был сращён, как два дерева, разветвлённых из одного ствола.
От момента за поздним чаем, когда Воейков и Фредерикс представили ему тревоги из Царского Села и Николай решил ехать, – сразу стало легче. Когда вошёл в свой вагон близ двух часов ночи – ещё легче. (Но состав будет ещё подготовляться до пяти или шести утра.)
Оставалось время. Успокоился. А спать ещё не хотелось. И что Государь почувствовал себя обязанным сделать – это поговорить с Николаем Иудовичем о деталях его экспедиции и намерений. Вагоны стояли недалеко, и он вызвал генерала.
Разговором остался очень доволен, ещё облегчилась душа. Какая была в этом старике народная основательность, мудрость и какая преданность своему Государю! На этого человека можно было положиться, смелый боевой генерал. (Теперь пожалел, что в Пятнадцатом году не согласился с женой и не назначил его военным министром, считая слишком упрямым, – может быть, и не было бы нынешних безпорядков.)
Да всё настроение было совсем не тревожное, когда и сам уже ехал туда.
Тут дослали в поезд вечернюю телеграмму Хабалова, что-то очень паническую: что не может восстановить в столице порядка, уже большинство частей изменили своему долгу, братаются с мятежниками и даже обратили оружие против верных войск. И вот – большая часть столицы уже в руках мятежников.
Да может ли такое быть?? Да это вздор немыслимый.
И Николай Иудович тоже так думал, нисколько не обезкуражился:
– Выгоню всех и вычищу! Ваше Императорское Величество, вы можете быть во мне уверены, как в самом себе. Сделаю всё возможное и невозможное!
И борода его лопатная, народная, верная, как бы подтверждала.
Из деликатности Государь, однако, постеснялся спросить у генерала точный час его выезда из Могилёва с георгиевским батальоном, – но очевидно, что уже не в эти ночные часы (хорошо бы!), а рано поутру.
Однако если Иванов начнёт движение своего отряда только утром и из первых целей имеет оборонить Царское Село – то не терялся ли смысл экстренного выезда императорских поездов? Нет, потому что последнее время они ходили другим, более кружным, но и более удобным путём, через Николаевскую дорогу. Пока они совершат этот обход – а Иванов уже и будет в Царском. Да уже было обещано Аликс, что выедет этой ночью. И перед свитою неудобно менять: команда дана, погрузились.
Прощаясь, перекрестил старика-генерала. И трижды поцеловались.
А самое главное: движение поезда уже есть облегчение. Николай нуждался теперь восполниться покоем, душевным отдохновением. И оторваться от этих безпрерывных телеграмм и донесений, которые в Ставку просто лились. Меньше известий – меньше решений. Около суток провести без этих волнений – насколько легче! А там – достичь Царского, убедиться, что свои – целы, не захвачены, – и уже в твёрдом состоянии и слитно с Аликс всё решать. Николай не знал, чтó именно решит и сделает, но во всяком случае там он за несколько часов осмотрится.
После пяти утра в начавшемся движении поезда мерная укачка вагона давала это чудесное совмещение: иллюзии действия и одновременно покоя.
173
Шляпников огородами на Сердобольскую.
Уж надежды поспать не было сегодня никакой – зряшная эта поездка к Горькому как раз перебила последний сонный час.
Да и был же он теперь комиссар Выборгской стороны – значит, надо разорваться, и там успеть, и в Таврический назад успеть ко всем заседаниям. И погнали на Выборгскую. Холодное сиденье подмораживало через пальто. Опять двое солдат легли на подножки. Погнали ещё малолюдным, пробуждающимся освобождённым городом, – освобождённым, вот замечательно! Уж кого не видно, так это городовых. И все солдаты сразу стали не вражья сила, а своя!
А на Выборгской – появлялись, наоборот, вооружённые посты рабочих на перекрестках, это уже кто-то из наших ставил. Такой пост перед Эриксоном остановил и его самого: ехать дальше нельзя, самокатчики, стервы, сидят в казармах с пулемётами и сопротивляются, вся дальняя часть Сампсоньевского вымерла, никто не ходит, не ездит.
И что ж думаете делать? Вот собирают силы: пулемёты, но хотят и артиллерию притянуть, чтоб из пушек начисто казармы самокатчиков снести. А уговаривать не берёт? Никак не берёт.
Прямо бить по батальону?
Ещё вчера не знали, спорили: как взять в свои руки оружие? А вот уже оно всё наше!
А московские казармы? Целиком все наши. Офицеров – вчера обезвредили. А межрайонцы тут собрали рабочую дружину: ловить и убивать офицеров поодиночке.
Ну, это их дело, они всюду вперёд.
Но не привык Шляпников у себя на Выборгской стороне даже под слежкой стесняться – а теперь, в освобождённом городе, да неужели ж он на Сердобольскую не доберётся? Он знает здесь не только улицы, но все тропинки на огородах – те наискось сокращения, которые протаптывают и ногами поддерживают даже зимой, потому что людям всегда надо короче. И в этих безликих снежных тропинках нипочём не собьётся.
Оставил автомобиль с солдатами ждать его тут два часа – а сам погнал по тропинкам.
И действительно, люди промётывались по ним с поспешностью. А раза два так близко и низко просвистели пули, что Шляпников хлопнулся оба раза на утоптанный снег и перелёживал, смотрел на его бугорки и узоры, отпечатанные ногами.
Лежал на снежном поле одиноко и думал: вот тебе и освобождённый город, член Исполнительного Комитета, комиссар Выборгской стороны. И что за позор: в центре везде обошлось, а у нас на Выборгской…? Нет, надо это кончать, действительно, хоть и пушками.
Добрался, конечно, до Павловых. Конспиративную квартиру их – узнать нельзя: собралась сразу дюжина товарищей, не скрываясь. Галдят открыто, ещё при входе прислонены красные знамёна, готовят древки для новых, в комнатах с избытком навалены добытые винтовки, шашки, патроны.
Марья Георгиевна, руки золотые, свои швейные дела кинула, чем-то их кормит.
И Шляпникову – миску горячих щец.
Та-ак. Что у вас тут? Депутатов в Совет выбираете? Рабочую милицию – собираете?..
А у нас в Таврическом… Трудное дело, браты: надо не прозевать, в эти часы из-под меньшевиков всю почву вырвать.
Из-под кадетов – тем более.
Из-под царя – уж и не спрашивай.
174
Расстрел братьев Некрасовых.
Двое братьев Некрасовых, маленький Греве и пожилой прапорщик из запаса Рыбаков ночевали на квартире штабс-капитана Степанова. На рассвете их разбудил солдат-швейцар офицерского флигеля, перепуганный:
– Ваши высокоблагородия! Надо вам уходить скорей. Уже несколько господ офицеров в цейхгаузе собрания – переоделись в солдатское, ушли. Пришли вольные , ищут офицеров, убивать. Я сказал: тут никого нет. Погрозились и меня убить, если наврал. Они – у самого подъезда стоят! Уходите через чёрный!
Военная побудка, привычное дело. Спали одетые, теперь накинули шинели, ещё прежде первого продрога, – сбежали по лестнице. Думали – через плац и во 2-ю роту, где вчера взяли у них шашки и обещали защиту (а револьверы-то свои так и не взяли из собрания!). Но на плацу в брезжущем свете уже ходили рабочие, с винтовками и без винтовок.
Опоздано! – и вырваться некуда.
Вдруг подошёл из швейцарской унтер-офицер, смутно-знакомое лицо, и назвался, что он причетник полковой церкви: не пожалуют ли господа офицеры к нему, там никого искать не будут? А из чёрного хода туда – несколько раз шагнуть, совсем рядом. Ну что ж, пожалуй.
Уж своего ли полкового двора не знали братья Некрасовы, а этого места никогда не замечали. Тут, совсем рядом, стоял полковой склад, длинный, слепой, – а в нём, оказывается, в торце была комната причетника, через глухую кирпичную стену от склада.
Проскользнули туда, пока не рассвело.
Привычный военный глаз осматривал комнату не как комнату, а всё в смётке военной. Узкая и длинная, поперёк всего склада. В одной длинной стене дверь, в одной узкой – окно на церковь, остальное глухо. Через окно почти вся хорошо простреливается, через дверь – только в средней части.
С ними пришёл денщик Всеволода, да внутри уже был какой-то солдат. Итак, всемером.
И стали сидеть. Как в тюрьме. Ждали – час, полтора – чего? Сморчиво. В окно – разбрезжило. И вполне осветлело. Никто не шёл к ним. Но и они ничего не знали.
Решили послать денщика – вообще на разведку, и во 2-ю роту – чтобы фельдфебель прислал за ними своих и вызволил.
Долго ходил, но много и принёс: во 2-ю роту идти нельзя, там набилось рабочих с красными повязками, фельдфебель пикнуть не может.
Вот и отдали им шашки…
А собрание, рассказывал, за ночь совсем разгромили. Картины, портреты посрывали, поразрезали. Люстры перебили. Мебель – переломали, твёрдую, а мягкую – шашками порубили.
А Сергей вчера боялся стрелять из собрания, чтоб его не тронули…
А что ж в своей квартире? Послал узнать. А там стерёг денщик Сергея, оказывается еле отоврался, чтоб не избили его бунтовщики. По клавишам рояля играли прикладами. Растащили сапоги, одежду, бельё. Разделили колодку орденов и куражились, развешивая каждый себе.
Теперь послали поглядеть по казармам: есть ли где офицеры?
Вернулся денщик: нигде ни одного.
Что же делать? Уходить с полкового двора? Переодеваться?
Сходили нижние чины и осторожно принесли всем четверым солдатские шинели. Прапорщик Рыбаков сразу переоделся – неинтеллигентное лицо, от солдата не отличить. Ушёл.
Но братья Некрасовы замялись. Унизительно. Остались в своём. И маленький Греве тоже.
И просидели ещё час, мало разговаривая. То состояние, когда каждый разговор только дерёт по душе, лучше своё внутреннее, хоть и оно морозит. Бунт, и во всём Петрограде, в несколько часов, и удавшийся, – это же революция! Как она грянула? Кто там вершит? Что теперь будет? Да в Действующей армии революции нет – придут же и справятся, с кем тут справляться? – тут никто не умеет винтовки держать. Но полк опозорен. И собственная честь. И значит – жизнь.
Ниоткуда не доносилось никакой стрельбы. Не верилось, что в полку разорение, что бродят чужие и ищут крови.
А есть хотелось – всё больше. Со вчерашнего дня ничего не ели. Хоть бы хлеба достать. Причетник сказал, что достанет. Ушёл.
Вернулся – позвал обоих солдат. Вскоре опять пришли, да как – с кипящим самоваром, подносы с едой, большая коробка папирос. Это прислала матушка, жена полкового священника.
Это и погубило! Не хватило осмотрительности – шли трое в затылок по плацу, самовар, поднос, – кто-то и заметил.
Не успели чаю заварить, хлеба куснуть – женский голос близко закричал пронзительно:
– Вот тут офицерá сидят!
И – ни на что не успели решиться, обдумать – другие крики, топот сбегающейся толпы, и даже без «выходи!», так быстро, пока причетник стал закрывать на крючок – выстрел в дверь! – и ранило его. Сбился с ног, сел на пол, пополз в сторону, трогая плечо и вслух молясь.
А в дверь – ещё и ещё стреляли, и крик нарастал гуще, толпа сбегалась, кричали:
– Бей кровопийц!
– Попили нашей крови! – и матерно, и матерно, дикий рёв – откуда же столько ненависти? где она была? как жили, её не зная?
И – выстрелы, все в дверь, и даже не по низу, не опытно, – а на высоте плеч. Но на простреле двери никто и не остался: Греве от самовара успел присесть на корточки и отполз. Причетник дополз до постели, Всеволод дал ему подушку, приткнуть к ране, сам прилёг на пол под подоконником. Сергей успел вжаться в угол за постелью. Солдаты оба – на полу.
А снаружи всё орут и стреляют. И опять же неопытность: довольно было им оббежать к окну – и оттуда простреливалось почти всё в комнате.
Но не оббежали. А всё тот же громкий злой гомон голосов, мужских и бабьих, мат о кровопийцах и безпорядочная стрельба в дверь.
Потом вырвался голос:
– Товарищи! Да может там никого и нет? Не стреляй! Погоди, не стреляй!
Стихло. Тут, в комнате, замерли: мышеловка, уйти некуда. И оружия нет.
Да – и нужно ли оно? Кого тут убивать? И спасти не спасёт, не прорвёшься.
Толкнули дверь – она не закрыта была? сбило крючок пулею? И заглянул один солдат, московец. Молодое сообразительное лицо, как бывает у хороших служак, незнакомый. Показал рукой: сидите, не выходите. На всеволодова денщика:
– Так ты что ж не выходишь, дурак, ведь убьют! – и за шиворот вытянул его, вытолкнул наружу:
– Вот он, захухряй! Никого там больше нет. Расходись!
И крики утихли. И не стреляли. Поговорили, поговорили возбуждённо, будто расходились.
Теперь офицеры уже не чинились, не сомневались, быстро надевали солдатские шинели, при первой возможности выскользнуть. Надо было утром переодеваться сразу, гордость, уже бы ушли, и причетник был бы не ранен.
Нечем ему и помочь, прижимает подушку к плечу.
Но не успели застегнуть шинелей – новый рёв и опять застреляли в дверь, теперь уже уверенней. Видно, денщик сказал. Ужались по своим углам. Братья пожали друг другу руки.
Били, били, потом голос:
– Да может сами выйдут? А ну, перестань стрелять!
Но сами входить опасались: ведь первых нескольких снесут. Потому всё время и не врывались.
– А ну, выходи кто там!
Ничего не оставалось. И теперь – куда ж в шинелях? Стыдно, зачем и надевали? Сбросили солдатские, своих не успели натянуть, вышли в одних кителях, трое. Капитан, штабс-капитан и прапорщик. Всеволод палку забыл, без неё.
Отступя от двери шагов на пятнадцать, плотным чёрным полукругом стояли рабочие, на рукавах пальто у всех – красные повязки. Винтовки выставлены у всех «на изготовку», уж там какую. Подрагивают. На ком через плечо – пулемётные ленты, награбили в складе.
Сразу все лица – в один глазоём, ни одно не рассмотрено, все запомнены навсегда, на оставшиеся минуты жизни: больше – молодые, и все обозлённые.
А за ними – большая толпа, и женщины, грозят кулаками через плечи передних, кричат:
– Бей кровопийц! – и матерно.
– Сдавай оружие!
– У нас оружия нет, мы сдали вчера.
Не верят. Настороженно выходит вперёд один из эриксоновцев, эта фабрика – тут рядом, и все они сколько же раз ходили тут мимо, в трамваях ездили и встречались. И никогда офицеры не замечали столько к себе зла.
Подошедший обхлопывает офицеров по поясам, по карманам. Удивлён, но оружия нет. Всё это видят – и громче из толпы:
– Что с ними возиться? Стреляй кровопийц!
– Отходи, не мешай!
– Довольно нами покомандовали! Теперь мы покомандуем!
И обыскивавший вожак отступает от обречённых.
И с новым напряжением – уже не опасного поиска, но торжества, раздвигаются, давая место и другим желающим, кто на изготовку, кто уже и целится. Но никто не стреляет, видно ждут команды вожака.
Как сложна жизнь, но как просты все смертные решения: вот – здесь, вот – сейчас. А больше всего изумление: мы умирали за эту страну – за что она нас ненавидит?
Маленький Греве, мальчик перед взрослой толпой, замер. Всеволод Некрасов цедил: «Идиоты проклятые…» А Сергей вытянулся, развернулась грудь с георгиевским крестом, вздохнул последний раз – не здесь он думал умирать, не так. Успел пожалеть стариков родителей, что в одну минуту потеряют обоих сыновей – и обоих от русских рук. Но сказать убийцам вслух – в оправдание, в задержку – ничего бы не мог найтись.
Тут, опережая команду, – прорезался новый крик – сбоку, с паперти полковой церкви:
– Стой! Стой, не стреляй!
И со ступенек паперти, откуда хорошо видели, с десяток московцев сбежали сюда – и, расталкивая, расталкивая толпу, пробирались энергично – пробрались – ворвались в полукруг между расстрельщиками и обречёнными:
– Стой! Не трогай их! Это – офицеры хорошие!
– Мы их знаем, не трожь!
А их самих офицеры не успели и распознать.
Нет, уже не остановить:
– Отойди! – кричат озлобленные красные повязки. – Не ваше дело! Отойди, и вас зацепим!
Но солдаты мешали собой. А один крикнул:
– Калеку бьёте, герои тыловые!
И вот это – дрогнуло по кругу:
– Где калека?
– А вот! – показали на Всеволода Некрасова. – Вот! – и на ногу его.
Отдав винтовку, один из рабочих подошёл и стал щупать ногу Всеволода через брюки, ниже, ниже. Крикнул как о манекене:
– Верно! Нога деревянная!
И – застывший чёрный резкий полукруг как размылся, зашевелился, распался:
– Кале-ека…
– Ногу-то отдал…
– Чуть-чуть ошибка не вышла, ишь ты…
Да ещё ж оставалось кого расстреливать, – стоял высокий открытый штабс-капитан и молоденький маленький прапорщик, – нет, теперь и они были помилованы за ту ногу. Рассыпался полукруг – и подошли как виноватые, подошли как бы уже друзья:
– Да шинелки-то есть у вас? Вы ж обмёрзнете.
– Поди им шинелки принеси.
– Там – раненый у нас, унтер, – сказал Сергей.
– Сейчас мы его в лазарет! – это солдаты-выручатели. Но совсем незнакомые лица, не узнавали их братья.
– Да вы покурите, – сожаловала теперь толпа.
– Да садитесь поешьте, самовар ваш стынет.
Но старший из рабочих, чугуннорубленный, отречённый:
– Есть – некогда, рассиживать. Всех арестованных приказано представлять в Государственную Думу. Собирайсь.
175
Военка в конце ночи. – Оживление утром.
Ни скрыться домой, ни даже здесь поспать Масловскому так уже и не удалось. Но он очень морально подкрепился тем, что Военная комиссия поступила под ответственность Государственной Думы. Отвечать – так вместе с Родзянкой.
Да что в самом деле! Потомственный аристократ и сколько военных в роду – разве он с юности не мог стать блестящим офицером! Но он уже тогда рассмотрел увядание аристократической жизни, на ней – уже не стяжаешь успеха. Пошёл было Масловский в антропологию, в среднеазиатские экспедиции, научные попытки, не очень удачные, – а потом всё общество двинулось в революцию, и Масловский туда. И чуть не сжёг себе крыльев. Последние годы он втихомолку начал литературные опыты, вот писателем бы ему стать.
И правильно он увидел, ещё двадцать лет назад: каково бы в нынешние сутки оказаться офицером? – как волк среди людей, все охотятся.
Изнемогала в тревоге, незнании и безпомощности военка (как уже с вечера стали звать советские ) – но во второй половине ночи подкрепилась приятным событием, из простых человеческих радостей: кто-то принёс к ним в комнату большую кастрюлю тёплых, с луком жаренных, коричневых сочных котлет – и каравай белого хлеба. Там революция или нет – а желудок требовал своё! Вилок не было, каравай рвали пальцами, потом резали перочинным ножом, пальцами же хватали и котлеты, и так всё дочиста съели, не узнав, кто это и где жарил.
В остальном же военная обстановка была смутна и опаснее, чем днём: по ночной беззащитности, по полному отсутствию у Таврического дворца организованной военной силы. В каждую минуту, разогнавши одной очередью сброд из сквера, Хабалов мог взять Таврический дворец голыми руками.
И даже у дверей военки уже не толпились любопытные или защитники, все разошлись спать.
К счастью, оказалась вымышленной высадка 177-го полка на Николаевском вокзале. Но пришло другое грозное сведение: о высадке какого-то полка на Балтийском вокзале. А комендант Кронштадта сообщил – вероятно, он метил доложить Хабалову, но по проводам попало почему-то в Государственную Думу: что началось большое движение неорганизованной военной толпы из Ораниенбаума на Петроград, может собраться и 15 тысяч. Правда, к этому времени уже считались перешедшими на сторону мятежа Семёновский полк и Егерский тоже, – и послали им распоряжение: против этого неопределённого ночного перемещения выдвинуть заставой 500 семёновцев и 300 егерей, непременно с офицерами и пулемётами. (С офицерами! – а есть ли они там, и каково им? Но укрепить их: распоряжение Государственной Думы.)
Но, как и вечер, тем более ночь состояла в том, что ни одно посланное приказание не подтверждалось, ни один высланный пикет или патруль никогда не возвращался: всё это растекалось, кануло и будто никогда не было послано вовсе.
По всем четырём железным дорогам – Николаевской, Виндавской, Варшавской и Балтийской, был Петроград угрожаем, но не мог предупредить нападение или выставить оборону. Да сам в себе он заключал затаившуюся правительственную силу, о намерениях которой ничего не было известно, а действия могли быть обнаружены слишком поздно. Где было правительство – тоже не известно: в Мариинском дворце его уже не застали, очевидно перешло в Адмиралтейство? И непрерывно заседает там и безусловно имеет прямой провод со Ставкой, и оттуда льются указания, и они готовят круговое удушение мятежа. И генерал Иванов уже ведёт кошмарную силу.
А Энгельгардт, поехавший в Преображенский батальон, – по общему закону исчезания больше не появился до утра.
И – догадка: может быть, под этим удобным предлогом он просто скрылся из опасного места? А Масловский отчаянно и неразумно сгорал тут!
Да если б не моряк Филипповский – он бы и ускользнул. Но двужильный Филипповский, как будто и не ночь была, сидел и писал, писал случайные распоряжения, – однако на бланках Товарища Председателя Государственной Думы – вид!
Наибольшей опасностью представлялась Масловскому Петропавловская крепость, может быть по особому чувству к ней всякого революционера. Она – так и не сдалась, нет! Идеально было бы – закупорить её, обложить все выходы снаружи. Но – где же собрать желающих идти туда на ночь и на мороз, торчать – а из бойниц застрелят?
Два ретивых унтера да несколько солдат выручали военку на посылках и поручениях.
Ночь казалась безконечной – и грозной до конца. Революционный долг приковал гвоздём. (Всё же, когда нападут, с главного входа, – Масловский успевал бы уйти через боковую дверь на Таврическую улицу, а там – три шага домой, и штатского не задержат.)
Сколько пережито за эту безсонную ночь – как за целую жизнь!
К шести утра телефон сообщил, что на сторону народа окончательно перешли батальоны Петроградский и Измайловский. (В Измайловском несогласные офицеры осаждены, а некоторые убиты, то ли 8, то ли 18.)
Ни событий, ни боёв больше нигде не происходило. Уже с наступлением света стали звонить и требовать охрану: на Пороховой завод, на охтенский завод взрывчатых веществ, на морской и артиллерийский полигоны: отовсюду военные караулы сами ушли. На взрывоопасные заводы, конечно, охрана была нужна в первую очередь, один злодей с коробкой спичек… Но и посылать было решительно некого и неоткуда.
Но и то сказать, во что нельзя было поверить вчера вечером: вот, наступил следующий день – а революционная власть стояла? и именно к ней все обращались?
И за дверьми опять толклись желающие, можно было посылать.
Уже в полное утро, после двух светлых часов, появился Энгельгардт, видимо поспавший и уже в мундире и с аксельбантами генштабиста, а с ним ещё – профессор Военно-медицинской Академии Юревич, которого Энгельгардт тут же, совсем некстати, объявил комендантом Таврического дворца – и этот тоже стал отдавать приказания, путаясь с остальными.
И рассердился Масловский на Энгельгардта за его ночное отсутствие, но и успокоился его пышным приходом теперь: так всё выглядело вполне респектабельно! Прилично и самому пойти натянуть военное. Чёрт возьми, мы ещё повоюем с этим царизмом!
Однако с горечью сообщил Энгельгардт, что преображенцы, несмотря на его горячую ночную речь, никуда не двинулись и ничего не атаковали. Оказалось, там не только нет единства между офицерами и солдатами, но и среди офицеров тоже. Вообще, этот ночной телефон к Шидловскому был почти случайностью – а так многое решил!
Всё же послал теперь Энгельгардт преображенцам приказ: занять Государственный банк, телефонную станцию, выставить посты к Эрмитажу и музею Александра III. Хотя бы на эти-то неопасные задания должно было хватить их ночного обещания. И по меньшей мере – чтобы Преображенский батальон расставил бы караулы вокруг Таврического, и охранял бы порядок тут.
Через Энгельгардта теперь можно было узнать такое, чего не узнали всеми ночными разведками, – странное положение, когда, между как будто воюющими сторонами, с Главным штабом идут любезные телефонные разговоры: что правительства в Адмиралтействе нет, и нигде его вообще нет, оно не существует. Что Хабалов на ночь переходил в Зимний дворец, но туда приехал великий князь Михаил и вытеснил его назад в Адмиралтейство. Что у Хабалова 5 эскадронов, 4 роты, 2 батареи.
Такая откровенность была изумительна и подозрительна. Может быть, по этим телефонам и Энгельгардт встречно был так же откровенен? Так и признавался, что у Таврического нет никакой охраны? Масловский всё жёлчней следил за Энгельгардтом, за Юревичем, за Ободовским – ещё этот инженер зачем, откуда, кто его звал? – уже несколько часов сидел тут. И шептал Масловский Филипповскому, что этой буржуазной публике верить никому нельзя, что зря они, советские, дали вырвать у себя руководство военными делами.
Впрочем, телефоны прекратились, с телефонной станцией случилась беда: барышни утром все разбежались. Об этом пришла и записка от Родзянки: для восстановления действия телефонной станции необходимо послать туда автомобили, чтобы собрать по домам барышень. Кроме того, надо убрать труп, лежащий в помещении станции.
Занять телефон и телеграф – это верно, не повторять ошибок Пятого года.
Так ли понимать, что Хабалов телефонную станцию уже не защищает? Ободовский посоветовал иначе: послать туда наряд электротехнического батальона, который и занял бы станцию и обслуживал бы её. Но увы, по случаю революции этот батальон тоже разбежался, и не легче было собрать его, чем снова барышень.
Теперь, днём, набирались ещё и ещё начальники, тут и думец Ржевский, и какой-то, что ли, князь Чиколини, и какой-то Иванов, – и все распоряжались, друг с другом не согласуя, и подписывались на распоряжениях, на случайных думских бланках, как придётся – то «председатель Военной комиссии», то «за председателя», то «комендант Таврического дворца», то «за коменданта», а Энгельгардт писал ещё: «начальник Петроградского гарнизона».
Послали распоряжение 2-му флотскому экипажу занять Зимний дворец и арестовать министров, если там найдут, и всяких агентов правительства.
А Масловский с Филипповским отдельно – придумали и послали несколько маленьких групп арестовывать министров по квартирам, не забыв и Штюрмера. Надо было спешить с делами истинно революционными! Мы ещё с этим царизмом повоюем.
А где-то – целые батальоны болтались без командования, – тот же и героический первый революционный Волынский: там же все офицеры сбежали ещё в самом начале, и никого не осталось. В 8.30 назначили из Таврического сразу двух прапорщиков, на равных правах, – вступить во временное командование Волынским батальоном. Но часу не прошло – появился из волынцев же штабс-капитан с претензией. И переназначили – его.
Главное было сейчас – уговаривать офицеров возвращаться в батальоны, без них не взять гарнизона в руки.
А в Измайловском батальоне после убийства офицеров творилось что-то безконтрольное. И послали к ним большой наряд с приказанием: всё оружие выдать Военной комиссии. (Хорошо, если выдадут, – а если нет?)
* * *
...
Солдаты! Народ, вся Россия благодарит вас, восставших за правое дело свободы.
Солдаты! Некоторые из вас ещё колеблются присоединиться. Помните все ваше тяжёлое житьё в деревне, на фабриках, где всегда душило и давило вас правительство!
Солдаты! На крышах домов и в отдельных квартирах засели остатки полиции, черносотенцев и других негодяев. Старайтесь везде их немедленно снимать мёртвой пулей, правильной атакой.
Солдаты! Не давайте разбивать магазины или грабить квартиры. Это не надо!
Совет Рабочих Депутатов
* * *
176
Прапорщики Андрусов и Гримм примыкают к революции.
Вчера вечером, уже выбежав благополучно из Зимнего, павловцы не бежали дальше, стали разбираться, особенно учебная команда. С нею и прапорщик Андрусов.
Шли себе в казармы. Но по дороге к павловцам выскакивали из толпы женщины, барышни, хватали солдат за руки, совали им и даже прикалывали куски красной материи.
И офицеры не смели кричать: отойдите! или – не берите!
Да зачем бы и кричать? Совершалось какое-то огромное перемещение людских настроений, и Андрусову даже радостно было. Он участвовал в чём-то неповторимом.
Но ещё необыкновенней вчерашний день закончился: у казарм учебной команды на Царицынской улице стояли рабочие и студенты с винтовками – и не пускали солдат в их собственные казармы, а велели им больше ходить по улицам.
И так изменились все порядки, что обезкураженные солдаты не смели пробиваться, хотя им хотелось ужинать и лечь. А офицер тем более не смел подать им команды на то, молоденький офицер особенно чувствовал этот новый трепещущий воздух.
Да офицерам, кажется, вообще уже нечего было делать тут, при солдатах. И даже безопаснее – отделиться.
Такое нарастало ощущение неведомой опасности – даже лучше было бы им куда-нибудь скрыться, провалиться.
Тут же, на Царицынской, помещался офицерский лазарет – и кое-кто из офицеров-павловцев сумел переодеться в больничные халаты и лечь. И Андрусов даже позавидовал: какие же ловкачи.
Но вскоре кто-то из солдат безприютной учебной команды попёрся в тот лазарет – и обнаружили своих здоровых офицеров. И был им позор.
В слоняньи Андрусов столкнулся с Костей Гриммом. И придумали они попроситься на ночь в квартиру своего интенданта – тут же, через два дома. (Идти через весь город офицерам было опасно от неизвестных чужих солдат.)
А тем временем узнали они, что солдаты ищут убить капитана Чистякова. У интенданта же узнали, что Чистяков прячется недалеко, у другого интенданта. И Гримм позвонил своим домашним – и предложил переправить Чистякова в штатском на Васильевский остров к своему отцу – известному либеральному члену Государственного Совета, там не тронут.
Но как ни переодевай капитана Чистякова – нельзя спрятать его приметной перевязанной руки, да и глаз его непримиримых не спрятать. Отказались.
Вадим Андрусов тоже звонил домой. Отец его, кадет, и мама были в восторге от происходящего: началось долгожданное освобождение народа! Осуществление вековой мечты получаем как подарок. Вот теперь-то и начнётся жизнь! теперь-то и начнётся порядок. Ни от какой перемены не может стать хуже, уже дальше терпеть было невозможно.
Вадим пожаловался им, что вблизи это всё не так удобно, не так приятно выглядит.
Но в нём самом возобновилось: и правда, в духе своей семьи и воспитания, почему ему не примкнуть к общей радости?
Ночью обсуждали с Костей – что же делать? Необычным образом входило в жизнь необычное – и почему же им не примкнуть к победе народа, которая так мечталась и ожидалась?
В молодом возрасте легки эти переходы. Есть в них продолжение спектакля, начавшегося вчера.
А на улице, под окнами, ещё поздно вечером бродили солдаты, всё не пускали их в казармы те вооружённые.
Утром проснулись, проверили своё настроение – да! И поднялись революционерами!
И прикололи к своим шинелям на грудь красные бутоньерки.
В ногах, в груди, в голове образовалась необычайная лёгкость, как будто к земле не притяжены. И разбирало созоровать. И чувствовалось так, что вот сейчас они могут что-то свободно-великое совершить и даже прославиться.
Но идти в таком виде к собственным солдатам в учебную команду было стеснительно, не могли. Тогда – пошли в походную роту, позавчера бунтовавшую раньше всех.
Там ещё спали.
Два прапорщика стали ходить по помещениям и кричать:
– Что спите? Подымайсь! Революция!
Но и этого показалось мало, и просыпались вяло. И тогда Андрусов с Гриммом стали кричать – почему? как в голову пришло:
– Подымайсь! Царя больше нет!
А услышав такое – павловцы вскакивали с большим переполохом.
А потом смекнули, что значит теперь никого за бунт не накажут, и девятнадцать их арестованных судить не будут.
И – качали обоих прапорщиков. И становилось обоим всё веселей и несвязанней.
Пошли в собрание позавтракать. У некоторых молодых офицеров тоже уже были красные приколки – а старшие офицеры смотрели осудительно, да их почти не было.
И капитана Чистякова не было.
Тут явился бывший командир Гвардейского корпуса грузный генерал Безобразов – и в биллиардной стал поучать офицеров, что в случае вызова батальона на улицу надо не подпускать к себе толпу, а останавливать её сначала приказанием, а потом дать залп.
Всё это – дико звучало, из какого-то невозвратного времени. Не стала с ним офицерская молодёжь спорить, а – вставали и демонстративно выходили.
Потом Вадим и Костя пошли пешком в Таврический. Теперь они свободно могли двигаться среди незнакомой солдатской массы: на них видели красные бутоньерки, и их не обезоруживали, и приветствовали.
В Таврическом потолкались, нашли Военную комиссию. Там очень им обрадовались и сразу выписали распоряжения: Гримму – командовать своим же взводом павловцев, состоя при Государственной Думе. А Андрусову: вступить в командование нарядом павловцев, поставленным в Михайловском манеже.
Так они оба стали при деле, молодыми офицерами революции.
...
ДОКУМЕНТЫ – 2
ИЗ ДОНЕСЕНИЙ В ВОЕННУЮ КОМИССИЮ
(утро 28 февраля)
– Немедленно вышлите подкрепление 350 чел. на Лиговку, угол Чубарова переулка. Большая засада, действуют 6 (шесть) пулемётов.
/Карандашом помечено: не оправдалось/
– Санитары лазарета Зимнего дворца просят прислать отряд войск, чтоб арестовать скрывающихся там лиц… Дворец сейчас ни в чьей власти. Часовые сняты, но внутри ещё сторонники старого правительства.
По поручению санитаров студент Р. Изе
...
– Поблизости Сената видны толпы пьяных, разграбивших гостиницу «Астория».
– Уг. Инженерной и Садовой плохо. Наших патрулей нет в этом районе.
– В городе всё спокойно. Солдаты жалуются на холод и решили отправиться в казармы. Захвачены 18 бронированных автомобилей. На окраинах происходят разгромы магазинов.
– Освобождённые из Петроградской пересыльной тюрьмы просят указать место, куда б они могли прийти и получить как постель, так квартиру, пищу и оружие, а также пропуск.
Освобождённый политический (подпись)
...
– По поступившим сведениям, два подозрительных субъекта раздают воинским чинам спиртные напитки и распространяют заведомо ложные и тревожные слухи.
Член продовольств. комиссии (подпись)
...
– Поручено организовать охрану Арсенала, где будто бы идет разгром.
– Просят уг. Садовой и Инженерной немедленной помощи для усмирения пьяных солдат.
– Склад оружейных припасов разгружают и отправляют. Необходимо прекращение увоза снарядов. Могут через Лесное на лошадях увозить. Ждут войска из Финляндии.
1 запасного полка Кузьма
...
– ПРИКАЗАНИЕ. Вольноопределяющемуся Таирову Дмитрию и рядовому Маяковскому Владимиру произвести выборы представителей в военно-автомобильной школе, организовать ремонт машин.
Б. Энгельгардт
177
Дух Французской революции. – Шульгин берёт Петропавловскую крепость.
В кресле пересидевши ночь, не выспался Шульгин, и утром горяченького нечего было глотнуть, бездействовал разграбленный думский буфет. Но что-то заливало душу настроение Французской революции.
К этому сравнению легко было прийти, оно у многих на уме было уже вчера вечером, но сегодня захлёстывало с новой силой. Из отдалённого хладнокровного читателя Шульгин был объят в соучастника – а может быть и в жертву? – тех, оказывается страшных, дней.
Что вчера! Вчерашняя вечерняя думская толкотня сегодня вспоминалась, пожалуй, как блаженная прореженность. Вчера только прорывались, а сегодня, уже не зная задержки, пёрла и пёрла через входную дверь чёрно-серо-бурая безсмысленная масса, вязкое человеческое повидло, – и безсмысленно радостно заливала всё пространство дворца, для своего здесь безсмысленного пребывания. Вчера потерянные солдаты по крайней мере искали тут ночного крова, боялись возвращаться в казармы – но что сегодня? Все помещения, залы до последнего угла и даже комнаты захватывала, забирала, в движении и перемесе, – толпа, да тупая, просто сброд, задавливающий всякую разумную тут деятельность. Россия осталась без правительства, все области жизни требовали направления и вмешательства, – но членам Думского Комитета не только не оставлялось возможности работать, а даже находить друг друга и просто передвигаться по зданию.
И обнаружил Шульгин, что у этой массы было как бы единое лицо, и довольно-таки животное.
И он живо узнавал, что всё это уже видел, читал об этом, но не участвовал сердцем: ведь это и было во Франции 128 лет назад! И когда в Екатерининском зале молодёжь в группках пыталась петь марсельезу, на русские слова и перевирая мотив, —
Отречёмся от старого мира,
Отряхнём его прах с наших ног, —
Шульгин слышал ту , первую, истинную марсельезу и её ужасные слова:
Берите оружие, граждане!
Вперёд! И пусть нечистая кровь
Заливает наши следы!
И чья ж предполагалась та нечистая кровь? Уже тогда показано было, что королевским окружением не кончится.
А вот и у нас изорван в клочья императорский портрет.
Отвращение.
Десять лет позади думской трибуны висел огромный портрет Государя в полный рост, терпеливый свидетель всех речей и обструкций, но всё же символ устойчивости государства. И вдруг сегодня утром увидели: солдатскими штыками портрет разодрали – и клочья его свисали через золочёную раму.
И эти несколько наглых штыковых замахов вдруг поменяли всё восприятие: петроградский эпизод не только не возвращался в колею, а, может быть, и правда был великой революцией?
И ни весь Думский Комитет, ни сам Родзянко не могли охранить портрета и ничего остановить.
И толкнуло Шульгина: как было в Киеве, всегда помнил он, 11 лет назад. Ворвалась в городскую думу толпа, там преимущественно евреи, тогда солдаты не бунтовали, – и так же рвали все портреты императоров, выкалывали им глаза. Какой-то рыжий студент-еврей пробил головой портрет Государя, носил на себе пробитое полотно и исступлённо кричал: «Теперь я – царь!» А укреплённую на балконе царскую корону изломали, сорвали и бросили на мостовую, перед десятитысячной толпой.
В большом роскошном кабинете Родзянки ещё отсиживались от этого людского затопа, тут были все свои, тут можно было что-то и обсуждать.
Хотя ни к какому решению прийти невозможно. Понятно, что надо действовать, не дать анархии развиваться, но непонятно что и как. Вторые сутки не переваривалось мозгами всё это огромное, что свалилось на их головы, – гораздо большее свалилось, чем они призывали, ждали, хотели.
Да – против кого действовать? И кому действовать? Как и правильно предупреждал их Шульгин – ломали, ломали копья во славу людей, облечённых доверием народа, достойных, честных, талантливых, – а где они есть? Во Временном Комитете – как будто верхушка Думы, а посмотреть – одна серятина, просто стыдно. Хорошо, это ещё Комитет, не правительство, но кого же такого талантливого и облечённого возьмут в правительство?
А на что годилась слоновья туша Родзянки? Такой, бывало, упрямый против самого Государя – вот не мог высадить из бюджетной комиссии каких-то самозванцев, проходимцев, совет невыбранных каких-то депутатов, захватывали здание самой Думы.
И в отличие от них всех, ощущая свою ещё молодость, тонкость, подвижность, себя – ещё киевским прапорщиком 11 лет назад, – Шульгин испытывал жажду отличиться от здешней невразумятицы, действовать.
И тут он услышал разговор, что звонили на рассвете из Петропавловской крепости, комендант выразил желание говорить с членами Государственной Думы – и вот всё ещё не послали никого. Услышал! – и в его романтической душе вся картина вдруг повернулась и переосветилась иначе: ведь если похоже на Французскую революцию, то ведь и в этом похоже! Петропавловская крепость – это же Бастилия! И у этой отвратительной толпы вот-вот зародится мысль – брать Петропавловскую крепость штурмом! освобождать может быть несуществующих или немногих там узников и казнить комендантскую службу. Так надо успеть деятельно предотвратить этот ужас!
Вот и пригодилось, что он тут ночевал, не зря мучился в кресле. И стал предлагать Родзянке и всем в Комитете, чтобы послали – его. Спешил убедить, боялся, что пошлют не его. Но все были так заморочены, что даже не оценивали важности шага, – кивнули охотно, хорошо, что доброволец есть.
Выскочил на бодрый морозец, не достегнувшись.
Прежде вот так поехать по городу – ему бы никак не достать автомобиля. А сейчас – в одну минуту подавали. Кажется – четверть автомобилей Петрограда стояла перед Таврическим, дожидая чести везти кого-нибудь. (А остальные три четверти гоняли по городу со стрельбой и криками.)
Но подавали – с красным флажком и с торчащими штыками: ни крохотное местечко, где только можно было уцепиться, не оставалось без солдата со штыком. И вот уже открывал Шульгину дверцу какой-то расторопный офицер со снятыми погонами, приставленный от Военной комиссии.
И знаменитый монархист Шульгин сам не заметил, как поехал под красным флагом брать Петропавловскую крепость.
Не поехал бы, если бы не величие задачи и не аналогии. Но вся Французская революция раскатилась из-за штурма Бастилии. Успеть предотвратить такое несчастное развитие. Политических – выпустить на глазах толпы и показать ей пустые камеры.
Шульгин не узнавал улиц – такие необычные фигуры, со множеством красных пятен от бантов и повязок, необычное движение. По Шпалерной не шли, но валили к Думе. Просто множество во-оружённых людей, военных и невоенных, безо всякого строя пешком, и на грузовиках.
Окружной суд ещё всё пышел – раскалённые развалины, пепел, дымки от залитого.
Погода была ясная, морозно-солнечная, и с Французской набережной открылась сверкающая снегом Нева, кое-где переходимая чёрными фигурками.
А с Троицкого моста – долгая многоскладная серая крепостная стена Петропавловки с куполами собора и вознесенным безсмертным золотым шпилем колокольни. И императорский штандарт на одной башне, чёрный орёл на жёлтом поле: династия – спит здесь.
Великий миг. Билось сердце.
За мостом уже виделся неподалеку, голубел купол мечети. На открытом месте, по пути к крепости, густился митинг, и студент с грузовика выкрикивал о свободе, свободе, свободе, – и все слушали как долгожданное.
Но по мостику, ведущему через канал к крепости, не шли. По ту сторону – парные часовые.
А возле них – дожидающийся офицер. И не успел спутник Шульгина помахать носовым платком – как офицер уже спешил навстречу:
– Как хорошо, что вы приехали! мы вас так ждём! Пожалуйте, комендант вас ждёт!
Тут их догнал из толпы – какой-то в офицерской шинели, а без погонов… Не было места, но и он пристроился на подножке меж революционными солдатами.
Часовые глазели.
Въехали в наружные ворота. Проехали под сводом Петровских.
У собора развернулись – и подъехали к обер-комендантскому дому.
Внутри – темно, узко, старинная постройка.
Наконец и комендант, генерал-адъютант, изувешан орденами, но не слишком боевого вида, скорей рыхл. И с ним несколько офицеров. Все безпокойны.
Шульгин, узкий, стройный, представился приятным тоном, что он – член Государственной Думы и – от Комитета Государственной Думы.
И старый генерал в волнении, совсем теряя осанистое достоинство службы и чина, убеждал молодого депутата с острым взглядом и острыми усиками:
– Господин депутат… Пожалуйста, не подумайте, что мы против Государственной Думы. Наоборот, мы очень рады, что в такое опасное время есть хоть какая-то власть… Мы отклонили пригласить сюда отряд генерала Хабалова… Но как смотрит Государственная Дума? Разве то, что находится в Петропавловской крепости, не должно быть охранено? У нас – драгоценный собор. У нас – усыпальница всей династии. Монетный двор. Наконец, арсенал. Невозможно же, чтобы толпа сюда ворвалась! – и что же могут наделать? Какое бы правительство ни было – но оно будет это охранять. И наш долг присяги – охранять, мы не можем впустить…
Простые ясные соображения. А в Комитете не об этом думали, а только: присоединить Петропавловку к народу!
Но Шульгин имел довольно смелости и не довольно над собою контроля, чтоб ответить уверенно:
– Ваше превосходительство! Не извольте трудиться доказывать то, что ясно каждому здравомыслящему человеку. Поскольку вы признали власть Государственной Думы, а это главное, – то я от имени Государственной Думы подтверждаю вам и даже лично настаиваю: что крепость со всем тем, что в ней есть, должна быть охранена во что бы то ни стало!
Генерал просветлел, приободрился, благодарил:
– Спасибо, господин депутат. Теперь мы спокойны и знаем, чего держаться. Но не могли бы вы оставить нам это в виде письменного приказа? Быть может, нам придётся предъявлять, доказывать…
Смелость Шульгина не имела границ, он тут же сел к столу и написал такой приказ коменданту крепости: охранять её всеми имеющимися силами и не допускать никакого вторжения посторонних.
Однако тут и высказал свою нетерпеливую мысль, с которой едва удержался не начать при входе: отчего погибла Бастилия. Надо публично выпустить политических – и показать пустые камеры представителям внешней толпы.
Генерал с офицером удивились: какие политические?! Тут вообще никаких узников нет совсем.
Облегчённо удивился Шульгин: совсем нет узников?! Но – так считается всеми, что есть, так все полагают. Вся эта грозная крепость средь города со страшной её памятью – не заключала ни единого узника??
Кроме тех девятнадцати мятежных солдат-павловцев, приведенных позапрошлой ночью. И комендант сам рад их выпустить, не знает, что с ними делать.
– Так неужели же ни одного политического?!
Ни одного! Ещё был – генерал Сухомлинов, военный министр. Но и он освобождён поздней осенью.
– Неужели так-таки все камеры и пусты?
– Все. Вы можете убедиться.
Девятнадцать павловцев генерал готов был выпустить сию же минуту. Но вот показывать камеры делегатам из толпы он считал унизительным и невозможным, даже для самого младшего своего офицера.
И у Шульгина не хватило настойчивости убедить.
Тем временем старший офицер просил его сказать речь гарнизону крепости: что Государственная Дума требует исполнения дисциплины.
Что ж, можно.
На обширном дворе близ колокольни, там, где расчищен снег, было выстроено несколько сот солдат, в полукарре. Что-то много.
И только тут догадался Шульгин: офицеры боялись не внешнего приступа, но именно этих, собственных солдат. Правда, неуютно быть в запертой крепости с непонятными солдатами, в такое время.
Щурились при ярком свете на Шульгина солдаты. И он на них щурился. И сейчас не показались они ему такими тупыми и безнадежными, как те в Таврическом. И оказалось совсем не трудно говорить речь перед безответным строем, без других перебивающих ораторов. Звучал только его одинокий, высокий, несильный голос.
Он напоминал, что идёт война. Что немец только и подстерегает, чтобы на нас кинуться. И если чуть ослабеем – он сметёт наши заслоны, и вместо свободы, о которой мы все мечтаем, получим немца на шею. Армия же держится дисциплиной, и надо повиноваться своим начальникам. Ваши офицеры в полном согласии с Государственной Думой, и я отдал им приказ: защищать крепость во что бы то ни стало!
(Хорошо прозвучало: «Я отдал приказ!» Ах, что делает революция!)
Кто-то крикнул:
– Ура товарищу Шульгину!
Уже и сюда проникло.
Но громкого единого «ура» не разразилось.
Попрощался с офицерами – и в автомобиль. Крепость спасена!
(Ах, упустил подхватить ещё одно яркое впечатление: посмотреть Трубецкой бастион! Уж так торопился в Таврический, казалось надо присутствовать там.)
На подножку опять вскочил тот делегат толпы, офицерская шинель без погонов. За мостком он с подножки автомобиля держал речь к толпе – что Петропавловская крепость тоже за свободу.
И толпа кричала «ура!».
Тут же подъехали грузовики со многими штыками и щёлкая затворами: почему Петропавловская крепость не поднимает красного флага? Грозили открыть военные действия.
Сопровождающий перепрыгнул туда, на их мотор, и кричал, что вот член Государственной Думы, и уже обратил крепость за свободу и народ. Да сейчас поднимут и красный флаг, просто не успели!
А Шульгин укатывал – снова через Троицкий мост, и по набережной. И по той же взбаламученной, вооружённой Шпалерной.
Перед дворцом толпа стала ещё больше и гуще. Мешались воинские строи. Что творилось, что творилось!
Кое-как пробивался, пробивался через вестибюль, через внутреннюю толчею – в кабинет Родзянки. После всей этой дичи счастье оказаться среди своих: прежде – чужие депутаты, как сослуживцы, теперь – друзья, которые жили когда-то вместе со мною на одной хорошо устроенной планете.
Тут слушали его рассказ со вниманием и одобрением.
А непроницаемый Некрасов, с неподвижным взглядом, из-под неподвижных, как наложенных, усов вдруг выразил:
– Вот хорошо. Теперь из Петропавловки да запалить бы Адмиралтейство. Кинуть туда снарядов дюжину.
Шульгин обернулся резко, как укушенный. Здесь – он такого не ждал.
– Как? Мы, Дума, слава Богу, ведь не делаем революции?
И поворачивался дальше, дальше, глазами по Шидловскому, Коновалову, Ржевскому, самому Родзянке.
Но никто не мог его поддержать, потому что никто уже и сам не понимал.
А Некрасов, вчера на частном совещании требовавший военной диктатуры против безпорядков, теперь возразил невозмутимо, не вспыхнули синие глаза, не вспрыгнул голос:
– А – что же мы делаем? Мы и захватили власть.
– Позвольте, господа, я ничего не понимаю! – звонко, надорванно вскричал Шульгин. – Мы были против министров – но когда же мы стали против русских военных властей!
* * *
...
Отступление невозможно. Или свобода, или смерть. Враг безпощаден.
Что нужно делать теперь солдату? Захватить в свои руки все телеграфы, телефонную сеть, вокзалы, электрические станции, Государственный банк и министерства. Не расходитесь по казармам, ждите листков! Да здравствует вторая революция!
Петербургский Межрайонный Комитет РСДРП
Петербургский Комитет Социалистов-Революционеров
* * *
178
Хабаловский отряд в последнем бездействии. – Расчёты генерала Беляева.
Хотя и поспавши часа два, генерал Хабалов с утра соображал ещё меньше, чем вчера, совсем отупела его голова.
За все революционные сутки, если не считать пропавшего отряда Кутепова, подчинённые ему войска не совершили ни одного нападения, ни одного боевого передвижения, даже, пожалуй, ни одного выстрела, не испытали, не отбили ни одной атаки, оттого не имели ни одного раненого, ни одного убитого, – но тем не менее они потеряли всю силу, весь дух, да и заметно уменьшились в числе. Сутки назад это была единственная военная сила в столице и считалась её хозяином. Сегодня она стянулась в обречённый островок, адмиралтейский прямоугольник, из которого чуть не каждый и чуть ли не сам командующий только и думали теперь, как бы им сбежать.
Тяжельников, с тех пор как отклонили его совет пробиваться из города, тоже ничего не мог понять и предложить.
С утра их забота стала – как бы раздобыть еды и фуража да накормить их боевой состав и лошадей. И патронов по-прежнему мало. Хабалов звонил в разные районы города, прося командиров воинских частей и учреждений прислать ему подкреплений, продовольствия, патронов, – но отовсюду получал отказ, и круче чем вчера. Он уже для всех стал заклятым клиентом.
Потом вдруг исчезла городская телефонная связь. Это значило, что телефонная станция перешла в руки мятежников. А это – отсюда два квартала.
Случайно достали немного хлеба, раздали части нижних чинов.
Лошади были не только без сена, но и без воды: из кранов поить неудобно, вёдер нет и носить далеко. Понуренные, они стояли во дворах.
Отпустили казачью сотню на водопой в казармы Конного полка. Туда прошли благополучно, но назад по ним стреляли и убили двух лошадей.
Залетали и шальные пули, с верхних этажей зданий по Адмиралтейскому проспекту, убили ещё двух лошадей. Адмиралтейство на выстрелы не отвечало.
А атаки – не было ниоткуда, да и наступающего противника. Может быть, увидеть его – было бы даже и легче. Пулемёты занимали для обстрела углы второго этажа, орудия стояли против ворот на Дворцовую площадь – однако делать им было нечего.
Но хотя город замолк, онемел, с ним не осталось связи – сохранился телефон дворцовой линии и телеграфная линия со Ставкой: главный аппарат был в Главном Штабе, наискосок, но в Адмиралтействе отвод. И, пользуясь этой линией, Хабалов утром телеграфировал Алексееву в Ставку, что положение трудно до чрезвычайности, верных долгу осталось пехоты человек 600, всадников 500, при 15 пулемётах, всего 12 орудий и только 80 снарядов.
Тем же телеграфом пришёл очень приободривший запрос генерала Иванова из многих пунктов. Там подтверждался предполагаемый приезд Иванова со многими войсками. Хабалов с радостью готовил ответ на все вопросы, уж он не знал, как дождаться этого блаженного часа, чтобы передать ответственность, а потом, может, и само командование над опостылевшим ему, не принявшим его, враждебным неохватимым Петроградом. (Как бы он мечтал снова уехать в своё Уральское казачье войско!)
Всего-то дождаться надо было одни сутки.
Но как их дождаться, если за минувшие сутки потеряна целая столица?..
Ещё в этом же громадном здании где-то пребывал в своей казённой квартире сказавшийся больным морской министр Григорович. Но нельзя было прибегнуть к помощи его или совету: он со вчерашнего дня ни разу не потрудился прийти, не сделал ни одного доброго жеста к войскам Хабалова, только через служащих стеснял их в помещениях, и ещё спасибо, что пускал к прямому проводу.
Вокруг Хабалова было очень много старших офицеров – неизмеримо больше, чем требовалось по этим войскам. И так ему ни разу не пришлось самому пройти к войскам, посмотреть или обратиться. И офицеры не докладывали ему, но своим унылым видом, малословием, бездействием передавали, какая потерянность овладела последней горсточкой верных.
Они, младшие офицеры и солдаты, были верны, верны, но не могли же не видеть, что их командование совсем не знает, что делать, и только слоняется из здания в здание, отовсюду гонимое. А о самом правительстве было известно, что оно разбежалось. Дух безсмыслицы и бездействия растлевал хуже голода и безпатронности. За эти сутки весь город перекинулся в победный мятеж – и каждый час оттяжки, который они тут перебывали, никому не принося защиты и пользы, грозил каждому здесь расправой или карой от мятежа.
Дошло до немыслимого: хорошие офицеры-измайловцы приходили к своему полковнику и отпрашивались уйти вовсе.
А другие гвардейские офицеры спрашивали у генерала Занкевича, не найдёт ли он возможным войти в контакт с Думским Комитетом, как это, по слухам, уже сделали офицеры Преображенского полка.
В этом была особая странность и безцельность военных действий: непонятен был противник, где он, кто? Кроме хабаловского отряда, ещё в столице оставалась только Государственная Дума, но не она же могла быть противником? Отчего не сговориться с Думою? Офицерам-то более всего было непонятно: разве это противоречит присяге?
Занкевич не нашёлся ответить. (Он сам про себя и для себя обдумывал то же самое.)
Только артиллерийский полковник Потехин, тот на костылях командир батареи, начал на лестнице говорить малой кучке солдат – а тут их собралось больше, больше, все хотели послушать, ведь никто ничего не объяснял! – и, с костылей, он приобадривал громко и внятно на всю сумрачную лестницу:
– Не падайте духом, солдаты! Не смотрите, что город захвачен мятежными бандами, и не ослабляйтесь! Это – временное помрачение мозгов тыловых людей, – и погибла бы Россия, если б оно потекло дальше. Но Россия не с ними, а с нами! Она вся на фронте и противостоит врагу. Этот мятеж – лучшая помощь немцам. Не падайте духом, перенесите лишения, на фронте бывает и тяжелей, – мы достоимся до своего!
Слова его, кажется, успешно ложились. Никто не возражал. Однако никто из офицеров не добавил больше. Постояли – и стали расходиться. Ещё неся сказанное. Или уже роняя.
Но каково во всех этих обстоятельствах было военному министру Беляеву, попавшему в такую гибельную ловушку? Как жалел он, что вчера вечером при стрельбе на Мойке покинул свой довмин, – с тех пор он звонил туда и соединялся по военному проводу несколько раз, и убедился, что дом не разграблен и никто не приходил, вполне безопасно мог бы и остаться. А теперь его положение было – между молотом и наковальней. Победят мятежники – они не простят ему присутствия здесь, среди хабаловских остатков. (Кто-то из преображенцев телефонировал, что ночью они получили приказ наступать на отряд Хабалова. А из окон уже было видно, что там-сям собираются группы вооружённых штатских и солдат.) Придут войска Государя – военному министру не будет прощён побег отсюда. А спрашивается – почему он вообще должен встревать в эту историю? Ведь вот же Григорович, правда придумав болезнь, устроился: сидит как бы в своём министерстве, занимается как бы морским делом? Так и Беляев с Занкевичем (они обменялись мыслями) – вот тут, наискосок, в ста саженях, сидели бы у себя в Главном Штабе, руководили бы военным делом, и их совершенно не касается, кто тут с кем в Петрограде воюет. Разве революция – против военных людей?
И Беляев, когда появлялся телефон, звонил снова Родзянке, очень рассчитывая, что эти отношения помогут ему с одной стороны. Но тот не обрадовал: он не ручается, чтó сделает разгневанная толпа с отрядом Хабалова. Очень советует прекратить сопротивление и распустить войска.
Однако это было не в распоряжении Беляева.
Однако, уж попав сюда, надо было во всяком случае хорошо отметиться перед начальством: начальство продолжало существовать, вон слало экспедиционный корпус. И он решил, пока работает провод, слать туда донесения.
Но – что было в донесении выразить? Невозможно же передать весь этот ужас и эту обречённость. И можно прослыть паникёром. Осторожней выразиться так:
…Положение по-прежнему тревожное. Мятежники овладели важнейшими учреждениями, так что сколько-нибудь нормальное течение жизни государственных установлений прекратилось…
А затем уже прямо: …Войска бросают оружие, переходят на сторону мятежников или становятся нейтральными. Скорейшее прибытие войск крайне желательно, до прибытия их мятеж и безпорядки будут только увеличиваться…
Да уж скорей присылали бы, что они тянут!
179
Большевицкий манифест.
На квартире Павловых рано утром совали Шляпникову в руки проект большевицкого Манифеста. Шляпникову это понравилось, втайне ото всех партий – да выскочить первыми с Манифестом «Ко всем гражданам России», – и выкусьте! Вооружимся отдельно! Межрайонцы с эсерами уже успели тиснуть листовку – а мы целый Манифест! Должен бы Ленин похвалить.
Эх, перебежал Матвейка Рысс к межрайонцам, – вот было перо! Как-то умел он грозно писать, аж пожар по строкам, – и для врагов уничтожительно, и для нас ободряюще.
Ну ладно, мы и без тебя.
На этом манифесте уже и писали, и вычёркивали, кто только чего не городил со вчерашнего вечера. И заново переписывали. А до сих пор – не чист и не готов.
Ох, самая невытягательная работа – писать публичный документ, да когда времени не остаётся. Уж тут не до красоты слога, но какой-нибудь важный лозунг не исказить. А ошибиться очень просто, на самом ровном месте, политические формулировки – они как туман переползают, края не найдёшь. Как будто, вот, в руках держал – а опять ускользнуло.
Тут надо такой лозунг вжарить, чтобы всех аж по пяткам ожгло!
Спорили: вставлять ли в Манифест – Совет Рабочих Депутатов? Шляпников поднатужился, подумал: а что этот Совет депутатов? – он уже и так есть, вчерашний день, и там у нас не большинство, и не будет. А огорошить надо: во главе республиканского строя – значит, царя по шапке! – да создать революционное правительство! (А с нашим оружием мы в нём и погуще засядем.)
Ребятам понравилось. Молотов поправил: всё же – временное правительство. Ну, пусть «временное революционное».
Тут надо такие слова двинуть в сознание масс, чтоб никому их назад не вырвать, чтобы повернуть нелегко. А слюнтяй этот, Молотов, хоть ему на неделю дай мусолить, – никогда не кончит.
Да и ребята там у мотора замёрзли. Если ещё шофёр военного министра не сбежал.
Ладно, поехали! – там, в Таврическом, перед заседанием доработаем.
Обошли самокатчиков крюком. Ничего, народ ходит, стрельбы нет. А не сдаются самокатчики, во упрямые! И что им в этом царском режиме? Во как мозги людям забивают.
До Литейного моста только красное видели на людях. А пересекли мост – какие-то ещё белые повязки на рукавах. Это – кто такие? Мол, городская милиция. Не-ет, это не наша сила.
Шпалерная сильно запружена: и туда и сюда валят солдаты без строя и вооружённые рабочие. Гудят автомобили, рычат грузовики.
А план у Шляпникова вот какой: создалась у Совета своя газета, и типографию захватил наш человек – Бонч-Бруевич. Из Таврического теперь сразу Шляпников ему позвонил по телефону – и тот обещал катнуть большевицкий Манифест сегодня же днём, отдельным выпуском газеты. И никому ни гугу.
Вот так, Вячеслав, дела делаются! Всех обскачем!
Только с текстом торопит. Пошли в какую-нибудь комнату.
Комнат много, а пустых нет. Да никто не знает в лицо членов большевицкого ЦК, вниманья не обращает. В многолюдьи затесались на диванчике в стороне, на коленях читали, и карандашом правили и доспаривали.
Благоденствие царской шайки… построенное на костях народа… – это хорошо, пусть так. Революционный пролетариат должен спасти страну от окончательной гибели, которую приготовило ей царское правительство… – тоже правильно. Но уже и неправильно. Надо чувствовать, как перетекает момент. Со вчерашнего дня солдаты с нами, и надо их не обижать, а привлекать в единые ряды. Значит, надо написать: не только пролетариат, но и революционная армия. Та-ак… Стряхнул с себя вековое рабство… – это не помешает. …Временное Революционное Правительство во главе республиканского строя… – ай, хорошо, по всем зайцам сразу! И скажу Бончу, чтоб он на эту фразу не пожалел типографской краски. Верно, мы не указываем, кáк то правительство создавать. А это – долго думать, да и – кто раньше захватит. Наше дело: все права и вольности, конфискация всех земель, 8-часовой день, Учредительное Собрание, – ничего не пропустили?
А ещё: все продовольственные запасы конфисковать , очень просто! Когда всё конфискуем – тогда и распределять, а иначе – что же распределять?
Гидра реакции… – это хорошо. …Победить противонародные контрреволюционные замыслия… – это правильно.
А вот по военному вопросу – надо за горло брать. Не-ет, это слабо написано, это мямленье: пролетариат не одобряет войны, не хочет захватов. Не-ет!
Но и прямо «долой войну» – рабочие многие отшатнутся.
А вот как: революционному правительству войти в сношения с пролетариатом воюющих стран, понимаешь? Не с правительствами, а через их головы – с пролетариатом! Каким путём правительство будет делать – нас не касается, наше дело дать программу – чтоб дух захватывало!..
И что ещё непременно вставить: что революционное правительство надо немедленно же и выбирать. От фабрик, от заводов, от восставших войск. Лозунг!
И добавить, что: по всей России ! По всей России поднимается красное знамя восстания. Неважно, что сегодня нигде нет, – завтра будет. Для того и пишем, чтобы было. По всей России берите в свои руки дело свободы! свергайте царских холопов! зовите солдат на борьбу с царской властью! Да прямо даже так: по всем городам и сёлам создавайте правительства революционного народа!
Сильно получилось. Во громыхнёт! Так ожечь, чтоб никому возврату не было! – вот это по-нашему.
Подпись конечно: Центральный Комитет Российской Социал-Демократической партии. Кто там ещё разберётся, что и комитетов несколько, и социал-демократических партий несколько, – а вот мы первые, как единственные!
Разберёт Бонч? Очки наденет – разберёт.
180
Кутепов в зеркальной комнате.
Как привыкает фронтовой человек спать даже под разрывами снарядов, так и Кутепов эту ночь крепко спал в угрожаемом доме, куда могли ворваться всякую минуту и требовать крови его. И, только проснувшись довольно поздно, вспомнил он опасность, и все старания минувшего дня, и всю безцельность их.
Стало горько.
О самом себе он всегда почему-то предчувствовал, что кончит роково, не просто его убьют на войне, но каким-то роковым образом – вот, очевидно, как могли вчера, как могут сегодня. Но он ума не мог приложить, что случилось за один день со всею петроградской властью, как она рухнула.
Что запасные батальоны были дрянь, а не гвардия, это ясно. Да по принципу экономии, чтоб далеко не перевозить, набрали здешних рабочих (а к ним листовки носят), да чухны из окрестностей, да лавочников, домовладельцев, белобилетников – маменькиных сынков, кто до сих пор уклонялся. Они развешивают уши к леченым раненым, об ураганном огне, о газах, и одного бы им только – не попасть на фронт. А офицеры все – проходные, они и солдат не успевают запомнить, не то чтобы знать, чем их головы забиты.
Но чтоб у власти не оказалось вообще ни единой опоры и она могла в один день разбежаться, не имея противу себя никаких сплочённых сил? – этого он не мог постичь.
Александр Павлович подошёл к окну своей небольшой комнаты и осторожно высматривал. Видел кусок Литейного проспекта, сад Собрания Армии и Флота и угол Кирочной улицы. Движение было необычное, много вооружённых возбуждённых людей, все с красными признаками. Одна группа неподвижно стояла прямо против дома Мусина-Пушкина, глаз не спуская с его окон и дверей. Вероятно, такая же была и против чёрных ворот.
И всё-таки он не жалел, что вчера отказался переодеваться в солдатское. Сама смерть всегда должна быть достойной, в этом офицерское предназначение.
За чаем ему рассказали несомненные сведения: что правительство разбежалось, Протопопов спрятался в Царском Селе; что полицейских всюду убивают или ведут арестованными в Думу; что старой власти не осталось совсем никакой, даже и военной, и никто не знает ни одного случая сопротивления революции, кроме вчерашних действий его отряда.
Это не вмещалось.
Утром хозяева лазарета хотели продолжить телефонный сбор сведений, но телефон замолчал. Пожалел Кутепов, что не успел позвонить сестрам, но вчера дал им знать, где он есть.
Наблюдали в окна. Пикеты были напряжены и сторожили все выходы. Хозяева дома очень волновались – из-за присутствия Кутепова, хотя старались этого не показать.
Вдруг, они видели, из-за угла Кирочной вывернули два броневика и два грузовика. Все они были наполнены вооружёнными рабочими. Машины остановились на проезжей части Литейного, рабочие соскакивали, кричали и друг другу показывали на окна. К ним притягивались и рабочие, гуляющие по Литейному.
С броневиков они подняли стволы пулемётов на окна дома – и гурьбой повалили к главному подъезду.
Хозяева заметались. Не открыть было невозможно. Старшая сестра милосердия вбежала и стала уговаривать Кутепова надеть халат санитара, иначе его убьют.
Но и сейчас этот спасительный маскарад был Кутепову противен.
Он просил хозяев отпирать, о нём же говорить, что ничего не знают. И оставить его совсем одного. (Потом сообразил: это странно и невозможно, чтоб они не знали о присутствии нераненого полковника в форме. Он очень неловко поставил их.)
Тут была небольшая угловая гостиная с дверьми в соседних стенах, одна дверь выводила к анфиладе по Литейному, другая к поперечной, и против каждой двери большое зеркало, так что идущий издали видел себя. Эта комната привлекла Кутепова, и он решил дожидаться новой власти здесь. В глухом углу между дверьми был стул, и он сел на него, оставив обе двери нараспашку.
И отсюда увидел в каждое из зеркал, как по каждой из анфилад бежал, приближался рабочий с револьвером в руке. Они настолько были похожи, сходностью роста, типа, и чернотою одежды, и красной розеткой на левой стороне груди, что сперва ему померещилось, что один есть отражение другого, потом сообразил, так быть не может.
Ещё потом сообразил, что если он их видит из угла, то и они каждый уже видят его в углу. Но не приподнялся им навстречу.
А случилось иначе: они не видели. Верней, они были, наверное, заворожены своим собственным страшным видом, вряд ли они имели привычку к большим зеркалам. И ещё было яркое солнце в окна. А ещё случилось так, что они стали в дверях ни на секунду раньше один другого, а только одновременно – и, чуть головы повернув, увидели друг друга с выставленным револьвером, и что каждый исчерпал свой бег, дойдя до этой пустой комнаты. Если б один появился немного раньше – он имел бы время осмотреть комнату.
Не теряя времени, они так же одновременно повернули и поспешили своей прежней дорогой, показывая теперь в зеркала свои такие же схожие спины, уже без красного.
Удалились – Кутепов перекрестился. Это было то, что называется простое Божье чудо. Бог просто отвёл им глаза. Значит, Кутепов ещё на что-то предназначался.
Обыск в доме продолжался, проверяли санитаров и раненых, но сюда к нему никто уже более не пришёл – кроме, через полчаса, самих облегчённых хозяев. Они были не только облегчены, но уже и гордились, что сумели сохранить полковника.
На чердаке обыскивающие нашли сложенное вчера отрядом оружие, долго носили его к себе в грузовики – но раненых не тронули. И уехали опять по Кирочной – вероятно, хвастаться в Государственную Думу.
И – сняли все патрули против дома.
Опоминались после пережитого, все оживлённо рассказывали, кто чему был свидетель и как подумал. Изумлялись спасению полковника.
Кутепов просил у хозяев извинения за всё, но пока хотел бы ещё остаться здесь немного.
Тем временем с Литейного раздалась военная музыка. Кутепов осторожно подошёл к окну и изумился, увидев не какое-нибудь чужое, но своё преображенское знамя и преображенскую форму на солдатах.
И они с Литейного поворачивали тоже на Кирочную, тоже, стало быть, к Думе.
Ещё это наказание, укор, унижение родного полка должен был он испытать!
Тяжело было смотреть.
Однако он знал, что настоящий Преображенский полк, и настоящая армия, и настоящие люди – все на фронте, и скоро, скоро, с часу на час они всю эту нечисть разгонят.
Но самое примечательное и удивительное было – что запасной батальон шёл без единого офицера. Батальон вели четыре унтера, подпрапорщики, и одного из них, Умрилова, Кутепов легко узнал. Офицеров, которые как раз так были настроены за Думу, как раз и не было ни одного. Что ж это значило?
А впрочем, заметил он, что идёт батальон вовсе неплохо. Неплохо.
181
Родзянко готовит новые телеграммы. – Даёт совет царице. – Сносится с дипломатами. – Держит речь к Преображенскому батальону. – Без офицеров?
Жил Родзянко от Думы в двух кварталах. Хоть и неполная, но получилась ночь, поспал крепко, проснулся вполне свежий. И представились ему сразу цельной картиной все события предшествующего дня и собственное богатырское поведение. И ещё раз, посвежу, удивился он тому и другому.
Раскаивался ли он, что принял власть? Нет, его вершинное положение не давало выбора. В революционной обстановке ещё более, чем в мирной, он естественно становился высшим арбитром.
И совесть верноподданного тоже была в нём чиста: его вынудили обстоятельства и упорство известных лиц, не желавших уступить вовремя и подобру. Это они и создали все гибельные обстоятельства, а Родзянко только спасал Россию.
Правда, очень необычно было это новое состояние – власти, принятой без ведома Государя. Но – он ведь телеграфировал Государю! Зачем же Государь не отозвался?!
Эти две телеграммы в воскресенье вечером и в понедельник утром – его оправдание.
А теперь, когда власть уже взята, – теперь что ж остаётся? Только решительно идти вперёд – к укреплению этой власти. К отстоянию её и перед Государем, и перед революционной анархией.
А это – равновесие трудное. Тут – бушует толпа. А оттуда шлют восемь полков на Петроград. А надо – сбалансировать.
Против идущих полков Председатель ещё может предпринять телеграфные, телефонные попытки, чтоб их остановить.
Да Родзянко – отнюдь не бунтовщик против трона! Он не только не хотел сотрясать саму монархию – он спасал её!
А получилось, что своим полуночным решением невольно вступил как бы в противостояние Верховной власти, да…
Надо вот что, сообразил он за утренним завтраком: надо продолжать поддерживать прочную связь с Главнокомандующими. Как благоприятны были ответы Брусилова и Рузского, как вовремя пришлись, надо эту связь продолжать! Надо поспешить послать циркулярную телеграмму всем Главнокомандующим фронтами и флотами: что Временный Комитет Государственной Думы был просто вынужден принять правительственную власть из-за того, что весь состав бывшего Совета министров сам устранился от управления. Вполне естественный шаг, а кто бы придумал лучше? Генералы заботятся, как бы не сорвались военные усилия, и их надо заверить, что Думский Комитет – их вернейший в том союзник.
И таким образом для них самих станет безсмысленно посылать войска на Петроград. Да, верный путь!
Конечно, посылка прямых телеграмм Главнокомандующим, обходя Верховного, была игнорированием военной субординации. Но Родзянко сейчас не состоял на военной службе.
С такими мыслями, ясными, но и тревожными, но и в отличном телесном самочувствии, Родзянко на автомобиле подъехал к Таврическому и хотел, чтоб его подвезли к самому подъезду. Но нельзя сказать, чтобы здешнее столпотворение узнало в нём хозяина дома или ждало его. Толпа и автомобили стояли густо и поперёк, жили своим возбуждением и перемещениями, и крик шофёра, что это – мотор Председателя Государственной Думы, не произвёл слишком большого впечатления. Ещё проехали несколько – пришлось слезть и просто проталкиваться.
Может быть для Щегловитова это и выход – что он заперт, и тем защищён. Иначе б его разорвали, а так он надёжно спрятан. Ничего, пересидит несколько дней – выпустим.
А внутренность своего дворца Председатель тем менее узнавал. У стен вестибюля и Купольного зала соштабелёваны мешки, бочки и ящики – в том неприятном чувстве, как если бы дворец был уже осаждаем. Очень много сновало солдат безо всякого строя и лада, и всяких оживлённых подозрительных штатских лиц, особенно шустрой молодёжи. Всё это двигалось, чем-то было занято – и тоже никто из них не прерывался, не останавливался, не отодвигался, чтобы почтительно пропустить Председателя Думы. Такое было нашествие чужих лиц, что саму Думу трудно узнать. Уж Родзянко не углублялся дальше в Екатерининский зал и, конечно, не пошёл в правое крыло, со вчерашнего дня всё более оккупированное этим Советом их депутатов, – но в левое, где думцы ещё обитали, хоть и в скученности, отстаивая несколько главных комнат. И среди них – кабинет самого Председателя, оазис размышления.
Достиг Родзянко своего председательского стола – и содвинулось сразу со всех сторон, что и под утро не замирали события и тревоги, и пожелания лиц.
Самое неприятное было, остро ударило Председателя: в Белом зале заседаний неизвестные изорвали штыками большой портрет Государя!
Как будто самого Родзянко кольнули под вздох! Большой портрет Государя, паривший над залом, за спиной Родзянко! Очень не по себе.
И даже пойти посмотреть своими глазами он не решился: увидят все, что пришёл Председатель, и что же? и почему не грянет гром?.. А что он мог сделать против этой безумной толпы?
И тут же известие: под утро Государь выехал из Ставки и движется в сторону Петрограда!
Как будто узнал о портрете – и ехал карать.
Стать во главе своих восьми полков?
Грозные тучи.
Тут и, по дворцовой линии, позвонил из Царского граф Бенкендорф: что здоровье наследника в очень серьёзном положении и императрица просит безопасности в районе дворца в такой смутной обстановке.
Сколько лет эта всевластная царица надменничала над Председателем Думы, выказывала ему пренебрежение, отвращала Государя от разумных уступок, – но вот оборвались куцые женские силы, и, раздавливая свою гордость, она просила о помощи?
Да Родзянко и сам безпокоился, чтобы с царской семьёй, чтобы с наследником не случилось худое. Он и вчера вечером сказал Беляеву передать во дворец. И теперь ответил Бенкендорфу:
– Граф! Когда горит дом – прежде всего выносят больных.
Тáк это ясно. Неужели не догадывается уехать вовремя, чтобы меньше было проблем и забот?
Тут и Беляев, лёгок на помине, единственный из министров, такой услужливый, звонил из Адмиралтейства, от Хабалова, нащупывая возможность благополучной капитуляции.
Это хорошо, уж войны-то в столице надо избежать.
Но в Таврическом укреплялся свой штаб: допущенная Председателем ночью «военная комиссия». Теперь пришёл Гучков, радостно возбуждённый, и предложил, что он эту «комиссию» возглавит. Отличное решение! Родзянко обрадовался: наш, октябрист, и сильный человек. Важное пополнение.
А другое важное укрепление вот какое пришло в голову Председателю: надо связаться с союзниками. С английским и французским послами. И обезпечить их поддержку Временному Комитету. Это может очень утвердить Комитет.
Прекрасная мысль! Не по телефону звонить, конечно, – да тут как раз и прекратились все городские телефоны. И – невозможно ехать собственной величественной фигурой, не укроется. Но совершенно конфиденциально послать некое солидное лицо, которому будет доверие, – и просить послов тотчас выразить их мнение о происходящем. (Да нет сомнения, что они в восторге.) И их пожелания.
Даже… даже, дальновидно опережая события… каков желателен им дальнейший ход… в смысле конституционных изменений…?
Поддержка союзников стоит тех восьми полков.
Пока выбирал сановного посланца и инструктировал его. Пока подписывал циркулярную телеграмму Главнокомандующим, что Комитет взял на себя трудную задачу создания нового правительства. Тут и члены Комитета, иные ночевавшие в Думе, подступали теперь со своими сомненьями и предложениями.
И вдруг принеслось: что к Государственной Думе подходит целый батальон! – первый за эти дни вполне собранный батальон!
Ответственный момент, он многое решит в дальнейших событиях! Заволновались и забегали: что за полк?
Кто-то издали рассмотрел и понял: преображенцы!
К такой радостной неожиданности Временный Комитет не был готов, не была подготовлена программа, кому говорить и что.
Бледный, взвинченный, самоуверенный Керенский рвался выступить. Но нет, уступить ему Преображенский полк Родзянко не мог – этих он должен был встретить сам! (К тому ж он начал понимать, что Керенский кричит толпе совсем не то, что нужно.)
И властным жестом, какого думцы привыкли слушаться, Родзянко показал, что будет говорить сам.
Однако, пока они тут суетились и решали, – батальон с музыкою не только вошёл в сквер и к крыльцу, но, оказывается, повалил внутрь – и никто не смел его задержать. Момент был невыгодный для выхода Родзянко, он пождал. Преображенцы теряли строй, смешивались в вестибюле и в Купольном зале – а потом в Екатерининском вытягивались и разбирались.
Этот зал действительно годен оказался и для военных парадов, и даже раздутый запасной батальон в четыре шеренги далеко не занял полного карре.
Михаилу Владимировичу исключительно приятно было выйти к тому именно батальону, который поддержал его ночью в решающую минуту. И, собираясь идти выступать, он задумал, что после речи попросит господ офицеров зайти к нему в кабинет – и отдельно поговорит с ними сердечно.
Но ещё не успел Родзянко дойти до строя – к нему подскочили и предупредили: батальон пришёл – без офицеров! привели – унтеры.
Что это?? Как это возможно? Как это понять? Почему же без офицеров?
Это всё переворачивало. Ведь именно офицеры телефонировали, что поддерживают, присоединяют полк, – и именно офицеров нет?
Но уже и размышлять было некогда: он входил в Екатерининский. Раздалась звонкая унтерская команда: «Смир-рна!»
Чем больше зал и чем многолюдней аудитория, тем всегда только больше разрабатывался могучий родзянковский голос. Речь была не подготовлена и обдумать некогда, но сердце подсказывало, как правильно:
– Прежде всего, православные воины, – густо закатил он, однако и напоминая, – позвольте мне как старому военному поздороваться с вами. – И с новой энергией, новой силой и чёткостью: – Здорово, молодцы!
– Здравия! желаем! ваш! псходительство! – неплохо ответили высокоростные преображенцы.
Первое сближение было сразу найдено, хорошо. Родзянко заговорил отечески:
– Позвольте мне сказать вам спасибо за то, что вы пришли сюда. Пришли, чтобы помочь членам Государственной Думы водворить порядок!
Оглядывал ряды. Возражающих не было.
– И обезпечить славу! И честь нашей родины! Ваши братья сражаются там, в далёких окопах, за величие России, и я горд, что мой сын с самого начала войны находится в славных Преображенских рядах. – Ещё одна связь между ними. А теперь и поворачивать и зануздывать: – Но чтобы вы могли помочь делу водворения порядка, за что взялась Государственная Дума, вы не должны быть толпой! Вы не хуже меня знаете, что без офицеров солдаты не могут существовать. И теперь я прошу вас: подчиниться и верить вашим офицерам, как мы верим им. Возвращайтесь же спокойно в ваши казармы, – уже ощутил он, что пребывание этой поддержки в Таврическом может стать весьма тягостным, – чтобы по первому требованию явиться туда, где вы будете нужны.
Ловкач, удобно всё повернул! – из мятежников обратил их в патриотов. Но определённей, что делать, – ничего сказать не мог. И не закончил никаким командным словом. Оттого раздался разброд солдатских голосов: одни кричали, что много довольны, другие – что согласны, третьи просили указать.
А что же указать? Родзянко с трудностью дояснял:
– Старая власть не может вывести Россию на нужный путь. Первая наша задача – устроить новую власть, которой бы все доверяли и которая сумела бы возвеличить нашу матушку-Русь.
С этим тоже были охотно согласны.
А ведь он под «старой властью» имел только правительство, отнюдь не Государя, – а могли понять про Государя? И он не помешал.
– Так не будем же тратить время на долгие разговоры. Сейчас надо вам найти своих офицеров. Собрать разбредшихся по городу ваших товарищей. Сплотиться. Выполнять строго требования воинской дисциплины. И ждать приказаний Временного Комитета Государственной Думы. Это – единственный способ победить.
И горячей:
– Если мы не сделаем этого сегодня, то завтра, может быть, будет поздно. Только полное единение армии, народа и Государственной Думы обезпечит нашу мощь!
И покрыл всё гулкой чугунной крышей:
– Ура-а-а-а!!!
И глоток тысячи две отгаркнули «ура» действительно громовым, неуместным даже в этом зале, как его колонны не покачнулись!
Всё сошло отлично.
Однако загадка: что же случилось с офицерами?
182
В Петрограде утром (фрагменты).
* * *
После ночного ухода из Ораниенбаума главных сил пулемётных полков – там начался погром винных погребов, магазинов, лавок и безпорядочная стрельба, – на двое суток.
А пулемётные полки всю ночь пешком двигались на Петроград, прихватывая ещё и попутные гарнизоны.
* * *
В конце ночи и ещё рано утром всё громили гостиницу «Астория», осталось там и выпить, и вещами поживиться.
Итальянцы, чтоб уйти из громимой гостиницы к себе в посольство, через площадь, собрались кучкой и на палке несли большой итальянский флаг.
В отпуску в Петрограде жил в «Астории» и генерал-лейтенант Маннергейм, начальник 12-й кавалерийской дивизии. Переоделся в штатское пальто, меховую шапку, снял шпоры с сапог – и безпрепятственно вышел из гостиницы. Перешёл к промышленнику Нобелю, который его и спрятал.
В гостинице многие стёкла выбили, а отопление прекратилось.
* * *
Ещё до света у пекарен опять стали жаться хлебные хвосты.
* * *
Ночную телеграмму царя, что отставка правительства не принята, так и некому было вручить: министры не дождались, разбежались. Только утром позвонили с телеграфа Покровскому домой и ему передали.
* * *
Всю ночь и утром ещё горел Окружной суд. Проваливались потолки, с треском взбивались столбы искр. В свете зарева ярко были освещены склады Главного Артиллерийского Управления. Любители поживиться не дремали, таскали оттуда ящики, разбивали топорами. Вот ящик солдатских перчаток. Хватают их. Не лезут на руку – выбрасывают на панель.
* * *
За ночь выспались и с утра опять вываливали на улицы, собирались вооружёнными отрядами на поиски врагов революции. И освобождённые вчера уголовные – кто уже переоделся солдатом, кто обзавёлся винтовкой, – и с каждым часом всё смелей. На всём раскиде города не было им никакой преграды. Все власти сметены, все связи порваны, все законы потеряли силу. И во всём городе каждый может охранить только сам себя и ожидать нападения от каждого.
Охотников грабить – и в населении оказалось много. Но после вчерашних погромов двери и окна многих магазинов наглухо забиты досками. А в зеркальных стёклах витрин, там и здесь, – пулевые лучистые дырочки.
* * *
На Неве у Франко-Русского общества чинился крейсер «Аврора». Утром рабочие ворвались в него – и крейсер присоединился . Захватывали ружья, револьверы, пулемёты. Командир крейсера капитан 1 ранга Никольский и два старших офицера были выволочены на берег и убиты. Старшего лейтенанта Аграновича ранили штыком в шею.
* * *
С утра возобновились поиски городовых. Врывались в дома, в квартиры, искали по доносам и без них. Убегающие по улицам ломились в запертые ворота. Ведут арестованных городовых, околоточных, переодевшихся в штатское, – кто в извозчичьем армяке, кто в каракулевом жилете, кто и вовсе не переодевался, а в чёрной шинели своей, с оранжевым жгутом. Кого привыкли видеть важными, строгими – идут растерянные, испуганные, с кровоподтёками, в царапинах, побитые.
Вот – старый, широкошеий, шинели надеть не дали. Баба кричит: «Нассать ему в глаза!»
Ведут с избытком радостного конвоя, человек по пять на одного, винтовку кто на ремне, кто на плечо, кто на изготовку, а ещё кто-нибудь самый ярый – впереди с обнажённой шашкой, и отводит прохожих. И мальчишки с палками.
Из толпы – враждебные крики.
Волокли за ноги по снегу связанного городового. Кто-то подскочил и выстрелом кончил его.
* * *
Какие полицейские участки ещё не были сожжены вчера – те горели теперь. В костре перед участком горят стулья, горят бумаги, пламя подхватывает их вверх. Через разбитые окна выбрасывают ещё новые бумаги, а кто-то длинной палкой размешивает их в огне. Из толпы кто глазеет, кто греется, приплясывают мальчишки, хлопая на себе пустыми рукавами материных куртеек, весёлая возня.
Из домов, соседних с пожарами, невольные беженцы с пожитками кочуют в другие дома. Только у таких и беда.
* * *
Ещё костры – около квартир полицейских приставов сжигают выброшенную утварь, мебель.
На Моховой из окна пристава грохнули на мостовую рояль, а тут доколачивали прикладами.
Оратор, стоя на ящике, просит товарищей военных не бросать в костёр патроны, они ещё понадобятся в борьбе с контрреволюцией. Но уж как начали забаву – оторваться нельзя, и все бросают. Патроны взрываются с треском и заглушают оратора.
* * *
Что пошло в красное: и большие полотнища, и разорванные полоски. И комические носовые красные платки с белыми каёмками. Цепляют красное на шапки (тогда кокарда), на грудь, на рукав, на штык, на саблю, на палку (тогда флаг), вяжут на шею, на плечо. Банты, бутоньерки, репейники, ленты.
Штатский – ещё может пробираться без красного, и то стыдят, но военный, похожий на офицера, – никак. Офицеру вообще опасно появляться на улице.
* * *
Везде – весёлое гулянье. Какие только есть в Петрограде солдаты, 160 тысяч, – кажется, все здесь. И обыватель весь! Солдаты целуются с народом – публика плачет. И никто не молчит – но все говорят, но кричат, но беснуются радостно!
А восполняя медленность человеческих тел – во все стороны бешено носятся грузовики и легковые автомобили. Грузовики переполнены вооружёнными: рабочие, солдаты, матросы, студент в экстазе, а то и барышня, а то и офицер с крупным красным. Человек по тридцать впритиску, и ото всех торчат штыки – через борта и вверх, и ещё на подножках стоят с винтовками. И ещё торчат из кузовов кровяные флаги, по три и по четыре. А на некоторых – пулемёты. А то, опершись на кабину, какой-то дурак целится вперёд из револьвера.
Носятся и носятся гигантские ежи из штыков, фыркая и визжа, обгоняя друг друга и разминаясь при встречах, и нагуживая тревогу, и заворачивая, и заворачивая со скрежетом, – вакханалия больших ежей! Невиданные моторные силы вырвались из подземного рабства – и резвятся, и неистовствуют, обещая ещё многое, многое показать.
* * *
Да везде много, безцельно стреляют, везде ходить опасно. Стреляют из озорства. И чтобы дать выход нервному возбуждению. Довольно одному солдату нечаянно нажать курок, как перепалка охватывает целый квартал. Есть раненные шальными пулями в хлебных хвостах. Стреляют в воздух в виде салютов. И – «довольно, повоевали!» И – в землю из револьвера, под ноги прохожим. Стрельба до помешательства. Только слышно, как пули везде летают, многие рикошетом от стен, с непривычки ничего не понять, прячутся от пуль за тумбами объявлений. От непонятных близких выстрелов все взвинчены. Толпа в любую минуту мечется от восторга к страху и ненависти.
Все уверяют и уверены, что это городовые: попрятались по чердакам и перебираются с крыши на крышу неуловимо, оттого всякий раз стрельба с нового места. Все тревожно поглядывают вверх на чердачные окна каждого большого дома. Стоит кому-нибудь указать вверх пальцем – и уже все требуют обстрела и обыска этого дома.
* * *
Шёл офицер в полной форме и без красного. Чернь загнала его с улицы на лестницу дома – и там застрелила, забрызгав стены кровью и мозгами.
И эта же толпа – этих же офицеров в июле Четырнадцатого несла на руках по улицам!.. А ведь та самая война и продолжается.
В толпе человек перестаёт быть самим собой, и каждый перестаёт думать трезво. Чувства, крики, жесты – перенимаются, повторяются, как огонь. Кажется: толпа никому не подчиняется? – а легко идёт за вожаком. Но и сам вожак вне себя и может не сознавать себя вожаком, а держится – на одном порыве, две минуты, и растворяется вослед, уже никто. Лишь уголовник, лишь природный убийца, лишь заряженный местью – ведёт устойчиво, это – его стихия!
* * *
С 10 часов утра по всему городу развозят в грузовиках кипами, раздают и сверху разбрасывают 1-й номер «Известий Совета Рабочих Депутатов» за вчерашнее число – напечатали его, наверно, сотни тысяч. Остановится грузовик, трепеща корпусом, – и к нему тянутся руки, и сверху бросают пуки и отдельные листы, и гонятся за ними, рвут из рук, подхватывают со снега. И потом по улицам все читают единственную эту газету. А там всего-то – воззвание СРД, вымученное литературной комиссией.
Несравненно меньше пошёл машинописный, со стеклографа, текст первого воззвания Временного Комитета Государственной Думы: что создаётся такой и взял ответственность, – читали его студенты вслух, тоже с автомобилей.
* * *
По Садовой едет автомобиль и объявляет, что следом за ним идут три новых присоединившихся батальона. Дикий энтузиазм, крики! По краям панели становятся ждать. Но батальоны что-то не идут.
* * *
Во многих казармах расстроилось питание. Солдаты бродят по улицам уже и с тоской – ищут, чего бы где поесть.
Так вот ходят целый день, многие и без оружия, с пустыми руками. То готовы – ещё чего-нибудь отчебучить, а то робеют: чего наделали? Ещё и в казармы ли пустят назад, а ну опять будут вольные выгонять.
* * *
Вышел Ваня Редченков за казарменные ворота, осмелился. И сразу видит: стоит пустой грузовик, а подле него вертится совсем пьяный матрос. На шнурке через плечо у него шашка без ножен, в руках револьвер. Увидел Ваню, обрадовался, закричал, зазвал:
– Товарищ! Р-р-р-р-р! – рукой показывает, как мотор заводят. – Р-р-р-р-р?
– Я не шофер, – обмялся Ваня. – Я вообще тут человек новый, не знаю.
Матрос и слушать не хочет, своё показывает, дёргается, уже гневен:
– Р-р-р-р-р!..
Но тут шнурок у него оборвался, и сабля зазвякала по льду мостовой. Кинулся он за саблей – а Ваня в ворота убёг.
* * *
Выходи, простой народ!
Раскидали всех господ!
Со свободы стали пьяны,
Заиграли в фортепьяны!
183
Расчёты в головке Балтийского флота.
Морские декабристы, может быть, и опоздали к событиям, но сами события стали делать работу за них, сами события развивались преотлично, великолепно, потрясающе: вялые, нерешительные думцы сумели-таки составить из себя временное правительство! – решились! И не побоялись сообщить об этом факте в Ставку: пусть Полковник узнает о событиях, как они пошли наконец без его участия!
Ставка пока молчит, растеряна. А морской Генеральный штаб из Питера сообщил сюда, в штаб Балтийского, что вся столица в руках восставших. И по тону можно понять, что и морской министр сочувствует им. (Григорович – дипломат: им всегда довольны и в Царском и в Таврическом.)
Острые сообщения приходили среди ночи – и вице-адмирал Непенин позвал к себе князя Черкасского ночью же. Уже подготовленное единомыслие направляло адмирала – не выжидать дальнейшего развития событий, не выигрывать на оттяжках, не таить своих взглядов и своей позиции, – но смело, открыто занять её. Открытость соответствовала прямоте непенинского характера, а ещё при таких событиях – долгожданных, но и внезапных – стать с ними вровень! Он более всего ценил свои прямодушные отношения с флотом, за что должны были любить его все команды. Он любил сделать крупный жест – и не брать его обратно.
И он приказал объявить командам о волнениях в Петрограде, о подозрении некоторых прежних лиц в измене – и о создании нового правительства.
Впрочем, не успели ещё приказ разослать на корабли для объявления, как из Петрограда пришли какие-то исправочные сведения, что созданное думцами не есть новое правительство, а лишь некий неопределённый комитет. Пришлось изменять и текст объявления командам.
Зато Непенин пожелал сам объехать бригаду дредноутов и бригаду линкоров и сам же прочесть свой приказ. Он дорожил вот этим единством с матросами, какое возникает от присутствия, от вида, от голоса, дороже и влиятельней, чем отвлечённые строчки приказа усилить боевую готовность, – чтоб неприятель, получивший преувеличенные сведения о наших безпорядках, не попытался бы использовать их. Адмирал Непенин умел выступать перед матросами с манерой грубоватой простоты, которая покоряла их.
После этого знаменательного объезда кораблей, когда он сам возвестил своим матросам наступление новой эпохи, Непенин собрал на штабном «Кречете» флагманов (и князь Черкасский, и Ренгартен по своим штабным должностям присутствовали) и энергично заявил им, что так как ни из Ставки, ни от морского министра не имеет никаких указаний, то будет поступать, как сам найдёт нужным. А точка зрения его – невмешательство в революцию. (Говорилось «невмешательство», а это и значило – помочь ей в критический момент.)
Некоторые из флагманов и были празднично настроены от революции, совершаемой во спасение родины. Другие, во всяком случае, не возразили. И те, кто были круто против, – не решились тоже. Тут сидели и старше Непенина возрастом. Но – знаньями, способностями, блистательной решимостью он ярко опережал их, и это признавалось.
Флагманы соглашались.
Но трое декабристов на устроенном и сегодня закрытом собеседовании всё же сомневались: так ли всё ясно? И достаточно ли верно шагает Адриан?
Черкасский спросил:
– А если начнётся на судах ? – что будешь, Федя, делать?
Но почему могло начаться на судах, если руководство флотом открыто сочувствовало революции?
Нет, ну всё же. Гипотетически.
Федя Довконт простодушно ответил:
– Буду поддерживать новый режим.
Черкасский оттенил:
– То есть пойдёшь и примкнёшь к бунтовщикам? Это неправильно, Федя. Пойти в толпу – легко, но было бы довольно непроизводительно погибнуть там от пули какого-нибудь типа, «соблюдающего присягу». Нельзя быть уверенным, что матросская масса так сразу вся и полно поймёт революционные задачи и сразу освободится от черносотенных типов. Нет, надо иметь более продуманный план.
Это верно, среди народной толпы всегда толкутся черносотенные типы – и затемняют всю обстановку, не знаешь, какого поворота ждать.
Нет, надо вести себя так, чтобы приносить наибольшую пользу всему делу. Более продуманный план – это верное влияние на верхах. Стали его формулировать.
Надо быть готовыми к тому, что Ставка и царь прикажут флоту поддерживать старый порядок. Тогда Адриан станет перед дилеммой – и задача нашего кружка не дать совершиться этому реакционному наклону. Наша задача – сделать всё, чтобы решение адмирала шло к спасению России, хотя бы и наперекор приказаниям сверху!
Или другой случай: приказание сверху на подавление не поступит, но начнётся всё-таки само по себе волнение на кораблях или в Гельсингфорсе, или в Ревеле, возникнут манифестации сочувствия к революции – и адмиралу опять достанется единолично решать: помешать волнениям? или даже военной силой не дать им помешать? Мы должны склонять его ко второму.
В обоих случаях главная задача кружка – влиять на Непенина в правильном направлении: не подчиняться приказам царя! И не мешать революционным манифестациям! Более того: чтоб о таком решении адмирала было открыто сообщено командам кораблей и открыто донесено в Ставку. Впрочем, прямой характер Непенина – порукой тому.
И решили: сейчас же идти к Командующему по одному, от младшего к старшему, и решительно высказывать ему все эти взгляды. Даже каждый пусть лично добавит, что вразрез нашим собственным убеждениям – мы не выполним и его приказа! И чем бы ни кончился первый разговор – на смену идёт второй, и затем третий.
Кроме того, Ренгартен взял на себя обработку каперанга Щастного, а Черкасский – каперанга Кедрова, их позиция влиятельна, и надо их привлечь.
...
ДОКУМЕНТЫ – 3
Всем Главнокомандующим фронтами
Балтийским и Черноморским флотами
28 февраля 1917
Временный Комитет Государственной Думы, взявший в свои руки создание нормальных условий жизни и управления в столице, приглашает Действующую Армию и Флот сохранить полное спокойствие и питает полную уверенность, что общее дело борьбы против внешнего врага ни на минуту не будет прервано или ослаблено…
Временный Комитет при содействии столичных войск и частей и при сочувствии населения в ближайшее время водворит спокойствие в тылу и восстановит правильную деятельность…
Председатель Временного Комитета
Родзянко
184
Императрица без поддержки. – Ехать? не ехать?
Мозг императрицы и всегда работал по ночам, она и в ровные дни часто ждала сна до трёх, а то и четырёх часов ночи, – так когда уж там она заснула сегодня? А поднялась рано, предписанья врачей лежать с утра перестали быть законом, события звали к необычным действиям и решениям.
Но всегда прежде, при отлучке Ники в Ставку, у неё были проверенные приёмы действий: узнать у Друга правильное решение, затем встречаться с министрами, внушать им эти действия и длинными письмами Государю повторять ту же работу.
А вот наступили события, превосходящие по грозности всё предыдущее, – но не жил уже Друг, и ни одного министра нельзя было вызвать, потеряны все связи, – и письма Государю писать было некуда, и ещё неизвестно, что мог принести его приезд сюда будущей ночью: через кого же он будет повелевать событиями?
Государыня была полна самой мужской решимости и готова к самым мужественным действиям – и тут-то ощутила, что не может без мужской руки и поддержки, – а не было такого человека рядом во всей её свите, все старшие генералы и полковники были лишь подчинённые её, а поддерживающей руки – не было.
Нет, была! – флигель-адъютант Саблин, не просто флигель-адъютант, но «совсем наш» (как установили когда-то вместе с Другом), «один из двух честных друзей» (первая – Аня), часть всех нас, почти член императорской семьи и одинаково на всё смотрящий, тёплое сердце, добрый взгляд, делил все радости и горести, спутник по лучшим дням яхтенных поездок, спутник Государя в Ставке, правда молод, но государыня руководила им все годы. Сам он неженат, без близких и друзей, и всегда говорил, что никто ему не ближе царской семьи.
Но вот, в Петрограде рядом, где же он был вчера весь день? отчего не примчался, когда увидел разворот событий? Государыня ждала его до позднего вечера, а он вовсе не появился. Это вызывало изумление: что такое непреоборимое могло ему помешать?
Сегодня рано утром она вошла в красную гостиную, где ночевала Лили Ден, ещё не вставшая, – и просила её тотчас звонить Саблину, узнать, отчего не едет.
И Лили дозвонилась быстро, и Саблин оказался дома, и Лили передала ему, как государыня нуждается в его поддержке и ждёт, – но Саблин отвечал, что весь дом окружён пожарами, и улицы бдительно охраняются восставшими матросами – и нет возможности ему приехать.
Во флигель-адъютантской форме? Но он мог бы пройти в штатском? Отказ был ошеломляющий. У государыни усилилась нездоровая краснота лица, она приложила руку к своему расширенному сердцу и держала так. Кто угодно мог так отвильнуть! – но не родной Саблин!
Тем временем, пользуясь непрервавшейся службою телефона, Лили успела позвонить и к себе домой, поговорила с няней, узнала про сына, и ещё позвонила нескольким знакомым – и собирала сведения, чтó они знают о событиях, видят вокруг себя. Все сведения были ужасны: город – погиб, никаких старых властей нет, никто не знает и о верных войсках, – но уже знают, что Родзянко в Думе объявил создание Временного Комитета, управляющего событиями.
Это последнее как раз понравилось государыне: значит, в последнюю минуту Дума оценила опасность, вызванную ею же самой, и очнулась. Ведь уже есть и какой-то комитет социалистов-революционеров, не признающий Думы. Так в грозные часы мятежа и хаоса даже эти думские типы были более своими, с ними всё же можно разговаривать каким-то человеческим языком. Флигель-адъютант Линевич, посланный к Родзянке, ещё не возвратился. И – как его встретит Родзянко?
От больных детей всё скрывали, они не знали, что творится. Дети и досейчас не знали, что с вечера всё качается на острие: уезжать им или не уезжать. Несколько раз за безсонную ночь государыня склонялась то в ту, то в другую сторону.
Покусывая губы, она ходила теперь по комнатам, то к больным, то от них.
Она любила ответственность и всегда любила свои определительные суждения, свои безошибочные решения, – но сегодня этой ответственности оказалось слишком много с неё! Если больны были бы только дочери и Аня, не сын, – она, может быть, решилась бы ехать. Но как рисковать наследником, обмётанным сыпью, в жаре, с кашлем, с больными глазами, – как можно рисковать этой сгущённой надеждой династии и России?
Может быть, и эта болезнь детей на благо, кто знает Божью волю? Может быть, их болезнь – спасение: что нельзя покуситься на них?
Никогда так тяжело не ощущала она, что можно и не знать , погоняемой минутами, какое решение правильное и неправильное, вот утекало между пальцами! Вот сейчас – она спросила бы Государя и мужа и без спора бы поступила, как он велит, но именно сейчас он в пути, и связь прервалась.
И куда срываться ехать, если он следующей ночью приедет сам?
Странно другое: что с позавчерашнего позднего вечера и вчера целый день она бомбардировала его отчаянными телеграммами – а он, так отзывчивый на каждое её слово, – не отозвался, что слышит её тревогу.
Но впрочем, конница из Новгорода (идёт? уже подходит?) – это и был его лучший ответ.
Не предполагая, как рано государыня бодрствовала, лишь в 10 часов утра попросили у неё приёма Бенкендорф с генералом Гротеном.
Их городские сведения были: ночной звонок генерала Хабалова из Зимнего дворца и тяжёлое положение верных войск. А доклад их был: что по указаниям Воейкова они ещё с вечера, не докладывая государыне, вели подготовку её собственного поезда – и сейчас всё готово к погрузке и к отъезду, если она прикажет!
О-о! Снова и мучительно требовали от неё этого решения!
Нет! Окончательно – нет! Это губительно для детей. (И сколько б ещё хлопот эвакуировать капризную Аню со всей её докторской свитой.) Они будут ждать здесь приезда Государя. Всего осталось уже меньше суток.
Но – преодолела брезгливость. И поручила Бенкендорфу телефонировать Родзянке, напомнить ему о болезни наследника и просить о защите императорской семьи.
В Царском Селе было уже неспокойно. Целыми отрядами и одиночками появлялись офицеры и солдаты, бежавшие из революционного Петрограда, – рота волынцев, смешанная группа из Петроградского полка, – но и в здешних полках они не находили приюта и маршировали дальше, в Гатчину. Запасные батальоны императорских стрелков – каково! – уже тоже волновались, от их казарм слышались выстрелы, а то музыка и песни. Говорили, что есть стычки между разными, желающими и не желающими бунтовать. Говорили, что появились из Петрограда революционные автомобили. (Правда, передал во дворец в успокоение комендант Царского Села, что царскосельская артиллерия не имеет снарядов. Каково?? И это – успокоение? Да – чего же мы боимся?)
Вернулся Бенкендорф от телефона. Родзянко ничего не обещал, а передал всего лишь: «Когда в доме пожар – то больных выносят в первую очередь».
О Боже, как безжалостно! какие страшные слова! Призрак того же решения – срывать больных – наступал опять.
Комендант Гротен, видя мучительные колебания императрицы, предложил: в усиление Конвоя и Сводного полка ввести во дворец также и Гвардейский экипаж.
Императрица просияла и тотчас согласилась. Изо всех гвардейских, любимых и подшефных частей императорской семьи – Гвардейский экипаж был самым любимым, в сердце близким всей семье.
Младшие здоровые дочери, услышав, что вводят экипаж, ликовали: «Это будет совсем как на яхте! Уютно!»
Тут доложился императрице граф Апраксин, начальник её канцелярии. Он пробрался из Петрограда в штатском, без придворных регалий. Картины безумной столицы стояли перед его глазами, и тем поразительней было ему, что здесь, во дворце, как будто ничего не изменилось. И с напором он взялся убедить государыню в растущей опасности, которая может нахлынуть в любую минуту сюда. Он несомненно считал: срочно уезжать, и вот куда: в Новгород!
По усталому красноватому лицу императрицы, от многих болезней и всегда старше своих лет, а за эти дни ещё порезчавшему, – при слове «Новгород» прошла осветка. На это и рассчитывал Апраксин:
– Именно в Новгород, который так предан династии, Ваше Величество! Где-то должно открыться такое чистое место, куда соберутся верные люди, откуда начнётся сопротивление. И уж во всяком случае там будут в безопасности августейшие дети. Это стоит того, чтобы рискнуть перевозить и больных!
Просветилась улыбка славного воспоминания на удлинённом твёрдом лице императрицы, твёрдая, как все её улыбки. Но уже в улыбке было и отрицание. Она уверенно покачала головой.
Граф не представляет, как опасно перевозить больных в таком состоянии. Но в этом нет уже и необходимости: сам древний Новгород идёт к нам сюда, на выручку.
Но – как дожить до этой выручки? и до приезда императора?
Государыня ходила по комнате, растравленная сомнениями. Ей нужна была мужская поддержка, не подчинённые лица, – сейчас, сию минуту! Она не выдерживала больше бремени решений – не только ведь за семью и за свой дворец, но и за Петроград, оставленный на неё!
И – почему же не шёл, ничем не проявился, не дал о себе знать, не запросил приказаний тут же в Царском Селе сидящий Павел? Старший из великих князей! Старший из генерал-адъютантов! Так ли уязвлён долголетней семейной обидой? Так ли отвержен царским запретом после убийства Друга?
Уже несколько дней шло молчаливое соревнование самолюбий – императрицы и Павла – кто первый уступит?..
Но ведь он же – инспектор гвардии! но ведь он – даже обязан! Если гвардия не подчиняется ему – пусть едет на фронт и оттуда привозит верных.
Поделилась с Лили – и та подала золотую мысль: а может быть великий князь Павел Александрович не смеет нарушить этикет? просто не смеет первый обратиться?
Ах вот как? Так это открывало возможность императрице обратиться первой, это слагало запрет:
– Лили, милочка, позвоните великому князю от моего имени и скажите, что я прошу его немедленно прибыть сюда, во дворец.
Но не успело полегчать от этого решения, ещё не было ответа от Павла – была половина двенадцатого, – снова пришёл комендант Гротен и доложил: с железной дороги передали, что через два часа все пути будут отрезаны и прекратится всякое движение.
Два часа! – так если даже и решиться ехать, то уже и не успеть собраться!
Петля стягивалась!
Как – решиться? Как верно?
185
Разгром самокатного батальона. – Смерть Балкашина.
В самокатном батальоне ночь прошла – посланные в штаб Округа разведчики не вернулись. И никого другого с приказаньями не прислал штаб Округа от себя. А телефон со вчерашнего вечера не работал.
Так ничего и не узнал полковник Балкашин: что же происходит в городе? И что правильное он должен делать? Всё рухнуло, как внезапный обвал: вчера утром он поднимался начинать обычный учебный день батальона – и вот ввергся в осаду нежданным неизвестным противником, неподготовленный, неснабжённый и без единого приказания, как и на войне бывает редко.
Ночью была у него мысль: пока толпы разошлись – выйти боевым строем и идти в центр города. Помех бы не было никаких, все мятежники спали. Но не имел он права оставить большое боевое хозяйство батальона, всё техническое снаряжение, – разокрадут, уже начали с гаражей на Сердобольской.
Не доносилось признаков, чтобы в городе шли бои, сопротивление лояльных войск. Но ещё трудней было представить: как же полуторастотысячный гарнизон мог сразу впасть в обморок и в безсилие?
Так и оставил Балкашин своих самокатчиков на месте.
Рано утром была слышна сильная стрельба от их склада на Сердобольской. Но не послал подкрепления: всё же там оборонялись в каменном здании, а здесь – деревянные бараки, деревянный забор, вообще никакая защита.
Распорядился рыть по малому периметру окопы в мёрзлой земле. Но не хватало ломов и кирок.
А тем временем на Сампсоньевском проспекте снова начали собираться толпы вооружённых рабочих и солдат – и очень злые.
Потом к ним подъехали два бронеавтомобиля – страшное оружие в уличном бою! – и навели пулемёты на бараки самокатчиков. И стояли так.
Бросаться на них штурмом – будут потери.
Да не начинать же самим.
А тут подошёл и третий броневик.
Эх, не ушли ночью!
Кричали – сдаваться.
Самокатчики молчали.
И тогда – те стали бить из пулемётов.
И – нечем было закрыться! – беззащитные мишени, в любой точке ожидающие пуль. В каждом бараке появлялись раненые и убитые.
Зато и свои шесть пулемётов отвечали в окна и в щели, тоже неприкрытые, привлекая на себя огонь. Начальник пулемётной команды капитан Карамышев и сам стрелял, и кого-то посек.
И перевязывать раненых нечем было, ни к какому бою здесь никогда не готовились, и эвакуировать некуда. Так лежали – и домучивались.
И всё же простоял батальон на такой перестрелке. Мятежники замолчали. Стихло.
Один из ротных командиров склонял полковника Балкашина сдаться. Балкашин пристыдил его.
Толпа подступила – и начала валить забор. И часть свалила. И сваленный забор в двух местах подожгли.
Сердце сжималось за бедных самокатчиков. Но противно всяким воинским правилам было бы – сдаться дикой толпе. Балкашин обходил бараки и уговаривал роты держаться.
Тем временем подожгли и крайние бараки. Пришлось покинуть их и собираться в средние.
И тут, это уже было после полудня, к осаждающим подкатили два трёхдюймовых орудия. Приняли боевое положение – и стали прямой наводкой разносить бараки, пробивая бреши, зажигая стены! – хуже, чем фронт, там сидят в земле. Рушились потолки, нары, сундучки с солдатским имуществом, – казармы перестали быть укрытием, и уцелевшие выскакивали во двор, кидались за снежные кучи, иные бросали винтовки.
И тогда полковник Балкашин прибег к последней попытке: стал строить учебную команду, перед ней оркестр – чтобы удивить, пройти головой, а за ней остальные.
Но их секли картечью и пулями, не давали приготовиться к броску, самокатчики разбегались.
Да и куда пробиваться? – ведь Сампсоньевский надолго-надолго весь запружен толпою.
Тогда Балкашин поднятою рукой показал своим во дворе, что сейчас всё уладит. И, ни с кем из офицеров больше не обмениваясь, один вышел за ворота.
Его неожиданное появление вызвало остановку стрельбы. Несколько раз прежде раненный георгиевский кавалер и тут поднял руку, призывая ко вниманию, и густым командным голосом объявил:
– Слушайте все! Солдаты-самокатчики не виноваты, не стреляйте в них! Приказ обороняться отдал им я, исполняя долг присяги. А теперь отдаю…
Спохватились. Раздался нестройный залп, кто раньше, позже, – полковник упал мёртвый.
И ещё кинулись его дотыкать штыками, ножами.
А толпа ринулась мимо – в ворота, особенно убивать офицеров, кого увидят. И избивая солдат.
Некоторые успели бежать через заснеженные огороды.
Горело во многих местах, клубился дым.
Самокатчики выходили сдаваться с поднятыми руками.
Их били.
186
Состояние Шингарёва. – Лейб-гренадеры в Таврическом. – Речи Родзянки и Милюкова. – Шингарёв идёт в продовольственную комиссию.
Вот чудо – произошла!! И до того мгновенно, что не могло вместиться ни в какую голову: гнетущая трёхсотлетняя власть отпала с такой лёгкостью, будто её и вовсе не было! Ещё вчера вечером нельзя было понять всего значения. А сегодня утром проснулись и узнали, что революция уже везде победила – сама собой, неслышно, как может выпасть ночной снег, всё царственно украшая. Конечно, вся остальная Россия ещё лежала во тьме и неясности – но вот уже адмирал Непенин телеграфировал из Гельсингфорса, что весь Балтийский флот присоединяется к революции.
Такая безкровность победы! – невероятный праздник! Что-что, но сопротивление царского режима всегда ожидалось долгими смертными боями. От неожиданности победы Шингарёв ощущал в душе и радостное свечение, но и тревожное разрежение. Настолько хорошо, что уже и тревожно, что уже и быть не может так. Сегодня утром у Винавера собрался на завтрак кадетский ЦК и обсуждали: как бы революцию – примедлить.
И многие члены Думы пребывали в этой душевной взлохмаченности. Слонялись по Таврическому – нет, пробивались локтями по своим привычным помещениям – в робости, растерянности, непонятном состоянии, когда не знаешь, как себя вести.
Сколько раз в костюмной тройке, крахмале и галстуке пересекал Шингарёв этот обычно пустынный Екатерининский зал, иногда с подбавкою разряженной публики с хор, проходил, всегда привязанный сердцем к нуждам огромного, прямо не видимого, обобщённого народа, о котором были и все мысли, и все речи, – а никогда не грезилось, что этот народ и сам явится в Таврический дворец – несколькими тысячами, десятком тысяч. Безконечно умиляло это доверие, с которым солдаты, отбившиеся от частей, приходили именно в Государственную Думу, наслышанные о ней, веря в неё, храм свободного слова, под кров её и защиту. Ведь для многих из них, не петроградских, этот город был темнее дремучего леса, а вот нашли ж они себе здесь верный огонёк и убежище.
А сколько наивности прекрасной было вот в этом приходе в Думу с оркестром, чтобы здесь послушать подбодряющие речи! Лейб-гренадеры вошли прямо сюда, в Екатерининский зал, и тут перестроились. Родзянко встал на кресло, ещё тяжелей и крепче себя, и гаркнул над головами приветствие.
И ему отрявкнули «здравия желаем» лейб-гренадеры с силой, какая в этом зале не раздавалась от сводного потёмкинского оркестра после взятия Измаила.
– Спасибо вам, – гремел Родзянко, – что вы пришли помочь нам восстановить порядок, нарушенный нераспорядительностью старых властей! Государственная Дума образовала Комитет, чтобы вывести нашу славную родину на стезю победы и обезпечить ей славное будущее… Православные воины! Слушайтесь ваших офицеров, они вас дурному не научат. Господа офицеры, приведшие вас сюда, во всём согласны с членами Государственной Думы.
Откуда он это взял? У некоторых офицеров был вид, что пришли на казнь, – опущенная голова, невидящие глаза.
– Прошу вас спокойно разойтись по казармам. Ещё раз – спасибо вам за то, что вы явились сюда! Да здравствует Святая Русь! За матушку-Русь – ура-а!
Охотно подхватили и раскатили «ура». И Родзянко осторожно слез с кресла.
А вслед на то же кресло не без труда забрался Милюков, тоже не слишком привыкший к таким упражнениям. Начал даже без обращения, не найдя ли его. Куда, голос его был не тот, да ещё для такой толпы. Павел Николаевич никогда в жизни не выступал перед простым народом, а только перед аудиториями академическими и парламентскими. Однако он топорщил усы решительно и поглядывал довольно смело на солдатский строй. И голосом прихрипшим настаивал:
– После того как власть выпала из рук наших врагов, её нужно взять в наши собственные руки. И это надо сделать немедленно, сегодня. Что же нужно сделать сегодня? – докторально спрашивал Милюков. – Для этого мы должны быть прежде всего организованными, едиными и подчинёнными единой власти.
Неразборчивым проплытием его слова миновали строй. Ах, не умел он говорить в такой момент! Знал Шингарёв, как звучит его собственный голос, несравнимо убеждая всех ещё прежде слов. Кажется, дай говорить, он сейчас собрал бы сердечным касанием сочувствие всех солдат Петрограда и убедил бы их во всём, что нужно! Но он не был член Думского Комитета, да и в кадетской партии существовало довольно строгое чиноподчинение и разделение обязанностей.
– Такой властью является Временный Комитет Государственной Думы. Нужно подчиняться ему, а никакой другой власти! – очень настаивал перед солдатами строгий барин в крахмальном воротничке и очках. – Ибо двоевластие опасно и грозит нам распылением и раздроблением сил.
Задумался Шингарёв: почему он грозил «двоевластием»? Если имел в виду трон – так двоевластие была пока единственная возможность для Комитета. А если имел в виду разбродных революционеров, митинговавших тут же, в Таврическом, – так они не набирались на власть.
Павел Николаевич совсем избегал слова «революция» и не напоминал об идущей войне с Германией (чтоб не потерять аудиторию на первом же шаге?). Его скучная полоса доводов тянулась скучным голосом, и не пробивалась короткая ясность:
– Помните, единственное условие нашей силы – организованность! Неорганизованная толпа не представляет силы. Надо сегодня же организоваться. У кого нет – сами найдите и станьте под команду своих офицеров, которые состоят под командой Государственной Думы. Помните, что враг не дремлет.
И только под конец через месиво повторений пробилось:
– И готовится стереть нас с вами с лица земли. – В ободрение солдат или в ободрение самого себя спросил: – Так этого – не будет?
– Не будет, – розно и неуверенно закричали ему.
Да и солдаты ощущали странность этой радости, этой победы: она была как будто безгранична, а совсем не было в ней полноты.
Гренадеры шумно поворачивались и шаркали, начиная освобождать место какому-то другому пришедшему батальону.
Шингарёв подошёл к Милюкову. Павел Николаевич моргал, кажется недовольный собою, выражение кислое. Он был в сбитом состоянии: сегодня рано утром выступал неуспешно перед солдатами на Охте. Но у него хватало нервной энергии перерабатывать в себе неприятности.
Принято было между ними, что Шингарёв, второй человек в думской фракции кадетов, всегда советуется с Милюковым, чем ему заняться. Раз прогнали слепую безумную власть – то надо же кому-то и садиться работать вместо неё. И вполне оказался готов, когда Милюков сказал озабоченно:
– Андрей Иваныч, там эти поворотливые из Совета рабочих депутатов уже учредили свою продовольственную комиссию. Так они и всё продовольствие могут сейчас захватить – а это питающая жила. Надо отстоять там наши позиции. Знаете, пока что, пока прояснится ситуация – а идите вы от нас к ним туда заседать, да попробуйте стать и председателем, ведь вы же толковей их всех. И вы же из кадетов – наиболее в курсе.
И Шингарёв – согласился. Он незаметно для себя за последние месяцы действительно втянулся в дискуссию о хлебе. Получалось – да, ему в эту комиссию и идти. Пока утвердится кадетская власть – и Шингарёв сможет достойно заняться своей парламентской специальностью, на которой годы руку набивал, – финансами.
Как всегда у них предполагалось, Шингарёв будет министром финансов.
187
Николай Иудович медлит с отъездом. – Телеграфные ответы Хабалова.
Ожидаемый спаситель родины и трона генерал Николай Иудович Иванов мало поспал в эту ночь, – уж как начнутся заботы, не поспишь. Проснулся же по обыкновению рано. А утром-то – лучшие и мысли! Как мог он начинать ехать к Петрограду и вести доверенные ему войска, не разобравшись толком в этой путаной петроградской обстановке? Ясно, что надо прежде получить самые полные разъяснения. И лучше всего это сделать, вызвавши Хабалова к прямому телеграфному проводу, и предложить ответить на главные вопросы. Которых, стал Иудович набирать, сидя в вагоне на своём любимом мягком диване за столиком, набралось десять.
С этими вопросами он к восьми утра уже был в генерал-квартирмейстерской части (между тем обдумывая и свою докладную Алексееву насчёт возложенного диктаторства, как от него уклониться, и поручение адъютанту закупить сейчас же в Могилёве провизию, которой тут много, для петербургских знакомых генерала).
Запросили Петроград. Из помещения Главного Штаба ответили, что генерал Хабалов находится в Адмиралтействе, выход его оттуда может вызвать арест на улице революционерами. Но пока есть отвод прямого провода на Адмиралтейство, соединим.
(Вот так положение в столице! И – куда же ехать?..)
Ну хорошо, пусть ответит хотя бы через доверенное лицо. Передали им десять вопросов.
Поднялся уже и Алексеев. И представил ему Николай Иудович на своём генерал-адъютантском бланке, что в минувшую ночь, около трёх часов пополуночи, Его Императорскому Величеству благоугодно было повелеть доложить начальнику штаба Верховного для поставления в известность председателя Совета министров о том, что все министры должны безпрекословно исполнять все требования генерал-адъютанта Иванова. Если достоверность этих полномочий требует проверки через сношение с царским поездом – генерал Иванов готов был ждать.
Такой проверки быть сейчас не могло. Но и столь важного распоряжения не мог Алексеев подтвердить по словесной передаче. А уведомил генерала, что распорядился придать ему по пути ещё артиллерию, даже и тяжёлую.
Иванов же напомнил, что войск у него мало, и надо бы добавить с Юго-Западного фронта гвардию.
За пределами того Алексеев никак уже Иванова с выездом не торопил, больше не вмешивался.
А задача Николая Иудовича была двойственная: чтоб если придётся обороняться – то было бы войск побольше; а если сражаться не придётся (как уже сдавалось по петроградской обстановке), то было бы их поменьше и подошли б они как можно несвоевременней: тогда меньше придётся перед новым правительством отвечать за всю эту поездку.
И он не настаивал перед начальником военных перевозок и не в принудительной форме телеграфировал Рузскому на Северный фронт и Эверту на Западный насчёт точных сроков доставки всех этих пехотных и кавалерийских полков, а только назначал, что будет не сегодня, а завтра с утра ждать на станции Царское Село. Какие-то из этих полков ещё и с места не трогались, какие-то уже были в эшелонах, третьи готовились к погрузке на отправных станциях, – ох, с такою массою войск его миссия не могла кончиться благополучно! Во всяком случае, прямо в Петроград ни одной части он не назначал, а только – не доезжая.
Между тем георгиевский батальон, светлокоричневые погоны с ленточкой посередине, у многих по 3 и 4 георгиевских креста, – во главе с генералом Пожарским был уже вполне готов к движению, хотя тоже, кажется, без большого пыла. Пожарский был совсем не тот доблестный князь на Красной площади, и не поджарый, но толстый и сильно недовольный поездкой, как видно.
Сам же генерал-адъютант со своим вагоном пока не ехал с ними, но оставался ещё осмотреться, подумать, да и дождаться ответов Хабалова.
В двенадцатом часу дня пришёл и ответ Хабалова на десять вопросов.
Итак: какие части в порядке и какие безобразят? Названы немногие в распоряжении Хабалова, прочие перешли на сторону революционеров или по соглашению с ними нейтральны. Какие вокзалы охраняются? Все во власти революционеров.
Ничего себе, хорошее начало…
В каких частях города поддерживается порядок? Весь город во власти революционеров, телефон не действует, связи с частями города нет.
Так тогда – с какой же стороны в город можно вступить?..
Все ли министерства правильно функционируют? Хабалов предполагает, что уже – ни одно.
Много ли оружия в руках бунтовщиков? Все артиллерийские заведения у них. Какие военные власти в вашем распоряжении? Один начальник штаба.
Ну-у-у-у… При таких ответах правильное решение генерал-адъютанта Иванова было бы – вообще не ехать.
Но у генерала бывает порой столько же свободы, сколько у солдата.
И оставалось – тянуть свой вагон вослед георгиевскому батальону.
188
Капитуляция хабаловского отряда.
Военный министр Беляев всю эту ночь совсем не был в тягость Хабалову: не вмешался ни одним приказанием, не подал ни одного совета. Всё действовал провод в Ставку и сохранялась линия дворцового телефона – и он сидел там, около них, принимал сообщения и отправлял сообщения, и наводил справки.
Близ полудня появился адъютант морского министра и от имени своего шефа потребовал немедленно очистить Адмиралтейство, так как в противном случае восставшие обещали через 20 минут открыть огонь с Петропавловской крепости, и над ней действительно появился красный флаг.
Вот так… И с этим известием тоже Григорович пришёл не сам. Да давно он хотел их изгнать, но не решался от своего имени, а тут рад был поводу.
И вот пришёлся тот толчок, без которого они не могли выйти из мертвительного окостенения. А ультиматум и короткий срок – толкали командование что-то решать.
А что ж было решать? Переходить ещё раз – было некуда, разве опять в градоначальство? Но вряд ли за чем. Совещание старших, как и были тут, в комнате (про Беляева забыли), да и то спешное: ведь дано всего 20 минут.
Все оказались единого мнения: что продолжать оборону невозможно. Но и уходить с оружием – тоже нельзя: если выйдем с оружием – толпа нападёт, наши станут отвечать. Значит, надо сложить оружие здесь, в Адмиралтействе, сдать его тут на хранение, выйти безоружными, – и на такие войска толпа не будет нападать.
Прямо сдаться? Некому, таких войск нет. А просто – разойтись безоружными, по казармам, по квартирам.
И по гулким длинным строгим залам Адмиралтейства и по дворам – понеслись команды. Артиллерия стаскивала в кучу орудийные замки. Пулемёты и винтовки сбрасывались в большую комнату, указанную смотрителем здания.
И все – испытывали облегчение: как-то кончилось, и кончилось без единого выстрела, хорошо.
Кроме полковника Потехина на костылях, он гневался, да может ещё двоих-троих.
Все спешили расходиться, разъезжаться. (Прошло и несколько раз по 20 минут, Петропавловка не стреляла.)
Через ворота на Дворцовую площадь выезжала батарея, к себе в Павловск. За воротами сразу налепилось к ним девиц и молодых людей, вязали красные лоскутки к орудиям, к зарядным ящикам, к упряжи лошадей.
В разных кучках на улицах раздавалось «ура» и пальба в воздух.
Измайловцы вышли налегке и пели: «Взвейтесь, соколы, орлами!»
Одни стрелки не захотели сдать оружие и вышли с винтовками. Их тем более не трогал никто.
А последнюю полицию градоначальник Балк распустил ещё раньше утром, сейчас бы ей не выйти невредимой.
В суматохе не заметили, куда ж исчезли генералы Беляев и Занкевич.
А от оставшихся генералов и высших чинов смотритель здания потребовал освободить все занимаемые комнаты и перейти на 3-й этаж в чайную.
Там, с окнами на Сенатскую площадь, был большой обзор.
И обзор для размышлений, если бы кто оказался склонен к ним.
Высшие чины расселись и глушили голод папиросами.
Затем опасность случайных пуль (какие-то щёлкали то о стены, то близко о крышу) заставила их перейти в комнату с окнами во внутренний двор.
Хабалов, освобождённый от своей непомерной тяжести, теперь расхаживал и обдумывал.
Он думал так: в лицо его никто из петроградских деятелей не знает, фотография никогда не печаталась. И вот если б его задержали отдельно от штаба – можно было бы заявить себя казачьим генералом в отпуску.
189
Верность генерала Алексеева. Укрепление посланных войск. – Проблема контроля над железными дорогами. Кисляков.
С неотклонимостью военной привычки, раз поняв и приняв приказ, генерал Алексеев дальше честно развивал его, сколько он требовал по своей логике. Отдавши с вечера первые распоряжения об отправке войск на Петроград, Алексеев не успокоился и ночью. Проводив Государя, он лёг с досадою спать, но спать почти не мог. Мысленно соединял в голове все посылаемые войска – и увидел, что в них недостаёт артиллерии.
В два часа ночи он поднялся, оделся. Его помощники все спали, хорошо, он так и любил, сам пошёл в аппаратную. И продиктовал телеграмму на Северный фронт и на Западный о посылке каждым фронтом ещё по одной конной и по одной пешей батарее, не забыв добавить и о порядке присылки снарядов.
А начиналась каждая телеграмма: «Государь император повелел…» Момент был серьёзный, и мало ли какое противодействие возникнет там при исполнении, а против Государя императора не поспоришь. Для того он и нужен был здесь, в Ставке, и обидно было, что уехал, и пока не хотелось в том признаваться даже Главнокомандующим.
Тут подали Алексееву в тех же минутах пришедшую телеграмму от военного министра к дворцовому коменданту. Такая форма была, когда хотели подать прямо вниманию Государя. Такие телеграммы обычно шли мимо Алексеева, но сейчас Воейков был уже на вокзале, и нельзя было телеграммы не прочесть. Она была короткая, но поразительная: мятежники заняли уже и Мариинский дворец, а министры одни успели спастись, о других сведений нет.
Так правительства уже и не было вовсе! Пока шли переговоры, подавать ли ему в отставку или нет, а его уже не было вовсе…
Ну и ну.
А может, и к лучшему. Может, так установится общественное министерство, и никаких военных действий вовсе не придётся… Лучше бы.
Отправил и эту вдогонку Воейкову на вокзал. Может быть, Государь ещё одумается и вернётся.
И долго-долго больной Алексеев ещё лежал, вздрёмывал, а не спал – и что-то стало его разбирать безпокойство за Москву: трудно представить все последствия, если это перекинется ещё и на Москву. И он снова поднялся, снова оделся, снова пошёл в аппаратную – когда уже что-то задумано, то кажется, и на час страшно отложить. И перед четырьмя часами утра отправил телеграмму командующему Московским округом генералу Мрозовскому, запрашивая о настроениях в Москве и предоставляя, именем Государя, полномочие объявить Москву на осадном положении в любую минуту. Особенно он обращал внимание на московский железнодорожный узел, от которого зависело движение хлеба на фронты и во многие губернии.
Это уж было последнее в ночь. Устал и заснул на несколько часов.
А на пробуждение после восьми утра пришло ему: заверение от Эверта, что назначенные полки начинают в полдень погрузку; и мрачная краткая от Хабалова, что верных почти не осталось и положение до чрезвычайности…
Тут пришёл к Алексееву адмирал из морского штаба и показал ему две телеграммы из Адмиралтейства, одна лежала с ночи, но все спали, а вторая пришла утром. В утренней сообщалось, что мятежники заняли уже весь город, Хабалов засел в Адмиралтействе как в последнем редуте, и это послужит только безполезному истреблению драгоценных документов и приборов.
Совсем плохо. Стал Алексеев давать ещё новые телеграммы о подкреплении Иванова. С Северного фронта – ещё батальон выборгской крепостной артиллерии. Если посылаемым войскам придётся вести бой против целого большого города, то не обойтись им без крепкой артиллерии.
Набрано было много. Но Иванов-то, Иванов не годился.
Однако Государь повелел так.
А сам уехал.
Иванов же – не торопился ехать, а сроки были – уже его дело.
Но где-то же там сидел ещё и военный министр! И Алексеев обязан был телеграфировать ему новое устное высочайшее повеление: изыскать все способы передать всем министрам (где б они ни находились и составляют ли они правительство), что они обязаны будут безпрекословно выполнять все требования главнокомандующего Петроградским округом генерал-адъютанта Иванова.
И морской же министр там! И он тоже должен быть предварён содействовать и даже подчиниться Иванову. И, думая за Григоровича, дал ему Алексеев телеграмму: по требованию Иванова, выделить ему два прочных батальона Кронштадтской крепостной артиллерии.
Так и посылал телеграммы, придумывая, чуть не каждые пять минут, пока действовал провод с Адмиралтейством.
Григорович – ничего не ответил. А Беляев – был цел и не дремал, не покидал поста! Нельзя было такого предвидеть, когда его назначали военным министром за одно знание иностранных языков. И теперь успевал отстукивать свои телеграммы. Вразмин пришла от него такая: войска бросают оружие, переходят на сторону мятежников, нормальная жизнь министерств прекратилась, Покровский и Кригер-Войновский едва выбрались ночью из Мариинского дворца. Желательно прибытие надёжной вооружённой силы, иначе мятеж будет увеличиваться…
Да-а-а… Только увеличивался сумрачный груз и сознание неполноты сделанного. Хмурый, пригорбленный, походил Алексеев между столами – и, уже после отъезда Иванова, решился на крупное добавление: как тот просил, послать на Петроград войска также и с Юго-Западного фронта. Да не какие-нибудь полки, а три гвардейских, и среди них – сам Преображенский. А быть может ещё придётся готовить и гвардейскую кавалерийскую дивизию.
Дал такую телеграмму Брусилову.
Ну, кажется теперь будет даже слишком достаточно.
Худо поступил Государь, покинув Ставку и уехав в такие часы. Но отчасти генералу Алексееву стало и свободнее: не надо бегать суетливо с каждой телеграммой, докладывать, уговаривать, можно сидеть за рабочим столом и принимать решения.
А с другой стороны, как ни мало распоряжался здесь Государь в качестве Верховного Главнокомандующего, но, по напряжению таких событий, было бы легче ощущать его сень. Как ложу винтовки нужно плотно прилегающее плечо, чтоб не так отдавать.
Да что это? Уже 9 часов, как литерные, императорские поезда в пути, – и не пришло ни одно подтверждение с дороги. (Их присылал только Воейков, а начальники станций не имели права сообщать.) Государь не просто уехал – но уехал без связи! Только можно приблизительным расчётом выбрать станцию. А приди что ещё срочней – как снестись?
Между тем частными путями притекали из Петрограда и худшие сведения: что офицеров и чинов полиции убивают, многие здания в пожарах, арестован Председатель Государственного Совета!
Но в противоречие с этим прислал телеграмму Председатель Думы, что власть перешла к Временному Комитету Государственной Думы. Так это совсем неплохо, и теперь можно надеяться на восстановление порядка.
Даже Ставка не успевала осваивать новости – что ж могли знать Главнокомандующие фронтами? Алексеев поручил составить для них подробную сводку всех петроградских событий этих дней и после полудня отослал, сопроводив таким заключением:
«На всех нас лёг священный долг перед Государем и родиной сохранить верность присяге в войсках действующих армий».
Лишь бы не дрогнула армия и сохранились пути подвоза, петроградский мятеж не труд осилить.
Пути подвоза… Алексеев запросил телеграммой этого отчаянного Беляева, кажется единственного теперь деятеля в Петрограде: где же всё-таки находится министр путей сообщения Кригер-Войновский, которому удалось скрыться из Мариинского дворца? – может ли его министерство управлять сетью железных дорог?
И Беляев не замедлил узнать и меньше чем через час исправно ответил, что министр путей сообщения скрывается на чужой частной квартире и выполнять своих функций не может.
Но для такого случая могла пригодиться созданная Гурко при Ставке должность помощника министра путей сообщения на театре военных действий: власть надо всей железнодорожной сетью теперь может безотлагательно перейти к нему.
Таковым состоял при Ставке генерал Кисляков. До сих пор его пост был как-то мало заметен, Алексеев с ним и дела не имел. Но теперь он становился самой центральной фигурой. И Алексеев написал ему распоряжение, что немедленно принимает через него на себя управление всеми железными дорогами страны.
Тем более настоятельно, что в снабжении Юго-Западного из-за мятелей последнее время значительные перебои.
Это было в половине первого дня. Кажется, к середине дня генерал Алексеев принял все возможные меры для остановки мятежа, – не мог придумать, чего он ещё не сделал.
Ещё, пожалуй, телеграмму всем командующим округами: чрезвычайно оградить железнодорожных служащих узловых станций, мастерских и депо от посягновений внести к ним смуту извне. И чтобы все они были обезпечены продовольствием.
Но тут явился с докладом генерал Кисляков, прежде видимый только в офицерской штабной столовой, – грузный, жирный, с широким бледным лицом, а молодой. Длинно и волнуясь, он стал излагать разные железнодорожные подробности, в большом объёме, а с тем смыслом, что до сих пор он руководил прифронтовыми железными дорогами лишь в техническом отношении, а никак не в хозяйственно-административном, каковое управление, будучи внезапно перенесено в Ставку, может вызвать большие затруднения в планомерной работе всей сети дорог. Сейчас, пока ещё не выявились достаточные признаки, что нарушено центральное управление железными дорогами, такой административный перенос был бы крайне неосмотрителен и вреден. Это – в том, что касается прифронтовых железных дорог. В отношении же всей сети Империи генерал Кисляков даже затрудняется подвергнуть такую проблему предварительному обсуждению – настолько она для него недоступна.
Он семенил, рыжий, длинными складными фразами, а взгляд его при этом был косо спущен по перекривленному лицу.
Ведь вот бывают фамилии до того оправданные, как прилепленные: Кисляков. Кисло-затхлым безнадёжным запахом так и пахнуло на Алексеева от этого рыхлого человека. И столько месяцев сидел на посту – не видели.
А без него – Алексеев тем более не мог бы враз осуществлять совсем незнакомое ему управление.
Что же делать? Придётся эту меру задержать. Посмотреть, как железные дороги будут функционировать сами, без министерства.
А ещё вспомнилось: большая доля снабжения в руках Земгора. Так что Ставка совсем не так неуязвима.
190
Инженер Бубликов захватывает министерство путей сообщения. – Министр Кригер-Войновский.
Сословие инженеров путей сообщения в России гроздилось талантами, знаниями, умением. Оно вбирало в себя цвет мужской молодёжи – привлекательностью своей работы и высокими приёмными конкурсами. Бездельники и революционеры туда не шли. Пять лет обучения были упорный труд, отличная научная подготовка и деятельная летняя практика. Сам характер железнодорожной службы при раскинутых русских просторах вырабатывал дельных и смелых работников, умеющих выходить из самых сложных положений, хорошо знающих жизнь, людей, цену всякого труда, и имеющих возможность каждую работу подчинённого достойно оплатить. В такой системе не знали, что значит устройство по протекции, а лишь по таланту и опыту. И каждый, не гнясь о хлебе насущном, мог всё время и силы отдавать этой разнообразной работе, всё в гранях новых задач. Командировки на изыскания, постройки, железнодорожные совещания и собственный безплатный проезд давали им широкий обзор своей страны, а также и Европы. И обычно железнодорожным подлинным инженерам никогда не оставалось времени не то что на общественные дела, но даже на семейные.
Александр же Александрович Бубликов никогда не помещался в жизненном амплуа инженера путей сообщения. Никакая работа на действующей дороге или на постройке новой никак его не насыщала. Уж он и переливался в общую экономику, был вызываем работать в разных комиссиях при министерстве, формовать общие вопросы, – нет, не то, недостаточно! Наконец он догадался баллотироваться в Государственную Думу и в 1912 был избран в неё от Пермской губернии, где занимался железнодорожными изысканиями. И уж так вознадеялся! – но и тут осталось томиться втуне его страсти к действию: в Думе состояло десятка два главных говорунов, от кадетской партии более, чем от других, и они занимали четыре пятых всего думского времени, – да и это разве было действие? А остальным полагалось молчать, голосовать, можно работать в комиссиях. Сознавал в себе Бубликов какой-то особенно мятежный талант, если не гений, а применить его не мог. А вот уж ему – 42 года.
Да и фамилия у него была юмористическая, мешала серьёзному политическому амплуа.
Бубликов принадлежал, конечно, к русской интеллигенции, из своего происхождения не вырвешься, но по сути глубоко отличался от её основного типа. Основной тип русского интеллигента утонул в морали, в рассуждениях, что хорошо, что плохо, способен рыдать и жертвовать, – но уже экономики дичится, а управлять государством и совсем неспособен. А Бубликов – именно силу управления в себе отчётливо чувствовал, однако железные дороги были для него слишком узки, а вся Россия в целом не давалась.
Но от вчерашнего грома сразу сердце застучало, что пришёл его миг! И он кинулся воодушевлять депутатов открыть громовое же заседание Думы! Однако трусливая депутатская толпа не посмела. А слушать их вялую болтовню в Полуциркульном – можно было заболеть, – когда уже тысячные массы двигались по городу и где-то зрела туча реакции! Бубликов метался туда и сюда по взбудораженному ройному Таврическому, остро приглядываясь и нервно потирая руки. События катились необычайны – и необычайно же, энергично и коротковременно должно найтись деловое решение. Но самые простые решения трудней всего приходят в голову. Вот нужное ключевое не приходило, и события катились, как им вздумается.
И так Бубликов ночевал в Таврическом, как и все, и всё явней видел, что над революцией не встаёт руководящая личность и она беззащитна против подавления. Так и есть! – с утра пришёл слух об экспедиции генерала Иванова на Петроград.
Ка-тилось! И – задавят? Что делать? что делать? А думские вожди болтали, болтались, ничего серьёзного не предпринимая. А силы подавления – вся Действующая армия, они несравненны с петроградским гарнизоном.
А вся Россия, со всем её порохом либеральной интеллигенции и взрывоготовной учащейся молодёжи, – дремала, заметенная снегами, и ничего не знала о событиях в Петрограде.
И тут Бубликову открылась искомая гениально простая идея! – именно только железнодорожнику она и могла открыться. Пассивная крестьянско-мещанская Россия и не имеет никакого значения, активная же Россия вся стянута к нервам железных дорог, это государство в государстве. Все железные дороги – до Владивостока, до Туркестана, имеют единую телеграфную связь, самую живую, а центр её – в министерстве путей сообщения. Эта связь, как хорошо знал Бубликов, совершенно не зависит от сети министерства внутренних дел, нигде с ней не сливается и повсюду обслуживается вольномыслящими телеграфистами. Так вот: захватить этот узел связи – и открыть себе голос на всю Россию!
И он бросился искать – не Керенского, не Чхеидзе – а сразу главного, Родзянку. Нашёл его тушу, бродящую в окружении разных искателей, пытался привлечь его внимание, отвести конфиденциально, даже начинал говорить, – но тот не внял и рассеянно закруживался дальше.
Тогда Бубликов подстерёг его на возврате с речи перед полком, дышащего кузнечной грудью. И тут вклинил ему в голову мысль о захвате министерства – но великан даже испугался, зазяб огромными плечами, – да он совсем не понимал, что вообще надо брать власть ! – а не ждать пассивно, как придут на нас царские войска. Родзянко всё ещё дышал законопослушностью. Бубликов стоял перед ним, вид среднего буржуа с холёной наружностью, только ртутной подвижностью и отличавшийся, – но этой подвижности не мог ему передать. И – плавно утёк Родзянко.
Но чёрт возьми! – но от кого ж другого получить разрешение действовать? Рискнуть – совсем без разрешения? Это было бы в духе Бубликова. Но – в нужный момент может не хватить опоры.
А между тем, слоняясь по Таврическому меж густящегося множества незанятых людей, Бубликов присматривался, понимая, что тут-то и сошлись все нужные ему исполнители и помощники, авантюристы, только требуется их разглядеть, позвать и стянуть вокруг себя. И он – разговорялся с одним, другим. Из первых таких пригляделся ему симпатичный и услужливый гусарский ротмистр с пышными светлыми усами. Был он один, без своих гусаров, явно свободен, явно искал встреч и разговоров и охотно всем улыбался.
– А не хотели бы вы поучаствовать в революционной операции? – спросил его Бубликов в одну из встреч в толчее.
– К вашим услугам, ротмистр Сосновский! – с весёлой готовностью отозвался тот.
Затем нашёлся свободный молодой солдат с интеллигентным, но решительным лицом – Рулевский, бывший польский социалист, а теперь социал-демократ-циммервальдист, счетовод службы сборов Северо-Западных железных дорог. Отлично! Он – тоже готов. Ещё нашёлся лохмато-кучерявый Эдуард Шмускес, то ли студент, то ли бывший, тоже искал себе горячего революционного занятия.
Силы революции складывались сами! Они томились, рвались – надо было уметь их направить!
Всё более решаясь, Бубликов раздобыл лист бумаги, перо и, примостясь в какой-то комнате, отчётливым почерком написал себе полномочия от Комитета Государственной Думы на занятие министерства путей сообщения. С этим листом пошёл искать Родзянку, нашёл, всё так же в движении, проталкивании через толпу с кем-то и куда-то, и так же в движении продолжал его уговаривать, что нельзя ничего не предпринять для защиты свободы. Родзянко рассеянно удивился: «Ну, если это так необходимо, то пойдите и займите». Оттого ли, что это была уже третья попытка, или Родзянко за минувшие часы стал мыслить смелей, – но он взял полномочия Бубликова, припластал к колонне Екатерининского зала и расписался на них. Расписался без большого интереса, скорее чтоб отмахнуться от настойчивого депутата.
Но Бубликов тут же подал ему и энергичное воззвание, тоже уже написанное им и которое он собирался распускать по телеграфу. Начиналось с того, что «я сего числа занял министерство путей сообщения и объявляю следующий приказ Председателя Государственной Думы». Итак, Родзянко читал свой собственный, ему самому ещё не известный приказ. «Старая власть, создавшая разруху всех отраслей государственного управления, – пала!»
Тут Родзянко удивился:
– Так нельзя выражаться. Старая власть ещё…
Как? Он не понимал, что власть уже пала? Он не понимал? Кто же тогда? Поди с ними делай революцию!
А если и не пала – так надо ж её подтолкнуть.
– Но именно так надо написать! – живо настаивал Бубликов, всей своей революционной жилой чувствуя: пала! Сразу впечатление. И – падёт!
– Нет-нет, – бурчал Родзянко. – Как-нибудь осторожней.
– Хорошо: старая власть оказалась безсильной?
Согласился.
И ещё получил у Родзянки разрешение взять на экспедицию два грузовика – автомобили и солдаты скоплялись перед Думой в её распоряжение.
Сосновский и Шмускес бросились собирать команду, охотников набралось больше полусотни, примкнули и два прапорщика. А сам Бубликов с бумагами в кармане и без оружия вышел счастливым революционным шагом. Необычайная минута жизни! К двум грузовикам охотно увязался ещё и третий, тут же Бубликов прибрал себе бездействующий пассажирский мотор, ничьего разрешения и не требовалось. У всех солдат винтовки наискось за спинами, штыками вверх, так что, влезая в кузов, едва не кололи друг друга. Кажется, были и пьяные.
Покатили на Фонтанку и к Вознесенскому проспекту.
Оставляемый позади роящийся Таврический был только видимость. А действие вот оно: никому не известный Александр Бубликов идёт брать в собственные дерзкие руки нервный узел Империи!
А что за разгульный вид был у взбудораженных улиц! Местами пусто и стрельба, местами толпы, то кучка солдат или рабочих, спешат куда-то с винтовками уже наперевес, то едет санитарный автомобиль с ранеными и сёстрами, то громят лавку, то ведут арестованных офицеров, то такие же грузовики, как и в бубликовской колонне, и при встрече салютуют выстрелами.
Доехали до министерства – солдаты высыпались из кузовов, Шмускес и прапорщики расставляли парных часовых у ворот, у главного входа, у запасных, а Сосновский и Рулевский по правую и левую руку стремительного Бубликова, отчаянного при своей благообразной внешности, и во главе ещё двух дюжин солдат, – ринулись внутрь. Бубликов не раз тут бывал, расположение знал и указывал, где надо ставить посты – на пересечении коридоров, к узлу телеграфа, к кабинетам министра, товарищей министра, – а в кабинет начальника управления железных дорог собирать всех старших чинов ведомства.
Да они уже видели, да уже там и сям испуганно убегали в двери или выглядывали, уже всюду пронёсся слух о приходе власти! Да прекрасно Бубликов чувствовал их: они конечно истомлены страхом, чтó с ними будет, и счастливы попасть под твёрдую власть, в определённость положения. Сейчас-сейчас, Бубликов сам объявит им грозно, что они могут продолжать работу, и они будут счастливы. А пышноусый ротмистр Сосновский тем временем становится комендантом здания, начальником охраны министерства. А гололицый солдат Рулевский – начальником телеграфной связи, – и через полчаса по паутинке проводков вдоль всех железных дорог Империи телеграфисты мирных станций, далёких и заснеженных, начнут принимать и дальше выстукивать и разносить по своей местности – слова пламенеющие, возможные только в революцию:
«Комитет Государственной Думы, взяв в свои руки создание новой власти, обращается к вам от имени отечества. Страна ждёт от вас больше, чем исполнения долга, – она ждёт подвига!»
Всё так, но кто будет направлять министерство? Одного политического задора мало, надо знать и все подробности руководства. Нужно склонить или самого министра, или двух его товарищей.
Донесли Бубликову, что Кригер-Войновский на казённую квартиру при министерстве не переезжал, там – только прислуга прежнего министра Трепова. А Кригер с утра не был, вот только пришёл – и у себя в кабинете.
Но не пытается вырваться, командовать? Значит, сдаётся.
Уже Бубликову было море по колено, он развязно пошёл к министру. Власть была – несомненно у него, полсотни штыков тут, и весь Петроград. А вот – пройдя тяжёлую дверь и пересекая долготу кабинета – к столу, за которым как ни в чём не бывало сидел невысокий, совсем лысый в пятьдесят лет Кригер-Войновский в железнодорожном сюртуке с богато размеченными петлицами, – Бубликов с каждым шагом терял свою нахватанность, а вправлялся в инженерный ранг, где, между серьёзными людьми наедине, его комиссарство выглядело как шарлатанство, а опытом, а знаньями Кригер был несомненно выше него. Бубликов выглядел как изменник вот этим самым железнодорожным петлицам, инженерному знаку.
И не получилось у него ничто громогласное комиссарское, а вежливо:
– Эдуард Брониславович. Вот я тут… назначен от Родзянки. Да может быть, вы бы признали Комитет Государственной Думы, да вот и всё? И руководите.
И если бы Кригер-Войновский сейчас поднялся бы с грозной властью, что никто не смеет касаться святого железнодорожного дела, – пожалуй, к Бубликову бы и вернулось инженерное сознание, отчасти бы и струсил. И во всяком случае, много бы уступил, просто по разуму дела.
Но Кригер – Кригер сам смотрел от стола придавленно, озадаченно, на маленьком лице его отвисали нижние веки и нижняя губа. И не властно, но извинительно:
– Алексан Саныч… Вы понимаете, я – присягал Государю императору, и пока он на престоле…
И – от бубликовской головы, тщательно отделанной парикмахером, отпарялся инженерный туман, а ноги наливались горячим свинцом комиссарства.
– Тогда простите, – сказал он, – я должен подвергнуть вас аресту. – Но великодушно: – Где вы предпочитаете? Здесь? Или у себя на квартире? Или в Государственной Думе?
– Я бы, Алексан Саныч, предпочитал здесь, – без колебания выбрал Кригер. – Особенно, если вы мне оставите телефон.
– Отчего же, конечно, конечно! Тогда, простите, за дверью будут часовые. А прислуга Трепова будет носить вам еду.
Бубликов спешил. Кригер был министр недавний и либеральный, и то вот. А товарищ его Устругов – старомоднейший монархист, а понадобится в работе. Чтобы железные дороги были руководимы, как ни в чём не бывало. А тем временем – рассылать свою огненную телеграмму!
После подписи Родзянки ещё добавить от себя:
«Член вашей семьи, я твёрдо верю, что вы сумеете оправдать надежды нашей родины. Комиссар Государственной Думы Бубликов».
Он кидал на Россию Зверя Революции, которая ещё не произошла, – но чтобы произошла!
А Кригер остался очень доволен. Бубликов застал его за отбором собственных бумаг, писем и книг, которые он хотел спасти, ожидая для себя худшего. Со вчерашнего вечера чего он только не испытал. Из Мариинского дворца после заседания правительства долго нельзя было выйти – опасно, стреляют, да и слух был, что по квартирам министров уже ходят с обысками. Но и остаться нельзя: во дворец ворвались революционеры. Кригер с Покровским поспешили через двор и калитку в Демидов переулок, но оказалась заперта, а снаружи сообщили, что и тут опасно. Западня! Вернулись, а уже по дворцу толпа что-то била, валила, разыскивала. Тогда оба министра, хотя оба либеральные и могли бы рассчитывать, что их пощадят, по чёрной лестнице спустились в коридор жилых помещений курьеров, швейцаров и сторожей и пересидели там всю ночь в тёмном углу на дровах и бочонках, хотя и туда врывались, осматривали, спрашивали. А под утро, когда во дворце несколько успокоилось, сынишка курьера вывел их ещё через один двор и ворота. На площади толпа громила, била «Асторию», а на других улицах была пустота, но при полном освещении, оттого жутко, и нигде ни одного дворника. Перебыв несколько часов у знакомого, Кригер считал себя обязанным идти в министерство: никто его не освобождал от долга. А тут – налетел Бубликов с солдатами.
Да что ж, Кригер пробыл министром всего три месяца. Из каждого заседания Совета министров он выносил ощущение безнадёжности, не чувствовал и твёрдой государевой поддержки. В первые годы войны, как ему пришлось видеть, Государь имел бодрый вид, проявлял ко всему интерес, очень разумно высказывался. Но этой осенью на всеподданнейших докладах он производил уже впечатление уставшего, всё менее чувствительного к неудачам и невзгодам. А в этом январе он был уже вовсе подломлен, ко всему равнодушен, не верил более ни в какие удачи и всё предоставлял воле Бога. И откуда же министрам взять силу?
Зачем было так враждовать с Государственной Думой? Зачем было ставить в министры людей, не знающих России? Зачем было расставлять губернаторами и градоначальниками случайных неосвоенных людей, а города на время войны оставить без крепких частей? Ещё раньше: зачем вообще было встревать в эту войну, так без меры распинаться то за болгар, то за сербов, пренебрегая своей внутренней неустроенностью?
Если всё так текло по безволью государевому и само – почему теперь случайный Кригер должен был в министерстве путей сообщения давать бой?
191
Арест остатка хабаловских генералов. – Градоначальника Балка везут в Думу.
Так сидели, пять-семь генералов и полковников, пили голый кофе – и ждали, что за ними придут. Глупый конец служебных усилий.
Удивлялись, куда делись Беляев и Занкевич.
Хотя нигде не осталось никакой охраны, никаких караулов – ещё почти час в Адмиралтейство не врывались, очевидно опасаясь засады или обороны.
Наконец и сюда, в закрытую комнату, донёсся шум толпы, топот многих по отлогим лестницам и крики:
– Дальше!.. Выше!.. Ишь, попрятались, мать их, мать, мать…
Вот когда стало страшно – страшно вообразить этот лик разъярённой толпы, как она ворвётся. Что может сделать революционная толпа? – да разорвать на части.
И миг наступил! – дверь с шумом толкнули, и сразу вступил не один, но втискивались, торопились несколько, много. И в минуту комната была заполнена.
Военные и полицейские генералы невольно встали все, хотя этого никто не потребовал.
Из передних был – прапорщик, в форме стрелков, в новеньком походном снаряжении, пьяный, сизый, в прыщах, в руке большой маузер, который он и наводил поочерёдно каждому в лицо.
Другой – совсем юный солдатик в расстёгнутой шинели, с красными кантами погонов, с нежным цветом лица, тоже пьян. В руке у него была обнажённая офицерская шашка с анненским темляком – и он страшно размахивал ею перед головами генералов. Казалось: рука его молодая не выдержит, и сейчас шашка на кого-то опустится. Он тонко и непрерывно кричал и ругался больше всех, кажется ощущая себя здесь главным.
А между ними стояла – баба, даже смирная, молчала, из-под платка её выбивалась проседь, а поверх длинного пальто она была перепоясана офицерской шашкой на широком кожаном ремне.
Были и ещё, ещё фигуры, но они сразу не охватывались, глаза притягивал этот маузер и провороты шашки. Солдат кричал:
– А где тут промеж вас Хабалов?
Маузер целился:
– Кто Хабалов?
Но Хабалов что-то не отзывался. Генералы стали коситься друг на друга, коситься – и не увидели его. Он куда-то исчез.
И тогда маузер наметил:
– А ты кто?
– Я, – собирая остатки хладнокровия, – градоначальник Петрограда Балк. Арестуйте меня и ведите в Думу.
Арестуйте! – чтоб не вздумали выстрелить. Государственная Дума оказалась таким прибежищем, спасением, сенью интеллигентности и взаимопонятности. Страшны были – только эти, из народа. Как бы в Думу попасть!
– Ну, иди! – сказали Балку.
И он пошёл из комнаты первый. Сперва ему дали дорогу, а потом – страшный, настигающий, радостный крик раздался позади, так что он уже спиной ожидал вонзания, передёрнул плечами – но ничего не произошло. Оглянулся – шли за ним и сослуживцы, полицейская головка. И больной израненный Тяжельников. Да кажется, и Хабалов, уже и он шёл в их группе, откуда-то присоединился.
Безоружная часть толпы растекалась по зданию, ища брошенное оружие. Вооружённые вели пленных.
Вышли через главный выход в сторону Адмиралтейского сквера, мимо атлантов, держащих земные шары. Тут стояли два грузовика с красными флагами у моторов. Балк со своим заместителем сели рядом с шофёром первого, кто-то – сзади в кузов, Хабалов с Тяжельниковым – во второй автомобиль.
Толпа кричала, ругала, поносила, гоготала – и всё покрывалось «ура!».
Шофёр первого дал с места резкий ход – и сразу же налетел на чугунную тумбу, выворотил её – и сам дальше не пошёл. Сколько ни пробовал – мотор не шёл.
Второй грузовик со скрежетом обогнал их, развернулся направо и ушёл по Невскому.
А первый шофёр всё пробовал тронуться – и ругался.
Сперва у Балка проскочило облегчение, но тут же понял, что только утяжелился их путь.
Вдруг из Гороховой от градоначальства выскочил пассажирский автомобиль и открыл стрельбу из пулемёта.
В панике все вокруг грузовика стали бросаться на снег, и шофёр соскочил, убежал, – а пленные сидели и стояли в кузове.
Рядом какой-то старик в валенках стал для ответной стрельбы по правилам на одно колено и пытался дослать патрон – но, видно, система была незнакомая, и ничего не получалось.
Кто-то и отвечал.
И так шла стрельба больше минуты, никого не раня и не убивая. Вдруг тот неизвестный автомобиль перестал стрелять, рванул в сторону Дворцовой площади – и исчез за ней.
Шофёр вернулся – но поделать с грузовиком всё так же ничего не мог.
Балк уже понял, что самое опасное – это дорога, а в Думе – спасение.
– Если не идёт автомобиль – так ведите в Думу пешим порядком, – стал требовать он.
Из главных остался тот прапорщик с маузером, и он замысловато и заплетаясь скомандовал – всем слезть и идти пешком.
В окружении добровольного густого разнохарактерного конвоя они пошли, а грузовик бросили.
Но посреди Дворцовой площади поперёк ехал какой-то частный открытый автомобиль без красного флага. Прапорщик выстрелил два раза в воздух, остановил тот мотор, высадил всех пассажиров, усадил главных пленников на продавленные сиденья, снаружи на подножках и крыльях прицепились ещё вооружённые, – и так они медленно поехали, сильно перегруженные.
Выехали на Дворцовую набережную. Слепило солнце.
Один, на подножке, всё подымал и тряс винтовкой, всё подымал и тряс, и кричал до разрыва горла «ура!». Ему в ответ с тротуаров тоже махали винтовками и револьверами, тоже кричали «ура», а некоторые стреляли в воздух.
Солдат с другой подножки кричал им:
– Да товарыщы! Да нэ стреляйтэ же! Да берегить патроны, оны ще пригодятся!
Тут Балка узнавал бы каждый дворник, но не видно было их, скрылись. У Зимнего дворца шли навстречу два английских офицера, один знакомый Балку, его необычно длинную фигуру знал каждый, кто бывал в «Астории». Тот теперь остановился, повернулся к едущим и, держа обе руки в карманах, качаясь туловищем вперёд и назад, несильно смеялся, смеялся, хохотал над видом их автомобиля, арестованных генералов, и ещё поворачивался, поворачивался, чтоб не упустить комичное зрелище. И вытянул руку из кармана, показывая на них вослед.
Перегруженный автомобиль скрипел, лязгал рессорами на снежных взгорках, два раза останавливался – и Балк обмирал, что опять испортился, и, не довезя, расстреляют.
Улицы не были многолюдны, пока не стали приближаться к Думе. Тут – всё гуще, автомобиль гудел, разгоняя. В одном месте стояла без прислуги и без снарядов – отдельная пушка, жерлом навстречу им.
То – на конях показалось несколько артиллерийских офицеров, без шинелей, все с большими красными бантами на груди, публика кричала им приветствия, «ура», – и они с удовольствием раскланивались.
Начиная от думских ворот густилась уже плотная масса людей, да автомобиль дальше и не пошёл, как раз отказав тут.
Толпа обступила их с ругательствами, насмешками и угрозами.
Какой-то пьяный, по виду дворник, громко мычал и при ссадке наземь всё норовил достать Балку до глаз своими пальцами, расставленными как рогатина.
Окружающие потешались и подзадоривали. В этой толчее, на последних шагах, ещё всё могло случиться – и по голове ударить, и убить.
Но навстречу протиснулось несколько студентов Военно-медицинской Академии – и окружили арестованных защитным кольцом.
Вошли в Думу.
Там за столом сидела и кругом толпилась победительная молодёжь, преимущественно еврейская. Некоторые юноши с револьверами ужасающих и устаревших систем. Балка сразу узнали, стали кричать:
– Градоначальник! Это вы отдали приказание вашей полиции расстреливать народ из пулемётов?
Балк и не понял – из каких пулемётов? У полиции никогда их не было вовсе.
Один студент насмешливо возражал:
– Товарищи, товарищи! Теперь – полная свобода слов и действий, не оказывайте давления на градоначальника!
Балка вели дальше, наискось через Екатерининский заполненный зал, где другие юноши с упоением отбивали шаг вместе с солдатами – зачем-то и солдаты большим строем маршировали тут, в зале, во всём боевом снаряжении.
Всё это походило на сон или сумасшедший дом.
Кто-то крикнул:
– В министерский павильон!
Их повели светлым коридором. У входа в павильон перед часовыми сидел в кресле в белом облачении изнеможённый митрополит Питирим – и говорил, что он не может встать и не может идти.
В комнате павильона за большим столом уже сидело несколько безмолвных арестованных министров: им запрещали разговаривать.
А Хабалова – тут не было.
192
Арест Игоря Кривошеина.
От начала войны все трое старших сыновей Кривошеиных рвались, как бы боясь опоздать умереть за Россию. Да и отец говорил: какое учение, когда надо врага бить.
Двое старших по началу войны бросили университет и ушли вольноопределяющимися в артиллерию. С тех пор оба уже получили по солдатскому георгиевскому кресту, были подпоручики.
Третий сын, Игорь, едва окончив год назад гимназию, уже ни о каком университете и не думал, но тут же поступил на последний ускоренный курс Пажеского корпуса, с минувшей осени был уже прапорщик лейб-гвардии конной артиллерии, проходил стажировку в запасной батарее в Павловске – и вот скоро счастливо успевал к главным событиям войны.
Но в короткие недели гордого отпуска перед фронтом, судьбой и сердцем уже там, – вот не привелось Игорю погулять в столице! – началась суматоха. Когда вчера благожелательный унтер предупредил его на Воскресенском, что на Кирочной убивают офицеров, Игорь испытал растерянность, стеснение, оскорбление – новые чувства и в новом положении, в котором он никогда не бывал. Год назад он был безпечный гимназист, ни для какой толпы не завидный, но минувший год в нём воспитывали офицерское достоинство – и вдруг оно же поставило его против своей русской толпы?
И тут же, воротясь домой, он услышал от Риттиха, как волнуется следующий ряд его однокашников-пажей, рвётся ещё в новый бой, уже внутренний.
Что нужно делать? Смятение, неготовность. Весь оставшийся день вчера и уже полдня сегодня Игорь унизительно сидел дома, лишь посматривая на Сергиевскую с четвёртого этажа – кто там проходит по улице, какая странная публика и в каком сочетании. Вчера там катилась и обезумелая толпа первых восставших волынцев, а потом много миновало всяких групп и одиночек, и автомобилей, со стрельбою и без стрельбы, с красными флагами и красными знаками, давая определённое представление, что же делается на улицах главных.
Унизительно было затаиваться и скрываться. Да Игорь не испытывал страха, он непременно пошёл бы по улицам, может где во что вмешаться, он не отчётливо чувствовал новизну положения. Но отец сурово осадил: сделать бы он ничего не мог, а только бы выставил себя на оплевание. (А уж о матери что и говорить!) Пойти в штатском? Но не для того он выслуживал офицерский мундир, чтобы теперь избегать его и прятаться.
Да отвращением наполнялась душа от этой гнусности, разыгравшейся в Петрограде, когда все лучшие, вся армия – на святой войне.
Из парадных комнат Игорь уходил в свою, по дворовой стороне, откуда не виделось раздражающее уличное мелькание и можно было бы вообразить, что ничего в Петрограде не происходит, если бы всё ещё не потягивало гарью от Окружного суда.
Вдруг он услышал, что как-то дверьми хлопают не по-семейному и переступают тяжёлыми ногами, и совсем чужие голоса, а в ответ им – оскорблённый и всё возвышающийся голос матери. И тогда Игорь выскочил как был, в кителе, с пистолетом на поясе, поспешил туда – и, прежде чем разглядел всю сцену, нескольких вооружённых солдат, у кого шинель полурасстёгнута, и мать за спинкою стула против них, – его заметили и закричали:
– Да вот он!
Кровь ударила Игорю в лицо: пришли за ним? его искали?
Отец что-то не выходил. Тётя шепнула, что ушёл провожать Риттиха.
А мать выговаривала:
– У меня – два сына на фронте! И этот – едет! Как вам не стыдно? Война идёт! А вы бунтуете! Как это называется?
И тётя строго.
Но им – совсем не было стыдно, да они и не вступали в спор, они пришли по праву силы, что-то тут сделать. Игорь обежал их лица – и вдруг не почувствовал своего всегдашнего любования русским солдатом: вместо смелости, подхватистой службы, терпения или юмора – что-то тупо-развязное, животное, отвратительное было в этих лицах. Один твердил:
– С этого дома стреляли. У вас офицер, нам сказали. Вот он и есть.
(И это же действительно кто-то в доме указал! – из тех, кто улыбаются каждый день при проходе.)
– Сдайте, ваше благородие, пистолетик!
Оружие – честь офицера. Ещё ни разу не использованное в бою! Отдать свою честь!
А иначе – надо было отстреливаться. Тут. Они стояли угрожающе, уже штыки поворачивали.
Высокий тонкий худой Игорь закинул голову, бледный.
– Отдай, Игорь, – попросила мать.
Его душило отчаяние, горе, он сам не помнил, как это сделал, во тьме.
А они – ходили грязными сапогами по коврам, один попёрся в будуар к матери, в кабинет отца, тётя за ним. Другой, штатский, ходил тут, по гостиной, между креслами, по два, по три окружавшими столики с безделушками, посмотрел на барельеф «Вознесение Господне» и сказал насмешливо:
– А квартира у вас – что дворец!
А третий схватил графин с водой, ототкнул и понюхал, проверяя, не водка ли.
Хотя Игорь отдал пистолет, но не стало лучше: заговорили, что они его увезут с собой.
– Нет! – закричала мать и загородила проход руками. – Вы его убьёте.
Тот штатский сказал с кривой улыбкой:
– Не безпокойтесь, мадам, не убьём.
Штатский был из полуобразованных, ядовитая порода. Уверял, что отведут только на проверку. Игорь надел шинель, без шашки, и, успокаивая мать, пошёл за ними на лестницу.
А на солнечной улице весь наряд сразу его и покинул. Штатский велел одному солдату, простоватому парню, вести арестованного в Думу и сдать коменданту. А сам с остальной компанией отправился дальше по Сергиевской. Весь этот заход в дом, отнятие пистолета, арест – были для них, очевидно, попутным эпизодом.
Отвести и сдать коменданту! – это и значило арест, никакая не проверка.
Как же мгновенно изменилась судьба Игоря! – из гордого офицера, едущего на фронт, он превратился в арестанта, униженно идущего по мостовой в двух шагах перед штыком своего конвоира, под любопытные взгляды публики.
Он старался выправкой своей, закинутой головой и гордым лицом показать всем, что он – нисколько не преступник и презирает этот арест.
Как, наверно, дико должно казаться: арестованный офицер, ведомый по мостовой!
И все прохожие останавливались, смотрели. С удивлением, страхом, – но никто не проклинал. Даже скорей с сочувствием:
– Наверно, с чердака стрелял.
– Наверно, у него фамилия немецкая.
Вот положение! – даже от этих сочувственных догадок Игорь не мог оборониться, оправдаться, рассказать этим людям по-человечески, как всё случайно и несчастно произошло. Невидимая перегородка ареста уже оторвала его от простого человеческого рассказа.
А как мама там страдает? А что скажет отец, вернувшись? Но он скажет что-нибудь спокойное.
Хорошо, что Риттих ушёл, не схватили бы его.
Перед Думой, и особенно в сквере, была ужасная толчея, почти пробивались, обходили грузовики, мотоциклы. Тут арестованному офицеру совсем не удивлялись, но сам он не мог не видеть толпы.
И – разве первую толпу в жизни? но никогда не замечал подобного: проступающей жестокости на многих лицах, и не в особый момент их возбуждения, а в этом будничном полувесёлом стоянии в солнечный день подле Таврического. Как будто с известного антропологического, психологического, национального, сословного типа – сдёрнули верхнюю кожицу, и у всех сразу проступила безпощадность.
И – жутко становилось, будто ты попал не в свой народ и на другую планету, и здесь можно ждать всего.
В самом дворце была неразберишная толчея ещё горше, и солдат-конвоир совсем растерялся: где тут, какого коменданта искать. Уж арестованный сам расспрашивал и направлял.
Наконец пробились – не к коменданту, но в переполненную комнату, где люди разного вида стояли и сидели, ожидали, тоже, очевидно, приведенные, ещё со своими конвоирами или уже без них, – а за столом, стеснённая или обстоенная, сидела как бы комиссия, несколько штатских думских, опрашивали и записывали – на каких-то клочках бумаги, которые тут же в безпорядке валялись и падали со стола.
У этих у всех лица были человеческие, со вниманием, с улыбкой, только усталые.
Один такой симпатичный спросил Игоря:
– За что вас арестовали?
Но теперь сам Игорь не размягчился, так набрался обиды за всю арестную дорогу, и вся обида выдавилась в горло. Сухим тонким голосом он ответил:
– Наверно за то, что фамилия немецкая. И что стрелял с чердака.
– А какая именно фамилия?
– Кривошеин.
– Позвольте, какая ж это немецкая? – улыбался тот.
– Такая ж, как стрельба с чердака.
– Вы не родственник Александра Васильевича?
– Сын.
– Бож-же мой!
Тут же, на клочке, написано было ему, что он прошёл проверку в Государственной Думе и не может быть арестован.
И уже без конвоира (тот с порога и потерялся) Игорь снова пробивался через людской хаос – наружу.
Но короткий арест как будто дал ему новое зрение: на множестве лиц он видел эту новорожденную обнажённую жестокость – и не мог перестать видеть её.
Что-то явилось новое в наш мир.
193
Исполнительный Комитет в кутерьме. Оборона революции? Финансирование? Включать ли солдат в Совет? – Фракционные расчёты.
Кто из членов Исполнительного Комитета и уходил из дворца ночевать, а тем более кто перебыл тут, – не имел ощущения, что и ночь сегодня была: одна непрерывная лихорадка, захватившая их вчера к склону дня, продолжалась и в темноте, и с позднего рассвета. А уж к 11 часам утра она всех их стянула снова в комнату № 13 (и хорошо, что была у них эта комната, отдельная от своего же сбродного Совета, – и удерживать её собственными телами, и никого сюда не пускать). А как только собрались тут, так ещё властней затрясли их: изумление ото всего происшедшего – и страх идущей расплаты – и разрывное переполнение политическими задачами, которые нельзя было откладывать. Ещё позавчера, в воскресенье, они жили каждый своею малой обывательской жизнью, ни к чему быстрому не готовясь, при поблекшей и забытой революционной перспективе, а вот сотряслось, изверглось, вынесло их на вершину, – и шагали, и катили 8, нето 16 полков генерала Иванова – а членам ИК надо было именно в этих часах всё и решать: за рабочих, за солдат, за обывателей, за Петроград, за Армию, за всю Россию, решать сразу сто вопросов, и каждый из них главный и первоочерёдный, а все вместе их можно было назвать – Судьба Революции!
Даже только разобрать, разделить эти вопросы, установить для них порядок – уже не могло вместиться в один день, не то чтоб их решить. И может всего-то одни сутки и оставались у них до наката грозной карательной силы Иванова, эта нависающая угроза ужасно мешала деловому обсуждению. Но у членов ИК оставался – всего один единственный, может быть, час до открытия в соседней комнате № 12 общего собрания Совета рабочих депутатов, куда должно было явиться сегодня гораздо больше людей, чем вчера: вчера приходили случайные, никем не избранные, а сегодня могли по заводам навыбирать и несколько сот человек – а в ту комнату помещается битком двести. И что ж теперь: через час прерывать заседание ИК – и всем толпиться на собрание того Совета, которого они и были ИК? Но это абсолютно безсмысленно! Совет сделал своё дело вчера, утвердив Исполнительный Комитет, а больше ничего путёвого он сделать не мог.
– А как, товарищи, быть с солдатами? Солдат – что же, тоже включаем в Совет Рабочих Депутатов?
– Ни в коем случае, товарищи! В пролетарский орган не должны войти мелкобуржуазные элементы!
– А иначе, товарищи, мы рискуем изолироваться от масс.
Ясно, что солдатских депутатов тоже выбирают по ротам, и ясно, что они уже прут в Таврический и будут переть и дальше. О, чёрт!
На собрание Совета послать кого-то нескольких и тем отмазаться. Да ясно кого: Чхеидзе. Он подходил для этого и как председатель Совета, а ещё и тем, что осоловел от происходящего, как будто крепко выпил, растеплился, расплылся, – и здесь, в ИК, совсем был не полезен для делового обсуждения.
Но ещё же кого-то? Взгляды обращались друг на друга, кого бы послать, только не меня, малоприятная задача. Да собственно, члены ИК, только теперь впервые рассевшись вокруг стола председателя бюджетной думской комиссии, – только теперь впервые и осмотрелись, и то не до конца. Они хотели бы увидеть тут, помимо лично себя, более прославленных и несомненных лиц, – но вот во всём Петрограде более прославленных не наскреблось. Кого-то из них вчера, кажется, избрали голосованием в соседней комнате, кто-то был кооптирован как «авторитетные лица левого направления», кто-то, кажется, сел и сам, – во всяком случае, они все теперь должны были считаться надёжными членами Исполнительного Комитета. (А «Исполнительный Комитет» для публики должен звучать страшно: как тот таинственный Исполнительный Комитет, который, убив Александра II, писал ультиматум Александру III. И вот он снова выплыл и командовал!) Но хотя каждый присутствующий занимал точно один стул и стулья можно было пересчитать, – а членов ИК всё равно пересчитать было невозможно: одни сидели, другие выскакивали по срочному вызову или без него, третьи, пóмнилось, что уже введены в ИК, но почему-то не присутствовали, а четвёртые, как Канторович и Заславский, выдающиеся перья, очень хотели бы состоять и присутствовать, но не находилось возможности их кооптировать – так что предстояло им перейти в соседнюю комнату и направлять Совет рабочих депутатов. Итак, даже твёрдо сосчитаться не могли члены ИК: то ли их было ещё 15, то ли уже 25, то ли уже произведена, то ли ещё только началась кооптация видных лиц партийных направлений, – во всяком случае, Шляпников уже привёл никем не избранных большевиков – Молотова, какого-то Шутко с дурацкой мордой, и от трудовиков уже уверенно засел Брамсон, а от межрайонцев – юркий Кротовский, вчера опоздавший к дележу мест.
То-то и оно, что они тут были многие юркие, умные, но все щупло-непредставительные, а кого же посылать на Совет? И многие с надеждой взирали на рослого крупноплечего Нахамкиса – вот он и пойдёт проголосовать на Совете уже принятые постановления ИК?..
Комната 13 имела два выхода: через 12-ю и непосредственно в коридор. И ещё тут была портьера, делящая саму 13-ю пополам. За портьерой, вокруг стола, теперь и уселся ИК. А перед портьерой собрались как бы привратники, недопускатели, даже один рослый лейб-гренадер, – останавливать напор из коридора. И появились первые секретарши – из своих, членов ИК, семей.
Но и в осаждённости, но и в неясном составе, но и в постоянном перемещении – а призван был сейчас ИК решить оборону революции! И в это входило – всё сразу, нераспутанным клубком. И призвать население не тратить патроны даром. И призвать сдавать оружие в районные комиссариаты (вместо бывших полицейских участков). И создавать вместо прежней полиции новую милицию, – значит, напротив, и раздавать оружие. (Самим не упуская, что, может быть, этой милиции придётся воевать против вооружённых сил Думского Комитета.) А что делать со всей Армией? Как и кто защитит от карательных войск Иванова, идущих неумолимо? А железнодорожное сообщение с Москвой? – надо восстанавливать, это уязвимое место столицы. А трамвайное движение в Петрограде? – напротив, не восстанавливать, чтобы не вызвать недовольство забастовщиков. А почта и телеграф? – за ними надо же наблюдать, да взять их в руки! (С кем сносится царь? царица? Ставка? да и сам Думский Комитет? тоже не вредно нам знать.)
– Товарищи! Товарищи! Но всякая деятельность требует денег! Кто будет нас финансировать?
Со вчерашнего дня они почти не ели, не амортизировали своей одежды, помещения брали безплатно и себе пока не требовали заработной платы, так что не нуждались ни в каком финансировании. Но вот – им принесли и расставили по столу кружки со сладким крепким чаем и бутерброды с маслом и сыром. Стало рассуждаться легче.
Финансирование? Пусть Думский Комитет и финансирует деятельность Совета!
Великолепная идея! Воспитанные на экономике мозги сразу разворачивают её: все государственные финансовые средства должны быть немедленно изъяты из распоряжения старой власти! Для этого немедленно революционными караулами должны быть заняты в целях охраны: Государственный банк! казначейство! монетный двор! экспедиция государственных бумаг! Арестовать все денежные средства! (Гигантская идея Парвуса в Пятом году, Финансовый манифест.)
– Нет, товарищи, мы пока сами не в силах. А давайте: пусть Совет поручит Думскому Комитету это всё произвести!
– Нет, товарищи, надо помягче, – возразил забредший Пешехонов. – Пусть кредитные и денежные операции текут нормально, а Совет с Думским Комитетом изберут наблюдающий финансовый комитет…
– Мало! мало! Не таким языком разговаривать с думцами! Они вон издают воззвания, а нас не спрашивают.
– Поручить Чхеидзе и Керенскому потребовать, чтобы тексты воззваний согласовывали с нами!
И вообще: выяснить формальные отношения с Думским Комитетом!
И – ограничить их!
Да, но солдаты, солдаты! Если будут выбирать по одному от роты, то они тут захлестнут рабочих. А если создать отдельный солдатский Совет – то это будет конкуренция! Да и вовлекать армию в политическую борьбу?
А есть ли у нас ещё выбор? Они уже, наверно, поизбирали?
Сходил Нахамкис на Совет, сказал: и рабочих и солдат пока ещё мало, лучшие силы – отсутствуют: ходят, стреляют, обыскивают. А присутствующие – сейчас согласно проголосовали за все решения ИК.
Имел значение сам морально-политический факт, что Совет – заседал.
Но самому-то ИК было работать всё невозможнее! За столом вопросы и так раскалывались между соседями. А каждые 5-10 минут кто-нибудь прорывался сквозь дверь, сквозь задержки, иногда и за занавески: курьеры и просители, делегаты учреждений, общественных групп или просто чёрт знает кто. И каждый врывался – со внеочередным заявлением! экстренным сообщением!! делом исключительной важности!! не терпящим отлагательства!! связанным с Судьбой Революции!!
И каждый раз опасно было бы не выслушать, раз именно от этого сообщения зависела Судьба Революции! И каждый раз оказывался вздор или мелкий эпизод. (Тут были и сообщения о грабежах, пожарах, погромах – и Исполнительный Комитет отдавал распоряжения, не рассчитывая, что они будут исполнены, посылал охранительные отряды, без уверенности, что они сформируются.)
И отдельно требовали за дверь одного-другого-третьего члена ИК – и какие-то представители каких-то организаций или общественных групп – адвокатов, врачей, фармацевтов, торговых служащих, земско-городских, учителей, почтово-телеграфных чиновников, эстрадных артистов – требовали мандатов в Совет Рабочих Депутатов. И была только одна возможность – уступать и давать.
За всей этой кутерьмой, дёрганьем, выбеганьем – какая была работа? Но кто понимал – самая важная незримая работа пробивалась выше всего: партийная группировка в ИК. Она – и была ключ ко всей будущей политике: кто захватит тут большинство – правые? или левые? От каждого кооптирования, или входа, или ухода – большинство чутко менялось. И несколько глаз больше всего и следили за этим балансом.
Собственно, когда все оглянулись и рассмотрелись, то безнадёжно правым тут оказался единственный только Гвоздев, хотя до вчера сидел в тюрьме за левость, а большинство левых – не сидело. Ещё, пожалуй, Богданов был слишком оборонец, и Эрлих, хотя непоследовательно. А все остальные меньшевики хоть чем-нибудь да левые – или интернационалисты, или инициативники, или всё вместе. А уж Александрович – кто из эсеров его левей?
Но, как считал Шляпников, достойно-левыми являются одни только большевики. А таких хотя он уже и насчитывал тут пяток, а шестым присчитать межрайонца Кротовского, – но это не перевешивало сплотки меньшевиков. И теперь, пощипывая себя, чтоб не размаривал сон, он старался зорко следить за возникающими комбинациями. В этом и был смысл всех обсуждений: при каждом вопросе: какое решение за нас и какое за них . Солдат? – допустить в один Совет с рабочими (они будут за нас и перевесят благоразумных меньшевиков)! В конце концов доспорились: включить солдат в общий Совет, но отдельной секцией. (И это успех.)
Гвоздев – тосковал на заседании, чувствуя себя одиноким, не находя прямой работы и не надеясь ничего управить. А Гиммер, хотя и чаще всех выбегал, но просто изводился – от своей счастливо-несчастной особенности засматривать всегда на сто ходов вперёд. Ах, не то было важно, о чём они тут все толковали! Если не говорить об угрозе генерала Иванова, то сейчас не было более важного вопроса, чем составить общую политическую формулу: как построить власть , чтоб она соответствовала интересам демократии? и содействовала бы правильному развитию революции? и успеху международного социалистического движения? И вместе с тем – не обжечься и не свалиться с достигнутой высоты. Прежде чем власть сама построится – надо этот процесс опередить активно! А значит: активно строить отношения с Думским Комитетом, одновременно и заставляя его продвигаться против царизма, одновременно и ограничивая его во всём. И тут ключевой вопрос – о захвате армии. Думский Комитет конечно захочет перенять армию в свои цепкие плутократические лапы – а значит, отнять реальную силу от народа. И вот надо так сманеврировать, чтобы солдаты не попали в прежние офицерские ежовые рукавицы, – но создать внутри армии совершенно новые революционные отношения. Нельзя ни минуты верить Милюкову и Родзянке. Надо решительно вырвать армию из их рук – но как это сделать??
Ах, он сам был несчастный, что такой умный! Он сам был несчастный, что всегда соображал раньше всех, точнее всех – но его не слушали. И здесь, на ИК, его не слушали, хотя в общем у них собиралось довольно хорошее циммервальдское ядро. Плюс трое их, внефракционных, – сам Гиммер с Нахамкисом и Соколовым, это уже основа левого большинства, если б увлечь за собой и болото. И если бы Шляпников не вталкивал в ИК своих тупых, неразумных… – можно было бы какие политические комбинации проводить!
А сегодня – ни о чём нельзя было договориться, даже составить редакцию «Известий Совета Рабочих Депутатов». Большевики потребовали: 100 % большевиков! Тогда и меньшевики: 100 % меньшевиков! Вот и пытайся с ними работать, независимый умница-социалист!
Тут – опять Гиммера вызвали, и как раз по делу «Известий». Вызывал его Бонч-Бруевич, из-за занавески.
194
Пешехонов принимает комиссарство над Петербургской стороной. – Ленартович атакует Инженерный замок.
Пешехонов не поленился и не побоялся сходить пешком на Петербургскую сторону и назад, зато выспался. И теперь, часам к 12, свежим пришагал к Таврическому назад.
От вчерашнего здесь вечера осталось у него ощущение большой неразберихи и не-то-делания, чего стоила одна их вымученная многочасовая литературная комиссия. Ни за что б он не хотел вчерашних промахов повторять и тревожно чувствовал необходимость что-то исправить в общем ходе. Так неуправляемо и слепо не могли дальше идти дела, при большой внешней угрозе.
Но уже войти во дворец было не так просто: приходил в полном составе, чтоб заявить о своём переходе на сторону революции, лейб-гренадерский батальон – тот самый, с Петербургской стороны, через который Пешехонов вчера прорывался смело в одиночку. И неужели это было только вчера вечером? Как всё изменилось! Вот они уже пришли присягать революции! А теперь выходили из дворца и залили собой весь сквер перед Таврическим. Они б не уходили и ещё б охотно слушали тут, неблизко они шли, и им в новинку было послушать речи – да солнце, лёгкий морозец, праздник! Но слышались звуки нового оркестра, подходящего по Шпалерной, – не одни гренадеры догадались сюда идти.
Пока гренадеры нехотя вытекали из сквера, Пешехонов мог продвинуться к дверям, и вошёл бы внутрь, если б не объяснили ему, что вот подходит Михайловское артиллерийское училище! А там – учился его сын! И хотя, по близорукости, Алексей Васильич не надеялся увидеть сына в строю, но хотя бы послушать церемонию, чтобы потом обменяться с сыном. И остался на крыльце.
Теперь, рядом с ним, выступал громкий тучный Родзянко, кажется, однако, потерявший долю самоуверенности. И Керенский, взбудораженный, в своей новой роли.
Между их речами был заметный угол. Родзянко говорил о верности России, о военной дисциплине, о победе над врагами, Керенский – ничего о том, будто войны нет, а – о торжестве революционного народа и о наступившей долгожданной свободе, – но противоречий этих никто не замечал, или представлялось, что они друг другу не противоречат, – и с равным восторгом юнкера кричали «ура» тому и другому.
А всё остальное свободное место внутри сквера было забито любопытствующей публикой. А ещё через неё должны были протискиваться конвои, ведущие арестованных. Долго белел в толпе, медленно двигался клобук митрополита, которого тоже арестовали и вели – уж эта крайность зачем? возмутительно.
А уж внутри дворца народу было несравненно со вчерашним, вчера только гости, сегодня наводнение. Но не было в Купольном и в коридорах этого наружного радостного солнечного света, оттого темно и неуютно.
Пошёл направо, в ту комнату, где вчера заседал Совет. Сегодня, да уже сейчас должно было снова открыться его заседание; но сегодня пытались проверять мандаты – бумажки с корявыми записями, работа шла медленно.
Втиснулся в 13-ю комнату на заседание ИК. Тут к Пешехонову подскочил меньшевик Соколовский и объявил ему, что на ночном заседании Исполнительного Комитета он назначен комиссаром Петербургской стороны, то есть полным её властителем и губернатором, – и ему надлежит отправляться туда и вершить власть.
Пешехонов заколебался. Должность, по сути, прежнего полицейского пристава? Постановление ИК никак не было для него обязательным – хотя если все будут уклоняться от постановлений, то что же тогда получится? И он понимал так, что должен представлять здесь, в Таврическом, интересы и точку зрения своей народно-социалистической партии. А с другой стороны, не произойдёт добра, если каждая партия будет ставить свои партийные интересы выше интересов общих, – теперь-то и наступила та мечтаемая пора, когда все должны проявлять дружность и самоотверженность.
И он решил: еду! Живое дело! В гуще народа! (К этому и всегда стремился.)
Но для этого нужен был какой-то же с собой штат сотрудников. Во-первых, несколько рабочих с Петербургской стороны – таких он легко нашёл близ мандатной комиссии: все заводы присылали больше, чем им полагалось, одного человека от тысячи, – и теперь избыточные, уже разохоченные к политическому действию, не хотели уходить. Вот их Пешехонов и подхватил.
Потом нужно было несколько интеллигентов – но эти нашлись совсем легко.
Затем как-то надо было законно разграничиться или соотнестись с районными властями, поставляемыми Комитетом Государственной Думы, – и Пешехонов отправился на думскую половину. Тут, в кабинете рядом с родзянковским, он увидел Милюкова. Твёрдо поблескивали за очками его глаза, которые Пешехонов всегда находил страшноватыми, другие этого не видели.
Вопрос Пешехонова о власти на местах тот встретил с тяжёлым подъёмом бровей, как какой-то нековременный вздор.
– Ну что ж, – сказал почти с презрением, – если вы находите это для себя подходящим – отправляйтесь.
И понял Пешехонов, что Думский Комитет даже и задуматься не успел, что нужна ему своя власть на местах, – а значит, парил он в воздухе и ещё не держался ни на чём. Нельзя было не заметить, насколько Совет опережает. Ведь вот вчера в полночь, когда Думский Комитет только обсуждал, принимать или не принимать власть, Совет уже распоряжался и уже имел комиссии. За ночь он успел снестись с фабриками и заводами, вызвать делегатов. Прокламации Совета уже с вечера разбрасывались и читались на улицах. Население начинает понимать Таврический как место выборного Совета – а о Думском Комитете ещё все ли знают? Эта деловитость Совета Пешехонову нравилась, она была к несомненной пользе революции.
Пешехонов нацепил на себя огромный красный бант, чтобы все видели издали.
Тут кто-то его надоумил, что надо же ему иметь свою военную силу для начала. Солдат сколько угодно он мог себе набрать перед дворцом на Шпалерной – но где взять хорошего офицера, который бы согласился пойти и которого бы солдаты слушались? Пешехонов направился в комнату Военной комиссии.
Не так просто его туда допустили, охрана была многолюдна, и все с большим удовольствием проверяли. Пришлось назваться комиссаром Петербургской стороны. Внутри было несколько полковников, и создавалась обстановка штаба. Пешехонов не мог, конечно, разделять солдатского недоверия к офицерам – а что-то и его царапнуло, недоверием и опасением, что вот царские офицеры больших чинов берут на себя охрану революции от царя же. Но тут он заметил эсера Масловского в военном мундире и без погонов, и сказал ему о своей нужде. Тот сразу с ним вышел, провёл ещё в соседнюю комнату, где сидело несколько офицеров, и тут представил обаятельного молодого прапорщика, неприкрытый смелый взор, Ленартовича.
Кажется, тот ждал другого назначения, пробежала тень по лбу, но тряхнул головой и согласился. И самый этот трях головы был очень симпатичный, устанавливал с прапорщиком сразу простоту.
Ещё оставалось взять два автомобиля – эти в готовности нашлись. И мгновенно прапорщик скликал десяток солдат – то ли известных ему, то ли совсем новых.
Поехали.
Однако, по набережной не доезжая Троицкого моста, их остановили какие-то самозваные распорядители, не отличенные и повязками на рукавах, а только красные розетки, как у всех. Оказалось: выезжать на мост нельзя, его откуда-то обстреливают. С той стороны? Нет, кажется, из Инженерного замка.
Ленартович, выпрыгнувший из второго автомобиля, был тут как тут, рядом с Пешехоновым, – и, даже не советуясь, с избытком военной решимости, тотчас скомандовал своим солдатам соскочить, вывел из-за укрытия последнего дома, рассыпал в цепь, скомандовал ружья на изготовку – и повёл в наступление черезо всё Марсово поле на Инженерный замок! Сам он, на фланге, выхватил шашку и, стройный, затянутый, картинно нёс её над головой. Пешехонов залюбовался им – и растерялся, ничего не возразил.
И они пошли, пошли.
Однако не близок же был путь, атаковать черезо всё Марсово поле и через Мойку! И что же можно было сделать с десятком солдат против целого замка? Да ещё – оттуда ли стреляли? Не может быть, чтоб Инженерный замок был до сих пор против революции, его б уже атаковали. А комиссару Петербургской стороны? Стоять с автомобилями у моста? Или ехать на место, растеряв свою вооружённую силу?
Сообразя это всё, Пешехонов сам выскочил из автомобиля и штатски заковылял вослед своим вооружённым силам. А они уже порядочно продвинулись – и солдаты не выражали колебаний или заминки. Впрочем, и никаких пуль не было слышно.
И на левом фланге так же картинно, красиво, с шашкою над головой, легко ступал прапорщик Ленартович.
Пешехонов окликал его – тот не оборачивался. Тогда нагнал его вплотную – тот обернулся, вздрогнув.
Сказал ему, что не надо наступать, а надо ехать на место.
Но Ленартович весь пламенел подвигом и не мог спуститься к мелочным соображениям.
– Да поймите же, что глупо получается, – убеждал Пешехонов. – Это что ж мне тут, полчаса или час стоять у моста?..
Не внимал – шагал дальше, чтоб не отстать от своих солдат.
И Пешехонов за ним:
– Голубчик, но вы же согласились быть при мне, а я – комиссар Петербургской стороны, Инженерный замок к нам не входит, тут кто-нибудь другой…
Ленартович, не полностью остановясь, обернул лицо изумлённое:
– Как вы можете так рассуждать! – с упрёком воскликнул он. – Разве Революцию можно разделить, где своё, где чужое! Теперь – всё наше.
И – уходил дальше.
И Пешехонов, рассердясь, прикрикнул на него:
– Молодой человек! Извольте повиноваться! Я – комиссар!
Раненый стон, как а-а-ах, вырвался из груди Ленартовича. Он замедлил шаг – и медленно, медленно стал опускать шашку к ножнам. И раненым голосом крикнул солдатам горько, разочарованно:
– Сто-о-о-о-о-ой… Отставить атаку…
195
Офицеры-московцы в Думе.
В Государственную Думу попали братья Некрасовы с маленьким Греве ещё совсем не просто. Красноповязочники с Эриксона повели их троих по Сампсоньевскому в их офицерских шинелях – и с тротуаров, и даже из оконных форточек кричали рабочие женщины: «Бей кровопийц!»
Знавшие, в чём дело, вели их только человек семь – а вокруг стягивалась и сопровождала новая толпа, и все были возбуждены ненавистно.
– Чего с ними возиться? – кричали. – Кончай их к такой матери здесь!
Толпа замкнулась, и эриксоновцы дальше идти не могли. Они спорили с толпой, но их не слушали. От самых казарм привязался какой-то бородатый пьяный солдат и всё совал штык, пытаясь кого-нибудь из офицеров пырнуть. Он ли, или ещё другой штык – но Сергея и подкололо сзади. А то мелькал замахнутый приклад, не дошедший до головы. Оттого что конвоирующие рабочие не отдавали пленных и что-то объясняли – ярость толпы только увеличивалась, – крики, ругань, размахивание руками, – да какая же ненависть? да почему к офицерам?
В любую минуту могли дотянуться и забить. И опять всё потемнело, и опять эта обида – от своего же народа! Всё снова казалось конченным! – второй раз за короткий час. Конвой рабочих не мог ни продвигаться, ни защитить их.
И вдруг, вдогонку, опять врезалось несколько московцев – тех самых, что уже раз их спасли! Ах, ребята! Они резко отталкивали приклады, кулаки, отводили штыки и враз громко кричали, что это – их верные офицеры, с ними вместе воевали, и один из них – калека войны.
Не так это тронуло толпу или дослышалось здесь, как у двери причетника, – но всё ж наседающие остывали.
Тут подъехал крытый брезентом грузовик. Московцы и эриксоновцы стали проталкивать офицеров через толпу – к грузовику. Встолкнули их туда – и рабочих пятеро взлезли как конвой.
Так и не успели поблагодарить московцев или хоть узнать, из какой они роты.
Если б не автомобиль – нипочём бы не прорваться до Думы, десять раз бы ещё остановили и растерзали. Даже и автомобиль не раз останавливался в толпе, так переполнены были улицы ярмарочно-возбуждённым народом. Иногда конвой кричал через задний борт или из кабинки шофёра:
– Арестованных офицеров везём! – и поднимался радостный рёв и крики «ура» с поднятыми руками.
А под брезентом конвойные рабочие мирно и с любопытством беседовали с офицерами:
– Как же так, господа офицеры, вот солдаты ваши говорят, что вы хорошие, – а почему же вы с народом не идёте?
Всё в один час: жить или умереть – и тут же находиться спорить. Объясняли офицеры:
– Устраивать революцию во время войны – преступление и гибель России. Вы просто не ведаете, что делаете.
Съехали с Литейного моста – стояла трёхдюймовая пушка, дулом по набережной, и вокруг вертелись несколько солдат с красными бантами – но непохоже, чтоб умели они из неё выстрелить.
Ближе к Таврическому толпа была такая же густая, но меньше простонародья, а больше интеллигентов. С чего-то подставленного, с парапетов и со ступенек – в разных местах горячо говорили ораторы своему ближайшему кругу. И очень много было солдат – свободных от строя, самых разных частей, как вольная публика. Улица и сквер перед дворцом были уже так плотно забиты, что грузовик совсем не мог ехать. Арестованных ссадили и, протискиваясь, повели. Тут окликали их, даже полудружелюбно:
– Господа офицеры! Зачем же вы против народа?
При входе во дворец и в его залах оказалось не просторней, а ещё тесней, арестованные и сопровождавшие были сжаты в малую кучку, а уж внимания на них и вовсе никто не обращал. Конвоиры допытывались, куда и кому сдать арестованных. Вместе пробивались коридором крыла.
В большой комнате изгибался в несколько линий хвост, хуже хлебного, – арестованных, ожидающих обыска. Это всё была полиция – приставы, околоточные, жандармы. Впереди, у столиков, несколько студентов, гимназистов и рабочих с повязками опрашивали, записывали и потом, в углу, отгороженном скамейками, раздевали до подштанников. Несколько солдат и рабочих, учась тюремному ремеслу, прощупывали, переминали снятые мундиры, брюки, обувь. Туда, к скамейкам, набралось много и зрителей, и все с интересом ждали, чтó найдут. И эриксоновцы, теперь покинув свои конвойные заботы, тоже пошли смотреть.
Офицеры стали в хвост, ожидая своей очереди позора. Конечно, и полиции эта процедура была нестерпимо унизительна, но их офицерская строевая гордость ломилась с болью: ах, зачем же они не сопротивлялись до конца? Ещё вчера бы сразу и умереть.
Тут появился какой-то быстрый, молодой, худощавый штатский господин, причёска ёжиком, в сюртуке, крахмальном воротнике со сбившимся галстуком, – а за ним пожилая сестра милосердия с подносом. Они пробирались к регистрирующим, сестра стала выдавать им, – только им, не арестованным, – хлеб и мясо, а господин что-то говорил, жестикулируя. И вдруг прекратили обыск, и уже раздетые ожидающие стали снова одеваться.
Офицеры вздохнули облегчённо. Возвращалась сестра – спросили её, кто это такой. Ответила:
– Член Думы Керенский.
Тут возвращался и он сам. Лицо его было утомлённое – но и повышенно живое, быстрый взгляд и даже мальчишество. Всеволод Некрасов, наступая на палку, продвинулся к нему, задержал за рукав:
– Господин депутат! Мы вот здесь трое – офицеры лейб-гвардии Московского полка. Среди арестованных, как видим, мы только трое – строевые офицеры. Мы хотели бы знать: что, нас тоже будут раздевать? Что вообще нас ожидает?
С быстрым вниманием молодой депутат осмотрел их, увидел палку Всеволода:
– Вы раненый?
– Да. Ампутирована нога.
– А вы – георгиевский кавалер? – это к Сергею, заметив крестик под расстёгнутой шинелью.
Хотя депутат не был выше окружающих, но, используя небольшой расступ вокруг себя, – уверенно обратился с речью ко всей гудящей комнате, да так, будто эту речь готовил всё время. И жужжание смолкло, все слушали.
– Товарищи! Что за стыд?! – взносчивым, лёгким голосом кинул он. – Революционный народ – и арестовывает офицеров-инвалидов, и георгиевских кавалеров? Офицеры – необходимы армии! Идёт война. Никаких эксцессов к офицерам быть не может!
Он чуть выждал возражений – те не раздались. Приведшие конвоиры не высунулись из толпы, как пропали. В колеблющемся море мятежа один уверенный звонкий голос сразу заменил весь закон.
– Идёмте! – уже не сомневаясь, властно сказал Керенский офицерам и повёл всех троих.
А выведши, в коридоре, – с оттенком даже царственного дарения:
– Вы – совершенно свободны, господа! Пойдите, получите охранные удостоверения. Но не советую вам сегодня выходить из дворца.
И пока ещё рядом проходил с ними через толкотню, смешенье одежд и лиц, объясняя нужную комнату:
– Господа! Ведь вы любите нашу родину! Присоединяйтесь к народному движению.
Велик был соблазн поддакнуть спасителю от камеры и позора. Но Сергей ответил:
– Вот именно потому, что любим родину, господин депутат, мы и не можем делать революцию во время войны.
196
Гучков в Думе. – Речи перед Михайловским училищем.
Что же случилось?? Обрушилось именно то ужасное, что он измысливал избежать государственным переворотом, – то самое страшное, стихийное, то есть бунт черни.
Гучковский заговор – не успел. А теперь, когда революция всё равно уже взорвалась и всё сметалось прочь великанскою рукой, – теперь Гучкову второй день казалось, что трудности заговора были совсем незначительны, и в марте вероятно бы успели, надо было успеть.
Вчера началось – и Гучков заметался: что делать? Началось – при нём, он – тут, в Петрограде, – и что же делать? Надо было одновременно – и как-то остановить народное движение, и мгновенно вырвать уступки у царя. Гучков (ощущая себя военным человеком) кинулся в Главный штаб и добивался от Занкевича, ни по какому праву, – подавления! (Странная двойственность внутри: и ясно, что надо давить, и хочется успеха движенью.) Потом кинулся в свой дремлющий и перепуганный Государственный Совет. Кое-какие члены слонялись по Мариинскому, ни на что не способные, – Гучков стал сплачивать их и звонить по телефонам, и вместе послали телеграмму царю. Тут Гучков со злорадством наблюдал последние безпомощные метания министров.
И вот – всё, что он успел вчера.
А сегодня с утра отправился в Думу. (Если бы и хотел дома посидеть, то не мог бы: Марья Ильинична изощрилась и сегодня утром устроить ему сцену – удивительная способность женщин никак не чувствовать общей обстановки, ничего не видеть за гребнями своих чувств, – выжгла из дому и сегодня. С тем бóльшим порывом поспешил в Думу.)
Из утреннего телефона он уже знал – и что образован Комитет Государственной Думы, и что там же в Таврическом загнездился, закурил Совет рабочих депутатов, собезьянничанный с Пятого года (а в Пятом придуманный революционными полуинтеллигентами же). Надо было спешить к событиям и активно вмешаться! (Ещё не понимая, как именно.)
Ему идти было тут от Воскресенского всего два квартала.
Хотя уже четыре года Гучков не принадлежал к Думе – но место его сейчас было несомненно там. Сохранялось за ним негласное, неофициальное право состоять в одном ряду с думскими лидерами. Он спешил туда не по притяжению любопытства, но по этому негласному праву. Он был – из самых заслуженных в процессе обновления, и главный враг императорской четы, и теперь, когда всё зазыбилось, – естественно ему стать на рулевое место, без лицемерия и ужимок. Не метил он себя премьер-министром (хотя отлично справился бы), к этому месту уже тянулась череда из Родзянки, Милюкова, Львова, но вторым-третьим лицом в государстве во всяком случае. По постоянной близости к военному делу, он назначал себя – военным министром.
Но что за тупая толпа! – тут надо ещё отстоять своё право на каждый следующий шаг. Привык считать Гучков, что его знает вся Россия, вся Россия слала телеграммы при его болезни, – однако вот здесь, перед решёткой Таврического и в сквере, его не узнал в лицо решительно никто, разве один-два студента. Его пропускали, но просто по солидному меховому воротнику, нахохленному виду и золотому пенсне догадываясь, что у этого барина важное дело в Думе. Однако сами-то они зачем здесь толпились в таком избыточном, глупом количестве? Кто б это предвидел: что от революции все кинутся к Думе и будут толпиться тут, как бараны, даже в изрядный мороз.
Но это что по сравнению с тем, что внутри: в дверях стискивали, в Купольном зале от входа сразу заворачивался круговорот, так что надо было с силой выбиваться локтями. Бюст Александра II, поставленный депутатами-крестьянами к 50-летию отмены крепостного права, – и к тому пристроили красный бант. Красные бантики, ленты, приколки торчали почти на всех прихожих. По всему Екатерининскому густо толпились, и в нескольких местах мельтешили митинги.
Всё же Гучков быстро нашёл и главных думских, и дознался о Военной комиссии, и понял свою задачу: взять её в твёрдые руки, сделать регулярным штабом и полностью перехватить к Думскому Комитету. Для этого надо было быстро насажать сюда если не генералов, то расторопных полковников. При знакомствах и военном авторитете Гучкова это было недолго.
Тут он застал подозрительных социалистов – желчного библиотекаря Академии, нервного лейтенанта – и, обдавая их презрением, потеснил. Потеснил собою и Энгельгардта, совсем неухватистого. Там же вдруг нашёл незаменимого Ободовского, обрадовался и поставил его фактическим старшим до прихода своих полковников. Тут же сел и без труда написал приказ командирам всех частей петроградского гарнизона ежедневно доносить ему о наличном составе. Представить списки офицеров, вернувшихся к исполнению своих обязанностей. (Кто ж у нас остался?) Ни в коем случае не допускать отбирания у офицеров оружия, нужного им для несения службы. С четверга 2 марта восстановить правильные занятия во всех военных учреждениях и заведениях. (С завтра было бы нереально.)
А когда потом Гучков пошёл и пробивался к Родзянке, то увидел над толпой его возвышенную полукуполом голову без шапки, как она передвигалась к выходу. Пробивался к нему наискось, вдогонку.
Снова через водоворот и скопление Купольного зала – выбрались на крыльцо.
И увидели перед собой настоящее чудо: строгий строй юнкеров Михайловского училища в четыре шеренги, протянувшийся в сквере, лицом ко дворцу, а остальные оттеснились.
На чистых юнкерских лицах сверкала готовность, преданность, не то распущенно-боязливо-блудливое выражение, как на солдатских. Вот кто и будет опорой в ближайшие дни!
И не только все офицеры были на местах (радостно видеть настоящий строй), но и генерал, начальник училища, и вот скомандовал гулко перед Председателем Думы:
– Смир-р-рна! На краул! Господа офицеры!
И лихим движением нескольких сот рук винтовки были перекинуты от «к ноге» «на плечо» – и глухие перехваты рук об ложа слились в единый выразительный звук.
И Родзянко, вспоминая молодость, выпрямился сам, с обнажённой головой, выслушал рапорт, отдал нужное «вольно», винтовки опустились снова к ноге, – и голосом, созданным для смотров, вынес навстречу юнкерской верности:
– …Я приветствую вас, пришедших сюда и тем доказавших ваше желание помочь усилиям Государственной Думы! Я приветствую вас ещё и потому, что вы, молодёжь, – основа и будущее счастье великой России. Я твёрдо верю, что мы достигнем той цели, которая даст счастье нашей родине.
Он говорил как ни в чём не бывало, уж во всяком случае не как мятежник, да как будто революции никакой не произошло, он не слыхал. Такую речь он мог произнести и в присутствии Государя императора, да он вполне непридуманно и говорил, от сердца:
– Я твёрдо верю, что в ваших сердцах горит горячая любовь к родине и вы поведёте на ратные подвиги наши славные войска! Да здравствует Михайловское артиллерийское училище!
Всё – несомненно, и последний лозунг тем более. Шумное «ура»!
Вдруг кто-то крикнул пронзительно, напоминающе, но не из юнкерского строя:
– Будь другом народа, Родзянко!
Но не унизился Председатель до такого подтверждения, а всё ломил своё:
– Помните родину и её счастье! Ждите приказов Временного Комитета Государственной Думы! Это единственный способ победить!
(Ко-го? Разумелось: Вильгельма.)
Раздались молодые обещающие возгласы.
Так-то всё так, но и на ступню не продвинулся Родзянко по революционному полю, уж совсем не помянул ничто происшедшее, это тоже ложный путь.
Нетерпеливо топтался и вперёд выдвигался очень возбуждённый, с блистающими глазами Владимир Львов – и полез держать речь:
– Да здравствует среди нас единство, братство, равенство, свобода!
А прилично было бы выступить Гучкову, да и сказал бы он умное и соответствующее моменту. Он уже примерно сообразил, что скажет, и чуть заволновался.
Но не пришлось ему отстраняться от глупого Львова и не пришлось делать шага вперёд: по другую сторону Львова вдруг вышагнул вперёд Керенский – вытянутый, с лёгкой вскинутой рукой, как артисты приветствуют публику, но не с войсками разговаривают:
– Товарищи рабочие, солдаты, офицеры и граждане! – взрывчато воскликнул он, юнкеров и вовсе пропустив, да и обращаясь, кажется, больше к толпе, чем к строю. – То, что вы пришли сюда в этот великий знаменательный день, даёт мне веру, что старый варварский строй погиб безвозвратно.
И так сразу шагнул через всё постепенное, промежуточное, спорное, – уже и весь государственный строй погиб, для него несомненно. Камня на камне!
Прошёл гул одобрения – опять-таки не по строю юнкеров, да и не громче, чем кричали «ура» Родзянке. Кажется, толпе всё рáвно было к одобрению, лишь бы что-нибудь произносили.
Какой опасный человек! что он нёс! – и это же не останется без последствий, уши людей привыкают слышать такое. И уже нельзя его перед всеми оборвать и заткнуть. А Керенский между тем влёк дальше:
– Товарищи! Мы переживаем такой момент, когда должны спросить себя, будет ли Россия жить, если старый порядок будет существовать? Чувствуете ли вы это? – вскрикнул он, сам сильно вздрагивая.
Что-то передалось, и откуда-то крикнули:
– Чувствуем!
И, получив этот отклик, он понёс дальше:
– Мы собрались сюда дать клятвенное заверение, что Россия будет свободна!
Откуда этот вертун всё брал? Из своей плоско-стиснутой головы. Разве для этого собрались? На самом деле задача была: те солдаты, которые, выйдя из казарм, совершили революцию, – как бы теперь вернулись в них обратно и сдали бы оружие.
– Поклянёмся же! – разговаривал Керенский, как с детьми.
И кто-то готовно поднимал руки, да кажется и среди юнкеров:
– Клянёмся!
– Товарищи! – не насытился левый адвокат. – Первейшей нашей задачей сейчас является организация. Мы должны в три дня создать полное спокойствие в городе, полный порядок в наших рядах. Надо достигнуть полного единения между солдатами и офицерами! – Наконец-то очнулся. – Офицеры должны быть старшими товарищами солдат! – (И тут выворот.) – Весь народ сейчас заключил один прочный союз против самого страшного нашего врага, более страшного, чем враг внешний! – против старого режима!
Что наделал! что наделал! Безумец перерубливал все сдерживающие канаты – и Гучков потерял желание выступать: он не знал, как это исправлять. В нём самом внутри как обваливалось.
А Керенский нёс:
– Да здравствует свободный гражданин свободной России! Ура-а! – тонким голосом.
Но покрыто было дружным и долгим «ура-а-а!».
Гучков возвращался с этого митинга – в чувствах его всё перекосилось. События не только прыжком обгоняли всё представимое, но они продолжали опасно расползаться – и он не видел, как их скрепить.
197
Ободовский в Военной комиссии. – Гучков принимает начальствование ею.
Что за рок? Принципиально не военный человек и даже ненавидящий армию, Ободовский стал всё время попадать на военные должности, то по снабжению, а вот уже и прямо – чуть ли не организовывать военную власть.
Да придя в Таврический – не заниматься же болтовнёй политики. А кроме политики было одно практическое дело – вот тут, в Военной комиссии. В несколько вечерних часов вчера самолично отстояв Главное Артиллерийское Управление (кричал на солдат-грабителей и разгонял их), Ободовский ночью пришёл сюда, чтобы добыть караул для ГАУ, и послал такой, а тут спросили, чем обезпечить броневики, выходят из строя, что надо затребовать из Михайловского манежа, он сел писать – магнето, инструменты, – а дальше следующее, следующее, достать смазочный материал и пакли, то пушечные горфорды, то осмотреть прибывшую пушку, так и остался. А потом уже и дерзкие воинские распоряжения, какие начинал делать всякий, находящийся в этой комнате, подписывал: «за председателя Военной Комиссии».
Тут и провёл ночь.
Сегодня в раннеутренние часы главный вопрос был: переговоры с комендантом Петропавловки, проявившим большую готовность к сдаче, – а это был ключ ко взятию всей столицы. Штурмовать Адмиралтейство не было сил, и решено брать его измором и разложением. После того как восстановили работу телефонной станции, следующая забота Ободовского была – постепенно занять и охранить все электрические станции города: от перерыва света страдала бы революция и выиграли бы внешние враждебные войска. Затем, применив большую настойчивость и долго проспорив, Ободовский настоял послать солидную охрану к зданию Химического комитета и к химической лаборатории военного ведомства, иначе могли быть несчастные случаи от газов, а кроме того – потеря секретных сведений, если проникнут немецкие шпионы.
А пока он со всем этим хлопотал – пропустил, что тут же, на одном из соседних столов, выписали распоряжение какому-то наезднику, чуть не цирковому, взять 50 человек – и пойти арестовать контрразведочное отделение штаба Округа, не разберясь, что оно не с революционерами борется, а со шпионами. Это было, кажется, состроено из неразборчивой ненависти исподлобным Масловским, который тут расхаживал крадучись, истекая злобой.
И как во множестве мест – на рудниках, в геологических комитетах, перед высокими бюрократами, – Ободовскому и тут пришлось нервно кричать, надрывать голос и сердце, требовать отмены распоряжения. И уж теперь настоял послать охрану к секретному отделению штаба Округа.
Ещё надо было занять телеграф и охранить на нём порядок. Ещё надо было в военно-автомобильной школе организовать ремонт машин.
Но, много важней: Ободовский набрасывал, какое бы издать публичное обращение к офицерам – куда-то назначить им приходить для получения удостоверений, дающих им всюду пропуск и доверие солдат. Военная комиссия не могла приказать офицерам так сделать, но для их же пользы надо было их убедить, воззвать к офицерскому престижу и к военной опасности.
А тем временем надо было какими-то несобираемыми силами прекратить в городе грабежи, погромы и стрельбу с чердаков. Жалобы на эту стрельбу были такие общие, единодушные, что сперва Ободовский и все тут поверили в неё, и посылали рекогносцировочные группы – обнаружить эти стреляющие пулемёты, уже точно указанные, и снять их с крыш. Но шли часы – и ни одна группа не обнаружила ни одного пулемёта ни на указанной крыше, ни на какой-либо другой.
Так как много было болтающихся штатских и студентов – придумали ещё такую меру: надевать им на рукав белые повязки, давать винтовки и рассылать патрулями и постовыми в назначенные пункты. А автомобили под белым флагом объезжали бы их. Может быть, так остановятся грабежи, пьянство и стрельба.
Достигло думских стен предположительное объяснение, что полки из Ораниенбаума и Стрельны движутся сюда не против революции, а одобрительно, на поддержку.
И будто бы царскосельский гарнизон тоже переходит на сторону революции!
А издали на Петроград грозно катили войска Иванова.
Стрелка революции трепетно качалась, как и полагается ей вздрагивать и метаться.
То казалось: сил обороны нет совсем, ничего не стянуть, не собрать.
То казалось: у противника ещё меньше того, совсем нет, всё разлагается.
Вдруг в 11 часов дня поступило донесение, что на Николаевском вокзале уже высаживаются войска Иванова!
Быстро же!! Вот уже!! А послать заслон – абсолютно не из кого.
Осталось положиться на первый революционный батальон – Волынский, тем более что казармы его были как раз по пути. Послали приказ Волынскому: двум ротам с пулемётами выступить навстречу.
Опять возобновилась ночная нервность, все дёргались по комнате, а кто курит – курили.
Тут в несчастную для себя минуту явился стройный, отчётливый морской офицер от одного из флотских экипажей – с кортиком, револьвером, ничего по пути никому не отдав, в блеске формы и весь в крестах и орденах. Он делегирован своим офицерским собранием выяснить цели и намерения переворота, прежде чем выполнять распоряжения Таврического дворца. Политические цели переворота остаются неясными, и господа офицеры экипажа хотели бы иметь формальные гарантии, что события не направлены против монарха.
И стоял в стойке «смирно».
В самую нервную минуту! – когда ждали боя между Николаевским вокзалом и волынскими казармами, и может быть через полчаса нужно будет самим отсюда улизывать!
Под негодующими взглядами советских Масловского и Филипповского, Энгельгардт залился краской по всему лицу и шее – как бы его не заподозрили в измене! – и распорядился арестовать этого морского офицера: «задержать до выяснения полномочий».
И сразу вскочил дежурный унтер и несколько развязных солдат, теперь отобрали у офицера оружие и повели его на хоры дворца, где арестные камеры.
А Ободовский, по своей непоследовательности, залюбовался этим моряком, как когда-то иркутским комендантом Ласточкиным: всегда восхищает верность долгу, хотя бы и противному! Уж во всяком случае больше вызывал этот моряк уважения, чем болтавшиеся тут капитаны царской службы Иванов и Чиколини.
Цели же переворота – Ободовскому-то были ясны, а тому же Энгельгардту совсем не ясны, оттого он и краснел. И сам Родзянко ещё не понимал: что же будет с царём? Эти мысли не так легко вступают в голову, к ним надо привыкать десятилетиями. Что же требовать от морских офицеров?
Но что ж под Николаевским вокзалом? Хоть разорвись, ничего об этом нельзя было узнать, прямых донесений не поступало. А в половине первого пополудни точно узналось, что волынцы даже и не подумали выступить на защиту революции, даже и не пошевелились. В Военной комиссии раздались проклятья: за полтора часа, если б тот высадившийся полк не робел, он бы уже мог походным порядком дойти до Таврического или соединиться с Хабаловым и выручить его.
Но и в этом была особенность революции, что полки реакции должны были робеть и разлагаться!
Повторно приказали волынцам: выступить немедленно!
Но они и в этот раз не пошли.
Да наверно, никто на Николаевском и не высаживался? Похоже, что так.
Тем временем выслали квартирьеров для войск, подходивших из Ораниенбаума, – установить с ними обезпечивающий контакт.
И что-то ж надо было думать об охране военных заводов?
Тем временем: что же делать с военными училищами? Вчера они были нейтральны, – но училища не могли состоять в неопределённости, они должны были вести учебные занятия для войны, хотя бы и в дни революции. И кто ж должен был приказать им продолжать занятия? Очевидно, Военная же комиссия, просто некому другому. (А впрочем – что в Главном Штабе? Ещё огромный Главный Штаб с сотнями офицеров, раскинув крылья свои на обширную Дворцовую площадь, – молчал нейтрально.)
Написали такие распоряжения начальнику Михайловского училища, начальнику Владимирского. А с Павловским было похуже: там произошли какие-то внутренние столкновения, обнаружились какие-то контрреволюционные настроения? – никто точно не знал. Но если училища станут против революции – это страшная сила: они все с офицерами, вооружены, сплочены, – это единственная сила в городе. Их надо нейтрализовать!
Опыт с офицером из экипажа возбуждал вопрос и о Гвардейском экипаже в его казармах на Крюковом канале. Ведь им командует великий князь Кирилл – и до чего доброго докомандует?
Революция питается и укрепляется только дерзостью, так было испоконь. И старший лейтенант Филипповский, тряхнув боковым начёсом, подписал и выдал бумагу поручику Грекову: по приказанию Временного правительства (которого не существовало) – стать во главе Гвардейского экипажа, а заодно и 2-го Балтийского – то есть сразу в две генеральские должности. (А как воспримет оскорбление великий князь Кирилл?..)
Затем появился Гучков, Ободовский очень ему обрадовался, и тот Ободовскому: после работ в Военно-промышленном комитете они были уже как бы в постоянном сотрудничестве.
Гучков обладал неизменной представительной выдержкой – постоянно помнил, что он известен всей России, все его видят, и вид имеет значение. Но сейчас и через это пробивалось, что он в растерянности; что таких взлохмаченных обстоятельств он не предполагал.
Никем сюда не введенный, Гучков, однако, уже своим появлением предполагал стать тут центром. Энгельгардт невольно перед ним тянулся, и после короткого между ними разговора, а потом сходили к Родзянке, объявлено было на всю комнату, что теперь Энгельгардт будет заместителем, а председателем Военной комиссии – Александр Иваныч.
Советская часть комиссии зашипела, но почти немо – уж они привыкали, что их тут ссаживают и ссаживают дальше. Библиотекаря Масловского, как тот ни пытался вставиться с замечаниями, Гучков игнорировал принципиально.
Он сел, и в общем разговоре ему представили распоряжения последних часов. Чему посмеялся, чему поразился. Впрочем, смеху было мало.
При Гучкове прошло ещё несколько донесений и принято распоряжений: занять Аничков дворец; занять Собрание Армии и Флота – вот ещё что могла разнести солдатня; назначить коменданта в разграбленную гостиницу «Астория» – не нашли никого подходней, чем профессор Военно-медицинской Академии, сидевший тут. Ещё кого-то надо было назначить командовать 9-м запасным кавалерийским полком. Назначили и отправили ротмистра – но ровно через 15 минут явился возмущённый сам командир полка, и пришлось тут же выдать другое приказание – чтобы тот ротмистр поступил в распоряжение командира полка. (Тем лучше, будет свой полковник.)
Принесли приказание от Родзянки, и теперь только письменно надо было подтвердить, что некоему Эдуарду Шмускесу, который и офицером-то не был, а, кажется, студент, – принять команду в 50 человек и занять министерство путей сообщения.
Гучков сидел не грудью за столом, а с торца его боком, облокотясь, и только успевал следить, как в суетне Военной комиссии каждые пять минут рождались, выписывались и выскакивали эти приказания.
Тут принесли такое потрясающее донесение:
«Караул, стоящий на углу Кирочной и Шпалерной, сообщил, что по сведениям, доставляемым частными лицами, в Академии Генерального штаба собралось около трёхсот офицеров, вооружённых пулемётами, с целью нападения на Таврический дворец».
Масловский сразу же всунулся, что это вполне вероятно, что офицеры Академии настроены очень реакционно, только преподаватели слишком дряхлы, чтобы браться за пулемёты, а вот некоторые слушатели – вполне, хотя их числом не триста и даже не двести… И кое-кого из них надо бы арестовать.
Но Ободовский захохотал нервно и почти закричал, что никакого угла Кирочной и Шпалерной не существует, они параллельны и даже не смежны, так что и квартала общего между ними нет. Да ещё «доставляемые частными лицами»…
После этого донесения Гучков уже, кажется, всё для себя решил, он отсел в угол с Ободовским и сказал ему тихо:
– Пётр Акимович! Я – счастлив, что вы здесь, и на ближайшие часы только на вас и надеюсь. Это здесь …, – он употребил неприличное слово, – а не военный штаб. Тут один военный человек – это вы. Энгельгардт не виноват, что на него такое свалилось… Эту советскую шайку мы вообще вытесним. Продержитесь тут, прошу вас, только несколько часов до вечера. К вечеру я соберу сюда самых настоящих офицеров генерального штаба, устроим и военную канцелярию, – уже вечером тут будет штаб.
Ободовский принял всё как должное. Но и поспешил предъявить Гучкову набросок обращения к офицерам.
– Александр Иваныч, один штаб ничего не спасёт. И общего вашего приказа мало. Ничего мы не сделаем, если не вернём офицерского положения и доверия к ним.
Глаза Гучкова были желты, нездоровы. Он прочёл, кое-где поправляя, – и понёс показывать Родзянке.
198
Приключения барона Радена в Петрограде.
Командир Дагестанского полка барон Раден, возвращаясь из отпуска из Эстляндии в Действующую армию, утром 28 февраля прибыл на Балтийский вокзал. О безпорядках в Петрограде он уже был предварён слухами. А на перроне, едва выйдя из вагона, был окружён толпой, смешанной солдатско-штатской и вооружённой револьверами, шашками, ружьями, – такие кучки по всему перрону ожидали подхода поезда и бросились ко всем дверям.
Полковник Раден побледнел, выпрямился и ответил, что едет на фронт и оружия не отдаст. (Он не представлял, как мог бы тут сопротивляться, но думал рубиться.)
Толпа заразноголосила. Одни стали кричать: «На фронт? Оставить шашку, ему нужно!» Другие требовали – отдать. Стали спрашивать: когда едет, как? Полковник ответил, что переезжает на Виндавский вокзал и лишнего часа пробыть в Петрограде не намерен. Тем временем передвигались в здание вокзала, и там окружавшие согласились: сдать оружие на хранение вместе с вещами, иначе они не ручаются за его жизнь.
Но кому было сдавать на хранение? Обычные вокзальные службы отсутствовали, и весь вокзал был – проходное возбуждённое разношерстное многолюдье. Согласились так: глубоко под стол поставил полковник свой чемодан, а на чемодан положил шашку и револьвер.
Эта толпа разошлась.
Оставив вещи, полковник пошёл по вокзалу. Встретились ему несколько офицеров – и у всех было насильно отобрано оружие. На площади перед вокзалом стреляли из пулемётов и ружей, лежал убитый городовой. Не видно было, каким способом отправляться на Виндавский.
Тут на Балтийский вокзал прибыла новая большая толпа вооружённых распущенных и частью пьяных солдат – и во главе якобы прапорщик, похоже, что переодетый. От полковника Радена эти тоже потребовали оружие, один же из вокзальных лакеев указал им, что лежит под столом на чемодане. Тогда схватили это оружие и схватили самого полковника, выворачивая руки, приставляли револьверы к его голове и кричали, что он против народа.
Когда сразу несколько дул приставлено к твоей голове, трудно разговаривать с живыми как ещё живой. Но ещё громким голосом ответил им барон, что едет на фронт. И опять распались мнения толпы, опять одна часть заступилась – а другая требовала убить его. В конце концов, помятого, полковника Радена отпустили.
Но за это время утащены были и шашка его и револьвер. Однако чемодан остался.
И что ж было делать? Надежды на извозчика не было. Но как ни смяты были все жизненные отношения в городе, а всё же не мог полковник нарушать устав и сам понести свой большой чемодан – он должен был кого-то для этого найти, тут обрывалась независимость всякого офицера. Какой-то человек назвался посыльным, взялся нести.
Пошли пешком, через Измайловские роты. По дороге солдаты отдавали честь, но не все, а чернь угрожала, поносила бранью и, стараясь напугать полковника, стреляла мимо его головы в воздух. Около казарм Измайловского полка вся улица была полна солдатами-измайловцами, но без оружия и в большом возбуждении, что-то у них происходило непонятное.
И такое же потом – около казарм Семёновского полка.
Всюду шла стрельба, уже как обычное уличное явление. Разъезжали автомобили с красными флагами, пулемётами, вооружёнными то солдатами, то матросами из флотских экипажей. Разъезжали и конные солдаты, с красными лентами, вплетенными в гриву. Штурмовали подъезды – будто бы там засела полиция.
На Виндавском вокзале также не было никакой охраны, железнодорожных жандармов. Так же всё связанный невозможностью переносить свои вещи, полковник Раден был оттёрт от них новой нахлынувшей толпою. А когда толпа поредела – оказалось, что исчезло его имущество, и остались на нём только шинель да папаха.
Так и он стал наконец независимым и свободным.
По такой анархии искать украденные вещи было бы безполезно.
Какие-то несколько обезоруженных офицеров подошли к полковнику и предложили ему вместе отправиться в Государственную Думу, где заседает новое правительство. Полковник ответил, что там могут быть только узурпаторы, он не желает иметь с ними дело и не советует, это низость.
Пока ждал поезда на Могилёв, он видел, что офицеры отправляются в Думу многие.
Одного из них полковник горячо убеждал не ехать – это слышали солдаты и чуть не убили его опять.
199
В царском поезде. – Тревожные телеграммы. – Успокоительные приметы.
Поездные переезды имели свою поэзию: особый убаюкивающий отдых, недоступность для докладов, министров и генералов, сменные виды за окном, чтение какой-нибудь книги. Чтобы не было резких толчков, предельная скорость императорских поездов была установлена лишь 40 вёрст в час. Спокоен был тогда сон.
Поездки делились на грустные (от Аликс) и радостные (в сторону Аликс). Сейчас была бы такая, если б не тревога за милых и не болезни их.
Спал долго. Проснулся около полудня. И какое же яркое весёлое солнце светило! – это ли не доброе предзнаменование? С удовольствием смотрел в окно. Под сугробами, под застругами нанесенного снега – цельная, никак не мятежная Россия. Родные пейзажи – холмы, перелески, под глубокими покровами ждущие весны. На станциях полнейшее спокойствие и порядок. Перед станционными зданиями – рослые дежурные жандармы.
И в этом ослепительно-снежном безмятежьи все городские безпорядки казались если не придуманными, то мелкими и преодолимыми. Чтó безпорядки на нескольких улицах против великой державы?
И вереница непотревоженных мыслей, а частью воспоминаний неторопливо проходила в голове.
На сколько бы дней Николай ни отъезжал от семьи – каждый раз он возвращался к ней с такой обновлённой полной радостью, как будто разлука была годовая. Прежде всего – к Аликс. Только прижав её к сердцу, всё рассказав и всё узнав за дни разлуки, он становился самим собою вполне. Но не намного меньше – и сын, в котором ощущал Николай загадочное физическое повторение самого себя, только перешибленное страшной болезнью, когда отец завидно здоров, – но оттого ещё настойчивей отцовский долг и связь с сыном. И четыре, четыре дочери! – из них уже три невесты с туманной судьбой, переросших своё детство, – как бы в темнице из-за царского состояния отца. Вот кончится война – выйдут замуж. Но при том не меньше же любил он и 16-летнюю Швыбзик Анастасию. Ко всем к ним рвался Николай, и не знал бы большего счастья, как жить с ними постоянно вместе и видеть каждый день.
Но было и ещё одно женское существо, органически включённое в них во всех, – Аня Танеева. Постоянно здесь, постоянно рядом, постоянно третья при них, – она неизбежно срослась нежной связью со всеми, и с Николаем тоже. Отношения её с Николаем были неназываемые, им не было места в людских классификациях. Не восторженной подданной к своему Государю (хотя именно так писалось в письмах), не старшей дочери к отцу, конечно (хотя шестнадцать лет было между ними), – и не возлюбленной, потому что не могла бы в сердце Николая вместиться вторая любовь при пылкости его к Аликс. И вместе с тем это было нечто нежное, неотъемлемое, только им двоим принадлежащее, в полноте выразимое лишь во встречах наедине.
Был опасный момент, когда это могло перейти и всякие границы, – весной Четырнадцатого года в Крыму. Как всегда, Аликс была прикована многими болезнями то к постели, то к креслу, все заботы – о наследнике, а Николай, как всегда, много нуждался в движении, в теннисной игре, и в его дальних прогулках – автомобильных, конных и пеших, его неизбежно сопровождала эта небесноглазая красавица. Они – теряли голову, – но вовремя твёрдо вмешалась Аликс. В тот момент (и после бурных сцен между женщинами) это кончилось изгнанием Ани из Ливадии и из семьи. Но и Аликс почувствовала, что так – жестоко и непереносимо для неё самой, Аня была возвращена в семейную и дружественную близость, однако за режимом её отношений с Николаем теперь следила Аликс сама.
И – все трое приняли этот порядок отношений. Маленький домик Ани был увешан увеличенными фотографиями Государя. Она приносила свои объёмистые письма Аликс и предлагала сжечь, если государыне покажется, что письмо рассердит Государя. Аликс передавала, разумеется, все, а уж он, прочтя, по обещанию жене, уничтожал их. А если телеграмма от Ани прямая – сообщал Аликс.
И в этих определившихся рамках, а во всяких других было бы и недостойно, – продолжало что-то нежно существовать и нежно отзываться между ними. Тут ещё навалилась вся ужасная история железнодорожной катастрофы, Аня месяцами лежала больная и особенно нуждалась в ласке, и Николай навещал её, потом она стала ходить, но с костылём (но даже и костыль не мог обезобразить её бело-голубого обаяния). Иногда встречались коротко и наедине. (И она хотела – чаще!) И всё это было окружено каким-то беззвучным звуком, неумолкающим тоном, доходящим до сердца, незримый цветок, постоянно цветущий. И всё это делало ещё нежней и дороже возвраты в Царское. И сегодня тоже этот мотив примешивался к остальным, бежал, бежал, как телеграфные провода вдоль поезда, – непрерываемый и недогонный.
Провода тянулись, тянулись, свисая в серединах и подкидываясь к столбам, переливало солнце и полутени по сугробам, – какая же Божья красота, и как хорошо можно было бы жить нашей стране и всему человечеству, если б не было стольких злых помыслов и нетерпений.
И провода эти – хорошо – ничего сегодня не приносили, никаких новостей.
Да может, в столице всё уже и успокоилось? Дал бы Бог.
А нет, оказалось, что Воейков просто заспался, а все телеграммы всегда идут через него. Теперь он пришёл – и разрушил такое успокаивающее, ласковое отъединение.
Во-первых, оказывается, ещё ночью, когда стояли в Могилёве, переслал Алексеев в поезд телеграмму Беляева из нескольких фраз. Но фраз – ужасных: мятежники заняли Мариинский дворец, министры частью разбежались, а частью, может быть, арестованы.
О-го-го. Это серьёзно.
С мягким укором – голубым, почти и не укором, посмотрел Государь на дворцового коменданта: всё же как было не передать это ночью, ещё в Могилёве?
Но тот и не покраснел. Его каменотёсное лицо и вообще не краснело.
Что-нибудь ещё?
Да, вот ещё – нагнала пересланная из Ставки телеграмма Государю от 15 членов Государственного Совета.
Государь читал её и недоумевал. Эти люди затверженно повторяли, что народные массы доведены до отчаяния. Что глубоко в народную душу (они её знали!) запала ненависть к правительству и подозрения против власти.
Николай читал это всё как бред сумасшедших. Он не встречал тут ни единого соответствия действительности, ни одного трезвого слова. Просто понять было нельзя, как серьёзные, образованные люди могут писать и подписывать такой вздор. Впрочем, кто там и подписал – всё тот же Гучков, да Гримм, да Крым, да Шмурло, да Вайнштейн, – всё тот же почти Прогрессивный блок.
Как-то незаметно дали подменить себе и Государственный Совет: от общества выбирали туда ненавистников правительства, от Государя назначали туда всякую почтенную безпомощную рухлядь – разных, кого надо было утешить при отставке. И левые легко главенствовали там над правыми.
И прямо требовали эти пятнадцать: чтобы Его Императорское Величество решительно изменил направление внутренней политики, нынешнее правительство отставил бы и поручил формирование нового… которое управляло бы в согласии с народными представителями… То есть с Думой.
Да кого же и мог иметь в виду упорный честолюбивый Гучков, если не себя самого? С настороженной ненавистью он не пропускал из своего угла ни одного движения императора. А когда-то казался таким милым.
В отчаяние приводило Николая, что в одной и той же стране на одном и том же языке – такая невозможность объясниться.
А в народной душе – никак, нигде не видел Николай ни этой ненависти, ни этих подозрений.
И – снова шла непрерываемая езда между солнцем и снегами. Только теперь глодала тревога: Мариинский дворец? Что же там делается? Выйдя к завтраку со свитой, ощутил Государь, что они затемнены и тревожны. И правда, ведь он ничего не объявил им вчера за вечерним чаем о решении ехать в ту же ночь, и вообще не принято было объяснять свите мотивировки действий. Вот и сейчас за завтраком Государь не мог рассеять недоумений на их лбах, это было бы шокирующе необычно, неприлично. Разговаривали о погоде, поездке, разных мелких событиях.
А на станциях всё по-прежнему не было ни растерянности, никакого безпорядка, всё тот же аккуратный железнодорожный персонал и поставленные власти. В Смоленске вышел встречать губернатор. Все по линии знали о проходе императорских поездов и были подготовлены к безперебойному пропуску.
На какой-то малой станции стоял встречный эшелон пехоты, и тоже знали: часть уже выстроена была на платформе, впереди оркестр, остальные выскакивали из теплушек и пристраивались, – и все страстно заглядывали в окна, сопровождая поезд глазами, никто не знал, в каком из двух синих поездов, и в каком из десяти вагонов и у какого окна может находиться император, – но оркестр непрерывно играл «Боже, царя храни», и кричали непрерывно «ура». А тут Николай сжалился над ними, подошёл к окну – его увидели – и «ура» взмыло невероятной силы! Все лица солдат были одушевлены, восторженны – вид царя придавал им высший размах радости и самопожертвования.
И – что могли значить петроградские безпорядки, безумство Думы и безумство членов Государственного Совета?
Неподвижно и глядя светло Николай простоял у широкого окна до конца платформы, пока скрылся из виду ликующий полк.
Из Вязьмы дал в Царское ласковую телеграмму:
«Мысленно постоянно с тобою. Дивная погода. Надеюсь, вы себя хорошо чувствуете и спокойны. Много войск послано с фронта. Сердечнейший привет. Ники».
200
Бонч-Бруевич – комиссар по типографиям. – Гиммер хлопочет для «Известий».
Собственно, было крайне обидно и никаких оправданий тому быть не могло, почему Владимира Бонч-Бруевича не зачислили в Исполнительный Комитет Совета Рабочих Депутатов? Если он не был представителем никаких рабочих, так и кто там заседал – тоже не были представителями никаких рабочих. А «видным деятелем левого направления» он был, может быть, меньше Суханова или Стеклова, но никак не меньше Капелинского. Или чем издатель хуже журналиста для революционного управления? Тут сильно виноват и Шляпников, он-то мог бы выдвинуть видного большевика. Но последнее время отношения Бонча с Центральным Комитетом большевиков были неважные, оттого и произошло.
Обидно было ему, ещё пятнадцати лет отроду определившему себя как марксиста (а брат Михаил пошёл лакействовать на царскую службу), и с тех пор столько революционных заслуг, и научная операция с Распутиным, как он прикрыл его сектантство, и даже в последние дни заслуга: убедил казачьих сектантов не стрелять, и чтоб те передавали другим казакам, – а теперь, в день торжества, оказаться не у дела?
Вчера Бонч перепоясался армейским ремнём по выпученному животу, нацепил огромный револьвер, ходил тут среди них, толкался – но избраться в Исполнительный Комитет так и не удалось. Хорошо, он стал комиссаром по типографиям. Пошёл захватил типографию «Копейки» на Лиговке – это оказалось очень просто, никто ему не сопротивлялся – и ночью выпустил первый номер «Известий» Совета.
Начало было простое, но потом создался ряд осложнений и воздвигся ряд опасностей, из-за которых Бонч уже посылал в Таврический две самых решительных записки, наконец явился вот и сам и вызвал Гиммера с заседания ИК.
Собственно, Гиммеру не была поручена опека над «Известиями», и он мог бы этим вопросом не заниматься. Но как самый дальновидный член ИК он не мог от себя этой обязанности отклонить. Когда Бонч стал грубо нападать, что всё их заседание тут и все разговоры ничего не стоят без выпуска «Известий», что только то реально существует, что напечатано в газете, – Гиммер не мог не признать в этом большую правду.
Бонч жаловался на такие обнаруженные трудности: хозяева не сопротивлялись захвату, но типографские рабочие, несмотря на революцию, хотят получать за свой труд оплату, и значит, нужны деньги. Потом: ввиду непрерывности работы, он не может отпускать рабочих из типографии – а значит, нужно их чем-то кормить. Потом: раз весь город знает теперь, где печатаются «Известия», – возникает большая опасность нападения чёрной сотни. А поэтому – ему нужна охрана, не меньше сорока человек, и с пулемётами, расставить их по всему кварталу. Одновременно это будет и железная диктатура против типографов. Но охрану тоже надо постоянно содержать и значит кормить. И вот это всё Бонч просит Совет Депутатов ему обезпечить – всего на 100 человек.
У Гиммера мелькнула эпиграмма, ходившая про Бонча:
С своей бончихою голодной
Выходит на дорогу Бонч.
Ещё проверить надо – шестьдесят ли у него рабочих. Но так или иначе – проблему неизбежно решать.
А уже почувствовал себя Гиммер представителем революционной власти. И как имеющий власть отвечал решительно:
– Хорошо, Владимир Дмитрич. Денег – у Совета тоже пока нет, но и платить их не сию минуту. Поэтому можете обещать рабочим любые условия, лишь бы печатали. А продукты – будем доcтавать, сейчас я этим займусь. И охрану – тоже будем добиваться.
Но над маленьким юрким Гиммером Бонч-Бруевич возвышался пузатой бочкой:
– Не добиваться – а охрану надо прислать немедленно! Уже скоро стемнеет, а на тёмное время мы остаться так не можем! Нас чёрная сотня разгромит.
Хорошо. Пообещал Бончу. Расстались.
Действительно, что-то надо было делать. Но что? Трудность действовать, когда тебя никто не знает, ни по имени, ни в лицо. Гвоздева – многие знают, а тебя – никто.
Где-то в дальнем углу Таврического дворца создаётся продовольственный склад революции. Но просто выписать наряд и послать – не могло помочь: там и читать его не станут, там и подписей членов ИК не знают. И на каком бланке? И кому именно писать? Значит, надо было идти на склад самому.
А идти – это значило теперь в Таврическом: пробиваться локтями. И что за безумная, безсмысленная толпа? Что они все сюда согнались? чего они хотят? на что они тут рассчитывают? Нельзя было не озлобиться, когда пробиваешься по делу, – а эти тупые спины и рожи всё тебе перегородили. Через сквозняки, по скользкой жиже, набравшейся на полах, – искать эту дверь, искать эту комнату.
Так у Гиммера много ушло времени – добиться до склада. там какой-то неизвестный распределял продукты по своему усмотрению, а все его дёргали. Ещё надо было вниманье его привлечь к себе, ещё надо было увещать. Наконец выписал ордер. Но забирать продукты не на чем. Теперь искать автомобиль и кто будет сопровождать. И охрану к автомобилю, чтобы не разграбили по дороге. И подгонять его к складу.
А само собой надо же было хлопотать главную охрану. Это уже надо добиваться до Военной комиссии. И Гиммер отправился туда.
Каждый член комиссии (он же и заместитель председателя) действовал, как успевал, окружённый каждый десятком претендентов и жалобщиков, получал донесения, отправлял распоряжения, велел создавать команды и ни в чём не мог быть уверен.
Гиммер добился внимания Филипповского, эсера, самого тут близкого к Совету человека. Но и энергичный Филипповский уже измотался и отощал. Он согласился, что «Известия» надо охранять, но не только не было у него сорока человек с пулемётами, а даже начальника такой команды он не мог назначить. Какие-то офицеры толпились тут, как будто спрашивая назначения, но когда Филипповский стал им предлагать начальствование над типографской командой – никто не повиновался, ссылаясь на другие более важные миссии или отсутствие людей.
Гиммер отчаялся и пошёл сам толкаться меж праздных офицеров, ища добровольца. Какой-то хорунжий зрелых лет согласился, но только чтоб команду ему представили, у него никого не было. Назначение хорунжему подписал инженер Ободовский – но отряда так и не было.
Что ж, Гиммеру самому надо было найти и отряд? выйти сейчас к солдатам и агитировать? Вот к этому он не был готов. Выйти и говорить перед толпой он никак не мог, он заранее знал, что будет неуспех, предчувствовал, что несолидность фигуры и совсем уж не военная манера сразу подорвут его речь.
Но был же человек, как раз для этого и созданный, – Керенский! Вот и решение задачи: во многотысячьи Таврического дворца разыскать теперь Керенского – и его убедить собрать отряд. Никого другого, пожалуй, найти было в этой массе невозможно – но Керенского можно, потому что он был самый броский, самый популярный, и к нему вели следы.
Он нашелся в глубине думского крыла. В той комнате по крайней мере двадцать человек одновременно требовали, осаждали и достигали его, и Керенский, быстро поворачиваясь, перебегая и обрывая собственные фразы, старался не только понять и удовлетворить этих двадцать, но – понять и обнять, насытить и обслужить всю необъятную Великую Революцию, которая разрывала ему грудь! Он – один был на это способен! Он – чувствовал так. Он был – в струне и на месте! Зложелатель со стороны мог бы придумать, что его худое, вдохновенное, горящее лицо несколько загнанно, – на самом же деле он переживал неисчерпаемый подъём и имел силы совершить ещё тысячекратно.
Гиммер оценил и пожалел, что в таком состоянии Керенский вряд ли может охватить все основные пружины стратегической и политической ситуации, – но свой конкретный вопрос он ринулся протолкнуть через него и для этого цепко схватил его за пуговицу сюртука и уже не отпускал.
Не только риск несвоевременно потерять видную пуговицу, но и отзывчивость Керенского услышать каждого из двадцати и ухватить проблему – помогли Гиммеру. Да он и воспользовался самыми грозными словами о Судьбе Революции – и острое сознание прорезало воспалённые глаза Керенского.
Едва вслушавшись – он немедленно согласился и сорвался с места, и вырвался ото всех остальных девятнадцати – и помчался вон, так что и Гиммер едва за ним успевал. Странно, Керенскому не приходилось расталкивать толпы, как всем остальным. Подобно метеору, он прожигал себе трассу – и Гиммер пристроился в его огненном хвосте и по пути прихватил своего хорунжего.
Керенский влетел в переполненный Екатерининский зал, взлетел, не подверженный силе тяжести, на какой-то стол или подмост – и над морем голов, повёрнутых в разные стороны, без всякой подготовки понеслась его пламенная речь, что вся судьба революции на лезвии и зависит от сорока добровольцев, согласных на караульную службу, которых он должен сформировать здесь, сейчас, сию минуту!
Такова ли была сила его красноречия или сравнительная безопасность караульной службы – но ещё прежде, чем в дальних концах зала сумели его услышать и повернуться сюда, – уже с разных сторон проталпливались добровольцы, и пожилой хорунжий начал их строить.
201
Паника в толчее Совета.
– А что, проголодал?
– Нет, ты, рябой, погоди, ты сюда послушай! Сколько мы серую шинелку носим, да и ране, – когда нам такой почёт бывал, чтоб собраться, вот, во палаты – и тут бы мы…? Второй день так живём, не нахвалимся, на ученье – не надо… Только бы нам питанию наладить, питании нет. Пусть эти тут, чем речи держать, учредят кормёжку всех солдат!
– Ишь ты умный какой, кормёжку! Откуда тебе рабочие питанию возьмут?
– Так забрать, где есть!
– На складах и есть. У богатеев. Где-то есть провизия, куды ей деться? От нас прячуть.
– Вот и говорю: забрать! Выбрать таку Комиссию: шла бы, забирала подчистую.
– Чего Комиссию? А мы сами – безрукие, чо ль? Чем на етом Совете топтаться зазря – разойтись по улицам. И штыками прочёсывать. И забирать!
Уже который час нагнетался и нагнетался народ сюда, в большую комнату, где объявили Совет депутатов . И даже мало с мороза пришли, а сухонькие, тёпленькие, видать здесь и ночевали. В казармы идти боязно, а тут попоили барышни чаем и хлебу прикладали с колбасой, – а теперь чего будет, поглядеть. У дверей задёрживали, требовали какой ни то бумаги иль хоть на словах бы доказал – от какой части, от какого завода. Одни и доказывали, а другие напирали и проходили гуртом, солдаты многие, кто и с винтовками, как из казармы ушёл вчера, а куды её денешь?
А в серёдке поначалу было вольготно, и даже зады рассаживали по стульям, по скамьям, а головка образованных из соседнего чулана, кому и грамота в руки, – та сидела за столом. Но и – пёрли, но и – пёрли новые и новые всё сюда, – и уже столько набралось народу стоячего, что сидеть стало невмоготу: ничего не видать, половины не слыхать, всё застали, да спинами в рожу давят, – так стали из сидки приподыматься. И – ещё стало тесней, так что все колена об те стулья пообдавливали, да переломать их к чертям или повыкидывать! Или вот что, кто поумней: на стул же тот и громоздись – во хорошо-то! во видать отсюда, хоть вперёд, хоть назад, хоть речь изрыгай, а хоть просто вылупляйся, диковинное сборище!
И на головку напирали, напирали – уже их в стену втиснули, ничего им не видать, и полезли они тоже на свой стол стоймя. И теперь уж их ни с какого стула не перевысить.
А внизу, в сжатьи, и папаху не везде сымешь, да и держать её несручно, так уж пусть голову парит. Зато – разбеседование, вот что! Где тесно, там солдату и место. За вчера, за сегодня тут на переходах перезнакомились из разных батальонов. И тут, кто по соседству оказался, – тоже беседа. С соседом поговорить – душе тепло.
– Такие девки хожалые, строганые ляжки, там уж и шерхебелем и рубанком пройдено…
– Да питерские девки на нас, грязнопятых, рази смотрят?
А со стола, руками размахивая, какой-то в кожаной куртке, из автомобильной команды:
– Товарищи солдаты! Вы заслоняете светлый горизонт революции такими несерьёзными рассуждениями! Сколько мы боролись с кровавым царизмом – об этом надо говорить! В девятьсот пятом году и в девятьсот шестом. И сегодня ещё идёт грозной тучей палач генерал Иванов, душить нашу свободу. И нам надо мобилизоваться и организоваться. А мы что делаем? А мы только в воздух пуляем.
– То не мы, то ребятишки.
– А кто их приносит, патроны? А кто их в костры?
– Да хва-атит тебе патронов! У нас этих патронов цейхгауз полный. Это раньше их по счёту выдавали, а теперь – бери, своя рука.
А то на стол взлезал рыжебородый, здоровый, как мясник. И читал по бумажке иль на память говорил, за что надо голосовать. Голосовать – значит пустую руку подымать, поднял, опустил, не тягота, это мы можем. Тоже как своя присяга тут. Отменить полицию – хорошо. Захватить все места, где деньги делают или хоронят, – лады. Трамваев не пускать – не надо, мы и так пешком ходим. Поголосовали, поголосовали – окончили.
А так-то подумать: что, эти учёные умней нас, что ли? Просто – грамота, наторели. А наша доля – для их сторонняя. И слова у них какие-тось, нашему уху не милые.
– Вот только бы, братцы, брюхо набить – а то ведь ноне на свободе и заживём же мы, а?
Фуражки, папахи мохнатые, чёрные безкозырки с жёлтыми кругами выпушек, и безо всего открытые стриженые головы, у кого выгляд разомлевший, у кого пристигнутый, а тут и вольные в чёрной одёжке, они-то нас попривычнее, вот так сбираться да судачить, они нас и переговаривают:
– Товарищи солдаты! Вам ли пояснять, что победа народа должна охороняться! Враги революции готовят нам ужасное кровопролитие, а мы не видим ваших стройных революционных рядов.
Лево-руционных… И чтой эт’ они все на левую руку больше налегают?
– Надо сокрушить гидру реакции – а что мы для этого делаем?
Но уже языки расплелись, ему и отзыв сразу:
– Погоди, я тебе расскажу. Значит, в нашей казарме…
Но у кого чего в нашей казарме – на это охотников со всех сторон, заслушаться. Как во всех батальонах побываешь зараз. В пять голосов сразу.
А кто – и просто расповедать хочет, до чего теперь все стали радые да лёгкие. Уйтить отсюда не под силу, только брюхо подвело.
Тому, вольному:
– Эй, слышь! Животами слободу отстоять – мы могём. Да гуще бы подкармливали.
Тут – услышали все, и кричавшие и молчавшие: очередь пулемётная! Да близко! рядом!
И ещё – очередь!
Вот тут же рядом где-то со дворцом!
И – как ударило по народу! пулемёт!! – он не шутит!! Он – знает, чего говорит!
А их тут, в тесноте, хоть всех перебей, с одного пулемёту.
Затаскались, заорали. То ль по нам стреляют, то ль от нас, но всё равно – бой!!
А винтовки-то наши иные – и без патронов. А кто-то и в коридоре посоставлял.
И – задёргались к выходу, тиснулись —
– Да тише-то штыком, чёрт, не коли! —
как через дверь распахнутую кто-то крикни:
– Казáки!
Ай, сердечко моё разнесчастное, попался под резак, сейчас нам тут всем головы и порубят!
И уж чего дальше творилось, никто не разбирал, а только куда глаза его ещё глядели: у одних в дверь, у других в стену, у третьих в пол, да и притиснумшись, а сверху топчут, а у тех – в окна: окна-то в сад, казаки-то с улицы в сад небось не заскачут?
И зазвенели стёкла! Уже и сюда бьют, мамочки!?
Ин это наши, прикладом стекло дробанули – а режет, не выскочишь – так ещё прикладом? – да и выскакивать на снег, а там дальше бегом?
Первые-то минуты тяжельше всего было, потом поразредилось. Но кто в залу выскочил – там тоже во все стороны давятся, куды выскакивать?
И наверно, все кричали, но ничьих голосов не слышали. Может кто и уговаривал, что пустое, – но после тех Казаков !
И пулемётных очередей ещё несколько было.
А наши, в ответ, вроде никто не стрелял.
Так оно, мал-помалу, и утихло.
Утихло, осмотрелись: казаки не скачут, из пулемётов не секут.
Стали ворочаться – кто снаружи внутрь, через окна дроблёные, кто и опять на Совет: где ж и поговорить?
Головка – тоже разбежамшись. Собиралась теперь.
202
Срочные заботы Военной комиссии. – Паника. – Керенский у форточки. – Ищут резервов.
После прихода Гучкова понял Масловский, что его время в Военной комиссии подходит к концу, а этот лицемерный Ободовский, забыв своё революционное прошлое, готов услуживать цензовым кругам. Большое упущение было для Совета терять свои позиции в штабе революции, важнейшем плацдарме управления и власти. И прав был прошлой ночью Соколов, когда не пускал сюда Энгельгардта, – но не хватило у Совета своих военных кадров, и слишком заняты были собственной организацией.
Теперь, может быть последние безконтрольные часы здесь, надо было успеть сделать как можно больше важных распоряжений. И Филипповский, так и не свалясь за сутки, подписывал на бланке Товарища Председателя Государственной Думы (надо бы такой блокнотик и утянуть) распоряжение за распоряжением, почти каждые пять минут.
Оказалось, что винтовки, свезенные в Государственную Думу, – кончились, и надо было привезти ещё откуда-то хоть полтысячи, так быстро они расходовались. И при снаряжении команд многие добровольцы вызывались идти без винтовок. И надо было в здание Думы привезти побольше револьверных патронов. (И как-то надо бы отделять особые запасы Совета.) И надо было вскрыть контрреволюционный нарыв в Павловском училище. И лейтенант Филипповский, выписывая потщательнее буквы, особенно заглавные, которые тут были почти кряду, и в том весь смысл, написал всё на том же важном думском бланке распоряжение генералу Вальбергу:
«Начальнику Павловского училища. Именем Временного Комитета Государственной Думы сдать вверенное Вам училище в распоряжение Военной Комиссии Временного Комитета Государственной Думы…»
И послал на двух мотоциклетах.
И продолжал собирать над бланками лоб, где ещё что взять или охранить, или подавить. В комнате Военной комиссии, несмотря на охрану в коридоре, была обычная толчея, всё время неруководимые, неизвестно с чем и зачем пришедшие люди, – и появился Керенский, тоже кого-то куда-то потребовать, взять, послать.
И в этот момент совсем близко ко дворцу, но с другой стороны здания, раздалась отчётливая, гулкая пулемётная очередь! И ещё одна! И ещё!
Пулемётный звук не требует разъяснения, особенно военным людям! Кто-то прорвался, и бой идёт у самых стен Думы!
Все заметались! Все вдруг оказались не в твердыне штаба, но без оружия и в ловушке, откуда не так просто выскочить.
Окна Военной комиссии выходили в сквер – и там, в неразберихе автомобилей, мотоциклов, пушек, лошадей, людей, – возникла сумятица, всё завертелось водоворотом, куда-то хотело выпятить или выехать, автомобили заводились, не заводились, расталкивали и отпихивали друг друга, кричали – и только явной стрельбы не было, и видно было по скверу, что сами они противника не видят.
Даже из сквера нельзя было выбраться, а отсюда пробиваться ещё до сквера через коридор, через вестибюль – невозможно! Через каких-нибудь пять минут сюда могла ворваться расплата, ружья на изготовку – и застигнуты, арестованы, потом и петля!
Безумно затосковал и заметался Масловский – ведь уже 40 лет, и совсем же он не военный… Всё ясно! – протопоповские пулемётчики сошли с крыш и пошли в атаку. Теперь тут верная гибель! – или захватят в плен – и на каторгу. Ах, как ему не хотелось вчера сюда! и жена отговаривала, а Капелинский застиг! И как его тянуло под утро исчезнуть на свою квартиру – но удержало ложное чувство революционного стыда.
Из этих неназванных офицеров, которые тут толпились, – стали выталкиваться из комнаты.
А пулемётная очередь – снова! и снова ещё одна! – невероятно близко, просто вот тут же, под самыми стенами дворца!
И неизвестно, чем бы кончилось всё тут, в Военной комиссии, если бы среди них не было Керенского.
Но он был – тут! И все те же опасения, и все те же мысли, но только с ещё большей быстротой, решительностью и ответственностью за всю судьбу революции, а не только за себя, пронеслись и в его голове – и он тут же принял решение, а верней – исполнил его, потому что у него исполнение всегда было быстрей самого решения: Керенский взлетел от пола, как на невидимых крыльях, и вот уже стоял на подоконнике, одной рукой держась за ручку шпингалета, другою распахнув форточку, впившись в обрез её рамки, а узкую прямоугольную голову свою – втискивая туда, туда, в саму форточку, она вполне входила.
И, глядя на водовертное безумие сквера, – он кричал туда, в форточку, своим голосом, таким прославленно звонким, резким на трибуне – а сейчас несколько осипшим:
– Все – по местам! Все – по боевым постам!.. Защищайте Государственную Думу!.. Это говорит вам – Керенский! Государственную Думу – расстреливают!!!
Этот ужасный исторический рок, трагический конец новой революции кошмарно предстал перед побледневшей Военной комиссией. Таврический дворец уже тонул в крови!
– Государственную Думу – расстреливают!! Это говорю вам я, Керенский!.. Защищайте вашу молодую свободу! Защищайте революцию! Все по местам! Оружие к бою!..
Но перед дворцом – не известны были каждому свои места, и оружие не у каждого, и не каждый знал, как с ним обращаться. Да в той суматошной панике, криках, мате, фырчаньи и рёве вообще никто не слышал и не заметил, что какой-то человек кричал из какой-то форточки.
Но здесь в комнате все слышали – и на военных смелость Керенского произвела неадекватное впечатление. Кто-то нетактично заметил, что эта команда через форточку могла произвести эффект, обратный мобилизации. Керенский, уже спорхнувший с подоконника на середину комнаты, убравши крылья в лопатки, взглянул на дерзкого осиятельно-гневно, ещё не вполне вернувшись от своего взлёта к простому ногохождению, и закричал с пронзительными нотками:
– Я прошу – не делать мне замечаний!.. Я прошу каждого выполнять свои обязанности – и не вмешиваться в мои распоряжения!
Если бы то был реальный налёт на Таврический – пулемётной команды, пехотной полуроты или четверти казачьей сотни – неизвестно, как пошли бы мировые события и многие ли спаслись бы из-под революционных руин. Но больше не раздалось пулемётных выстрелов, и никаких других, и ни казачьего гиканья – и постепенно стало успокаиваться в сквере, и в Екатерининском зале, и в коридорах, и в самой комнате Военной комиссии – а Александр Фёдорович получил безпрепятственную возможность унестись дальше по своим делам.
А причина стрельбы скоро выяснилась: какая-то революционная команда в Таврическом саду проверяла, насколько хорошо бьют доставшиеся ей пулемёты. А казаков – и вовсе никаких не было.
Хотя скоро уже почти сутки Военная комиссия непрерывно совершала только самые необходимые дела и распоряжения – теперь тут должны были признать, что все принятые меры совершенно неудовлетворительны и вот Таврический дворец никак не готов к обороне.
Не была готова и вся столица: все эти полки, притекающие из окрестностей приветствовать Петроград во славу революции, – куда-то сразу же после приветствий растекались, терялись, им всем нужно было только где-то питаться и спать, а на защиту революции этот поток не добавлял ни одного взвода.
Филипповский схватился и написал приказ:
...
«Командиру 9 запасного кавалерийского полка.
Немедленно привести возможно большее число эскадронов в полном боевом вооружении и пулемётную команду – для охраны Таврического дворца, при надлежащем количестве офицеров.
Председатель Военной комиссии».
Сам просился командовать – пусть теперь отрабатывает.
Даже если он весь кавалерийский полк приведёт – это никак не будет много для защиты Таврического.
Советская и буржуазная части Военной комиссии дружно искали ещё резервов. И куда же подевался преданный Думе Преображенский батальон? вот недавно утром приходил приветствовать…
Впрочем, вся эта паника в Таврическом показала и другое: насколько же у царского правительства не осталось никаких сил.
203
В Петрограде днём (фрагменты).
* * *
На главном шпиле Петропавловской крепости поднялся красный флаг. Все смотрят, радуются, передают, кто не видел. Воодушевление! Главная твердыня царизма!
Раскидистый каменный крепостной многогранник над Невой пытал умы: сколько же обречённых политических узников томится там? Толпа возбуждалась перед воротами, требовала выдать арестованных. Наконец впустили депутатов-понятых осматривать камеры. И те убедились, что все бастионы-равелины пусты. Вышли к толпе, покричали «ура», стали расходиться.
* * *
После ухода правительственных войск из Адмиралтейства его постепенно затоплял сброд. Стали грабить морской Генеральный штаб и мастерские. Новая забота для морского министра Григоровича: стал просить у Родзянки караул для охраны.
* * *
На воротах и решётках Зимнего дворца орлы и вензеля кое-где завешивают кусками красной материи.
А по городу взяли новую манеру: рвут трёхцветные флаги.
* * *
Громили дом графа Фредерикса на Почтамтской, толпа бушевала внутри, со второго и третьего этажа выбрасывали в окна и с балкона мебель, убранство. Большой рояль с тяжёлым звоном разбился о мостовую. Потом подожгли, и большая толпа не давала пожарным тушить, а только отбивать соседние дома, чтоб не загорелись. (Рядом был и почтамт, с новой телеграфной аппаратурой.)
Графиня Фредерикс впала в паралич, хотели поместить её в английский госпиталь, но было отказано. Очевидно, английский посол Бьюкенен не хотел делать демонстративного шага в пользу старого режима.
* * *
По Театральной площади две образины тянули маленькие санки, и к ним привязанный труп городового на спине. Из встречных останавливались и со смехом спрашивали, как «фараон» был убит. А двое мальчишек лет по 14 бежали сзади и старались всадить убитому папиросу в рот.
Трупы убитых городовых сбрасывали и в помойные ямы.
* * *
На Николаевском вокзале напирала, напирала солдатня на буфет, требуя закусок. Потом вломились, разогнали поваров, что можно – съели, перебили все тарелки до последней, а столовое серебро и бельё унесли. Говорили: в Думу.
Приходят поезда – на перроне солдаты не дают носильщикам работать, вместо них таскают вещи пассажирам, зарабатывают.
* * *
Ораниенбаумские пулемётные полки входили в город через Нарвскую заставу несколько часов, полдня, так растянулись. Чтобы пулемёты не замёрзли – несли их обмотанными войлоком. Ленты с патронами – крест-накрест, крест-накрест поверх шинелей. И воротники шинелей, усы и бороды обелились от путевого дыхания.
* * *
Образованные петербуржане – как в возбуждённом бреду, в сомнениях, страхах, радостной решимости. Целый день кто-нибудь сидит у телефона и собирает телефонные слухи.
А домашней прислуге, если не стара, больше всего беготни: побежит по улицам, что-нибудь высмотрит, узнает, прибежит господам расскажет и опять убежит. Да почти у всех ворот кучки-клубы.
В квартирах постоянно поддерживается самовар в окружении снеди – для приходящих знакомых и полузнакомых. Разговоры сладкие: переворот – самый респектабельный, Государственная Дума дала своё имя. Теперь у нас, очевидно, будет монархия английского типа. Уж раз Дума взяла власть, то всё пойдёт гладко, и война скоро кончится.
Впрочем – где он, царь? И войска его ведь идут на Петроград?
Против Думы? – не посмеют.
А если сменится царь – деньги в банках не пропадут?
* * *
Резкий долгий рожок, чтобы все разбежались. Длинный синий роскошный автомобиль с золотыми императорскими орлами на дверцах, с красным флагом у руля, весь наполнен вооружёнными матросами. Кричат, машут.
Стройно идущая с барабанным боем часть – вдруг рассыпается от случайного выстрела сзади.
Солдаты без офицеров!..
Революционные солдаты – многие без поясных ремней, в расстёгнутых шинелях. Лица радостные, но и растерянные. Как украшенье на многих – пулемётные ленты: вкось через плечо, и по поясу, и просто в руках носят, безо всяких пулемётов.
* * *
По Лиговке к Знаменской площади валит толпа – много солдат, чёрных штатских, мальчишек – сопровождают захваченного высокого жандарма в форме. И ещё, и ещё со всех сторон к толпе лезут, останавливают. Крики.
Позади жандарма подымается винтовка прикладом вверх и тяжело опускается ему на голову. Шапка с жандарма слетает. И второй раз отмахивается та же винтовка – и опускается второй раз, по голой голове. В кровь. Жандарм оглядывается, что-то говорит и крестится. Его бьют ещё в несколько рук, он падает.
* * *
В правление Путиловского завода ворвалась куча вооружённых: «Выдайте кассу!» Отказ. Схватили военного директора завода генерал-майора Дубницкого: «Едем в Думу!» Его помощник генерал Борделиус: «Я вас не оставлю, вместе служили…» От Нарвской заставы генералов высадили: «Нечего кровопийц возить!» Погнали штыками до Балтийского вокзала, избивая, – и утопили под лёд Обводного канала.
* * *
Это называется – снимать фараонов . По заподозренному дому бьют из пистолетов, из винтовок, из пулемётов, лупят и в стены, и выбивая стёкла. С охотой и весельем бьют сразу из ста ружей. (И с охотой позируют потом для фотографа: солдаты в папахах, солдаты в фуражках, автомобилист с очками, поднятыми на козырёк, и штатский в мягкой шляпе.)
А с кем там перестрелка? Лезут по лестницам на обыск, по пути проверяя и все квартиры: не прячутся офицеры? а может где оружие? (Или часы, или портсигар.) Взбираются на крыши, ещё оттуда руками машут, по карнизам ходят – и только фараона никто нигде ни разу не снял и не нашёл. До того неуловимые.
Говорили: в каком доме найдут пулемёт – будут тот дом сжигать.
* * *
Министра Барка арестовал собственный лакей и глумился над ним.
* * *
Уличный сбор на питательный пункт для солдат. Стол покрыт белой скатертью, ящик для монет, и две курсистки зябнут, руки в муфтах.
По Невскому проскакала верхом женщина без шляпы, с обезумело радостным лицом. Отвевались её волосы.
* * *
Военные мотоциклисты! Они кажутся людьми будущего, людьми нового формирования. Их одежда особенная, долгие кожаные перчатки на руках и кожаный ремешок фуражки под подбородок. Они самоуверенны, могучи!
И разве угадаешь, что скрывается за их вихрем? Один лётчик всё носится на мотоциклете: на Жуковской у него дом отца, а в «Астории» снимает номер для любовницы.
* * *
Толпа замечательна и тем, кого в ней нет. И вчера, и сегодня на улицах совсем не видно священников. В храме отслужат службу – и по домам.
* * *
Выпить и опохмелиться! – только б найти где. Пьяных – всё больше в толпе.
Пьяные матросы флотского экипажа в Коломне врываются в квартиры домов, грабят.
Шайки подростков с револьверами и винтовками, солдатскими шапками. Много стреляют.
* * *
Дворник в жёлтой дублёнке с чистым фартуком подбирал деревянной лопатой комья кровяного снега. От снега шёл лёгкий пар.
204
Капитан Нелидов в квартире рабочего.
Нелидовского хозяина звали Агафангел Диомидович, и это имя тоже почему-то внушало безопасность.
Он пришёл звать к завтраку – после уличной проходки, свежий от морозца, крепкий, а уже с большой залысью, и тёмен годами и металлической пылью. Никакой радости он не выражал, как те вчерашние, с красными тряпками. Щёки его были сильно впалые, подбородок и взгляд твёрдые. Сказал из-под чёрных длинных усов:
– Не-ет, ваше благородие, и думать вам нечего идти: сегодня кипёт пуще вчерашнего. А вы не стесняйтесь. Только что теснота, не безсудьте. Отдыхайте.
Позавтракали – варёная картошка с подсолнечным маслом, капуста да солёные огурцы, пост. Кружка чая без сахара.
И опять хозяин ушёл, но не на завод – работы-то везде остановились.
И капитан Нелидов остался в своей крохотной комнатке с одним окном. Когда хозяин утром отнял ставню – открылся закуток неширокий перед чужой кирпичной стеной, замётанный грязным снегом, с фабричной сажей. И всё. В городе могли кипеть, перемещаться и кричать толпяные волны – здесь свисали с застрехи две сосульки, тоже уже грязные, не капало таяньем, не шевелился ветер, не залетал воробей – ничто.
А Нелидов проснулся сегодня рано, ещё в темноте, – и сразу потерял сон, в отдохнувшей голове зароилось, зароилось: что происходит? И почему он сам не действует? И что за положенье у него – пленного? интернированного? раненого? дезертира? Ни одна категория не подходила, ни на что не было похоже.
Снова и снова его прожигало вчерашнее. Не опасность погибнуть – но от русских солдат! И после такой сцены – как оставаться офицером? И в чём смысл погонов? И всей армии? Армия разваливается, даже если не исполнено одно приказание, – а если солдаты убивают офицеров?
Если б он был здоров – он конечно бы тут не улежал, он помчался бы в батальон глухой ночью, когда толп нет, где-то бы прорвался или отстреливался. Но он – пригвождён был своей онемевшей ногой, он и четверть воина не был.
День, кажется, был солнечный, но в этом закутке за окном не проявлялся. И теснота убогой чужой квартиры, как будто не в двух верстах от казармы, а где-то в другом городе, и говорить не с кем, никого своего, и бездействие, – такая тоска обняла Нелидова, не представить, как этот день протянуть.
Кроме кровати, комода, грубо обделанного мягкого кресла и простого стула, тут и мебели не было, не помещалась. На подоконнике малого окна, разделённого переплётом ещё вчетверо и без форточки, стоял горшочек с геранью. В углу висела небольшая тёмная икона Божьей Матери, под простым дешёвым окладом. А на комоде поверх белой кружевной дорожки стоял перекидной календарь на двух плитах, календарь-то насажен Семнадцатого года, а всё устройство – к трёхсотлетию дома Романовых: на левой плите изображён был Михаил Фёдорович, а на правой – нынешний Государь.
Вот и всё в комнатке, и книги ни одной. Да и не читалось бы.
Никогда Нелидов в тюрьме не сидел, но за этот день испытал тюремное: почти повернуться негде и смотреть не на что. И лежать тошно, и сидеть тошно. И в душе жжёт. Может быть, тогда тюрьма особенно и тяжела, когда сам себя держишь?
И даже не от тишины могильной была тоска, нет, – а от того, что за тонкой стеной всё время напевала квартирантка хозяев, молоденькая швейка. Когда работала машиной, то замолкала, и только слышалось постукиванье. Но как работа у неё была без машины – так тут же и напевала. Иногда песни простые, это ничего. Но то и дело запевала что-то революционное – Нелидов и песен таких не знал, но нельзя не догадаться.
Пыльной дорогой телега несётся,
В ней по бокам два жандарма сидят.
Сбейте оковы,
Дайте мне волю,
Я научу вас свободу любить!
И как привяжется к такому мотиву. А бодро напевала, с настроением. При малом оконце в кирпичный закуток – этот денёк, видно, светлый праздник был у неё, и упорхнула б она на улицу, если б не срочная работа, так добирала пеньем.
Этот весёлый голос и слова бунтовские через стенку – добавляли тоски.
Но и тем она не удоволилась – а стала оббегать и в комнатёнку к капитану.
– Ну как, капитан, – называла она его развязно. – Кончились старые времена?
И льняной локонок спадал на незамысловатое, глуповатое личико.
Сперва Нелидов понял так, что она издевается, и что она может сейчас побежать и привести сюда толпу на расправу. (Не боялся, как-то стало всё равно.) Но нет, она ему зла не желала, и не издевалась вовсе – это она хотела общей радостью поделиться, и удивлялась его безчувствию. Растаращивала глазёнки и рассматривала как диво, да странно и выглядели его золотые погоны в этой убогой квартирке.
– А это что у вас? – дотрагивалась до синего косого креста на груди, Андреевского гвардейского. – А что это за буквочки тут, не наши?
На концах креста стояли: SAPR – то есть Sanctus Andreas Patronus Russiae, – а кто это знал латынь? для кого писали, правда?
– Святой Андрей, покровитель России.
– А кто это тут на коне?
– Георгий Победоносец.
– А почему?
– А это герб Москвы.
– А почему Москвы?
– А потому что наш полк стал Московским за Бородинскую битву. Перед самой наполеоновской войной император Александр Павлович построил наш полк из Преображенского батальона, но сперва он назывался Литовский.
Швея взвизгнула радостно, как что-то поняла, убежала – и тут же вернулась с большим фасонным бантом из ярко-красной бязи:
– А вот вам, дайте я приколю.
Он в кресле сидел, недвижный, а она совалась приколоть бант рядом с Андреевским крестом и хихикала.
Нелидов отводил, отводил её руку и всячески объяснял, что нельзя, что не может.
Красный бант был ему как жаба.
Швея обижалась, убегала за стенку – и снова весело пела:
А что силой отнятó —
Силой выручим мы то!
И снова, как ни в чём не бывало, впархивала и пыталась прикалывать капитану бант, глупенькая что ли.
И кто ей это всё в голову вложил?
Надрывала тоску, по нервам пилила. Старался не слушать её пения.
Потом кончила шить – и ушла прочь, облегчила.
Когда становился у комода – смотрел на календарь. Рассматривал темноватое озабоченное лицо Государя.
У Михаила Фёдоровича были, конечно, свои заботы, но всё это отодвигалось в картинку историческим боярским костюмом. А Николай Александрович совсем как живой выступал из календаря.
И подумал Нелидов: он, всего лишь капитан, и то опустился в эту комнату чудом, странно сияли его погоны здесь. А Государь – был естественно, запросто вхож в каждый убогий дом. Вот был он свой и этому старому рабочему.
Почему-то же дал он прибежище офицеру. Рабочий и в рабочем районе перехоронял его!
А что ж? Рабочие – они серьёзные люди. Нелидов вспомнил, как в начале войны перед погрузкой с Варшавского вокзала отпускал своих мобилизованных питерских рабочих ещё раз попрощаться с семьями – и все до одного вернулись в срок. «Нешто не понимаем? – братьев сербов идём защищать от германца». Они и воевали отлично. Они – верные люди, но вот дали их растравить.
Часы тянулись, часы тянулись, такая тоска, будто и себя потерял, и всю жизнь потерял, и никогда уже ничто не вернётся. Уже хотелось любого худшего, только прорвать бездействие и плен. Не мог капитан Нелидов так закисать! В батальоне он хоть объяснениями помог бы порядку.
К концу дня вернулся Агафангел Диомидович – и сразу пришёл к гостю. Ещё вчера в привратницкой он явился такой чужой, из другого мира, – а сейчас вот сел на кровать, в тёмной суконной косоворотке, простоватая стрижка его, грубые волосы, большие залысины и укоренелая твёрдость, не поддающаяся возрасту и годам труда, – смотрел Нелидов на него с уважением и уже деля с ним общую часть. Как разгорожены и разделены сыновья одного и того же народа. Отчего?
Агафангел Диомидович исходил весь город, и Литейный, и Невский, и дальше, всё смотрел. Бушуют. Властей никаких не осталось во всём Питере. Хоть грабь кого хочешь. Пожары, расправы, безпорядочная глупая стрельба, шальными тоже убивают.
И никакая радость от виденного не освещала его.
– Ох, неладно будет. – И, подумав: – Ох, настрадается народ. – И, подумав: – Чего делают, никто не разумеет.
А как, с чего это началось? – хотел понять Нелидов.
– Поди не забастуй, – говорил хозяин. – Так выбьют гайкой глаз, мы сами их боимся. Их – кучка, а всем верховодят. Кто дерзок, тот и верх берёт, это завсегда. Ишь, чего удумали – всякую власть прогнали. Будто без властей жить можно.
Как же Нелидову выбраться?
Сказал хозяин: и думать нечего, разорвут в клочки. Сегодня ещё ярей народ, чем вчера, крови отпробовал. И казармы Московского уже всё равно сдались. А вот другие казармы, при конце Сампсоньевского, те отстреливаются. (Самокатный, сообразил Нелидов.)
Но не может же их батальон перестать существовать, и значит – не может там не быть офицеров. И – нужно Нелидову туда.
Ладно, вечером после обеда послал хозяин соседского мальчишку – поискать в Московском батальоне старшего и шепнуть.
Поздно мальчишка вернулся: капитан Яковлев велел капитану Нелидову с утра прибыть в казармы.
– Ладно, – смекал Агафангел Диомидович. – Есть у меня тут ломовик знакомый. Запряжёт да отвезёт вас с утра потемну. А я вас в свою шубу укутаю до казарм.
205
Ленартович наводит порядок на Каменноостровском. – Пешехонов основывает комиссариат.
Ещё по пути на Петербургскую, пока ехали, Пешехонов раздумывал, в каком же помещении устроить ему комиссариат. Это должно быть просторное помещение, с лёгким входом и выходом (он уже предвидел скопление, как в Таврическом), – и в самом центре Петербургской стороны. И выбрал он кинематограф «Элит» – рядом с квартирой своей, на той самой площади, где с Каменноостровским пересекаются Большой проспект и Архиерейская улица, – там, где вчера вечером в новизне возбуждения он в толпе встречал первые революционные автомобили.
Но сегодня этих автомобилей уже столько и по столько раз пронеслось по стольким улицам столицы, что вслед за восторгами стали они вызывать у жителей недоумение и даже раздражение. И когда автомобили нового комиссара подъехали к «Элиту» (он оказался заперт, ещё дворника искать и слать за владельцем), – увидели они, что Каменноостровский дальше вперёд к островам запружен такими автомобилями, утыкались один в другой и так стояли со всей своей празднично-революционной публикой. Прохожие сказали Пешехонову, что там впереди кто-то не пускает и проверяет.
Это понравилось Алексею Васильичу – и вот было сразу первое применение его военному отряду, пока всё равно делать нечего. Он подозвал прапорщика Ленартовича и сказал ему:
– Голубчик, пойдите со своим отрядом вперёд туда и помогите этому славному делу. Ведь со вчерашнего дня любая компания приходит к любому владельцу, требует ключ от гаража и шофёра, якобы для революционных надобностей, – и отправляется кататься по городу. Ещё и барышень с собой прихватывают, очень приятное занятие. Ну, куда, в самом деле, они сгрудились, все на острова – что там делать? Так вот – помогите силой. Надо проверять у каждого удостоверение, и у кого нет настоящего права – тут же ссаживать и автомобиль отбирать. Именем комиссара Петербургской стороны. Кстати, и у нас появятся лишние автомобили.
Хотя это задание не шло вровень со вчерашней задачей взять Мариинский дворец и с сегодняшней возможностью атаковать Инженерный замок, но тоже в нём был большой революционный смысл, который Саше понравился. И он тут же звонко позвал свой десяток солдат, выстроил его в две колонны в затылок, винтовки на ремень, – и повёл за собой, иногда громко командуя своим, иногда командуя впереди разойтись. За все годы своего пренебрежения военными командами и строем он брал насладительный реванш именно сейчас – когда все вокруг стали строем пренебрегать, ходить врассыпную, даже расстёгнутыми, и таскать винтовки как лишние палки.
И с изумлением Саша заметил, какую силу имеет военная дисциплина против распущенности: тут были сотни солдат, на Каменноостровском, в этом заторе и на тротуарах, а Ленартович вёл всего десяток, – но им давали дорогу и смотрели с уважением. А когда они дошли до переда, то их появленье сразу изменило всё положение: там был какой-то настойчивый штатский с красной повязкой на рукаве (потом оказался с удостоверением Военной комиссии останавливать и отбирать бездельные машины), и был подпор публики, раздражённых автомобилями, среди них и отдельные солдаты, может быть из зависти, – но у автомобилистов численность была больше, глотки сильней, и было что терять, они и матюгались сильней, и размахивали кулаками и штыками, и, наверно бы, вот-вот-вот прорвали, если б не отряд Ленартовича. Он же, быстро оценя обстановку, ввёл свой отряд в самую гущу, в линию перед первым задержанным автомобилем, звонко скомандовал своей второй колонне выйти в продолжение первой (команды он точно не помнил, но солдаты поняли его), повернуться, взять ружья на изготовку – и так образовать цепь от сугроба до сугроба.
И хотя их было всего одиннадцать, но решительность офицера и безусловная подчинённость невзбунтованных солдат сразу оказали действие: кулаки убрались, штыки отвелись, забияки снизили голоса, стали пятиться, сперва сами, потом и с автомобилями, ругаться уже друг на друга, но не так легко было разманеврироваться и разъехаться этой шумной и трусливой ватаге. А Ленартович с тем штатским спешили проверять документы, ссаживать гуляющих, а шофёрам вручать клочки бумаги – «в распоряжение Военной комиссии», «в распоряжение комиссара Петербургской стороны».
Тем временем Пешехонов дождался хозяина кинематографа. Это был бельгийский еврей. Достаточно второй день видя петроградскую обстановку, он уже хорошо понял, что много не поспоришь, а тут действовали именем Совета Рабочих Депутатов, – и бельгиец без уговоров согласился безплатно предоставить комиссару свой кинематограф, на произвольное число дней, добавляя, что он как гражданин свободной и дружественной страны рад послужить, чем может, делу русской свободы.
Итак, группа комиссара вошла в пустое помещение и за первым же столом устроила совещание, как ей действовать. По сути – всё в распаде и брожении, и они тут – единственная власть, ближе Таврического нет другой власти. В кинематографе есть телефон – это хорошо.
Очевидно, надо было разделить направления работы и каждому стать начальником отдела. Эпизод на Каменноостровском подсказывал создать автомобильный отдел, недостатки продовольствия – продовольственный отдел. Кто-то будет делать объявления населению – значит, отдел публикаций. (Его захватил социал-демократ, смекнув, что можно будет вести агитацию.) Итак, все начальники отделов будут называться товарищами комиссара и носить на шапках кокарду из красной материи.
Достать письменных принадлежностей? Все лавки закрыты. Однако, увидав автомобили возле кинематографа, уже заходили любопытствующие – и скоро были доставлены чернильницы, перья, карандаши, бумага. Какие-то дамы соорудили из красных лент кокарды, накололи и Пешехонову на каракулевую шапку. Одна дама сбегала домой, притащила простыню, и, палочкой обмакивая в чернила, стали крупными буквами выводить: Комиссариат .
А Пешехонов сел писать объявление, что он, комиссар Петербургской стороны, имеет задачу водворить здесь свободу и народную власть, и аресты и обыски могут производиться только по его письменному распоряжению.
Тут откуда ни возьмись подъехал броневик – попросить у автомобилистов бензина. Объявили броневик мобилизованным для революции и назначили посылать его против грабежей.
206
Великий князь Павел у императрицы.
Великий князь Павел Александрович, младший сын Александра II, с двумя детьми от греческой принцессы, рано овдовел – а через 10 лет после того пожелал жениться на замужней Ольге Пистолькорс, вследствие чего тогда же был устранён Государем от командования гвардейским корпусом, даже лишён личного имущества (так строго – чтоб удержать от недостойного брака его племянника Кирилла), – и вынужден был выехать за границу. Детей же его, Дмитрия и Марию, взялась опекать царственная чета. Разрешено ему было вернуться в Россию лишь с войною, рвался в гвардию, но Государь медлил с назначением, а когда Павел вновь получил гвардейский корпус, то стал болеть – и был переведен в положение генерал-инспектора гвардии, уже не связанного с её дислокацией на фронте, жил в Царском Селе, где вместе со своею супругой, теперь продвинутой в «княгиню Палей», устроил и свой дворец, с богатыми коллекциями искусства.
Императрица Александра Фёдоровна, перезнакомясь, перебравши и постепенно отвергнув всю многолюдную династическую семью, кроме государева брата Миши, которому благоприятствовала (не без надежды восстановить отношения со свекровью), и безхарактерного воспитанника Дмитрия, теперь запутавшегося в убийстве Божьего Человека, – в сердце всегда делала исключение ещё для Павла, выделяла его из династии. После смерти своих братьев он был старшим в роде. Его нейтральность в семейных конфликтах вызывала уважение всей династической семьи, отчего, правда, фамильный совет и поручал ему выступать перед Государем с ходатайством об изменении политики, уступках думской банде, увольнении Штюрмера и Протопопова. Но сам Павел при этом никогда не интриговал, был искренен, не помнил зла, не обижался за своё семейное неравенство, был лоялен Государю, ничего не искал для себя, а честно хотел только служить России. И если отчасти иногда вмешивался то в пользу двуличного Рузского, то прямо против влияния Друга императорской четы, – это уравновешивалось его постоянным противостоянием Николаше, всегда за Государя, да и к Другу он не выказывал прямого недоброжелательства, а его льстивая супруга, надоедавшая своими выражениями преданности в надушенных письмах, выпрашивала прощение у императора также отчасти и через Друга. Среди великих князей даже было обвинение Павла в принадлежности к партии Григория. Когда Павел год назад сильно болел, испытал разлитие желчи, потерю веса, ему грозила смертельная операция, – государыня жалела его и для посещения больного даже переступала не вполне достойный порог дома княгини Палей.
После вспышки первого гнева, теперь-то стало ясно, что Павел никак не ответственен за действия своего сына Дмитрия – даже не больше, чем сама царская чета отвечала за него как за своего воспитанника. И несправедливо было приписать Павлу ответственность также и за другую соучастницу – падчерицу Марианну, ненавистницу Друга. (А ещё Марианна распространяла по Петрограду слух, что Государыня спаивает Государя. Не было меры всем клеветам, изрекаемым в двух столицах.)
Перед сегодняшними обстоятельствами отступали второстепенные обиды.
Шестидесятилетний Павел, с прирождённым достоинством вида, вошёл в гостиную. Он был строен, высок, импозантен, даже обворожителен, – молодой красивый старик под седыми волосами, в стильных высоких английских сапогах, ещё стройнящих его длинные тонкие ноги.
За прошлое – царица запретила себе держать зло. Но за сегодняшнее – не могла встретить его иначе как сурово. Генерал-инспектор гвардии, военный человек – что же смотрел он, когда его гвардейские батальоны бунтовали в Петрограде и даже были в смятении уже здешние, в Царском Селе? Который уже день мятеж – и что ж он предпринял? Выезжал ли он к войскам?
Сели за круглым столиком в её бледно-лиловом кабинете. В вазочке держались совсем засохшие цветы.
В лице Павла выражались и общая романовская породистость, и личная порядочность, и даже мужественная готовность, и он волновался перед императрицей, хотя пытался это скрыть. Но ничего разумного не мог ответить.
Что, к сожалению, генерал Чебыкин, командующий петроградской гвардией, оказался в Кисловодске. Что это вообще не гвардия – то, что сейчас в Петрограде.
Это ясно было, что не гвардия. В начале февраля Государь приказывал перевести в Петроград из Особой армии две кавалерийских дивизии – но командующий Округом отказался найти им место в Петрограде или даже в окрестностях. Да и Государь не настаивал, чувствительный к тому, чтобы армия не обижалась на гвардию. Тогда и перевели Гвардейский экипаж в Царское Село.
Но и явно было, что Павел плохо понимал, что и где происходит в городе. Государыня спрашивала его о подробностях, а он ответить не мог – он все эти дни просидел со своей женой в своём дворце! (А княгиня Палей сумела и двух своих сыновей выпросить с фронта в тыл…)
Ах, сколько раз сама царица смотрела гвардейские парады! Каким несокрушимым оплотом виделись эти все герои! – и куда ж они все подевались в грозную минуту?
– Так почему же нет у вас настоящих полков?! – воскликнула она в отчаянии.
– Не распорядился Государь…
Необъяснимо: по какой случайности, недоговорённости, среди пятисот важных государственных обстоятельств – упустили, не довели до решения это пятьсот первое? И сама она упустила настоять.
– Так почему не вызвать гвардию сейчас?!
– Ваше Величество, это не в моих правах. Как генерал-инспектор я заведую только хозяйственной частью гвардии.
Да, вот, он носил великолепный гвардейский мундир, и состоял на службе, и был отроду военный человек, – а которые сутки спокойно оставался в Царском Селе?
– Так езжайте на фронт! Так передайте им и привезите сюда преданные полки! – властно восклицала государыня. Она ждала мужской поддержки – но Павел сидел благородно-опечаленный, и мужская сторона опять оставалась за нею.
Павел ответил, что было бы непростительным своеволием ему ехать на фронт за войсками, для этого есть Ставка.
Но на лице его выражался стыд – и безсилия, и непонимания событий, да может быть и слабости возраста.
И государыня, позвавшая его с импульсом прощения, сейчас опять испытала укол обиды. И сказала величаво:
– Если бы императорская фамилия поддерживала Государя, вместо того чтобы давать ему дурные советы, – то этого бы не произошло!
Павел выпрямился, сидя, и отчётливей проступила породистость его благородного лица:
– Ни Государь, ни вы не имеете оснований сомневаться в моей преданности и честности. Но время ли вспоминать старые размолвки? Сейчас надо добиться скорейшего возвращения Государя.
– Государь – возвратится завтра утром, – холодно ответила Александра Фёдоровна.
– Так я встречу его на вокзале! – с пылкой готовностью воскликнул Павел.
Это правда, он обожал Государя. Это правда, он был лоялен.
И только.
Ещё и суетливость была за ним.
Его можно было и не вызывать.
Отпустила.
Но – на кого же ей опереться?
Ведь все покинули, и никто даже не телефонирует.
Настроение во дворце падало. Волновалась свита, волновалась прислуга.
Как дождаться завтрашнего утра!
Пришёл доктор Деревенко из лазарета, рассказал, что по Царскому бродят без строя растрёпанные солдаты, фуражки на затылок, руки в карманы, – и хохочут. (Да несколько казаков могли бы их разогнать!) Но офицеры жмутся или прячутся. А все железные дороги захвачены революционерами.
И непонятно, как проедет Государь.
Но тут доставили от него телеграмму.
Из Вязьмы.
«…Надеюсь, вы спокойны. Много войск послано с фронта…»
Ну, слава Богу, выручка идёт! Переждать несколько часов.
Дворец был сильно защищён постами и патрулями.
А погода над Царским была изумительная: лучезарное солнце, голубое небо, безмятежный снег.
В такую погоду не может совершиться злодеяние, Бог не допустит.
207
Группа межрайонцев. – Их действия в феврале. – Матвей Рысс сочиняет листовку.
Межрайонцы – оказалась самая боевая, деловая, напористая партия изо всех социалистических. Она возникла как протест, что честолюбивые вожди в несколько раз раскололи, развалили нелегальную социал-демократическую партию. Возникла – как «3-я фракция», «объединёнка», объединить партию снизу, принимать в себя желающих и большевиков и меньшевиков, кто признаёт нелегальные формы работы, отметать только ликвидаторов подполья. Межрайонцы не гнались за звучным названием, ни за многотысячностью рядов (было их всего человек 150, хотя в плане имели стать всероссийской организацией), не имели даже своего ЦК, но зато – великие задачи. Для того чтобы делать большие дела – и не нужна многолюдная партия, а – энергичная. Очень укрепились, когда в партию вошёл Карахан, с его помощью искали связей с эмигрантскими вождями, с особенной симпатией отнёсся к ним Троцкий.
От начала войны их лозунг сразу был – «долой войну», а затем и «превратим империалистическую в гражданскую». Так что получалось даже, что в лозунгах у них с большевиками и противоречий особых нет – но не хотели поддаться их расслабленному Петербургскому комитету и призрачному швейцарскому ЦК.
Так что когда Матвей Рысс этой осенью перешёл от большевиков к межрайонцам – он не испытал никакой измены лозунгам. Правда, во главе партии Кротовский никак не был светило, даже совсем слабая голова, и суетлив, но хорош был общий энтузиазм межрайонцев, хорошо поставлено типографское дело, много листовок, умели забастовки устраивать и деньги для них находить. Да как раз в те дни и большая группа студентов-психоневрологов повалила к межрайонцам, друзья Матвея: «Вдохнём неврологический дух!» Все они обожали рабочий класс.
Девиз межрайонцев был: качай, качай – когда-нибудь и раскачается. Одной из главных задач они считали – вести пропаганду в армии, и проникали в разные части, расквартированные в Петрограде, а с Кронштадтом имели постоянную хорошую связь.
В институте на лекциях Матвей не густо бывал, как и его приятели, – да институт был частный, руководство либеральное и зажмуривалось, чем там студенты на самом деле заняты. От месяца к месяцу этой зимы всё больше овладевало Матвеем нетерпение действовать. Эта внутренняя страсть-нетерпячка изжигала его изнутри, и была бы в Петрограде партия ещё боевей – он перескочил бы туда. Этой зимой Матвей вошёл в такое состояние, что ненавидел всякую обычную жизнь, всякий кусок обычной жизни воспринимал как примиренчество с треклятым режимом. Он дошёл до такой неистовой грани, что если не возникнет народного движения, то он должен сделать что-то сам или с ближайшими друзьями. Такие тяжёлые общие тучи разочарования и озлобления нависали над столицей и такая, например, всеобщая радость от убийства Распутина, – всё это не могло пройти безследно, он надеялся на что-то крупное!
А пока писал, писал листовки, вкладывая в них всю страсть: «Пируют во время чумы народного бедствия!», «Сама царица торгует народной кровью и распродаёт Россию по кусочкам», «Долой преступное правительство и всю шайку грабителей и убийц!»
Все дни февральских волнений Матвей Рысс носился – и не столько по поручениям Кротовского, который изрядно сдрейфил, не верил в успех движения и предлагал умерить пыл рабочих, – сколько по собственной инициативе: то снимал рабочих на забастовку, то сколачивал демонстрацию, то из толпы на тротуаре, как бы из городской публики, кричал оскорбления полицейским, бросал в них камни, а один раз и сам выстрелил из карманного револьвера. Попеременно с другими молодыми межрайонцами выступал и с речами (он говорил почти так же легко, как писал) с постамента Александра III на Знаменской, и с парапета у Казанского собора, а когда разгоняли – бежал в толпе, и было весело. Он выкрикивал всё те же лозунги: дайте хлеба! дайте мира! долой войну! долой царя! – и всё же до воскресенья вечера никак не думал, что дело разовьётся, а только понимал как раскачку для будущего. А когда узнал о волнении павловцев – кинулся проникнуть в их казарму, но уже она была оцеплена войсками.
И к волынцам тоже посылали листовки в казармы, и какие-то волынские унтеры пару раз приходили на пропагандные занятия, но никакого особенного внимания им, кажется, никто не уделял, – и то, что они выступили и повлекли за собою других – это был просто подарок судьбы.
И так выдохся Матвей за все эти дни, что утром 27-го как раз и заспался на отцовской квартире, на Старо-Невском. Никто его не разбудил, он почти полдня и проспал, пока уже начали очень сильно стрелять, и поблизости. Очнулся, умылся и, едва позавтракав, побежал в события. А события-то раскатались ого-го! И он из первых разгадал буржуазных подсыльных, зовущих революционную толпу повернуть с приветствиями к Государственной Думе. Ещё чего! Безо всякой связи в этот час со своей партией отлично понял Мотя Рысс всё коварство этого приёма: не-е-ет! уж сметать будем одним ударом вместе – и царское самодержавие и Государственную Думу!
И он кричал до надрыву, спорил – и две больших группы отговорил, повернул от Думы прочь.
А тут сгустилась перестрелка с правительственным отрядом на Литейном, и Матвей поспешил туда, как раз при неудачной автомобильной атаке революционеров. Правительственный отряд крепко держался много часов под командой высокого полковника с чёрной бородкой, много раз в него стреляли, да всё промахивались. По ту сторону командовал полковник, а по эту – никто отдельно, и всё зависело – кто на каком участке что сообразит. Матвей так понимал, что военный перевес всё равно у отряда, поскольку у них единое командование. А у нас перевес в агитации, и агитацией мы их сломим, каждого, кто с винтовкой против нас стоит, – надо кричать-агитировать. И своего горла он не жалел, и других призывал, были и другие студенты, – и каждый довод и каждая насмешка ослабляли солдатские сердца в строю.
Через несколько часов, к темноте, пересилили тот отряд на Литейном, он сломался и спрятался в здании Красного Креста. Теперь надо было довести победу до конца и выгнать их оттуда, а главное – схватить и перед всеми на улице расстрелять этого зубра-полковника. Повстанцами – никто не командовал, командовал всякий, кто хотел, а слушался тоже только кто хотел, потому и разброд получался. Но всё же, после выхода оттуда солдат, обложили этот дом с нескольких сторон на всю ночь, установили посты и дежурства – и новым подходящим Матвей объяснял, какой тут зверь сидит, которого надо выловить. Сам он на несколько часов уходил поспать, и опять пришёл к утру. Кто ночью дежурил – уверяли, что никак ускользнуть не мог. Но когда утром собрали силы и вошли в дом с обыском – оружия много нашли, а полковника не оказалось. Значит, ускользнул, переоделся. Жаль.
Так почти за одной этой осадой на Литейном и провёл Матвей едва не всю революцию.
А вот досада, что упустили!
После этого отправился он сегодня на явочную квартиру в Свечной переулок – уже теперь расконспирированную – спросить Кротовского, что ему надо делать. Он слышал, что студенты создают городскую милицию, но и сам понимал, что это вздор, в буржуазных руках. Кротовский сказал:
– Товарищ Рысс! Поведение ваше было правильным. Главная задача вырисовывается: борьба с офицерством и особенно с активным. Мы можем углубить и продолжить революцию, только если подорвём офицерство. А иначе у нас не останется солдатской массы, она опять подчинится им. Поэтому надо срочно дать – сильную листовку против офицерства, так чтоб им выбивали зубы и кололи штыками. Такая листовка – сейчас всего важней. Займитесь, вы лучше всех пишете.
Это было и лестно, и правда. И хотя жалко было даже на несколько часов оторваться от живого вихря революции, но чтоб он вертелся ещё огненней – надо было посидеть над листовкой.
Матвей пошёл домой, на Старо-Невский. Отец его был присяжный поверенный, квартира была из многих комнат, и родители давно привыкли к самостоятельной жизни сына, не вторгались, не мешали.
Уже по пути он чувствовал, что – сочиняет, что в нём поднимается то яркое чувство, которое нужно для листовки.
Особенно – для её вступительной части. В каждой листовке должна быть вступительная часть, которая сдирает кожу с нервов у читателей – и после этого они уже более восприимчивы к лозунгу. И главный талант – написать вот эту вступительную часть, вот это умеет – редко кто, а самый-то лозунг поставит любой партийный комитет.
Начать так: Товарищи Солдаты! (и Солдаты – с большой буквы). Свершилось!! Восстали вы, подъяремные… Даже сам вздрогнул от этого замечательного слова – подъяремные, закабалённые, крестьяне и рабочие восстали! – и с треском и с позором рухнуло самодержавное правительство!
Хорошо, прямо как разрыв снаряда! Остановился и в записную книжку записал, а то забудешь, пока дойдёшь. Поправил кашне, забрался к шее мороз, пошёл дальше.
Ну, конечно, шайка слуг царского самодержавия – это тоже не упустить. Но поскольку солдаты – большей частью крестьяне, надо развивать крестьянскую тематику. А крестьянская мечта известна: чтобы было где пасти корову и курицу. Итак: в то время, как казна и монастыри (антиклерикальная струя всегда должна присутствовать) захватывали землю, в то время, как паны-дворяне с жиру бесились, высасывая народную кровь, – многомиллионное крестьянство пухло от голода: курицы некуда выгнать обезземеленному мужику!
Эта курица, от Толстого, очень тут пришлась: так пронзительно, жалостно звучит.
Записал. Длинная фраза, пальцы тоже мёрзли.
В увлечении он шёл, не замечая уличного. В нём совершалось важней.
Солдаты! Будьте настороже, чтобы паны-дворяне не обманули народ! Лисий хвост нам страшнее волчьего зуба…
Ах, хорошо станут и хвост, и зуб!
Горничная сказала Матвею в прихожей, что восстановился телефон и с тех пор два раза звонила ему Вероника.
– Ладно, – ответил он. Велел подать обед ему в комнату и пошёл работать.
208
Помилование офицеров-самокатчиков.
Тройка молодых офицеров-самокатчиков, взятых в бою на Сердобольской, отдельно от батальона, находились в состоянии паралича соображения: им крикнуто было, что их расстреляют, и это не вызывало у них сомнения: при обстоятельствах, как взяли их, при всей слышанной ярости толпы. И первые минуты они ехали в грузовике, мало оглядываясь и не соображая, что делается вокруг: это уже не касалось их жизни, революция или не революция, это уже был другой, остающийся мир.
Их спаситель, амурский казак, с ними не поехал, а везли их матросы и студенты. И матросы спорили, что нечего того казака слушать, нечего везти их в Государственную Думу, а хлопнуть тут, на пустырях Выборгской стороны. А студенты возражали, что должен быть справедливый революционный суд.
А мысль о побеге как-то не поднялась, устали, ещё гудело в ушах от утренней стрельбы. Да и вокруг – всё толпы, с флагами и штыками.
У самого Таврического было полное столпотворение: стояли орудия, автомобили, горели костры, играли оркестры, толпились солдаты, произносились речи.
Как не радовала эта чужая радость. Даже как особенно горько умирать при всеобщем ликовании.
В самый дворец долго не могли их ввести: разгружались два грузовика – один с мясными тушами, другой – с несгораемыми кассами, и всё это таскали внутрь дворца штатские и солдаты.
А тут из толпы, видя арестованных офицеров, угрожающе кричали, легко могли смять и конвой. Уж хотелось, чтобы ввели скорей внутрь.
Ввели. Пробивались через толпу, мимо наваленных штабелей ящиков, по видимости оружейных, мимо столов, за которыми сидели барышни при брошюрах.
А дальше – под сильной охраной рабочих-красноповязочников стояла группа своих же офицеров-самокатчиков, из Сампсоньевских казарм. Одни были сильно избиты, другие – в солдатских шинелях, видимо переодевались, чтобы скрыться.
Пока толклись, стесняемые людскими течениями, перебросились с ними несколькими фразами. Узнали, что Балкашин убит, и ещё 8 офицеров и много самокатчиков. Те тоже сказали, что есть приказ Родзянки – их расстрелять.
Упали сердца, угроза не пустая. Боже, как тоскливо!
Теснились дальше. Вошли в огромный зал со многими колоннами, студенты растерялись, куда их дальше вести.
И вдруг увидели и узнали сразу – и конвоируемые, и конвоиры – по газетным портретам: Милюков! Шёл, тоже пробивался, мимо.
Его твёрдо-круглому лицу, усам и очкам обрадовались как родному. И в один голос воскликнули два подпоручика:
– Павел Николаич!
Остановился.
– Правда, что нас расстреляют??!
Смотрел умно через очки:
– За что? Кто вы такие?
– Офицеры самокатного батальона…
Покачал, покачал головою с седоватым зачёсом набок:
– Господа, господа! Как же так? Почему же вы так упорно сопротивлялись новой власти? Все части гарнизона сразу признали новую власть, а вы…
– Да Павел Николаевич! – с надеждой и радостью возражали самокатчики, просто уже полюбили его за эту минуту. – Мы же не знали, что тут делается – в центре, в Думе. Откуда мы знали? Сообщение всякое было прервано. А мы – военные люди, мы на службе… Как же мы можем сдаваться неизвестным лицам?
– Во всяком случае, расстреливать вас никто не собирается, кто это вам сказал?
– Тут наши товарищи стоят под конвоем, говорят: приказ Родзянки.
– Да ну, что за чушь. Где стоят?
– Вон! Что ж нам теперь делать, Павел Николаевич?
– Если вы даёте слово, что не выступите с оружием против новой власти, то вы, господа, свободны.
– Ну конечно не выступим! Ну конечно даём!.. Спасибо, Павел Николаевич!.. Так отпустите и наших товарищей.
– Хорошо, сейчас посмотрю. А вы получи́те охранные пропуска у коменданта дворца.
Вместе с подружневшими студентами пошли искать коменданта. Долго искали. Это оказался в терской казачьей форме, с лихим заносчивым видом депутат Думы Караулов. Он подписал им пропуска.
Однако куда же деваться? Казармы все разбиты. Появляться там нельзя – всё равно расстреляют.
Но теперь студенты пригласили их в Политехнический институт:
– Будете обучать нас военной службе.
209
Порыв Нины Кауль. – Андозерская в бездействии. – Ленартович приходит с обыском.
Прошлую ночь Ольда плохо спала, всё вламывалось в сон кошмарами, выпирающими углами. А утром рано к ней прибежала Ниночка Кауль – и с блистающими глазами, в возбуждённом, лихорадочном состоянии жаловалась, что мама не пускает её поехать в Ставку, к Государю!
– Да зачем же, Ниночка?
– Его никто не защищает! Ему надо помочь!!
– Да у него же там Конвой, все войска, да что ты!
– Нет! Ему надо помочь! Я так чувствую!
– Да чем ты ему поможешь?
– Не знаю, там увижу! Я чувствую, что он в ужасном состоянии! И – никто не защищает его! Пусть сядет на белую лошадь и въедет, как его прадед!
– Да откуда ты взяла? Да он – в центре своих военных сил! Он – и въедет!
– Ах, нет! – металась Нина, и из причёски её под узел безпомощно по-девичьи выбивались всегда плохо держащиеся пряди, завернулся манжет рукава. – Нет, я уверена, что он ничего не знает!
– Да как же он может не знать? На это теперь есть телеграф.
– Ах нет, наверно не знает! Здешнего ужаса! А почему ж ничего не…? Ему, наверно, плохо докладывают!
Её стремило, чуть не по воздуху: она там нужна! вот она поедет! – и прорвётся к царю! и – убедит! Но – для этого прежде надо убедить маму! А это может сделать только Ольда Орестовна одна!
Девятнадцатилетняя Нина окончила Смольнинский Александровский институт для детей средних офицеров, совсем не знать, и была теперь медичкой-курсисткой. Ольда Орестовна хорошо знала всю семью. Отец Нины, подполковник, был убит в прошлом году на войне, брат уже на фронте, Нина осталась вдвоём с матерью.
Как будто что вселилось в неё, дающее силу неежедневную. Она уже сейчас тут, наперёд, высказывала, как выскажет Государю, что бунтует только чернь, и надо скорей применить крутую власть! И прямо сейчас утром Нина бы выехала, к вечеру была бы в Могилёве. Курсы прекратились, все зовут помогать революции – вот бы и она! Но мама…
Ольда Орестовна была отзывно и укорно тронута. А – что же? а – да?.. А разве не так проповедывала и она: слаб по рождению? – усилим его нашей верностью?.. Но она брала Нину за руки и удерживала её, усаживала за стол, вливала чаю. Девушка была в таком взлёте, что не могло бы опустить её просто «нет» – надо было постепенно представить ей все трудности и невозможности.
Она же – видела этих распущенных солдат? Они же, наверное, и на вокзалах, они и в поездах, – как же можно ехать одинокой барышне, обидят! И – разные патрули будут её задерживать. И – в самом Могилёве. Но даже если доедет благополучно – кто же пустит её в Ставку? А к самому Государю – и никак не пустят! Почему можно надеяться, что он её выслушает? Так не бывает.
У Нины было к Государю почти личное. Когда-то отец её, кончая петергофскую стрелковую школу, представлялся царю. Там их была сотня офицеров, а за годы тысячи таких представлялись. Но вот в войну брат Нины, ещё тогда кадетик, разгружал раненых на псковском вокзале, подошёл царский поезд, Государь спросил фамилию и сразу: «А твой отец кончал петергофскую школу в таком-то году? Будь как твой отец». И мальчик заплакал. А сестра верила теперь, что и её узнает.
Ольда Орестовна сдвигала, сдвигала горы препятствий вокруг девушки – та гасла, никла. И заплакала, уронила голову на стол.
Убрела разбитая, мёртвая.
Жалко было Нину – но и презренно жалко саму себя. Что сама она, имея больше сил и ума, тоже не может ничего сделать. Что эти три дня? Только разговаривала со знакомыми по телефону да сокрушалась. Увлечь курсисток по пути и чувствам Нины? – не только было невозможно, а, позорно сказать: Ольда Орестовна боялась своих курсисток, собранных вместе, в массе, почти как этих развязных уличных солдат. На своём-то университетском месте она меньше всего могла и сделать. Да Бестужевские курсы и рассыпались вчера.
Стала сегодня звонить Маклакову. В самом центре вихря и с его проницательным взглядом, он должен вернее всех понимать ситуацию. С четвёртого раза нашла – не дома, не в Думе, а в министерстве юстиции. Устал, торопится, неловко и задерживать.
– Василий Алексеевич, но есть ли надежда, что вы удержите движение в руках?
– Стараемся. Надеемся. Поручиться, однако, нельзя.
Если и они не удерживают…
Да что ж за заклятое такое положение, когда никто – ни понимающий, ни сильный – никак не может отвратить роковой ход? Вот это она, стихия, самое неизученное в истории.
Силы порядка вне Петрограда – огромны, несравнимы со взбунтованным городом. Но уважая загадку стихии, но уже помня мгновенные параличи Девятьсот Пятого года – можно реально опасаться, что и силы порядка ничего не сумеют? Шестой день волнений, второй день настоящей революции – а что же Государь?
И это – при войне! При – войне!!.
На Петербургской стороне вчера ничего не случалось, лишь вечером прорвало сюда. Сегодня же – разлилось. И Андозерская выходила по Каменноостровскому, сворачивала и на Большой.
Великие события, больно не вмещаясь в отдельное человеческое сознание, чаще всего, вероятно, и кажутся отвратительны.
Поражала даже не мгновенная распущенность солдат, но, при тысячах красных клочков, всеобщий слитно-радостный вид. В этой внезапно достигнутой всеобщности чудилась безповоротность.
Хотя – как могла бы свершиться безповоротность? Куда же в два дня могла бы деться вся сила вековой державы?
Стояла на краю тротуара, глядя на беснование разнузданных машин, – рядом высокая сухая дама с беличьей муфтой сказала тихо, как бы для себя, но и для соседки:
– Умирает Россия…
Отдалась в глаза и слёзная горечь её.
Андозерская поддержала её твёрдо за локоть:
– Dum spiro, spero . Пока дышу – надеюсь.
Но – сражена была её словом. Уходя прочь с этих улиц, где осуждающий вид, и без красного банта, были особенно заметны, горячо перекатывала в голове: крайне выражено. И – неверно! Но и – очень верно.
Действовать надо всегда до последнего. Но и: действовать терпеливо и неуклонно надо было гораздо-гораздо раньше, в эпохи мирные.
Дано было нам – триста лет.
И дано было нам – последних двенадцать лет.
И значит, мы упустили их.
И наши сановники. И наши писатели. И наши епископы.
А уж сегодня – и вовсе их нет никого.
И что в этом безумии могла сделать Ольда Орестовна? Унизительно сидеть дома и узнавать по телефону о новостях.
К вечеру, однако, революция сама пришла в квартиру к Андозерской. Раздались одновременно резкий дверной звонок и резкий стук, значит в несколько рук. И едва горничная открыла, как, не спрашивая, а скорее толкая дверь, вошли несколько: два солдата, вооружённый рабочий – но и прапорщик, совсем с не зверским, открытым лицом, и даже весьма хорош собой.
Вошли – и дальше шли – и Ольда Орестовна вынуждена была поспешить, чтобы преградить им дорогу в комнаты. Все, конечно, были с красными бантами, и прапорщик тоже. И не снимали шапок.
– Чем я обязана? – спросила Андозерская ледяно, она и одета была не по-домашнему, а строго. – Почему вы входите без разрешения?
Все они были выше неё ростом – да кто не выше! – и настолько грубо сильней, и уже в движении, даже странно, что она могла их задержать. Прапорщик с чуть закинутой головой спросил:
– Это не из вашей квартиры стреляли? Мы должны обыскать.
– Вы не имеете права, – с холодным возмущением совсем тихо сказала Андозерская.
– Революция не спрашивает права! – звонко ответил прапорщик, упоённый собой, своими обязанностями и звуком голоса. – Она его берёт. Из этого дома очевидно стреляли, и мы должны найти виновника. У вас прячется кто-нибудь?
Её холод и гнев не производили впечатления, оттенков её выражений как и не слышали. Уже обтекали её или оттесняли, пошли в гостиную, в столовую. Уже были сумерки, сами поворачивали выключатели, кто умел.
Андозерская не воскликнула пустого – «как вы смеете?», она уже видела, что сила их, а захотелось ей как-нибудь ударить этого заносчивого прапорщика, он единственный ещё стоял перед ней, и она спросила его снизу вверх, с презрением:
– Как же вы, офицер, и перешли на сторону бунтовщиков?
Нисколько это не ударило его, он даже с победной весёлостью ответил:
– Не бунтовщиков, а народа, мадам! Моё офицерское положение как раз и обязывает меня – помочь народу, а не быть с его давителями.
Но лицо у него было умное, и стоило ещё сказать ему:
– Давители, гасители – в истории этим слишком много бросались. Не будьте чрезмерно уверены, не пришлось бы вам когда-нибудь пожалеть об этих днях.
Стоило сказать, но его молодые уши ничего этого не слышали.
Прошли с ним кабинет. Прапорщик среди выставленных игрушек, безделушек, картин кажется серьёзно искал чего-то крупного – спрятанного человека или винтовки. И когда она заступила ему дверь в спальню, он сказал непреклонно:
– Разрешите. Я должен.
С отвращением впустила его.
И тут он тоже искал человека или винтовки, но не открывал шкафа и не заглядывал под кровать. А увидел на стене фотографический портрет Георгия в форме, который Ольда этой зимой увеличила с карточки.
– О! Этого полковника я знаю! – сказал.
– Не можете вы знать! – осадила Андозерская.
– Нет знаю! – веселовато настаивал прапорщик. Он очень легко держался, будто не вломился в дом, а был приглашён как гость. – Его фамилия – Воротынцев?
Андозерская обомлела. И почувствовала, что краснеет. Она презирала этого прапорщика, а он как будто застал её тут с Георгием – и странно, что ей стало как-то приятно.
– Это ваш муж? Вот встреча!
Дерзкий враг, но причастностью к Георгию стал как будто знакомый. И такое счастливое чувство, что назвал его мужем, не ожидала сама.
– Откуда вы его…? – новым тоном спросила. – У него служили?
– Он – вывел нас, группу, из окружения в Восточной Пруссии. А где он сейчас?
– Вы много хотите знать, – потвердела она.
– Да нет, я что ж… – легко взмахнул он рукой. – Я только: если он будет противостоять революции и нам опять придётся с ним встретиться…
Вернулись в гостиную, где столпились обыскивающие.
– Ничего?
– Ничего.
– Пошли в следующую. До свиданья, мадам, извините.
Ушли.
Горничная кинулась ещё проверять. Как она с них глаз ни спускала, в столовой хотели серебро смахнуть в карман. Стала смотреть и Ольда Орестовна и обнаружила: в кабинете на столике пустой наклонный деревянный футлярчик – а часики с брелоком исчезли из него.
Наверно и ещё что-нибудь.
Нюра бросилась догонять их в соседнюю квартиру.
«А где он сейчас?..»
Так поспешно, обрывисто уехал. Так плохо кончилось в этот приезд.
210
Протопопов бредёт по городу. – На квартире у портного. – Монолог раскаяния. – Астролог считал по новому стилю.
С утра неизбежно было Протопопову освобождать место спасения, уходить из канцелярии Государственного Контроля. Швейцар принёс ему чаю с чёрным хлебом и гудел, что как бы его тут не нашли. Собирались служащие, потом пришёл и сам глава Контроля Феодосьев, спаситель, с напряжённым умным лицом. Он рассказал, что в городе полный хаос, война не война, ничего понять нельзя, но и власти нет. Поздно вечером мятежники ворвались в Мариинский дворец и безпрепятственно громили его. А вчера к концу дня арестован Щегловитов, Александр Дмитрич не знает? и так и не отпущен, а посажен в Таврическом под замок.
Боже мой, лучше бы не рассказывал! И так уж отмерло всё, не было сил двигаться и думать, даже для своего спасения, готов был Алексан Дмитрич тут же распростереться и умереть, всё легче, – но ещё эта разящая новость: они арестовывают! И – кого же? Самых ненавистных обществу и было их два, Щегловитов и Протопопов, и вот уже один взят. А его ищут, конечно, по всему городу – и через этот город он вынужден будет идти сейчас!
А остаться… ещё на сутки тут – никак не возможно?..
Боже, как всё мировое строение способно рушиться в какие-нибудь часы! Вчера он начинал утро всемогущим министром внутренних дел – а сегодня ловимым преступником, который ёжится в шубе, подняв воротник. (А не так и холодно, заметят, почему поднял.)
А государыня так надеялась на своего министра! Ах, Ваше Величество, простите, простите! Я упустил!..
Куда идти – одно он мог придумать: к брату. И там у него перекрыться или дальше ещё куда-нибудь. Но брат живёт – на Калашниковской набережной, надо пройти боком центр – а не избежать пересечь Невский.
Но переходить Невский абсолютно немыслимо – его не могут не узнать! Там-то его и схватят. А схватят – вряд ли оставят в живых.
Только сейчас он понял, что сделал ошибку вчера, в слабости: именно вчера в темноте и надо было пробираться к брату. Уже теперь он был бы надёжно спрятан, или вместе думали бы, как вырваться из города вовсе. А сейчас при полном свете он шёл одинокий и на верное растерзание.
Каждый нерв был напряжён. Каждую минуту он ждал – даже не что крикнут «Протопопов!», а что сразу схватят, просто вцепятся, как собака в бок. В тепле шубы он трясся мелкой непрерывной дрожью. И потел.
Всё-таки, с угасающим сознанием, он имел способность обдумать: Невского не пересекать ни в коем случае! Взять далеко дальше за Московский вокзал и как-нибудь где-нибудь пройти просто по железнодорожным путям и так переспотыкаться в Александро-Невскую часть. Может быть, там заборы, искать калитку, обратит внимание – но простых людей, они его не узнают, и уж там-то нет революционной толпы.
Вот истинный страх, вот самое страшное в мире – разъярённая толпа, которая тебя хватает!
Он будет выбирать только тихие маленькие улицы – но всё равно не избежать пересекать большие, и это самое опасное, где тысячи взглядов.
Первую надо было пересекать Гороховую. Чуть подальше от градоначальства, он пересек её у канала, сразу и канал.
Тут, на набережной канала, он увидел навстречу другого странного господина в шубе, невысокого, с воротником, поднятым чрезмерно. И покосясь глазами, узнал министра торговли и промышленности Шаховского.
Прямо глазами они не встретились, узнал ли тот Протопопова, может быть заметил ещё раньше? – но разминулись, не обратив друг на друга внимания.
Ай-ай, царские министры пешком по улицам шмыгают друг мимо друга, не замечая, – это что? Революция?
Но не было и желания разговаривать с кем-нибудь из министров: предатели, и не хотел он их знать. Он будет просить Государя и государыню о других коллегах впредь.
Он избрал самую простолюдскую дорогу, куда не то что министр, но и чиновник порядочного ранга не забредёт, – мимо Мучного рынка, так перейти Садовую, а потом мимо Апраксина. Конечно, шуба его здесь выделяется очень.
По Садовой проехал грозный бронированный автомобиль.
Когда умоляешь небо, чтобы тебя не узнали, то как-то стараешься и сам не смотреть, будто всё дело во встрече глаз. И поэтому Протопопов мало что видел, он не оглядывался и не всматривался. Но на рынках, кажется, и торговали, везли и несли продукты так же, как и обычно, и очереди за хлебом стояли, кажется, а была и какая-то странная оживлённая возня, то ли растаскивали лавку, очень разнородное несли и поспешно, и возбуждённо толковали.
Но, ах! До того ли было Алексан Дмитричу, чтобы вникать! Он только спешил пронести нерастерзанным своё уязвимое тело. Там и сям, на каких-то улицах, но не рядом, время от времени стреляли. Но даже от выстрелов не так вздрагивал Протопопов: если пуля попадёт – так и пусть, это не страшно, страшно, чтобы не схватили. Пока шло всё благополучно, никто его не задевал, но нужно было не ошибиться дальше. Думал взять левей, но сообразил, что это получится Чернышёв переулок, Чернышёв мост – прямо-таки мимо собственного министерства! Вот бы угодил! Вот уж где растерзали бы!
Перешёл Фонтанку на Лештуков переулок, опять благополучно. Слава Богу. До сих пор не встречалось революционных шаек – но навстречу от Загородного проспекта неслось что-то бурное, многошумное, – а надо было его переходить! По спокойному Лештукову шаг замедлил, глаза поднял, смотрел вполную, остановясь перед углом.
Проспект был переполнен. На тротуарах, да и на мостовой, всё запружая, стояли и смотрели, как на праздничную процессию, – а пробирались в сторону центра несколько открытых грузовых автомобилей, на каждом торчали красные флаги, держали их и в руках, помахивая толпе. В каждом кузове было избыточно полно солдат и штатских, и солдаты трясли винтовками и кланялись толпе – а толпа непрерывно кричала «ура», и многие снимали шапки.
Не то что воротники у всех были отложены и руки разбросаны – но они ещё снимали шапки. Уж как наверно виден был нахохленный, задвинутый господин! – очень опасный момент. Спасало то, что стоял он в переулке, позади всех. А как автомобили прошли и весь проспект залился праздничным народом, – так Протопопов отложил воротник и решительно двинулся в толпу, тоже стараясь весело улыбаться.
Это его и спасло, наверно, – улыбка, а она у него исполнена шарма, кого не покоряла, – его видели, ему тоже улыбались, и кто-то поощрительно что-то крикнул, и тогда Протопопов приложил руку приветственно к шапке, как бы передавая радость, едва не сняв шапку и сам. Напряжённый струной, а сам улыбаясь, он прошёл это жуткое море веселья, а когда, уже на той стороне, вдвинулся в тихую улицу – почувствовал, как вспотел и безконечно ослаб. Он уже вступал в привокзальный район, уже много было пройдено, но ещё больше оставалось, и неизвестно, сколько опасностей, – а силы отказали. Нет, он должен был где-то отдохнуть, прийти в себя от напряжения.
И тут счастливо вспомнил, не отказала же голова: рядом, на Ямской улице, жил портной, у которого он когда-то, ещё просто думцем, шил несколько раз. Отчего не зайти к портному? Портной не знает, что он заклятый министр внутренних дел, но знает, что богатый исправный заказчик.
Да! отдохнуть! Он не помнил номера, но зрительно помнил и дом, и подъезд, и как дальше. И, по мрачной петербургской лестнице поднимаясь, вспомнил даже имя: Иван Фёдорович.
Звонок был – дёрнуть толстую проволоку, а там отзывался колокольчик. Сам Иван Фёдорович и открыл, неизменный: в домашней куртке, сантиметр через шею, за ухом мелок, и повреждены губы, от чего улыбка неровная.
Сразу узнал, память, и даже по отчеству – Алексан Дмитрич, и кинулся помогать шубу снимать. Подумал, значит, – с заказом. Мелькнуло у Протопопова – сделать заказ? Но не было душевных сил на игру, он почти рухался. И честно сказал портному с надеждой, как хватаясь за плечи его:
– Дорогой Иван Фёдорович! Мне худо. Мне надо посидеть, отдохнуть, приютите меня на часок.
Промелькнуло по несимметричному лицу, но ничего не переменил Иван Фёдорович, а так же готовно вёл и усаживал и, догадываясь, бранил бездельников, бунтарей – стреляют, лавки грабят и всю жизнь остановили.
Надо было отвечать, и даже отвечал, хороший человек, ни тени робости от посетителя, великая душа в теле простолюдина! Насколько он ближе к Богу и правде, чем мы. И жена его подошла толстая: вам попить? покушать? О, безкорыстное радушие, о, простонародная теплота, но хотя ничего Протопопов не ел сегодня – ничего и не мог, всё отбило, а больше всего хотелось не говорить и чтоб не смотрели, а голову обронить в руки, повиснуть на своих костях и как-нибудь отдохнуть, сил набраться.
А они считали, что надо его разговором развлекать, и всё говорили невпопад, теперь про полицию что-то невозможное: будто полицейские имеют пулемёты и стреляют с крыш; будто они переодеты в солдат; будто городовые осаждены в «Астории»… Они не догадывались, как верно ему говорить: ведь образованные все против полиции. Он ещё слышал безсвязно, тоска брала от этого вздора, но не шевельнулся возражать.
Не мог он сказать – не разговаривайте со мной, но, видно, очень плохо выглядел, и жена догадалась: не хочет ли он в спаленке прилечь? да не вызвать ли доктора? На доктора и руками замахал, а прилечь – если разрешите. А если…?
И решил им открыться. Вот, дал им адрес брата. Нельзя ли послать кого узнать: как там, у брата? Безопасно ли?
Повели его в спаленку. Две никелированные кровати под белыми покрывалами, всё окно заставлено цветами, две иконы в углу, лесная картина. Большой серый кот тут спал, его потревожили. И, сняв только ботинки, в изнеможении страдательном уже ложился Алексан Дмитрич поверх покрывала, головой на взбитый столбик подушек.
Так всё горело в нём, что отняло слух: кажется, иногда доносились выстрелы, и что-то говорили между собой хозяева, – но Алексан Дмитрич не внимал, всего этого как не было. Не один слух, отнимались у него и руки, и ноги, он не отдыхал, и не во вчерашней вечерней радости от безопасности, а почти умирал.
Заснул сперва, очень крепко, парализованный. Потом не выплыл из забытья, но – как вышвырнуло его наружу, сразу осветилось сознание – и безнадёжностью. Представилось ему собственное крушение, и министров, и арест Щегловитова, и взбунтованный Петроград, солдаты, броневики, – ещё всё, конечно, исправят здоровые части с фронта, но сколько дней до того и как дотянуть? Ведь он и сейчас должен вставать и идти, не мог же он теперь остаться у портного ночевать, жить до общего вызволения? (А хорошо бы…) Спасение было бы – вовсе вырваться из Петрограда, но разве можно появиться на каком-нибудь вокзале, да что там, наверно, сейчас творится, ад революционный.
Вшаркал портной, ввёл племянника. Бегал он к брату Александра Дмитрича, ответ: к нему нельзя, ждут сами обыска.
И ещё изнеможённей, безсильней откинулся Протопопов на подушках.
Да, он полностью в их руках. Думской головки. Своих бывших приятелей. Сам ли он – не думская головка? Что он наделал, как мог он покинуть их? Ради чего? Мишура министерской дутой должности, вот дунули – и в сутки её нет. А Дума – стоит, победительница! А он – не оттуда? А он – чей же был 10 лет член? Он там был 10 лет – а министром всего 5 месяцев, разве это перевешивает? Он был такой почётный видный думец, лицо общественности, что его допускали на тайные заседания кривошеинского кружка на Аптекарском острове. Он знал все интриги! В Прогрессивном блоке – не он ли был из лидеров? Да что там, да на сколько раньше – да Освободительного Движения не он ли был участник? Да как же он мог пренебречь этим славным прошлым – и ради какой жалкой иллюзии? Да кем бы он был сейчас в Таврическом дворце! – это к нему бы и приводили арестованных, кого-нибудь там. О, какая жестокая, неисправимая ошибка! А теперь – он в их руках, и с ним разделаются безжалостней, чем с кем бы то ни было!
Его всё больше лихорадило, он заворачивал на себя покрывало, чтоб угреться, одной подушкой пригрел между лопатками, ах, шубу сейчас сюда бы, но повешена в прихожей, и неудобно выйти взять. Да десять шуб навалить, такой внутренний холод, – о, как он попался, о, можно ли жесточе, – и какая чрезмерная будет расплата! Если б он всю жизнь был в правительственных кругах – другое дело, совсем и не обидно, – но так непоправимо оступиться!
И что его несло, зачем он так дерзко, ещё нарочито задирал Думу? – чтоб их раззлобить, сам распространяя слухи, что всё сделает без Думы, и землю раздаст крестьянам без Думы, и еврейское равноправие без Думы, и сам же хвастался, что это именно он арестовал Рабочую группу, хвастался, что подавит любую революцию безжалостно, – а зачем хвастался? А потому что – его самого раззлобили, зачем они так травили его? Разве нельзя было его назначение принять по-хорошему? ведь в первые минуты даже поздравляли!
Да, я делал ошибку за ошибкой! Но и вы, мои товарищи, делали ошибки по отношению ко мне! И моё незлобивое сердце не надо было так сразу добивать – оттого в нём и родились дурные чувства! А что я оберёг Александра Иваныча при аресте Рабочей группы, не дал арестовать и его – этого вы мне в заслугу не ставите? А что портрет Александра Иваныча с его трогательной надписью висел в моём кабинете до самого дня назначения в министры – этого вы мне уже не зачитываете? Конечно, теперь об этом уже никто не вспомнит. Конечно, теперь все будут правы, а только я один виноват больше всех. Но, господа, но, друзья, но, товарищи! – я просто заблудился в этом лабиринте! Я, конечно, вёл не ту политику, которую нужно было вести! Я совершил громадный промах и – поверьте, поверьте, Павел Николаич, это заставляет меня глубоко страдать! Я взял курс, который не подходил к настроению страны, – о, как я в этом каюсь сейчас, если бы вы знали! Да, я вёл себя исключительно вредно, я всё время эволюционировал не в ту сторону, куда нужно, – но ведь я же ваш ! я же ваш – плоть от плоти! Ведь вот, Михаил Владимирович на Новый год публично не подал мне руки – а чем я ответил? шуткой и забвением! Ах нет, я вижу, вы не вполне доверчиво ко мне относитесь, это меня сокрушает! Да, да, вы верно заметили – я хочу увильнуть? Я и сам это почувствовал, а вы каждый раз не давайте мне увильнуть. Что я пошёл в министерство – это была более чем ошибка, – это было несчастье! Несчастье всей моей жизни, теперь я вижу! Но в тот момент во мне играло честолюбие, оно бегало и прыгало – и я всё поступал непродуманно, несознательно! А роковая моя ошибка была – поверить, что надо сохранять тот режим до конца войны. Ведь я – не твёрдого характера, вы знаете, я сильно поддаюсь обстановке. Я попал в такую среду – и это моё несчастье. Сперва Распутин был мне неприятен, а потом я к нему привык. Ну, виделся раз пятнадцать, но дружен с ним я быть не мог. Да, трудно отрицать, во время министерства я поддерживал правых – но, поверьте, всегда без восторга, это была для меня сделка с совестью! Мне совершенно несвойственно быть крайне правым, это противоречит моему существу. Да, я в сердце своём всегда оставался радикалом, неужели вы этого не чувствовали?.. Да, я льстил и Маркову-Второму, о, какая низость, как мне это больно вспомнить! Да, я заискивал и перед князем Андрониковым, но я должен был обезоружить всякое вредное влияние… Распустить Думу? Не буду скрывать, в душе колебался, но никогда не пришёл к такому окончательному убеждению. А от момента, как я стал министром, – меня стали так поносить, меня стали так уничтожать, но ведь я тоже человек! Я был раздавлен! Или вам передавали, что я в разных компаниях обещал, что спасу Русь православную и разделаюсь с революцией? Но это я для красного словца. Уверяю вас! Хвастался? Ну, если хотите – хвастался. Но этому не надо придавать значения. Ах, Фёдор Измайлович, но вы всегда меня загоните в угол, да разве я брался когда-нибудь против вас спорить? Вы знаете, я не способен к связному изложению, я впадаю в область предположений, меняющих смысл всего происходящего. Господа, я усердно прошу указывать мне, что я должен говорить, я опасаюсь промедлением возбудить ваше неудовольствие… Да, я чувствую страшную тяжесть того дела, которое я на себя принял. Денежных шашней? Никаких. Да неужели я грешнее всех? В чём мой грех? Против закона я не грешен, а против всей своей жизни грешен, ибо сам не понял себя, и меня не поняли. А в Думе было моё спасение! И был бы сохранён работник для родины и счастливый человек. А теперь-то я болен, измучен. Я сделался каким-то чудовищем. О, вы всё, вы всё припоминаете мне… Павел Николаич, какой вы нехороший, Анна Сергеевна добрее вас, она бы так не стала… Я сравнивал себя со Столыпиным? Ну что ж, не помню, но вполне допускаю. Ах, друзья мои, я сам за себя боюсь, но со мной иногда бывает, что я соскакиваю … У меня бывают странные фразы, вы замечали это немного во время нашей парламентской поездки… Но тогда вы относились ко мне дружелюбно. А вы – поверьте, что я предан нашим общим прежним идеалам! Да, истинные задачи Думы – отвоевать права у монархии, и это расширительное толкование я не смел попирать. В этом я – виноват, виноват. О, я всей душой чувствую ваше благожелательное ко мне отношение… О, разрешите мне идти в окопы рядовым! О, пошлите меня в заразные бараки санитаром, а если я уцелею – то после войны судите!..
Что ожидает меня? Неужели – вечное заточение?..
Боже Всесильный, спаси меня!
Бумаги? Все бумаги я отдал такому жандарму Павлу Савельеву, вы его легко найдёте… Потому что это был мой самый доверенный человек… Ключи от несгораемого шкафа? Они – в столе, а вот, извольте, ключ от стола… Да, я всё сказанное могу подписать. Да, охотно, если вы так желаете… А почему 13-е число? Сегодня – разве 13-е? Сегодня у нас – двадцать какое? Ах, по новому стилю?..
Прокололо его и подняло. Сидел на кровати очумело. По новому стилю! – как же он не догадался? Астролог, конечно, говорил по новому стилю. И самые опасные дни его – 14-е, 15-е и 16-е – только начинались завтра!..
Значит, безполезна борьба, выхода нет. Надо идти – и сдаться на их милость. Сдать тело – но разгрузить измученную душу.
Щегловитова арестовали – теперь пойдёт и он. Сам…
Но просить портного, и жену его, и племянника – сопровождать. Чтоб не растерзали по пути.
211
Как вовлекло князя Львова в политическую карьеру. – Нынешний вызов в Петроград. – Смятение «красного князя».
Не первый сам князь Львов назвал себя главою будущего русского правительства: его назвала, выдвинула, короновала общественность, более всего московская, но и всеземская, изумлённая волшебной деятельностью Земского союза в эту войну. Гнёт всероссийской популярности был возложен на его плечи единодушным общественным восхищением, и, хотел князь Георгий Евгеньевич или не хотел, – он стал надеждой русского народа. Как и сам русский народ был путеводной надеждой князя.
Разгромна была Японская война – а князь Львов воротился оттуда с приобретенной славой общеземского организатора. Возникал в иных губерниях голод – он только ещё прославлял организацию князя Львова. В годы реакции теснили его из земства или обвиняли, что многими годами он не представляет отчётов о расходовании казённых и частных сумм (поди собери их ото всех случаев! действительно, смешивались те и другие, отчёты запаздывали и были не вполне сбалансированы), – но ветер общественного одобрения поддерживал князя, и всё равно признавали все, что никто не умеет привлечь к благотворительности столько средств и так плодотворно их использовать. Его высший дар был – доставать деньги у государства, добывать их через визиты в сферы , его умение – тихие частные беседы, когда он обвораживал любого собеседника и получал от него пожертвования и уступки. И князь хотел бы оставаться в этой практической сфере, но невольно попутно влек его и политический жребий, хотя скромный: был ли князь в реакционной роли земского начальника или в прогрессивной роли депутата бурных земских съездов 1904—05 годов, или даже депутата 1-й Государственной Думы, – он ни на одном заседании не произнёс ни единой публичной речи, или даже предвыборной (произносили за него другие). Когда намечалась в 1905 земская делегация к Государю – главой её предполагался всё тот же непременный князь Львов. А когда волей событий его затянуло в скандальный Выборг, то ото всей обстановки случилось с князем нервное потрясение, и рука его просто физически не поднялась подписать Воззвание, и его больным ввели в вагон. (И даже предполагался кадетский партийный суд над ним.) В московскую городскую думу князь был избран по фиктивному цензу (никогда не быв москвичом) и не знал городского хозяйства, – но простившие ему кадеты избрали его городским головой, а правительство не утвердило избрания. Одновременно нельзя сказать, чтобы князь Львов был в опале у Государя: и в начале Японской войны, и в начале этой он получал аудиенцию, и в этот раз был поцелован. (И ещё: тайно уклонился от царского ордена, чтоб не испортить себе общественного лица.) С 1914 у него в Земсоюзе бурно и широко полились дела, у него работали десятки тысяч людей, – а князь Львов только ездил в петербургские канцелярии добывать необходимый миллиард – и отдавал его на траты. И в эти последние годы от общественного разгона князь чувствовал себя легко и удачливо. Так ощущал князь, что как бы весь трудолюбивый русский народ работает под его началом – и сам он возвысился в несомненного народного вождя.
И возникло в обществе жадное желание окончательно затянуть князя Львова в политическую сферу. Вот уже больше года, как во всех гостинных составлениях будущего русского ответственного правительства князя дружно вписывали на первое место премьера, вместо Родзянки. И эта почётная обречённость – стать во главе России, уже переделывала и самого князя из незаменимого дельца и деляги, как он себя считал, – в гиганта политической оппозиции. (Тут была и мало кому известная справедливость: что Георгий Евгеньевич происходил в 31-м колене от Рюрика.)
А с осени прошлого года это давление общественного избрания вынуждало его совершать наконец и резкие политические шаги. Да ведь и негодное поведение царского правительства – кого не могло вывести из себя! Князь Львов в ноябре уже прямо требовал от Прогрессивного блока принять меры к решительной переконструкции правительственной власти. В таком состоянии нетерпеливой накалённости окружающих он согласился дать поручение тифлисскому городскому голове произвести рекогносцировку у великого князя Николая Николаевича: как он смотрит на возможность государственного переворота? И с таким же вопросом посещал этой зимою в Крыму генерала Алексеева. Как мог на это князь согласиться? Но и как он мог не согласиться, если все видели в нём спасителя отечества? Какой патриот может стерпеть открытую наглую подготовку сепаратного мира? Да тут же и тайны особенной не было, о государственном перевороте судачила вся Москва и весь Петроград. И все уверены были, что переворот близок, и все называли князя Львова будущим премьер-министром. Председатели губернских земских управ открыто выкликали князя Львова. И князь – не мог не признать и не поддаться народному решению. Он вынужден был нарушить свою всегдашнюю скромность. И – созвал неразрешённый съезд Земсоюза 9 декабря. И – подготовил первую в своей жизни публичную речь – да какую! – ничего подобного по гневу и резкости не произносили в Думе, тот же и Милюков. (Соперничество с Думой и разжигало Земсоюз.) От безгласия – и сразу напряжённую высшую ноту принимал князь Георгий Евгеньевич! Это было излияние – негодования, презрения и ненависти! Отечество – в опасности! смертельный час его бытия! Власть уже отделилась от жизни страны, от жизни народа и вся поглощена борьбой против народа, лишь бы сохранить своё личное благополучие. Злейшие враги России, для того они и готовят мир с Германией. Когда власть становится совершенно чуждой интересам народа – пришла пора принять ответственность за судьбы России на самих себя! Страна стоит перед государственным переворотом!
Все эти слова были подготовлены письменно, и может быть, князь писал их даже в трансе: так властно он был понуждён обществом сделать этот шаг, что даже не успевал осознать размеров своей дерзости, не успевал изумиться собственной смелости. Его так торжественно влекло в общественном разгоне, что он утерял присущее каждому человеку ощущение телесной связанности, сопротивления предметов, – он шествовал к героической речи! Она должна была пройти через его мягкое горло, не привыкшее к выкрикам, – и он был готов!
Народ должен взять своё будущее в собственные руки – и неизбежная линия пролегала через князя.
Правда, съезд не удалось собрать, вместо речи князь занялся составлением протокола с полицейским приставом, а собрание утекло в другое место, и там другие произнесли свои речи, – но, однако же, князь несомненно был готов эту речь произнести публично. И она пошла по рукам читаться, как если бы была произнесена.
И только сегодня князь Львов впервые сам себе по-настоящему удивился. Вчера он был вызван – нет, призван – к своему священному посту телефоном из Петрограда в Москву. И из покойной ещё Москвы ему в самом лёгком состоянии удалось быстро сесть на поезд и нормально доехать до Петрограда, ещё весь поезд продолжая дивоваться и радоваться, как откликнулся великий народ на великий призыв, выявляя величавый образ своей душевной цельности. А на вокзале в Петрограде прежде всего не оказалось никаких носильщиков, ни извозчиков, но какие-то волны разнузданных солдат, иногда стрельба, перебегали какие-то шайки, лежал чей-то труп, оскорбляли офицеров, – и выручили князя только встречающие с автомобилем. Только так и удалось князю пронырнуть через взбуровленные, суматошные улицы, переполненные несдержанным народом, неуправляемыми солдатскими толпами без офицеров, есть пьяные, оружие само стреляет, и несколько раз останавливали автомобиль, могла произойти смертельная расправа. Но – миновали, добрались и укрылись на покойной квартире барона Меллера-Закомельского, на Мойке, близ Мариинского дворца.
Здесь, в квартире, шла обычная, привычная для нас всех жизнь, со спальней для гостя, с ритуалом завтрака, обеда, но даже и этот покой был обманчив, могли и сюда ворваться с обыском вооружённые люди, хотя, конечно, их можно было умягчить человеческим объяснением.
Таких не было на земле людей, кого бы кроткий князь не мог бы умиротворить и расположить к себе в частном разговоре с глазу на глаз. Но – как бы он мог теперь вступить во взроенный, обезумелый многотысячный Таврический дворец, о котором рассказывали ужасы? Или как бы он мог произносить речи перед тамошним нерегулярным собранием – гудящим, перевозбуждённым, машущим винтовками?
Это так было непохоже на святой, трудолюбивый народ, получивший святую свободу!
Уже того, что повидал князь из автомобиля по пути на квартиру барона (а его хотели везти и прямо в Таврический, но он имел успех благоразумно уклонить их), – даже этих виденных уличных впечатлений было преизбыточно, чтобы теперь их перерабатывать. Вся уличная разнузданность хлестнула в лицо – и князь чувствовал себя как обожжённый, и должен был с душевными силами собраться.
А тут – приехал из Таврического за князем автомобиль! – уже сообщили туда о его приезде.
Нет, князь был слишком потрясён, чтобы ехать. Он просил передать своим думским доброжелателям, что сегодня очень устал, никак не может, но приедет непременно завтра.
Нет! – настойчив был посыльной, – там все ждут! нельзя откладывать, но – ехать сейчас же.
Нет! – взмолился князь. Ну, хотя бы по крайней мере до вечера. Вечером.
Князь таким разбитым себя чувствовал, что даже с бароном и его семьёй ему трудно было говорить, поддерживать бодрое выражение лица и бодрый голос. Он охотно ушёл в отведенную комнату, сел в покойное кресло – и обвис, и выпустил дух.
Как осадило князя Львова. Внутри себя, перед собою, искренно, он почувствовал, что управлять этим кипящим множеством – далеко свыше его способностей. Так блистательна была вся гражданская карьера князя – но теперь он увидел, что его влекло выше душевных сил, что не было в нём мощи для такого восхождения.
Но и признаться в том никому нельзя, поздно. Победоносный жизненный путь обязывал так же непоправимо – и никому из вызвавших его, избравших, назвавших, не мог он сознаться, что ощутил слабость, что тяжести этой ему не поднять.
Он обезсиленно лежал в кресле, потеряв весь полёт последних лет. И возвращалось к нему – тоже когда-то привычное, теперь забытое, невыносимое сопротивление жизни, в котором Жоржинька жил всё детство, всю юность и молодые годы. Разорённое имение, на княжеском столе – чёрный хлеб да квашеная капуста. В ненавидимой гимназии звали его «цыцка», учился он – как воз на себе волок, туго, с раздражением, оставался на второй год, и не раз. Избрал юридический факультет за то, что он легче всех. И вытаскивали с братом хозяйство на клеверных семенах да на яблоках, и Москва в те годы знала ещё не самого Львова, – но «яблочную пастилу князя Львова» (из падалицы).
Десятилетиями жил он – и привык, что жить трудно, еле тянешь. И наведывался к оптинским старцам – не уйти ли ему в монахи: его благонравная скромная натура была к тому склонна.
А когда уже и начал государственную службу, совмещая её с левыми симпатиями (за что назван был «красным князем»), то узнал, каким ударом может прийтись общественное презрение: в 1892 году как непременный член губернского присутствия он вынужден был сопровождать губернатора в поездку с воинским отрядом: крестьяне не признавали решения судов и не давали в своей местности рубить леса. И на станции под Тулой губернские власти повстречали Льва Толстого – и великий писатель потом сотню гневных страниц написал о пособниках зла, имея в виду князя Георгия Евгеньевича, однако, слава Богу, не назвав его по имени. А если бы назвал?.. Пропала бы вся карьера навеки.
Но сейчас – князь Львов уже был назван, признан, и скрыться и деться ему было некуда. Неизбежно идти в Таврический и принимать власть над Россией.
212
Кутепов прорывается в полковое собрание. – Растерянность преображенских офицеров. – Кутепов обходит казармы.
Во второй половине дня телефон в доме Мусина-Пушкина снова задействовал – и просили подойти полковника Кутепова.
Вот удивительно – кто и откуда узнал? Не проверяют ли враги? Но подошёл.
А оказалось: это узнал от сестёр всё тот же неуёмный поручик Макшеев, который вчера утром и впутал полковника во всю эту операцию. Теперь он звонил оттуда же, из офицерского собрания на Миллионной, что у них – необычайные события и глубокие нравственные переживания и они хотели бы повидаться и посоветоваться с полковником.
– Повидаться не так просто. Скажите по телефону.
Замялся. Неопределёнными фразами выговорил, что речь идёт о признании новой власти.
И сомнения быть не могло. Кутепов ответил в трубку как продиктовал:
– Не позорьте имени Преображенского полка! Вы не имеете и права оперировать им, а каждый ваш шаг относят за счёт Преображенского. Довольно того позора, какой я видел сегодня в окно, когда ваш запасной батальон, а получается преображенцы, шёл в Думу. Но, слава Богу, я не видел там офицеров.
– О, это требует особого рассказа…
Макшеев что-то мычал, куда делась его резвость. Что-то мычал – да кажется о том, что Государственная Дума – это парламент.
Кутепов отрубил:
– Такие же безответственные бунтовщики оказались, ещё даже хуже простых рабочих.
– Александр Палыч! Да приезжайте к нам в собрание прямо сейчас, поговорим! Мы все вас очень ждём.
Поехать в собрание? Ему захотелось. Не куда-нибудь прятаться, а просто в своё собрание. Верно. И что ж в самом деле дальше сидеть в этом доме, если враждебные посты как будто сняты, а фронтовой черты в городе же нет.
Обсудили с хозяевами. А что если попытаться выехать в санитарном автомобиле? – но не переодеваясь и не ложась на койку раненого!
Надо было дождаться темноты, ещё часа два. Попасмурнело, пошёл крупный снег – и она приблизилась.
От Управления Красного Креста Северного фронта составили с печатью удостоверение, что полковник – начальник санитарной колонны. С темнотою подали санитарный автомобиль во двор, Кутепов сел между шофёром и врачом. Быстро выехали, погнали по Литейному проспекту.
Не так-то просто, останавливали почти на каждом квартале, и именно на Литейном эти остановки были опасны для опознавания. Но доктор всякий раз бойко говорил:
– Товарищи! Мы вызваны подобрать раненых в Павловское училище, там только что был бой! Не задерживайте нас, прошу!
И – пропускали. (Боя не было там – но слух.)
Свернули на Французскую набережную, ещё раза два остановили их перед Троицким мостом, всё добровольные бездельные патрули с грозным видом, – и вот уже нырнули в Миллионную, и подъехали к кирпичным казармам. И Кутепов входил в собрание.
Почти все офицеры были там, только без князя Аргутинского-Долгорукого, который уже окончательно заболел. И все были крайне расстроены, подавленный вид, и хотели начать разговор, но даже и не хотелось им рассказывать. Кутепов выслушивал как старший над ними, и принят был так, да и был же им – как помощник командира Преображенского полка. (На самом-то деле Кутепов был коренной армеец. Но на Японской войне он столь отличился в 85-м Выборгском полку, что был переведен Государем в гвардию, случай редкий. И здесь ещё в Четырнадцатом был лишь командир роты, штабс-капитан, а за войну возвысился в полковника. Конечно, подпоручик Рауш фон Траубенберг, с кадетского возраста определённый в гвардию, и другие баловни происхождения могли презирать Кутепова как гвардейца не коренного.) Ещё три и два дня назад, тут же, в вольных разговорах за завтраком, этих молодых офицеров коробило отсутствие свободолюбивых мыслей у Кутепова, его скованность долгом, какое б там правительство ни было. Но сегодня они пережили крушение своих надежд, и даже стыдно и трудно было им это рассказать, это вытягивалось понемногу из одного, другого. Как заснули они, окрылённые своей поддержкой Государственной Думы, так и проснулись, готовые к новым шагам. Но произошло нечто немыслимое: солдаты заперли их всех, как бы арестовали в собрании, а сами без них пошли в Государственную Думу!
Хотя сердца офицеров рвались именно туда! Хотя вчера только цепь неудач помешала им утвердить именно власть Думы!
Не то чтоб это арест был настоящий: сохранилось оружие, и можно было выламывать двери или выскакивать в окна – но разве такое освобождение нужно было им? Слишком была глубока рана, унижение, нанесенное им солдатами. И так несколько часов они провели тут, сами между собой, в нелепом состоянии, и только один телефон оставался им в утешение, но и он как раз в те часы прекращал работу. (А когда возобновился, то уже созрела мысль искать Кутепова, чтоб он их выручил.)
Однако, входя сюда, Кутепов не заметил никаких признаков ареста.
Да, уже после того как Макшеев нашёл полковника в санитарном управлении – внезапно прибыло два автомобиля из Думы, во главе их прапорщик с письменным предписанием – всем офицерам Преображенского батальона в этих автомобилях явиться в Думу. И только по этому предписанию снят был солдатский арест – и так они поехали туда.
А там никакой особенной встречи не было, депутаты уже сбились от встреч, никто из главных не вышел, а второстепенный объяснил им, что весь вызов подстроили для их освобождения, – и спрашивал, как же они оказались в таком отчуждении от солдат? Вот это и было для них самое мучительное и неясное: как это произошло при их передовых взглядах, при том, что они всей душой и всё время были за народ? Они хотели быть с солдатами! – но солдаты не хотели быть с ними.
Теперь вполне открылось Кутепову, что это несчастье было, что его послали с отрядом на Литейный. А был бы он вчера с главными силами преображенцев и павловцев – он вчера же бы всю эту петроградскую заваруху и кончил, и во всяком случае не топтался бы на Дворцовой площади три-четыре часа без смысла. Да просто пошёл бы маршем и забрал Таврический.
(Ещё они не рассказали ему, как вечером звонили в Думу, объявляя о своей поддержке. И как потом ночью к нерасходившимся офицерам приехали из Думы депутаты Шидловский и Энгельгардт, и благодарили преображенцев, зачисляли их в силы Думы, и приказали с утра атаковать Адмиралтейство, – но, выслав разведку, они сочли Адмиралтейство слишком сильно укреплённым. И после этой восхитительной ночи проснулись арестованными…)
Но вот, офицеры не скрывали: что они в смятении, что они запутались – и опасаются идти в собственные казармы к солдатам. И в незапертом собрании они оставались как в добровольном плену и просили теперь Кутепова помочь им наладить жизнь в батальоне. Как же им теперь жить с солдатами? Какое-то неудобное, невероятное положение. А в других полках вчера и убивали.
А чтоб что-нибудь понять – для того и надо было идти прямо в казармы. Кутепов звал их с собой – капитан Приклонский! капитан Холодовский! капитан Скрипицын!
Да, они очень просят его пройтись по казармам, побеседовать с солдатами, внушить им порядок, исполнение долга. Но сами они… сами они предпочли бы… просто, так неудобно получилось, такое вывернутое состояние…
С удивлением смотрел Кутепов, какая пошла образованная, рефлектирующая порода гвардейцев: к собственным солдатам в казармы им было идти боязно?
Он же сам – вчера был в бою, только что был гонимой добычей, но вот пронёсся через черту огня и уже по эту сторону естественно чувствовал себя в казармах своего полка. Мгновенная смена положений, такая типовая для фронтовой обстановки: то они крылом заходят, то мы.
Так никто не шёл? Хорошо, Кутепов пошёл сам, свободно и охотно, не испытывая никакого замешательства.
В первую же роту вступил – перед ним появился дежурный и отчётливо к месту докладывал и отвечал на все вопросы полковника, а все смирно стояли, застигнутые командой.
И во втором помещении – то же самое. И в третьем. Всё-таки держалась дисциплина, ничего.
В нескольких местах громко о чём-то спорили, но при появлении полковника прекращали и становились смирно, как все.
Только двух солдат государевой роты обнаружил он выпившими. Но не попытался наказать, как бы не заметил.
И нигде никто не пытался Кутепова оскорбить.
Он просто не ожидал такого хорошего состояния батальона, когда уже во всём Петрограде… Хотя, конечно, чувствовалось напряжённое настроение. Но ничем ему не выдали.
Нет, надо было удивляться, как ещё держится батальон.
Воротясь в собрание, Кутепов передал облепившим его офицерам свои впечатления, подбодрил их (безнадёжно скользнув по уклончивому лицу Скрипицына). Посоветовал: завтра с утра идти в казармы как ни в чём не бывало, – и до обеда побольше занять солдат, увеличить число дневальных, а после обеда отпускать желающих в отпуск в город, но с соблюдением всех правил.
Тем временем был для Кутепова приготовлен автомобиль и пропуск, на котором стояла размашистая подпись председателя мятежной Государственной Думы (преображенцам дали в запас).
Два кадровых унтера, хорошо знающие полковника, сопровождали его в автомобиле на Васильевский – опять черезо всё это красное беснование, уже и на Васильевском острове озверенное.
Спросили:
– Что ж это будет, ваше высокоблагородие?
Что будет? – Кутепов охватить не мог, не знал.
Ответил:
– До конца оставаться преображенцами!
213
Шашкой режут окорок. – Как отвезти арестованных на соседском автомобиле.
У либерального члена Государственного Совета Карпова, жившего на Дворцовой набережной, ужинал адмирал в отставке Типольт. Хотя второй день бушевала в Петрограде революция, но квартиры Карпова ещё ничто, слава Богу, не тронуло, и ужин был как ужин, отягощённый только известиями, отчасти мрачными, отчасти поразительными, так что ум не охватывал их. И даже из Государственного Совета был арестован Председатель, впрочем это понятно, он известный реакционер, и даже из членов один – Ширинский-Шихматов, тоже понятно, он известен своими правыми убеждениями. Присутствующим здесь такой ужас не грозил, но не могли же они быть равнодушны к судьбе отечества, и обсуждали разные слухи и сведения относительно событий в Петрограде и возможность прихода с фронта правительственных войск.
И обсуждали, что если вот прервётся электричество, и водопровод, и забьются клозеты – так никто и не поможет.
Вдруг раздался очень резкий дверной звонок, как порядочные люди не звонят. Переглянулись, не без испуга. Однако что ж поделать иное, как не открыть. Все остались сидеть за столом, а горничная пошла открыть.
За дверью она увидела с револьвером маленького невзрачного электротехника, вчера проверявшего у них этот самый звонок. Он без спросу вступил в прихожую, а за ним вваливалась целая толпа распущенных солдат, женщин и каких-то совсем уличных подозрительных типов. Горничная растерялась и вымолвить ничего не могла.
Тем временем маленький электротехник прошёл в столовую, так же с револьвером перед грудью, и объявил хозяину:
– Ваше превосходительство, вы арестованы!
Онемели и тут, жена и дочь не сразу спохватились. Страшные догадки проносились в голове Карпова, почему именно его берут. Адмирал же сообразил, что о его присутствии здесь не знали, арестовывать его не могли, – и он поднялся от стола и позади солдатских спин стал пробираться к двери. Однако электротехник заметил этот манёвр и направил револьвер на адмирала:
– И вы арестованы тоже.
Тогда адмирал со всей важностью и вальяжностью запротестовал. Электротехник и слушать не стал, а скомандовал резко обоим:
– Сдать ордена и патроны!
Адмирал был без револьвера. Но стал отвинчивать ордена. У Карпова же, напротив, имелся револьвер с патронами, и, боясь сокрытия, он велел жене принести и отдать.
Тем временем один из солдат с обнажённой шашкой приблизился к столу, лезвием её от большого окорока отрезал толстый розовый ломоть, другой рукою взял и стал есть.
На застольную публику этот приём произвёл ошеломительное впечатление. Да как он шашкой на столе ничего не зацепил!
Другие, обступя стол, тоже стали тянуться и брать пальцами, кому что понравилось.
Электротехник же ничего не брал, но, всё так же поводя револьвером, велел арестованным побыстрей собираться и выходить.
Женщины захлопотали, просили подождать. Принесли Карпову шубу на меху и высокие галоши, адмиралу – его шинель. Тут же, в столовой, они и одевались, прихожая вся забита.
Пошли по лестнице.
Спросил адмирал:
– Куда же вы нас ведёте?
Электрик бойко ответил:
– В Думу, ваше превосходительство!
– Пешком? – ужаснулся адмирал. Никогда он так далеко пешком не ходил, тут было три версты.
– А как иначе?
Сбегáвшая с ними дочь Карпова подумала, что и отец не пройдёт столько, и сообразила:
– Подождите! Сегодня тут рядом с нами арестовали министра Штюрмера, а в гараже у него остался прекрасный автомобиль, возьмите до Думы?
Революционерам понравилось:
– А ну, где, ведите!
Она повела их к Штюрмерам. Так же громко позвонили, потребовали выдать автомобиль с шофёром немедленно – и те не смели возражать.
Через короткое время усаживались в прекрасный этот автомобиль: арестованные сзади, а электротехник спереди, но обернувшись на них револьвером.
Дочь крикнула, может ли она сопровождать.
– Если прицепитесь.
Но было поздно: весь автомобиль уже обцепили охотники, стояли со штыками и на подножках и на задке.
Поехали. Револьвер всё был уставлен в груди арестованных, и, опасаясь, что он выстрелит сам от тряски, адмирал попросил:
– Послушайте, голубчик, мы же никуда не бежим, уберите вы револьвер, выстрелит.
– Не безпокойтесь, ваше превосходительство! – весело и бойко заверил электротехник. – Он не заряжен, это так, для поизира!
Тем временем из квартиры жена Карпова спешила звонить Родзянке. Карпов был ему сосед по уезду, приятель, и даже писал ему некоторые речи.
Родзянко встретил их в вестибюле, очень благодарил электротехника и весь конвой – и отпустил, когда довели арестованных до его кабинета.
Там уже человек двадцать таких спасённых сидело, и сенаторы, – ждали, когда их мучители схлынут и можно будет по домам.
...
ДОКУМЕНТЫ – 4
ИЗ БУМАГ ВОЕННОЙ КОМИССИИ
(28 февраля)
– В 8 ч. вечера дана охрана погребов, вызывались егеря, 17 члв., посты заняты в Удельном ведомстве. Моховая 40, полный порядок. Были посторонние во дворе с командой 62 члв., выведывали. Оказалось, прошли через квартиры сторожей. При удалении их вышло столкновение. Предвидится ещё столкновение с 5 солдатами. Необходима смена.
– Прапорщику Тафарову вменяется в обязанность останавливать всякий грабёж магазинов на Кронверкском просп. и ближайших местностях. Пред. Воен. ком. Вр. Комит. Б. Энгельгардт
...
– Угол Семёновской и Литейного, погреб Шитта разгромлен. Воскресенский, угол Кирочной, магазин Баскова громят и пьют.
Вольноопределяющийся Сергиев
...
– Коломенская 27. Толпа громит помещение.
– Сейчас были на Варшавском вокзале и узнали из достоверных источников: с фронта двинуты 35 эшелонов солдат в Царское Село и будут там в 4–5 утра. Настроение их неизвестно. Потом в 6 утра прибывают два литерных поезда, один со свитой, второй царский. Нужно обратить внимание. А. Коноваленко, член студенч. кружка
...
– На Кирочной 12 громят частную квартиру. Послана разведка.
Г. А. С.
* * *
Запили тряпички, загуляли лоскутки!
* * *
214
Сомнения Алексеева в обстановке и в посылке войск.
Текли напряжённые дневные часы, важнейшие часы той скрытной подготовки, когда войска ещё не проступают въявь, но невидимо и неслышно стягиваются и перемещаются: одни – снимаются с боевых позиций, другие движутся к станциям, третьи грузятся, четвёртые уже едут. И если только протекут безпрепятственно эти часы и полководец предусмотрит в них всякую мелочь – то наградой ему все войска в назначенный час окажутся на месте, слитны и готовы для удара.
От исполнительного Беляева не преминуло прийти донесение, что, щадя Адмиралтейство, последние отряды вывели из него, а по своей неполной надёжности они распущены по казармам. В самом Петрограде сопротивление, стало быть, прекратилось, но это было ясно и раньше.
Из Москвы от Мрозовского не поступило никакого ответа, и осадное положение не было им объявлено, – но, может быть, это и не нужно. Среди дня телеграфно проверили состояние Московского железнодорожного узла – никаких эксцессов, никакого перебоя поездов. Благоприятно.
Какая-то ещё неполнота безпокоила генерала Алексеева. А вот: при нынешней обстановке нельзя полагаться на телеграфы и телефоны, Иванов должен иметь при себе радиостанцию. Приказали – послать ему такую с Западного фронта, чтоб она нагнала его в дороге. И даже вот как: ещё одну промежуточную направить в Невель, чтоб она могла трёхсторонне связывать – действующие войска Иванова, Псков и Ставку.
Чудесная сохранность военного министра в Петрограде (которая доказывала причудливость обстановки и что не всё в столице потеряно) обязывала Алексеева доложить ему о принятых мерах и о посланных войсках, раз недоступно такой доклад послать Государю императору. (Поезда царя как исчезли, станции не сообщали об их проходе.) И Алексеев к концу дня послал Беляеву в Главный штаб в Петроград подробную телеграмму с перечнем всех посылаемых частей, их командиров и сроков прибытия в столицу (передовой Тарутинский полк должен начать прибывать туда завтра с рассвета), даже о снятии гвардии с Юго-Западного, даже предположения свои о дальнейших добавках войск.
Сведения из Петрограда были настолько скудны, обрывчаты, что приходилось использовать даже доклады итальянского и французского столичных агентов своим старшим представителям при Ставке. От них почерпнули снова, что тюрьмы распахнуты, гражданские лица вооружены, офицеров, напротив, разоружают и арестовывают, «Астория» сожжена, Протопопов бежал.
А с другой стороны, не подтвердилось существование какого-то якобинского правительства в Мариинском дворце, по телефону подслушанного Беляевым, – но в Таврическом образовался Временный Комитет Государственной Думы, который заявил о себе вот уже второй телеграммой: что имеет цель взять в свои руки анархические события и временно осуществлять, по сути, правительственные функции.
Но это же были – разумные люди, они не могли освящать хаос. Умеренные люди, и вполне владеют положением, ничего страшного не случилось, только ушли никудышние министры. Не гидра революции пожирала Петроград, но брала его в руки группа либеральных, просвещённых людей. В условиях, когда исчезли и старая власть и командование Хабалова, появление Думского Комитета был факт положительный. Это всё были члены Думы и большей частью не социалисты, не кровавые какие-то разбойники, а во главе их – монархист Родзянко.
Алексеев стал задумываться и так: если мятеж успокаивается – против кого же собираются и посылаются им войска? Не против же Родзянки и Милюкова, что за нелепость? Если Петроград и сам по себе успокоится – против кого же войска?
Но насколько этот Думский Комитет владеет столицей? Очевидно, нет. И насколько миновала опасность, что зараза мятежа перебросится по железным дорогам?
Впрочем, хорошо, что послушался Кислякова и не стал брать хлопотной власти над железными дорогами. По путейским линиям разосланные телеграммы комиссара Государственной Думы Бубликова, очевидно за министра путей сообщения, были никак не дезорганизующие, но призывали железнодорожников производить движение поездов с удвоенной беззаветной энергией, сознавая важность транспорта для войны и благоустройства тыла.
Да вся эта операция усмирения и с самого начала была Алексееву не по душе: войска нужны на фронте, и место им там, а не идти на свою столицу.
Всё это хорошо бы сейчас доложить Государю, и может быть, Государь отменил бы войска. Но через несколько часов он сам будет в Царском Селе и там всё увидит. Алексеев же не имел права отменять государева приказа.
И в появившихся сомнениях он не только не остановил, не изменил ни одного распоряжения, но ещё довершал их в аккуратных мелочах. И даже телеграфировал на Северный и Западный фронты предупреждение, что, возможно, ещё придётся добавить кавалерийских полков и конных батарей.
Во всём этом скоротечном петроградском мятеже самое загадочное было – причина возникновения его.
И после 8 вечера Алексеев поделился с Главнокомандующими таким соображением: что в подготовке этого мятежа противник, возможно, принял довольно деятельное участие, а теперь ему, конечно, известно, что революционеры стали временными хозяевами Петрограда, – и он постарается использовать это своею активной деятельностью на фронте. Так надо подготовиться к частным атакам.
215
День у Калисы.
А Воротынцев – выздоравливал. Просто выздоравливал – целый полный день сегодня.
Вчера он весь день передвигался в сплошном непонимании и мучении. Он был так разбит, так истрачен, – он себя не помнил таким опустошённым никогда.
И только изумиться: откуда ж открылось это несчастье? Как он не замечал его?
Заснули только к утру, а проснулись уже совсем среди дня. День, видно, был солнечный, но на окне тёмная штора, да и солнце, может, не с этой стороны – так полусвет в комнате. И не вставали.
Не-ет, никакое, никакое другое женское тело, не такое покойное, не такое обширное материнское лоно – и не утишило бы сейчас его тревоги, всей его внутренней изболелости – вчерашней, позавчерашней. Или даже очень дальней? Это тело естественно распростиралось, оно естественно сливалось со всем тем, что держит и носит нас. Оно само и было – родная спасительная земля, но только мягче, теплей, приёмистей обычной земли. Только к ней, к этой, прижавшись, влившись, он и мог избыть свою изболелость и возвратить здоровье себе – из неё.
Но для этого – долго надо было лежать, очень долго, и почти не шевелясь, – и даже долго совсем ничего не говоря. Тогда ощутимо, во многих клеточках, черезо всю кожу тела, к нему возвращалось здоровье.
Как когда-то в Грюнфлисском лесу он лежал на земле, и не было сил подняться, оторваться. Да вся спасительность была: не отрываться.
Он только длительностью, непрерывностью, неподвижностью успокаивался и выздоравливал. Тайна этого успокоения была в длительности: не час, не два, не три.
И теперь-то – теперь он мог бы и рассказывать: и что же именно произошло, и с какой болью он пришёл вчера. Но сумел ли бы? Только что: нехорошо они жили с женой – и сам он того не знал. Да теперь – незачем было всё это взмучивать. Калиса – и так уже вылечивала его.
И с благодарностью, с нежностью он целовал её благоплотные руки в предплечьях.
Днём стала рассказывать с открытой душой о себе. Как ведь выдали её сперва не по её выбору, а по воле родителей. А потом она привыкла к мужу. А потом и полюбила.
И – случаи разные. Разные сказанные с покойником слова. Георгий никогда к такому не прислушивался. А сейчас – то вникал, то отдавался этому журчанию, как лежачая колода в облегающем ручье, обновляясь в этих струях.
Никогда не прислушивался, а как неожиданно она уводила в сторону, где, казалось ему, и нет ничего. А вот – лился вокруг него целый мир, обструивал потоками. И это же вокруг каждой женщины свой отдельный мир?
И куда делось вчерашнее разрывание, что просто жить не хочешь?
Захотелось есть – она не дала ему подняться, а всё сама принесла и тут разложила на низком столике. Разве больного в детстве так кормили его, – но не казалось ему стыдно-барски.
Когда-то схватился: а какое же сегодня число? Двадцать восьмое. Так надо же ехать в армию!
Но в окне уже несомненно умалялось света – наполовину проспанный день уже и кончался, а Георгий так и не одевался за весь день. Он было сделал такое движение, но Калиса была права: куда ж теперь? ведь к вечеру. Уж лучше с утра как угодно рано. Раньше встанешь – дальше шагнёшь.
Так и проплыл этот день – без единого внешнего стука в дверь, без единого выхода, – и счастливо, что не было в квартире телефона.
И электричества вечером почти не зажигали – так полно, так плотно в темноте.
216
В московской городской Думе.
Адвокат Демосфен спасал Элладу. Адвокат Цицерон спасал Рим. Но особенно – адвокаты были всегда сословием революции. А из кого ещё состоял Конвент?!
Артист произносит чужие слова, адвокат – те, что сам выносил в сердце и сложил. В этом – его превосходство. Но в России только по уголовным и тем более политическим делам имеет адвокат простор развернуть своё красноречие, потрясти чувства судей и вырвать у них нужное решение. В гражданских же судах, которыми и занимался Корзнер помимо юрисконсульства в банке, такой завал дел и такая сухая обстановка, что ораторские эффекты и фразы общего характера считаются даже неприличными, достоинство же адвокатской речи – в сжатости и в богатстве юридической аргументации.
А новая революционная обстановка вдруг открыла неограниченный простор красноречию. И вчера вечером Корзнер горячо выступал в думском зале, и не его ли была решающей напорная речь, после которой отважились создать Московский Временный Революционный Комитет?
А затем сразу и покатилось: значит – и написать воззвание! (Корзнер вошёл в число составителей.) Значит – и распространять по городу!
И серый купчишка Челноков смекнул размах событий – и не сопротивлялся. А товарищ городского головы Брянский вызвался дать городскую типографию для воззвания.
Но тогда и устроить в городской думе дежурство членов Комитета!
Сегодня утром Корзнер отложил все свои приёмы, отменил деловые встречи, назначенные на сегодня, – да кому теперь до них? – и в первой половине дня отправился снова в городскую думу.
Общая обстановка в Москве была самая бодрящая. Газеты не вышли, забастовка типографов. Кто-то выпустил на стеклографе «Бюллетень революции» – сведения и слухи из Петрограда, как сообщали телефоны, так ли, не так, и листочки передавали из рук в руки. Трамваи за день перестали ходить. Передавали о фабричных забастовках. В некоторых частях города отказал водопровод, но не в центре. На улицах в разных местах присутствовали усиленные наряды конных жандармов и казаков, и особенно на перекрестках вокруг думы, и на Красной площади за Иверской, – но не было ни одного случая разгона толп или препятствия их движению. Видимо и власть замерла, нейтрально ожидая, к чему идёт. А к думе проникали сперва даже не толпы, но, по робости, группы, кучки, – однако и к ним выходили ораторы из здания думы с короткими речами. А когда уже толпа стала погуще – то выставили с балкона думы красный флаг и повторяли в речах главные лозунги воззвания: что в Петрограде революционный народ совместно с войсками нанёс решительный удар царскому правительству. Но борьба ещё только началась! Московский народ должен тоже призвать революционных солдат – присоединяться! и захватывать арсенал и склады оружия!
После этих речей некоторые группы отправились по казармам, обращать солдат. А к думе подходили всё новые, новые, уже и с революционными песнями, – и сливались в толпу, она густела. После полудня она уже затопляла всю Воскресенскую площадь, выдаваясь и на Театральную, в ней поднимались красные флаги, ораторы, – и вся она превратилась в непрерывный сплошной митинг, который полиция теперь уже тем более не смела тронуть.
А в самой думе собирались по одному – революционеры. Да! Никто их в Москве уже давно не видел, не слышал, не знал, и сами они прятались за невинными обывательскими личинами, – а теперь приходили на готовое, и громче заявляли себя хозяевами, и требовали, чтобы Революционный Комитет передал власть, ещё им не взятую, в руки Совета рабочих депутатов, ещё и не созданного! И выбирали свой Исполнительный Комитет! Довольно нахально!
Но там были и порядочные люди, меньшевики, которых всё-таки знали, – Гальперин, Никитин, Хинчук, Исув. И с ними договаривались о разграничении функций и чтобы существовать в думе всем.
А в городе события разворачивались. Рассказывали об обезоружении отдельных полицейских, вполне мирно, без убийств. Посты городовых стали исчезать сами собой. Крупные же наряды мялись. Затем к думе привалила толпа студентов университета, человек четыреста. Очень смеялись, рассказывали, как на Большой Никитской удалили университетских служителей с контроля, сняли большие железные ворота и отнесли их внутрь двора. А другие факультеты продолжали заниматься.
Потом пришёл слух, что рабочие и солдаты захватили Арсенал. А разве войска присоединились к народу? – ещё никто их не видел. Но вот на Воскресенской площади стали появляться и группы солдат, больше безоружных. Передавали, что одна революционная толпа ворвалась было в Спасские казармы, но была оттуда вытеснена. Судьбу движения должны решить войска – но они всё не приходили на помощь революции.
С прошлой ночи прервалась телеграфная связь с Петроградом, оборвались подбодряющие сведения на несколько часов. Ловили приезжающих с поездов, узнать.
Но и власти московские вели себя неопределённо. Даже – никак.
А между тем в саму думу набивалась масса народу, и много деятелей, с именами или малоизвестных, – от Земгора, от купеческого общества, от биржевых комитетов, от военно-промышленных комитетов, от кооперативов, – и созданный вчера таким героическим рывком Революционный Комитет как будто пополнялся всеми этими представителями? – а на самом деле разводнялся, расплывался, превращался чёрт знает во что: уже не называли его ни Революционным, ни Общественного Спасения, а больше – Временным, а вот уже стали называть – Комитетом общественных организаций.
Корзнер негодовал: с этими безнадёжными обывательскими растяпами потеряли знамя, потеряли звук, потеряли порыв! – да что вообще с ними можно пронести?
А тянулась проклятая неопределённость, и неприсоединение войск, и неизвестия из Петрограда.
В негодовании Корзнер ходил домой поесть.
Когда же через полтора часа снова пришёл в думу, то застал Комитет ещё более расплывчатый, но непрерывно заседающий. И среди них же раздались голоса, что их никто не выбирал, и разумнее передать первое слово самой городской думе, которая вот уже собиралась перед вечером, очевидно без своего правого крыла.
А в каких-то комнатах того же здания очевидно уже заседал этот Совет рабочих депутатов – и от него тоже ходили говорить к толпе.
А Корзнер тогда как и не гласный думы – становился, что ж, пассивным наблюдателем? Досада! Как грозно вчера вечером засверкало – а вот расплывалось в какую-то всеобщую толкучку. Зато за эти сутки Корзнер узнал сам себя: до чего ж нужна разрядка для его энергии, сколько её накопилось под футляром адвоката и юрисконсульта!
А Воскресенская площадь не расходилась, гудела! И вдруг раскатился особый шум восторга, «ура», шапки в воздух. С балкона думы было видно уже в темноте, при фонарях, как от Неглинного проезда появился строй в несколько сот солдат с ружьями на плечах! И кажется – при младших офицерах!
Прошли через раздвиг толпы, стали – и прапорщик звонко объявил, что рота пришла на службу революции, отдаёт себя в распоряжение народа!
Ура-а-а-а-а!..
У городской думы появилась первая охрана!
Это подействовало на думу. Заседание её пошло смелей, и поздно вечером в обращении к московскому населению она уже слала горячий привет Государственной Думе и выражала уверенность, что будут устранены от власти те, кто творит постыдное дело измены, старый пагубный строй, и да не будет ничем омрачена заря, занимающаяся над страной.
Но Корзнер находил, что в этих цветках декламации терялся тот явственный кулак , который надо было подсунуть старому режиму под нос. За минувшие сутки революция в Москве не раскачалась заметно.
Следующие часы пошло веселей. Военно-автомобильные мастерские захватили радио. Толпа от думы полилась к Сухаревой башне и к Спасским казармам и всё-таки взломала их! В здание думы энтузиасты стаскивали, что может пригодиться для отражения контрреволюции.
И вдруг, уже к полуночи, с Красной площади внезапно раздалось громкое солдатское пение – слова непонятны, или что-то о вещем Олеге, а припев повторялся отрубистый, угрожающий, в несколько сот голосов:
Так за царя, за родину, за веру
Мы грянем громкое ура!
А свои-то солдаты, своя охрана – куда-то подевалась за это время. А толпа – не защита, сейчас и разбегутся. А те – вот уже, мимо Иверской, заворачивают к думе, печатают шаг молодой, штыки в воздух один в один!
В думе поднялся переполох. Иные уже убегали. Но и то – поздно. Послали им навстречу подполковника запаса Грузинова, перед тем гордо тут объявившегося. Он в волнении вышел на ступеньки:
– Господа? Что вам угодно?
Оказалось – рота из 4-й школы прапорщиков. Пришли «посмотреть, что тут делается».
– Может быть, вы голодны, господа? – уговаривал их Грузинов.
Нет, они хотят посмотреть, что делается. И стали ходить по думе.
А потом – возвращаться в казармы поздно, потребовали себе ночлега!
Челноков придумал поместить их в «Метрополе» – отдать им гостиные и биллиардную.
217
Царский поезд во Ржеве. – В Лихославле.
Увы, где-то должна была оборваться утишающая покачка этого переезда. К шести часам вечера во Ржеве неугомонный Алексеев всё же настиг своего патрона тяжёлым известием, зашифрованно переслал послеполуденную телеграмму Беляева, что последние верные войска выведены из Адмиралтейства, чтобы не подвергать разгрому здание, – и распущены.
То есть генерал Хабалов сдался, и в Петрограде больше не осталось верных войск и власти?
Петроград отпал от России…
Но оставалось – Царское Село! Но о Царском Селе не поступало тревожных известий, и генерал Иванов, по расчёту, уже должен был его занять и концентрировать там войска. Там – была семья! Там была – вся жизнь! Туда надо было спешить.
Свита вместо этих получала другие известия. Тут, на вокзале, объявился жандармский генерал, вчера из Петрограда, и рассказывал свите ужасные, даже неправдоподобные вещи: что уже вчера весь петроградский гарнизон был на стороне Государственной Думы и ожидалось объявление нового правительства. Разгромлено Охранное отделение, все полицейские участки, Гостиный Двор, магазины на Сенной, жандармов убивают, офицеров обезоруживают, иных тоже убивают, повсюду толпы, революционные крики и непочтительное об императрице.
Свита была перебудоражена: что ж это делается? Что-то надо предпринимать! Не пора ли вступить в переговоры с мятежниками? Наконец, крайний час создать ответственное министерство! Да ведь там есть Родзянко, он становится реальным возглавителем, с ним и надо связаться!
Мятеж был настолько всеобщ, что свитским вступил страх за свои семьи и самих себя. Нельзя было терять ни минуты, надо действовать! Но – кто бы это смел подсказать безпечному Государю? Все опасались вызвать у него раздражение или нетерпеливую складку выслушивания.
А вопросов – Государь не задавал никому. Он оставался внешне всё так же совершенно спокоен. (Всегда: чем более встревожен – тем меньше подавал вид и говорил.)
Лишь один человек по должности мог и обязан был доложить – министр Двора Фредерикс. Но его давно возил при себе Государь как устаревшее чучело, которое жаль выбросить, чтоб не обидеть. От чрезмерной старости Фредерикс не только ослабел, но проявлял старческое слабоумие: мог принять русского императора за Вильгельма и опозориться перед строем войск.
Ещё приближённым был зять его, дворцовый комендант Воейков, очень практического ума, но ни с кем не близок из свиты, упрямый. Он мог доложить Государю только что сам бы счёл нужным.
Так и стемнело. И обед прошёл в натянутом, деланом разговоре, ни слова о петроградском бунте.
Впрочем, верили в успех генерала Иванова.
И ехали дальше. Царский поезд шёл даже без Собственного Конвоя: ото всего Конвоя – два ординарца. Да десяток чинов железнодорожного батальона. Мерно покачивался, убаюкивался, тёмно-синий, с царскими вензелями. И ехал в безохранную, безглядную, неведомую темноту.
Подбирался к восставшему Петрограду странным далёким обходным крюком.
В девятом часу вечера в Лихославле Государя нагнала сильно запоздавшая телеграмма из Ставки. Это была копия телеграммы опять от Беляева Алексееву, но известия двигались попятно. В ней сообщалось, что верные войска под влиянием утомления и пропаганды бросают оружие, а частью переходят на сторону мятежников. Офицеров разоружают. Действие министерств прекратилось. И ещё странная фраза: министры иностранных дел и путей сообщения вчера выбрались из Мариинского дворца и находятся «у себя». (Дома?) Какой-то ребус, тут не хватало: а где же остальные министры, само главное правительство? Ещё и о брате Мише сообщал Беляев, что он не смог выехать в Гатчину и находится в Зимнем дворце. И просил Беляев – скорейшего прибытия войск.
Что ж, они подходят. Их и собирает вокруг Царского Села старик Иванов.
В том же Лихославле узналось уже от местных, что в Петрограде образовано новое правительство во главе с Родзянкой. И что по всем железнодорожным телеграфам распоряжается никому не известный член Думы какой-то Бубликов, причём называет власть Государя «старой» и «бывшей».
Кроме этого, самого последнего, Воейков доложил Государю.
Просто удивительное самозванство и наглость: какой ещё Бубликов? почему Бубликов? и фамилия шутовская… Всё это походило на балаган.
Быть может, следовало повернуть? Изменить план?
Каково решение Государя и полководца?
Воейков настаивал, что в Петрограде никакого серьёзного движения, а просто местный бунт.
Тут, к счастью, подали и телеграмму от Аликс, благополучную. Слава Богу, какое облегчение! А вчера целый день от неё не было, какая тревога!
И тут же телеграфировал ответ: «Рад, что у вас благополучно. Завтра утром надеюсь быть дома. Обнимаю тебя и детей. Храни Господь. Ники».
Теперь-то – тем более, тем увереннее, тем необходимее – в Царское!
Да Лихославль уже находился на двухколейной гладкой Николаевской дороге. И решение могло быть только одно: скорее вперёд!
218
Депутаты Думы в этот день.
Для неисчезнувших членов Государственной Думы находились дела, и самые необычные. Одни входили в сам Комитет и час за часом, вперемежку с отлучками, участвовали в непрерывном его заседании-обсуждении. Другим пришлось принять на себя (из невольного соревнования с Советом рабочих депутатов) грозное звание комиссаров . Дело в том, что с саморазбежкой правительства почти все министерства остались без возглавителей, – и вот Комитет решил посылать в каждое по два, по три члена Думы, которые могли бы там наблюдать, влиять, разъяснять, помочь руководить. Правда, эти посылаемые и сами плохо представляли, что надо и что срочно (один Маклаков в министерстве юстиции точно знал). И даже ёжились в своём новом и неопределённом звании комиссаров. Да ещё и не во все те министерства легко было добраться по улицам.
Третьим доставалось выступать перед приходящими войсками – то с крыльца, а то уже и в зале. Четвёртым – ехать в незнакомые им казармы, и произносить речи в обстановке и перед аудиторией, к которой они никак не готовились никогда. Никакие тонкости тут были не нужны, а только с надрывной силой уговаривать: не спешить праздновать, не выпивать, не кидаться в анархию, а подчиняться своим офицерам.
Так и Родичев, несмотря на свой седьмой десяток, с молодой охотой ездил выступать: у него ведь дар был зажигать даже холодные сердца и натягивать нервы слушателей. И вдруг – открывшаяся возможность выступать прямо перед народом, – да можно ли устать, господа? Блистало, сверкало его пенсне на долгом шнурке, и острым треугольником выкалывалась маленькая бородка. Весь народ открыто валит за Государственной Думой! – чего ж ещё ждать? Это даёт возможность овладеть положением, стать во главе движения!
Но и когда выступленья казались успешными, когда и тоскливо безуспешными, – депутаты с облегчением спешили вернуться в свою Думу. Правда, уже не в свою, а сильно подпорченную. Уже перед дворцовым сквером автомобилями или напором народа свалили часть чугунной решётки и один гранитный столбик. В Купольном – штабели мешков. А дальше внутри – солдатский табор с безсмысленной толкотнёй, где течение сшибалось с течением не в политическом, а в самом примитивном физическом смысле – кто кого пересилит и пройдёт раньше. Сквозняки. За одни сутки уже подшарпаны колонны, попорчена мебель, сальные пятна. А уж в уборные заходить стало противно, так загажены солдатнёй, да ещё и очередь. И перестал существовать гардероб, а в бывшей комнате личных ящиков депутатов навалены пулемётные ленты и даже взрывчатые вещества.
Так вот – пробраться надо черезо всю эту толчею, где радикальные барышни ещё разносили засидевшимся солдатам бутерброды и чай, – и даже с боязнью прислушиваясь к разговорам толпы, пробиться в те немногие последние комнаты, где ещё сохранялся дух Думы и были в основном свои, и подышать привычной обстановкой: рассказать о своей поездке в полк, послушать рассказы других. И если удастся, как забытое счастье, – присоединиться к обсуждению каких-нибудь вопросов общего характера.
Тут стекались и не члены Думы, а просто петербургские их друзья, кадетская публика.
Что слышно о движении войск Иванова? Неужели достигнут и будут карать? Да ведь мы и не революционеры, господа! Почему мы и уговариваем солдат вернуться в казармы, почему мы и рады нашедшимся офицерам, – мы именно прекращаем революционную ситуацию и восстанавливаем тот порядок, который нужен для ведения войны. (А может быть, царь признает их Комитет – и насколько всё сразу легализуется!) Ко всему этому кризису привели не мы, – привёл безвольный монарх, прогнивший режим. Боже, как мы при этом режиме жили! И мы так уже стерпелись со страданиями, которые он нам причинял, что могли жить как будто и счастливо. По видимости.
Но вот настал для них час расплаты?
Ничего, солдаты быстро успокоятся, – зато в армии произойдёт теперь патриотический взрыв, и война закончится победоносно и быстро!
Угнетал и перебивал поток всё приводимых новых арестованных – часто совсем случайных людей, – и всем добровольным конвоирам надо было выражать благодарность и отпускать их, задержанных же перехоранивать по несколько часов, пока минует им опасность, – и всё опять же в этих нескольких оставшихся комнатах.
Наконец появилось публичное заявление за подписью Родзянки: что Думский Комитет до сего времени никаких распоряжений ни о каких арестах не производил (это была правда, вся эпидемия арестов текла мимо него) – и впредь аресты могут производиться не иначе, как по особому распоряжению Комитета.
Но даже это заявление напечатать – неизвестно где искать типографию, не придётся ли просить Совет рабочих депутатов.
И тем более не имел Комитет мужества призвать население не подчиняться той второй, парализующей власти.
Ужасно обидное положение! – все эти массы притекали в Таврический из симпатий к Государственной Думе – но утилизировать эти симпатии было никак не возможно: массы растеклись по помещениям и только мешали, а вот вторая власть внедрилась и захватывала их. И без этой второй силы, кажется, уже и не восстановить порядка, не собрать солдат в казармы.
Надо как-то ладить. Как-то взаимно дружественно.
Тут – вернулся Родичев, с какой-то по счёту своей поездки, уже вечерней. За один день узнать было нельзя, как он потерял утреннюю бодрость, и охрип, и постарел, и пенсне спрятал.
Сейчас он был в Семёновском полку. И вернулся сильно расстроенный и изумлённый. По вечернему времени солдаты собрались на его речь в большую казарму в одном белье и валенках. Слушали, хмурились – а «ура» совсем не кричали.
Так и разошлись в белье, как и не слушали его. Первый раз в его жизни речь настолько не произвела никакого действия, где уж там восторга.
А оказалось, ходит у них прокламация: революцию Пятого года украли офицеры, украдут и нынешнюю, если солдаты не дадут им урока.
Кто-то ж где-то эти прокламации печатает, для них типографии не закрыты.
219
Заботы, тревоги и огорчения Родзянки. – Стеснённость перед Государем. – Остановить войска прямыми переговорами. – Жертва за всех. – Покорение Москвы.
Весь сегодняшний день прошёл у Председателя как на пышущем болоте, где он пытался нащупать хоть какие-то твёрдые точки и установить поддерживающие связи.
Лился поток арестованных, от городовых до министров, – и всё в Таврический, как будто это Родзянко руководил арестами, а многие сановники и генералы – прямо к нему в кабинет. И все взбунтовавшиеся войска валили куда? – в Таврический, и кто их приветствовал? – опять же Родзянко. И даже простые солдаты рвались зачем-то в кабинет Председателя. Кто-то занял Петроградское телеграфное агентство – и вот посылали во все провинциальные газеты телеграммы о падении старого правительства, и всё – от именно Временного Комитета. То есть опять Родзянко? И теперь если начнётся следствие – то он допустил кое-что незакономерное?
А между тем Родзянко оставался предельно лоялен и патриотичен – и только так выступал пред войсками. О Государе, правда, он ни слова не говорил, тут создалась какая-то неясность, но он просто трубил во славу родины! (Делая усилия над собой – не замечать этого безобразия, строя, вида и позорного отсутствия офицеров. Призывал к возврату патриотической совести, сознавая, что с такой армией нельзя будет прожить ни дня военного времени.)
Ведь власть сама выпала из рук законных носителей – а Временный Комитет только подобрал её и хранил. И готов был законно перелиться в новую законную власть. Да Комитет, по сути, уже и стал началом той конституционной власти, по которой изнывало общество и изнывали союзники. И так легко и счастливо эта власть создалась! Но чтоб распределять министерские портфели – не хватало санкции Государя.
Да и не хватало единства и подчинительства в самом Комитете. Повиновение дерзко разваливал Керенский, не отчитываясь, где он и что делает, совершенно возмутительно и в мятежном духе выступал перед юнкерами и перед батальонами – и на виду публики его невозможно было отстранить и обуздать. А в Комитете он анархически заявлял, что над ним тяготеет долг перед Советом депутатов. А Чхеидзе и вовсе там пропадал все сутки. Между тем обоих вводили в Комитет как дар левым, надеясь их этим осчастливить и привлечь, – но они не ценили этого дара. И так же ускользал из-под Родзянко свой думский заместитель Некрасов. А Милюков вёл себя так упорно-независимо и замкнуто – никакого подчинения Родзянко в нём не ощущал. Да всегда чуял в нём полную чужесть, даже до того, что сомневался: для Милюкова существует ли Россия как живое целое, хотя он так и заботился о расширении её границ и о выигрыше этой войны.
И с болью, с оскорблением узнал Родзянко, шепнули по секрету, что уже сегодня утром прибыл в Петроград князь Львов! Несомненно, что вызвал его интриган Милюков! – чтобы начать вытеснять Председателя! Но – молчал…
Вот так-так! Да Милюков не сносился ли тайно и с союзниками?
Но тут – Родзянко успел. Вернулся его тайный посланец, побывавший и у Бьюкенена, и у Палеолога. И верно угадал! – союзные послы, все эти годы сочувственные к борьбе русского общества против русского правительства, не могли не поддержать! Не на бумаге, пока ещё из осторожности устно, оба посла ответили Председателю, что они признают Временный Комитет единственным законным правительством России и выразителем народной воли! (Ай, спасибо!) И ещё выразили своё ненаписанное такое мнение: что самодержавный строй может быть успешно заменён конституционным, лишь бы поскорей установился порядок и русская армия могла бы выполнить свой долг перед союзниками. Достаточно, сколько революция прошла, а теперь надо её ограничить.
Так того же и Родзянко хотел. Очень хорошо, после этого ответа он стал чувствовать себя увереннее.
Да второй уже день Родзянко находился в настойчивом процессе – доразумения. Этот процесс почему-то не мог произойти сам собою и быстро. Но должны были течь часы, должны были приходить разные вести, должны были обращаться по делу и без дела разные люди, думцы и не думцы, – и всё это не оставалось без пользы в процессе доразумения. И так на протяжении дня сами собой и силою обстоятельств возникали мысли, освещались предметы и принимались решения, – убеждали Председателя люди, или сам он додумывался.
Всё-таки перед Государем Председатель чувствовал себя стеснённо. Как ни дурны были их отношения последнее время, как ни дерзил Родзянко Государю – но никак не чувствовал себя мятежником и не допускал им стать. Он просто спасал Россию от дрянного, гнилого прежнего правительства. А тут вот – изодранный штыками государев портрет в думском зале… А тут ещё – эти арестованные министры, как будто Председатель Думы их посадил. Как ни дрянны эти министры – но не сажать было под замок… Однако Председатель не имел власти их освободить… И потом эти его речи перед войсками: как ни патриотичны, а при Государе бы их вслух не повторить…
Но и Государь! – почему он молчал? Почему он так надменно не отвечал на телеграммы?
А теперь ехал сам, – на расправу?
Это его движение было смутно, тревожно, опасно. Зачем он ехал? Как будто: ворваться в Петроград, топнуть здесь ногой, крикнуть на ослушников?.. Непохоже на него, но потому и страшно, что непохоже.
Расторопный Бубликов докладывал о движении царских поездов – и спрашивал, что делать?
А что можно было придумать?
Государь приближался – и нарастала неизбежность встречи и отчёта.
Но настолько ли в виновном положении был перед ним Родзянко?!
В корзине из дому принесли Михаилу Владимировичу тёплый обед. У себя в кабинете он уже не мог спокойно пообедать, пошёл в укромную комнатушку, прикрыл измученную грудь салфеткой, как будто стало поспокойней. Чего в голодном виде он не мог сообразить – теперь в насыщенном понимал лучше, еда прямо шла на питание головы.
Ведь он именно хотел правильной конституции, и ничего больше! Он был сейчас – самый миролюбивый человек в Петрограде, а может быть и во всей России. Зачем ещё какие-то военные действия? Зачем они послали на Петроград восемь полков? Против кого?
А услужливый Беляев сообщил по телефону и перечень полков: Тарутинский, Бородинский, уланский Татарский, Уральский казачий… Восемь. А ещё возможен Преображенский и два гвардейских стрелковых… Да уже и не восемь? И передовой полк уже может прибыть в Петроград на рассвете 1 марта.
Да что ж они? Что ж они делают?!
Только и надо было теперь Государю: признать кабинет Родзянки, и всем примириться – и дружно работать для победы над злейшей Германией. А Государь?..
И – надумал Родзянко! и понял, как ему действовать против этих полков.
И – не мог не действовать, ибо надо было устоять и против милюковского подкопа и приезда Львова.
Да всё та же мысль, а каждый раз приходит как свежая: самая надёжная поддержка для Председателя, никому другому не доступная, – это поддержка Главнокомандующих. Его особенное значение укреплялось такими, как вчера, ответами от Брусилова и Рузского. Сегодня он уже разослал всем Главнокомандующим телеграммы о создании Временного Комитета, который выведет столицу в нормальные условия, Армия же и Флот пусть продолжают защиту родины.
Но тот предмет, о котором Родзянко думал связаться теперь, – не подходил для телеграммы, а должен был носить более конфиденциальный характер. И связаться даже именно только с Алексеевым. И именно сейчас удобно, когда Государь уехал из Ставки.
Алексеев может стать и наилучшим посредником между Родзянко и Государем. От Алексеева и от самого зависит много: ведь это он посылает войска.
Вот что нужно сделать: сегодня поздно вечером, никому не объявляя, ни даже своему Комитету, устроить себе прямой телеграфный разговор с Алексеевым. Для этого, когда схлынут многие лишние глаза, поехать в здание Главного Штаба.
Конечно, Алексеев умственно ограничен, у него нет широты даже военного кругозора, а государственного и не спрашивай. Но должен же он понять, если объяснить ему самые необходимые вещи. Что тут, в столице, может подняться гидра революции и всё смести. И только Думский Комитет, и только сам Родзянко является истинным против неё оплотом – и должны быть поддержаны всячески. Что Думский Комитет – это и есть многожеланное общественное правительство, оно уже вот создано. Что Родзянко сейчас – единственная реальная сила в Петрограде, один он владеет ситуацией, и под его руководством налаживается полный порядок.
Что поэтому посылка каких-то войск на Петроград – не только начало злостной, ненужной, вредной междуусобицы, но подорвала бы целительные усилия Председателя задержать революционное движение и излечить Петроград. Такой приход войск был бы губителен для порядка, который уже налаживается.
Надо, напротив, оценить монархическую верность Председателя и поддержать его нынешнюю полную власть в столице.
Неблагодарный Совет рабочих депутатов делал что хотел, – но на опасном направлении, против войск Иванова, предоставлял действовать Думскому Комитету. Неблагодарный собственный Думский Комитет плохо подчинялся. Неблагодарный Петроград ликовал, метался, стрелял, безпутничал. Но всех их, неразумных, прикрыть от карательных войск Иванова мог только один Родзянко. И должен был безкорыстно и благородно сделать это.
Он ставил себя жертвой за всех.
Тут приступили к Председателю его комитетчики: а что же Москва? Надо же и Москву валить! Нельзя же ей, первопрестольной, прогрессивной, оставаться в лагере реакции?
Без Москвы – и мы не Россия.
Верно. Тоже верно. Надо и тут приложить свою весомую руку.
Что же опять? Телеграмму! Во-первых – городскому голове Челнокову, на поддержку. Во-вторых, командующему Мрозовскому, в устрашение:
Старого правительства в Петрограде не существует. Правительственная власть принята Комитетом Думы под моим председательством. Предлагаю вашему высокопревосходительству немедленно подчиниться. За допущение кровопролития будете отвечать своей головой. Родзянко.
Тут прибежали весёлые голоса:
– Протопопова схватили!!
– Да что вы?! – обрадовались думцы, а больше всех Родзянко, падению изменника-предателя. И вставил в телеграммы:
Министр внутренних дел арестован.220
Вечер (фрагменты).
* * *
Получив телеграмму самозваного комиссара путей сообщения Бубликова, начальник Северо-Западных железных дорог Валуев понял, что был ему смысл уехать из Петрограда и управлять своею дорогой вне его, особенно когда царские поезда двигались к столице и могли не найти себе пути. Он поехал на свой Варшавский вокзал. Тот весь оказался наводнён взбунтованною толпой и почти не управлялся, как ему уже и докладывали. Валуев отдал распоряжение приготовить себе локомотив с вагоном.
Но и форма его генеральская железнодорожная, и барский холёный вид, нежная борода сильно отличали его, и не было возможности уехать незаметно. Это зависело от двух-трёх случайных глоток, а потом уже и толпа пристрастилась: неизвестно почему, но не выпустить этого человека! Его дважды ссаживали из вагона, затем потянулись терзать. Уже несколько самосудных ударов досталось ему. Священник железнодорожного госпиталя вышел с крестом и уговорил рабочих отвести Валуева как арестованного в Государственную Думу. Посадили в автомобиль, облепили охраной, тронулись. Но на Измайловском мосту показалось конвою, что кто-то обстрелял автомобиль – как бы не с целью освободить арестованного?! Тут же, за мостом, остановились, высадили Валуева – и к стене. Составилась шеренга из желающих солдат. Валуев снял фуражку, перекрестился и сказал, что умирает за Государя императора. Нестройным залпом всё было кончено. Убитого обшарили по карманам, взяли что было.
* * *
Из 4-го гвардейского стрелкового Императорской Фамилии запасного батальона, квартирующего в Царском Селе, пришла своим ходом к Таврическому дворцу команда в знак того, что батальон присоединился к народу.
Гвардия царя! Ликование.
Присоединилась и Военно-медицинская Академия в полном составе.
* * *
На Сенной площади броневики разбивают магазины с продуктами. Городового привязали к двум автомобилям и разорвали.
* * *
В толпе толк, что кто-то выстрелил с колокольни Сергиевского собора. Вооружённый патруль пошёл проверять. Поднялся на колокольню – никаких и следов. Заподозрили двух церковных сторожей, не переодетые ли полицейские. Обыскали их – нет.
И ещё – поздно ночью второй раз пришли и бдительно осмотрели храм. И опять ничего не нашли.
* * *
Порванные трамвайные провода. Сваленный фонарь. Валяются бумажки, окурки, бутылки. Чей-то потерянный красный бант. Прохожие.
По улице подскакивает легковой открытый мотор. В нём – агитатор: смоляная бородка, фанатические глаза, фальцет на срыве. Кверху выкинута рука с кулаком, весь изогнулся. Что-то кричит о недобитой гидре, о змее.
Покричал – махнул шофёру, помчали дальше.
* * *
Предлагают спирт, не денатурированный.
– А может, из анатомического музея? На чьих-нибудь внутренностях настоян?..
* * *
К вечеру всё больше громят частные квартиры. Стучат – и врывается, кажется, вся улица. С винтовками, пулемётные ленты через плечо: «Отсюда стреляли! Прячете офицеров?» Бросаются на обыск. (Не дай Бог у кого – офицерское обмундирование.) Барышня-хозяйка стоит в нервной дрожи. Ничего не нашли – «ещё вернёмся!» С гвоздика исчезли часы «Лонжин».
А которые солдаты вежливые и не воруют, те, уходя, просят у хозяев «на чай» за свой революционный труд.
У одной дамы в доме Лидваля за эту ночь было десять обысков, каждый раз всё новая партия солдат, требовали вина и еды. Набрав, уходили – но скоро стучали следующие. А направляла солдат – её бывшая прислуга: не поленилась всю ночь дежурить у дома снаружи. Она на днях была рассчитана и обещала барыне «припомнить».
* * *
По мостам – автомобили всё жужжат, всё гудят, всё гоняют. И крики «ура! ура!».
С двух сторон Невы автомобили скрещиваются снопами света, вырывают чёрные толпы в тревожном движении.
* * *
Вечером в городской думе в большом Александровском зале – запись студентов, желающих вступить в состав городской милиции. Являться с матрикулами в подтверждение – а идёт и так. В кабинете городского головы дамы и барышни режут на полосы куски белого холста, сшивают в виде нарукавных повязок. Кисточкой, красной краской рисуют буквы «Г.М.». И прикладывается печать городской управы.
* * *
Вечером пошёл большими мягкими хлопьями всё убеливающий снег.
Улицы плохо освещены: много фонарей побито или проводка попорчена. Окна домов все тщательно завешаны. Там и сям – ружейные выстрелы. Чокают пулемёты.
К ночи сквер перед Таврическим опять совсем обезлюдел. Стоит несколько мёртвых автомобилей. Под снегом покинуты и охраняющие пушки, никого нет возле них.
* * *
Прошёл слух, что на Варшавском вокзале высаживаются фронтовые части! И – всё вокруг дружно побежало, вооружённые бросали винтовки, смежные кварталы опустели.
А на Балтийском вокзале, рядом – и действительно стали высаживаться: школа прапорщиков из Ораниенбаума и ещё доехавшие пулемётчики. Слух понёсся – и у Таврического передавали: у Балтийского вокзала кровопролитное сражение.
* * *
Когда ж удостоверились, что прибывают части, поддерживающие революцию, – Думский Комитет послал туда депутатов, встретить войска речами. Автомобиль для этой поездки дал депутатам великий князь Кирилл Владимирович.
Потом депутаты поехали ко дворцу Кирилла. Он встретил их у подъезда и обратился к ним, сопровождающим солдатам и кучке ротозеев:
– Мы все – русские люди, мы все – заодно. Мы все желаем создания настоящего русского правительства.
* * *
В Москве к вечеру бунтующая толпа ворвалась в Спасские казармы. Тогда потребовали сотню конных из артиллерийских казарм на Ходынке, чтоб очиститься от толпы.
Но и в расположение артиллерийских казарм проникли поздно вечером городские агитаторы – и там тоже начался бунт. Неизвестные забегали в бараки и кричали, чтобы все выходили вон. Уложенные спать солдаты слушали вой – и не снимали сапог. Толпа разгромила цейхгауз артиллерийской бригады – и теперь, вооружённая, стреляя в воздух, круче выгоняла спящих из бараков. Старые солдаты, бородачи, удерживали молодых не выбегать, офицерам не удержать бы. Солдаты забивались под койки, освободители их выгоняли. Но угрозная стрельба частила – и из одного, другого, третьего барака артиллеристы стали выходить. Дежурный прапорщик Зяблов, спрятав свой револьвер, с одной шашкой пошёл уговаривать толпу. А свои: «Не знаем, зачем нас выгнали», «и рады бы спать, да выгоняют». Заводилы и сами, видно, не знали, что делать дальше. Постепенно всех утишил трескучий мороз, и к двум часам ночи разошлись.
Командир бригады приказал офицерской группе вынуть из орудий замки.
221
Инженер Ломоносов мобилизуется.
Пошутил профессор Ломоносов жене, что эти петроградские безпорядки совсем не ко времени начались: во-первых, нарушили ему лечение зубов (к зубному врачу на Пушкинскую в назначенный час не стало возможно проехать); а во-вторых, хотя царский режим и давно пора кончать, это затянувшееся общее бедствие, но, пожалуй, во время войны не самый лучший момент.
А зубы у него оказались запущены потому, что в Петроград он только что вернулся с Румынского фронта, где несколько месяцев пытался восставить и наладить железные дороги. С осени главная переброска войск и поставки снаряжения потекли в Румынию, но именно в этом направлении у нас были самые хилые дороги, ни по какой доктрине не намечалось там воевать. И состояние путей было развались (а у румын ещё хуже), а хуже всего с паровозами, – и Ломоносов как один из ведущих паровозников, притом железнодорожный генерал, и был послан.
Молодым человеком, вскоре после окончания института, почти одновременно, он начал опыты с паровозами, принесшие ему две дюжины книг и славу. Но и везде, где служил, не отказывал он в содействии революционно подмоченным, что естественно для всякого честного образованного человека в России. Иногда и места служб ему приходилось выбирать не только из соображений паровозного дела и личных успехов, но и чтобы подальше от глаз Охранного отделения. Побывал он и начальником тяги самой далёкой и запущенной Ташкентской железной дороги, которую быстро поднял к доходу и расцвету. Но вскоре карьера его взмыла вверх, увлекла в Петербург, и до самых высоких должностей, а поселился он в Царском Селе.
Происшедшее теперь в Петрограде, в общем, можно было ожидать: думские бури последних месяцев приготовляли к крупным событиям. Но сегодня – у Ломоносова были лекции. Однако вряд ли соберутся студенты, а если и соберутся – стоит ли ехать в такой день? действительному статскому советнику можно попасть в затруднительное положение. И Ломоносов по телефону перенёс лекции на завтра, а сегодня и сам вовсе не поехал в город, даже и в контору, остался в покое Царского Села.
Вероятней всего, безрассудны и безнадёжны были все эти уличные столкновения, – но колыхалось в груди радостное. И всё-таки часть солдат стала за народ!
Придумали они с женой совершить перед обедом маленькую прогулку: взяли извозчика и поехали вокруг Александровского дворца. Поехали – проверить подозрение: не сбежала ли царская семья? Об этом был слушок, и очень правдоподобный, потому что волнения перекинулись и в Царское – и это становилось опасно дворцу.
Так оно, кажется, и было: очень мало стражи стояло, и совсем не видно шпиков в гражданской одежде, обычно шныряющих вокруг дворца. Впечатление такое, что во дворце вообще никого нет, как летом, когда царская семья в Петергофе. Да и удивительно было бы, если б они до сих пор не дали дёру.
Возвращаясь домой, встретили на улице каких-то волынцев – часть батальона и почти всех офицеров. Оказалось, часть батальона в городе перешла к восставшим, а эти, лояльные, пришли пешком из Петрограда сюда.
Ну и рабы!
Едва пообедали – жену вызвали в лазарет: по слухам, ночью будут взрывать управление дворцовой полиции, как раз против лазарета, – и всем врачам надо быть на месте, возможны раненые.
Странное время: как будто и многое происходит, каждый час что-нибудь где-нибудь, но всё это рассыпано по разным местам и не узнаётся. Не встретили бы волынцев – думали бы: весь батальон перешёл на сторону народа.
Но сколько бы их ни перешло, хотя бы весь петроградский гарнизон, это ничего не решает. Пришлют с фронта две дивизии с артиллерией – и от всего восстания будет мокрое место. Восстание растёт себе на гибель, оно ничего не может принести, кроме жертв.
А вместе с тем – стыдно и обидно безсилие нашего образованного класса. Все презирают режим, а не могут его столкнуть. Очень тягостно сидеть дома и в бездействии. Решил Ломоносов позвонить по телефону в несколько бойких петроградских семей, где, конечно, близко касаются дела.
Но телефон в Петроград уже не действовал.
Так и просидел вечер дома, в глуши. Уже поздно, к девяти часам, вернулась жена. Рассказала много интересного. Этих волынцев не приняли в казармах стрелкового полка, куда они шли. И несколько офицеров явились в лазарет – сами себя бинтовать, чтобы скрыться тут. Жена категорически попросила их уйти. Потом явилась и попросила убежища жена начальника дворцовой полиции Герарди с детьми, опасаясь взрыва в их управлении, – и поносными словами ругала императрицу Александру Фёдоровну, что из-за неё должны теперь погибнуть столько хороших людей.
Как же далеко зашло! – если и эта ругается. Положение действительно серьёзное. Нервы напряжены, и каждую минуту чего-то ждёшь.
Сели пить чай – звонок во входную дверь. И кухарка, шлёпая босыми ногами по деревянному полу, поднесла служебную телеграмму из министерства:
«Военная. Инженеру Ломоносову. Прошу вас срочно прибыть Петроград министерство путей сообщения, где на подъезде прикажите доложить мне. По поручению Комитета Государственной Думы член Думы Бубликов».
И по голове Ломоносова, гладко выстриженной под машинку от затылка до лба, побежали мурашки. Это что ещё такое за новое? Бубликова он знал хорошо. Но неужели Государственная Дума осмелилась – и зачем? – захватить министерство путей сообщения?! Дума решилась возглавить революцию?
Или это великая страница русской истории, или балаган.
Расписку о телеграмме Ломоносов подписал дрожащей рукой и передал телеграмму жене.
Что делать? Всё – авантюра, всё – до первых войск. Они придут с фронта дня через два и покончат.
Ехать? – просто на расстрел. Или в камеру Петропавловки. Уже поздний вечер. Уютно, спокойно в доме, дети. И покойно в снежном Царском Селе, ни выстрела. Ехать – безумие.
Но кто уже был революционером в одну несчастную революцию – тому не забыть, и пораженье горит. И революционная верность зовёт. И есть понятие общественной совести. Все думают – заодно. А тебя потом упрекнут, что ты испугался. Десять лет ты был – в запасе, тебя не трогали и не звали.
А теперь – зовут!
Сорок лет, расцвет сил, кому ж и идти? Так ходуном расходилось всё в груди – и опасность, и радость, и вера.
Да хоть поехать только посмотреть, это не опасно.
Встал:
– Собери мне сумку на тюремное положение. Еду!
И вынул револьвер из письменного стола.
222
В Военную комиссию пришли генштабисты.
Сдержал слово Гучков – и вечером в Военной комиссии стали появляться офицеры Генерального штаба: полковники Туманов, Якубович, Туган-Барановский. Никого их Ободовский не знал, но тут появился и знакомый ему полковник Пётр Половцов, начальник штаба кавказской «Дикой» дивизии, – прямо с фронта, в лохматой папахе, в черкеске с иголочки, с кинжалом и револьвером, высокий, стройный, с подчёркнутой выправкой и живым сметливым лицом.
Половцова предавно знал Ободовский: когда-то, ещё в Горном институте, лет 16 назад, Половцов передавал ему своё казначейство в студенческой кассе, сам бросая институт и уходя в военное училище. Нельзя сказать, чтоб он к себе располагал, даже наоборот, была в нём холодная перебежчивость и расчёт, но считались знакомы, как-то виделись перед началом войны, собеседник он был интересный – и остроумен, и умён. С фронта? – нет, не совсем прямо, заезжал в Ставку хлопотать по делам дивизии. Такой парадокс: два дня назад был на приёме у царя, поехал через Петроград, а тут… И вот…
Генштабисты внесли в Военную комиссию истинную военную струнку, тон, даже весёлый. Они заговорили между собой в особых интонациях, на особом жаргоне. Тут ещё выяснилось – да кого же Гучков и мог прислать? – что все они из младотурок , той группы офицеров, добивавшихся военных реформ до смены чуть ли не половины командного состава. Поэтому были у них общие клички, общие остроты, общие приёмы.
А уж Ободовский-то тем более всегда был за решительные реформы. И с приходом генштабистов ему очень полегчало, спало невыносимое напряжение, что если чего не сообразишь, то и всё может провалиться. Последнее, что он самостоятельно подписал, – это охрану Путиловского завода, а теперь мог положиться на штаб-офицеров.
Но внутри возник и какой-то странный оттенок неодобрения к ним. Почему бы? Ободовский, придя сюда, ничего не нарушил в своём долге, его место – и было на этой стороне. А они все – что-то слишком легко переступили. Ну что это, два дня назад засматривать в царские глаза – и вот, как ни в чём не бывало – здесь? Тот непреклонный морской офицер, арестованный тут днём, импонировал Петру Акимовичу больше.
А уж Масловский от их прихода вовсе скислился, и сжался в зависти и неприязни.
Но с какой лёгкостью генштабисты сразу вошли в дело как в известное: и какие отделы учредить, и как классифицировать бумаги, и кому чем заняться. Тем более что у них тут же появилась и батальонная Преображенская канцелярия с поручиком Макшеевым, полковые писари с пишущими машинками, и Преображенский музыкантский хор – для связи. И всё это, и самих себя, перевели на 2-й этаж, и там устроились попросторней, хоть и с низкими потолками.
А пожалуй, самое ценное было: генштабисты обладали как будто невидимыми антеннами, выставленными над городом, и могли догадаться, услышать такое, чего остальным бы и не придумать. За один час загадочная враждебная громада Главного штаба стала как бы сотрудником Военной комиссии. Как-то стало сразу само собой понятно, что генерал Занкевич, хотя вчера и командовал войсками Хабалова, но, конечно, никакой не неприятель и вполне может остаться начальствовать Главным штабом. (Сегодня после полудня Занкевич не зря прислал какой-то неважный пакет на имя Председателя ВКГД – дал знак, что признаёт новую власть.) Так же и с генмором – Главным морским штабом – зазвучали телефонные переговоры, будто и не прерывались никогда, и всегда была Военная комиссия Думы – лучший друг этих штабов.
Сразу таким образом получились и сведения, которых иначе неизвестно, откуда бы брать. Во-первых, что Москва присоединяется к движению: от Мрозовского нет и не ожидается серьёзных распоряжений и сопротивления, воинские патрули не враждебны к толпам с красными флагами, а полицейские посты и вовсе сняты.
Великолепно! Восхитительно! Петроград – не один!
Во-вторых, что к революции присоединяется и Кронштадт. (Да скорей можно было удивиться, почему он не присоединился раньше, вместе с Ораниенбаумом.) Там воинские части ходят по улицам с музыкой – и комендант не имеет сил усмирить их.
Петроград – всё более не один!
Но ещё важнее: генштабисты одним усилием умов здесь, в голых комнатах, уже стали угадывать, как им спутать и грозную силу генерала Иванова. Тем же чувством армейского единства они смогли ощутить и эту силу как свой отдел. А память их хранила все армейские сослужения и взаимные знакомства. И кто-то сразу сообразил: в Главном штабе есть такой подполковник Тилли, служивший у Иванова под рукой на Юго-Западном фронте. Так взять теперь этого подполковника – и послать навстречу Иванову связным: чтоб он объяснил положение в городе и что тут воевать совершенно не против кого! – и так обезвредить Иванова. Нет, ещё лучше, просто и гениально, это придумал едкий Половцов: к этому разъясняющему подполковнику да пусть Главный штаб добавит полковника – в помощь генералу Иванову для лучшей организации его штаба! (Или даже – начальником его штаба?)
Действительно гениально! – очень смеялись. Ведь Иванов не выпадает из общей системы российской армии – и вот Главный штаб сотрудничает с ним, а он должен сотрудничать с Главным штабом!
И стали телефонировать Занкевичу.
А из этого анекдота – как слушатели Академии собирались сегодня атаковать Таврический, так очень просто было решено: завтра из этих слушателей сколько угодно наберём себе в Военную комиссию, не откажутся.
Но как ни гениально всё это придумывалось, однако может быть, они по своей штабной замкнутости хуже понимали, чем Ободовский: все их связи, вся их стратегия и карты ничего не спасут, если не будет поправлен революционный дух в казармах так, что масса рядового офицерства сможет возвратиться на свои места – и солдатское доверие встретит их.
И он убеждал генштабистов думать об этом, непривычном для них: им кажется, что младшие офицеры обезпечены само собой, – но это не так.
Тут пришёл от Родзянки сияющий Энгельгардт (ему стоило усилия держать себя выше этих несомненных военных): проект Ободовского обращения к офицерству подписан Михаилом Владимировичем: собираем их в зале Армии и Флота, будем регистрировать и нашим именем выдавать поручения в части.
Хорошо! – радовался и Ободовский. Но с вечно неуспокоенным своим вниманием:
– Господа! А может быть начнём эту работу сейчас, в Таврическом? Ведь тут – немало офицеров, от разных полков, они места себе не находят. Давайте соберём их на совещание сейчас же, вот тут, у нас?
223
Спасённые московцы бродят по Таврическому. – На совещании при Военной комиссии.
Братьям Некрасовым и маленькому Греве в какой-то комнате с толкотнёй и суетой напечатали машинкой на полулистах бумаги удостоверения: «Предъявитель сего такой-то, чин, фамилия, проверен Государственной Думой и должен безпрепятственно пропускаться всюду по городу. Член Думы Караулов». И лихой пожилой офицер в форме терского казачьего войска поставил свою крупную энергичную жирную подпись, поплывшую по бумаге, и напутственно пожал каждому руку.
Но уже отлично понимали наши московцы, что и с этими бумажками нельзя им из Думы даже и высовываться. Уже испытали они, как это бывает, когда никакое спасение не пробрезживает. Повидав, уже не могли они верить, что эти удостоверения выручат их, когда сомкнётся снова толпа расстрелять их и разорвать.
До чего же дошло в одни сутки: как подозреваемых воров, офицеров проверили , и вот разрешали свободно ходить по городу!
Безопаснее, чем в Таврическом, нигде не могло им быть сегодня. Возвращаться в свой батальон нечего было и думать.
Итак, оставались они полусвободными пленниками обширного, многолюдного, гудящего и доселе им неизвестного дворца, куда и в голову им никогда бы не пришло добиваться самим прежде. И вот они ходили и ходили, верней переталкивались, отдаваясь течениям, куда их несло. При свободном времени, как у них, тут много можно было посмотреть и услышать.
В большом круглом зале под несветящим куполом, изощрённо отделанном по всему верху, куда не доставал человек, – внизу до того было намокрено и наслежено грязными ногами, что едва вызнавались крупные паркетные клетки пола. А об лакированный деревянный футляр больших стоячих часов почему-то гасили цыгарки – и весь он стал в заляпах пепла, а кое-где и окурки пристали. Как, впрочем, и на стенах, на уровне плеч.
Тут много было завалено вкруг стен безпорядочными горками, и ещё возили, выгружали и продукты, и военное, целые штабели свинцовых патронных упаковок. А два офицера с унтерами тут же разбивали ящики и на корточках собирали пулемёты из частей.
В этой работе и Сергей и Всеволод могли бы им хорошо помочь, – но для кого это всё? против кого?
В другом большом зале, тоже со стеклянным куполом, белом зале заседаний, – набиты были все возвышающиеся полукруги скамей солдатами: сидели втесную на думских местах, и на ступеньках проходов, курили и безсмысленно глазели. Какой-то новый тип солдатского выражения был тут у некоторых, какого братья за всю службу не наблюдали: тупо-довольное, но не радостное даже, и совсем без налёта готовности, офицеров они и не отличали взглядом. И разительно было видеть столько солдат без строя, команды, организации – просто бродячих, свободных. Дикое впечатление.
А в высоченной дубовой раме за председательским местом свисал лохмотьями изорванный стоячий портрет Государя, аршин в пять высотой. А выше рамы резной венец с короной был не тронут – не достали. Жутко было смотреть, и чувствуешь себя соучастником кощунства.
А между тем и другим залом – в ещё одном великолепном длинном зале, долготою наверно шагов сто, с четырьмя рядами белых колонн и с огромными люстрами, – всё время кипели какие-то ораторствования, сразу в нескольких местах кто-нибудь глагольствовал, подмостясь или не подмостясь. Тут, в Думе, не было подозрения к офицерской форме, все здесь офицеры были как бы примкнувшие к революции, и могли без помех притискиваться к этим сборищам, хоть и сами выступать.
Говорили до потери голоса. Где проклинали кандалы царизма, где вспоминали 905-й год. Совсем непривычные, неведомые речи, никогда такое звучащее не слышали. И не видели таких восторженных курсисток, упоённо внимающих оратору, – совсем неизвестный мир, и неужели это всё существовало в России и раньше?
А один оратор, молодой городской штатский, кричал, что вот царь, забывая о внешнем враге, стягивает силы для похода против народа.
– Мерзавцы, – ворчал одноногий Всеволод, – а сами они не забыли о внешнем враге, когда бунтовали?
Но и ворчать надо было потише, опасно. Царило в массе такое нетерпимое единодушие мнений, которого даже в армии не бывает: достаточно было раздаться полугласу против, чтоб этого дерзкого сразу осаживали с бранью.
Безопасность безопасностью, но мерзко. И откуда так быстро создалось такое внушительное единство? От первых убитых. Вероятно же и здесь не все так думали, но все боялись возражать.
Иногда протискивал через толпу конвой несчастных арестованных полицейских – в мундирах или переодетых в штатское, иногда – в сопровождении жён и детей, не понять – захватили их вместе, или они сами пришли вослед.
Уже достаточно здесь потолкались наши московцы, чтобы заметить, что арестованных уводили на хоры дворца, там были комнаты, приспособленные под камеры, – и там бы сидеть и им троим, если б не встреча с Керенским.
А каких-то видных вели не туда, но первым этажом, коридором в обход зала заседаний. Проводили тут высокого представительного господина в партикулярном платьи с почтенной седой бородой. И он оправдывался перед здешним прапорщиком:
– Я ни в чём не виноват! Я только выполнял свой долг, но, поверьте, нисколько не сочувствовал этим приказам. И совершенно напрасно меня привели сюда.
И противно было от высокого чина слышать такие оправдания, как не мог он думать вчера.
А в голове, повторяя круженье Таврического, кружилось и своё одурение – оттого что мало спали, и от двух расстрелов, и не евши со вчера, – и так досадно было, что сегодня в комнате причетника не позавтракали уже принесенным.
Кого-то в каких-то местах дворца кормили – курсистки и студенты, – в основном солдат, это множество одиночек из распавшихся частей и живущее тут новой единой жизнью. То проносили еду в бачках куда-то. Но офицерам было невозможно идти просить поесть. Да невозможно было и накормить всё это человеческое море. То кричали: «Хлеб привезли!», – и все бросались, душились к выходу.
Всё же какие-то расторопные бойскауты выручили наших офицеров, предложили с подносов по большому бутерброду с колбасой и по кружке чая.
И всё же – безопасность была выше. И оставалось кружиться здесь и день, и вечер, и даже ночь – а перед рассветом, в самое глухое время, когда революционное ликование уложится спать, – уйти по квартирам родственников. И даже разумнее было бы переодеться в солдатское или штатское, – но где же и во что тут!
А пока – всё ходили, смотрели, толкались и всё более осваивались в обширном здании Думы. Уже обнаружили они, побывали в левом крыле, где сохранялся ещё относительный порядок, простор в коридорах, думские служители в ливреях, охраняемые от посторонних комнаты, – здесь-то можно было посидеть, отдохнуть, а то хоть бы и прилечь на пол, московцы так опустились, что готовы были, – но именно тут это было и неприлично. Можно было представить прежнюю жизнь Думы отчасти по этому коридору, отчасти – поднимая глаза ко взнесенным потолкам, карнизам, фигурным верхам колонн, орнаментам, лепке двуглавых орлов, многосвечникам, люстрам, всему ещё не испачканному шарканьем снеговых сапог, – прежняя думская жизнь как опрокинулась вверх дном замершей картинкой. Но и в ту красоту тянул и поднимался табачный дым, густой человечий пар, запахи сапог, сукна и пота.
Около четырёх часов дня раздалась гулко, близко пулемётная стрельба – и началась паника во дворце. Действительно, эту толпу, как баранов, можно было косить тут шутя. Наши московцы обрадовались: свои? надо к ним как-то пробиться навстречу через задние окна в сад. Но тоже пробиться не могли. А потом всё стихло и объяснилось ошибкой.
Шёл вечер, спать хотелось – валились головы, но нельзя представить, где ж в этой круговерти можно офицеру прилечь поспать. Дворец не обещал на ночь обезлюдеть: всё так же горели сотни электрических ламп, и тысячи людей толклись, толклись.
А оказывается, уже стали примечать их характерную тройку как непременную принадлежность здешнего кишения. А кто тут и зачем – знать никому было не возможно. И вдруг какой-то поручик остановил их:
– Ну что ж вы, господа московцы, почему не идёте на заседание?
– Какое заседание?
Оказалось, вот-вот открывается в 41-й комнате на втором этаже собираемое Военной комиссией Думы совещание представителей частей петроградского гарнизона для ознакомления с положением в частях, – и о них трёх так поняли, что они и есть прибывшие представители.
Переглянулись: почему ж и не пойти? Они вполне понимали себя как представители полка, и не худшие.
Повели их ходом, который они раньше и не заметили: там была узкая лесенка наверх, и обычные низкие потолки и комнаты скромные.
В 41-й комнате уже собралось две дюжины офицеров – сняв шинели на вешалку, сидели на скамьях и стульях как ни в чём не бывало, будто в городе нигде офицеров не растерзывали. Только не ото всех батальонов прибыли.
Наши трое тоже разделись. Зарегистрировались.
Лицом к собравшимся сидело три полковника Генерального штаба, чистенькие, неощипанные, как полагается самоуверенные. И ещё один, пожилой, видно, что не строевой, полковник Энгельгардт повёл председательствование. Предложил представителям батальонов докладывать, что у кого делается.
Преображенцы и егеря уверяли, что всё гладко. В Измайловском были убийства офицеров. В Семёновском аресты. Штабс-капитан Сергей Некрасов без труда рассказал, чтó в Московском: разгром караулов, разгром офицерского собрания, наводнение казарм рабочими. (Только о расстреле своей тройки было бы нескромно рассказывать.)
Полковники кивали, что им это известно: Московский батальон более других захвачен рабочими, и в нём полная анархия.
Но, горячо говорил Энгельгардт, нельзя представить себе такой обстановки, чтоб офицеры не могли вернуться к своим солдатам. Тогда кончена армия и кончено всё! Напротив, революционный энтузиазм даст новую основу отношениям офицера и солдата, которых раньше быть не могло, – отношений, основанных на полном доверии и гражданском единстве. Напротив, следует ожидать невиданного боевого подъёма у солдат, который принесёт нам скорую и лёгкую победу над немцами. Особенно в этих условиях внешней борьбы со злейшим врагом России Временный Комитет Государственной Думы намерен высоко поставить офицерское звание. Военная комиссия с распростёртыми объятиями принимает всех офицеров – и тотчас снабжает их полномочиями на их прежние или новые посты.
Сергей покосился на брата.
Ещё слишком помнили они вчерашнее своё размягчение, как отдали оружие солдатам, – и сегодняшних два утренних расстрела. А что они знали об офицерах, оставшихся в батальоне, особенно старших – капитанах Яковлеве, Нелидове, Якубовиче, Фергене? Ещё – живы ли они?
О-о-о, произошло нечто хуже, хуже, невместимое в улыбки Энгельгардта и в бодрые призывы Временного комитета.
Штабс-капитан Некрасов поднялся и сказал в тишине:
– Господин полковник! Господа! Вы же слышали: в батальонах офицеров – убивают. Я вам рассказал: вчера днём мы в этих солдат стреляли и не могли не стрелять, по долгу. Какая ж мы к ним депутация завтра? Вообще, все мы – разве можем вернуться к тому, что было до мятежа?
224
Обед у Манухина с Горьким. – Гиммер дежурит в опустевшем ИК. – Как внести свободу внутрь армии?
Сегодня Гиммеру удалось не пропустить хороший обед – всё-таки товарищи думали о таких простейших потребностях, заботились и друг о друге тоже. Революция – феерия, это замечательно, но покушать с закуской, первым, вторым и третьим – это материальная основа для дальнейшей революционной инициативы. Главное, что удобно – совсем близко от Таврического, в начале Фурштадтской, пошли целой гурьбой. Там жил известный доктор Манухин, когда-то вылечивший Горького на Капри от туберкулёза, – и сам Горький, совершивший маленькую экскурсию по городу, тоже был на этом обеде.
Правда, он же и испортил его. Ото всего виденного великий писатель стался не в духе. Он брюзжал на всеобщий хаос, эксцессы, проявления несознательности, даже на барышень, разъезжающих по городу с солдатами на автомобилях, – и во всём этом видел признаки нашей ненавидимой азиатско-русской дикости, будут вколачивать гвозди в черепа евреев, и это приведёт к провалу замечательно удавшейся революции, а вот европейцы давно бы всё организовали. Гиммеру были просто смешны такие политически близорукие выводы, и он осмелился спорить (независимый ото всех фракций, он и от Горького старался держаться независимо): что дела, напротив, идут блестяще, два неполных дня, а нет уже ни царского правительства, ни охранки, ни Петропавловки, это просто чудо. А все эксцессы, жестокости, глупость – без этого ни одна революция никогда обойтись не могла, такое теоретически немыслимо. (По сути, Горький – обыватель и судит с обывательской точки зрения, вот и показал себя.) Но другие собеседники поддакивали Горькому, что героев в России всегда было маловато, – и Гиммеру пришлось смолкнуть.
А в общем, обед занял много времени. Сговорясь, кто будет ночевать у доктора Манухина, а кто у других знакомых поблизости, разошлись, – и Гиммер ещё часа на два пошёл в Таврический. Он вернулся в отличное состояние и не хотел пропустить ещё доли наблюдения или доли участия в событиях.
Был десятый час вечера. Дворец уже значительно опустел по сравнению с дневным временем, впрочем в Екатерининском сидели на полу, располагались ко сну и уже лежали сотни солдат. Освещение дворца может быть было нормальным в обычное время, но при таком обилии людей теперь казалось недостаточным.
Совет депутатов наконец разошёлся, прозаседав с полудня, но в его просторной комнате всё ещё сидело группками сколько-то раззяв-солдат, сколько-то штатских, всё не могли выговориться о свободе и успокоиться.
В комнате № 13 тоже ещё оставалось несколько необедавших членов ИК – Гвоздев, Красиков, Капелинский, – и Гиммер энергично вошёл с ними в обсуждение всплывавших вопросов.
Оказывается, за эти часы в Совет, почувствовав, что это новая власть, потянулись владельцы газет и владельцы типографий с жалобами на разорение: почему им не разрешают выпуск? Они демагогически апеллировали к принципам свободы печати, что её не может быть при революции меньше, чем до революции.
Как сказать. Чисто теоретическое рассуждение может далеко завести. Гиммер активно вмешался, пошёл разъяснять недовольным, что уже состоялось постановление Исполнительного Комитета. Что здесь нужна осмотрительность, нельзя оступиться в контрреволюционное болото.
А типографский вопрос был острый, и все партии уже нацелили типографии, которые хотели бы себе конфисковать, и требовалось только решение ИК, ещё сегодня не состоявшееся.
Последние члены ИК расходились, а Гиммер обещал теперь подежурить до полуночи.
Без дежурного никак было нельзя, потому что всё время кто-нибудь врывался. Например, какие-то самочинные группы, наметившие арестовать кого-нибудь из зловредных слуг старого режима, но одни решались совершить это до конца сами (и не встречали сопротивления), а другие приходили всё же за устным или письменным разрешением в Совет.
Новое чувство это было для Гиммера, он изумлялся: ещё позавчера, по сути, нелегальный, без разрешения жить на собственной квартире, – вот он сидел в удобном кресле за массивным столом и решал вопрос свободы или тюрьмы для какого-нибудь вице-адмирала – или сенатора Крашенинникова, председателя Петербургской судебной палаты, – а тем более, помнится, который присуждал к трём месяцам думцев за Выборгское воззвание, – так революция это и есть – возмездие! Прежде всего – возмездие!
Чувство всесилия наполняло революционной гордостью: как же всё перевернулось! И каков уже авторитет Совета Рабочих Депутатов, если подпись одного неизвестного члена ИК – вот, высшая сила в Петрограде!
Но если не обманываться, у Гиммера не было уж такой полноты власти: наличествовал разгон революционной стихии, и что Гиммер легко мог – это разрешить арест почему-либо назначенной жертвы, а что было почти безполезно, это – отказать : всё равно учинят сами или возьмут разрешение у кого-нибудь другого.
Да и какие были у него основания отказать в аресте? Такой арест старательного слуги царского режима был a priori справедлив, – и тем более справедлив, чем этот человек был умней и талантливей, а значит – возможный двигатель царистской реакции или вдохновитель монархического заговора.
В министерском павильоне Думы уже сидело под строгой охраной несколько десятков этих высших сановников, и ещё были места для следующих голубчиков. А для тех, кто помельче, – отведены были комнаты вдоль хор зала заседаний Думы, и там уже было заперто, наверно, несколько сот.
Отлично шли дела!
Гиммер подписывал, группы убегали, приходили другие.
И вдруг с большим драматизмом, с криками ворвалась группа солдат человек 8-10, одни со штыками, другие без. Гиммер думал – тоже с арестом какого-нибудь генерала. Нет. Они просто клокотали от узнанного ими приказа Родзянки: возвращаться всем по казармам, оружие сдать назад в цейхгаузы, принять офицеров, а самим исполнять службу. Уже раскусив, где можно найти управу и защиту, солдаты ворвались в Совет в надежде получить приказ противоположный.
Со своей исключительной интеллектуальной силой Гиммер во мгновение оценил, нет, узнал момент, который должен был прийти! Ах, как же просчиталась буржуазия! Им не терпится вернуть армию в руки офицеров – и они поторопились, они просчитались, они получат обратный эффект! Роковой момент, ожидающий такого же громоносного решения Совета, а сейчас – его лично, Гиммера!
Маленький, он – вскочил навстречу крупным солдатам, пожимал им всем руки, даже некоторым по два раза, благодарил, что они пришли, благодарил за пролетарское доверие, приглашал их всех сесть, – и, только когда все уселись, опустился в кресло.
А сам тем временем – соображал, как вихрь, в густоте политического сплетения. Он как будто начал беседу с солдатами и всё время что-то подбодряющее говорил им, на самом деле при всей ясности вопроса он не имел права сейчас высказать вслух решение, но просверливал его, чтобы представить товарищам по ИК.
Ещё бы не понятно было это солдатское состояние! – боязнь утерять мелькнувший призрак свободы и новой жизни. Конечно, оно обращалось недоверием и распалённым негодованием против офицерства. И это состояние надо было уметь использовать для хода революции! А – как? А – как?.. Вот не хватало практической политической хватки.
Пока что Гиммер мог обещать солдатам только: всё тщательно расследовать и поставить об этом вопрос на заседании Исполнительного Комитета.
А вскоре после их ухода ворвался – он всегда не входил, а врывался – Соколов. Он слишком задержался на обеде, но тем более был шумен и весел.
Гиммер схватил Соколова за пуговицу и стал обсуждать с ним общую постановку армейского вопроса, как он вставал теперь перед Советом. Не то чтобы Гиммер надеялся получить решение от безтолочи Соколова, но в беседе с ним думал отточить собственное. Вот есть такое распаление солдат: не возвращаться в повиновение офицерам! Такое настроение должно быть правильно канализировано. Это же неповторимый момент! Маркс и Энгельс говорили: дезорганизовать армию – это и условие победоносной революции, и её результат. И установка Циммервальда – вырвать армии из-под буржуазного господства. Слышал ты про такой приказ Родзянки?..
Раз в воздухе носится – конечно Соколов слышал, чтó может его миновать! Правда, самого приказа никто в глаза не видел.
Хорошо, пусть такого приказа даже нет. Может быть, его и нет. Но достаточно было сегодня днём послушать возмутительные выступления Родзянки и Милюкова перед приходящими войсками – там всё это и содержалось: «Возвращайтесь в казармы, повинуйтесь своим офицерам!» Но это есть лукавая атака на все достижения солдатской свободы. Цензовые круги открыто и безстыдно призывают к порядку, к подчинению, послушанию – пытаются опять загнать революционных солдат в офицерские ежовые рукавицы. «Восстановить порядок»! – так для этого самого и движется генерал Иванов!
И вот какую тактику предлагал Гиммер. Конечно, не выбрасывать открыто антивоенных лозунгов. Мы их пока молчаливо припрятали, и это совершенно верно: пока царизм ещё не побеждён окончательно, пока революционная власть ещё не освоилась и не укрепилась. Но вместе с тем не можем мы допустить, чтобы массы революционных солдат снова попали в плен к офицерству. Совершившийся выход их на свободу неповторим – и нельзя допустить простого возврата в казармы. Нужно нам, Совету, немедленно, завтра же, предпринять какой-то революционный шаг, который обновил бы все взаимоотношения внутри армии, создал бы в армии – атмосферу политической свободы и гражданского равноправия!
Соколову – очень понравилось, он – со всем согласился.
Что-то надо сделать, иначе какие ж мы циммервальдисты?
225
Милюков предвидит, что Дума умрёт. – Впечатление от князя Львова. – Комбинации по формированию правительства.
Ездил сегодня утром Милюков на Охту в 1-й пехотный полк – и зарёкся, больше по полкам не ездить, это не его работа. На большом плацу пришлось лезть на высокую вышку и оттуда на морозном воздухе кричать, надрывая себе горло – втолковывая неведомой солдатской толпе самые элементарные вещи: что общественную победу надо закрепить, для этого сохранить единение с офицерством, а иначе их полк рассыпется в пыль. Офицеров же призывал (они уже были готовы и рады тому) идти рука об руку с Государственной Думой и помочь организовывать власть, выпавшую из рук старого правительства, захлебнувшегося в своих преступлениях.
И не только было ему физически трудно, неприятно произносить эту речь, и не только не ощутил он реального эффекта от неё, но было до безобразия безсмысленно ему этим заниматься. Найдутся лужёные глотки. Стихия Павла Николаевича была публика университетская или даже западная. С армией что он имел общего? Только то, что сын его неразумный после гимназии кинулся добровольцем и погиб в Галиции.
Милюкову ли сейчас ездить на эти речи низкого уровня, когда именно в его голове столько мыслей, сложностей, планов, и всей силой своего интеллекта и предвидения он должен безпощадно пронизывать быстропеременчивую ситуацию.
Что видели все, что было доступно каждому? Что грозит анархия из-за подрыва офицерства. Что силы реакции ещё не разбиты, и движется извне карательная экспедиция генерала Иванова. И за этими внешними событиями упускали созидательную структуру: как же именно надо теперь организовать власть? Никто ещё, кажется, не понимал, какие напряжённые опасные двусмысленности возникали даже в тех немногих нескольких комнатах, где затаилось последнее, что осталось от Думы.
Первая двусмысленность и была – сама эта Дума. Хотя именно в её громких заседаниях, на крылах её авторитета и вознеслись над Россиею все они здесь, хотя ещё вчера клялись Думою и ещё сегодня войска приходили приветствовать именно Думу, и Комитет был Думский, и сам Милюков именем Думы приветствовал 1-й пехотный полк, и все раздували именно ореол Думы (как видно теперь – непомерно), да и сегодня среди думцев ещё никто не сообразил и не мог бы высказать сомнительного суждения о Думе, – лидер думского большинства и лидер кадетской партии отчётливо и холодно понял: Государственная Дума – умирает. Даже – умерла, где-то между вчерашним и сегодняшним днём. Думы – больше нет, это фикция, от которой пора отрекаться, истинный политик должен отмечать подобные факты без сентиментального сожаления.
Парадокс, какими богата история: более всего добивалась Дума падения царского правительства. А едва добившись – сама стала ненужной. Дума – отыграла всё полезное, что она могла дать, а в нынешние часы вся суть перетекала к новой правительственной власти, которую ещё надо было организовать и взять в руки. Дума не может быть авторитетна в такой шаткий момент.
К тому же авторитет Думы, в своё время заслуженно возвысив её лучших лидеров и ораторов, внёс и вредное наследство: тем, что непропорционально вознёс также и авторитет её председателя в глазах общества, но ещё непоправимей – в собственных глазах Родзянки. И теперь он не способен, да и не старается понять истинного соотношения сил и своей ложной роли: из его раздутости ему кажется, что это по его санкции создался Временный Комитет, и по его санкции будет создаваться новое правительство, и сам же он его возглавит. И надо бы поскорей всё вскрыть и назвать, но не удаётся: вчера ночью Родзянку же ещё заставляли взять власть для Комитета, без этого не было пути. А когда Родзянко преодолел свою трусость и решился, – он тут же с первобытной простотой потребовал ото всех членов полного себе подчинения – какого-то неслыханного феодализма, которого не было даже в царских правительствах. Все думцы и Милюков просто остолбенели. Для таких случаев была у них о Родзянке известная фраза:
Вскипел Бульон, потёк во храм.
Остолбенели: каковы же аспирации, ничего себе! Но в ту минуту возражать было ещё рано. А вслед за тем грянула новость о карательных войсках, и тем более Родзянко стал нужен, чтоб остановить войска. Так и держался весь сегодняшний день невзорванный нарыв, и приходилось его толерировать.
А тем временем по вызову Милюкова сегодня из Москвы приехал уже и князь Георгий Львов. И надо было принять Львова в Таврическом и не сталкивать их носом к носу с Родзянкой, тоже дипломатия. А Львов так жаловался по телефону на усталость и очень просил, нельзя ли отложить встречу на завтра. Это неприятно поразило Милюкова: как можно настолько не чувствовать темпа событий!
Приехал. Сели беседовать с ним в одной из комнат. Милюков пытливо – так близко и так пристально, как ему ещё не приходилось, смотрел на этого очень аккуратно причёсанного, волосок к волоску, очень чистенького, очень вежливого, очень мягкого князя, – может быть потому так отличного от них тут всех, таврических, что он не провёл безсонной ночи во дворце, а хорошо спал в поезде и ещё после поезда на частной квартире привёл себя в порядок. А может быть потому, что он московский? А может быть потому, что он земский и никогда политическими делами, если раздуматься, не занимался, кроме последних месяцев всеобщего ажиотажа? Да, вот парадоксально! Во все твёрдые глаза смотрел Милюков на князя и удивлялся: как будто он не наш , из другого теста, не из общего потока общественности, не возбуждается, не тревожится тем, что всех их возбуждает и тревожит. Он как будто не ощущает обжигающих событий вокруг или, во всяком случае, опасается вмешаться в них.
Львов высказывался осторожно, благостно-расплывчато, а когда можно было вообще не произносить, а слушать, – то предпочитал слушать.
И засосала в груди Павла Николаевича самая тоскливая тоска, какая только может быть: тоска сделанной собственной ошибки. Как будто – не с той женщиной обручился, а свадьба вот уже подкатывает, – не вырваться, не исправить. Эту кандидатуру вместо прущего, давящего Родзянки Милюков сам же и предложил, и продвигал, доверясь земской славе князя, времени не имев проверить самому. А теперь – все поверили и приняли, и Львов приехал, и поздно переигрывать.
Да собственно, он – неизбежен, Львов. Только на такую нейтрально-общественную фигуру и согласятся левые. А без левых в правительстве нельзя, надо восстановить с ними утерянный фронт.
Да даже угадывал Павел Николаевич и раньше некую слабость князя Львова, но думал, что это-то и облегчит потом отстраненье его. Не рассчитал, что власть придётся передавать в такие бурные дни, как сейчас: никто не мог предвидеть такой мгновенной и решительной катастрофы.
А засосало, что на таком кандидате можно всё проиграть, даже и временно не продержаться.
Подсели ещё несколько депутатов, разговаривали. Выглядело как пустой салонный разговор, а не приход вождя. И на тихий вопрос своего соседа:
– Ну как?
ответил Павел Николаевич тихо:
– Шляпа!
И это было то самое основное лицо доверия , на котором должна была теперь успокоиться вся Россия!
Посидел-посидел князь Львов как в гостях, и даже в голову не пришло ему остаться бы в Таврическом на ночь, обсуждать состав своего же правительства, быть наготове к возникающим обстоятельствам, – посидел, откланялся и ушёл почивать на квартиру.
Да Милюков его даже не уговаривал: подумал, что самому вести торговлю о правительстве будет и проще. Он сегодня и на кадетском ЦК, за завтраком у Винавера, также обошёл обсуждение состава новых министров, это было не нужно.
Милюкову и вообще по-настоящему никто не был нужен или близок. Даже с самыми смежными товарищами по партии он избегал отношений личных: утомительно было распространять симпатию на частные стороны жизни и не менее утомительно встречать такую симпатию к себе. То ограниченное количество нежности, которое отпускается нам от рождения, естественнее и приятнее потратить на дам или единожды в жизни решиться даже на смену жены.
Но сейчас попадал Милюков в изоляцию бóльшую, чем даже привык и хотел бы. Шингарёв был – тень его, работник, но не вождь. С болваном Родзянкой он еле себя сдерживал. С Маклаковым всегда была отдалённость и неприязнь. С Винавером – соперничество, да он сейчас не в игре. С Некрасовым – стычки. С Гучковым – глухая давняя вражда. Из тех, кто сейчас тут вокруг вращался, Милюков едва ли даже не предпочёл бы Керенского. Но!
Но! Punctum saliens! Давно Милюков подозревал и замечал, его предупреждали, а в эти критические часы он даже и убедился, что между этими столь разными людьми, как кадеты Некрасов и Коновалов и квази-эсер Керенский, даже немыслимых, кажется, в соединении, существовала и вот явно проявлялась какая-то сокрытая связь, неожиданное согласие в самых парадоксальных вопросах. Как будто они специально по каждому вопросу успевали сговориться втайне от Милюкова.
Безсомненно, эта тайная связь не могла быть ничем иным, кроме так известного, но и так тайно и успешно скрываемого масонства. Масонство – оскорбляло Милюкова. Ему предлагали вступать, даже не раз, он всегда отказывался. Не только его рациональной натуре была чужда, коробила всякая мистика, – но даже это казалось какой-то невзрослой игрой. А ещё и нечестной, ибо масонство отменяло всякие личные таланты и заслуги, заменяя сговором членства. Это было бы подавлением индивидуальности.
Но, как в переплывающее тесто, – нельзя было в масонство твёрдо ударить, указать, критиковать. Мнимая пустота и мнимое недоумение.
Так и сейчас при подборе кандидатов в министры – чем иным можно объяснить такое противоестественное единство их мнений: ввести в правительство – Терещенку, бездельного молодого миллионера, ничего не умеющего, ни к чему не приспособленного и никому не известного. Просто скандал, как это можно будет представить публике? Что за него были Гучков, Коновалов – ещё можно было понять, они дружили и вместе в военно-промышленном комитете. Но почему – туда же и Некрасов, столько мотавший кадетскую фракцию своею левой оппозицией? Почему и Керенский, вопреки всем своим партийным позициям – тоже за Терещенку? Только – сговор.
Милюков изо всех сил старался их расколоть, играя именно на Керенском, но ничего не выходило.
Керенский, в эти дни всеобщий кокетливый герой, вёл себя исключительно непринуждённо. Он всё время вбегал и убегал, заботясь сыграть свою роль в обоих крылах дворца, а больше всего – посередине, в массе, то где-то принимал арестованных, то приносил кем-то безтолково притащенные в Таврический документы, – и во всём рисовал себя спасителем. То разваливался рядом на диване, готовый теперь уже до утра обсуждать состав правительства. То через пять минут вскакивал и опять убегал.
Ещё не был принципиально решён вопрос, войдут ли в правительство социалисты, – а они могли потребовать много мест. Переговоры с ними ещё формально не велись, а приглашались пока персонально Керенский и Чхеидзе, они же оба не хотели соглашаться без Совета депутатов. Но счастливо упоённые глаза Керенского выдавали его: здесь, на диване, обсуждение состава правительства конечно были счастливейшие его минуты. Да иначе быть не могло, всегда Милюков был уверен в его политическом реализме. Никакая социалистическая игра не могла же сравняться с увесистым министерским портфелем. Каким именно? Для третьестепенного адвоката трудно было придумать что-либо, кроме министерства юстиции.
Но тогда окончательно оттеснялся кадетский кандидат Маклаков. Но это было и неплохо: Маклаков всегда был кадет какой-то ненастоящий.
А куда совать Терещенку? Совершенный ребус.
Тут вбежали с сенсационным известием: в Думу явился Протопопов!
Сам?? Потрясающе! Побеждающе! Какое возмездие! Уже ничто не могло остаться на местах! – Керенский взбросился на половине фразы и унёсся вершить власть. Многие любопытные поспешили за ним. Зрелище было, конечно, пикантнейшее.
Однако Милюков не пошёл. Во-первых, его положение было слишком солидно, чтобы выйти досужим зрителем. Во-вторых, политический противник имеет значение лишь пока он занимает позиции. А лично , – лично Павел Николаевич так же никого не ненавидел, как никого и не любил.
226
Арест Протопопова.
А происходило вот что. Протопопов, в дорогой шубе, пришёл в Таврический и вошёл внутрь, никем не узнанный. И может быть, мог так и дальше идти, хоть и в Думский Комитет, но растерялся в новой обстановке дворца, нервы его не выдержали. Он сам выбрал и обратился:
– Скажите, вы студент?
– Студент.
– Пожалуйста, проводите меня к членам Государственной Думы. Я – бывший министр внутренних дел Протопопов.
Первый раз он назвался бывшим . И тут же, неврастенически играя выразительными глазами, добавил, что желает общего блага и потому явился добровольно.
И настолько это получилось частным образом, и настолько его не узнавали, – да кто его знал? солдаты его не знали, и фамилии не слышали, – что студент спокойно потолкался с ним вместе до какой-то комнаты, где сидели беседовали члены Думы.
Те – изумились (даже больше, чем возмутились). А Протопопов – мял меховую шапку в руке и с неврастеническим извинением улыбался, и пытался говорить приятные фразы.
Тут, среди думцев, не нашлось железного человека, который бы распорядился, но, разумеется, никто не пригласил его и сесть. Так он стоял и мялся у дверей.
Но кто-то мгновенно бросился с известием – и вот уже в распахе двери показался струнно-гневно-неумолимый Керенский. Он был вытянут, сколько допускали кости, строг, бледен и даже прекрасен.
И обернувшийся Протопопов, со всем раскаянием, заискиванием и надеждой, произнёс почти невозможное, никто ещё так не выражался:
– Ваше превосходительство! Отдаю себя в ваше распоряжение.
Да отроду не слышали! да не готовы были услышать такое его уши! Но и это же – отчасти умягчило его сердце. Хотя он так драматически звонко объявил, что слышали за дверью и все в густом коридоре:
– Бывший! министр! внутренних! дел! От имени! Исполнительного! Комитета! – (непонятно было, думского или советского) – объявляю! вас! арестованным!
На крик стали толпиться за дверью и даже внутрь. Никто этого облезлого барина не приметил, а он оказался самый главный враг, чо ль?
Арестованным? Протопопов, счастливо облегчаясь, будто этого только и ждал, и желал! – имел однако безтактность подшагнуть к Керенскому и пытался сказать ему что-то конфиденциально.
Но безпорочно недоступный Керенский отклонил недостойного властным движением узкой руки – и ею же взмахнул само собой появившемуся конвою, указывая вести.
И, двинувшись вперёд, той же рукой трагически помавая, восклицал к толпе:
– Не прикасаться к этому человеку!
Коли б он не кричал – никто б того барина и не подумал трогать, а тут уже и руки сами вытягивались, время такое – укажи, кого рвать. Вот-вот на темя ему могла опуститься рука или приклад.
Протопопов бросал отчаянные взгляды, вымаливая себе откуда-нибудь спасение.
Может и пожалели.
Как прокажённого, как ведомого на казнь или ещё что худшее, с ружьями наперевес, повели этого, в шубе съёженного, – и толпа расступилась, отдавая его на расправу несомненную.
Так и шли, через Екатерининский наискось, а потом коридором до министерского павильона, и сквозь пару преображенских часовых.
И только за последней дверью Керенский, уже не так вопленно, голосом уменьшенным, но всё ещё неподкупно строго объявил прапорщику Знаменскому:
– Господин караульный офицер! Бывший министр внутренних дел желает сделать мне какое-то секретное сообщение. Потрудитесь провести его в отдельную комнату.
И сам снисходительно прошёл туда же.
Протопопов, пережив спасение от толпы, с горячечно благодарными глазами за самую малую тень покровительства, повторял так пришедшееся:
– Вот, ваше превосходительство… вот…
И совал Керенскому какой-то ключ.
Он так был нервически потрясён, слова не выговаривались чётко, – Керенский не сразу понял, что этот ключ – от ящика письменного стола в министерском доме на Фонтанке. А в том ящике найдётся другой ключ, уже от несгораемого шкафа. А в том шкафу в газету завёрнуты 50 тысяч рублей, принадлежащие графу Татищеву.
– Зачем же там его деньги?
Протопопов даже извивался плечами, так ему было стыдно. Речь вернулась к нему, он говорил быстро и сбивчиво.
Собственно, это уже деньги не графа, а министерства внутренних дел. Они принесены в вознаграждение за некоторую поблажку. Но Протопопов, разумеется, не взял себе ни копейки. А так и было решено, что деньги эти пойдут на помощь семье убитого Распутина.
А теперь Протопопов жертвует их новой власти.
227
Режим и узники министерского павильона.
Подхватистый преображенский унтер Фёдор Круглов, самозваный начальник караулов по Таврическому, быстро сообразил, что ни один из постов его, часто сминаемых толпою, не имеет такого значения, как этот – у входа во временную тюрьму бывших министров.
Никогда Круглов не служил тюремщиком, вряд ли сидел и сам, но по наклонности быстро усвоил, может быть, слышанное урывком, и сегодня с утра, когда стало подбывать высокопоставленных арестантов, он толково применял тюремные правила: должны были все арестованные быть обысканы и всё из карманов отнято; должны были все арестованные целосуточно сидеть на стульях и в креслах, а не лежать на диванах (которых и не могло на всех хватить). И никто из них не мог встать пройтись, расправить ноги, пока не будет дана, в день раз или два, общая для того команда. И не подходить к окнам, иначе из сада будет стрелять часовой. Чтоб сообщить о своих потребностях, должен был арестант поднять руку и молча её держать.
Несколько раз приходил сюда Керенский как главный шеф арестного дома. Он же объявил и порядок всеобщего гробового молчания: не должны были арестованные разговаривать между собой, даже обмениваться самым незначащим, а только отвечать на вопросы караула и должностных лиц.
Для уследки за всем тем по комнатам у стен расставлены были вооружённые солдаты. (На эти посты, по ротозейности их, добровольцы всё время находились.) Сам же унтер Круглов, отрываясь от других постов, всё чаще и чаще приходил сюда и прохаживался тут, вокруг сидящих, удивляясь судьбе, вознесшей его надо всеми вельможами.
И Керенский так был им доволен, что властно положил свою лёгкую руку ему на погон:
– Пришейте себе четвёртую нашивку, я вам добавляю!
И хотя во всей русской армии ничего подобного не было – четвёртой унтер-офицерской лычки, Круглов сообразил, что это сильно его возвышает, – и к вечеру она была вырезана и пришита, удивляя сидящих тут генералов.
У Круглова были углубистые глаза и лаистый голос, он обрывал попытки говорить или просить. И когда кто-то из обслуги обратился к сидящим «господа», он окрикнул: «Не господа, а арестанты!»
Чем сильней давать перевес, тем крепче будет новая власть.
И вот в этом одноэтажном павильоне, сбоку пристроенном ко дворцу, так и предназначенном для министров в перерывах думских заседаний, теперь собирались – частью министры последних правительств, частью разные сановники или видные деятели (иногда по случайному капризу обстоятельств или мстительности своих врагов). Большей частью они пришли сюда одетые тщательно, в крахмале и отутюженности, они вообще не одевались иначе. Некоторые из них, самые важные, попали за овальный стол в зале министерских заседаний – как будто для важного заседания.
И они – всё имели в голове, без бумаг, для такого обсуждения. Тут было три премьер-министра, и много долголетних министров, и все они не раз писали весьма рассудительные докладные своему Государю и делали всеподданнейшие доклады – со значительным пониманием государственных проблем, гораздо более высоким, чем их обвиняли в Государственной Думе. И все они держали в памяти череду государственных дел, осуществлённые и упущенные возможности за много лет, – и так лучше многих членов Думы могли оценить всё происходящее, утешая или растравляя друг друга. Все вместе они держали в голове ещё цельный образ и смысл государственной России, – но обречены были никому его не передать, и самый обмен мнениями был им запрещён.
За соединительным коридором гудело многотысячное солдатское море, невообразимо перемешивались лица, – тут люди одного слоя и тона были посажены каждый как бы в невидимую одиночную клетку – травить самого себя собственным бедственным жребием. В этой неподвижной затёклости и молчанке вокруг общего большого стола государственные соображения в их головах были затмены и утеснены собственной бедой. И всего-то они могли ждать только – как бы им поесть, да разрешили бы ночью не сидеть, а прилечь, хоть и в этой одежде, хоть и мучение не менять одежды на ночь.
Сперва через окна вливался ярко-солнечный день, потом он перешёл в пасмурный, даже со снегом. Однажды сильно стреляли близ дворца, так что металась надежда на освобождение. Но кончилось ничем. И вот потянулся изнурительный долгий вечер при лампах.
Самого последнего ненавидимого правительства, которое только что было свергнуто, как раз почти и не было: ни Беляева; ни Протопопова, которого, роя землю, искала вся столица, а числили уже в Царском; ни Риттиха, ни Раева; ни Покровского, ни Кригер-Войновского, ни Григоровича, – к трём последним благоволило общественное мнение, а главные разыскиватели на арест были студенты. Сидел тут только князь Голицын, столь же недоуменно-неуместный здесь, как и недавно во главе правительства; да стареющий эпикуреец Добровольский, наиболее комфортабельно попавший под арест: сам позвонил о сдаче из итальянского посольства, и Родзянко прислал за ним автомобиль; да более всех виновный Рейн, несостоявшийся министр здравоохранения, запрещённого Думой; да позже привели Шаховского, Барка и Кульчицкого.
Зато были два предыдущих премьера – 77-летний хладнокровный Горемыкин с опущенно-разведенными бакенбардами, не упустивший прихватить с собой и коробку сигар, сокращавших ему тут время. (А привели его, навесив для глумления поверх шубы цепь Андрея Первозванного.) И 70-летний Штюрмер с помятой вялой бородой и дрожащей челюстью. Зато было несколько заместителей министров – иногда случайных, иногда известных твёрдыми убеждениями. Зато памятливое общественное мнение выхватило сюда, вдобавок к Щегловитову, – врача Дубровина, председателя Союза Русского Народа, и нескольких видных правых из Государственного Совета – Ширинского-Шихматова, Стишинского. (А митрополита Питирима, как он расслабился и заболел у самых дверей, так и не довели, отпустили.) Обман Хабалова не помог, арестовали и его. Несколько чинов градоначальства, во главе с Балком. Злополучный хлебный уполномоченный Вейс. Попался и Курлов, никак не ожидавший себе ареста и застигнутый дома утром, – сидел вот, низкорослый, с прищуренным одним глазом и сигарой в углу рта. Несколько генералов, начальник Военно-медицинской Академии, начальник военно-учебных заведений да начальник военно-морского корпуса вице-адмирал Карцев, да адмирал Гирс, да начальник управления железных дорог. А остальные – мельче, незначительней, и не все уже принимались в этот павильон, отводили их на второй этаж.
Так, кроме нескольких сильных лиц уверенных убеждений, состав собранных арестантов поражал своей незаконченностью: неумело ли были проведены аресты? или некого было в императорской России брать?
Новые узники сидели в своих прозрачных одиночках по нескольким смежным комнатам, иногда открывался вид из двери в дверь, можно было досмотреть туда и так догадаться, кто уже попал и кто ещё не попал. Сановные пленники ревниво оглядывали друг друга, с удовлетворением находя знакомых («не я один») и с завистью не находя известных одиозных лиц, как Николай Маклаков или Протопопов. С обидой видели, что главный виновник всех последних месяцев – словчил и ускользнул! Но вся свобода узников была – вертеть молчаливой головой да жаловаться про себя.
Вся их оставшаяся свобода была – под столом подбирать ноги или отпускать их. Выход в уборную разрешался по одному, с выводным, не часто и не сразу, как старикам бывает и трудно. Вот только когда узнали они неоцененную степень своей бывшей свободы, даже в обиженной отставке: передвигаться, разминать ноги или давать хребту отдыхать в постели.
Иногда несколько курсисток приносили им поесть: бутербродов и чая, так и ставили на столы перед ними. То и было всё разнообразие в их суточном сиденьи.
Да с важностью входил Керенский, обходил комнаты напряжённо-торжественной фигурой:
– А, Стишинский! Однако вы могли бы встать, когда с вами разговаривает член Комитета Государственной Думы.
Керенский привёл и прапорщика Знаменского, никому не известного своего приятеля, объявив его начальником караула павильона, над Кругловым. Курсисткам Знаменский назвался, что – педагог, но прирождённая хватка у него оказалась тоже тюремная и сильный голос для окриков, хотя он обращался мягче Круглова. Однако весь установленный жестокий режим при нём не ослабел. Так же с зычностью поднимали призрачный мир сановников:
– На прогу-у-улку! Внимание, часовые! В случае неповиновения – применять оружие! Всем, всем подниматься!
Но не приходилось им надевать пальто, шуб (да деть их было некуда, сановники так и сидели просто в них или держа их под собою в креслах), – а вставали, как были, иные пошатываясь, и, повинуясь педагогической длани Знаменского, – шли гуськом в затылок вокруг своего стола, по-за стульями, по-за креслами своих коллег, раз в круг добредая минуть и собственный свой стул.
И так брели они этой странной вытянутой вереницею, только пожилые и старики, чередуясь гражданские в белом крахмале и военные с тяжёлыми витыми эполетами, все дородные, все вальяжные, многие ходившие в придворных церемониях, а вот теперь здесь, – отсиделыми ногами, а кто с кружащейся головой, без права поворачивать ею, лишь глазами коситься, – замкнутой овальной чередой, как не ходят нормальные люди, и уже некоторые не зная вскоре, не лучше ли рухнуться в своё кресло, – пока не звучала тем же густым голосом команда:
– Са-дись по местам.
Было ещё у стен полдюжины коротких бархатных диванов, и прапорщик Знаменский определял на глазок, кому разрешить на ночь лечь.
Молчали гробово. Только растравленный адмирал Карцев несколько раз за вечер вдруг вскрикивал сильно:
– Дайте воздуха!.. Душно, дайте воздуха!..
228
Грозные слухи в царскосельском дворце. – Только не кровопролитие! – Императрица обходит роты.
События кипели где-то, но к царскосельскому Александровскому дворцу докатывались только слухами и более всего не через должностных чиновных лиц, а через прислугу. Слух был, что в Петрограде убит камергер Валуев. Слух был, что пробрался в Царское начальник петроградского Охранного отделения генерал Глобачёв, его отделение разгромлено со всеми тайными бумагами, – но это он рассказывал начальнику дворцовой полиции, а сам не сделал попытки доложиться императрице. Пришёл ужасный слух, что подожжён дом графа Фредерикса, а графиня отвезена в больницу. Похоже было, что в Петрограде и всё разгромлено, что могло стоять, что было властью, а новый думский комитет Родзянки не владел положением. И даже, рикошетом от столицы, достиг слух, что и сам Протопопов – в Царском, и даже прячется здесь, во дворце, или у Вырубовой, – и из-за этого будут громить дворец. (А что Вырубова приносит несчастье – это вся прислуга почему-то считала так.)
Ах, Александр Дмитриевич, надежда царской семьи! – отчего же он не спас ничего?..
И в самом Царском усилялось брожение. Говорили, что броневики подошли к Софийским казармам стрелков и поднимали их куда-то. Что в царскосельской ратуше собирались солдаты и офицеры. Изредка издали доносились выстрелы – как будто громко кололи дрова. К вечеру сгустилось ощущение подступающей опасности.
Но ничего реально дурного не происходило близко, никакие мятежники на виду не появлялись – и свободен оставался проезд к Фёдоровскому собору, где в 7 часов был назначен молебен о здравии цесаревича. Государыня поехала с единственной здоровой Марией, а также немало офицеров Конвоя и Сводного полка.
Чудный был молебен, но душа не стала легка. Возвратились во дворец так же безпрепятственно, однако здесь – то от баронессы Буксгевден, то от четы Бенкендорфов, мадам Шнайдер и от Лили Ден, государыня узнавала жуткие новости, которыми уже был угнетён дворец: в Царском солдаты разбили несколько винных лавок и погребов – и это были императорские стрелки?? Да и при закрытых окнах стала слышна безпорядочная стрельба, а при открытых форточках – и игра военных оркестров, то как будто гудел морской прибой или как изображают шум толпы в операх. Передавали, что освобождены арестанты из тюрьмы. Но самый страшный слух был, неизвестно как пришедший, но уже уверенный во всём окружьи: что из Колпина к Царскому валит огромная толпа, называли тридцать и триста тысяч, тамошних рабочих и всякой восставшей черни, – идут сюда, громить дворцы!
Но, правда, немалая же сила стояла и на охране дворца. Прямо во дворце, в его обширных подвалах и примыкающих казармах, были собраны: две роты Конвоя – терская и кубанская, одна рота железнодорожного полка, два батальона Сводного гвардейского – и уже пришли из Александровки две роты родимого Гвардейского экипажа, и ещё была батарея воздушной охраны во дворе, пушки которой теперь наклонили и направили к воротам. И несколько дворцовых генералов было во главе, а генерал Гротен – и воевавший, с фронтовым опытом. Вдоль дворцовой ограды вкруговую была расставлена цепь. Вне ограды разъезжали верхом казаки Конвоя.
Сила была немалая, и все преданные, все верные, готовые к защите – и против них разрозненные, расстроенные солдатские толпы не должны бы иметь силы, да они не пытались и приблизиться.
Но вдруг сами воинские начальники обнаружили, что их части, так долго содержимые для лейб-защиты Их Императорских Величеств, – как же могли быть применены? Если принимать бой и защищать дворец – то при перестрелке могут получить повреждение члены августейшей семьи, да и сам дворец?
Обратились за разъяснением к Ея Величеству.
Александра Фёдоровна сохраняла всё мужество и наружное спокойствие, она словно совсем перестала испытывать в эти дни свои безпрерывные измучивающие болезни. Она была здесь сейчас как бы старший из генералов, первый комендант своей дворцовой крепости, несомненный начальник этого пёстрого гарнизона. И власть была ей дана – пожалуй, впервые в жизни, не опосредствованно, не через влияние на царственного супруга, не через приказы послушным министрам, не влиять-уговаривать, – но прямая власть применять силу и открывать огонь.
И, всю 45-летнюю жизнь томившаяся от невольной женской своей ограниченности, от того, что не открыта ей прямая власть над событиями, – в этот великий день событий и при собранной всей своей решимости, смелей и властней всех этих придворных мужчин и генералов, – императрица почувствовала, что уверенность решений изменяет ей. Все предметы вдруг задвоились, затроились – и она перестала единственно верно видеть: как же следует поступать?
Давать бой?..
Единовластие оказывалось совсем не прямолинейно, каким Александра Фёдоровна видела его всю жизнь.
Угроза разгрома дворца, шальных пуль, залетающих в окна, может быть и к детям (может быть и к наследнику!), и возможные раны и смерти любимых чудесных конвойцев, которых знала она в лица и по фамилиям, и семьи их, и гвардейских матросов (столько спутников яхтенных прогулок!), да и гвардейцев Сводного полка, – да даже не только их, но и тех, наступающих, не известных поимённо, но тоже наших, императорских гвардейских полков, – обезсиливали её приказать бой.
А те колпинские рабочие, которые только и рвутся для грабежа и мести и, может быть, подкатят сюда через час? К ним – у неё не могло быть жалости?
Сколько травили её и кляли, что она – немка, что она – чужая, не считает народных смертей, а жалеет только немецких военнопленных, – от одного этого висящего обвинения, если не просто как христианка, воротившаяся с церковной службы, – она не могла приказать стрелять!
А стрелять в эту колпинскую толпу – это был бы ужасный повтор ужасного 9 января, этот распад ума, когда, имея всё оружие, ты безпомощен что-либо сделать.
Сколько раз в колебаниях и растерянности мужа императрица дрожала от порыва к действию! И вот – прямо к ней обращались генералы за приказом, а она ничего не могла повелеть, кроме слабости.
Расслабились брови над её глазами и разжались губы.
Порог решения.
А ещё то, почему-то, добавило страшности, что вдруг погас электрический свет по всему Царскому Селу, кроме дворца, – и ночной мятеж в этой мгле показался особенно затаённым и угрожающим.
Тут баронесса Буксгевден позвала её к окну. Там, на площадке перед дворцом, освещённый фонарями и окнами дворца генерал Ресин выводил и расставлял две роты Сводного полка – очевидно, готовился к близкому бою.
И действительно, ружейные выстрелы, казалось, приближаются. И кто-то сказал, что в пятистах шагах отсюда убит полицейский на посту. Вот-вот начнётся стрельба и здесь, и прольётся кровь на глазах! А ещё же – сколько беззащитных постов расставлено вокруг решётки парка! Нет!! Этого нельзя допустить! Кровь – не должна пролиться, и тем более – на глазах!
– Ради Бога! ради Бога! чтобы ради нас не было крови!!
Но – как же?
Государыня распорядилась: все войска ввести внутрь дворцовой черты. И – снять посты за парковой решёткой.
Но если не воевать – тогда неизбежны переговоры?
Да, очевидно так. Да. Как-нибудь уладить, договориться. Послать парламентёров.
Кого же? куда? к кому?
Придумали: начальника дворцового управления князя Путятина послать – куда же? – в ратушу, где мятежники собираются, и предложить нейтралитет: дворцовые войска не станут стрелять, если не будет внешнего нападения.
Повилась размытая черта между мраком города и ярким светом дворца. Ожидание. Иногда оттуда надвигались, с криками или песнями. Отходили.
Но нарушился строгий недопуск. Проникали какие-то неизвестные личности и в полутьме шептались с дворцовыми. Во дворец просочился и распространился расслабляющий слух: что если только вздумают защищаться, то артиллерия откроет по дворцу разрушительный огонь. И хотя комендант Царского ещё днём предупредил, что царскосельская артиллерия не имеет снарядов, – сейчас нелегко было убедить рядовых защитников, что это – действительно так.
Возбуждение поднялось и на верхи. Во дворец собрались многие придворные чины, жившие вне, как Бенкендорфы или Апраксин, – а теперь им следовало оставаться здесь и помещаться едва ли не в комнатах прислуги.
Усвоив и развивая принятое миролюбие, граф Апраксин испросил повеления государыни перевезти больную Вырубову со всеми её четырьмя сиделками и тремя докторами – куда-нибудь вовне дворца, чтоб ослабить напряжённость и опасность для остальных.
Императрица изумилась: она сказала – миролюбие, но разве это значит предавать друзей?
О! сколько было пережито, изжито и подавлено в её отношениях с Аней за 14 лет! Не было у государыни женской души доверительней, и капризней, и надоедней, и даже такого предмета растравной ревности, – но в голову бы ей не пришло пожертвовать Аней для благополучия остальных. Перевозить её в кори, когда детей она не решилась перевозить.
Скорей, она видела теперь, ей придётся расстаться с этим графом.
Возвратился князь Путятин из ратуши. Перемирие принято, – но пусть на дворцовых патрулях будут белые нарукавные повязки – в знак миролюбия.
Хорошо. (Разорваны две скатерти на повязки.)
И дворцовый гарнизон пусть пришлёт своих представителей в революционную комендатуру.
Хорошо.
И пусть пошлёт парламентёров в Государственную Думу в знак признания её.
Ничего больше не оставалось. Хорошо. (Незаметно и без боя дворцовый гарнизон включался в бунтующий.)
Но торжество было в том, что избегнуто кровопролитие.
Тут – передали из почтовой конторы по телефону, несказанно обрадовали государыню новой телеграммой от Государя, уже из Лихославля. Он подтверждал, что завтра утром надеется быть дома.
Ну слава Богу! Ну слава Богу! Завтра будет сам, и кончится эта неизвестность. (Едва ли не впервые в жизни она воспринимала своего мужа как твёрдого повелителя.)
Всего оставалось пронести бремя императорской власти – до утра.
Но тут стали докладывать, что дворцовые части в смущении, на них подействовали вести и угрозы извне. Были даже глухие намёки – уйти из дворца.
Офицеры обходили свои роты и подбадривали, что наступил момент доказать на деле свою преданность Государю.
О нет, не так! Тут – знала государыня приём. Сколько раз, какое воодушевление, восторг испытывали все полки, которые объезжал смотрами Государь, да ещё с наследником. Надо понимать эту немудрёную народную душу: они – обожают царственную семью и на царских глазах готовы на всё.
И Мария Антуанетта сейчас пошла бы обойти строй своих швейцарцев.
И решила императрица: сама обойти фронт своих войск в дворцовом дворе. Её предупредили, что очень холодает. Но она как будто забыла свои безчисленные болезни, никогда она не двигалась так уверенно, как эти дни.
Вот сейчас они взглянут на неё, верные души, – и воспрянут, и выпрямятся, и будут готовы на любой смертный подвиг!
Большой дворцовый двор был освещён сильным электрическим светом – и в нём выстроили в карре несколько рот. Мороз набрался – 23 градуса по Цельсию, и крупно вызвездило небо сквозь всё электрическое осиянье. Слышались постреливания и песни в тёмном Царском Селе. Выстроенных предупредили не отвечать на приветствия громко.
На высоком крыльце распахнулись широкие двери. Вышли и стали по сторонам два нарядных лакея, над собою подняв серебряные канделябры с зажжёнными свечами, хотя и не добавлявшими света во дворе.
В шубе и белом пуховом платке вышла высокая, ровная, жёстко-величавая императрица, на закинутой голове как бы неся невидимую корону.
Рядом с нею в меховой шубке шла полноватая миленькая 18-летняя Мария, совсем без величия.
Войскам негромко отчётливо скомандовали.
Снег скрипел под ногами.
Царица и царевна обходили ряды, кивали, улыбались – ведь они не могли ни взять к козырьку, ни скомандовать сами.
А сказать солдатам что-нибудь отчётливо и громко – царица не нашлась, да и опасалась своего акцента.
Можно было что-то говорить негромко офицерам, даже непременно надо было говорить. А – совершенно нечего, неудобно, не придумать и столько фраз.
Разве:
– Как холодно! Какой мороз.
От мороза или чего, но лица многих солдат были хмуры, никак не сиял всеобщий восторг, не прорвался в полугромких ответах рот, – и сама государыня уязвлённо заметила это.
Смотр – тоже оказался трудным императорским делом.
Августейшие особы – обошли, ушли. Надо было бы ещё спуститься и к тем частям, кто оставался в подвалах, но уже отказывали ноги императрицы. Она уже падала.
Со двора водили солдат – группами в коридор 1-го этажа и там поили чаем.
Часовые при орудиях прыгали, чтобы согреться.
В тёмном с заревами отдалении слышались пьяные голоса и редкие выстрелы.
229
Царский поезд в Вышнем Волочке. – В Бологом.
Поезд со свитою, литер «Б», шёл на полчаса раньше императорского поезда, литер «А». Перед десятью часами вечера в Вышнем Волочке от жандармского подполковника узнали: в Петрограде Николаевский вокзал горит, новый комендант вокзала всего лишь поручик Греков приказывает всем начальникам станций сообщать ему обо всех без изъятия воинских поездах, их составе, количестве людей, роде оружия – если они имеют назначением Петроград. И поездов этих не выпускать со станции без разрешения Временного Комитета Государственной Думы.
Это, очевидно, касалось экспедиции генерала Иванова – о ней уже прослышали в Петрограде. Впрочем, опоздали: генерал Иванов уже, вероятно, в Царском, и верные полки стягиваются к нему.
Но если так следили за воинскими поездами, то тем паче за императорскими? Каждый переход их от станции к станции отмечался в мятежном Петрограде – и там что-то готовили против них?
Но если так – надо же было что-то предпринимать, нельзя же было ехать так безоглядно!
Что думал Государь?
Однако не было указаний свитскому поезду останавливаться и ожидать. Единственно они могли – оставить на станции связного для Воейкова с изложением обстоятельств.
Через полчаса после литера «Б» подкатил к Вышнему Волочку императорский литер «А». Воейкову были доложены все опасения свитских.
Воейков сумел поставить себя так гордо и независимо, будто ему одному принадлежало не только решение о пропуске или непропуске каких-то известий к Государю, но и само решение по этим известиям.
Ничего не ответив свитскому и ничего не выразив надменным лицом, он перешёл по платформе и поднялся в вагон к Государю.
Через несколько минут императорскому поезду было дано отправление дальше.
Светло-успокоенное настроение сегодняшнего солнечного дня, особенно после ликующих солдатских приветствий, – с сумерками, с темнотою и с тревожными известиями угасло в Государе. Он курил по полпапиросы, вдавливал их в пепельницу.
Унизительно, но на просторах и железных дорогах его страны распоряжался даже не Родзянко, не Гучков, – а какой-то Бубликов, какой-то Греков… От этого одного заполнялась душа скучливым омерзением.
Он – не понимал, как это могло происходить – да ещё во время войны?
Лишь спокойно-упорядоченный, подчинённый вид проезжаемых станций успокаивал, что всё остальное был налёт какого-то бреда.
Если принять всё это всерьёз – что возникло противодействие Государю на просторах его государства, – то, может быть, надо было применить ещё более решительные меры? Привести в действие главные силы?
(Да не вернуться ли в Ставку?..)
Ни с кем, ни с единым человеком, однако, не мог он посоветоваться! – ни меньше всего с Воейковым, о котором правду всегда говорила Аликс, что он плохой советчик, что его надо осаживать, и даже – не настоящий друг, но держит нос по ветру.
Как бы это вдруг: повернуть в Ставку? А Аликс и больных детей покинуть на произвол судьбы?
Что должна она испытывать, бедняжка ненаглядная, в самой близости разбойного мятежа? И он обещал ей завтра утром быть.
Да и как такой поворот выглядел бы перед тем же Воейковым? перед всеми придворными? Потом и перед Алексеевым?
Монарх бывает скован в движениях больше, чем любой подданный.
Окончательное решение он мог принять, только достигнув Аликс.
Катили дальше. Гладко шёл поезд по отлаженной Николаевской линии.
Государь не находил, чем заняться до вечернего позднего чая. Не читалось. Много курил.
Вспомнил свою безпричинную грудную боль позавчера на литургии, так и не разгаданную, – боль при наиздоровейшем сердце и всём теле. Не было ли это каким-то знаком или предчувствием, угаданием на расстоянии?
В Бологом ожидался встречный фельдъегерь из Царского Села и новости от Аликс. Но когда пришли в Бологое близ одиннадцати вечера – не оказалось фельдъегеря. Вместо этого свитские раздобыли ходивший на станции листок за подписью Родзянки: о создании временного комитета Государственной Думы, который перенял всю власть от устранённого Совета министров в целях восстановления порядка.
При бушевании черни это могло быть и хорошо – но слишком давне было недоверие к Думе, всегда интригующей против Государя. И редко кого Государь так упорно не любил, как Родзянку. В перенятии же власти от Совета министров было и дерзкое самозванство.
А само Бологое – совершенно спокойно. И до Тосно, поскольку были сведения, повсюду охрана и никаких безпорядков.
И уже так близко оставалось до Аликс – к утру уже можно быть с нею! Как же не ехать дальше?
Вперёд!
Как любил про себя повторять Николай: сердце царёво в руках Божьих.
230
Злоключения полусотни Конвоя. – Идут к Караулову.
Положение конвойцев Его Величества было особенное, высокое, в родных станицах аж глаза закатывали: охраняет самого Царя! И верно: раз уж зачисленный в Конвой (по виду, по лицу, по покровительству), казак становился если не членом императорской фамилии, то спутником её. Он много раз в простой обстановке и разных чувствах видел и царя и царицу, сопровождал их в поездках, конно охранял парки, где они гуляли, стаивал вблизи комнат, где они разговаривали, нередко и по-русски, был знаем ими по фамилии, привыкал к их небожественности, а к своей, напротив, довечной обезпеченной поднятости над положением простого казака. Не приходилось ему томиться по смене обмундирования, по увеличению содержания, по праздничным подаркам, – всё это приходило неизменной чередой, как и рождественская ёлка конвойцев с непременным посещением царя, царицы и дочерей. А обязанности были: лихо выглядеть в своём страшном убранстве, чернолохматой папахе над красной или синей черкеской при белом бешмете, сапогах без каблуков, внушительно стоять на постах, весело-отчётливо отвечать на приветствия, а при свободе от дежурств и кончив утреннюю уборку коней – хоть прыгать в упругую чехарду с такими же застоявшимися товарищами.
Собственный Его Величества Конвой со славою состоял при особах императоров уже 106 лет (ни разу не вступивши за них в бой), и в этом была гордая устоенность его.
Пять сотен его в начале 1917 года распределялись так: по одной кубанской и терской сотне в Могилёве, при Ставке, по одной – в Царском Селе, при дворце, пятая сотня – частью в Киеве, при вдовствующей императрице, а частью – 37 человек, 2 офицера, денежный ящик, имущество Конвоя и запасные лошади – в Петрограде, в подворьи между Шпалерной улицей, куда выходили ворота, и Воскресенской набережной, куда выходило несколько офицерских квартир.
Гой, беда! ворота выходили на Шпалерную! И так эта полусотня попала в самый вихревой захват революции – хуже нельзя. Находись она где-нибудь на улицах дальних, она ещё долго могла бы пересиживаться за запертыми воротами: провиант и фураж у неё были.
В первый день, в понедельник, отсиделись благополучно – всё это чертобесие сновало по Шпалерной мимо, не озираясь по бокам. Даже когда солдаты вроде гуляли, руки в карманы, цыгарки в зубах, зрелище невиданное, – и то как будто всё гнали куда-то с поспехом. Но уже с вечера вчера стали в ворота сильно и пьяно стучаться. А нонче с утра и вовсе жизни не стало: стучащая прикладами и стреляющая толпа по Шпалерной ломилась во все запертые ворота подряд, добиваясь, что за ними. Не то чтоб особно к конвою, который не имел же вывески, а ко всем кряду: что там прячут?
Вывески Конвой не имел, но черкески, но вызывающие папахи – тут, посереди Петрограда, в такой день, не могли не привлечь зарьявшейся толпы: что-то особое, не как у всех.
А ворота открыть – не избежать.
Так прибеднились, и офицеры тоже. Были у конвойцев такие «казачьи шубы», вроде лёгких полушубков нагольных, не имеющие на себе никаких воинских отличий и надеваемые обычно под черкеску, когда холодно, – остались теперь все в этих шубах. И ворота – открыли.
И стали весь день засовываться прохожие, пробеглые. Видят – какие-то казаки при конях, никого не трогают. И сперва сходило.
Но потом стали добиваться: а где ваши офицеры? вы ж не без офицеров? Перебейте своих, как мы своих перебили!
Казаки отшучивались. Так начали их угадывать:
– Ну, погодите, опричники! До ночи!
И уже скоро вся Шпалерная знала, что тут засели – царские опричники .
Плохо. Положение конвойцев становилось нестерпно: ведь так и нагрянут ночью! и разнесут! Или подожгут.
И придумали, и с дозволения офицеров стали казаки к этим шастающим солдатам оборачиваться как тоже бунтари, отзываться разными вольными и скверными словами. Двое-трое пошли в шествиях толкаться и даже речи говорили. Но и на такой манере если было дотянуть, то только день до ночи, а что завтра?
А поддержка из Царского Села – к ним не шла. Не вызволяли их из этого ада, не забирали туда, во дворец, со всем нестроевым имуществом и денежным ящиком, который тоже надо было от разграба охранить. И телефон с Царским занеработал.
И тогда есаул Макухо, казначей, приодевшись понезаметнее, пошёл вечером в Государственную Думу: ведь недалёко, ноги не отвалятся, а сходить узнать .
Узнал. Люди там как люди, не злые, не убивают, но дюже занятые, теснятся, толкаются. Тоже жить хотят, запасы большие делают. И офицеры там бродят, немало. А всем заворачивает там нашенский же человек, есаул Терского войска Михаил Алексаныч Караулов, да он по прежней службе некоторых и наших офицеров, надоть, знает. Издаля его видел – но к нему не протиснулся, да без формы он за своего и не признает, как и подойдёшь, о чём разговор?
И рассудили казачки́: а нам бы послать к нему своих выборных, да в полной казачьей форме. По Шпалерной сейчас, по ночи, як-нéбудь проберутся кучкой – а там у Караулова всё испросят, как быть, как в новой обстановке обращаться.
Поладили. Семеро конвойцев во главе с урядником оделись в полную конвойскую форму. Ещё прикинули: а ведь без красных бантов теперь тоже идти нельзя? Прицепили на грудя́ по большому красному банту. И – пошли по Шпалерной размеренным шагом, сами над собой посмеиваясь: вот дожили-то! с бантами и в Думу. Нужда погнетёт – пойдёшь и к чёрту. А мы – и не в Думу, мы к своему хорошему земляку.
К ночи враждебной солдатни на Шпалерной сильно поменело, никто их не задел. И перед Таврическим не так густились, вступить – вступили.
И усерéдине, по забитому, залёжанному людьми дворцу найти Караулова не так было сутужно: носился он в газырях быстро-лихо, да и был он не кто иной, а комендант Таврического.
Подступили – увидел. Общупал конвойцев весёлыми глазами:
– Ну что, старики? – хоть молодых больше. – Что скажете?
Постояли, где встретились, потом в сторонку отошли. Караулов всё посмеивался, а конвойцы переминались. Поведали ему, в какое стесненье попали, просто безвыходье, и как офицеров уберечь? А из Царского Села никакой подмоги нет.
– И не будет! – сказал Караулов. – Надо самим думать.
Так вот, мол, придумать и не можем, головы наши к тому не приспособлены.
Прищурился Караулов и посоветовал:
– А вы вот что, земляки. Вы – арестуйте-ка своих офицеров. Верней, они сами пусть арестуются по доброй воле, им же и безвредней. И их под арестом никто не тронет, и на вас укору нет: мол, сделали, что могли, мы – за новый строй.
Совет понравился конвойцам. Чего ж? – меж своими, по-хорошему.
Только вот нельзя ли какую бумажку охранную – ото всякого напору, кто налезет?
Ещё посмеялся Караулов, повёл их на второй этаж, в такие комнаты, где офицеры были, полковники, и штатские, и какой-то Александр Иваныч, – и все на них пялились, улыбались, дивились.
И дали целых две бумажки.
Одну – от Караулова, что числится полурота Конвоя за ним.
Вторую – Александр Иваныч велел: что от Государственной Думы предписывается их начальству продолжать оберегать лиц и имущество, находящиеся ныне под их охраной.
Так понять, что: продолжать охранять Их Величества? Правильная бумажка.
231
Ломоносов прибыл к Бубликову. – Царский поезд в плен!
А дачные поезда и под полночь ходили строго по расписанию, хотя почти никто не ехал – в вагоне 1-го класса Ломоносов оказался один. И как ни в чём не бывало шёл контролёр. И рассказал Ломоносову, что на сторону Думы перешёл уже и весь петроградский гарнизон, в Петрограде боёв больше нет.
Поразительно! Интересно до захвата!
На площади у Виндавского вокзала, на Семёновском плацу ещё было два-три фонаря и люди, но близко сразу всё кончалось: надо было шагать вдоль Обуховской канавы в полной тьме, безлюдьи – а неподалеку слышались выстрелы, то ружейные, а то и пулемётные.
Сжимал в кармане револьвер. А на случай властей – что ж, вполне ответственная служебная телеграмма.
А на Фонтанке оказалось светло. И близко наискось, у министерства путей сообщения, видны были солдаты на часах.
Вышел прапорщик, Ломоносов показал ему бубликовскую телеграмму. В вестибюле несколько солдат спало на лавках, кто и на полу. Озабоченный швейцар поспешил к знакомому железнодорожному генералу и, снимая с него пальто с зелёной генеральской подкладкой, пожаловался:
– Вот, ваше превосходительство, до чего мы дожили.
– А где Бубликов?
– В кабинете начальника управления. Только к нему без пропуска нельзя.
Солдат повёл Ломоносова знакомыми лестницами и коридорами. Из приёмной вышел гусарский ротмистр с роскошными пышными светлыми усами, и с какой-то игривой строгостью допрашивал, ушёл, заставил ждать в коридоре стоя – а солдат тоже не отпускал. Наконец, проходил знакомый экзекутор – он и доложил Бубликову. Впустили.
Кабинет был ярко освещён. А чтобы не светил на улицу – сторожа прибивали к окнам занавеси из солдатского сукна. Бубликов сидел за столом начальника управления, ещё было двое штатских и знакомый путеец. Бубликов радостно вскинул руки, вышел из-за стола. Глаза его бегали быстрей и острей обычного, и движенья рук больше нормы, как если бы в подвыпитьи, что странно было при тщательности его причёски, усов, воротничка.
– А-а, Юрий Владимирович, как я рад вас видеть! Очень вас жду! Ну, так вы к нам присоединяетесь?..
Неосторожно, нетактично, никак не хотел бы Ломоносов такое объяснение вести вслух, при посторонних. Ведь он приехал пока только – посмотреть. А Бубликов, ничего этого не понимая, взвинченно-радостно объявлял:
– Все бывшие министры – арестованы! Вся власть – у Думского Комитета! Угодно ли вам предоставить себя в распоряжение нового правительства?
Очень был вскипячён. Смотрел азартно. Среднего роста, при средней наружности старательного чиновника – кажется, откуда такой революционный размах?
Ломоносов – почти того же роста, но – плотней, и животик округлён, и голая голова как круглый котёл, но с вьющейся бородкой, а глаза тоже – быстрые, острые, колкие.
На Бубликова. На этих. Пожимал руки – а на всякий случай ничего определённого не отвечал.
Бубликов порывисто снова сел на место начальника, Ломоносову указал невдали и так же азартно:
– А я возглавил министерство, и беру в руки все железные дороги страны! Разослал телеграмму по всей России! А вот, распорядился: на 250 вёрст вокруг Петрограда воспрещаю движение всяких воинских поездов!! И всё! И никакие подавительные войска не продвинутся! А? Яйцо Колумба! Железные дороги в России – это всё!
И правда. Оглушительно простое решение. Ломоносову понравилось. Так и правда перевешивает новая власть? Так быстро и определённо? И Бубликов – по сути новый министр?
И этот новый министр объяснял, что посылает нескольких верных на разные дороги, чтоб утвердить новую власть и ускорить перевозки; в том числе и Ломоносова на Московско-Киевско-Воронежскую.
Э, нет, так Ломоносов не согласен. А за кого Москва? А что в Киеве? Делить шкуру медведя, когда он ещё гуляет в лесу. Э, нет. А где царь, что делает?
Бубликов успел увидеть отказ на метуче-сметливом лице Ломоносова, но не успел ничего ответить – из соседнего кабинета вошёл солдат глистового вида, с полуобразованным лицом, и доложил:
– Императорский поезд прошёл Бологое и следует к Вишере.
– Вот и первый ответ вам! – И переменил план: – Давайте-ка, последите за императорским поездом.
Ещё острей, прямо на нож сажали. Но Ломоносов понимал и даже любил такие перемёты, он в жизни делал их не раз: учился в кадетском корпусе – потом надумал в духовную академию – а поступил в институт путей. Играл с революцией – а сам выдвигался в учёного и в генерала. Он любил приключения, ах, любил! Сейчас – всё на перевесе, но кажется на хорошем. А упустишь момент, несколько часов – и тоже всё упустишь.
– А что вы предполагаете с царским поездом делать?
– Ещё не решено! – быстро ушагивал Бубликов в соседний кабинет. – Сейчас об этом буду с Родзянкой по телефону.
У оставшихся Ломоносов спросил:
– А почему этот солдат? Кто это?
– Член Государственной Думы Рулевский, – ответили ему. – Помощник Алексан Саныча.
Побиться об заклад готов был Ломоносов, что такого члена Думы не существует. Сообразил, что тут в шкафу может быть справочник. Пошёл в тот угол, поискал, подтвердилось: такого члена Думы не бывало, ни в Первой, ни Второй, ни до сегодня.
Вернулся Бубликов, подошёл сюда в угол, Ломоносов тихо спросил:
– Алексан Саныч, откуда такой член Думы?
– Да пусть, для солидности, ему распоряжаться надо.
– Вы его хорошо знаете?
– Только что в Таврическом прицепился.
– Да как же так можно?
– А что? Помогает, и ладно! – всё тот же азарт нёс Бубликова. – Всех телеграфистов к рукам прибрал, хорошо! В русском народе ещё какой запас государственной энергии, батенька! Кто б ни пристал – надо пользоваться, переживаем исключительную минуту!
Да чёрт его знает, может быть. Этот вихрь закручивал и Ломоносова! Уж он не спрашивал: а что за солдаты-семёновцы охраняют министерство, кто их набрал? а переменятся в настроении, поднимутся сюда, и всех нас переарестуют? Пистолет-то хоть и принёс в кармане, а никогда по-настоящему не стрелял.
Ещё удивительней было, что далёкие, даже сибирские линии, узлы и станции уже подчинялись ещё сегодня утром не слыханному Бубликову? И за 250 вёрст останавливались воинские эшелоны?
Попробовать? приложиться?
Царь, видимо, ехал в Царское Село? Ну, не в Петроград же.
Но тем временем самозваный комендант Николаевского вок-зала уже сам скомандовал: забирать его в Петроград!
В плен!
Царя!
А мы?..
Звонил Бубликов Родзянке уже не раз, оттуда отвечали только:
– Сейчас обсуждаем… Ещё не решено… Следите пока за поездом.
Разве с думцами сваришь настоящую раскатистую революцию?!..
232
Генерал Эверт недоумевает.
Генерал-от-инфантерии и генерал-адъютант Алексей Ермолаевич Эверт обладал фигурой высокой, крупноглыбной, большими руками, большой головой и крупными чертами, прямым железным взглядом из-под резких бровей, – и даже кто б не знал, что этот генерал командует Западным фронтом, по всему его облику и повадке должен был предположить такое. Каждым шагом своим несуетливым утверждал: я – Главнокомандующий!
И почерк его на резолюциях был такой – не обычный человеческий почерк, буквенная вязь, но – громадные буквы, и почти одни палки, ужирняющиеся, как дубины. В себе он более всего ценил здравый ум – и через этот здравый ум пропускал воинские уставы и перелагал обширными приказами к войскам, уча и какая должна быть хорошая пехота, и какая должна быть конница хорошая – та, что, не боясь противника, не знает ни фланга, ни тыла. Но и вместе с тем, хотя швед по давнему происхождению, он был генерал православный и не забывал, что стратегия лишь тогда имеет успех, когда благословлена Богом. Но и вместе с тем он был генерал послушный – и любил получать приказания от старших самые категорические. А когда не получал их, то сносился со Ставкой по проводу и всячески спрашивал советов. Сверху вниз – всегда должна быть ясность.
И поэтому особенно обезкуражен был генерал Эверт в понедельник утром, получивши, вне всяких диспозиционных расписаний, телеграмму от председателя Государственной Думы, которая ни по какому распорядку не могла быть послана Главнокомандующему фронтом. И почему именно Эверту? (Можно было догадываться, что и другим Главнокомандующим, но неудобно и не у кого спросить.) А сама телеграмма была тона недопустимого, дерзко отзывалась о правительстве и толкала давать Государю неприличествующие советы. За такой тон и такие советы этого мерзавца Родзянку можно было вполне посадить в тюрьму.
Но часы текли, и Ставка же знала, что Эверт получил телеграмму, – и не давала никаких указаний. Часы текли – и Эверт начал думать, что может так это и надо, по новому какому-то распорядку и при смутных петроградских событиях. Или иначе: Ставка упустила, что Эверт получил такую, но сам он не должен был её утаивать. А значит – надо было по долгу верноподданного донести о ней в Ставку же, то есть повторить туда её полное содержание. А уж раз передавать, то, не вмешиваясь в дерзкий смысл телеграммы, можно было и от себя подтвердить то, что в телеграмме было верно. И Эверт добавил от себя прямыми словами: я – солдат, в политику не мешался и не мешаюсь. Не могу судить, насколько справедливо изложенное в телеграмме. Но не могу не видеть крайнего расстройства транспорта и значительного недовоза продуктов продовольствия, что может поставить армию в безвыходное положение. А значит, надо принять военные меры против возможных забастовок.
Так Эверт хорошо вышел из положения: и не смолчал, и, как хороший хозяин, защитил интересы своего фронта. И предложил твёрдые меры.
И ещё прошло несколько часов. И он получил из Ставки приказ о высылке четырёх полков против мятежного Петрограда. Итак, он угадал, всё правильно: принять твёрдые меры! Так он и думал.
С быстротой Эверт стал выполнять это разумное распоряжение. Он рассчитывал, что через сутки, в ночь на 1 марта, уже сумеет доложить о полном исполнении.
Но не мог он и послать эти полки просто так, без отеческого напутствия. Но и сам не успевал к местам погрузки, чтобы предстать солдатам своим могучим видом и словом. И решил воодушевить их пространным письменным напутствием через начальников дивизий, идущих с ними в Царское Село. Что они, доблестные севцы, орловцы, павлоградцы и донцы, отмеченные выбором Главнокомандующего, идут на государево дело, в трудную для государства минуту восстановить внутри России порядок, без которого невозможна победа над нашим жестоким упорным врагом, захватившим часть нашей родной земли и томящим в неволе наших братьев. Без этого сейчас успокоения нарушится снабжение наших храбрых войск, и каждый такой день идёт противнику на пользу. Без этого сейчас успокоения невозможен будет славный мир и свободное широкое процветание нашей родины. А залог успеха полков, идущих на эту задачу, – строжайший порядок, дисциплина и служить живым примером верных слуг своего царя и родины.
И ещё тут же вослед послал трём своим командующим армиями телеграммы, что не может быть допущено никакое брожение среди войск Западного фронта, стоящих перед злейшим врагом России.
И ещё, перерабатывая железнодорожные предупреждения Ставки, Эверт обезпечил чёткую охрану всех своих фронтовых путей: приготовил подвижные резервы с пулемётами и под начальством твёрдых командиров.
И так – всё было совершено, в чём мог он проявить свой твёрдый характер по отношению к мятежу. Его фронт, как и вся Действующая армия, становился крепостью против мятежного Петрограда. И оставалось только ждать новых известий, которые носил ему его начальник штаба генерал Квецинский.
Генерала Квецинского Эверт держал за аккуратность и непротиворечивость. А вид у него был не военный – лысый, обрюзглый, обвислый, с чем-то восточным в наружности, казался как переодет в генеральское и с трудом выравнивается в мундире.
И вот, не успел Эверт хорошо ощутить всё своё железное стояние под волей державного Верховного вождя, как принёс Квецинский длиннейшую осведомительную телеграмму из Ставки. Сообщалось там подробно обо всех телеграммах, пришедших из Петрограда за двое суток, и какие известия, безрадостные и неверные, они приносили, кое о чём в Минске знали и сами, – и вдруг посреди того малозначащей фразой сообщалось: «Государь император в ночь с 27 на 28 февраля изволил отбыть в Царское Село».
Как?? Что такое?? Верховный вождь не стоял во главе своей несокрушимой армии? И даже прямо поехал в пасть мятежа??
Эверт перекрестился. Как будто перестала поддерживать спину главная опора.
Как же Государь мог рискнуть поехать?
Не наше, конечно, дело судить.
Но теперь во главе Ставки остался всего лишь Алексеев, – и Эверт уже не мог быть таким уверенным и покойным.
Опять потекли час за часом, по железнодорожным проводам из Петрограда катились ужасные известия, распоряжался какой-то неизвестный наглец Бубликов, – а Ставка молчала. Но теперь само молчание её было не доверительно-надёжно, а – тревожно.
Только короткая пришла телеграмма с убедительным предположением, что весь петроградский мятеж возможно подготовлен противником – и теперь он может начать активные действия так же.
Верно! Этого следовало ждать. Требовалось всем фронтом насторожиться. Но тем более безпокоило бездействие Ставки.
Терпел Эверт, терпел – и наконец, уже после часа ночи на 1 марта, поручил Квецинскому поговорить со Ставкой, разведать: что же там предпринимается?
Разговаривал по проводу Квецинский, а Эверт сидел рядом, но не объявлялся: не хотел своего ранга терять.
С той стороны подошёл Лукомский.
Квецинский пожаловался, что по всем станциям железных дорог поступают дерзкие телеграммы некоего Бубликова, потом и поручика Грекова (они задержаны в пределах фронта): что никакой воинский поезд, имеющий назначением Петроград, не может двигаться без разрешения революционных властей! Такое распоряжение, буде оно выполнится, остановит движение всех посланных на Петроград полков, о которых Западный фронт сообщает военному министру в Петроград, – и кстати, правильно ли это? Где там военный министр, во власти ли он? Главнокомандующий Западным фронтом интересуется знать, не признает ли Ставка необходимым изолировать боевые армии от проникновения таких бунтарских телеграмм? – это невозможно осуществить в пределах одного Западного фронта. Благоволите сообщить взгляд наштаверха. И штазап не имеет своевременных сведений – что может Ставка сообщить о нынешнем положении в Петрограде?
Лукомский стал успокаивать, что телеграмма Бубликова нисколько не революционна, ибо призывает к порядку и даже удвоенной работе. Телеграммы же Грекова Ставка не знает, но такой надо было ожидать. Вообще же прекратить телеграфное и почтовое сообщение с Петроградом невозможно, ибо это вызвало бы панику и общее замешательство. Необходимо лишь преподать указания, что по долгу присяги мы должны повиноваться только законным властям. Конечно, военные эшелоны должны следовать безостановочно.
Странное понимание присяги: пусть революционеры рассылают что хотят…
Да вот, вероятно, завтра, успокаивал Лукомский, все железные дороги на театре военных действий будут подчинены Ставке через Кислякова. А в Петрограде? – теперь спокойно: в управление вступило временное правительство из состава Думы. А бывший военный министр сидит у себя на квартире и, да, по-видимому, ориентирован не во всём.
Прочтя ленту до конца, Эверт только плюнул и выругался.
233
Родзянко успокаивает Алексеева. – У Алексеева поворот настроения.
Недалеко до полуночи, когда разогнанный маховик военной экспедиции совершал свои махи по двум фронтам и по нескольким железным дорогам, а завтра уже должны были проступать и результаты, – генерала Алексеева вызвал к прямому проводу неутомимый Родзянко.
Уже простых телеграмм ему было мало. Он желал лично разговаривать с военными властями, неизвестно по какой субординации. И отношения между ними натянуты. А вот – вызывал.
По телеграфному аппарату не доносился могучий голос Родзянки, но во всём разлитии фраз проявлялось исключительное успокоение. Родзянко объяснял, что при руководимом им Временном Правительстве всё в Петрограде послушно становится в свои берега.
(Вот как, уже не комитет, а правительство? Ну да, и Бубликов же распоряжался как министр.)
Но в каком состоянии гарнизон? Войска дезорганизованы, не подчиняются, бунтуют?
Напротив, все войска непрерывной чередой восторженно приветствуют Временное Правительство. Гарнизон в полном составе примкнул ко Временному Правительству.
Но офицеры арестованы, разоружены, преследуются?
Ничего подобного, какие-то исключительные случаи. Офицеры – при своих частях, руководят ими и ждут указаний от Временного Правительства. Да вся жизнь в столице быстро нормализуется. Вот например, банки и частные кредитные учреждения ввиду наступившего спокойствия населения решили завтра возобновить свои операции.
(Но это был характернейший знак – банки! Да вообще вся картина оказывалась диаметрально не той. В конце концов, откуда у Ставки были все сведения? От подавленного, растерянного Хабалова, от взвинченного Беляева, от случайных частных лиц, от напуганных иностранных офицеров в Петрограде. Как ни относиться к Родзянке, к его постоянному всезнайству и апломбу, но всё-таки же он фигура, Председатель Думы, и камергер, и паж, – он же взвешивает, что он говорит.)
– Но всё это, Михаил Владимирович, слишком разнится от остальных сведений, которыми мы располагаем.
– Михаил Васильевич, но на меня вы можете положиться больше, чем на кого-нибудь другого. И моё положение позволяет мне видеть и знать больше других. Все сведения стекаются именно ко мне. А если бы вы могли слышать мой голос, вы различили бы, что я – даже охрип. Это оттого, что полдня я приветствовал полки, приходившие стройными рядами в Государственную Думу. И вот почему я спешу пояснить вам, что войска, которые вы, как слышно, шлёте на Петроград, – исключительно вредны и могут снова опрокинуть нормализующееся положение в анархию, я уже не говорю – вызвать столкновение, страшное взаимное кровопролитие, которого все, решительно все хотят избежать.
(В самом деле, это страшно выглядело: всё успокаивается, всё устанавливается – Алексеев же шлёт войска на кровопролитие…)
Временное Правительство только и ждёт приезда Его Величества, чтобы представить ему пожелания народа. В этих условиях присылка войск и открытие военных действий…
(Опять-таки благоразумно. Сведения Родзянки меняли всю картину, очень ободряли, а доводы его – просто душу поворачивали.)
Официальное подтверждение, что правительство сменилось? Родзянко и посылал его сегодня, уже дважды, а разве Ставка не получала?
Но пришлите ещё раз.
Хорошо, пожалуйста.
После разговора Алексеев ушёл к себе и обдумывал тяжело.
Восстание не восстание, что бы там ни было – но оно прошло, – и в каком же свете перед обществом представала Ставка, посылая карательные войска? И, действительно, зачем же теперь возбуждать анархию заново?
А за отсутствием Государя – войска посылал лично Алексеев? Очень некрасиво. Взглядом общества – вся ответственность ложилась на него.
Он хотел предотвратить избиение офицеров и администрации? Так ничего подобного в Петрограде, оказывается, не происходит.
По сути, вот образовалось то знаменитое правительство доверия или ответственное министерство, которому никогда не хотел дать пути Государь, – а теперь оно приплыло на революционной волне. И какое же моральное право имела теперь Ставка посылать на Петроград войска?
Если бы Государь сейчас был в Ставке! – Алексеев пошёл бы к нему с докладом и ждал приказаний.
Но Государя не было, и связи с ним не было, и вся лёгкость рук и вся тяжесть рук принадлежали Алексееву одному.
Насажал здесь Гурко – Лукомского, Клембовского. Впрочем, Лукомский тоже за правительство народного доверия. А Клембовский с мненьем не выступает.
Всё ясней виделась невозможность воевать против русского общества и его законных желаний! Да ещё во время внешней войны.
А разве для армии это будет такая лёгкая прогулка? К чему может привести столкновение с собственным тылом? Расстроятся железные дороги – и армия перестанет получать продовольствие. А она живёт только подвозом, ничего не имея в базисных магазинах.
Армия не сможет спокойно сражаться, когда в тылу идёт революция.
Да всё это стягивание войск на подавление было глубоко внутренне против убеждений Михаила Васильевича.
Но не мог же он и ослушаться государева приказа.
Ах, как несчастно, что Государь уехал! В такую минуту. Был бы сейчас на месте – куда убедительней выразить голосом, рядом, чем знаками азбуки Морзе слать теперь вдогонку – и куда?..
Ну, уехал так уехал. Знал, что делал. Так тому и быть.
Через несколько часов Государь должен быть в Царском. Послать туда?
Давно так не мучился генерал Алексеев в трудности выбора.
Никогда бы он не взялся служить незаконному государственному перевороту! Он из-за того сторонился Гучкова и князя Львова. Но если – всё равно свершилось и новое правительство само собою благополучно установилось, – то надо ли ему мешать?
Наконец решился Алексеев на такую полумеру: войск ни в чём не останавливать, и значит, приказ Государя будет строго выполнен. Но послать остановительную, предупредительную телеграмму Иванову как самому переднему – чтоб задержать самое остриё движения, чтоб он не успел ввязаться в бой. Переложить главные впечатления от разговора с Родзянкой, но из тактичности не называя Родзянки.
Осторожно составили телеграмму вместе с Лукомским. Никакого приказа на остановку не давать, вообще ничего не приказывать, но советовать . Но – просить доложить это всё Государю по его прибытии (а значит – пропустить через свою грудь и внять).
Это – хорошо было придумано. Это – очень хорошо придумали.
В начале второго ночи эта телеграмма № 1833 потекла к Иванову по особой линии царскосельского дворца. И едва пошла – как удачно успела! – линия прервалась. (Петроград прервал?)
Наконец мог Алексеев вздохнуть после этой труднейшей телеграммы и отправиться спать.
Но засыпал он всегда не сразу, пока всё перерабатывалось и улегалось, – и не успел заснуть, как ему в постель принесли неожиданную странную телеграмму от Брусилова.
Докладывал тот, что может начать посадку частей на поезда с утра 2 марта (не очень-то быстро) и даже 3 марта (очевидно, от снежных заносов, на юго-западе бушевали мятели). Однако:
«Благоволите уведомить, подлежат ли эти части отправке теперь же или по получении особого уведомления?»
Поразила Алексеева и неуместность такого вопроса: какое ещё подтверждение и уведомление, если послан приказ?
Но ещё более поразила своевременность этого вопроса: как мог Брусилов так почувствовать безо всякого намёка?
Или Родзянко и ему тоже дал как-то знать?..
Вопрос не давал Алексееву покоя. И он поднялся, койка была за перегородкой, недалеко от рабочего стола, в одном белье пошёл, засветил лампочку и нашёл свою дневную телеграмму Брусилову. Вот как? Там стояло:
«Как только представится возможность по условиям железнодорожных перевозок… Не откажите уведомить, когда обстоятельства позволят отправить эти войска».
Ни о каком повторном уведомлении от Алексеева здесь речи не было. Но… значит, это так звучало? Что тут почувствовал Брусилов?
Вот странно. Ничего подобного Алексеев не задумывал, не включал в приказы Главнокомандующим – но вот как будто это было написано – несомненно его почерком – и четырнадцать часов назад?
Это – само написалось, между мыслями.
Так с Юго-Западного фронта войска и не двинулись.
...
ДОКУМЕНТЫ – 5
Телеграмма № 1833
Царское Село, генералу Иванову
Ставка, 1 марта, 1 ч. 15 м.
Частные сведения говорят, что 28 февраля в Петрограде наступило полное спокойствие. Войска, примкнув к Временному Правительству в полном составе, приводятся в порядок. Временное Правительство, под председательством Родзянки, заседая в Государственной Думе, пригласило командиров воинских частей для получения приказаний по поддержанию порядка. Воззвание к населению, выпущенное Временным Правительством, говорит о незыблемости монархического начала России, о необходимости новых оснований для выбора и назначения правительства. Ждут с нетерпением приезда Его Величества, чтобы представить ему всё изложенное и просьбу принять это пожелание народа. Если эти сведения верны, то изменяются способы ваших действий, переговоры приведут к умиротворению, дабы избежать позорной междуусобицы, столь желанной нашему врагу, дабы сохранить учреждения, заводы и пустить в ход работы. Воззвание нового министра путей Бубликова к железнодорожникам, мною полученное кружным путём, зовёт к усиленной работе всех, дабы наладить расстроенный транспорт. Доложите Его Величеству всё это и убеждение, что дело можно привести мирно к хорошему концу, который укрепит Россию.
Алексеев
234
Геройская ночь Родзянки. – Теперь надо встретиться с Государем.
Премного был напитан Родзянко своим ночным разговором! Удачная была мысль поговорить со Ставкой!
По недлинным и сперва неохотным ответам Алексеева он стал угадывать безусловный успех. Алексеев явно не имел никаких своих твёрдых сведений о Петрограде, потому – и твёрдых возражений, ему нечего было выдвинуть своего. И ещё текла лента – а Родзянко уже чувствовал, как его слова внедряются в Алексеева. В конце концов, хоть немудрящий генерал, но был он честный человек. Этим ночным разговором, Родзянко чувствовал, он сильно поколебал посылку войск на Петроград. (А заодно прощупал, что они ещё и не на подступах, никакой полк, видимо, ещё не подъезжает.) Если давить в этом направлении ещё, то можно войска и вовсе остановить.
И так совершались все деяния героев, от Геракла! – в одиночку и даже не на глазах толпы. В глуши ночи, единолично, при телеграфном аппарате – Родзянко своей широкой грудью прикрыл Петроград и спас, а Петроград спал и даже не знал этого! И только коллеги по Думскому Комитету смогут оценить, но и то – доброжелательные. Не Милюков. Не Некрасов. Не Керенский.
Геройская ночь!
И как тактично и как даже легко Родзянко этого достиг! Просто – силой своего желания. Не пожелал, чтобы войска шли, – и они не пойдут. И кажется, ни в чём не покривил душой. Ну, может быть, чуть прибавил насчёт стройных войсковых рядов, глазу старого офицера это не так, – но и искупается же небывалым порывом этих войск идти в Государственную Думу! И в этом, можно сказать, проявлена их верность, так что и тут не преувеличил. И эти войска действительно ожидают приказаний от Думы – а разве можно сказать, что они не подчиняются? Такого не было. Ну, может быть, несколько сильно выразился, что офицеров не преследуют, – так это и успокоится уже сегодня. Родзянко выразился – от своего большого горячего сердца, во что бы то ни стало желая остановить войска, предупредить междуусобицу, которая подорвала бы воюющую Россию.
А ещё чего достиг Родзянко этим ночным разговором: он называл свой Комитет Временным Правительством, а самого себя – главой нового правительства, и Алексеев это усвоил, и попросил уяснить добавочной телеграммой. И потому из Главного Штаба Родзянко поехал не домой, а опять-таки в Таврический. Хотелось ему и передать свою удачу коллегам.
Но они все спали деревянно. И он распорядился послать телеграмму в Ставку, что правительственная власть перешла… всё-таки к Временному Комитету Государственной Думы.
После этой ночи Родзянко в своих глазах тем более стал главой правительства. Перед Ставкой и Главнокомандующими он уже и был премьер-министром. И в глазах населения, подписывая воззвания, – кто же он был другой? И перед своими коллегами фактически был им и чувствовал теперь в себе сопротивление этой подстроенной кандидатуре Львова. И только – только перед Государем он ещё никак не был назначен.
Что и надо было сейчас – получить от Государя утверждение Думского Комитета как правительства. И притом – как правительства ответственного , парламентского. И этим будет достигнуто последнее его превращение. И вся революция – благополучно окончилась. И всё станет на незыблемые места.
Но пока Государь в движении – аппаратный разговор с ним невозможен. Да даже если б и аппарат был, то разговор такой невозможен: Государь – не генерал Алексеев, ему не напечатаешь требование. Просить утвердить себя главой правительства можно только на личной аудиенции.
Не просто «лицо, пользующееся доверием всей страны», но именно – Родзянко! А глухой упрямый Государь не хочет услышать!
Конечно, тут и заминка, мешающее чувство. Председатель уже несколько раз откровенно обошёл Государя – в телеграммах Главнокомандующим, вот в разговоре с Алексеевым. И свою прямую телеграмму Государю тоже не держал в тайне, но вслух читал с крыльца, и дал корреспондентам, и не мог отказаться от дивной фразы, вычеркнутой зря: «Молю Бога, чтоб в этот час ответственность не пала на венценосца». И во всех речах к войскам как ни патриотичен был Родзянко – а всё время переходил строго законную меру. И чувствовал это – и не мог не переходить, и даже самому нравился этот бунтарский размах, который, оказывается, всегда был в его натуре – и вот проявлялся теперь.
За последние двое суток Родзянко уже привык к свободе – и не очень хотелось сгибать себя к прежней послушности.
А в общем – надо им, надо им, двум первым людям государства, встретиться.
Уже так было поздно, ближе к утру. Поехал Родзянко скорей домой, лёг спать.
Сон у него был богатырский.
235
Поворот царских поездов в Малой Вишере.
В два часа ночи на станции Малая Вишера стояла безтревожная глубокая тишина. Сон, морозная ночь, станция пустынна, но ярко освещена. Нигде ничего опасного не совершалось.
И по указаниям Его Величества, данным перед започиваньем, следовало неуклонно ехать дальше – на Чудово, на Любань, на Тосно.
Но к подошедшему свитскому поезду литер «Б» по пустому перрону подбежал поручик Собственного Его Величества железнодорожного батальона: он только что сам пригнал сюда на дрезине, едва уехал от мятежников! Их в Любани уже две роты, и они очевидно движутся сюда. Поручик Греков дал по линии телеграмму: комендантам литерных поездов направляться на Николаевский вокзал Петрограда!
Свита заволновалась, кто не спал. Как обманчива эта пустота и тишина. Могло показаться, они движутся в тёмной ночи, невидимые и неизвестные. Но начальники станций докладывали новому начальству – и мятежники Петрограда, и потревоженная Москва, и телеграфисты мелких станций – все видели через ночь и через даль, как два тёмно-синих поезда несутся в приготовленную раззявленную пасть.
А военной силы при императоре нет никакой. Даже, можно сказать, и простой охраны нет.
Через четверть часа после литера «Б» тихо, мягко подошёл и царский литер «А». Стали рядом. Не решаясь подвергать опасности поезда на свою ответственность, комендант литера «Б» решился разбудить в литере «А» дворцового коменданта Воейкова. Воейков крепко спал, сердито проснулся, со всклоченными волосами. Однако, очнясь, обстановку сообразил быстро и решился идти будить Его Величество, испросить указаний. Постепенно и вся свита пробуждалась в тревоге.
Только в сон и уйти от этих нелепостей, несоставностей, безпорядков, – но и оттуда, из нежного погруженья, вытягивает, вытягивает почтительный зов. Даже в излюбленном поездном покое не стало укрытия.
Сперва, как всякому спящему, – Государю досадно, неоправданно, зачем? Потом серьёзней, встал с ложа, надел халат. Очевидно, очень серьёзно. Смотрели с Воейковым карту. Кратчайшим путём через Тосно в Царское можно не попасть. Успеть проскочить до Чудова, а потом свернуть на Новгород? Ах, удлиняется путь, отодвигается встреча с семьёй. Но Воейков доказывал, что и до Чудова двигаться опасно, что надо от этого места поворачивать назад.
Совсем назад?..
…Назад! О, конечно! Заколдованный сон, отлети с моих вежд! В последний момент решенья мужского и царского – вскочить! и ноги в сапоги, уже потом доодевая китель: да, возвращаться! В Ставку, конечно! Сколько часов нам гнать туда? Сколько мы потеряли? 22 часа сюда из Могилёва, 18 часов назад – сорок часов? Так ещё можно успеть! Остановки – только брать уголь и воду. Алексееву скомандовать: обезпечить безопасность линии. Даже не слать войска на Петроград – только выставить заградительные отряды по подкове, на всех линиях. Командующему Московским округом: не допустить заразы в Москву! Разобрать пути между Москвой и Петроградом! Хоть ни единого хлебного эшелона не пропустить в Петроград! Генералу Иванову – держать оборону Царского Села. Составить ультиматум и объявить им из Могилёва: всему Временному Комитету и всем зачинщикам явиться с повинной в Ставку Верховного! Все бунтующие бездельные части – в маршевые роты! Попляшет кто у них там сейчас верховодит!..
…Назад? Через Бологое и Дно, лишь тогда на Царское? А ведь царскосельский гарнизон малочислен, как бы мятежники не захватили императрицу?..
Воейков: никогда они этого не посмеют!
Да впрочем, там и Иванов.
Ну что ж, назад. Обогнём через Дно. Снова в тёплую пододеяльную нежность, в спасительный сон. Завтра в Царском станет ясно, там решим. А пока – спать…
Пока на поворотном круге разворачивали паровозы – прошло ещё полчаса, и слух пришёл, верный ли, неверный, что мятежники уже в двух верстах от Малой Вишеры.
Возбуждённая свита открыто гудела, ощущая плечами и горлами страшную хватку мятежников: надо сговариваться с Государственной Думой! уступать! давать ответственное министерство! Что же думает, наконец, что ж упорствует Государь? Мы так все погибнем.
Но никто не посмел пойти высказать такое Государю.
Да ведь он и почивал.
А на перроне было морозно-преморозно, все расходились.
В половине четвёртого ночи первым отправили на юг царский поезд. Литерный «Б» – на двадцать минут позже.
И снова скользили синие поезда через тьму, и снова просматривались всеми телеграфистами и стоокой революцией.
236
Московцы ночуют в Таврическом. – Предсказания угличского старика. – «Всадили штык!»
Они отказались идти в батальон, – но как же они представляли себе дальнейшее? Ну, на Петербургской стороне, при 2-м кадетском корпусе, жил отец их хорошего друга-однополчанина, можно было следующий день провести у него. Ну, ещё второй день. А дальше? Всё равно им некуда было идти, как в свой Московский батальон.
Вот что сделала с ними однодневная революция: выкинула их из армии, из полезных офицеров превратила в ничто, в никчемных, опасных, преследуемых людей.
Да неужели так теперь и установится этот обезумелый круг? Не может и неделю так существовать петроградский гарнизон, и вся армия, и вся Россия!
Ах, как пожалели они после ложной паники, что это не правда подошла боевая часть разогнать сброд по местам! Вот что б им одно сейчас – это помочь разогнать мятежную банду. Да где был тот генерал, который в них нуждался? Не звали их.
После совещания в Военной комиссии братья Некрасовы и маленький Греве стали, что ж? – искать себе ночёвку в Думе. Даже подосадовали, что пошли на это совещание: успели бы себе лучше место захватить, уже в залах лежали солдаты вповалку. Впрочем, офицерам и надо ложиться из последних, когда уже спят, иначе стыдно.
Почему-то всем хотелось ночевать в Государственной Думе – не только тем, кто спасался, но и кто революцию делал.
Пришлось нашим офицерам проверять комнаты – так и заглядывать во все комнаты подряд, как и другие делали. Решились идти и в приличное думское левое крыло. Так же и здесь во всех комнатах люди укладывались на столах, на диванах, на составленных стульях и на полу. И солдаты тоже.
Наконец нашли не столь набитую комнату – «Секретарь Председателя Государственной Думы». Места были только на полу, рядом с солдатами. Ничего не поделать. У них же и научились: взяли от печки каждый по три полена и положили их под головы. Легли все трое рядом, не снимая шинелей, лишь расстегнув, тепло было. Братья по бокам, Греве между ними.
Одна лампочка оставалась светить на комнату.
Днём так хотелось спать порой, а тут не сразу и заснёшь: и внутри ещё всё ходит ходуном, и голод грызёт, и рёбра поленьев режут голову, и новое непривычное униженное положение.
Полушёпотом ещё поговорили. Всё не укладывалось.
Всеволод лёг на бок, деревянную ногу книзу, лицом к друзьям, – и тихо рассказал обоим:
– А вот, живёт в Угличе такой старик Евсей Макарыч. Много он читал Священного Писания и прошлой осенью предсказывал так: скоро наступят для всей России горькие времена-бремена. Люди будут тем спасаться, что надевать лохмотья и уходить туда, где их никто не знает. И будет голод много лет. И людей будут опустошать и уничтожать многими тысячами. Сначала будет плохо одним, потом плохо другим, потом плохо всем. И только седьмое поколение будет снова жить хорошо.
Да…
Теперь надо было заснуть, но не слишком надолго, не пропустить предрассветья, вовремя тихо уйти, иначе опять на сутки застрянут.
Но в чутком сне ещё раньше проснулись от сильного вздрога Греве.
Он – сидел, глаза его блуждали, отдышивался тяжело.
– Что с вами, Павлик?
Держался за бок, на лице страдание:
– Приснилось: всадили штык. Вот сюда.
237
Преображенский полк остановлен в Луцке.
Из своих злонесчастных тяжких позиций всё близ того же Стохода, где прошлым летом и прошлой осенью столько гвардейских сил было положено и уложено на приречных болотах, сегодня утром Преображенский полк получил приказ смениться: выйти из окопов в резерв своей 1-й гвардейской дивизии.
Повеселели солдаты, повеселели офицеры – надеялись недельки три теперь поотдыхать, походить не гнясь, и по земле, а не ходами сообщения, не знать разведок, не знать сторожевого охранения, спать ложиться – как люди, и многие даже в домах.
Но ещё не растянулись они поспать первую ночку, ещё и не стемнело – как командиру полка, флигель-адъютанту свиты Его Величества генерал-майору Дрентельну передали секретную телеграмму из штаба фронта, перелагавшую секретную телеграмму генерала Алексеева из Ставки: Государю благоугодно вызвать в Петроград Преображенский, 3-й и 4-й гвардейские стрелковые полки для подавления безпорядков.
Та-ак! Дрентельн забывал свой окопный ревматизм.
Команда грузиться была на ближайшую крупную станцию – Луцк. В темноте полк был разбужен, поднят – и выступили походным порядком на Луцк в непроглядную темень и снежную грязь.
И месили её – 30 вёрст.
Всё же какие ни молодцы-удальцы, но к утру выбились – и пришлось трём батальонам дать привал, поспать часа три, в деревне Полонная Горка в 8 верстах от Луцка. Сам же Дрентельн поехал вперёд, на станцию, куда 1-й батальон уже достиг и готовился к погрузке.
На вокзале Дрентельн обнаружил растерянность у комендантских и железнодорожных чинов, – а в зале близ кассы висел приклеенный на стене, от руки написанный листок – принятая телеграмма какого-то комиссара путей сообщения неведомого Бубликова, который передавал приказ Родзянки: старая власть оказалась безсильной, Государственная Дума взяла в свои руки создание новой власти.
Что за бред? Как это понять? Кто повесил?
Принятая телеграмма из Петрограда.
Тут Дрентельна разыскал офицер связи из штаба армии и подал ему распоряжение Командующего Особой армией Гурко: посадку полка временно отложить.
Дрентельна зазнобило. Сочетание этих двух распоряжений было уже нечто очень тревожное. Если что-то делалось в Петрограде с властью – то как раз и нужна была там гвардия! Кем отставлен переезд? Самим ли Государем? Нет ли здесь недоразумения?
Или даже измены?..
Особость момента и особость положения Преображенского полка дали Дрентельну смелость не выяснять через дивизию и корпус, а отправиться прямо к генералу Гурко: штаб армии был тут же, неподалёку под Луцком, в католическом монастыре.
Проехал в автомобиле по пустым ночным плохо освещённым улицам, видя в фонарях только разбрызгиваемую снежную грязь. Потом по загородной дороге.
Проверены в воротах – въехали во двор.
Дрентельн просил дежурного офицера доложить Командующему, несмотря на то что было уже 4 часа утра. Но не удивился дежурный, – и генерал Гурко принял генерала Дрентельна за письменным столом в полной форме, то ли ещё не ложившись, то ли уже поднявшись. Всегда серьёзный, решительный, острый, он выглядел сейчас ещё впивчивей, сжатый рот, усы настороже, стянутые глаза настороже, сосредоточен, и маленькая голова поворачивается быстро.
Никакого замечания не сделал за обращение не по команде.
Приказ? Приказ, генерал, передан Брусиловым от самого Алексеева. Какое основание мы имеем сомневаться? Воля Государя и всегда передавалась через генерала Алексеева. Никому из командующих армий, ни даже фронтов не дано сноситься с Государем непосредственно. Мы – обязаны выполнять. Мы не имеем права переспрашивать.
Но это – не в упрёк Дрентельну. Живые потемнелые глаза генерала Гурко смотрели очень тревожно, и глазами он, кажется, выражал то же самое сомнение.
Но отправить сам преображенцев в Петроград – не смел.
Дрентельн ощущал себя, как паралитик, у которого голова работает, а пошевельнуться не может.
Итак, в ожидании дальнейшего, полк останется в Полонной Горке, 1-й батальон устроить в бараках при вокзале.
На том же вокзале, опять проходя мимо и косясь на мерзкую телеграмму Бубликова, сел пока ожидать и Дрентельн.
Не просто он был командир полка, уже больше года, и не простого полка: в этом полку служил сам Государь, и Дрентельн был его сослуживцем тогда, и обласкан, и близок. И – годы в государевой свите, помощник начальника походной канцелярии, пока его не отлучила императрица из-за его вражды к Распутину. (И даже преображенцев хотела у него отнять.) Не имея никакого служебного права – Дрентельн, однако, должен был и мог обратиться непосредственно к Государю.
Из 1-го батальона он вызвал доверенного офицера поручика Травина и велел ему готовиться ехать с тайным письмом к Государю.
Пошёл к начальнику станции, достал хороший лист, чернил, сел, стал писать за столом под яркой лампой.
«Ваше Императорское Величество, наш дорогой Государь!
По первому Вашему знаку преображенцы будут подведены к подножию Вашего престола, какие бы препятствия их ни ждали…»
Одно облегчительно помнил: ведь есть же преображенцы и в самом Петрограде, пусть и запасной батальон. Они-то! не стерпят и не останутся безучастны!
* * *
...
Что и сварили – в печи застудили
* * *
Первое марта Среда
238
Офицеры из Сибири приехали в Петроград.
В вагоне были одни офицеры, человек сорок их ехало из Томска в Ораниенбаум для прохождения пулемётного курса в офицерской стрелковой школе. В Тихвине вошёл в вагон комендант и объявил:
– Господа офицеры! В Петрограде бунт. Я не советую вам туда ехать.
Недоумение: какой бунт? что за бунт? Комендант и сам точно не знал. Политические волнения? Да даже если революция, которой ожидали, – так это нас не касается, мы – военные люди, мы относимся к фронту. Что нам грозит? Ничего, поедем посмотрим.
Бывший студент Аксёнов, сын слесаря и казачки, про себя подумал: если революция, то разве мы её враги? Даже интересно.
А стоянка в Тихвине – четверть часа, надо решать. Меньше половины быстро собрались и ушли из вагона, больше половины осталось.
А поезд опаздывал. Он должен был прийти в Петроград поздно вечером, но вот уже ночью шёл, дремали, размаривались. Кто-то предложил спрятать револьверы в чемоданы. Так и сделали.
К Николаевскому вокзалу подошли в третьем часу ночи, перрон тёмный. Но – движенье на нём, и сразу ворвались в вагон солдаты с красными бантами. И при свете поездных свечных фонарей приставили штыки к грудям первых же:
– Господа ахвицера! Сдавайте оружие!
Тут, в вагоне, в мерцаньи свечей, не видев Петрограда, ничего не узнав – и решать? и сдавать? Оттого ль, что дремали, час нековременный, как-то и сопротивления не было, – стали шашки сдавать.
Странное чувство, как оголённые или оплёванные. Пошли с чемоданами – куда же? в буфет.
По вокзалу освещение скудное, не всюду. Бродят солдаты, посматривают. Офицеры тесной группкой, защищая себя числом.
Буфет первого класса оказался нараспашку, но разнесен и разбит, осколки на полу, никого из буфетчиков, ни еды, ни посуды, часть стульев поломана, другая унесена, – а прямо на столиках сидели солдаты, курили, шумно разговаривали, не обращая внимания на офицеров.
Одно другого дичей. Безприютно прошлись по вокзалу – уехать не на чем. Уставили все чемоданы вместе, столпились группкой. И так стояли потерянно, час или больше. Глупое, безвыходное положение. Поезда на Ораниенбаум всё равно не раньше утра, и не тащиться же сейчас на Балтийский пешком.
Вдруг со звонким весёлым разговором вошли в зал четыре студента и две курсистки. Они говорили громко, уверенно, как хозяева тут и будто ничего особенного не происходило. Они глянули на офицеров, но вниманья бы не обратили и прошли – если бы Аксёнов, обрадовавшись своим, не вышел к ним сам. Заговорил, представился, что недавний студент, и другие офицеры такие же. (Несколько и было студентов, а те всё равно молодые, подходят.)
И сразу переменилось.
– Ха-а! Товарищи! Так пойдёмте, мы вас угостим хоть шоколадом!
– Где ж это?
– Да тут, на Разъезжей, не так далеко.
– Да мы с чемоданами.
Никакой камеры хранения, конечно, на вокзале не было, всю разобрали или разворовали.
– Да оставляйте здесь. Мы вот солдат попросим. – И с уверенностью в расположении и подчинении – к солдатам, сидевшим недалеко: – Товарищи солдаты! Вы здесь побудете? Посмотрите, пожалуйста, за чемоданами.
Уверенно говорилось – и солдаты, как переменённые, обещали.
Рискнули, пошли. Между собой смешки: там-то револьверы.
По дороге узнали от студентов, что в Ораниенбауме мятеж ещё сплошней, нечего туда и ехать: восстали оба пулемётных полка и уже прибыли в Петроград.
Вот так тáк.
На Разъезжей во дворе была у них целая столовая, питательный пункт для революционеров. Объяснили, что таких питательных пунктов много сейчас открылось по Петрограду. Откуда же продукты? Начинали вскладчину, а сейчас – за счёт реквизиций частных складов.
Как одна и та же жизнь в одни и те же минуты и рядом – для одних мучительно тянется, грозит опасностями, взбаламучена, непонятна, а для других всё весело и легко!
Ярко горели лампочки, скатерти, правда сильно замазанные посетителями. Сварили офицерам прекрасного шоколада, подали горячим да с бутербродами, со сдобными булочками.
Отлично поели. Весело разговаривали. Не все. Какое-то опьянение, хотя от шоколада ж не опьянеешь. В несколько часов – вагонное томление, отдача шашек, растерянность и этот шоколад. А что там с чемоданами?
Не хотелось уходить, сидели б и сидели до утра. И – куда же теперь, если не в Ораниенбаум? Кто же властен сменить назначение офицеру?
Возвращались по пустынной улице без студентов – и как будто беззащитные. Вот перевернулось: студент – защита офицеру!
Но никого на Лиговке не было, самый глухой час.
И чемоданы – оказались все целы! Те самые солдаты добродушно доложили. Один из них, поразвитей, спросил:
– Вы куда хотите пройти? – (Не добавил «ваши благородия» или «господа офицеры».)
– Да в какое-нибудь учреждение… – Сами не знали в этом потерянном мире.
– А вы пройдите в Таврический дворец, там наверно вам укажут, что делать.
– Да мы и дороги не знаем, не здешние. И трамваи утром не пойдут?
– Трамваи? – засмеялся. – Их не будет. Да мы вас проводим. Сейчас время такое, а вы офицеры, целой группой вместе идёте, чего подумают. Давайте проводим.
А что ж, вещи опять оставить? Опять оставили.
Пошли. Между тем рассветало.
Около памятника Александру III лежал убитый в штатском, и густо-красный снег под ним.
Улицы безлюдны, но начинали оживляться. Около хлебных лавок выстраивались хвосты.
Перед Таврическим ещё было пусто. Караул впустил без труда.
За столиком подпрапорщик из вольноопределяющихся был очень обрадован:
– Как хорошо, господа офицеры, что вы пришли! Вы поможете нам устанавливать порядок!
Как приятно. Возвращались в нормальное состояние.
Одним предложил помогать какому-то поручику выписывать удостоверения всем офицерам, кто явится. Другим… А Аксёнову:
– Будьте добры, господин прапорщик! Сейчас явится сюда взвод солдат гвардии Волынского полка. Возьмите их, пойдите на Исаакиевскую площадь, там грабят винный склад. Восстановите порядок, поставьте караул.
Аксёнов потянулся пощупать пустое место на левом боку, как отрезанную конечность.
– Шашку? – догадался подпрапорщик. – Господа, это у нас есть, пойдёмте выбирать.
И в соседней комнате показал им груду сброшенных шашек.
Выбрали, надели. Не своё, не так, а сразу – лучше, людское состояние.
Тем временем взвод уже пришёл и ждал у крыльца. Унтер подошёл с рапортом, правда не «ваше благородие», а «господин прапорщик».
Оказалось – надо далеко, и Аксёнов решил: пять минут шагом, пять минут бегом, всё время подсчитывая ногу, проверяя дисциплину. И что ж? Держались прекрасно, как будто никакой революции.
Так ничего ещё такого страшного.
Грабители разбежались, уже на виду их, завидев через площадь.
Забили склад досками. Поставил караул на час.
239
Бубликов и Ломоносов. – Задержать царя!
– А вы, Юрий Владимирович, смелый человек. Как это вы так сразу ко мне поехали? Действительный статский советник! Ведь вы же понимали, что похоже на авантюру?
Бубликову хорошо лежалось в этом кабинете, а через день-два он перейдёт в кабинет министра Кригера. Проснулся, переполненно довольный своими вчерашними действиями.
Одна настольная лампа всё время горела на столе: рваная ночь, звонки да вскоки.
Да было уже утро, скоро семь.
С другого дивана басовитый смешок Ломоносова:
– Взвесил, конечно.
– Ведь революция что могла сделать – уже всё и сделала: свалила правительство, захватила Петроград. А больше у неё нет сил ни на что. Вы видите, что делается с гарнизоном? Гарнизона сразу нет, остался сброд. Никакого отряда никуда выслать невозможно. И чем мы будем Иванова отражать – я не представляю. В Думе, вы видите, полная растерянность, ни руководства, ни решительности.
Бубликов так по-настоящему не думал, но – проверить.
Ломоносов, так же помятый от лёжки одетым, как и Бубликов, рассматривал лепку на потолке:
– Ну, чего-нибудь же стоит, Алесан Саныч, вся традиция свободолюбия, в которой воспитаны три русских поколения. Она нас как-нибудь и выручит. Я и в генеральском мундире всегда был – запасной рядовой революции. У нас каждый культурный человек на счету, мы не имеем права неглижировать собой. А то, позволительно спросить: на что рассчитывали вы, когда шли сюда и когда меня вызывали?
– А вот, – сам себе удивлялся Бубликов, – какой-то порыв! Я в Думе просто позорился от безделья, как они все там руки опустили. И подумал: ну как не использовать министерство путей сообщения, если мы тут как рыба в воде, а никто больше ничего не понимает?.. Вообще, для человеческой деятельности существует только три стимула. Любознательность. Стремление к славе. И стремление к комфорту. Первые два во всяком случае у меня наличествовали.
– А освобожденческая традиция?
– Не уверен. И смотрите, как оказалось легко: просто нахрапом начать приказывать всей России – и слушаются. Россия – привыкла слушаться, наш народ – никуда не годится.
– Но мы пока ещё ничего серьёзного им не приказывали.
– Ну всё-таки! Моя телеграмма пошла по всей России без сопротивления. Во всяком случае, я вам гарантирую, что вы будете у меня товарищем министра. Нынешних обоих придётся убрать. А вот если что, если что… Так мы побежим с вами через Финляндию, успеем.
Ломоносов невесело:
– Да кто ж не бегал через Финляндию. Не мы будем первые.
Всё опять ходуном внутри.
– Знать бы, насколько серьёзные эти войска у Иванова. Если хороших есть полка четыре – то они нас за полдня раздавят.
Бубликов закричал с диванного валика:
– Но я хочу знать, куда повернул царь? Куда он там едет?
Ломоносов перекатил по валику голову, сощурил цепкие глаза:
– Может, в Москву? Чтобы там укрепиться?
– Не-ет, – ликовал Бубликов, – мой диагноз, что он в панике!
Ломоносов спустил ноги и сидел, наклонив голостриженную голову с оттянутым мощным затылком:
– Надо не дать ему вернуться к войскам.
– Верно! Да что, чёрт возьми, этот Родзянко не мычит не телится?
От самого поворота царского в Вишере они ему звонили – то не могли его найти, то не могли добудиться, наконец велел заказать с Николаевского вокзала поезд, поедет к царю сам, и вот уже звонят, – поезд готов, а Родзянко всё не едет, всё через полчаса, – а царский поезд прошёл Алешинку, прошёл Березайку…
Дружно вскочили, пошли в соседний кабинет Устругова, начальника службы движения, откуда была связь по линиям. Устругова они домой не пустили, он спал где-то ещё, а при телефонах сидел неусыпный костлявый Рулевский.
Рулевский только что узнал из Бологого, что оба царских поезда прибыли туда.
– Уже? – метнулся Ломоносов. – Задерживаем сами, никого не спрашиваем! – Схватил линейную трубку.
Бубликов – за городской:
– Нет-нет, всё-таки надо спросить Родзянку, комиссар-то я – от него.
И опять, и опять ждать, пока там в Думе ищут, вызывают, советуются. Уже у Бубликова рука затекала трубку держать – ответили: да, царский поезд в Бологом задержать, удостовериться, что телеграмма Председателя передана ему.
Как они боялись, страховались – задержать, и тут же оправдательная телеграмма. Нет, не будет из них революционеров!
И когда это Бревно наконец сдвинется и поедет на вокзал?
Зато Бубликов с Ломоносовым ощущали себя в полёте, какого не знавали в жизни. Или всё уже выиграно, или всё потеряно! Ни умываться, ни чаю пить, – ходили, нервно потирали руки, пылали в четыре глаза: небывалая охота! задерживаем Царя!
Бологое что-то не отзывалось. Вместо того самая верная за эту ночь из дорог Виндавско-Рыбинская доложила: из императорского поезда поступило требование дать назначение на станцию Дно.
Молниеносно: Николай хочет пробраться к армии?!
– Не пускать ни в коем случае!
– Слушаю, будет исполнено.
Хор-рошо! Ещё потирали руки, похаживали, ещё изучали карту, как шахматную доску. Значит, во всяком случае – не на Москву. Движение царя на Москву опасно, хотя и там уже начинается .
И вдруг с Бологого подали телеграмму:
«Поезд литер “А” не получив назначения прежним паровозом отправился Дно».
Бубликов взбесился! закричал! зачертыхался! затопал! – и к трубке – упустили, идиоты!!
Туда им: изменники! головы оторвём! расстреляем!
Но что-то – делать? Что-то делать!
Ломоносов впился десятью пальцами в карту на стене. Цедил, соображая:
– Задержать его прежде Старой Руссы…
Но задержать – кем? чем?
Взорвать мост? Разобрать пути?.. Можно попробовать, но Дума совсем перепугается.
Да и кто это будет, как этим на расстоянии управлять?
– А вот что: забьём полустанок товарными поездами. Где два пути – поставить два поезда, вот и всё.
Вызвали Устругова. Пришёл, исправный движенец, вялый от сна.
Бубликов распорядился.
Устругов вздрогнул, очнулся. И, чиновничья душа, отказно глянув на дерзких революционеров, заикаясь:
– Нет, господа, этого не могу… Такое распоряжение… невозможно.
– Что-о?
– Как? Отказываетесь?
Вдруг из угла выбежал длинный, худой Рулевский с револьвером – и приставил прямо к переносице Устругова:
– Отказываешься?
И Ломоносов присмехнулся:
– Милейший, придётся подчиниться.
...
ДОКУМЕНТЫ – 6
Телеграмма
Виндавская ж-д, ст. Дно
1 марта (около 8 ч. утра)
Благоволите немедленно отправить со ст. Дно в направлении на Бологое два товарных поезда, занять ими разъезд и сделать фактически невозможным движение каких-либо поездов. За неисполнение или недостаточно срочное исполнение настоящего предписания будете отвечать как за измену перед отечеством. Комиссар Государственной Думы Бубликов
240
Замысел Родзянко ехать на аудиенцию к Государю. – А царь проскользнул Бологое. – Приглашает государыня. – Приказ Родзянки? Гнев солдат.
Кажется, никогда так трудно не выбуживали – да ведь не молодое офицерское время. Сперва Родзянко вообще ничего не мог разобрать-понять: смотрел на часы – шестой час? А лёг в три? И кто затеял требовать, почему? Ах, этот Бубликов неуёмный.
Этот Бубликов вчера вечером ни с какой целью, просто из революционного озорства, предлагал: не остановить ли царский поезд? Охладил его Родзянко, что цели такой нет.
А сейчас он докладывал, что царь слизнул – так буквально, слизнул : от Малой Вишеры повернул назад!
Вот так тáк! – пробуждался Родзянко. – Что ж это могло значить? Намерения Государя переменились?
Но оторванному ото сна так трудно уразуметь, ещё трудней что-нибудь решить.
Да, хотели же повидаться. Куда он?
Что-то надо ответить.
– Вот что. Вы дайте Государю по линии телеграмму, что я прошу у него аудиенции в Бологом. И приготовьте мне на Николаевском вокзале поезд, я скоро поеду.
Но хорошо – сказать. А не только сил нет подняться – а как же ехать самовольным решением? Ведь заругают. И – с чем ехать? Чего просить? на чём настаивать? А если Государь – ни на что не согласится, тогда как? Надо с коллегами посоветоваться. А они спят хоть и в Таврическом – так тоже не добудишься, не досознаешься.
И сам свалился ещё на полчасика.
Разбудила жена через два: от Бубликова всё звонят, и поезд готов!
Ну, теперь уже время человеческое. Голова прояснела – и стукнуло в неё: да не в Москву ли?? Да не в Москву ли царь покатил?
О, конечно! И там объявит свою столицу! И оттуда будет давить мятеж.
А мы – не успели Москвой овладеть.
Плохо!
Надо догонять! Надо удержать Государя от безумия!
Ах, время пропустил!
Скорей умываться! Скорей автомобиль!
Покатил в Таврический.
Под лежачий камень вода не течёт. Надо нагонять Государя! И остановить его от чего-то непоправимого. И окончательно перенять себе правительственную власть, ответственное министерство.
Всё твёрже и увереннее наливался Родзянко. Наконец пришло время говорить с Государем не только в форме верноподданной просьбы. Подошёл момент и потребовать.
Ему рисовался разговор достойный, независимый, собственно – равный, даже с перевесом сил у Председателя. Разговор, начинающий новую эру в истории России.
По сути, он хотел перенять власть из слабых рук Государя в свои сильные – для пользы родины.
На февральском докладе почему-то так почувствовал, сказал Государю: это я последний раз у вас, больше не увидимся.
А вот и увидимся.
Но в Таврическом ещё никого он не успел созвать, как телефонировал Бубликов: царский поезд упущен! улизнул дальше из Бологого без разрешения на Валдай!
На Валдай? На Старую Руссу? Куда ж это? Ну, хорошо, что не на Москву. И ещё лучше, что не в Ставку.
Ну, держите мой поезд под парами, скоро поеду!
Куда ж он двинулся? Если на Петроград – то уже был совсем рядом, зачем же объезжать?
Тут недремлющий секретарь – у Председателя, несмотря на всю сумятицу в Таврическом, ещё были секретари – поднёс копию записки великого князя Кирилла начальникам царскосельских воинских частей. Поскольку Гвардейский экипаж Кирилла приписан к Царскому Селу, то и сам он как такой начальник сообщал остальным, что он, свиты Его Величества контр-адмирал Кирилл, со своим экипажем вполне присоединился к новому правительству – и уверен, что также все остальные царскосельские части присоединятся.
Здорово! Вот это – неожиданная поддержка! Удивил и изумил! Даже развеселил: уж если видные члены династии и сами присоединяются… и ещё других зовут! Наша победа!
Сильно взбодрился Родзянко, совсем другое ощущение. Наша победа! (Да что ж он сам, голубчик Кирилл, не докладывается, прямо?)
А каково теперь ведьме в Царском Селе?
Легка на помине. Комендант царскосельского дворца передавал просьбу государыни принять меры к водворению порядка в Царском Селе и в районе дворца. И ещё такая от государыни просьба: не может ли господин Родзянко приехать к ней этим утром переговорить?
Ну, дура форменная, не представляющая жизни! Как она это себе воображает, что Председатель поедет к ней сейчас с визитом? Как бы это выглядело в глазах революционного Петрограда! Раньше даже не приглашала к завтраку, когда он ездил на всеподданнейшие доклады. А теперь – просила приехать? Как смирилась! А почему потеряла вчерашний день, и вечер, и ночь, пренебрегла родзянковским советом уехать поскорей? Ждала супруга? А он вот повернул.
Ну, двух депутатов Думы послать на успокоение Царского можно.
Кажется, день начинался неплохо. Рассвело. Вот уже скоро опять, наверно, станут подходить к Таврическому с музыкой и в дурном строю воинские части, желающие приветствовать Думу. И в общем, эти шествия лучше, чем солдатский бунт. Но сегодня пусть служит отечеству горлом кто-нибудь другой – а Председатель поедет на переговоры с царём.
Пора была известить Комитет о своей поездке, договориться о полномочиях да ехать на вокзал.
Но тут почти вбежал бледный Энгельгардт.
А такая обстановка опять была, посторонняя публика, не всё и скажешь вслух. Отошли в сторону.
– Михаил Владимирович, страшная беда! – говорил Энгельгардт, в военном мундире, но не с военным видом крайнего испуга. – Откуда-то пошёл среди солдат слух о каком-то «приказе Родзянко», которого вы ведь не издавали? Будто ваш приказ: всем возвращаться в казармы, сдавать оружие и подчиняться офицерам.
Брови и лоб Родзянки выкатились. Такого прямого приказа он не издавал, но высловлялся именно так, – а как же иначе? А если солдатам не вернуться в казармы и не подчиниться офицерам…? До каких же пор хулиганить?
– Ужасное, ужасное недоразумение! – сокрушался Энгельгардт. – Вы не представляете, что заварилось! В казармах – новые вспышки! Вернувшихся офицеров – прогоняют, грозят убить! Говорят – будет массовое их избиение! И грозятся убить – вас!.. Вам небезопасно выходить сейчас к делегациям…
Родзянко почувствовал, как кровь отлила от головы и объяло её недобрым холодком.
И это была ему благодарность за то, что всех их он спас этой ночью!
...
ДОКУМЕНТЫ – 7
ПРИКАЗ
(1 марта)
Господа офицеры петроградского гарнизона и все господа офицеры, находящиеся в Петрограде!
Военная Комиссия Государственной Думы приглашает всех господ офицеров, не имеющих определённых поручений Комиссии, явиться 1 и 2 марта в зал Армии и Флота для получения удостоверений на повсеместный пропуск и точной регистрации, для исполнения поручений Комиссии по организации солдат…
Промедление явки господ офицеров к своим частям неизбежно подорвёт престиж офицерского звания… В данный момент, перед лицом врага, стоящего у сердца родины и готового пользоваться её минутной слабостью, настоятельно необходимо проявить все усилия к восстановлению организации военных частей…
Не теряйте времени, господа офицеры, ни минуты драгоценного времени!
241
Воротынцев по раннеутренней Москве.
Георгий проснулся не в темноте по будильнику, как приготовлено было, а падал через открытую дверь дальний непрямой свет. И Калиса стояла у кровати, будя его.
Уже ждал его горячий завтрак.
Теперь, как по тревоге, он вскочил, оделся, сапоги его ещё вчера с утра были начищены. Вот и сидел за столом. Калиса кормила и охаживала его со всей привязанностью, и угадывала, что бы ему ещё.
Как жена. Нет, не как жена. Нет, именно как жена! – он только теперь узнавал.
Смотрел на её капот в подсолнечной россыпи, смотрел на её добрую улыбку и поражался, и не верил: позавчера ещё сторонняя, какая же она стала своя. Как успокоительным маслом натёрла сердце его.
Раз и два поймал её руку и с благодарностью окунулся в ладонь.
Эти предрассветные утренние сборы прорезали напоминанием о других сборах: как он уходил на эту войну. Тоже было ещё темно, проснулись по будильнику. И Георгий сказал Алине: «Да ты не вставай, зачем тебе?», зачем ей терять постельное тепло (а сам-то хотел, чтобы проводила). Но Алина легко согласилась и осталась лежать, натягивая одеяло, – то ли ещё заспать горькие часы, то ли понежиться. А он поглотал в кухне холодного и, уже в шинели, в полной амуниции, подошёл ещё раз поцеловать её в постели. Так он ушёл на войну и сам не находил в этом худого, хотя в те дни по всей России бабы бежали за телегами, за поездами, и голосили.
И только вот сейчас, когда Калиса отчаянно обнимала его за шею, утыкалась в лацканы колкого шинельного сукна, вышла с ним во двор и ещё на улицу бы пошла, если б это было прилично, – только сейчас он обиделся на Алину за те проводы.
Быстро пошёл по пустынной Кадашевской набережной. Ему надо было до вокзала неизбежно зайти домой. Но сейчас он вполне мог и домой.
Рассвет был туманный. Набережная была видна повсюду, а через реку, ещё разделённую островом, туман уплотнялся так, что Кремль не был виден, только знакомому глазу мог угадаться.
У Малого Каменного стал ждать трамвая. Сколько дозволял туман – не было видно. Ни в другую сторону.
Воротынцев стоял так, задумавшись, рассеянно наблюдая где дворников, скребущих тротуар, где разносчиков молока, булок. Не заметил, что, как ни долго не было трамваев, никто больше не подходил к остановке.
И сколько б он так простоял, не очнувшись, если б не подошла баба с корзиной бубликов и сочным говором, жалеющим голосом обратилась:
– Ваше благородие! Трамваи ить не ходят. Второй день.
– Как? – обернулся Воротынцев. – Почему?
– А – не знаю. Забунтовали.
– Да что ж это? – будто баба знать могла.
Могла:
– В Питере, говорят, большой бунт. Вот и эти переняли.
– Воо-от что… Спасибо.
Значит, в Петербурге не стихло.
Взять извозчика? Но теперь Георгий понял, что и извозчик за это время ни один не проехал, и сейчас не видно было.
Да что тут ехать? – глупая городская привычка. На фронте такие ли расстояния промахиваются пешком. Он быстрым лёгким шагом пошёл через Малый Каменный мост, и дальше на Большой Каменный.
Теперь, хотя морозный туманец не ослаб, но вполне рассвело, и сам он ближе, – стала выступать кирпичная кремлёвская стена, и завиделись купола соборов, свеча Ивана Великого.
Что же с ним, что в этот приезд он даже не заметил самой Москвы, ни одного любимого места, – всё отбил внутренний мрак.
Зато теперь, пересекая к Пречистенским воротам, он внимчиво, освобождённо смотрел на громаду Храма Христа.
Стоит! Стоят! Всё – на местах, Москва – на месте, мир на месте, нельзя же так ослабляться.
Да, действительно, так и не прозвучал и не появился нигде ни один трамвай. Один, другой санный извозчик прогнали поспешно, в стороне. И людей было мало.
Чуть бы позже – газету купить, узнать, что это где делается, – но киоски закрыты, и газетчики не бегут.
На углу Лопухинского булочная уже торговала, внутри виднелся народ, а снаружи хвоста не было. Булочная Чуева у Еропкинского ещё была закрыта.
А сохранялось радостное ощущение – излечения. От алининых терзаний, претензий. Он освобождён был ехать на своё фронтовое место. Совсем без угнетения всходил на лестницу и, только когда дверь открывал, – хотя знал теперь, что она в отъезде, что её быть не может, что не вернуться ей так быстро, – всё-таки сжалось на миг: вот сейчас она выскочит с раздирающим криком.
Но не выскочила. Всё же – сразу обошёл комнаты и проверил. И посматривал на все места ножниц: не раздвинуты ли опять жалами?
Но – не было Алины, и все ножницы лежали спокойно соединёнными, как он их оставил, – когда ж это было? Только позавчера?..
Пошёл проверил почтовый ящик – тоже ничего.
Самое главное – не было этой соединённой боли всей квартиры – и всей кожи – и всего сознания, острой боли от каждого взгляда на каждый предмет. Он смотрел вокруг и удивлялся, как всё надрывало его тут позавчера. Как он мог так мучиться? Сейчас – его не бередило, сейчас он бодро мог побриться, собраться, да и прочь, пока Алина не нагрянула.
А уезжал-то он отсюда – не навсегда ли? Через месяц – великое наступление, и Семнадцатый год по изнурению, по потерям не затмит ли три предыдущих?
Пока расхаживал да брился, думал, написать ли ей письмо? Что-то надо было ей оставить, совсем короткое, простое?
Но чувство вины ушло. Но и никакого другого, отталкивающего, к Алине тоже не возникло. Эта несчастная её способность всё превращать в громокипение. И когда ты под снарядами.
За тем прошло, может быть, и больше часа, туман изник, день обещал ясность. Воротынцев услышал с улицы, несмотря на замазанные рамы, шум многих голосов и обрывки пения.
Подошёл к уличным окнам – не высунуться, плохо видно вниз. Пошёл к окну, смотрящему вдоль Остоженки, – и увидел в спину толпу человек в двести, скорей молодёжи, рабочей, не студенческой: нестройно, но весело они шли в сторону Пречистенских ворот – с красным вроде флагом на палке. Кто-то запевал, не подхватывали, а гулко говорили все.
Из шествия один выскочил, побежал к решётке Коммерческого училища – и там проткнул и рванул косой полосой наклеенный лист объявления, которого утром в сумерках Воротынцев не заметил. Но лист остался, так и свисла косая отдирка.
Что-то творилось! Если с раннего утра такое шествие? Надо будет газету достать. И пойти прочесть это объявление.
Сбежал вниз. Привратница сказала ему, что никаких газет нет второй день, а в городе – «бушують».
Быстро пересек Остоженку, подошёл к изуродованному объявлению, близ которого и читателей не было, и, придерживая отодранную полосу, что, наверно, выглядело смешно, прочёл:...
«Объявляю город Москву с 1 сего марта состоящим в осадном положении. Запрещаются всякого рода сходбища и собрания, а также всякого рода уличные демонстрации. Требования властей должны быть немедленно исполняемы. Запрещается выходить ранее 7 утра и после 8 вечера кроме случаев…
Командующий войскамиМосковского Военного Округагенерал-от-артиллерии Мрозовский».
242
Государь задержан?? – Охрана императрицы тает.
Сколько там было сегодня сна, и как государыня без него держалась, ещё при расширенности сердца, слишком требовательно перерабатывающего все события? Ожидая приезда Государя, она поднялась и оделась в пять утра. Как сговорясь, покинули её все, все болезни и боли, которые многомесячно и многолетне приковывали к постели, к кушетке, к возимому креслу, почти не давая появляться ни в обществе, ни в Петербурге. И – не отказывали ноги. И даже – при испорченном впервые лифте, стало для неё вполне посильно подниматься по лестнице к детям на второй этаж.
Стряхнулись все оправдательные помехи, не оставляя ей в эти дни никаких уловок, а только проявить всю волю, всю власть. Но теперь-то и оказалось, что – не через кого проявить: все линии её власти обрывались на придворных и не продолжались дальше.
Должны были доложить во дворец по телефону в ту же минуту, как поезд Государя прибудет на станцию. Но в пять часов его ещё не было. Ни в половине шестого. А близ шести доложила камеристка, что передали со станции: поезд Государя задержан, где, кем, почему – неизвестно.
За-дер-жан??! Государь задержан в своём отечестве???
Может быть – обстоятельствами? может быть – поломкой? вьюгой? А иначе – что же делала железнодорожная охрана? власти? Ставка, генерал Алексеев?
Генерал Алексеев – как же может допустить такое, со своими Главнокомандующими?! Ах, говорила Государю не раз: грязный он мужик, прислушивается к Гучкову, к дурным письмам, потерял дорогу. Посылал Господь эту болезнь, перстом указывал – отодвинуть его. А Государь вернул.
Однако всё, что она могла, – это с выравненным, окрепшим телом расхаживать по дворцовым переходам, опираясь на руку дежурного офицера Сводного полка Сергея Апухтина, – и швырять о стены свои отскакивающие вопросы, и смотреть в немые, тёмные окна.
Она гневно спрашивала у стен – но внутренне уже подготовлялась, что всё – возможно.
Царское Село было черно, неподвижно.
Не укрыла своей тревоги от рано поднявшейся Лили Ден (она спала близ спальни государыни, чтоб не оставить её одну на этаже). Обошли с ней детей. Анастасия – в жару, старшие две девочки плохи. А наследник, напротив, легче. Но их всех оберегали от внешних известий, оставляя ещё в благой доле – лежать в полутьме с жаром, сыпями и кашлем и совсем ничего не знать, не представлять о творящихся событиях.
Долги и мучительны были эти ночные часы до рассвета, не приносившие никакого разрешения и разгадки.
На память о них императрица подарила Апухтину свой платок в слезах и пепельницу императорского фарфорового завода.
От офицеров железнодорожного полка со станции пришёл слух, что – да, царский поезд где-то остановлен бунтовщиками!
В 8 часов утра, уже в свету, пришёл доложить генерал Гротен: императорские поезда остановлены ночью в Малой Вишере и теперь не поспеют раньше полудня. Но и он не знал причин остановки.
Но ещё несколько часов? Но как остаться безопасными эти несколько часов? Уже вчера вечером бунтовал царскосельский гарнизон, уже вчера вечером шла громить дворцы мятежная толпа из Колпина, слава Богу не дошла, может быть из-за мороза. Но – сегодня?
Как не хотелось унижаться перед этими скотами думцами! И перед этим гнусным Родзянкой, говядиной Родзянкой! Но – уже посылала к нему флигель-адъютанта за распоряжением охранять дворцы, – и теперь уже легче был шаг: просить Гротена звонить немедленно Родзянке, спрашивать его – кто и почему смел задержать Государя?? И: может ли господин Родзянко сам приехать сюда для объяснений?
Самый шумный из бунтовщиков становился единственной законной опорой.
И не было от Государя никакой объяснительной телеграммы! У постели больных детей – ничего не знать об отце!
Теперь слать телеграммы наудачу на разные станции по пути следования?
Да, но где же были – великие князья? Свора ничтожеств! Их голоса только и слышны, когда делить доходы удельного ведомства или хором защищать династических убийц. Сейчас они не только не неслись к императрице с помощью, не спешили ей телефонировать или приехать – но все затаились злорадно и ждали развязки. Что делал Кирилл? Ничтожный пустой хвастунишка, всегда она и видела его таким (но подсылал свою жену с выговорами к государыне!), – таким он и сейчас затаился. Ведь его гвардейский экипаж вот тут стоит – а где же он сам? А милый безхарактерный Миша, весь в руках своей властной жены, даже и на этой войне так и не ставший человеком? А повеса, развратник, опустошённый Борис, только место занимающий казачьего походного атамана, ведь он не в Ставке сейчас, ведь он где-то здесь болтается, где же он? Да перебирая их многочисленные мужские ряды – императрица и вообразить и назвать не могла такого мужчину, который мог бы представить защиту. Все – тряпки и трусы. Один стареющий Павел хоть похож на мужчину.
Но – что же он делал – не делал? – с гвардией? Но – что ж он придумал и сделал со вчерашнего дня?
И ещё доложили: уходившая из дворца ночевать рота железнодорожного полка – не вернулась утром, как должна была.
Охрана таяла.
Хам Родзянко передал, что не может быть речи о его приезде – и ничего он не знает о причине задержки Государя.
Не может не знать, лжёт как всегда.
Но обещал, что пришлёт в Царское Село для успокоения – депутатов Думы.
Этой Думы, которую всю давно следовало разогнать, а кого и обезглавить, депутаты – теперь явятся как ангелы-хранители царской семьи. Боже, до чего всё пало! Боже, куда это всё закручивается!
Тем временем вернулась из Петрограда посланная вчера, по уговору, депутация дворцовой охраны. Им обещали, что Дворца не тронут.
Только стоять им с белыми повязками на рукавах. Повязками, означающими что же? Что эта охрана не враждебна взбунтовавшимся царскосельским войскам!..
Ну, может быть, всё и к лучшему, обойдётся мирно. Но где же Государь? Но как же узнать о причине и месте задержки?
Повелела государыня запросить Ставку, по прямому проводу.
Августейших супругов разлучили на неизвестно какой срок – и вот она осталась единственной и отдельной старшей. Она знала, что и рост и наружность её – царственные, все манеры прирождённой повелительницы. А хмурый сбор её бровей выражал все её неизбежные 46 лет. Но одна способность отказала ей: угадывать и произносить правильные решения.
Доложили: прямая проводная связь дворца со Ставкой – прервана распоряжением Государственной Думы. Отныне такая связь может идти только через Таврический дворец.
То есть через думское подслушивание, каково! Да будьте вы прокляты, чтоб ещё унижаться до вашего подслушивания!
И – зачем теперь ей Ставка, если Государь неизвестно где?..
243
Адмирал Непенин – ведёт!
В штаб Балтийского флота сведения из Петрограда приходили и ночью и утром самые наилучшие: Революция – в полном разгаре. Всем распоряжается президиум Думы во главе с Родзянкой и больше никто, нечто вроде Комитета Общественного Спасения. Разгромлены все полицейские участки! Выпущены все политические арестованные! Порядок постепенно восстанавливается. Только промелькнул очень печальный эпизод на «Авроре»: убили трёх офицеров. Но морской министр вошел в соглашение с Думой об охране Адмиралтейства, а Родзянко приказывает также и Главному морскому штабу.
Только из Кронштадта ночью же поступили тревожные сведения о безпорядках там, правда – в сухопутной части гарнизона.
Вице-адмирал Непенин не спал. Верный взятому теперь правилу – обо всём объявлять открыто командам, он решил, что и о кронштадтских безпорядках здесь, в Гельсингфорсе, команды должны узнать от самого адмирала.
В 4 часа ночи он велел разбудить и позвать к себе Черкасского и Ренгартена. Составляли текст бодрого приказа по флоту – укреплять боевую готовность, вместе с тем сообщали и о петроградских новостях и кронштадтских безпорядках. В девятом часу утра приказ уже и разослали.
Непенин был очень твёрд. Вчерашние вечерние три визита декабристов к Командующему флотом имели наилучший результат. Старшему из них, князю Черкасскому, Непенин сказал, что на взятой позиции он будет неуклонен. И если, например, Государь пойдёт на такое безумие, как приказ о смещении Непенина, – то адмирал этому приказу просто не подчинится!
Да в нынешней изумительной обстановке и странно было бы действовать иначе!
Ещё и оттого Непенин был так смел и дерзок – в 45 лет он испытывал вторую молодость: всего лишь в этом январе, вот только что, он женился на молодой вдове своего адъютанта, погибшего при взрыве крейсера.
Утром же с опозданием пришли две вчерашних телеграммы Родзянки, где он призывал войска и флот к спокойствию, а Комитет Государственной Думы наладит порядок в тылу.
Непенин вновь вызвал Черкасского и Ренгартена прочесть им свой ответ: что он считает намерения Комитета достойными и правильными.
Но это получалось уже не просто вежливое подтверждение, но открытое заявление, что Балтийский флот фактически присоединяется к новой власти?
Тем лучше!
Тут же, в девять утра, Командующий собрал у себя в салоне «Кречета» всех флагманов и капитанов. Прочёл им сведения из Петрограда, прочёл телеграммы Родзянки. И свой ответ.
Затем – и свою телеграмму Государю, что все сведения он объявляет командам и только таким прямым, правдивым путём надеется сохранить флот в повиновении и боевой готовности. Более того – передаёт Его Величеству своё убеждение, что необходимо идти навстречу Государственной Думе.
И чем же, правда, не благоразумный совет? И какой же, правда, иной выход?
Черкасский и Ренгартен, стоя у стены, зорко поглядывали на выражения лиц флагманов и капитанов. Разные были выражения, но больше – непроницаемые. Нельзя было ясно определить, кто и насколько действительно принимает, а не просто вынужден подчиниться.
Но коренастый, сбитый Непенин и не спрашивал их согласия. Он обвёл всех тяжёлым взглядом (угадывая это сопротивление), протолкнул твёрдо, негромко, очень внушительно:
– Требую от вас полного повиновения! Всё, господа офицеры.
И ни слова больше. Он и не предлагал им решения. Он всё решение самолично взял и произвёл!
А декабристы чувствовали себя так, что каждый их нерв живёт обострённой отдельной жизнью.
Ренгартен открыл их план каперангу Щастному – и встретил его сочувствие.
И лишь несколькими часами позже этого совещания дошли подробности из Кронштадта – ужасные: там разыгралась полная анархия, адмирал Вирен убит и сброшен в овраг у Морского собора. Убит и адмирал Бутаков. И арестованы многие офицеры!
Какой кошмар! Какое ложное направление невразумлённого народного гнева! При чём адмиралы? при чём офицеры?
Ах, будьте вы прокляты, все Протопоповы и гессенские немки! Это всё – из-за вас! Это вы довели! Столетиями.
Непенин обратился по телеграфу к Родзянке с просьбой восстановить порядок в Кронштадте: тому – близко, отсюда через ледовые пространства – недостижимо.
...
ДОКУМЕНТЫ – 8
ИЗ БУМАГ ВОЕННОЙ КОМИССИИ
(1 марта)
– Громят погреб Рауля на Исаакиевской площади.
– Фонарный – погром. 8 часов утра.
– Из достоверного источника мы узнали, что к Зимн. дв. подано несколько автомобилей с целью удрать из последнего. Просим принять надлежащие меры для задержания последних. Подпор. Пашкевич
...
– Угол Жуковской и Лиговской – разгром подвалов Соловьёва. Отстояли один погреб, а один разгромлен. Пьяные солдаты по трое ходят, один караулит – все пьют.
– На углу Кирочной и Воскресенского патрули просили прислать поддержку, т. к. солдаты грабят магазин. Отряд Красного креста лейб-егерей
...
– Заведующему гаражом и складами Гвардейского Экономического общества. Имеющееся в погребах вино выпустить из бочек.
Председатель Военной Комиссии
...
– Нужна военная охрана Зимнего дворца и Эрмитажа. Там правительственных войск нет, я сам обошёл один в сопровождении коменданта весь дворец. Сам комендант просит охраны.
244
Гиммер и вопрос о власти. – Его совет Керенскому.
Крепко и долго поспал Гиммер на частной квартире, позавтракал на целый день вперёд, и с отличной головой шёл к Таврическому, щурясь на разнообразные, красные и розовые, кто какие достал, банты, повязки и знаки на людях, идущих порознь или уже построясь в манифестацию, и все куда же? – к тому же Таврическому.
Всё казалось прекрасно, только – где генерал Иванов? Он всё может накрыть и уничтожить.
Итак, прошло уже два полных дня революции, начинается третий, а никто не безпокоится о формировании власти, – каково! Во всяком случае, в кругах Совета заняты суетным верчением вокруг текущих разрывающих вопросов. Но Гиммеру – не пристало упустить вопрос о власти или недостаточно осветить для товарищей. Вопрос о власти был один из коньков его, изучен заранее, и сейчас он великолепно охватывал его головой, лучше, чем глазами – утренние революционные улицы ещё и в десять утра мглистого города.
Итак, снова и снова: абсолютно ясно, что демократия, даже оказавшаяся хозяином положения в столице, даже и возглавленная авангардом циммервальдски мыслящего пролетариата (как концентрат этого пролетариата Гиммер ощущал себя), – не должна брать власть в данной обстановке, но для успешного разгрома царизма, но для установления широкой политической свободы – передать власть в руки цензовой буржуазии. Однако это значит передать её в руки классовых врагов? Так надо передать на определённых условиях, чтобы врагов обезвредить. Надо поставить буржуазию в такие условия, чтоб она стала ручной, чтоб она не могла своею властью помешать дальнейшему развёртыванию и продвижению революции. То есть, короче, надо использовать врагов для своих целей.
И этот солдатский гнев, который сегодня с утра вероятно ещё больше разыграется, нежелание возвращать оружие – эта стихия придётся очень на руку. Она верней всего и обезсилит буржуазию.
Тем временем пробравшись через толчею Таврического в советское крыло, Гиммер увидел Капелинского. Со своим быстро-хитреньким и отзывчивым видом тот ему сообщил:
– Ты слышал? Царский поезд задержан железнодорожниками в Бологом.
– Ах вот как? Попался царишка?
Новость была превосходная, но Гиммер не придал ей слишком большого значения. Вопрос об отмирающей династии не должен заслонять вопроса о живой власти. Надо думать – кто и на каких условиях сформирует правительство.
Тут, рядом с Советом, собирались теперь домочадцы членов ИК, помогали создавать делопроизводство, из других комнат Думы тащили и пишущие машинки. Отвлекая Гиммера от важных мыслей, ему хотели подсунуть какие-то бумаги разбирать, но тут же, ещё раз отвлекая, передали ему, что его искал и очень хочет видеть Керенский.
Керенский стал за два дня уже такой важной фигурой, что не заставить его ждать, надо сходить. Гиммер снова нырнул в толпу, пробиваясь к Керенскому на думскую половину.
Там было всё же попросторнее и потише. У некоторых комнатных дверей стояли юнкера и преграждали доступ. В одной из таких защищённых комнат оказался и Керенский, хотя всё равно и в ней народу порядочно.
Керенский сидел – нет, был погружён, нет, упал – в мягкое кресло с толстым подлокотником, – упал так, что не поджаты были его ноги, а весь он составлял прямую от лакированных, но отоптанных ботинок до короткого бобрика на голове, откинутой на спинку. Одна рука неизвестно где была, а другая через подлокотник свисала плетью, показывая всю изнеможённость хозяина, впрочем выраженную и лицом.
Керенский и не пытался менять эту позу ни для Соколова, подсунувшегося к нему на стуле, чтоб легче говорить, ни теперь для подошедшего Гиммера. Он ощущал, что ему простят теперь и всякую позу, и дослышат негромко высказанные слова, и наклонятся к нему, сколько это потребуется. Вот, объявил он Гиммеру, как уже прежде Соколову: предлагают вступить в образуемый цензовый кабинет. Парадокс! Что делать? Хотелось бы знать ваше мнение, вообще ядра ИК.
Очень важно! Очень серьёзно! Это действительно был не пустой вопрос, он касался самого главного! Гиммер пошёл поискал стул, из-под кого-то высвободил, принёс и подсел, как и Соколов, к Керенскому тесней, как к больному. Тот всё так же был вытянут павшей палкой, и так же плетью свисала неподвижная рука.
Вот ведь! Всего три-четыре дня назад на квартире у Соколова Керенский не удосужился выслушать лучшие теоретические прозрения Гиммера – а никуда не ускакал, всё равно сам же теперь и спрашивает. А Гиммер очень любил, когда его спрашивают о каком-нибудь принципиальном вопросе.
Так вот: сам Гиммер – решительный противник и того, чтобы власть приняла советская демократия, и того, чтобы она вошла в коалицию с буржуазными кругами. Кем стал бы официальный представитель советской демократии в буржуазно-империалистическом кабинете? Он стал бы заложником , и только связал бы руки революционной демократии в проведении её поистине грандиозных и по сути международных задач.
Лоб Керенского ещё более омрачился, взгляд его потускнел, потерял интерес. Не шевелились ни губы, ни пальцы. Новознакомому было бы не понять – слышит ли он ещё. Но Гиммер хорошо его знал, и знал, что – слышит.
Однако изящно повернул он теперь. Считая невозможным вступление Керенского в кабинет Милюкова в качестве представителя революционной демократии, он находит объективно небезполезным индивидуальное вступление Керенского как такового. Как свободной личности. Как человека, формально не связанного ни с одной социалистической фракцией. (Собственно, и Гиммер с таким же успехом мог бы войти в кабинет, но ему не предлагали.) А советские круги таким образом имели бы в правительстве заведомо левого человека. Керенский не давал бы правительству зарваться в реакционно-империалистической политике…
Если и оживился утомлённо-созерцательный взгляд Керенского, то лишь очень немного, только малый свет от потухлости, чтобы теперь иметь силы поискать, кликнуть ещё какого-нибудь советчика, и не обязательно из ядра ИК, да и кто проведёт это разделение, где ядро, где не ядро?
Гиммер горько усмехнулся (больше – внутренне, сам себе): конечно, Керенскому хотелось не такого ответа. Конечно, Керенский хотел быть министром . Но при этом честолюбиво (да и осмотрительно) хотел он сохранить роль посланника демократии в первом правительстве революции.
Но по всем теоретическим основаниям это было полностью невозможно!
Гиммер с Соколовым пошли на заседание Исполнительного Комитета. Пригласили с собой Керенского – он и не тронулся, он уже считал такую роль для себя недостойной.
Он остался всё в том же утомлённо-изящно-тусклом погружении. Размышлении. Предположении.
245
(из бюллетеня петроградских журналистов)
ПАДЕНИЕ АДМИРАЛТЕЙСТВА
ВСЕ политические заключённые, томившиеся в казематах Петропавловской крепости, в том числе и 19 солдат, выпущены на свободу.
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ПОЛК перешёл в революционный лагерь со всем офицерским составом во главе.
…Мало было вчера офицеров в революционной армии. Сегодня их уже много. Чувствуется настоятельная потребность в организации воинских масс, исполненных лучших стремлений. Офицеры приглашаются оказать всемерное содействие в этом тяжёлом труде…
Граждане, организуйтесь! – вот основной лозунг момента.
В ЕКАТЕРИНИНСКОМ ЗАЛЕ воинские чины отдельных частей формируются в батальоны, получают вооружение и занимают свои места в частях города согласно установленной диспозиции.
АРЕСТ А.Д. ПРОТОПОПОВА …В отдельной комнате между ним и Керенским произошла беседа. О содержании её мы сообщим завтра.
CИБИРСКИЕ ПОЛКИ. Депутаты от двух сибирских полков, прибывших на Николаевский вокзал по пути на фронт, явились в Таврический дворец с предложением своих услуг Временному Комитету. Предложение было принято с восторгом.
…Список арестованных прислужников старой власти растёт с каждым часом… Полагают, что среди арестованных за последние дни могли оказаться лица, в аресте которых Временный Комитет Государственной Думы не видел надобности.
ВОЗЗВАНИЕ группы СОЗНАТЕЛЬНЫХ СОЛДАТ …констатирует, что к прискорбию некоторыми лицами разгромлены лавки и разрушены помещения. Группа сознательных солдат считает, что эти эксцессы дискредитируют великое движение к освобождению народа. Воззвание обращается к солдатам с просьбой не принимать участия в разгроме магазинов и винных складов, наоборот, содействовать убеждению громящих…
СОБСТВЕННЫЙ КОНВОЙ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ПЕРЕШЁЛ НА СТОРОНУ РЕВОЛЮЦИИ! – Сегодня в здание Таврического дворца явилась команда Собственного Его Величества Конвоя. Конвойцев встретил М.А. Караулов, обратившийся к ним с приветственной речью. Он призвал их примкнуть к восставшему народу для защиты своих интересов. Конвойцы встретили речь Караулова громовым «ура». По предложению депутата Караулова команда немедленно отправилась в казармы для ареста офицеров, оставшихся верными кровавому режиму.
АРХИВ ДУБРОВИНА. В квартире небезызвестного председателя Союза русского народа доктора Дубровина произведен обыск. Все архивы и дела в огромном количестве доставлены в помещение Таврического дворца.
КУДА ДОСТАВЛЯТЬ ПОЛИЦЕЙСКИХ
…Распространяемые с провокационной целью слухи, будто обыскиваются квартиры частных лиц, из домов которых не стреляли, лишены всякого основания…
ПРИСОЕДИНЕНИЕ МОСКВЫ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАЗАЧЬИХ ПОЛКОВ …готовы в любой момент стать на сторону Временного Комитета…
В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ – ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА АНГЛИЕЙ И ФРАНЦИЕЙ …Французский и английский послы вступают в деловые отношения с Временным Комитетом Государственной Думы, выразителем истинной воли народа и единственным законным временным правительством России.
246
Эверт совершенно обезкуражен, а Ставка не объясняет.
Ставка не прервала связи бунтарского Петрограда с Действующей армией – и на Западном фронте всю ночь и утро сотни телеграфистов, железнодорожных и военных, ловили и ловили поток бунтарских посланий и воззваний, передавали их по службе и не по службе, – и мятежный поджог разливался и растекался.
Но среди неведомых выскочек также и всеизвестный Родзянко, на всю Русь распоясавшись, слал и слал свои телеграммы – то вообще в воздух, никому или к жителям, а то опять прямо Главнокомандующим фронтами, как будто стоящая над ними инстанция, – и сообщал о взятии власти своим комитетом, и уже указывал, чтó делать армии.
Как это всё может быть? Как он это смеет без воли Государя? И почему не одёрнет Родзянку Ставка? Хорошо, на Бубликова не обращать внимания, на Грекова не обращать внимания, – но Родзянко? Ведь он же занимает государственный пост?!
Но Ставка – всё утро продолжала молчать, как будто ничего не знала о самозваной власти в столице.
И в одиннадцатом часу утра генерал Эверт сам сел к аппарату, назвал себя и вызвал Лукомского. По должности, по равным правам и потому что ровесники, тоже шестьдесят, – он мог бы вызвать и Алексеева, но не позвал, поскольку тот сейчас замещал и Верховного. Эверт думал – может быть Алексеев всё-таки подойдёт сам.
Однако не только не подошёл Алексеев, а и Лукомский заставил себя изрядно подождать. У Эверта терпение лопнуло, он подставил вместо себя Квецинского. Потом уже объявился сам. Назвал номера двух родзянковских телеграмм, вероятно и Ставка получила их?
– Сначала я предполагал ничего не отвечать. Но это может иметь вид, как будто я принял их к сведению или, ещё хуже, к исполнению. Поэтому, думаю, лучше ответить. Вот так: армия присягала своему Государю и родине. И её обязанность исполнять повеления своего Верховного вождя и защищать родину. Хотел бы знать мнение Михаила Васильевича. В трудные минуты нужна наша полная общая солидарность.
Своим тяжёлым крупным корпусом, и решимостью, и тяжёлыми словами он как бы, со своей стороны провода, перевешивал всю Ставку вместе с маленьким Алексеевым и Лукомским. Ясней, прямей, даже грубей не мог он спросить: начальник штаба Верховного признаёт ли необходимым выполнять присягу , данную Государю?
Но Лукомский не пошёл спрашивать Алексеева, а взялся пространно отвечать сам:
– Да, генерал-адъютант Алексеев – (не Михаил Васильич!) – получил сегодня одну телеграмму от Родзянки, и смысл её тот, чтоб армия не впутывалась пока в дело. Генерал Алексеев хотел ответить, что подобными телеграммами вносится совершенно недопустимое отношение к армии и что необходимо посылку таких телеграмм прекратить.
Ну всё-таки, молодец Алексеев, не потерял разум. Темноватый, сощуренный мужичок, а не сдаётся.
– Однако, – продолжал Лукомский, – эту телеграмму генерал Алексеев пока не послал.
Да почему ж?
– …Он хотел прежде выяснить, прибыли ли в Царское Село Государь и генерал Иванов.
При чём тут одно с другим? В огороде бузина, а в Киеве дядька.
– …А получить этих сведений до настоящего времени мы не можем потому, что по распоряжению Думы нам не дают прямого провода с Царским Селом.
Что-о? Да это просто мятеж! От штафирок?? У Эверта сжимались огромные кулаки. Как же Алексеев это может терпеть??
Видимо, ещё что-то есть. Ещё что-то, они не объясняют. Или – уязвимость Государя под самым Петроградом? Вот разве.
– …Генерал Алексеев вчера послал телеграмму генерал-адъютанту Иванову об успокоении, наступившем в данный момент в Петрограде, и просит доложить Государю, что было бы желательно избежать применения открытой силы.
Успокоение?.. А как же Бубликов, Греков? Им уже снесли головы? А задержка военных эшелонов? А самочинная власть Родзянки вместо законного правительства? Чего-то здесь Эверт не знал или не понимал.
Между тем добавлял Лукомский, что начинаются безпорядки в Москве и в Кронштадте.
Так тем нужнее действовать! Какое тут рассуждение? – присяга!!
А Лукомский добавлял дальше, что генерал Алексеев подписал телеграмму Его Величеству с просьбой издать акт об успокоении населения. Но пока, за отсутствием связи…
Ну, может быть… Чего-то Эверт не ухватывал.
– …Ваше предположение об ответе Родзянке я сейчас доложу генералу Алексееву, который, к несчастью, чувствует себя плохо.
Ну вот, остался в Ставке один – и раскис.
Успокоение?.. Наверно, правильно.
Эверт объяснил, что и его предлагаемый ответ Родзянке тоже имеет в виду необходимость скорейшего успокоения.
Желательно вот эту телеграмму об успокоении, произошедшем в Петрограде, тоже получить.
Пожелал Алексееву выздоровления.
И отошёл от аппарата тёмный, в растерянности, меньше понимая, чем знал до разговора.
Конечно, главное – сохранить порядок.
Но как же быть с этим потоком петроградских телеграмм? Скрывать их от населения Минска? Или, опять же для успокоения, публиковать?
Не догадался спросить.
Только часа через два передали Эверту телеграмму Алексеева Иванову № 1833, отправленную сегодня в час ночи.
Эверт стал читать – и ещё более изумлялся. Тут говорилось о полном спокойствии , наступившем в Петрограде, где только что был анархический ад (за эти часы подтверждённый и офицерами, вернувшимися в Минск из отпуска). И упоминалось ещё какое-то иное воззвание родзянковского комитета о незыблемости монархического начала в России. Но сколько ни пересматривал Эверт полученные депеши, и поручил Квецинскому искать, – никакой даже тени такого воззвания они нигде не нашли. Могло ли оно проминуть Минск?
Был ли Алексеев введен в заблуждение?
Или: с Государственной Думой тоже не надо ссориться?
Нет, чего-то тут решительно не понимал обезкураженный Эверт. И не было сверху ясных приказаний.
Правильно всегда говорилось: политика – не дело армии.
Не может генерал-солдат вести свою политику.
247
Императорские поезда в Валдае. – В Старой Руссе.Дворцовый комендант Воейков был очень самополный человек, сам для себя достаточный: наполненный своими личными успехами, устройством, постройками, миллионами (недавно продал выгодно минеральный источник «Кувака» в Пензенской губернии) и всегда исключительно уверенный в собственном мнении. По старческой слабости своего тестя графа Фредерикса, Воейков стал главным лицом в свите, и поминутно давал чувствовать это всем остальным. Теперь и ближайшие свитские, едущие в поезде «А», проснясь и видя по просвечивающему солнцу странное направление поезда, спрашивали у Воейкова, проходившего коридором, и получали загадочно-раздражённый ответ: «Не задавайте вопросов».
Местность за окном проходила совсем неизвестная, не видели такой ни в одной из регулярных поездок. От этой новизны свита тревожилась теперь ещё больше. Тут от Граббе узнали, что идут кружным путём на Дно, чтоб оттуда в Царское по прямой могилёвской линии. И ещё от своих сопровождающих железнодорожников узнали, что паровозная бригада отказалась меняться в Бологом, чтоб не задерживать императора, но взялась везти его до Дна. Теперь ехали по линии, не готовой к пропуску императорских поездов, ещё медленнее обычного, и сами станции узнавали о них едва ли не на последнем перегоне. Такое несогласованное движение тем более грозило задержками. Свита шепталась о неизбежности уступок, неужели Государь не согласится на ответственное министерство, ну что ему стоит? А иначе, – сказал адмирал Нилов, – все будем висеть на фонарях.
Воейков, в шинели, крупной решительной фигурой соскакивал на каждой станции. В Валдае ему поднесли телеграмму от Родзянки и потребовали расписки для телеграфного ответа.
Прочтя телеграмму, вскочивши в поезд, и снова – никому из свиты, Воейков пошёл будить Государя.
А Государь, долго не спав после Малой Вишеры, тяжело забылся следующие часы, проспал разворот в Бологом.
Сейчас не вмиг и вспомнил всё.
К Воейкову вышел в халате.
И так же не сразу мог себе уяснить смысл подаваемой телеграммы: от Родзянки?.. с просьбой аудиенции?
Как-то – мысли у него не было о возможности прямого и скорого разговора с Родзянкой. После последней враждебной февральской аудиенции, когда толстяк надменно пытался поучать своего Государя, – и вот снова с ним встретиться?
Да ведь и Дума распущена позавчера, Думы – нет.
Думы – нет, но Родзянко – есть. Из Петрограда, закруженного в бунтах, он естественно возвышается самой солидной, крупной фигурой. И даже больше того: он там самозваный комитет создал, чуть ли не правительство? Он чуть ли не перенял правительственную власть? Но обстановка так переменилась, что – отчего же? Пожалуй, да, можно будет его принять.
Это даже хорошо, что он обращается. Это даже выход.
Да, как-то надо уладить. Министерства, кроме главных – военного, внутренних дел и иностранных, – можно, пожалуй, им и уступить. Отчего уж, правда, быть таким неуступчивым? Когда со всех сторон решительно все хотят одного и того же – это начинает угнетать.
Реально императорское правительство сейчас не существует – так естественный момент и заменить.
– Хорошо, вызывайте Родзянку – куда же? На Дно. Я согласен его там принять.
И Воейков отправил согласие.
Ехали дальше, к Старой Руссе.
И тут Государя стало разбирать, разбирать сомнение: не слишком ли он быстро согласился – с распаху, со сна? Он так легко согласился, – и вот через несколько часов встретится с Родзянкой – прежде чем встретится с Аликс? А – что скажет она? А – как она отнесётся, что он такую уступку сделает без её совета?
Ну, выход есть: разговаривать с ним твёрдо.
Ах, Господи, в такие дни – и он оказался оторванным от Аликс!
Как – не ошибиться сейчас?
Тревожно перебирал Николай цепочку у шеи своей – цепочку образка, повешенного женой.
Это – он так страдал, а как же – она страдает? А каково же ей там сейчас, рядом с бушующей столицей?
И на запутанном его маршруте Аликс не могла найти его никакой телеграммой.
О Боже, как разбаливалось, как разрывалось сердце после этого несчастного вишерского поворота, удлинившего путь!
Хотя нет, не попустит Господь: Иванов – уже там, и она под его защитой.
А поезд – небыстро постукивал по боковой тихой, малоезженной линии. Все должностные лица – жандармы, охрана, были на местах, и опять начинало не вериться в опасность. Углублялись надежды, что всё обойдётся, – и сегодня к ночи он достигнет мирного круга своей любимой семьи.
Оттого что сбился маршрут, Государь не получал сегодня никаких телеграмм из Ставки. Да и вчера их было негусто. Он понимал, что в Петрограде – мятеж, но – ничего по сути, подробно.
Что казалось Николаю благодеянием в начале их поездки – отсутствие штабной связи, приносящей грозные депеши, – уже щемило и недостатком: семья была в острой опасности, и он не имел права так поздно и безполезно всё узнавать.
На остановках он не выходил прогуливаться. Смотрел из вагонного окна. На ходу пытался читать, но не укладывалось в душу.
Подошло время общего завтрака. Перекидывались самыми ничтожными замечаниями, пытались шутить над Мордвиновым. Но и самые выдержанные лица не могли скрыть тревоги, и немо воспарялась ото всех к Государю мольба: уступить. Он чувствовал эту мольбу.
Вскоре после завтрака пришли в Старую Руссу. На платформе – толпа, и много монахинь. Народ снимал на морозе шапки и кланялся синим вагонам с орлами.
Тут Воейков получил и принёс сразу три телеграммы – все через Ставку транзитом, но ни одна прямо от Алексеева, почему-то начальник штаба ничего не докладывал своему Верховному сам. И все три телеграммы были не о главном – не прямо о Петрограде, как будто расстроилось зрение и главное пятно расплылось.
Рузский доносил в Ставку о перерыве всякого сообщения между Петроградом и Финляндией, отчего он уполномочил командующего тамошним корпусом располагать всеми сухопутными войсками от финского перешейка.
Морской министр Григорович, не имея прямой связи с Его Величеством, доносил в Ставку, что им получена телеграмма от коменданта Кронштадта о начале волнений вчера вечером.
И наконец, наморштаверх (начальник морского штаба Верховного Главнокомандующего) передавал телеграмму от командующего Балтийским флотом, что с 4-х часов утра сегодня прервано всякое сообщение с Кронштадтом, где убит командир порта и арестуются офицеры.
Главное пятно не давалось глазу, но и от того, что по краям его – холодило сердце.
Таким кружным путём – Государь получал столь сбивчивые сведения!
Чем больше он их получал, тем меньше понимал, что творится.
А Алексеев почему-то не давал ясной сводки.
248
Зигзаги генерала Алексеева. – Остановка полков с Юго-Западного фронта.Чувствовал себя генерал Алексеев совсем неважно, хуже вчерашнего. Но не было покоя и ночью. Да от этих забот он и разбаливался.
В ночном безсонном ворочаньи ещё ясней ему увиделось, как это было бы благотворно: если б Государь признал родзянковский комитет общественным министерством, и всё бы сразу успокоилось, никакого конфликта, и армия терпеливо и без помех готовилась бы к наступлению. И оставалось только – убедить Государя.
А утренние телеграммы ещё добавили. Пришла из Москвы от Мрозовского: что со вчерашнего дня бастуют заводы, рабочие манифестируют, разоружают городовых, собираются толпы – и нельзя дальше умалчивать о петроградских событиях.
И тем более спешить о них разъяснить, раз в Петрограде успокаивается! Ночные сведения из главного морского штаба подтверждали, что в Петрограде порядок понемногу восстанавливается, и войска всё более подчиняются Думе, однако необходимы решительные акты власти, чтоб удовлетворить общественное мнение и так противопоставить пропаганде революционеров.
Адмирал же Григорович, такой же сейчас больной, как и Алексеев, не имея сообщения с Царским Селом, чтобы прямо доложить приехавшему Государю, пересылал через Алексеева телеграмму кронштадтского коменданта, что со вчерашнего вечера гарнизон Кронштадта волнуется и некем его усмирить, нет ни одной надёжной части.
Так всё сходилось! И потому, что в Петрограде наметилось успокоение, и потому, что в Москве и Кронштадте подымались волнения, – нужна, нужна была уступка Государя обществу! И Алексеев всё более чувствовал бремя убеждения на себе: тем более он должен был убеждать Государя, что тот в пути многих сведений не имел.
И, даже чая не попив, начал раннее утро Алексеев с составления уговорительной телеграммы Государю, чтоб успела она вскоре после его прибытия в Царское и сразу дала бы ему правильную ориентировку. Он привёл полностью тревожную телеграмму Мрозовского. Предупредил, что безпорядки из Москвы несомненно перекинутся в другие центры России. И тогда окончательно будет расстроено функционирование железных дорог, армия же губительно останется без подвоза, тогда возможны безпорядки и в ней.
Так звено за звеном неумолимо цеплялись, и Алексеев уже ясно видел – и писал: революция в России станет неминуема, и это будет знаменовать позорное окончание войны со всеми тяжёлыми последствиями. И нельзя требовать от армии, чтоб она спокойно сражалась, когда в тылу идёт революция, – особенно при молодом офицерском составе с громадным процентом студентов. Поведут ли они свои части в таком столкновении? Прежде того – не отзовётся ли на волнения сама армия?
Так и писал Алексеев в разраставшейся телеграмме: «Мой верноподданнический долг и долг присяги обязывают меня доложить всё это Вашему Императорскому Величеству». Пока не поздно – принять меры к успокоению населения. Подавлять безпорядки силою – привело бы и Россию и армию к гибели. Надо спешить поддержать Думу против крайних элементов. Для спасения России, для спасения династии – поставить во главе правительства лицо, которому бы верила Россия. И в этом – единственное спасение. Другие подаваемые вам советы – ведут Россию к гибели и позору и создают опасность для династии.
Давно уже так убедительно не составлял Алексеев ни одного письма. Испытал большое душевное облегчение, когда написал.
И – скорей отправлять. Прямой связи с Царским Селом нет, но передать через Главный штаб, такую телеграмму в Петрограде никто не задержит.
Передали. И попил генерал Алексеев чайку, подкрепился. И тут же пришла какая-то случайная дикая телеграмма, почему-то из Новосокольников: что литерные императорские поезда повернули из Бологого на Дно и в данное время прошли Валдай.
Что такое?? Это почему??
Ничего нельзя было понять. И никаких сведений Государь не послал ни из Бологого, ни из Валдая, – куда же он ехал? Зачем?..
Но и часу не прошло, как донесли в Ставку перехваченную телеграмму всё того же знаменитого Бубликова, разосланную по станциям Виндавской дороги: двумя товарными поездами закупорить разъезд восточнее станции Дно и сделать невозможным движение каких бы то ни было поездов, – то есть несомненно императорских.
И подписано: комиссар Комитета Государственной Думы, член Государственной Думы…
Государственная Дума – мятежно останавливала императорские поезда?..
Родзянко?..
Ах, зря послушался Кислякова вчера?
И как раз к этому, на горячее сомнение, – Эверт вызвал Ставку к прямому проводу. Алексеев по болезни вообще не становился к аппарату, не пошёл, и ничего важного он от Эверта не ждал, – а вышло важно. Принёс Лукомский неприятную ленту. В пределах допустимого генеральского этикета тот – что же? подвергал сомнению верность Алексеева присяге??
Чудовищно! Да именно движимый долгом присяги и давал Алексеев свои лучшие советы Государю.
Да что на Эверта обращать внимание – он бы лучше не струсил вести наступление в 1916 году. Недостаточно коснувшийся общего образования и в грубой прямолинейности военной среды, Эверт полагает, что проще всего – подавлять безпорядки военной силой. И вот – рвался оскорбить Родзянку.
Всего часом раньше – не обратил бы Алексеев внимания на Эверта. Но сейчас так пришлось, после этой жгуче-дерзкой попытки Бубликова остановить императора, – и всё именем Государственной Думы?
И то, что, оказывается, неясно зрело в Алексееве ночью и мешало ему спать: не слишком ли он вчера поддался Родзянке? не уступил ли ему много? – и те наброски телеграммы к нему, которые Алексеев с утра уже намечал неуверенным карандашом, – теперь подтолкнулись укором Эверта.
Хотя в остальных четырёх Главнокомандующих Алексеев не предполагал такой крайности настроения, однако и выступка Эверта обнажала спину Ставки, лишала её опоры говорить ото всей армии.
Да, да! – яснело: необходимо несколько осадить Родзянку. Не повреждая открыто ещё хрупкому Думскому Комитету. Но – лично Родзянку, чересчур уже занесшегося.
И Алексеев стал доправлять набросок в телеграмму, погнал своим энергичным бисером.
Высшие военные чины и вся армия свято исполняют долг перед царём и родиной согласно присяге , – напоминал он Самовару. И надо оградить армию от влияния, чуждого присяге, – так и повторялось больное слово. Между тем ваши телеграммы ко мне и к Главнокомандующим и распоряжения, отдаваемые по железным дорогам театра военных действий… Думский Комитет не считается с азбукой управления военными силами – и может повести к непоправимым последствиям… Перерыв связи между Ставкой и Царским Селом… И центральными органами военного управления… Литерные поезда не пропускаются на Дно… Прошу срочного распоряжения о пропуске литерных поездов… И чтобы никто не делал помимо Ставки никаких сношений с чинами Действующей армии… И чтобы сношения Ставки не контролировались вашими агентами из младших чинов… Иначе я вынужден буду…
Поток упрёков легко строился, он был верен. Но где был довод военно-убеждающий, тот, который окончательно уставляет весы в достойное положение? Только что рождавшейся народной свободе и начавшемуся успокоению – не мог же Алексеев угрожать применением грубой военной силы. Он мог сердиться лично на Родзянку, но не так, чтобы подорвать его власть, единственно спасающую сейчас столицу.
И оставалось закончить слабою ноткой, что это поведёт к нарушению продовольствования армии и даже голоданию её. И пусть Родзянко сам судит о последствиях голодания армии.
Угрозить, оказывается, было нечем. Голодом армии.
Не аптекарские были весы, но с теми чугунными платформами, на которых взвешивают возы с рожью, – у них была невозвратимая утягивающая сила.
Телеграмму эту – послал. Больше для очистки души и для осадки родзянковской гордыни. Но не могло измениться решение – искать всеобщего примирения, единственный разумный выход.
А вопрос о посланных войсках всё неумолимее нависал: что же с ними делать? Остановить их, как разумно видел Алексеев, – он не смел своим решением. Но и откладывать решения было нельзя, потому что войска стягивались, продвигались, и вот-вот могло произойти непоправимое столкновение. Но никакое внешнее событие не приходило на помощь. А Государь – всё далее путешествовал, всё более неуловимый для совета, в том числе и для посланной такой убедительной утренней телеграммы.
Распорядился – звонить во Псков и узнавать об императорских поездах, они там ближе. А Псков сообщал, что в Петрограде – порядок не восстанавливается, ещё добавились к мятежникам гарнизоны Ораниенбаума, Стрельны, Петергофа. Аресты продолжаются. По Петрограду шляется масса бродячих нижних чинов, много офицеров убито на улицах, срывают погоны. Много разбитых магазинов.
Ещё поворачивалось по-новому… Какое противоречие Родзянке! Кому же верить? Полное спокойствие начинало выглядеть призрачно. Уже голову больную ломило, не рад был Алексеев, что и узнавал.
А между тем – уже обещана была Эверту вчерашняя успокоительная № 1833 Иванову, нельзя было теперь не послать, хотя теперь как-то и неловко она выглядит. (А сам Иванов до сих пор до этой телеграммы не доехал!)
Но как это всё согласуется?
Однако раз выбрал действие – надо его продолжать. 1833 разослать и на все фронты.
С Кавказа докладывали, что всё у них спокойно.
От Эверта – что продолжают отправлять войска.
А что же с Юго-Западным?.. Да может быть проще всего: поскольку войска ещё не начали отправляться – так пока и не двигать?
И это – не будет остановкой войск.249
Петроград, раннедневное (фрагменты).
* * *
С утра – петербургская мгла. Туманно, сыро. И – холодно, 13 градусов мороза.
Расклеены по городу объявления к гражданам: сдавать оружие! Но кары за несдачу нет.
* * *
Стоит сожжённый Окружной суд – на высоком цоколе два высоких этажа, длинных и по Шпалерной и по Литейному. Все окна пустые, и подпалины, где вырывался огонь. И внутри на белых стенах полосы дымной копоти. Только на закруглении окно не вывалилось – оно ложное. Во многих местах сохранилась благородная баженовская полулепка.
* * *
И рано опять началась по городу безпорядочная стрельба. Бьют больше по крышам. «Фараономания», все смотрят на крыши и показывают пальцами. Там от пуль пылит штукатурка, а возвратно падающие пули кажутся огнём с чердаков.
– Ищите оконце! С какого стреляли.
Столпились, головы задрали.
– Как же ты вгадаешь, коли окна на семóм етаже?
– Я-то угадал, угадай ты.
– А как?
– А вишь: во всех оконах стёклышка целы, а в энтом блеску нет, знать стекольце вынуто.
Или выбито уже.
Слух, что городовые стреляют с Исаакиевского собора.
* * *
Толпа подростков, а с ними двое-трое взрослых ведут по улице арестованного городового в форме, саженного роста, вместо лица кровавая маска. Мальчишки на ходу дёргают его, толкают, щиплют, плюют на него. Он, не пошатываясь, идёт.
Завели в какой-то двор, и донеслось несколько выстрелов.
* * *
В доме жил и вчера арестован помощник пристава. Но и сегодня время от времени подходят и стреляют по его окнам. А в доме – и другие квартиры.
– На то и слобода: куды хочу, туды стреляю.
* * *
Плотными жадными группами сбивается толпа – и простонародье, девочки в платках, и картузы, и котелки, и дама в кораблевидной шляпе. Что-то прочесть из наклеенного на стене, – нет, послушать переднего громкого чтеца.
– Ага-а-а! – чрезвычайно рада публика аресту Протопопова.
Когда прочтено, что министр юстиции сперва скрывался в итальянском посольстве:
– А-а-а! Макаронов захотел!
Про явку Конвоя Его Величества:
– За царский счёт жареными гусями да поросятами обжирались, а вот…
* * *
День светлеет, становится белым, и белое небо. И теплеет.
Над Зимним дворцом вместо императорского штандарта – красный флаг.
* * *
Везут по Фонтанке и так: грузовик-платформа, на ней сидят и стоят избитые чины полиции, окружённые штатскими с красными повязками на рукавах.
Из толпы кричат со злостью:
– Куда их везёте? Давите гадов на месте! Поставить в ряд да из поганого ружья одной пулей!
* * *
Прислуга: «Ой, что это всё кричат – долой монахию? Знать, всех монахов хотят повыгонять?»
* * *
На Невском – меньше автомобилей, чем вчера, но ещё больше пешей публики и развязных солдат, валят прямо серединой проспекта, празднично. На всех опять красное – банты, ленты, в обтяжку кокард, на погонах, вокруг пуговицы шинели, на георгиевских крестах, на медалях, на концах штыков, у барышень – на муфтах или на груди, кокетливо сшитые. Не всё из кумача, бывают – и из шёлка.
А на перекрестках появились студенты-милиционеры, опоясанные отобранными офицерскими шашками, с белыми повязками на рукаве и буквами ГМ («городская милиция»).
Возмущённые голоса:
– Это что ж, мы и полиции опять дождёмся? Вот так свобода!
Но – красные повязки на рукаве сильнее действуют, чем белые. Красных – слушаются.
* * *
У Таврического – опять толкотища. На Шпалерной много любопытствующих интеллигентов. И опять одни войска идут к Думе, другие из Думы, всё перемешивается, столпотворение. Говорят: вот приходил под марсельезу и петроградский жандармский дивизион. Автомобили гудят, шипят, проезда им нет. Один грузовик заехал на тротуар и пробирается.
* * *
С Владимирского проспекта пересекает Невский – Измайловский батальон. К старому боевому знамени с регалиями прошлого века привязаны красные ленты. Оркестр. Толпа приливает, вне себя от восторга:
– Спасибо, измайловцы! Да здравствует свобода!
А офицеры, с навязанными красными бантами, идут сосредоточенные, задумчивые. В ответ толпе прикладывают руку к козырьку.
* * *
В исподних полушубках, без погонов, не узнаешь части, – побрели по городу гулять и нестроевые конвойцы Его Величества из своей казармы на Шпалерной. Одного конвойца подхватили, долго возили на автомобиле в первом ряду, везде приветствовали как казака. На углу Невского и Владимирского заставили говорить речь. Сказать он нашёлся только: «Да здравствует Терское и Кубанское войско, ура!» И все закричали «ура» и замахали шапками. Повезли дальше, кормили в питательном пункте.
* * *
Шли матросы колонной и с музыкой. Вдруг – стрельба сбоку, неизвестно откуда. Сразу стали падать, бежать за угол, перемахивать через заборы. Только винтовки да матросские безкозырки остались на снегу.
* * *
На Спасо-Преображенской площади перед семёновцами держал речь с овсяного ларя депутат Государственной Думы Родичев. Вдруг – пулемётный обстрел, неизвестно откуда! Все повалились. Никого не задело.
Но возникло среди солдат, что их нарочно подвели под этот обстрел.
* * *
В толпе, по тротуарам – глядящих на войска много радостных верящих лиц. Богатый господин на краю панели то и дело срывает с головы шапку, седого камчатского бобра, и кружит ею в воздухе, выкрикивая приветствия проходящим манифестациям.
* * *
Из сумасшедшего дома тоже разбежались.
* * *
По всему Петрограду разгорается день повальных обысков. Вломятся в дом – и идут по всем квартирам подряд.
Начался грабёж и на императорском фарфоровом заводе.
* * *
К памятнику Александру III пристроили красный флаг. Держится.
* * *
Евгений Цезаревич Кавос, подъезжая к Петрограду московским поездом, очень смеялся рассказу спутника, представляя себе сцены ареста министров. Но поезд остановился, сильно не доезжая вокзала. И Кавос застрадал, как же он потащит несколько своих чемоданов, да непривычными руками. Ведь не поднимешь. – «Нет, это мне не нравится. Я скоро начну кричать – да здравствует Николай II!» И верно, до дому по городу он добирался, пока все вещи, двое суток.
* * *
На петроградских улицах уже много испорченных и даже опрокинутых автомобилей. Но и ездят немало, на грузовых платформах – свесив ноги, как с телеги. Ездят и в богатых легковых: за бахромой роскошных занавесок – винтовки и папахи.
По улицам гарцуют всадники, да на лошадях дрессированных: из цирка Чинизелли, разграбили цирковую конюшню.
* * *
Шальною пулей с Марсова поля убило в своей квартире художника Ивана Долматова, 9 лет назад получившего звание за картину «Торжество разрушения».
250
Комиссариатский хаос. Старания Пешехонова.
He только листовками по всей Петербургской стороне, но и объявлением в «Известиях Совета рабочих депутатов» оповещал комиссар Петербургской стороны Пешехонов о создании своего комиссариата в кинотеатре «Элит» и обращался к населению с просьбой (чтоб не добавить «покорнейшей»): во имя великого дела соблюдать спокойствие при развивающихся событиях. Доверять комиссарам, назначенным новою властью. Исполнять их распоряжения, равно как и обязанности, необходимые для населения. И присылать представителей от заводов и фабрик по одному человеку от пятисот.
Империя Романовых стояла 300 лет, и у чиновничества её были готовые, выработанные организационные формы и приёмы. И вот надо было в один день начать на неочищенном месте, в ещё не известных формах, с ещё не найденными приёмами и с ещё не осмысленными целями: ни сам Пешехонов, ни его сотрудники по комиссариату – то есть бывшей полицейской части – не могли представить и предположить, в чём же именно будет заключаться их деятельность.
А переехав через Неву, он от Таврического дворца уехал как будто в другую страну: там оставил он решаться государственные вопросы – и сам для Таврического провалился как в тёмную пропасть: назначили его и больше не вспоминали.
Мечта всей жизни Пешехонова была народная воля , в обоих значениях этого великого слова: и в смысле народной свободы и в смысле народной власти. И он был переполняюще счастлив, что не только дожил до воплощения их в России, но вот теперь будет и лично участвовать в водворении свободы, хотя бы в небольшом уголке.
На призыв его откликнулись стократно с тем, что комиссариат мог перенести. Довольно было только пискнуть этой первой твёрдой точке – и уже через четверть часа к ней потянулись люди, а сегодня с утра обступали уже целые толпы.
Одни являлись – чтобы поддерживать и помогать. Наугад назначенные отделы комиссариата сразу переполнились добровольными сотрудниками, и на первый взгляд – вполне безкорыстными. Преобладали интеллигенты, но были и всех званий, был грузин в форме классного фельдшера, а например обязанности кучеров вызвался выполнять отряд бойскаутов.
Ещё больше было помощников другого толка: они не записывались в сотрудники, но, не предупреждая и по собственному почину, совершали повсюду обыски, реквизиции, аресты – и потом с торжеством несли и катили захваченные трофеи в комиссариат и вели арестованных.
К счастью, Пешехонов, ещё в Таврическом заметив, как много ведут арестованных, предвидел такое явление и сразу же назначил в составе комиссариата «судебную комиссию». Арестованных приводила иногда целая толпа – но часто тут же и расходилась, и через пять минут не у кого бывало узнать и спросить: на основании чего задержано это лицо. Среди них могли быть самые опасные преступники, но и самые невинные люди, – и что же делать с ними дальше? Судебная комиссия и должна была кого освобождать, а о ком составлять протоколы, указывать свидетелей.
Но никакая комиссия не успела сформироваться; ещё первое объявление о комиссариате не было прикреплено к стене, как уже привели трёх арестованных, и сам же Пешехонов должен был их разбирать. Двое оказались городовыми, уже снявшими форму, но опознанными. Арестовывать бывших городовых Пешехонов считал совершенно безцельным – и решил освободить их, отобрав подписки, что они ни в коем случае не будут исполнять приказаний своего прежнего начальства и немедленно сдадут оружие, если такое у них ещё есть. Третий же арестованный обвинялся толпой, что он высказал осуждение революции. Ему приписывали какую-то фразу, сам он, бледный, отрицал, что говорил её. Пешехонов внутренне затрепетал и вознегодовал: отрицать революцию – право каждого, иначе какая ж это будет свобода? Этого-то – надо было немедленно освободить!
Но не так это было просто! Тут толпа сгрудилась и ждала от комиссара строгого приговора. Оправдательные решения произведут на неё самое неблагоприятное впечатление. Итак, чтоб освободить, да всех трёх подряд, должен был Пешехонов взять с обвиняемыми преднамеренно резкий тон, и самыми резкими квалификациями ругать старые власти, и высказать самые жестокие угрозы тем, кто ещё осмелится противиться революции! – и только так поддержать перед толпой свой авторитет как революционного деятеля, иначе и самого б его заподозрили в контрреволюции.
Комиссар Пешехонов объявил власть – и никто как будто её не оспаривал. Но быстро, в час и в два, понял он, ещё отчётливей, чем в Таврическом: никто не был власть в Петрограде сейчас – ни комиссар, ни Совет депутатов, ни тем более Думский Комитет, – а вся полнота власти была у толпы. Власть её была – самоуправство, и сама толпа и все понимали так, что это и есть настоящая народная власть.
Однако Пешехонов принять этого не мог! Как раз наоборот, с первого часа и с первого дня ему пришлось напрячься, как смягчить это самоуправство и как защищать единицы населения от проявлений народной власти!
Но арестованных всё вели, вели – и, чтоб как-нибудь разгрузить комиссариат, пришлось всю судебную комиссию перевести в другое помещение, рядом по Архиерейской, где в одной большой комнате устроили и собственную каталажку. Набралось туда работать пятеро юристов, потом десять, потом в две смены двадцать, – и всё равно едва справлялись.
Грянула – именно сегодня – эпидемия или вакханалия арестов! Показалось, что революция катится к гибели: она кончится тем, что все граждане переарестуют друг друга! И всё закружилось – вокруг Родзянки: всюду звучало его имя, он подписывал указы, он назначал комиссаров в министерства, он велел войскам возвращаться в казармы и подчиняться офицерам, – и вокруг имени Родзянки замятелила смута в умах и зажглись на улицах споры – до драки и до арестов, и какая где сторона оказывалась сильней – та тянула слабую на арест. И в судебную комиссию тащили, тащили арестованных, а там на вопрос «за что?» отвечали:
– Он – против Родзянки!
а следующие:
– Он – за Родзянку!
Тут прибегали сообщить: на Песочной улице – квартира известной черносотенки Полубояриновой, и туда стекаются черносотенцы!
Собрали наряд, послали арестовать – но супруги скрылись и квартира пустая.
А сам комиссариат хотя и разгрузился от привода арестованных, но в помещениях его никак не стало просторно. На Петербургской стороне с островами жило 300 тысяч жителей, и кажется, третья часть их добивалась в комиссариат.
Распорядительностью прапорщика поставили стражу у дверей комиссариата, а вход в него установили только по пропускам. Выдавали пропуск всякому, кто заявлял о надобности ему войти, но лишь бы предупредить вторжение целых толп и вовсе уже праздношатающихся. Запутались, сами не заметили: столик с выдачей пропусков вдруг оказался так, что к нему нельзя было пройти, не имея пропуска. И не сразу заметили, потому что каким-то образом ухитрялись получать, и все шли с пропусками. Тогда поставили две вооружённых заставы: одну перед столиками, где выдавали пропуски, чтоб только толпа не опрокинула, а вторую заставу уже при самом входе. (И перила бы поставить – да ещё надо всё найти, да их сломают.)
Товарищи хотели устроить Пешехонову уголок в самой дальней верхней части кинематографа, за рядом барьеров, – но всё равно толпа теснилась и туда, да Пешехонов и по характеру своему не мог так усидеть, он рвался в толпу, в тиски. Где уж там руководить деятельностью отделов, и что они делали? и были ли они вообще? – Пешехонов был теперь на целый день до вечера окружён и стиснут требовательной толпой. У него и вид был не революционно-грозный, и не барский, и не образованный, росту он был самого среднего и наружности самой средней, так, из мещан или худой купчишка, голова стрижена под машинку, усы свисли и спутались с бородой, и приём ко всем услужливый. Так весь день и слушал он, во все стороны поворачиваясь, говорили с ним сразу несколько, а другие тянули за пиджак, чтобы вниманье обратить, а третьи тянули, куда надо пойти и распорядиться. За целый день он не присел и стакана чаю не выпил.
Может быть, можно было всё это лучше устроить, но никогда Пешехонов ни организатором, ни администратором себя стать не готовил, да и знал за собой недостаток находчивости, особенно чувствительный вот в такой обстановке. Дали б ему подумать, сообразить – он бы уладил всё лучше. Но слишком сразу всё нахлынуло – и действовать надо было немедленно. И он ли сам всё решал и распоряжался, или оно само решалось и распоряжалось, – этого нельзя было уследить. Но, кажется, так решалось, как именно и он был согласен, вместе с народом.
Со всех сторон донимали добровольные горячие доносчики, кто по мнительности, а кто и по злобе, счёты сводя. Один тащил в сторону и шептал, что такой-то поп сказал контрреволюционную проповедь. Другой совал донос, что в таком-то учреждении такой-то собрал некоторых служащих в комнату, закрыл дверь и имел с ними несомненно контрреволюционное совещание. Всем, кто не успел поучаствовать в революции в начале, хотелось вложиться хоть теперь и захватить в плен ещё хоть одного противника. Так и звучало:
– То была их воля, они нас сажали в кутузки, а теперь наша воля, мы – их…
Чуть не на каждого человека готовы были наброситься как на шпиона. Чуть не в каждом доме чудился спрятанный пулемёт.
Пешехонов совал доносы в карман. (Вечером опорожнял, набиралась их пачка.)
Но больше всего сообщали о запасах продуктов в домах и квартирах (все запасы назывались спекулянтскими по самым фантастическим признакам), совали списки квартир и лиц, у которых есть запасы, или предлагали спросить прислугу, та знает и покажет. Вокруг продовольствия было особенно растравлено, и теперь исправляли, кто как понимал, а многие, очевидно, рассчитывали, и это удавалось, при реквизиции поживиться самим. А оставшуюся часть несли или везли в комиссариат – и надо было озаботиться местом для склада, охраной его и каким-то же распределением. Сваливать начали в самом комиссариате, а тут ещё и спиртные напитки (толпа особенно охотно отыскивала и реквизировала именно винные запасы) – и в таком доступном месте! Нельзя было положиться ни на публику, ни на самих солдат, поставленных стражей. Несколько подвод с винами Пешехонов сразу направил в соседнюю Петропавловскую больницу, рассчитывая, что её-то громить не станут. Создавать надо было продовольственный отдел, и какого-то случайного активиста туда назначили (потом оказалось – жулика).
А по улицам – пёрли и пёрли вооружённые, неизвестно откуда набравши винтовок.
В комиссариат прибегали и жаловаться на самочинные обыски, начавшиеся погромы квартир: пришлите же защиту! обороните!
И кого-то посылали.
Свои солдаты таяли, надо было где-то искать подмогу. И помощники Пешехонова отправлялись в питательные пункты: среди уже наевшихся солдат искать себе помощь.
То – напирал безоружный бродячий солдат – просил винтовку или револьвер.
Вид его был подозрительный, и ему отвечали: нету.
– А может, всё-таки? – мирно клянчил тот. – Солдату без ружья как быть?
– И ружей нет.
– А пойдёшь с пустыми руками – фараон с крыши застрелит. Хучь бы тогда револьвер.
– И револьвера нет.
– Так нас здесь – трое, – мялся, плутовал солдат. – Хучь бы на троих один. На каждом углу убить могут. Или, – мялся, – с обыском идти придётся, как же без оружия?
– Товарищ, не задерживайте, нету.
Да! А что же с охранкой? Вчера говорили Пешехонову, что она сожжена, и он успокоился. Но она находилась в его районе, и надо бы проверить. Явился какой-то прапорщик и доложил, что в помещении охранки остались бумаги, и публика их понемногу растаскивает. Пешехонов тут же назначил этого прапорщика комендантом охранки, поставить там стражу, если бумаги уцелели. Прапорщик съездил, поставил и привёз образчики бумаг со списками секретных сотрудников. Это поразительно! – и такое сокровище пропадало! (Догадался прапорщик вступить в сношение с Горьким – и тот взялся разбирать архив.)
Тут – новая атака на комиссариат: гимназист лет шестнадцати, рыжий как огонь, глаза выпученные, лицо безумное, и с ним несколько штатских, не все старше его, и такой напор, что сразу прорвали первых часовых и уже прорывали вторых. Пешехонов выставился им навстречу: что такое?
Такой-то негодяй, назвал фамилию, живёт на одной лестнице с этим гимназистом, известный черносотенец – выписывает «Новое время»! Как бы не открыл из окон стрельбу! Надо против него вооружиться.
– Нет, нет, оружия лишнего у нас нет! – двумя руками им перегораживал, останавливал Пешехонов.
За его спиной, по лестнице вверх, лежало на втором этаже больше сотни исправных винтовок, старинные кремнёвые ружья, два ятагана, несколько кинжалов, медвежья рогатина и австрийский дротик. Но – беда, если попадёт в руки вот таким. (А слух – очевидно их достиг.)
Перегораживал руками Пешехонов, не слишком надеясь на своих часовых, совсем случайных солдат, приведенных с улицы за рукав. Они в любой момент и уйти так же могли.
Рыжий гимназист выразил демоническое изумление и презрение:
– Как? Как? – не хотел он верить, спазма сжимала горло. – Ну, знаете, товарищи… Ну, знаете, товарищи… По-моему, вы все здесь – провокаторы!
* * *
...
Пошла брага через край – так не сговоришь
* * *
...
ДОКУМЕНТЫ – 9
Сего 1 марта среди солдат петроградского гарнизона распространился слух, будто бы офицеры в полках отбирают оружие у солдат… Как председатель Военной Комиссии Временного Комитета Государственной Думы я заявляю, что будут приняты самые решительные меры к недопущению подобных действий со стороны офицеров, вплоть до расстрела виновных.
Член Государственной Думы Б. Энгельгардт
251
Полковник Половцов в Военной комиссии.
Судьба играет человеком, а человек играет на трубе. Такое qui pro quo получилось и с полковником Половцовым. 20 февраля он был в Гатчине на приёме у великого князя Михаила Александровича, ещё ничего в Петрограде не было, 25 февраля – в Ставке на приёме у Государя, 27-го вернулся в Петроград в самую кашу, 28-го вечером присоединился к революции.
Это вот как всё произошло. Начальник штаба Кавказской Туземной дивизии и вообще большой энтузиаст кавалерии, Половцов… Кстати, был такой случай. О нём никто не знает, сверхсекретно, но если бы узнали – было бы изумление и хохот. В прошлом году стало известно намерение Ставки резко сократить кавалерийские части: мало используются в боях, несут большие потери, съедают много фуража. И вот Половцов гениально сочинил по-немецки и ночью на Румынском фронте безымянно пустил по радио телеграмму якобы фон Шметова, поздравляющего своих коллег немецких генералов по поводу сокращения русской кавалерии, что означает отказ русских от наступательных операций. Потом ему удалось узнать, что телеграмма эта, перехваченная, была доложена Государю – и так было отменено уже начинавшееся сокращение казачьих полков.
Пётр Половцов вообще считался патентованный гений, Академию генштаба в своём выпуске он кончил первым.
Но несмотря на это и на видное положение своего покойного папаши, служебное продвижение его было ниже ожидаемого, ниже заслуженного. Да вот на этих днях, когда он ожидал производства в генерал-майоры, он получил всего лишь «высочайшее благоволение», облизнись.
Так вот, как энтузиаст кавалерии он и поехал в феврале проталкивать через верхи преобразование своей дивизии в Туземный корпус. По письмам с Кавказа была уверенность, что горских добровольцев наберётся на корпус, только кликнуть набор, они рвались (а мобилизации у них не полагалось). Великий князь Михаил, конечно, поддержал, но в Ставке было противоречие, ничего определённого пока не удалось, – и надо было Половцову возвращаться в дивизию, он решил – через Петроград, ещё раз провеяться.
В Могилёве он останавливался у флигель-адъютанта Адама Замойского, с ним вместе и приехали в Петроград, а тут… Замойский вскинул гордую шляхетскую голову и заявил, что в такую минуту он как флигель-адъютант обязан предложить свои услуги и шпагу покинутой угрожаемой императрице. Половцов сдержал улыбку и остался в столице оглядеться, на квартире у знакомого. Его авантюрное сердце забилось в представлении, что такие события и минуты происходят не в каждое столетие раз. Он сутки проследил за происходящим по телефону, попутно телеграфировал в свою дивизию, что вот, застрял в Петрограде, – и вчера вечером получил от Энгельгардта приглашение в Военную комиссию. И тотчас помчался туда.
А так как шашку свою он ещё прежде оставил на хранение в Генеральном штабе, то теперь явился в Таврический с кинжалом и револьвером, в лохматой папахе, изумительной черкеске с серебряными газырями, высокий, стройный, как всегда поражающий выправкой, той степенью выправки и даже той английской отделанностью манер, когда можно дозволить себе и свободные жесты, – чересчур даже сильное, страшноватое явление для такой комичной организации, какою была эта Военная комиссия.
Как раз – офицеры генштаба собрались сюда, и всё знакомые, всё младотурки , собранные всё тем же Гучковым и многозначительно-шутливо поигрывающие своею прежнею кличкой: от них-то и ждали когда-то государственного переворота, и он вот совершился, да сам.
Но не смотри на кличку, а смотри на птичку. Офицерики-то были так себе, все эти Туманов да Туган-Барановский, Энгельгардт – пустое место. Все они здесь просто болтались, а кто был создан для штабного руководства – так только Половцов да, смешно, инженер Ободовский.
А ещё и сами от себя целый день валили неизвестные офицеры, предлагая себя для службы народу. И много их…
Но при такой неопределённости состава, обязанностей и, главное, общего военного положения Половцову тоже было рано разворачивать все свои способности, он пока полуиграл, отпускал шуточки, болтал на подоконниках с одним, другим и третьим – и ко всему присматривался.
Обсуждали пикантную историю с явкой в Думу Конвоя Его Величества. Вспоминали, как верна оставалась Людовику XVI швейцарская гвардия: все были перебиты на ступенях Тюильрийского дворца, а не сдались.
Военная комиссия перешла на 2-й этаж в более спокойные отдалённые комнаты, в бывшую квартиру коменданта Государственной Думы, и его же печать присвоив себе за неимением лучшей. Провели какую-то всё же штабную организацию, учредили отделы – автомобильный, радиотелеграфный, технической помощи, санитарный, расставили несколько столов, пишущих машинок, расселись преображенские писари, нашлись и две девицы с лихими причёсками, печатались удостоверения, заносились исходящие, в тетрадь записывались показания всех желающих что-то сообщить, раскладывались свеженькие обёртки дел, и адъютанты расхаживали с ними от стола к столу.
В течении дня посылали караулы в ещё не охранённые министерства и департаменты.
Презабавная была эта Военная комиссия, довольно раскоряченная в своём положении. Связь между царём и Царским Селом переключили на Таврический, в Военную комиссию приносили копии всех телеграмм между царём и царицей, о здоровьи детей, о передвижениях царя, – можно было за ними следить как за увлекательной игрой, но не приказывали стеснить, если он едет в Царское, – а от Вишеры, жаль, собственной волей повернул, ушёл. Военная комиссия считалась подчинённой временному Думскому Комитету, а этот ни на что не решался, всё гнулся перед Советом рабочих депутатов – и в угоду ему особым постановлением зачислил в Военную комиссию также и полный состав Исполнительного комитета Совета, чушь какая-то, – хорошо, что у тех хватило ума или чувства юмора сюда не являться, только болтался от них кислый библиотекарь Академии Масловский. Но если кто оттуда являлся, или слишком революционные солдаты в этих непрестанных депутациях, выражающих революции верноподданничество, – то приходилось полковникам рассыпаться перед ними в иронической любезности. С депутациями этими вообще было много возни и с сигналами тревоги тоже. Явился молоденький военный врач и заявил, что в Сенате и в Синоде установлены пулемёты и работает контрреволюционная типография. И хотя сразу было понятно, что это – чепуха собачья, но такова была обстановка революционной настойчивости и недоверчивости, что нельзя было посмеяться и нельзя было отказать, а пришлось Половцову с самым серьёзным видом взять этого врача, нескольких кексгольмцев и поехать на долгий обыск и по Сенату и по Синоду, ничего не найти и составить о том протокол.
Тут ещё много смешил и путал безудержно инициативный думский казак Караулов. Сам ли себя или кто-то надумал его назначить с вечера 28-го на быстросменный пост коменданта Петрограда. И с утра 1 марта уже был распубликован и кое-где развешан «приказ № 1 по городу Петрограду», счёт начинался с особы Караулова. А приказ был: безпощадно арестовывать пьяных, грабителей, поджигателей – и всех чинов корпуса жандармов, то есть последних ещё охранителей порядка. Разыскали чубатого казака, трясли его – что ж он делает? Нисколько не сумняшесь, он тут же размахнулся, написал, да успел же где-то напечатать, и расклеивали – дополнение к «приказу № 1»: что чины корпуса жандармов аресту не подлежат, и сразу же «приказ № 2»: что чердаки и крыши заняты сторонниками старого порядка, и дворникам предписывается обыскивать и проверять.
Творилось полное безначалие в самом Таврическом дворце.
Да если бы только во дворце! С минувшей ночи по-новому бушевали казармы там и сям от слуха, что «офицеры отбирают оружие», захваченное в революционной суматохе. Прорывались и сюда: «Что? На расправу нас затягивают? А дать окорот и тому же Родзянке! Хоть и самого арестовать!» Смертельно перепуганный Энгельгардт, не посоветовавшись с офицерами в комиссии, ни даже с Гучковым, которому был теперь подчинён, но тот всё в разгоне, – с панической быстротой написал и тут же отдал в распечатание ужасающий приказ, что он примет самые решительные меры к недопущению разоружения солдат, вплоть до расстрела офицеров . И когда члены Военной комиссии об этом узнали – остановить приказ уже не было возможности, он раздавался ликующим солдатам! Так сама же Военная комиссия и вызывала у солдат панику.
Расстреливать офицеров за то, что они владеют оружием своей части!
Так что: и заманчивы были возможности революции для взлёта, но и тут же грохнуться наземь также вполне возможно. Половцов усмехался, похаживал, сдерживался проявлять себя. Судьба играет человеком, а человек играет на трубе…
Думский Комитет с каждым часом показывал свою абсолютную безпомощность. В запасных батальонах творилось полное безвластье, особенно в Московском, где хозяйничали рабочие и убивали офицеров, полковые казармы были блокированы, и доступа туда представителям власти не было. Из других батальонов офицеры передавали в ужасе, что сохранение порядка невозможно. «Известия» Совета и прямо высказывались против восстановления порядка. Для защиты Петрограда не было ни одной боеспособной части. Между тем отличный боевой Тарутинский полк высадился на станции Александровской, рядом с Царским Селом, для действий против Петрограда. Но надеялись облапошить Иванова, принять его глупую генеральскую голову в объятье Военной комиссии, послали к нему офицеров.
А ещё – разбуровливался Кронштадт, и отнюдь не в подмогу революции, как казалось прошлой ночью и радовались. С утра убили адмиралов Вирена и Бутакова, убивали ещё офицеров. Что там творилось – чёрная буря, не дознаться, разверзалась пугачёвская бездна, это уже не игра. С полковничьими погонами на плечах воспринимались эти вести зябко, даже под защитной крышей Таврического.
Всё зависело теперь – что предпримет адмирал Непенин. Сегодня из Гельсингфорса он приказал читать командам обращения Думского Комитета. Значит, Непенин присоединялся к революции. Так.
Да, большие возможности обещает революция, но лучше бы их обуздать.
А – кому?
Руки Гучкова, понимал Половцов, были для этого отнюдь не достаточны, слабы.
Может быть – и зря кинулся он в эту Военную комиссию?
Может быть – и зря заезжал в Петроград? Сидел бы у себя в дивизии спокойно?
252
(по «Известиям Совета Рабочих Депутатов»)
…Высказываются суждения, что вся задача только в том, чтобы «восстановить порядок». Такие суждения способны внести смуту в умы… Мы намеренно пока не ставим все точки над «i». Но сделаем это в следующий раз. Старой власти возврата нет – и совершают преступление перед народом те, кто пытаются заключить с ней компромисс.
ПРИЗЫВ К ПОЖЕРТВОВАНИЯМ. Драгоценная кровь народная льётся за дело свободы. Никакие следовательно жертвы материальные не должны вас останавливать.
РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Товарищи! Петроград – в руках свободного народа. Ещё несколько ударов – и старый строй отойдёт безвозвратно в вечность. Враг, окружённый ненавистью и презрением, трусливо прячется в своих подземельях, чтобы собрать свои чёрные рати. Уже полнеба охвачено красным заревом свободы, но солнце ещё не взошло, и предстоят ещё жестокие схватки между народом и старой властью. Нужно с лихорадочной поспешностью приступить к созданию рабочих организаций. Оплетите неорганизованные массы густой сетью организационных ячеек!..
...
ОК РСДРП (меньшевики)
АРЕСТОВАННЫЕ ВРАГИ НАРОДА…
РАСПРОСТРАНЯЙТЕ СВЕДЕНИЯ О ВОССТАНИИ ПЕТРОГРАДА
Граждане! Чтобы нам не быть одинокими… Наша борьба будет выиграна только в том случае, если с нами будет вся страна. Старая власть употребит все усилия, чтоб отгородить Петроград от страны.
Следующее заседание Совета Рабочих Депутатов назначено на 29 февраля.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПЬЯНСТВА! – Опасный враг достоинства революции – пьянство. В погребах большие запасы вина и водки, революционный народ находит их. Революционному народу они все не нужны. В историческую минуту революции надо быть трезвыми и чистыми. Поклянитесь в этом, товарищи, друг другу! – УНИЧТОЖАЙТЕ ВОДКУ!
…Вооружённые жильцы каждого дома должны заняться очисткой своих домов от уцелевших убийц…
БЕЗЦЕЛЬНАЯ СТРЕЛЬБА И КАТАНИЕ НА АВТОМОБИЛЯХ.
Товарищи! Не будем тратить безцельно ни одной лишней пули. Все они нужны для будущей борьбы с контрреволюцией и кровожадным преступным правительством. Не забывайте, что под покровом ночи правительство собирает опричников, чтобы потопить дело революции в крови народа. Для них – и нужны пули. Избегайте ненужных выстрелов. Они лишь пугают мирное население и могут даже убить наших товарищей-революционеров. Товарищи, не превращайте выступления дружин в увеселительные прогулки с ненужной пальбой.
Следующее заседание Комитета Государственной Думы назначено на 12 часов ночи.
НЕ НАДО ЖЕСТОКОСТИ. Народ разделывается в настоящее время с наиболее ненавистными представителями старого строя. …Непосредственных преступников, кто расстреливал наших братьев, если они сопротивляются, надо уничтожать… Нельзя однако быть жестокими с теми, кто сдаётся на милость революционного народа. Не надо надругаться и издеваться над ними. Они в большинстве безвредные подлые людишки, в крови которых не стоит пачкаться.
В распоряжение Совета Рабочих Депутатов поступили от неизвестного солдата золотые часы.
К РАБОЧИМ. Совет Рабочих Депутатов просит всех товарищей рабочих, у которых имеется оружие, сдавать его Совету.
Студенческие группы с-д, с-р и Бунда призывают товарищей студентов энергично записываться в городскую милицию. Помните, товарищи, что Совет Рабочих Депутатов – ваше Верховное начальство.
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТ? – В городе появились слухи, что рабочие металлисты должны уже приступить к работам. Нет, забастовка может быть прекращена лишь полновластным постановлением Совета Рабочих Депутатов. Все обособленные шаги могут внести лишь деморализацию в великое дело революционного народа.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! – Необходимо занять Государственный Банк, но помнить, что там, кажется, есть пулемёты . – Необходимо охранить Гостиный Двор и Апраксин рынок от хулиганов.
253
Офицерское собрание в Доме Армии и Флота.
Ещё на прямой парадной мраморной лестнице под стеклянным колпаком Дома Армии и Флота, главного столичного офицерского собрания, и потом на окрýжных перильчатых галереях второго и третьего этажа со множеством пилястров, зеркал, дверей, голубого, золотого и дубового, и в кольце гостиных – тёмно-розовой «дамской», кофейной, зеленоватой «мужской», буфетной, строгой мрачной столовой с витражами (ничем сегодня не кормили), и в самом концертном зале у крайних кресел – стягивались знакомые и незнакомые офицеры группками по трое, по пять, по десять, – и друг от друга надеялись получить объяснение? поддержку?
Всех званий и всех полков были офицеры – все без оружия, но и без дам, но и среди буднего дня, – сколько служили они, кто год, кто четверть века, никогда бы не могли представить, что такое наступит в их жизни или вообще с какими-нибудь офицерами какой-нибудь армии. В один день все они были обезоружены, как бы разжалованы с чинов, уволены с должностей, а кто-то ещё и приговорён к смертной казни.
И со всем тем они должны были продолжать жить, ходить с офицерской выправкой, изображать офицерский вид.
Все обречённые, вот они согнались теперь вместе, в одно здание на углу Литейного и Кирочной, здание, знававшее их блеск, успех и досуг, – в прежней полированности, при прежних бронзовых группах и бра, кажется, последнее здание в Петрограде, куда ещё почему-то не врывались всевластные обнаглевшие солдаты. Согнались в ожидании начала – неизвестно чего начала и в какой час. В обрушенном мире было тоскливо, страшно – но и не может же офицер это выказать.
И в одной группе в розовой гостиной, где подвески двух роскошных люстр мелодично позванивали от ходьбы по паркету, подполковник с ярким золотым передним зубом находил способность шутить:
– Теперь, господа, устанавливается черта оседлости, только наоборот: жить в столицах запрещается – офицерам, и на право проживания в виде исключения будут выписываться кратковременные свидетельства, как вот у этого штабс-капитана. Спешите в Государственную Думу, пока хоть выписывают.
Выразительная дерзкая губа его с жёлто-белым усом изгибалась.
У Райцева-Ярцева это была не роль и не бравада, а способ жить. Как в окопах шутят над Вильгельмом, над лётчиками, над толкущими вокруг снарядами врага – так отчего ж было изменить стиль и не пошутить теперь? Ведь всякий жизненный случай всегда кому-нибудь смешон, это правда, – и когда офицеры бежали из петроградских казарм, то сами не замечали смешных подробностей, а многим солдатам это даже весело представляется.
Когда вчера на улице Гоголя кучка солдат вдруг резко повернула к нему, и один грубый с тяжёлой челюстью закричал ему сдать оружие – в какую-то секунду всё взвилось, провертелось как будто даже не в голове Райцева-Ярцева, а где-то выше, выше, откуда видно всё хорошо, и откуда к нему уже спустилось. Что вот – и его не минуло, а надеялся – не тронут. Что выход только: обнажить саблю и убить одного мастерским кавалерийским изворотом, вот эту огрузлую челюсть. Но тут же и – быть растерзану самому. И вся нелепость: погибнуть на петербургской улице, убивая русского солдата. Вся нелепость – погибнуть, не дожив до сорока лет, со всем цветным, что теснилось в груди.
А значит – не убивать.
А тогда – и не убиваться. Тогда – отдать с лёгкой, косой усмешкой, видя, как это несомненно смешно. Подполковник Райцев-Ярцев, потомственный дворянин и кавалерист, всю силу мужества своего вытягивавший в продолговатое тело сабли на её взлёте, – теперь отдавал эту душу-саблю как ненужный привесок.
Отдать с косой усмешкой – и потом шагать дальше по улице – и видя навстречу другого такого же опорожненного, правой рукой приветствовать его к козырьку, а левой шутливо прихлопывать по пустым ножнам на бедре.
Прежде сам бы не поверил, что так усмешливо перенесёт, когда его обезчестят.
Не так всё в тонкости, но с той же усмешкой он рассказывал теперь это всё своим собеседникам тут.
Тут-то, в Доме Армии и Флота, они все на короткие часы каким-то недоразумением были вполне безопасны. Может быть – можно было дойти до квартиры и оставаться там. Но – день-другой, а дальше? Ведь надо возвращаться в казарму?
Но это теперь – это теперь невозможно!!
А чем позже вернуться – тем хуже, укреплять солдатские подозрения.
И как же вернуться, если оружие части держат солдаты, а офицерам оно недоступно?
Перевернулся мир.
Новый опыт настолько неизвестен, посоветоваться настолько не с кем – непростительно давали украсить грудь красным бантом, даже второй на папаху, и так шли с солдатским строем в Думу (а кстати: здесь, сейчас, почти ни у кого красных наколок нет – в гардеробной сняли? спрятали в карман?), – да ведь в Государственную же Думу! – таков был призыв Родзянки, это законный человек.
Но не становилось с солдатами доверительней. Те всё равно смотрели волками.
Да ведь кто ж и остался в Петрограде, кроме Думы? И она зовёт восстановить в частях порядок.
Но как восстановить, если вышибло из рук? И если нельзя забыть? Тех минут страха. Тех минут оскорбления.
Конечно, возврат в казармы неизбежен. Но и непонятен. Вернуться – значит потребовать, чтобы солдаты не шли разбойничать по городу, когда хотят, а спрашивали разрешения на каждую отлучку, – разве это ещё возможно? чтоб они сдали оружие и патроны из разгромленных цейхгаузов? И это возможно?
Нет, восстановить прежнего уже нельзя .
Или прилаживаться к тому тону, который за эти дни взят там без нас? Даже брать ноты ещё резче, чтобы никто не усумнился в их революционности?
Охватывает апатия. Последняя усталость – до неспособности сопротивляться, до тупого безразличия ко всему.
Рослый мрачный полковник, лицо из одних простых крупных черт, как будто вдесятеро меньше черт, чем бывает вообще у людей, такие лица хорошо смотрятся перед полковым строем, – говорил вопреки очевидности:
– Нет, господа, это всё зависело от нас. Это – мы сами упустили.
Впрочем, он не гвардеец был и, видимо, даже не петроградского гарнизона.
Да и Райцеву-Ярцеву не надо было возвращаться в казармы: он в Петрограде в отпуску, его-то полк на фронте. Ему только предстоял позорный возврат без сабли, до первого полкового склада. А пришёл он сюда за охранным документом, чтоб не подвергаться новым оскорблениям.
А между тем громко звенел по зданию электрический звонок: звали в большой зал. И тут в их группе к измайловцу подошёл взбудораженный другой и уверял, что час назад от думской Военной комиссии полковник Энгельгардт издал публичный приказ: офицеров, которые будут заставлять солдат возвращать оружие, – расстреливать !
Что? Что-о?? Не может быть!
Чушь какая: Государственная Дума именно и звала ведь…
Шли в зал рассаживаться.
Непривычное для офицеров: публичное заседание. Но там уже сидели на сцене за столом – и все с красным на груди, правда не вызывающие банты, но скромные бутоньерки. Самочинно занявшие места. Называли председателя, секретаря, полковник Перетц, полковник Защук, полковник Друцкой-Соколинский. Испарения революции взнесли их туда.
Они и начали говорить один за другим. И что несли! —
– …Лучшие из вас шли во главе солдат на штурм режима…
Кто это шёл?
– …Рухнули барьеры, и создаётся внутренняя связь между офицером и солдатом. Дух крепостничества навсегда исчезнет из военной среды!
По залу шёл гул от разговоров, плохо слушали.
– …Граждане офицеры!..
Вот ещё как, по-новому.
– …скорей вернуться на свои места в строй, просветлёнными, возрождёнными, – и восстановить духовную связь с солдатом на началах равенства и братства. И при поддержке того коллективного прапорщика, который вышел из рядов народа…
Рядом с Райцевым сидел молодой, с умным лицом моряк:
– Собрание самоубийц. Разве тех умилостивишь? Никогда. Знаю я их.
– Откуда?
– Студентом тёрся с ними.
А со сцены излагали замысел такой: либо всем сейчас идти отсюда шествием к Думе, и даже демонстративно через Невский («Господа! Зачем же всем? разве нельзя обойтись делегацией?»), – либо делегацией, но она должна понести резолюцию всего собрания. Это должно быть приветствие Государственной Думе в её благородном деле возглавления народного движения к свободе. И – присоединение: что офицеры, находящиеся сейчас в Петрограде, все тоже идут рука об руку с народом. (Эта подручка сейчас тяжелей всего представлялась.) Что вот они, собравшись тут, единогласно (почему-то настаивали, чтобы только единогласно, как будто отщепление одного голоса могло всё испортить) постановляют: признать власть Временного Комитета Государственной Думы – впредь до созыва Учредительного Собрания.
Загудели возмущённые голоса: что-то слишком уж чудовищное! Не слишком ли большую цену спрашивают с них за возврат в казармы и за право свободно ходить по петроградским улицам? В России царствует Государь император, которому они все присягали, – и как же они могут теперь признать власть какого-то временного комитета из общественных деятелей? А Его Императорское Величество?
Но ещё можно бы этих признать до прибытия Государя в столичный град (скорей бы они шли, эти эшелоны, где они там застряли?), ну до образования постоянного правительства, – но почему нужно признать до созыва Учредительного Собрания? Разве Россия – не существует, чтоб её заново учреждать?
Да немногие и понимали, что это за выражение: «Учредительное Собрание».
А виделись и молодые сияющие лица – и среди ораторов, и в зале.
И сосед, корабельный инженер:
– Разве наши офицеры подготовлены противостоять им? Чтоб их знать – надо в их драконовой крови искупаться прежде. Вот эти взрывы во флоте – «Мария», да несколько под Архангельском, да пожары на складах, и вот в январе взорвался ледорез «Челюскин», – это кто работает, вы думаете?
Он сам был сейчас – флагманский инженер в Беломорском флоте.
Ничтожная кучка говорила со сцены, вот ещё какой-то полковник Хоменко, – а ужасный поворотный ход событий придавал силу их словам. Вот уже взывали откровенно – не к сердцу, а к самосохранению: какие угодно имейте убеждения, но чтобы выйти из этого здания, но чтобы шаг ступить по улице, но чтобы сутки следующие проносить свои погоны, – присоединяйтесь, и единогласно ! И тогда получите регистрацию и удостоверение на повсеместный пропуск.
Тот рослый полковник, с простыми чертами отважного лица, сидел от Райцева наискось вперёд, у прохода. И басил для соседей:
– Какая низость! Какое раболепство перед новыми правителями! И что же случилось с нами, господа офицеры? Неужели это не мы водили полки всю войну? Как быстро нас растрясли! Да сколько нас тут? – оглядываясь по залу. – Да тысячи полторы. Если на каждого считать хоть по 40 солдат – мы представляем 60 тысяч войска.
– Солдат – отвыкайте считать, – отозвались ему из ряда впереди.
– Хорошо, нас полторы тысячи.
– Теперь безоружных.
– Хорошо, почти безоружных. Но зато каких опытных. Да вот сейчас принять это идиотское предложение – и идти безоружным шествием якобы приветствовать Думу. А как дойдём до самой или даже внутрь – хватать там солдат за винтовки, отнимать, из рук выворачивать – и стрелять. И разогнать к чертям их пьяное сборище, а второго у них нет. И вообще ничего больше нет. Да это верный успех! Если б вот сейчас встать, объявить своё, сговориться – и пойти! Но ведь мы уже разложены, ведь тотчас побегут докладывать. Мы уже – как не одной армии офицеры, что с нами сделали, а?
Крупно решительный, он встал, за ним те два измайловца, и пошли по проходу вон.
И молодой моряк, Гарденин, посмотрел на Райцева:
– Пошли? Не идёте?
Резко встал – и тоже прочь, за теми.
Нет, Райцев-Ярцев остался. Хотя бы – оценить это всё с точки зрения юмора.
А на сцене появился сам Энгельгардт, очень благоприличный. Читал с приготовленной бумажки проект воззвания:
– «…К величайшему нашему прискорбию как среди солдат, так и среди офицеров были предатели народного дела, и от их предательской руки пало много жертв среди честных борцов за свободу…»
Э-э-э. Это уже было недалеко и до расстреливать ?..
254
Ротмистр Воронович. – Мятеж расходится по Луге.
В городе Луге, в 120 верстах от Петрограда по железной дороге на Псков, гарнизон стоял такой. Предназначенная к отправке во Францию артиллерийская бригада – ещё без единой пушки, без единой винтовки, с неподготовленным составом. Запасный артиллерийский дивизион – из новобранцев, неопытный, безпокойный, и тоже невооружённый. Автомобильная рота, как всякая автомобильная, набранная во многом из рабочих, и неблагонадёжная. И сборный пункт гвардейских кавалерийских частей из нескольких команд. Во главе пункта стоял генерал граф Менгден, он же старший офицер гарнизона, весьма благодушный, хотя вспыльчивый, его кавалеристы любили и называли «наш старик».
Старшим же адъютантом этого пункта был ротмистр Воронович, после лечения от раны поступивший сюда несколько месяцев назад. Ротмистр этот был из молодых да ранний: из Пажеского корпуса, не окончив его, он успел удрать на Японскую войну вольноопределяющимся и там получить георгиевский крест, правда в лёгком деле. Пажеский корпус не хотел принимать его вновь для окончания курса – и так Воронович застрял бы надолго армейским прапорщиком, но Государь распорядился принять его. Беглец отсидел месяц в карцере, а потом, вместе с пажом Макшеевым, успел кончить корпус из лучших, так что на последнем году они оба были произведены в камер-пажи императрицы и не раз дежурили в её покоях. Далее с георгиевским крестом Воронович оказался единственным таким среди юнкеров, так что все они обязаны были отдавать ему честь, – а затем и в гвардии, в Конногренадерском полку, его Георгий выглядел редкостью, ибо гвардия не была на Японской войне. А ещё, по быстроте, он успел приобрести и передовые взгляды. А ещё он вынес тяжёлое впечатление от 1905 года, когда, на возврате с Дальнего Востока, тонул в стихийном море солдатских толп и вывел для себя, что нельзя оставлять солдат самим себе без правильного руководства. Оттого усвоил самый доверительный стиль в отношениях с солдатами, а особо с теми, которые имеют революционные связи. Так и здесь в Луге, на пункте, у него был такой доверенный, рядовой Всяких, недавний студент-электротехник, связанный с эсерами.
С 27-го февраля, при смутных известиях о петроградских событиях, Воронович вызвал Всяких и тайно поручил ему ехать в Петроград и узнать как следует, что там творится. Затем велел вахмистру созвать свою команду, триста старослужащих, и обратился так:
– Ребята! В Петрограде происходят безпорядки. Чем они кончатся – неизвестно, но нужно быть готовыми ко всему . Я обещаю, что буду сообщать вам всю правду, что произойдёт в Питере.
А граф Менгден поверх всех один оставался совершенно спокоен: и что в Петрограде всё кончится благополучно и что вверенные ему кавалерийские команды останутся преданы Государю императору при всех обстоятельствах. А с их помощью он в любой момент подавит в Луге любые безпорядки. Начальники команд предлагали ему меры, как отъединить кавалеристов от ненадёжных частей. Но генерал Менгден отменил всякие такие меры:
– Я уверен, господа, что у нас, в Луге, опасаться нечего.
И 28-го, вполне спокойный в Луге день, и когда пришёл слух о движении генерала Иванова, граф Менгден оставался тем более спокоен: вот Иванов и обнаружит тех мерзавцев, которые довели Петроград до восстания. Вот и будут приняты реформы, которые давно необходимо произвести. (Он возмущался некоторыми безобразиями на верхах.)
Утром 1-го Всяких уже сидел ждал в канцелярии с выразительным лицом. Ротмистр выпроводил вахмистра и писарей и остался с ним вдвоём. Всяких вытащил из-за обшлага шинели обтрёпанную газетку Совета Рабочих Депутатов и бюллетень петроградских журналистов с воззванием Родзянки о принятии власти Думским Комитетом.
И понял Воронович, что революция – уже совершившийся факт. И почти не дослушивая рассказов Всяких – поспешил в управление пункта, к Менгдену. По обязанности старшего адъютанта, он каждое утро подавал ему папку бумаг на подпись. Теперь поверх этих бумаг он вложил петроградские листки, внёс генералу – а сам ждал в адъютантской.
Через несколько минут распахнулась дверь генеральского кабинета, и старый Менгден, бледный от негодования, протянул измятые листки:
– Возьмите от меня эту гадость. И потрудитесь просить начальника гарнизона немедленно собрать у себя всех командиров отдельных частей.
Через полчаса в управлении все собрались, встревоженные. Командир автомобильной роты доложил, что у него и весь вчерашний день волнения. На вечерней перекличке солдаты отказались петь гимн, а сегодня в полдень намерены устроить митинг.
Исправник принёс целую пачку тех самых листков, за которыми так тайно посылался Всяких, – они уже сами притекли в Лугу.
На этот раз генерал вынужден был их прочитать. И все читали, молча шелестя. Воронович следил за графом. На его открытом, породистом, благородном лице видна была вся борьба сомнений.
– Господа… Я вижу, события в Петрограде приняли такой характер, что прибывающим с фронта войскам придётся выдержать с изменниками настоящий бой. Я не сомневаюсь, что фронт останется верным Его Величеству. И это всё решит. А наша задача здесь – только чтобы лужский гарнизон не оказался на стороне мятежного Петрограда. Главное ядро гарнизона – вверенные мне кавалерийские части, конечно присоединятся к верному фронту. – Он решил подавлять? Нет, по свойственному ему миролюбию и великодушию: – А если какая-нибудь автомобильная рота желает присоединиться к мятежникам – мы ей мешать не будем! Если запасный артиллерийский дивизион захочет последовать её примеру – скатертью дорога! Они – не подкрепленье для бунтовщиков, потому что у них нет оружия. И ещё, я не сомневаюсь, к нам подойдут казаки с фронта. Итак, я принимаю решение: всячески воспрепятствовать кровопролитию между частями гарнизона.
Исправник пришёл в ужас: значит, город оставался в добычу мятежным частям?
– Так что ж, ваше превосходительство, вот митинг автомобилистов – не мешать?
– Не мешать! – величественно держал голову старый граф.
Вскоре – в управление кавалерийского пункта позвонили из полиции, что автомобилисты ранее своего назначенного митинга соединились с запасным дивизионом, выкинули красный флаг и идут в город «подымать кавалерию».
Генерал Менгден первый раз за все эти дни растерялся.
– Так что же нам делать? – спросил он у Вороновича, вскидываясь старыми глазами с краснотою. – Неужели стрелять по этим мерзавцам? Как не хочется проливать кровь.
Воронович был рад оказаться на месте у совета и спешил высказать его, чтоб доклонить генерала, куда он уже клонился:
– Ваше сиятельство! Что революция в Петрограде произошла – это уже несомненный факт. Во что она выльется на фронте – это пока неясно. Зачем вам спешить занимать резкую позицию? Ваше миролюбие вас не обманывает. Что могут сделать наши команды? Ещё неизвестно, согласятся ли все солдаты выступить против остального гарнизона. Но если и да – это будет безцельное кровопролитие, за которое потом жестоко поплатятся наши же офицеры. Нет, вы правы: надо во что бы то ни стало избежать крови! Ну, пусть эти автомобилисты и артиллеристы придут к нам. Что они могут сделать? У них кроме шашек никакого оружия нет, придут, поговорят и уйдут к себе. Важно, чтоб наши кавалеристы знали, что их офицеры будут вместе с ними, – и тогда у нас внутри всё обойдётся благополучно. Не выступайте! – пожалейте собственных офицеров! Я свою команду – берусь удержать от всякого выступления. Прикажите начальникам других команд…
Генерал сидел в изумлении и потерянности. Он дряхлел на глазах, на год в минуту:
– Но не могу же я, верой и правдой прослужив трём Государям, теперь изменить своему долгу и присяге?! Конечно, я против кровопролития. Но… Что же вы посоветуете мне делать? Я готов принести в жертву самого себя, пусть убьют меня, если только это поможет с честью выйти…
Воронович умолял его только не выступать перед возбуждённой толпой. Уговорил отправиться на квартиру и спокойно ждать.
А сам поспешил в свою команду.
Тем временем снаружи уже слышался глухой шум приближения толпы. Из окна Воронович увидел, как к крыльцу команды подскакал верховой артиллерист с красной повязкой на рукаве. Прокричал:
– Выходи все из казармы!
И поскакал к следующей команде.
Воронович прошёл в команду и нашёл солдат в полном смущении. Они не знали, что делать. Некоторые уже шли к выходным дверям, но заметили ротмистра, остановились.
Теперь-то он и должен был оказать своё водительство. Вот пришёл момент управлять массой! Он вышел на середину казармы и громко крикнул:
– Кто хочет – иди на улицу, остальные – собирайся ко мне!
Казарма загудела – и все окружили ротмистра.
Тогда он громко сообщил им, что в Петрограде произошла революция, и почитал из воззвания и листков.
Кричали нестройно «ура», спрашивали, что им делать.
Воронович предложил отправить по человеку от взвода, узнать, чего артиллеристы хотят.
А сам срочно вызвал к себе в канцелярию Всяких и совещался с ним. Тот сообщил, что в автомобильной роте выбран «военный комитет», чтоб руководить восстанием гарнизона. Воронович немедленно послал Всяких установить с комитетом связь и начать переговоры.
Между тем артиллеристы с красным флагом дошли до управления кавалерийского пункта и звали кавалеристов «присоединиться к народу» и идти на манифестацию. Но кавалеристы мялись, а посланные от взводов вернулись недовольные:
– Болтают, а чего – не поймёшь.
Это даже превзошло ожидания Вороновича: кавалеристы не поддались! (Так они бы и бились?)
Но прошёл час (Всяких не возвращался, только за смертью посылать), и узнали, что артиллеристы обезоруживают соседнюю конную команду, вошли в их казарму.
Это уже через меру. Это не годилось. Надо было держаться. Воронович построил своих и выразил, что старым солдатам стыдно дать себя разоружить новобранцам.
Ответили, что сраму такого не допустят.
Усилили караул к оружейному складу, дежурный взвод построили в казарме у выхода, а строгий, стройный, высокий Воронович с дежурным унтером вышел на крыльцо.
Вот подходили и артиллеристы, человек сто, и всё новобранцы, лет по 18–19, а ещё несколько местных гимназистов и двое-трое подозрительных штатских. В руках толпы виделось штук сорок винтовок, которые они без труда взяли в соседней команде.
Из толпы выступил вольноопределяющийся, взял под козырёк и предложил ротмистру немедленно сдать всё оружие, которое имеется в команде.
Ротмистр спросил: по чьему распоряжению? Вольноопределяющийся ответил, что у них есть сведения о неподчинении кавалеристов Государственной Думе, и поэтому решено их обезоружить.
Это и было решено в том «военном комитете», от которого ждал сведений и прояснений ротмистр. Сложное положение, как ноги разъезжаются.
Между тем из толпы, опьянённой успехом в соседней команде, раздались крики:
– Да что с ним, золотопогонником, разговаривать! Дай ему в ухо и вали в казарму!
Тут на крыльцо высыпал дежурный взвод кавалеристов с винтовками.
Толпа поостыла.
Сверхсрочный унтер спросил вольноопределяющегося, зачем пожаловали.
Тот повторил.
– Ах ты, щенок лопоухий! – закричал на него унтер. – Да ты с кем разговариваешь? Да ты ещё с голой задницей бегал, когда меня дяденькой величали! – и ты от меня винтовку требуешь? Да я тебе такую винтовку пропишу, ты до самого полигона катиться будешь! Ребята, – оборотился он к своим на крыльце, – а ну, покажите соплякам дорогу на полигон.
И человек двадцать кавалеристов, оставив винтовки у своих, со смехом и шутками врезались в толпу и быстро отобрали у сопляков все оружие соседней команды.
Штатские убежали, а новобранцы и гимназисты растерянно смотрели на своего предводителя.
Но, конечно, это было не решение вопроса. Ротмистр подошёл к вольноопределяющемуся и стал его уговаривать.
– Поймите. Если бы мы захотели действовать против вас, то несколько сот хорошо вооружённых старослужащих легко справились бы со всем вашим безпушечным дивизионом. – Что была совершенная правда. – Но мы не хотим ненужного и безсмысленного кровопролития. Вот хорошо, что кончилось мирно. Отправляйтесь к себе в дивизион и объясните там это…
То есть «военному комитету». Хотел бы Воронович понять их замысел и цели.
Петроградская революция всё равно уже победила, безсмысленно и не надо с ней спорить, а повторить её в Луге наиболее безболезненно.
А его кавалеристы смаковали, как они сейчас будут срамить соседнюю команду, отдавшую оружие.
255
ИК обсуждает вопрос о власти.
Хотя в соседней комнате уже собиралось топтание Совета Рабочих Депутатов – Исполнительный Комитет не намеревался к ним туда выходить, занятый настоящей работой. Неизбежно только было послать одного на председательствование. Самый подвижный и неуёмный Соколов ушёл руководить толпой, а остальные рассаживались вкруг своего стола за занавеской, установив сколько можно прочный заслон на дверях, чтоб хоть сегодня-то не мешали.
Не сразу, но спохватились: не нужно ли протокол писать? Большинство кричало – не нужно, опасаясь попасть в секретари. Но Капелинский склонялся, и его упросили.
А Чхеидзе начал председательствовать тут. Но все видели, что уже и на это он не годится, состаревался рано. Ему было только за пятьдесят, в Думе он держался на крайнем левом фланге молодцом, петушком, а в эти дни охрип и иссилился, выступая перед солдатами, валящими в Думу. Но больше всего он изнемог от наплыва счастья: вся Дума оказалась неправа, а одна кучка социал-демократической фракции права! – вот совершилась предсказанная им народная революция, и больше ничего он не хотел, не мечтал и не мог направить. От этого исполнения желаний, от этого полного прохвата счастьем он вконец обмяк. Не успевал замечать, кому дать слово, и не имел расположения да и могущества отнять у кого-нибудь, то блаженно кивал противоположным мнениям, то как будто засыпал. (А ещё ему подносили подписывать то пропуска, то какие-то другие клочки.)
Соседи его пытались руководить собранием за него, потом всё смешалось, не слушали и заику Скобелева, а Керенский конечно не присутствовал, он даже и для вида не вбегал, уже открыто презирая этот ИК, – и заседание пошло просто на перекриках и спорах, кто слово захватит.
Вообще неотложных вопросов и сегодня было на целый день заседаний, но наконец не избежать было вопроса о власти: кто же и как устроит революционную власть? И большевики своей дружной группой настаивали: Исполнительному Комитету немедленно брать всероссийскую власть. А неугомонный Гиммер своим пронзительным голосом ещё прежде объявил, что, как ему стало известно, цензовые круги на полных парах подготовляют создание правительства, – он и не скрывал своего одобрения, – а Исполнительный Комитет, значит, вынужден разработать свою позицию и занять её.
Вынужден так вынужден. Стали высказываться.
Гиммер же поспешил и захватить общее внимание. Он так и открыл, что только этим вопросом постоянно и был занят и вот к каким выводам пришёл. Конечно, цель империалистической буржуазии, этих Гучковых и Милюковых, понятна: ликвидировать произвол только над самими собой и закрепить диктатуру капитала и ренты. Правда, для этого им придётся создать полусвободный, так называемый либеральный, политический режим и полновластный парламент. Но на этом подражании «великим демократиям Запада», а на самом деле диктатуре капитала, они хотели бы революцию остановить, кроме того ещё обуздав её для целей национального империализма и «верности доблестным союзникам». Всякому мыслящему марксисту эта тактика насквозь и с железной необходимостью понятна.
Выступление Гиммера затягивалось вроде лекции, но так назойливо режуще он говорил, и такая несомненно марксистская тут сквозила теория, что его слушали.
Правые тут меньшевики, окисты, – поняли ли, куда ведёт Гиммер? Вряд ли. Уж только не Гвоздев, сидел с потерянным выражением, как будто и не слышал. Но обманулись и левые. Единственный тут, но пламенный эсер Александрович, единственный, но неуклонный межрайонец Кротовский и Шляпников с верными большевиками всё больше сияли, что представитель болота Гиммер говорит им на руку, прекрасное выступление! Если их левое крыло объединится с болотом, то вот сейчас можно будет и провести постановление о взятии Советом депутатов всей революционной власти!
Однако болото вязко поворачивало дальше так, что демократические массы в настоящее время не имеют реальных сил для немедленного социалистического преобразования страны.
У Кротовского лицо было жирноухое, жирнощёкое, жирногубое, и он выражал им хохот: а кто же распоряжается всюду – на улицах? на вокзалах? в казармах? – разве Думский Комитет? Всюду командуют уполномоченные Совета или его добровольные сотрудники. Кто же ещё другой имеет сегодня авторитет в массах? К воззваниям Совета прислушиваются как к приказам.
(Так-то может быть и так – а вместе с тем и страшен же этот шаг: взять власть самим, никогда не подготовленным, – как? что? И в какой момент? Когда старая власть вовсе не уничтожена и может опять нагрянуть сюда.)
Нет и нет! – настаивал Гиммер: в данный момент демократия не в состоянии достичь своих целей одними своими силами. Без цензовых элементов мы не справимся с техникой управления. А значит – надо использовать империалистическую буржуазию фактором в наших руках! Надо, по сути: при буржуазном правлении установить диктатуру демократических классов!
Это была захватывающая идея, которою Гиммер гордился, не все вожди мирового пролетариата могли такое придумать. И свои сверлящие пальцы он устанавливал попеременно в сторону собеседников. Вот в чём особенность обстановки, и вот в чём должен быть ядовитый дар данайцев: предложить буржуазии власть в таких условиях, которые бы обезпечили нам полную свободу борьбы против неё самой !! Ещё очень может быть, что они раскусят и не захотят взять власть в таких условиях. А пролетариат должен заставить их взять власть!
Ну что-то слишком мудро, просто смех! Кричал буйный Александрович, и подавал басок Шляпников: нам просто смешны ваши опасения, что буржуазия откажется от власти! да никакой класс ещё никогда добровольно от власти не отказывался! А что ж все эти годы толкало нашу буржуазию в оппозицию к царю, если не жажда власти?
Но хоть они так и наскакивали, а не было в них настоящей настойчивости. Какая-то неуверенность была у левых. (Конечно спокойней, если власть возьмёт Милюков, пусть они и голову ломают.)
Шляпников, видно, очень непристроенно себя здесь чувствовал, часто отвлекался к своим приходящим, а то исчезал с заседания. Большевики, они ведь главное видели не в Совете, а что захватывали тем временем Выборгскую сторону, и кажется Нарвскую. А тут, на заседании, они только и знали голосовать дружно как один. По их примитивному представлению, восстание в Петрограде уже и было начало мировой социалистической революции, поэтому и речи не может быть ни о каком цензовом правительстве – но брать самим полноту власти! (Да они уже успели напечатать в «Известиях» свой манифест как выражение общесоветской программы, что за нахальство!)
Но тонко и сложно вёл Гиммер: суметь сохранить свои руки свободными, а власть направлять из-за её спины.
Капелинский зачарованно заслушивался говорящих, то и дело забывал писать протокол – да и кому зачем он нужен, что он такое против живого дела?
Шехтер ухватывал и поддержал главное: социалистам участвовать в буржуазном правительстве ни в коем случае не допустимо. Это было бы изменой революционной социал-демократии. Если социалисты войдут в коалицию, то у рабочих создадутся иллюзии, что грядёт социализм, – а потом наступит убийственное разочарование.
Так всё больше сходилось против оборонцев. Голоса тех звучали совсем робко: что война всенародная и нельзя уклоняться от ответственности за неё.
Так тем более они сплачивали против себя всех циммервальдистов здесь: участие в коалиции есть измена Циммервальду!
Гиммер проницательно предвидел парадокс, что большевикам, межрайонцам, эсерам придётся голосовать за его программу, никуда не денутся. Даже не оценив её красот и глубин, а всё равно проголосуют.
Правда, тонко и умно один за другим защищали коалицию бундовцы Эрлих и Рафес. Они исходили из осторожности. Они и подводили известную теорию, что революция у нас – буржуазная и должно пройти свободное буржуазное развитие, это целая эпоха.
А других сильных защитников коалиции – Пешехонова и меньшевика Богданова – на заседании не было.
Тут неожиданно для всех раскричался до сих пор всем довольный и счастливый Чхеидзе. Потому ли, что дольше всех ему уже досталось заседать с этой цензовой буржуазией в Думе, – но он стал сердито и даже неразборчиво кричать, что решительно не допустит никакой коалиции! поломает её, а не только, что будет голосовать против!
Столько прожив на краю парламентской оппозиции, он привык бояться малейшей причастности к власти – и для себя, и для друзей. Он считал: лучше будем снаружи подталкивать цензовую власть.
И опустил утомлённую голову на грудь.
И Скобелев, конечно, с ним заодно.
Некоторые колебались, меняли мнения.
Интересно, что никто из двадцати присутствующих не потребовал помешать созданию буржуазного правительства, хотя знали, что каждый час оно движется к формированию. В этом-то и была неуклонность хода событий, предвиденная Гиммером.
Тут выступил Нахамкис. Он по-разному умел выступать, он умел и громить, он и очень, он очень умел быть осторожным. (Дошёл же и до него слух, что генерал Иванов ведёт на Петроград 26 эшелонов войск подавления, что с Карельского перешейка идёт 5 полков. А какие силы защищали Таврический – все видели: никакие. В таком положении брать власть – значило просто совать голову в петлю.) Нахамкис теперь аргументировал, что революционная демократия в настоящее время никак не сможет нести обузы власти. Да и нет сейчас в её среде крупных имён, которые могли бы создать авторитетное правительство. Да и совершенно они незнакомы с техникой государственного управления. Пусть цензовые думцы возьмут власть и довершат крушение царизма. Надо быть вполне довольным, если революция восторжествует пока в форме умеренно-буржуазной, – а затем мы будем её подталкивать и раскачивать. Так что пока надо приветствовать решение Думского Комитета взять на себя ответственную роль. Он лучше всего и справится с царистской контрреволюцией.
Итак, проступало три возможных решения. Крайних левых – цельно-социалистическое правительство. Оборонцев и бундовцев – разделить с буржуазией власть, войти в коалицию. И центра, называйте его болотом, но тут вся гениальность: не брать власти себе, но и не делить её с буржуазией, а остаться со свободными руками – и толкать!
И уж кажется шло к голосованию – но не добрались. Да мудрено было бы добраться, удивительно ещё, что столько времени могли поговорить на одну тему. В комнату № 13 то и дело рвались по «чрезвычайным и неотложным делам». Сообщали об эксцессах, о стрельбе, о погромах, те жаловались на атакующих, те на обороняющихся. Из Кронштадта принесли слух, что убили двух адмиралов, избивают каких-то офицеров, как будто тоже надо кого-то послать. Одни члены ИК выскакивали к вызывающим, другие возвращались, третьи ходили поднаправить пленум Совета в соседней комнате.
А тут за занавеской раздался значительный шум, даже больше самого заседания, – и, решительно отклоняя занавеску, перед заседанием ИК выставился какой-то представительный полковник в сопровождении юного гардемарина с боевым видом.
Ещё недавно многие тут, нелегальные и полулегальные, шарахнулись бы в испуге от такого полковничьего у них появления. Ещё недавно и полковник мог только крикнуть им разойтись или напустить на них кавалерию. Но сейчас он вытянулся, как перед заседанием генералов, и отрапортовал.
Что Исполнительный Комитет Совета Рабочих Депутатов обладает полнотою власти, только ему все повинуются, и он, полковник, прислан обратиться за содействием.
– Что случилось? Почему вы врываетесь?
Многие стояли, заседание было нарушено, и вместо всемогущества члены ИК ощутили скорей безпомощность.
256
Пустить или не пустить Родзянку к царю.
Но позвольте, что за военная наглость! Чего хочет этот полковник от Исполнительного Комитета, и как смеет он нарушать заседание?!
Всё смешалось, говорили многие и не могли сразу понять.
Полковник тоже объяснялся не по-военному, путано, с длинными добавочными фразами. Из его вежливых выражений не сразу поняли суть: председатель Государственной Думы Родзянко намерен выехать на свидание с царём, и заказывал себе для этого экстренный поезд на Виндавском вокзале, поезд уже был готов, но сейчас поступили сведения, что железнодорожники отказываются его отправить. Они говорят, что послушаются только Совета депутатов. Так вот, покорнейшая просьба от Думского Комитета к Совету: разрешить отправку поезда.
Да что такое, почему ИК должен… (Ага, значит – наша власть!) Да почему прерывают без спроса? Да какие такие железнодорожники, мы ничего об этом не слышали!
Но как уже всё покатилось кубарем, так теперь и этот подчинённый гардемарин, вместо того чтобы держаться немым адъютантом, – выступил с заявлением, голосом гневно-дрожащим, с глазами гневными ко всему Исполнительному Комитету:
– Позволю себе спросить от имени моряков и офицеров: какое ваше отношение к войне и к защите родины? Чтобы признать ваш авторитет, мы должны знать… Если в такую минуту Председателя Государственной…
Маль-чишка! Ещё и этот! Он хочет знать! Тот самый вопрос, который нарочно все обходят третий день!
– Нет, это слишком! Извольте удалиться, господа, мы обсудим без вас!
– А какие железнодорожники?..
Скобелев выразил, что – знает, но когда эти уйдут.
Выпроводили: ответ будет.
Объяснил Скобелев: есть один надёжный человек, счетовод службы сборов Северо-Западных железных дорог Рулевский. В движении революции он бросил своё счетоводство, а присоединился к штабу Бубликова в министерстве путей. И оттуда время от времени сообщает, что там делается, проверяет их. Он и позвонил, что готовится поездка Родзянки для сговора с царём, уже не с первого вокзала. Скобелев дал знать на Виндавский – остановить уже готовый поезд, но не успел объявить ИК.
Да что тут успеешь?.. (С бумагами и делами тем временем продолжали добиваться – разрешения, удостоверения, направления…)
Теперь все стояли на ногах, как будто надо было бежать на пожар, так их перебудоражило.
А в самом деле, зачем Родзянко едет? Скажите, Государственная Дума! Хочет зацепиться за революцию! Какая у него может быть цель? Да разве мы можем доверять ему? Да и всему Думскому Комитету? Ведь они ещё никак с революцией не связаны, возьмут да и столкуются с царём. За наш счёт! А тогда они и всю армию повернут против революции? Да это губительно! Тут не может быть сомнений! Никакого не давать разрешения! Прав Скобелев, что задержал! Сам царь не может справиться с Петроградом, так Дума ему поможет! (А вот так доверять им власть? Значит – нельзя давать им власть?) От этой поездки может зависеть вся судьба революции! Ни в коем случае не разрешать! Благодарить железнодорожников за правильное понимание долга перед революцией!
Кажется, других мнений и не прозвучало. Нет, было такое: пусть Чхеидзе сопровождает Родзянку для контроля? Большинством решили: всё равно отказать !
Садились. Сели.
Но этот эпизод всколыхнул, что напрасно они все пренебрегали вопросом о судьбе династии, – им казалось, это отдалённо и почти уже сметено. А – нет! Очевидно, Совет должен выразить ясным актом, что династия Романовых не может оставаться!
Но тут и ещё вопрос: а – Керенский? Ведь он – там, в Думском Комитете, ведь вот он сюда и не является. Так он – знает о подготовке этой предательской поездки? Почему не помешал? Почему – нам не сообщил? Вызвать сюда Керенского!
Пригласить.
Да надо же возвращаться к вопросу о власти!
Заседание рассыпается на единицы: каждый куда-то идёт, снуёт. (Да надо же когда-то поесть и попить. Товарищи! Мы сейчас организуем что-нибудь здесь!)
Товарищи! Мы же должны переходить к голосованию по вопросу власти. Товарищи! – (это Гиммер) – голосование тоже ещё не всё. Ещё мы должны обсудить и выработать условия , на которых мы согласны допустить буржуазию ко временной власти, в коалиции или без коалиции! Ведь мы же условно её допускаем!..
А тут опять бегут сообщают: где-то офицеров бьют, терзают. И в Кронштадте… (Хотя это – историческая неизбежность.) Надо что-то такое опубликовать, чтобы решительно и безповоротно заставить офицерскую массу примкнуть к революции! (Нахамкис стал писать.)
А тут – вошёл Керенский.
Не вошёл – ворвался, бледный, полубезумный, истрёпанный, галстук набок, а короткий ёжик просто не сбивается, иначе бы… На лице его было отчаяние, он знал что-то ужасное?..
(Подходили войска Иванова? Мы погибли все?..)
– Что вы делаете! Как вы можете! – восклицал Керенский, не добираясь до более внятных фраз. Но и был же измучен как! – Вы отсюда, ничего не зная, мешаете Родзянке ехать. Да неужели вы не понимаете, что я – там, и если было бы нужно, я остановил бы сам? – Он шатался, ему пододвинули стул. Он рухнул, привалился грудью косо к столу, и голова опустилась.
Бросились ему помочь. Кто-то придерживал голову, кто-то рассвободил галстук и расстегнул воротник. Принесли воду и опрыскивали его.
Придя в себя – он нашёл силы говорить. Трагическим шёпотом, но всем, однако, слышно:
– Да неужели я нахожусь в том крыле, во враждебном окружении, для чего-нибудь другого, а не для защиты интересов демократии? Если появится опасность для нас – я первый её увижу! Я – первый её обезврежу! Вы – можете на меня положиться! Я – пронзительно помню свой долг перед революцией, как должен помнить каждый из нас!.. Но при таких условиях недоверие, которое вы выражаете к Думскому Комитету, есть недоверие лично ко мне! Это недоверие неуместно! Оно – опасно! Оно – преступно!.. Очень может быть, что поедет совсем и не Родзянко. Дело не в Родзянке, а дело в поездке. Да он, может быть, получит отречение! Вы ничего не понимаете, а – мешаете!
Его слушали так, как не слушали друг друга целый день.
От-ре-чение?!.. Ну, так если… Ну, другое дело…
Керенский, уже голосом отвердевшим, потребовал: разрешить поездку Родзянки, для окончательного утверждения новой власти!
И появились голоса в его поддержку – сперва сторонников коалиции, потом и других.
И потекли новые прения, совсем не короткие, и дело шло уже как будто не о поезде, а о взаимоотношении двух крыльев дворца? Да, так оно становилось!
И произошло голосование: разрешить поездку. С поправкой, что Чхеидзе или кто другой должен Родзянку сопровождать.
257
Полковник Кутепов пешком в Преображенские казармы. – Съездить в Таврический?
В тоске проснулся Кутепов, в тоске провёл утро у сестёр. Никакого отпуска у него быть не могло, никакой частной жизни, если творилось такое.
Но, полный сил и военных соображений, он и вмешаться в события не мог без подчинённой ему части, без своего несравненного Преображенского полка, сидящего по окопам далеко в Галиции.
Сделать ничего не мог – однако и в одиночестве не в силах был томиться. И хотя сёстры ещё в обмороке были от опасности, пережитой им на Литейном, и хотя рассказывали наперебой, как расправляются с офицерами на улицах, – почувствовал Кутепов унижение прятаться дома, невозможность так сидеть. Тогда надо бросать отпуск и на фронт уезжать.
Да уже не мог он так покинуть и этот неудалый запасный батальон.
Телефон снова действовал. Позвонил в офицерское собрание – Макшеев обрадовался и очень звал, но автомобиля прислать не может, их почти не осталось в батальоне, и офицеры ими не распоряжаются, такое странное положение.
Кутепов сказал:
– Хорошо, я приду пешком.
– Но как же вы придёте?
Да вряд ли это было так опасно, как рисуется напуганным людям. Вряд ли опаснее, чем идти в атаку под градом пуль или пешему встречать атаку кавалериста: здесь пули летают почти случайно, всё в воздух, а встречные пеши, и шашкой владеют наверняка хуже тебя.
Ему предстояло пересечь Большой проспект, пройти по Кадетской линии, потом по Университетской набережной, по Дворцовому мосту, мимо Зимнего – и всё. Держа пистолет без кобуры, с доведенным патроном в кармане шинели, а шашку – отчётливо наверху, на левом боку, Кутепов шёл в большом напряжении, готовый к бою каждую секунду и с каждым встречным. Не смотрел особо вызывающе каждому в лицо, но и не уводил глаз в землю, а как бы прослеживал на уровне глаз вперёд от себя прямолинейную узкую себе трассу, видя дальше вперёд, чем лицо встречного.
Но при этом не мог он не замечать омерзительных красных лоскутов на всех, какое-то необычное балаганное гуляние, овладевшее всеми, как безумие. И на большинстве лиц клеились или плавали глупые улыбки. Радовалась толпа, сама не зная чему – крушению порядка, началу анархии, где не сдобровать никому.
Какие-то ещё прокламации были расклеены по стенам, но Кутепов боковым зрением не охватывал даже их заголовка крупного, а уж тем более не подходил почитать.
Много было отдельных бродячих солдат, вне каких-нибудь команд, – и некоторые, проникнувшись грозно-утомлённым видом полковника, уверенностью его хода, отдавали ему честь, довольно чётко. Тогда и тотчас полковник им отвечал. А много было совсем распущенных, кучками, с оружием, и никаких приветствий не отдававших, – таких Кутепов миновал как бы не замечая, а на самом деле сильно напрягшись. В любой такой кучке могли быть его знакомцы по Литейному, сторожившие дом, искавшие его крови. Шансов подвергнуться нападению у него было больше, чем у всякого другого офицера, проходящего по улице, – очень немного их было, почти не было, всё больше вертлявые прапорщики, уже примкнувшие к революции, с теми же красными бантиками и столпленные со студентами.
Особенно густо и студентов и солдат стянулось как раз перед Университетом, толпа занимала половину набережной, в каких-то кучках произносились какие-то речи, а ещё из обрывков долетающего понял Кутепов, что здесь их кормят всех, потому и стянулись.
Но как будто лучами посланного вперёд напряжения, беззвучным волевым приказом «расступись!», полковник открывал себе дорогу. Он проходил как снаряд через облако дыма – и ни одна близкая рука даже сзади в спину не посягнула на него. Смотрели на высокого короткобородого железного полковника – и отодвигались, пропускали, не крикнули оскорбления, не придрались, что он без красного.
Конечно, это зависело от случайностей встреч, можно было попасть на столкновение и просто на смерть. Но вот – он прошёл.
Прежде него по Дворцовому мосту и мимо Биржи прогрохотала пара броневиков. И успел подумать: броневики, уже два года позиционной войны как снятые с дела, не годные без дорог и по изрытой местности, – вот где теперь пригодились, по городским улицам, возить солдат революции и насмерть пугать безоружных жителей.
На Дворцовом мосту движение было людное и свободное, никто не преграждал. Тут впервые заметил, какая сегодня погода. Никакая, утренний туманец рассеялся, но в просторе над снежной Невою, уже за Троицким, ощущалась пелена. Солнце проглядывало, а не выступало полностью.
Был бы мороз градусов 20 – никаких бы этих толп не было.
Может, и революции бы не было.
Ото всей и всеобщей распущенности как будто чем-то грязным вымазали душу.
На виду у строгого молчаливого полукруглого Главного Штаба было особенно отвратительно ощущать, во что превратилась столица.
В Преображенское собрание Кутепов пришёл как раз к завтраку. Все офицеры обрадовались ему. Новости их были такие. Сегодня утром на трёх грузовых автомобилях приехала без офицеров с унтером большая команда 3-й роты преображенцев, с Кирочной, бунтарей, – и дежурному по 1-й роте предъявили распоряжение Военной комиссии Государственной Думы на осмотр помещений и отобрание пулемётов. Таких пулемётов в наличии было всего два учебных, их и забрали. Но кроме ротных помещений вооружённые бунтари оскорбительно прошли также по офицерскому собранию, делая вид или на самом деле ища пулемёты, или что другое, или только для угрозы.
– И вы их не выгнали?!
Не посмели. Можно допустить неосторожный шаг и всё погубить.
А ведь были тут настоящие боевые офицеры, вот и Борис Скрипицын с георгиевским оружием, которого хорошо помнил Кутепов по сентябрьскому бою.
И они уверены были, что поступали правильно! Это вот чем подтверждалось: бунтари уехали без конфликта, а вослед привезли доверительное распоряжение Военной комиссии – выслать им в Таврический батальонную канцелярию на помощь. И выслать караулы на охрану близлежащих дворцов. И Макшеев послал: полуроту – на охрану Зимнего, четверть роты – во дворец великой княгини Марии Павловны, четверть – во дворец Михаила Николаевича, четверть – во дворец принца Ольденбургского. В таком направлении караулов преображенцы видели благоразумие новых властей и, скрытое пока, начало успокоения. Да и солдат занять. Ещё послали наряды на телефонную станцию, в министерство иностранных дел, выслали дозоры по Миллионной, по Мойке, по набережным от Летнего сада до Сенатской площади.
– И что эти дозоры должны делать?
– Военная комиссия вменила в обязанность разгонять сборища.
– Это хорошо бы. Но никого они не разгонят. Не такие силы нужны и не такая решимость. Да первое такое сборище – Таврический дворец, с него начинать.
Офицеры смотрели на полковника почтительно – и с недоверием.
Они для себя вот что усматривали хорошее: что преображенские офицеры становились как бы на законную службу – и были освобождены от горькой необходимости тащиться в Дом Армии и Флота на офицерский митинг и там добывать себе охранительное разрешение.
А что в Доме Армии-Флота? – Кутепов ничего не знал.
Показали ему обращение.
– Боже! Боже! – только мог произнести Кутепов. Он представил себе это массовое офицерское унижение.
Кстати, наискосок от дома Мусина-Пушкина. В самом том месте Литейного, где позавчера он вёл безуспешное сдерживание, – и тогда никто из этих сотен офицеров не пришёл к нему на помощь, а то бы всё и кончилось иначе.
Как же быстро и без боя сломили всё столичное офицерство!
И что же было делать?
А вот что. Капитаны Скрипицын и Холодовский имели идею и приступили к полковнику. В Военную комиссию теперь назначены офицеры Генерального штаба. Так вот идея: полковнику поехать сейчас прямо к ним и объясниться, что дальше так идти не может. Что надо немедленно и энергично спасать положение.
– Вздор, – сказал Кутепов. – Они сами там отлично всё видят. Каждый офицер императорской армии должен иметь ответственность сообразить всё самостоятельно.
Но походил, походил – опять получалось унизительное самозаключение, даже и тут, в собрании.
– А что, в самом деле? – сказал Кутепов Холодовскому. – Давайте попытаем счастья. Чем чёрт не шутит.
Автомобиль для их поездки был. С маленьким красным флажком. А иначе к дворцу не подъедешь.
258
Трудности и стеснения Родзянки. – Свои же не пускают!
Что значит – не сделать дела сразу. Не поехал Родзянко решительно ещё до рассвета нагонять в Бологое – а потом уже поездка никак не налаживалась.
Милюков – сразу насторожился и сказал, что надо хорошо подумать. И помешал собрать Комитет для решения: подумать, дескать, надо каждому и ещё поконсультироваться. Есть и плюсы, есть и минусы, очень демонстративный шаг.
Да, конечно, шаг был исключительно важный. Но и – по характеру Председателя. И в такой момент только таким шагом и можно что-то спасти.
Но и ответа от Государя надо было дождаться. Всё же прилично было получить согласие, а не рваться самому.
Шли телефонные переговоры с Бубликовым в министерстве путей. Не сразу добились от них, что они, оказывается, совершили дерзкий мятежный шаг: приказали задержать поезда Государя, не доезжая Старой Руссы! Да сам Председатель никогда б не решился на такое.
Нет!! Неблагородно. Встретимся и так. Родзянко велел отменить всякую задержку царского поезда. Но ещё и не был уверен, что эти плуты выполнят.
А экстренный поезд Председателя на Николаевском вокзале давно уже был готов. Потом – задержан чуть ли не комендантом вокзала! Потом на вокзал поехали от Бубликова, и поезд опять стал готов. И даже открыта была ему дорога, задержаны пассажирские поезда, и Михаил Владимирович уже ехал домой переодеваться да на вокзал, когда задумался: что ж теперь гнать через Бологое вослед ушедшему царскому поезду? – короче встретить его по Виндавской линии на Дне. И велел отменить себе поезд на Николаевском вокзале, готовить на Виндавском.
А между тем он сам жил и двигался под смертельной угрозой: ведь его самого солдаты угрожали убить! И тут, во дворце, в толчее или прямо касаясь, и все с винтовками, – ничего и не стоило убить! Но презирал бы себя старый кавалергард, если бы испугался этих подлых угроз.
Впрочем, спешно издал Энгельгардт успокоительный приказ о неразоружении солдат. Хотя к какому бардаку это могло повести – даже и не представить.
А тем временем солдаты – не угрожающие, но приветствующие, – всё текли и текли в Таврический – строями, частями, потоками, кто только до крыльца, а кто и впираясь в Екатерининский. А придя – все непременно хотели слышать к себе приветственную речь.
Однако желающих идти к толпе и кричать до хрипа – среди думцев и Временного Комитета становилось всё меньше, да многие думцы вообще скрывались по квартирам, не появлялись в Таврическом. От этого же тёмного разбойничьего Совета депутатов желающие выступать перед делегациями всё время были – и Чхеидзе со Скобелевым, и какие-то с ними неизвестные подвижные евреи, – и чего они могли нанести, наговорить? Чтоб не допустить окончательного разложения гарнизона – ничего не оставалось Председателю, как влечь и влечь себя на эти выступления, чуть не один за всех, пока ещё не уезжал.
Опять один за всех! – как и много раз в своей жизни. Как представлял Думу перед Государем в месяцы грозного их противостояния и непонимания. Как сегодня ночью остановил движенье войск на Петроград. Как держал на себе весь Временный Комитет. И в этих встречных речах – опять! Удел богатырски наделённых натур, Родзянко и не жаловался. Кому много дано, с того много и спросится.
И посылал Бог голоса! А вид был величественный, грозно-достойный, – и если были в толпе распущенные убийцы, то ни одна угроза не раздалась вслух. Целые тысячи солдат выволакивал Родзянко своим трубным голосом – к сознанию долга, к сознанию опасности, в которой состоит отечество, и что надо победить лютого врага Германию. И хотя уже десять и двадцать раз он говорил за эти дни одно и то же, вряд ли меняя даже и слова, – такая пламенела в нём любовь к России, что хватит горячности и на восьмидесятый раз. Даже понял он теперь, что зал думских заседаний бывал для него мал и тесен – а вот такая нужна была аудитория его запорожскому басу, его необъятной груди!
Конечно, хотелось бы высказаться похлеще, высечь этих подстрекателей, мерзавцев из Совета депутатов, свивших в Думе своё хищное гнездо, никаких не патриотов, а прощелыг, если не разбойников, – вот уже захватывали они и Таврический, и весь Петроград. Да, весь Петроград! Хотел Михаил Владимирович ехать домой переодеваться в дорогу – доложили ему что-то невероятное: что на Виндавском вокзале какие-то железнодорожники отказываются готовить ему поезд! – а требуют на то приказа от Совета депутатов! – вот как!
Значит, Председатель, взявший власть во всей стране, не был хозяином единственного паровоза и вагона? Чудовищно! Председатель обладал всей полнотой власти! – а не мог распорядиться таким пустяком? Поездку, от которой зависела судьба России, решали какие-то беглые депутаты ! И к этим самозваным наглецам приходилось кого-то посылать, унижаться до переговоров! Унижение было оскорбительней всего гордой душе Родзянко.
Но – хватало ему одумки не произнести роковых слов. Везде звучало «свобода» в смысле «никому не подчиняйся» – и Родзянко молча обходил эту их свободу, но призывал подчиниться защите родины. Кричал, что не дадим матушку-Русь на растерзание проклятому немцу, – и кричали ему громовое «ура».
А столица как охмелела: шли во дворец уже не только военные делегации, но и какие-то гимназисты, и какие-то служащие, – и перед ними тоже должен был кто-то выступать? Но уже Председателю было обидно. Надо было ему и за своим столом посидеть, разобраться, подумать, что важное не терпит ни часа, ни минуты. (Однако и в кабинете уже такое набилось постороннее, что куда бы и в малую комнату уйти?)
А тут ещё новинка: не только весь Петроград знал и превозносил Родзянку – но вся страна, из провинциальных городов, из разных дальних мест железнодорожные служащие и чиновники, городские думы, земские собрания, общественные организации слали на имя Председателя поздравления и заверения о поддержке Временного Комитета и лично его самого, что он стал во главе народного движения.
Читать эти телеграммы – была музыка. И до слёз.
Однако кроме приятных несли и срочные, мало приятные. От адмирала Непенина – две. Сперва: что он считает намерения Комитета достойными и правильными. Это отлично. Но вскоре вослед: что он просит помочь установить порядок в Кронштадте, где убиты адмиралы Вирен, Бутаков и офицеры.
Эти кронштадтские убийства пришлись прямо ножом по нервам: они кровавыми пятнами омрачили светлые дни, и что-то надо было делать – а что? а кого туда пошлёшь?.. Ведь некого…
Затем – от генерала Рузского. С явной претензией. По привычному праву наблюдать от Северного фронта за Петроградом, высочайше отобранному у него только этой зимой, или по праву помощника-сообщника в недавней телеграмме, Рузский теперь спрашивал, каков порядок в столице. И может ли Председатель Думского Комитета обуздать стрельбу, солдатский бродяжий элемент, и дать гарантии, что не будет перерыва в железнодорожных сообщениях и подвозе припасов Северному фронту.
Сам задаваемый вопрос уже предполагал сомнение.
А что мог отвечать Родзянко о порядке в столице? Сказать, что нет его, – было бы унизительным признанием в собственном безсилии. Сказать, что он есть, – было бы ложью.
Родзянко телеграфировал Рузскому, что все меры по охранению порядка в столице приняты и спокойствие хотя с большим трудом, но восстанавливается. А о железнодорожном сообщении что он мог сказать, вот сам лишённый вагона? Как Бог даст…
Всё же в этом обмене телеграммами было то положительное, что укреплялся прямой контакт с ближайшим Главнокомандующим (часть войск которого ещё шла на Петроград?). Это могло очень пригодиться в ближайшие часы.
И – очень неприятная телеграмма от Алексеева, неожиданная после хорошего ночного разговора, просто телеграмма-выговор, не скрывающая выговорный тон, как бы старшего к младшему. Алексеев упрекал Родзянко за телеграммы к нему и к Главнокомандующим: что они нарушают азбучные условия военного управления.
Да пожалуй что и так, Родзянко согласен. Но – исключительные же обстоятельства! Но: что изменилось от ночи? Почему он не упрекал ночью? Вдруг как будто утратилось всё взаимопонимание, достигнутое в ночном разговоре. Какие-то там затемнения, изменения происходили в Ставке вдали – отсюда невозможно было их понять и трудно поправить.
А ещё упрекал Алексеев за распоряжения по телеграфным линиям и железным дорогам, перерыв связи Ставки с Царским Селом, попытку не пропустить литерные поезда на станцию Дно, – всё то, что набезобразил Бубликов сам, не спросясь, а вот дошло до Ставки. Это, конечно, было безобразие, но не полезно было бы объяснять Алексееву, подрывая самого себя, что Родзянко и не успевал, и власти не имел всем управить.
А чего совсем не было в телеграмме – это о войсках, посланных на Петроград: так идут они? не идут? задержаны?
Хотя: если Алексеев об этом молчал – то это и неплохо. Во всяком случае – не угрожал.
Расстроился Михаил Владимирович от этой телеграммы.
Но тут пришли и с хорошим сообщением: что Совет рабочих депутатов снял свои возражения против поездки. Только с условием, чтобы ехал и Чхеидзе.
Э-э-это всё портило: ну куда годится Чхеидзе? ну зачем Чхеидзе?
Однако: можно ехать! Так для равновесия взять с собой ещё Шидловского.
От Государя с пути тоже пришло согласие на встречу.
Прекрасно! Можно ехать!
Теперь – ещё одну телеграмму, пусть пошлют по Виндавской линии:
Его Императорскому Величеству. Сейчас экстренным поездом выезжаю на станцию Дно для доклада вам, Государь, о положении дел и необходимых мерах для спасения России. Убедительно прошу дождаться моего приезда, ибо дорога каждая минута. Родзянко.
Дорога каждая минута, и больше никаких выступлений перед делегациями. Никаких больше телеграмм, бумаг, вопросов – Михаил Владимирович уезжает! Ото всей России, ото всего народа он должен привезти заметавшемуся императору простое ясное решение: ответственное министерство. И во главе его – Родзянко. Ну, и какие-то поправки к конституции.
Хотя… Хотя размах событий таков, что стали тут тихо поговаривать уже и о передаче престола Алексею.
А что ж? Может быть, может быть уже и неизбежно.
Хотя пришёл Чхеидзе и сказал, что не допустит никакой передачи Алексею – только отречение.
Ну вот, связались. То есть покинуть престол на произвол судьбы? Такого я не допущу!
Здесь, в немногих оставшихся комнатах думского крыла свои же члены Комитета явно избегали глаз Председателя и шушукались. Шушукаться они могли только против него – чтобы сделать премьером Георгия Львова. Ну так и Председатель не будет возиться с этими интриганами, и даже совещаться с ними. А, в своём духе, сделает широкий шаг: вот, съездит на свидание с Государем и получит безповоротное утверждение премьер-министром.
Отданы последние распоряжения, ключ от стола секретарю, – но тут-то и набрались: Милюков, Некрасов, Коновалов, Владимир Львов, – как будто Председатель созвал их на совещание.
– Позвольте, Михаил Владимирович! – говорит Милюков, натопорщив усы и напрягши безжалостные глаза. – Мы вот, члены Комитета, посоветовавшись, находим, что ваша поездка сейчас несвоевременна и двусмысленна.
И упёрся загораживающим, замораживающим взглядом.
И Некрасов выставился в свою алчную волковатость, не притворяясь, как всегда, добродушным.
Чёрный Львов сморщился у переносицы, как изрытый.
Пухлоносый, толстогубый Коновалов в золотом пенсне как всегда мало что выражал, но место занимал по обхвату.
Как будто ты разбежался – и кинули тебе палку в ноги.
– Как? Почему? Кто находите? – несвязно спрашивал Родзянко.
– Вот мы, – отпечатал Некрасов. (Мальчишка! Допустили его в 35 лет товарищем Председателя Думы!)
– А… что – находите?
– Мы находим, Михаил Владимирыч, – продиктовал Милюков, – что ваша поездка идейно не подготовлена. Не только не обсуждена цель, задача и пределы ваших полномочий, но сомнительна сама необходимость такой поездки.
Свои-и?? Не пускают??
259
Солдатский Совет бурлит об офицерстве.
Так что ж, на том и скончалась наша слобода? Вот оно и всё? Винтовку в пирамиду поставь, и не тронь, и опять у офицерéй в полной зависии? Третьего дня и вчера их как ветром выдуло, из казарм и с улиц, нигде не стало. А вот уже и ворочáются. Придут оглядчиво – а уже и тон берут на нашего брата? И – что теперь будет? Споткнулся ногою – платить головою. Одно – что слободу отведали, отдавать не хотится, а другое – что расплата? Не, мы не согласные! Надо нам, братцы, плечом к плечу устоять! Вот, бают, приказ какого-тось Родзянки, главного генерала: оружие у солдат дочиста отнять, и чтоб офицерáм подчинялись. Не-е, братцы, надо заступу искать. А где нам заступа? А есть такая заступа, кто уже побывал, сам видал: Совет ! Там тоже-ть не наш брат, тоже-ть господа, но – другого сорту, которые всему супротив. Мы в бунте по колено завязли, а они – по пояс. Так что ежели кто совет нам и даст – так они. Вали к им, ребята!
И – валили иные с разных казарм, не зная ни прозванья того дворца, ни той комнаты, – а по памяти улиц да по наслыху – находили и пёрли.
Просто – пёрли, а что там и назначено в 12 часов дня в 12-й комнате собрание Совета рабочих депутатов – об этом мало кто знал. При дверях загораживали, спрашивали ман-да-ты – да сам ты такой! отодвинься, не дёржь! А кто из солдат: я – от такой-то, мол, роты, меня выбрали!
А внутри – рабочих в их чёрной одёжке лишь вкрапь, а всё шинели да шинели серые. И набивались в ту комнату, и набивались – а там сидячих мест только у стен, на спроворенных скамьях, накладом досок, – а то всё стоймя. А потом и сидячим из-за стоячих ничего не видать, и не сидеть, а лезть на те скамьи. И ещё один стол впереди – уже весь затоптанный, и на него лезут по нескольку, покричать, ещё и кулаками потрясти, вольнопёр какой-то из Финляндского:
– Товарищи! Пока мы тут доверчиво беседуем, а контрреволюция не дремлет, собирает грозные силы! А цензовый туз Родзянко издал приказ: всем солдатам вернуться и подчиняться!
И кричат ему сýстречь, оттуда, отсюда:
– Сже-е-ечь приказ!
– Арестовать Родзянку!
– Мал-мала стряхнули – и опять? Не доломали барску кость?
– Мало их побили, покололи, надо б ещё!
– Теперя, говорят: нельзя. Осаждают.
– А кто говорит-то? Их же кумпания и толкует. А ты – не внемь.
А тот вольнопёр нажигает:
– Не верьте, товарищи, офицерским притворным улыбкам! Они какие были дрессировщики и палачи, такие и остались.
Всё гуще набивалось, уже и дверей не закрывали, и в дверях толпились, а теснота такая, даже сплюнуть некуда. Да такая лихоманка берёт, аж руки трясутся, и цыгарки не скрутишь: вот ведь как задумано у их – посогнут нам шею горше прежнего.
Задрожливый разговор, изо всех углов гуторят, затылки во все стороны – а тут на стол и вылезь из тех направителей один, из соседней комнаты, – перекидистый, больно повёртливый, сам лысый, а бородка – лопатка чёрная. Взобрался и заголосил: открываем, мол, заседание Совета рабочих депутатов.
Кричат ему:
– А солдатские? А мы кто такие? Нас больше.
Им кричат рабочие:
– Так вы ж не выбранные.
– А есть и выбранные, от рот!
А через двери опять кричат, зарьялись:
– А слыхали приказ Родзянки? – в казармах запирать?
В ка-зармах запирать? Завертелись неузданные, буркалы выпученные:
– Ка-ак? Где-е-е?
Да може сейчас нашу казарму уже запирают – а мы тут зря горло дерём? Да там же и кухня, при казарме!
А этот лысый чернобородатенький на столе, в расстёгнутом спинжаке, аж пляшет, такой радый от солдатского зла. И на высоком голосе выносит:
– Товарищи! Открываем заседание Совета рабочих и солдатских депутатов. Нам надо срочно обсудить самые важные вопросы. Первое: как мы относимся к тем офицерам, которые не участвовали с нами в восстании, а теперь возвращаются в части? Не нам отдавать офицерам оружие – а допускать ли до оружия самих офицеров?
– Угу-у-у! – загудела солдатская толчея. Эти тут понимают дело, нас не предадут.
– И кому теперь вообще подчиняются солдаты? Ясно, что не офицерам. Ясно, что подчиняются Совету рабочих и солдатских депутатов. А как нам относиться к Военной комиссии? В ответственный момент мы не видели в ней офицеров и представителей буржуазии. А теперь там собрались полковники, а солдат нет, а без них решать невозможно.
– Разогна-а-ать! – кричат ему. Только вот из толкучки не выскочишь, а то бежать прям’щас, раздавить ихнее гнездо.
Тогда этот лысый, товарищ Соколов, другую возжу потянул:
– Однако во главе её стоит полковник Энгельгардт, участник Японской войны и наибольший знаток военного дела.
– Ну, пущай стоит, – сразу отошли и солдаты.
– Это всё только может решить наше собрание авторитетным голосованием. Если возникнет конфликт – придётся заявить, что Военная комиссия переходит в руки Совета. Благословите усилить авторитет демократических сил. Но пока мы не сломили окончательно врага, надо умерять возникающие столкновения с буржуазией. А теперь слово имеет товарищ Максим!
А и Максим уже там рядом, тоже поворотистый, грамотный:
– Поскольку Комитет Государственной Думы угрожающе себя ведёт по отношению к революционному войску – предложить: чтобы товарищи солдаты не выдавали оружия ни единому офицеру! Офицер нужен только на фронте. Офицер пусть командует только строем. А строй кончился – и офицер такой же равноправный гражданин, как и все. А оружия им – не выдавать.
У кого голос дюж и рост удался, тот с места трубит:
– Так! В строю без них не подравняться, не повернуться, это никакой команды не будет. А из фронта вышагнул – всё, в ровнях.
А другие сумлеваются:
– Совсем без офицерей нельзя, ить пропадём, братцы.
– И тоже это не офицер, без оружия. И тоже-ть мы будем стадо негодное.
– А честь – отдавать? Аль не отдавать?
– Не-ет! – кричит один, раздирается. – Пущай теперь они нам первые честь отдают!
А надо, учат со стола, избирать солдатские ротные комитеты, и всё оружие под его контролем. Кто ни вылезет —
– Товарищи!..
Теперь – послед такой, все «товарищи».
И опять тот вольнопёр Финляндского, имя ему Линдя, а сам обезумелый какой-то, руками махает, глотку рвёт до последнего:
– Купец Гучков призывает солдат «забыть старые счёты». Так осёл будет тот, кто забудет старое!
– Вер-р-рна!
– Кто из офицеров в революции не участвовал – тех вообще в казарму не принимать, не допускать! Вместо них – выбирать других! А о полноте прежней офицерской власти и не может быть речи!
Похлопали. Тоже теперь послед такой – в ладошки хлопать. Тут семёновец на стол взлез:
– Товарищи! Пока мы тут друг дружке рёбра мнём – а недалёко, в другой комнате, заседает и та самая Военная комиссия. И куют супротив нас заговор. Как нас тут захватить и обезоружить.
Заколотились в толпе: ну бы, правда, выбраться туда! Но Соколов помахивает льготно: мол, не надо:
– Уже мы постановили, товарищи: никакая воинская часть не подчинится Военной комиссии, если её приказ разойдётся с постановлением Совета рабочих депутатов. И введём в Военную комиссию солдат.
А землячок один – с подоконника, стоя:
– Не-ет! Нехай теперь офицером будет только тот, кого рота назначит. А кого не назначит – тот становись на левый фланг.
– Нра-авно! – кричат ему.
– А с погонами как?
Разливается слобода, удержу ей нет. Кричат:
– И погоны уравнять!
– Тогда и без благородий!
– А что по частным квартирам живут – это нешто равенство? Так мы равенства николи не добьёмся. Пусть в казармах, с нами уместя́х.
– А где такие койки найдутся?
– А на нарах!
– Не-е, братцы! Всё ж офицеру поблажку надо дать. У его воспитания нежная, и вся тело.
– Да как же нам без офицерóв? А на войне?
– А на что война? На позицию нас гонят, чтоб немец наши силы поразредил.
– Не, чего, на позицию мы не прочь.
– А войну может до того времени прикончат.
– Кто это?..
Разбрелись головы, рази ж нам сговориться? Одни одно кричат, другие совсем другое.
Только Соколов, на столе, – не охрип, не унывает:
– Товарищи! Давайте поручим Исполнительному Комитету доработать и записать все эти ваши предложения насчёт офицеров.
– А там у вас наших солдат тоже-ть нету!
– Так давайте, братцы, наших солдат туда к им пропихнём!
Предстоятель не согласен:
– Нет, товарищи, это неудобно. Поскольку ещё не делегированы солдатские депутаты от рот. И здесь не все уполномочены…
– Пол-номочены! Как муницию тягать, так полномочены!
Верть-верть, юрь-юрь, на свою заднюю дверь оглядается – помощи нет.
– Ну хорошо, товарищи. Давайте выберем – временно, на три дня. Трёх человек.
Заорали:
– Пятерых!
– Десятерых!
И стали тут же руки подымать. А – кого выбирать? Это ж не своя рота, никто никого не знает. Кого слышали, видели, кто громче орал – вот тех. Вот – Линдю этого. Матроса одного. И Максима туда? Так он же не наш, не солдат.
Да и выбирали не счётом рук, их тут как сучьев в лесу, а тоже – криком.
Долго.
А товарищ Максим тем временем с готовой бумагой:
– Вот есть, товарищи, проект воззвания к гарнизону… Офицерам оружия не выдавать, а передать его в ведение батальонных комитетов. В состав Военной комиссии делегировать солдатских депутатов… Исполнительному Комитету, в соответствии с высказанными мнениями, издать обращение и разослать частям гарнизона…
И Соколов забрал десяток депутатов и пошли они в заднюю комнату.
А тут – не стало просторней, как и было – внабой. Но и расходиться не в пору: ещё не каждый выразил, и не про всё. Нам эта беседа сейчас сытее каши.
260
Капитан Нелидов вернулся в батальон. – Разорение.
Утром довезли капитана Нелидова в ломовых санях и закутанного в обиходный сторожевой тулуп к воротам Московского батальона, тут он вылез, распахнулся и снова стал в офицерской шинели и при шашке. Подъехали по Лесному – и первое, что увидел с болью: проломленные, сорванные ворота.
Думали приехать в темноте, но извозчик завозился, и вот уже не только все были давно на ногах, но с плаца виднелся как бы выстроенный батальон.
Нелидов ждал, что у самых ворот его и задержат. Но никаких часовых не было, похромал дальше свободно.
Да, батальон как будто выстроен был или строился поротно, но и притом же многие солдаты шлялись по плацу во все стороны – или ещё не стали в строй, или уже вышли из него. А мелькали и чёрные фигуры рабочих, как будто здесь им и обитание. А капитан Яковлев верхом на лошади пытался строить батальон или ожидал конца построения. Офицеров при строе было видно мало – несколько молодых прапорщиков.
Опираясь на палочку, Нелидов стал пересекать плац к Яковлеву. Тот заметил, подъехал навстречу и, склонясь с коня, объяснил, что тут произошли выборы командиров. Он, Яковлев, выбран командиром батальона, 1-й ротой – выбрали всего лишь подпрапорщика, а 2-й и 4-й ротой утвердили Нелидова и Фергена. А час назад прибыл какой-то неизвестный прапорщик с бумагой из Государственной Думы, препоручающей ему вести наш батальон непременно к Думе, зачем-то обязательно приветствовать. В батальоне всё разорено, расстроено, не до радостных шествий, да и солдаты не все хотят идти, – но есть такой приказ, приходится подчиняться. Однако Яковлев не может отдать батальон пришельцу и решил вести его сам.
В груди так всё и повернулось: кого приветствовать? с чем приветствовать? И что это за порядок: капитан Нелидов и состоял командиром 2-й роты, зачем же его ещё выбирать?
Нелидов пошагал к своей роте. Тут навстречу ему вышло из строя несколько солдат, не спрашивая разрешения выйти или обратиться, и объявили, что рота выбрала его своим новым командиром. И сказано это было не оскорбительно, но дружелюбно, как бы наградно. Среди них мелькали и его виноватые унтеры, которые были позавчера в клинике.
Рота стояла нестройно, галдела – и оттуда тоже выкрикивали капитану, что они его выбрали, верят ему и он должен их вести к Государственной Думе.
А на многих были – безобразные красные лоскуты, невозможно смотреть.
Нелидов ещё весь был сжатый от вчерашнего заточения в клетушке – и вдруг вот расширился на весь этот разбродный плац, а теперь ещё и комедия шествия к Думе? Не успевала равновесить ни грудь, ни голова.
– Как же я, ребята, пойду так далеко? – ответил Нелидов, показывая роте на свою палочку. – Вы же знаете, у меня одна нога не действует.
Рота загалдела разноречиво. И побороло:
– Мы вам лошадь оседлаем!
На лошади он ехать, конечно, мог, но не признался:
– Нет, ребята, с лошади я свалюсь. Идите уж без меня.
Согласились. И скоро их шаткая колонна стала выходить на Сампсоньевский, и Яковлев впереди верхом.
Опустел плац, сильно поредело в казармах.
Только тут сообразил Нелидов: где же Ферген, если он выбран 4-й ротой? И где Дуброва?
В офицерском флигеле, рядом с собранием, была квартира Нелидова. Но прежде чем туда, вошёл он в собрание, уже снаружи видя, что была тут стрельба изрядная.
Но что творилось внутри! Толпа мстительных чужих дикарей не могла наделать хуже. Не было ни одного уцелевшего портрета или уцелевшей картины, все изрезаны и исколоты, посрамлена и изгажена 106-летняя история полка. Хрустальные люстры побиты многими ударами каждая, и осколки на паркете. Вся мебель испорчена. На биллиарде сукно изорвали штыками, кии переломали, а все шары исчезли – разворовали, наверно. Духовые инструменты раздавлены, изогнуты, а барабаны прорваны. Полковой музей смешали в кучу мусора, исторические полковые предметы, мундиры бородинского времени, – всё растащено. Библиотека – рассыпана в книжные груды на полу.
Дурнило от такого поругания – как будто не русские, не дорога своя же слава.
Тут подошли к Нелидову трое полковых писарей. Сперва среди этого разгрома, медленно хрустя под подошвами разбитым и истолчённым, потом отведя в свою канцелярию, они рассказали ему много.
Как позавчера шёл бой за офицерское собрание. А этот весь перебив и погром был уже в ночь за тем. Били – солдаты 3-й роты и с ними многие рабочие.
Полковник Михайличенко? Как уехал ещё до восстания в штаб, так в батальон и не возвращался. Но оттуда ушёл всего-то в свою квартиру на Васильевском острове. Там его и схватили сегодня утром, куда-то повезли на грузовике.
Штабс-капитан Ферген? Он где-то здесь. Капитан Дуброва? Его хватил паралич, на носилках унесли в полковой лазарет. Но доктор не хотел его у себя оставить, тоже боялся – и перенесли его в детскую больницу, рядом с казармами. Но и там он не остался – перевезли в Выборгскую городскую больницу. Но и нашли его там: ворвалась толпа и поволокла прямо с кровати на улицу – плевали в него, издевались, били, собирались расстреливать. А подъехал какой-то автомобиль, спасли его, забрали в Государственную Думу.
Всё перевернулось, в голове кружилось.
А писари не без гордости рассказывали о своей стойкости: выбранному теперь батальонному комитету и от него приходившим уполномоченным не дали ни одной справки, не объяснили ни одного пути, как решать хозяйственные дела. Оттого-то за сутки солдаты хватились и сегодня стали своих же офицеров выбирать на прежние должности.
Да солдаты бы так не дурили, не бушевали, если б их не подбивали штатские с Выборгской стороны.
И опять в каком-то головокружении, потеряв всякую нить смысла, пошёл Нелидов бродить по собранскому разгрому, хрустя сапогами.
И увидел другого такого же печального, одиноко бродящего – штабс-капитана фон Фергена!
– Алексан Николаич!
Они не виделись с позавчерашнего утра, тёмного предрассветья, когда расходились со своими командами по разным местам Выборгской стороны. Всего с позавчера?..
Теперь встретились как в покойницкой.
Глаза Фергена смотрели напряжённо-остеклело, как потеряв самого близкого.
– А вас в Думу не заставляли идти?
Ферген неколебимо:
– Я им ответил: никуда не пойду и не буду вами командовать, пока вы не снимете красных тряпок и не примете настоящий строй.
– А они что?
– Заорали, рассердились. Я ушёл.
Стояли на осколках.
– А пойдёмте, Александр Николаич, ко мне, – вспомнил Нелидов, что и сам до своей квартиры никак не дойдёт. – Отдохнём, подумаем, что дальше.
Квартира Фергена была в городе.
Дошли до флигеля близ полковой церкви. Стучали – не сразу Лука открыл. Встретил с лицом заспанным. Стал оправдываться, что ночами спать не давали, приходили обыскивать. Но перед налётом солдат успел золотые, серебряные вещи и что поценней – упрятать в печку, нечего было им и брать. Если б и сегодня капитан не пришёл – он думал туда, к нему в укрытие, пробираться. Да Лука и правда предан.
В комнатах было нетоплено, Лука спал, хорошо укрывшись. Один миг, один миг – сейчас он и растопит и накормит. Доставал из золы подстаканник, ложки, чарки, кольцо – и вот уже растапливал, и дрова приятно потрескивали.
Сели офицеры, опустошённые, мрачные, друг против друга через пустой стол. Кто что пережил и знал за эти дни.
Ферген рассказывал, как третьи сутки по разным местам Выборгской стороны никем не сменяемые караулы московцев продолжают и сегодня стойко стоять, не уходят. А здесь в батальоне такие же солдаты – и…
Потянуло теплом по обеим комнатам.
А ещё и поевши горячего – вдруг почувствовали изнурчивую усталость. Ещё был день – едва за середину, и не сделали они сегодня ничего, – но как будто должайший, труднейший день их жизни подвалил к концу, они больше не выдерживали, устали самой душой.
И Нелидов сказал:
– Может, спать ляжем? А?
Не раздевались – только сняли сапоги, накрылись и заснули при белом свете.
261
Воротынцев в штабе Московского округа. – По Москве.
Тут же, в начале Остоженки, был и штаб Московского военного округа, и Воротынцев сразу отправился туда: там должны были всю ситуацию знать, и оттуда всё станет ясно. Правда, состав штаба сильно изменился от 14-го года, приятелей у него тут не осталось, но – знакомцы среди офицеров, да и толковые старшие писари.
Пошёл – лишь узнать, но пробыл там часа три – быстрей нельзя было собрать и осознать всю картину, да она всё время и менялась.
Впечатление было – ошеломляющее. Происходило нечто просто недостоверное – и в такие короткие сроки, что Воротынцеву не верилось вдвойне: как же он черезо всё это прошёл – и ни обломком не был задет. В воскресенье, когда из Петрограда уезжал, – совсем тихо. В понедельник в Москве – как будто покойно, ничего не заметил. А вторник…
Узнавая от штабных, что происходило в Москве вчера и что сегодня, Воротынцев, конечно, не открыл им, что сам-то здесь уже третий день, и что сам из Петрограда. Невозможно было признаться, что и там и здесь он всё пропустил.
Да в Москве вчера своих событий никаких особенных: ни столкновений, ни стрельбы, ни захватов зданий, ни арестов должностных лиц. И сегодня – работает водопровод, освещение, телефон, банки, торговые и присутственные места, всё обычным порядком, нет только трамваев и газет. Всё – только отзвук Петрограда и волнение ожидания. Но нетерпеливые студенты и курсистки начали стекаться на Воскресенскую площадь. Члены городской думы выходили к ним с речами. А потом потянулись и рабочие, обыватели, гуще толпа, потом и другие сходки по городу. Однако в самой думе кипели речи всё законной публики, не революционеров, а благомысленной части населения, – как ей запретить? И на улицах ни полиция, ни конная жандармерия нигде ничему не препятствовали, на всех заставах пропускали шествия с красными флагами. Близ думы топтался на конях жандармский эскадрон и не знал, что предпринять. Тогда почему же должны были действовать военные власти? Войска – были заведены в казармы и сидели там.
Как будто правильно.
Но вот что, студенты перелезли через забор Александровских казарм, прорвались в запасный пехотный полк, в школы прапорщиков – уговаривать солдат и юнкеров поддержать великие петроградские события, – и никто им не воспрепятствовал? И так же врывались агитаторы в Спасские казармы. Но и это не побудило штаб Округа ни к каким действиям! А вчера поздно вечером и прямо уже пришла сбродная команда приветствовать бунтующую думу – и всего-то измыслил за ночь Мрозовский свой приказ об осадном положении? – уже сегодня утром всем на смех, без военной силы его не установить.
От Мрозовского, невылазно сидевшего дома, всё же сведенья перетекали к его помощнику-генералу, и дальше через полковников – по штабу. Мрозовский – не хотел кровопролития и поэтому отказывался вообще от каких-либо действий войск! Начальник московского Охранного отделения Мартынов предлагал Мрозовскому объявить блокаду Петрограда как захваченного врагами отечества и из надёжных частей создать заслоны между столицами – но Мрозовский не мог на это решиться без указаний Верховного Главнокомандующего.
И вдруг ночью узналось, что Государь сам поехал в мятежную столицу – так вот, всё и решено, замечательно, он сам там и примет меры, зачем же блокировать Петроград? А тут пришёл слух, что Эверт движется с войсками на Москву, – так и замечательно, Эверт придёт – и порядок сам восстановится. И этой же ночью пришла телеграмма из Петрограда в городскую думу, что Челноков теперь будет не городской голова, но назначается комиссаром Москвы – страшное слово, оно парализует, а Мрозовский не хотел ссориться с новым начальством. А сегодня с утра пришла грозная телеграмма от Родзянки самому Мрозовскому: что никакая старая власть вообще больше не существует! – перешла к Комитету Государственной Думы под родзянковским председательством, и все петроградские войска признали новую власть, и Мрозовскому также приказано подчиниться, иначе на его голову возлагается вся ответственность за кровопролитие.
И действительно ополоумеешь.
И Мрозовский, видимо, затрепетал. И стал звонить новому комиссару Челнокову, умоляя его приехать поговорить. Однако Челноков не ехал.
Генерал-заместитель, сидевший в штабе, сам очень склонялся – признать реальность и подчиниться ей, и даже побыстрей подчиниться, пока новая власть представлена уважаемыми именитыми гражданами, а не перешла в безответственные руки крайних левых. И вся тыловая бледнота, какая заседала тут, в штабе, – ещё желательней подстраивалась к этой успокоительной позиции. По начальному часу обязательных занятий все прибыли в штаб – и были настроены тем более ни во что не вмешиваться сегодня, когда в Петрограде ещё более определилась и укрепилась новая власть, – зачем же конфронтировать ей? Обстановка деликатная.
Сила и слабость военной иерархии! Непобедимая сила, когда сверху твёрдая команда. И – раскислое тесто, когда сверху команды нет.
Ещё эта поездка Государя в Петроград… Что двинуло его из Ставки в такую минуту? Неужели – сам поехал навести порядок? Поездка лишняя, но эффектно: самому войти в гущу бунта!
Но нет, но нет. Он слишком кроток. Не может быть, чтоб он на это решился. Он – наверно поехал со всеми мириться, то на него скорей похоже.
А уж сегодня – сегодня Москва и вовсе бурлила шествиями, час от часу – вот пока Воротынцев бродил по штабу, подсаживаясь там и здесь. Говорили: мятежниками занято градоначальство, градоначальник сбежал, губернатор объявлен под домашним арестом! Полиция вовсе исчезла с улиц, и будто городовых сажают под арест, неизвестно чьим распоряжением. А толпы – приветствуют новую власть, которую никто ещё не видел и не понимает, – и при неотменённой старой…
А Мрозовский прятался у себя на квартире, будто его не касались события в этом городе и в этой стране. (Боже! и ведь бывали на этом посту какие решительные генералы, Малахов! почему сейчас так несчастно оказался Мрозовский, решительный только в грубости к низшим по чину?) А когда иные командиры частей просили разрешения действовать – из обезглавленного штаба им отвечали: повременить, как-нибудь обойтись пока. И войска Округа распадались на осколки, отдельные казармы, каждая из которых управлялась своим отдельным разумением. А из каких уже текли и струйки солдат с красными флагами к думе.
Да действовать же! действовать быстро и круто! Надежды штаба, что кто-то одумается или Эверт придёт выручать Москву, – это не военное: нельзя ждать, чтобы твой участок держали другие. В разгар войны разлагается и гибнет центральный гарнизон страны, вторая столица и центр транспортных путей, – по отношению к Действующей армии это прямая измена!
Но – кому действовать и как? Тут никто не намеревался. А – как Воротынцев мог вмешаться? в каком качестве? Его никто не звал – и никому тут он не мог себя предложить. Здесь штаб насыщен собой и не вмещает постороннего полковника. В Спасских казармах или Манеже – там тоже везде свои командиры, при чём какой-то чужой полковник? Сила армии в том, что каждый на своём месте, а дартаньяновская шпага никому не нужна.
Ещё было своё родное Александровское училище, звонил туда знакомому преподавателю – тот отвечал, что училищем принята задача: сохранить своих юнкеров от касательства этих событий.
Вот оказался Воротынцев: как будто у самого места, в разгар событий – и никому не нужен.
Да и правда, раздуматься: как действовать? Как можно действовать войску против миролюбивой толпы, когда никто не стреляет, все только радуются, и какая-то пехота тоже там радуется. Какими силами и средствами кто бы взялся сейчас разогнать эту радостную толпу по местам её жительства и работ? Никто не обнажает даже холодного оружия, никакого сражения нет.
А может быть, всё и обойдётся спокойно само?
Тут – все кинулись к окнам на Пречистенку. И Воротынцев за ними. И увидел: с Волхонки на Пречистенку медленно переезжал большой отряд жандармов, чуть не дивизион? в полной парадной форме, в полном порядке, – но ничего не предпринимали, уезжали куда-то из центра прочь.
С тротуаров, с бульвара им улюлюкали – но не трогали.
Покинули Манеж? Так в центре вовсе не осталось полицейских сил.
А между тем подошло время перерыва занятий – и штаб спокойно расходился на полуденный завтрак. Надо было и Воротынцеву уходить.
Но – куда же?
Да куда же, к себе, в Девятую армию?..
Ему нужно было ещё время для соображения. Он не мог ничего предпринять – но и уехать теперь уже не мог.
Вышел – и просто пошёл в недоумении, как будто тоже хотел присоединиться ко всеобщему ошалелому ликованию. Пошёл – по Волхонке.
И погода была, как для всеобщего гуляния, наилучшая: солнечный день, лёгкий морозец (в тени зданий и покрепче).
На крышах трамвайных станций – красные флаги.
Но не было ни трамваев, ни извозчиков. Иногда тянул ломовой на санях, а на нём – компания в складчину, кто и стоя. А то ехал перегруженный грузовой автомобиль, а в нём – натолпленные солдаты с винтовками, студенты, реалисты, гимназисты, и машут публике красным. И они – «ура!», и им с улицы – «ура!».
Но – народом! народом были залиты улицы, и по мостовым, да больше всего по ним! Зимой тротуары дворниками чистятся, а мостовые нет, оттого они намащиваются выше тротуаров, и блестяще накатаны санями, белые, когда не порчены грузовиками. И теперь-то все валили по этой мостовой полосе, оттапливая снег и измешивая с грязью. То разрозненная, то густая толпа, будто весело расходясь после какого-то сборища. Вся Москва на улицах! – и барыньки в мехах, и прислуга в платках, и мастеровые, и солдаты, и офицеры. Так дико видеть солдат с винтовками, а без строя, прогулочной розвалью, а кто и с красным на груди. Большинство отдавали офицерам честь, а иные как бы забыли. Но неуместно было остановить и призвать. Хотя каждый, не отдавший честь, – как будто ударил, такое чувство.
А то идут: солдат и студент обнявшись, у солдата – красный флаг, у студента – ружьё.
А какой-то штатский – ошалело нараспашку, болтается шарф.
И на всех лицах – радость пасхальная, умилённые улыбки – и ни у кого угрозы. Если действовать вооружённой частью – то против кого?..
Воротынцев, с малым чемоданчиком в левой руке, держался больше тротуара.
Всего странней было встречаться с офицерами: они так безупречно отдавали честь и так спокойно миновали, как будто ничего особенного не происходило вокруг. И оттого выглядело, будто офицеры – соучастники происходящего.
И от этого офицерского равнодушия при нагуленной радости толпы Воротынцев испытал ещё новый толчок проснуться: да что ж это происходит? Что за всеобщий морок, обаяние, измена? Почему никто не противодействует, никто не безпокоится?
Но – и мятежа ведь нет никакого! Никто никому не перегораживает дороги, а просто гуляет вся Москва!? А – после чего веселье? Никакой скорби не было заметно накануне.
Все обыватели и прислуга – просто валили поглазеть, что деется. Там – мальчишка лезет на чугунный трамвайный столб. Тут на заборчике детвора поменьше уселась рядком и лупится.
А ещё заметно, что заговаривают, знакомятся – незнакомые, и что-то радостное друг другу, и поздравляют? и даже обнимаются, даже целуются. (Это – публика, получше одетая, она больше всех и рада.)
Не понимая ни пути, ни задачи, пошёл Воротынцев по Моховой. Тут публика густилась ещё тесней, появилось много студентов, курсисток. Эти были особенно оживлены, сверкали зубами, хохотали, и около университета строились в колонну.
На стене висел лист, отпечатанный на ремингтоне. Около него – кучка, читали. Подошёл и Воротынцев, достоялся, прочёл. Арестован Щегловитов. Арестами врагов отечества заведует Керенский. (Такого не слышал.) Военное ведомство поручено полковнику Энгельгардту. (Это ещё кто такой? что за чушь?)
А из Манежа свободно выходили и входили бездельные солдаты, офицеров не видно, и понятно стало, что Манеж уже не сопротивляется.
Конечно, если из Ставки пошлют войска на обе столицы – всё это московское гулянье и петроградское самозваное правительство сдует как ветром. Да может уже и посланы? Но Государь зачем-то поехал в Петроград? – бросил мощную Ставку и поехал в плен к родзянковскому правительству?
Нет, в голове что-то недорабатывало. Мимо Манежа толпа густо текла к Воскресенской площади. Воротынцев знал, что там – центр и все туда собираются. И тоже свернул, тротуаром, еле пробираясь в тесноте. А спереди сюда, к Александровскому скверу, доносилось особенное гудение площади. Отсюда начиналась едва не сплошная масса. А тут ещё, позади Манежа, подвалило большое чёрное шествие рабочих, тоже конечно с красными флагами. Они шли, взявшись в шеренгах об руку, – это производило впечатление силы. И через толпу они проникали уверенно. И – длинно, какой-то целый завод.
И что-то не захотелось Воротынцеву идти к городской Думе.
По Моховой прошёл до Тверской – и здесь не миновало его увидеть шествие пехоты, батальон: спускались по Тверской с оркестром, с полковым флагом и с большим красным полотнищем на древке, – гонко спускались, строй разляпистый, но держали ногу, и вот что: на своих местах шли и младшие офицеры – по счёту не все, а бодро, уверенно, даже весело выглядели.
Шествие этой оформленной воинской части более всего потрясло Воротынцева: армейская часть шла в строю приветствовать самозваную власть, когда и старая ведь никуда не делась!
Нет, это они без хозяина рассудили…
Но – как же назвать то, что делалось?
На Тверской на тротуарах толпилось столько зевак – и не пройдёшь. Поднимался Воротынцев по Тверской, выходя и на мостовую, с измешанным бурым снегом. Валила густо публика и вверх, и вниз.
Вдруг послышалось сильное странное тарахтенье и гул. Публика шарахнулась. Потом догадалась смотреть вверх. Вдоль Тверской – летел аэроплан! Все запрокидывали головы, всё останавливалось.
Летел низко, саженей сто, хорошо виден, то ещё снижаясь, то повышаясь. Ничего не разбрасывал, а на крыле нёс красный флажок…
И – туда же, к Воскресенской.
И ему с улицы кричали «ура» и шапки подбрасывали.
Зато следом ехал опять грузовик – с солдатами, рабочими, студентами – и разбрасывали направо и налево какие-то листовки. Прохожие хватали. Воротынцеву любопытно было бы прочесть, но не мог полковник нагнуться и поднять. Или просить у кого-нибудь.
И ещё прокатили вниз две трёхдюймовые пушки – этим толпа кричала особенно восторженно. Номера ходко шли рядом и помахивали.
Несколько штатских провели арестованного городового – рослого, с полицейским самоуверенным лицом.
С генерал-губернаторского дома тоже свисал красный флаг. Вот так-так. Суета подле него, автомобильная и санная, показывала, что новая власть занимала места.
А по ту сторону: на поднятой шашке Скобелева – торчала красная тряпка. У памятника возвышался оратор, на чём-то поставленный. Он не говорил, а выкрикивал – и сотни две любопытных густилось вокруг, и кричали ему одобрительно. (Разглядел Воротынцев, что кричит он с грузовика.)
А в Гнездниковский сворачивали – там было разгромлено Охранное отделение, любые заходили туда, оттуда выносили бумаги, читали, смеялись.
Пока дошёл Воротынцев до бульвара – встретил ещё новое: два студента на двух палках несли какой-то фанерный щит, а на нём наспех, неровными буквами, с подтекшей краснотой: «Да здравствует демократическая республика!»
И после этого показалось Воротынцеву, что он уже перевидал сегодня всё мыслимое. И больше нечего ему ходить смотреть, больше нечего делать в Москве.
Но он ошибся.
Памятник Пушкину у начала Тверского бульвара был приметно ощетинен. Одна палка с красным долгим вымпелом торчала от плеча его – и вверх, высоко. Другая – по согнутому правому локтю – и вперёд. Ещё два флага выдвигались из низа постамента. Сам поэт был перепоясан по плечу наискось красной лентой. А на постамент спереди прикреплена сплошная красная бязь, и на ней довольно тщательно выведено белыми буквами:
Товарищ, верь, взойдёт она,
Заря пленительного счастья!
Вокруг цепной обвески памятника стояли где дамы, где купеческого вида старики, старушки с обвязью платков поверх меховых шапок. Несколько солдат, несколько – типа прислуги.
Эти – глядели. И через цепи, на ту сторону, лускали семячки на снег.
* * *
...
Москва замуж идёт! – Питер женится!
* * *
262
Кутепов в Таврическом. – Афины.
На подъезде к Таврическому шествия с параллельных улиц втискивались в Шпалерную, а с тротуаров махали им и кричали. Кутепов поглядывал с омерзением. Стоял будний день, среда, третья неделя поста, 32-й месяц войны, на фронте сидели в собачьих норах, сторожили врага, ходы сообщения заметало снегом, и в них проносили стынущие котелки, Россия воевала, закопанная в землю, а эта столичная развратная шваль ликовала от того, что перебили полицейских и можно безобразить, пить и грабить.
В сквере перед Таврическим была уже неописуемая давка, круговорот, и солдаты хотя большей частью с винтовками, но так расхлябаны и во все стороны повёрнуты, что производили впечатление согнанных военнопленных.
Однако Кутепов с Холодовским крепко, очень уверенно шли – и проложили путь ко входу.
В вестибюле Кутепов сразу узнал ящики винтовочные и с несобранными пулемётами. А в следующих залах густилось ещё непробиваемей и безсмысленней: опять то же изобилие потерянных людей, развёрнутых в разные стороны, а над толпою кой-где фигурки размахивающих ораторов и красное.
Но возмущали Кутепова даже не весь этот отвратительный вид загаженного дворца, красные подделки флагов, когда российское государство имеет свои знамёна, – а как будто уже признанное право солдат не отдавать чести. Никто не проявил к полковнику и капитану враждебности, не сказал дерзкого слова – но скользили по ним равнодушными взглядами, как по равным. И вот это наглое равнодушие больше всего глушило Кутепова, как если б рухались колонны залов. Если нет почитания офицеров – то нет армии. Сколько он жил, сколько служил – на этом всё держалось.
У многих дверей стояли часовые – юнкера или преображенцы! Спрашивали пропуска. У Кутепова никто не смел требовать – и он свободно входил, куда хотел, но так же быстро и выходил, не находя искомого военного штаба.
В одной просторной комнате со столами под бархатом он застал как бы заседание, но безпорядочное, без правил, а собеседование общее – человек сорок прилично одетых людей, без пальто, в сюртуках, в галстуках, может быть членов Думы, может быть общественных деятелей, и среди них несколько офицеров, они сидели в креслах, на стульях, тоже довольно в разные стороны, и обсуждали не в единый голос – что же?.. На Кутепова с Холодовским не обращали внимания, они постояли и вслушались.
Спорили вот о чём: что лучше – монархия или республика? В России сейчас – но и вообще в мире всегда. И вспоминали Афины, Рим, Карла Великого, и конечно Францию, Францию, в разные её столетия и десятилетия.
Кутепов стоял и молча слушал. Слушал – и наливался гневом. И почувствовал, что уже не может уйти смолчав. Но и публичной речи – да ещё перед такими слушателями, он не произносил никогда в жизни.
И вдруг, пренебрегая очередным оратором, перебивая его, выступил военным шагом на пространство, всем видное впереди, и повелительным басом сказал:
– Господа! Стыдитесь устраивать диспут, когда гибнет государство! Что вам Афины, если в вашей квартире пьяные солдаты с обыском? Я удивляюсь вашим пустым разговорам в такое время. Столица – в разорении. В самом вашем дворце – базар. Говорить надо о том, как навести порядок и спасти положение. Если этого не сделать сегодня же, сейчас – то потом будет поздно. И толпа сотрёт вас всех с вашими Афинами – с лица земли.
От удивления – все слушали. Но подкатило Кутепову к горлу, что – не стоит дальше говорить, ни к чему он их не склонит, это совсем безнадёжно. И остаться слушать, что они ему ответят, – так же безполезно.
И он – повернулся круто, зашагал военным шагом, пропустил вперёд Холодовского и сильно хлопнул за собой дверью.
Стали опять пробиваться – и в коридоре натолкнулись на полковника Энгельгардта.
Это был довольно слабый когда-то академист, из гвардейских улан, зачем-то протаскиваемый через высшее ученье, затем рано ушёл в отставку и в сельское хозяйство, и хорошо сделал. Но избрался в Государственную Думу, а вот теперь по революционным дням опять напялил мундир полковника? – и неважно в нём держался.
Обменялись рукопожатием, и Кутепов сразу спросил, какие меры наметил полковник принять для водворения порядка. Тот ответил, что за Петроград он больше не отвечает, градоначальником города Петрограда только что назначен доктор медицины Юревич, который и наведёт все порядки.
– Кто? – не мог Кутепов поверить, что доктор медицины.
Но именно так. Профессор Военно-медицинской Академии.
Посмотрел на него Кутепов как на безумного. Но всё же попробовал дать совет: в запасных батальонах (он это почерпнул, приехав) есть солдаты, которые последний год постоянно дежурили вместе с городовыми на остановках трамваев, на перекрестках, имеют опыт наведения уличного порядка. Надо сейчас их всех разыскать, надеть им комендантские повязки, поставить на знакомые обязанности. И толпа сразу почувствует, что на улице есть власть.
Энгельгардт вспыхнул румянцем:
– Прошу меня не учить!
Кутепов посмотрел на него сверху:
– Да я не то что учить, я даже разговаривать с вами не желаю. Но помните, что никакие доктора вас не спасут.
Повернулись с Холодовским – и пошли. Наружу, прочь.
На крыльце они встретили толпу, несущую на руках тяжёлого Родзянку в окружении красных флагов.
Разбередился Кутепов и решил, что отпуск свой обрывает и уезжает в полк.
263
Поезд генерала Иванова ползёт. – Встречные солдаты-беглецы.
Кто долго служил в армии или кто знает народную жизнь и перенял её мудрость, тот и знает, что во всяком угрожаемом и неясном положении, когда требуют от тебя невозможного, – не надо отрубать нетом, даже не противиться открыто.
Не мог Иудович напрямую отречься перед Государем, не мог поколебать его милостивое к себе доверие, распахнуться простецки, мол увольте, Ваше Величество, ослаб, не могу, совсем я не тот герой, какого вы во мне видите, – не мог увидеть разочарование в глазах Государя, да не мог покачнуть своего почётного генерал-адъютантского положения, без которого как же дальше ему жить? Ещё, может быть, он будет переназначаться на высокий пост?
Да вот и назначался – диктатором.
Не принять такого поручения, не ехать на Петроград, спасать родину, – Николай Иудович никак не мог. Но в его возможностях оставалась оттяжка.
Уж он собирал свой батальон, и уговаривался со Ставкой, и разведывал петроградскую обстановку – как мог долго. Уж ехал поздно – а поехал ещё поздней. А прицепивши наконец свой обжитой вагон-дом к поезду георгиевских кавалеров – он и в пути не метал громов на естественные задержки, не требовал к себе на разнос начальников станций и военных комендантов, а покорно подчинился всем замедлениям и сложностям железнодорожного передвижения, как мужик со своею работою пережидает ненастье. Вчера в семь вечера проехали Витебск – да и завалился Николай Иудович спать, на своей привычной мягкой постели, в своём обиходливом, прилаженном вагоне. Неизвестно, какие безпокойства и опасности ждали его на следующий день, а пока, в ближайшие часы, выгодность его положения была, что ни с кем он не имел связи и никому не давал отчёта.
И ночь прошла очень спокойно. А сегодня утром ждал диктатора тот приятный сюрприз, что за ночь вместо четырёхсот вёрст проехали только двести и находились всего лишь на станции Дно. Это давало большую надежду ещё и весь день 1 марта никуда не доехать, не вступить в дело. А за этот день в Петрограде всё и без него должно прийти к какому-то концу. Иудович очень приободрился.
А тут представили ему едущего через Петроград из отпуска командира пехотного Дагестанского полка барона Радена. И что, порассказал барон, творится в Петрограде – онемеешь: мечутся толпы распущенных пьяных солдат, отбирают у офицеров оружие, не глядя на чин и боевые заслуги. И приставляют дула к голове. И стреляют на улицах запросто, как разговаривают.
Так много и живописно этот полковник рассказал, – распорядился генерал-адъютант, чтобы полковник тотчас написал подробный доклад на имя начальника штаба Верховного.
Пусть Алексеев почитает и поймёт, каково там, в Петрограде.
А тем временем поднесли Николаю Иудовичу сильно запоздавшую телеграмму из Ставки: что ещё вчера в полдень остававшиеся верными части должны были покинуть Адмиралтейство, чтобы не подвергнуть разгрому здание. Части эти распущены по казармам, а ружья, пулемёты и замки орудий сданы морскому министерству.
Вот так.
Да и слава Богу, всё кончилось без лишнего кровопролития.
Теперь ясно, что с батальоном нечего на Петроград и соваться. Приедешь туда командовать всеми войсками Округа – а тебе просто приставят дуло к голове, как этому барону.
Там небось и пулемёты уже приготовили ко встрече.
Но другая телеграмма подтверждала, что на помощь диктатору идут войска, посланные с Северного фронта и даже ещё подкреплённые.
Но можно было надеяться, что сегодня они никак не прибудут, самое раннее – завтра. А до завтра ещё, Бог поможет, как-нибудь распутается само.
Однако и прекратить движение к Царскому Селу – тоже невозможно.
Ещё хорошо, что царские поезда ходят теперь кружным путём, по Николаевской дороге. Очень было бы неловко Иудовичу по той же дороге от них отставать или на какой станции ещё встречаться с Государем.
Двинулись потихонечку дальше.
Тут на станциях от комендантов и железнодорожной жандармерии стали поступать жалобы, что по этой ветке в поездах из Петрограда едет множество солдат вне своих частей, неизвестно куда и зачем, многие пьяные. И на станциях впереди – отбирают у офицеров и у станционных жандармов оружие и производят разные насилия.
Волей-неволею приходилось уже вступать в действие. Вёз диктатор с собою грозное право военно-полевого суда – и мог бы тут же на станциях вершить суд и расстреливать. Но он никак бы не хотел этих жестоких крайностей, а надеялся усмирять по-отечески, что и приведёт к общему успокоению, хотя и задержит экспедицию в пути.
На следующих станциях велел генералу Пожарскому осматривать встречные поезда. Да и сам со своею мининской бородой толкнулся в один вагон, надеясь всех сразить и на колени поставить, – но в проходе даже пройти было нельзя, всё забито безбилетными и странной какой-то публикой: многие в штатском, и все молодые мужчины. Тут из пассажиров надоумили генерала: это в Петрограде грабили магазины одежды, вот солдаты переоделись и теперь разъезжаются по домам, зачем им в частях оставаться?..
И ушёл генерал-адъютант из того вагона, так ничего и не предприняв.
А дальше приходили навстречу поезда с выбитыми стёклами, давка на площадках, всё забито солдатьём. Стали георгиевские патрули ходить по вагонам – стали пассажиры, где женщины, где старики, показывать, какие солдаты-забияки отбирали офицерское оружие. Тех забияк стали арестовывать в свой эшелон, а оружия офицерского отобрали назад до ста экземпляров.
Тут, выскакивая из вагона, на самого генерал-адъютанта нашибнулся солдат с тремя шашками – две в руках, одна на боку и ещё винтовка за плечами. Генерал размахнутую шашку успел отвести, а солдат успел укусить его в руку. Этого бы негодяя тут же коротко судить и расстрелять. Но не хотелось масла в огонь подливать, и без того опасная обстановка.
Обстановка – теперь видно в Петрограде какая.
Да если сплошь порядок наводить, то и двигаться вперёд не надо, только встречай эшелоны. Но Николай Иудович не забывал о боевой задаче – и поезд их продвигался. К сумеркам прибыли в Вырицу.
Тут узналось, что в Царском Селе ещё вчера произошли безпорядки, войска вышли из повиновения – и там теперь мятеж.
Вот так тáк: и царская семья, значит, в плену? Ай-ай-ай, ай-ай-ай! Государыня императрица! И сам наследник!
Но если и Царское Село уже в их руках – то как же двигаться дальше генералу Иванову?
Да донесли Николаю Иудовичу, что и Пожарский ещё в Могилёве говорил офицерам, что стрелять в народ не даст, даже если Иванов ему велит.
Так тем более надо быть теперь осмотрительным.
Но и не продвигаться к Царскому Селу тоже нельзя: ведь полки собираются на той линии.
Распорядился Николай Иудович: сзади к своему составу прицепить другой паровоз, головой назад, чтобы в любую минуту можно было дать задний ход.
С величайшей осторожностью – двинулись.
264
Генерал Беляев скрывается. – Превратиться в обывателя!
И куда же было деть себя военному министру, теперь уже очевидно бывшему, но всё ещё не арестованному, а значит вынужденному принимать решения и распоряжаться своим телом? Вчера вместе с генералом Занкевичем вовремя ретировавшись из Адмиралтейства от гиблого хабаловского отряда, генерал Беляев этим намного продлил своё свободное существование.
Вчера же в Главном Штабе первые часы он ещё сидел у прямого провода, слал донесения в Ставку, отвечал на её вопросы, принимал её поручения, всё ещё надеясь на её силу и её спасительное вмешательство. Во второй половине дня приходили даже полные отчёты о движении войск на Петроград – но из медленности его стало ясно, что если Ставка и придёт спасти столицу, то для жизни Михаила Алексеевича Беляева уже будет поздно. (И около самого Главного Штаба так близко и гулко стреляли из пулемёта!)
Какая удивительно быстрая, удачная, завидная карьера – и погибала!.. (Два месяца назад тоже был критический момент: потерял пост при румынском короле и уже в отчаяньи ехал принимать дивизию – как Государь вызвал телеграммой в Петроград и назначил министром.)
И хорошо Занкевичу: он в Главном Штабе на своей службе, он может тут и дальше оставаться, он не был прямо связан с прежним правительством, и его несчастное участие последние сутки в действиях хабаловского отряда вообще могло утаиться. Он был нейтральный военный специалист, который мог теперь хоть и вступать в переговоры с новыми властями.
И хорошо было морскому министру Григоровичу. Хотя и на посту вполне аналогичном беляевскому, он пользовался симпатиями Думы, даже срывал там аплодисменты, а вот весьма кстати заболел, вовсе не участвовал в последних действиях правительства, а вот сумел и отказать в гостеприимстве хабаловскому отряду. Всё это настолько укрепило его положение, что (Беляев с ним всё время сносился по телефону, ища решения для себя) адмирал Григорович просто позвонил в Думу и попросил прислать себе охрану! И ему прислали!
Беляев был человек одинокий, неженатый (всегда преданный только службе, её приказам, циркулярам и предписаниям) – и это облегчало бы задачу его личного спасения, – если бы он имел такую хорошую общественную репутацию, как Григорович. Увы, нет. От Нового года, перейдя с безупречных нейтральных должностей в военные министры, он опасно связал своё имя с этим последним обречённым кабинетом, а ещё, по должности своей ответственный за военную цензуру, – отвечал тут и за цензурирование некоторых думских речей. Ужасное положение, ужасная ошибка! И кого и чем теперь убедишь, что всё его назначение и продвижение произошло не по какой-то его особой преданности императору, а просто за то, что он говорил на иностранных языках и имел опыт поездок за границу, что было важно в целях военного снабжения. (Ну, ещё перевёл сына Распутина из сибирского полка санитаром в Петергоф, и очень угодил императрице.)
Но так или иначе, всю вторую половину дня вчера его видели в Главном Штабе, это известие уже конечно потекло, и оставаться тут на ночь даже в квартире какого-нибудь генерала было опасно. (Так и оказалось потом: ночью приходили в Главный Штаб его арестовывать, искали.)
Куда ж идти? Или на частную свою квартиру на Николаевской улице – но это далеко и опасно; или рискнуть, хотя казалось безумием, возвратиться в свою казённую квартиру на Мойке, в довмин, откуда он бежал прошлой ночью при стрельбе?
Так и поступил, и это оказалось счастливо. Странности революции: в самом центре известная квартира военного министра – и никто её не громил, только угнали автомобиль. Даже продолжал действовать прямой провод со Ставкой, и можно было разговаривать с Алексеевым. Но, разумеется, Беляев не только не сделал такой попытки, а велел секретарю при вызове отвечать, что никого нет.
Разгрома не было, но он мог нагрянуть – и Беляев решил использовать своё возвращение, чтобы жечь и жечь как можно больше документов. Он мобилизовал и секретаря с помощником, и денщика, и швейцара, – и жгли документы сразу в двух печах и в камине. Тут были и дела военного министерства, и Особого Совещания по обороне, и Совещания по снабжению армии и флота, многие материалы без копий, в единственном экземпляре, многие секретные, и секретные перечневые журналы, и сами секретные шифры, и переговорные ленты со Ставкой, и материалы недавней союзной конференции в Петрограде, – в общем, очень много бумаг, – и Беляев, всегда так любивший самую фактуру бумаг, саму их глянцевость, и шорох, и чернильные петли на них, теперь и сам тоже заталкивал их в огонь с остервенением и облегчением, как бы освобождаясь от позорной связи с этим правительством. Чем больше налохмачивалось этой сажи – тем он чувствовал себя белей.
И так жгли до двух часов ночи – и никто не нагрянул. И уже стало так поздно, что можно было надеяться на покойный сон.
Но утром позвонила родственница и сообщила ему горестную новость, что громят и грабят его частную квартиру на Николаевской. Ужасное терзающее состояние: знать, что грабят твою квартиру, и не мочь вмешаться!
Опять он по телефону советовался с Григоровичем. Тот благополучно отсиживался под охраной в морском штабе – и ему советовал для безопасности всё-таки переходить в Главный. Это было верно! – тем более, что и на Мойке против ворот собирался, кажется, подозрительный народ. А днём в Главном Штабе – не схватят.
Надев попроще шинель без погонов, нахлобучив большую фуражку, Беляев через чёрный ход и другой двор ушёл – незаметный, маленький, ещё съёженный, никем не узнанный, – и по Морской быстро достиг Главного Штаба.
А там он ощутил себя уже гораздо смелей и рассудил так: он – никакой не преступник перед новой властью, он – честнейший человек, но ошельмован в ходе общей политической кампании. Во время войны он выполнял колоссальную работу на пользу родины, и это должно быть ему зачтено. Ему – 54 года, и он подлежит увольнению со службы с большой пенсией. Он даже очень охотно отрясёт от себя прах власти – и как бы хотел теперь начать жизнь частного человека! Если нужно – он может дать подписку о невыезде. Но надо просить охрану себе и спасать квартиру на Николаевской.
И с таким настроением, с этими мыслями он сел после трёх часов дня за телефон и стал дозваниваться в Государственную Думу, до какого-нибудь ответственного лица. Подошёл Некрасов.
– Я бывший военный министр Беляев. Я никаких препятствий вам не чинил и не буду чинить. Дайте только возможность мне поскорей превратиться в частного обывателя. И защитите меня самого и мою квартиру, которую громят… Я могу дать подписку о…
– Я вам советую, – ответил Некрасов, – как можно скорей самому отправиться в Петропавловскую крепость.
– Как? За что? Позвольте, я – честнейший…
– Там, в каземате, вы будете лучше всего и защищены.
Всё упало. Но ещё успел пискнуть безсердечному насмешнику:
– Тогда лучше арестуйте меня, пожалуйста, в Таврический дворец!
265
Днём в Петрограде (фрагменты).
* * *
Политехнический институт в Лесном. Над белым, как дворец, зданием – красный флаг. Вокруг толпа. Внутри у раздевалок уже нет больше служителей, не раздеваются, грязь по лестницам, коридорам. На дверях аудиторий надписи: «социал-демократическая фракция», «социал-революционная»…
* * *
Морской кадетский корпус на Васильевском острове извне казался мёртвым, все ворота и двери наглухо заперты, у окон никого. Толпа, однако, не уходила, шумела, угрожала. С той стороны ворот служитель узнал условия: корпус должен в полном составе, с офицерами и музыкой, пройти по городу и тем показать солидарность с революционным народом.
Условия приняли. Юнцы построились во дворе и вышли с музыкой. Толпа весело приветствовала.
* * *
Схватила толпа невзрачного полицейского писца, а он кричит: «Я соединился!» С народом, значит.
Отъехал от дома автомобиль с арестованным адмиралом. Говорили в публике: «Старик совсем».
* * *
Толпа окружила невысокого плотного румяного мужчину буржуазного вида в тёмном пальто с каракулевым воротником и такой же шапке пирожком. Кричат: «Он – министр!» Мужчина в испуге отрицает. На помощь приходит молодая дама: «Да что вы! Это мой сослуживец по магазину Блинкен и Робинсон». Толпа хохочет, опознаватели смущены.
* * *
Известному либеральному профессору Бернацкому, ссаживая его с автомобиля:
– Буржуй! Привык на автомобилях ездить? Теперь пешком походи, а мы поездим.
* * *
В здание Технологического института солдаты привели полковника 1-го стрелкового полка Четверикова – и требовали тут сейчас судить его за строгость к солдатам. С помощью студентов начали суд. Но вбежал ещё один солдат – выхватил шашку и зарубил полковника.
* * *
Командира лейб-гвардии Московского батальона полковника Михайличенко целый день возили по городу на грузовике, показывая народу «этого кровопийцу». Поднимали его на руках – и бросали об пол автомобильной платформы. После нескольких таких часов доставили сильно избитого в Таврический.
* * *
В городской думе за столом начальника городской милиции сидел адвокат Кельсон. К нему вошёл дюжий штатский с саблей, винтовкой, револьвером, ручной гранатой и пулемётными лентами наискось через плечо. Он привёл двух арестованных старушек, перепуганных насмерть. Но едва начал докладывать, что они выражались против нового строя, – разглядел Кельсона, смолк и сразу исчез. И Кельсон его узнал: как раз вчера, революция помешала, он должен был защищать его от 9-й судимости, по новой краже. Это был Рыбалёв, лишённый всех прав состояния взломщик и рецидивист.
* * *
Нет никакой инструкции, кто подлежит аресту и кто имеет право производить арест.
Одни милиционеры арестовывают других как незаконно носящих оружие.
На улицах – много пьяных. И на тротуарах кой-где уже свалились спящие оборванцы.
Солдаты иногда надевают через плечо поверх шинели не пулемётные ленты, а широкие генеральские – cтаниславские, аннинские.
* * *
На Миллионной улице в квартиру генерала Штакельберга ворвались революционные солдаты (он их долго не пускал, с денщиком оборонялись). Обвиняли, что на улице убит матрос выстрелом из этого особняка. Генерал высокого роста, ещё не старик, надел николаевскую шинель с бобровым воротником. Вывели. Закричали: «Стой, генерал!» Схватили за пелерину шинели, оторвали. «Кто убил матросов, генерал?» – «Я не обязан следить, кто тут шляется», – с презрением. Голоса: «Убить! Расстрелять! На набережную!», – и потащили по Мошкову переулку. Часть толпы оспаривает, перетягивает генерала к себе. Вдруг один коренастый солдат даёт прямо в генерала два выстрела из револьвера. Но ранений ещё не видно – и поток несёт уже раненого генерала к парапету набережной.
Генерал взмолился о пощаде. Но толпа уже пятится от него назад полукругом. Мгновенное молчание. Кто-то крикнул: «Пли!» Генерал сделал ограждающий жест одной рукой. Залп. Упал на бок.
Теперь, без команды, стреляли с азартом в лежачего. Рослый преображенец с румяным, почти девичьим лицом и улыбкой проверял на упавшем бой новенького охотничьего ружья, украденного из магазина.
Тут со стороны Троицкого моста подбегали матросы – рикошетом от парапета двоих ранило в живот.
Убитого обыскали, добыли из кармана массивные золотые часы. Солдаты вчетвером раскачали труп – и перекинули его через парапет на невский лёд.
* * *
По Невскому перехлёстывает овация толпы. Это идут – одни офицеры, в несколько длинных шеренг, взявшись под руки, занявши всю проезжую часть. (Идут после собрания в Доме Армии.)
На всех – красные банты. Некоторые смеются и кивают приветствующей толпе.
* * *
– Довольно, братцы! – кричит солдат с коня. – Теперя мы будем пить через соломинку!
Энтузиаст, раздавая прокламации:
– Надо чтоб и нам, и детям нашим было хорошо!
* * *
Околоточный когда-то выселил еврея, квартировавшего без права жительства в Петрограде. Эти дни околоточный скрывался у себя дома, соседи знали, но не донесли, он смирный был. Сегодня тот еврей появился с милицейской повязкой и двумя солдатами, арестовал своего околоточного и увёл.
* * *
Из Калуги приехала мать молодого измайловского офицера, позавчера убитого у казарменных ворот. Она нашла его тело в чулане нагим: хорошо был одет, всё содрали.
И никто не помогал хоронить. Но улюлюкали из толпы.
* * *
В Кронштадте из ворот корабельного завода среди дня, в необычное время, выходили рабочие – в давящей тишине.
Соединялись с матросами.
Из винного погреба ресторана таскали ящики с винными бутылями и били их во дворе, приговаривая: «Эта сивуха проклятая погубила нас в Девятьсот Пятом!» Весь снег во дворе залился вином, как кровью.
Растеклись по городу арестовывать офицеров – сухопутных и морских, сперва – кто был на суше. Ходили брать не стихийно, а по спискам – у кого-то заготовлены были списки офицеров.
Некоторых убивали тут же, в домах или в казармах, где заставали. Других расстреливали на Якорной площади. Третьих водили на край оврага, так чтоб они в овраг падали, куда уже и адмирал Вирен.
Штабс-капитан Таубе увидел среди пришедших солдат – своих, и громко спросил:
– Солдаты! Кто мной недоволен?
Все промолчали. Тогда повели его не расстреливать, а в тюрьму.
266
Великий князь Кирилл в Таврическом дворце.
Этого великого князя до сегодняшнего дня мало кто и знал – только кто счёт им вёл, не путался в их генеалогии. Зато сегодня узналось его имя по всей столице и ещё бежало впереди него: Кирилл Владимирович! Ещё колонна его шагала, не дойдя до Шпалерной, а уже в Таврическом знали и ждали: великий князь Кирилл Владимирович ведёт в Думу свой Гвардейский экипаж! (До сих не знали, чем он и командует.)
Да ещё и примелькалось глазу шинельное солдатское сукно, серый цвет его с рыжинкой заливал все улицы уже до надоедности, – и радостно и грозно показалась чёрная матросская колонна, в чёрном цвете особенно чётко видно ещё сохранённое равнение, только ленты безкозырок отвеваются самочинно, да на всех неуставно, неровно раскраплено красным – бантами, уголками, по грудям, по оплечьям.
Великий же князь опередил колонну и в шикарном синем автомобиле с красным флажком прибыл в Таврический на десяток минут раньше – высокий, черноусый, со строгим, очень напряжённым лицом, с подсобным адмиралом, с малым эскортом матросов. На груди его морского пальто выдавался большой красный бант.
Родзянко (Кирилл телефонировал, что прибудет, и выводя колонну из казарм – вторично) – вышел встретить его в Екатерининском зале. Была, правда, густая толкотня, портившая торжественность, все теснились посмотреть.
Великий князь не привык к такой демократической толкучке, несколько ощипывался, но всё же придерживался революционной именинной осанки. И произнёс приготовленную тираду:
– Имею честь явиться к вашему высокопревосходительству. Я нахожусь в вашем распоряжении. Как и весь народ, я желаю блага России! Сегодня утром я обратился ко всем чинам Гвардейского экипажа, разъяснил им значение происходящих событий, и теперь могу с гордостью заявить, что весь Гвардейский флотский экипаж в полном распоряжении Государственной Думы!
Это всем понравилось, и нестройная публика вокруг крикнула «ура!».
Родзянко держался как большое каменное торжественное изваяние, постоянно готовое встречать парады и произносить речи. Через несколько минут с крыльца, возвышаясь и над Кириллом, он уже громыхал к экипажу возгласами о родине, о верности, о победе над врагом, – фразы готовые были в нём и гулко выкатывались ядрами из жерла его рта.
После этого экипаж, кажется, ушёл или частью остался, не так легко было расстаться с Таврическим тому, кто сюда уже пришёл, – и то же чувство испытал великий князь, пожелав ещё задержаться в здешней приветливой обстановке.
Сперва вместе с Родзянкой он прошёл в последнее тесное убежище Председателя. И там выказал себя совсем не радостным, а сильно потрясённым, в глубоких опасениях. И Родзянко тоже – уже не торжественно гордо, а смущённо, морщась и озираясь, чтоб не услышали, сказал Кириллу неприятное:
– Ваше Императорское Высочество, простите, ваше присутствие здесь при нынешних обстоятельствах весьма неуместно. Вы к тому ж и флигель-адъютант. Я не советую вам так открыто демонстрировать…
Затем великого князя перехватили корреспонденты газет. Корреспонденты? Да! Вообразить было нельзя, что они тут существуют, ни одна известная газета не выходила, не давал разрешения Совет рабочих депутатов, но корреспонденты-то остались вживе – и где ж было им находиться, как не в самом кипении Таврического? И как же было им не кинуться на крупнейшую сенсацию: вслед за Конвоем Его Величества – на сторону революции перешёл двоюродный брат царя!! Экипаж экипажем, эти воинские колонны уже надоели, но – великий князь? но – кузен царя?? Он был важней всего своего экипажа: это был символ, что вся императорская фамилия признала революцию! И как же было не просить великого князя об интервью (уж там неизвестно, когда напечатают)?
И как же было великому князю отказать им? Уже совершив такой безповоротный шаг, надо было хотя бы показать его презентабельно русскому обществу и истории. Надо и всем и себе дать обдумать совершившееся.
Великий князь Кирилл последовал за корреспондентами в их комнату – да, у них такая была здесь.
Там, нервно и красиво куря папиросу за папиросой, он отвечал их любопытству.
– Теперь-то я свободен и могу говорить открыто всё, что думаю.
Революционные барышни принесли великому князю чаю с печеньями.
Да, перед его умственным взором проходит вся его трагическая жизнь – и некоторые щемящие перипетии её он считает возможным открыть прессе.
– Ведь я – из немногих, спасшихся после взрыва «Петропавловска». Сколько интересных подробностей я мог бы сообщить верховному вождю армии и флота. Но он никогда меня не расспрашивал. Очевидно, ему всё было некогда.
Непростительный урон в государственном управлении. И так, по сути, всю жизнь.
– Я, кузен и шафер императора, осмелился жениться на кузине Виктории без разрешения царя. В Царском Селе рвали и метали. Александра Фёдоровна подсказывала царственному супругу самые суровые наказания. Спешу туда сам – сообщить о переменах в моей семейной жизни, меня не принимают. На другой день распоряжение – на три года за границу с лишением чинов, орденов… И так и пришлось бы жить в изгнании, если б не…
Да что говорить, сколько ошибок в руководстве страной:
– Какое отличное министерство он мог бы себе составить, если б опомнился раньше. Сколько замечательных, достойных людей в Государственной Думе!.. И даже совсем молодых, как талантливый Керенский…
Большая приятность – поговорить с прессой и совершенно откровенно. Но когда-то кончается и интервью. И великий князь спешит дальше.
– Куда изволите проводить вас, Ваше Императорское Высочество?
– Я хотел бы – в Военную комиссию.
Как военный человек, естественно.
Но неестественно, что эта Военная комиссия вчера уже смещала его с Экипажа, каково?! Да кто там правит в ней? Сейчас Кирилл надеялся увидеть тут Гучкова, подозревая, что Родзянко – не главное действующее лицо. А Гучков ему нужен, чтобы поговорить… Довольно деликатное обстоятельство…
Дело в том, что когда начались эти события – Кирилл весьма задумался о том двойственном положении, в которое попал. Он метался – то к Хабалову, то в собрание преображенцев – ища, каким ему правильно быть. Всеми ли силами поддерживать трон (он посылал учебную команду на Дворцовую площадь) или только сохранить свой Экипаж (он отзывал учебную команду) и своё положение?
А вчера уже стало ясно, что трон проиграл столицу (Кирилл предлагал депутатам свой автомобиль), что началось движение в пользу Думского Комитета, – и Кирилл поспешил не отстать в этом движении: уж ему-то , всегда обиженному, не оставаться было под обломками трона, уж ему-то первому надо было высвободиться! Одному самому? – мало! Со всем Гвардейским экипажем? – тоже мало. Он прекрасно надумал, как отомстить Александре: увести от неё весь царскосельский гарнизон! И сочинил, разослал такую записку командирам царскосельских частей.
Но хотя контр-адмирал Кирилл так быстро, предельно быстро переходил на сторону нового правительства – в его собственном Экипаже настроение перетекало ещё быстрее. Вчера шатнуло умы это известие, что великого князя сместили. А сегодня утром его разбудили новостью, что несколько офицеров его Экипажа уже арестованы матросами, другим угрожают, и всех зажигают слухи, как расправился с офицерами Кронштадт. И идти торжественным маршем в Думу – Кирилл должен был уже не только по созревшему своему желанию, но и чтобы спасти Экипаж от развала.
Падение Николая Кирилл мог принять только с облегчением: тот всё это заслужил своими несправедливостями, промахами, дурными советчиками, небратским отношением. Но – кто же вместо Николая? Кирилл узнал, что тайно происходят некие движения в пользу Михаила, сделать его регентом. Это известие укололо и обожгло Кирилла, это было уже совсем непереносимо! Николай – на троне по наследству, и уже четверть века, какой ни есть, – но почему Михаил? Как ещё это ничтожество снести над собой?
А известно было, что Михаил всё время тайно сносится с Родзянкой (Родзянке – не верить ни минуты!) и скрытничает от дяди Павла и от Кирилла, не говорит о своих намерениях, а засел в Петрограде – зачем? Выжидает занять пост?
Так ещё потому и пришёл Кирилл в Думу, чтобы сшибить Михаила с этой позиции, затмить его.
И с деловым Гучковым он хотел поговорить об этом вполне откровенно.
267
Усилия и мысли Гучкова.
Можно было сто книг прочесть о разных революциях и всё-таки лишь на самом себе испытать впервые: что такое революционная густота событий, каких ни сердце, ни мозг не успевают перерабатывать, – именно в те самые часы отказывают, когда они всего нужней. А потом – вздыхай хоть полстолетия.
Ещё вчера вечером и сегодня утром казалось, что главное – это отбиться от войск, направляемых на Петроград. Естественно: обратиться против старого, не дать старому задушить новое. И Гучков вместе с молодым князем Дмитрием Вяземским, излюбленным безстрашным своим помощником, кого узнал он на фронте год назад, в своих поездках по Красному Кресту, а за эти месяцы привлёк к живейшему участию и в собирании заговора, теперь кинулся объезжать полки. Где – речи говорил, и ему кричали «ура», а лейб-гренадеры даже вынесли на руках; где – только выяснял положение и старался, чтобы обезглавленные, растерянные части попали снова в руки своих офицеров. Если не создать оборону города, то хоть знать хорошо наличные силы, – это именно ему нужно было успеть, он считался среди думцев самый военный и лихой, наиболее знающий армию, в постоянной с ней связи.
Но всё более Гучков видел, что офицеры сбежали из частей, во множестве прячутся в неизвестных местах и даже в Государственной Думе, опасаясь растерзания. А батальоны, которые кричали Гучкову «ура», – часом позже или раньше кричали «ура» же и делегатам Совета. Итак, пока Гучков собирал оборону от внешнего врага, за спиной Думского Комитета собиралась сила ещё горшая. И может быть надо было спешить обернуться, а нашлись бы силы – так и арестовать кого-нибудь из этого богомерзкого Совета. Но тем более не было сил таких.
А пока он мотался в этих поездках – в его собственной Военной комиссии его собственный помощник Энгельгардт с перепугу вместе с Родзянкой издал дикий, немыслимый приказ, угодничающий перед Советом, перед распущенными солдатами, а офицерам – грозящий расстрелом!! Бред! – но отпечатанный на листках бумаги, он рассеивался по городу быстрей и множественней, чем успевал Гучков, – и всё губил безвозвратно: теперь и вовсе нельзя было вернуть офицеров в части, а части выставить на защиту Петрограда.
Среди дня большое подбодрение своею явкой в Думу произвёл Кирилл. Хотя и пришёл он по определённому расчёту – удержаться во главе гвардейского экипажа, испугался, что заменят, и вообще удержаться как великий князь в опрокидывающей стихии этих дней, но такое поклонение Думе видного члена династии оказало тут на всех на них резкое впечатление. И Гучков, принимая Кирилла у себя в Военной комиссии, и произнося лицемерно-вежливые успокаивающие фразы (этот великий князь, кажется, не против бы и сам сесть на трон), не мог сдержать торжества. Это – первый из династии, а потянется она, ничтожная, вся. То казалось – рушится всё кругом, то – какая же сила Дума!
И производило впечатление, что гвардейский экипаж не утерял выправки и пришёл с офицерами, – да не возьмётся ли великий князь охранять вокзалы против Иванова, хотя б на ночное время? А что ж! Взялся. (Пригодился.)
Не один Гучков замотался в эти часы – и все члены Думского Комитета. Но все они мотались, куда звала их мгновенная необходимость, – то произносить речи, то спасать арестованных, – и такими затычками пробоин они утеривали способность охватить всё положение и отгадать, как его направить в главных чертах.
Гучков, что ни делал, старался рассмотреть эти главные черты и использовать их, прежде чем они размылись. Были жертвы и сейчас, но если не решиться быстро, то будут жертвы несравненные – начнётся гражданская война.
Разворот событий завихривался по самому опасному склону – и надо было спешить обуздать его через законную передачу власти. Мысли Гучкова имели привычную колею и сразу занимали её: отречение и регентский совет. Он сформулировал это уже год назад, если не раньше (душою – раньше, ненавидя этого царя). Он – хотел этого, он – жаждал этого, он – вёл к этому, уж как умел. И если отречение так было необходимо минувшей осенью, уже тогда созрело, то теперь даже перезрело, – но тем более срочно необходимо. Надо решительно и быстро сменить ситуацию: Петроград будет не защищаться от царя, но сам совершит на него прыжок! Когда ноги Думского Комитета разъезжаются – от распада полков, от зреющей злобы Совета, – надо не скользить, а прыгнуть и овладеть троном.
Регентский совет Гучков так понимал, что сам займёт в нём решающее место. Гучков искренно любил Россию, он был – патриот. Но так понимал, что в патрии должен занимать ведущее положение, по своим политическим талантам.
Однако не с кем, негде и некогда было присесть, обсудить – что же делать? Всем им всё время надо было куда-то ехать, идти, кричать.
Вот это и была революция.
268
Царский поезд на станции Дно.
От Старой Руссы до Дна невыносимо тянулась эта старенькая одноколейная дорога с разъездами, не знавшая экспрессов, а теперь в неё втиснулись великолепные синие императорские поезда. Дорога – не могла пропустить быстрей, но старались как могли. Железнодорожники и местные жители глазели на невиданные поезда, робко переговаривались между собою, очевидно: где же тут царь?
Наивны, милы и доверчивы были их простонародные лица. Государь не показывался им, но из-за занавесок смотрел – и сердце его утеплялось. Вот такими он и представлял себе своих подданных, для таких он и правил, – только никогда нельзя было, как и сейчас, через двойные стёкла, услышать их и прямо им объяснить, а всегда слышались раздражённые, предубеждённые образованные голоса и крикливые газеты, которые всё извёртывают до неузнаваемости.
Очень тяжело было сегодня на душе, хотя и солнце иногда поглядывало на снега. Не как сознательное мрачное размышление, но само по себе – грудь разбирало, разгрызало невыносимое состояние. Ещё вчера с утра мнившийся в поездке покой был весь вымышленный. Ничем невозможно было заняться, ничего читать, никуда отвлечься, мыслями не уйти.
Нетерпеливо хотелось скорее достигнуть станции Дно – во-первых потому, что это был уже прямой поворот на Царское. Во-вторых потому, что там сейчас предстояла встреча с Родзянкой, и она всё больше казалась облегчением, выходом: миролюбиво уладить, чтобы всё успокоилось и стало на свои места. С предполагаемой уступкой части министров Николай уже смирялся: от рокового несчастного 17 октября Девятьсот Пятого он так или иначе был наведен на цепь неотклонимых уступок.
Уступка – уже как бы и была сделана. И давление на сердце ослабло. Полегчало.
Но он – не отдаст главных министерств. И разумеется, министры будут ответственны перед ним, а не перед Думой. Этот монархический принцип – скала государства. Если министры ответственны перед Думой – то что тогда монарх? Какое-то набивное чучело?
В этом, уверен был Николай, Аликс – горячо с ним заодно.
У свиты было откуда-то сведение, что Родзянко уже в пути.
На мелких станциях подхватывала свита и другие слухи, и Воейков иногда докладывал. То – будто есть наглое распоряжение всё того же юмористического Бубликова – задержать императорские поезда! – каково? Но никто этого не выполняет, разумеется. То – будто дорога уже перегорожена, но после поворота со Дна, или какой-то мост повреждён на той линии.
Подъехали ко Дну в пятом часу пополудни. Узловая станция тоже была в обычном порядке, ничем не взметена.
Но тут сразу ждало много новостей, и все неприятные.
Первое, что сразу узналось от станционного начальства: что генерал Иванов со своим батальоном прошёл Дно не вчера, а лишь сегодня утром.
Сегодня утром? Отчего же так медленно, Боже мой? На что ж он потратил время? Да тогда: достиг ли он Царского Села сию минуту?
На ком же государыня с детьми?
Но и хуже знали на Дне, ужасные известия: что гарнизон Царского Села вчера вечером также присоединился к мятежу!
Сердце Государя обронилось во мрак. Затмился свет, рухнула опора, державшая эти дни. Он выслушивал со спокойным выражением, но внутри его заваривалось отчаяние. Только не имел он права и вольности выказать это видом и словами.
А между тем Воейков принёс депешу от Родзянки на имя Его Величества, пришедшую менее часа назад. Родзянко сообщал, что сейчас (только сейчас?) выезжает на станцию Дно для доклада о положении дел и мерах спасения России. Просит – дождаться его приезда, ибо дорога каждая минута.
Да, но когда же он достигнет Дна? Не ранее как ещё часов через пять. И ещё, кажется, попорчен путь?
Воейкову удалось переговорить с Виндавским вокзалом в Петрограде, и он узнал, что заказанный Родзянкой поезд стоит под парами – но и сейчас не выезжал.
Горяча каждая минута, да, – но ещё горячей она в Царском Селе. И ещё мучительней – сидеть на этой захолустной станции – и жгуче не знать, что творится с семьёй!
Что ж было делать, Боже мой?
Маленькое глухое Дно. Один железнодорожный жандарм. Один урядник на селе. Но – завод с фабричными, неподходящее место.
Ощущение было ясное: что попали не туда. Что не на месте.
И ещё удалось узнать Воейкову по аппарату: что перед Царским Селом Виндавская линия занята революционными войсками и генерал Иванов, не доехав, остановился с поездом в Вырице.
Николай нервно смотрел на карту.
Четыре дороги скрещивались в Дне. По одной из них приехали.
Другая, налево, вела назад, на Могилёв. И не вызвала никаких мыслей.
Направо – краткая, желанная, в Царское Село – была для него, значит, перерезана? По ней ожидался и Родзянко – и выглядело бы несолидно ехать к нему навстречу. И если перегорожена – так всё равно не попадёшь в Царское.
А вот что: прямая – вела во Псков, и это уже близко. Там – штаб Северного фронта, там есть с Петроградом связь по юзу, оттуда, может быть, удастся поговорить с Царским (да и со Ставкой), и вот уже скоро всё узнать? И оттуда, по двухколейной Варшавской дороге, нетрудно доехать до Царского через Лугу.
Во Пскове – военные силы, и железнодорожный батальон. Оттуда всегда можно обезпечить себе проезд.
Вот и решение: ехать во Псков!
И это даже хорошо, что Родзянко ещё не тронулся из Петрограда: дать ему теперь депешу, чтобы ехал прямо во Псков.
А что могло его так задержать, почему он не спешил? Может быть, его задержка имеет резон: он удерживает Петроград, не отдаёт его разнузданным силам?
Тут подали Государю ещё одну телеграмму, от 10 часов утра, и какую же окольную! Телеграфировал опять начальник морского штаба из Могилёва (почему-то опять не Алексеев), но не от себя, а сообщал пространную телеграмму командующего Балтийским флотом адмирала Непенина – а тот тоже не от себя, но сообщал две телеграммы, полученные им от Родзянки вчера, 28 февраля, – и вот только с каким опозданием, и вот только каким кружным путём подтверждалось Государю, чтó читали в Бологом в случайном листке: Родзянко вчера извещал все фронты, что его временный Думский Комитет перенял всю правительственную власть ввиду устранения бывшего Совета министров. И что он приглашает Действующую армию сохранять спокойствие и надеется, что борьба против внешнего врага не будет ослаблена, – разумные слова. На старое правительство он валил «разруху», но брался быстро восстановить спокойствие в тылу и правильную деятельность учреждений.
А Непенин добавлял, что всё это объявил командам! – Боже мой, кто ему разрешил? – и докладывает Его Величеству своё убеждение о необходимости пойти навстречу Государственной Думе.
И в этом – Государь всё более убеждался сам. За несколько минувших часов Родзянко переместился в его представлении и сознании – вырос. И Государь уже не только был согласен его принять, но уже – хотел, чтобы он приехал, но уже досадовал, что нет его в Дне.
Но что ж, во Псков так во Псков. Дали знать туда – и двинулись.
Свита радовалась: тихий губернский город и рядом надёжные войска.
Пили тягучий вечерний чай.
Ехали – пока что прочь от Царского Села, слишком затянувшимся крюком.
Смеркалось.
Приезжал, бывало, Государь на свой Северный фронт – но не в таком положении.
И тут ещё одно неприятное сообразил: на Северном фронте начальником штаба – Данилов-чёрный. Два года назад Государь считал его великим стратегом и сам же указывал Николаше взять в Ставку. А потом они там с Николашей сжились, и убрал его вослед Николаше, освобождая место для Алексеева – однако не сердясь, и всё считая его крупным стратегом. И ни Николаша, ни Алексеев – никогда не объяснили, чего Данилов стóит, только этою зимой Гурко открыл Государю, сколько жестоких кровопролитных ошибок наделал Данилов в первый год войны, во что обошлись нашей армии его ошибки. И так горько стало, что был – обманут, и ещё благодарил его, награждал. Например – Галиция… А Николай считал таким успехом. Стыдно, как плохо водили русские войска.
И вот сейчас – предстояло встретить его, с тех пор первый раз.
* * *
...
Лихо до дна, а там дорога одна
* * *
269
Ленартович в особняке Кшесинской.
В комиссариат поступили сведения, что грабят особняк Кшесинской, – и Пешехонов послал прапорщика Ленартовича остановить грабёж и, если нужно, поставить там временный караул, пока толпа схлынет.
Ленартович не знал особняка и не уверен был, кто именно Кшесинская, Пешехонов объяснил, что это – знаменитая балерина, которая была любовницей царя в его молодости, а потом – по великим князьям.
Оказалось, это – первый дом по Кронверкскому проспекту, начало его дуги, у самой Троицкой площади. Туда было близко, Саша с двумя своими солдатами быстро дошагал. Дом выдавался в сторону площади полукруглым крылом.
Но сейчас – не грабили, и толпы никакой не было, да даже ни одного человека ни рядом, ни внутри. Окна двух этажей асимметричного дома с башенкой и полуподвальные, выходящие прямо на улицу, были не побиты и все закрыты. На втором этаже – балкончик, тоже мёртвый. Да даже не поймёшь, как в этот дом зайти, – двери в нём нет, ах вот, калитка во двор.
Калитка была заперта, но в каменном столбе Саша увидел кнопку, стал звонить. Дом был приятно отделан цветной плиткой, и привлекательно, что несимметричный.
Вышла прислуга, мужчина и женщина. Видя офицера и двух мирных солдат – впустили, но опасливо. Действительно, за эти сутки было уже два грабежа, оба под видом обыска. Не пустить – силы нет, а пустить – озоруют, открыто грабят, в шинели кладут, за пазуху, – и что хозяйка скажет, воротясь! А вчера – из броневика пустили очередь по их дому.
А хозяйка где?
А хозяйка – позавчера вечером вместе с сыном, 14 лет ему, и гувернёром вышли из дому, малый чемоданчик в руках, – велела приготовить чай, скоро вернётся, так и не вернулась. И в ту же ночь два автомобиля из гаража увели, больше их и не видели.
По парадной лестнице поднялись в холл с мраморным полом. Безпорядка особенного не было, наверно прибрали.
Саша пошёл осмотреть дом, уже не из надобности, а из любопытства. Полуподвальный этаж был для служб. В бельэтаже в столовой – потревоженность, но столовое серебро, сказала прислуга, на месте, или почти. Мало покрали, и посуда не бита. Тут были гостиные с роскошной мебелью – и беломраморный залик, в котором просторно дать и бал, снаружи не предположишь. Большие зеркальные окна зала выходили прямо на Петропавловскую крепость, через Кронверкский. А тот самый полукруглый выступ, обставленный пальмами и с малым гротом в центре, и в нём текли струйки воды по голубоватому фону, – тот окнами выходил на Троицкую площадь и на Троицкий мост. Мебель в зале обита белым шёлком под общий цвет белого мрамора, того же тона и рояль.
Все эти фокусно-роскошные затеи не могли задеть сашиной души, даже напротив – вызывали раздражение. Но, пожалуй, – до революции. А сейчас – его отношение как-то повернулось. Хозяйка сбежала от своих забав, а – местечко большое и богатство большое, всё это надо бы сохранить, особенно от глупого пустого погрома.
Решил Саша – караул здесь поставить и пока подержать.
Пошёл наверх, уже один. А, вот здесь-то погром и был, и остался хаос: в двух комнатах пол забросан фотографиями и бумагами, фотографиями и бумагами, все ящики столов и бюро выдвинуты.
Висела, нетронутая, остеклённая большая фотография молодого царя в морской форме, и внизу надпись, да кажется и его рукой: «Николай, 1892».
Другие портреты, великие князья, генералы, артисты.
Мебель и обстановка пострадали мало.
Под стеклянным футляром лежал венок, какая-то награда, – да не золотой ли? Саша снял колпак, вертел венок и внизу обнаружил явную пробу: «96»! Грабители просто не сообразили.
Да, караул придётся поставить. А потом – многое отсюда вывезти, спасти.
Пачки писем, пачки писем – перевязанные ленточками.
И стопка сафьяновых тетрадочек.
Дневники… За 20 лет… О, тут читать и читать…
Сколько ж ей может быть лет? Уж за сорок? И ещё танцует и ещё чарует?
В детской разбросаны были по полу дорогие игрушки, рельсы с локомобилем и вагонами. От кого ж её дети?
Уже ясна была обстановка, и ждали его дела в комиссариате, надо было уходить. А он всё бродил по комнатам.
Его затягивало.
В гардеробной отодвинул дверь – висело множество платьев, блузок, юбок, – двести, всех цветов, шерстяные, воздушные, вязаные, кружевные.
Оглядясь – никого не было, тихо, – он медленно провёл рукой по перебору этих платий.
Как по струнам. И платья как будто зазвучали.
И – пахли.
Он открыл ещё дверь.
Ванная комната. Но не просто с овальной ванной – а вели ступени вниз, в углубление – в мраморный бассейн. А на верхней ступеньке стояли маленькие-маленькие туфельки, непонятного назначения – балетные? купальные?
Саша остановился над ними, замер.
Отодвинутая этими днями – выступила перед ним Ликоня прелестней всех этих балерин, – всё недосказанная, всё недопонятая, всё ускользающая.
Мучительно, сладко потянуло к ней.
И он долго стоял, смотря под собой на эти туфли.
270
К Пешехонову пожаловал пулемётный полк.
Несколько часов не покидала Пешехонова забота: что делать с Павловским училищем? – заперлось, не выходило на поддержку нового режима, но в любую минуту могло выступить против, – а ведь оно на Петербургской стороне – и что тогда тут удержится?! Но, к счастью, переговоры с ним взял на себя Таврический.
Из Совета рабочих депутатов прислали приказ: комиссариату тем или иным путём обзавестись на месте необходимым числом автомобилей (какой они подразумевали тот или иной путь?), – а если окажется излишек, то передать его в Совет.
Правильная, значит, была вчера его идея захватывать автомобили. Захват от захвата, конечно, отличается морально: это – не корысть, но революционное право, питающее новогосударственные потребности.
Тут – на замороченную голову Пешехонова свалились ещё квартирьеры 1-го пулемётного полка, немедленно требуя отвода помещений всему полку.
Их два пулемётных полка пришли пешком из Ораниенбаума в Петроград помогать делать революцию. Одну ночь они провели в чьих-то казармах на Охте, но там им не понравилось, и они желают перейти на Петербургскую сторону.
Взвыть можно было. Сколько же их? Запасные полки раздуты, тысячи небось четыре?
Как бы не так! – их оказалось 16 тысяч!
И все они – уже шли сюда!
Да почему же столько?
Не квартирьеры могли ответить. (Потом объяснили Пешехонову: других запасных пулемётных полков во всей России нет, только эти два готовят пулемётные пополнения для всего фронта, – и вот они поднялись и кочевали.)
А главное требование квартирьеров было: солдаты ни за что не хотят расходиться по разным местам, мелкими партиями – а стать всем непременно вместе.
Грозная сила! – и бедная сила. Их все боялись, а они боялись больше всех: как бы, расчленённых, их не настигла кара за мятеж.
Но таких больших помещений на Петербургской стороне не было. Спортинг-палас рядом – всю зиму не отапливался, в нём не действовала канализация. Самое большое здание – Народный дом на Кронверкском – не мог вместить 16 тысяч.
Кто-то из товарищей напомнил о только что отстроенном дворце эмира Бухарского на Каменноостровском.
Пешехонов постеснялся: дворец – и в казарму?
Но, объяснили, это – просто доходный дом с двадцатью большими квартирами, ещё не занятыми.
Квартирьеры поспешили навстречу своему полку, уже пришедшему на Троицкую площадь и грозно стоявшему там.
После переговоров и уговоров один батальон соблазнился жить во дворце и дал себя отделить от полка. Остальные пошли в Народный дом.
Пока Пешехонов занимался с квартирьерами, немного отойдя от «Элита», показывая им направленья по улицам, – сзади близко раздалась сильная стрельба. За эти дни ухо настолько привыкло к выстрелам, даже и близким, что Пешехонов не слишком удивился. Но удивился он, что публика перед комиссариатом куда-то сразу вся исчезла, не толпилась, не ломилась.
И тут увидел, о ужас, что на площади перед комиссариатом залегли солдаты и обстреливают один из домов по Архиерейской улице.
Оттого-то и вся толпа рассеялась!
А в этом доме, куда стреляли, – сообразил Пешехонов, – в этом доме помещался лазарет с увечными солдатами!
Да что ж это, с ума сошли? Он бросился сзади к лежащим на снегу солдатам. Подбегал и хватал за плечи.
– Что вы делаете?!
Кое-как остановил. И ответили ему, что из того дома стреляли по комиссариату, и не иначе как там спрятан пулемёт.
Рассердился Пешехонов:
– Кто именно видел?
Стоял в рост среди рассыпанной цепи, и ничей пулемёт его не поражал.
Стали и солдаты приподниматься. Не нашлось такого, кто именно видел. И не было убитого ни одного на площади и ни одного раненого.
Покричал на них, постыдил – и послал из них же наряд, ни офицера, ни унтера не было под рукой, – проверить, сами ли они никого не убили в лазарете? А если уж так подозревают – пусть и проверят, нет ли заклятого пулемёта. Сотни этих пулемётов из невидимых рук со всех чердаков стреляли, а сколько ни лазили – во всём Петрограде ни одного этого пулемёта не нашли.
А уже – опять хлынула толпа к «Элиту» и внутрь, так что сам Пешехонов еле втиснулся.
И опять осаждали его со всех сторон – доносами, требованиями реквизиций, обысков и предложениями новых видов общественной активности.
271
Пасха в Публичной библиотеке. – Вера дома.
Приходили читатели, и немало, но никто ничего не читал, даже если брали книги, а то и не брали. На главной лестнице, в просторном над ней вестибюле, у книжных прилавков, у дверей залов и в самих залах собирались маленькие клубы – и, нарушая священную, присущую этим местам тишину, некоторые слышно гудели, в полные голоса. Раздавались радостные женские аханья, смех мужчин и весёлые перебивы. А другие, верные дисциплине и привычке, и сейчас всю радость выражали только шёпотом и переходили по залам на цыпочках.
Остановилась выдача книг, остановилась библиография, и изо всех потаённых углублённых уголков вытягивались смирные сотрудницы – сюда, на люди, в оживлённое обсуждение.
Никогда Вера не видела – вне пасхальной заутрени – столько счастливых людей вместе зараз. Бывает, лучатся глаза у одного-двух – но чтобы сразу у всех?
И это многие подметили, кто и церкви не знавал: пасхальное настроение. А кто так и шутил, входя: Христос Воскресе! Говорят, на улицах – христосуются незнакомые люди.
Как будто был долгий не пост, не воздержание, но чёрный кошмар, но совсем безпросветная какая-то жизнь, – и вдруг залило всех нечто светлее солнца. Все люди – братья, и хочется обнять и любить весь мир. Милые, радостные, верящие лица. Это пасхальное настроение, передаваясь от одних к другим и назад потом к первым, всё усиливалось. Одна с собою Вера не так уж и испытывала чёрный кошмар прежнего, но когда вот так собирались – то этот кошмар всё явственней клубился над ними, – как и сегодня всё явственней расчищалось нежданное освобождение. Дожили они, счастливцы, до такого времени, что на жизнь почти нельзя глядеть не зажмурясь. Отныне всё будет строиться на любви и правде! Будущее открывается – невероятное, невозможное, немечтанное, неосуществимое. Что-то делать надо! что-то делать в благодарность! Но никто не знал что.
И Вера думала: может быть, действительно, начала братства – вот этого, уже ощущаемого между совсем чужими людьми, – теперь законно вступят в жизнь, разольются, – и люди начнут безкорыстно делать друг для друга? И таким неожиданным путём победит христианство?
Вспоминали имена свободолюбцев, ещё от времён Радищева и Новикова, вспоминали декабристов, Герцена, Чернышевского, народников, народовольцев, – поколение за поколением отдававших себя с верой в будущую свободу. Ведь вопреки всему – верили, что – будет! И вот сбылось! Какая святая вера, какое святое исполнение!
У многих были слёзы на глазах.
Так интересен был всем каждый штрих свободы и каждый штрих отмирания прошлого. Передавали имена арестованных деятелей старого режима – каждое имя как падающая мрачная колонна. Последняя новость – что утром сегодня арестован Николай Маклаков. Передавали пикантную подробность: неистового антисемита Пуришкевича видели с красной гвоздичкой в петлице. Склоняют головы, склоняют, мерзавцы!..
Появился и новый сенсационный слух – а газеты не успевают, проверить негде: в Берлине – тоже народная революция, второй день!
Боже мой, неужели начинается всемирное братство? Оборвётся эта ужасная война? Преобразится Европа, преобразится вся планета?!
И ещё слух – о крушении царского поезда. Неизвестно, уцелел ли Сам.
А само собой – какие-то войска движутся на Петроград.
Конечно, опасность контрреволюции ещё очень велика. Не может быть, чтобы старое было так сразу разбито и так окончательно умерло. Оно, конечно, притаилось и выжидает, чтобы накинуться на наш светлый праздник. Оно, конечно, ещё шмыгает шпионами в уличной толпе и прислушивается. Оно, конечно, ещё затаилось на чердаках с пулемётами и вот-вот начнёт обстреливать улицы.
Но – безсильны они и обречены!.. Передавали с любовью и надеждой имена членов Думского Комитета, замечательных деятелей, которые теперь поведут Россию. Европейски образованный Милюков, подлинный учёный, он внесёт в управление методы науки! Вечный антагонист императора – неукротимый, воинственный Гучков! А Керенский – с его страстною жаждою правды и сочувствием к угнетённым! Да, это будет впервые на Руси – народная власть, всё для народа.
Так в этих растерзывающе радостных разговорах и прошёл счастливый, болезненно нерабочий день. Было Вере необыкновенно тепло, светло, но грызло: а что же убивают офицеров? Наши защитники, герои нашей армии – в чём же и перед кем они виноваты? (Хорошо – Георгий уехал.)
Она робко пыталась выразить это в двух группах, её как бы и не услышали, даже не возразили серьёзно. Это не ложилось в общий поток восторга, выбрасывалось на сушу как инородное. Ну, случайности, ну, какая революция без крайностей? К светлому будущему невозможно вырваться без каких-то хоть малых жертв.
Прошёл день, и опять пересекала Вера кипуче восторженный Невский, такие же сияющие лица культурного Петербурга на нём, перемешанные с самой простой толпой и с солдатами, и на всех красное, красное.
А в Михайловский манеж, увидела, вводили группу арестованных, по одежде – обывателей. Кого-то, за что-то. И в полицейских мундирах тоже. И за некоторыми тащились женщины с детьми, их отгоняли.
Она вошла домой, ещё сохраняя это весеннее, поющее настроение, ещё с той же невесомой улыбкой, – но мрачная встретила её няня и эту улыбку успела заметить, и сразу же согнала:
– Пакостники! Слышать не хочу! Злодыри! По всем этажам обыскивать шастают, глядят – где б спереть, что плохо лежит. Так и валят, кучка за кучкой, и морды-то колодников, небось из тюрем да попереодевались. Полное для них нестеснение. И ружья держать не умеют, один во дворе чуть дитятку не застрелил, на палец не угодил.
Приходили с обыском и к ним, но няня как стала на пороге, так никого не допустила, тряпкой в морды им махала. А какой дом получше, вон у Васильчиковых, рядом, – так двери не запираются, всё новые на обыск валят, женщины так и бродят с ними, чтоб не стяпнули. А прислуга ихняя безстыжая – красные банты понадевала и в город. Наконец нашли несколько хороших солдат, на кухне их посадили, кормят, – так они эти банды отваживают.
– Радуются! Дураки и радуются! И ты, дура, с ними. Разорению – чего ж радоваться? А хвосты, вон, ещё хуже! Доживём теперь – и нечего будет трескать.
Правда, онемела Вера перед няней. Нельзя было серьёзно повторить ей хоть и самыми простыми словами того, что говорилось сегодня в Публичной: ни про заветную сказку, ни про мечты поколений, ни уж, конечно, про Христово Воскресение.
Но оттого, что слова эти все оказались недействительны перед няней, – сразу стали они маленькими, маленькими и блеклыми. Уже и для себя Вера могла ли их сохранить? Это был какой-то гипноз, очарование говорящего общества.
– А с Егором что будет, ты подумала? Да ведь у него если шашку отберут – он же ведь убьётся! Он жить не будет!
272
Воротынцев мечется по Москве: куда ехать?
Как свернулось, пошёл Воротынцев по Страстному бульвару, потом по Петровскому. Здесь – не было красных шествий, а на бульваре – неизменные няньки, коляски и детская беготня в разноцветных шапочках и варежках, и тут совсем другой был тот же красный, не раздражал.
Так значит, Гучков был прав: надо было спешить предупредить ?
Или наоборот: вот это и значило, что – доигрались ?
Доигрались – если теперь это покатится по стране.
И – к фронту?
А между тем, если происходящее можно назвать революцией ? – вот это и есть революция? – нет, это ещё не революция! – то ведь у неё совсем нет никаких сил. Сейчас – один хороший твёрдый полк может овладеть этой расшатанной Москвой.
Но – где быстро взять этот полк? В Москве, видимо, не было такого.
Но и какая тут может быть революция, если вся многоствольная, штыковая и копытная сила в Действующей Армии? Если Армия не признает – то никакой революции нет, это – пшик.
Теперь в часы – всё может решить Ставка. (Только зачем же Государь оттуда уехал?) Несомненно стекутся и верные в Ставку со всех сторон.
Кинуться в Ставку?
Тем скорей он должен прорваться к какому-то действию, чем позорней провёл эти дни.
Ехать в Ставку! – представилось вдруг несомненным и даже немедленным!
Значит – на Александровский вокзал! А он – уже спустился к Трубной площади, только крюку дал.
И – уже поворачивал.
И тут увидел, как по Трубной бегут мальчишки-газетчики с восторженно раззявленными ртами, кричат и размахивают. К ним сразу бросились, сгущались вокруг них, просто рвали из рук.
Бросился и Воротынцев, уж тут ему можно, это не листовки. Пробился, купил. А купившие прежде тут же и читали, восклицали, да и мальчишки кричали.
Кричали: что царь – на пути в Петроград – задержан??
Какая-то маленькая небылая газетка – «Известия московской печати». Но хотя маленькое, а плотно шло только одно главное под жирными заголовками, перехватывающими глаз каждый к себе. Падение Адмиралтейства!.. Преображенский полк перешёл в революционный лагерь вместе с офицерами!.. Та-ак… Собственный Конвой Его Величества перешёл на сторону революции!.. Поездка царя Николая II… На Николаевской дороге поезд задержан…
Неясно было сказано: что? – арестован?..
Кем? Когда? И где он теперь?
Как раз то уязвимое путевое состояние царя, на которое и целился Гучков…
Воротынцев медленно вытолкнулся из толпы назад на бульвар. С этой газеткой так и присел на оснеженную, морозную скамью.
Эта отчаянная поездка Государя, оборванная неизвестно где, – поражала.
И что тогда Ставка? Алексеев без царя? Без имени Государя Ставка превращалась в немощь. Она не может принять решений и не может начать военных действий, если Государь в руках мятежников.
В Ставку – ехать незачем.
Но тогда что будет с Армией? (И со всей войной!)
Голова никак не брала решения.
Честь – требовала вмешаться. Разум – не указывал пути.
А не первый раз в эту войну, и особенно в эти последние месяцы, Воротынцев вопреки своей вере в силу единичной воли – ощущал почему-то заколдованное, роковое безсилие: даже в гуще событий, в самом нужном месте, и сколько ни напрягайся – нет сил повернуть события! Почему так?
Да не погнать ли назад по Николаевской дороге? И даже прямо в Петроград? Может там ещё что-то?..
Это была авантюрная мысль, от крайности, – но всё-таки центр событий там, но может не всё ещё так безповоротно, как пишут? Всё-таки возможны какие-то действия?
Какой бы ты ни был воин, сто раз обстрелянный, – а вот подступит, обоймёт совсем неожиданное, и ты внутри своего мундира – слабый и безпомощный человек, как каждый.
Ехать или не ехать, – но на Николаевском вокзале можно узнать что-то чёткое от приезжающих.
И Воротынцев рванулся к Николаевскому вокзалу, отдавая ходьбе всё неизрасходованное: перетолкался, пересек Трубную, поднялся крутым Рождественским бульваром и, чтоб избежать возможного столпотворения Мясницких и Красных ворот, срезал по Уланскому и по Домниковке.
В переулках не замечал никакой необычности. Пересекал на Садовой всё такое же растерянно-радостное многолюдье. Пока дошагал до Каланчёвской площади, уже сам с собой стал применять слово «революция».
Революция во время войны!! Даже если б она имела цель выйти из войны – это уже полный проигрыш войны. Это – ещё куда хуже, чем тянуть войну дальше.
Такое же обезумевшее, восторженное и безцельное бродево охватило его и на Каланчёвской площади.
А поезда с Николаевского вокзала – ходили как ни в чём не бывало. И через несколько часов можно будет уехать.
Но именно тут углубилась нелепость: если во главе революции Государственная Дума – то что же в Петрограде против неё можно делать? И с кем? – с петроградскими никудышними запасными?
А вот – пришёл из Петрограда поезд. Воротынцев стал при потоке идущих и смотрел знакомых, особенно офицеров.
Знакомых не увидел, но заметил, что все офицеры идут безоружные. И остановил одного капитана. И ещё один штабс-капитан потом сам набежал.
Они были настроены отчаянно, не с той поверхностной растерянностью, как офицеры в Москве. Они рисовали, что в Петрограде – ад, убийства офицеров и погоня. Что ехать туда нельзя ни в коем случае: расправа наступит ещё на перроне. Ехать можно только в штатском и безоружному. Рассказывали разные случаи. Действительно, оторопь брала.
Воротынцев привык, что опасность – зовёт. Но такая – не звала.
А царский поезд? Не слышали, не встречали? Где он?
Ничего не встречали. Нигде по дороге ничего подобного, заметили бы.
Окончательно не понимал Воротынцев, что ему делать.
Нет, возвращаться в Петроград конечно было упущено, это – вздорная мысль.
И вздорная, непонятная, самоубийственная поездка Государя! Все эти дни ведь он знал о событиях с самого начала – и что же он решил? Куда поехал?..
И уйти с вокзала Воротынцев тоже ещё не решил. Недоуменно затерялся в вокзальной толпе. Пошёл в ресторан – и пообедать, и поразмыслить, выиграть время, остояться, не делать пустых движений.
И тут, над тарелками, вдруг подумал: а Государь-то едет – просто-напросто к жене…? Всего-навсего…?
Тогда он – погиб.
И всё погибло.
Шли по вокзалу – два студента с винтовками, взятыми на ремень. И больно было – как ударило: и стрелять ведь, конечно, не умеют. А вот – они взяли оружие. А офицеры сдают своё.
Разливанная Каланчёвская площадь была уже при вечерних фонарях.
Нет, офицер вне своей части – ничто. Военный силён только на поставленном месте. Что может одна отдельная, одинокая шашка, когда и её отбирают? Надо, не мудрствуя, просто возвращаться в 9-ю армию, на своё место.
Вошёл в телефонную будку и стал дозваниваться до знакомого капитана в штабе Округа, который сегодня вечером дежурил, – узнать последние новости.
Тот ответил: Кремль, Арсенал, все последние части – перешли на сторону революции. Генерал Мрозовский только что арестован у себя на квартире.
Ну и дождался.
273
Исполнительный Комитет кончает вопрос о власти. – Соколов приводит солдатское пополнение в ИК.
Трудный день выдался Исполнительному Комитету: после короткого перерыва опять заседали во второй половине дня, под гул безпорядочного Совета за дверью – и под угрозой, что во всякий момент эта отчаянная солдатня ворвётся сюда в поисках правды. (Неправильно разрешили выбирать по человеку от роты: слишком много солдат собирается.) Но нет, Соколов как-то всё справлялся с ними, молодец: орали там, а сюда не врывались.
А между тем ИК сдвинулся обсуждать условия передачи власти буржуазии – и Гиммер вытягивал самую сладость из теоретической косточки.
В новых условиях демократии, начиная борьбу против буржуазии не на живот, а на смерть, не надо отнимать у буржуазии надежду выиграть эту борьбу. Поэтому нельзя уже при начале ставить ей слишком жёсткие условия власти. Наоборот, надо заманить её на власть. Главное условие одно: обезпечить в стране абсолютную и безкрайнюю свободу агитации и организации! Нам это – больше всего нужно! Сейчас мы распылены. Но уже за несколько недель мы будем иметь прочную сеть классовых, партийных, профессиональных и советских организаций, да если ещё полную свободу агитации – то буржуазия нас никак уж не возьмёт, освобождённые массы уже не капитулируют перед имущей кликой. И формы европейской буржуазной республики не затвердеют у нас, революция будет углубляться.
А вместе с тем это требование – свободы агитации – настолько общепризнанное демократическое, что буржуазия никак не может нам в нём отказать. И если ещё к этому добавить всеобщую амнистию? И, в принципе, Учредительное Собрание? Как же они могут отказать, сами это провозглашали с Пятого года! А нам – вполне достаточно! И не надо пока больше ничего, даже о земле, даже экономические требования, – не надо пугать буржуазию! Даже не надо требовать объявления республики – это выйдет само собой. А тем более не заикаться о политике мира – это спугнёт их окончательно. Нельзя же от Милюкова требовать Циммервальда, это просто nonsense. Если открыть всю нашу программу мира – то Милюков и власти не возьмёт. А если открыть только часть, то западные социалисты удивятся, какая урезанная наша программа. Но безпокоиться нечего: при свободе агитации мы потом достигнем всего нужного.
– Кто не знает, товарищи: я сам всю войну пораженец и интернационалист. Но сейчас я советую: помолчим об этом! Циммервальдистскими лозунгами мы можем отпугнуть даже обмороченную солдатскую массу, даже и в самом Совете: среди этих простаков ещё принято, что войну надо вести до конца. Нет, свернём пока циммервальдское знамя! – всё настойчивей вывинчивался Гиммер в своём монологе, несомый великой мыслью, даже приподнимался на цыпочки перед столом заседаний. – От этого правительства нам нужно только одно: завершить и закрепить переворот против царского режима! А потом – мы скинем их самих!
Он сам вздрагивал от глубины своего прови́дения. И как-то легко это выговаривалось, не боясь шпионов от думских кругов и что слышат многие за занавеской. У революционных истин есть великое свойство: обречённые, даже слыша их ушами, не понимают.
Тут члены ИК – зашумели, в несколько голосов. Большевики – всё долой, оборонцы, духовные карлики! – разделить с буржуазией власть? А дюжий Нахамкис, час от часу входящий в силу и влияние, косым внимательным взглядом примерялся: может и правда принять гиммеровскую платформу? И, волнуясь получить и этого сильного союзника, собрать вот-вот большинство, Гиммер с новой пронзительностью, надрывая своё слабое горло:
– Нам не соглашение с буржуазией нужно сейчас, а только – вырвать у плутократии ядовитый зуб против нашей классовой самодеятельности! Их правительство тогда не выдержит и быстро лопнет под напором народных сил! Их правительство окажется скоро жертвой нашей углублённой революции!
Гиммер не помнил, когда он говорил так убедительно и так проницательно. Он ощущал просто свой великий момент, взлёт на пик революции! Буревестник!
А те не понимали, трусливые гагары: как это, в коалицию не входить, да ещё и никакого соглашения? Они хотели соглашения ! – и, Чхеидзе:
– Мы будем их подталкивать.
Кружительная сложность гиммеровского выступления состояла в том, что все эти тонкости о власти, высказываемые вслух, были только первым планом его замысла, а позади таился второй: несмотря на перевес болота и оборонцев в ИК – уже сейчас, по этому вопросу, и затем по каждому следующему искусственно и искусно создавать левое большинство – из небольшого циммервальдского ударного ядра и опираясь на левый фланг. Но эти левые – глупые, неумелые, они не понимали всей тонкости гиммеровского замысла: они хотели кричать о «мире» в открытую и пугать буржуазию насмерть. Они хотели хватать власть, прямо сейчас.
А с большевиками и вообще трудно кашу сварить, они слышат и видят только себя. В самый важный момент гиммеровского доклада Шляпников куда-то уметнулся, а потом вбежал и, требуя в порядке ведéния, срочно, забубнил своим владимирским говором:
– Да пока вы тут занимаетесь академическими вопросами, на вокзале конфисковали нашу партийную литературу! Исполнительный Комитет должен принять экстренные меры!
Академическими вопросами! – глупец. У большевиков – комичная исключительность, что только их партийная литература достойна внимания, только их воззвания содержат правильные лозунги, только их предложения могут приниматься.
А за дверью – орали солдаты, ох, орали! вот сейчас ворвутся со штыками и руганью! Солдатский вопрос ревел – и требовал первоочерёдности. Однако, если ворвутся – что им говорить? Офицеры возвращаются? – так горчицей намазать им это возвращение!
Да если требовать полной свободы агитации и организации народным массам – то значит и в армии, для солдат? А как же? Да это было несомненное, замечательное и плодотворнейшее по последствиям продолжение мысли Гиммера – и тут они с Нахамкисом уже имели согласие. Распространить на армию полную демократию и свободу агитации – это создаст для буржуазии невыносимые условия, парализует её, а нам развяжет руки. Распространить на армию все завоевания гражданских прав, свободу союзов, стачек и собраний, ну, вне строя, свободу самоуправления – и армия будет вся на стороне Совета!
Но Нахамкис придумал и предложил и ещё специфический шаг – и Гиммер признал, что конгениально с его собственными предложениями, а без этой конкретизации все наши завоевания пойдут насмарку: невывод из Петрограда и неразоружение воинских частей, принимавших участие в перевороте!
Верно! Верно! Таким требованием мы окончательно привяжем столичный гарнизон к себе и к революции – и решительно отнимем его у буржуазии!
Всё более видели Гиммер и Нахамкис, что им двоим и надо взять в свои руки отношения с буржуазией, что остальной Исполнительный Комитет только всё испортит. Оборонцы всё никак не могли решиться отвергнуть даже коалицию, уже сколько часов с утра над этим прели.
Наконец, уже в шестом часу вечера, проголосовали и, 13 против 7, приняли решение: в министерство Милюкова представителей демократии не посылать.
И меньшинство – осталось недовольно. И Рафес бурчал, что решение ИК – только предварительное, ещё будем консультироваться со своими партиями – и ещё завтра перенесём вопрос на пленум Совета.
Ещё чего! – такой деликатный вопрос переносить в безголовую толпу, вон они как орали за дверью.
И даже до того договорились правые, что решение ИК не может считаться авторитетным, потому что Исполнительный Комитет сам себя выбрал.
Опасный довод! Опасный приём борьбы! Революционно-этически недопустимо так аргументировать!
И – это все почувствовали почти сразу: дверь из комнаты Совета вдруг распахнулась – и оттуда ввалился – нет, не весь Совет, не орда диких штыков, – оттуда вшагнул расстёгнутый, распаренный Соколов, ещё возглавляя движение, а за ним – десяток самых простых солдат, весьма невыразительных физиономий. Что это?
И Соколов уверенно объявил, что это с ним – новое пополнение Исполнительному Комитету – десятеро депутатов от солдат!
Это было – самочинно! непредвиденно! невероятно! Как это так? – никого не спросясь, привести?
– Но это очень неожиданно, Николай Дмитрич! Это меняет всю ситуацию!
– Но так меняется вся партийная и социальная структура Исполнительного Комитета!
Но они – втопали, и вот стояли!
Впрочем, стульев для них всё равно не было.
Обстановка очень испортилась: как можно теперь что-нибудь серьёзное обсуждать? Во что превратится теперь Исполнительный Комитет?
Ах, Николай Дмитрич, что вы наделали!
Безповоротно погубил партийное представительство.
Соколов, войдя сюда, и сам конечно почувствовал. И оправдывался теперь:
– Мы выбрали временно, только на три дня. И главным образом решить вопрос о солдатских правах. Мы выносим на Исполнительный Комитет пожелания пленума Совета… Офицерам оружия не выдавать. И какие офицеры вели себя нелояльно к революции – их к командованию не допускать. И обезпечить солдатам все демократические права…
И Нахамкис оценил обстановку и сразу это принял:
– Так прекрасно, Николай Дмитрич, прекрасно! Вот и берите вашу команду, пойдите займите какую-нибудь комнату – и вырабатывайте документ. А мы на Исполнительном Комитете – утвердим. Я к вам ещё приду.
Переглянулись – ну что ж, хорошо, согласны, пусть идут.
А солдатам – только это и надо, своя нужда.
И Соколов – ещё не измотан, готов. Пошли.
Ушли, все лишние. И остался ИК в прежнем составе заседающих.
Воз-му-тительно! От этого «пополнения» надо как-то избавиться.
Итак, коалиция с буржуазией отвергнута.
А – переговоры? От переговоров – болото и правые не смели отказаться. Надо зафиксировать советские условия к буржуазному правительству. И – предъявить их.
Рафес: в первую очередь добиться отмены национальных ограничений!
Нахамкис решил всё более брать дело в свои твёрдые руки и довести до конца, пролетариату бывает трудно организоваться. Он взял клочок бумаги и стал записывать, какие условия называли и принимали.
Тут неожиданно мало и спорили. О земле крестьянам? о 8-часовом рабочем дне? о войне и мире? и даже о демократической республике? – всё это можно перенести и на Учредительное Собрание, если на него цензовики согласятся. Чтобы Милюков меньше волновался, можно назвать его Национальным Собранием, или Законодательным, как это всё уже бывало у французов.
Но нужно отрезать им лазейку: не дать сговориться с царём! А значит: помешать им сохранить монархию. Запретить им монархию!
Гиммер: но мы напугаем Милюкова – и он откажется от власти! И зачем так настаивать, если даже меньшевицкий ОК в сегодняшнем воззвании не назвал республики?
Ну, выразим это так: буржуазное правительство не должно предрешать форму будущего правления.
Приняли. Хорошо.
А личный состав правительства? Да в общем, пусть набирают кого хотят. Пусть дружки там делят портфели, всё равно не надолго, в это мы не вмешиваемся. Ну конечно, если будут слишком одиозные лица – мы отведём.
А остальные требования, какие приходили на ум, – все были такие старые, от Девятьсот Пятого года, общие всему либеральному и демократическому движению, – не могли кадеты настолько потерять совесть, чтоб от них отказаться.
Вот только чтó там сейчас Соколов с солдатами готовит – это тоже придётся предъявить.
274
Убийства в Луге, бунт ширится.
Днём по улицам Луги безвозбранно ходили толпы солдат, под предводительством неизвестно каких типов. У пожарного депо убили двух городовых. Разграбили несколько лавок. Среди солдат стали попадаться и пьяные.
Но согласно избранной тактике кавалеристы не выходили из казарм на подавление.
Ротмистр Воронович оставался в казарме своей команды, нервничал, но Всяких не возвращался из «военного комитета», и послать больше было некого, деликатное дело.
Около 6 вечера ротмистру доложили, что граф Менгден обходит казармы и произносит речи. Значит, не усидел, решил вмешаться. Что этот сумасбродный старик мог нагородить, ничего не понимая ни в обстановке, ни в чувствах солдат? Воронович поспешил найти его, нагнал его свиту в команде Кавалергардского полка.
Старомодный седой генерал, уверенный в неотразимости своих слов и с неостывшей горячностью, произносил солдатам призывы о славных традициях полка и о верности присяге. Солдаты выслушали молча, не раздалось «рады стараться», и так же молчали при уходе генерала.
И Менгден хотел идти в следующую казарму. Но Воронович придумал просить его зайти в управление подписать срочные бумаги. Генерал согласился, и вся свита повернула.
Оказывается, за минувшие часы генерал уже был арестован на своей квартире артиллеристами и отведен этими мальчишками в их дивизион, но там его освободили и даже извинились. Может быть, этот арест и встряхнул Менгдена. Настроение его было снова бодрое, уверенное, как всегда. Входя в свой кабинет с Вороновичем, он укорил его, глядя красноотечными, чуть слезящимися глазами:
– Я очень сожалею, что днём вы меня отговорили – выйти и крепко поговорить с этими мерзавцами. Это была ошибка, что я поддался вам. Нельзя бездействовать. Вот завтра-послезавтра всякие волнения в Петрограде будут кончены – и мы только осрамимся перед фронтом за сегодняшний день.
На этот единственный миг усумнился и Воронович: может быть, и правда он предложил линию ложную, а старик прав?
Но тут вбежали и сказали, что перед управлением собралась толпа солдат, которая хочет арестовать всех офицерóв.
Всех? Не разбирая? Ёкнуло сердце. Вот так попался, и зачем ушёл из своей казармы, сидел бы и дальше там.
Из соседней канцелярии уже слышался стук прикладов.
Высокий черноусый Воронович вышел из генеральского кабинета и увидел, что канцелярия переполнена солдатами разных частей, больше всё теми же щенками артиллеристами из дивизиона. Он силился сохранить спокойствие, хотя чувствовал, что пронимает дрожь – и негодования, да и опасения, чёрт возьми, это уже за пределами.
– Что вам нужно, ребята? – ласково спросил.
В несколько голосов ответили:
– Арестовать всех офицеров!
Но тут Воронович уже заметил и нескольких солдат своей команды, которые старались к нему протиснуться. Появилась надежда.
– Ну что ж, арестовывайте, если хотите. – Стал закуривать папиросу, руки заметно дрожали.
– Нет, этого не надо! – уже кричали свои. – Этого не трогать!
«Этого»! Ни ротмистра, ни его благородия…
– Кого же вы хотите арестовать? – уже с большей твёрдостью спросил Воронович.
Из толпы выдвинулся подвыпивший чубатый унтер, кавалерист Гусев, выпущенный из карцера толпой, и мрачно уверенно объявил:
– Которые из немцев. Потому, много есть господ офицеров, которые немцы и шпионы.
Кто-то сунул ему записку, он стал читать.
И первым в списке был граф Менгден.
Воронович потерял всю офицерскую уверенность. И не оборвал и не отрубил, а осторожно промямлил о долголетней службе генерала, о старости. Но выдвинулся мальчишка-артиллерист и заявил, что «военный комитет» приказал арестовать генерала Менгдена за то, что он не признаёт нового революционного правительства и призывает к этому своих солдат.
Вот где он был, комитет!
А Гусев с несколькими уже отправились грозно в кабинет Менгдена.
Воронович подошёл к новобранцу, говорившему от имени комитета, и мягко спросил его, нельзя ли подвергнуть Менгдена лишь домашнему аресту, он никуда из своей квартиры не скроется.
Но из кабинета донеслось громко:
– А-а-а! Тащи его!
Гусев побежал туда. И уже снимал висевшее на вешалке тёплое генеральское пальто, с наглой усмешкой подавал его: – Закутайтесь, ваше сиятельство, в шубку, а то в карцере холодновато будет!
Он настаивал вести всех арестованных в карцер, где только что он сам сидел за буйство.
Генерал безпомощно, расслабленно озирался, надеясь, что кто-нибудь вступится.
Но не вступались ни свои кавалеристы, бывшие здесь, ни писари канцелярии, ни единственный здесь офицер – ротмистр Воронович.
И тогда сам обращаясь к нему, граф сказал по-французски:
– Ротмистр, передайте моей жене, что я арестован.
– Не сметь по-немецки! – набросились на него.
И повели.
Ротмистр стоял непроницаемый. Всё шаталось на лезвии, одно неверное движение – и его арестуют тоже. События замахнули гораздо дальше, чем можно было ожидать утром.
А Гусев вытащил ту записку и читал следующие фамилии: фон Зейдлиц, барон Розенберг, граф Клейнмихель, полковник Эгерштром, Сабир.
Отряжали наряды – искать их, арестовывать, вести на гауптвахту.
Кавалеристы и писари погудели между собой и предложили, что они берут Зейдлица, Розенберга и Сабира на поруки.
Артиллеристы согласились.
Об остальных речи не было.
При первой же возможности Воронович осторожно выскользнул из канцелярии со своими солдатами.
И хорошо сделал: оказалось, что Гусев подговаривал артилеристов брать Вороновича: этот ротмистр как старший адъютант подписал приказ о гауптвахте Гусеву.
В своей казарме Воронович почувствовал себя в полубезопасности, но всё равно оставалось тревожно.
Тут вскоре вернулся Всяких и сообщил, что «военный комитет» действительно непрерывно заседает в автомобильной роте, но чувствует себя растерянно без единого офицера. Все офицеры скрылись, боятся показываться. Впрочем, часть их уже арестована. Комитет поставил было караулы к казначейству, к винному складу, но караулы самовольно разошлись, и начался грабёж.
Ах, так вот это же и чувствовал Воронович! – как он нужен комитету, а комитет – ему!
Он сел и стал писать в комитет официальную записку, что, если комитет желает, он немедленно выведет свою команду в город, займёт все караулы, а с дежурным взводом обоснуется на вокзале как центральном важнейшем пункте.
И послал с запиской проворного ординарца.
Сам нервно расхаживал.
Тут прибежали перепуганные писари управления и рассказали. Графа Менгдена, Эгерштрома и Клейнмихеля завели в ту самую камеру, откуда накануне вышел Гусев. Гусары команды Клейнмихеля и другие подходили к дверям карцера и подсмеивались над арестованными. А больше всех – полупьяный Гусев. Граф Менгден молчал, а те двое отвечали. Эгерштром якобы сказал: «Подождите, мерзавцы, сегодня вы куражитесь, а завтра мы вас перепорем».
Он не понимал, насколько серьёзно дело!
Толпа вломилась в карцер и бросилась на арестованных. Генерал Менгден был убит первым прикладом по голове. Эгерштрома и Клейнмихеля взяли на штыки, а потом кинули на пол и добивали прикладами.
Кавалеристы в казарме слушали толпой, Менгдена жалели. Упрекали тех, кто был в управлении при аресте, отчего не взяли его на поруки. Поднялись голоса: разыскать сейчас убийцу старика и с ним расправиться! Но Воронович удержал их: это неуместно, от этого только увеличится кровопролитие и безпорядок.
После этого эксцесса тем более, тем более нужен был тесный контакт с комитетом, иначе через несколько часов начнётся общее избиение и всех остальных офицеров.
Так легко безсмысленно погибнуть.
275
Алексеев усиливает уговоры Государя. – Создалось большинство Главнокомандующих.
Меньше чем за час в Ставку донеслось две телеграммы от Мрозовского. Одна – что войска переходят на сторону революционеров, и даже с орудиями, по Москве большие толпы забастовщиков, и нет надёжных войск обезоружить бунтующих.
Вторая – прямо и кратко: в Москве – полная революция.
Так полнозвучно было названо всё не прорывавшееся, скрываемое слово: революция!
Вот – и уже?..
А Северный фронт, получив успокоительную № 1833, теперь с изумлением и нервностью переспрашивал: откуда у наштаверха такие сведения? Главкосев генерал Рузский просит срочно его ориентировать ввиду ожидающегося через два часа проследования через Псков императорского поезда. По их сведениям, Петроград прервал все сообщения и нельзя подбросить на помощь идущим войскам крепостной артиллерии из Выборга. А в Кронштадте, как уже известно, убивают офицеров и адмиралов.
А Алексееву так неможелось, что он и среди дня прилёг. И, лёжа, поручил Лукомскому передать во Псков для подъезжающего Государя – московские новости, кронштадтские новости, гельсингфорсские, и что адмирал Непенин не скрывает от флота телеграмм Родзянки и признал Думский Комитет. И – снова передать для Государя всё утреннее красноречивое уговорительное письмо, отправленное в Царское.
Ах, и отчего уж так упрям Государь?.. Через год ли, через два, после конца войны, но самодержавию всё равно придётся пойти на самоограничение, не избежать дать ответственное министерство. Так отчего не уступить сейчас, зачем вызывать лишнее озлобление и смуту?..
А сам Алексеев – ничего не мог изменить. Вот даже не мог отменить уже безсмысленного движения крепостной артиллерии из Выборга.
Чередовались на передаче Лукомский и Клембовский.
– Но что, Михаил Васильич, ответить им о телеграмме № 1833?
С той телеграммой конфуз, что и ответить? Стыдно признаться, что просто поверил, поддался Родзянке. Хотя, впрочем, были же подтверждения и из морского штаба. И от иностранных агентов. Видимо, слишком переменчивая обстановка.
– Скажите, что сведения, заключённые в той телеграмме, получены из различных источников и считаются достоверными.
Измождала Алексеева и болезнь, и неподвижность, и невозможность отсюда достать во Псков, самому убедить Государя. А этим убеждением решилось бы всё.
– Передайте, чтобы всё было доложено Государю немедленно по прибытии. А если литерные поезда будут задерживаться с прибытием во Псков, то пусть пошлют навстречу офицера генерального штаба со всеми депешами. Экстренным поездом. А если будет неисправность пути – то послать железнодорожную команду для исправления.
Пот безсилия выступал на лбу Алексеева. Вся судьба России стянулась к этому отрезку от императорского поезда до Пскова. Как их соединить, прояснить и помочь?
Оттуда донесли, что генерал Рузский и Данилов уже выехали на вокзал встречать императорский поезд.
Так просить штаб тотчас вдогонку им везти все телеграммы на вокзал!
Прежде чем Государь повернёт на Петроград – он должен быть обо всём осведомлен!
Тут пришёл к Алексееву великий князь Сергей Михайлович, инспектор артиллерии, тоже едва оправившийся от болезни, сухой, пригорбленный, жёлто-чёрный. И Алексеев – встал к нему. И показал ему все телеграммы.
Сергей Михайлович среди ставочных офицеров держался просто. На тыловые дела давно смотрел пессимистически. А сейчас был и схвачен тревогой за свою Малечку Кшесинскую, и дом в Петрограде, по слухам разграбленный.
Сейчас он выразил полное согласие с уговорными доводами Алексеева об общественном министерстве. И дал разрешение передать своё согласие Государю.
Алексеев очень был рад поддержке и тем более укрепился в своей правоте. И тут же велел бритолицему Клембовскому телеграфировать во Псков, что великий князь Сергей Михайлович безусловно присоединяется к необходимости мер, указанных в телеграмме наштаверха, и в качестве необходимого лица считает наиболее подходящим самого Родзянку.
Не так Родзянко был хорош, как не приходила другая кандидатура.
И ещё:
– Выразите мою надежду, что Главнокомандующий Рузский пpидepживaeтся тех же взглядов. И поэтому защита их перед Государем не представит затруднений, а будет успешна.
Все разумные люди всегда соединяются доводами умеренности.
И Москва же своим восстанием перешла на сторону Думского Комитета. И Балтийский флот – на сторону Думского Комитета. И подошла крайняя пора Государю идти навстречу своему населению, издать успокоительный акт .
С Кавказского фронта пришло Алексееву лаконичное подбодрение великого князя Николая Николаевича: «Ознакомился с телеграммой 1833, вполне и всецело присоединяюсь твоему мнению». (Они были на «ты».)
Кружным, исхитренным путём достигла Ставки и телеграмма Брусилова – графу Фредериксу, то есть для прямой подачи Государю. По долгу чести и любви к царю и отечеству подвижный Брусилов горячо просил Государя признать совершившийся факт и мирно и быстро закончить страшное положение дела. Междуусобная брань угрожала бы безусловной катастрофой и для отечества и для царского дома. И каждая минута промедления в кризисе влечёт напрасные жертвы.
Ещё и эта новая телеграмма укрепила Алексеева в его миротворческих усилиях. Он снова лежал на диване с температурой и взвешивал: что же складывалось? Миролюбивое направление вот уже открыто поддерживали трое Главнокомандующих фронтами и один Командующий флотом, четверо из семи, большинство.
А попытку противиться сделал пока только Эверт. Важен, конечно, не Эверт, но за ним стоит Западный фронт, он здесь рядом, тысячи офицеров, и все по местам. А сам Эверт – только по внешнему виду страшен. На самом деле – он не шагнёт без приказа.
Между тем Западный фронт не забыл и не дремал, но в семь часов вечера Квецинский опять вызывал к аппарату: хотел бы узнать ответ на вопросы главкозапа. Оповестительные телеграммы Ставки нами приняты. Но фронт наполняется телеграммами и слухами со всех сторон, и нельзя различить, где правда, где сплетня. Главкозап опасается, чтобы безпорядки не перебросились на фронт, и полагал бы необходимым получить возможно скорее определённое решение. И – где Государь? и – где Иванов? и – где ушедшие эшелоны?
Снова эти висящие, не остановленные эшелоны. События не ждали, правда.
К аппарату пошёл размеренный круглолицый Лукомский. Вообще, он раздражал Алексеева, и работать с ним долго не будет возможно. Но, не подходящий в военном деле, министерский снабженец, не знавший фронта, он очень укрепил Алексеева в эти кризисные дни тем, что весьма сочувствовал обществу, Земгору, реформам и искренно поддерживал последние шаги наштаверха.
Как-то он там отговорился от Западного фронта, пришёл грузной перевалкой к лежащему Алексееву и доложил:
– Михаил Васильич. Невозможно не сообщить им вашей дневной телеграммы Родзянке. И вообще они настаивают на определённом решении .
Выговорную телеграмму Родзянке? Об опрометчивости его телеграмм, перерыве связи с Царским Селом, задержке царских поездов? Вынести на обсуждение – значит омрачить отношения с Родзянкой, – но он сам на то нарывается. Хорошо, сообщите всем Главнокомандующим.
В такой момент единство с ними должно быть упрочено, и без скрытностей, да.
А определённое решение ? Хотел бы Михаил Васильич сам его от кого-нибудь получить!
276
Арест генерала Сухомлинова. – Ветряная мельница.
Едва в гущу Таврического ввели генерала Сухомлинова – три матроса, два солдата и интеллигент в очках с браунингом, – как весть прокинулась по залам. Возбуждённые солдаты потянулись: куда? куда его повели?? Угрожая и расправиться.
Кого ещё все эти дни водили арестованными – солдаты не знали. Видели мундиры жандармские, генеральские, видели бобровые шапки, дорогие шубы, чужую кость. Видели, как с револьверами в руках вели какого-то архиерея, это уже и грех, он и идти не мог, ему подставили стул, он подкосился на него, дальше его несли на стуле, а он благословлял попутно. Но Сухомлинова – это единственное имя знали даже тёмные солдаты, о нём уже год писали все газеты и разъясняли читчики газет: что это и есть тот главный генерал-изменник, из-за которого гибло столько нашего брата на фронте, не было снарядов, из-за которого не кончалась война! Наконец-то поймали настоящего виновного и врага! (А кто и слышал, что его уже сажали в крепость – но потом освободили по руке других таких изменников.)
Успели его провести в крыло здания, в какую-то неизвестную комнату, – но солдаты настигли, крик рос, столпились жаркой стеной и требовали подать его сюда, и знали, что никак иначе не провести его в арестные комнаты, как через них и потом через большой зал. Кричали:
– Выдать Сухомли́на!
К ним вышли два думца и успокаивали, что во всём разберётся суд, что не должно быть расправы.
– А сюда его! Изменник!
Нехотя поддавалась толпа уговорам. Своими руками расправиться – эх, хорошо бы, верно, быстро, без сумления. А то ведь – спрячут, потом уведут, опять ослобонят, избегнет. Кому и разверстаться, как не солдатам, кто ж гиб, как не солдаты, не вы ж тут гибли!
Ладно, кто догадливый выкинул:
– А сорвить с него погоны и несить нам сюда!
Погоны-то, золотопереплетенные, и были ненавистны боле всего.
– Не! при нас сорвите!
– Всем унутрь нельзя? Хорошо, вот при наших посланцах.
(Посланец называется делегат , учили их тут в другом крыле другие господа.)
Пошли двое от солдат. Пошли в ту комнату, где сидел у стены этот лысый, вислоусый генерал, погорбился, мешок опущенный.
Какой-то господин подошёл к нему с ножницами. Но генерал пожелал срезать сам. Проворно снял шинель на колени. Достал перочинный ножичек. И ловко срезал, не портя погонов.
Но тем самым открылся мундир.
– Давай и с мундира! – командовали солдаты.
С мундира срезать ему помогли.
А орденов на груди он не принёс, лишь георгиевский крест.
Кто-то из здешних господ сказал, что надо снять и крест. Но конвоир-матрос вступился:
– Ничаво. Георгий пущай останется. Снимут по суду.
Солдатские посланцы понесли генеральские погоны и высоко подняли. В толпишке загрохотало «ура».
– Сюда покажи! Сюда покажи!
Всё ж таки бывает правда на земле!
Кто стал расходиться. А иные всё стояли, ожидая, когда поведут.
И думские в комнате не знали, как его безопасно перевести в министерский павильон.
А генерал подрагивал.
Тут появился, ворвался, как крылатый, вездесущий Керенский. Он и решил: везти генерала немедленно в Петропавловскую крепость, откуда он незаконно освобождён царём! И он же взялся его вывести. Пошёл впереди театральным шагом, сзади ещё двое-трое и матросы-конвойцы. Выйдя к растаявшей уже кучке, Керенский, сам тонкий, прокричал повышенно тонко-звонко:
– Солдаты! Бывший военный министр Сухомлинов находится под арестом. Он состоит под охраной Временного Комитета Государственной Думы. И если вы в законной ненависти к нему дозволите себе употребить насилие, то этим вы только поможете ему избежать кары, которой он подлежит по суду! И опозорите революцию пролитием крови в стенах Государственной Думы. А со стороны нас вы встретите самое энергичное противодействие, хотя бы оно стоило нам жизни!
И голос его дрогнул от переживаемой красоты.
Хотя по-учёному он это выразил, но поняли солдаты: ладно, не трожьте, будут судить.
И никто рук не простягал. Только орали:
– Изменник! Предатель!
Бледный Сухомлинов набрался ответить:
– Неправда.
– Правда, правда! – кричали со всех сторон.
И повели генерала, и в новом месте посадили неподалеку от крыльца, пока автомобиль разыскивали. И мимо него ходили солдаты и штатские, вооружённые и с красными повязками, «товарищ, как пройти к такому-то?», «товарищ, где информационная комната?».
Странно звучали эти повсюду «товарищи».
Сухомлинову арест был не внове, как другим сановникам: только последние 4 месяца он был под домашним арестом, а перед тем полгода просидел в Трубецком бастионе, в Алексеевском равелине, единственный там узник. Уже год имел он время размышлять и обижаться: вместе со столькими продвигались по увлекательной лестнице государственных чинов, это длилось как нескончаемая прелестная игра, – и откуда же вдруг на старость лет так тяжело спросили с него одного?
Сухомлинов долго продвигался, не достигая сияющих ступеней. Лишь на пятом десятке лет он стал генералом, и тут начались самые яркие счастливые его годы: генерал-губернаторство в Киеве с революционного октября 1905 года, и, уже двукратный вдовец, в 60 лет он страстно влюбился в 23-летнюю замужнюю женщину и поставил жадной задачей – отнять её себе! В его высоком положении и при памяти, что и вторая покойная жена его была разведёнка, и при отчаянном сопротивлении нынешнего мужа – трёхлетняя борьба этого нового развода была сотрясательной, но чудесный приз стоил того, и Сухомлинов не унывал, боролся и с благодарностью принимал помощь ото всякого, кто её предлагал, – от австрийского консула в Киеве, от генерала Курлова, от жандармского офицера Мясоедова или начальника Охранного отделения Кулябки. Три года длился скандальный процесс, и заветный развод был вырван подачей на высочайшее имя, когда Сухомлинов стал уже военным министром. Одержанная мужеская победа стоила потерь – неприятностей при Дворе, властных капризов жены, поездок на заграничные курорты, поиска денег, – всё это не омрачало изумительной победы.
В Киеве он научился совмещать несовместимое: быть популярным в обществе, нравиться образованной публике, театральному миру, иерархам церкви, помягчать евреям и получать всё более высокие посты от Государя. Он умело избежал поехать на Японскую войну, предпочтя надёжное тыловое выдвижение. Генерал-губернатором он умел не рассердить ни революционеров, ни либералов. Только правые сильно не любили его и в одной публичной речи выразились о своём генерал-губернаторе так: «Крылья ветряных мельниц или, как их называют в здешнем крае, сухих млынов , осыпанные золотистой пылью, вращаются по направлению дующего ветра».
Когда-то юному наследнику престола Сухомлинов преподавал тактику. В зрелые годы он сумел возобновить с Государем правильный тон: постоянную жизнерадостность – она так нравилась! Он всегда убеждал Государя в наилучшем течении военных дел. И так он напечатал в «Биржевых ведомостях» перед самой войной, что Россия – вполне готова к ней, что она совершенно забудет понятие «оборона», а её артиллерии никогда не придётся жаловаться на недостаток снарядов. (И это так было приятно Государю!) И в Четырнадцатом году Государь хотел назначить военного министра Верховным Главнокомандующим, но Сухомлинов отклонил эту честь.
Он и был таким на самом деле – жизнерадостным, жизнелюбивым, рассказчик анекдотов. (Оттого бывал и опрометчив: грозило столкновение с Австрией, а он размещал там военные заказы и туда же вёз на курорт жену.) Ветряная мельница в золотистой пыли, он всё молол, молол, не беря на зубы твёрдого, и так не рискуя их сломать. И если иногда его охватывало страховатое чувство, что его всю жизнь принимают как будто не за того, кто он есть, и как бы не разоблачили, – он ещё оживлённей и цветистее молол. За этими весёлыми взмахами он к июлю Четырнадцатого упустил подготовить запасной вариант частичной мобилизации.Он не был изменником. Но он был на самом высоком холме – ветряною мельницей, тоже замахнувшей нас в войну и прокрутившей впустую лучшую русскую силушку.
277
К вечеру и в ночь – в Петрограде, Шлиссельбурге, Москве, Кронштадте (фрагменты).* * *
Собрание печатников на Калашниковской бирже решило: буржуазных газет пока не печатать. По постановлению Совета рабочих депутатов разрешён выход в свет только тех газет, которые не будут противодействовать революционному движению.
* * *
Из Таврического выносят свежий номер «Известий СРД», несут к автомобилю, развозить и разбрасывать по городу. Публика накидывается, умоляя поделиться. Несущие начинают разбрасывать. В свалке один солдат кричит:
– Да стойте же! Да тише же! У меня бонба в руках!
Еле выбирается из гущины. И правда, бомба. Морская мина.
– Ведь эка лезут, непонятливые!
* * *
Обстреливали с улицы высокий дом, ранили домовладельца: пуля вошла через подбородок, пробуровила лицо, вышла над глазами. «Ты стрелял?» – «Нет!» – Солдат хочет его пристрелить, а штатский в чёрном пальто: «Зачем на такую скотину пулю тратить?» – Схватил полено от печи и пришиб его. Стащили убитого вниз, показать народу, бросили под ворота. И штатский рассказывает толпе, как убил, дико вращая глазами.
Прибежала жена, плачет: «Невинной погиб!»
* * *
Великий князь Игорь Константинович позвонил из Мраморного дворца на Фонтанку княгине Лидии Васильчиковой. Но едва она трубку взяла – к ней в дом ворвалась очередная солдатская банда «проверять, откуда пулемёты стреляют», – и матрос выхватил у княгини трубку, сам спросил в телефон:
– Откуда вы звоните?
Ответил бы «из Мраморного дворца» – и княгине бы не сдобровать. Но Игорь Константинович, услышав грубый чужой голос, сообразил:
– Я хотел узнать, все ли у вас здоровы?
Матрос оскалился:
– Спасибо, мы – здоровы! А вот как вы поживаете?
* * *
Все аптеки на Невском закрыты. А над каждой аптекой висит, как положено, двуглавый орёл.
И вот какой-то рабочий догадался, или надоумили. Сыскал лесенку, приставил и бил орла молотком. На тротуар сыпались осколки.
Мимо шли два иностранца, с очень довольным видом, разговаривали по-английски. Оглянулись, засмеялись, пошли дальше.
* * *
Нигде у ворот уже не стоят дворники, не охраняют порядка. Каждый волен делать что хочет.
Лазаретные солдаты тоже сбегают в город, ночевать не возвращаются или поздно. Сёстры их просят: хоть по телефону сообщать о себе.
* * *
В красных лучах заката вдоль Дворцовой набережной мимо Летнего сада медленно движется грузовик. На нём – матрасы, узлы, вещи, вывезенные из квартиры жандарма, то ли арестованного, то ли убитого. Его самого мундир высоко торчит, надетый на подметальную щётку, и пустые рукава болтаются на ходу. Впереди вещей наверху в кузове – двое солдат без поясов, шапки кое-как. А между ними – пьяная девушка в яркой жёлтой косынке скатертного материала, с красной перевязью наискось по пальто и с обнажённой саблей в руках. Охрипшим диким голосом она поёт, уже видно не первый раз:
Вы жертвою пали в борьбе роковой, —
и размахивает саблей в такт.
Как раз проехали мимо того места, где Каракозов стрелял в Александра Второго.
* * *
Вечером солдаты 1-го пулемётного полка, ставшего в Народном доме, сообразили, что это с умыслом их завели в такой странный, на дома не похожий дом, стоящий настолько отдельно, что его можно легко и взорвать. Их завели, чтобы тут изничтожить. В большом зале для сидения в одну сторону они долго обсуждали, не уйти ли им. И пустили разведку обсмотреть подвалы. Так и есть! – там стояли какие-то машины, и от них куски пола проваливались, а от одной начинался гром без молнии. Большой был перепуг, и бежали, душились все наружу, хорошо много дверей.
Всё ж остались. Но на 10 их тысяч с лишком не хватало отхожих очёк. Враз забила, завалила братва все дырки. Стали штыками дырки прочищать – трубы пробили, потекли, знать, нечистоты – и потолки стали мокнуть.
* * *
Вечером на петроградских улицах – полная темнота, фонари многие перебиты, дома наглухо закрыты, окна зашторены, магазины заколочены. Всюду жуткая пустота, есть кварталы – ни встречного, только где промелькнёт испуганная фигура.
Сильный свет и движение – лишь от фонарей автомобиля, когда едет. А некоторые автомобили задрапировали по одному фонарю красной материей – и так ездят, однокрасноглазые, с розовым пучком вперёд.
* * *
( Шлиссельбург ) – Сегодня рабочие Пороховых заводов пошли большим шествием вверх по Неве – с красными флагами, утаптывая по льду снег. В верхних открытых окнах Шлиссельбургского замка уже стояли арестанты, ожидающие освобождения, махали, кричали. Охрана не пыталась сопротивляться и безпрекословно отдавала рабочим свои винтовки и подсумки. В тюремных коридорах появились молотки, зубила – и каторжане сами сбивали кандалы, разбрасывая их по полу мёртвыми змеями. А кто-то брал с собой на память. В цейхгаузе меняли бельё, рубахи, но серые халаты и туфли оставались те же. По двору, нагрузя сани «делами» в синих обложках, потащили их к жерлу котельной – и сбрасывали туда, а потом в топки. С других саней, где уложено было отнятое у охраны оружие, произносили горячие речи товарищи Жук и Лихтенштадт. И тронулись через ворота, по Неве – на тот берег, своих больных ведя под руку.
В городе Шлиссельбурге перемешались с горожанами, снова речи. Люди несли арестантам тёплую обувь, шапки, перчатки. Потом потянулись долгим шествием к Пороховым заводам. Вечером рабочие разбирали арестантов по своим квартирам, угощали, клали на лучшие кровати.
Всего в этом тюремном бастионе нашлось 67 человек, политических и уголовных. Среди них – разжалованный за причастность к убийству бывший член Думы Пьяных, эсер.
* * *
( Москва ) К вечеру Кремль сдался, и солдаты валили в Никольские ворота.
Ночью из Бутырской тюрьмы освободились две тысячи уголовников – и пошли гулять по городу.
* * *
( Кронштадт ) – Полуэкипаж составлялся из худшего и даже уголовного матросского элемента, списанного с судов и не посылаемого в бои. Они этой ночью и кинулись первые: врывались с мола на пришвартованные суда и вязали офицеров. Гавань была ярко освещена электричеством – и видно было, как они выбрасывают за борт убитых офицеров, и лёд окрашивается кровью.
Мичман Успенский, уцелевший осенью при взрыве броненосца «Императрица Мария», был в феврале командирован на обучение в минные классы в Кронштадт. В эту ночь он нёс вахту на минном заградителе «Терек». С берега ворвалась банда вооружённых матросов с ленточками Полуэкипажа. Успенскому скрутили руки и уже приставляли к голове револьвер, как вахтенный унтер остановил их: что этот – с Чёрного моря и учится в минных классах. Бросили его, связанного. Сами снимали с офицеров часы, кольца, брали кошельки, грабили их каюты. И волна обыскивателей повторялась пять раз.
Неубитых офицеров вывели на мол, срывали погоны (с кусками рукава), кокарды, повели на Якорную площадь, показывать трупы убитых офицеров и растерзанного адмирала, потом снова вывели на лёд: «Не хотим пачкать собачьей кровью кронштадтскую землю, будем расстреливать на льду». Щёлкали затворами, целились – но потом повели в Морскую тюрьму, пустили в камеры без нар, спать на полу.
278
Шульгин в думском водовороте. – Пулемётов! – Как формируется новое правительство.
Да кого не перемелет эта изматывающая тупая перелопатка, колотушки по бокам! Как в этом месиве сохранить возвышенное состояние души? И все вокруг стали как пристукнутые, потерянные, – но монархисту, но патриоту, но консерватору Шульгину подступило уже вовсе нестерпимо. Творилось что-то совсем не то , даже по сравнению с его вчерашней дерзкой, но успешной поездкой в Петропавловскую крепость. Какие ещё вчера утром трепетали красивые лепестки – все безжалостно срывались и затаптывались. Шульгин и все они – попали куда-то не туда , и в головокружении, в потере воли не могли найти себе ни места, ни применения.
И – некому было кинуться на грудь, ужасаясь. Вокруг не стало никого, с кем поделиться.
Это был затянувшийся на день и на ночь, на день и на ночь, на день и на ночь кошмар: минутные вспышки просветления, когда вдруг остро и безнадёжно осознаёшь происшедшее, а потом – тягучий серый бред, как это вязкое людское повидло, набившее весь дворец, связавшее все движения и наяву и во сне. Как нельзя было физически протолкаться по дворцу, так нельзя было и действовать, и невозможно придумать, что делать. Полутьма ночей, где фигуры истомлённых новых властителей России дремали в скорченных позах на кушетках, стульях и столах, сменялась круговращением серых дней, трещанием телефонов с жалобами, призывами, умолениями, вереницами приводимых арестованных, выставляемых на какие-то проверки или заводимых в кабинеты для перепрятки, а потом выпуска; целой очередью приниженных, переодетых городовых, закрученной на внутренний думский двор; бледными, потерянными, вопрошающими армейскими офицерами; и поручениями от Думского Комитета, и поездками в полки, и речами, речами, речами тут же, в Екатерининском зале, обращённом в манеж серо-рыжего месива, торчащего штыками, и в бывшем Белом зале заседаний, где зияла теперь пустая рама императорского портрета; и «ура, ура» непрекращаемых митингов, перемежаемых порчеными марсельезами, иногда команды «на караул» в честь Родзянки, но войскам уже не выдать себя за войска, а – вооружённые банды, которым Чхеидзе поёт о сияющем величии подвига революционного солдата, о тёмных силах реакции, почему-то старом режиме , распутинской клике, опричниках, жандармах, о власти народа, земле трудящимся и свободе, свободе, свободе. И валят во дворец ещё какие-то гражданские депутации, только ленивый не произносит перед ними речей. Между испачканными колоннами Екатерининского зала расставлены столики, и барышни, по виду фармацевтки, акушерки, раздают листки и брошюры, до этих дней нелегальные. На красной бязи по стенам протянуты партийные лозунги. Много ремонта понадобится – вернуть всё в прежний пристойный думский вид. На комнатных дверях – бумажки с надписями о каких-то «бюро», «бюро», «ЦК партии эсеров», «Военная организация РСДРП», – оседают, завоёвывают Таврический дворец.
А особенно больно зацепил ухо Шульгина этот «старый режим». Хорошо, если бы под сменой режима они понимали бы расставание со Штюрмером, Протопоповым, с безответственными министрами, с бездарными назначениями. Но ведь они включают в эти слова – расставание с самою монархией?! Со всею исторической Россией? А – кто это определил? Кем это постановлено?
И когда же, и как это повернулось? Шульгин и его единомышленники всю жизнь боролись против революции. И пошли в Прогрессивный блок, надеясь кадетов превратить в патриотов, – и где же сами очутились? Сами, сами же содеяли разрушительной работе злополучного Блока. Под защитным прикрытием государственной власти красноречиво угрожали – ей же. А вот теперь, когда её наконец расшатали, не стало, – теперь все они оказались перед лицом зверя из бездны.
Шульгин оставался из немногих думцев, кто ни единой речи не произнёс перед этим приходящим стадом. Не потянулся за такою честью. Да и горло его было слабо перед этими торчащими штыками, немел независимый язык. Все лица толпы стали сливаться для него в одно гнусно-животно-тупое выражение, и хотелось не видеть его, куда-нибудь отвернуться, где его нет, и он стискивал зубы в тоскующем отвращении.
Как это бывает, совсем забудешь в себе какое-то, уже тебе известное, но не укоренённое впечатление, – и вдруг оно проступит вновь. Так теперь поднялось в Шульгине старое его ощущение ненависти к революции, это дрожное нутряное чувство киевского Девятьсот Пятого года. За многими годами воротившейся мирной жизни, за шумными думскими прениями, разоблачениями правительства – он как-то совсем его забыл. А теперь час от часу оно вставало в душе, дорастая уже и до бешенства: пулемётов бы! Несколько пулемётов сюда! – только их язык поймут эти !
Как им скачется! Свобода до одури и рвоты! Ах, прозревать начинал Шульгин, чему эта солдатня так рада: они надеются теперь не пойти на фронт! Для того они и насилуют, унижают, убивают офицеров – чтобы тогда не идти на фронт!
Да где же тянулись эти пресловутые войска Иванова? – что ж они никак не идут? не войдут?
Не то что батальона, а трёх решительных вышибал не было у Думского Комитета, чтобы хоть прочистить коридор в своём последнем думском крыле! Ведь не протолкнуться же через эти рожи!
Впрочем, разве павшее правительство лучше? Куда же оно-то дело свои войска, свою полицию? Разбросали городовых по улицам по одному, по два, на побои и на убой. А надо было собрать всю полицию в один большой кулак и выжидать. Когда все части перебунтовались и потеряли дисциплину – вот тут бы и двинуть. Но кто это мог сообразить? Протопопов? Он первый сбежал.
А где та гвардия, та легендарная гвардия , которая одна остаётся верна императору в худший и гиблый час, когда всё вокруг бунтует и пылает? Одно из двух: или гвардия нужна, или пусть её вовсе не будет. Если нужна, то нельзя посылать её перемалывать на войну, и солдаты её должны отбираться не по росту, не по форме носа, и не по месту жительства, близкого к запасному батальону, а по верности и закваске.
Но – нет такой гвардии. Но – безсмысленно состряпана гвардия. И перемолота.
И теперь – остаётся Бога молить, чтоб это всё сотрясение родило лишь конституционную парламентскую монархию, но не дальше .
Ибо это всё уже заворачивалось – дальше .
Строил Шульгин: перед этим грозовым завихрением – что должен делать царь? Что делал бы на его месте Шульгин?
Самое правильное – разогнать всю эту сволочь залпами.
Или? Или уж тогда…
Не проговорить самому себе. Сползало в пропасть.
У Государя не осталось сторонников, не осталось верноподданных – последних съел Распутин. Мёртвый он ещё хуже живого: был бы жив – вот сейчас бы его убили, и отдушина.
Монархия – под угрозой!
Как же в этом безумном повидле монархисту – спасти монархию?
Шульгин хотел найти какой-то высокий, красивый, стремительный – и аристократический образ действий. Но – ничего не мог придумать. Он утерял свою обычную живость и слонялся в дурманном безсилии.
Революция ждала от нескольких затёртых толпою думцев, чтоб они осуществили власть. Какую там власть!.. Думский Комитет оказался не только не власть, но не имел сил удержать за собой даже просторный кабинет Родзянки. Родзянко хотел за помещения спорить, но Милюков и иже сразу подались: Дума не должна вступать в конфликт с Советом рабочих депутатов! И вот Комитет перешёл в две крохотные комнатки в конце коридора, против библиотеки, где помещались канцелярии, прежде неизвестные самим думцам.
И тут, в той тесноте, и то лишь в промежутках, когда никто не рвался в дверь и никого не рвали наружу, Милюков и компания обсуждали состав нового правительства – то шепчась по углам комнат, по краям стола, то громко в несколько голосов. Нашли время и место! Сколько раз предлагал им Шульгин заранее твёрдо определить и даже опубликовать список «облечённых доверием всего народа» – и всегда отвечали ему, что неудобно и рано.
А теперь – как бы не слишком поздно.
Милюков был – кандидатура самая несомненная, он уверенно и руководил переговорами, в его руках был и главный список. Твёрдо заходил и Гучков. Хотя и не член 4-й Думы, но всегда такая громкая и воинственная была его позиция, что претендовал на министерство с основанием. С другой стороны, робея перед социалистами, два портфеля – юстиции и труда, уже, оказывается, уступались Керенскому и Чхеидзе. Да вдохновенный Керенский, бритый как актёр, стал настолько необходимым для всех в эти дни, что без него уже и не мыслили правительства.
Но дальше начиналось загадочное: какая-то неназванная тайная спайка вступала в переговоры, и всё гуще шептались, – и донеслось до Шульгина, что министром финансов воюющей России станет не ожидаемый Шингарёв, а почему-то – 32-летний надушенный денди Терещенко, очень богатый и прекрасно водящий автомобиль. Шульгин присматривался – и удивлялся. Как старая власть губила себя, цепляясь за Штюрмеров, а ей тыкали вот эти самые люди, – так теперь эти самые люди на первом же шагу топили себя, нагружаясь ничтожествами Терещенкой, Некрасовым. Столетие «освободительного движения» против надоевшей Исторической Власти принимало себе на финише призом – кабинет полуникчемных людей.
Всё это неслось куда-то в пропасть…
Шульгину не предлагали никакого портфеля – он был слишком правый для нового правительства, в новой обстановке. Да он и не тянулся за портфелем. Он и не знал такой государственной области, в которой мог бы руководить. Ни одно министерство ему и не подходило. По характеру он любил не материальную власть, но духовный авангардизм.
С его постоянной живостью и остротою он был, во-первых, оратор. Может быть – писатель. Не работник политики, но – артист её.
И сейчас, когда всё начало падать в пропасть, и отемнилась, и защемилась душа его, и может быть надо было готовиться к смерти, – Шульгин жаждал лишь проявить себя в некоем подвиге.
Артистичном. Аристократичном.
279
Родзянко расстался с надеждой поехать.
Родзянко стал не только внешне каменным изваянием, но он уже и на самом деле каменел. Каменел от непрерывного глашательства речей. Каменел от скорбных дум. От несочувствия вокруг себя членов Комитета и что лишили они его права действовать. Все вместе они восстали против его поездки – и он не мог разорвать этого кольца. И из его огромного тела утекала решимость.
Не так было обидно, когда не пускал этот собачий совет депутатов. Обидно, что не пускали – свои же.
Бывало, с высоты трибуны озирал он депутатов Думы – как своих защищаемых, подопечных, едва ли не как своих сыновей.
А они – вот…
Если он поедет – то будет премьером. Для того и не пускали, чтоб его обойти. И выставляли предлог, что Родзянку – «не позволят левые».
Они второй день готовили самочинное правительство – без Председателя.
Он столько лет грудью защищал их свободу слова. Он сегодня ночью спас их всех от карательных войск. А они его – не пускали. Интриговали…
Уже всё было подготовлено! – историческая встреча! И не состаивалась!..
Из Дна от Воейкова пришла телеграмма, что, не дождавшись там, Государь приглашает Родзянко во Псков.
А от Бубликова всё звонили: поезд на Виндавском под парами, когда же поедут?
Лишали себя и лишали всех последней, единственной возможности мирного посредничества.
Догадка страшная: да нужно ли им мирное посредничество? Да нужен ли им мирный выход?
В кошачье-злых глазах Милюкова прочёл Родзянко, что не нужен.
Они вообще, кажется, не хотели переговоров с Государем, и ничьих? Они и хотели – разрыва?..
Но и в этот горький час надо быть благородным, подумать и о несчастном Государе, которому несладко вот так метаться, а его тем временем, как воришку, хотели задерживать. (Стыдно, что утром не сразу успел пресечь.)
Едва не зарыдав, Родзянко скомандовал Бубликову по телефону:
– Императорский поезд назначьте на Псков. И пусть он идёт со всеми формальностями, присвоенными императорским поездам.
Голос дрогнул.
– А между тем готовьте с Варшавского вокзала поезд на Псков.
Может, ещё и поедет.
Или кто-то другой?
Решалось.
А поедешь, получишь от Государя назначение, но здесь сочтут изменником и прислужником реакции? тоже не годится.
Да и со Дна слухи, что там жандармы арестовали ненадёжных железнодорожников. Небезопасно было туда Председателю и ехать, может хорошо, что не поехал. Смотри – и самого задержат.
А ещё свободна ли дорога на Псков? Доносили о каком-то бунте в Луге? Запросить Лугу.
А тут пришёл Гучков и стал намекать, что ехать – надо, да, но не за утверждением ответственного министерства – а за отречением самого Государя.
Уже от-ре-че-нием??
Может быть, действительно, Председатель чего-то тут не понимал, отставал?
Нет, за этим он ехать не может. Пусть кто-нибудь другой.
Хотя после явления Кирилла – действительно, какая-то шаткая ситуация. Династия – расколота.
Раздутая голова гудела от трёхдневного круженья. От невозможного столпотворения в родном Таврическом дворце. И взнесен ликующими криками полков. И уязвлен предательским поведением думских коллег. И оскорблён хамской дерзостью Совета депутатов.
Какие-то солдаты искали убить Председателя. А Совет депутатов – мог задерживать, значит мог и арестовать? (Узнал, что там сегодня резко выступали против него и Энгельгардта.)
Всё это человекокружение было ненаправляемо.
А поезд Государя – уже во Пскове, и Государь ждёт своего Председателя.
Но уже видно, что его не пустят.
И Родзянко телефонировал опять в министерство путей и просил телеграфировать:
«Псков. Его Императорскому Величеству. Чрезвычайные обстоятельства не позволяют мне выехать, о чём доношу Вашему Величеству».
Он – прощался со своим Государем.
280
Ходы и планы Бубликова. – Думские не ценят.
Было бы удивительно, если бы революция не пришла, это бы значило, что народ уже безнадёжно пал. Но для народа, увы, революция – это только практическое средство, он не ощущает её внутренней красоты, как она разворачивается ото дня ко дню и от часа к часу. Эту красоту всю пропускает через себя сильный характер.
В стране, которую безликая правящая банда лишила характеров, Александр Бубликов был на редкость характером цельным и сильным. Вот он сам открыл, нашёл себе место и добился его: руководить министерством путей сообщения. Не приди сюда Бубликов, не назначь его себе полем боя – и это министерство так же бы продремало и прокисло дни революции, как и десяток других министерств. Но он пришёл – и зажёг огонь в омертвевших правительственных жилах, и отсюда, из нескольких смежных кабинетов, совершил революционный акт большего значения, чем всё произошедшее в Петрограде: выпрыснул петроградскую революцию по всей России – только одними путейскими телеграммами, в одну ночь.
Вслед за тем стали ловить и загонять в тупик царский поезд. Само собой по всем дорогам продолжали двигать продовольственные поезда к Петрограду. А сверх задумал Бубликов ещё одну игру: как расставить ловушку на великого князя Николая Николаевича – заставить его вступить в сношения с новой властью и признать её. Для этого он послал ему телеграмму, что необходимо сменить главного инженера по постройке Черноморской железной дороги (как будто в дни революции не было у министерства задачи срочней), – и комиссар Государственной Думы Бубликов испрашивал на это назначение согласие Его Императорского Высочества, кавказского наместника. Даст великодушное согласие – вот и признал новое правительство!
Расхаживая нервно по просторным кабинетам, потирая руки и на дальних расстояниях достигая событий и людей – Бубликов за всю жизнь впервые почувствовал себя в настоящем просторе. Он всегда рвался к действию! Ему бывало душно в слюнявых интеллигентских компаниях, вечно размазывающих о морали, но не способных к мужским действиям – принуждать непослушных, подавлять непокорных, направлять движения масс. Когда через несколько дней он будет назначен в это здание уже полноправным министром, Бубликов знал, какие грандиозные преобразования он затеет: они поразят робких чиновников старого состава, но будут сокровенно революционны в своей инженерно-технической сути. Нашy интеллигенцию невозможно перевоспитать словами, идеологию индустриализма надо показать в действии. России предстоит путь титанического развития промышленного творчества, феерического развития капитализма, – и только этим избежать закланного пути социализма, так губительно близкого народным идеалам справедливости. Но народ надо уметь позвать . Первая телеграмма Бубликова и была таким зовом, и история оценит её когда-нибудь как начало творческой революции.
Переполненный такими мыслями и восхищением от совершаемого, Бубликов расхаживал и расхаживал по смежным комнатам, в промежутках между телефонными звонками, а между тем и зорко замечал, что происходит рядом. Наладились строгие дежурства Рулевского (оказалось – он большевик) с подсменниками. Каждому из них в дежурство приставлялось на побегушки по 4 студента-путейца (им деться некуда, их институт занял пехотный полк, пришедший из Петергофа). Ротмистр Сосновский, очень живой и приятный человек, тщетно добивался для своих солдат-семёновцев питания из их батальона – ничего не несли, зато стали таскать из института путей сообщения. Сам же ротмистр повадился ходить наверх в пустую министерскую квартиру, убережённую им от солдатского разгрома, и там министерская прислуга в благодарность поила его вином. Как начальник охраны Сосновский подписывал вместе с Бубликовым разные пропуски. Всех руководителей – Бубликова, Ломоносова, Рулевского, Шмускеса и других, кормила жена одного из курьеров – латышка и социалистка. Обычных служащих являлось меньше половины, но пульс революции в министерстве ещё отчётливей бился и без них. Задержка царского поезда не удалась в Бологом, не удалась и на всём пути до Дна, а потом Родзянко – сдался, велел пропустить императорский поезд во Псков.
Рыхлый ничтожный толстяк! Разве с такими делать революцию? Потерянный русский народ! Нет в России железных людей!
Телефонные переговоры с Думой, официальные и по знакомству, отнимали у Бубликова больше всего времени и сил, вызывали и наибольшую досаду. В Думе царила полная неразбериха, растерянность и говорение. Чего стоили одни отмены родзянковской поездки, с трёх вокзалов. А потому и не мог он поехать, что явно не было власти ни у кого в Думе, но шло непрерывное говорение с Советом рабочих депутатов, который и пересиливал их всех. Это – бесило Бубликова, их всех там одолевала интеллигентская безпомощность, – но он не мог отсюда прыгнуть ещё и туда к ним, влить им всем горячего железа – и победить Совет рабочих депутатов.
Это говорение в Таврическом могло сгубить всю революцию – и действительно начало губить: вот стало известно, что Думский Комитет назначает комиссаров для заведывания всеми министерствами – и что же? – комиссаром путей сообщения назначался не Бубликов, а Добровольский!
Они совершенно там ошалели! Они не только забыли про Бубликова, отдавшего им всю Россию, не только забыли, что он уже тут сидит и правит министерством, и держит Кригера арестованным, – неблагодарно забыли даже, что самую идею комиссаров придумал именно Бубликов! Для себя лично Бубликов больше бы достиг, если б эти двое суток проболтался в безсмысленной толчее Таврического!
Он твёрдо решил: министерства не уступать!
И для укрепления назначил Ломоносова Товарищем Комиссара.
С Ломоносовым отношения были сложные: тот когда-то в комиссии провалил бубликовский проект. Но сейчас Бубликов верно выкликнул его на революцию. Конечно, он остроглазо и острым нюхом следил только – чтоб оказаться среди победителей. Он не был боец. Но сейчас в этой обстановке прекрасно годился.
– А когда стану министром – хотите старшим Товарищем?
Ломоносов молниеносно (уже думал):
– А Воскресенский?
– Не пойдёт. Ведь его прочили в министры, ему обидно.
Есть красивые жесты: не хочу никаких наград за участие в революции! Или: я привык – работать, назначайте меня начальником Николаевской дороги или начальником управления. Но в такой момент – и упустить? А потом Бубликов куда-нибудь перейдёт, возвысится, – сразу станешь министром.
– Ну что ж, ваша воля, Алексан Алексаныч.
– Вот сядем, обсудим списки первых назначений и увольнений.
А пока – мелькал, перекатывался по комнатам стриженый котёл ломоносовской головы, и уверенный баритональный бас его от телефонных разговоров вдохновлял всех тут:
– А что там в Гатчине?
– Двадцать тысяч лояльных войск.
– Что значит – лояльных?
– Не революционных.
– Усвойте себе раз навсегда, что это бунтовщики ! Лояльные – это те, кто на стороне народа!
281
Прежняя служба генерала Рузского. – Изнывания. – Рузский готовится ко встрече Государя. – Встреча на псковском вокзале.
Эта война шла у генерала Рузского с гребня на хлябь, то возносило его, то обрывало вниз. Удачей было уже начальное назначение на Командующего армией, тут же последовало триумфальное взятие Львова. Однако Николай Николаевич гневался, что Рузский не окружил, упустил австрийские армии, даже грозился отдать под суд. Но тут пришла благодарность самого Государя – и Рузский, перескочив Алексеева, сверкающе вознёсся в генерал-адъютанты и на Главнокомандование Северо-Западным фронтом вместо Жилинского. (И в замкнутой глубине: кто мог ожидать или кто мог теперь вспомнить: Кревер, сын кастелянши дворцового ведомства, для всей служилой аристократии – чухонец, переменивший фамилию поблагозвучней.) Так две трети всех русских армий попали в его ведение. И сразу за тем – жестокие испытания в Польше, которые могли кончиться полной катастрофой, а кончились новой славой: Георгием 2-й степени (третьим Георгием!) «за отражение противника от Варшавы». Затем потекла полоса неудач, особенно в Восточной Пруссии, разгром 10-й армии, на верхах возбудилось недовольство Рузским, интриговала императрица, – посчитали с Зинаидой Александровной, что лучше самому взять отпуск по болезни. И вовремя: всё великое отступление Пятнадцатого года прокатилось без Рузского, – и он мог из Кисловодска позволить советовать энергичное контрнаступление. Но тут Алексеев, принявший фронт от Рузского и ответственность за всё отступление, – получил не снижение, а повышение: начальником штаба Верховного, а при царе – фактически Верховным, – и уже непоправимо обошёл Рузского. Северо-Западный фронт разделили, и Рузский получил только часть своего прежнего – Северный фронт, и в тяжёлый момент, после сдачи Ковно. И – ненадолго: тянулась опять цепь неудач, а тут он перенёс плеврит, действительно расстроилось здоровье – и он второй раз за эту войну попросил отпуск по болезни. Его отпустили в декабре 1915 без уговариваний. Но когда к весне он уже и поправился, и вполне был готов вернуть своё Главнокомандование, и даже пробивался к тому настоятельно, – его не хотели возвращать – стена! – императрица, да и сам царь. Однако становился его отпуск уже неприлично долог, необъясним, и этих военных месяцев боевому генералу не вернуть! Пришлось прибегнуть к самым разным средствам. Во-первых, стороною попросить благожелательных статей в газетах, – и они появились: такие разные газеты, как «Биржевые ведомости» и «Новое время», со вниманием и симпатией всегда сообщали: как живёт генерал Рузский, как он выздоравливает, как приехал в Петроград, полон бодрости и готов получить новое назначение. И этот похвальный хор отзывался даже и в Германии, и немецкая печать тоже писала о Рузском как о самом талантливом русском генерале. Во-вторых, поискать заступничества некоторых великих княгинь и князей и, совсем конфиденциально, – молитв Распутина. И они помогли, может быть, более другого: в июле 1916 Рузский получил назад своё Главнокомандование, и даже с важным добавлением: теперь попадали в его ведение Петроградский военный округ, и весь живой кипучий Петроград, и, значит, цензура петроградских газет, – и генерал становился как бы шефом, защитником и отцом столицы. Но всё это он делал с таким тактом (с советами Зинаиды Александровны, прекрасно знавшей петербургскую жизнь и все фигуры тут), что сумел установить отличные отношения со столичными общественными кругами, и его очень любили и хвалили большие газеты. И даже, этой зимой, приезжавшие во Псков деятели полутуманно зондировали отношение генерала к возможным государственным изменениям, – и Рузский, в исключительно осмотрительной форме, подтвердил им своё сочувствие.
Эта натуральная живая связь с Петроградом была разорвана недавним выделением Хабалова в самостоятельную единицу. Сперва Рузский очень жалел, был обижен, – но когда на этих днях разыгрались петроградские волнения, то следовало порадоваться, что не на Рузского легла палаческая роль давить их.
Однако и не вовсе в стороне пришлось удержаться. Ещё в воскресенье вечером Родзянко безтактно прикатил Рузскому телеграмму, убеждая ходатайствовать перед Государем о создании министерства доверия. Положение создалось колкое: безпрецедентно было военному чину, побуждённому гражданским лицом, обращаться к своему начальствующему с общественной просьбой. Но и – при размахе петроградских событий невозможно было такому общественно популярному генералу остаться безучастным ко взыванию Председателя Думы.
Целый понедельник Рузский проколебался в этом выборе весьма мучительно: он понимал, что это – отчаянный жизненный шаг, и можно лишиться Главнокомандования, без чего ни он, ни Зинаида Александровна уже не представляли жизни. Но в понедельник же, часам к 8 вечера, к счастью пришла от военного министра копия его телеграммы в Ставку. В ней прямо говорилось, что военный мятеж в Петрограде погасить не удаётся, многие части присоединились к мятежникам, а лишь немногие верны. Такой размах событий оправдывал вмешательство – и Рузский через час послал свою телеграмму Государю, где мотивировал, что события начинают отражаться на положении армии и, значит, перспективах победы, отчего генерал дерзает всеподданнейше доложить Его Величеству о необходимости принять срочные меры успокоения населения, преимущественнее, чем репрессии. Рузский не повторил крайних слов Родзянки об общественном министерстве, но какую-то подобную телеграмму он не мог не послать в этот час, ибо в эти же самые минуты его штаб принимал приказ из Ставки о посылке четырёх полков на Петроград. И ещё до полуночи Рузскому пришлось эти полки назначить и послать. (Правда, отсылка полков задерживалась недостатком подвижного железнодорожного состава – и хорошо.)
И весь вчерашний день, вторник, события качались на тревожном перевесе: в Петрограде нисколько не успокаивалось, и сдались последние правительственные войска, и неслись оттуда победоносные телеграммы Бубликова, – но и войска против столицы собирались уже с трёх фронтов, и Ставка предупреждала, что может понадобиться мобилизовать ещё новые полки, – Рузский безупречно передавал все распоряжения и принимал все меры.
Близость Северного фронта к Петрограду, прежде выгодная, теперь становилась исключительно невыгодной: Рузский невольно попадал в положение первого карателя, во всяком случае вслед Иванову.
А сегодня с утра приходили телеграммы из Петрограда – от самого Родзянки и агентские, о том, что Думский Комитет принял на себя функции правительства. И Рузский ещё более защемлялся между Сциллой и Харибдой: против кого же готовил он военные действия, – против нового законного правительства?.. Но и не мог не подчиняться законному военному начальству.
Давно уже так не изводился Рузский, как эти последние дни и как сегодня особенно. Бесчисленное количество он выкурил сигарет и понюхивал кокаин, набирая сил. Никогда ещё, ни в какой военной операции его репутация и карьера так не сходились на единое остриё и не шатались так.
Тут стало известно, что императорские литерные поезда повернули от Бологого – и шли на Дно, и как бы не сюда, на Псков. А затем пришла и прямая телеграмма от Воейкова, что – да, во Псков!
Очень неприятно! И как несвоевременно.
Во-первых, всякому военачальнику или офицеру неприятно, когда его старшее начальство приезжает в его расположение. Уж там как бы поверхностно и формально ни скользил император по военному делу, но легко мог сделать порицательное замечание или отдать приказ, круто меняющий весь заведенный порядок дел.
Во-вторых, именно сейчас, когда в Петрограде совершались такие роковые события, а Комитет Государственной Думы перенял власть от императорского правительства, – именно сейчас даже короткое пребывание царя в штабе Северного фронта могло положить пятно на общественную репутацию генерала Рузского: почему именно к нему поехал царь в тяжёлую минуту? нет ли здесь расчёта на какую-то особенную верноподданность Рузского? Потом трудно будет оправдаться, что и тени подобной быть не могло. Вот ведь, никак не лежал маршрут царских поездов через Псков – а почему-то шли сюда.
В-третьих, неприятно было, что теперь, как бы быстро Царь ни миновал Псков, не избежать вести с ним тяжёлый разговор, после этой телеграммы в поддержку Родзянки… Не так трудно было послать её – заочно. Но теперь не мог себе позволить Рузский из-за личной встречи угодительно отклониться от своей точки зрения, – нет, он должен был заставить себя высказать всё то же. Но это – большое душевное испытание, напряжённая, повышенная душевная работа. Показать свой характер. Впрочем, и Государь для такого столкновения – не сильный соперник.
А в-четвёртых, это грозило тем, что снова утерять пост, уже дважды терявшийся, какое-то заклятье.
До приезда Государя оставалось несколько часов, и надо бы предварительно укрепить свою позицию к предстоящему разговору. Такое удобное подкрепление давала телеграмма Алексеева № 1833, вчера посланная Иванову, а сегодня среди дня – в штаб Северного фронта. Телеграмма эта рисовала положение в Петрограде как замечательно успокоенное и расположенное к умиротворению и соглашению. Из собственных прямых источников Рузский знал совсем другое: что в столице безпорядки не прекращаются, а в пригородах и в Кронштадте только завариваются. Но тактически было выгодно аргументировать от официального документа штаба Верховного. И распорядился Рузский – просить у Алексеева разъяснений, откуда у него эти сведения?
Навстречу из Ставки текло извержение – за сутки запоздавших к Государю известий и собственных телеграмм Алексеева. Но на прямой вопрос Рузского ответ был уклончив: сведения об успокоении в Петрограде – из различных (однако им не названных) источников и считаются достоверными.
И понял Рузский, что Алексеев смущён и ответить ему нечего. Сведения эти были полным вздором, особенно при развернувшейся сегодня революции в Кронштадте и Москве.
Рузский заказал личный аппаратный разговор с Алексеевым – из Ставки отвечали, что Алексеев нездоров и прилёг отдохнуть. Это могло быть и правдой, могло быть и формой избежания. Отношения между ними были почти неприязненные. Трудно было и не испытывать досаду: Алексеев был серая рабочая лошадка, только и бравшая сидением и трудолюбием. Рузскому для охвата и понимания достаточно поработать лишь два часа там, где Алексееву нужны полные сутки. И судьба была каждый день возобновляться в обиде, получая от Алексеева приказы как бы от самого Верховного. (И даже уходя в болезнь, Алексеев интриговал и подставил вместо себя на Ставку не Рузского, а Гурко.)
А сейчас через телеграфные провода ощущалось, как там волнуется Алексеев, спешит исправить свои просчёты. Из Ставки нетерпеливо добивались, уже ли прибыл Государь и уже ли переданы ему все эти устаревшие телеграммы.
Алексеев был в явной растерянности и безсилии – но не та ситуация, чтобы Рузский мог сыграть противоположно ему. При сотрясении обеих столиц дошёл и во Псков этот тонко-дрожащий момент, когда мобилизуются все душевные силы – и нельзя потерять равновесия. И Родзянке нельзя в эти часы не послать телеграммы, что тряска петроградских волнений, разрушение вокзалов и бродяжный элемент, текущий оттуда, грозят спокойствию и снабжению Северного фронта. Алексееву же нельзя отказать в союзе: хаотическим поворотом событий они оказывались в союзниках. И даже, вот, великие князья присоединялись к ним.
Да надо же было ощутить наконец всеобщее сочувствие к переменам. Теперь или никогда – сослужить безсмертную незабываемую службу общественности?
Но предпочитал бы Рузский, чтоб император почему-либо свернул, до Пскова не доехал.
А Ставка слала распоряжения – исправлять, если понадобится, пути для следования царских поездов – чтоб они достигли Пскова и далее бы шли на Петроград.
Да и скорей бы на Петроград.
Увы! Перед самым подходом царских поездов пришло внезапное сообщение из Луги, что и там восстал гарнизон. И значит, царь не мог тотчас покинуть Псков, чтобы ехать через Лугу.
Итак, Государь неизбежно застрянет во Пскове. И дело не ограничится мимолётным вокзальным провожанием.
Рузский с усилием стягивал в себе душевное сопротивление. Надо было найти смелость отказаться от обычного этикета – не выставлять при встрече почётного караула. Весь приезд перевести сразу в другой тон, сопутно общим событиям.
Да, царь вечно прятался за неодолимыми преградами. Но теперь он должен ступить на землю реальности.
Начальником штаба фронта сейчас, после того как Рузский не смог удержать своего любимца Бонч-Бруевича, был генерал Юрий Данилов «чёрный». Человек он был тяжёлый. В начале войны, при Николае Николаевиче, он, игрою обстоятельств, по сути руководил всеми военными операциями всей русской армии, отчего сам о себе много понимал до сих пор как о несравненном стратеге. В специально-военном отношении он, пожалуй, имел способности, но в общем довольно туповат, упорно предвзят, лишён дара творчества, способности быстро оценивать обстановку, он исполнитель, но не руководитель большого дела. А гуманитарного развития уж совсем никакого. Поэтому для Рузского он не был ровня, собеседник или единомышленник. Однако был в прошлом один момент, который делал отношения Рузского с Даниловым неназываемо трудными. Рузский не мог забыть, что Данилов, конечно, всегда помнит, как в одну ноябрьскую ночь 1914 года при лодзинской операции Рузский дрогнул и просил у Ставки – именно у Данилова – разрешения на следующую ночь крупно отступать. И получил это разрешение, но оно не пригодилось: за день положение внезапно исправилось, и вместо грандиозного отката совершилась сносная операция. Однако это пятно перед Даниловым осталось – и заставляло Рузского быть осторожно предупредительным к своему начальнику штаба. Вот и сейчас – позвать его с собой на царскую встречу.
Данилов же был укоренённо обижен тем, что в 1915 году и Николай Николаевич от него отвернулся, и Государь сместил с генерал-квартирмейстерства Ставки на корпус. И поэтому он подошёл сейчас по настроению: встречать царя без звонких почестей, всегда отдававшихся раньше, пригасить значение императорского приезда. Это будет прецедент в истории России – но обстоятельства подкрепляли их решимость. И не везти царя в штаб фронта, в город, но встретить на вокзале, свести приезд к проезду. И изо всех непременных лиц сообщили только, по неизбежному порядку, псковскому губернатору.
И так общественность не упрекнёт Рузского, что он слишком носился с самодержцем.
Оцепили весь вокзал, никого не пускали и на платформах добились безлюдности. Станция была и вся темновата, фонарей немного. Приехал губернатор с несколькими чинами администрации.
Рузский, однако, очень волновался. И непонятно было, куда же теперь Государь поедет. И в таких текучих условиях – решиться? – добиваться от него тех уступок, которых требовало общество? Задача нелёгкая, если знать характер Государя: непостижимо безрассудное, неразумное упрямство. И боязнь точных формулировок. И боязнь определённых решений.
Лишь в половине восьмого вечера подошёл первый из двух поездов. Ещё вот эта игра всякий раз: из двух неразличимых – который? царский? свитский? Хорошо, что не унизился Рузский заранее выйти на тот перрон: оказался первый свитский, где не с кем и здороваться.
Лишь через двадцать минут подошёл царский. Широкие окна его были затянуты шторами, лишь по щелям пробивались полоски света. Затем открылась дверь освещённого тамбура, выскочил высокий флигель-адъютант. Перед дверью приставили лестницу, обитую ковриком, и стали два казака. Это и был царский вагон.
Генералы вступили туда. Скороход принял от них шинели. Пригбенный печальный министр Двора граф Фредерикс пригласил их в салон-гостиную с мебелью и стенами, обтянутыми зелёным шёлком.
Государь вышел в тёмно-серой черкеске, форме кавказских пластунов.
Лицо его поразило Рузского, – спустя два месяца, как видел его на совещании в Ставке. Всегда Государь был таким молодым, завидного здоровья, да ведь ничего не делал, каждый день гулял. А сейчас было куда не молодо, сильно утомлено, тёмные глубокие морщины от углов глаз.
Не умея скрыть тона неловкости (от стеснительного положения, от смысла говоримого), но стараясь как можно обычнее, Государь объяснил, что поезд его был задержан на станции Вишера известием, что Любань захвачена мятежниками. А теперь он хочет проехать в Царское Село. Но не поехал прямой дорогой из Дна, предполагая безпрепятственней сделать это объездом через Псков.
Он говорил – не как властелин. В его тоне было потерянное, если не просительное. Говорил – и нервно трогал рукою ворот. Эти мотания в загнанном поезде не прошли для него безследно.
Рузский и всегда испытывал превосходство над этим венценосцем. Но никогда столь большое, как сейчас. Как бы возвращая растерянного Верховного к правилам забытой им службы, Рузский монотонным, даже ворчливым голосом произнёс доклад о состоянии своего фронта и о событиях на нём, – последнее из того, что всех их интересовало, да и событий никаких не было, но Рузский этим укреплял свою позицию и сбивал Государя дальше в растерянность.
А уж затем выразил сомнение, можно ли проехать через Лугу: там восстал гарнизон.
Николай II был мастером самообладания, невыражения лицом своих чувств. Но и это покинуло его сегодня. При известии о Луге лицо его выразило уязвлённость и беззащитность: нигде не было ему проезда! Глаза, и без того углублённые, ещё подрезались наискось по щекам. А усы и без того висели.
Не только малоинтеллигентное, но примитивное лицо.
Рузский ощущал, что набирается твёрдости.
Собственно, – исправился Государь, – он и не предполагал сразу ехать. Он намерен во Пскове дождаться приезда Родзянки, как тот обещал.
(«Обещал»!.. Он уже ждал милостивого приезда Родзянки!)
Ах вот как? Это обрадовало Рузского. Тогда его задача облегчалась: вместе с Родзянкой… А царь между тем, кажется, вполне подготовлен для обработки под ответственное министерство.
Впрочем, не так и прост! – карательный корпус Иванова тем временем стягивался.
Не потрафляя себе уклониться к смягчению, Рузский заставлял себя выдерживать твёрдый тон. И напомнить самое неприятное: получил ли Государь его позавчерашнюю телеграмму с поддержкой ходатайства Родзянки об общественном министерстве.
– Да, да, – поспешно подтвердил Государь, даже смущённо. Не имея сил на порицание.
Схождением обстоятельств и интеллектуальным перевесом ложилась на плечи и аксельбанты Рузского несравненная роль и задача: пересилить царя? Все были далеко, он – здесь, и вся образованная Россия ждала, как неотклонимой стеной аргументов он вгонит загнанного монарха в последний тупик.
Данилов-чёрный рядом всё подтверждал своей грузностью, неподвижностью.
Через простые свои очки Рузский смотрел на императора стеклянно-блестяще: а есть ещё ряд сведений из Ставки.
Их обоих пригласили к царскому обеду. Сведения из Ставки – после обеда.282
Великий князь Михаил в квартире Путятиных. – Телеграмма брату. – Великокняжеский проект манифеста.
Великий князь Михаил Александрович полагал сперва, вчера перед рассветом, что зашёл к Путятиным перехорониться всего на несколько часов. Но в городе разыгралось такое, что и думать было нечего выходить на улицу и добираться до Гатчины: всякий бы автомобиль отняли (и могли забрать, где он укрыт стоял сейчас на Фурштадтской) – и самого бы могли запросто убить. Ещё хорошо – удалось дозвониться в Гатчину, пока целы были провода, услышать наташин голос и успокоить её. Разумеется, и ей было в такое время сюда не ехать, оставив маленького их сынишку.
Но даже и здесь, в частном доме, в частной квартире, не было безопасности. То ли потому, что улица эта – Миллионная, особенно привлекала завистливое внимание толпы, – то и дело слышна была близкая ружейная стрельба, и узнавалось через прислугу о грабительстве в виде обысков в разных домах по соседству. Сегодня днём на Миллионной 16, через дом от них, ворвались с таким самозваным «обыском» на квартиру генерала графа Штакельберга, вывели его на улицу, там издевались и убили. А в следующие часы нагрянули и в их дом – в семью обер-прокурора Синода и в семью Столыпиных на третьем этаже, – наверно, привлечённые фамилией, но то была не семья убитого министра, – и разгромили, разграбили их, – вероятно только тем и миновало Путятиных.
А сегодня как раз был грозный для династии день: в этот день террористы убили деда. И в этот же день едва не убили отца.
Со своей кавалерийской «дикой» дивизией Михаил, себя не щадя и не вспоминая о своём императорском происхождении, ходил в смертные атаки под шрапнельным огнём. Но сейчас и вся смелость, и все военные навыки были ни к чему, глупое зажатое цыплёночье положение: сидеть и трусливо ждать, не ворвутся ли. Безпомощное, беззащитное невоенное положение, это больше всего угнетало. И как же стрелять, рубить русского солдата?
Гувернантка Путятиных была на набережной, и на её глазах среди бела дня и прогулочного движения – ни за что убили офицера.
И пришлось-таки воспользоваться своим положением: позвонить Родзянке и вызвать караул. Хотя рядом Преображенские казармы, но там что-то стало сильно не в порядке – и караул прибыл из школы прапорщиков. Пять офицеров поместились в кабинете Путятина, двадцать юнкеров – на первом этаже, в другой квартире.
Теперь, разговором с Родзянкой, уже обнаружился Михаил, где он есть, и не было смысла таиться дальше, да оно само потекло. Телефонировал близким знакомым. Приходили. Через их визиты и телефонные сообщения открылось обозрение всего, что происходит в Петрограде, – и несчастная поездка брата, не пропущенного в Царское Село. От Родзянки узнал, что тот готовится ехать к Государю навстречу, добиться нового правительства и новой конституции, – и сердечно посочувствовал Михаил этому намерению. Так правда хотелось, чтобы все друг с другом договорились и всё кончилось бы хорошо! Сегодня он так и надеялся, что к вечеру брат доедет до Царского Села, и будет благополучен, и всё подпишет, утвердит Родзянку на ответственное министерство.
Но пришёл Бьюкенен – пешком из посольства, оно близко. Он только что провёл 10 дней в Финляндии в отпуске, сам не наблюдал нарастания петроградских событий, приехал уже на готовое сотрясение – но ничуть, говорил, не удивился, а так и должно было быть по его предсказаниям, и не могло благоразумно кончиться, – и сейчас, он уверен, не кончится без смены Государя. (О, упаси Боже!) Единственный способ спасти Россию – отказаться ото всей нынешней политики и повернуться сердечно к обществу. Английский посол рассуждал и чувствовал не как посторонний, но как убеждённый член нашего общества. И чем огорчил и даже напугал: он убеждал великого князя, что ему надо готовиться к принятию регентства над наследником в самые ближайшие дни.
Но Михаил – никак этого не хотел! Снова? опять ответственность, от которой так счастливо избавился 13 лет назад, при рождении наследника? Нет, не надо! Не готов. Это была бы – разбитая жизнь.
Потом пришёл – в простом армяке, переодетый в простолюдина, – дядя Николай, хотя из своего дворца по ту сторону Миллионной ему надо было всего только улицу пересечь. Дядя Николай только что вернулся из ссылки в деревню. Ничего другого он и не ожидал, кроме таких событий, раз не обуздали ведьму Алису, – он и предсказывал это Государю. Но, как страстный историк, он был не столько угнетён событиями, сколько обрадован ими: что он – присутствует при них, и сможет потом описать. И часы не ждут, надо действовать, и правильно действовать! и правильно потом отобразить в истории, чтобы потомки не переврали, как например жестоко переврали Николая I, – и дядя Николай когда-то писал большое письмо Толстому, и стыдил его, что он поддался поверхностным сплетням, и тот благодарил, но это осталось неопубликованным.
Хотя и сознавал дядя Николай всю ответственность перед историей, но что делать – так и не придумал. С тем и ушёл, в армяке.
Тянулись, тянулись бездейственные, смутные, томительные часы пленения.
Да Михаил готов был помочь посильно Родзянке и Государственной Думе в чём-нибудь, в такую минуту и все члены династии должны чем-то помочь. Как ни был он годами наказан.
Обидное угнетение от брата и от матери – как будто он не взрослый человек – живо стояло в памяти. И как в Гатчине распоряжением Мамá через дворцовую телефонную станцию подслушивали его разговоры с Наташей, он долго и не знал. И сколько Мамá стыдила его, что она – дважды разведёнка, что у неё дети, а брат назначал Михаила служить в Орёл, подальше от Гатчины. Четыре года преследовали его любовь, сами толкнули в спор-состязание. Обвенчаться в России и думать было нечего, так следили и мешали. Поехали за границу – следил и там за обоими, не давали соединиться. Но придумал Михаил, как обмануть догляд: поехал в автомобиле будто в Ниццу, а сам по дороге тайно пересел на венский поезд, а Наташа ждала в Вене, – и там в сербской церкви обвенчались наконец. И сколько бы лет ещё оставаться за границей, если б не началась война!
Да разве можно бороться с любовью? Есть такие силы на земле? Ведь не мог же бороться и дед – и сошёлся с княжной Долгоруковой ещё при живой императрице, и держал любовницу рядом же, в Зимнем, и нажил от неё сына и двух дочерей. И не это же потрясло династию!
Да обида Михаила нисколько не была настойчивой, у него вообще обиды не держались долго. Но как – помочь? Не знал он, в чём помочь. Сандро всегда считал, что помощь такая: великие князья должны занять все главные посты в государстве! Упаси Бог от такого жребия.
Да вот-вот брат приедет в Царское, и повидаемся, и можно будет поговорить.
Но Родзянко торопил по телефону, просил содействия раньше того. И, перебарывая неловкость, сердечное сопротивление и всю неуместность нового вмешательства, решился Михаил послать брату телеграмму по ходу следования поезда, где застанет:
«Забыв всё прошлое, прошу тебя пойти по новому пути, указанному народом. В эти тяжёлые дни, когда мы все, русские, так страдаем, я шлю тебе ото всего сердца этот совет, диктуемый жизнью и моментом времени как любящий брат и преданный русский человек. Михаил».
Он уверен был, что Наташа бы одобрила.
Больше всего ему не хватало сейчас наташиных советов!
А затем позвонил из Царского дядя Павел, тоже узнав, где Миша. Дядя Павел говорил торжественно, что надо срочно спасать трон. Вот, Кирилл для этого ходил сегодня в Думу, истинный центр общественной жизни сейчас. Угроза трону! – и Михаил должен быть готов стать регентом. Но ещё прежде надо постараться спасти трон Государю. И намекал дядя Павел, что скоро Михаил получит, узнает.
О, опять эта тень регентства! Тоска и дурное предчувствие сжимали нежную душу Михаила. О Господи, как избежать этой чаши, не брать нa себя непосильное бремя! И как жаль брата! И как это худо для России! О, если б можно было удержать Государя на троне!
И вскоре пришёл молодой человек в штатском и принёс пакет от дяди Павла.
А внутри был – проект Манифеста на пишущей машинке. От имени Государя. Оставлено место для его подписи. А в самом верху: что сей акт, представляемый великими князьями на подпись Его Императорскому Величеству, ими вполне одобрен. И, пониже – подпись дяди Павла. А над ним – подпись Кирилла. А ещё выше оставлено место для Михаила.
Кирилл был рядом, куда ближе дяди Павла, но по обычной неприязни ничем не дал себя знать. Впрочем, и Михаил же его не искал.
А проект Манифеста был составлен вот как хитро: будто Государь давно уже решил ввести широкую конституцию и только ждал дня окончания войны. А правительство, теперь уже бывшее , не хотело ответственности министров перед Отечеством и затягивало проект. А теперь Государь, осеняя себя крестным знамением, устанавливает новый государственный строй и предлагает Председателю Государственной Думы немедленно составить новый кабинет. И возобновить заседания Думы. И безотлагательно собирать Законодательное Собрание.
Хотел дядя Павел скорее мишиной подписи, чтобы лучше убедить Ники – и сейчас же отсылать на подпись ему.
Нельзя было задерживать. И посыльной ждал.
Да что ж, это хорошо! И спасти трон, и не быть регентом.
Михаил быстро подписал.
И подумал, что – нет, вот и Кирилл незлобив: вот и он не отказывался помочь Николаю.
А что новый сразу государственный строй – так теперь в чём-то надо уступить. Трудно определить в чём.
И ушёл посыльной, спрятав пакет во внутренний карман пальто. Одна копия, ещё не подписанная Государем, сейчас пойдёт в Думу для успокоения.
Ушёл, – а Михаил ходил-ходил в своём заточении, одиночестве, под уличную стрельбу – и что-то стал раздумываться: ах, его ли это было дело – подписывать? Его ли дело было мешаться в такие важные советы? Да зачем же ему вмешиваться в эту ужасную политическую суетню? И сразу – копия в Думу?
А с Гатчиной, вот, не было телефона.
Ходил, ходил по комнате мучительно, даже костями пальцев хрустел.
Не знал он, как правильно!
И поэтому лучше всего: позвонить сейчас в Думу, у кого этот пакет, – и пусть его подпись снимут. Ни к чему ему туда мешаться.
И телеграмму бы не посылать. Уже послали?..
283
Составляют «Приказ № 1».
Хотел Соколов со своими солдатскими депутатами пристроиться тут же, при ИК, за занавеской, – нет, будете мешать заседанию Исполнительного Комитета. Вернулись бы в большую комнату № 12, – нет, там не расходился народ – стояли, топтались, галдели, понравилось. Пошли ещё комнату искать. Нашли секретарскую: стол есть, несколько стульев, остальные и постоят, ничего. А курить – везде теперь можно.
Душно, да и распарился! – снял Соколов вовсе пиджак, на спинку стула за собой, в жилетке сел за стол, бумага есть, чернильница, проверил перо, ничего, сейчас накатаем. Рядом посадил товарища Максима – социалист, журналист Кливанский из «Дня», самый нужный тут будет помощник.
А солдаты почти все на ногах остались, стульев нет, среди них и этот вольноопределяющийся Линде – высокий, худой, мешковатая шинель с университетским значком, и взор пылает.
Сейчас накатаем – так-то так, так-то так, а вот сразу и не возьмёшься: как писать? К кому обращаться? Необычность предполагаемого документа вызвала задержку даже у тёртого Соколова.
Немало он составлял за жизнь адвокатских документов – прошений, обжалований, протестов, да и социалистических разных немало. Но сейчас не совсем понимал форму: что оно такое будет? Постановление Совета рабочих депутатов? Воззвание? Обращение к гарнизону?
А пока не на бумаге – так и нет ничего, всё впустую наговорено.
Высказал свои сомнения Кливанскому. Обсуждали, перебирали.
Затоптались солдаты, уже не слишком доверяя, одолеет ли их вожатый всё теперь гладко на бумаге написать?
Вдруг Линде, запрокинув голову, как птица пропускает набранную клювом воду, с полузакрытыми веками произнёс вполголоса, заклиная:
– При-каз!..
По штатскости своей Соколов не воспринял: как может быть приказ? чей приказ?
А тут вошёл увалисто Нахамкис, проверить их. Стал у стены, выше их всех, руки позади. Узнал, в чём затруднение, и сказал:
– Как бывший военный человек поддерживаю: приказ.
Солдатам понравилось, загудели:
– На родзянковский приказ – и наш приказ!
По их понятиям, только Приказ и исполняется, а что это – Обращение? Солдаты привыкли, что к ним обращаются – приказами, верно.
Что ж, неплохо, революционное творчество. Приказ? Но – от кого приказ? Приказы подписывают генералы.
– А у нас подпишет Совет рабочих и солдатских депутатов, – спокойно отпустил Нахамкис.
– А как они пишутся, приказы?
Нахамкис задумался. Его военная служба в якутской местной команде была лет сколько назад, хотя и был он в роте лучший «фрунтовик», и офицер же помог ему из ссылки бежать.
И не было больше тут ни офицера, ни старшего унтер-офицера, ни младшего. Но сами же солдаты помнили кое-что из приказов. И самый налезчивый, лицо в оспинах, отважно ткнул в бумагу грубым пальцем, грязным ногтем:
– Должон быть номер у приказа!
Какой же номер? Ещё ни одного не издавали.
– Значит – первый.
Соколов красиво крупно вывел: «Приказ № 1».
А солдаты – ближе, оспатый – грудью на стол и дышал махорочным перегаром:
– Число поставить!
– Разве число в начале?
Хорошо, какое сегодня? Ох, какое, столько пережито, а всё ещё, кажется, первое марта?
А солдаты подымливали и из свежей памяти своей, как с печатного:
– По гарнизону Петроградского Округа… Всем солдатам гвардии, армии, артиллерии и флота…
Звучно, громко, но и это казалось мало. Свой приказ-первенец страстились солдаты сопроводить:
– Для немедленного и точного исполнения!
Они и сами знали, что так не писалось. Но слова такие – слыхивали. А приказ этот – защищал их головы.
Соколов потеснял того, что локтями навалился, уж очень терпкий дух и дых, неприятно:
– Не надо, товарищ… А где же будут товарищи рабочие? К рабочим тоже должно относиться.
– Не доложнó!
– Ни при чём тут рабочие!
А ещё был здоровенный солдат с усами, какие рисуют у Вильгельма:
– Приказ – это приказ! Это – по нашей части.
Но – нельзя было уступить солдатне пролетарских позиций. Кливанский стал объяснять им, что без рабочих никак не пойдёт. А солдатам жаль было уступить форму Приказа. Поспорили, поспорили, ладно:
…А рабочим Петрограда для сведения…
А что дальше в приказах пишется? А дальше пишется: приказываю!
А – кто «приказываю»? Кто это – «я»?
Тут солдатам неведомо. Изо всех присутствующих не состраивался тот отец-генерал, который бы вот скомандовал в защиту бунтованного солдата – и баста, всем отрезал. Замялись.
А Нахамкис от стены продиктовал баритоном:
– Совет Рабочих и Солдатских Депутатов постановил.
Ну, ладно.
А дальше – суть. Она была подработана ещё утром на ИК, и Соколов и Кливанский её уже всю прокричали и проголосовали на шумном сборище в 12-й комнате. Да у Кливанского и на бумаге есть: как относиться к возврату офицеров, к Военной комиссии, как быть с оружием. Но начать надо – с солдатских комитетов, это рычаг Архимеда. Но – как это в Приказ?
– Во всех ротах, батареях и эскадронах…
Линде, прикрыв веки, слушал как музыку и чуть улыбался.
– Пишите: и батальонах.
– Пиши: и полках!
– А у моряков же как?
Был тут один и матрос:
– На судах военного флота.
…Немедленно выбрать комитеты из выборных представителей от нижних чинов…
– А унтеры что ж?
– А они тоже нижние.
А комитетам этим… чего делать-то?
Да – всё им делать. Чтобы – всё дочиста было им подчинено.
– Так не пойдё! А – строй, команда?
– Да хоть и строй-команда!
– Ну, не! Без офицера не сладится.
И солдаты заспорили. Уже и цельный день прокричали – а всё непонятно.
А Соколов пока, под шум, выводил для конкретности:
…по одному представителю от роты… с письменными удостоверениями… в здание Государственной Думы… 2-го марта к 10 часам утра.
Отнять армию у Государственной Думы. И отнять уже завтра к утру!
Нахамкис веско добавил:
– Николай Дмитрич, оттените: во всех своих политических выступлениях воинская часть подчиняется Совету депутатов и своему комитету. И больше никому.
Соколов быстро писал, перо не кляксило, не задирало, уже перешёл на второй лист.
А Кливанский со своей бумаги заботливо дальше:
– А приказы Военной комиссии исполнять только если не противоречат постановлениям Совета Рабочих и Солдатских…
Нахамкис тихо ушёл.
А солдаты, не мешая перу Соколова, между тем опять заспорили о главном деле, как они понимали: у кого ж будет оружие? В той комнате накричано: офицерам не выдавать. И для свободы – надо б его забрать себе. Но речь не о револьвере, не о шашке, – а ежели полковым оружием офицер не распоряжается, ни пушками – так что за армия будет? на что она гожа?
Но образованные от стола:
– И спорить нечего! Офицерам оружия – ни в коем случае не выдавать.
Да так-то оно и нам безопасней. А только – как же армия?..
…Всякого рода оружие…
– Тогда уже особо пиши: пулемёты, винтовки…
– Гранаты, ничего не пропускай!
– Бронированные автомобили тоже-ть…
– И – протчее! И вообще – всё протчее, а то чего пропустим.
…Должны находиться в распоряжении и под контролем ротных и батальонных комитетов и ни в коем случае не могут выдаваться офицерам даже по их требованию…
– А на фронте?
– То – на фронте. А ты смотри – тебя бы здесь не издырявили!
– Это – так, братцы, а чо ж? А то они нас опять заворожат.
Там, в дневном перекрике, много чего наворотили: и офицерам не жить вне казарм, и погоны с них снять, и которого рота не подтвердит – на левый фланг. А – как же теперь?
И Линде – вытянув руку, как крыло, будто косо спускаясь к солдатам:
– Да! Да, товарищи! Раз комитеты выборные – то офицеры тем более выборные!
Сробели солдаты: эт’кого мы в офицеры себе сами возжелаем? Вот – его для прикладу?
Ну, не именно из солдат, объяснял Максим. Из офицеров же, но которые получше. А которые к вам плохие – метлой.
Солдаты робели.
А образованные за столом – нисколько. И вписали.
Солдаты затоптались: не! не! всё ж таки совсем начисто отменить воинску дисциплину – никак не можно. Всё ж таки немец стоит на нашей земле – и как же в армии без порядку? Просили солдаты: дисциплину оставить.
– Хорошо, – уступил Соколов, удивляясь пугливости стада. И вслух повторял, что писал:
…В строю и при отправлении служебных обязанностей солдаты должны соблюдать строжайшую воинскую дисциплину…
Так, так, – улыбались. Без порядку – кака армия?
– А как из строя рассыпались – так всё, свобода. И солдаты пользуются всеми правами граждан!
Ну, ну, чего ж. Хорошо.
Вписал:
…в своей политической, общегражданской и частной жизни солдаты…
– И – чести больше не отдавать! – Максим из своей бумажки.
Солдатам опять неловко:
– Какая ж служба без чести?
– Не отдавать! – весь задрожал Линде, голову вскинул, румянец на бледных щеках.
– Ну, можно так, – польготили городские за столом, – не отдавать вне прямой службы. Из казармы шаг ступил – и уже не отдавать. На улицах – не отдавать.
Ну, верно. Как уже на улицах и пошло. Сами шашки поотнимали, признают.
– А сила казалась, братцы, наши командиры, сила! А хлипки на поверку.
– А «ваше благородие», – допрашивал Соколов: – Хоть и на службе – зачем оно? Отменить!
– А правда, братцы, на кой это благородие? Чего оно?
Записал: отменить!
– И отменить обращение к солдатам на «ты»! – воскликнул Линде.
– Как отменить? А чего ж говорить?
– Безусловно отменить! – настаивал Максим. – Это унижение вашего человеческого достоинства.
Не чувствовали! Вот бараны!
– А чего ж говорить?
– «Вы».
– А ежели он в одиночку? Что ж, вот я ему буду «вы» говорить? Ажно челюсть сводит.
Смеялись. Жил – я, был – я, и вдруг – «вы»? Дивно…
А Максим погоняет, а Соколов пишет:
…на «ты» воспрещается… и о всяком нарушении… доводить до сведения ротных комитетов…
Да уж умаялись. Да весь день не емши.
Ну, а кончать – это уж как положено. Тут оспяной знал:
– Настоящий приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, экипажах и прочих строевых и нестроевых командах…
Совершилось.
И отпустил Соколов солдат. И собрал листы.
Тут – Гиммер прибежал. Попрыгал, посмотрел, проверил, теперь понесли листы в ИК, на утверждение.
– А там что ж? Отправлю в «Известия» к Гольденбергу, к утру катнём отдельной листовкой. И – пошло!
А если не развалить старую армию – так она развалит революцию.
* * *
...
По-шла стряпня, ру-ка-ва стряхня!
* * *
284
Братья Маклаковы. – Николай Маклаков в министерском павильоне. – Его неуспешная служба министром. – Фельдъегерский вызов. – Несостоявшийся манифест.
Маклаковых-детей было восьмеро, и который-то из братьев наследовал благородное глазное врачебство отца, но как бы не он стал продолжателем рода, а повсюду звучали только имена Василия и Николая, одно восхищённо, другое бранно.
Редко бывает между родными братьями такое враждебное отчуждение, такое полное отдаление, как между ними двумя. Потерялось в дремучей темноте то детство, когда они росли в одном доме на Тверской, при глазной больнице, и различались всего на год, гоняли по большому двору. Ещё и в студенчестве нельзя было предсказать, что их так раскинет, Василий учился на юридическом, Николай на историко-филологическом, студенты как студенты, обучали барышень конькобежному искусству. Но Василий был развязанней и разыскливей на знакомства – и это он водил Николая на квартиры, где собирались свободомыслящие, а Николая там всё коробило, оскорбляло, – больше туда не ходил, отшатнулся от них ото всех, затем и от Василия. Увидели себе братья в России – разные смыслы и круги. Василий Алексеевич стал знаменитым адвокатом, любимцем петербургского общества, очарователем петербургских дам, известным умницей и даже первым оратором Дум. Николай Алексеевич не имел таких блистательных способностей, но и со средними вполне бы преуспел, если бы пошёл по линии либеральной. Однако он пошёл по государственной службе и без протекций: начал податным инспектором в глуши, потом в казённой палате тамбовской, полтавской. Тут приехал Государь на 200-летие Полтавской битвы – и с радостным чувством упоённого монархиста Николай Маклаков так изобретательно украсил город и губернский приём, что был высочайше замечен и вскоре вознесен губернатором в Чернигов. (Может быть, это произошло не без контраста с дерзким Василием; «ведь вот, из одной семьи, брат того Маклакова», плохого, – не все в России испорчены.) А в сентябрьские торжества 1911 года так же восторженно встречал черниговский губернатор своего монарха, приплывшего по Десне, – это был самый день смерти Столыпина, и, как потом рассказывал Государь, в самый момент, когда он прикладывался к раке Феодосия Черниговского, ему вступила мысль, что министром внутренних дел надо будет назначить Николая Маклакова. И через год это совершилось. И молодой министр рьяно и неумело бросился наводить порядки среди располза, и неопытной грудью противостоять думским атакам, и сразу же вызвал на себя озлобление и насмешки, не сумел поставить себя. Дума вычёркивала ему все кредиты, без которых министерство не могло работать, а по обществу привольно раскатывались анекдоты, что Маклаков держится на посту тем, что изображает перед царскою семьёй влюблённую пантеру в клетке, зверей, птиц, других сановников. Василий Алексеевич между тем произносил в Думе свои отточенные эрудитские речи, разя всё вокруг трона.
И каждый из них – стыдился иметь такого брата и самой фамилии своей стыдился из-за брата, брезгливо не желая быть спутанным с ним.
Так и сейчас, может быть, Василий где и прохаживался по Таврическому своей умеренной походочкой, чуть утиной, – но только облегчение могла доставить ему весть, что арестован и сидит в министерском павильоне позорный Николай Маклаков.
При аресте отбивался (гимнастические навыки), был ранен в голову солдатским штыком и приведен сюда под сильным конвоем, угрожавшим добить его по дороге. Уже в Таврическом наложили ему на голову повязку.
Арестован – и введен в душные, непроветренные комнаты министерского павильона, в фантастическую смесь заседания высших сановников государства – и неустроенной тюрьмы. Увидел столько знакомых сразу, в жалком состоянии, и узнал, что разговаривать с ними запрещено. Увидел на столе неаппетитную сгрудку недоеденных бутербродов с сыром и рыбой, пустых чайных стаканов и пепельниц. Увидел изнеможенного, стонущего Протопопова, вторым на диване с Барком. Увидел Горемыкина с разведенными баками, с усталыми глазами, всё так же хладнокровного и философичного. А кой у кого увидел в немых глазах облегчение: что вот и он, Маклаков, арестован. И увидел издали ещё одни немые глаза – Ширинского-Шихматова, с кем позавчера они составляли отчаянный план, а кажется – ничего невыполнимого, как бы бросить бомбу на этот Таврический, в один миг и кончить со всей революцией, – но далеко сидели теперь, и глазами много не поговоришь.
А у стен стояли часовые преображенцы с винтовками, пугая этих стариков не бежать и не разговаривать. И влитой походкой расхаживал прапорщик Знаменский с неподкупным лицом и густым голосом. А курсистки-еврейки, разносившие подносы, корили: «Вот, когда мы сидели в тюрьмах, то вы надевали на нас кандалы, а мы вас угощаем бутербродами и папиросами».
И томился Маклаков, что дал себя взять, что не спроворился застрелиться.
И, как все, должен был встать при входе коменданта дворца полковника Перетца. Полковник этот – кажется, журналист из кадетской «Речи», маленький, ничтожный, упивался видом поднявшихся перед ним вчерашних владык, ожиревших генералов и высохших стариков. Он держал лицо не прямо к людям, но полузапрокинутым к потолку и так отвечал. Что беседовать разрешить – никак нельзя во избежание сговора между арестованными. А почему Караулов сказал, что можно? Караулов уже не комендант дворца, этот вопрос не в его ведении. Но если мы не будем касаться внутренней политики? Сказано: нельзя.
И напуганный пустоглазый, большеухий, сам маленький военный министр спешил с жалким заявлением коменданту: что он, генерал Беляев, не совершил никаких преступлений, состоял министром совсем коротко и не понимает, почему его арестовали.
Очевидно, теперь могло начаться между арестантами соревнование: кто меньше виновен перед новой властью.
И ещё были все подняты на ноги и поведены вокруг стола шатким гуськом в затылок «на прогулку». И Горемыкин под его восемьдесят.
И ещё были все подняты на ноги перед заносчивым сморчком Керенским в окружении демократической свиты, которому благоугодно было произнести, что они все арестованы потому, что он, Керенский, хотел сохранить им жизнь. Иначе, при народном гневе против слуг прежнего режима, каждый из них рисковал оказаться жертвой народной расправы.
И опять сидели в напряжении и в молчанке. Несколько раз дико вскрикивал здоровенный адмирал Карцев:
– Воздуху! Воздуху!
Его лёгкие привыкли к свежему, но когда открывали форточки, то старики жаловались, что дует в ноги, и закрывали опять.
Доктор Дубровин для соседа генерала просил как врач прислать немедленно лёд.
В их комнату вдруг завели жандармского полковника, взятого при разгроме квартиры в невероятной одежде: в брюках, очевидно, сына, щиколотки голые, из-под жилета видна нижняя рубаха, рукава не дают свести рук, стоячий воротник без галстука, на одной запонке. Но прапорщик вскоре закричал, что не сюда его привели, а нужно наверх, на хоры. И увели.
А всё остальное время было – на мягком стуле молчание и размышление.
Но не о трёх своих сыновьях, из них двое на войне, думал Маклаков. А: зачем Бог дал дожить до крушения всего, во что ты верил на земле? Присутствуешь при гибели государственного порядка – как при собственной смерти.А много ли помог сам?
Да, был неопытен и не готов. И сам был во многом виноват, что сложились такие предвзятые отношения с Думой. Но не удивительна ненависть общества, а: в самом Совете министров не встретил доброжелателей, даже среди правых министров чувствовал себя Маклаков одиноким. Все скрытничали друг перед другом – а Маклаков был прям, горяч и только портил. Всеми презираемый, осуждаемый, он окрылялся только постоянной поддержкой Государя. Но что мог поделать самый молодой из министров – и в одиночку?
После многих докладов Государю, что внутреннее состояние России обострено, нельзя дремать, надо действовать, в позапрошлом году на Страстной, в дни средоточия, Маклаков отважился на страстное письмо: честных русских людей смущает направление, которое приобретает правительство; сердце подданных чувствует беду, затемняется светлый лик монарха; ваше доверие ко мне, Государь, подорвано, всё равно люди и обстоятельства принудят позже вас к тому, чтоб уволить меня, – так увольте меня сейчас. Государь – был взволнован и так же пылко уговорил Маклакова остаться. Но в Думе Маклакова всё гуще травили, и через три месяца после трогательного порыва – Государь уволил своего любимого министра.
Маклаков плакал. Не от потери поста – он не искал в службе личного, и жизнь его принадлежала царю, и славу родины он видел только через величие царя, и обожал его до слёз, и видел от него только добро, – а вот плакал, что Государь пожертвовал им для Думы, что он покидает верных, если на них разгневано общественное мнение, что гибнет правое дело. Тяжело всем верным. Государевы решения принимались так ненастойчиво, всегда выливались в такую мягчайшую форму, от самого энергичного доклада оставалась всего лишь крупица. Забывалось Священное писание, что даётся меч царю – на казнь злым, на покровительство добрым. От миролюбия и мягкосердечия сверху – Россия шла к распаду. Думские отчёты, расходясь по стране, подрывали государственный порядок. Россия сбивалась с толку: общество воспитывалось в постоянной злобе к правительству, что русское правительство не просто ошибается, но оно – враждебно народу, и даже единственное препятствие на пути к русскому счастью. При таких думских нападках как же армии стоять спокойно на позициях?
Пусть и у Маклакова не хватало государственного ума, но сколько мог, два с половиной года, он сдерживал этот разрушительный ход. А когда его убрали – разрушение пошло быстрей. Щербатов, младший Хвостов да Штюрмер – угробили внутреннюю политику. Внутренней политики, собственно, вообще не стало, никакого представления, куда идёт страна, а – движение закрыв глаза, как походка пьяного от стены к стене. Никакой системы и программы в управлении страной.
Правые повсеместно настолько ослабли, что даже в исконном своём Государственном Совете они уже не имели большинства. И Маклаков, там тоже член, был один , кто посмел голосовать против вздорных Особых Совещаний, вырывающих уже и дело обороны из рук правительства в руки общества. За то он получал грубые угрожающие письма от левых. Исповедывать правый образ мысли стало не только уже непопулярно, но даже небезопасно. Безнадёжно были удручаемы все, кто верил в русское самодержавие и пытался его поддерживать. На правых безпрепятственно сыпались любые клеветы. Правых били, не давая встать, и опять били. Правая вера была в общественности поругана, осмеяна, вышучена, замарана.В этом декабре Маклаков снова написал Государю порывно-душевное письмо. В сложную, небывало острую пору обязанность всякого верноподданного высказать Государю всю правду положения. Направление занятий Думы и характер произносимых там с ноября речей – вконец расшатывают остатки уважения к правительственной власти. Хотя страна не выражается Петроградом и что волнует верхи – не касается России, но в столице, совместно со съездами и союзами, уже начался штурм власти , и он угрожает самой династии. Трудно остановить близкую беду, но ещё возможно.
Никогда не считал себя Маклаков умней Государя, с радостью признавал превосходство его души и его дальновидности, – но как было добавить ему силы воли и власти?
Написал – и уехал на Рождество в деревню. И там только в январе до него дошло, что на петроградскую квартиру приезжал царский фельдъегерь вручить ответное письмо и будто бы Государь вызывал к себе. Но в Тамбовскую губернию вызова не послали: видимо, горели минуты.
И действительно, на Новый год был назначен премьером Голицын – в тщетной попытке найти примирение с Думой.
По известии о фельдъегере Маклаков воротился в Петроград смущённый и почти угадывая, зачем вызывал его и не дозвался обожаемый Государь. Он никак не рвался идти в правительство в столь проигранном положении. Но и не вправе был бы отклониться.
Вскоре передали Маклакову пожелание Государя: написать царский манифест – на случай, если он остановится не на отсрочке Думы, но на полном роспуске её.
Это было уже начало февраля, три недели назад, и последняя царская служба Николая Маклакова. Все свои скромные силы слога и всё своё цельное, никогда не прерванное монархическое чувство он вложил в трёхдневное писание этого манифеста. Он наслушивал душой, как это должно бы грянуть для всякого русского уха, везде на просторе Руси! Он объяснял: внутренний враг стал опаснее, наглее, ожесточённей внешнегo врага! Он призывал: смелым Бог владеет! Он благословлял взмах царской воли, который, как удар соборного колокола, заставит со страхом Божиим перекреститься всю верную Россию. Он звал: всех сплотиться вокруг Государя. Он готовил документ для поворота русской истории!
Выборы новой, Пятой Думы назначались на 15 ноября 1917 года. Выигрывалось без раздоров, без поношения власти – время до осени. Если к осени победоносно кончится война, то в общем подъёме спасётся и всё.
Ему дозволено было отвезти манифест Государю лично. Он пылал с ночи, с утра, – и таким поехал на вокзал.
А тут что-то случилось с поездами, все остановились – и Маклаков изводился в вагоне. Поезд опоздал в Царское на полтора часа. За это время у Государя уже истекало расписание, он куда-то торопился. Маклаков надеялся сам вдохновенно прочесть – Государь взял бумагу не читая, посмотрел своим обворожительным взглядом и легко – слишком легко! – сказал:
– Это, Николай Алексеич, так, на всякий случай. Ещё надо со всех сторон обсуждать.
То была последняя аудиенция.
И последний неиспользованный шаг.
И сейчас, озирая эту комнату с немощными стариками, – Николай Маклаков остро жалел, что сегодня не отбился, что не мог уйти для борьбы.
Или – что никакой отчаянный и сегодня не прилетит на Таврический с бомбой.
285
Рузский требует ответственного министерства. – Государь в пытке.Последние часы до Пскова ехал Государь с восстановленной надеждой: и на скорое соглашение с Думой, отчего отвалится давящая душу тяжесть и весь кошмар последних дней, – и на быстрый проезд в Царское Село.
При встрече во Пскове не был выстроен почётный караул, промелькнул одинокий караульный солдат в конце платформы. Так – ещё никогда не приезжал Государь не только в штаб фронта, но и в полк. И губернатор псковский был с двумя чиновниками, без сбора местного начальства, как это всегда. Но и, однако, – Государь не обиделся, и не придал значения потере обряда: стояло мрачное время и ждали дела, верно. Он тут же принял субтильного Рузского и приземистого Данилова.
Первым его удивлением было – что они ничего не слышали об ожидаемом приезде Родзянки. Затем удар – о мятеже в Луге. Мало того, что делалось в Царском! – даже и проехать к ним нельзя!..
Пересидели обед – с генералами и губернатором, в полном воздержании от событий, ценою тягостных пауз. Покрывая их, Государь подробно расспрашивал губернатора, как он живёт.
Ах, скорей бы кончился этот обед и скорее бы что-нибудь узнать, хоть неприятное. Хоть и что Родзянко привезёт.
Нет, не ехал. А после обеда подали такую телеграмму из Петрограда:
«Передайте Его Величеству, что председатель Государственной Думы изменившимся обстоятельствам приехать не может. Бубликов».
И опять упало сердце. (Последние дни такое хрупкое стало всё внутри.) Эти изменившиеся обстоятельства могли иметь много значений, но все зловещие. Измениться могло: или к тому, что Родзянко более надмевал. Или к худшему мятежу, так что Родзянко уже не управлялся с ним.
И всё тот же загадочный, никогда не слыханный, а всё сильнеющий Бубликов, как стена на всех путях.
Как изменилось за день: сегодня утром Государь ещё выбирал – принимать Родзянку или нет. А теперь – только впусте жаждал его приезда.
В этом отказе Родзянки было какое-то зловещее отрезание. Николай ощутил, как с осени уже несколько раз: что неотвратимо катят события, уже не подчиняясь его воле, – и даже его самого увлекают как предмет – и ничего нельзя будет исправить. Рок. В такие минуты обрывалась его вера в свою миссию – а это грех, нельзя, нельзя подаваться! Надо перебороть и этот новый удар.
Но – как добраться до Царского?! И что творится в Царском? Да не глумятся ли там над ними?? Всё существо, всё нутро, вся интимная внутренность тянулась туда, жаждала воссоединения с родной Аликс. Однако не только нельзя было ехать, а даже не оказалось телеграфной связи: всё забрал и прервал восставший Петроград.
Нельзя даже было простой телеграммы послать своим – что прибыл во Псков.
После обеда Государь позвал Рузского к себе в поездной кабинет, а Данилов-чёрный поехал в штаб за новыми телеграммами и сведениями.
Только сейчас Государь дослушался, досмотрелся впервые, какой самоуверенный педант этот Рузский. Не прежний – почтительный, искавший милостей, умолявший вернуть его в командование Северным фронтом, – но назидательно выговаривающий свой длинный монолог и, перебитый, всегда возвращается закончить фразу. И в движениях, как и в речи, проявилась механическая размеренность, которой раньше не замечал Государь. И странным казалось сочетание седого бобрика и чёрных усов, наверно крашеных. Без живых чёрточек – мертвоватое же у него лицо – какого-то небольшого зверька, но с нацепленными очками. И болезненное при том.
Как странно в час-другой изменились отношения с подчинённым генералом. Возник какой-то неизбежный, неотклонимый собеседник, – и Государь не знал средства против такого изменения.
Правда, начал Рузский с оговорок. Что его нынешний доклад выходит за пределы должностной компетенции, ибо тут вопрос не военный, а государственного управления. Что, может быть, Государь не имеет к нему достаточно доверия, поскольку привык слушать Алексеева, а оба генерала часто не сходятся в оценках.
Государь, разумеется, предложил генералу высказываться с откровенностью.
И после этого развернулся монолог Рузского. Что Родзянко, и не приехав, ждёт ответа, – и ответ этот не может быть иным, как уступить и дать ответственное перед Думой министерство. И почему это нужно было сделать уже давно. И как все события, бунт в Кронштадте или успокоение в Петрограде, ведут к этому самому. И как со всех сторон все понимающие, знающие люди именно об этом и просят. Думцы. Земцы. Союз городов. Да вот – и генерал Алексеев, досланная телеграмма, второй день идёт. Да вот – и генерал Брусилов, переслана через Дно, там не застала вас. Да вот – и великий князь Сергей Михайлович, даже он, даже члены вашей династии.
Увы – да. Увы – всё это было в наличии и вот разложено, да. За два дня блужданий Государь многого не получал, а теперь оно стеклось. От Алексеева. Старые вчерашние и совсем ещё не плохие сведения из Москвы. Всё страшное произошло в Москве сегодня. И в Кронштадте сегодня. (Как больно и стыдно за флот, за любимую государеву гордость!) Убит начальник кронштадтского порта. И адмирал Непенин признал родзянковский комитет.
Забота Алексеева, как он писал, – спасать армию: спасать её от агитации, в ней много студентов и молодёжи, и спасать её продовольственный подвоз. Алексеев считает подавление безпорядков опасным – прежде всего для самой армии, – волнения перекинутся в неё, и это приведёт к позорному окончанию войны и даже всю Россию – к погибели. Государственная Дума пытается водворить порядок, и надо не бороться с ней, но скорее помочь ей против крайних элементов. В этом – единственное спасение, и медлить невозможно.
Вот как… Неужели так?.. Страшные слова.
Но почему он так уверен, что это может перекинуться в Действующую Армию?
А дядюшка Сергей Михайлович – тот уже не говорил «лицо», а прямо: назначить премьером Родзянку, и только его.
(Сам-то сколько напутал в артиллерии.)
И почему-то – от Брусилова. Никем не спрошенный, телеграфировал на имя Фредерикса. Спасая армию – признать совершившийся факт и закончить мирно .
Но больше всего поражало, что Рузский и Алексеев, всегда во всём несогласные и соперники, – вот, говорили одно и то же оба. Это было достойно, чтоб удивиться.
Пусть не было доверия к Рузскому, – но почему они все заодно?
Однако могло ли быть так, чтобы всем легко была открыта единая истина – а Государю закрыта?
– А что скажет Юг России? А что скажет казачество? – опомнился он.
Да как же идти на такую ломку во время войны, не дождавшись её окончания? Пока немец на русской земле – какие же реформы? Надо прежде выгнать немца.
Разъяснял Рузский: именно. Для спасенья войны, для успешного её окончания и нужна реформа.
Да разве Государь был против того, чтобы советоваться? Всегда и охотно, но с людьми благожелательными и преданными России, а не с этими озлобленными. Разве партии, узкие своим разумом, своими программами, – способны открыть подлинный путь народу и даже подлинную свободу?
Сколько лет были прения и бои – и всё об этом «ответственном министерстве»! Сколько непримиримостей столкнулось именно на этом камне! Сколько клевет и оскорблений родилось вокруг этого! Сколько совещаний с общественными деятелями, сколько скандалов в Думе.
Но откуда это предположение, что при парламентском министерстве Армия станет лучше воевать?
А на последней зимней конференции ещё и союзники домогались от Николая того же: «ответственного» министерства. (Как будто их это было дело, им не нялось.) И Гурко – добавлял туда же, не то потеряем расположение союзников. И английский генерал при Ставке, на правах государева друга, – писал то же.
Всё – било в одну точку.
Но! – за всё, что случилось с Россией, и за всё, что ещё случится, – ответственен был перед Богом один Государь.
Ибо, как сказано: Народ согрешит – Царь умолит. А Царь согрешит – Народ не умолит.
Только возвышенные эти слова не мог он выговорить Рузскому вот так просто, через стол.
А Рузский становился всё настойчивей и тоном поучительным разъяснял, что дело Государя – лишь царствовать, управлять же должно правительство. Что самодержавия – всё равно уже не существует с 1905 года, при Государственной Думе оно – фикция, и благоразумней пожертвовать им своевременно.
При всём образованном лоске Рузского – проступало в нём что-то тупое. Такой прямоугольный лоб. И неживые накладные уши.
Царствовать, не управляя? Прадед Николай Павлович говорил: могу понять республику, не могу понять представительную монархию, – двусмыслица.
Возражал Государь, что этой формулы он не понимает. Наверно, надо для того переродиться, быть иначе воспитанным. Самому – ему нисколько не нужна власть, он не любит её, нисколько за неё не держится. Но он не может вдруг посчитать, что он не ответственен перед Богом.
Рузский прикрыл за очками веки, как принято прикрывать при упоминании Бога, – кто искренно, кто в насмешку.
И не может Государь сложить с себя ответственность перед русскими людьми. Да как бы он был вправе: передать управление Россией людям, которые к этому не призваны? Которые сегодня, может быть, принесут ей вред, а завтра – уйдут в отставку, – и где тогда вся их ответственность?.. Как же можно оставить Россию без верной преемственности? Как сможет Государь смотреть на легкомысленную деятельность таких людей – и притворяться, что не он, монарх, отвечает перед Богом и Россией, но думское голосование? Если он уже ограничил в Девятьсот Пятом свои права или ещё ограничит их сейчас – вся ответственность всё равно остаётся на нём.
А Рузский как будто открыто начинал выходить из себя – и начинал говорить тоном, будто перед ним не Государь вовсе. Он стал называть многие – действительно неудачные и несчастные назначения за последние годы на многих министерствах, – от внутренних дел, иностранных, юстиции до военных и обер-прокурора Синода, – и Государь слушал и сам ужасался, как много верного было в его упрёках и как много правда неудач.
Но разве делил с ним когда-нибудь Рузский, или Алексеев, или любой громогласный общественный критик, или вообще кто-нибудь, кроме верной жены и покойного Григория, – это мучительное перебиранье имён, жгучий многодневный поиск в людской пустоте, когда, кажется, голова уже лопается, а кандидатуры всё не приходят! Да наконец: а все кандидаты, которых предлагало общество, – чем они были способней, или приспособленней, или опытней, чем выбранные царём? Да ни в чём и никто. Государь тут же перебирал их перед Рузским и доказывал, как они неумны и неопытны. Нет в России сейчас таких общественных элементов, которые были бы приготовлены к делу управления страной и способны исполнять обязанности власти.
А Рузский утверждал, что – есть, и много.
Но Рузский, кажется, не пытался ничего понять в глубину. Он – и не уговаривал Государя. Он просто – ставил перед ним со всех сторон, что никакого другого выхода – нет.
Вот как… Почему-то сложилось, что именно они двое, в одном разговоре, над столиком поездного кабинета, и во Пскове – должны были решить судьбу России.
Стеснённый Государь стал ощущать с неумолимостью, что и не уступая – он уже уступает.
Он курил, курил, через свой любимый пенково-янтарный мундштучок, и гасил половинные недогоревшие папиросы, и тут же зажигал новые.
Да, вот как он соглашается: пусть Родзянко формирует кабинет и берёт кого хочет, но четырёх министров – военного, морского, иностранных дел и внутренних – будет назначать и контролировать сам Государь.
Ни за что! – возмущался Рузский как имеющий право на возмущение и с тем же тоном учительным: в таком виде – это не согласие. Растревоженная гудящая Дума воспримет это как оскорбление! Да и кто ж иностранных дел, если не Милюков? Это значит – прямой отвод Милюкову?
Да Государь готов был согласиться и с Милюковым, он – запас оставлял из предусмотрительности, чтоб не так уж сразу много уступить. Он строил загородки потому, что знал за собой эту слабость – слишком быстро и легко уступить.
Хорошо, вот как он соглашается: пусть Родзянко формирует весь кабинет, но ответственный перед монархом, а не перед Думой.
Нет! – с властным оттенком голоса и уже повышенным тоном отводил Рузский.
Тут приехал из города Данилов, ещё насупленней, чем при встрече (он открыто напоминал Государю свою обиду за смещение из Ставки). С новой телеграммою от Алексеева.
Перед опасностью распространения анархии и тогда невозможностью продолжать войну, ради целости армии и России, Алексеев усердно умолял Его Величество соизволить на немедленное опубликование манифеста – проект которого тут же телеграфно и прилагал, они выработали его в Ставке. (Сидели и вырабатывали не порученное им!)
А в манифесте стояло: для скорейшего достижения победы – вот это самое министерство, ответственное перед представителями народа. И чтобы сформировал его именно Родзянко – из лиц, пользующихся доверием всей России.
Как застенок обступал Государя, всё тесней.
А если от этого именно и возникнет анархия?..
Но не согласиться с Рузским, не согласиться с Алексеевым, не согласиться с Брусиловым, – так что же надо делать: менять всё Главнокомандование?
Тоже – в разгар войны… И – тем более нет сил.
Да, вот лежал вполне готовый манифест, очень понятно и даже трогательно составленный: о верных сынах России, объединившихся вокруг престола; что Россия несокрушима как всегда и козни врагов не одолеют её.
Оставалось только подписать.
Манифест лежал тем убедительный, что уже составленный. Николай боролся с облегчительным искушением: сразу взять – и подписать. Раз это нужно для блага России – как же не подписать?..
О, с октября Пятого года знал Николай этот дьявольский соблазн: такой по виду простой шаг, только подписать – и на миг насколько станет легче! Знал он, по 22-летнему царствованию, это манящее блаженное облегчение, которое посещает всегда после уступки. Но только в первый момент.
Да и ему самому при ответственном министерстве – насколько меньше забот! Насколько легче станет собственная жизнь.
Но и слишком же помнил Николай ту роковую уступку Пятого года: с тех пор всё и пошло худо. И именно это он и уступил тогда. Ещё и сейчас болел в нём тот Манифест.
О, где взять сил этому сердечному кусочку одному застрять на склоне и удерживать собой лавину?
Только: откуда же у глупого Родзянки возьмётся такая прозорливость? Как же он будет искать этих лиц, каждое из которых пользуется доверием всей России?..
– Нет, – возразил Государь генералу мягко, даже робко. – Нет. Не могу. – И скорее смягчил: – Пока…
Рузский сильно покислел. Но, с новой надеждой: может быть, можно пока сообщить в Ставку и в Петроград, что Государь, ещё не подписав, согласен на такой манифест в принципе ?
Нет. Пока нет. Подождём. Не сразу.
Но об армии, духе войска и России – о ком же ещё? – хлопотал и Рузский.
– Если нет, – жёстко выговорил он, – какие другие меры? На что вы надеетесь, Ваше Величество? Если нет – значит, надо и дальше вести войска на Петроград. И вы берёте на себя страшную ответственность: что впервые в истории нашей армии русские войска вступят в междуусобицу?
Государь содрогнулся. Верность и сила этого довода поразила его. О, только не это, правда! Уже довольно ему на памяти – несчастной, непредусмотренной стрельбы 9-го января и липкой клички «Кровавый», которой метили его левые. После того дня он – не имеет права приказывать русским войскам стрелять в русских…
О Боже, какая мука и какая безвыходность! Пыточный застенок стискивал грудь Николая.
Так может быть, – предлагал Рузский, видя успех, – пока заказать на ночь прямой аппаратный разговор с Родзянкой? Сговориться, когда тот сможет прибыть к аппарату?
Ну, что ж. Это можно. Это неплохо. Раз он не смог приехать сюда.
Послали Данилова снова в штаб, уговариваться с Петроградом.
А манифест – лежал перед Государем и звал к подписи…
А Рузский – безжалостно, не давая ни времени, ни отступа, – наседал. Требовал. Немедленно и честно объявить определённое решение, пока от безпорядков не всколыхнулась армия.
И Верховный Главнокомандующий, император – вскидом головы и стекшим, измученным лицом просил у него пощады:
– Я должен подумать. Наедине.
Рузский недовольно ушёл в свитский вагон, дожидаться.
И остался Николай – над безысходным манифестом. Остался, никем не подкреплённый, незащищённый, один.
И подпирал голову, чтоб не упала. И почти грудью рухнул на эту бумагу.
Все – сошлись. Все, едино и вкруговую…
О, как нужна была ему голубка Аликс сейчас – чтобы посоветовала. Чтобы направила.
Да ведь она и писала уже в телеграмме, что нужны уступки? Поймёт ли она, что такая уступка была неизбежна?
О, каково ей! Каково ей – переживать все эти события одной!..
Нет, нет! Подписать такую бумагу – значит изменить долгу императора.
Подписать такую бумагу – значит отменить в России извечный монархический принцип и кинуть страну во все зыбкие колебания парламентарного строя. А то и прямо в анархию.
А заодно – изменить и своему сыну. Нет, этого Аликс не могла бы одобрить!
Да что же такое произошло, что в один день он должен уступить монархию в России?
А какой выход? Слать войска на междуусобицу? И уволить всех старших генералов?
О Боже, какая пытка! – и Ты послал мне её в одиночестве.
А когда в своей жизни Николай был волен решать? Всегда он был сжат обстоятельствами и людскими требованиями.
А может быть – этого и требует благо России? И – прости их всех Бог? В доброй уступке – какое сердечное облегчение!..
Что ж, пусть эти умники составят свой кабинет? Посмотрим, как они потрудятся и как справятся.
О Боже! Дай силы, дай разум.286
Думские депутаты в Царском Селе. – Государыня отвергает великокняжеский манифест. – Старик Иванов приехал!
Тонко отзывчивая Лили Ден, как помогающий беззвучный ангел, оказывалась то около больных детей, то близ государыни в самые нужные минуты. С Аней всегда были капризы, претензии, а сейчас, больной, ей не говорили о Петрограде, – эта была вся слух и помощь, только ей и могла государыня говорить как самой себе.
– Итак, Лили, всё положение в руках Думы. Будем надеяться, что теперь-то они очнутся и сумеют что-то исправить.
Навстречу ожидаемым двум депутатам выслали на станцию две придворных кареты.
Но кареты воротились пустыми, депутаты пренебрегли дворцовым приглашением и ожиданием, сели в автомобиль мятежников под марсельезу и поехали в ратушу произносить перед гарнизонным собранием речи – очевидно в духе революции.
Кареты вернулись пустыми – но и это унижение приходилось снести. И императрица попросила коменданта Гротена – генерала-совершенство, все часы спокойного, уверенного, точного, подлинно военного человека и главную сейчас защиту, – поехать в ратушу и всё же просить депутатов приехать во дворец и подбодрить охрану.
Гротен поспел к концу собрания, где депутатов встречали восторженно. Депутаты разумно возразили ему:
– Генерал, что мы можем сказать вашей охране? Что царского правительства больше нет, а надо подчиниться Государственной Думе? Каково будет ваше положение? Если мы приедем к вам – это будет значить: вы подчинились Думе.
И Гротен – не нашёлся, не уполномочен был, что ответить. Вернулся спросить государыню.
Смысл приезда депутатов оказался совсем не обещанный. Из ратуши они поехали по казармам восставших полков – впрочем, кажется, с успокоительными заявлениями, что задача – сохранить фронт.
Впрочем, уже и установился какой-то нейтралитет: мятежный гарнизон не подступался и не трогал дворцовой охраны.
Зато Гротен привёз петроградский листок с совершенно невероятной вестью: будто вчера Собственный Конвой в полном составе явился в Думу. Это был вздор, потому что – не только о благородных конвойцах, но и потому, что две сотни были здесь, во дворце, верны, никуда не уходили, а две – в Могилёве, при Ставке, и не могли попасть в Петроград. В Петрограде была всего лишь полусотня и нестроевая команда.
Однако! – подумала тревожно государыня: если эта изменническая весть достигнет Государя, то ведь он может и поверить, ибо ничего не знает о царскосельских сотнях. О Боже, как быстро, за сутки, нарастает лавина невысказанного и непонятого! Какой ужас!
Тем временем – как метеор появился и пронёсся великий князь Борис. Он как бы ужасно торопился, и был бледен, и кусал губы, и всё сообщение его состояло в том, что его срочно вызывают в Ставку, и оттого он ничего не может сделать тут, и все подчинённые войска его там.
Трус. Государыня презрительно отпустила его. На этого «казачьего атамана» она даже не обиделась, от него и не ждала ничего доброго. Она даже удивилась, что он вообще приехал отметиться.
Но – Павел? Но куда же опять делся Павел? Ведь он обещал утром встречать Государя – вот не встретил – отчего же не забезпокоился, не приехал, и что ж он будет делать с гвардией?
Он – не ехал, не давал о себе знать.
Всё разъяснилось вскоре – уже вечером, но ещё перед обедом, Бенкендорф с Гротеном просили приёма. Великий князь Павел Александрович действительно утром ездил на вокзал и не встретил Государя, но ещё ранее того, прошлой ночью, он с семьёю вынужден был скрываться в чужом доме, опасаясь разгрома своего незащищённого дворца. Великий князь готов хоть сейчас ехать в Ставку и в гвардию на фронт – но не смог бы проехать через Лугу, где тоже начался мятеж. Однако более того, великий князь взволнован дошедшими до него слухами, что думские круги готовят регентство Михаила.
Это ещё что? Ничего подобного государыня не слышала! Что за вздор?
И, подгоняемый такими слухами, все эти часы великий князь Павел изыскивает пути спасти трон Государю.
Спасти?? Трон нуждается в спасении???
Великий князь составил и предлагает проект манифеста, который бы должен подписать Государь – и всё спасено, и все удовлетворены. Но пока Государя нет – быть может, для успокоения общества его подпишет государыня? Как бы для заверения?
Государыня с изумлением взяла бумагу. Единственный ещё живой сын Александра II, убитого террористами, – и один брат убит террористами, а ещё один едва избежал той же участи, – после всего резкого, что он выслушал вчера от государыни, и вместо того чтобы ехать приводить подчинённую ему гвардию – как же он заглаживал? что же он предлагал?
В возвышенных сбивчивых выражениях какая-то совершенно идиотская бумага: будто Государь всё время только и намеревался ввести ответственное министерство, но прежние министры препятствовали. А сейчас, в скорби, что столицу постигла внутренняя смута, но уповая на помощь Промысла Божьего, – он единым мановением предоставляет государству российскому конституционный строй и предлагает председателю Государственной Думы составить временный кабинет министров, а дальше будет законодательное собрание и новая конституция.
Но Александра Фёдоровна, несмотря на возбуждение, безсонницу и волнение, сохраняла государственную ясность ума, как всегда. Ей сразу была видна и фальшь этого неуклюжего движения, ничем не оправданного, – и степень капитуляции, которую не смел великий князь приписывать Государю. Ни даже – сама бы она не решилась так посоветовать, хотя размах событий убеждал её, что какие-то уступки теперь неизбежны.
С разочарованием она отложила бумагу. Не может быть даже и мысли такой глупой, чтоб она подписала.
Однако она почему-то не рассердилась на Павла, а даже пожалела его. Бумага была – фальшивая, но порыв Павла – искренний: он действительно хотел спасти трон Государю. Он – не сносился тайно с Родзянкой, как очевидно сносился Михаил, откуда и слухи о регентстве. Павел проявил себя неумно, но преданно, – и государыня больше не сердилась на него. Безумная затея – но и благородная.
Ужасные текли часы – часы поразительного безвестья! Где находился Государь – неизвестно, и это самое ужасное. Где он, в какой точке, – она всегда знала. (И когда совершал поездки по фронтам – предупреждал её о маршрутах. Она даже по часам следила, что он может делать в течение дня.) Но сейчас – и связи со Ставкой не было. Осталась единственная связь с Зимним дворцом – она ничего не могла дать. Установили только достоверно, что толпою разгромлен и сожжён дом Фредерикса, а бедная семья его в конногвардейском госпитале, жена – без памяти.
Всю жизнь Александра жила с Ники неразрывно, двадцать лет всё делили пополам, крупное и мелкое, утешительное и тяжёлое. Когда-то отъезд его в Италию на короткий срок казался кошмарной трагедией. Ей – всегда было неестественно, что он уезжает, буквально каждый его отъезд был ужасным терзанием, – видеть его большие грустные глаза при расставании. Она ненавидела быть в разлуке! (Сейчас она с содроганием проходила сиреневую комнату, где они так уютно сиживали вместе.)
С тех пор как Государь возглавил Верховное Главнокомандование – он часто должен был оставаться в Ставке, впервые на 21-м году они провели порознь и день сватовства и день рождения. (Одно время она уговаривала его перенести Ставку ближе к Петрограду, чтобы видеться чаще.) Да, эта разлука, цепь разлук – была их личная жертва, которую они приносили своей бедной стране в это тяжкое время.
Но более, чем за себя, – Александра во время разлук страдала за него: она мучилась его одиночеством, как он переносит разлуку, и особенно, когда ему выпадают тяжёлые испытания: он может размякнуть, потерять веру в себя, все вокруг там всегда дают ему дурные советы и злоупотребляют его добротой, а он истомляется от этих внутренних вопросов. У каждой женщины в её чувстве к любимому есть что-то материнское. Александра – будто носила Ники в себе, в своей груди. Это Господь так устроил, Он желает: чтобы бедная жёнушка помогала ему. Что она советовала ему – она не считала своею мудростью, но инстинктом, данным ей Богом. Она – всегда была способна его подбодрить, всегда была способна вдохнуть в него веру. (Те, другие, потому боялись её влияния, что у неё упорная воля и она лучше других видит насквозь.)
Так и сегодня: она, может быть, что-то могла бы предотвратить, – а вот вынуждена была метаться здесь, и даже не знала его точки нахождения, не то что обстоятельств, – и тоска глодала сердце.
За обедом – с Лили и одной здоровой Марией – почти не ели.
Уже становилось слишком мучительно притворяться перед детьми и скрывать от них. 18-летняя Мария достаточно уже и сама видела, урывками слышала, поняла. А старшим, лежащим в тёмной комнате, да и Бэби надо было постепенно объяснять, подготавливать их.
Ещё днём были какие-то глухие слухи, что едет сюда из Ставки генерал Иванов с войсками. Не верилось. Но поздно вечером вдруг сообщили со станции – что он приехал, уже здесь!
Боже, какая радость, слава Тебе, благодарение Тебе! Боже, какая внезапная радость! И – узнать про Государя! (Да может и сам Государь следом за ним?) И – помощь, защита.
Как чувствовала! – как чувствовала, как она всегда любила этого генерала, называла его «дедушкой», советовала брать в Ставку, советовала в военные министры, – как бы он умел захватить сердца Думы! Как тактично было со стороны Ники послать именно Иванова!
Государыня распорядилась мчать на станцию и звать генерала сюда!
287
Генерал Иванов прибыл в Царское Село. – Встреча с офицерами от Главного штаба. – Не предпринимать действий. – Телеграмма № 1833. – Вызов во дворец.
До станции Царское Село поезд дошёл благополучно: никто не стрелял, никто не задержал.
Уже давно стемнело, и было тем более опасно.
Генерал Иванов распорядился георгиевскому батальону: никому из состава не выходить, всем быть в полной готовности, но внутри. Сам же послал за начальником гарнизона и комендантом города.
Те явились весьма расстроенные, обезпокоенные, и подтвердили все худшие сведения: что гарнизон не подчиняется им, находится в брожении, а слушается – своих комитетов .
Вот как…
Однако и серьёзных мятежных выступлений тоже ещё не было. И сегодня были тут члены Думы, успокаивали. Все трактирные заведения разграблены – и в таком количестве, что не только хватило гарнизону, но корзинами вина и питей встречаются разные новоприбывающие части, группы, военные грузовики. Из Петрограда с Путиловского завода приехали и броневые автомобили с пулемётами и солдатами, возможно – для враждебных действий против Дворца.
А что вообще в Петрограде?
В Петрограде никакого сопротивления уже с середины вчерашнего дня. Все боевые действия закончились.
Итак, с одной стороны высадка георгиевского батальона была безусловно опасна. А с другой стороны, поскольку явного мятежа в Царском Селе не было, гарнизонное начальство могло справиться и само.
Царскосельский дворец? Но его охрана не входила в прямую задачу генерала Иванова, его задача была более общая.
И потом: прямое столкновение близ дворца могло бы косвенно угрожать царской семье.
К счастью, революционные отряды пока не нападали на прибывший эшелон. Но в темноте, в глубине, происходили какие-то перемещения, такое было впечатление, что станцию окружают. Слышались и пьяные песни издалека.
Да Николай Иудович по своему опыту мог представить, что это значит, когда четыре вооружённых полка перепились.
Чтó предпринять – была головоломка. В таких необычных обстоятельствах Николаю Иудовичу ещё не приходилось действовать.
Тут доложился генералу прибывший младший офицер Тарутинского полка: полк весь прибыл, в полном составе и в боевой готовности, находится в пяти верстах отсюда на станции Александровская. То есть по лужской ветке.
Вот как? И давно?
Да уже с утра.
– И никто на вас не нападал?
Нет. Полк находится от Петрограда по своей ветке в двадцати верстах, готов двигаться дальше эшелоном, готов немедленно выгружаться и идти маршем.
– Ни в коем случае! – решительно озаботился и запретил генерал Иванов. – Ни в коем случае, не возбуждайте народ! До моего особого распоряжения всем оставаться в эшелоне.
А как они проехали?
Через Гатчину.
И Гатчина их не задержала? Большой там сейчас гарнизон?
Тысяч двадцать, все лояльные и тоже могут быть позваны на помощь.
Так-так. Хорошо. Но пока оставайтесь в эшелонах. А ко мне прикомандируйте связь.
Генерал раздумывал. Прибытием Тарутинского полка и лояльностью гатчинского гарнизона его личная задача даже осложнялась: ему как будто следовало бы передислоцироваться к своим главным силам – но это было пять вёрст в сторону по тёмной неохраняемой дороге, – а как же бросить георгиевский батальон?
Военные действия, когда их ведёшь не против истинного неприятеля, а в собственной родной стране, могут создать исключительно сложное положение.
Но! – у них есть и такая счастливая особенность: возможность прямых сношений с так называемым противником. Не успел Николай Иудович достаточно нахмуриться над картой, как к его вагону подошли и просили быть представленными полковник Доманевский и подполковник Тилли. Вот как! О первом генерал слышал, тот служил в гвардии на высоких должностях, а второго Николай Иудович и прямо знал по Юго-Западному фронту. И прибыли они не от себя, это не случайные были какие-то офицеры, – но через мнимую, так сказать, боевую линию они были присланы своим начальством – начальником Главного управления Генерального штаба генералом Занкевичем.
– Генерал Занкевич – на месте? – обрадовался Иудович.
Конечно, отчего бы нет. На месте и весь состав Главного штаба.
Ну, тогда это совсем не было похоже на бунт.
Генерал Иванов весь день сегодня ехал как бы навстречу тёмному горизонту – события были непроницаемо заслонены от него, а он от них. Теперь же оказывалось, что о его движении на Царское Село было прекрасно известно в Петрограде, – и вот полковник Доманевский послан к нему ни более ни менее как в качестве его начальника штаба, помочь генералу Иванову в его командовании Петроградским военным округом и разъяснить обстановку.
Так это замечательно! Отпадал заслон враждебности, по обе стороны оказывались дисциплинированные офицеры одной и той же армии!
Но более того и лучше того: эти два офицера одновременно присланы также и по поручению Временного Комитета Государственной Думы.
Каким же образом? так это всё, значит, – одно?
Да, да. При Думском Комитете действует Военная комиссия, и генерал Занкевич поддерживает с ней постоянную связь. И вот все они совместно прислали этих двух офицеров добросовестно разъяснить новоназначенному диктатору, каково состояние в Петрограде, полностью ориентировать его в петроградских событиях.
Очень замечательно.
Так вот, в Петрограде уже все полностью – за Временный Комитет Государственной Думы, никакой борьбы уже нет. Даже Гвардейский экипаж с великим князем Кириллом Владимировичем сегодня отдали себя Думе, и даже Собственный Конвой Его Величества присылал делегатов, и охрана царскосельского дворца тоже. Многие офицеры властью Государственной Думы уже вернулись в свои части и безпрепятственно командуют ими. Хабалов и часть министров арестованы. Борьба вся окончилась, и восстановить прежний порядок военной силой уже трудно рассчитывать. Но это и не требуется, потому что Думский Комитет верен монархическому принципу и продолжению войны. Поэтому, вот, все высшие штабы и военные чины столицы продолжают спокойно работать, признавая Думский Комитет. А всем распоряжается – Родзянко.
Генерал слушал, изумлялся, одновременно и облегчался: его сложнейшая задача вот уже почти перестала и существовать. Родзянко? Ну, на поверхности Родзянко, а за его спиной, конечно, Гучков, и председателем Совета министров станет, конечно, Гучков. (А у генерала Иванова с ним втайне весьма добрые отношения.)
Так что, объясняли присланные офицеры, вооружённая борьба только испортила бы всё положение. А наиболее разумно для нового Командующего Петроградским округом – поддержать умеренный Думский Комитет против непомерных претензий Совета рабочих депутатов.
Ах, ещё и – рабочих депутатов? Нет, это всё было не так ясно. Нельзя было давать никаких обещаний – но и с другой стороны нельзя портить отношений с новой властью.
Но и Его Величеству нельзя было не угодить.
Ах, попал! Ах, сложное положение.
Ясно, что Петроград – это силища, там чуть не 200 тысяч гарнизону, – чтó можно сделать с одним батальоном, к тому ж и без боевого настроения, из парадной ставочной охраны?
И больше того: оставаться на ночь в Царском Селе в пьяном революционном окружении тоже крайне опасно, генерал слишком высунулся вперёд.
Наружно Николай Иудович не дал почувствовать своей тревоги приехавшим офицерам – его широкобородое, широколобое простодушное лицо прикрывало такие подробности.
Но предусмотрительная мера гарантировала его: сзади был прицеплен паровоз головой назад.
Дворец? Прямых указаний защищать дворец он не получал от Государя. Да чем более тут узнавалось – раз уже и дворцовая охрана посылала своих депутатов в Думу, значит уже все помирились и никаких столкновений не предвидится.
Но за всеми этими разговорами и выяснениями прошёл не один час. И слух о прибытии эшелона распространился по Царскому Селу, достиг дворца, – и вот оттуда приехал офицер и подал генералу Иванову телеграмму от генерала Алексеева, на дворцовый телеграф пришедшую ещё рано утром и лежавшую там.
Телеграмма № 1833 была длинная, и генерал ушёл читать её в свой кабинет, да чтоб и обдумать спокойно. Телеграмма эта могла ещё очень осложнить положение. Но нет, но к счастью нет! Напротив, всё совпадало с тем, что доложили ему благоразумные полковник с подполковником. Алексеев тоже сообщал, что в Петрограде – полное спокойствие, войска примкнули к новому правительству, а правительство – к монархическому началу. И если все эти сведения верны – а они были верны, генерал Иванов уже убедился, – то изменяются способы действий: к умиротворению, избежав позорной междуусобицы. Дело можно привести мирно к хорошему концу, который укрепит Россию.
Ну – совершенно же правильно! Ну – так и есть! Так и предчувствовал Иудович! Вот что значит боевая опытность! – как правильно он вёл себя, ни на чём не оступился, будто предвидел эту телеграмму.
Теперь – всё было легко, переговоры вести – это не воевать.
А переговорам нисколько не мешает, если на эту ночь отъехать назад в Вырицу.
И, ещё чуть выдержав характер, собирался генерал отдать такое распоряжение, – как приехал ещё один гвардейский офицер из дворца, передать: императрица вызывает генерала к себе.
Ах, некстати! Ах, не успел уехать!
И в новых обстоятельствах это может бросить на него пятно.
А в старых обстоятельствах – не поехать никак нельзя.
Да ведь не брать же с собой батальон – а как ехать по улицам Царского, пока эти пьяные разбойники спать не улегли, не успокоились?
Надо было ещё немного повременить.
Опыт полувековой службы подсказывал, что пока, прикрывая некоторую недостаточность своих боевых действий, неплохо составить приказ. Что генерал прибыл в Царское Село и имеет здесь местопребывание своего штаба.
* * *
...
Товарищи Солдаты!
…Для того, чтобы вас не обманули дворяне и офицеры – эта романовская шайка, возьмите власть в свои руки! Выбирайте сами взводных, ротных и полковых командиров… Все офицеры должны быть под контролем ротных комитетов.
Принимайте к себе только тех офицеров, которых вы знаете как друзей народа. Теперь, когда вы восстали и победили, к вам приходят вместе с друзьями также и бывшие враги-офицеры, которые называют себя вашими друзьями. Солдаты! Лисий хвост нам страшнее волчьего зуба!
…Ваши представители и рабочие депутаты должны стать Временным Революционным Правительством народа, и от него вы получите землю и волю!
Солдаты! толкуйте об этом по ротам, по батальонам! Устраивайте митинги!
Да здравствует Совет Рабочих и Солдатских Депутатов!
Петербургский Межрайонный Комитет РСДРП
Петербургский Комитет Социалистов-Революционеров
* * *
288
Убийство капитана Фергена.
Всю войну от самого начала, и от знаменитой Тарнавки – до января этого года штабс-капитан фон Ферген пробыл в строю лейб-гвардии Московского полка, во главе своей 14-й роты, преданной ему, не пропустил ни одного боя, ходил во множество атак, вылазок, разведок, застигался всеми обстрелами, обсвистывался всеми пулями, среди строевых офицеров не осталось ни одного не раненного, а он – ни царапины не получил. На суеверный фронтовой глаз это было уже прямое чудо, за пределами всякой вероятности. И в январе командир полка генерал Гальфтер вызвал Фергена и сказал:
– Не считаю себя вправе, голубчик, испытывать дальше вашу судьбу. Такого офицера я хочу сохранить. Поезжайте вы на несколько месяцев в запасной батальон, поучите там. Всё равно кому-то надо.
И Ферген прибыл в Петроград, и получил 4-ю роту, в полторы тысячи человек. И даже эта неохватная текучая рота быстро узнала его невозмутимость, нераздражимость, непридирчивость по мелочам, даже и кротость. И немецкого не было в нём ничего, кроме фамилии. И так ничего враждебного солдаты не высказали ему и в дни мятежа, когда он вернулся со своим караулом от Сампсоньевского моста, – приняли его ночевать в ротном помещении эти две ночи. И вчера вечером рота ещё раз избрала его снова своим командиром – и сегодня пошёл бы он с батальонным шествием в Государственную Думу, если б не ответил резко, что не поведёт роту, если солдаты не снимут с шинелей этих красных тряпок.
Но тряпки – оставались на солдатских грудях и рукавах, – и что теперь было дальше? как?
Только и оставалось, в разорении души, что забыться дневным сном.
И проспали они с Нелидовым – в вечер, в темноту.
Вдруг проснулись от грозного стука в несколько кулаков в дверь и непрерывного электрического звонка.
Сразу поняли: плохо. И уже ничем не загородиться. И не открыть нельзя.
Надели сапоги, Нелидов сам прохромал к двери и открыл.
Ввалилась ватага солдат, с десяток, с ними и рабочие. И лиц знакомых не находили ротные – какой же проходной двор сделали из батальона!
Но те не вслепую пришли, знали за кем. Фергену сразу ткнули пальцем в грудь: отказался командовать ротой.
Что ж, возражать, что не отказался?.. Смолчал.
Сейчас отведут в Государственную Думу.
Это ещё хорошо, в Думу. Но очень злобны были лица и голоса.
К Нелидову стали придираться так: а его – признала рота командиром? а почему он здесь?
Выскочил подвижный денщик Лука:
– Идите в роту, проверьте.
Но они, толпясь, стали будто оружия искать по комнатам, и взяли нелидовский револьвер (Ферген оставил свой в роте), – а тем временем открыто хапали по карманам, что ценное где лежало.
– Собирайтесь! – скомандовали Фергену.
И что делать – придумать было нельзя.
Нелидов и Ферген обнялись и поцеловались.
– Прощай, – шепнул ему Ферген. – Меня – убьют.
Он чувствовал, что губы его леденеют, будто он уже и кончался.
– Прощай, Саша, – не оспорил Нелидов.
Ничто не было объявлено, ничто не сказано прямо, – но ясное ощущение наступившего конца овладело Фергеном, как не бывало ни при одном подлетавшем снаряде.
Да к концу он был давно готов – но почему же здесь? но почему от своих?
Зацепился, споткнулся на пороге.
А снаружи, при фонаре, завыла сплотка рабочих со штыками – и не светло, и некогда лиц различить, а звериные маски.
– Пошли! – показали ему к воротам на Сампсоньевский.
И он пошёл в окруженьи безпорядочного конвоя – не военной команды, где подчиняются одному, а каждый вёл и кричал, как хотел, – и подправляли его штыками.
На воротах не было ни часового, ни начальника караула, никто не остановил их.
Не боялся Саша Ферген смерти – но почему от своих?
С небывалой скоростью проносились – отец и мать (а ещё он не женат был), неправдоподобные уцеленья на фронте, торжество производства в офицеры, поздравляющий Государь с любезной улыбкой, дальше, кадетский корпус…
– Так красные тряпки не нравятся, сволочь? – кричали.
Остановились, уже никуда не вели. Штыками заставляли поворачиваться, поворачиваться – показать себя и всех увидеть.
Сюда достигал свет воротных фонарей. Во все стороны была ровно-злобная оскаленная чёрно-серая толпа. Но ничего не сказал и не увидел больше – кольнуло внутри насквозь, как при простуде в лёгких, – и оглушило по голове ударом.
Его погасшее сознание уже освободило его знать, что тело, подпырнутое несколькими штыками, ещё подняли с земли на воздух, на показ – и толпа радостно гоготала.
289
Уникальная политическая подготовленность Милюкова. – Усилия сблизить кадетов и социалистов. – Социалисты обособляются и сегодня. – Будут переговоры!
Если вспомнить всю 58-летнюю жизнь Павла Николаевича, его славную научную деятельность, затем перенесенную на общественную арену; знакомство с Западом и даже с Америкой и сыгранную там роль провозвестника грядущей русской революции, успешные, сильно повлиявшие там лекции – о неизбежности гибели русского самодержавия, – этот широкий западный кругозор, при котором особенно хорошо видны общие слабости России; и потом со славою «неистового революционера» возврат в Россию в самые зыбкие передвижные месяцы 1905 года и сразу погруженье в политику (верно пророчили ему, что он станет историком падения русского самодержавия, но он рвался стать и участником этого падения!); и в русской первобытной политической недифференцированности нащупывание опорных пядей, очерчивание разделяющих границ, собирание единомышленников; и жестеющею рукой формование кадетизма как идеологии, как движения, как партии – той самой, которой предстояло держать на себе будущую конституцию, партии с твёрдой дисциплиной и самой левой из аналогичных ей западноевропейских; и в ответ на уступки царского манифеста 17 октября найти удачное соединение либеральной тактики с революционной угрозой, никогда не допустить публичного осуждения террора, быть готовым и нещекотливо отнестись к физическим средствам борьбы, добиваясь немедленного устранения государственной шайки, захватившей власть в России; и в том самом октябре 1905 выдержать вступительный экзамен на лидерство среди кадетов, а последние годы и лидерство в Прогрессивном блоке. Если всё это вспомнить, то можно сказать, что никто во всей России не был так подготовлен к нынешнему сотрясению страны, пониманию и управлению ею – как Милюков.
Процессу русской политической борьбы он отдал всего себя. Всю свою личную жизнь он растворил в сизифовой работе политики (так что редко доставалось отдохнуть со знакомой в коротких европейских прогулках). И – никогда не менял убеждений.
Уже и первая революция при своём конце стелила Милюкову путь стать министром, если даже не премьер-министром. Уже приглашался он на переговоры то к Витте, то к Столыпину на Аптекарский, уже реально взвешивались его условия и докладывались царю, – и он тогда бы уже получил власть, если б не уклончивость царя, холодность Столыпина, честолюбие Муромцева и болезненная чувствительность Шипова, углядевшего в Милюкове самодержавные навыки и слабость религиозного сознания, – тоже, оказывается, регулятив для занятия министерского поста. (Заплесневелое славянофильство: «не учреждения, а люди», «не политика, а мораль» – подозрительные формулы, маскирующие реакцию.)
Нечего и говорить, как вырос Милюков ещё за последние годы, такое уникальное положение занял, что не было ему противников, соперников, конкурентов, кто в комплексе мог соревноваться с ним и политической опытностью, и дискурсивным мышлением, и умением руководить. Маклаков мог посверкать в ораторстве, в юридизме, но не был приспособлен к практическим битвам, не имел ни железной груди, ни каменных ног. Огнестрастный оратор Родичев, впрочем губернского масштаба, насмешливый парадоксалист Набоков, отточенный формулист Кокошкин бывали незаменимы каждый на своём частном месте, на думской трибуне или за кропотливой подготовкой документов, но не могли бы претендовать на партийное лидерство. Пылкий Аджемов, трудолюбивый Шингарёв были только отдельными лучами, идущими от Милюкова. Лишь Петрункевич и Винавер могли ещё претендовать на место лидера, но в результате Выборга вышли из колеи. (Да само Выборгское воззвание помогал им сочинять тоже и Милюков. Да и перед подписаньем это он убедил их не отступать.)
Так всею своею жизнью, опытом многих манёвров, как нельзя лучше был подготовлен Милюков и ко всей наступившей теперь бурной ситуации и к держанию штурвала государственного корабля. Но – более всего и особенно он был подготовлен к переговорам с социалистами, какие предстояли ему сегодня ночью. Его главная книга, выпущенная в Соединённых Штатах, как раз и доказывала эту мысль: что только сближение русских либералов с русскими социалистами принесёт России политическую свободу. Это была его излюбленная, давняя и даже коронная мысль. Для осуществления её осенью 1904, во время Японской войны, Милюков отправлялся на парижскую конференцию совместно с русскими социалистами и террористами. Союз конституции и революции! Его постоянной мечтою было – стать идейным руководителем левых, высшим указателем их пути. Зорко следя за чёткостью своих границ справа, Милюков всегда добродушен был к расплыванию границ налево: хотя бы и вовсе не было их, этим и достигался бы прочный союз с социалистами для овладения государством, – они сольются в борьбе с режимом.
Увы, нетерпимость социалистов уже сколько раз эту надежду разрушала! Даже благоразумные меньшевики, которые нередко занимали конкретную позицию ну вполне же кадетскую, – всё равно из предубеждения, из стыда всегда отшатывались как от буржуазии . Нечего говорить о большевиках, проектирующих геометрические линии в будущую пустоту. А эсеры, старые друзья Милюкова, со столыпинских лет всё более слабели, прибледнялись, растворялись. Выбор характера взаимных отношений почему-то всегда принадлежал левым – и они всегда выбирали резкое обидное отталкивание. Перед фронтом левых всегда была опасность дискредитировать себя умеренностью, – но никакою смелостью невозможно было заслужить у них похвалу. Однако Милюков никогда не уставал терпеливо убеждать левых и наводить мосты.
Тем обиднее и опаснее была эта постоянная трещина недоверия между кадетами и левыми, что главная опасность всему обществу грозила всегда от правых и черносотенцев, и тут недостаточно государственного анализа, но только тот может понять силу угрозы, на кого самого поднимались их грязные руки. В некий давний год, в окне, противоположном милюковскому кабинету, производились какие-то таинственные приготовления, которые объясняемы были приятелями как установка огнестрельного оружия для выстрела в него. Затем было получено телеграфное сообщение, что на германской границе задержан некий фельдшер, чёрный боевик, ехавший с поручением убить Милюкова, Гессена, Грузенберга, – так что правительственные агенты приходили некоторое время аккуратно высиживать на кухне, охраняя личность Милюкова. А затем таки на Литейном наскочил на Павла Николаевича плотный молодец мещанского типа, нанёс два удара по шее, сбил котелок и разбил очки. Серия покушений грозила продолжаться, но Павел Николаевич отправился в заграничную поездку.
И вот, 11 лет спустя, по-новому возникла в России всё та же ситуация и всё те же сгущённо-острые вопросы. И – революция с её бурным колыханием, – эта страшная и красивая гроза, в которой рождается новый строй. И неповторимое соотношение сил, что в заслуженные руки кадетского вождя сами тянулись правительственные возжи. И – правая царистская контрреволюция, наступающая озверелыми эшелонами Иванова. И – опять непонимание, недоверие, настороженность левых! – тут же рядом занявших думское крыло, а не желающих соединиться! Между двумя крылами Таврического промелькивали какие-то случайные туманные контакты, летучие сведения, кто-то кому-то что-то сказал, шепнул, – но Совет рабочих депутатов упрямо держался в самодовольствовании, пренебрегая озабоченным думским крылом, что-то там своё решая и устраивая. (Хотя одну ночь Милюков спал на столе под одной шубой со Скобелевым.) И каждый час этого раскола был неимоверно опасен, повторяя собой тот раскол революционеров и конституционалистов, который погубил весь 1905 год.
И вот этот раскол, это непонимание мучили сегодня Милюкова больше всех других озабоченностей дня, тем более что подошло реальное время подбирать упавшую власть: тут, в Петрограде, без всякой санкции негодного монарха, брать власть de facto . Временный Комитет Думы уже стал смешным, ничем он не руководил и руководить успеть не мог, и состоял-то наполовину из трухи. (Другую, дельную половину Милюков брал в правительство.) А тут ещё – неуклюжие замыслы увальня Родзянки, его потешные порывы стать диктатором русской революции, его прозрачные намерения сговориться с царём и с Главнокомандующими, ехать на неконтролируемую встречу – захватить себе премьерство в общественном кабинете. (Родзянко в эти двое суток стал отыгранной фигурой, устранялся почти шевелением пальца. Такие ли головы Милюков перерабатывал на своём веку! Было время, Родзянко очень годился, чтобы стеснить правых в Думе, и последние двое суток он полезно поработал, но вот уже и отошло.)
А князь Львов сегодня в Таврическом и не появлялся, вся формировка правительства шла без него. Да и лучше.
И второстепенны были все комбинации вокруг отсыхающего императора Николая, жалкий манифест трёх великих князей, который поднесли Милюкову под расписку, а он положил в карман, никому и не показывая. Этому императору, конечно, уже никогда не царствовать, а с большими шансами пойдёт комбинация Алексей-Михаил, и так сохранится монархический балдахин, без которого народ был бы ошеломлён.
Но безпокоило, безпокоило – вот это противостояние с Советом рабочих депутатов. Оно было безсмысленно исторически, ибо первый петербургский Совет рабочих депутатов был выдвинут на поверхность односоюзниками Милюкова, ими перепрятывался и по квартирам. И – нелепо практически, в сложной бурной сегодняшней обстановке.
И когда узналось поздно вечером, что Совет рабочих депутатов предлагает переговоры, – Милюков взликовал: это и было создание настоящего фундамента образуемому правительству! Прочней всего будет, если социалисты дружественно войдут в кабинет. Но если и не войдут, то такие переговоры – основа кабинета.
Вот высший смысл ориентировки налево: при правильном обращении с левыми можно, опираясь на них, выйти к власти.
А Милюков – умел вести переговоры!
Он понимал, конечно, что они идут сюда опять с недоверием, опять с предвзятостью – не как к людям просто, не как к своим товарищам, но как к цензовой буржуазии, перед которой нельзя проявить слабости.
Но и Милюков готов был их обхитрить! Он готов был на всё их недоверие, он заранее терпелив был ко всем предстоящим досадным извивам, – важно начать диалог! Сколько пройдено с ними общего в прошлом – это не может не сказаться на переговорах. И не беда, что наступает третья безсонная ночь, – за переговорами Милюков выдержит и третью, и без кофе даже.
Столько пройдено с ними в прошлом, – но с крупными, яркими вождями, а не с этими, которые вот пришли. Из них он давно знал лишь адвоката Соколова, ещё по Союзу Освобождения, – бездарный, ограниченный, только и способный передавать партийные директивы. А остальные были – так, вторая вода партийной публицистики.
Даже разочарование, что против льва кадетской партии придут не видные социалисты – да откуда им в Петрограде взяться? – а так, какие-то.
Ну что ж, не те это были вожди, но обстоятельствами поставлены на место тех . Не именно этих он должен уважать, а вообще левых, вообще революционный подпор, без которого не может выстоять радикальный либерал.
А уж переговоры он вести умеет!
Вбежал в комнату Думского Комитета какой-то растрёпанный ошалелый солдат. И, не обращаясь, грубо:
– Вот, нам тут надо приказ печатать. Кто это будет?
Улыбнулись, вежливо ему отказали.
Посмотрел, разинув рот, размахнул рукой:
– Ну, так мы сами испечатаем!
290
Гиммер готовится к переговорам.Постепенно Исполнительный Комитет – сморился, растёкся, – и никто не получил полномочия вести переговоры с думцами, а просто кто при деле остался: Нахамкис, не выпускавший пункты из руки, – и Гиммер. Нахамкис, однако, очень осмотрительный: чего б никогда Гиммер не пошёл делать, а Нахамкис не поленился: сходил в полупустую 12-ю комнату и перед остатком неразошедшегося сброда прочёл свои девять пунктов, – и докажи потом, что они не утверждены Советом.
Гиммер в малом теле имел избыток динамизма, он был мал, но прыгнуть мог выше любого большого. Именно быстротою сообразительности и действий он всех и обскакивал.
Сколько ни обсуждали целый день проблему переговоров с думцами – всё равно он был не удовлетворён, мозг его усверливал дальше, не обо всём договорились даже в узком кругу. Во-первых, не слишком ли перегнули в его собственной формуле поддержки буржуазного правительства? Он – ни в коем случае не имел в виду классовый мир, вовсе не повторять 1848 год, когда рабочие таскали каштаны для либералов, а те их потом расстреляли, – нет уж, лучше мы не упустим время и сами расстреляем либералов. Он и не предлагал отказываться от резкой оппозиции, это уже было бы капитуляцией демократии, – нет! – он имел в виду только тайные контакты с буржуазией, только на эти короткие переворотные дни не мешать думскому правительству делать своё дело, при цензовом правительстве не будет и военного подавления от Ставки, – а когти в запасе держать наготове и выпустить их вскоре. В девяти пунктах, которые записал Нахамкис, этот вопрос поддержки правительства никак не был отмечен, но опасность была, что думцы на переговорах поставят его встречно. Второй вопрос и вторая опасность была, что думцы, поклоняясь своей Государственной Думе, не захотят и слышать ни о каком Учредительном Собрании рядом с ней.
В последние полчаса перед переговорами согласились Гиммер с Нахамкисом: вопрос о поддержке всячески смазывать, а по вопросу Учредительного Собрания, если слишком упрутся, то и не настаивать.
Быстрее всех Гиммер сносился и с думцами: как бы он ни был занят в Совете, а как в уборную выбегают, так успевал он всегда выбежать и протолкаться по Таврическому для осведомления и для контактов. И за этот вечер он уже дважды или трижды успевал сообщить в думское крыло, и ещё повторить и ещё нагнести сообщение: что – готовится . Что – будут контакты . Что – придут на переговоры. Это требовалось и практически, чтобы встреча состоялась, не разошлись бы там, но и – для психологического подавления противника: в несколько толчков повторяемое сообщение должно было вызвать в них опасение: что ж это будут за переговоры и что за ультиматумы им принесут?
Здесь исключительно мог бы помочь Керенский, с его помощью можно было бы разыграть этих думцев в прах, – но с ним случилось нервное заболевание властью, жажда стать министром. И он потерял весь свой революционно-демократический рассудок, и ни о чём деловом советском нельзя было с ним говорить, но когда в эти последние пробеги Гиммер встретился с ним – куда-то вызванным, в шубе, готовым уехать, – тот плохо слушал и понимал, а нервно, отрывисто отвечал всё об одном: что руководители демократии проявляют к нему недоверие, что они желают поссорить его с массами, ведут подкопы, интриги, начинают травлю. Гиммер, сам один из главных руководителей демократии, смотрел с сожалением на своего бывшего приятеля: он определённо был безполезен в предстоящих переговорах.
Но тем необходимее было для представительства вести с собой на переговоры Чхеидзе, хотя и он от переполненья событиями тоже выбыл из строя: был сонный, вялый, размякший, никакой.
Да, вот кто ещё был такой же подвижный и неутомимый, как Гиммер, только по-глупому, – Соколов. Он сидел в первой комнате думцев, в проходной, за чаем с бутербродами с новым градоначальником Юревичем и обсуждал задачи градоначальства. А Гиммер был с подведенным желудком – и тут же накинулся к ним на этот чай, сервированный с ложечками и сахаром, вмешался горячо, как разгромить полицейский аппарат и создать выборную милицию. Потом Соколов прицепился, выведал намерение – и просил взять его на переговоры тоже. Затем Гиммер заговорил с Некрасовым. По нему уже видел, что Думский Комитет подготовлен, ждёт и опасается.
– О чём предполагаете беседовать? – настороженно спрашивал Некрасов. (Впрочем – тоже дурак.)
А-а-а, вот это самое их сейчас там и грызло! Вот этого-то они и боялись, чтó им сейчас предъявят, например, циммервальдское «долой войну!». Вот это и нужно было Гиммеру: напугать их и размягчить заранее, в этом и была его тактика.
И перед Некрасовым он прошёлся фертом:
– Придётся поговорить об общем положении дел.
Некрасов прижался, пошёл за дверь доложить своим главным, вернулся: ждут представителей Совета рабочих депутатов к 12 часам ночи.
291
Генерал Рузский среди царской свиты. – Снова у Государя. – Получил ответственное министерство. – Остановил войска Северного фронта. – И генерала Иванова.Генерал Рузский вышел от Государя в напряжении и досаде, что не довёл дело до конца, хотя в некоторые минуты разговора ему казалось, что он уже преуспел в доводах: царь нервничал, дёргался одной рукой и, кажется, брался за ручку.
И куда ж было теперь идти в стеснительном состоянии ожидания, как не в купе кого-нибудь из свитских. Рузский попал в открытое купе дряхлого, согбенного Фредерикса со слезящимися глазами – но кто-то был и внутри и в коридоре близко, и по коридору проходили. Между ними шли тут свои возбуждённые разговоры, стихшие при Рузском.
Всю свиту вместе и каждого порознь Рузский безконечно презирал: среди них не было ни одного полезного государству человека и никто не был занят никаким полезным делом – дутая численность, которая, однако, непременно должна окружать священную особу. Ему сейчас унизительно было сравняться с ними, невольно оказавшись в их обществе. А к тому ж и по характеру он был необщителен. Однако где ж ему теперь прождать? – нельзя и уйти в свой вагон на станции.
Тут был сонливый Нарышкин. Молодой смазливый Мордвинов. Суетливый глупый историограф Дубенский. Раз прошёл с грозным и непримиримым (очевидно к Рузскому) видом низкорослый адмирал Нилов. И не удостаивал их, лишь твёрдо, гордо проходил самовлюблённый тупой Воейков.
А остальные – очень хотели говорить с Главнокомандующим фронта! Остальные так и натеснялись к нему сюда из других купе – ещё один молодой генерал, ещё один флигель-адъютант, кажется герцог, и ещё командир Конвоя, кажется граф, – узнать от него новостей, о чём там идут переговоры, или даже помощи его:
– Ваше высокопревосходительство! Только вы один можете помочь!..
Хозяин положения, Рузский откинулся в угол дивана и смотрел на них на всех саркастически. Что оставалось ему сделать – это эпатировать их, оскорбить и раздражить до чрезвычайности. Ничто они были раньше, тем более ничто после происшедших событий, объятые страхом за себя, и вся соединённая их враждебность ничего не могла причинить Рузскому, уже решившемуся на жестокий тон с самим Государем. И, откинутый на спинку дивана и прикрывая глаза в действительном утомлении, он выдохнул:
– Да… Довели Россию… Сколько говорилось о реформах, как настаивала вся страна… И я сам много раз предупреждал, что надо идти в согласии с Государственной Думой… Не слушались… Голос хлыста Распутина имел больший вес. А потом начались Протопоповы…
– А при чём тут Распутин? – вдруг услышав через глухоту и со внезапной силой, как проснувшись, возразил древний Фредерикс. – Какое он мог иметь влияние на государственные дела?
– Как какое? – изумился, раскрыл глаза Рузский.
Фредерикс отвечал с достоинством:
– Я, например, никогда его не видел, не знал. И ни в чём не замечал его влияния.
– Ну, может быть, граф, вы были в стороне, – уступил Рузский с уважением. (Тем большим, что сам был не без греха, в трудную минуту отставки хлопотали о нём и через Распутина.) – Но обязанность тех, кто окружал Государя, была: знать, что делается в России. Вся политика последних лет – тяжёлый сон, сплошное недоразумение. Гнев народный не простит Щегловитова, Сухомлинова, Протопопова, протекционизма при назначениях…
Он их же и имел в виду, придворных, но они нисколько не были эпатированы, а столпились вокруг, предлагали сигары, – Рузский не курил сигар, держал свою папиросу. И сбивчиво наводили Рузского на дальнейшие объяснения.
– Что теперь будет?.. Что теперь делать, ваше высокопревосходительство? – спрашивали в несколько голосов. – Вы видите, мы стоим над пропастью. Только на вас и надежда!
Они уже знали от Данилова, что и Алексеев телеграфно просил ответственного министерства.
– Теперь что ж, когда довели? – вздохнул Рузский, как бы с трудностью. – Теперь придётся сдаваться на милость победителя.
– Победителя?.. – сбилась свита испуганно. – А кто победил?..
– Кто же! – усмехнулся Рузский. – Родзянко. Государственная Дума.
О, о! Свита была не только не против ответственного министерства, она, оказывается, ждала уступок Думе! Они тут – и были все за ответственное министерство.
(Рузский не знал, что сердитый маленький адмирал Нилов, отозвав историографа, доказывал ему необходимость сейчас же доложить Государю: Рузского – сместить, казнить, а назначить энергичного генерала и идти с войсками на Петроград. Но – ни тот ни другой не имели смелости прямо обратиться к Государю и не знали, кто бы обратился.)
– Что ж? – вдруг открылось за другими головами надутое рыло Воейкова. – Я готов разговаривать с Родзянко по прямому проводу.
Тут Рузский мог усмехнуться особенно ядовито:
– Если он узнает, что разговаривать хотите вы, – он не подойдёт к аппарату.
И гордый Воейков задвинулся.
Курили, разговаривали – но Государь не вызывал Рузского. А стрелки уже подходили к полночи.
И перешли её.
Это становилось уже невозможным, унизительным – что за спектакль этого думанья наедине, всё равно без советов, без телефона.
Рузский склонялся – не уйти ли ему. Нет, последний раз пусть решительно доложат: уходить ему или ждать? Тут снова подошёл Воейков. И сказал прежде, чем Рузский ему:
– Генерал, я имею телеграммы Государя для передачи, разрешите воспользоваться вашим юзом.
– Нет! – сорвался голосом, вскричал Рузский. – Здесь хозяин – я, и только я имею право посылать телеграммы!
Зря он вскричал, но и можно потерять равновесие: хотели обойти его с неизвестным результатом, и даже если успешным, то оттеснить, как будто не он этого всего достиг.
Крупным шагом Воейков с телеграммами пошёл назад к Государю. Но и Фредерикс поплёлся туда же, взволнованный нарушением этикета.
(Так что ж, мы – пленники здесь? – передалось по свите.)
Воейков возвратился очень недовольный и протянул телеграммы Рузскому.
Рузский поправил очки и прочёл верхнюю:
«Прибыл сюда к обеду. Надеюсь, здоровье всех лучше и что скоро увидимся. Господь с вами. Крепко обнимаю. Ники».
Вздрогнул, переложил её в испод.
А в открывшейся, главной, Алексееву, стояло: что – согласен на предложенный манифест и согласен на ответственное министерство.
Может быть слишком раздражённый предыдущим столкновением, Рузский теперь нашёл, что это недостаточно ясно выражено: хотя все одинаково понимали, что значит «ответственное», однако всё же – ответственное перед кем? Надо указать конкретно, что – перед Думой, перед народом. Не был ли это уклончивый хитрый манёвр царя, так для него характерный?
И Рузский настоял, чтобы Государь принял его снова. Тот принял.
Сколько не видел его Рузский? – минут сорок пять, пятьдесят. Представить нельзя, чтоб за эти минуты человек мог так осунуться, потерять всё недавнее упрямство, как-то рассредоточиться взглядом, лицом, обвисли глазные мешки, и кожа лица стала коричневая.
Но тем уверенней был напор Рузского: в тексте телеграммы ошибка, это – не совсем то или совсем не то. Надо исправить!
Государь посмотрел недоуменно.
Спросил, как точней выразиться.
И тут же переписал.
Фредерикс сидел и дремал в углу, иногда вздрагивая.
Государь поднял от бумаги большие глаза с надеждой:
– Скажите, генерал, но ведь они – тоже разумные государственные силы, правда? Кому мы передаём.
– Ну разумеется, Ваше Величество, – подбодрил Рузский. – И ещё какие разумные.
Теперь Рузский предложил, чтоб телеграмма была послана не только Алексееву, но и, для ускорения, сразу сообщена Родзянке в Петроград.
Государь покорно согласился.
А не угодно ли Его Величеству самому поехать на этот аппаратный разговор?
Государь смотрел, плохо понимая. С чего б это, куда? Среди ночи?
– Поручаю переговорить вам.
Рузскому и лестно было, что такое громовое известие он сообщит Государственной Думе первый.
Но уже столько сил положив за этот вечер, но уже достигнув столького, как никто не мог и мечтать в России, – как остановиться? Который раз за этот вечер всё изучая на пальце Государя перстень с продолговатым зелёным камнем, а на кисти рыжеватые волосики и коричневые пятнышки вроде крупных веснушек, – Рузский повёл сломленного собеседника дальше. Теперь, после этой главной принципиальной уступки – как можно продолжать безсмысленную операцию посылки войск против столицы? Войска вот-вот уже скоро могли накопиться, столкнуться – и во имя чего же всё? И кровопролитие?
Если примиряться – то какие же войска? против кого?
Размягчённый Государь тотчас согласился: войска, снятые с Северного фронта, – остановить.
И выборгскую крепостную артиллерию, конечно?
Да, тоже.
Но – и ещё не хотелось Рузскому уходить! И ещё, он чувствовал, можно что-то взять.
Да, вот! – тогда и генерала Иванова надо остановить?
Государь смотрел увеличенными, печальными глазами, не сразу понимая.
Иванова? Да, и Иванова, конечно. Послать и ему остановку.
– Но это можете сделать только лично вы, Ваше Величество. Он никому более не подчинён.
Государь тотчас же сел. Тотчас написал собственноручно. И подал Рузскому телеграфный бланк.
И тут вдруг черезусильная и стеснительная улыбка выказалась на его больших губах под густыми усами:
– А как вы думаете, Николай Владимирович, теперь смогу я проехать в Царское Село? Ведь у меня, знаете, дети больны корью.
– Так что ж, – согласился Рузский. – Вот подтвердится. Вот утвердится общественное министерство, всё везде успокоится, – и поезжайте.
Он вышел, цепко неся свою телеграфную добычу.292
Дмитрий Вяземский ранен. – Гучков близ умирающего.
Летали эти шальные пули по всем направлениям – вверх, но и вдоль, но и вкось, и какая-то часть их должна была где-то застревать, впиваться.
А Гучков с князем Дмитрием Вяземским всё ездили, всё гоняли по Петрограду, из батальона в батальон, из казармы в казарму, где успокаивая страсти, где собирая силы отражать правительственные войска, ожидаемые на город.
Хаотически движущиеся предметы имеют вероятность пересечься.
Уже около полуночи проезжали мимо казарм Семёновского полка – и в обрывках света, криков и стрельбы увидели и догадались, что солдаты-семёновцы или чужие – грабят, потрошат офицерские квартиры. Сами офицеры то ли скрылись прежде, а женщины кричали, протестовали, а седоков тут было в автомобиле четверо, и подёргался автомобиль – застрять ли в мелкой бытовой потасовке или гнать дальше, – и в этот момент Вяземский охнул и схватился за спину:
– Ох! Меня кажется…
Он сидел рядом с шофёром, а Гучков с адъютантом графом Капнистом сзади.
– Попало? Зацепило?
– О-о-о! – застонал. – Кажется, крепко… Тьфу, прóпасть!
Как некстати!.. А когда оно кстати? Как на крыльях носились – и остановило их.
Дмитрий отнял руку от спины, вперёд – она в крови сильно.
Кто стрелял – хоть смотри не смотри в темноту, целенная, не целенная, – не исправишь дела.
Куда ж теперь? Домой? Всё равно Аси нет дома, она в отъезде. К матери на Фонтанку? Не надо её пока тревожить. В госпиталь? Да может, посмотреть, так обойдётся? Да вот в одну из этих квартир, что ли. Заодно и защитим…
Сгоряча Дмитрий сделал два-три шага, а дальше чуть не упал, подхватили его с двух сторон Гучков и Капнист. И сообразить бы: вернуться назад в автомобиль – нет уж, как задумали, пошли.
Вяземский вис на шеях, уже совсем ногами не перебирал. Шофёр подменил Гучкова.
Через распахнутую освещённую дверь с крыльца уметнулись перед ними в темноту две солдатских грабительских фигуры. Гучков крикнул на них, для острастки.
Женщина стала в двери закрыть её – а на неё надвигалось строенное чудовище.
Гучков назвался и попросился войти.
Там ещё другая была женщина, обе возбуждены до дрожи рук, – а тут вносили раненого, сгромождение невозможное, всё на одну семью в короткие минуты.
Сняли шинель. Надо было осмотреть рану – но в нижней части спины и так уже густо насочилось через брюки, через китель, видно было, что серьёзно.
Надо было раненого положить – и придумали, что ничком, чтобы кровь не так стекала.
– Подстелите, пожалуйста, на диван клеёнку, найдётся у вас?
Выдержанный Дмитрий сильно стонал, и со стороны было видно, что положить его – будет ещё больней. Сам ли, или поддерживали ему ноги, назад оттягивали, – всяко хуже. Видно, что-то было повреждено в спине.
Уложили – стало легче. Совсем потный, он уронил лицо. Принесли, подложили ему под лицо подушку.
Тут сразу всё: что в квартире случилось, и что в Семёновском делается, и – где у вас близко телефон?
– Александр Иваныч, – ещё не слабо просил раненый, – звоните Дильке, она дома и быстро что-нибудь. Но пусть не говорит Мамá.
Дилька-Лидия была единственная его сестра, очень решительная, случайно родилась девочкой. Вся семья Вяземских была в центре общества, на пересечении с Воронцовыми, Вельяминовыми, старший брат Борис женат на Шереметьевой, сам Дмитрий на Шуваловой, младший брат на Воронцовой-Дашковой, и все вместе дружны с молодыми великими князьями Константиновичами. Лидия сама ведёт фронтовой госпиталь, у неё много знакомых хирургов, сейчас она, правда, быстро…
Одна женщина накинула шубку, повела Гучкова. Он разговаривал с ней рассеянно.
И как же Дмитрию не везёт! – уже третье ранение. Вот осенью у него была прострелена навылет грудь, и с тех пор он ещё не долечился. По дефекту сердца освобождённый от воинской повинности, он взялся вести санитарный летучий отряд рысистого общества, самый передовой, всё время в пекле.
И Дмитрия было жалко, и не мог скинуть досаду, как это некстати: потерять его в такие часы, когда он так нужен рядом, и самые эти исторические часы потерять, когда напряжённое текло и утекало где-то.
Дмитрий Вяземский был его любимый и верный сподвижник по неудавшемуся перевороту. Он и по характеру напоминал Гучкову самого себя: Дмитрию радостна была всякая опасность, он как будто искал её, выдвигался навстречу. (Так и с отрядом он лез вперёд, где другие не бывают, зато и подхватывал же раненых вовремя.) От постоянного ли внутреннего безпокойства (как бы снова и снова «доказывая» себя), он был абсолютно безбоязен и с быстротою решений. А поскольку он не был под полицейским наблюдением, как Гучков, а сам так подвижен и с широкими знакомствами в кругах гвардейского офицерства, – он был и лучший связной, ездил по запасным частям вдоль железной дороги, выяснял настроение офицеров. (Правда, завербовал лишь одного ротмистра.) А сейчас, в эти петроградские дни, смело входил в бушующие солдатские казармы.
И вот вырван беззвучной глупой пулькой.
До Лидии Леонидовны дозвонился сразу, та взялась найти лучшего хирурга, Цейдлера, и устроить сейчас осмотр.
Ах, зря они вышли из автомобиля, надо было сразу ехать в центр и в госпиталь. Понадеялись, что лёгкая рана.
В Семёновском батальоне было очень неспокойно.
А на Виндавский и Варшавский вокзалы Гучков так и не набрал заслонов. Вечером ещё мотался во дворец к Кириллу Владимировичу – и оказалось всё у него хвастовство: послать отряды из гвардейского экипажа он не сумел, уже не подчинялись ему.
Правда, и царские войска не подступали к городу. Один Тарутинский полк стоял весь день сегодня под Царским Селом, других пока никого. Сам Иванов был уже в Царском, известно, но от него Гучков ничего опасного не ждал.
И всё равно, с каждым получасом необозримые события утекали во все проломы.
Крови много натекло, но сам Дмитрий не видел, не подозревал. Раненое место обмазали йодом по краям, обложили бинтами.
Выходного отверстия пули не находили. Засела.
Как же поднимать и везти его дальше? Послал Капниста к телефону – попробовать вызвать санитарный автомобиль.
Дмитрий лежал щекой на подушке, повернув набок к Гучкову отменно длинную узкую голову, со своим всегда удивлённым видом, а сейчас резче.
Сильно избледнел.
– Вот не везёт, – говорил тихо. – И от русской пули…
Больше всего досаждала сейчас вот эта случайность, ненамеренность пули, – с чего? зачем – тут? Обиднее всего.
И – бездействие.
А думать – не было основания дурно. Самому и всегда думается ободрённей. Однако…
– Если б знать, что никакой серьёзный орган не задет…
Но пуля где-то засела.
И кровь не останавливалась. С клеёнки потекла в ведро.
– Сейчас Лидия всё устроит, – успокаивал Гучков. Но сам мрачнел. – Как вы себя чувствуете?
– Сильно в ушах звенит, говорите громче, Александр Иваныч.
Только что они носились вместе, в одной сфере, в кругу одних мыслей, – но влетел кусочек свинца, и сферы их стали быстро раздваиваться. У Гучкова, кажется, ещё расширилась и напряглась, в тщетном усилии охватить упускаемое по задержке. Он сидел у головы раненого и хмурился. А у Вяземского сфера действия стала разрежаться, облегчаться, стала вытягиваться в какой-то светлеющий эллипсоид, всё менее омрачённый заботами этой ночи, всё менее запорошенный сором революции. Передний конец эллипсоида – в никому не известное будущее, задний – в светлое милое прошлое.
– Как жаль, что вы у нас в Лотарёве не побывали, Александр Иваныч… Кругом степи, а у нас каждая дорога – аллея. Как мы с Борисом любили ездить в табуны, на луга, сидеть там в траве…
Там он и вырос – на прикидке молодых рысаков на беговом кругу, на поездках в табуны, в дальний конец имения, – наездник, лошадник, спортсмен. Взрастил и псовую охоту. Верхом по пахотным полям на полуарабе однажды взял в угон матёрую волчицу, проскакав за ней 25 вёрст, волчица кинулась на шею лошади, процарапала куртку Дмитрия. А в лесах материнского имения Осиновой Рощи, тут, под Петербургом, в финляндскую сторону, охотился на рысей, и устроил зверинец: зубров, лосей, уральских козлов.
Если с чем упускается время, то даже не с расстановкой отрядов по вокзалам, даже не с подтяжкой запасных батальонов – но с отречением царя. Именно отречение всё введёт в русло. Именно отречение снимет опасность гражданской войны. Восставший Петроград и замерший фронт могут быть соединены только отречением. И именно сейчас, когда так разгулялось в столице, – самая сильная позиция для ультиматума царю. Сейчас можно ставить ему любые условия и требовать уже не ответственного министерства, куда больше. И конечно Родзянке это не под силу, и хорошо, что он не поехал к царю, всё бы только испортил.
– Поймали мы однажды медвежонка. А осенью привезли в Петербург, отдали в зоологический сад. Он долго там рос, и звали его Мишка Вяземский.
Клубистей и гуще темнела, грузнела неразрешимая сфера вкруг мрачной головы Гучкова – светлей и наивней вытягивался овал у Вяземского. Как будто ранен был и угроза была – не Вяземскому, а Гучкову.
– А совсем ещё в детстве нас по парку отец катал на ослике в низкой колясочке. А старик-мужик косил в парке траву, и отец спросил его, знает ли он, что это за животное. Ответил: «Вестимо знаю, это – лев, на таком звере ехал Спаситель».
И эта вдруг окунутость Дмитрия в детские воспоминания пугала. Ничего не зная, где пуля, какой орган, раненый сам о себе чувствует больше, чем может высказать учёный хирург.
Неужели?..
А мог быть и Гучков на переднем сидении. Или чуть бы в сторону пуля.
Столько раз почти с патологическим вожделением ища не пропустить нигде на земле опасность, Гучков ли боялся смерти или не задумывался о ней? Но всегда хотел умереть – красиво! Боялся он умереть ничтожно. И были случаи уже захода за безнадёжную грань – в Каспийском море, в жестокую бурю, в старой лодчёнке один, с запутавшимися парусами, не знал, как их выправить, и плавал плохо. В ярости моря испытал тогда первый настоящий полный страх. Но и в ту минуту не молился – и там, за гранью, не почувствовал Бога, не поверил в него.
Дмитрий выговаривал светлым голосом:
– А в соседнем Коробове, две версты от нас, отец построил больницу, не хуже петербургских.
И подарил земству. И была там древняя маленькая церковь, прабабушка помнила, как в ней нашли татарские стрелы. Так отец построил крестьянам просторную новую церковь. А учить хор привозили певчего из московского Архангельского собора. На колоколе гравировали из Шиллера: Живых зову. Усопших поминаю. В огне гужу. Добавили: В мятель людей спасаю…
– …А под церковью поставили склеп для нашей всей семьи. Там – бабушка с дедушкой, отец, две тёти. Может быть, и мне туда первому, из молодых?
– Да что вы, Митя, очнитесь, я вас не узнаю. Пролежите события в госпитале, да. Потом встанете.
Гучков старался в голос вронить как можно больше чувства, заставить себя ощутиться этим пригвождённым телом. Но нет, не ранено было его тело, и голову не отпускала цепкая, когтистая, клубистая сфера действия. Такой момент, такие часы! – а он был связан остановкой, сидением тут. А – гнать бы скорей в Таврический – жжёт, чтó там происходит без него.
– Вот досада, и Аси нет, детей бы привезла…
– Ну завтра привезёт, в госпиталь, Митя…
Сколько известно было Гучкову, и с Асей у него не так всё просто: Дмитрий считал, что Шуваловы поймали его на неосторожном ухаживании, – Ася же долго не знала, что он так думает, а когда узнала – охолодились их отношения. А уже и двое маленьких есть.
– Нет, серьёзно, – говорил Вяземский с растущим удивлением на всё бледнеющем узко-длинном лице. – Если я умру, то скажите, чтоб наши знали: меня хоронить непременно в Коробове. Это совсем не безразлично, где человек лежит.
Вернулся Капнист: такое везде творится, с санитарным автомобилем ничего не получилось.
Тогда Гучков зашагал к телефону опять.
Прибился Дмитрий к вождю всероссийской оппозиции – а как бы не с той стороны. Всегда был совершенный консерватор, всегда против всяких либеральных дерзостей, и никогда не стеснялся это высказывать, в уездном земстве дразнил левое большинство. Прибился, чтоб не пошло всё прахом.
Да ведь и Гучкова корили, что он монархист. Да ведь и Гучков после третьедумской декларации о Польше ждал себе смерти от поляков.
Дозвонился опять до Лидии Леонидовны. Профессора Цейдлера она нашла на заседании городской думы, он обещал немедленно ехать в Кауфманскую общину и велел везти раненого туда. И Лари сейчас ищет санитарный автомобиль. (Князь Илларион Васильчиков, муж Лидии, тоже был крупный чин в Красном Кресте.)
Вот, хорошо. Теперь ждать недолго.
(А даже можно Гучкову и не ждать?)
А тем временем Дмитрий начинал грезить. Громадные, загадочно одиночные дубы в степи… Цветенье степи жёлтыми, голубыми цветами… А канавы розовым миндалём, белым тёрном… Красавица речка Байгора. И крестьяне, крестьяне… И близкие – и чуждые… И какого-то другого языка – и главная живая часть родного пространства… Столетняя старуха просит у Дильки поцеловать руку, и обижается, что не дают: «гордые стали»… А в Пятом году в саратовском Аркадаке, на отгуле косяков, – взбунтовались. И Дмитрий в 19 лет ставил лошадь на дыбы и шёл на толпу. Смутьяны снимали шапки…
– Вестимо знаю: это – лев…
293
Переговоры Милюкова с советскими о программе правительства.
С тех часов, как Думский Комитет под напором толпы отступил из просторного кабинета Родзянки в дальние комнаты своего крыла, он здесь был устроен очень некомфортабельно, всё более временно, – и сейчас для переговоров с Советом не было и комнаты подходящей. Не было такого длинного стола, чтобы двум делегациям благопристойно сесть с двух сторон друг против друга. А стояли по-разному расставленные канцелярские столы (на них рядом с бумагами – неубранные пустые тарелки, бутылки, стаканы), обыкновенные стулья, и ещё несколько кресел, но кресел самых неподходящих – низких и с сильно откинутыми спинками, так что севший в кресло никак не мог состоять на уровне переговоров, зато, по всеобщей измученности и безсоннице, мог почти спать.
Две революционных ночи пролежав на столах, Милюков был сильно помотан и, как все, очень нуждался в отдыхе в полночь третьей ночи. Но и, как никто среди думцев, он сознавал ответственность наступившей минуты – для целой новой русской эпохи. Да и для себя самого. Поэтому требовалось собрать всё упорство – а у него невиданное было упорство! – чтобы пересилить депутатов Совета преимуществом своего ума и опыта.
Из присутствующих думцев никто не мог быть ему союзником в переговорах. Родзянко – лучше б вообще ни на слово не встревал, его время кончилось. Керенский – совершенно непредсказуем и чуж. Некрасов – хищно высматривает, а способен только на подножку. Шидловский – подставная фигура, ноль. Шульгин – имеет остроту, но выдержки у него нет, да и правый, чужой. Незаменим был бы Маклаков – но нет его тут, и не надо. (Маклаков убыл в министерство юстиции комиссаром – направить первые законы революции.)
Да никто и не мог и не должен был быть коллегой Милюкова в таких переговорах. Он один и должен был встретить их, сколько пришло, и один перемолоть.
Итак, вслух между собой не готовились, а вся подготовка шла в голове Милюкова. Он ожидал сильного напора, даже их прямой попытки захватить все правительственные места. Ещё с Пятого года он знал, как трудно вести переговоры с левыми, как они настойчивы и безкомпромиссны. Но и Милюкову не было равного в аподиктическом диалоге.
Вошли. Четверо. Сонный, истомлённый, охрипший Чхеидзе, спотыкаясь на ровном полу, – он тоже был член Думского Комитета, но все дни избегал их как чумы, сюда не приходил, а только видели его оратором над войсками. Рослый красивый Нахамкис-Стеклов, плотный низенький Соколов. И – но не и, а раньше их всех, как мальчик впереди взрослых, – тщедушный, острый, бритый Гиммер-Суханов. Бритый, или не росло, шли голые взлизины мимо крупных ушей и высоко на темя, а ещё выше, как сдвинутый назад парик, сидела на нём полсть плотно скатанных серых волос.
Кроме Чхеидзе, все не скрывали важности и удовольствия прийти сюда и вот обмениваться рукопожатиями с Думским Комитетом. Но Гиммер – особенно преобразился. Нельзя было узнать в нём того вертлявого субъекта, который попадался им в коридорах, иногда любил налезть с дерзкой репликой, а то всё время выведывал что-нибудь или сообщал, – теперь при той же фигурке, при той же заострённости в чертах лица и поворотах головы, – это был важный, многозначительный дипломат, с особой рассчитанной церемонностью пожимающий руку или наклоняющий голову.
Пришедшие важно расселись на стульях, а для Чхеидзе нашлось кресло, он ослабло опустился туда и больше не существовал.
Не придумали, как начать, а тут ещё и рассадка вышла неудобная для переговоров, – и так не оказалось ни председателя, ни процедуры, а затеялся общий неторопливый – в половине первого часа третьей безсонной ночи! – разговор: как вообще идут дела в городе. Не произносилось великое слово «революция» или какое другое значительное, а просто: как идут дела в Петрограде, вот – столкновения, недоразумения, эксцессы, вот развал в запасных полках, насилия над офицерами.
Да это – не безразличная попалась тема, но самая удобная для думцев. Им – вот это и нужно было как раз от Совета депутатов, припугнуть советских и понудить их же обуздать стихию.
Но – не это нужно было Совету! И видя, что беседа опасным образом пошла на распыление и затемнение центральных вопросов, – Гиммер резко завертелся и объявил, что желает получить слово. Некому было дать, но некому и не дать, вовремя было заявлено – и слово началось.
Милюков не ожидал, что его противники будут до такой степени умно и тактично говорить. Для связи с предыдущим, но как о малозначимом, Гиммер сказал, что борьба с анархией – одна из технических задач Совета, да, она не упускается им, и вот сейчас печатается специальное воззвание к солдатам об отношении к офицерству…
– Ах, вот как? – приятно были поражены думцы.
…но что нынешнее совещание должно заняться вопросом центральным. Как известно, подготавливается создание нового правительства. Совет рабочих депутатов не возражает, и даже предоставляет такое право цензовым элементам, даже считает, что это вытекает из общей наличной конъюнктуры.
Прекрасное начало! Прямая борьба за власть сразу же отпадала. Советские не пытались захватить её в целом. Милюков чуть порасслабился. Становились возможны переговоры bona fide .
Однако Совет рабочих депутатов как идейный и организационный центр народного движения, как единственный орган, способный сейчас ввести это движение в те или иные рамки, единственный располагающий реальной силой в столице, – выставлял Гиммер, отлично понимая силу позиции, – желает высказать своё отношение к образуемой новой власти. Как он смотрит на её задачи. И (выразительно) – во избежание осложнений – изложить те требования , какие могут быть предъявлены от имени всей демократии – к правительству, созданному революцией.
Нельзя отказать, это умно было высказано: как будто не противоборство, не торговля, но посильное содействие.
Хватка была холодная и крепкая, это сразу почувствовали и все думцы, но никому из них не предстояло спорить, можно было остаться зрителем. А Милюков напряг крепкую шею, ожидая ударов. Вот положение: Государственная Дума дала единство и силу перевороту, а приходят со стороны и имеют большую силу диктовать!
Теперь голос перешёл к Нахамкису. Обстановка была неофициальная, выступающие не вставали. Но Нахамкис, доставший на колено свои пункты, написанные на неровном клочке случайной бумаги, стал говорить с большой важностью, даже торжественно.
Когда-то юнец-революционер, исключённый из 7-го класса одесской гимназии, и якутский ссыльный, потом в эмигрантских скитаниях, потом в первую революцию при Троцком, и арестован в этом же самом петербургском Совете рабочих депутатов, и снова, снова эмигрантские ничтожные годы, – не мог Нахамкис придать и вообразить себе такой высоты и значения, что вот он – поставляет правительство, что вот самые знаменитые буржуазные лидеры сидят и слушают его условия. Он не просто их читал одно за другим и даже не объявлял, сколько их, чтобы сильнее действовало, а прочтя один пункт спокойным сдержанным голосом, не торопясь разъяснял и мотивировал, как бы снисходя.
И всё это вместе – получилось длинно.
Но первый пункт, который мог быть сразу сокрушающим, был лишь – всеобщая амнистия. По всем преступлениям, в том числе политическим, в том числе террористическим, в том числе военным восстаниям и погромам помещиков.
По совести – ничего не мог кадетский лидер на это возразить! Программа всеобщей амнистии всегда была козырем Думы и Блока против правительства, всегда была излюбленным лозунгом всей интеллигенции, ещё с 1-й Думы.
И такой же несомненный, и такой же интеллигентски приемлемый оказался второй пункт: свобода слова, собраний, союзов и стачек. Кто же мог против этого возразить!
Правда, с некоторым расширением, – с расширением этих прав на армию. (Так ведь и демократизация армии всегда была в кадетской программе. И её выдвигали даже в 1906 на переговорах со Столыпиным.)
Но на всякий случай Милюков тут стал возражать. Он считает, что в нынешней обстановке это вызовет в армии хаос и она en masse потеряет боеспособность. Нахамкис, напротив, с большим спокойствием аргументировал, что такое требование вполне совместимо с сохранением боеспособности армии. Что от дарования солдатской массе всех политических и гражданских прав армия только приобщится к задачам революции и её боеспособность, напротив, окрепнет. И приводил примеры из собственной службы рядовым и якобы из европейских армий, где-то надёргал.
Вступал и Гиммер, спор затянулся. Но со стороны думцев только Шульгин, почти не садившийся, а нервно похаживавший, встревал иногда, выкрикивая что-то возбуждённое. Все остальные молчали, будто их совсем не касалось, Некрасов был абсолютно невозмутим, он очень умел молчать, когда выгодно. И Керенский – совсем молчал.
Родзянко пил содовую воду и вытирал пот. У него был грустный вид, как будто сильно болела голова или он весь заболевал.
Милюков рассчитал, что ему важней узнать полный состав пунктов, чем спорить на очередном. И, оставив недоспоренным, просил дальше.
Но третий пункт оказался: правительству воздерживаться ото всех действий, могущих предрешить форму правления.
Фью-ю-у! Это значило – открыть путь республике!
Тут он не мог не упереться! Тем более, что делегация Совета предполагала, что эти все пункты, после их принятия, правительство должно опубликовать от своего имени – одновременно с заявлением о своём создании. Каково? В сложных условиях начинаемое правление – начать ещё и с общего сотрясения основ?
Надо было упереться! Вводить сразу и республику? Это вызовет в стране страшнейшую смуту!
Но и нельзя открыто выложить все аргументы! Долгие месяцы сами же кадеты штурмовали трон, и чем шире распространялось мнение, что династия сгнила, тем это лучше было для их политического движения. Но всё-таки в программе кадетов стояла – конституционная монархия. А сейчас, когда реальная власть уже втекала в ожидающие пальцы, – никакой более прочной основы для неё не было, чем наследственная династия. Да, всё время трон расшатывали, – и это было верно. Но сейчас, когда он зашатался, – надо его поддержать. Вот это и есть диалектика. Для того, чтобы перенять власть, совсем не надо, чтобы предыдущая упала с грохотом: тогда наступит хаос, и кому достанется власть – уже совсем неизвестно. Перенять власть – но без падения предыдущей, мягко. Проще всего – сменить только венценосца: нынешний – очень уж упрям, и за 22 года научился упираться, с ним работы не будет. Однако так уже было напряжено общественное мнение, и особенно у социалистов, что Милюкову стыдно было перед ними предстать с экспликацией этих аргументов, как бы защитником всеми ненавидимой, проклинаемой и осуждённой романовской династии. Итак, надо было строить сложные фразы со сложными законоведческими и государствоведческими аргументами, чтоб этими призрачными бастионами окружить свою позицию. Поймите, господа, монархия нисколько не нарушит наш modus gubernandi .
Верней, он мог бы сказать им понятно, но если б они были только вчетвером здесь – трое от Совета и Милюков. При многочисленных тут думцах ему было неудобно совсем просто выговорить этот простой аргумент: «Поймите: наследник – больной мальчик, регент Михаил – совсем глупый человек, что же может быть для нас всех благоприятнее? Малолетний наследник при слабом регенте не будет пользоваться авторитетом полного держателя власти – и это даст возможность нам окрепнуть!»
Однако, владея политико-юридической речью, он складывал это в те фразы, что персональная династическая ситуация наиболее благоприятствует укреплению у нас конституционных начал, которым и нужно время для укрепления. А монархия уже никак не реституируется в прежней силе.
А ему возражали о всеобщей ненависти к монархии, что она дискредитирована в глазах народных масс.
Да, Милюков понимал, как это со стороны позорно выглядит, что именно он выступает защитником этой династии. Но как практический политик он не мог уступить этой опоры под своим же будущим правительством.
Ну, кажется все поняли его иносказания, да, кроме Соколова, – не глупые ж люди.
А Николая? Николая Милюков и не защищал. Тут теперь неизбежна абдикация.
Керенский был угрюм и даже демонстративно пренебрежителен. При думцах и при советских ему важно было сбалансировать, не показать, на чьей он стороне. Он – вообще выше всех сторон.
Родзянко посасывал из стакана, совсем уже больной и несчастный, платок ко лбу.
А Шульгин испытал как бы истерический приступ. Ему представилось, что в этих переговорах вырастает нечто двуглавое, но не привычный двуглавый орёл, а две головы новой власти, – и та, вторая голова очень ему не нравилась. А вырастала она, кажется, и надо всею Россией? Кто были здесь думцы? – всероссийские имена, прославленные политики. Кто были эти пришельцы? – никому не известные писаки, и неизвестно кем сюда выбранные, – и вот они пришли диктовать условия, даже свержение династии! И сила была – у них, это чувствовалось. И всероссийские деятели должны были их умолять?
Один раз Шульгин ещё сдержанно упрекнул их, что они ведут подкоп под Государственную Думу, надежду всего народа. Это их не проняло нисколько. Другой раз он крикнул им:
– Хорошо! Арестуйте нас всех! Посадите в Петропавловку! И правьте сами! Или, напротив, дайте править нам, как понимаем мы!
Рыжебородый Нахамкис со спокойным великодушием и, что возмутительно, с барской интонацией ответил на его нервный крик:
– Мы – не собираемся вас арестовывать.
Но так получилось: не собираемся, а разумеется – можем.
Вдруг, никто не ожидал, из своего чернобородого и глазогорящего молчания вырвался Владимир Львов. Он вломился в паузу, никого не спросив, и заговорил бурно, едва не взрываясь от чувств. Что же?
Гиммер смутно числил его каким-то сильно правым и был поражён: этот смешной, лысый, диковатый и глуповатый, из своего глубокого кресла, где, оказывается, не спал, заговорил, нахлёстывая фразу на фразу, что он – республиканец! Что возврат царизма он считает хуже смерти! И новое правительство ни за что его не вернёт! Но – но! – но: вернуть царизм хочет именно Совет рабочих депутатов своей безумной политикой разложения армии во время войны: наступит военное поражение – и Вильгельм насадит нам царизм.
Столько было вздора наворочено, что никто серьёзно Львова не принял. Но всё же он и Милюкова сбил.
Тут вошёл Энгельгардт и напомнил Родзянке, что пришло время ему ехать к прямому проводу на переговоры со Псковом.
Родзянко убрал платок, взбодрился, надел шубу, шапку, вышел. Но очень скоро воротился, опять с несчастным видом:
– Пусть господа рабочие депутаты дают мне охрану! Или едут сами со мной! А то меня по пути, или там, на телеграфе, арестуют.
Нахамкис заколыхался добродушным и довольным смехом. Теперь – не он, а Гиммер, с ехидной улыбкой и даже вкрадчиво, стал успокаивать Председателя Думы, что никак они не собираются его арестовывать.
И поручили Соколову пойти найти Родзянке провожатых.
Но надо ж было двигаться дальше по пунктам. Гиммер и Нахамкис переглянулись: сейчас и был тот пункт, по которому они соглашались сразу уступить Милюкову: Учредительное Собрание. Хоть назвать его иначе, хоть и вообще снять.
Произнесли: принять немедленные меры к созыву Учредительного Собрания на основах всеобщего, равного, прямого и тайного голосования.
А Милюков – кивнул.
Кивнул?!
Записал и кивнул, как лёгкому пункту, ожидая следующего.
Как это надо было понять?? Гиммер и Нахамкис снова сметнулись взглядами. Только что полчаса проспорив против непредрешения образа правления – как же он так легко уступил Учредительному? Оставлял образ правления висеть, пока Учредительное решит, – и конечно не в пользу монархии! Когда революция раскатится достаточно широко – республика обезпечена.
Просто кивнул? Уступил сразу??
Гиммер ещё пронзительней видел теперь правильность своей тактики. Если бы высунулось требование о немедленном прекращении войны, об отказе от территориальных приобретений, от верности союзникам, да даже жёсткое навязывание каких-нибудь внутренних мероприятий, – Милюков мог бы их оттолкнуть сейчас. А завтра – неизвестно что будет, ведь царские войска идут к Петрограду, да в самом Совете непримирённые меньшевики стали бы оспаривать действия самозваной делегации и ещё не окончательные пункты. Нет, надо было именно спешить посадить цензовиков на правительство.
Но почему такое спокойствие об Учредительном Собрании??
Или уж очень что-то хитро, или отказал знаменитому парламентарию ум.
294
Терзания генерала Алексеева. – Остановка полков Западного фронта.
Обязанность начальника штаба – не только подать своему командиру идею, но и оформить её готовым документом, чтоб оставалось лишь подписать. В течении дня всё неотвратимей складывалось в генерале Алексееве, что не избежать Государю дать ответственное министерство. А к вечеру сложилось, что надо составить тут, в Ставке, и нужный манифест – и, пока Государь ещё во Пскове, спешить переслать ему туда на подпись.
С помощью дипломатической канцелярии при Ставке сочинялся нужный манифест, а тем временем Алексеев составлял Государю ещё последнюю решительную, убедительную телеграмму, в которую готовимый манифест включался как составная часть. Если в прошлую ночь прояснилось генералу, что издание такого акта вытекало из установившегося успокоения в Петрограде, то вот оно всё более вытекало из опасности распространения анархии по стране и армии. Для спасения армии и продолжения войны никакого более выхода нельзя было придумать, как призвать общественное министерство и поручить его Родзянке. И – спешить, чтобы думские деятели успели охранить порядок от крайних левых элементов.
Нервно было, пока составляли манифест, – ещё нервнее стало после десяти часов вечера, когда уже передали манифест во Псков. Не ясно было, там ли ещё царь, не ясно было, сохраняет ли с ними контакт Рузский. Как реагировал Государь на все предыдущие пересланные ему дневные телеграммы? И как воспринял он эту последнюю?
Но трудно было узнать что-нибудь толком: там всё начальство уехало из штаба на вокзал, в штабе оставался только генерал-квартирмейстер Болдырев, потом и он перестал подходить к аппарату, а – штабные полковники. Они сами были не в курсе, что делается, а когда и узнавали – небрегли тут же докладывать в Ставку, как им велели и как их просили. Несколько раз запрашивали Псков о судьбе телеграммы с манифестом, настаивали срочно везти её на вокзал Государю. Она там шла через дежурного офицера, через генкварсева Болдырева, через наштасева Данилова – и наконец к одиннадцати вечера достигла на вокзале главкосева Рузского, а уж он лично доложит Государю.
Ещё и к одиннадцати часам не было известно в штабе Северного фронта, когда Государь намерен покинуть Псков.
Алексеев места не находил от волнения – прилегал и опять поднимался, и сидел за столом, шинель накинув на плечи и пытаясь заниматься очередными бумагами, – но не было покоя на душе, вся судьба России и фронта повисла сейчас на манифесте.
А тем временем из Петрограда подтекали новые, весьма замечательные известия. Что Конвой Его Величества с разрешения своих офицеров сегодня в полном составе явился в Государственную Думу! Что императрица сама добивалась встречи с Родзянкой! Что великий князь Кирилл Владимирович лично прибыл в Государственную Думу приветствовать её! И какие крупные сановники арестованы в Петрограде. И петроградское офицерство постановило признать Думский Комитет!
Такие важные сведения должны были как можно скорее настичь Государя, чтоб успеть повлиять на его решение! После полуночи Клембовский всё это передал во Псков.
Когда начинаются крупные события, они обязательно почему-то стягиваются на ночь или, по крайней мере, так, чтобы военачальники должны были бы все решения и все действия производить ночью.
Обнаружил Алексеев упущение, что уже сутки не информировали Иванова обо всех событиях в Петрограде, Москве и о шагах, предпринятых наштаверхом, – а Иванову-то знать острей и важней всего, там-то и может завязаться. Стал Клембовский готовить ему телеграмму.
После часа ночи телеграфировал Псков – ещё не о решении Государя, но что Его Величество уполномочил главкосева говорить по аппарату с Председателем Государственной Думы и разговор этот начнётся в половине третьего ночи.
Вот там всё решится, значит. Хоть не спи и ожидай.
Ещё телеграфировал Псков, что восстал гарнизон Луги, перешёл на сторону Думского Комитета, и возникает вопрос о возвращении посланных войск Северного фронта, о чём главкосев будет иметь доклад у Государя.
Ого! Решение назревало серьёзное, гораздо большее, чем мог бы вызвать один лужский гарнизон, где и ни одной боевой части толковой нет: к Петрограду дороги есть и другие. Но, значит, Рузский пользуется случаем убедить вообще прекратить выдвижение войск.
И это – правильно. Это облегчало тяжесть и Алексеева. Уже полных двое суток методично развивался его приказ о посылке и движении войск, и Алексеев формально ни в чём его не нарушил, кроме остановки Юго-Западного фронта, но он и сдвигал те полки сам, без Государя. Формально ни в чём не нарушил, а всё меньше ощущал сочувствия плану: немыслимо посылать войска против своих же русских!
И Лукомский питал его сомнения. Лукомский считал, что посылать войска на подавление восстания крайне опасно: малым количеством действовать безсмысленно, а большие войска собирать – понадобится, может быть, десять дней, уже все города и весь тыл будут охвачены революцией. И так пришлось бы вести войну и против немцев, и против своего тыла, а это невозможно одновременно. Оголить фронт – значит тогда не довоевать с немцами? Затратив столько жизней на эту войну?..
Вот и сходилось, что революцию надо прекратить мирно.
То есть уступками.
А малые уступки – уже опоздали.
А – где начинаются большие? А – что такое большие?
Это – не выговаривалось между ними тремя, возглавителями Ставки, но что-то мучительно тяжелело в мозгах.
А во Пскове – сразу удача! Не сообщили прямо о решении Государя, но в половине второго ночи прислали сюда копию телеграммы Данилова своей Пятой армии, где, по высочайшему соизволению, он распоряжался: вернуть в двинский район войска, направлявшиеся к Петрограду! А Ставку просил – сообщить, если можно, Иванову: штасеву не известно его местопребывание.
Так быстро и, очевидно, легко было получено высочайшее соизволение!
Алексеев через немоготу и горбясь, в накинутой шинели, стал похаживать. Теперь и Иванову пойдёт уже совсем другая телеграмма. Хотя он Ставке не подчинён, ему не прикажешь.
Но теперь, если Северный фронт отзывался, – то как же можно двигать Западный?
Однако о Западном – не было распоряжения. Государь вообще, как уехал, за эти двое суток не отозвался своему начальнику штаба ни единым словом. Рассердился за что-нибудь?.. Алексеев так чувствовал, что – да, он уехал недовольным. Но сейчас – сейчас надо ковать железо, пока горячо. Надо немедленно (уже распоряжался Лукомскому) испросить высочайшего указания: не будет ли признано возможным вернуть также и полки Западного фронта?
Лукомский пошёл телеграфировать, но Алексеев остался в чувстве, что ответа ему от Государя не будет. Ответа не будет, – а полки Эверта двигались к непоправимому столкновению, – и это висело теперь на совести одного Алексеева.
Пока это ещё нигде не выстрелило. Но надо же успеть прекратить.
Но и не смел же он остановить войска самовольно!
Но и не мог допустить кровавого столкновения!
А тут совали ему ещё какую-то телеграмму. Что ещё такое? Сообщал тревожно заместитель Родзянки Некрасов, что поезд Государя, по сведениям Думского Комитета, находится во Пскове, и отправка его в Царское Село, по-видимому, не состоялась.
Свежие новости! Они в Думе ещё меньше знали о событиях, совсем ничего. Но что радовало – дружелюбность самого факта этой телеграммы. Что они обращались к Алексееву как к своему, как к союзнику.
И это – верно. Это надо поддерживать.
А было уже два часа ночи. Телеграмма во Псков пошла, но там заняты другим: вот-вот начнётся разговор с Родзянкой, не могут они сейчас гнать на вокзал к Государю, да и – примет ли их Государь так поздно? Вероятно, уже и спать лёг. Так что ж – до завтрашнего утра?
А войска не ждут, а эшелоны идут и ночью – и вдруг в неожиданный час в неожиданном месте кто-то где-то столкнётся, прольётся русская кровь, – и вот уже гражданская война! И допустил до неё – генерал Алексеев.
Много же досталось ему на эти двое суток. Воспалённая грудь дышала тяжело. Сколько служил он, сорок лет, никогда не поступал самоуправно, без согласия начальства, – а вот сейчас должен был решиться сам?..
Но ведь он уже сам – и не тронул с места Юго-Западного? Но ведь он же и сам предлагал эти все полки Государю, мог предложить и другие, меньше числом?
Сердце – как раскалывалось от небывалого напряжения, от своей дерзости. И – торопясь нагонять ночные минуты, вызвал опять румянощёкого, но холодного Лукомского и велел ему телеграфировать на Западный фронт: все войска задержать! Какие не отправлены – не грузить. Какие в пути – задержать на больших станциях. Затем последуют дополнительные указания.
Он – не совсем вернул. Но – остановил.
И было ощущение – правильного шага.
Придётся ответить перед Государем?.. Но и Государь покинул его без руля, без ветрил.
Теперь – только бы Иванов не вломился в бой!
295
Раздавленный Родзянко едет в Главный штаб.
Такие испытания, как свалились в этот день, могли измучить и не такого гиганта, как Родзянко. Целые сутки то в жар, то в лёд. Эти долгие сутки начал с того, что грудью остановил восемь полков. И потом вместе с Энгельгардтом спасали Петроград от нового солдатского мятежа. (А кто угрожал убить Председателя – тот и сейчас ведь помнил.) И в каждый час могло опять вспыхнуть. И пять раз тремя поездами он выезжал к Государю – и всё не мог выехать. Под чьими-то чужими волями целый день из-под его ног осыпалась почва. И пока он приветствовал солдатские строи как главный тут – а неслышными грызунами за его спиной подтачивалось его старшинство и единственность. И при всей своей могучести он не мог придумать, что же ему предпринять.
Но копали не только под него, а и под Государя. Сперва Гучков, потом и другие объясняли ему, что Николаю Александровичу видимо больше на Руси не царствовать. Это – какими-то подземными силами было решено, без Председателя.
И сперва это было – невместимо. А потом, если подумать и всё перебрать – Распутин, Протопопов, злая царица, неуважение к Думе, – так, пожалуй, шло и неизбежно.
Но и на этом не кончились прижигания этого дня. А доконали Председателя ночные переговоры его Комитета с Советом рабочих депутатов. Весь день от часа к часу говорили думцы о Совете с опаской, так всё оглядывались, что наконец и сам Родзянко стал побаиваться. А тут ночью пришли со Чхеидзе три «рабочих депутата», слыхом не слыханные, видом не виданные, ничем в России не известные, никакого значения не имеющие, – и сидели как равные против известнейших членов Думы, не говоря уже о Председателе, – он с ними и слова не сказал, сидел в стороне и дико смотрел. Его схватило как судорогой, не разведёшь: что нашло на Россию некое великое Помрачение. (Как и сказано было, кажется, у кого-то из пророков, но об этом в Государственной Думе не разговоришься.)
И сидели эти депутаты – один рыжий развалясь, а другие два всё дёргались, и нисколько не стеснялись своей неименитости, своего появления из праха, – только тут, на ночном заседании, и рассмотрел Родзянко этих разбойников и расслушался их. Ничего они не стеснялись, а выкладывали Милюкову с насмешкой и снисхождением, и с уверенностью, что их сторона возьмёт.
А какие разбойничьи пункты они выдвигали – просто невозможно слушать.
И в тех переговорах не упоминалась ни Государственная Дума, ни даже какая конституция, а уж Государя и вовсе подразумевали как умершего.
Ещё три дня назад второй человек в государстве, Председатель сидел тут, при этих переговорах, как отметенный в сторону, – и впервые осознал своё безсилие. Не днём сегодня, когда Милюков с Некрасовым не допустили его ехать на Дно, а вот сейчас.
И что стоило этим бойким бандитам в любую минуту хоть и приказать арестовать их тут всех, думцев?
И даже самого Родзянко.
Как вот арестован же Председатель Государственного Совета, и ничего поделать нельзя. И бывшие министры. Уж там какие ни плохие, как с нами ни ссорились, – но всё ж они не убийцы. А между тем их держат под замком, со свирепыми предосторожностями, скопом, и даже не дают кроватей, хуже чем в тюремной камере. А дальше собирались отправлять в Петропавловку.
Так и самого Родзянко разве не могут в любую минуту арестовать?
И даже повесить.
И нельзя было домой уходить. И нельзя вырваться из этих комнат. И каким облегчением пришёлся переданный вызов от генерала Рузского – на телеграфный переговор из Главного Штаба.
Это замечательно! И это будет как замена поездки во Псков.
С той даже разницей, что поехав – ты станешь там гостем и даже пленником генералов. А отсюда – ты разговариваешь как глава революционного Петрограда.
На душе ещё царапины от выговора Алексеева, была потребность загладить. Да уехать от этих ужасных пунктов , от этого мерзкого совещания. Еле дождался назначенных двух часов ночи.
Уже пошёл – и вдруг подумал: а как же он поедет? По этим лихим улицам, ничем не защищённый, когда кто-то ищет его растерзать. Свои русские люди – а вот остановят посреди улицы, и не знаешь, как с ними говорить, на каком языке.
Ничего не поделаешь, вернулся на совещание – и просил тех проходимцев дать ему какую-то охрану, именно от них, – чтоб его не арестовали по дороге. Не просто с винтовкой, а от них человек, тогда не тронут.
Да, надо признать, что вся сила неожиданно перекинулась к ним .
Дали. Какого-то горлопана, унтера. И двух матросов.
Вторую ночь подряд ехал Родзянко в Главный Штаб. Как подрядился. Сегодня – ещё позже и безлюднее.
Ехал, презирая своих сопровождающих.
Была такая морщинка: спросит Рузский, почему Родзянко до сих пор не сформировал министерства.
Но надо выше смотреть. Этот разговор – чтоб окончательно остановить войска. И всё умиротворить. И всех спасти.
Ещё раз – спасти всех.
А Государю – уже вряд ли в чём помочь.
Да теперь, когда решено, что не Родзянко будет правительство, – спасти уже, видимо, ничего нельзя иначе как отречением.
Ах, Государь, Государь! Во многом вы виноваты сами! Сколько раз верный Председатель вас остерегал и предупреждал!
Главный Штаб – огромный, полукруглый, тёмный от зашторенных окон, наполненный военными людьми, офицерами, дежурными, – перестоял дни революции нейтральный и не тронутый ни той стороной, ни этой.
И в этом – всеобщее уважение к войне. Символ того, что Отечество всё перестоит, и эти сотрясения тоже.
Шёл по электрическим паркетным безконечным изгибающим коридорам Штаба и думал: даже и он – что же один может поделать против всеобщего потока? не погибать же ему теперь, защищая грудью неразумного Государя.
Ну что ж, будет при наследнике регентом Михаил. На Михаила Председатель имеет большое влияние.
Стояла бы Государственная Дума – устоит и Россия.
296
Генерал Иванов у императрицы. – Отъезд из Царского Села.
Встретили генерала Иванова во дворце два графа – средних лет Апраксин и старый сухой Бенкендорф, с большой надеждой и радостью.
Чем настойчивей к тебе подступают – тем важней себя надо держать, чтоб не уронить. И говорить поменьше.
Пока, минут десять, ждали приёма, ничего им генерал не выронил. А от них услышал, что гвардейцы Сводного полка и казаки Конвоя собраны в обширных дворцовых подвалах, чтобы быть вызванными по тревоге в любую минуту. Но вокруг дворца, по уговору с мятежниками, образована нейтральная зона, куда не ходят с оружием ни те ни другие. А вечером была паника, что соседнее здание Лицея захватила банда неизвестных солдат и будет обстреливать дворец. Затем послали туда разведку, и выяснилось, что слух пустой, никого нет.
Оба графа, с двух сторон от Иудовича, наперебой волновались, что будет с ними и со дворцом, и с надеждой засматривали генералу в глаза. Но генерал был – главнокомандующий столичным Округом, и даже диктатор, и не мог давать им частных пояснений.
Государыня относилась всегда к генералу Иванову крайне одобрительно. Очень ласково принимала его и прошлой осенью. Через неё он иногда косвенно ходатайствовал к Государю, чего не мог прямо. Николай Иудович должен был быть ей чрезвычайно обязан – и это тем более стесняло его в нынешних сложных обстоятельствах.
Государыня приняла его в тёмно-сером платьи и в косынке сестры милосердия, лишь с ожерельем из крупных янтарных камешков в несколько петель на груди. Лицо её было измято-усталое, но вместе с тем сохраняло напористую энергичность, даже гордо-холодную свою красоту, при больших глазах.
Нецеремонийно быстро она прошла через комнату – как бы кинулась к Николаю Иудовичу, как бы готова была обнять его. Подала ему сразу обе руки, в две руки:
– Генерал! Какое счастье! Какое счастье, что вы прибыли, избавитель наш! – говорила она по-русски, почти вполне правильно, но напряжённо, как иностранцы. Была очень приветлива, но улыбка не трогала её губ. – Как мы ждали вас! А я уже боялась, что вы не доедете!
Иудович знал за собой подкупающий вид, подкупающий голос, он всем умел нравиться своим добродушием. Его всегда любили за царскими столами. К его авантажному виду да ещё из широкой груди широкий бас:
– Что вы, Ваше Величество! Как же б я не доехал? Приказ. Но были препятствия, да.
– Садитесь! – порывисто указала она ему на мягкое кресло, а сама невдали села на банкетку, как будто не нуждаясь в прислоне своей ровной высокой спины, – и за ручки банкетки держалась, как за морские поручни, как всходя по кораблю, и ещё подрагивали её руки:
– Государь мне телеграфировал, что посылает войска. Много войска у вас? И конница из Новгорода? Где они собираются?
Этак быстро говорить – скоро ни о чём не останется. Николай Иудович растягивал:
– Войска изрядно, Ваше Императорское Величество. По пешей бригаде и по конной бригаде с каждого фронта. Но пока все соберутся…
Он знал, что принял воинственный вид. Только стратегические препятствия ещё могли удерживать отважного генерала от наступления.
– Когда вы в последний раз видели Государя? – ещё нетерпеливее спрашивала императрица, обгоняя сама себя.
– Да когда же?.. По-за ту ночь, Ваше Величество.
– Это – когда? – перебросилось нервно по её прямому выставленному лицу. На лице он разглядел теперь покраснелые места, как большие пятна нерадостного румянца.
Генерал вытягивал из глубины седеющей бороды:
– В позапрошлую ночь. Пошла жизнь больше ночами.
Она не заметила упрёка, или быть его не могло:
– В каком он был настроении? Как он смотрел на события?
– В спокойном.
– Перед той ночью, позавчера, я послала ему три отчаянных телеграммы о положении в Петрограде. Неужели он их не получил?.. Как мог не ответить? Неужели их уже тогда перехватывали?
Заслонённый завесою лопатной бороды, со лбом широким невозвышенным, генерал не спешил отвечать.
Пытливым жёстким взором обгоняя его не идущие слова, вся выдаваясь вперёд с поручней, ещё с длинным римским носом, она нетерпеливо вырывала:
– Скажите – где Государь сейчас? Он должен был приехать сюда прошлым утром! – и не приехал!.. Он – не идёт за вами следом? Отчего ж ваши поезда не пошли вместе?
– Никак нет, Ваше Величество, Государь изволил отправиться другим маршрутом, через Бологое.
– Так он задержан! – блистали глаза императрицы. – Где он задержан? Кем? У меня нет с ним связи!
– Не могу знать, Ваше Императорское Величество. Я ехал сюда – полагал найти Государя здесь. Да кто ж посмел бы его задержать? – искренно удивлялся Николай Иудович. – Разве и там по дороге везде бунт?
Струнность государыни ослабела. Она взялась одной рукой за сердце:
– Ах, я теперь уже ничему не верю. Ничего не знаю. Если кто-то смеет остановить Государя – я ничего уже не понимаю!
Сказать ли, не сказать?
– Начальник станции Вырица говорил мне, будто у него сведения: императорские поезда сегодня проходили Дно.
– Дно?? – с новой надеждой острунилась государыня. – Но тогда он должен быть уже здесь? уже подъезжать?
Николай Иудович развёл большими мужицкими ладонями:
– Не могу знать. А может куда иначе поехал?
– Но куда ж иначе? – дрожало горло под властным длинным лицом царицы. – Куда ж иначе, если он едет к семье?
– Ну, может быть, в Ставку? – невозмутимо рокотал Николай Иудович.
– В Ставку? – задумчиво повторяла царица. – Но ему надо ехать сюда!
Старый генерал был горько озадачен:
– Но я не представляю, чтобы посмели задержать Государя.
Как будто сами кости государыни омякли. Ей стало трудно сидеть без прислона – она поднялась – (вскочил и генерал) – перешла не слишком уверенным шагом и села в кресло – (генерал опустился).
– Ах, генерал! – сказала она. – Мы давно страдали от того, что нас окружают неискренние люди. Так мало осталось верных!
Николай Иудович преданно смотрел на государыню.
– Не хочу верить, – говорила сильным низким голосом. – Но нам принесли известие, что сегодня великий князь Кирилл Владимирович с гвардейским экипажем ходил в Думу на поклон! Если великие князья так ведут гвардию – сами посудите, на кого нам надеяться!
Старый генерал отемнился, бедняга. Такого предательства он не мог даже вообразить.
Но подтвердил, что и он имеет такие грустные сведения о Гвардейском экипаже.
– А я не верила! И невозможно поверить! Мы Гвардейский экипаж так любили всегда! И две их роты сейчас тут, во дворце, нас охраняют!
В выразительных её серых глазах вспыхивали искры, но погасающие. Её строгое решительное лицо только и жило верой. А с потерей веры теряло форму.
Однако честный генерал ничего не мог поделать с этими изменниками.
Уже менее волнуясь, переходя к деловому тону:
– Когда же, генерал, вы думаете вступить в Петроград?
Николай Иудович сильно вздохнул богатырски-широкой грудью:
– Затруднительно сказать, Ваше Величество. Ведь со мной сейчас восемьсот человек, чтó я могу? Я приехал командовать войсками Округа – а меня просто арестовать можно.
Простоватое лицо генерала выражало расступленье ума.
– Да, но к вам же идут полки! – Императрица уже сидела не напруженно, откинувшись на высокую спинку и придерживаясь за сердце, это не был жест чувства, а, кажется, прямой боли, но неумирающие глаза её пылали снова: – В Петрограде – ужасы творятся! Грабят квартиры, разоряют дома, вот Фредерикса жгут, перепились, убивают офицеров. Всё это надо остановить немедленно! Но – не проливая крови.
– В Петрограде, – благообразно и светлооко возразил Николай Иудович, – уже всё успокоилось.
– Как успокоилось? Когда? – изумилась императрица. – Откуда у вас такие сведения? Я например знаю… Вот только что… Да даже у нас в Царском…
– Никак нет, Ваше Величество, – качал широким лбом генерал. – Нам известно, что в Петрограде всё успокоилось.
– Да откуда же?! Совсем не так!
– Изволите видеть, я только что получил телеграмму из Ставки. В Петрограде – новое правительство, прежних министров, правда, поарестовали, это сугубо прискорбно, но и новое правительство примкнуло к монархическому началу – и мне приказано вступить в переговоры.
– Ка-кие переговоры?! – ахнула императрица. – Там – разбойники, воры, враги Государя! – какие с ними переговоры? Это пьяная банда или изменники отечества, надо немедленно её разогнать! переарестовать!
Она – чётко это бросала, и такое решительное, жёсткое выраженье взялось на её лице, подпрыгнули нити ожерелья на груди, – кажется, сама бы сейчас повела войска.
– Но Ставка…
– Да что может оттуда понимать Ставка? Государя нет, Алексеев ещё больной, что он может решить? – гневалась царица, гнев очень шёл к её лицу.
Однако в Иудовича никак не вкинулось её возбуждение, он оставался совсем покоен: почтителен – а не согласен.
– Изволите видеть, Ваше Императорское Величество, – приказ. Приказано – не открывать междуусобицы. – Он даже с грустью отвечал ей, что не давали ему проявить свою генеральскую власть. Но ведь и не свой же народ укладывать, когда такая война идёт.
– Междуусобицы? Конечно не надо! Кровопролития? Ни в коем случае! Но вы соберите все свои полки и торжественным маршем с музыкой вступите в город! И всё! И одни – сразу разбегутся, а другие сразу подчинятся и успокоятся. И всё. Лишь бы был проявлен авторитет власти! Кровопролития – конечно не должно быть, ни в коем случае!
Ну, так это же самое и генерал говорил. Так же ему и приказывали.
– Но – какие переговоры? Какое «новое правительство»? – поднялась государыня в досаде, – и тотчас же поднялся генерал. Она пошла по комнате, а он поворачивался в ту сторону, где она.
Это «новое правительство» досадней всего её и прижигало, она знать его не хотела (хотя вынуждена была просить у Родзянки защиты), – самозванцы, думские мерзавцы!
Она безсильно выхрустывала кистями. Акцент её стал сильней:
– Но ведь этот же приказ – не Государя?!
– Начальника штаба Верховного Главнокомандующего, – почтительно напоминал генерал. – А с Его Величеством у меня связи нет.
Да! Всё возвращалось к тому же! – нет связи с Государем! Надо искать и вызволять Государя!
Остановилась. И сплела руки на груди, как бы молитвенно:
– Вы правы, генерал. Прежде чем действовать – сейчас самое важное нам: найти и освободить Государя.
Самое важное сейчас – государыне соединиться с Государем. Сейчас под защитой генерала можно было бы всей семье поехать к нему. Но – нельзя вырывать больных из постелей, превратности пути, да и неизвестно, куда ехать, и отряд генерала – не больший, чем у них тут защитники во дворце.
– Надо выручить Государя! – решила она окончательно. – И открыть ему путь сюда. Можете вы привести поезд Государя – сюда?
Вздохнула широкая испытанная грудь богатыря, колыхнулась сивая борода:
– Ваше Императорское Величество! Я – с полной готовностью! Если бы мне удалось прорваться до Дна – я бы там дальше поискал бы поезд Его Величества, высвободил бы его – и он смог бы приехать к вам!
Генерал стоял – не колебнулся, смотрел – не моргал, мудрый старый полководец.
(Тогда освобождался он – не только от похода на Петроград, но даже и – штаб обосновывать в Царском.)
Ему, правда, было жалко государыню при больных детях и в двух верстах от взбунтовавшихся полков. Но тут – охрана была неплохая.
Государыня смотрела с надеждой и благодарностью на милого старика, постепенно уразумевшего положение. Просветлилась от новой мысли:
– Генерал! У меня – письмо для Государя, которое нельзя, чтобы попало в их руки. Я там откровенно пишу об обстоятельствах, о планах…
Договаривала уже на ходу. Чуть приподнимая долгую юбку, быстро вышла из комнаты. Из-за портьеры послышался шорох, разговор по-английски.
Иудович быстро соображал. Упаси Бог брать такое письмо. Ведь его, как самого простого офицера, могут в любой момент захватить, обыскать, да хоть вот сейчас, в пустынном Царском Селе, ещё до вокзала. За такое письмо не погладят: участник заговора.
Государыня возвращалась с письмом в руках, одаряя улыбкой. И протянула – пальцами в перстнях и с обручальным кольцом Государя – конверт.
Иудович, всё с тем же старо-генеральским благородством, преданно и проникновенно отрапортовал:
– Ваше Императорское Величество, это никак не возможно. Я могу пасть в бою. На моих руках – отряд. И я не уверен, что так быстро достигну Государя сам.
– Но пошлите кого-нибудь! – ещё всё не отняла она протянутого конверта.
– Никак нет, Ваше Величество. Не имею такого надёжного человека, с кем бы послать.
Государыня вскинула голову породистым движением, в царственном недоумении.
Иудович исклонился весь, объясняя:
– Ваше Императорское Величество, моя офицерская служба, чуждая искательств… Сорок семь с половиной лет… Ведь я – не из-за себя. Как же можно вашим драгоценным письмом рисковать? Как же можно ваши августейшие планы допустить в руки какого-нибудь негодяя?..
Генерал Иванов очень спешил прочь из дворца, но в ярком вестибюле его нагнал дежурный офицер – и подал ему с дворцового телеграфа ещё новую телеграмму в сером запечатанном конверте с дворцовым гербом – только что пришедшую.
Досадуя, что не успел уйти, генерал вскрыл.
Такая же была, с дворцовым гербом, толстая бумага, и на ней красивым каллиграфическим почерком выведено:
«Псков, 0 ч. 20 мин. Надеюсь, прибыли благополучно. Прошу до моего приезда и доклада мне никаких мер не принимать. Николай».
Ну! Последние оковы спадали с рук обременённого генерала. Не надо вступать в Петроград! Не надо собирать войска! Даже не надо принимать никаких решений. И Государя вызволять тоже не надо, он приедет сам!
Отлично! Отменно! Всё предусмотрел Николай Иудович – и всё правильно! Хорошо, что не начал стрелять, вот бы влип. Хорошо, что не совался в Петроград.
Весёлый ехал он по перепойной или напуганной безлюдности Царского Села. Нигде не было ни толп, ни патрулей, ни часовых, ни прохожих, всё убралось в дома и казармы. Да морозец! Проехал до станции благополучно.
На плохо освещённом вокзале стоял его тёмный эшелон в полусотню вагонов. Иванов приказал готовить отъезд. Оба паровоза уже были прицеплены назад. Для лучшего сосредоточения ясно, что ему нужно оттянуться назад.
А начальника станции прихватить с собой как заложника – чтоб не произвели чего со стрелками или со сцепами.
И велел немедленно трогать в два паровоза – назад, на Вырицу.* * *
...
Борода Минина, а совесть Глиняна
* * *
297
Одиночество Эверта. – Остановка полков.
Но и во весь день не мог себе Эверт найти места. На фронте событий не было, а в спину дула тревога – и ничего не оставалось, как сидеть и перечитывать, перечитывать ворох этих необъяснимых телеграмм, и пытаться их уразуметь.
А уразуметь их – невозможно.
И Алексеева к прямому проводу не вызвать – то болен, то вместо него Лукомский.
Невозбранно и нагло разливался по России мятеж – а Ставка не препятствовала. И сообщала об успокоении.
И поражала внезапность изменения: что – хрустнуло? что сломилось? Три дня назад всё это было уголовно наказуемо, – а вот текло, и никто не препятствовал.
И сидел Эверт над этими лентами, поддерживая неразумеющую большую голову большими руками: вот никогда не думал, что ему придётся заниматься ещё и политикой. Всю жизнь он прослужил в императорской армии, уже третье царствование и уже третью большую войну, и знал, что служит престолу и родине, и все вокруг служат престолу и родине, и не было трещинки, где б усумниться в ком-то, в чём-то. А теперь что ж это творилось? и что надо делать?
Он-то сам по себе, Западный центральный фронт, Вторая, Третья и Десятая армии, был огромная сила, – но сам себя не знал, как использовать. Широченными плечами стоял Эверт от Западной Двины до Пинских болот и, кажется, мог повести плечами да и всё повернуть? Но ослаблен был ощущением полного одиночества. Если б он имел прямую связь со своим правым соседом Рузским или левым Брусиловым? Но и связи такой не бывало, и совсем были ему чужи оба, и не мог бы он прямо обратиться к ним даже за действием в пользу престола.
Вот если бы Государь приехал сюда, в Минск, и приказал бы действовать, – Эверт бы и действовал.
А за пределами прямого приказа научила Эверта долгая служба: лучше не брать на себя самому лишнего. Служить надо верно – но и не колебать опрометчиво своего положения. Так в прошлом году можно было браться наступать Западным фронтом, можно не браться, – Эверт и не взялся, указал, что позиции противника очень сильны, и предпочёл дать часть своих войск Брусилову. Наступление – дело очень неверное, можно и большую славу собрать, можно и сильно провалиться.
Так за целый полный день Алексеев и не стал к прямому проводу. В семь часов вечера велел Эверт Квецинскому узнать из Ставки ещё раз: что же делать с наводняющими фронт телеграммами, сведениями, слухами, очевидцами, сплетнями со всех сторон, – ведь так не может фронт стоять. Да и сама Ставка в только что разосланной телеграмме Клембовского подтверждает полное восстание в Москве, в Кронштадте, переход Балтийского флота на сторону Родзянки, и пока генерал Алексеев просит у Государя успокоительный акт, – а для фронта промедление может быть роковым. Дайте указания, как нам действовать! Благоволите сообщить: где Государь? где генерал-адъютант Иванов? где ушедшие от нас эшелоны?
Отвечал опять не Алексеев, – Лукомский. Извинялся, что какую-то важную телеграмму Алексеева к Родзянке не передали на Западный фронт – напутал штаб-офицер. Сейчас будет передана. А просил генерал Алексеев Родзянку – не распоряжаться помимо Ставки. И вы увидите, что проектированный ответ главкозапа Родзянке не противоречит взгляду наштаверха. А Государь – во Пскове, а генерал Иванов от Царского Села уже в трёх перегонах. И эшелоны Западного фронта проходят, по-видимому, свободно.
А решения – опять никакого. Указаний – опять никаких.
И так – до глубокой ночи. Всё кружилось, тряслось, переворачивалось – а указаний не было.
Обстановка – как ходишь по ножу, и самому ни на что не решиться, слишком многое неизвестно.
Наконец во втором часу ночи распорядился Эверт Квецинскому дать ещё одну телеграмму в Ставку: что нельзя ж допускать проникновения в войска этих разрушительных телеграмм! Что генерал Эверт по своему району отдал пресекательные приказания, но считает необходимым единство мер на всех фронтах – и просит указаний!
Кто там в Ставке прочёл, или спали – ответа не было. Но нет, не спали, потому что через полчаса оттуда прикатила на имя Квецинского телеграмма от Лукомского – совершенно изумительного содержания. Что вследствие невозможности продвигать далее Луги (там тоже мятеж) эшелоны войск, направляемых к Петрограду; и вследствие разрешения Государя императора вступить Главнокомандующему Северным фронтом в сношения с председателем Государственной Думы (отъявленным изменником!); а также вследствие высочайшего соизволения вернуть назад посылаемые войска Северного фронта, – начальник штаба Верховного просит также и Западный фронт распорядиться: не грузить те части, кои ещё не отправлены, а кои находятся в пути – задержать на больших станциях.
Вот это грохнуло! Вот это так перевернулось!
Однако дозвольте: если Государь распорядился повернуть войска Северного фронта – он же не распорядился о Западном? А может они должны подравняться? В эти решающие часы движения полков – генерал Алексеев останавливал их собственным решением, по аналогии?
Легко ж он обращался с присягой. Изворотливая формулировка.
Но и – некуда было пробиться: Государь – у Рузского, и с ним связи нет.
А начальник штаба в отсутствие Верховного является Верховным.
Что творилось, Боже мой?
И не выполнить невозможно.
И политики Эверт не понимал.
И надо быть осторожным.
Его собственный фронт уже трясло и клевало сзади.
Думал-думал Эверт – ничего не придумаешь.
И в три часа ночи Квецинский стал останавливать посланные полки.
А они – только пошли как следует!..
298
Продолжение переговоров Милюкова с советскими.
От пункта к пункту переговоров Милюков успокаивался. Чего он более всего боялся – чтобы социалисты не передумали и не взялись формировать правительство сами, – они вот и не собирались. О войне, о союзниках – не говорили. Очень хорошо. Учредительное Собрание? – так это самый расхожий лозунг интеллигенции от начала века, от него никак нельзя теперь отречься, это выглядело бы открытой изменой самим себе. Учредительное Собрание – это любимый мираж для всех. Но Улита едет – ещё когда-то будет. Важно получить реальную власть сегодня и укрепиться кадетскому правительству, – а там Учредительное может и не понадобиться.
Не возникало никаких страшных пунктов, и так это приятно поразило Милюкова, что он не выдержал и сказал:
– Ну что ж, условия ваши пока в общем приемлемы и могут лечь в основу соглашения. Я слушаю вас и между прочим думаю: как далеко вперёд шагнуло наше рабочее движение со времени 1905 года.
В его памяти ещё не загасли те невыносимые наглые левые, хотя бы в Союзе союзов, с которыми из рук вон невозможно было разговаривать. Но и – нарочно он это сказал, чтобы польстить им и смягчить. Ведь всякие переговоры и сговор есть не только взаимная борьба, но и взаимная поддержка. На Петроград идут войска, защищаться некем, третий день нет никакой власти, – обе стороны находятся в положении рискованном. Надо укатать поскорей переговоры к успеху. Надо скорее получить власть, и притом не дать подорвать армию да и монархию как принцип – тоже, для удобства переходного периода.
Милюков начинал себя чувствовать всё лучше. Правда, Гиммер оставался ему несимпатичным, но Нахамкис-Стеклов – просто располагал к себе, какая положительная личность, он, вероятно, выдвинется среди социалистических вождей. Милюков старался быть предельно любезным с ним. Наконец он запросто попросил Нахамкиса передать ему этот листок их требований – чтобы видеть своими глазами и для обработки.
Тот ещё сам почитал, потом отдал. Милюков положил рядом чистый лист, переписывал пункты себе и продолжал обсуждать.
Как ему показалось, он выспорил этот пункт – о непредрешении образа правления, ему дали вычеркнуть его. Стало пунктов не девять, а восемь. А чтобы не менять нумерации – сюда, на почётное третье место переставили с конца отмену всех сословных, вероисповедных и национальных (по сути – еврейских) ограничений, – да это просто музыка, а не переговоры! – этот пункт Совет рабочих депутатов мог бы и не выдвигать, кадеты и сами называли его всегда прежде всех остальных.
Не стал оспаривать и пункт о замене государственной полиции, подчинённой центральной власти, – рассредоточенною народной милицией с выборным начальством: конечно, в каком-то смысле это временное разрушение охранной системы страны, но это уже и происходит стихийно: полицию уже преследуют и разгоняют; а с другой стороны, это же прямо из старой программы освобожденцев и кадетов 1905 года: чтобы в руках правительства не было централизованной силы против народа. Постепенно уладится и разумная охрана. В конце концов, ведь мы все, мы все из одной и той же интеллигенции.
Это удивительно и так приятно, что между ними не столько спора, сколько согласия. И выступило Милюкову, не ошибку ли дал в своё время, создавая Прогрессивный блок направо, вместо Левого блока.
Был ещё пункт, имеющий частное, временное, совсем не государственное значение, но, видимо, важный для Совета депутатов, зависящего от своих солдат: не выводить из Петрограда и не разоружать воинские части, находившиеся тут в момент революции. Немного странно, конечно: что ж, для этих запасных война уже и кончилась? Конечно, тут petitio principii , можно оспаривать, но реально в данный момент с этой распущенной солдатской массой и действительно ничего нельзя поделать, так что легко этот пункт и принять, тем более что он поставлен как бы условием передачи власти. Да и самим министрам как же оказаться без гарнизона перед лицом царской контрреволюции?
Однако замыкался список пунктов – бомбой: самоуправлением армии! выборностью офицерства! И это в разгар войны! Такое сумасшедшее требование не могут выдвигать нормальные люди. Очевидно, делегаты Совета не подумали хорошо и не понимали всего значения.
Но они – настаивали непримиримо!
Вот как? Уж Милюков доказывал им, что выборного офицерства ещё не бывало никогда в мире.
А Нахамкис брался доказывать, что только та армия сильна, где офицер пользуется доверием солдат.
Керенский по-прежнему мрачно не участвовал в дискуссии, а тут – вообще ускочил.
Чхеидзе дремал в безпомощности.
Соколов как ушёл, не возвращался.
А эти два социалиста – сомкнулись на своём.
Думцы отвалились. Владимир Львов отдал всё одному взрыву, больше не взрывался. Шульгин очнулся, взбрыкнул, что от выборного офицерства всё окончательно развалится, и снова впал в прострацию.
Шёл третий час ночи. Уже никто не мог выдержать. Но Милюков знал про себя, что выдержит и пересилит. Ничего лучше он в мире не умел, чем вот это медленное перетирание собеседников. Он знал это искусство: вдруг покинуть основное место разногласий и начать перетирать, перетирать челюстями какое-нибудь побочное второважное место, – но оттуда пережёв постепенно вернётся на главное. А ещё в запасе у него было искусство находить примиряющие словесные формулы, которые дают удовлетворение оппоненту, а себе открывают свободную линию действия.
Милюков уже заметил, как плохо и повторительно составлен список Совета: пункт о гражданских правах народа, распространённый на армию, и пункт о самоуправлении армии – в разных местах и в общем друг друга повторяют. Он принялся за первый и настаивал, настаивал, пока добился переписать, что на военнослужащих политические свободы распространяются, но в пределах, допускаемых военно-техническими условиями. Тем самым и пункт о самоуправлении армии начал уже обкусываться с краёв. А если обкусывать его дальше, то и он принимал форму, уже приемлемую: при сохранении строгой воинской дисциплины в строю и при несении военной службы…
Умно спорил и Гиммер. Он не говорил, что это – они, вожди Совета, придумали и настаивают так. Но что таковы крайние требования масс: солдаты потерпят офицеров только выборных, а Совет как может умеряет и сдерживает в рациональных рамках. Но если вовсе пренебречь требованиями масс, то размах движения сметёт и все правительственные комбинации. И напоминал:
– Не забывайте: реальные силы – только у нас. Стихию можем сдержать только мы!
(Он уже заметил, что цензовые этому верят, здесь это сильный конёк, и нажимал. Они-то с Нахамкисом знали, что «Приказ № 1» уже пошёл в печать и отступать некуда.)
Да, Милюков это уже понимал: что без Совета массами не управить. И не отразить внешней контрреволюции. Но как будто не слыша этих угроз о стихии, не продрогнув ни ухом ни глазом, а сам напоминая им об опасности генерала Иванова, он методически откусывал и откусывал с краёв. Ему говорили, что требования и так уж минимальны, – а он их откусывал.
И как только выборность офицерства откусил и, как ему казалось, об образе правления пункт выигран, он, по высшим правилам переговоров, в ту же минуту неутомимо и неожиданно пошёл и сам в наступление:
– Это – ваши требования к нам. Но: и мы имеем к вам свои.
Так, так! – подумал Гиммер про себя. Сейчас их свяжут обязательством поддерживать новое правительство и войну – и так скуют всю инициативу Совета и загубят демократию.
Не совсем так, но в этом роде. До того напугала цензовиков солдатская анархия, что все мысли их были про солдатскую анархию. Милюков, действительно, просил о встречной декларации Совета, которая должна быть напечатана одновременно с декларацией правительства, принявшего пункты Совета, а Совет пусть подтвердит, что правительство образовалось с его согласия и должно быть законно в глазах масс.
Кажется, ещё шаг – и участие в правительстве?
(О войне – не догадался!..)
Нет, прямого соучастия Совета Милюков не запрашивал, а просил: ещё заявления о доверии к офицерству. И осудить грабежи и врывания в частные квартиры.
Опять об этом? Мало того, чтоб не выбирать нового офицерства, но ещё и доверять старому? А оно – контрреволюционно? А оно – верно царскому режиму?..
Тем временем вернулся, ворвался Соколов, по-новому взволнованный. Он вот где, оказывается, пропадал: он узнал, что от Военной комиссии Думы готовится прокламация к войскам, и сейчас читал её корректуру. Так вот, там говорится: о так называемом «германском милитаризме», о «полной победе» и о «войне до конца»!.. Каково?
Это было возмутительно и коварно со стороны цензовых кругов – издавать такую прокламацию за спиною Совета! (У Соколова однако хватило ума не выказывать, какой они сами подготовили «Приказ № 1».) Это было по крайней мере непорядочно с цензовой стороны: Совет тактично обошёл в переговорах вопрос продолжения войны – а цензовые круги лезли на рожон! Совет принёс тяжёлую жертву, поставил себя под удар европейского демократического мнения, – а что же делали думцы?!
Правда, это делал – Гучков, которого здесь не было. Милюков – сразу и не одобрил его безтактность. Милюков – ценил то соглашение, которое они почти уже достигли среди трупов спящих.
А кстати спросили советские: кто же такие правительство, персонально? Не очень сильно это депутатов Совета интересовало, ну а всё-таки? Например, Гучков – будет? Он вызывает большое недоверие.
Даже Милюков, его известный неприятель, должен был ответить: при своих организаторских способностях, при своих обширных связях в армии, Гучков в нынешней ситуации незаменим.
Посмеялись Терещенке. Но Милюков и сам косился, через какую щель этого Терещенку затолкнули.
Тут принесли и корректуру гучковской прокламации – огромными буквами, для расклейки на улицах. Пробежав её, Гиммер про себя нашёл, что, пожалуй, она и не страшна: вполне нормальное обращение к воюющей армии во время войны. Но – нельзя было спускать. И он заявил, что если думцы её не остановят – Совет остановит своею силой.
Упрямый Милюков в этот раз как будто и не упрямился. Он возвращался всё к тому же: надо составить встречную декларацию Совета.
А между тем членам будущего правительства надо было привести в порядок и оформить проработанные пункты.
Всё это могло завтра, то есть сегодня же утром появиться в «Известиях» Совета.
Был четвёртый час ночи. Решили – на час разойтись для редактирования и снова сойтись. Уже ни у кого не было ни сил, ни соображения, и охотно оставили бы на завтра. Но, настаивал Милюков, откладывать ни в коем случае нельзя: у населения создастся впечатление, что правительство никак не может образоваться, какая-то есть роковая помеха.
Да без такого соглашения у обеих сторон не оставалось и выхода.
299
Банты революции.
...
Экран
Тщательная красная бутоньерка, как готовят её из шёлка терпеливые пальцы мастериц, даже в эти сумасшедшие дни —
цветок или розочка, совершеннее природных, – шесть? восемь? десять лепестков? – так строго-точно симметричных, такие одинаковые лепесточки с парными отворотами, —
медленно-медленно вращается вокруг оси, как любуясь сама собою или давая полюбоваться нам.
Но совершенство нигде не длительно, и мы видим бутоньерку уже только четырёхконечную, и не столь уже тщательную, кой-где неровно прихвачены края,
и вращается она тоже не совсем ровно, то медленнее, то быстрей, как будто мешает ей что-то.
Крупнее.
= Это – красный бант двуконечный, перехваченный чуть посредине, где пришпилен случайной поспешной булавкой, а в две стороны разлаписто,
нарочито-крупный бант, какой прикалывают рядом с орденами офицеры, примкнувшие к революции, чтобы видно было за квартал.
И – сдвинулся боком, и – сдёрнулся боком,
нет, это он начал вертеться,
и быстрее, хотя всё различаем бант.
А в самом вращении он меняется, теряет форму —
крупнее
= да это большой рваный красный лоскут, отхваченный как попало, лохматый как огонь, приколотый где пришлось,
вокруг точки прикола вращается своими углами, отрывами, лохмами.
Во весь экран
шальное кружение,
и почему-то страшное.
300
Аппаратный разговор Рузский – Родзянко. «Династический вопрос поставлен ребром».
Никогда генерал Рузский не чувствовал себя таким сильным и гордым, как после растянутых вечерне-ночных переговоров с царём. Он никогда бы и вообразить не мог, что посмеет так разговаривать с монархом. Неожиданный перевес своей силы, в глубине он знал немало поражений, превосходство иных других.
А гордым – потому, что Рузскому одному досталось в несколько часов выполнить десятилетнюю задачу всего русского образованного общества, что не удалось многим сессиям Думы, сотням призывов, петиций, резолюций, – а Рузский мог теперь поразить Родзянку и весь Петроград.
Со своим ограниченным здоровьем едва вынес всю эту уже ночную растяжку, и в аппаратной штаба фронта с удовольствием погрузился в глубокое кресло. Он так устал, что и разговор вёл из откинутого кресла, от аппарата же к нему поддерживал ленту Данилов.
Была половина третьего ночи. Можно представить, насколько же в Петрограде сейчас нет ночей. Что там вообще творится!..
Родзянко появился на том конце, аппарат простучал об этом.
Однако и смущала Рузского отмена уже назначенного приезда Председателя – да когда он был приглашён Государем. И чтобы верней понять соотношение лиц и предметностей, Рузский сперва попросил объяснить, почему Родзянко не приехал во Псков, как обещал. Причём генерал хотел бы, с полной откровенностью, знать причину истинную .
Родзянко, с откровенностью же: первая причина – что посланные с Северного фронта войска взбунтовались в Луге, присоединились к Государственной Думе и решили не пропускать даже царские поезда, и Родзянко озабочен теперь открыть им путь.
Лента текла – и Рузский соображал, что это – безсвязно. Волнения в Луге – местного гарнизона, не посланных войск, – и очевидно направлены в пользу Думы, они не мешали Родзянке ехать. Нет, он не подготовился к ответу, скрывает что-то.
Но лента текла, и Рузский не возражал. Недостаток аппаратного разговора – не видишь лица собеседника. Преимущество – не видят и твоего.
А вторая причина: получил Председатель сведения, что его поездка во Псков могла бы повлечь нежелательные последствия.
Вот-вот, так – какие же?.. Что-то тут было, конечно, Рузский верно почувствовал!
– Невозможность остановить разбушевавшиеся в столице народные страсти без личного присутствия, так как до сих пор верят только мне и исполняют только мои приказания.
Ну, вот это уже было вполне понятно. Равномерно стучащий юз подавал только ленту с буквами, не было приспособления услышать и самого Родзянку – но кто его хоть однажды слышал и видел, тот почти и не нуждался в повторении. Выше слов своих вырастал этот гигант, наконец-то получивший силу соответственно своим возможностям. Воображался этот бушующий Петроград – но и толстые руки Родзянки, удерживающие бразды.
Что ж, среди указанных причин не было отказа или передума, и значит, Рузский мог доложить свою великолепную новость.
– Государь император первоначально предполагал предложить вам составить министерство, ответственное перед Его Величеством. Но затем…
Неудобно прямо говорить: в результате бесед со мной. Но это и само станет понятно…
– Отпуская меня, Его Величество выразил окончательное решение и уполномочил меня довести до вашего сведения об этом: дать министерство, ответственное перед законодательными палатами, с поручением вам образовать кабинет!
Рузский воображал по ту сторону обалдело-радостное лицо Родзянки. А между прочим, никогда не забывается и тот первый, кто приносит радостную весть. И, уже несколько кокетничая:
– Если желание Его Величества найдёт в вас отклик, то спроектирован и манифест об этом, который я сейчас вам передам.
Свершилось.
Разговор безголосно протягивался при мерном постукивании.
Но лента от Родзянки что-то не несла ответной радости.
– Очевидно, Его Величество и вы не отдаёте себе отчёта в том, что здесь происходит. Настала одна из страшнейших революций, побороть которую будет не так-то легко.
Потом – как он два с половиной года предупреждал Государя о грозе. Как теперь, в самом начале движения, стушевались министры, не приняли никаких мер…
– …И мало-помалу наступила такая анархия, что Государственной Думе вообще, а мне в частности оставалось только попытаться стать во главе движения, чтобы не погибло государство.
Ещё раз порадовался Рузский, что теперь не отвечал за Петроград.
– К сожалению, мне это далеко не удалось, народные страсти так разгорелись, что сдержать их вряд ли будет возможно. Войска не только не слушаются, но убивают своих офицеров. Ненависть к государыне императрице дошла до крайних пределов. Вынужден был во избежание кровопролития заключить всех министров в Петропавловскую крепость.
О-о-о, картина выходила далеко за рамки воображённого. Но энергично же справлялся Родзянко!
– Очень опасаюсь, что такая же участь постигнет и меня.
Как?? Не вмещалось в черепную коробку!! – Рузский заскрёб её пальцами, и непроёмчивый Данилов тоже заволновался. Каков же размах небывалой революции, если единственного человека, которому верят и чьи приказания исполняют, – вот-вот готовы бросить в Петропавловскую крепость!!!
А Родзянко двигал и двигал глыбы:
– Считаю нужным вас осведомить, что предлагаемое вами уже недостаточно и династический вопрос поставлен ребром . Сомневаюсь, чтобы возможно было с этим справиться.
Все усилия, вся победа Рузского и гордость его – были оттолкнуты в прах!..
Изнеможение его прошло, он приподнялся, сидел в кресле ровно.
– Ваши сообщения, Михаил Владимирович, действительно… Это прежде всего отразится на исходе войны… А надо её довести до конца, соответственного великой родине…
Не забывал генерал Рузский, что эту ленту не миновать ему завтра показать Государю, да может и Алексееву послать, выражаться генерал-адъютанту следовало очень осмотрительно. Но нельзя же было игнорировать и упустить того, что происходит в Петрограде. Там им – всё понятно, нам ещё нет. Между бездной оказаться изменником и бездной оказаться реакционером – как бы это выстелить неопасно, но допытчиво:
– Не можете ли вы мне сказать, в каком виде намечается решение династического вопроса?..
Нелегко и камергеру императорского двора:
– С болью в сердце буду вам отвечать. Ещё раз повторяю: ненависть к династии дошла до крайних пределов. Но весь народ, с кем бы я ни говорил, выходя к толпам, решил твёрдо довести войну до победного конца. Все войска становятся на сторону Думы, и грозное требование отречения в пользу сына, при регентстве Михаила Александровича, становится определённым. Со страшной болью передаю вам об этом, но что же делать? В то время, как народ проливал кровь, – правительство положительно издевалось над нами.
И опять – заклятые имена, Распутин, Штюрмер, Протопопов, стеснение горячего порыва, непринятие мер, розыски несуществовавшей тогда революции… Эти все знакомые повторения Рузский пропускал в пальцах и мимо глаз, он горел понять, как стоит вопрос с династией, чтоб не ошибиться ступить самому. Единственный человек, владеющий Петроградом, говорил: до крайних пределов…
– …Тяжкий ответ перед Богом взяла на себя государыня императрица… А ещё присылка генерала Иванова только подлила масла в огонь и приведёт к междуусобному сражению, так как сдержать войска решительно никакой возможности… Кровью обливается сердце. Прекратите присылку войск, они не будут действовать против народа…
На крайности против императрицы Рузский не смел ответить ничего в печатаемой ленте. Он – о несомненном: нужно быстрое умиротворение родины, надо, чтоб анархия не распространилась на армию. Указанные ошибки не могут повториться в будущем. Предполагается ответственное министерство, подумайте о будущем. А войска в направлении Петрограда, Рузский рад разъяснить, были посланы не им, а по директиве из Ставки, но теперь уже отзываются:
– Иванову два часа тому назад Государь император дал указание не предпринимать ничего… Равным образом Государь император изволил выразить согласие, и уже послана телеграмма два часа тому назад, вернуть на фронт всё то, что было в пути.
Два часа назад – значит, это Рузский добился, понимайте! И – снова к своему главному достижению:
– Со стороны Его Величества принимаются какие только возможно меры… И желательно, чтобы почин Государя нашёл бы отзыв в сердцах тех, кои могут остановить пожар.
Безупречная лента генерал-адъютанта и Главнокомандующего фронтом. Достаточно узнав для себя (и в новой прочной позиции по отношению к императору), удержался Рузский в позиции верноподданного, не дав ни сомнительной фразы.
А ещё – передал полный текст проекта государева манифеста.
– Я, Михаил Владимирович, сегодня сделал всё, что подсказывало мне сердце. Приближается весна, мы обязаны сосредоточиться на подготовке к активным действиям.
И прикатило оттуда:
– Вы, Николай Владимирович, истерзали вконец моё и так истерзанное сердце. По тому позднему часу, в который мы ведём разговор, вы можете себе представить, какая на мне лежит огромная работа. Но, повторяю вам, я сам вишу на волоске, и власть ускользает у меня из рук.
Вот это всё-таки никак не поддавалось воображению: Родзянке грозила Петропавловская крепость?
– …Анархия достигает таких размеров, что я вынужден был сегодня ночью назначить Временное Правительство.
Ах вот оно что! Какие ходуны! Приберёг на конец! Да, конечно, зачем ему тогда ответственное министерство из рук царя, если он сам уже назначил правительство!.. В этом отдалении от столицы постоянно отстаёшь и попадаешь не в тон.
– …Манифест запоздал, его надо было издать после моей первой телеграммы. Время упущено, и возврата нет. Повторяю, народные страсти разгорелись в области ненависти и негодования. Надеемся, что после воззвания Временного правительства крестьяне и все жители повезут хлеб, снаряды и другие предметы снаряжения.
А запасов хватит, так как об этом заботились именно общественные организации и Особые совещания.
– Молю Бога, чтоб Он дал удержаться хотя бы в пределах теперешнего расстройства умов и чувств, но боюсь, как бы не было ещё хуже. Желаю вам спокойной ночи, если только вообще в эти времена кто-либо может спать спокойно.
Не то что спать, но отойти от аппарата трудно было спокойно. Что значит «ещё хуже»? Генерала Рузского протронуло дурное предчувствие.
– Михаил Владимирович! Но имейте в виду, что всякий насильственный переворот не может пройти безследно! Что если анархия перекинется в армию и начальники потеряют авторитет власти – что будет тогда с родиной нашей?
Этого они и оба, и даже отдалённо представить себе не могли.
И Рузский ещё убеждал, так жалко ему было расстаться с добытым: ведь цель всё равно – правительство, ответственное перед народом. Так если вот открыт к этому нормальный путь…?
Что-то пугался генерал этого отречения, неожиданного для себя.
Но Родзянко – нисколько. Родзянко там, в революционной стихии, уже с этой мыслью сжился:
– Не забудьте, что переворот может быть добровольный и вполне безболезненный для всех. И тогда всё кончится в несколько дней! Одно могу сказать: ни кровопролития, ни ненужных жертв не будет, я этого не допущу!
Эта уверенность властного человека начала передаваться и Рузскому. Если в несколько коротких дней и безо всякого кровопролития – отчего, правда, и не…?
Не светало ещё, но было уже скорее утро, когда они кончили свой медленно текущий аппаратный разговор.
Можно было ехать будить Государя и докладывать ему, что никакого примирения не будет, Председатель Государственной Думы намеревается свергнуть его – и, может быть, остановленные войска надо снова послать на Петроград?
Ни-как. Даже мысль не повернулась – доложить такое Государю. (Да ведь он же и почивает.) Даже ни в чём не сказав Родзянке «да» – генерал-адъютант Рузский уже как бы вступил с ним в сговор. Он уже был задет и увлечён новым оборотом.
Кому нужно было немедленно обо всём донести – это Алексееву.
А там посмотрим.
Ставка и так уже волновалась, теряя приличие. Всё просили ориентировать их почаще, что будет важное.
Велел передать: распоряжением Государя манифест об ответственном министерстве должен быть опубликован.
И – конспект своего разговора с Родзянкой.
В четыре часа отправился спать.301
Родзянко опять на крыльях.
И от сегодняшнего ночного разговора, как и от вчерашнего, снова был Родзянко воскрылён. Опять удача! Опять успех!
По полукружным коридорам Штаба он нёсся легко, как будто тело его громадное не весило и закручивал его лёгкий ветерок.
Двойной успех! Тройной успех!
Так верно: именно его назначал Государь, именно на него возлагал формировать ответственное министерство!
Немного поздно.
Немного поздно, но всё равно почётно, и признание заслуг. Манифест, который он нёс теперь в скрученной ленте, – не мог не польстить!
Немного поздно.
А может быть – взять да ещё и принять?
Милюкову и всем интриганам – утереть нос?
Но уже сказал: я назначил временное правительство. Значит, сам не вошёл.
Да и действительно его составляют.
Потом: Родзянко убедился, что окончательно остановлены все войска! И остановлен Иванов, под самой уже столицей!
Это – его личная победа! В два ночных разговора Родзянко спас свободолюбивый Петроград!
Хорошо выразился Рузскому: что петроградские войска сдержать нельзя, так рвутся в бой на Иванова! (А нету – ни одной боеспособной роты.)
Вообще, кое-где он невольно преувеличил – и о крайних пределах ненависти к династии. Но хотелось ярче передать Рузскому, какая ужасная тут обстановка.
Печатать ли теперь манифест? Так и сказал под конец Рузскому:
– Я, право, не знаю, как вам ответить. Всё зависит от событий, которые летят с головокружительной быстротой.
Право, не знаю.
Немного поздно.
Ах, зачем вы так медлили, Государь?
Уже ничем таким – не насытить мятежа.
Увы, неизбежно – отречение.
Но почему-то оно и не пугает. Да легко пройдёт. Быстрая замена на регентство Михаила.
А кровопролития, а жертв, а безпорядков – Председатель не допустит. Защитник народный. Надежда народная.
Боже, помоги России!
302
Советские смягчают «Приказ № 1» в печатании. – Задерживают листовку межрайонцев-эсеров.
Соврали думцам на переговорах, будто в Совете составлено и печатается успокоительное воззвание к солдатам. На самом деле печатается воззвание возбудительное, «Приказ № 1», и через несколько часов, свежеотпечатанный, в полмиллионе экземпляров он потечёт по столице, принесут его и сюда, в здание Думы, и тогда вся ночная работа переговоров может разрушиться. Сейчас же обстановка была благоприятна, вот остановили патриотическое воззвание Гучкова, – и надо спешить закончить и закрепить результаты переговоров. А чтоб их совсем не сорвать, придётся пойти на такую уступку: из «Приказа № 1» успеть выбросить пункт о выборности офицеров – раз уж уступили на переговорах. И Нахамкис пошёл звонить Гольденбергу в типографию.
А Гиммер уселся в проходной комнате думского крыла, с листом бумаги и мусоля во рту карандаш, спешил набросать декларацию Совета, которую с них требовал Милюков. И даже уже написал что-то:
«Товарищи и граждане! Приближается полная победа русского народа над старой властью. Но для этой победы нужны ещё громадные усилия. Нельзя допускать разъединения и анархии. Нельзя допускать безчинств, грабежей, врывания в частные квартиры…»
Ещё несколько слов он проковылял неоточенным карандашом, но вдруг почувствовал полнейшее истощение мозга – и от пустоты желудка, и от безсонья, и от перенесенного спора.
А тут вошёл Керенский, уже пободрей и порадостней, и опять привязался, что вот предлагают ему портфель министра юстиции, и как же ему быть – принимать или не принимать? За своей личной министерской проблемой он совсем утерял все революционные принципы и соображения. Гиммер смотрел на него с упрёком. Да и не в рекомендации он нуждался, он явно решил пост брать, но волновался, как отнесутся товарищи по Совету депутатов.
Нет, декларацию писать Гиммер был не в силах и, сунув начатое в карман, пошёл на советскую сторону, может быть сочинят там вместе.
В Екатерининском зале спало гораздо меньше солдат, чем в предыдущие ночи: уже не опасались спать в казармах, разошлись.
В пустом коридоре увидел Гиммер навстречу себе Гучкова в шубе – ага, шёл к своим цензовым коллегам. Гучков Гиммера не знал конечно, ни в лицо, ни по имени, но Гучкова-то знала вся Россия. Можно было молча мимо пройти, но захотелось зацепить:
– Александр Иванович! Ваше, Военной комиссии, воззвание к армии мы вынуждены были остановить. Оно наполнено такими воинственными тонами, которые не соответствуют революционной конъюнктуре.
Гучков был глубоко мрачен и сперва, кажется, даже вообще не заметил, что кто-то встречный мимо шёл. Услышал слова, остановился, отвлечённым взглядом посмотрел. То ли понял сказанное, а то ли даже и не понял, рассмотрел встречного или скорей не рассмотрел, не спросил ни кто он, ни – кто это «мы», – шевельнул губами странно, ничего не произнёс, пошёл дальше.
Гиммер с неприязнью проводил Гучкова в спину: вот из таких-то бар и надо дух вышибать, в этом и революция. А они – ещё к революции подцепляются.
Несмотря на 4 часа ночи, неспящие находились везде. А в комнате Исполнительного Комитета Нахамкис рассказывал эсеру Зензинову и меньшевику Цейтлину о том, как шли переговоры с думцами. Рассказывать – это хорошо, и поддержка лишних двух членов – хорошо, но надо из последних сил писать декларацию Совета, – подбивал Гиммер Нахамкиса. Но и тот что-то не брался.
Вдруг вбежал молодой эсер Флеккель, потрясая ещё какими-то бумажками и с возмущением крича о новой провокации.
Что ещё такое? Это была ещё новая прокламация, уже отпечатанная и подписанная межрайонцами и несуществующим петербургским комитетом эсеров, который представлялся одним Александровичем. Уже была вчера их совместная листовка о рабочем правительстве – а теперь эта.
Да-а-а, пожалуй, с этим воззванием не явишься в думскую комнату. Оно написано в пугачёвских тонах – не только против самодержавия, но против дворян, что они бесились, высасывая народную кровь, против казны, монастырей, затем и против офицеров, романовской шайки, призывая их не признавать, не доверять, гнать, только не прямо что уничтожать.
И где ж эта листовка? Уже расходится по городу, а здесь в Таврическом – кипы их на складе большевиков.
У большевиков с межрайонцами – всё время взаимная поддержка, и это осложняет дело.
Действительно неудовлетворительна – и по погромно-техническим причинам, и ещё более потому, что в самый ответственный момент расстраивается контакт с думскими кругами. Они там ждут успокоительной листовки, а получат «Приказ № 1», – а ещё раньше вот эту, хуже.
Кто был, четверо-пятеро из Исполнительного Комитета, начали совещаться. Вопрос был очень сложный. Остановить листовку ещё удастся ли, ещё успеют ли, но и принципиально: это будет наложение запрета на свободное слово социалистической группы – имеют ли они на это право? (Иное дело шовинистическая листовка Гучкова.) А с другой стороны, и распространение этой листовки по городу сейчас действительно взрывоопасно, ещё поддать огня такому настроению, и сам Совет полетит вверх дном, а уж нового правительства, конечно, никакого не создать. Разумеется, неприятно было им, нескольким тут, брать на себя всю ответственность и ссориться с межрайонцами и большевиками, конечно лучше бы подождать дневного заседания, – но ждать нельзя, это сейчас утром уже полетит по городу. Днём на заседании можно будет поставить во всей полноте вопрос: насколько же имеет право каждая партийная фракция действовать без ведома Совета. Но сейчас…?
Решились бы они или нет, но тут, к счастью, влетел как буря Керенский. Он просто кидался по комнате, кидался на каждого с яростью. Ярость была об этом самом листке, он только что его прочёл и обвинял Кротовского и Александровича в провокации, в наследовании царской охранке, – а когда ему стали возражать, что нельзя так резко о партийных товарищах, о своих же революционных демократах, – он стал нападать и на членов Исполнительного Комитета, обвиняя их в пособничестве.
– А что вы скажете сейчас на переговорах? С каким лицом придёте писать декларацию об успокоении?
Своей ругнёй Керенский поддал им мужества: рискнуть пока остановить до дневного заседания Исполкома.
Да тюки-то с листовкой были сгружены тут, через комнату, совсем близко. Гиммер, как всегда самый быстрый в заскоке, отправился на разведку, посмотреть, какие там у большевиков и межрайонцев силы.
А оказалось – там оставили сидеть одного Молотова, мешковатого растяпу. На этого Гиммер смело стал наскакивать, подоспели другие, тот сперва возражал, но потом потерялся и уступил тюки без скандала.
Флеккель с помощниками тут же их захватили и унесли под арест.
Распространилось пока мало, захватили в последний час.
Фу-у-уф, перевёл Гиммер дух от этой беды. Но час перерыва кончался, а декларация так и не написана.
303
Гучков ломает милюковское соглашение с советскими. – Ехать брать отречение у царя!
Гучков, хоть и в штатской меховой шубе, вошёл в думский кабинет поступью полководца. Здесь были все распростёртые или размяклые, осовелые, самый выносливый Милюков и тот уже сильно одурел за столиком, все были без воздуха, – Гучков свежий, с мороза.
Невысокий, коренастый, остановился вскоре после двери на пустом пространстве, протёр запотевшее пенсне, осмотрел, кого здесь нет (из Думского Комитета не было, к счастью, ни вертуна Керенского, ни селёдки Чхеидзе), и спросил, довольно грозно, – всех вообще, но главным образом своего извечного врага, бодрствующего Милюкова:
– Что ж, отдаёте армию на разбой, на разлом? И сами думаете удержаться? Да полетите вверх тормашками! Сколько уже уступок вы дали по армии? Что ж это будет за правительство? – игрушка рабочих депутатов? Я в таком правительстве участвовать отказываюсь!
(Он и правда готов был отказаться, предпочитая стать членом регентского совета, а потом президентом России.)
Несмутимый Милюков опешил: он понял так, что Гучков говорит об их достигнутом соглашении с Советом, и поразился, откуда Гучков, ещё не раздевшись, едва вступя в Таврический, уже всё знал? Но и не мог Милюков сшибиться внезапным толчком со своей отстоянной за вечер позиции, он гордился проведенными переговорами и что держал Совет в примирительном настроении:
– Вы, Александр Иваныч, подвергаете нашу позицию – детрактации. А мы армию отдать никак не думаем. Напротив, пункты об армии сформулированы весьма удовлетворительно для нас.
Гучков (шапка в руке, а сам в шубе) схмурил брови над пенсне:
– Какие ещё пункты ?
И тут выяснилось: он – о своём запрещённом воззвании к армии, – запрещённом? Чьею властью? Совета?
А Милюков и думать забыл об этом воззвании, он уступил его как малозначное, стоило ли портить отношения с Советом по второстепенному вопросу, когда достигалось такое важное общее соглашение!
Соглашение?! Где оно?
Гучков резким движением сбросил шубу на пустой стол, а сам быстро сел через стол против Милюкова. Он вёл себя энергично по-дневному, а не как в четыре часа ночи.
Как раз на тот стул он сел, где сидел перед этим Нахамкис, барственно улыбаясь на возражения кадетского лидера.
И новой оппозицией через стол Гучков представил Милюкову его достигнутый проект в новом и неприглядном свете.
Он хотел прочесть своими глазами, но это были малоразборчивые наброски Милюкова, списанные с бумажки советских, и пришлось читать Павлу Николаевичу вслух.
И когда он стал читать перед напряжённым, требовательным постоянным своим противником, то даже и «военно-технические условия» уже не показались ему самому таким достижительным ограничением политических свобод военнослужащих.
Ненадёжным показалось и выборное начальство милиции.
Сковывающим – невывод из Петрограда революционных частей.
И совсем непонятно, как будут солдаты неограниченно пользоваться всеми общественными правами.
А как же это представилось Гучкову? Да он еле скрывал отвращение.
Милюков ощутил себя в крайней досадности: именно вместе с Гучковым, а не с кем-нибудь, увидеть слабые стороны своего проекта.
Сколько ж они сталкивались в жизни – товарищи по университету, потом навсегда разделённые. Сколько спорили, начиная с польского вопроса в Девятьсот Пятом! И когда Витте звал их в кабинет. И когда создавали две соперничающие партии кадетов и октябристов. И состязания в Третьей Думе. Вечный его соперник, вечная преграда на его пути – перед ним одним Милюков тайно робел. Когда-то уже и дуэль между ними была назначена, и Павел Николаевич в самых мрачных предчувствиях уже напевал арию Ленского – да удалось отделаться оправдательным объяснением. И диаметральные позиции вокруг деятельности и смерти Столыпина. Всегда как-то так выдвигала и ставила их судьба – друг против друга, на виду всего русского общества, что не оставалось простора для нейтральности, для равнодушия, а всегда надо было соперничать.
И в этом соперничестве Милюков знал за собой устойчивость, терпение, методичность, прочную связь с западными симпатиями, – а Гучков накатывался и откатывался каким-то диким славянским шаром, то с думской трибуны в Монголию, то назад, мстителем за Столыпина, то позорным провалом на выборах в Четвёртую Думу, то отъявленным мятежом октябристов против правительства. И в этих непредвиденных диких накатах столько было силы, что он чуть с ног не сбивал крепконогого Милюкова. Так вчера днём неудержимо вкатился он в Думский Комитет несостоящим четырнадцатым членом, в формируемое правительство – военным министром, забрал в руки Военную комиссию, – а вот ворвался аннулировать соглашение. На изматывающих переговорах его не было, Милюков должен был опинаться один против трёх советских, – а сейчас Гучков ломился всё опрокинуть и развалить.
Именно так! Он повысил глухой голос, будя неразумных дремлющих, и со всею горечью недоспоренных разногласий, резкие морщины у глаз, выкладывал теперь оробевшему Милюкову, что это – чёрт знает что, а не соглашение! Если Совета так бояться, то они конечно вырастут в силу! Надо их теснить, пока не стали силой. Сколько же можно уступать им? саму армию! что ж остаётся опорой правительства?!
А иные в комнате летаргически дремали.
И соглашение – было сорвано. Во всяком случае – отложено на завтра, до следующих переговоров.
Да впрочем, те должны были ещё писать декларацию от имени Совета. Но вот принесенный проект оказался никуда не годен. Милюков, не стесняясь, взялся уже сам писать эту декларацию от имени Совета, – но благовидно было под этим отложить и переговоры на завтра.
Керенский не возвращался, можно было по-прежнему говорить открыто, – и Гучков будил Шульгина, Шидловского и других:
– Господа! Положение ухудшается с каждой минутой. Анархия не только не успокаивается, но растёт. Можно ожидать сплошной резни офицеров! Совет распоясывается, таких соглашений заключать нельзя. А между тем на Петроград идут войска извне, которые нам нечем отражать. Нам надо немедленно, сейчас же вот тут, принять важное решение! Новое правительство нельзя основывать на песке. Надо совершить нечто крупное, что дало бы общий исход, произвело бы впечатление, спасло бы наше положение, спасло бы офицерство и – монархию!
Он сохранял перед ними, размякшими в безсонной духоте, всё преимущество бодрого, очень уверенного человека.
– Выйти из грозного положения с наименьшими потерями и даже с победой. Установить новый порядок, но без потрясений. Спасти монархию, даже утвердить её! – но ценой отречения Государя. Николаю всё равно уже не царствовать. Но очень важно, чтоб он не был свергнут насильственно, а добровольно отрёкся бы в пользу сына и брата. Именно по требованиям Совета вы видите, что надо спешить с отречением. Не дожидаться той, уже близкой, минуты, когда этот раззявленный революционный сброд сам начнёт искать выхода. Юридически – окончить революцию.
Отречение Государя! Кто об этом не думал, не шушукался. Но странно, в суматохе этих дней Думский Комитет ни разу не сел обсудить это отдельно и серьёзно: смели прежнее правительство, – а царская власть существовала, никем ещё не отвергнутая (и почти никем уже не признаваемая). И всё не собрались – принципиально и технически этот вопрос решить! От встречи войск, от речей и приветствий члены Думского Комитета уже переставали себя сознавать временными, самовыдвинутыми, а ещё и не видя подхода карающих войск, уже и менее считали нужными какие-либо переговоры с Верховной властью. В воспалённом Таврическом новое и новое подкатывало как важное, а старая власть отодвигалась как бывшая . Все повторяли вокруг об опасности реакции, но уже и сами не верили в то. В головах уже поворачивалось, что власть – вся должна перейти к общественным деятелям, конечно, что Николай II должен уйти, но как-то ожидалось это подобно падению зрелого плода.
Они все, может быть, не думали, но Гучков только об этом и думал всё время. Это – забитый гвоздь был в его голове: император Николай. Ещё сегодня днём было рано настаивать – ещё собирался Родзянко ехать за ответственным министерством. Но – не пустили, не поехал, упущено, – и вот с нынешних вечерних часов ничего не могло быть другого, как отречение, и каждый упускаемый час был невозвратен. Родзянко не поехал – и Гучков теперь требовал полномочий себе. Он – поедет!
С перевесом уверенности, энергии, он не сомневался, что сейчас получит от этих заспанных полномочие.
Милюков, смущённый разносом своего соглашения, жевал губы и не имел силы возражать.
А тут как раз возвратился от провода Родзянко, неузнаваемо весёлый. Но на его возврат, занятые бодрым проектом Гучкова, как-то мало обратили внимания. Его разговор с Рузским казался чем-то побочным, задерживающим. Родзянко доставал ленты разговора, хотел читать их, – не стали его слушать. Что узнал он новое, совсем новое от Рузского?
Манифест об ответственном министерстве!
Только фыркнули: поздно собрался царь.
Родзянко это и сам понимал. Но – другая потрясающая новость: войска Иванова остановлены Государем.
А вот это – замечательно! Вот это великолепная новость!
Но! – если царь остановил карательные войска – то тем более ясно, что он слаб. И сознаёт это сам.
И значит – тем более прав Гучков, об отречении?
Родзянко сел в сторонке ещё одним слушателем.
Итак, Гучков предлагал немедленно уполномочить его ехать за отречением.
Всё-таки – жались. Всё-таки – слишком решительный шаг. Надо ли? так ли срочно? А прямые сношения с царём не опорочат ли их Думский Комитет и зарождаемое правительство? Как это использует Совет рабочих депутатов?
Решительнейшие ораторы думской оппозиции, рассыпавшие в прах и пыль государственный строй, – вот не могли решиться на первопростое действие, без которого и смысла не имело всё остальное. Если правительство мы составляем вот тут сами, независимо…
Или важней казалось – кто какой портфель захватит?..
– Хорошо! – твёрдо объявил Гучков. – Если Думский Комитет не имеет смелости меня уполномочить – я еду на свой страх и риск! Еду – как частное лицо. Просто – как русский человек, желающий дать Государю спасительный совет. Я – давно убеждён в необходимости этого шага, и я решил предпринять его во что бы то ни стало!
Давно – чтобы не сказать, что – раньше их всех и непреклонней их всех. И конечно, – он был первый кандидат получить это отречение. Он – не просто делал какой-то очередной политический шаг, – он так ощущал, что приблизился к вершинному моменту своей жизни.
А это – уж совсем поворачивало дело: согласятся думцы, не согласятся, – Гучков ехал!
Да кому же и ехать? Кто же лучше связан и с армейскими генералами?
Но всё-таки: а Совет рабочих депутатов? Допустят ли они какие-либо наши переговоры с Государем? допустят ли посылку делегации? Разве Совет захочет мирного отречения, сохранения монархии?
Гучков принизил голос, по-боевому:
– Конечно – действовать только тайно. Ни в коем случае не ставить их в известность, никого не спрашивать. И Керенскому тут ни слова! Соглашением с Советом мы только свяжем себя и всё испортим. А – поставим их перед совершившимся фактом! Чтобы через день Россия проснулась уже с молодым Государем! – и под этим знаменем быстро начнём собирать отпор против Совета и его банд. И пока Государь во Пскове – это недалеко, это быстро.
И псковский штаб – под сильным влиянием Думы. Это несравнимо лучше Ставки. Псков – отличное место. И пока Государь не уехал дальше. (И тайно сообщить Рузскому, чтобы задержал?..)
И, видя, что всех встряхнул и Милюков тоже растерян:
– Господа, нечего больше и обсуждать. Я – еду! Кто-нибудь со мной ещё, второй.
И тут молодой Шульгин, уже давно вырванный изо сна, всё более захваченный, зачарованный этим мужественным голосом, этим мужественным проектом, да ещё в обход и в обман ненавистного Совета депутатов, воскликнул звонко, восторженно ухватился:
– Господа – я поеду! Господа, разрешите! – Даже молодая просительность была в его голосе, как бы старшие не отказали. Он стоял на ногах и бодро поворачивался ко всем. Да возьмёт ли Гучков? – к нему.
Он оживился – пружинно. Он уже – нисколько не был усталым. Какое неповторимое историческое событие – присутствовать при отречении всероссийского императора, даже брать самому это отречение!
Можно бы удивиться, что вызвался такой отъявленный монархист? Но – некому удивляться, устали удивляться, устали запредельно.
Гучков не возражал: пусть так, неплохо.
Итак, им поручается? – привезти отречение? Временный Комитет Государственной Думы считает единственным выходом отречение? При наследнике – регентом Михаил.
А сам текст отречения?
Ну куда ж в такую позднь, головы падают, отказывают.
Ну, составите по дороге.
А как же устроить поездку? Через Бубликова связаться с железнодорожниками.
Все – сваливались доспать. А Гучков с Шульгиным поехали на Сергиевскую, домой к Гучкову.
Тёмные и безлюдные стояли улицы. Тот короткий предрассветный час, когда и Революция смаривалась.
304
Лейб-Бородинский полк обезоружен на станции Луга.
Наступила ночь, но никто в казармах лужских кавалеристов и не думал ложиться спать.
После полуночи ротмистр Воронович решился действовать: построил свою команду и, взяв с неё обещание безпрекословно повиноваться, повёл строем по городу.
Обыватели все забились по квартирам, не высовывались. По главной улице разгуливали толпы солдат в весёло-погромном настроении. Но вид трёхсот вооружённых рослых гвардейцев в образцовом строю, взводные подсчитывали ногу и покрикивали, произвёл на гуляющих солдат огромное впечатление. Они останавливались, смотрели в расплохе. В иные окна стали высматривать обыватели.
Воронович с отрядом достиг вокзала. Здесь он застал форменный содом. Буфет, залы всех трёх классов и даже никогда не открывавшиеся парадные «царские» комнаты были набиты солдатами. Большинство их были – новобранцы артиллерийского дивизиона, с винтовками, отобранными прежде у других кавалеристов. Стояли, сидели, лежали на полу, на стульях, на столах, даже на буфетной стойке. В парадных комнатах оркестр пожарной дружины, окружённый толпой, непрерывно играл фальшивую марсельезу и, окончив, начинал тотчас снова.
От этих звуков по всему вокзалу разливался безсонный праздник.
Тут мотался и солдат-автомобилист в кожаной куртке, оказалось – член «военного комитета». И ответил, может быть от себя самого:
– Мы получили вашу записку, ваше благородие, и очень благодарны. Комитет просит вас вступить, хотя бы на время, в должность начальника гарнизона.
Он сказал, что ждётся в Лугу какой-то важный экстренный поезд из Петрограда с членами Государственной Думы, а тут такой безпорядок. Ротмистр – единственный здесь офицер, и на него надежда.
Воронович задумал, как очистить вокзал. Прежде всего он вывел на платформу оркестр пожарной дружины – и толпа солдат вся устремилась за ним. Тем самым парадные комнаты опустели, были заперты и к дверям приставили часовых.
Теперь ко всем на платформе ротмистр обратился с речью, что сейчас будут готовиться к торжественной встрече, и он просит желающих построиться в порядке, а остальных – отойти в сторону, не мешать.
Все – и оказались желающими. Но старослужащие кавалеристы построились быстро, а новобранцы только пытались: неумело волокли винтовку, тут же выходили из строя, присаживались на платформу, закуривали. Вместо оркестра заиграли гармоньи.
Воронович придумал: стал подавать команды, репетиции встречи, «слушай, на краул!». Вооружённые новобранцы растерялись, они не знали ни одного ружейного приёма. Тогда он начал обучение, вызвал вперёд унтеров, затем и старослужащих солдат, показывать и выполнять приёмы.
Уставшие новобранцы охотно отдавали им свои винтовки и так оказались все разоруженными.
Теперь, когда все винтовки были у кавалеристов, Воронович предложил новобранцам идти домой и ложиться спать.
Они зашумели в протест, что теперь – свобода и новобранцы должны пользоваться теми же правами, что и старослужащие.
Старослужащим это не понравилось, и они попросили у ротмистра дозволения погнать молодёжь в казармы.
И в сопровождении патрулей из кавалеристов новобранцы были отправлены.
Тут выяснилось, что поезд из Петрограда отменён. Но хуже смятение: прибыл весь «военный комитет», и председатель его, унтер Заплавский, объявил Вороновичу, что получена телеграмма: сейчас в Лугу прибудет головной эшелон лейб-Бородинского полка, идущего на усмирение Петрограда. Так вот: как остановить бородинцев?
А в эшелоне, по сведениям, было 2000 человек и 8 пулемётов. А во всей Луге вооружённых солдат насчитается 1500, но не собрать на вокзал больше, чем их тут сейчас есть, триста-четыреста лучших. А к пулемётам нет лент. В бригаде, назначаемой во Францию, нет вообще ни одной пушки, ни винтовки, да они и к революции не присоединились, просто бродят. А в артиллерийском дивизионе все пушки учебные, ни одна для стрельбы не годится.
Но одно из орудий и два бездействующих пулемёта, из озорства притащенные артиллеристами, стояли сейчас на платформе.
В эту тревожную ночь, сотрясённый переживаниями вечера, сохранял Воронович ясную голову. Задача была та же: отметно послужить революции. Голова работала. Нужна дерзость и дерзость. К военному комитету автомобилистов пристали, предложили свои услуги ещё два офицера – поручик и прапорщик. С ними и стал Воронович изобретать.
Это притащенное орудие будет их грозной артиллерией, – скорей, вручную, поставить его стволом вдоль подходящего эшелона, наискось.
Кавалеристов укрыли в вокзале и позади него.
Уже виден был ослепительный треугольник белых паровозных огней.
И всегда грозный в ночи, сейчас эшелон вступал особенно грозный, оттого что вёз сокрушительную силу.
Три офицера, разделясь по платформе и накачиваясь отвагой, пошли мимо подошедших вагонов и громким начальническим тоном кричали солдатам не выходить из вагонов, потому что поезд сейчас отправляется дальше.
Если бы бородинцы тут высыпали – то всё бы развалилось, тогда неизвестно, что делать. Но была такая глубокая ночь, к четырём часам, и никто из спящих не проявил намерения вылезать из теплушек.
Эти минуты военный комитет блокировал выход из офицерского вагона, но те тоже спали, не выходили.
Воронович с помощниками вернулись с обега поезда – и теперь уверенно пошли в офицерский вагон, за ними военный комитет.
Часовые у входа и у знамени видели, что входят офицеры, и пропустили безпрекословно.
Военный комитет забил проход. Офицеры нашли командира полка и предъявили ему ультиматум не от себя, но от Государственной Думы: весь 20-тысячный гарнизон Луги примкнул к Петрограду, и всякое сопротивление будет безцельным кровопролитием. Здесь стоят орудия и откроют по эшелону огонь в упор. Предлагается полку сдать оружие. Оно будет возвращено полку во Псков, как только он туда вернётся.
Полковник лейб-бородинцев Седачёв возмутился. Но перед такою численностью и видимым контуром пушки согласился уступить превосходству силы.
Лужские офицеры тотчас попросили лейб-бородинских сдать револьверы – а холодное оружие можно сохранить. Эта уступка успокоила бородинских офицеров, и некоторые были готовы идти объяснять своим солдатам – сдать оружие.
(А тем временем подогнали маневренный паровоз к хвосту поезда, отцепили последний вагон с пулемётами и ручными гранатами, быстро угнали его в темноту.)
Солдаты отнеслись очень спокойно: ведь свои же офицеры пришли им объяснять. Стали сносить винтовки кучами на платформу.
Воронович вызвал своих, поставил у куч караулы.
Вот и всё. Эшелон был обезоружен.
Вот так побеждает революция! Она всегда имеет особенную хитрость против прежних установившихся правил. Воронович был горд, как это он всё сумел!
Солдаты ушли к себе в теплушки. Их паровоз поворачивали и перецепляли к хвосту.
Командиру полка предложили оставить тут малую группу сопровождения оружия на возврат, а остальным уезжать во Псков.
Вот-вот забрезжит, и увидят бородинцы единственную пушку без замка, два пулемёта без лент и никакой силы при вокзале.
* * *
...
Всякому вору – много простору
* * *
Второе марта Четверг
305
Штаб Северного фронта открывает путь петроградским известиям.
В начале четвёртого разбудили генерал-квартирмейстера Болдырева, вызвали в аппаратную. Всё было в табачном дыму. Рузский сидел в кресле изнеможённый, в расстёгнутом кителе. Тяжелоплечий, широколицый Данилов стоял у аппарата, сосредоточенно принимал ленту, читая вслух Главнокомандующему, или покашивался на телеграфиста, когда тот печатал с утомлённого голоса Рузского. Кивнул Болдыреву, что надо срочно составить для Ставки конспект переговора.
Болдырев взял первую часть ленты и пошёл с офицером в кабинет Данилова. Потом приносили и продолжение.
Сразу открылась историческая важность разговора, и миновала досада, что разбудили. Под погонами генерал-майора и аксельбантами генерального штаба Болдырев всею душой сочувствовал событиям, как и всякий развитой человек, и втайне хотел, чтоб они катились быстрей, грозней, неотвратимей. Его очень порадовало, что петроградские события превзошли их здешние представления, и даже ответственное министерство стало для революционного Петрограда уже ничто.
Но, как ни сочувствуя, генерал-квартирмейстер постарался изложить разговор по возможности безпристрастно. Уже пришли Рузский и Данилов и при последних строчках наседали ему на пятки. Рузский захотел выкинуть всякие подробности по династическому вопросу, исправить и в главной ленте:
– Ещё подумают, что я был посредником между Родзянкой и царём.
И попросил рельефнее выразить в изложении то, что не совсем удалось в разговоре: что вот – посланные войска уже возвращаются на фронт, и желательно, чтобы почин Государя нашёл в столице отзыв у тех, кто может остановить пожар.
Острейший разговор о желательном отречении провёл Главнокомандующий так, что и ярые легитимисты не могли бы подковырнуть. Всё вполне оставалось на месте, а Петроград слишком много сразу хочет.
Застраховался.
Однако вот он вышел из разговора, отдалялся от него, и сейчас, не скованный записью на ленту, стал понимать ситуацию шире, чем час и полчаса назад.
Во вчерашней вечерней телеграмме Алексеева, где было нагорожено всех ужасов и гибелей, говорилось…
– А ну-ка, ну-ка, где этот текст?
Да, говорилось прямо об опасности для династии . Значит, и в Ставке, независимо от Родзянки, тоже уже думали так ? А Рузский в вечернем разговоре с Государем – как-то совсем этого не акцентировал, упустил, да просто не воспринял это реальностью. Но это – так?
– А какие ещё были ночные телеграммы о положении?
Рябоватый Болдырев с бородкой «буланже» готовно поднёс. Уже после полуночи принятую им от Клембовского: известно ли штабу Северного фронта о том, что и Конвой Его Величества в полном составе прибыл в Думу и подчинился Комитету? И государыня императрица тоже как бы признаёт Думский Комитет? И Кирилл Владимирович пожелал лично прибыть в Государственную Думу. И сколько арестовано министров и сановников.
Рузский внимательно прочёл, послушал ещё добавление Болдырева о Кирилле – и на его усталом, болезненном лице глаза засверкали с задоринкой, и улыбка чуть тронула вялые губы.
И Болдырев охотно перенял улыбку.
В самом деле, несмотря на тяжёлую безсонную ночь, какая-то веселоватая лёгкость овладевала ими.
Да что за Верховный? Разве не был для всех них троих Николай Второй – посредственный полковник, даже не кончавший Академии Генерального штаба?
И Данилов уловил. И сказал в тон:
– Да вот Ставка очень безпокоится о свободном движении литерных поездов.
Рузский вздохнул измученно:
– Ну, мне надо же поспать. Мне скоро на доклад к Государю.
Разошлись. Болдырев сел передавать свою сводку в Могилёв.
Затем – оговорку, что, поскольку царский манифест об ответственном министерстве признан в Петрограде устарелым, а Государю о ночном разговоре будет доложено только часов в 10 утра, – было бы более осторожным не публиковать подписанного манифеста до дополнительного указания Его Величества.
И пошёл досыпать, был уже шестой час утра.
Но на первом же засыпе адъютант разбудил его. Срочно требовал приёма военный цензор.
На этот раз до того каменно не хотелось вставать, не хотелось одеваться, – так и пошёл к цензору в ночных чувяках и в шинели, накинутой прямо на бельё.
Не успел извиниться за свою одежду – стал извиняться цензор:
– Простите, ваше превосходительство! Но бывают случаи, когда и простой солдат вынужден потревожить генерала.
Он не без иронии это сказал. Он и военный чин имел не нижний, а в гражданской жизни был статским советником.
И от этой его шутки к Болдыреву вернулась та веселеющая лёгкость, прерванная забытьём. При таких событиях, право, грешно обижаться, что спать не дают.
А срочность цензора была та, что местная «Псковская жизнь», свежий номер был у него в руках, пользуясь отсутствием предварительной цензуры, вот напечатала все агентские телеграммы из Петрограда и все воззвания Думского Комитета.
И как же теперь быть?
Этого прорыва известий, конечно, следовало ожидать: извергался рядом целый общественный вулкан – как же он мог не набросать в соседний Псков искр и пеплу? Уже и во Пскове возникли какие-то дикие слухи, что под Поганкиными палатами сидят 20 телефонистов и что-то передают, нето царю, нето Вильгельму. Но вот газета уже была отпечатана. Можно было запретить её, целиком всю. Или – всю оставить?
Но тогда революционные известия начинали победно и открыто ступать по России?
Застигла полная неопределённость. Вообще-то, во Пскове все уже знали, что существует Временный Комитет Государственной Думы, – но не было официального признания его со стороны военных властей. А вот великий князь адмирал Кирилл – признал. И – императрица?..
Никакими предварительными распоряжениями случай не был предусмотрен. В Риге штаб 12-й армии Радко-Дмитриева своею властью запретил всякие новости из Петрограда. А как теперь штаб фронта?
Тем, что Главнокомандующий только что разговаривал с Родзянкой, Думский Комитет уже как бы получил признание и Северного фронта. А так как разговор был с разрешения императора, – так и императора?.. И к тому же воспрещение печатания новостей неизбежно вызовет во Пскове общественное негодование против штаба фронта.
Болдырев сам склонялся, что несомненно надо разрешить. Но взять на себя дозволения не мог.
Оставил цензора ждать и пошёл будить Данилова.
Данилов тяжело кряхтел, мычал, никак не просыпался. Когда же сообразил остроту вопроса – и минуты не захотел рисковать сам, пошли вместе будить Рузского. Данилов тоже не одевался, окутался одеялом. И так сел на стуле подле кровати Главнокомандующего.
Рузский проснулся легко, но не поднялся из постели. Взял очки со столика, стал читать газету лёжа.
Уже вполне проснясь, перекинулись фразами, взглядами, – на выручку им подоспел уже найденный ими весёлый, облегчающий тон. Небывало интересная газетка.
– От самого падения псковского веча такой не было! – сострил Болдырев.
И зачем же её давить?
И Главнокомандующий так понимал, они сходились.
– Только не надо и официального разрешения, – проурчал Данилов. – А просто как будто не знаем, не доглядели.
– Согласен, – подхватил Болдырев. – И тем не менее надо отважиться сообщить и в Ставку: не знали, но вот – узнали, и думаем… Пусть и они там в затылке почешут.
Понравилось. Данилов, знающий служака, понял это как защитную загородку. Согласились. Рузский остался досыпать, уже наступал на него доклад у Государя.
Болдырев отпустил цензора, оделся – и пошёл помогать Данилову составлять телеграмму в Ставку. Уже и Данилов сидел за столом в кителе и в сапогах и сочинял.
Писали так, что главкосев не видит причин препятствовать распространению тех заявлений Временного Комитета Государственной Думы, которые клонятся к успокоению населения и к приливу продовольствия.
– Юрий Никифорович, – веселился Болдырев, – а к чему, например, клонится сообщение об аресте бывших министров?
– К приливу продовольствия, – гулко прохохотал Данилов, а Болдырев громче.
306
Генерал Алексеев ждёт известий из Пскова. – Среди высших генералов крепнет мысль об отречении Государя.
В эту перевозбуждённую короткую ночь и вовсе не спалось генералу Алексееву. Он лёг с камнем, что первый раз за всю свою воинскую службу принял самовольное решение огромной важности: остановил полки Западного фронта. Самое мучительное было в его положении даже не сложность необычных, как бы совсем не военных задач, осложнённых ознобом и смутой болезни, но то, что в такие часы он был покинут и присутствием Государя и даже телеграммами Государя – и должен был действовать самоуправно, не мог не действовать! Да всё бы он легко подсчитал, доложил и распорядился, был бы только над ним человек с решающим «да» или «нет».
Лежал он, не раздеваясь, и всё ждал, что придёт от Государя согласие на разрешённую им остановку полков Западного фронта.
Не приходило. Должно быть, лёг Государь спать.
И Иванова не нашли – а Иванов, не дай Бог, набедокурит.
И ходил Алексеев, шаркая сапогами, в аппаратную: может быть, есть телеграммы, да ему не донесли?
Нет, всё было недвижно: дежурные офицеры и телеграфисты на месте, а аппарат молчал.
Молчал и о самом главном: манифест об ответственном министерстве – подписал Государь? не подписал?
И опять ложился. И чиркал спичками из постели к своим выложенным на столик карманным часам. И было без четверти четыре – и всё не шли будить, не шли с известиями. А ведь с половины третьего Рузский разговаривал с Родзянкой – и что ж, до сих пор?
И было двадцать минут пятого – и не шли будить Алексеева.
Уж так ждал тихих шагов с легчайшим позваниванием.
И было без десяти пять – и никого. Тишина.
А потом наступила напряжённая безсвязица, и куда-то Алексеев не успевал, и шёл на карачках в отчаянии, и какие-то невиданные рожи выставлялись и говорили безсмысленные загадочные фразы, и все горько упрекали Алексеева. И наконец спасительно за плечо, за плечо – вытянул Алексеева из этого тяжёлого сна —
Лукомский. Со свечой.
Алексеев отряхнул голову, с облегчением от рож, и, ничего не спрашивая, зачем-то на свои часы.
Шесть часов ровно.
– О полках? – с надеждой спросил Алексеев.
– Всё здесь, – ответил Лукомский, протягивая скруток телеграфной ленты.
И Алексеев со сна взял его, как бы тут же в постели читать, – но пальцы, ещё неловкие, обронили скруток на одеяло солдатского сукна, хорошо что не дальше, скруток не стал далеко разворачиваться и путаться.
Спустил ноги, натянул сапоги. К столу.
Отдельно подал Лукомский телеграмму изо Пскова, что Государь разрешает опубликовать манифест об ответственном министерстве.
И отдельно – совет штаба Северного фронта: воздержаться.
Читать много, Лукомский ушёл. Алексеев привычно-пригорбленно сел за стол, на плоскости которого протекала вся его жизнь, надел очки и стал терпеливо перекручивать ленту в пальцах.
Вот вкратце суть разговора Рузского и Родзянки. Эшелоны, высланные в Петроград, взбунтовались в Луге, присоединились к Государственной Думе…
Что такое? Взбунтовался не хилый лужский гарнизон? – а эшелоны? Какие?! Там мог быть только один Бородинский полк… И он – взбунтовался?? Ого-го… Тогда – на кого ж можно положиться? Ну конечно, да, эта игра с посылкой войск на свою же столицу не могла довести до доброго.
…Разбушевавшиеся народные страсти… В Петрограде верят пока только Родзянке и только его приказания исполняют…
Да, вот посмеивались над ним, а он оказался мужественный, твёрдый человек, и с властной силой над толпой, над анархией.
…Рузский передал Родзянке текст манифеста… Но в ответ: наступила одна из страшнейших революций, и даже Председателю Думы не удаётся… Ненависть к императрице дошла до крайних…
Это можно понять. Государыню императрицу и Алексеев сам терпеть не мог, кто её мог… Но что ж, общественное министерство, в таких муках добытое, отпадает не появясь? Что же тогда?..
И лента отвечала страшно: династический вопрос поставлен ребром. Толпа и войска предъявляют требование отречения !..
Похолодели руки, и опять развернулся скруток больше надобного. Пока распутал, подровнял… Затаённое в шёпотах и тёмных углах, это слово прорезалось в служебную ленту Ставки! Мысль, может быть, и курилась во многих грудях, – но вот её выдуло сильным дыханием Родзянки.
… Отречения в пользу сына при регентстве Михаила Александровича.
А Родзянко – в гуще событий, ему видней. И при этом:
…Толпа и войска решили твёрдо войну довести до победного конца…
Так – разумная толпа. Разумные войска. Чтó мы обязаны спасти при всех обстоятельствах – это армию и победу.
…И требовал Родзянко: прекратить посылку войск на Петроград! И Рузский отвечал, что по Северному фронту уже сделано такое распоряжение.
Немного легче стало с собственным распоряжением Алексеева. Да! Воевать против своих тыловых городов – недостойно армии.
Но всё же хотелось бы получить подтверждение от Государя.
Лента была – вся. Подпись – Данилов, 5 часов 30 минут.
Но – та же больная смешанность расстилалась в голове. И та же тьма на улице, при лампе не видно рассвета.
И – что теперь делать? И – что решать?..
Да, военному присяжному человеку невозможно такую мысль к себе припустить. Дико-необычная, мятежная эта мысль у кого-то в грудях вылёживалась, вытепливалась, – а вот и прорвалась через Председателя Думы.
Военному человеку невозможно такую мысль… Но она и предложена не ему, а самому Государю.
Государю решать, – а что другое ему решить, если такое настроение двух столиц, и Кронштадта, и Гельсингфорса, – а Государь уже отказался от посылки войск?
Какие бы государственные сотрясения ни были нам суждены – задача в том, чтоб они произошли как можно глаже, не сотрясая фронта. Если уж изменениям неизбежно быть – то как можно глаже.
Боже, сохрани Россию!
Этот выход всегда остаётся у верующего человека, и Алексееву он очень был понятен и доступен: молиться. Он опустился на коврик перед иконой – и молился.
Просил Господа послать вразумление Государю, чтоб он принял наилучший спасительный выход. Сохранить державную силу нашей армии перед врагом. И рабу Михаилу послать облегчение, освобождение от неразрешимости.
Встал с колен – успокоенней, легче. Но – один, сам по себе, не мог он дальше быть и думать. Пригласил Лукомского через ординарца.
А тот пришёл уже не сонный, а свежий, дневной, румяный, плотно здоровый, со своим единственным в русской армии орденом Владимира на георгиевской ленте (за мобилизацию), вид даже довольный, и даже глаза поблескивают. Как раз в здоровьи больше всего и нуждался сейчас изнеможённый Алексеев. Спросил с мучением:
– А что думаете вы, Александр Сергеич?
– Я? – уверенным, плотным голосом отвечал Лукомский. – Тут, Михаил Васильевич, по-моему, и думать нечего. И никакого другого выхода быть не может. Раз так уже подошло – значит отречение!
Так прямо и сказал. И от этой его лёгкости куда легче стало и Алексееву. Передатчивая мысль! Никогда он такого не задумывал, никогда такого в себе не носил, – а вот уже эта мысль и усваивалась им. И виделась – спасительность её.
– И как можно идти на конфликт с общественными силами? – добавил Алексеев встречно. – Ведь Земгор, добровольные организации могут лишить нас всякого подвоза, всё в их руках.
– О конфликте – не может быть речи! – воскликнул Лукомский со своей комичной утвердительностью. Когда он хотел сказать особенно авторитетно, всегда получалось смешновато. – Конфликт уже отменён отзывом войск. Так и нет другого выхода, как миролюбивое соглашение. А у Государя – тем более выхода нет: ведь царская семья – в руках революционеров, что ж ему остаётся делать, ну посудите!
– А если начнётся междуусобная война, – кивал Алексеев, – так Россия погибнет под ударами Германии.
– И погибнет династия! – воодушевлённо возглашал Лукомский. – Династию – всё равно он не спасёт. Так разумно уступить сейчас только своё место – и спасти династию!
Да. Получалось так, со всех сторон, удивительно кругло. Действительно, какой выход! – и лёгкий, безболезненный. И быстрый, всего несколько часов, одна тихая подпись – и армия стоит, не трогается. И война продолжается как ни в чём не бывало, и Германия не выиграла ничего.
Но тогда, была следующая мысль Алексеева: что же делает Рузский? Начал ли он действовать? доложил ли Государю?
Уже нет сомнения, что и Рузский думает так же, как они. Но надо, чтоб он действовал. Надо ускорить события во Пскове. Государю тоже потребуется время привыкнуть к этой мысли.
Лукомский пошёл к аппарату – будить Данилова, будить Рузского, чтобы тот поскорее будил Государя и докладывал бы ему ночной разговор, – этикеты должны быть отброшены, нынешняя неопределённость положения хуже всего, и грозит армии анархией.
Так и передал от генерала Алексеева, что просит действовать безотлагательно. А потом, не имея такого поручения от наштаверха, но уже убеждённый в его согласии, напечатал Данилову:
– Это официально. А теперь прошу тебя доложить генералу Рузскому от меня: что, по моему глубокому убеждению, выбора нет и отречение должно состояться.
А передаваясь от уст к устам, эта мысль незаметно крепла. Родзянко говорил только, что грозное требование отречения становится всё определённей, он не говорил ещё, что непременно и неизбежно.
Но конечно неизбежно, передавал Лукомский: если царская семья уже в руках мятежных войск, царскосельский дворец занят ими, опасность грозит царским детям. И династия же погибнет при междуусобице.
– Мне больно это сказать, но другого выхода нет.
Подхваченная мысль Родзянки – сильнела, крепла, уже ревела.
Данилов, с той стороны, оберегал Рузского: не станет будить его, он лишь недавно лёг, и скоро ему вставать, доклад у Государя состоится в половине десятого. Да и выражал Данилов большое сомнение, можно ли такое решение вытянуть из Государя, – едва ли! Если даже ответственное министерство вытягивали до двух часов ночи. Время будет только тянуться и тянуться безнадёжно. А с другой стороны – нельзя и рассчитывать, чтобы Государь сохранился на троне.
Как всегда, к главному событию припутывались и другие. Тут же Данилов жаловался на посылку генерала Иванова, осложнившую всё положение. И сообщал, что Рузский распорядился по Северному фронту не задерживать извещений Думского Комитета, которых потоки всё равно остановить нельзя, – да если они клонятся к сохранению спокойствия и приливу продовольствия.
Лукомский отправился с результатами к Алексееву.
Уже не раз замечал Лукомский за Алексеевым такую особенность: если возникало сразу несколько вопросов, то Алексеев кидался уладить сперва мелкие, он нуждался в упорядочении общей картины. Так и сейчас, прочтя ленту разговора, он ничего не добавил по дрожащему вопросу об отречении, – впрочем, от них сейчас ничего и не зависело. Но с большой тревогой и хлопотливостью отнёсся к пропуску известий из Петрограда и к задержке Иванова, – впрочем, тут только и можно было действовать.
Насчёт революционных известий лежала у них с ночи совсем противоположная телеграмма Эверта: весь этот поток задерживать! А Рузский теперь вот – всё пропускал. Надо было избрать линию.
В духе доброжелательности к Думскому Комитету и если ожидать от Государя дальнейших уступок и даже отречения – конечно, прав Рузский.
И велел Алексеев дать тотчас распоряжение на Западный фронт и на Юго-Западный: пропускать и разрешать к печати те заявления Комитета Государственной Думы, которые клонятся к успокоению, порядку и усилению подвоза продовольственных припасов.
А Иванов?.. Хотя Иванов подчинялся только Верховному Главнокомандующему, но по положению Полевого Управления войск начальник штаба в случае болезни Верховного управляет вооружёнными силами его именем (а в случае смерти и заступает его место). Нынешняя отлучка Верховного была как бы похожа на болезнь. И во всяком случае, если Иванов где-нибудь что-нибудь упустит или вступит в столкновение – Петроград, Дума и общество не простят этого именно Алексееву.
А Иванов – грозно исчез, без следа, не прислал ни одного донесения, неизвестно где находится – и может быть, уже предпринимает непоправимое.
Но найти и остановить Иванова можно было только с помощью штаба Северного фронта. И Алексеев этим тотчас занялся, и собственноручно написал телеграмму Данилову: командировать офицера через Дно для установления связи с генералом Ивановым.
А Северный фронт не отвечал за действия Иванова – и не спешил выполнять, и даже выразил сомнение в полезности такого действия. Тогда Алексеев доедчиво распорядился послать вторичное распоряжение. Тогда Болдырев, оттягивая, запросил: а в чём должно выразиться поручение офицеру? А если он не сможет дотичь генерала Иванова?
И тогда третий раз послали из Ставки: командировать офицера! и найти генерал-адъютанта Иванова. И получить от него все сведения о его намерениях и обстановке.
А ещё распорядился генерал Алексеев проверить странное сообщение Родзянки, что будто Луга захвачена отрядами посланных с фронта войск. Разве не взбунтовавшимся лужским гарнизоном?
307
Жизнь Милюкова. – Комбинации по созданию правительства.
Политические карьеры складываются не так, как жизнь ремесленника, учёного или писателя. У всех тех вид деятельности не меняется в начале и в конце жизни, идёт от изделия к изделию, от книги к книге. Они могут быть более удачны или менее, принести своему автору деньги, славу или нет, но уже в юности видно, чем этот человек будет заниматься, как он будет называться: жестянщик, ботаник или поэт.
А вот рождение политических карьер, кроме несправедливой наследственной монархии, совершенно непредсказуемо. Не может сам мальчик заявить: «готовлюсь быть премьер-министром», ни в семье не могут сказать: «будем готовить из него депутата парламента, лидера оппозиции». Многие неведомо начинают даже совсем не с политического направления, а с какого-то смежного, постороннего, – но вдруг, загадочно, отчасти благоприятным стечением обстоятельств, а больше, конечно, личными качествами кандидата и его внутренней предназначенностью, – стёклышки судьбы калейдоскопически перекладываются – и человек почти внезапно (для других, не для себя) становится известным политическим деятелем.
Мальчик может расти в семье безудачливого архитектора; бывать свидетелем, как мать бросает в отца тарелки; вырасти безо всякой душевной связи с родителями, так что потом смерти отца почти не заметить, а с матерью не повидаться и не примириться. Школьное прозвище мальчика может быть «Кенгуру», он мало сойдётся с одноклассниками и даже будет фискалить на родного брата (с братом тоже чужд). Когда ему запрещают играть с детьми бедных соседей – он не играет, когда его сверстники лазят через забор трясти яблоневый сад – он благоразумно держится по эту сторону забора. Наш мальчик может писать в детстве стихи и охотно учиться на скрипке. На короткое время его даже может привлечь церковный обряд, и он без принуждения зачастит в церковь Иоанна Предтечи на Староконюшенном, – но, никем не поддержанный, вскоре и бросит, тем более что справку об исповеди и причастии, нужную гимназическому начальству, получить совсем легко: батюшке слушать грехи некогда, и он накроет епитрахилью в кредит. В гимназии нашего мальчика потянет классическая древность, он будет преуспевать в ней, хотя и кончит лишь с серебряною медалью. Неотразимее же всего на него подействуют ирония и сарказм Вольтера и помогут ему осмысленно-отрицательно отнестись к формальностям религии. Ещё и Спенсер увеличит его сомнения в традиционной религиозности. Жизнь интеллекта приподымет его над жизнью чувства, и юноша мало будет замечать соседствующие женские существа. На какое-то время он разделит и всеобщественное увлечение освобождением южных славян – и в турецкую войну побудет на Кавказе санитаром тылового госпиталя. Он – никак ещё не склоняется к политике, он, кажется, никак ещё не занимается политической деятельностью, – однако за речь на студенческой сходке в 22 года исключён на год из университета. Внутренне он просто рад, что при Александре III прекратилась политическая деятельность студенчества: она жестоко мешает заниматься научной работой. Усвоенная классическая и западная струя, однако, по мнению его руководителя профессора Ключевского, мешает нашему юноше проникнуться духом русской истории, – и остаться при университете по кафедре русской истории молодому человеку приходится вопреки своему учителю. За молодые годы не насыщенные сердечные волнения – так и засохли, почти не завязавшись, молодой человек женится по сходству свободолюбивых и скрипичных склонностей, а затем в пору рождаются у него один сын и второй, мало замечаемые. При первых своих уроках в гимназии, при первых лекциях в университете молодой лектор волнуется, его лицо ещё вспыхивает густым румянцем, – потом это качество стирается. Все годы он очень много покупает книг по истории, и квартира его похожа на лавку букиниста. Ему – 35 лет, кажется навсегда установился регулятив его частного мира, и теперь всё будет варьироваться лишь в том, какие именно и насколько оригинальные исследования ему удадутся.
Но нет! И в треть столетия мы могли не прозреть сами в себе наших политических амбиций. А стёклышки калейдоскопа ещё ведь даже не начинали складываться. Да будучи историком, как уберечься от сравнений, от оценок, от прогнозов, уже политических, – особенно перед такой политически жадной публикой, как русская интеллигенция в провинции (Нижний Новгород, выездные лекции). И начинается следствие, и только поднявши на ноги в защиту весь либеральный Петербург, удаётся получить для ссылки тихую, но губернскую Рязань, – а профессорские «Русские ведомости», самая умная и передовая газета России, теперь оценивает изгнанника, предлагает ему постоянное сотрудничество и фиксированный оклад. Мирные, счастливые два года рязанской ссылки.
А тем временем элементы судьбы цепляются друг за друга и перекладываются. Оконченное следствие угрожает годом тюрьмы, но разрешается выбрать вместо тюрьмы два года заграничной поездки. Разумеется так. А изгнание только начни (лекции в Софии, поездки по Балканам, за океан, лекции в Чикаго, в Бостоне, исследования в Англии) – и меняешься ты сам, и меняется повсюду взгляд на тебя: Соединённым Штатам ты открываешь глаза, что Россия – в кризисе, и даже назревает в ней катастрофа, что культура в ней примитивна, слабые стороны России неисчислимы, славянофильство умерло, идея национальная разложилась и не воскреснет. Также и с английскими коллегами ты делишь этот взгляд: что русский путь только тем и отличается от европейского, что задержан.
Ты плывёшь в полюбившуюся Америку ещё раз и ещё раз, ты иногда возвращаешься и в Россию, – а здесь за время изгнания и отлучек ты, оказывается, приобрёл громкую славу политика, и уже никак тебе не стать прежним скромным профессором. Да уже и самому не замкнуться рядами коричневеющих книг, тебя уже слишком волнует общественная арена, на которую ты вышел, и ты уже ищешь себе точное название: в свободолюбивой устоявшейся Англии можно разрешить себе быть либералом – но в катастрофической России неизбежен радикализм. А ещё ты обнаруживаешь в себе качество, которым никак не владеют твои единомышленники и сподвижники: твою почти обречённость быть вождём. Где бы ты ни появлялся – почти без усилий выдвигаешься в первый ряд и на первое место, первый лектор, первый диспутант, первый организатор. Никогда не быв земцем – ты вдруг становишься идеологом революционно-преображённого земского движения. Никогда не быв революционером – заседаешь и с ними. (Да разве не революционному движению мы обязаны всеми важнейшими завоеваниями свободы?) Не кого другого, как тебя, первый съезд кадетской партии поднимает на стол с бокалом шампанского, ожидая чествования Манифеста 17 октября, – а ты выливаешь на слушателей ушат холодной воды: что не изменилось ничто и война с правительством продолжается. И вот – ты из первых, кому Витте предлагает принять министерский пост. Ты – безсменный передовик кадетской «Речи». Ты – первый докладчик на кадетских съездах, и лишь административной уловкой лишён попасть в 1-ю Думу. Ты ещё никто в 1906 и 1907 году – а тебя снова и снова зовут на тайные переговоры о создании правительства, – и ты с превосходством объясняешь деятелям реакции: «Если я дам пятак – общество будет готово принять его за рубль. А вы предложите и рубль – его не примут за пятак».
И уже казалось: чудо – произошло! Непредвиденное – определилось! Стёклышки сами сложились если не в премьер-министра, то в министра иностранных дел! Но…
Но тем же неизъяснимым капризом истории помазок с блинным маслом, едва пройдя по губам, – исчезает, и нет ни сковородки, ни первого даже блина. Всё исчезает, и ни много ни мало – на полных десять лет.
В такие десять лет другой, случайный, непризванный, давно потеряет мужество, надежду, сойдёт с круга. Но тот, кто истинно рождён политиком, хотя б и узнал об этом в поздние годы, тот будет самыми малыми шагами, терпеливыми ногами переступать, переёрзывать или перестаивать, не брезговать работою думских комиссий, скучнейшими темами речей, в соперничестве с коллегами по партии удержит и бразды лидерства в партии, и станет лидером Прогрессивного блока, и целой Думы, – и…
И снова может ничего не состояться! Уже подходит 60 лет, уже недалеко и возрастное слабение. Все твои усилия, все таланты, всё терпение – всё может так и прогрохотать впустую, такова пучина политики. Всё может лопнуть, исчезнуть, стереться – если в роковой момент не вздунет тебе под плечи и в спину внезапный порыв благоприятного ветра.
Такой красный порыв и рванул 27 февраля – и уже к первой ночи Милюков был почти во главе Временного Комитета Думы, своим настоянием заставил его взять власть. А три минувших ночи и два минувших дня, осторожным боковым движением выходя из-под защитной спины Родзянки, только и думал, как взять всероссийскую власть.
Он с несомненностью понял, что наступили высшие дни его карьеры, венец всей жизни, теперь или никогда. А сегодняшний день, 2 марта, проступал и определялся как самый великий день жизни Милюкова. Для этого дня он и жил 58 лет!
Начавшаяся революция могла быть подавлена внешними войсками – но когда этого не случилось к концу третьего, вчерашнего дня, можно было определить, что уже и не случится. Противодействие можно было ожидать от старого правительства в самом Петрограде – но оно сдунулось, рассыпалось в первый же день. Губительный раздор мог возникнуть с революционным советским крылом – но на сегодняшних истязательных ночных переговорах, хотя и не оконченных, Милюков пробился, ощутил, что настоящего сопротивления нет.
В пятом часу утра он пал на стол, на подстеленную свою шубу, – даже его железная выдержка больше уже не брала.
После восьми он проснулся – и ещё полежал, притворяясь спящим, чтоб не сразу вступить в разговоры, – а в проснувшуюся голову вошла ясность: с этой ночи, с этого утра ничто уже не мешает ему создать всероссийское правительство! Это не важно, что они не кончили переговоров: формированию самого правительства уже не мешало ничто. Все препятствия отпали. Осталось только: уладить состав министров.
Только! Это и было из самых замысловатых задач, в непрерывном перевитии кем-то тайно подуманного, кем-то открыто высказанного, кем-то предположенного, намёкнутого, допущенного, – и между всем этим надо было проскальзывать, где-то обрубать, где-то поддакивать. Да можно сказать, что все эти три дня, от начала революции, ничем другим и не была занята голова Павла Николаевича, а только: как составить правительство? как этот весь хоровод кандидатов правильно разместить и кого на какое место посадить? Внешне участвуя с думцами и в других обсуждениях, внутренне Павел Николаевич стянулся только на этом одном. И ночные переговоры с Советом он так легко пересидел именно потому, что советские не претендовали ни на один министерский пост.
Прежние проекты правительства народного доверия, проекты времён Прогрессивного блока, – были составлены к абстрактной обстановке и не могли пройти неповреждёнными через революционные дни. Все силы, по новому разбросанные, по-новому же каждый час тяготели, тянули и отталкивали, – и это каждый час меняло предполагаемый состав правительства – до того официального часа, когда оно вдруг будет объявлено и станет существовать.
И все эти непрерывные изменения и все прожигающие проекты и кандидатуры жили и двигались в голове Милюкова – и только о них он шептался эти дни, а о некоторых решал молча.
Самым несчастным наследием прежних проектов был тут, конечно, князь Львов: и потому, что уже сейчас, с его позавчерашнего приезда, было отчётливо видно, что он шляпа, и потому, что именно законное премьерское место Милюкова он занимал. Но было бы большое общественное неудобство теперь его менять: давление общественного мнения, традиция Земского союза и то парадоксальное обстоятельство, что именно Милюков-то и выдвинул его кандидатуру, вышибая Родзянку. Ну что ж, с этим следовало мудро пока смириться, всё равно решающее место в правительстве будет занимать Милюков, а через несколько месяцев он, вероятно, и совсем отодвинет Львова.
Уж во всяком случае эти дни – бывал ли тут, в Таврическом, князь Львов, мелькал отчасти, – он не имел влияния на подготовку правительства, и с ним Милюков не советовался, только из вежливости что-нибудь цедил.
Родзянко тоже отыгрывал до конца свою роль, очень небезполезную в прошедшие дни, и с каждым часом оттирался на второй план. К счастью, благодаря своему природному незлобию и неспособности к интригам, он не был Милюкову ни противником, ни препятствием.
Затем: уверенный вход Гучкова. Гучков пришёл в Таврический и входил во власть, собственно никого об этом не спрашивая, но как исторический борец против старого правительства, а также, всем известно, – в пяти минутах от несостоявшегося дворцового переворота. Извечный антагонист Милюкова и даже личный враг, Гучков обещал быть трудным компаньоном в правительстве, но, может быть, тут были и свои плюсы. Два сильных антагониста, как два магнитных полюса, они могли создать правительству устойчивость. Милюков – реальный политик, и когда это нужно для дела – он может изменить и свои привязанности и свои отталкивания.
А неизбежность принять вереницу Коновалов-Некрасов-Терещенко-Керенский оборачивалась и облегчением для умелого политика: теперь с глубоким огорчением он должен будет отказаться от своих дорогих товарищей по партии – не приглашать Маклакова, Винавера, Родичева. Никак нельзя было бы отказать соратникам, придя с ними вместе на гребень победы, – но если таковы непреодолимые обстоятельства? Пока кадеты боролись против прежнего правительства – каждый такой оратор, деятель, борец был на вес золота. Но сейчас, как ни обдумывал Павел Николаевич этих лиц, он почти не мог увидеть их на правильных правительственных местах, а скорее видел в них помеху своей будущей деятельности: каждый из них слишком индивидуален, со своими странностями, капризами или отклонениями, со своими претензиями блеснуть, сверкнуть, собрать популярность (и это очень им удаётся), – но в правительственной упряжке такой разнобой популярностей может только ослабить, привести к избыточным спорам, взаимным убеждениям, на которые не останется времени. И так внутри правительства скорее создастся шаткость и разнобой. Конечно, эффектно было бы придать будущему правительству блеск введением этой плеяды, но функционирование его не выиграет. А тут – клин вышибался клином: не по капризу, а принуждённо принимая этих чужих, – приходилось потеснить своих кадетов.
Да вот даже для безотказного Шингарёва оставалось ли место? Он предполагался министром финансов – но Терещенко, все достоинства которого, кроме знания балета, сходились именно к его богатству, какой же мог занять пост, кроме министра финансов? Шингарёва отставлять было жалко, потому что изрядный работник, но с трудом ему что-то выкраивалось.
Для новосоздаваемого правительства Керенский становился даже как бы ключевой фигурой: в его лице правительство вырывало себе от революции её главаря, а само, расширившись на революционное крыло демократии, приобретало устойчивость. Тем более был необходим Керенский, что Чхеидзе отказался.
Переговоры с Керенским были самые секретные, он очень скрывался от своих товарищей по Совету. То мрачно предсказывал, что ему не позволят войти. То пылко обещал, но требовал тайны до последнего момента. И до самых последних часов вся картина зависела от окончательного решения Керенского.
Именно сегодня утром он позвал Милюкова к телефону. Он доночёвывал где-то, не дома, и теперь бодрым голосом говорил оттуда, что вот – согласен безповоротно! Но и по-прежнему просит не говорить никому до последней минуты, пока он ещё не обезвредит своих противников.
Оставалось теперь – ещё этого подождать. Будет сигнал.
Освободилась голова от последнего расчёта – и посмотрел Милюков на себя в зеркало. Мят, небрит, рубашка несвежая, никак не подходил он к своему великому дню. Надо сходить пока домой на Бассейную, помыться, переодеться.
На улице стоял ярко-солнечный, морозный, весёлый день.
308
Обращение Ставки к Главнокомандующим в поддержку отречения.Мало того, что генерал Алексеев остался за Верховного Главнокомандующего – но и всю общероссийскую судьбу он должен был отомкнуть или помочь отомкнуть. А он никогда не готовился к этому.
Да ещё больной. Может быть в здоровом состоянии он ухватил бы ясней.
Сейчас там, во Пскове, уже началось уговаривание Государя – и, конечно, будет долгое, нудное, как предсказал Данилов.
И Алексеев чувствовал на себе бремя что-то предпринять, помочь делу из Ставки, помочь благополучному разрешению. Но как? Будь Государь сейчас здесь – Алексеев ходил бы к нему в дом с телеграммами, а между ними в чём-то помогал бы советами, осторожно и внушал. Но Государь уехал – как дезертировал. И оставил всё на плечах Алексеева, обязывая его на собственные действия по каждому событию.
Алексеев же, хотя каждый день делал всё, как усматривал, и не встречал возражений от Государя, а вот, оказывается, совсем один – не мог.
С кем-то нуждался он разделить эту тяжесть.
С кем же? Самостоятельны и равны наштаверху по должности – только Главнокомандующие фронтами и флотами.
Это – мысль! Да за последние дни Родзянко уже и обращался непосредственно к Главнокомандующим, он уже и втянул их в обсуждение государственных дел. Так естественно было именно с ними это обсуждение продолжить? Вот и облегчить свою задачу. Рузский – всё равно уже знает, и что ж таить от других?
Мысль очень понравилась Алексееву. Она разгружала его от невыносимого давления ответственности.
Когда к Главнокомандующим апеллировал сторонний штатский Родзянко – это было возмутительное вмешательство в армейскую иерархию. Но если так обратятся из самой Ставки, это будет только – почёт и уважение к Главнокомандующим. Отчего, правда, и не обратиться к ним сейчас с назревшим роковым вопросом? Из Главнокомандующих получить тот синклит, тот высший совет, тот особый военный парламент, чьё соединённое мнение и поможет Государю советом в трудную минуту, и в какой-то степени обяжет его не колебаться безконечно.
А по вчерашним переговорам и выражениям Алексеев мог быть уверен, что и Брусилов, и Рузский, и Непенин смотрят на положение трезво, без избыточной верноподданнической робости.
Задумал так Алексеев – и сразу принял. Сказал Лукомскому – тот очень поддержал. И закипела у них работа: составлять циркулярное письмо Главнокомандующим. Составить и убедительное, и быстро.
Мощный голос Родзянки в задышке петроградских страхов вдохнулся в это письмо. Мысль умнейших людей столицы передала ставочным генералам провальную безповоротность отречения. Да и как они сами до сегодняшнего утра не видели, что уже не об ответственном министерстве речь, но ребром поставлен династический вопрос? Что войну до победного конца теперь только и можно будет продолжать, если выполнить народное требование отречения.
И, смешивая свой голос с голосом Родзянки, Алексеев, незаметно для себя, теперь разъяснял, добавлял ещё и от себя, что обстановка, по-видимому, не допускает другого решения. Что само существование Действующей армии и работа железных дорог находятся фактически в руках петроградского временного правительства. И чтобы спасти армию и спасти независимость России – нужны дорогие уступки.
Прихмуренный, даже выздоровевший, Алексеев быстро-быстро исписывал лист, – он и всегда быстро писал и не слишком затруднялся в подборе выражений. А Лукомский облокотился рядом о стол и удачно, к месту, подкреплял его советами. И с каждой написанной фразой Алексеев не только всё больше сам уверялся, но даже и загорался этой идеей: как легко можно выйти из ужасной трудности, и не проливши ни капли крови.
И под его пером ночной взбрык Родзянки преобразовался почти в военный приказ: не благоволит ли Главнокомандующий телеграфировать весьма спешно свою верноподданническую просьбу непосредственно Его Величеству во Псков, копия наштаверху?
И ещё снова, боясь, что документ не вполне отчётлив: потеря каждой минуты может стать роковой для существования России, между высшими начальниками Действующей армии нужно установить единство мысли. Такое решение избавило бы армию от возможных случаев измены долгу, от искушения принять участие в перевороте, – который, однако, может безболезненно совершиться решением самого Государя.
Теперь так. Рузскому – первому готовую телеграмму, он всё знает. На Кавказский фронт и во флоты, по трудности связи, – телеграммы. А три оставшихся фронта разделить между нами тремя, чтобы не терять времени, и одновременно всем троим провести убедительный аппаратный разговор с самими Главнокомандующими.
Но так устал Алексеев, что предполагаемых тяжёлых собеседников – Эверта и Сахарова – передал своим помощникам. А себе избрал лёгкого Брусилова.
И Брусилов с первых слов поддержал надежду:
– Имею честь кланяться. Что прикажете?
Передавая текст, Алексеев следовал единому для всех написанному, но кое-где добавлял и от себя, как в живом разговоре. Запнулся в одном месте, изменил:
– …Обстановка – туманная… Но, по-видимому, не допускает другого решения. И каждая минута дальнейших колебаний только может повысить притязания…
И ещё доверительно добавил, что опасается козней исчезнувшего Иванова, который может испортить весь миролюбивый замысел. Тут как раз поднесли бумажку, что Иванов возвращается в Ставку, но наштаверх не очень этому поверил.
И – потекло от Брусилова в ответ, так и слышался его бодрый тонкий готовный голос:
– Совершенно с вами согласен. Колебаться нельзя. Время не терпит. Немедленно телеграфирую всеподданнейшую просьбу. Совершенно разделяю все ваши воззрения. Тут двух мнений быть не может!
– Да! – обрадовался Алексеев. – Будем действовать согласно. Только в этом возможность пережить с армией ту болезнь, которой страдает Россия, и не дать заразе прикоснуться к армии.
Лёгкий человек Брусилов!
– Да, между нами должна быть полная солидарность. И! – не забыл ввернуть тот, – считаю вас по закону Верховным Главнокомандующим, пока не будет другого распоряжения.
Ну уж, слишком дальновидно. А Алексеев не успел с утра и подумать: ведь если отречение – то как же будет с постом Верховного?.. Но всем этим действием вовсе не искал себе Алексеев поста. Даже больше: не разгибая тут спины многие месяцы, он внутренне был вполне и с тем примирён, что когда наступит полоса боевых успехов – его сменят кем-нибудь более видным и блестящим.
Когда возвышались другие – он сохранял спокойствие духа.* * *
...
Ой, жги, говори, до-го-ва-ри-вай!
* * *
309
Тяжкое утро Государя. – Узнаёт от Рузского ночные новости. – И Конвой!.. – Запрос Алексеева. – Облегчение отречься.
Ночь – неполная и обманно покойная. На короткие часы сон обмыкает футляром, и спится так, будто ничего дурного не происходит. Но уже при первом пробуждении грудь беззащитна, как выгрызена, как будто нет у неё передней перегородки до горла, а вся она – рваная ноющая полость. И хочется спастись, уйти назад в сон, – а он уже не принимает.
И даже, пока окончательно не проснёшься, ещё разрывней и мучительней, чем на полном яву, с открытыми глазами, перебирая уже точными вопросами: что – в Царском? Аликс и дети в опасности. Невозможно к ним доехать. Вчера капитулировал и дал ответственное министерство. Но даже (шевелится боязливое предчувствие) ещё хорошо, если всё на этом успокоится.
Хотя ночной разговор с Рузским как будто пришёл ко всеобщему примирению, а к утру выставилась из него безнадёжность.
Подниматься ещё потому так тяжело, что день не приводит близких людей, с кем бы можно посоветоваться. Свита – пустота: нет в ней близкого человека. Как он с такой свитой жил годами?..
И от Аликс – никаких сведений. Поездкою думал соединиться, а разорвался.
Молитва. В покинутости, в безвыходности одна она укрепляет. Стоишь и чувствуешь, как она возвращает силы, растекшиеся ночью из опрокинутого тела.
Сколько уже было несчастий в его жизни? К чему ещё он может быть не готов?
С утра погода ещё мутна, не определилось, будет ли солнце.
А под царский поезд на запасном пути за ночь намело снежка.
Против окна, через две платформы, – водокачка. Рядом с ней – серое каменное служебное здание. И отцепленная бочка-цистерна.
Проглотил безо вкуса кофе.
На станции, поблизости от царских поездов, всё оставалось мирно: никаких угрожающих сборищ, никакой и дополнительной охраны. Приходили поезда из Петрограда и уходили на Петроград. Только рассказывали приезжающие из столицы (свита перехватывала), что там разоружают офицеров, иногда стрельба, масса войск на улицах и многие идут к Думе.
А по другую, не станционную, сторону от царского поезда проходили длинные деловые товарные, таща свои грузы, такие всем необходимые.
А сам фронт не чувствовался во Пскове: город был далёк от двинских передовых позиций.
Хотелось бы Государю погулять по перрону, но было неловко обращать на себя внимание.
Удел его оставался: сидеть в вагоне и ждать новостей.
Уже и недолго: вот приехал с докладом Рузский.
Как всегда сдерживая всякое выражение, сдерживал Государь и выражение надежды, с которым встретил этого странного генерала с оловянными глазами и остро выставленной мордочкой, а вместе с тем – интеллигента по Чехову. Бушевал ли Родзянко от радости за ответственное министерство? Да не прикатит ли скоро и сам толстяк с причудным составом Совета министров?
Рузский держался важно и берёг слова. Представил Государю на листах расклеенную ленту ночного разговора. (И удивился, как царь за ночь ещё покоричневел и ещё прорезались овальные глазные подводы, как рытвины, в сером свете вагона.)
Сели. Государь стал про себя читать. Медленно, так медленно, фразы не укладывались. Простая работа грамоты – читать печатные буквы, вдруг стала ему трудна.
– Нет, – попросил. – Читайте вы, Николай Владимирович.
Рузский взялся читать – монотонно и с перерывами, как учитель, чтобы его усваивали.
Ах, тáк Николай и предчувствовал, так теперь и осел: его высшая жертва, ответственное министерство, – отвергнута! Опоздало…
Одна из страшнейших революций?! Вообразить ли, что там творится!
И что в Царском?..
Но подкреплял себя, что этот шут Родзянко может всё и наворачивать, по своему размаху. Такого-то ужаса может и нет, а добавляет, чтобы добавить себе потом заслуг, как он справился.
Но когда Рузский прочёл, что династический вопрос стал ребром , – и колко выговорил это слово, – это ребро кривым сверлом прошло наискось через государеву грудь.
И не оставалось долго загадкой, тут же и разъяснение: отречься в пользу сына при регентстве Михаила.
Отречение???
Вдруг от него ждали – отречения?!
Это никак не помещалось. При живом здоровом отце – искусственное регентство? Зачем?
Что-то стало ещё труднее вникать. Однако смысла уже и не могло добавиться, – куда же дальше?
Государь встал. (Встал и Рузский.)
Прошёлся к окну. Смотрел на безсмысленный перрон.
На водокачку. На серое здание. Одинокую цистерну.
Вдруг – как бы ознобляющая сень необъятного просторного шатра распахнулась над ним. Полное отречение? Боже, да ведь в этом есть даже святость.
Вам так хочется давно? Вам так надо? Ну, возьмите.
Правьте. Если вы думаете, что это сладость. Кого так манит власть. Кто до неё так жаден.
Отречение? Взмах щедрой руки. Это – не мелкая торговля об ответственном министерстве, не сгибание монаршей шеи под хомут Думы.
Отречение – освобождение. Других – от себя. Себя – от неподымного бремени.
Уж теперь-то, согласясь на ответственное министерство, – естественно и отойти?
И – отшатнулся: нет, это – искушение. Блаженное искушение. Он – помазанник, как он волен?
Что ж – Михаил? Куда Михаил? Вся его безпутная история с Брасовой, неспособность бороться со страстью. После смерти Георгия и до рождения Алексея считался наследником, но никогда серьёзно не готовился к трону. А в эти последние дни кто-то научил его вмешаться.
Георгий! Как несчастно и рано! И в грузинских горах, как и не на родине, в Абастумане, где он упал в удушьи, стоит на черном мраморе часовня, с золотой славянской вязью под куполом: «Блажени чистiи сердцемъ, яко тiи Бога узрятъ». Тоскливая одинокая смерть. Но и светлый удел.
Блаженны чистые сердцем…
И давно уже свыклись с его смертью, и не вспоминаем. А вот когда проступило: ах, отчего ж его нет? Он и старше был Михаила и серьёзней, и может быть, ему бы удалось то, что не вышло у Николая: управлять не в ссоре с обществом.
Если бы было кому передать – разве бы Николай держался? Он бы охотно передал. Чтó в этой власти, кроме вечного безпокоя?
Но: спасётся ли Россия от его отречения?.. Не пошатнётся ли в глазах народа трон?
– Для блага России, – выговорил он пересохше, – для блага народа я – всегда отошёл бы в сторону. Но если вдруг сейчас объявить о моём уходе – да разве народ поймёт? Разве примет?
А генерал Рузский – этого и не говорил. Он – ничего подобного не сказал – ни сейчас, ни ночью с Родзянкой. Он? Он только ленты принёс, это в лентах написано.
После вчерашнего изнурительного выматывания с ответственным министерством – Рузскому и в голову не могло вступить, что Государь согласится обсуждать ещё большее – отречение. Но если он, вот, отозвался, то… Сказать?..
Генерал Рузский может добавить, что утром телеграфировал Лукомский. И он…
Лукомский сказал – от себя . Но это не выглядело как «от себя». И не могло быть « от себя ». И ничего бы не значило «от себя»… Тут нужен более прочный рельеф.
…И Ставка настоятельно думает именно так: отречение – неизбежно. Никто не хочет кровопролития, и все хотят спасти армию от этой анархии. Спасти для победы.
Да разве хочет кровопролития Николай?! О Боже, чтоб не допустить пролития дорогой русской крови!.. Или меньше их он хочет для России победы?
И ещё вот: новости, переданные Ставкой ночью для Его Величества. Арестованы многие бывшие министры и председатели Совета министров – Горемыкин, Штюрмер, Голицын.
Бедные невинные старики.
И в Москве по всему городу митинги, и генералу Мрозовскому предложено подчиниться новой власти. В Петрограде – непрерывный поток приветствующих Думу, и в том числе – великий князь Кирилл Владимирович во главе гвардейского экипажа, представился лично и отдал себя во власть Думского Комитета.
Государь вздрогнул. Болезненная измена. Не Кирилл – завистливый, злопамятный, всегда живший в соревновании двух ветвей династии, в обиде, – не удивительно. Но – Гвардейский экипаж! – особенно любимый. Но эти чудесные моряки, бывало сопровождавшие на императорской яхте.
Государыня императрица выразила желание иметь переговоры с председателем Думского Комитета.
Ах, Солнышко! Ах, родная! Как ей безвыходно! Как унизительно.
И ещё: вчера в Государственную Думу явился Собственный Конвой Его Величества – и тоже принял сторону восставших. Просил арестовать своих офицеров.
Как?? И – они?..
И – Конвой?..
Вот этого удара Николай не ожидал и не мог скрыть. Он изменился в лице, в голосе, не устоял на ногах, сел. Всё вместе происходящее в обезумевшей столице за все дни так не потрясло его, как это маленькое довесное известие. Накануне он стойко снёс измену царскосельского гарнизона: туда неразумно были вставлены и случайные части, много запасных. Могли изменить ему хоть все великие князья (это почти и было так), всё дворянство (это было совсем не прежнее благородное дворянство, но опустившиеся корыстные люди), весь Государственный Совет, наполовину назначенный самим Государем (а Государственная Дума и вся была из врагов), – но как мог изменить Собственный Конвой, эти чудесные отважные и добродушные кубанцы и терцы, которыми так гордился их Государь?! Они, жившие почти семейно с августейшей семьёй, – их каждого знали по имени, засыпали подарками их семьи, устраивали с ними общие ёлки, на Пасху с каждым христосовались, – как они могли пойти кланяться Думе? что их туда погнало? (И что же теперь с семьёй? Она в руках бунтующей черни?..)
Опало всё внутри. Стал угрюм, как оглушённый, плохо понимая.
Тут передали Рузскому привезенную из штаба телеграмму от Алексеева. Естественно, он и не мог не прочесть её Государю вслух.
Вот как? Его начальник штаба, не спросясь у него, советовал всем Главнокомандующим его отречение? А почему? Кто его уполномочил?
Очень можно было удивиться, но Николай почему-то не удивился. Уже привык он за эти дни, что события катятся, его не спрашивая.
Обстановка, по-видимому, не допускает иного решения… Потеря каждой минуты может стать роковой для существования России…
Боже! Неужели – так?!
А может – и действительно?..
Боже, как думать тяжело. И не хочется.
Догадался спросить у Рузского:
– А что думаете – вы?
Рузский? А разве он что-нибудь подобное осмелился высказать хоть ночью, хоть сейчас? Он – ничего своего ещё не сказал до этого момента.
В неожиданности резких слов алексеевской телеграммы Рузский теперь мучительно искал такой ответ, чтобы не оступиться – но и не упустить колебаний царя, которых никак не ожидал, а вот заметил!
– Ваше Величество. Вопрос слишком важен и даже ужасен. Я прошу разрешения дать мне обдумать его.
Государь был тронут волнением генерала. Любезно предложил:
– Так останьтесь позавтракать со мной.
Но Рузский отстранёнными глазами застеклел позади очков:
– Ваше Величество, в штабе накопились доклады, телеграммы.
И Государь отпустил его думать. С тем, чтобы он приехал после завтрака. Рузский просил разрешения прийти не один, с другими генералами. Хорошо.
Раз так, раз послана Алексеевым такая телеграмма, – будем ждать ответов Главнокомандующих. Это даже облегчение – думать не одному, соборно.
Остался Государь один – ещё больше заныло в душе. Даже с механическим Рузским разговаривать было легче, чем опять остаться одному.
Сердцу было важней всего: что скажет Николаша?
А что, правда, всё-таки: может – и уступить? Какое облегчение и себе и им.
Ведь отречения просят – не от принципа монархии. И не за династию. Отречение – личное. Это – личный шаг.
Признать, что был царём-неудачником.
Отречение личное – это не значит парламентский строй. Просто будет другой царь. Алексей, прежде времени.
Сам Николай – легко мог посторониться. Лишь не имел он права дать короне обрушиться. Поэтому вчера было куда трудней и опасней согласиться на ответственное министерство, чем сегодня – на отречение. Вчера – всё было против совести, всё против чувства.
Да даже: если он сейчас отречётся, так вчерашняя уступка ответственного министерства – отменится сама собой? Так это хорошо!
Трудно только переступить первую допускающую мысль. А потом – сразу облегчение.
Ах, как трудно вынести всё одному!
В таком решении есть светлое.
Это решение – по совести. Отойти от зла.
310
(по «Известиям Совета Рабочих и Солдатских Депутатов»)
МОЖЕТ ЛИ ОСТАТЬСЯ ДИНАСТИЯ РОМАНОВЫХ?
…Если власть будет вручена монарху, хотя бы и конституционному, – он может заковать народ в цепи рабства…
ОБЪЯВЛЕНИЕ . Сего 1 марта среди солдат Петроградского гарнизона распространился слух, будто бы офицеры в полках отбирают оружие у солдат… Заявляю, что будут приняты самые решительные меры к недопущению подобных действий со стороны офицеров, вплоть до расстрела виновных.
Энгельгардт
ПОМЕНЬШЕ СЛОВ, ПОБОЛЬШЕ ДЕЛА. Кричать «ура» и «браво» ещё рано. В 1905 все слишком много говорили, ждали, совещались, уверяли друг друга и себя самих, что всё идёт благополучно… И теперь правительство, его слуги и несколько тысяч диких помещиков не дремлют, а организуются вокруг Петрограда, чтобы повернуть всё вспять и прежде всего насладиться кровожадной местью.
СУДЬБА ЦАРЯ НИКОЛАЯ II. По сведениям Совета Рабочих Депутатов между станциями Бологое и Дно остановлен царский поезд, позади него устроено крушение, а впереди – революционные войска. Идёт вопрос об арестовании Николая. По другим сведениям Николай отправлен во Псков. Государыня всё время в истерике, у наследника – 39°, корь.
ПРИКАЗ № 1
1 марта 1917 По гарнизону Петроградского…
Совет Рабочих и Солдатских депутатов постановил…
……………………………………………………………………..НЕОБХОДИМО ОТКРЫВАТЬ МАГАЗИНЫ. Победивший народ должен иметь всё необходимое. Магазинам не грозит никакой опасности. Днём магазины могут спокойно торговать, а ночью необходимо их хорошенько охранять.
ТАКСЫ. Установить таксы на все предметы потребления по ценам, существовавшим до момента революции. Спекуляции немедленно должен быть положен конец!
ПЕТРОГРАДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БУНДА приглашает всех членов на общее собрание…
…сгорели бумаги охранников, народ расправился с этими язвами. Уничтожать всё, что может помочь приспешникам старого режима!
СТРЕЛЬБА . Кровавое правительство всё ещё не хочет примириться с победой народа. Приспешники его, провокаторы, полицейские, жандармы и шпионы попрятались на крышах домов, на чердаках – и расстреливают народ. Революционная армия и народ легко справляются с этими попытками тёмных сил.
С ТЕЛЕГРАФА —
В БЕРЛИНЕ 3-й ДЕНЬ ИДЁТ КРОВАВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Кронштадт во власти революционной армии
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ГРАБЕЖЕЙ! – …шайки хулиганов, которые грабят лавки и имущество обывателей… бросают тень на святое дело свободы…
311
Адмирал Непенин решительно идёт дальше.Каждый нерв отдельно жил в капитане Ренгартене, и было такое напряжение и расщепление, что невозможно ни сосредоточиться, ни успокоиться. Минувшей ночи у него не было совсем: он еле мог забыться в семь часов утра, а уже в половине восьмого проснулся толчком. Потом, сморенный усталостью, ещё задрёмывал позже утром – и опять на полчаса, и дремотой болезненной. Всё – перекипало в нём.
Непостижимей всего была быстрота идущих событий, за которой не могли поспеть ни поступки, ни планы, ни замыслы. Ещё два дня назад они обдумывали, как подталкивать , – куда-а! Пока что-нибудь задумывалось и начинало делаться – а уже оно становилось опозданным и безсмысленным.
И постоянная смена настроения, от последнего известия: то радость, то тревога, то надежда, то безпокойство.
Утром пришла телеграмма от коменданта ревельской крепости о волнениях в городе и что комендант опасается грозных осложнений, если он не объявит демонстрантам категорически: на чьей стороне он с гарнизоном.
Непенин уже так укрепился в принятой линии, что думал недолго, тотчас продиктовал ответ: «Если положение требует во что бы то ни стало – объявите, что я присоединяюсь к Временному Правительству и приказываю вам сделать то же».
И тут же просил у Родзянки помощи: послать и в Ревель думских депутатов, чтоб они успокаивали население.
Утром же опять было собрание флагманов, и Непенин передавал им новости, – ужасные новости из Кронштадта, но и утешительное вмешательство Гучкова: посылаются туда депутаты Думы, один из них примет комендантство, да Кронштадт уже как будто начинает успокаиваться. Даже уверен адмирал, что порядок уже водворён.
Но если и водворён, – то совершенно невместимо, что анархия вспыхивала, это ясно тут всем! Говорят, убито 60 офицеров! Что ж это делается? – бьют подряд всех нас! какие тёмные силы взвихрены! Это – конец флота!
Но Непенин владеет и лицом, и твёрдым голосом, и положением. Не надо истерики, без эксцессов не бывает революций. Это всё произошло от закупорки корабельной, где любой дикий слух и призыв может всё взорвать. Но при широком безстрашном разъяснении событий, при открытом объявлении обо всём происходящем – ничего подобного не произойдёт больше.
А если вспыхнет и в Гельсингфорсе? Не следует ли нам сменить линию? Может быть, мы делаем хуже? Может быть, надо…
Косные флотские кости! Реакционная затянутость и застылость! Непенин дышал уже другим воздухом – свободы. Но сохраняя свободолюбие в общем мировоззрении, он в эти дни как бы ожесточился в характере, разговаривал с флагманами ироническим тоном и не допуская обсуждения:
– Мы не должны вмешиваться во внутренние государственные дела. Надо признать, что действия Государственной Думы – патриотичны. И если обстоятельства потребуют, я открыто заявлю, что признаю её Комитет. И всем вам прикажу то же. Я… – чуть задержался, но не в колебании, а в поиске веса, – буду отвечать один. Я буду отвечать головой, но я решил твёрдо. Обсуждения этого вопроса здесь – не допускаю! Готов выслушать ваши мнения – но по отдельности, для чего пожалуйте ко мне в каюту.
Капитан 1-го ранга Гадд, командир «Андрея Первозванного», имел убитый вид. Контр-адмирал Небольсин успел вставить:
– Но наши матросы совсем не так простодушны: много полуобразованных, это опасный элемент. И много рабочих.
Прочие флагманы и начальники сохраняли вид сосредоточенный, мрачный, замкнутый.
Само собою распорядился Непенин дать командам очередное подробное объявление о событиях. Только полная откровенность может поддержать прочное положение офицерства.
После совещания к нему пришли и всё остальное время у него провели декабристы. Перебирали, кто из званных на совещание – в безнадёжной консервативной позиции, как Гадд. Много их. Но мы пересилим! Перебирали весь ворох режущих новостей, которые продолжали сыпаться по телеграфным проводам. Очень тяжёлое впечатление произвёл манифест ЦК социал-демократической партии (так называемых большевиков) с воззванием кончать войну, делить землю и устанавливать демократическую республику. Оставшись среди близких, адмирал помягчел, высказывался более открыто. Перед тем на совещании на заданный ему вопрос – не заключается ли в действиях Думского Комитета уже определённое предрешение образа правления, – Непенин с той же давящей тяжестью голоса уверенно ответил, что – нет. Теперь же, между своими, и он, и все признавали, что конечно уже зашатался столп династии, если не рухается в эти самые часы.
И сердце сжималось снова и радостью и тревогой. Какая острая новизна! Какие неизведанные просторы!
А как теперь надо было им понимать свою присягу? Ведь её категоричность, однозначность не допускали вдруг перехода на сторону Думского Комитета?
Но и нельзя формальные мёртвые слова присяги ставить выше интересов Родины!
Черкасский, Ренгартен восхищались твёрдостью Командующего флотом. Один раз переступив, что не признáет своего смещения царём, он не проявлял движения отступить, но скорее смело шагнуть вперёд: не пора ли сместить и самого царя?
312
Предательство Базарова. – Как приглушить пленум Совета. – Керенский просит от ИК одобрить вход его в правительство.Члены Исполнительного Комитета хотя и собирались в своей комнате, но никто не ощущал сил не то что на окончание переговоров с цензовиками, но даже на простое совещание между своими. Утерян был ночной горячечный разгон, а теперь, приглушённые, они вяло двигались, сидели вразброс на стульях, кто брал телефонную трубку, пытался на что-то ответить.
Что только всех подживило и вернуло свободу языков – это скандал в «Известиях»: собственная газета Совета писала совсем не то, что вчера решил Исполнительный Комитет! – и уже полмиллиона её разошлось по всему городу, нельзя было остановить. Сплотившееся вчера левое большинство ИК постановило и провело, 13:7, что в буржуазном цензовом правительстве революционная демократия участвовать не будет! Но это нигде ещё не было опубликовано, это перетрясывалось в торгах с Милюковым – а тем временем коварное соглашательское меньшинство в хитрой ловкой статье меньшевика Базарова понесло на весь Петроград и всю Россию прямо противоположное: что демократия должна вступать в буржуазное правительство. Это просто возмутительный и безобразный факт! – не взяли голосованием, так берут подсовкой. Как же смеет редакция печатать актуальнейшую статью, не спрося позиции Исполнительного Комитета!?
Одни были возмущены Базаровым, Бончем и Гольденбергом, другие смущены, третьи уклонялись от подозрений, четвёртые открыто насмехались над большинством. Гиммер мучительно переживал эту неудачу: он был как бы лично и публично посрамлён!
Были в «Известиях» и другие неожиданности для некоторых членов ИК: например «Приказ № 1» не все вчера видели. А сообщение о революции в Берлине?! Да тут бы просто захлебнуться, сердце бы выскочило, но уже звонил Бонч из редакции, что это – досадная опечатка.
Заседать – никакой физической возможности не было. Да со вчерашнего дня в самом ИК числился ещё десяток этих непрошеных солдат – и вот они с утра явились, не забыли, ожидая своего участия, сидели чужеродными пнями, – и как при них обсуждать, как с ними работать, как сформируется большинство? Чудовищно! Да уже скоро – в час дня или там с опозданием, должен был возобновиться тут же, за дверью, галдёж всего громоздкого Совета: если вчера в нём уже числилось под полтысячи депутатов, то сегодня можно ожидать и тысячу. И куда их впихивать?
Конечно, не на общих собраниях делается политика, все эти многолюдные пленумы не имеют практического значения. Но сегодня этот Совет нельзя оставить без внимания и руководства: предстоит через него формально протолкнуть весь вопрос о власти, а он становится шатким и недоказуемым перед диким, шумным сборищем. Сама идея какого-то мирного сговора с буржуазией может попасть под крик и бой безшабашно левых демагогов вроде Шляпникова, Кротовского, Александровича, перед тревожной солдатской массой могущих применить уличные методы борьбы, возмутительные, когда они направляются против своих же социал-демократов. Будут кричать: а что эта буржуазия делала в революцию, почему ей отдавать власть?
А меньшевики, а бундовцы – хотят же входить в правительство.
Нет, надо сегодня, большинству Исполнительного Комитета самим лезть на столы и направлять необузданное собрание, чтобы левые не уклонили его.
А вот что! Многое зависело от докладчика Нахамкиса – и Гиммер отсел толковать с ним. Тут оба они понимали дело одинаково: надо просто сократить прения и не дать всем противникам высказаться. А сам Нахамкис как раз и склонен говорить длинно – так надо ещё длинней! ещё полней! надо захватить под доклад часа полтора времени! два часа! – а толпа нетерпелива, и стоит на ногах, тесно, душно, за это время устанет – и уже прения не развернутся.
Тут – не пришёл, но внёсся в 13-ю комнату Керенский, в сопровождении своего оруженосца Зензинова. Как-то он умел опять выглядеть полным сил, да не только поспал, но успел и в парикмахерской побывать! – очень аккуратным, стоячим от висков прямоугольником подстриг свой бобрик. Но не попахивал туалетной водой и не в крахмальной сорочке был, а вовсе без белого воротничка, в стоячем вороте тёмной тужурки. Вид его был торжественно-возбуждённый: и все дни революции были великие, но, кажется, сегодня ожидал Александр Фёдорович особенно великого дня!
Он не показал, зачем пришёл, не вступил в громкие обсуждения. Он пришёл сюда по праву, как заместитель председателя Совета, – но и не для того, чтоб выполнять какие-то функции. То он резко сел (и Зензинов сел) – и смотрел на всех. То резко встал (и Зензинов встал) – и прошёлся нервно. Потом стал по одному отзывать в угол самых влиятельных.
Гиммер – догадался, о чём это он: конечно, опять советуется о министерстве юстиции. Ах, как хотелось ему быть министром!
Да, так и есть, дошла очередь и до Гиммера. Конфиденциально, чуть-чуть смущённо, спрашивал Керенский, есть ли какая-нибудь возможность на сегодняшнем заседании Совета получить одобрение ему войти в правительство.
Нет, такого – советский митинг может и не переварить. Тут же в ответ выскочит какой-нибудь большевик или межрайонец и потребует, чтобы народ брал всю власть в свои руки. Мы потеряем все достигнутые комбинации! Нет, это невозможно! А пусть Керенский действует как частное лицо – и тогда ничего не надо обсуждать на Совете.
Нет, не нравилось так ему! И, резко взглянув, закинув узкую, длинную голову, он сам стал обвинять при подошедшем по знаку его Зензинове, что Исполнительный Комитет не туда направляет внимание: что он мелочно трясётся, как бы не появилось ни одного социалистического министра, а между тем вчера в переговорах совершенно сдали Милюкову саму республику! В этой горячейшей точке оставили недоразумение – и Милюкову допущено вести себя так, что остаётся монархия!?
Керенский стал молненно быстр и ветром унёсся с Зензиновым.313
Утро – день в Петрограде (фрагменты)
* * *
День в Петрограде начинался сероватым, но растянулся в легкоморозный с ярким солнцем. А оттого что не тянулись на город фабричные дымы – воздух стоял небывало, празднично чист. И не слышно фабричных гудков, и трамваи не идут – праздник! И стрельбы стало мало, почти тихо.
Повсюду висят красные флаги – на жилых домах, на присутственных, на Мариинском дворце, а на Таврическом несколько. Российские национальные флаги исчезли, нигде ни одного.
* * *
На стенах, на заборах – «Приказ № 1» Совета Рабочих и Солдатских Депутатов. И по казармам, в большом множестве, читают вслух.
Но офицерам на улицах – безопаснее, чем в те дни.
Хотя кое-где висит и другая листовка, полусорванная: «Солдаты! до сих пор вы не слышали, будет ли отнята земля у помещиков… Паны дворяне с жиру бесились, высасывая народную кровь…»
* * *
Бешено мчащихся автомобилей стало куда меньше (может быть попортились?). А людей на главных улицах, кажется, ещё больше! И на малых улицах – кучки народа. Но красные ленты и банты на всех примелькались, уже не кажутся чем-то необыкновенным.
Около хлебных лавок – прежние хвосты. Магазины – закрыты, заколочены, кой-какие робко открываются. В некоторых лавках кучки горластых, угрожая, вынуждают торговцев продавать по немыслимо низким ценам.
А дворники небрегут, во многих местах не счищен снег с тротуаров, бугры да ямки. Спотыкаются люди.
* * *
На узкой улице – разбитый автомобиль. Колёса его искорёжены, стёкла прямоугольной кареты разбиты. Любопытные стоят, подолгу смотрят.
* * *
На уличных постах – неумелые милиционеры: юнкера, даже старшие гимназисты, скауты по 10–15 лет, с белыми повязками на рукаве. С улыбкой – слушаются их.
Кто бы ни просил – получает плакат: «Этот дом находится под охраной милиции». И многие дома украсились им.
Но это мало кого останавливает. По всему городу вооружённые солдаты продолжают обыскивать и грабить частные квартиры. И учреждения тоже.
* * *
По Невскому – с какими широкими жестами радости самая состоятельная публика, и чиновники, и дамы – читают «Известия Совета Рабочих Депутатов» и «Известия» петроградских журналистов, – и обсуждают, ликуют.
Длинный хвост всех званий за свежей газетой.
* * *
В «Известиях СРД» в части тиража кто-то, видимо опасаясь выдать военную тайну, из сообщения о кровавой революции изъял слово Кронштадт. А кто-то в пустое место набрал – Берлин. (Получилось: в Берлине – революция, убит адмирал Вирен.)
И понёсся по городу упоительный, взмывающий слух: в Берлине – тоже революция!! Везде революция!!! Конец войне!!! Гремят сияющие небеса.
А навстречу – другой слух: наследник Алексей умер от скарлатины!
* * *
Ликующая толпа! Необузданная радость: если так легко пал несокрушимый строй, то как же дальше пойдёт легко и счастливо! Долой старых, безумных, безсловесных правителей, да заменят их люди энергичные, мудрые, честные! Общее восторженное состояние, все безпричинно надеются только на одно хорошее. Валят по мостовым, а из окон им машут платками.
З.Гиппиус: ангелы поют на небесах.
П.Врангель: дикое веселье рабов, утративших страх.
* * *
На Сампсоньевском проспекте, против фабрики Ландрина, выстроены две роты инженерных войск, уже немолодые солдаты. Подошёл командир части и несколько офицеров:
– Поздравляю вас, братцы, с великим счастьем! Ненавистное всем правительство свергнуто. Теперь нам осталось достойно победить врага внешнего. Новое правительство просит вас по-прежнему подчиняться господам офицерам. Прошу по местам в казармы.
Ответили солдаты: «Рады стараться!»
Но рядом из зевак вылез юркий шпень с дураковатым лицом (большевик Каюров). Втесался звонко:
– А позвольте мне слово, господин командир!
Тот не ожидал, смутился. Разрешил.
Каюров шагнул вперёд петушком да уверенно (уже весь Московский батальон обработали):
– Товарищи солдаты! Вы слышали? вернуться в казармы и опять подчиняться офицерам? Да разве лилась в Петрограде кровь три дня для этого? Да разве для этого гибли тысячи пролетарских борцов? Нет! Пролетариат Петрограда не пойдёт на заводы, пока не отвоюет у помещиков землю. Товарищи офицеры! Присоединяйтесь и вы к нам, если желаете счастья народу! Нет, молчат, видите. Значит, у них другая цель. Так я предлагаю, товарищи, их арестовать и избрать вам новый командный состав!..
* * *
По Шпалерной – очереди частей, пришедших приветствовать Думу. Солдаты в ожидании рассыпались из строя, составили ружья в козлы.
Перед самим дворцом – давка, как в церкви во время большого праздника. Все беснуются – попасть бы внутрь, посмотреть. А на крыльце требуют пропускá.
В Таврический кто только не добивается! Мать хочет найти так своих детей. Делегат тюремного надзора сгоревшего Литовского замка пришёл со списком своих надзирателей, легализировать их проживание. Кто-то просит поставить охрану к его ценной коллекции. Пришёл извозчик: лошадь угнали. Пришёл солдат: куда отвести лошадь, пойманную на улице? Пришёл лакей, прося разрешения гулять с барскими собаками в саду Таврического дворца. (Отказано: это было бы безтактно в дни Великой Революции!)
Господин пришёл, жалуется: вломились в квартиру солдаты якобы с поиском оружия, вот тут рядом, Шпалерная 44, а в квартире одна больная женщина. Украли массивные золотые часы, серебряные ложки. Его поправляют: это – хулиганы, одетые в солдатскую форму, революционные солдаты не могут воровать.
* * *
Мама взяла маленькую дочь за голову (запомнилось):
– Ты будешь счастливая! Счаст-ли-вая!
Водила дочку на манифестации.
314
Станкевич ведёт сапёров в Думу. – Его предсказанье Керенскому.
Фортификатор и геометр, поручик Станкевич занялся теперь военной администрацией, вот как.
Он был мал в чине, но голос уверенности придавало ему: в сапёрном батальоне – его постоянное общение с Думой, в Думе – его служебное состояние в батальоне. Сапёры помещались на Кирочной, это было совсем близко от Таврического, и Станкевич не раз в день успевал туда и сюда.
Несколько смелых офицеров батальона были убиты в первые минуты мятежа. Остальные совсем потерялись в новой обстановке, перед массой солдат, убившей тех первых, – ни по лицам и ни по глазам не отличишь, подозреваешь убийцу в каждом. Офицеры теперь передвигались робко, не смели голос подать или иметь суждение о батальонных делах. Солдатский мятеж – всё более громко, официально и обязательно для офицеров полагалось теперь называть великим подвигом освобождения. (А теперь после подвига они присоединились – но можно ли им верить?..) Что офицерам оставалось делать? Они рады были бы вообще сгинуть с этой петроградской земли – но вынуждены были передвигаться именно по ней, на основании выданного удостоверения: если от общественного градоначальника – что предъявитель сего не подлежит обыску, задержанию, и ему разрешается проживание в этом городе в течение месяца марта; если от коменданта Собрания Армии и Флота – то что ему разрешается даже ношение при себе оружия. Все офицеры батальона стали молчальниками и только взирали с надеждой на проворного Станкевича. Говорили ему, что только при нём чувствуют себя в батальоне спокойными.
Когда же Станкевич приходил в Таврический, то, поскольку прочно состоял в своей части, здесь казался овеян пороховым дымом, и на него была надежда. И он сам вознадеялся, как прежде, объединить думское и советское крылья, либералов и социалистов. Но в думском крыле Станкевич встречал совсем не то радостное разлитие и христосование, как на улицах. Он встречал тревожные глаза: во что дальше этот великий подвиг освобождения выльется, и как дальше солдат унять и направить? Все обязаны были вслух радоваться и приветствовать, приветствовать приходящие делегации, но уже начинали опасаться, не слишком ли сильно этот поток их несёт, и куда? Даже грузный Родзянко, произносивший речи с таким достоинством и одушевлением, возвращался после речей с выражением страдания и отчаяния. И его, могучего, несло как щепку куда-то.
Сам про себя Станкевич раскаивался, что тогда 27-го на Кирочной он замялся, послушался предостережения унтера и со всех ног не кинулся к своему батальону, не попытался подчинить его вовремя и повести к Думе, как просил Керенский.
Керенский, кажется, один во всей Думе ничего не боялся, не трепетал перед революционным грозным потоком, смело в него входил и поощрял Станкевича. Вероятно потому, что сам ещё не понимал, во что вступает.
Прежний командир сапёрного батальона был убит в первую минуту восстания – когда во главе учебной команды вышел навстречу восставшим. Заменили его старшим в чине – но этот не понравился солдатам, начался бурлёж. Станкевич был избран помощником командира батальона, и ему приходилось сменить командира – на безсловесного прапорщика, который не должен был вызвать возражений.
Всё это Станкевич и проделал сегодня с утра, уже с большой уверенностью и очень звонко. Чуть-чуть меньше было бы в нём уверенности – и ничего б не вышло. Весь батальон он вывел во двор в полном строевом порядке. Здесь стал говорить от имени Государственной Думы, всё примиряя, никого не обвиняя, – представил нового командира – и не услышал гула возмущения.
И для закрепленья предложил тут же, с уже пристроенным оркестром, пройтись к Таврическому дворцу. Это солдатам нравилось! Идти было слишком даже близко, они бы охотно и покрутили лишние кварталы. И офицеры покорно пристроились на своих местах. А перед ротами неслись красные флаги.
Очень торжественно, с громом оркестра подошли ко дворцу – вышел Чхеидзе на крыльцо, пал на колени и целовал красное знамя первой роты. Потом дребезжащим неразборчивым голосом говорил восторженные фразы о победившей революции – и чтоб не верили новой провокации ещё не разгромленной охранки, которая вчера от имени двух социалистических партий выпустила гнусную прокламацию, призывающую солдат не подчиняться офицерам. Но вот он, Чхеидзе, депутат Государственной Думы и председатель Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, горячо призывает солдат доверять своим офицерам, приветствовать их как граждан, присоединившихся к революционному знамени, и оставаться братьями во имя великой революции и русской свободы.
И Чхеидзе понесли на руках.
Всё сошло внешне отлично. (Хотя Станкевич и понял, что листовки – от самих социалистов. И мрак застлал душу: мы сами всё погубим.) В казармы вернулись уже не так отлично, многие солдаты по пути отбились гулять, пошли по городу. Но во всяком случае безсловесный прапорщик был утверждён.
Через час Станкевич опять был в Таврическом. Уже один, внутри. Та же содомная теснота и пар от людских испарений. Барышни, студенты, интеллигентные штатские, офицеры, думцы, солдаты под руку с сестрами милосердия, другие лежат на полу между тюками, третьи ведут арестованного сановника.
Встретил Керенского, в этот раз озабоченного, не в костюме, в тёмной рабочей куртке. Тот отвёл Станкевича в угол комнаты и конфиденциально спросил:
– Знаете ли, мне предлагают портфель министра юстиции. Как вы думаете – брать или не брать? Демократические партии участвовать не хотят, а я не хочу идти против воли товарищей. А с другой стороны…
По лицу-то видно было, что ему хотелось слышать «да», он только сдерживал свою радость.
И вдруг Станкевич ответил ему безнадёжней, чем сам от себя ожидал:
– Всё равно, Александр Фёдорыч. Возьмёте ли, нет ли, – всё пропало.
– Как? – изумился, отпрянул Керенский, теряя налёт томности. Вот уж от кого не ждал! – Всё, напротив, идёт превосходно, что вы!
Да, знакомство с математикой требовало выражаться поточней:
– Всё идёт – инерцией старого порядка, а не новым. Всё, что мы видим, что ещё держится, – это от старого. Но надолго ли этой инерции хватит? Я теперь – военный и невольно рассматриваю только: как отразится на военных операциях? И нашёл я такую формулу: через десять лет всё будет хорошо, но через неделю немцы будут в Петрограде.
– Да что вы! да что вы! – женственно всплеснул руками Керенский. Даже и спорить не стал. А: брать ли портфель юстиции?
– Ну что ж, – согласился Станкевич. – Может быть, вы ещё спасёте. Конечно брать.
Они были накоротке, и Станкевич поцеловал Керенского.
Тот умчался, очень довольный. Счастливое исключение.
Всё больше видел Станкевич тревожных глаз.
Но друг перед другом люди не признавались.
315
Пешехонов в Народном доме у пулемётчиков. – Чуть не застрелен у себя в комиссариате.
Подошёл к Пешехонову один из его помощников, студент, и сообщил такую новость: что 1-й пулемётный полк, вчера поставленный на стоянку в Народный дом, – обставил его со всех сторон пулемётами, выставил часовых и никого не подпускает. Но администратор звонил в отчаянии, что ещё вчера с вечера вышла из строя канализация. Она рассчитана была на 2–3 тысячи человек, а ввалилось сразу 10. По сегодняшнему времени некого вызвать на ремонт, да солдаты их и не пустят, да пока они здесь остаются – ничего и не исправишь.
И из дома эмира Бухарского приходил архитектор с опасениями, что балки не выдержат нагрузки от стольких гостей. Да и канализация тоже.
Так бросать надо было комиссариатские заботы и ехать передворять куда-то пулемётный полк.
С этим же студентом и поехали в Народный дом.
Действительно, и пулемёты стояли полукругом, и патрули, солдаты опасались нападения. Не доверяли, проверяли, докладывали – с трудом пропустили комиссара внутрь.
А что делалось внутри! Знавал Народный дом переполнения на больших празднествах, особенно в Пасхальную ночь, когда там служили всенародную утреню, – но не бывало такой густоты на лестницах, в проходах, галереях, да всюду одни солдаты, без винтовок (где-то скинув их у стен), без подобия организации, – и следа петроградской радости не было на их лицах. Кто шапку снял – постриженные, немытые, негородские, нетёсанные. Гудел, гудел огромный перетревоженный улей, и трудно было вообразить, где ж такое множество размещалось тут ночью, лёжа.
Пешехонов, народник до последней косточки, ещё раньше, чем искать начальство, заговаривал с самими солдатами: как они понимают, как их полку быть. Сам народ и должен знать себе добро.
Но хотя наружность его была самая простецкая, только что не в шинели, – отвечали ему недоброжелательно, резко и как барину:
– Усе дворцы позаймаем!
– Да мы как со своими пулемётами пойдём – всех вас расчистим!
Пешехонов почти леденел. И правда ведь: в полку пулемётов триста штук, и все на ходу! И если эта лавина двинется по Петрограду искать себе помещения…
Но узнал от солдат, что при полку ещё есть и офицеры, новоизбранные. Выбранный есть и полковой командир, капитан. Стали его искать.
Все офицеры, облечённые солдатским доверием, оказались, по сути, под арестом: им отведена была единственная маленькая комната, они набивали её битком, а дверь этой комнаты солдаты не позволяли затворять даже и ночью, опасаясь от офицеров какого-нибудь подвоха.
Офицеры были изнеможены своим положением: взрыв ораниенбаумского бунта, пощадившего их головы, но с безсмысленным решением, потащившим и их – идти в Петроград. И здесь они не имели никакого влияния, их не пускали к телефону, они только правили службу караулов. И их капитан ничего не мог решить, а посоветовал только – идти в полковой комитет.
Толкались, искали – нашли комитет. В комнате сидело за столом человек пятнадцать солдат и один прапорщик и возбуждённо толковали. Никакого внимания они не обратили на вошедших. Такой полновластный на всей Петербургской стороне, стоял народник Пешехонов близ двери и своим непритязательным голосом несколько раз пытался вмешаться – но ни паузы не было, куда вставить речь, и не слушали его.
Тут нашёлся студент и сильно крикнул:
– Да вы что? Да вы знаете – кто с вами говорит? Ведь это – товарищ Пешехонов !
Произвело впечатление!
– А-а! – закричали, повскакали. – Товарищ Пешехонов?! Ура! Ура! Качать его.!
И чуть не начали качать, хотя, понимал Пешехонов, его фамилию они слышали первый раз.
Зато теперь он мог говорить, и слушали его.
Он стал им объяснять, какие трудности с отведенными обоими домами. А просторней – и тем более найти нельзя. Что самое будет лучшее, если полк воротится в свои казармы в Ораниенбаум. Перестали и слушать, закричали:
– Для других есть – а для нас нет?
– Значит, другие в Питере будут проклажаться – а мы в Ораниенбауме сиди?
– А вы – дворец нам отведите!
– Зимний дворец давайте!
Пешехонов стал объяснять, что дворцами он не распоряжается, что в Зимнем было бы им ещё и хуже, там уборные и вовсе не приспособлены. А на Петербургской стороне никаких других больших помещений нет.
В один голос твердили:
– Не может быть!
А глаза горели – больно хотелось им во дворце хоть денёк пожить, посмотреть, каково это живут.
Хорошо, Пешехонов предложил им назначить квартирьеров и сейчас с ним вместе ехать осматривать Петербургскую сторону, убедиться, что таких больших домов нет.
Согласились поехать, но только завтра. Сейчас надо было им о чём-то другом дотолковаться, да видно, хотелось и здесь ещё побыть.
Ладно. Ещё раз с опаской и сочувствием оглядывая все эти кучки, столпления и вереницы обезкураженных, потерянных, храбрящихся солдат, Пешехонов со студентом вышли сквозь пулемётные посты и уехали.
В комиссариате была всё та же толкучка и забота, но через час послышался шум особенный, крики. Часовые пытались задержать, а кто-то прорывался. Пешехонов поспешил навстречу. То были грозные две дюжины солдат, частью растерявших оружие, частью вооружённых, а во главе их – как тот недавно рыжий безумный гимназист, такой же безумный студент, маленького роста, с отвагой человека, решившегося брать Бастилию, и солдаты с доверием плотились к нему, и даже нескольких его вооружённых было достаточно, чтобы здесь всё разметать. А студент требовал вооружить остальных.
А сегодня утром комиссариатское оружие наверху как раз ещё пополнилось гранатами и бомбами, и всё это в свалке лежало на балконе.
Но как было объясняться с целой толпой? Они кричали в двадцать глоток, требовали оружия – и сейчас могли начать подымать комиссариатских на штыки, потасовка свободных граждан.
Пешехонов предложил, чтобы для переговоров студент и трое солдат зашли сюда, за перегородку, преграждавшую вход.
Сначала ни за что не хотели отделяться. Потом вошли, все солдаты вооружённые. Но – ни шагу дальше! Тут, в густоте публики, у входа, предстояло и объясняться.
Пешехонов боялся этого безумного студента и хотел ослабить его напряжение, разговаривать поласковей. Он стал мягко объяснять, что комиссариат не этим занимается, что вооружаться может только признанная милиция, – и отечески положил студенту руку на плечо.
Но студент дёрнулся, как от электричества, откинулся и истошно завопил:
– Товарищи! Ко мне! Хотят арестовать!
И металлически грозно защёлкали взводы ружей, взводы револьверов – и дюжина дул была сразу направлена в голову Пешехонова – тут рядом и через перегородку.
И довольно было выпалить только одному.
Пешехонов потерялся и замолк.
Но тут выступил сбоку товарищ Шах, рассудительный помощник комиссара, начальник отдела публикаций. У него был такой вкрадчиво-убеждающий мягкий голос, он сразу ослабил напряжение, заставил к себе повернуться. Он говорил, что и комиссариат и пришедшие делают единое общее великое революционное дело – и зачем же им ссориться?
Стволы стали опускаться, руки ослабевать.
А Пешехонов стал пятиться, пятиться и больше не пытался объясниться.
Он только через несколько минут вполне понял, какую опасность пережил.
А если б они ломились дальше и нашли бомбы? Пожалуй, и комиссариат бы разнесло и всю публику.
Но товарищ Шах убедил неистового студента поискать оружия в другом месте.
316
Ксенья в революционные дни Москвы.
На женских сельскохозяйственных курсах княгини Голицыной курсистки ещё в понедельник стали шумно обсуждать: продолжать ли занятия или прервать их и кинуться в события. Разумеется, не спрашивали мнения профессоров, ни даже директора курсов, всеми любимого профессора Прянишникова, а только друг друга. И множественные и самые громкие голоса были: прервать и кинуться!
И – кинулись.
Ксенья Томчак колебалась. Она охотно и продолжала бы занятия, она любила их и успевала по всем предметам отлично. Но не имела строгости поднять голос против большинства. Да и что ж, кинуться так кинуться! – в этом было своё веселье, а московской жизни у неё и оставался всего кусочек 4-го курса да 5-й – и утопиться в кубанской степи навсегда.
И так со вторника высыпали они со своих курсов, разнеслись стайками по Москве и носились то в солнечном морозце, то в косовато-ветренном снежке. Сперва свои, потом соединялись и иначе, со знакомыми курсистками Герье и Медицинского, то потом со студентами, а в какой-то час – даже со старшими гимназистами, где-то разокравшими оружейный склад и всем курсисткам предлагавшими пистолеты – вооружиться на случай контрреволюции. (Но ни одна не взяла, а только смеялись.)
На улицах незнакомые люди даже обнимались, как самые близкие. Все были опьянены этим небывалым праздником. Только поспевать, с думских ступенек выкрикивали что-то ораторы, не доносимое в глубину толпы, но всеми принимаемое одобрительно. Там, врезаясь в густоту, дефилировали целые батальоны со знамёнами и под музыку. Валили по накатанным снежным, побуревшим мостовым одни люди – без трамваев, без извозчиков, без карет – и заполняли улицы, так что пройти нельзя. Такие толпы, говорят, не собирались ни на коронационные торжества, ни на похороны Муромцева. В центре города нет такой улицы, где не чернело бы море. Может быть пол-Москвы, а то миллион, – целый день идут, стоят, смотрят, машут, кричат «ура». (Первое движение появилось – грузовые сани, подрабатывали, и кому надо было спешить – садились и в шубках дорогих, свесив ножки.) С постов городовые исчезли всюду – а появились студенты-«милиционеры» с повязками (и даже скауты со своими посохами) – и весело брались разбирать толпу: «Сознательные граждане! Не накопляйтесь тут, вы мешаете движению!»
«Сознательные граждане» – это стало вдруг любимое публичное обращение, как бы взаимный комплимент друг другу. Все лица светились, а на шапках, на грудях, на рукавах у всех – красное, как будто кусочки разорванных красных флагов.
Всё-таки революция, как она рисуется из истории, всегда связана с какими-то баррикадами, стрельбой, убитыми. А в Москве – ничего этого не было, случайно убитых трое солдат, да, говорят, на Яузском мосту какой-то старик звал толпу к порядку – и его утопили в проруби. Вся революция прошла на одной радости, улыбках, сиянии, и даже непонятно становилось людям: что ж они думали до сих пор? почему ждали, жили иначе? что им мешало и прежде жить хорошо? Кажется, ни у кого сожаления к старому, ни даже мысли, что оно может возвратиться. В среду стягивались городовые и жандармы в Каретном ряду – но сдались толпе. И многих городовых вели в городскую думу, но не враждебно, как бы лишь полуарестованными, а из толпы посвистывали им вслед. Как будто не сразу присоединилось Александровское военное училище? – но на их дверях Ксенья прочла объявление: «Граждане! Дайте возможность юнкерам спокойно продолжать свою работу во славу России!»
Чего не видели люди сами – передавали слухи, один другого трогательней. Что врач Кишкин, теперь комиссар Москвы, во время речи в городской думе расплакался, не мог продолжать. Что московское купечество пожертвовало 100 тысяч рублей для беднейшего населения. Или что древний генерал-севастополец, весь в орденах прошлого века, произнёс на Воскресенской площади: «Благодарю Тебя, Создатель, что ты не дал погибнуть моей родине!» Что совет университета уже ходатайствовал о возвращении профессоров, уволенных в годы реакции.
Но самый трогательный слух ходил по Москве – о честных хитрованцах, то есть отборных жуликах и ворах до сегодняшнего дня: как на Хитровом рынке полицейские обещали ворам водку, чтобы помогли скрыться; а хитрованцы, хотя водку и взяли, но привели полицейских в городскую думу: «Поверьте, господа, что и мы, хитрованцы, не нарушим порядка в такие святые дни». И будто на Хитровом рынке, действительно, поразительный порядок, все углы пестрят красными флагами, и некоторые бродяги гордо расхаживают с эмблемой революции на своих лохмотьях.
За эти дни побывала Ксенья и на сходке Высших женских курсов, в их зале-фойе со стеклянным потолком, а там стали говорить, что надо быть не зрителями, не бегать-смотреть по городу – а деятельно помогать революции. И вместе с Эдичкой Файвишевич в среду отправились в целой группе студентов и курсисток в столовую медиков на Девичьем поле. Там чистили овощи, варили щи и макароны в невероятных количествах, а студенты развозили эту еду в грузовых машинах по Москве, кормили войска и толпу. Сперва было весело – но час за часом, час за часом чистили картошку (чего Ксенья ни дома, ни у своих квартирных хозяек никогда не делала), – и такая революция показалась ей уже и скучной. Однако упустила время уйти, стало поздно, и она только успела позвонить хозяйкам, что не придёт ночевать (тоже скандал небывалый!).
А молодёжь очень веселилась, пели наперебой, кто во что горазд, революционные песни – откуда-то знали их или на ходу учились? Ксенья пыталась подпевать, но больше из вежливости. Слова этих песен были грубые, и мотивы грубые, – и ей стало унизительно и тоскливо, как будто она играет навязанную роль. Так естественно было со всеми вместе уйти с занятий, со всеми вместе бегать по городу, – а вдруг защемило-защемило в душе, и так одиноко. Но неудобно было показать это кому-нибудь, надо было сохранять весёлый вид.
А в соседнем помещении размножали на стеклографе листовки, приносили их, мокроватые и неприятно пахнущие, читать для пробы, потом отвозили куда-то расклеивать или разбрасывать. В большом зале столовой так и ложились спать – на стульях, на сдвинутых по двое столах, и Ксенья с Эдичкой легли так, придерживая друг друга, чтоб не скатиться. Света не тушили, но все лампочки обернули красной материей – и чтоб не так в глаза, и в знак революции.
Но от этого создалось совсем уже жуткое, кровяное освещение – и спать было жёстко, а под головой ничего, – и так тоскливо внутри – куда, в какое-то не своё попала Ксенья. И – зачем?..
Сегодня утром она не осталась больше чистить картошку – а пешком через весь город, до Соляного двора, пошла домой. И вошла виновато, как будто сделала что-то дурное или против своих хозяек.
Она и вообще-то их побаивалась. Это были две сестры, старые девы, обедневшие дворянки, очень строгие в жизненных правилах – так что даже вечеринки Ксенья не могла у себя собрать, и не любили они, когда она возвращалась поздно, тем более были шокированы, что сегодня не ночевала. А вот они рассказали Ксенье, что вчера вечером вместе с кучкой политических из Бутырской тюрьмы вырвалось две тысячи уголовников – и теперь они растеклись по Москве, уже грабят дома и на улицах, – теперь дверь должна быть на засовах, и подпёрта, и вечером не открывать даже на цепочку.
Об этом побеге предупреждение и в сегодняшних газетах (со вчера появились газеты). И с такой же степенью опасности печаталось рядом, что арестованы члены московской монархической организации, но их черносотенные документы не захвачены, они успели вывезти их из Москвы в первые дни волнений.
И сёстры негодовали такому сравнению. Только за то они прощали эту революцию, что, не как в Пятом году, не пресеклось ни электричество, ни водопровод. И надо ж было случиться, что единственная за все эти дни в Москве стрельба – как раз и произошла рядом, на Большом Каменном мосту, ещё более напугав и отвратив хозяек.
В первый год жизни на этой квартире Ксенья тяготилась их строгостью – для этого ли она ехала в Москву, чтоб и тут приволья не было? Но как-то привыкла. Она не хотела снимать квартиру в Петровско-Разумовском, предпочитала на курсы далеко ездить, зато жить в центре города, близко ко всему, хорошо возвращаться из театров и с балетной группы. Да на самом деле она и любила над собой строгость – ведь и у Харитоновых было то же. Так – и учиться лучше, и чище себя чувствуешь. А танцевать ей не мешали.
А сейчас, наглотавшись этой революционной весны, так приятно: в неурочное время принять душ да прикорнуть на кушетке с томиком Стриндберга.
317
(из первых газет)
ОБЪЯВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ПЕТРОГРАДСКОГО ГАРНИЗОНА
...
…будто бы офицеры в полках отбирают оружие у солдат… заявляю… к недопущению подобных действий со стороны офицеров, вплоть до расстрела виновных.
Энгельгардт
ВОЗЗВАНИЕ ОФИЦЕРОВ К СОЛДАТАМ
Боевые наши товарищи солдаты! Пробил час народного освобождения. И мы, ваши сотоварищи на передовых позициях… смешивали кровь с вашею на поле сражения… Верьте же, что свобода родины нам дороже всего. Старый самодержавный строй, который за два года войны не сумел дать окончательную победу, пусть сгинет навсегда. Мы вместе с вами предаём старый строй проклятию. Товарищи солдаты! Не бросайте ружей. Возвращайтесь в свои части для дружной работы вместе с нами…
...
Ваши товарищи офицеры. Государственная Дума.
ПАЛА РУССКАЯ БАСТИЛИЯ . Грозный шквал Великой Революции докатился до стен Петропавловской крепости…
По сведениям Комитета Государственной Думы ни в Петрограде, ни в окрестностях столицы НЕТ НИ ОДНОЙ ВОЕННОЙ ЧАСТИ, КОТОРАЯ СОХРАНЯЛА БЫ ВЕРНОСТЬ ПАВШЕЙ ВЛАСТИ.
…Власть Комитета Государственной Думы абсолютна, ибо нет возражающих против неё. Её веления – закон, она – благодетельна, она – популярна… Государственная Дума – вот наш национальный вождь в великой борьбе, всколыхнувшей всю страну…
БОЙТЕСЬ ПРОВОКАЦИЙ . Расползлось чёрное отродье вчерашних тиранов, холопы сражённой власти, и призывают празднично настроенную толпу к погромам магазинов, выкрикивают дикие лозунги опасного бунтарства. Но замыслы слуг тьмы и позора разбиваются о чистую совесть просветлённого народа.
АРЕСТ Н.МАКЛАКОВА
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СОЮЗНЫХ СТРАН В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ.
…Были приняты военные агенты и дипломатические представители Англии, Франции и Италии, заявившие… При приходе итальянской делегации огромные массы народа, с утра переполняющие Екатерининский зал, восторженно приветствовали: «Да здравствует Италия!»
…Мы не будем предателями по отношению к французам. И мы до конца выполним слово, данное Англии…ГДЕ МАРКОВ И ЗАМЫСЛОВСКИЙ?..
ГЕНЕРАЛ Н.И.ИВАНОВ. 1 марта в Петрограде циркулировали слухи, будто генерал Иванов во главе корпуса правительственных войск идёт на Петроград. По проверке слухи эти оказались ни на чём не основанными.
ТЕЛЕГРАММА ПЕТРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ КРОПОТКИНУ в Лондон от Бурцева: «В этот исторический момент ваше присутствие необходимо».
ТЕЛЕГРАММА ПЛЕХАНОВУ…
ПОТОК ПРИВЕТСТВИЙ. Со всех концов России… телеграммы от населения, городских дум, земских собраний… В восторженных выражениях приветствуется решение Комитета Государственной Думы стать во главе народного движения… Масса трогательных телеграмм от отдельных лиц, стоящих во главе крупных предприятий… Представитель нижегородских мукомолов предлагает безплатно предоставить все свои мельницы для нужд родины…
СОВЕТ СЪЕЗДОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ. Преклоняясь перед подвигом, явленным стране Государственной Думой… он вольёт в страну свежие силы для полного отражения неприятельского нашествия…
ВОЗЗВАНИЕ ОБЩЕСТВА ОТЦОВ ДЬЯКОНОВ г. ПЕТРОГРАДА
Аз есмь с вами до скончания века. Аминь… Православное духовенство Петрограда и всей России призывается к единению с народом. Промедление угрожает православию гневом народа.
В Москве – Большой и Малый театры заняты войсками, которые спят в фойе и на сценах…
В Царицыне – …Волна радости и энтузиазма. «Дума – спасительница России» – раздаётся повсюду. Арест тёмных сил произвёл колоссальное впечатление, взрыв восторга.ПОДРОБНОСТИ ВЗЯТИЯ БАГДАДА английскими войсками…
НА ФРАНЦУЗСКОМ ФРОНТЕ…
НА БАЛКАНСКОМ ФРОНТЕ…
318
Военная комиссия ничем не управляет. – Приказы, приказы. – И жулики. – Выбор генерала Корнилова в командующие округом.Хотя Военная комиссия была создана, чтобы руководить военными событиями, но самое большее, что ей удавалось, – это компетентно следить, как события сами происходят, и умно комментировать их внутри себя. Уже имела она под рукой пишущие машинки и отличных писарей, уже и караул преображенцев отражал её от натиска пустых посетителей; по её полномочию сидели офицеры в Таврическом дворце и в Доме Армии и Флота, выписывали тысячи удостоверений офицерам на право быть, на право жить, на право выехать или носить оружие. (Офицеров из частей приводили только что не убитыми – и уж как они рады были получить охранную революционную бумажку!) И обороною самого дворца Комиссия несомненно руководила: эвакуацией той массы взрывчатых веществ, натащенных сюда в первые дни революции, и особенно пироксилина, опасного для перевозки в холодное время (его утопляли в колодце).
Если что происходило серьёзное, благоприятное или неблагоприятное, то Военная комиссия могла только узнать и удивиться. Так удивлялись они сегодня событию на станции Луга: каким образом нестроевому, невооружённому, неопытному, разбродному гарнизону удалось безкровно обезоружить такую отличную боевую часть, как Бородинский полк?
А если издавался в Петрограде военный приказ – то оказывалось, что он исходил не из Военной комиссии. Вчерашний приказ Энгельгардта о том, что офицеров будут расстреливать за попытку навести порядок с оружием, Военная комиссия к себе не относила, как и самого шпака Энгельгардта, лишь по недоразумению окончившего Академию, да он уже и председателем Комиссии не был. (Председателем был неизвестно кто: Гучков – всё время в разъездах, а вот встрял в неопределённой должности полковник Половцов.) И неудержимый казак Караулов всё более размахивался в приказах. Вчера он издавал приказы по всему Петрограду – как комендант Таврического дворца. Сегодня он не был комендант, но всего лишь как член Временного Комитета Думы опять издавал по всему Петрограду уже Приказ № 3, везде распубликованный и развешанный, самым решительным языком (впрочем, это и Половцов подписал бы: воров и грабителей задерживать и даже расстреливать). Смеялись (да и не смеялись), что Караулов примеряется выскочить в диктаторы.
Новый комендант Таврического, ещё один шпак, случайно с полковничьими погонами, либерально-сентиментальный журналист Перетц, пока сегодня ограничивался только удостоверениями на право проживания да пропусками на вход и выход из Таврического, но определённо тянулся тоже издавать громовые приказы, как бы не по всему Петроградскому Округу.
А вот, гонясь ли тщетно за Карауловым, спохватился писать военные приказы и Совет рабочих депутатов! Ещё сегодня ночью, когда генштабисты разошлись и приютились спать кое-где, будто какие-то солдаты от Совета ломились в Военную комиссию, что желают читать приказ, ответили им, что до утра, – а утром они уже отпечатали газетами и листовками, раздавали и расклеивали повсюду, чуть не миллион экземпляров своего «Приказа № 1», ни много ни мало – по Петроградскому гарнизону.
Уже после утреннего кофе генштабисты читали его. Приказ № 1 грубо-претенциозно пародировал военные приказы по Округу, а по сути – нёс всякий вздор, отражая то, что в городе уже творилось: выборы солдатских комитетов, недопуск офицеров, а во многих батальонах Петрограда шли и выборы офицеров, без того никто не смел командовать. Даже ещё удивляться оставалось, что приказ призывал солдат – соблюдать в строю и на службе строгую дисциплину. Если бы хоть так-то! – была бы польза и от этого приказа.
А особый язвительный пункт был направлен именно против Военной комиссии: не исполнять её приказов без Совета депутатов! Так ещё меньше оставалось у Военной комиссии власти и возможностей.
Запасные батальоны жили сами по себе, в каком как придётся, вот развозили туда Приказ № 1. Ездили, напротив, депутаты Думы уговаривать, но в более спокойные батальоны, а поехать, например, в Московский не решались.
Главный штаб крутился сам по себе, руководимый Занкевичем.
Академия Генерального штаба, по ту сторону Таврического парка, привыкала к новой власти. Генерал, её начальник, пришёл жаловаться, что у него отобрали автомобиль, Половцов трунил над ним:
– Ваше превосходительство, благодарите Бога, что вы сохранили голову.
Наступление внешних войск прекратилось полностью. Единственный доставленный полк подавления – Тарутинский – неподвижно стоял невдали от Царского Села. Бородинский был повёрнут назад. Остальные, кажется, и не должны были появиться.
Но опасность грозила не оттуда. Среди генштабистов комиссии появилось такое mot: если мы устоим против революционных властей, то мы революцию спасём.
Не говоря уже об Энгельгардте, Караулове, Перетце – кто ещё командовал под их началом и в их окружении? Энгельгардт поручил «гвардии поручику» Корни де Бат две роты «для защиты населения» и сделал его комендантом городской думы – и он там энергично распоряжался, – а оказался он рядовой Корней Батов, не имеющий других целей, как грабёж, чем и занялись его наряды. И арестован. А при питании арестованных сановников в министерском павильоне пристроился некто Бáрон, потом объявил, что выбран войсковым атаманом на Кубань, – и исчез раньше, чем его разоблачили.
А хаос в запасных частях распространялся уже из Петрограда и на все его окрестности.
И не было единой сильной руки надо всем этим. Во главе Петроградского военного округа – не было же теперь, после ареста Хабалова, после недоезда Иванова, – вообще никого!
Не может так существовать армия.
Из бесед генштабистов всё более выяснялось, что надо искать и предложить сильного и очень популярного генерала, не связанного с троном, – в командующего Округом. Ни один из них, полковников, стать на этот пост не мог по своему чину. (Половцов про себя уверен был, что в революционной обстановке этот пост – как раз для него, в этом был бы и весь смысл его прихода сюда. Но небрежением Ставки или самого Государя – он так и не успел получить генерал-майора.)
И придумали кандидатуру – генерала Корнилова. Воин. Вся Россия знает и любит его за побег из австрийского плена. Никогда не бывал в любимчиках трона – и общество будет его приветствовать.
Хотели получить согласие Гучкова – но он весь день не появлялся. Решили доложить прямо Родзянке.
319
Утро государыни. – Все изменяют!Утро государыни начиналось только в 11 часов. Но ещё задолго до того граф Бенкендорф собрал много вестей, и все неприятные.
Первый и ранний слух был – что готовится нападение на дворец.
Затем даже – что 30 тысяч солдат с пулемётами движутся к Царскому Селу.
Но этого ничего не случилось, никто снаружи не шёл на штурм дворца. Однако, хотя казачья наружная охрана с белыми повязками ещё оставалась, дворец как бы охранялся снаружи уже против самого себя – солдатами мятежных частей, то есть взят в осаду, и значит, могли проверять входящих, только женщины проходили свободно; граф Апраксин, сняв придворный мундир, пробрался в штатском.
Ещё пришло известие, что рота Собственного железнодорожного полка, охранявшая царский павильон – отдельную станцию для царских приездов-отъездов, ночью взбунтовалась, убила двух своих офицеров и ушла.
А потом оказалось, что ночью из подвалов самого дворца, не сказавшись, ушли охранявшие его две роты Гвардейского экипажа, – ушли почти без офицеров, и без знамени, но подчиняясь приказу своего начальника великого князя Кирилла Владимировича.
Охрана дворца таяла.
Все известия были тяжелы, но знал граф Бенкендорф, что уход Гвардейского экипажа всего тяжелей поразит государыню: их слишком любила царская чета, как своих.
А была и одна хорошая новость: графу Бенкендорфу доложили ночную телеграмму, присланную генералу Иванову через дворцовый телеграф: Государь нашёлся! Он был во Пскове и намеревался скоро приехать. (До сих пор все телеграммы, разосланные государыней в разные города наугад, – возвращались с пометкою синим карандашом царскосельского телеграфа: «местопребывание адресата неизвестно».)
Со всеми этими новостями обергофмейстер Бенкендорф и ждал, когда пробудившаяся государыня позовёт его, чтобы доложить ей и всё горько необходимое, и единственное утешающее.
Хорошо привыкнув к государыне, он мог видеть сегодня по её вялости, подведенным кругам глаз, по тону голоса, что эту ночь она спала совсем мало. Она приняла его лёжа на диване. Но едва услышав, что Государь во Пскове и шлёт успокоительную телеграмму Иванову, и скоро намерен быть сюда сам, – так резко и радостно поднялась на локте – граф побоялся, что она повредит себе, изогнётся как-нибудь не так.
– Слава Богу! Слава Богу! – перекрестилась государыня, полусидя. – Значит, он не задержан никем! Он опять со своими войсками! Всё спасено! Он явится сюда в силе!
Усмехнулась своей слабости:
– А я, граф, лежу и удивляюсь: снаружи радостное солнце сегодня, и почему же может быть так всё плохо? Но солнце не обмануло.
Она позвонила и велела камеристке отдёрнуть тонкие шторы, забиравшие часть света.
Однако неизбежно было докладывать дальше. И почтительно домашний Бенкендорф сказал об уходе рот экипажа по вызову великого князя Кирилла.
Сперва – исторгся раненый стон из груди государыни. Она взялась рукой у лба. Снова опустилась на подушки. И, так держа руку козырьком от слишком яркого света, произносила изредка:
– Трусы. Бежали. Какой-то микроб сидит во всех. Ничего не понимают. Мои моряки! Мои собственные моряки! Я не могу поверить. – И с новой силой извилась, вскричала: – И все офицеры?
– Нет, некоторые остались, Ваше Величество, и ждут вашего приёма.
Остальных новостей государыня уже не восприняла. Уже и не могла она лежать несколько часов, набираясь сил, надо было вставать, все ждали её.
И так, не собравши ясного сознания, она двинулась в новый безумный день.
Что может более подкосить, чем цепь измен? Все изменяли! Хотя Конвой никак не изменил – но горько было, что вся Россия теперь переполаскивает его измену… (А они – ни в чём не виновны. Из петроградской полусотни приехал конвоец: а у них уже слух, что Александровский дворец разрушен и под развалинами погибла вся царская семья.)
Даже раньше обхода больных детей приняла в розовом будуаре верных офицеров экипажа.
Рослые морские офицеры стояли со слезами в глазах от позора. Одно удалось им – сохранить знамя экипажа. Теперь они все просили, чтоб дозволено было остаться им при императрице. Они ставили это выше подчинения своему командиру и переступали его приказ.
Государыня была тронута их преданностью и сохранением знамени, и тем отчасти простила экипажу.
– Боже мой, что скажет император, когда услышит об этом!..
И тут вскоре поднесли ей прямую телеграмму от самого императора – первую за двое суток!
Из Пскова, сегодня же в полночь. Радость прямых обращённых слов, нежность, невыразимая через чужое перестукивание телеграфных ключей. А новости – никакой, даже нет намерения скоро приехать в Царское, как выражено было Иванову.
Но лишь немного шагов она совершила, держа драгоценную телеграмму в руке, как генерал Гротен доложил ей несколько новых шоковых новостей.
Что в Луге – революция и разоружён верный Бородинский полк, шедший сюда на выручку в распоряжение генерала Иванова. (Сразу кольнуло: Луга – на прямой линии из Пскова, как же проедет Ники?)
Что сам генерал Иванов со своим эшелоном ночью отбыл в сторону Вырицы. (Очевидно, поехал выручать Государя!)
Что в Царском Селе возобновились безпорядки, грабёж, пьянство.
А телефоны дворца перестали работать с Петроградом. Несколько раз пытались вызывать – наконец телефонист прошептал в трубку: «Я не могу вас соединять. Телефон не в наших руках. Я прошу вас не говорить. Я позвоню вам сам, когда это будет возможно».
Ещё сохранялся прямой провод с Зимним дворцом, но там ничего не происходило, и прислуга ничего не могла сообщить.
И с такими новостями по тяжёлой лестнице государыня поднялась к больным детям на 2-й этаж в их тёмные комнаты. Температура у всех, кроме ещё здоровой Марии, была между 37 и 38, но осложнения не проявлялись, только у Тани начало болеть ухо. Все очень слабы, но Алексей даже и весел.
Уже вчера мать стала им кое-что рассказывать из происходящего, – мучительно притворяться дальше. А сегодня стала говорить почти всё как есть. Две старших дочери уже имели большой опыт работы в госпиталях, в комитетах по раненым и беженцам, научились наблюдать людей и их лица, сильно развились духовно через понимаемое ими страдание семьи, и так уже знали последние месяцы, черезо что семья проходит. У них уже была и вдумчивость, и душевное чувство. Пусть знают всё. Даже об экипаже.
И приняли – молодцами. Мари – потому ли, что ещё здорова, – особенно гневно возмущалась уходом экипажа. У старших было – примирение с Божьим Промыслом.
Ещё один урок познания людей.
Теперь, поднявшись на 2-й этаж, государыня оставалась уже тут. Опять сильно болело её сердце, обычное расширение, когда не помогают и капли. Приходится выносить больше, чем сердце может вынести.
Государыня испытывала изнеможение, но держалась силою, чтобы не подумали, будто упала духом. Курила, чтоб утишить боль сердца. Сейчас надо было найти в себе силы идти на ту сторону дворца проведывать Аню. И очень трогалась Александра Фёдоровна, что Лили Ден уже четвёртый день не хочет покинуть царскую семью, не едет к своему сыну в город.
Государыня чувствовала, что ей надо что-то сообразить и сделать, что-то ускользает от её соображения, – но её то и дело тормошили – то Апраксин, то командир Сводного полка Ресин, то самые приближённые, – она терпеть не могла, когда отрывают и всё теряешь линию.
Да, вот что! Отчего не послать во Псков аэроплан с письмом Государю? Самое простое решение. Послала узнать в лётную команду, есть ли такая возможность.
Всё смешалось в голове, какие-то вихри, нельзя уложить верное соотношение вещей. Чем кончится? Как это решится? Что предпринять?
Что он делает во Пскове? Действительно ли это был вольный выбор ехать туда? А если вынужденный? Хотят не дать ему увидеться с его верной жёнушкой – и может быть, подсовывают какую-нибудь гадкую бумагу?
Полковник доложил: аэроплан исправный есть, но исчезли все лётчики.
Все изменяли! Все исчезали!
Как же послать письмо? Как же дать ему знать? Как прорвать этот заговор? Разрывается сердце, что и он в одиночестве, и мы, и ничего не знаем друг о друге.
Одно средство – гонец. Верный офицер. Пусть едет. Пусть едет поездом через мятежную Лугу и тайно везёт письмо. Дожили! – письма царской четы должны проходить тайно.
Тут генерал Гротен подал пакет от Павла.
Павел сообщал, что вчерашнему проекту своего «манифеста» он не мог дать лежать без движения. И поскольку государыня его не подписала, а имя Государя должно быть укреплено и поддержано в нынешней обстановке, – он счёл за благо собрать подписи кого мог из великих князей, вот их троих, с Кириллом и Михаилом (что одновременно разрушало и вредные возникшие слухи о регентстве Михаила – как бы гарантия, даваемая от династии). И этот манифест вчера поздно доставлен в Думу и сдан Милюкову, который его одобрил.
И снова прилагался тот вчерашний текст на машинке, отброшенный государыней.
Женский глаз не мог тотчас не заметить первое: что объединяло этих трёх великих князей – что все трое они были морганатические отступники от династии. Манифест морганатиков! – невиданное дело!
И теперь эти трое, не имевшие власти над самими собой, над своими страстями и слабостями, – предлагали своему Государю, в какой форме ему лучше всего уступить государственную власть! Только и додумались!
И презренный Милюков – одобрил ! Ну конечно! И великий князь Павел писал об этом с гордостью.
О Боже, до чего мы пали.
Но на Павла почему-то не было сердитости.
А те , Милюковы? Всё рвались к власти – ну пусть водворяют порядок, ну пусть покажут, на что они годятся! Пожар они зажгли большой – как будут его теперь тушить?
Ещё мало было в это утро ударов – принесли ещё один. Но принёс мужественный Гротен, который своей выдержкой и чистотой как бы очищал от этих измен. Он принёс – розданную начальникам всех царскосельских частей записку Кирилла – «контр-адмирала Кирилла», – что со своим Гвардейским экипажем он вполне присоединился к новому правительству и надеется, что все остальные части сделают то же!..
Морганатик! Рядом с «манифестом». Мало, что изменял сам, – убеждал и других изменять.
О Боже, о где же граница измен?
Всё было – отвратительно! Но государыня заставляла себя верить, что всё ещё будет – хорошо!
320
Эверт бьётся под ультиматумом. – Сила солому ломит.Насчёт революционных разлагающих телеграмм, которые генерал Эверт так энергично воспретил, – ответила Ставка в десятом часу утра изощрённо: что генерал-адъютант Рузский уже разрешил пропускать те, которые клонятся к успокоению, порядку и подвозу. (Будто!..) И генерал-адъютант Алексеев, признавая необходимым одинаковое решение по всем фронтам…
Замечательно! Но если – одинаковое, то почему не решение Эверта, он отдал его раньше Рузского: все телеграммы задерживать и воспрещать как идущие от мятежного центра и непризнанного правительства! И Ставка оповещена была ночью. И могла бы принять за образец именно законное командирское военное решение Эверта.
От мятежников – заявления к успокоению и порядку? Или будут они подвозить продовольственные запасы армии? Да погонят к себе, в анархический Петроград.
Что ж это такое? Тёр Эверт свой большой непроёмный лоб: Рузский и Алексеев что ж? – становились на сторону бунта? Но тогда хотел бы Эверт иметь прямой приказ от Государя.
Однако Государь был в отрыве, в молчании. И может быть в капкане у Рузского.
Эверт в волнении крупно ходил один по своему кабинету. Что он мог поделать? Не подчиниться прямому начальству? Но то был бы новый бунт! Всякое действие предполагает, что имеется ясный приказ сверху. Как и подчинённые выполняют дальше приказы Эверта. Сила – только в единстве подчинения.
Но что делать, если подчинение распалось выше Эверта? Он так начинал подозревать, ибо не мог таких приказов приписать Государю. Да Алексеев и не ссылался на государеву волю.
И остановку полков Западного фронта Алексеев тоже скомандовал явно от себя. И вот – полки стояли, мялись, ни туда ни сюда.
Но как можно решиться выпасть из армейской структуры и действовать по собственному убеждению? На такой случай не было у Эверта ни сознания, ни советчика.
Так он провёл тяжёлый час. Всё бурлило в нём, а ни в какое действие вырваться не могло.
Но и от жданья ничего не произойдёт. Приказ есть приказ. Надо собирать губернскую и городскую верхушку (и очевидно земгоровскую?) – и внушать им, как чтобы телеграммы не разрушили порядка.
Под окнами штаба площадь и улицы жили ещё мирно. Но подобные телеграммы могут за несколько часов наэлектризовать город до смятения.
То есть, конечно, Минск уже много знал – от проезжих и по слухам, но пока этого нет в газетах – это как бы не существует, плотина держит.
Тут постучался Квецинский, вошёл походкой селезня, с подпухшими вялыми глазами, виевыми бровями, и доложил:
– Алексей Ермолаич! Вас Ставка к прямому проводу.
Ну, наконец объяснимся! Ну, это уже объяснение! Ну, хотелось бы Алексеева самого, и покрепче с ним!
Почти кинулся Эверт в аппаратную, подымая вихри.
Но у того конца был не только не Алексеев, даже и не Лукомский, а всего лишь Владислав Наполеонович Клембовский.
Он желал Алексею Ермолаевичу здравия. И вот что передавал по поручению наштаверха. Его Величество находится во Пскове, где изъявил согласие навстречу народному желанию учредить ответственное перед палатами министерство…
Ну, если Государь так соизволит. Но почему во Пскове?
…поручив кабинет председателю Государственной Думы…
Этому мерзавцу. Так.
…Однако по сообщении этого решения главкосевом председателю Думы сегодня ночью, последний ответил, что такой акт является запоздалым…
Ну, не берёт, и гнать его в шею!
…ныне наступила одна из страшнейших революций, сдерживать народные страсти трудно, и династический вопрос поставлен ребром…
Династический?! Да Боже мой! Да в чём же?
…и победоносный конец войны возможен лишь при отречении от престола в пользу сына при регентстве Михаила Александровича…
Медленная лента струилась слишком быстро! Быстрее, чем голова Эверта могла всё понять, связать, переварить! Как бомба с потолка грохнуло – отречение??? И накатывало новое, накатывало дальше:
…Обстановка, по-видимому, не допускает иного решения , и каждая минута дальнейших колебаний…
Совсем ошелоумел Эверт и плохо понимал ленту дальше. Контужен был, щупал свою лбину и не удивился бы, если бы кровь потекла из-под пальцев. И странно, что все предметы в комнате стояли и висели по-прежнему, и штукатурка не осыпалась.
Не только – мысль об отречении, но и – не допускает иного решения?.. И даже все колебания – уже кем-то пройдены, позади?
А лента доносила:
…спасти Действующую армию от развала… спасти независимость России… поставить на первом плане судьбу династии…
Это вообще не охватывалось, не понималось даже – о чём? Спасать Россию – ценой династии? То есть погубить её? Всё перепластывалось, переворачивалось, неухватно куда-то катилось…
…Если вы разделяете этот взгляд, то не благоволите ли телеграфировать весьма спешно… Его Величеству через главкосева, известив наштаверха?..
Так – ещё не решено? Так зависит от Эверта, что ли? И надо телеграфировать весьма спешно – а что же думает Его Величество? Самого главного тут и нет! – что же решил Государь?
…Потеря каждой минуты может стать роковой для существования России… – угрожала лента, – …между высшими начальниками установить единство мыслей и целей… и спасти армию от возможных случаев измены долгу…
Да остановись, проклятая, никакой головы не хватит!
…переворот, который более безболезненно совершится при решении сверху…
Переворот – но сверху? что за белиберда? И – не допустить измены долгу ? И – не допускает иного решения?..
– Вот и всё, – заканчивал Клембовский. – И если вы имеете задать вопрос, то я в вашем распоряжении.
– Безболезненно для армии – если только сверху?.. – бормотал Эверт, а телеграфист так понял, что это ответ, и выстукивал.
Взять себя в руки! В той же растерянности, непонятливости, но твёрже:
– Найдутся элементы враждебные… а может быть и желающие ловить рыбу в мутной воде…?
Это он – скорее думал, чем говорил, а чёртова машина урывала, уносила слова. Нет, так сразу отвечать нельзя.
– А запрошены ли остальные Главнокомандующие?
– Всем Главнокомандующим сообщено одно и то же.
Ну да, потому что они все заодно: Алексеев. И Рузский. И конечно Брусилов. И конечно Непенин? Их – большинство, и они уже решили? А мы – разрознены? Или я один?
Мелькнуло спасительное: как они запрашивают, так и мне бы дальше? До корпусных?
– Есть ли время сговориться с командующими армиями?
Но уже настолько не было времени, но уже настолько некогда думать:
– Время не терпит. Дорога каждая минута. И иного исхода нет. Государь колеблется, единогласные мнения Главнокомандующих могут побудить его принять решение, единственно возможное для спасения России и династии.
Иного исхода нет!? Решение – единственно возможное!? И – ни минуты для решения! Пот прошибал под кителем и в волоса. И – ещё гнали, хуже:
– …При задержке решения Родзянко не ручается, всё может кончиться гибельной анархией. Надо также иметь в виду, что царскосельский дворец и августейшая семья охраняются восставшими войсками…
Об армейских командующих – не ответила Ставка.
Но – и от Эверта не могла она требовать рявкнуть «так точно»!
– Больше ничего не имею, – отрезал Эверт.
– Имею честь кланяться, – невидимо улыбался Клембовский.
И остался Эверт – с непроглоченной тушей вопроса, – большею тушей, чем был сам.
И – на самое короткое время.
А – повернуть сейчас несколько дивизий и идти из Минска на Могилёв?.. Тут совсем недалеко, завтра можно взять Могилёв.
Но – дальше? Но бунт – в Москве. Но если бы в Могилёве был Государь и сказал бы одобрение, – а как же всё одному? Против – всех?
Спрашивать трёх командующих? Горбатовский, Смирнов, Леш?.. Разве что время оттянуть, а что они скажут?
А ответ – немедленно!
И ведь как: для сохранения армии. Для победы над немцами. Для спасения России! для спасения династии!
Однако Государь колеблется?
Кто это может проверить, вырвать из стеклоглазого Рузского?
Но и: царская семья – в руках мятежников!
Никогда ещё Эверт не бывал обязан такое трудное – решить так быстро. Такое высокое, обширное и в общем невоенное – простой армейской головой.
Нет! Позвал Квецинского:
– Запросите Ставку, пусть сообщат, как ответили Рузский и Брусилов.
Совсем ничего не ответить? Но запрос был – как бы от Государя? (Этого не проверить.) А на запрос Государя как сметь не ответить?
Но – и что ж он напишет?
Не о своём же смятении. Не о своей же безпомощности. Да, спасение России от порабощения Германией – это на первом месте, так. И спасение династии – да, это понятно. Эверт и принимает все меры, чтоб оберечь армию от всяких сведений о положении в столицах. Но там-то что творится! А на Балтийском море! Это ужас! И это – анархическая банда, не регулярный порядочный противник, против него нет боевого опыта. Эверт не имеет такого опыта. А если – начнёт заражаться и армия?..
Да как можно самостоятельно решиться на военные действия?.. Надо поступать как все. Как остальные.
А в дверях вот он и Квецинский:
– Отвечают: и Рузский, и Брусилов – оба согласны с предложенным. Наштаверх просит поспешить с решением.
Опять поспешить, о Боже, куда ещё быстрей!
Поддержать ходатайство, если согласен… А если – не согласен?..
Там, на юге, Сахаров и Колчак, может быть, думают и иначе, но не перепрыгнуть через Брусилова, не послать связного птицей.
Так что, может быть…? Может быть и правда?.. Чем-то же надо прекратить безпорядки?
При создавшейся обстановке… не находя иного исхода … измученным умом… исхода, который невозможно вымолвить или написать пером, но вы, Ваше Величество, знаете… понимаете… Безгранично преданный Вашему Величеству верноподданный может только умолять… Во имя спасения родины и династии… Если этот исход – единственный?.. И может спасти Россию от анархии?..
И если так ответить – то Его Величество поймёт!
И насколько сразу легче самому! Заодно с остальными.
Да ведь и царские дети в руках мятежников, как же быть?..
Вот так мы попадаем иногда… Сила солому ломит…
Написал ли бы Эверт это всё или не написал бы, но пока он мучился и набрасывал, – пришло из Ставки подтверждение ночному своеволию Алексеева:
«Государь император приказал вернуть войска, направленные к Петрограду с Западного фронта, и отменить посылку войск с Юго-Западного».
Вот как! Вот урок! Государь – отнюдь не колебался, значит!
Он сам – вот прекращал борьбу.
Он – знал, что делал.
И Эверту оставалось только…
И насколько легче!..321
Алексеев нажимает на Главнокомандующих.
Мгновенный брусиловский ответ положил хорошее начало консилиуму Главнокомандующих.
Но дальше – замялось, никто не спешил ответить. Генерал Алексеев волновался. Начавши такой опрос – уже нельзя было растягивать. Если никто больше не ответит – запрос падёт пятном на Алексеева. Единолично – он не смел бы выступить за отречение.
Почему молчал великий князь Николай Николаевич? От него можно было ждать ответа и быстрого и приветливого.
Прошло больше часа – Лукомский послал на Кавказ подгонную телеграмму.
Отозвался Янушкевич: ответ – скоро и будет в духе пожеланий генерала Алексеева.
Хорошо!! Не подвёл великий князь.
Для запроса флотам Алексеев вызвал к себе адмирала Русина, начальника морского штаба при Верховном. Алексеев положил перед ним телеграмму – и увидел, что адмиральский взгляд похолодел.
– Какой ужас! – выстонал адмирал. – Какое великое несчастье!..
Да, это было так. Да, пожалуй, это было так. Но с тех пор как Алексеев взялся за разумный консилиум Главнокомандующих – он уже был в действии и уже отрешился от этой первичной робости. Вопрос стоял о спасении России и династии, и не время предаваться сантиментам.
Эверт тянул. Хотел узнать мнения других Главнокомандующих.
Задумался Алексеев над мыслью Эверта: запросить ещё и мнение командующих армиями. Логика тут была. Но ввязывать ещё двенадцать человек? И громоздко, и долго, и что выйдет? И зачем? Командующим обстановка внутри Империи мало известна, поэтому запрашивать их мнение – лишнее.
Но хитрее всех вывернулся Сахаров: вообще прервал связь Румынского фронта, отключился!
Лукомский кричал в аппаратной, требовал немедленно восстановить связь с Яссами.
Придумали: попросить Юго-Западный связаться с Яссами как бы от себя.
Тут как раз пришло изо Пскова высочайшее соизволение воротить на места полки Западного фронта и не посылать с Юго-Западного.
Как Алексеев жёгся, ждал этой телеграммы прошлой ночью! И сколько же изменилось за 12 часов, что она была уже почти и не нужна, разумелась сама собой.
Но – спадал с Алексеева последний стыд перед обществом за эти посланные на Петроград войска! И – добрый знак: Государь настроен благоразумно. Так, вероятно, будет сговорчив и с отречением.
Поручил послать отбойные телеграммы Эверту и Брусилову.
Наконец – вырвали согласие и от Эверта.
Восстановили связь с Сахаровым – теперь просил он ответы остальных Главнокомандующих. Каждый оглядывался, боялся проиграть.
Телеграфировали ему, что все уже ответили положительно. И торопили.
Три ответа пришло, и, просматривая их, Алексеев решил составить из них сводную телеграмму Государю. И – скорее, успеть, пока там всё решается.
Но надо было думать и дальше: откуда Государь возьмёт самый текст отречного манифеста? И он должен быть торжественный, выразительный, сохраняя традицию русского престола. Надо составить его в Ставке, тут.
Лукомский брался составлять, но Алексеев подыскивал более опытные перья. А для чего же состоял при Ставке начальник дипломатической части вице-камергер Базили, протеже Сазонова? И ещё нашли в помощь военного юриста. И ещё одного бойкого ставочного подполковника Барановского. И они уединились сочинять.
А Алексеев снова горбился над своим столом и снова гнал телеграмму, обширную.
…Всеподданнейше представляю Вашему Императорскому Величеству полученные мною телеграммы…
И первую – конечно от Николая Николаевича: и потому, что великий князь. И потому, что очень уж выразительная.
Затем – от Брусилова, по несомненной её категоричности.
Затем – от Эверта, в конце концов неплохо получилось.
А Рузский – сам там.
От Сахарова ещё не было. От Непенина не было. И не было от Колчака.
Четыре есть, трёх нет. Восьмое мнение должен был доложить сам Алексеев.
Но после трёх уже включённых телеграмм, где страшное для Государя решение уже было названо прямыми словами, – Алексееву без нужды было лишний раз травить государеву рану.
Ему стало жалко Государя. Так и видел он перед собой его добрый, светлый, ласковый взгляд, как ни у кого.
И Алексеев – избежал назвать прямо страшное слово «отречение» или о чём идёт речь.
А только: что умоляет Государя принять решение, которое внушит Господь Бог. Его Императорское Величество горячо любит родину – и примет то решение, какое даст мирный благополучный исход.
322
Воротынцев в киевском поезде.
Как бываем мы несоразмерны ходу времени, то сгорая в минуты, то продремливая месяцы, – так и ко многим событиям бывает неготово наше непослушное тело: они застигают нас в несоответственном состоянии. Должно в нас само что-то осесть, переместиться, и только тогда мы вполне отчётисто примем любой удар, неожиданность, горе или даже радость.
Так и теперь в киевском поезде, с отрезанными возможностями что-либо сделать, без опасности куда-либо опоздать, Воротынцев отдался этой внутренней укладке.
После сильных мятелей здесь до сих пор не всё, не везде было расчищено, поезд тянулся, тянулся мимо сугробов и баб с деревянными лопатами. Подолгу стоял на станциях, забыв расписание. И в этой удолженной, растянувшейся поездке, бездействии, тесноте купе и молчании, к счастью сосед всё время спал, – Воротынцев стал приходить в себя как от обморока.
Постыдность! постыдство за прожитую неделю! Нельзя было провести такую неделю – безсмысленней и одураченней. Провалялся по дамским постелям – не очнулся, не догадался, что попал в самую гущу невероятных событий. Всю жизнь мечтал оказаться на самом опасном нужном месте, на своём Аркольском мосту, – и вот, может быть, посылалось ему где-то действие несравненное – а он проволочился тряпкой, поражённый внутренним недугом, – всё пропустил. Если б ему когда предсказали – не поверил бы.
А вчера был ещё по-особенному потерянный день, ибо открыт для движения, открыты глаза – а ничего не придумал. А сегодня? Неизвестные, неуловимые, неостановимые события происходили где-то всякий час – а Воротынцев только дальше отъезжал от них, в незнании и в бездействии.
Но – Государь?! Но – что же он? Да не для этого ли самого момента он 22 года носил сияющую корону? принимал овации народных толп?
А он – поехал к жене и деткам?..
Но. Но запутаться, вот, оказалось легко. Но семейная слабость – о-о! – она всякого может взять.
Нет, Георгий сейчас не имел прежней сердитости и безжалости к Государю. Даже сам не заметил, когда и как это стало. Со вчерашнего дня, когда узнал, что царь задержан? Или от ольдиных уговоров, ещё в октябре, и сейчас? Прошлой осенью изводило и мутило Воротынцева, что трон губит армию в ненужной войне, в государевой воле он видел препятствие к разумному выходу из войны. А сейчас грохнуло так – что только бы, только бы не рухнул фронт.
Трон – только тронь , говорила Ольда. Но и фронт – только тронь.
Теперь угнетала не та прежняя угроза измотать солдатские силы – но всё полетело кувырком за спиной Действующей армии. Это – куда хуже того, что рвался Воротынцев предупредить.
И таким жалким показался ему теперь его осенний перебродливый поиск.
А – что ж было правильно?..
Имея дело с такими историческими массами – нельзя нервничать и дёргаться. Прав был Свечин?
Но где же Государь?? Пока он не признал петроградских мятежников – они никто, и в стране ещё ничего не произошло. Он – в их руках? Или вырвался?
Или – вообще он не был задержан, то только слух?
Ах, теперь прояснялось, не додумал, ошибся: вчера с Николаевского вокзала всё-таки надо было гнать вослед государеву поезду – найти – и, может быть, оказаться полезным?
Кончился поездной покой – занозило, хоть поворачивай.
А куда теперь! – смешно. Как-то там уже развязалось.
Киевский поезд – тащился, подальше ото всех событий. И стоял в глухоте, томился.
Воротынцев выходил помотаться по короткому заснеженному перрону – может быть, узнать какие новости? Да где там! Для здешних события остановились на вчерашнем и позавчерашнем. Напротив, это местные обыватели окружали пассажиров с расспросами, даже вскакивали в вагоны, и просили газет, газет, каких-нибудь вестей! – что там творится, в столицах? Россия лежала в глухоте и никакой революции не знала.
323
Шингарёв в продовольственной комиссии. – Вместо министра финансов – министром земледелия.
Как пошёл Шингарёв 28-го февраля в Продовольственную комиссию, так и сидел там третьи сутки, мало отвлекшись на сон и на еду. За всё это время он не участвовал в политических страстях, интригах, замыслах, надеждах, даже не следил за ними, как будто и не в Таврическом дворце находился (а одну ночь и ночевал тут). В Продовольственной комиссии совсем не краснокрыло ощущался полёт революции, но – перекидкой косточек счётов, накладными, нарядами, колонками цифр. Но и, пожалуй, единственное это было место, где не уверенный в себе Думский Комитет и наглеющий Совет рабочих депутатов не соперничали, не подозревали друг друга, но сотрудничали.
Шингарёва всегда тянуло к живому делу. А живей и важней продовольствия вряд ли и было что сейчас в Петрограде. Есть хотелось всем по-прежнему и в революцию, и у хлебных лавок с утра собирались хвосты.
Да муки-то в Петрограде было совсем и не мало! – как теперь с удивлением обнаруживал Шингарёв по стекавшимся документам, – ещё же и военные запасы. Вся опасность оказалась сильно преувеличенной. А поскольку мятели кончились – на Николаевский вокзал как ни в чём не бывало продолжали прибывать новые вагоны с мукой. Но именно благодаря революции они не разгружались. Новые многие тысячи пудов! – и надо было срочно разгружать их, перевозить, снова складывать, отпускать пекарям, выпекать – а ни у кого настроения не было. Надо было уговаривать грузчиков и пекарей, призвать к их сознанию как граждан.
А – охранять развоз муки по хлебопекарням? (Нападений на муку и хлеб ещё не было, значит не голодны, но по общему безпорядку в любую минуту могли напасть.) А – кто-то же должен был теперь кормить и солдат, в защите дела свободы отбившихся от своих казарм? И целые лишние полки, нахлынувшие из окрестностей в Петроград? Очевидно – надо было выделить и подкомиссию по фуражу, и что-то решать с петроградскими извозчичьими лошадьми, которые лопали хлеб из-за того, что нет фуража.
Чего никогда не посмела бы отмершая старая власть – могла сделать нынешняя Продовольственная комиссия: обратиться к чести и достоинству каждого гражданина, получившего теперь свободу, – прося его ограничить себя в потреблении продуктов первой необходимости и делать закупки только по действительной потребности, а не в запас.
Но, с другой стороны, нельзя было и пренебрегать введением карточек на хлеб. Как ни обидно, но приходилось начать революционную эпоху с установления хлебных карточек. Обывателю установить норму полтора фунта в день, нет, даже фунт с четвертью, – а солдатам, считаясь с их буйным революционным духом, придётся два с половиной.
Но Шингарёв, со своим уже государственным опытом, видел, что дело никак не ограничится одними петроградскими хлебными заботами: перед глазами вставала вся страна. По своему положению кто ж, как не Петроград, обязан был продолжать безперебойное снабжение Финляндии, Балтийского флота да и Северного фронта? А по той революционной роли, в которой Петроград уже объявил себя России, – очевидно он, а не кто другой, должен был обезпечивать хлебом и всю Действующую армию и все города Империи. И все эти заботы, пока не существовало нового правительства, – кому ж было брать сейчас, как не Продовольственной комиссии? И Шингарёв убеждал своих случайных революционных коллег: революционная власть должна жить и завтра, и послезавтра, – и поэтому забота быть должна не только о том хлебе, который уже в Петрограде, но о том, который всюду по России, и надо, чтоб захотели везти его в Петроград и другие места.
А надежда Шингарёва была – на добрую волю, на доброе сознание самого народа! Наш народ веками был лишён драгоценного дара свободы. А теперь, когда революция предоставит ему свободу во всей широте, – он сам, наш Святой и Великий Страдалец, нащупает верные пути. До сих пор потому недостаточно поступал хлеб, что крестьяне не доверяли старой власти. А если теперь открыто призвать крестьянство к безкорыстной сдаче хлеба, – то оно тотчас широкодушным движением, вереницею подвод потянется навстречу новой революционной власти. Итак, не обойтись без воззвания ко всей стране, первого воззвания революционной власти к России, и будет оно – о хлебе. Как-нибудь так: «Граждане! Совершилось великое дело: старая власть, губившая Россию, распалась! Главная задача теперь – обезпечение продовольствием… Запасов хлеба от старой власти осталось очень мало, и надо спешить заготовлять…»Но кто такая анонимная Продовольственная петроградская комиссия, чтобы взывать к России?
А кто теперь вообще мог, имел право взывать к России? Одно такое несомненное имя было: Родзянко. Надо убедить Михаила Владимировича подписать. Да он несомненно подпишет.
Но прежде надо составить эти сильные слова, этот звучный призыв к русским сердцам.
И Шингарёв – искал их, мучась, что всё приходят не те, не самые лучшие, сидел за углом случайного стола и набрасывал это воззвание, сам до того волнуясь, что должен был скрывать от соседей наплытие слез:
«…все как один человек – протяните руку помощи в эти грозные дни! – пусть ни одна рука не опустится!»
Когда Андрей Иванович думал о народе – о народе в целом и обо всех благородных сердцах, его составляющих, – он всегда был слаб на эту слёзную поволоку в глазах и в голосе, он всегда выражал лицом и голосом больше, чем неподатливой речью устной или письменной:
«Скорее продавайте хлеб уполномоченным! Отдавайте всё, что можете! Скорее везите к железным дорогам и пристаням! Скорее грузите!.. Время не ждёт! Граждане! Придите на помощь родине хлебом и трудом!»
Удалось написать. И удалось переломить сопротивление сухих социалистов Громана и Франкорусского, не верящих в сердечные воззвания, а только в экономические законы. И без труда размахнулся широченной подписью Родзянко. И это попало в газетные листки, запорхало!
Но уже через несколько часов социалисты прижали Шингарёва в реванш: землевладельцы – разные, и у которых большие запашки – хлеб надо реквизировать, а не взывать к добровольной сдаче. Революционная власть – обязана так.
После душевной сласти воззвания Шингарёву это было как нож. Посопротивлялся он им, сколько мог, но сила и напор были за ними. И Продовольственная комиссия разослала во все концы России такую телеграмму (по телеграфной скорости она должна была воззвание где нагнать, где обогнать): у всех земельных собственников с запашкою больше 50 десятин (а это – совсем не большое владение!) реквизировать (без понижения цены, – только и добился Шингарёв) хлебные запасы. И – запасы торговых предприятий и банков.
Никакой Россией не выбранная, России не известная, петроградская анонимная комиссия телеграфировала такую команду.
И в этих волнениях и борениях, честное слово, забыл Шингарёв, что в какой-то другой комнате создаётся же правительство, и он вот-вот перейдёт туда министром финансов.
Вдруг пригласили его зайти к Милюкову.
В той комнате, где Милюков сидел, тоже теснились лишние люди, и не только доверенные. Присел к нему поближе, разговаривали вполголоса.
Черты Павла Николаевича за эти сутки обострились: брови стали как будто ребёрчато-угловатые, а усы даже на вид пожестели до проволочных. Напряжён был – а вместе с тем как будто и рассеян; разговаривал с Андреем Ивановичем, а думал как будто и о другом.
Да разговор-то недлинный: лидер кадетской партии сообщал своему сочлену и заместителю по фракции, что в новом правительстве он получает портфель.
Ну да, кивал Шингарёв.
Однако – так и не так, выразил Павел Николаевич озабоченность, и с выражением неприятности, жёсткости. Тут – некоторая более сложная комбинация, выходящая за внутрипартийные расчёты. Андрею Ивановичу придётся стать министром – земледелия и землеустройства.
Что называется – глаза на лоб полезли у Шингарёва: как? что? с чего? почему? Да ведь… да ведь не сам он, но вся кадетская фракция, но вся Дума привыкла и прочила его в министры финансов!
Не то чтоб он был финансист или специалист по финансам, такого образования он не имел, но кадетская фракция была настолько иссушающе юридична и гуманитарна, настолько никто не владел никаким практическим делом и даже считать никто не умел; а кому-то надо было заняться финансами, – вот и взялся Шингарёв. И – годами сидел над сметами, и учился у финансовых чиновников, и изучал методы – и, кажется, довольно блистательно оппонировал Коковцову. Столько труда, изучения, анализа – зачем же?..
Открытый лоб Шингарёва не умел скрыть чувства. Но Павел Николаевич ни с кем никогда за всю, наверно, жизнь не бывал ни открыт нараспашку, ни душевно мягок, – сентиментальности и участия не ждал от него и близкий товарищ по партии. Милюков даже не захотел изобразить подходящего к делу сожаления. Хотя именно этим словом ответил, как диктуя:
– К сожалению, это совершенно неизбежно. Это не подлежит дискуссии. Нельзя было устроить никак иначе.
Очевидно, он многое знал такое, чего не мог сказать. Да Шингарёв привык видеть в Милюкове крупномасштабного политика, не сравнимого с собой. Он верил ему, он шёл за ним, он готов был и согласиться и дать себя уговорить, – но всё же хоть что-то объяснить? Уж как обидно! – направление стольких лет работы вдруг вывалить из рук.
И тогда омрачённому Шингарёву Павел Николаевич тихим голосом объяснил:
– Да что, Андрей Иваныч. Так можно вас посчитать и специалистом по военно-морскому делу, раз вы в комиссии председательствовали. В конце концов, разве вы углубились до производительных сил государства, как направить экономику? Ваши заботы были – о справедливости прямых и косвенных налогов, они диктовались вашим прекрасным народолюбием. Так в этом смысле вам ещё больший простор будет на продовольствии. Последние месяцы вы им и занимались, удачно оппонировали Риттиху, – вот и займите его место.
И во всём этом – да, была какая-то правда. Павел Николаевич умел говорить убедительно. Однако, всё же, столько лет труда, усилий – и…?
Но положение было – не возражательное. В такие дни на какой бы пост ни назначила партия, надо брать. Шингарёв и раньше всегда привык: брать всякое новое дело, тянуть, и на этом учиться. И на военно-морском деле он не такой уж был несведущий, да. И о продовольствии – тоже уже подумал немало, верно, да.
Почему это всё переместилось – Шингарёв не настаивал знать. Но настолько он был обезкуражен, и так обидно, что не догадался даже спросить: кто же будет министром финансов.
Уже уйдя, подумал: а почему же всё-таки не обсудили раньше, а так – за глаза, без спросу? Как странно, неколлегиально создавалось такое желанное министерство общественного доверия!..
А для Шингарёва это был выбор жизненного пути на всю теперь революцию. Уж в земледелии – он был знаток совсем никакой, разве только от критики столыпинской реформы.
Но возвратясь в Продовольственную комиссию (и ничего не сказав социалистам), перечитал своё вчерашнее воззвание – и снова пронялся чистотой и трогательностью чувства. А вот рядились цифры, цифры, – не всё ли равно какого министерства, в рублях или пудах, – за ними стояли красавцы-колосья и колебалась сама народная жизнь, которую и надо поднять из разорения к расцвету.
Ощутил Андрей Иваныч за час, за два, что он уже простил обиду. И смирился.
И даже уже ему нравилось стать министром земледелия.
Это возрождающее, возобновляющее, восстающее чувство гнездилось в самой сути его души: из-под любого обвала, пожарища, пепла – сколько раз оно само, и быстро, вновь поднимало его к устойчивости и свету.
324
Шляпников мечется, ищет верного места. – Листовка, война Родзянке и Милюкову!Эти дни Шляпников не мог ни на чём успокоиться, и не знал верного места, где ему быть.
Как член Исполнительного Комитета Совета он вроде должен был сидеть на их безконечных заседаниях. Но тошно было ему там, среди меньшевиков, оборонцев и полуоборонцев, оказавшихся в засилии. На словах тут немало было интернационалистов, но сколотить их невозможно: боялись раскола, тянулись как все. Досадно было на Совет и удивительно: как получилось, что большевиков здесь так затиснули, мало их, и не имеют они главного голоса. В подпольи он бы и сравнивать себя не унизился с этими, просидевшими тихо войну. А тут – они все налезли, забили и захватили сразу. Шляпников просто страдал, как они, так быстро теперь осмелев, уже как будто и не считаются с большевиками.
Годами он прилагал усилия против главного врага – самодержавия, там усилия, где они были нужны, где не подавалось. И никак не ждал, что чуть полегчает, – эти все обскачут сбоку и – первые!
Поналезло теоретических болтунов вроде Гиммера, и что ж доказывали? – что надо отдать власть буржуазии! – дикость какая! Вся реальная власть сейчас в руках масс – и отдать её буржуазии? А сами они, засевши в Совете, не хотели брать власть! Так зачем и засели, только мешали на дороге?! (А может – они притворяются, что не хотят? Хотят захватить, да только без нас?)
Нет, сидя в Исполнительном Комитете, Шляпников самое большее, что делал, – только укреплял меньшевиков. Это невозможно перенести!
А время – вихрилось, каждый час уносил какую-то неиспользованную, неповторимую возможность. И не хватало ума – сообразить, поймать и сделать!
Да тут же вот, рядом, упускалось – в Екатерининском зале и на ступеньках Таврического. Вчера тут среди солдат заговорил против войны – не дали ему, заткнули. Большевики выползали из немоты, ещё ничего они не значили, не имели силы ни вверх, ни вниз, а БЦК почти не признавали, как навязанное из Швейцарии.
Вот и не знаешь, с какого конца взяться.
Сегодня утром метнулся Шляпников в Таврический – но даже не было заседания Исполкома, а сидели, вялые, в общей комнате и передавали сплетни о вчерашних переговорах с думцами – как они власть уступали, пентюхи! Эти переговоры нельзя было считать иначе как предательством. Они в переговорах умолчали и о войне, и о земле, и 8-часовом дне, – соглашательство и капитулянтство! А Нахамкис не слушал Шляпникова серьёзно и угрожал – рассказать Ленину о немарксистском поведении Шляпникова, что он забыл, кто должен выполнять задачи буржуазной революции.
Да Ленин с вами, ликвидаторами, ещё и разговаривать не станет!
А ещё брюзжали на Исполкоме против листовки Кротовского-Александровича, даже эсеры все против, отгораживаются. А Чхеидзе даже в Екатерининском зале вслух назвал прокламацию провокационной.
А хорошая листовка! – трезво призывала бороться с офицерством до конца! Не дать загаснуть классовой борьбе в армии – верно! Крепко бранил Шляпников Молотова, что тот сдрейфил и тюки такой хорошей листовки сдал без боя оборонцам, слюнтяй.
Ну, ничего, кое-что всё же вырвалось: Бонч мешок-мешок, а быстро выпустил большевицкий Манифест (меньшевики только рот разинули – и кинулись свой сочинять). А за ним – и Приказ № 1. А подпись Исполнительного Комитета – и не денешься?
Что Шляпников вовремя сообразил и сделал – уже восстанавливал «Правду». Захватили на Мойке большое здание, прекрасную типографию «Сельского вестника», новенькие ротационные машины. Теперь сколачивали редакцию – а писунов опять нет? И туда – Молотова сажать?
Хотелось действия! – и резкого! сильного! для всех обжигающего! Настоящее дело: создавать свою крепкую местную власть и вооружённую милицию из рабочих, уже набирали оружия и патронов.
А сегодня с трёх часов тут, в Таврическом, собирался большой пленум Совета. И надо было – им овладевать! Надо было – на нём выступать и бросать лозунги.
Но – какие?..
А ведь так уже был освоен Шляпников с питерским подпольем! И казалось ему, что он полносильно может управлять рабочими массами столицы, как прошлой осенью, – ставить ли их на работу или снимать на забастовку. Но вот всё вырвалось наружу, разлилось по улицам – и перестало управляться. И очевидно, только правильные лозунги могли бы быть новыми возжами. Но как эти лозунги найти? Не хватало головы. Где-то рядом этот лозунг носился или лежал, его можно было составить из самых простых слов, – но слова, дери их… не складывались. Надо было советоваться, брать коллективной головой.
Пока, до начала Совета, решил махнуть к своим на Выборгскую, хорошо автомобиль к услугам.
В комнате разбитого полицейского участка на Большом Сампсоньевском теперь пребывал Выборгский райком. Тут познакомился с долговязым матросом Ульянцевым – из тех матросов, кого сам и отстоял под судом в октябре. Этот – только что из Шлиссельбурга и одно хотел: громить гадов! Вот такие-то нам и нужны. А послать его в Кронштадт.
Ребята в райкоме хоть необразованные, но ершистые. Объяснил им Шляпников: не можем мы, ребята, так сидеть терпеть. Надо начинать борьбу! Ведь революционное правительство мы возглашали? Возглашали. Ну! А чего смотрим?
Да ребята – вполне согласны. Да ребята уже готовят большие такие плакаты: «Конфисковать помещичьи земли!», «8-часовой рабочий день!», «Демократическая республика!».
А как же – революционное правительство? А куда ж Совет Рабочих Депутатов? Тут сразу прояснилось: так вот он, Совет, и пусть будет правительство. Пусть власть берёт!
А как же это продвинуть? Да новую листовку накатать:
«Граждане, солдаты и рабочие!»
Есть такой большевицкий испытанный приём:
«Митинги солдат и рабочих, собирающиеся в Петрограде, принимают следующие резолюции…»
Таких резолюций ни на каких митингах ещё не принимали, мы их только сейчас сочиним, напечатаем, разошлём – и вот тогда будут и митинги, будут и резолюции.
«…Вся власть – в руки Совета Рабочих и Солдатских Депутатов как единственного революционного правительства! Армия и население должны выполнять распоряжения только Совета Депутатов, а распоряжения Комитета Государственной Думы считать недействительными! Государственная Дума была опора царского режима…»
Война Родзянке и Милюкову! Поломать козни цензовиков с отдельным их правительством!
Теперь – раскатать на ротаторе и…325
Солдаты на Совете. – Цирк Керенского.
Только страсть повидать и узнать совсем небывалое могла согнать столько солдат в эту неразданную комнату и на часы сплотила в такой тесноте, что невмоготу руку снизу вытянуть, нос почесать, а курить – только счастливчикам. Винтовок уже никто больше сюда не вносил, друг друга не поцарапать. И рабочих набилось с красными приколками, но не столько.
Стула уже ни одного не осталось в этой комнате, какие переломали, какие вынесли, а только большой стол затоптанный, и на этот стол с самого начала повзлезали иные те, кто хотели поиметь слово или руководство, они заране тут в задней комнате сидели, оттуда.
А первый и главный из них был уже стариковатый, плешивый, роста низенького, в пиджаке обрыжевшем, притёртом, с бородкой мочалистой, и говорил малоразборно, булькало иногда заместо слов, а то как заскрёбывал, да видно, что и пристал, бедняга. Говорил он, что вот теперь Совет не одних Рабочих, но и Солдатских Депутатов, и берёт он в свои могучие руки своё светлое будущее. Что такое время теперь наступило, какое всем отроду грезилось, и народ сам покажет свою власть. И солдат покажет, что он ещё лучше армейские дела понимает, чем иные офицеры. Однако не все ещё враги разбиты, ещё остались тёмные силы – и нужна порядливая власть, и никак не обойтиться без елементов . И толковали вчера с этими елементами, они берутся вытянуть, а условия самые лучшие для нас с вами. И сейчас наш и ваш товарищ с Исполнительного Комитета это всё подробно доложит на ваше суждение.
И тогда рядом с ним, плечом выше головы того первого, стал говорить этот рыжебородый, дядя-размахнись, хоть мясные туши разделывать. А говорил приветливо, успокоительно, как хороший товар предлагая, да так-то ручьисто, – очень приглядно было его слушать, заслушались, – да кто ж с нами, низкими, так-то раньше беседовал?
Много он чего говорил, очень много, всего в голове не удержишь. А всё – про свободу. Теперь свобода будет нараспашку. И кто в темнице нудился – тем всем свобода. И вольным всем – ещё больше свобода. А уж солдатам – наибольше их всех. Солдаты теперь по всем ротам, батальонам должны избирать комитеты, и вся власть теперь будет комитетская, а не офицерская. Офицерово дело теперь – ежели строй, скажем, построился – так направо, налево, к ноге, впрочем это и унтер может. А если какие офицеры будут комитетам воспрепятствовать, так сейчас их новая власть к ответу приберёт. А как только из строя ступнул солдат – так он свободнейший уважаемый гражданин теперь, и все права ему дадены. А и по улице пойдёт – полиции теперь не будет, никто не остановит, ничего не запретит. Будет свой лёгкий надсмотр из студентов и тоже-ть там все выбранные. А главное: никто солдата на войну не погонит, но после великого революционного подвига будет теперь весь гарнизон в Петрограде состоять как на отдыхе и на случай защиты Петрограда от тёмных сил.
И так сладкая речь его лилась, наслушаться нельзя. До чего ж хороший человек, и до чего ж теперь жизнь благая наступила! – и скажи, всего только раз дерзнули из казарм выйти, и теперь выходи сколь хошь. Уже всю эту новую сладость солдаты как бы и сами прочуяли – но дорого ещё раз её от хорошего человека послушать. Внимчиво слушали, долго слушали, правда уже стало и бока теснить, уже б и размяться, что ли.
Ну, кончилась речь этого рыжебородого, и уж похлопали ему от души, не жалея, – кто спроворился руки между боков вытянуть.
Тут между главными на столе вышла заминка. На другом конце стола начал кто-то быстро взлезать, цепляясь за соседей и раскачивая. Проворно этак взлез, всех растолкал, выпередился, – узнали его: тот узкоголовый, кто живее всех по дворцу метался, только и знал бегал. И – звонко, да уверенно, да голос юнецкий:
– Товарищи! Я должен вам сделать сообщение чрезвычайной важности!
Забористо сказал – чрезвычайной важности! – стали поворачиваться боле к нему.
А бледен-то как! – белей полотна. А проняло сердечного – шатается, не стоит. И голос – совсем вдруг потерял. И только – от сочувствия, дыханье и своё переняв, услышала его толпа:
– Товарищи! Доверяете ли вы мне?
Спросил – как приговорённый. Вот довели! Наш-то ведь вожак, за нас он, фамилии его так не знали, но видали, как он без устали маячил. Пожалели, закричали со всех сторон:
– Доверяем! Ну!.. А чо? Конечно, доверяем!
А он – с тягостью, а он – с передыхами, а он – с переминами:
– Я говорю, товарищи, от всей глубины моего сердца! И я готов умереть, если это будет нужно!
Да что ж за злодеи такие? Да кто ж это его довёл?
– Ну, ну! Живи! – подбадривали его и поддавали в ладоши. Ажник вчуже проняло за него болезного, хилого, бледного, – весь исстарался, и видать, на нашу пользу.
И чуть с силками собравшись, отдышивался:
– Товарищи! В настоящий момент образовалось новое правительство. И мне предложили в нём пост министра юстиции. И я должен был дать ответ в течении пяти минут. И поэтому я не имел времени получить от вас мандат. И рискнул взять на себя, принять это предложение – ещё до вашего окончательного решения!
Ну-к, что ж, ну-к, что ж. Знать, так сошлось человеку.
– По воле! – крикнули ему.
Ещё похлопали.
А он – подхватился весь, как на «смирно» вытянулся да глазки закатил. И поведал:
– Товарищи! В моих руках, под моим замком, содержатся представители гнусной старой власти – и я не решился выпустить их из своих рук. Если б я не принял сделанного мне предложения – я должен был бы тут же отдать ключи. И вот – я решился войти в состав нового правительства как министр юстиции!
Ну и правильно! Коли нельзя выпускать! Ещё ему покричали, похлопали.
А он тогда – подстегнулся, и бодрей, веселей:
– Товарищи! Первым моим шагом как министра было распоряжение немедленно освободить всех политических заключённых! И с особым почётом препроводить из Сибири сюда наших товарищей депутатов социал-демократической фракции!
Каких-то тоже, значит, бедолаг. Всем свобода так всем, правильно.
– Но ввиду того, что я рискнул взять на себя обязанность министра юстиции раньше, чем я получил на это от вас формальное полномочие, – и закинул голову отречённую, и шейка натянулась, – я сейчас перед вами слагаю с себя обязанности товарища председателя Совета Рабочих и Солдатских Депутатов!
Не поняли, чего эт’он слагает – уезжает, что ль, куда.
– Да держись, паря! Пустое! – кричали ему.
И тогда он прометнул очами подвижными и ещё подхлестнулся, краска в лицо вернулась:
– Но я готов вновь принять от вас это звание, если вы признаете это нужным!
– Просим! Просим! – закричали ему, захлопали. Да чего, да пусть, этот – не вредный.
И тогда он засиялся и поклонился, в разные стороны кланялся и руки к груди прикладывал. И вопно так воззвал:
– Товарищи! Войдя в состав нового Временного Правительства, я остался тем же, кем я был, – я остался республиканцем!
Ну-ну.
– Я заявил Временному Правительству, что я являюсь представителем демократии! И Временное Правительство должно смотреть на меня как на выразителя требований демократии! И должно особенно считаться с теми мнениями, которые я буду отстаивать в качестве представителя демократии! Усилиями которой, демократии, и была свергнута старая нестерпимая власть!
Чего это он – непонимчиво было, но – свежой! Без занудства говорил, а – к сердцу. Одобряли его. Кто-то чего-то противу вякнул – приструнили тех, нишкни, нам – довлеет!
А он-то, сердечный, совсем как струнка дрожит, вытянулся во всю свою тонину:
– Товарищи! Время не ждёт! Дорога каждая минута! И я призываю вас к организации! К дисциплине! К оказанию поддержки нам, вашим представителям! – и готовым умереть для народа! – и отдавшим всю свою жизнь народу!
Слушали – сильно одобряли, но как второй раз про смерть помянул – так проняло, аж чуву нет.
– Да живи же! – кричат ему. Да передние руки к нему протянули, схватили, стянули, лёгкого, – и стали из рук в руки дальше к двери переколыхивать.
А весь зал кричит:
– Ура-а-а!
Передавали его не так ладно, где нога сорвётся, не подхваченная, но уж близ двери взяли прочно, там уже идти мочно, и понесли его на вынос через двери, а весь зал вослед ещё долго гудел:
– Ура-а-а! Ура-а-а!
* * *
...
Прокатися, грош, ребром! Покажись рублём!
* * *
326
Дмитрий Вяземский умер. – Гучков и Шульгин едут во Псков.
Думали рано выехать – и близко не получилось. Во-первых, спать легли чуть не в 5 утра – и так окаменело, что хоть вся Россия пропади, а встать невозможно. А когда встали, уже не рано, и накачали себя кофеем – тут надо было несколько раз позвонить по телефону, уже не хотел Гучков появляться в Думе сегодня, там должны были давать сведение, что он ездит по казармам. Но и в первые же звонки, через Ободовского, узналась просьба вице-адмирала Непенина из Гельсингфорса: помочь навести порядок в Кронштадте и кого назначить новым комендантом крепости вместо убитого. Ещё не объявленный военным и морским министром, Гучков уже единодушно подразумевался таковым. Итак, надо было распорядиться, срочно, что сделать для Кронштадта, немалое по важности место, да и самого Непенина надо было поддержать.
А тем временем он звонил сестре Мити Вяземского и в Кауфманскую общину. Надо бы ехать ещё попрощаться, но Дмитрий был уже без памяти. С вечера он всё спрашивал у профессора, какой орган у него задет, – и профессор честно ответил, что – никакой. А – оказался в куски у него разнесен крестец, и тазовая кость. И много крови потерял, и жить он не мог.
Между двумя телефонными звонками Гучкова и умер.
Ещё вчера самый близкий сотрудник, самый необходимый человек, – вот уже выбыл, вот уже дальше.
А тут и Марья Ильинична, вопреки всеобщей радости, была чрезвычайно мрачна, разговаривала нехотя, а надо было убедить её в важности отъезда и чтоб она по телефону отвечала правильно.
Скорей же из дому! Мрачный, Гучков вырвался и ехал с Шульгиным на Варшавский вокзал.
Натекало уже к двум часам дня, и за это время Совет рабочих депутатов десять раз мог узнать об их отъезде и помешать.
Но нет! Несмотря на то, что открыто телеграфировали Рузскому о поездке и звонили начальнику Варшавского вокзала, – такова была всеобщая суматоха, что до Совета, видимо, не дошло, – иначе не могли б они допустить какую-то частную тайную поездку к царю. Ещё вчера предназначенный для Родзянки особый вагон из салона и спален всё стоял и дожидался депутатов, и имелся к нему паровоз в запасе, теперь прицепляемый.
А последнее, что ещё Гучков сообразил вовремя и надо было сделать до выезда, – это взять в руки генерала Иванова. Хотя он уже ретировался из Царского Села, и по старому знакомству знал Гучков, что это мешок, а не боевой генерал, да и трусливо-прислушлив к общественному мнению, – но тем более надо было полностью взять его в руки и образумить. С Варшавского вокзала ещё не выехав, удобнее всего было послать ему телеграмму через Царскосельский, по путейской линии Виндавской дороги: приехать на встречу в Гатчину, получалось – часам к четырём дня. Либо пусть едет во Псков. Не сомневался Гучков, что Иванов рад будет подчиниться и выскользнуть из своего сложного положения.
Ну, наконец и поехали, в три часа. Не задержал Совет! Не открыли.
Машинист получил приказ двигаться с предельной скоростью. Два инженера путей сообщения от Бубликова сели в их вагон – устранять возможные в пути помехи.
С утра было ярко, сейчас посерело. Не светило солнце по снежным полям.
Были купе, можно и полежать, но и думать об этом не думалось, такое волнение. Молодой Шульгин, бледный от усталости, всегда с лучистыми глазами, сейчас как-то особенно, болезненно сиял.
Сидели в салоне рядом – а почти не разговаривали.
Невыспанная голова Гучкова была наполнена тревожным, но и радостным гудом.
Давно ли царь запрещал ему выезды в штабы фронтов? А вот он ехал именно в штаб фронта, и зачем? – вырывать отречение!
Какая была ему необходимость ехать? У него была неустроенная Военная комиссия, в ужасном состоянии петроградские полки, через несколько часов предстояло принять военное министерство, – не хватало дня и ночи, чтобы в Петрограде всё сделать и успеть, – а он гнал во Псков, путь не одночасный.
Но: революция, которой хотели избежать, – совершилась, и сделана руками черни. И власть и всякий порядок уплывают из рук образованного класса, призванных к управленью людей. И в этом мутном, быстром, всё уносящем потоке оставалось несколько часов, оплошных для самого потока, когда можно было по нему нагнать уплывающий трон и успеть вытянуть его на твёрдый берег.
И – не кто другой, а именно Гучков должен был ехать. Это была – его личная, издавняя судьба. Это были – его счёты с царём. Гучков ехал – выполнить государственное дело. Было ощущение – венчающей минуты жизни.
Это был и реванш за неудавшийся государственный переворот, как бы восполнение того, что ему не удалось. (Пусть так считается, так красиво и трагически войдёт в историю: заговор состоялся бы непременно, но революция опередила его на две недели.) Оправдаться – самому перед собой. Он почти ещё успевал настигнуть и исправить!
Это, может быть, был и шаг в будущую Россию более веский, чем стать военным министром. Сейчас – Гучков ехал получить отречение в пользу наследника с регентом Михаилом и подтверждение Львова премьер-министром. Сейчас пока, в этой буре, – и спасти трон как таковой, и твёрдо поставить правительство.
Но при свободном широком развитии России в дальнейшем – очень может быть, что монархия станет ей узка, Россия рассвободится в республику. И тогда нужен будет президент. Первый президент России.
И тогда – не совсем безразлично, на кого падёт отблеск сегодняшнего отречения. Как бы – тень наследства.
А Россия – любит Александра Гучкова! Это показала его прошлогодняя болезнь: кто другой ещё так популярен?
Уже – руки его были так протянуты. И – место в душе запасено для этого действия. Не удаться? Это никак уже не могло. Это – неотвратимо накатывалось. Чтоб это не удалось – он даже не разбирал такого варианта.
А вот что: в его прежнем плане было – положить перед Государем готовый текст отречения. Кажется, самая простая часть задачи – подготовить текст. А – никогда не было сделано. Всё казалось – успеют, легче всего.
Но с прошлой ночи, как решилась поездка, – не составляется, и в голову не лезет. И вот уже едут реально, а текста нет. И мозги – совершенно отказывают, да ещё при поездной тряске, на вагонном столике. Не собрать мыслей, не стянуть фраз.
– Василий Витальич! А что же – текст? Нет у нас… Может – вы попробуете набросать пока?
С лунатическим видом Шульгин, отвлекаясь:
– А? Да. Верно! Попробую…
Вытащил перо и тут же вскоре начал.
А ведь – и не всё ясно, только сейчас пришло:
– А что, Василий Витальич, не знаете: существует ли какая-нибудь определённая форма отречения?
С рассеянной милой улыбкой от своих отдельных мыслей Шульгин:
– Понятия не имею, Александр Иваныч. Никогда не задумывался. Думаю, что – нет, потому что… Кажется, никто никогда у нас не отрекался? Ни из Романовых, ни из Рюриков.
– Неужели никто? Подождите… А… а-а… Пётр III?
– Ну, разве что Пётр III. Но случай вполне авантюристический и не может быть нам основанием.
– Но есть об этом какое-нибудь законодательство? Какие-нибудь династические правила?
Странно, что Гучков, обсуждая заговор, никогда не задумался об этом раньше.
Голубые глаза Шульгина сияли неземно:
– Ох, не знаю, Александр Иваныч.
327
Три генерала у Государя. – Государь читает мнения Главнокомандующих. – Подписал телеграммы с отречением.
Всё-таки поездная теснота донимала, совсем никак не разомнёшься. Захотелось выйти из вагона. И перед завтраком Николай вышел погулять по перрону.
Мимо этой кирпичной водокачки с намёрзлым хребтом льда. Этой отдельной цистерны. Врежутся на всю жизнь как ни один пейзаж в России.
И денёк был серенький, с мутниной. Не холодный.
Свитские гуляли кто следом, кто в стороне. Редкая здешняя публика – как-то по-новому: не стояла с разинутыми ртами, но проходила мимо.
Так Государь попал, что не имел ни своего пространства, ни власти. Уже вчера вечером выяснилось: передать телеграмму куда-нибудь, даже домой, – только через Рузского. (Но и на посланную, где Псков указан, всё нет ответа. Боже, что с Аликс?) Получить что-нибудь, узнать что-нибудь – только через Рузского. А попросить мотор для прогулки – даже неудобно. Да имеет ли он и право куда-нибудь ехать?
Странное состояние, можно сказать – приговорённости. Держатель великой Империи, он как будто свободно думал, решал, выбирал, а на самом деле…
Как-то повернулось за двое суток, что вся власть – будто утекла от него. Только числился он императором и Верховным Главнокомандующим, а приказать – было некому. А – соглашаться на всякую бумагу, которую поднесут. Все эти дни, пока он ездил, где-то связывались аппараты, текли аппаратные разговоры – но всё мимо него, подходили, отвечали кто-то другие, а ему несли лишь готовые результаты.
Как-то незаметно остаток власти утёк от него к Алексееву. И тот вот уже сам спрашивает об отречении?
Что же ответят Главнокомандующие?..
Даже нелюбимую им власть смеет ли он отдать, – перед предками? Всегда мучила Николая боязнь – оказаться не на высоте своего призвания. И особенно – оказаться недостойным отца и прадеда Николая, которые так смело, так уверенно вели.
Что же ответят Главнокомандующие?
Да – хочет ли сама вся Россия, чтоб он отрёкся? Если хочет, то – да, конечно, немедленно! Если царь стал помехой национальному единению – так он уйдёт. Да он будет Бога благодарить, если Россия наконец станет счастлива, без него.
Но – как узнать истинную волю России?
Царствование – это крест. Это – обязанность трудноподъёмная. Царь принимает на себя всю тяготу государственных решений, всю суету и мелкость управления, – чтоб освободить от этой мути души подданных, чтоб они непринуждёнными взрастали к Богу.
Всегда все добиваются с докладами, мненьями, одни хотят одного, другие противоположного, всё надо выслушивать, прочитывать, подписывать. Но как ни реши – всегда общество свистит, улюлюкает, недовольно.
А как хорошо бы, правда, всё это бросить да поехать доживать век в Ливадию! Какой растворительный воздух! Какое успокоительное место, – есть ли в мире что равное южному крымскому берегу! Высоко над морем сидеть за мраморным столиком на мраморной скамье – смотреть на солнечный морской переблеск или на сказочный лунный. Царскою тропой пройти до Ореанды. Верхом съездить на виноградники. Так и прожить бы остаток жизни своею семьёй, ничего лучшего не надо, воспитывать сына. И Алексею очень благотворен Крым.
Да! ведь ему надо будет царствовать!..
Завтракали без приглашённых.
Догадывалась ли свита, какой встал вопрос? слышали что? волновались? – на обряде принятия еды это не отразилось.
А сразу после завтрака Государь, одетый в любимый тёмно-серый кавказский бешмет с погонами пластунского батальона и своими полковничьими звёздами, перепоясанный тонким тёмным ремешком с серебряною пряжкой и кинжалом в серебряных ножнах, в костюме воинственном, а с душою опавшей, принял в зелёном вагонном салоне, где стояло пианино, трёх генералов, – трёх даже не по старшинству на Северном фронте, третьим зачем-то привели начальника снабжения.
Государь пригласил их сидеть и курить. Рузский сел, закурил, а те двое остались стоять, настораживая. Рузский механически-размеренным голосом доложил некоторые дневные сведения, о ходе отзыва войск, посылавшихся на Петроград. А потом положил перед Государем расклеенную ленту от Алексеева.
Государь принял с волнением, жарко стало в предлокотьях.
…Всеподданнейше представляю вашему императорскому…
А дальше сразу – ответ Николаши.
В этот раз – всё доходило до сознания, всё остро впитывалось.
…Алексеев сообщил… небывало роковую обстановку… и просит поддержать его мнение… принятие сверхмеры …
Поддержать его мнение…
И – как верноподданный, по долгу присяги, по духу присяги Николаша коленопреклонённо молил: спасти Россию! Осенив себя крестным знамением, передать трон наследнику. Как никогда в жизни и с особо горячею молитвою…
Нет, отчего же «как никогда»? Один раз уже это было, в октябре Пятого. Вытянул Манифест…
И – потерял Николай всё волнение. И даже – потерял интерес читать.
Он уже понял.
Так же и Брусилова всеподданнейшая просьба была основана на преданности царскому престолу: отказаться от него в пользу наследника, без чего Россия пропадёт. Другого исхода нет , и необходимо спешить, дабы не повлечь неисчислимые катастрофические последствия.
Ещё – Эверт. В общем то же. Средств прекратить революцию в столицах – нет никаких. Не находя иного исхода и безгранично преданный Вашему Величеству, умолял во спасение родины и династии принять предложение Главнокомандующих…
И как быстро пришли все телеграммы. И как они единогласны.
И ведь все трое они были Главнокомандующие, и все трое – генерал-адъютанты, то есть из генералов самые приближенные, обласканные, сердечно доверенные, с императорскими вензелями на погонах.
И – все говорили согласно.
Это единство их всех – потрясло Государя.
Значит: Божья воля.
И только добрый Алексеев так тепло прибавил от себя. Не настаивал, не указывал, что именно делать. А – принять решение, которое внушит Господь, к мирному благополучному исходу. По-христиански.
Этот мягкий конец Алексеева примирял с жестоким генеральским документом.
А перед лицом был – вот, Рузский. Утроенный для убедительности широколицым Даниловым-чёрным, с сильной проседью, с безмысло упёртым взглядом, и генералом по снабжению Савичем.
И все трое, один за другим, они отрапортовали своё жестокое: обстановка, по-видимому, не допускает иного решения… Потеря каждой минуты может стать роковой для существования России…
И не могли ж они все-все-все ошибаться, а только Государь один думать верно?
Армия, своя Армия – ведь не может оказаться против своей власти! Если вот вся Армия – отступалась, уходила из-под рук – значит…
Что значило теперь – отказаться, упереться? Это значило вызвать кровавую междуусобицу, да в разгар внешней войны. Разве он хотел ещё такой беды своему народу?
Нет, только не гражданская война!
И вообще удержать армию подальше от политики. Довольно уже, что втянули Главнокомандующих.
Для блага России… Для удержания Армии в спокойствии… Для конечной победы.
Вот и Родзянко говорит: ненависть к династии дошла до крайних пределов – но весь народ полон решимости довести войну до конца.
Они – этого хотят. Все хотят – именно этого. И только для этого – нужно внутреннее умиротворение.
Так эта цель – стоила того! Благу России – с каким же сердцем противостоять? Да ведь он и царь – народный, для блага благопослушного народа. Того чудесного народа, стоявшего коленно на Дворцовой площади в открытье войны. Или ликовавшего в Новгороде при приезде императрицы.
Для того народа – как не уступить?
– Но кто знает, – в раздумьи всё же возразил Николай. – Действительно ли хочет моего отречения вся Россия? Как это узнать?
Рузский – уже не хрупкий утренний, а покрепчавший, много куря, отвечал, что теперь – не до анкет. События несутся со слишком ужасающей быстротой, и всякое промедление грозит бедствием. Вот – и генералы так думают.
Три генерала. Не с обнажёнными саблями, не заговорщики ворвавшиеся, но со всеподданнейшим убеждением: как отречение сразу спасёт Россию и от смуты, и от военного позора.
Государь утомлённо стряхивал пепел с папиросы. И смотрел на говорящих печально, печально.
Заточён каждый в клетке своего характера. Невозможно – вскочить, крикнуть, выгнать. Но, сидя, курить, вкуриваться, вслушиваться. Несчастное свойство: всегда волочиться за доводами собеседников и находить их убедительными, и не иметь силы отсечь.
Вот этих уговоров обступных – больше всего не выдерживал Государь, не выдерживал он этих уговоров! Если и мог быть отстоян отказ, то – выигрышем времени и через то – укрепленьем души. Если бы Аликс!.. Если бы кто-нибудь вернул ему веру в себя самого!..
Однако времени, вот говорили, не оставалось. Так попал Государь (разглаживая усы большим и средним пальцами, большим и средним), что, видимо, неизбежно было уступить. Генералы эти были – его подчинённые, но вместе с тем он как бы попал в их власть.
В каком неожиданном виде может обернуться перед нами – общее благо.
Как трудно человеческому уму разбираться в положениях предметов. Как можно быть уверенным, что ты понимаешь обстоятельства лучше других?
А может быть и правда новое правительство будет править успешнее? Ведь вот никак не находил Государь в целой России хороших министров, – а они найдут? И России будет благо.
Что ж, если общество так хочет само управляться, – пусть?
Что ж, подписать им отречение?..
Но тогда придётся перестать быть и Верховным? Больней всего.
Что ж, объехать все армии, проститься с солдатами?
И пусть генерал-адъютанты делают, что хотят.
(Но сперва – вырваться в Царское Село! Подписать им отречение – и вырваться.)
Опускалось – спокойствие неизбежности. Очевидно, это предначертано. А если так, то тем и легче.
Да династия-то сохранялась: сын, брат.
Встал. Истово перекрестился на образ в верхнем углу.
– Что ж. Я готов, господа. Отречься.
Согласно форме перекрестились и генералы.
Согласно форме надо было поблагодарить их за службу, и особенно Рузского, ведь они же не врагами тут сошлись. Согласно форме при такой благодарности полагалось и поцеловать.
Хотя сердце изворотилось при целовании этого зверька с оловянными очками.
Государь вышел вон, походкою с задержкой, как бы с трудом отрывая ноги от пола. Как бы раздумавшись: не уходить.
Рузский не открылся генералам, но не находил в себе слов от изумления: неужели так легко? Неужели принесёт? Не верил.
Государь вернулся – с теми же подрезанными глазами, с обмякшими плечами. И подал Рузскому два бланка с телеграммами.
Одна – в Ставку. Другая:
...
«Председателю Государственной Думы.
Нет той жертвы, которую Я не принёс бы во имя действительного блага и для спасения родимой матушки-России. Посему Я готов отречься от престола в пользу Моего сына с тем, чтобы он остался при Нас до совершеннолетия, при регентстве брата Моего великого князя Михаила Александровича.
Николай».
Было три часа пять минут пополудни.
Рузский ничего не выразил внешне. Сложил пополам оба бланка вместе и сунул в карман как самую простую бумагу.
328
Милюков в Екатерининском зале объявляет о создании Временного правительства. – «А династия?» – Милюков теряет осторожность.
Итак, вся констелляция сложилась для создания и объявления правительства! А раз уже можно было его создать, то и нужно было создать, потому что каждый час весь поток событий требовал над собой кабинета министров. Что Николай ещё не отрёкся – не казалось Милюкову помехой нисколько, отречение царя было уже вопросом механическим и нескольких часов. Гучков, правда, задержался с выездом, но всё равно сегодня отречение будет у него в руках: бывшему царю больше ничего не остаётся.
Уже все министерские посты были согласованы, оставалось ждать только самого последнего знака от Керенского. Какую-то санкцию он намеревался получить от Совета – и уже всё будет открыто. Керенский убегал, прибегал, бровями показывал, что ещё не всё.
Ещё, правда, не закончилось и соглашение с Советом по поводу условий. Не окончили ночью, а утром ни у кого не нашлось сил продолжать. Но может быть, в этом было даже и нечто выгодное: революционным же явочным порядком объявить готовое правительство! – и Совету придётся считаться с фактом, это усилит позицию в переговорах. Главное выяснено уже вчера: войти в состав министров они не претендуют.
Павла Николаевича в ожидании даже познабливало – не помнил он уже много лет, когда бы испытывал такое воодушевлённое волнение. Он был сегодня больше чем именинник, больше чем юбиляр. Он уже почти не вмещал в себе этой тайны, – и должен был поскорее объявить её, выплеснуть – и иметь право публично называться министром.
Сами-то назначаемые министры знали тайну, но даже и думцы вокруг не знали или не всё знали, не обсуждалось правительство вслух и на Думском Комитете с Родзянкой, а только кулуарным шёпотом, все знали, что – готовится, но не знали точно, какой же состав. И вот всё это теперь предстояло громогласно объявить, в утоление жажды, – и этого права объявить Милюков, конечно, не отдаст Львову и никому другому. (Повезло и то, что уехал Гучков.)
Однако – где объявить? Хорошо было советским, у них было где объявлять, на Совете. Но где и кому объявить Милюкову состав своего нового правительства? Собирать для этого подобие Думы, кичиться и возиться с остатками её – уже неразумно. Созданная совсем для других обстоятельств, в нынешних революционных Государственная Дума стала бы только неуклюжей помехой действиям нового правительства, и незачем думский авторитет теперь искусственно воссоздавать.
Подождать публикации состава правительства в газетах? Но это – потеря ещё суток, да и уничтожит самый исторический момент объявления.
А был простой выход: зачем думать, куда выйти к народу, если народ сам сюда пришёл и в густоте толкался в Екатерининском зале также и сегодня? Просто – выйти в зал, взлезть на стол и объявить всем, кто тут окажется. И тем самым совершится первый официозный акт, который доставит новой власти общественную инвеституру.
Ждал Павел Николаевич, ждал, не теряя воодушевления, молча похаживая по думским комнатам, поблескивая котовыми очками на окружающих, – вдруг из коридора послышался радостный шум и сильный топот. Выглянули – это несли на руках и спускали на пол Керенского.
Празднично-измятый, как артист после триумфа, изнеможно-счастливый, он подошёл летящими шагами вплотную к Милюкову и даже не сказал, а прошептал на последнем счастливом выдохе:
– Можете объявлять!..
И этим слабым выдохом передал Милюкову избыток своего счастья – и теперь распирающий избыток счастья образовался у Милюкова. Он – переполнился, и уже не в силах был стоять, откладывать, ещё чего-то ждать, – но, как от биллиардного шара биллиардный шар получив толчок, – твёрдо покатился вон из двери, по коридору и в Екатерининский зал, никого не взяв с собою в окружение, – в эту великую минуту никто не достоин был его окружать, разделить его исторический пик. (Только ранее распорядился, чтобы были в зале стенографистки.) Даже не как биллиардный, но как воздушный шар, он вкатился в Екатерининский зал – и как-то без труда продвигался через густоту – туда, к возвышенной лестничной площадке.
Ощущая чувство истории – посмотрел на часы. Было без пяти минут три.
Что оказалось неожиданно: тут и до него шёл митинг, и кажется весьма левый, какие-то остатки фраз вошли ему в уши. Да тут и непрерывно тянулись всякие митинги.
Но вальяжную фигуру Милюкова заметили, его пропустили по первым ступенькам лестницы, – а предыдущий оратор то ли кончил, то ли уступил, но никто не мешал рядом, – и все толпящиеся тут вблизи с интересом смотрели теперь. Ждали.
И Павел Николаевич тоже имел минуту осмотреться сверху, на зал. Ближайшие глядели со всех сторон на него, а дальше направленье голов расстраивалось, они смотрели во все стороны, кто и разговаривал, кто вдали и вовсе спиною, а там опять сюда смотрели. Много было папах, волынские безкозырки, матросские шапочки с лентами, и меховые пирожковые шапки солидных обывателей, а кто вовсе без шапок, тут было тепло, где-то группа курсисток, где-то дам, где-то простого звания, у дальних колонн стояли намного выше других, очевидно на диванчиках, – всё это было пестро, разнообразно, неорганизованно – но именно такое, каким и должен быть народ.
И по привычке к общественным выступлениям и легко беря объём зала, Павел Николаевич, и не прокашливаясь, заговорил громкозвучно:
– Мы, – начал он, никак не обращаясь, потому что никак не объединялся этот зал, «господа» как будто не подходили, «товарищей» он произнести не мог, – мы присутствуем при великой исторической минуте!
И замолк на секунду с закинутой головой, потому что эта секунда пронзила его.
– Ещё три дня назад мы были в скромной оппозиции, а русское правительство казалось всесильным. Теперь это правительство – рухнуло в грязь, – и торжествующе подумал, и добавил: – с которой оно давно сроднилось. А мы – тут важно для силы добавить: и наши друзья слева – выдвинуты революцией! армией! и народом! – на почётное место членов первого русского общественного кабинета!
Эти все последние слова он пропечатал, каждое выделяя отдельно, – и затем дал паузу для аплодисментов.
И как в толпе это поняли – так аплодисменты и отозвались. Публика сюда для того и пришла – слушать и аплодировать. Она и пришла наблюдать, разиня, за чудесами революции, – и вот величайшее чудо как раз и показывали ей сейчас. Слова приходили легко, сами нанизывались:
– Как могло случиться это событие, казавшееся ещё так недавно невероятным? Как произошло, что русская революция, низвергнувшая навсегда старый режим, – в этом уже Павел Николаевич не сомневался, – оказалась чуть ли не самой короткой и самой безкровной изо всех революций, которые знает история? – (Это-то уже видели все.)
Чего не досказал за годы в соседнем официальном зале, теперь он мог сполна влепить старому врагу:
– Это произошло потому, что история не знает и другого правительства, столь глупого! столь безчестного! столь трусливого и изменнического, как это! – Всё сильней отдавался залу его голос, всё больше оборачивались к нему и слушали. – Низвергнутое ныне правительство, покрывшее себя позором, лишило себя всяких корней симпатии и уважения, которые связывают всякое сколько-нибудь сильное правительство с народом!
Ах, как невиданно хорошо говорилось – не чикагским учителям на летних вакациях, которые слушают как экзотику, а к осени забудут, говорилось в своей завоёванной столице, – и летел Милюков над народом, над этими двумя, тремя тысячами голов, и удивлялся своему вдруг металлизированному голосу:
– Правительство – мы свергли легко и просто. Но это ещё не всё, что нужно сделать. Остаётся ещё половина дела– и самая большая. Остаётся удержать в руках эту победу, которая нам так легко досталась. А для этого прежде всего сохранить то единство воли и мысли, которое привело нас к победе! Между нами, членами теперешнего кабинета , – уже выговорено, как горячо пролилось по сердцу! – было много старых и важных споров и разногласий. – Он больше имел в виду Гучкова, отчасти социалистов. – Быть может, скоро эти разногласия станут важными и серьёзными, но сегодня они бледнеют и стушёвываются перед той общей и важной задачей – создать новую народную власть на место старой, упавшей!
Очень хорошо он говорил, превосходно слушали, аудитория оказалась подготовлена свыше ожиданий.
– Будьте едины и вы… Докажите, что первую общественную власть, выдвинутую народом, не так-то легко будет низвергнуть!
Он говорил это с верой в толпу, и толпа ответила ему верой, шумными рукоплесканиями. Ах, как хорошо летелось над толпой, над Россией, над Историей!
– Я знаю, отношения в старой армии зачастую основывались на крепостном начале. Но теперь даже офицерство слишком хорошо понимает, что надо уважать в нижнем чине чувство человеческого достоинства. А одержавшие победу солдаты так же хорошо знают, что, только сохраняя связь со своим офицерством…
Кажется, это место знали не так хорошо, даже некоторые были совсем не согласны. И в то время как одни продолжали похлопывать в каждой паузе, – другие стали кричать, и даже враждебно. А кто-то на весь зал отчётливо крикнул, несвоевременно и безтактно:
– А кто вас выбрал ?
Павел Николаевич ещё не перешёл к составу правительства, Павел Николаевич думал бы ещё поговорить об обязательствах толпы перед свободой, – но этот безтактный выкрик сбивал его речь. И нельзя было притвориться, что не слышишь его, – так громок, это был не слушатель немудрёный, но митинговый завсегдатай, кузнечные лёгкие. Милюков быстро перебрался мыслями и без всякого смущения изменил речь:
– Я слышу, меня спрашивают: кто вас выбрал? – Он мог бы спрятаться за Думу. Но это уже стесняло его. – Нас никто не выбирал, ибо если бы мы стали дожидаться народного избрания, мы не могли бы вырвать власти из рук врага! Пока мы спорили бы о том, кого выбирать, – враг успел бы организоваться и победить и вас и нас! – Кажется, это он сильно и определительно сказал. И добавил эффектно: – Нас выбрала Русская Революция!
И – вздрогнул, как это внезапно и сильно у него сказалось, хоть поставляй в хрестоматию. Он искренно не вспомнил в эту минуту, что цель его всегда была избежать революции, – сейчас именно из революции он естественно возник и поднялся сюда.
Снова зашумели аплодисменты, а тот горлохват не нашёлся. Да и кому не закроет рот исторический процесс?
– Так посчастливилось, – (им, массе посчастливилось), – что в минуту, когда ждать было нельзя, нашлась такая кучка людей, которая была достаточно известна народу своим политическим прошлым и против которой не могло быть и тени тех возражений, под ударами которой пала старая власть.
Сентиментальные нотки всегда нравятся всякой толпе:
– Поверьте, господа, власть берётся нами в эти дни не из слабости к власти… Это – не награда, не удовольствие, а заслуга и жертва! И как только нам скажут, что жертвы эти больше не нужны народу, мы уйдём с благодарностью за данную нам возможность. – Почти расплакаться мог другой оратор, но не в характере Павла Николаевича. Напротив, твёрже: – Но мы не отдадим этой власти теперь, когда она нужна, чтобы закрепить победу народа, и когда, упавшая из наших рук, она может достаться только врагу.
Опять охотно хлопали, но и раздались выкрики:
– А кто министры?
Эти выкрики рвали инициативу, не давали Павлу Николаевичу строить речь, заставляли отвечать не по плану:
– Для народа – не может быть тайн! Эту тайну вся Россия узнает через несколько часов. И конечно, не для того мы стали министрами, чтобы скрыть в тайне свои имена. Я вам скажу их сейчас. Во главе нашего министерства мы поставили человека, имя которого, – (что-нибудь надо же сказать), – означает организованную русскую общественность.
– Цензовую! – перебил громкий же развязный голос, но другой.
Плохо. Здесь оказывалось слишком много левых и не друзей слева , но левых непримиримых. Надо было удерживать штурвал речи:
– …общественность, так непримиримо преследовавшуюся старым правительством. Князь Георгий Евгеньевич Львов, глава русского земства…
– Цензового! цензового! – кричали опять.
Очень трудно становилось говорить. Да, народная обстановка тревожна:
– …будет нашим премьером и министром внутренних дел, и заместит своего гонителя. Вы говорите: цензовая общественность? Да, но единственная организованная! И она даст потом организоваться другим слоям.
И – скорей, не задерживаясь слишком на Львове, который того и не стоил, – к самой выигрышной фигуре (а получилось диспропорционально, будто бы вторая в правительстве):
– Но, господа, я счастлив сказать вам, что и общественность нецензовая тоже имеет своего представителя в нашем министерстве! Я только что получил согласие, – (проговорился, что он и есть фактический премьер), – моего товарища Александра Фёдоровича Керенского занять пост в первом русском общественном кабинете!
И вот тут раздались рукоплескания – бурные, каких ещё не было с начала речи. Вот кто был действительно популярен! И присоединяя свой полёт к полёту этих крылатых хлопаний, Милюков невольно выразился горячее, чем чувствовал:
– Мы безконечно рады были отдать в верные руки этого общественного деятеля то министерство, в котором он воздаст справедливое возмездие прислужникам старого режима, всем этим Штюрмерам! и Сухомлиновым!
Самое безошибочное место для ударов. По этим сколько ни бей – разногласий не будет.
– Трусливые герои дней, прошедших навеки, по воле судьбы окажутся во власти не щегловитовской юстиции, а министерства юстиции Александра Фёдоровича Керенского!
И опять захлопали бурно, ураганно, и кричали, но тоже одобрительно, и во всём этом одобрении Милюков снова укреплялся.
Но что-то ещё кричали:
– А – вы?.. А – кто?..
– Вы хотите знать другие имена? – скромнее и не так громко отозвался Павел Николаевич. – Мне, – мне мои товарищи поручили взять руководство внешней русской политикой.
Хорошо хлопали, хорошо, со всех сторон, и Павел Николаевич тоже раскланивался, раскланивался во все стороны. За эти минуты он простил толпе предыдущие дерзости. Ради этих минут он и поднимался на этот помост. И не захотелось испортить их спорами о Дарданеллах или войне до конца. Но хотелось ещё усилить взаимочувствие с толпою, и голос дрогнул:
– Быть может, на этом посту я окажусь и слабым министром… Но я могу обещать вам, что при мне тайны русского народа не попадут в руки наших врагов!
Но нельзя было оставаться всё на себе, и Милюков двинулся дальше:
– Теперь я назову вам имя, которое, я знаю, возбудит здесь возражения. – И подождал, С тяжёлым чувством приступал Милюков к этой неизбежной рекомендации. – Александр Иванович Гучков был моим политическим врагом…
– Другом! – крикнул какой-то классовый аналист, за цензовой ненавистью не желая рассмотреть индивидуальность позиций.
– …врагом в течении всей жизни Государственной Думы. Но, господа, мы теперь политические друзья. Да и… и к врагу надо быть справедливым. – (Снова выигрышный момент, всегда производит хорошее впечатление добрый отзыв о враге). – Гучков положил первый камень той победе, с которой наша обновлённая армия… Мы с Гучковым – люди разного типа. Я – старый профессор, привыкший читать лекции (вы понимаете, конечно, что это – эллипсис), – а Гучков – человек действий. И теперь, когда я в этой зале говорю с вами, Гучков на улицах столицы организует победу!
Это сказалось – не совсем легко, пришлось даже прямо солгать. Час назад Гучков звонил с Варшавского вокзала, он должен был вот-вот отъехать. Но удивительным образом Совет до сих пор не встрепенулся, и надо прикрыть от них тайную миссию, чтобы Гучкова по пути не арестовали, а то и наши головы на карте. Теперь ещё один, самый смутный риф:
– Далее мы дали два места представителям той либеральной группы русской буржуазии, кто первые в России попытались организовать организованное представительство рабочего класса…
Резкий голос:
– А где оно?
Милюков отвёл: так вот, Рабочую группу посадило в тюрьму опять-таки старое правительство, а Коновалов помог… а Терещенко помог…
– Кто? кто?.. – закричали. – Терещенко – кто такой?
– Да, господа, – скорбел Милюков. – Это имя громко звучит на юге России. Россия велика, и трудно везде знать всех наших лучших людей…
Неразумение чувствовалось в толпе. Не спросили, какие посты они займут, – и Милюков не объявил. Напротив, выкрикнули о земледелии – и пришлось помянуть честного трудолюбивого Шингарёва, который… Выкрикнули о путях сообщения, выгодно:
– Некрасов особенно любим нашими левыми товарищами…
Хлопали посильней. Об остальных министрах не спрашивали, и Милюков не вспоминал.
Но во всех этих выкриках, игнорировать которые нельзя было, потерял Павел Николаевич строй и план своей речи, внутренне несколько обезкуражился – и даже вопрос о программе правительства ему тоже выкрикнули.
– Я очень жалею, что в ответ на этот вопрос не могу прочесть вам бумажки, на которой изложена эта программа. Но дело в том, что единственный экземпляр программы, обсуждённый вчера в ночном совещании с представителями Совета рабочих депутатов, – (тут он хорошо прикрывался Советом), – находится сейчас на окончательном рассмотрении их, – (не говоря уже, что ими и составлен). – Надеюсь, что через несколько часов вы об этой программе узнаете. Но, конечно, я могу и сейчас вам сказать важнейшие пункты…
Вся аудитория для Милюкова слилась. Он не успевал себе выделить ни хороших сочувственников, ни крикливых обидчиков, а только головы, головы, вздрагивал от каждого нового выкрика, и начинал думать с тоской, как это всё кончить и выбраться. Абстрактно глядя в эту серо-чёрную муть, он ещё мог бы сосредоточиться, мысленно восстановить ту мятую, неровную, плохо записанную бумажку Стеклова, вспомнить все её 8 пунктов – если б снова его не перебивали:
– А династия?!
И тут, измученный этими выкриками и не готовый ещё к новому, Милюков сплошал. Он вдруг не вспомнил, как это всё хорошо было славировано на Учредительное Собрание, а депутаты ИК уступили ему в деликатном пункте о непредрешении образа правления, и надо было это ценить, и об этом сейчас смолчать, – но досаднейше сбиваемый и вырываемый этими выкриками, Милюков вдруг потерял осторожность, взвешенность, все качества политического бойца. И ответил недопустимо откровенно:
– Вы спрашиваете о династии. Я знаю наперёд, что мой ответ не всех вас удовлетворит. Но я его скажу. Старый деспот, доведший Россию до границы гибели, добровольно откажется от престола или будет низложен!
Хлопали. Всё – так. И тут бы Павлу Николаевичу ещё можно бы остановиться, перейти на что-нибудь другое, ведь он почти ответил! – но какая-то окаменелость мысли лишила его лёгкости перескока, и он опрометчиво прямолинейно продолжал:
– Власть перейдёт к регенту, великому князю Михаилу Александровичу…
Та часть толпы, которая радостно хлопала каждому объявлению, продолжала хлопать, – но и нарос грозный шум, особенно тут близко, с одной стороны, от остатков прежнего левого митинга. А Милюков не очнулся, не сообразил, но продолжал своё:
– Наследником будет Алексей…
– Это – старая династия! – кричали ему.
А он не повертел головой, не повёл ухом, но, как заколоженный, вперёд в одну колонну, упрямо:
– Да, господа, это старая династия, которой может быть не любите вы, а может не люблю и я. Но дело сейчас не в том, кто кого любит. Мы не можем оставить без ответа и без решения вопрос о форме государственного строя. Мы представляем его себе как парламентскую конституционную монархию. Быть может, другие представляют себе иначе, но теперь, если мы будем об этом спорить, вместо того чтобы сразу решить, – Россия очутится в состоянии гражданской войны и возродится только что разрушенный режим.
Он не успевал сообразить всех настроений тут, но он – так думал, и нельзя же легко уступать в убеждениях. И так думал Прогрессивный блок на всех своих заседаниях уже второй год: для того, чтоб укрепилась конституция в России, – зачем разрушать монархию? Это никогда не предусматривалось. И не понимая, почему уж так его сейчас не понимают, сам с растущим недоумением, Милюков оговаривался:
– Это не значит, что мы решили вопрос безконтрольно. Как только пройдёт опасность и возродится прочный порядок, мы приступим к подготовке созыва Учредительного Собрания. Свободно избранное народное представительство решит, кто вернее выразит общее мнение России: мы или наши противники.
Уже тут «противники» получились – не низверженное старое гнусное правительство, – но как бы не те, кто в зале тут кричали против Милюкова?
Резко требовали:
– Опубликуйте программу!
Тут к Милюкову вернулась догадливость:
– Это решить – зависит от Совета Рабочих Депутатов, в руках которого – распоряжение типографскими рабочими. Свободная Россия не может обойтись без самого широкого оглашения… Я надеюсь, завтра же удастся восстановить правильный выход прессы, отныне свободной.
Недовольный гул против династии продолжался. Но теперь Павел Николаевич уже просто воззвал к милосердию:
– Господа! Я – охрип! Мне трудно говорить дальше. Господа, позвольте мне на этих объяснениях пока остановить свою речь…
Уж как-нибудь, только кончить.
Противники зло гудели, но нашлось достаточно забавников и энтузиастов, кто подхватили Милюкова на руки и пронесли до края зала.
Так он почти триумфально выбрался.
Но был потрясён. И как будто измаран. Гадкое чувство.
329
Генерал Иванов маневрирует. – На станции Сусанино.
Замечательно предусмотрительно действовал диктатор, отступив среди ночи из Царского Села на юг, да не на одну станцию, а на несколько, на 40 вёрст, до Вырицы. И потом по путейской линии узнал, что на царскосельскую станцию через 15 минут после их отбытия ворвалась толпа, и даже готовили пулемёты. (А пулемёты, как Иудовичу разъяснили Доманевский и Тилли, в нынешней петроградской ситуации проявили себя наиболее опасно, соединяясь с броневыми или даже просто с грузовыми автомобилями, захваченными солдатами, или даже просто в руках частных штатских лиц.)
А так – они прибыли в Вырицу к 4 часам утра, и все были целы, и батальон спокойно спал в эшелоне. И диктатор бы спал – в своём привычном, удобном, любимом вагоне, в котором сломал он столько походов на Юго-Западном. Но – не мог он спать, пока неспокойна оставалась душа, пока не решил он, дать ли знать тотчас в Ставку о своём новом пребывании или польготить себя несколькими часами безвестного покоя. Однако кому он не мог не сообщить о своём местоположении – это подчинённому Тарутинскому полку на станцию Александровскую, по тот бок Царского Села. И сразу затем, в 5 часов утра, оттуда соединился железнодорожными телефонами командир Тарутинского полка и доложил, что получен приказ генерала Рузского: сажать полк в эшелон и возвращаться в распоряжение своей армии. Тилли всё это выслушал – и принёс Николаю Иудовичу.
О-о-о! Так превосходно! Так великолепно! За этим отдельным приказом сразу проступил Иудовичу единственно возможный смысл: Северный фронт возвращает все свои войска! Иначе не мог быть отдан такой отдельный приказ самому выдвинутому полку: это было бы тогда отступление.
А если так – то тем более не хотел бы Иудович чиниться перед Рузским, выставлять свои права диктатора и требовать приказов только через себя. Если так – то и Бог с ними, пусть убираются восвояси. Послал Тилли скорей, пока линия соединена, ответить: пусть едут с Богом!
Конечно, нет уверенности, что отзывались все войска и всех фронтов, – но уже прозревал Иудович духовным оком такой благоисходный поворот. Слава Богу!
И теперь он твёрдо решил, что честнее будет послать в Ставку телеграмму о своём местопребывании. И, не доверяя ни Ставке, ни телеграфу все свои намерения и тревоги, написал одну фразу: «Ночь на 2 марта ночую в Вырице». Отправили тотчас.
И завалился спать.
Уже в половине шестого утра завалился – и проснулся только в десять. Эшелон тихо стоял на запасном пути, никем не тронутый, всё в порядке, и цел был вверенный диктатору георгиевский батальон.
После крепкого, хоть и краткого сна и хорошего завтрака – легче соображаются последующие действия. Вчерашние колебания – не поехать ли на автомобиле к Тарутинскому полку (вчера это была поездка опасная), теперь отпали. Но хотя Государь милостивой ночной телеграммой и освободил Иудовича от всяких действий до высочайшего прибытия, однако совесть генерала требовала какого-то действия, и особенно в Царском Селе. Тогда со своими советниками он почёл разумным встретиться и поговорить с командирами запасных батальонов, расквартированных в Царском. И велел телефонировать им так: что либо приглашает их к себе в Вырицу, либо готов приехать в Царское лично, без батальона, чтобы не вызывать подозрений.
Связь была долгая, пока соединялись с одним, другим, но ответ был единодушен: и сами приехать не могут, ибо это вызовет подозрение в полках, и советуют генерал-адъютанту тоже отказаться от поездки, – она могла бы вызвать опасные последствия и даже взрыв.
Хорошо. Тогда он послал туда вместо себя Тилли, на паровозе, чтобы там разрядить нехорошую атмосферу недоверия к генералу Иванову.
Много времени прошло. А с проходящими из Петрограда переполненными поездами мог наблюдать генерал-адъютант такую картину: георгиевский батальон возбуждённо выбегал, окружал вагоны, расспрашивал. И боевой дух его несомненно падал.
И так в размышлениях и сомнениях пребывал Николай Иудович без решительных движений, пока уже далеко за полдень принесли ему с телеграфа депешу. И от кого! от кого не ждёшь! – от Гучкова! Что тот едет во Псков и ждал бы по пути или во Пскове непременно повидаться с генералом Ивановым. И дано распоряжение о пропуске его в этом направлении.
Вот это была удача! Гучков-то и владел, конечно, петроградским положением, да и всем новым правительством, наверно. Недаром пишет, что пропустит! А ещё с Японской войны отношения между ними были хорошие. (А ещё, чего никто не знал, глубокая тайна, это именно Николай Иудович в 1912 году выдал Гучкову тайный документ Сухомлинова, из-за которого был потом скандал, а думали на Поливанова.)
А – допустимо ли ехать по вызову Гучкова? Да ведь не обязался генерал Иванов перед Ставкою находиться в Вырице безвыездно и дальше. Надо действовать по обстановке, а она сильно переменчива. В некотором смысле свидание с Гучковым сейчас важнее любого приказа из Ставки. Только, конечно, не во Пскове встречаться, где и Государь.
И с поспешностью ответил Иудович Гучкову, что – рад повидаться! Что находится в Вырице, но немедленно выезжает на гатчинскую линию. А до Гатчины-Варшавской тут было всего вёрст 25, по соединительной ветке. Конечно, забирать с собою весь батальон и ехать немедленно.
Так и распорядился. И поехали. Но, от возраста ли, от волнений, – что-то ослабел Николай Иудович, прилёг и уснул.
А проснулся с ощущением, что спал – долго. Поезд стоял. Но не в Гатчине. Выглянул в окно и увидел выразительную вывеску: СУСАНИНО .
Так это что ж, позвольте, это разбой! это рядом с Вырицей! Никуда не уехали? Случилось с поездом? с дорогой?
Генерал очень разволновался, потому что, пропустя Гучкова, всё дело могло покатиться под откос. Послал офицера – узнать, приказать!
Тот вернулся: есть приказ – никуда не пускать. Мешаем поездам. Поставлены в тупик.
Так и захолонуло в животе.
А ещё принёс офицер косвенную депешу, подхваченную стороной, от наштасева Данилова командующему Пятой армией Драгомирову: что Государь император разрешил главкосеву вступить в сношения с председателем Государственной Думы и соизволил вернуть в Двинский район направлявшиеся на Петроград войска.
Как светом озарило сумрачную окрестность! Светом миролюбия, которое и предвидел Иудович. Всё развивалось точно по его прогнозу, и он ни в чём не преступил и оказывался чист перед его пославшими. Слава Богу!
Только растеплился Иудович, а тут прибежали из телеграфной и принесли такую депешу изобразительную, что в ледяную прорубь с головой:
«Вырица. Генералу Иванову. Мне стало известно, что вы арестовываете и терроризируете служащих железных дорог, находящихся в моём ведении. По поручению Временного Комитета Государственной Думы предупреждаю вас, что вы навлечёте на себя этим тяжёлую ответственность. Советую вам не двигаться из Вырицы. Комиссар Бубликов».
Опять – Бубликов! Да что ж это за чин такой – Комиссар? Да кто ж это обнёс, оклеветал? Да как Бог свят, вот крест на шее – ничего такого не было! Никого не терроризировал, а если приарестовал, так вчера начальника станции, за задержку со стрелками, чтоб обезпечить безопасность отважного батальона, – но отпустил же вскоре. А вот – разнеслась хула, и теперь не миновать ответственности перед Временным Комитетом. Могут и судить, простое дело. Вся сила переключается к ним, это видно.
Устоял, не шатнулся генерал Иванов перед Государем императором, перед Ставкой, перед воинским долгом, – а вот не расчёл, опорочился перед новыми властями. И – что теперь нагрянет на голову старого воина?
Дрогнул диктатор. Надо было всенепременно попасть к Гучкову, пока тот не проехал, через Гучкова добыть и всю милость! – а уже и так опаздывал, и вот преградил путь грозный Бубликов, Комиссар!
Сробел Иудович и не смел больше ни о чём просить, чтоб хуже не стало. Сидел в вагоне. И батальон по вагонам.
И высматривали в окно новоявленный Минин с пришедшим Пожарским – и ничего другого не видели, как табличку «Сусанино» да железнодорожников, туда-сюда расхаживающих по платформам и по путям, между рельсами снег промазученный.
И отправления поезду не давали.
Встреча с Гучковым терялась. Ныло сердце-вещун, что добром это не кончится.
А ещё же в Гатчине – 20 тысяч гарнизону, и к новым властям не примкнули, а значит – подчиняются Командующему Округом, ему, – и этих никуда не отзовёшь назад, и что ещё с ними делать? Ещё и за них ответ. Чего б не набедокурили.
И вдруг принесли новую депешу от Бубликова, слава Богу любезную в этот раз:
«Ваше настойчивое желание ехать дальше ставит непреодолимое препятствие для выполнения желания Его Величества следовать Царское Село. Убедительно прошу остаться Сусанине или вернуться Вырицу. Комиссар Бубликов».
Ах, как полегчало! Совсем тон другой. И вот же, всё ж таки, и Комиссар Бубликов не пренебрег интересами Его Величества. Так может, они все понемногу и сговорятся, минуя старого генерала?
А лучше всего, пока пускают, – воротиться в Вырицу. Наступление не удалось.
А оттуда всё же донести в Ставку об этих железнодорожных безобразиях.
...
ДОКУМЕНТЫ – 10
Генерал Сахаров – генералу Алексееву
Яссы, 2 марта
…преступный и возмутительный ответ председателя Государственной Думы на высокомилостивое решение Государя Императора даровать стране ответственное министерство… Горячая любовь моя к Его Величеству не допускает душе моей мириться с возможностью осуществления гнусного предложения, переданного Вам председателем Думы. Я уверен, что не русский народ, никогда не касавшийся Царя своего, задумал это злодейство, а разбойная кучка людей, именуемая Государственной Думой, предательски воспользовалась удобной минутой для проведения своих преступных целей. Я уверен, что армии фронта непоколебимо стали бы за своего Державного Вождя, если бы не были призваны к защите Родины от врага внешнего и если бы не были в руках тех же государственных преступников, захвативших в свои руки источники жизни армии… Рыдая, вынужден сказать, что, пожалуй, наиболее безболезненным выходом для страны и для сохранения возможности биться с внешним врагом… пойти навстречу уже высказанным условиям, дабы промедление не дало пищи к предъявлению дальнейших, еще гнуснейших притязаний.
330
Кутепов последний раз в Преображенском батальоне. – Обход караулов. – Уезжает.
И город являл одни опасности и расстройства, но и у сестёр отсиживаться было унизительно, безсмысленно. Жалел Кутепов, что приехал в отпуск не ко времени так. Ехал он в Петербург – мечталось с хорошей женщиной встретиться, – но какая теперь тут к чёрту хорошая женщина! Сейчас в Петербурге и ничем он больше помочь не мог, и для себя жить не мог, – а ехать раньше срока в полк.
До середины дня ещё подумал – и отправился на Миллионную заявить о своём отъезде на фронт. Несмотря на всю чрезвычайность обстоятельств, безтактно было бы уехать, не попрощавшись в собрании, уж как бы эти офицеры себя ни вели.
Ехать по городу было всё так же не на чем, отправился с Васильевского пешком. Но хотя народу было очень много, как в праздничное гулянье, и все с красными этими клочками, по-обезьяньи, однако спало как-то озлобление против офицеров, – уже можно было усвоить ненапряжённую походку, смотреть свободно во все стороны и принимать честь ото многих солдат (не ото всех).
До Миллионной дошёл благополучно. Но тут увидел против Преображенских казарм солдатскую цепь с винтовками. Они стояли вразрядку. Кутепов уверенно пошёл между двумя к подъезду собрания.
Соседний солдат смущённо остановил полковника и тихо доложил, что приказано никого в собрание не пропускать.
Правильно было сразу идти, не останавливаясь, но и теперь правильно было остановиться, признавая дисциплину выше полковничьего звания.
Кутепов остался на месте, уже несколько пройдя цепь, и велел вызвать к себе караульного начальника.
Солдат исполнил. Чернобородый Кутепов ждал как каменный, ничего не выражая смотрящим на него солдатам.
Из подъезда собрания вышел крайне развязной походкой низкорослый плохо-строевой ефрейтор с большой офицерской шашкой, с большим револьвером, всё не по уставу, а как захватывали в эти дни. Неуставно болтая руками, он подошёл и, не беря руки под козырёк, спросил полковника наглым тоном:
– Что вам надо?
Надо было – дать ему десять суток гауптвахты. Но приходилось, указав рукой на цепь, спросить:
– Что всё это значит, ефрейтор?
Прозвучало хорошим басом, и ефрейтор не отказался ответить: что все солдаты ушли в казармы на Кирочную выбирать нового командира батальона. А все офицеры – арестованы здесь, в собрании, потому оцепление. И опять развязно:
– А кто – вы будете?
Кутепов не мог не улыбнуться этому шпыню:
– Я имею честь служить в лейб-гвардии Преображенском полку.
На ефрейторе выписалась изумлённая храбрость:
– А-а! В таком случае я должен и вас арестовать.
Тогда Кутепов метнул ему молнию и отбрил командно:
– Вот когда повоюешь в рядах нашего полка столько, сколько я, и будешь знать в лицо всех господ офицеров, – вот тогда мы с тобой поговорим!
Ефрейтор опешил, не нашёлся.
Итак, вот, они все здесь сидели арестованные – полковые товарищи и случайно прибитые к преображенцам, истые строевики или либеральные мечтатели, так звавшие эту розовую зарю, – и Макшеев, и Приклонский, и Скрипицын. Хотел бы, хотел бы Кутепов на них сейчас посмотреть и послушать, что они думают. Но соотношение сил не позволяло ему отдать полковой долг вежливости, это уже была бы бравада.
И он повернулся, и рассчитанно-медленно, в себе уверенно, пошёл назад в сторону Зимнего. Про себя думал: если сейчас ефрейтор попробует задержать – снести ему мерзкую голову шашкой, и всё.
Но – не окликнули и не гнались.
А идя теперь так медленно через Дворцовую площадь, Кутепов увидел издали, что у подъезда штаба Округа стоит на посту часовой-преображенец. Кутепов свернул туда и вошёл в подъезд. Там караульным начальником обнаружил штабс-капитана Квашнина-Самарина и узнал, что караул уже двое суток без смены, не знает Квашнин, что делать дальше, но и не очень спешит в батальон: что там творится.
Полковник вошёл в караульное помещение, поздоровался с построенным караулом, поблагодарил за хорошее несение службы и объявил, что, по третьему дню, переводит их из состояния караула в положение команды, из часовых – в дневальных, разрешает на постах сидеть. Вызвал заведующего зданием и приказал при себе накормить людей получше. Проворно принесли солдатам ворох ситного хлеба, колбасы, чаю, сахару.
За это время узнал Кутепов, что и в Зимнем так же безсменно стоит другой караул преображенцев. Надо было и его подкрепить, батальонные выборы и аресты могли затянуться надолго.
Пошёл в Зимний. Поручик и унтер-офицер рассказали ему, что караул уже несколько раз не допускал во двор Зимнего каких-то матросов, каких-то рабочих, к часовым всё время подходят подозрительные типы и стараются их распропагандировать бросать посты и громить дворец.
Караул построили. Полковник звучно поблагодарил его, ответили звучно. Так же разрешил им считаться впредь командой, некоторые наружные посты снять, у ворот поставить парных дневальных. Снизу телефоном нашёл помощника заведующего дворцом и просил его выдавать караулу побольше сахара, хлеба, обставить караул как можно лучше. С удивлением услышал в ответ, что просьбу будет исполнить трудно, так как выдача сахара уже увеличена сверх закона на четверть золотника человеку.
Ни черта эти крысы тыловые, да ещё придворные, не понимали, что творится и что с ними самими может быть через пять минут! После такого ответа Кутепов прекратил разговор с этим господином и стал телефонировать в Гвардейский экипаж, где, по слухам, ещё сохранялся порядок. Спросил, не могут ли выслать караул в Зимний. Дежурный по экипажу ответил, что и думать не приходится.
Тогда позвонил в лейб-гвардии Павловский, где, кажется, уже выбрали нового командира батальона. К телефону и подошёл этот новый, какой-то штабс-капитан. Печальным голосом он подтвердил, что, к несчастью, да, он выбран командиром батальона, но не знает ни где находятся его люди, ни – сколько у них винтовок, сомневается, исполнят ли хоть одно его приказание, – и уж конечно караула выслать не может.
А ещё же и в Адмиралтействе стоял преображенский караул. К нему Кутепов уже не пошёл, а направился домой.
Так уже ненапряжённо стало ходить по улицам, что можно было отвлечься и задуматься. Задумался, как, несмотря на революцию, он свободно действовал и передвигался все эти дни по Петрограду. Что сделал он немного, но если бы из тысяч офицеров, находящихся тут, ещё хотя бы сто сделали по столько же, то и никакая революция бы не произошла.
А преображенцы запасного батальона вели себя совсем не плохо. Отлично действовали на Литейном. Роты, построенные на Дворцовой площади, не присоединились к восставшим, и только Хабалов виноват, что не использовал их. И вот – караулы стоят безсменно во всех главных зданиях. И веди себя иначе преображенские капитаны – они бы и не были арестованы, а солдаты не пошли бы на выборы.
Так задумался, что у Николаевского моста даже не сам увидел, а его увидели младшая сестра и младший брат, стояли предупредить: за эти часы, как нет его дома, три раза приходили матросы арестовать его.
Всё-таки донюхались, кто действовал на Литейном.
Брат и сестра хотели, чтоб он не возвращался домой, а сразу на вокзал.
Но отчего ж не собрали саквояж? Нет, такое бегство было не в нутре Кутепова, он потом долго будет вспоминать это унижение и не простит себе. Хорошо, уезжаю, но пошли соберём и простимся.
Есть и особенный вкус – испытывать опасность. С холодком проходить тесно-тесно близ неё.
Пошли. Не доходя, послали сестру на разведку: не ждут ли на квартире сейчас.
Нет. Вошли в дом. Умоляли сёстры – скорей. Но торопиться – тоже было унижение. Выслушал плач старой прислуги Захаровны:
– Одни рожи ихние чего стоят! Отца родного убьют. Уезжай, батюшка! Пока тебя сторожили – у меня сахар забрали, пятнадцать фунтов, чтоб им подавиться!.. Чтоб он им отрыгнулся на том свете!
Уложился. Присели все помолчать. Простился. И с братом пошли на Виндавский вокзал, опять пешком. Ещё конец изрядный, но благополучно.
Сам же вокзал оказался весь запружен солдатами – правда, никто не протягивал руки обезоружить. (Но и наган был в этот раз в саквояже, не соблазнять.) Оказалось, что поезда через Могилёв не ходят, и неизвестно, когда пойдут.
Тогда что ж? Ехать на Киев кружно – через Москву, Воронеж.
Пошли на Николаевский вокзал. Уже и темнело.
Отсюда на Москву поезда ходили, как будто никакой революции нет.
331
Ставка томится в ожидании отречения.
В половине третьего отправил Алексеев Государю во Псков сводку пожеланий Главнокомандующих.
И началось томящее ожидание. Если б не отправляли, если б ничего этого не зачинали, то не было бы и напруженности этой. А теперь уже хотелось, чтобы скорей покатилось. Уже и выхода не осталось другого.
Так чувствовал Алексеев, что они уже не могли встретиться с Государем по-старому.
И уже не мог он быть оставлен при нём прежним начальником штаба.
Как будто лишь дали добрый совет: отречение – самый лёгкий и быстрый выход прийти ко всеобщему спокойствию и согласию. А – что-то перешли непоправимое. Чем дальше от посланной телеграммы, тем это глубже чувствовалось.
От Непенина пришла телеграмма не ответная, утренняя и косвенная, – но он ещё раз решительно подтверждал, что присоединяет Балтийский флот к Думскому Комитету. Так что в его позиции сомнения не было.
К трём часам наконец вырвали телеграмму и от Сахарова. Как ни оговаривался, но согласился. Дослали во Псков.
Смолчал один Колчак. Но им одним уже ничто не решалось.
А зато Николай Николаевич всем авторитетом и решительностью ответил за двоих.
Так тревожное напряжение в Ставке всё осталось, а решение перекатилось во Псков.
Во Псков? И Государь решал? Нет! – с трёх же часов вдруг откуда-то возник слух, что литерные поезда изо Пскова ушли!
Так и сжало сердце верностью известия: вот это был наш царь! вот это – он! Уклониться, скрыться, бежать от решения! Это – он.
И – куда же? Куда он помчал? Не сюда ли?
Срочно запросили штаб Северного: в данную минуту – где находятся литерные поезда? Во Пскове или ушли? И – по какому маршруту?
Там запросили коменданта вокзала, – стоят на месте.
Но слух не утихал.
Послал Алексеев Лукомского самого протелеграфировать: во Пскове литерные поезда или куда отправились?
На месте.
Тогда Клембовский распорядился в штаб Северного так: если бы получилось сведение, что литерные поезда ушли или даже только отдано такое распоряжение, – немедленно сообщить в Ставку!
Будет исполнено.
(А что, Алексеев решался задержать?? Нет, не так прямо… Но и…)
Успокоились, но не надолго. Пришло сведение, что эксплуатационный отдел Северо-Западных железных дорог уже распорядился об отправлении литерных поездов к Двинску!
То есть к линии фронта. К штабу Пятой армии, к Драгомирову. Что это?
Снова кинулись запрашивать штасев. А там никого не добьёшься знающих, все куда-то разбрелись. Наконец добились: литерные поезда – на месте, ни о каком таком распоряжении не слышали. Знают другое: из Петрограда выехал экстренным поездом Гучков. Его ждут во Пскове после семи часов вечера.
Гучков? Новость!
И неплохая. Алексееву стало пободрей: Гучков со своим напором – добьётся.
И еще объяснял штаб Северного, чтó дальше с посланными передовыми полками: Тарутинский остался лояльным, но будет возвращён кружным путём через Эстляндию, чтоб только не через мятежную Лугу, избежать конфликта. А Бородинскому лужане возвращают отобранное оружие, и уже поворачивает он назад.
Так, позвольте, значит, Бородинский не переходил на сторону мятежников, как извещалось?
Нет-нет, не переходил. Но подробности потом, по телефону стесняются.
С каким же трудом уточняются самые простые вещи. Весь день, по сотрясательному слуху, считала Ставка, что бородинцы взбунтовались, и эта ненадёжность войск особенно торопила шаги с отречением, – а они, оказывается, и не бунтовали.
И проклятая неопределённость оставалась с Ивановым. Хотя в полдень и пришла от него телеграмма, что он ночевал в Вырице, – но что же дальше? что он там делает? Он так близко к мятежным частям, что столкновение может возникнуть самопроизвольно! Надо удержать его от всяких активных действий.
Из Ставки безпокоились об Иванове, а у Петрограда – свои заботы. И из Главного морского штаба рисовали ужасную балтийскую ситуацию, и мятеж в Ораниенбауме, и морской министр Григорович распорядился действовать в согласии с Думским Комитетом. А из Главного штаба генерал Занкевич по приказанию Родзянки запрашивал Лукомского со всею срочностью о положении на фронтах, – ждёт ответа у аппарата.
Очевидно, и у них были слухи, и не иначе как о прорыве нашего фронта немцами.
Передали им от Лукомского, что на фронтах затишье.
В эти тягучие часы у всех уже напряглись нервы до последней струны, и у Алексеева тоже. Казалось уже всё меньше возможным ждать в незнании. Все жаждали решения скорей!
Если так не ведали в Ставке, то уж совсем ничего не понимали в штабах фронтов и в крупных прифронтовых городах. (Особенно нервничал, ждал Янушкевич, начальник штаба Кавказского.) Оживил их Лукомский ориентировочной телеграммой, что ожидается опубликование высочайшего акта, который успокоит население и предотвратит ужасы революции. И – ориентировать об этом главных начальников округов.
Хотя военные округа как будто молчали и не спрашивали, но уже несколько часов очень нервничала Одесса. Начальник округа оттуда докладывал, что тревога населения растёт и будет расти. Сперва – отсутствие телеграмм из Петрограда, затем наплыв их делает положение с каждым часом опаснее, с трудом удерживается порядок. Когда же наконец последует обещанный высочайший акт?
Клембовский объяснил в Одессу, что речь идёт об отречении , и, по-видимому, оно неизбежно, хотя решение ещё не принято. А в Петрограде спокойствие восстанавливается.
Ведущие генералы Ставки не находили себе места от волнения, как в большом бою. Тем временем действительный статский советник Базили со своими помощниками продолжал улучшать стиль манифеста об отречении, Лукомский нахаживал туда и торопил: не должно же дело застрять из-за неготовности манифеста!
Наконец в 16.50 ожидаемое прорезалось, но пока в облике туманном: пришла телеграмма от Данилова, хотя и не об отречении, однако же! Уклончивый, упорчивый, нерешительный Государь выразился в длительной беседе с генералами, что нет такой жертвы, которой Его Величество не принёс бы для истинного блага родины. О чём Данилов и сообщал.
Конечно, под тем могло скрываться не так уж многое. Но ожидаются к вечеру Гучков с Шульгиным.
Намёк о жертве давал право Ставке теперь разлить успокоение шире. Почти тотчас разослали телеграммы прямо по военным округам, даже Иркутскому и Приамурскому, и казачеству Войска Донского: ожидается опубликование высочайшего акта, долженствующего успокоить население. Наштаверх выражает уверенность, что войска Округа останутся спокойны.
Впрочем, кроме Одесского округа, никто о безпокойстве не доложил.
Но, сердечно сочувствуя Государю, как ему сейчас стеснённо и тяжело, Алексеев перенёс мысль и к матери его: что должна думать она в ливне этих телеграмм и слухов? И распорядился Брусилову, чтобы Юго-Западный ориентировал вдовствующую императрицу в Киеве по обстановке, что будет знать сам.
А ещё раз спросить у Пскова: на месте ли литерные поезда?
На месте.
Да ведь все эти уговоры Государя, через его несомненную муку, только и предпринимались, чтобы спасти армию от анархии! И вот ещё несколько тревожных часов, последние часы, – и Россия будет спасена от развала, армия – спасена для весеннего наступления!
На пути к спасению России стояло одно лишь упрямое сердце монарха.
332
Трепов у Кривошеина. – В министерстве путей сообщения. – Министры не у дел. – Бубликов не получил министерства.
После того как позавчера уводили Игоря, обысков в квартире Кривошеина больше не было, – сумели установить в парадном какое-то подобие охраны.
Но такой общеизвестной и в эти дни совсем не одиозной фигурой вырастал Кривошеин, что к нему приходили укрываться, спасаться или за советом и другие видные лица, члены Государственного Совета, – ведь уже весь Петроград знал, что бывших сановников арестовывают. А вчера к вечеру пришёл сильно напуганный Александр Трепов. И не избежать было оставить его ночевать, к их семейству у Кривошеина был долг чести.
Вся семья Треповых – и отец Фёдор, градоначальник Петербурга, которого убивала Засулич, потом генерал-полицмейстер Царства Польского, и все четверо его сыновей играли видную роль в управлении Россией, можно сказать незаслуженно по способностям. Сын Дмитрий, генерал-губернатором Петербурга, предотвратил революцию и кровопролитие в столице в 1905 (его прочестили: «патронов не жалеть»), и он же покровительствовал Кривошеину и продвигал его записки ко вниманию царя; и он же пал духом на следующий год, искал соглашения с кадетами и панически боялся разгона Первой Думы. Владимир был известный оппонент Столыпина в Государственном Совете, сенатор и шталмейстер, последние годы успокоенный выгодными концессиями в Сибири. Фёдор-сын – генерал-губернатор, начальник Юго-Западного края. Александр вошёл в правительство в те же дни, когда Кривошеин ушёл, год был министром путей сообщения, с большой энергией вёл, и особенно Мурманскую дорогу, в ноябре же взлетела его звезда в премьер-министры, и он внезапно пытался сменить консервативный курс на полулиберальный (проявляя, что ни тот ни другой не были сродны ему), искал популярности у Думы, не нашёл, потерял и доверие трона, к Новому году слетел. Был он жёсткий, властный, скрытный, но и опытный, и удачливый в государственном управлении, хотя, может быть, движим лишь карьерой. Отставили его зря. Как раз он – мог бы защитить трон в эти дни. Им пожертвовали из-за его несоединимости с Протопоповым и Распутиным.
Известно было в обществе, что Трепов не терпел Распутина и все два месяца своего премьерства тщетно пытался уволить Протопопова, и так вряд ли ему что серьёзное грозило сейчас в Таврическом дворце, но он был погружён в испуг, столь неожиданный при его сильной натуре, скрывался, просил защиты. Столько он высказывался прежде о крутых, решительных мерах, как же мгновенно может сотрясаться наше положение в обществе и наш характер!
Невысокий, плотный, редковолосый с прирыжью, с напряжённым взглядом и красноватым лицом, он как будто повторял брата Дмитрия, перед смертью оплетшего дом электросигнализацией от террористов.
А всё же – решился этот человек взять тот пост, которого Кривошеин никогда не решался.
Второй раз за эти дни посылался ему гость-ночёвщик, с которым сама судьба направляла вести правительственные разговоры – о тайнах Совета министров, о судьбах российского теперь управления.
Совершенно неясного. Потому что нарушился закономерный ход службы сразу у всех. Сдвинулись сразу все пласты, все сложности – невозвратимо. А в обществе – нет государственных привычек.
Трепов и сегодня был уверен, что, если б его в ноябре освободили от Протопопова, – он спас бы и это правительство и трон.
Однако сейчас Трепов производил впечатление конченого деятеля, отыгравшего. Себя же Кривошеин видел иначе: рушилось мимо него, а он – стоял и только укреплялся. И в России не было сейчас более опытного и вместе с тем никак не запятнанного перед обществом государственного деятеля. Всякому незамутнённому взгляду должно быть ясно, что пригласить новым премьером разумно только Кривошеина, – и это всё спасёт.
И в этой безумной, закруженной, исстрелявшейся столице Александр Васильевич в эти безсонные ночи – всё более решался на власть. На что не решался столько лет, упустил руль, когда он тыкался в руки сам.
А сейчас – решался.
И час за часом, про себя, затаённо, ждал гонца из Думы.
Но гонца не слали.
Хотя и правительство же всё никак не составлялось.
Переночевал Трепов благополучно – но что же было ему делать дальше? У него была такая мысль: добраться до министерства путей сообщения. Там уцелела его бывшая казённая и не занятая Кригером квартира, и там распоряжается от Думского Комитета свой путейский инженер Бубликов. Либо там же приютят, либо дадут какое-нибудь охранное свидетельство, во всяком случае от них там можно начать переговоры.
Кривошеину и легче, Трепов его тяготил.
Но – как ему туда добраться?
Теперь – только пешком, иного транспорта нет. И под охраной не сына же, офицера, – только старый Кривошеин и мог при случае защитить, сам собой.
– Ну что ж, пойдёмте, Александр Фёдорович.
Путь не близок. И не знаешь, как лучше – через центр или вдоль Фонтанки. Вот настало время: тяготили собственные шубы, покажутся богатыми, а бедней ничего на плечи нет.
Решили идти по Садовой, в её обычно суетливой разнообразной торговой толкотне. И меньше будет солдатских грузовиков. Пожалуй и правильно.
Прошли, не попав под обстрел и не задержанные.
Кривошеин озирался с удивлением. Как будто изменился воздух. Поражали красные лоскуты, распущенные курящие солдаты, кое-где разгромленные лавки, многие закрыты – и в Гостином Дворе, и в Апраксином. Однако многие и торговали. Жизнь была надломленная, но не сломленная.
Одно время пожалели, что не догадались сами нацепить красные банты, легче бы идти. Но обошлось.
На Фонтанке перед министерством стояла солдатская охрана. Послали записку комиссару Бубликову, – и через десять минут были приняты и проведены к нему наверх – в собственный же недавний треповский кабинет, с окнами в юсуповский сад. До сегодняшнего утра тут помещался задержанный Кригер, сейчас его увезли в Думу.
Бубликов не ходил, а бегал по кабинету очень возбуждённый, подёргливый, утеряв свой обычный ощипанно-опрятный вид, но и очень уверенный. Уже через несколько фраз посетители поняли из обмолвок, что он становится новым министром путей сообщения.
(Уже так конкретно намечались и отдельные министры?)
А пока – радушно принимал, как равных. Узнал цель визита – обещал и охранное свидетельство, и конечно можно ночевать в министерской квартире.
А пока – велел подать чай с печеньем, и сидели пили вчетвером (при Бубликове – ещё инженер, тоже комисcap) в простор-ном кабинете, где всё сохранялось по-прежнему. И Трепову странно было, и приятно, что он в своём же кабинете. На небе просветлилось – и через сад слева направо полило предзакатное солнце, придавая и кабинету красноватое освещение.
Пили чай, обсуждали российские судьбы. Раз Бубликов идёт в члены нового правительства – тем лучше, их визит приобретал характер разведки. Кривошеин знал за собой умение шармировать собеседников, и не хотел сдерживать его.
– Да неужели же Россия не заслужила наконец иметь сильное правительство из талантливых людей?
Все были согласны.
– Однако, чтобы стать правительством, вам надо сперва навести порядок хоть у себя в Таврическом. Потом – в городе.
Рассказал, как арестовывали и водили сына.
Да гораздо больше Кривошеин знал, чем успевал тут высказать. Он знал этот обширный и медленный ход статистических обследований, сводных результатов, из которых рождаются первые мнения, потом проектов, контрпроектов, аргументированных докладных отточенным языком, затем высочайших рассмотрений, работ назначенных комиссий, новых докладов на Совете министров, прений, высочайших утверждений, – десятилетиями он жил в этой плавной деятельности, и нельзя было поверить, чтобы что-нибудь подобное родилось из сегодняшнего хаоса. (И без него.)
– Да-а-а, – пошучивал он. – Вы нас изводили своими безумными резолюциями, а теперь мы поменяемся с вами местами. Вы теперь пойдёте в министры, а мы – будем работать в общественных организациях и вас отчаянно критиковать. Только у нас есть долгий опыт государственной работы, а у ваших министров – никакого.
И в это самое время зазвонил телефон. Бубликов схватил трубку – радостно вскричал:
– Состав правительства? – и стал принимать и всем присутствующим повторять вслух: князь Львов… (И для Кривошеина всё было кончено.) – Милюков – Гучков – Шингарёв… Он весело это повторял, но с трудом скрывая волнение; как близилось к путям сообщения, лицо его разгоралось.
Всего-то! – ловил Кривошеин. Только и могли они придумать – Львов, Милюков… безнадёжные кадеты. Всего-то? И не понимают они, что ещё в начале зимы такой кабинет мог бы вытянуть, – но протряся через революцию? Государственного опыта – нет, это главное. А без него – кто вы?
Hundert fünfzig Professoren…
Vaterland, du bist verloren! [1]
Запнуться Бубликова и изумиться всех заставил Терещенко: что-о? кто-о? Этот юноша по балетной части, лакированный денди – министр финансов??
Но тут дошёл до еле скрываемого надрыва голос Бубликова:
– …Путей сообщения… – Не-красов?? – ещё произнёс, по инерции, – и голос оборвался, лицо потемнело, и больше он вслух не передавал, опустил трубку. И в кресло вплюхнулся.
Царский министр Трепов, достигший безопасности, давал волю своему стороннему удивлению:
– Да Некрасов никогда на путях сообщения не работал. Лектор по статике сооружений без единого научного труда. Последнее, что у него может быть, это студенческие конспекты 15-летней давности. Да материалы к нескольким думским речам. Никакой практики.
– Да вообще ничтожество!
Но разве этим выражалось всё оскорбление? весь удар в сердце?! весь разлом мира?! Разве этим??
Свинцово вскипело и нуждалось выбрызнуть, – а Бубликов должен был ещё не давать лицу измениться, ещё делать вид – и не сразу вскочить и бежать в другую комнату, к другому телефону – звонить им туда! и выплеснуть!
Но – кому? Он даже не мог оплеснуть коварного Родзянку, раздутого, крупного, громкого, потому что тот за трое суток уже опал тряпичным мешком. Ах, так и случилось! Сам виноват, что здесь сидел, ушёл из Думы, захватывал им железные дороги – на кого работал?! Подталкивал хлебные эшелоны. Торопил уголь из Донбасса. Звал деповских усилить ремонт. Заместил убитого Валуева. А теперь?..
Бешено кричал в трубку, чтобы только освободиться, не задушило бы:
– С этими хамами я служить не буду!.. Разве он эксплуатационник? Разве он может вести министерство?.. Если мои заслуги ничего никому не значат… Проходимцы, хамы! Губят Россию!.. Чистейшая демагогия, наглое издевательство!.. Да они не продержатся и двух месяцев, их выгонят с позором!.. Да такого позорного кумовства и при Распутине не было!..
Ломоносов, с перекатным котлом головы и метучим взглядом, – был в этой комнате. Всё слышал, всё понял, гневно кивал. Бубликов – прогорел. Но Ломоносов – ещё мог сманеврировать и получить хорошее место. Он согнуто охотился над железнодорожной картой:
– …Та-ак… Поезд с депутатами прибыл в Лугу… Скоро во Пскове… Та-ак… Царь пойман – и начинается новая эра русской истории!..
333
На Совете проголосовано не входить в правительство.
Как ни хорошо знал Гиммер, что все эти многолюдные собрания никакой политики не решают, политика делается несколькими человеками, в задних комнатах, – но коварный манёвр Керенского поразил его, научил и показал другие возможности.
Пока Нахамкис своим усыпительным, неторопливым голосом и разливанной речью забивал время собрания и объяснял массе, что вчера ночью одержана большая победа над буржуазными элементами, а наши уступки незначительны и мы не дали буржуазии никаких серьёзных обязательств, – Керенский пришёл со своим Зензиновым в 13-ю комнату, нервно подёргивался там, вяло поспаривал с большевиком – и ни словом, ни взглядом не открыл, что готовится к прыжку. И был, в общем, в состоянии вполне нормальном. Но как только из раскрытых дверей 12-й комнаты аплодисменты отметили окончание речи Нахамкиса – Керенский рванулся туда неудержимо – и уже через минуту начинал свою речь в состоянии экзальтации, падал на мистический шёпот и всем объявлял, что готов к смерти. Это были неизвестные нашей неподготовленной толпе приёмы французских ораторов с сильным «аффрапирующим» действием, – он рассчитанно спекулировал на неподготовленности и стадных инстинктах аудитории. И какую чушь он там ни нёс – что министерство решалось в пять минут, что в ещё не сформированном правительстве он отдал распоряжение освободить политических заключённых (а это в старом министерстве распорядились посланные комиссарами Маклаков и Аджемов), и в каком полуобморочном состоянии ни произносил полубезсвязных фраз, – а очень демагогично и стройно. А одержавши триумф и вынесенный на руках, он тотчас же вернулся в нормальное состояние и стал оживлённо разговаривать с английскими офицерами.
Сам по себе манёвр Керенского был поучителен и ослепителен, но он противоречил междупартийной этике – и это возмутило членов ИК: Керенский просто игнорировал и весь Исполнительный Комитет, и всё его постановление, он не пожелал ни руководствоваться им, ни добиваться его пересмотра, а, как некий бонапартёнок, всё перевернул своей выходкой.
Большинство Исполкома во время речи, стоя тут же, за спинами, от дверей 13-й комнаты – негодовало, но безсильно было помешать: при таком успехе Керенского рискованно было начинать с ним публичный диспут.
А бундовцы Рафес и Эрлих, сторонники коалиции с буржуазией, внешне возмущаясь, внутренне, кажется, сожалели, что Керенский не ввёл их в свой план раньше – не сговорил, и не назвал ещё, может быть, кого-то с собою вместе кандидатами в правительство. И меньшевики тоже надеялись сегодня обсуждать свой вход в правительство, – и все были ошеломлены, что ночью Гиммер, Нахамкис и Соколов, никем не уполномоченные, уже ото всего ИК заявили буржуазии решение! А теперь: каково было спорить с этим решением на общем собрании, когда угрожали резкие выступления большевиков и межрайонцев.
А большевики и межрайонцы полезли на стол с речами, и те прения ещё потянулись на три часа, и нашлось 15 ораторов. Никто, правда, больше не обещал немедленно умереть, но требовали большевики немедленного окончания войны, немедленно ввести 8-часовой рабочий день, немедленно раздавать помещичью землю, а для того – никакого контакта с Думским Комитетом, не дать образоваться буржуазному правительству, а создать революционное.
– Что же получилось? – кричали большевики. – Ходили на улицу, текла кровь, а что преподносят сегодня? Царскую контрреволюцию! Гучков, Родзянко, фабриканты, Коновалов посмеются над народом. Крестьянам вместо земли дадут камень!
И как всякому громкому крику толпа радостно и громко им отзывалась.
В такой обстановке Рафес и Эрлих не посмели предложить вхождение в правительство. Однако меньшевики отважились: что коалиционное правительство необходимо для объединения всего народа.
Но разве это стадо понимало слово «коалиция»? Или – «Учредительное Собрание»? Или вообще понимало что-нибудь из того, что тут говорилось? Для массы только сочетание «Исполнительный Комитет» звучало властно.
Наконец, к 6 часам вечера, уже темнота за окнами, – сморенные, распаренные, сдавленные, с затеклыми ногами и даже руками, – члены Совета были готовы к голосованию.
И толпа Совета – как будто сама себя не помнила, не осознала, не заметила, что она одобрила вхождение Керенского, – теперь всею мощью в 400–500 голосов, не считано, ещё и в коридоре поднимали, – взмахнули руками за решение таинственного Исполнительного Комитета: в буржуазное правительство ни в коем случае не входить! Но – поддерживать его. И ещё, такую малость забыл вчера Нахамкис прочесть, – самоопределение всех наций. Проголосовали.
И если б ещё кто высунулся с какой поправкой, – создать второе революционное правительство, – тоже бы проголосовали. Солдаты – пусть, но как будто и рабочие, ведь ученые же, а ничего не понимали.
Но это историческое заседание-застояние Совета в комнате бюджетной комиссии должно было стать последним: уже невмоготу было тут стаивать и сдушиваться, а ведь завтра ещё подвалит депутатов, уже небось до тысячи?
Надо захватывать большой Белый думский зал.
Сборище уже окончательно разлагалось, кто-то выкрикивал дополнительные сообщения, внеочередные заявления, – как влез на стол меньшевик Ерманский и, потрясая бумажкой, объявил, что – да, подтверждается: в Берлине второй день идёт революция, и Вильгельм уже свергнут!!!
И все, ещё остававшиеся тут, Вильгельма-то знали все, – стали топать, и хлопать, и гаркать «ура».
А Чхеидзе на председательском посту – что с ним сделалось? ведь совсем кунял, – стал подпрыгивать на столе, вращая глазами, круговращая руками, в небывалом кавказском танце, – и тоже рычать «ура» из последних старческих сил.
334
Неудачное выступление Гиммера перед толпой.
Всё наличествовало у Гиммера, по его оценке, – огромный теоретический багаж, острый политический нюх, неутомимость в дискуссиях, и заслуживал он, кажется, самого большого места в революционном движении, – но препятствовал ему маленький рост, худоба и невнушительная физиономия, а от сознания этих пороков проявилась у него и ораторская робость. Всё что угодно он мог сказать нескольким человекам в комнате, но толпе? Нахамкис поднимался спокойно и беседовал с толпой как со своими знакомыми, кажется мог при этом в затылке почесать или сунуть руку в карман. Керенский взлетал как ракета, и кричал ли, шептал, рыдал или падал, – всё производило на толпу магнетическое впечатление.
Но сегодняшний нахальный концерт Керенского на Совете уже окончательно вывел Гиммера из себя. И он решил самопровериться и тоже выступить оратором. Только через это он мог стать полноценным социалистическим вождём.
Он не томился, конечно, всё время в стоянии Совета, а часто выходил и проверял события в правом крыле, в левом крыле, в Екатерининском зале. Жаль, он пропустил выступление Милюкова, – было бы очень уместно вот тут ему и оппонировать публично. Вообще, это выступление было не согласовано с Исполкомом, преждевременно и конфликтно.
Так шёл Гиммер в пиджаке, проталкивался по коридору – и тут ему сказали, что пришла какая-то новая делегация ко дворцу, надо выступить члену Исполнительного Комитета, а никого близко нет.
И – сердце забилось: минута пришла! Гиммер знал, что уже решился! И он – пошёл к выходу.
Ему сказали: надо бы одеться. Но он подумал, что в шубке своей будет выглядеть совсем невзрачно, да мороз небольшой. Так и вышел.
И сразу увидел свою толпу – и напугался. Головы и лица, головы и лица, занявшие весь сквер и все обращённые уже сюда, уже терпеливо ожидающие оратора, – стояли и смотрели сюда?
И острым углом сжался в Гиммере, вверху живота, испуг: кажется, такой толпы, такой толпы он не видел никогда в жизни!
А толпа как стояла, так и стояла, движения по ней не прошло, она не поняла, что это и вышел оратор.
А между тем морозец схватил голову, не всю покрытую нашлёпкой волос, холодно.
Кто-то рядом насадил на него большую папаху – налезла на уши, на брови, но стало голове тепло. Защитным движением Гиммер поднял борта и воротник пиджачка.
Но – как начать говорить? Но – как обратить на себя внимание? Сопровождающие – все были выше него, и, кажется, от кого-то из них ожидали речи.
Кто-то крикнул сильно:
– Товарищи! Сейчас с вами будет говорить член Исполнительного Комитета Совета рабочих и…
А у Гиммера – ни звука не шло из горла.
Но близких два солдата уже поняли, что он будет говорить, – и подбросили его к себе на плечи, легко взбросили, одно бедро одному на погон, другое другому.
– Товарищи!
Слабо. Сильней:
– Товарищи!
Что такое? Голос оказался совсем слабый. Он уже вот во всю силу говорил – но это был не его голос, что такое?!
Ещё сильней! Во всю силу!
Опять слабо.
Надо же было прожить целую жизнь и не знать, что у тебя совсем нет голоса! А вот тут, на чужих плечах, над толпой, в первый раз узнать.
Ну, сколько есть. Стал Гиммер говорить. Сами мысли, их последовательность не отказывали ему: о произошедшем освобождении народа, о революционных лозунгах, о необходимости формирования власти, о переговорах Совета и Думского Комитета. Он нисколько не забыл и прослеживал свою мысль, по линии наибольшего сопротивления для масс: что не надо брать власти самим, но передать её цензовикам и даже обязать их минимальной программой. Доводы – не изменили ему, он кажется это всё говорил, и не хуже обычного.
Но по выходу голоса чувствовал, что толпа дальше шестого-восьмого ряда его не слышит. Ещё удивительно терпеливая толпа – никаких признаков раздражения. Так стояли и смотрели все серьёзно.
Но почему так тихо и молча? Как будто столпились рыбы в аквариуме, и звуки оттуда не доносились.
Или – это он был для них как рыба из аквариума?..
Первые ряды, хоть и слышали, – но что они слышали? Доходили до них доводы? убеждали? Только когда, перечисляя министров, он назвал Керенского, – толпа раскрыла рты, стала кричать и аплодировать.
И можно было подумать, что аплодируют Гиммеру.
А ещё покричали ему, будет ли монархия, будет ли династия?
А он и сам к этому не был готов. Он до последнего часа мало задумывался о судьбе династии, второстепенный вопрос.
Но и так ответить было неполитично – и он показал толпе на своё горло, пощупал кадык.
Кое-как слез с плеч и ушёл во дворец, удручённый.
С отвращением от толпы. Этой безсмысленной солдатской толпы. И всякой вообще.
Нет, выступать – не его дело.
335
Ликоня: он зовёт!
Приехал!!
И – звал. Опять записка.
Со страхом брала (а вдруг что-нибудь не то?). Но – звал.
Как снова стало светло!
Как благодарить его, что он делает ей так хорошо! Если б не он, её душа так всегда и оставалась бы пустая.
Наизусть уже знала и эту вторую.
Он весь – большое сильное движение. Говорят, какие-то волжские пароходы, степные скакуны, и что-то в Сибири. И сам в сапогах, но не по-военному, а по-походному. Носится по всей России!
В петербургский притеатральный мирок вошёл как из лучших молодых героев Островского, до того действительный, как нельзя воспроизвести на сцене.
Куда входить поклонником ему совсем и не свойственно. А что он здесь предчувствует – это она, маленькая, могла б ему всё и дать.
Пушинкой бы прицепиться к его одежде – и носиться с ним по всем его ветрам! Невесомой, и под его защитой.
Она уже не надеялась – встретить.
Хочется объяснить ему, почему до сих пор у неё была не жизнь.
Тянет к нему раньше срока, ноги с силой отрывая от пола.
Через несколько часов… Нельзя представить себе этой встречи…
336
Родзянко осознаёт себя Главой Государства Российского. – Назначение Корнилова на Петроградский округ.
Итак, по разным властным причинам Председатель Государственной Думы не мог принять государева поручения сформировать и возглавить новое правительство. Да даже и войти в создаваемый кабинет хотя бы членом.
Но от этого Родзянко вовсе не остался без дел и обязанностей. Напротив, если подумать, то его особое положение ещё более возвысилось.
Ибо: кто же будет источником власти этого самого правительства? Кто же передаст ему полномочия народного представительства, если не возглавляемый Родзянко Временный Комитет Государственной Думы? А по сути – Верховный Комитет, так что его Председатель фактически действует как Глава Государства Российского.
Широким чувством своим обнявши все обстоятельства, Родзянко понял, что он и сам никак не мог бы пойти в правительство, как бы его туда ни звали. Как же так: перейти бы ему в правительство – а кто же будет руководить Государственной Думой? Распущенной на перерыв, лишённой регулярности, с депутатами в рассеяньи, как никогда особенно беззащитной и нуждающейся в руководстве, – кто же будет ею руководить? Как же мог бы Председатель в такую тяжёлую минуту – и покинуть свою Думу? Не этих интриганов, здесь нескольких, а тех остальных – доверчивых и беззащитных? Покинуть само дело свободы?..
И кто же будет наблюдать за новым правительством, для того и ответственным , чтоб ему отчитываться перед Думой?
Родзянко – сросся со своей Думой. И с каждым часом ему становилось ясней и ясней: это была вообще ошибочная мысль – переходить на правительство. Он – не мог бы принять правительства.
Он – ни о чём далее не жалел.
И в этот переходный период, пока правительство не создалось, к кому же обращались и все крупные военачальники, и все, у кого был важный вопрос? Великий князь Николай Николаевич давал телеграммы из Тифлиса – ему. Вице-адмирал Непенин просил послать в Ревель – кого же, как не депутатов Государственной Думы: успокоить население, чтобы жители перестали возбуждать матросов. Бывший морской министр Григорович, не арестованный, прислал из Главного морского штаба контр-адмирала Капниста с советами, как удержать порядок во флоте и восстановить его в Кронштадте.
И к Председателю же прибегали за разъяснениями, как понимать изданный рабочим Советом «приказ № 1». И Родзянко всем объявлял: считать недействительным и незаконным.
И – к кому же, как не Председателю Думы, лились телеграммы поддержки, восторга и одобрения от различных уже и провинциальных, не всегда известных и даже неизвестных собраний, учреждений, обществ и ассоциаций? – весьма подбодрительное чтение. Великая страна не знала никакого правительства, никакого совета рабочих депутатов, – а только свою надежду Государственную Думу, у которой вся сила.
И кто должен был быстро найтись, когда по столице пронёсся страшный слух, что немцы крупными силами прорвали Западный фронт? (Поручил Занкевичу проверить у Ставки, к счастью ничего подобного.)
Затем: кто же была та главная фигура, обязанная приветствовать приходящие к Думе воинские части, если не Председатель Думы. Сегодня ко дворцу подошли юнкера Павловского училища (где в прошлые дни были колебания и волнения, за что арестован генерал, а сегодня у них был обыск) и училища Военно-Топографического. Но никого не укоряя за замедление явки, Родзянко горячо призывал продолжать учебные занятия, набираться военных знаний для разгрома ненавистной Германии.
Так весь день провёл Председатель в заботах, делах и обременениях, – некогда было дохнуть. И уже меньше всего был занят составом нового правительства.
Приходили к нему, и несколько раз, полковники из Военной комиссии, докладывая, что хаос в гарнизоне растёт, а твёрдого военного управления нет, – нужна фигура во главе.
Что ж, назначить командующего Округом – для Председателя самая поплечная задача. Это предложение вдохновляющее: дать взбудораженной столице твёрдую военную власть! Кого? Они высказали, что нужен известный герой, а вот – Корнилов?!
Корнилов? Неплохо. Гучкова ждать не будем, время не терпит.
Генерал Корнилов находится на фронте и командует корпусом. Таким образом, он подчиняется Ставке. Но Верховный Главнокомандующий… стоит теперь перед отречением. А Родзянко в эти часы фактически – Глава Государства.
Итак: просто послать на Юго-Западный фронт приказ Председателя Государственной Думы: доблестному генерал-лейтенанту Корнилову как можно быстрее, в часах, передать 25-й корпус и выехать в столицу для занятия высокого поста.
Но так как телеграмма пойдёт всё равно через Ставку, то надо как-то вежливо сообщить и в Ставку. Тоже не обижать Алексеева зря. Даже можно придать форму как бы совета со Ставкой или просьбы.
А Государя – обойти фигурой почтительного умолчания.
На всё это потребовалось много ума и тонкости.
Зато уж по самой столице, спеша порадовать жителей, мог Председатель первый объявить о назначении Корнилова и в форме собственного Приказа.
Тут – полковники из Военной комиссии даже не могли ему помочь. Это не были строки рядового сухого воинского приказа, но надо было столько пережить и перечувствовать, сколько помещалось в широкой груди Родзянко.
«Тяжёлое переходное время кончилось. Народ совершил свой гражданский подвиг и свергнул старую власть. Граждане страны! А в первую очередь граждане взволнованной столицы!.. Вернуться к спокойной трудовой жизни. Временный Комитет Государственной Думы назначает Главнокомандующим войсками Петрограда и его окрестностей…»
Всё так, всё очень хорошо. Но не хватало какого-то последнего торжественного аккорда. И, потолкавшись по тесным комнатам, Родзянко понял и приписал:
«4 марта назначить парад войскам Петроградского гарнизона…»
Несколько огорчало Председателя, что союзные послы искали сношений не с ним, но с рождаемым правительством. Однако у Родзянко оставалась важнейшая связь – с великим князем Михаилом, которому с часу на час предстояло принять в свои руки Россию. С того вечера, как виделись, великий князь застрял в Петрограде и скрывался на тайной квартире. В решающие часы он нуждался в духовной поддержке!
Сколько мог в тесноте, Родзянко отъединился, чтоб не заглядывали ему в бумагу, и написал Его Императорскому Высочеству для передачи с верным человеком.
…Теперь всё запоздало…
(Как и назначение самого Родзянко, которое ещё месяц назад могло спасти страну.)
…Успокоит страну только отречение от престола в пользу наследника – при вашем регентстве. Прошу вас повлиять, чтоб это совершилось добровольно, и тогда сразу всё успокоится.
Родзянко не очень полагался на Гучкова: Гучков вспыльчив, и враждебен Государю, и может только напортить. Это была плохая мысль – посылать во Псков Гучкова. А у великого князя, конечно, нет сейчас прямой связи с державным братом, но, быть может, сумеет телеграфировать ему как-то косвенно? или послать записку с оказией? А – утверждался Родзянко окончательно: никакого другого выхода для России, как отречение Государя, – нет. Расходились волны народные!.. (Да если угрожали растерзать самого Председателя!..)
…Я лично сам вишу на волоске и могу быть каждую минуту арестован и повешен. Не делайте никаких шагов и не показывайтесь нигде!..
Упаси Боже, не растерзали б и великого князя.
…И знайте: вам – не избежать регентства.
Эта тайная близость со вступающим монархом душевно укрепляла Родзянко.
337
Рузский отказывается вернуть царю телеграмму об отречении. – Совет Государя с лейб-врачом о здоровьи наследника.
Государь отдал своё отречение в чужие руки. Им первым, трём случайным генералам, он открыл и отдал своё намерение, не посоветовавшись ни с единой живой душой.
А душа требовала – поговорить с кем-то же своим. Подкрепиться.
А своего – никого, никого не было вокруг.
Да истинно-то своих у него было два-три человека, семья. Но он был от них отрезан.
Нет, тёплый и преданный был один человек – Фредерикс, о котором Аликс уже не один год сердилась, что он выжил из ума и опасно не соответствует своему месту. Но Николай не любил увольнять старых верных слуг и чувствовал к Фредериксу нежность.
Теперь он его позвал. Согбенный, древний старик со слезящимся взглядом пришёл тотчас. Да ведь у Фредерикса было своё горе: пришло известие из Петрограда, что дом его сожжён, а о семье ничего не известно.
И первое, что Государь спросил: ничего ли нового о семье?
Фредерикс печально покачал преклонной головой.
Ему было разрешено в присутствии Государя сразу садиться – и он сел.
И Государь медленными фразами, с перерывами, ещё сам как о новом и может быть даже не свершившемся? – стал ему объяснять.
Что – вот так… Что – если армия тоже за это… Все – отступились. Другого выхода не было.
Жёлто-седой старик с усами, всё ещё расторченными, следил потухшим взглядом – и вдруг глаза присветились, голова затряслась сильней, губы зашевелились, и вышел хрип:
– Я не верю, Ваше Величество.
Николай растерялся:
– Но это так, граф, увы.
Голова Фредерикса тряслась в виде отказа, как бы он отрицал:
– Нет. Не ожидал. Что доживу до такого ужасного конца…
Николай почувствовал как обвал в груди: чтó он правда наделал?!
А голова Фредерикса тряслась теперь утвердительно:
– Зачем я ещё жив? Вот что значит пережить самого себя.
А ещё же теперь судьба наследника, совсем уже непонятная. Николай почувствовал слёзы в глазах и не мог говорить.
Неужели Господь покинул?.. Тогда нечего и сопротивляться. А отдаться воле Божьей.
Но тут доложили, что генерал Рузский снова просит его принять. И Государь привёл глаза в порядок.
Что такое?
Тот же нервно-механический генерал вошёл, со своим ровным четырёхугольным бобриком седо-белых волос и проволочными очками.
Вот какая новость: пришла телеграмма из Петрограда, что во Псков к Его Величеству выезжают делегатами члены Государственной Думы Гучков и Шульгин. (Гучков – не член был Думы, но сейчас никто не заметил этой разницы, естественно он был из той компании.)
Так вот Рузский вернулся из своего вагона. Он ещё не успел отправить царские телеграммы – и отправлять ли теперь в Петроград, если оттуда едут?
Сердце Государя крупно забилось радостью. Он снова поднимался из колодца: лишь сейчас почувствовал, сколько он уже успел отдать! Едут? Ехать могут – только на переговоры. Значит, какие-то изменения в Петрограде к лучшему. Ещё может быть и не придётся столько уступать!
(И даже то, что едет именно Гучков, не легло в эту минуту камнем. Гучков, разгласивший в газету интимные высказывания Государя, Гучков, которому Государь через Поливанова передавал, что он – подлец, которого не узнал на прощальном приёме 3-й Думы, – сейчас, едущий с доброй вестью, как-то смягчался и отчасти прощался.)
– Совершенно верно рассудили, Николай Владимирович, – обрадованно отвечал Государь. – Теперь зачем же посылать? Подождём. – И, хотя это было вполне естественно и законное право его, а сказал со стеснительностью: – Тогда пожалуйста… телеграммы мои верните…
Рузский полез в тот же боковой карман кителя, куда он положил телеграммы, вынул – и вернул.
Но! – это была одна только телеграмма. Государь развернул: в Ставку. А второй, к Родзянке, не было.
Но они же были вместе у него в одном кармане, и даже, кажется, в одном сгибе, – а теперь второй не было?
– Вы… ошиблись, Николай Владимирович. Мне нужно и вторую, пожалуйста… – Но тут подумал, что это могло быть не случайностью, и голос его опал в застенчивость. Государь всегда терзался, когда бывало похоже, что собеседник может совершить безтактность. Неужели Рузский нарочно разложил по двум карманам, чтобы не ошибиться, вытягивая?
Но чтобы разговаривать с думцами, Государю нужно было именно родзянковскую назад.
Рузский вскинулся твердовато, выставил кругляшки очков:
– Ваше Величество, я чувствую – вы мне не доверяете!
Государь пришёл в ещё большее смущение.
Да главным образом – за Рузского:
– Нет, почему же… Что вы… Вполне доверяю… Но просто…
Начать перекоряться со своим генералом – была бы потеря достоинства.
– Вы можете быть спокойны, – твёрдо чеканил Рузский. – Я не отошлю её до приезда депутатов.
И – не шевелился. Не отдавал второй.
Они оба стояли, а беззвучный и быть может ничего не понимающий Фредерикс сидел на стуле.
Из-за страшной неловкости, которая создалась, настаивать было неудобно.
И даже когда Рузский сказал с монотонной несомненностью:
– Если вы разрешите, Ваше Величество, я приму депутатов первый и подготовлю их к беседе? —
Государь тоже не сообразил, не возразил.
Рузский откозырял и ушёл в свой вагон.
И уже в спину ему Государь думал: а зачем же ему принимать депутатов первому?
Царапало, что вторая телеграмма так и осталась у Рузского. Залогом.
Ну, впрочем: какая разница, у кого осталась. Важно, что не отправлена.
Назначили Гучкова нарочно? – чтоб оскорбить, напомнить?
А с другой стороны – с ним Шульгин, давний и лояльный монархист. Это хороший знак.
Значит, ждать.
Отпустил Фредерикса.
Потекло время.
Решиться на сдачу – принесло большое облегчение в тот первый момент.
Но теперь жить с этой сдачей – была тяжесть.
Впрочем, может быть, и не придётся отрекаться.
Тем временем от Фредерикса вся свита уже узнала – и пришёл, с белоснежными флигель-адъютантскими аксельбантами, очень взволнованный Воейков, выкатив глаза:
– Ваше Величество! Неужели верно то, что говорит граф??
И напористо, по-военному, стал доказывать – от своего имени и, как сказал, ото всей встревоженной свиты: что Государь не имеет права отказываться от престола только по желанию Думского Комитета да Главнокомандующих фронтами. Просто вот так – в вагоне, на случайной станции, отречься – перед кем? почему?!
– Но что же мне оставалось делать? – упавшим, ослабленным голосом ответил Государь, всё более подозревая у себя тяжкий промах. – Когда все оказались заодно? Если так хотят все Главнокомандующие – значит, армия… А иначе будет междуусобица.
С обычным жарким напором и сильным голосом Воейков доказывал, что как раз наоборот: именно отречение и вызовет междуусобицу, может погубить войну и Россию. Форма правления страны может меняться при законном всеобщем обсуждении, а не так!
Зацарапало сердце всё сильней: ах, он прав! Упустил? Ошибся? Сделал не то?.. Ай-ай-ай… Но во всяком случае:
– Вот приедут представители Думы и обсудим…
– Но вы у него оставили какую-то телеграмму? документ? Как это можно?! – сердился Воейков, белки его глаз сверкали.
– Ну что ж такого, – слабо возражал Государь. – Ведь он не отправит.
Тёмный, гневный, едва не взрываясь, Воейков ушёл.
Очень тягостно было одиночество в вагоне, и решительно ничем не заняться. Уж скорей бы приезжали депутаты, что ж не едут?
Тут притащился Фредерикс и слабым больным голосом передал ото всей свиты, что все волнуются и просят Государя отобрать у Рузского телеграмму: это какая-то интрига, он её пошлёт и совершит отречение обманом.
Да нет, теперь неудобно просить. Да нет, не пошлёт. Да вот – и представители скоро приедут.
Но когда вышел Государь в столовую к пятичасовому чаю – и присутствовала вся свита сразу, и только она, никого чужого, и Государь ловил небывало тревожные взгляды, – никто из них не смел, однако, вслух задать вопрос или посоветовать. Прорвать традиционное молчание мог только Государь – и все сердца ждали этого. Но – так это было необычно, неприлично, – да и что они могли бы посоветовать? что они знали больше Государя?
Да ведь и лакеи ходили кругом, нося от буфетной чай.
И, стараясь держаться как можно обычнее, Государь произносил всякие пустяки. И ему отвечали тем же. И потом тянулись долгие безпридумные паузы.
И чай кончился – а депутаты всё не ехали. Сообщилось, что они опаздывают.
Уже близко было к сумеркам – Государь решил ещё погулять по платформе. И позвал с собою врача, профессора Фёдорова.
Расхаживал Государь мерно, сдержанно, как если бы ничто не изменилось, иногда улыбался или кивал, кого ещё не видел сегодня.
Была оттепель, и с крыш станционных построек капало.
Так как теперь всё ложилось на плечи Алексея, то росла забота Государя: как же мальчик справится с этим? И он позвал профессора Фёдорова на беседу – как ни странно, первую откровенную между ними. Всегда почему-то не называлась полностью вся опасность и не задавался вопрос до конца: и – страшно узнать, и – зачем узнавать, когда было предсказание Григория, что в 14 лет мальчик перестанет страдать, а 14 лет исполнится летом 1918, уже близко.
– В другое время, доктор, я не задал бы вам подобного вопроса. Но наступил очень серьёзный момент. И я прошу вас ответить с полной откровенностью. Будет ли мой сын жить, как все живут? И сможет ли он царствовать?
И Фёдоров ответил напрямоту:
– Ваше Императорское Величество! Я должен вам признаться: по науке, Его Императорское Высочество не должен дожить и до 16 лет.
Холодными клещами схватило государево сердце. Приговор был – без уклона и без пощады.
Как? Значит, все эти долгие бережения, надежды, 13 лет вытягивания наследника к престолу, – и всё было в пустоту?
– Но медицина может ошибаться!
– Конечно может, Ваше Величество. И пошли Бог. Доживают и до более высокого возраста, но предостерегаясь от самых незначительных случайностей. Однако: излечение наследника было бы чудом. Продлить его жизнь можно только крайней предосторожностью.
Но если несчастному мальчику осталось жить так мало – то: зачем переносить ему эту горечь короны? И чтобы вот так же от него потом отступились?..
Слова Фёдорова во всяком случае подтверждали государево решение: хотя и наследуя корону, мальчик должен остаться при родителях. Тем более, что их замысел может как раз и состоять в том, чтобы оторвать Алексея от матери. Но на это не согласятся ни мать, ни отец! И диагноз Фёдорова как раз и давал право не отпускать мальчика от себя.
Но когда он высказал Фёдорову это решение – тот изумился:
– Неужели, Ваше Величество, вы полагаете, что Алексея Николаевича оставят подле вас и после отречения?
– А отчего же нет? Он – ребёнок, и пока не станет взрослым… Пока регентом будет Михаил Александрович…
– Нет, Ваше Величество. Это никогда не будет возможно. И надеяться вам на это совершенно нельзя.
– Но именно при таком состоянии здоровья – как же я могу его отпустить? Раз так – вот я и буду иметь право оставить его при себе!
И врач должен был объяснять монарху!
– Монархические соображения как раз и не допустят этого. Чтобы на волю наследника не было влияний… Скорей согласятся поместить его в семье регента…
В незаконной семье? У авантюристки Брасовой? Аликс никогда этого не допустит!
– Но родителям нигде не воспрещают заботиться о детях!
– А как вы предполагаете, Ваше Величество, где вы сами будете жить?
– Ну, например в Крыму.
– Я – не уверен, что вам разрешат остаться жить в России.
– Как? Даже в качестве простого обывателя? Неужели я буду интриговать? Буду жить около Алексея – и его воспитывать!
Совсем удивительно! В этом-то Государь никак не сомневался!
– А если и в России не разрешат – то тем более, как же можно расстаться с сыном? Тем более: если он не может быть полезен для отечества – мы имеем право оставить его у себя!
Расстаться с сыном – было ещё куда тяжелей, чем отказаться от власти. Расстаться с Алексеем – это свыше сил! Этого – никто не может требовать от отца! И как же можно отдать его игрушкой в руки этих безнравственных политиков? Какими извращёнными понятиями они будут его напитывать! Как можно отдать не только его, но его душу!
Да ведь и в телеграмме как написано: с тем, чтобы остался при нас до совершеннолетия. А иначе – и недействительно!
Государь вернулся с прогулки обезкураженный. Он никак не предвидел такого оборота. Он совсем теперь не понимал, что делать.
Ещё и так подумать: заберут Алексея – и его именем будут проводить свою гнусную всю политику?
Противно.
Совсем не отдавать им трона?
Тогда уж лучше не отдавать!
Снова пришёл Воейков от свиты, очень твёрд: все настаивают – забрать у Рузского телеграмму!
А что, и правда, она теперь потеряла смысл. Её нельзя осуществлять. Её надо забрать.
Согласился Государь: пойдите и заберите.
Но Воейкову – нельзя, уже ругались с Рузским, и ещё поругаются.
Тогда пойдёт граф Нарышкин.
И что же теперь оставалось делать с троном?
Если не Алексею – тогда брату Михаилу?..
Конечно, Миша к нему совсем не готов. Но ведь если регентом – не то ли самое?
Да три дня назад по телеграфу брался же он давать государственные советы.
Нарышкин сходил – и вернулся ни с чем: Рузский – не отдал и свитскому генералу. Ответил, что даст личные объяснения Государю.
Но вот – не шёл никак объяснять.
И вся власть Государя вдруг оказалась пресеченной: он и не мог заставить!
Ну да всё равно, та телеграмма уже теперь не имела значения. При депутатах можно будет изменить.
А они всё не ехали.
Пришёл из Петрограда пассажирский поезд, но не их. Свитские говорили: ужасный вид. На шинелях даже офицеров и юнкеров нацеплены красные банты. И все без оружия. В Петрограде – офицеров избивают, оружие отнимают.
338
Поднимать революцию не в Швейцарии, а в Швеции! – В Петербурге? Неясные новости. – Ленин в русской читальне. – На Цюрихберге.
Много, много было расстройств за эту зиму. То – слух, что Швейцария на днях втянется в войну, жутковато, и быстрые расчёты: самим остаться в полосе немецкой оккупации, а Инесса пусть едет в Женеву, её там захватит Франция – и так мы улучшим связь с Россией. То отлегло: не будет войны. То Надя болела – бронхит, жар, бегал за врачом, и в библиотеку не попадёшь.
Однако не складывать же бездеятельно руки. А что если прямо самим, безо всяких швейцарцев, – да взбунтовать швейцарскую армию? И вырос такой замысел: написать листовку («Разожжём революционную пропаганду в армии! Превратим опостылевший гражданский мир в революционные классовые действия!»), – но в абсолютной скрытости (за это можно сильно пострадать, из Швейцарии выпрут), – а подписаться: «швейцарская группа циммервальдских левых» (пусть думают на кого из них, хоть на Платтена) – и распространять стороной, как бы не от себя. Инесса быстро переведёт на французский. Только абсолютно секретно, сжигая черняки. (А почта писем не проверяет, убедились.)
Стали делать. Но отсюда новый замысел: а не составить ли опять-таки нам самим, а подписать от других, такую листовку: поднять весь европейский пролетариат на всеобщую стачку 1 мая? Отчего бы нет? Неужели пролетариат не отзовётся? А в разгар войны – какая это была бы силища! Какая демонстрация! А от стачки, смотришь, сами собой начнутся и массовые революционные действия?! Одна хорошая листовка – и поднята вся Европа, а?! Только надо спешить, до 1 мая не так много времени, – скорей переводить на французский, скорей издавать, скорей рассылать. (И – совершенно конспиративно!)
Но не успела всеевропейская стачка хорошо обдуматься, только ещё готовили переводы листовки, – пришло внезапное письмо от Коллонтайши, вернувшейся из Америки в Скандинавию. И к пороху – новый огонь: оказывается – раскол на съезде шведской партии!
Какая внезапная удача! Да как же было забыть своих верных циммервальдских соратников? И какие же там у шведов в головах сейчас, наверно, разброд и путаница дьявольские!
Как же бы повлиять? Как помочь? Осветилось: так вот она где задача ожидаемая, самая важная и благородная: не в Швейцарии надо революцию делать, а в Швеции! Оттуда начинать!
Дальше писала Коллонтай: решили шведские молодые собрать 12 мая съезд для основания новой партии «на циммервальдских принципах». Ах, юнцы-птенцы, искренние и неопытные, да кто ж вам разъяснит: преданы принципы Циммервальда-Кинталя! преданы, в болоте потоплены почти всеми партиями Европы! умер Циммервальд, умер и обанкрутился! Но вы – искренни и чисты, и во что бы то ни стало ещё до съезда нужно вам помочь разобраться в пошлости каутскианства, в гнусности циммервальдского большинства. (Ах, что ж я не с вами там?!) Пришла пора обрезать когти Брантингу! Надо немедленно послать вам на помощь мои тезисы! Морально и политически мы все ответственны за вас. Решительный момент в скандинавском рабочем движении!
И весь тот временный пессимизм и ту опущенность рук, какие овладели после неудач с дрянными, безхарактерными, безнадёжными швейцарскими левыми, – перехлестнуло теперь радостным нетерпением поджечь Европу с севера !! А сроки остались короткие, а дел – уйма, а переписка через Германию идёт с затруднениями. Но – энергичная, деятельная, осмысленная борьба! Возродилась жизнь! Новым смыслом осветились сумрачные своды цюрихских церковных читальных залов, газетные кипы и шершавые брошюрки в Центральштелле: к 1 мая – листовку! к 12 мая – тезисы и спеться! Все силы – на европейскую стачку и на шведский раскол! Только над молодёжью и стоит работать! Нам уже никогда ничего не сделать и не увидеть. Но им ещё взойдёт багровое солнце революции!
2-го марта кончал дома обедать, вдруг стук. Бронский. Что-то не вовремя. (В этой неудаче с левыми так много было на Бронского ставлено, и эти выборы-невыборы, что видеть Бронского сейчас было мало приятно. А к новым проектам его ещё не приспособили.) Вошёл – и, не садясь, в своей вялой манере, как он всегда, меланхолически немножко:
– Вы ничего не знаете?
– А что?
– Да в России – революция… будто бы… Пишут…
Ещё манера у него – никогда голоса не повысить, растяжка эта, как от неуверенности, – поднял Ильич глаза от тарелки с варёной говядиной, суп уже доел, посмотрел на тихого Бронского – не больше было впечатления, чем сказал бы он, что килограмм мяса подешевел на 5 раппенов. В России? революция?
– Чушь какая. Откуда это известно?
Ел дальше, резал кусок поперёк, чтоб и мясо и жир. Откуда, ни с того ни с сего? Такое ляпнут. Макал куски в горчицу на отвале тарелки. Ещё неприятно, когда сбивают еду, не дадут спокойно.
А Бронский стоял, не снимая пальто, и шляпу мокроватую фетровую, которую очень берёг, – мял. Это для него уже было большое волнение.
И Надя, по бокам своего серо-клетчатого платья провела руками, как вытирая:
– Что это? В каких газетах? Где вы читали?
– Телеграммы. Из немецких.
– Ну! Немецкие да про Россию! Врут.
Доедал спокойно.
О России в европейских газетах писали скудно и всегда переврано. Не имея своих верных сведений, с трудом надо было оттуда истину отделять. А письма из России почти не приходили. Вот промелькнуло двое свежих русских, бежавших из немецкого плена, – бегал на них посмотреть, поговорить, интересно. Приходилось Россию поминать в докладах, но не больше, чем Парижскую Коммуну, которой давно уже не было на свете.
– И как же именно там сказано?
Бронский пытался повторить. И по обычному свойству большинства людей – а профессиональному революционеру стыдно! – не мог повторить не только точных выражений, но и точного смысла.
– В Петербурге – народные волнения… толпы… полиция… Революция… победила…
– А в чём именно победа?
– …Министры… в отставку ушли, не помню…
– Да вы ж сами читали? А – царь?
– Про царя – ничего…
– Про царя – ничего? А в чём же победа?
Чушь какая. Может, Бронский и не виноват, а само сообщение такое неопределённое.
Надя перебирала в рубчики на груди заношенное платье, ещё заношенней от малого света в комнате, – на улице моросил дождь с утра:
– А всё-таки – что-то есть, Володя? Откуда?
Откуда! Обычная буржуазная газетная утка, раздувание малейшего неуспеха у противника, сколько раз за эту войну всё вот так раздувалось.
– Разве о революциях – тáк узнают? Вспомни Женеву, Луначарских.
Шли январским вечером с Надей по улице – навстречу Луначарские, радостные, сияющие: «Вчера, девятого, в Петербурге стреляли в толпу! Много убитых!!» Как забыть его, ликующий вечер русской эмиграции! – помчались в русский ресторан, все собирались туда, сидели возбуждённые, пели, сколько сил добавилось, как все сразу оживились… Длинный Троцкий, ещё вытянув руки, носился с тостами, всех поздравлял, говорил, что едет немедленно. (И поехал.)
– Ладно, чаю давай.
Или – не пить?
Идти опять в читальню и продолжать регулярную работу – кажется, тоже не получится: что-то всё-таки зацепилось, мешает. Надо бы выяснить. Какая-то помеха всем планам.
Но газеты с сегодняшними телеграммами будут в читальнях только завтра.
А на Бель-Вю в окне «Neue Zürcher Zeitung» вывешиваются экстренные.
Ладно, сходим.
Надя ещё мало выходила после февральского недавнего бронхита и осталась дома. А Ильич натянул тяжёлое старое подчи́ненное пальто, насадил старый котелок как на болванку, – пошли.
«Здесь жил поэт Георг Бюхнер…» – на соседнем доме. Сырым узким переулком, где рыхлый намоклый снег ещё не вытаивал у стен, – быстро пошли под гору. Сокращая переулками и туда ближе к Бель-Вю.
По швейцарской манере все ходили с зонтиками, еле разминаясь в переулках, чуть не выкалывая друг другу глаза. Но Ленин не любил его таскать: когда пригодится, а когда нет. Да и старое всё на себе, не жалко. Шёл и Бронский так.
В витринах нашлось примерно, как говорил Бронский. Только: министры будто бы арестованы. Арестованы?.. И ещё: у власти – члены Думы. А – царь? Ни слова о царе. Так ясно тогда, что царь – на свободе, с войсками, и сейчас задаст им баню.
Если вообще это всё не брехня.
Да нет, такое невозможно в сегодняшней России.
И у витрины не толпились, кроме них двоих и не было никого.
Мелкий дождь моросил на площадь, на озеро. Равномерно было заволочено всё над озером, и в молочно-сизой пелене Ютлиберг по ту сторону. Ехали извозчики с тёмными верхами, равномерно шли зонтики тёмные. Какая там революция!..
А всё-таки бы выяснить до конца.
Пошли на Хайм-плац в газетный киоск, может быть что-нибудь попадётся. Газет Ленин никогда не покупал, но для такого случая можно было, из партийной кассы.
Однако простодушный киоскёр признался, что ни в одной ничего такого нет, – и ни одной не купили.
Оборвать этот вздор, идти в читальню и работать. А Бронский расслабился, потерялся и готов был, кажется, теперь не отставать, таскаться по улицам или ждать под дождём у витрины следующих телеграмм, – размывчивость людей без направления. Отчитал его – и расстался. И опять, опять, тысячу раз пройденными переулками, не замечая ни домов, ни витрин, ни людей, – пошёл к кантональной читальне.
Но перед самыми стрельчатыми окнами – замялся.
Что-то не пускало. Как будто должен был в двери застрять. Как будто разбухло что-то внутри за эти полчаса – и не пускало.
Между тем дождь прекратился.
Постоял, сердясь. Конечно, мог себя заставить, и мог бы до вечера высидеть, а… Прямая ясная работа звала – для шведов, а… Отвлекало вот, некстати. И выписки – «марксизм о государстве»… А не шлось.
Напротив, вывернулась чужая, несвойственная, даже преступная мысль: пойти в русскую читальню. Гнездо эсеров, анархистов, меньшевиков и всякого просто русского сброда. Как гнездо змей, старался его миновать всегда, не ходить на Кульманштрассе, не дышать этим воздухом, никого не встречать, не видеть. А сейчас подумал: ведь там, наверно, собрались, собираются… Знают, не знают, а – говорят, поговорят. Что-то можно услышать. Своего не сказать, а – что-то выведать.
И – нарушая все свои правила, но потягиваемый в это отвратительное место – пошёл.
Кульманштрассе была совсем не рядом, за рекой. И надо было заметно взять вверх по горе. Пошёл.
Действительно, в небольшую натопленную комнату набилось уже человек двадцать с холодной сырости и в сырой одежде, кто сидел, кто и не думал присесть, – но никто не молчал, все сразу говорили, гудели, галдели, и общий рокот как волнами бил по комнате. Ну, ещё бы! – российская любовь излить душу.
Только в одном ошибся: думал – на него вскинутся, удивятся, встретят враждебно, – нет. Кто заметил его приход, кто не заметил, но все восприняли так естественно, будто он был здесь привычный гость.
Ленин ответил кому-то (так, что и не ответил). Прямо ни у кого ничего не спросил. Сел на край скамьи в углу комнаты, снял котелок. И сидел слушал, как он один умел: тó подозреваемое выбирая, чего другие и не слышали.
Оказывается, никто не знал больше всё тех же телеграмм, только вот: «после трёх дней борьбы» победила, после трёх дней, – кто-то принёс. В этом был какой-то признак достоверности, да, – и ахали, и уж совсем не сомневались. Не счёл Ленин нужным вслух возразить: что ж тогда эти три дня ничего не сообщали? В общем, никто не знал больше телеграмм, но множеством слов заливали всё возможное пространство вокруг этих сведений.
Один (никогда его не видел), с оттянутым, сбитым галстуком, подбегал к тому, к другому, хлопал руками, как петух крыльями, и, не договорив и неразборчиво, – дальше. А одна, высокая, только знала нюхала букетик снежных колокольчиков: кто что ей ни скажет – а она только качалась изумлённо и нюхала.
Презрение ощущал Ленин к этим разглагольствованиям будто бы революционеров, как они звонко рассуждали о свободе и революции , нисколько не охватывая всех шахматных возможностей, при каких эти события умеют идти, и какие враги и как ловко умеют их перехватывать на ходу и даже при начале. Рассуждали как о всеобщем празднике, будто уже всё произошло и случилось (а что случилось? а что надо, чтобы случилось? – кто из них понимал?). Но что делает царь? и какая контрреволюционная армия идёт на Петербург? и как уже наверно трусит Дума и спешит сговориться с реакцией? и как ещё слабы и не организованы пролетарские силы? – об этом не думали, этих ответов и не искали. А вдруг все, как будто помирясь и забывши межпартийные разногласия, эти оживлённые дамы с лентами вокруг шляпок, несли друг другу какую-то радостную околесицу, и вот, за час, за два уже перестав ощущать себя вынужденными жителями Швейцарии, но – «едино русскими», строили едино российские и безпочвенно российские догадки, как теперь всем вместе добираться скорей в Россию.
Н-ну!..
С этими амикошонскими ухватками и маниловскими проектами совались и к Ленину, подсаживались, одни – зная, кто он, другие – не зная, тут была и не политическая публика. Смотрел он сощурясь на этих рукомахальщиков, пьяных без вина, на этих дам щебечущих, – никому не ответил резко, но и ничего не ответил.
Они вот что придумывали: всем эмигрантам теперь объединиться без различия партий (мелкобуржуазные головы, набитые трухой!) и создать общешвейцарский русский эмигрантский комитет для возвращения на родину. И… и… и как-то возвращаться, но как – никто не знал, а предлагали всякое. И даже сегодня на вечер уже созывали подготовительную комиссию.
Возвращаться, когда неизвестно, что там делается. Может быть, уже у всех стен расстреливают революционеров.
Снаружи добавлялось ещё людей, но – не идей. И все друг у друга опять проверяли новости – и опять же никто не знал больше ни слова. И от пустопорожней их болтовни Ленин вышел так же малозаметно, как и вошёл.
На улице не только не было дождя, но посветлело, облака сильно поредели. Подсыхало, а холодно – так же.
Пошли ноги быстро вниз, в сторону библиотеки и домой.
Правильно было – пойти бы домой.
Вообще теперь неизвестно, куда было идти.
Остановился.
Лишь два часа назад, к обеду, так было всё ясно: раскалывать шведскую партию и чтó для этого надо читать, писать и делать. Но вот пришло со стороны недостоверное, невероятное и ненужное событие и как будто даже не задело, не столкнуло, – а вот уже сталкивало. Уже отвлекало силы и ломало распорядок.
И вернуться в библиотеку – оказалось нельзя.
И домой не хотелось. Как-то стало с Надей за последний год скучно всё обговаривать: растяжно и важно она произносит в ответ уж такое ясное, что и произносить не надо. Никаким откликом свежим, оригинальным, не мог он себя на ней поправить.
А потягивали ноги на то, чтобы походить.
Но – и не по улицам, надоели, видеть невозможно. А не подняться ли на Цюрихберг, уж вот рядом?
Чуть ветер поддувал – холодный, но не сильный. Дождя не только не будет, но ещё светлело, вот-вот и разорвёт.
В пальто, почти просохшем в читальне, Ленин пошёл теперь круто вверх. В горах и ноги разряжаются и мысли устанавливаются, что-то можно понять.
Чем круче, короче переулок – тем быстрее туда, наверх. Ноги были сильны, как молодые. Спешили мальчишки туда же, с заспинными ранцами, с послеобеденных занятий, – Ильич от них не отставал. И задышки не было, и сердце выстукивало здорóво.
Всё бы так. Но – голова… Но голову носил Ленин как драгоценное и больное. Аппарат для мгновенного принятия безошибочных решений, для нахождения разительных аргументов, – аппарат этот низкой мстительностью природы был болезненно и как-то, как будто, разветвлённо поражён, всё в новых местах отзываясь. Вероятно, как прорастает плесень в массивном куске живого – хлеба, мяса, гриба, – налётом зеленоватой плёнки и ниточками, уходящими в глубину: как будто и всё ещё цело и всё уже затронуто, невыскребаемо, и когда болит голова, то не всю ощущаешь её больную, но такими отдельными поверхностями и ниточками. Можно думать так: болит, как у всех, выпить порошок, боль пройдёт. Но если подумаешь иногда иначе – что болит особенным образом, невозвратимо, что порошок – только обман на несколько часов, а там прорастает глубже ниточками, то стискивает ужас: вырваться невозможно! От этой головы отделаться – некуда. Всё в мире ждёт твоих оценок и решений! всё в мире можно направить твоею волей! – а сам ты уже стиснут, и вырваться – невозможно!
Здоровое сердце, лёгкие, печень, желудок, руки, ноги, зубы, глаза, уши, – перечисляй и гордись. Но перед природой, как перед неумолимым зорким экзаменатором, ты что-то пропустил в перечислении, да всего не перечислить, – а болезнь уже заметила пропуск и тайными лазейками разрушения поползла, поползла. А достаточно всего одной червоточины, чтобы развалить всю статую здоровья.
И этим ослаблялось сожаление об их размолвках, недоумениях – всё почему-то непоправимей, когда усиливаешься сблизить. За год – можно и отвыкнуть. Инесса – нужна была ему. Нужна. Но – так ли нужен ей он?
Из такой близи не приехать за год!?
Да, конечно. С кем-то…
Но полумёртвым примирением окутывало.
От кантонального госпиталя он поднимался нагорной частью, витыми подъёмами, где швейцарские бюргеры побогаче, карабкаясь над городом, ближе к лесу и небу, с обзором на озёрные дали, выстраивали себе особняки, маленькие дворцы буржуа. Каждый придумывал, как украситься, – кто фигурной кладкой, кто изразцовыми плитами, кто шпилем, кто воротами, верандой, каретной, фонтаном, или назвать «Горной розой», «Гордевией», «Нисеттой». И подымались! дымки из труб – конечно камины топили для уюта.
Это устроение своей красоты и удобств, отгороженное заборами, решётками, нотариальными актами и удобными швейцарскими законами, повыше, отделясь от массы, – отдавалось в груди взбурливающим раздражением. О, как бы лихо привалить сюда снизу толпой да погромить эти калитки, окна, двери, цветники – камнями, палками, каблуками, прикладами винтовок, – что может быть веселей? Неужели настолько погрязла, опустилась масса обездоленных, что уже никогда не поднимется на бунт? не вспомнит пылающих слов Марата: человек имеет право вырвать у другого не только излишек, но необходимое. Чтоб не погибать самому, он имеет право зарезать другого и пожрать его трепещущее тело!
Вот это славное якобинское мироощущение никак не проснётся в пролетариате лакейской республики, потому что падают куски со стола господ, подкармливают. И паутиной опутывают его гриммовские оппортунисты.
А – в Швеции?
А – что теперь в России?..
В России многое могло бы быть, да некому направить. Уж наверно сегодня там и проиграно всё, и топят в крови – но из телеграмм узнáется только послезавтра.
Не потому, что на гору выше, а потому что прояснивалось – становилось всё светлей. Под ногами уже сухи были чистые, никогда не в пыли, не в грязи, гладкие вбитые камешки тротуаров и мостовых. От колеса проехавшего экипажа если и брызнет из лужи, то – чистой водой. На улицах горного склона – много деревьев, а выше – гуще, а выше – лес.
Тут уже и просто гуляли, не по делу шли. Одна, другая прошла буржуазная чинная медленная пара, с собранными зонтиками и с собачками на ремешках. Потом – две старых дамы, самодовольно громко разговаривая. Ещё кто-то. Наслаждались своими кварталами. Тут – разрежение было от прохожих и разрежение ото всей жизни.
Уже под самым лесом одна улица шла ровно по горе, не спускаясь, не подымаясь. Она выходила на смотровую площадку, огороженную решёткой, и отсюда, значит, положено было, впрочем через ветки деревьев изнизу, любоваться дальним видом озёрной губы и всем городом в сизой дымке низины – шпилями, трубами, синими двойными трамваями, когда они переходили мосты. И сюда же всплывал от однообразно серых церквей опять этот механический, металлический холодный звон.
И – бульварчик тут был, под большими деревьями, гравийный, со скамейками, а всего-то в десять шагов, всего и ведший к одной единственной могиле, для неё и устроенный. Когда бывали с Надей на большом овальном Цюрихберге, то поднимались с других улиц и в другие места, а сюда не забраживали. Подошёл теперь к этой могиле на высоком обзорном месте.
Высотой от земли по грудь стояло надгробье из неровного, корявого серого камня, а на вделанной в камень металлической гладкой плите было выбито: «Георг Бюхнер. Умер в Цюрихе с неоконченной поэмой Смерть Дантона …»
Даже не сразу понялось: откуда-то известное имя это, Георг Бюхнер?.. Но все известные ему были – социал-демократы, политические деятели. А – поэт?..
Кольнуло: да – сосед . Жил – Шпигельгассе 12, рядом, стена к стене, три шага от двери до двери. Эмигрант. Жил – по соседству. И умер. С неоконченной «Смертью Дантона».
Чертовщина какая-то. Дантон – оппортунист, Дантон – не Марат, Дантона не жалко, но не в нём и дело, а вот – сосед лежит. Тоже, наверно, рвался вернуться из этой проклятой сжатой, узкой страны. А умер – в Цюрихе. В кантон-шпитале, а может быть – и на Шпигельгассе. Не написано, отчего умер, может быть вот так же болела голова, болела…
Что правда делать с головой? Со сном? с нервами?
И что вообще будет дальше? Не может одного человека хватить на борьбу против всех, на исправление, на направление – всех.
Скребущая какая-то встреча.
Весь Цюрих, наверно четверть миллиона людей, здешних и изо всей Европы, там внизу густились, работали, заключали сделки, меняли валюту, продавали, покупали, ели в ресторанах, заседали на собраниях, шли и ехали по улицам, – и всё в разные стороны, у всех несобранные, ненаправленные мысли. А он – тут стоял на горе и знал, как умел бы он их всех направить, объединить их волю.
Но власти такой не было у него. Он мог тут стоять над Цюрихом или лежать тут в могиле, – изменить Цюриха он не мог. Второй год он тут жил, и все усилия зря, ничего не сделано.
Три недели назад ликовал этот город на своём дурацком карнавале: пёрли оркестры в шутовских одеждах, отряды усердных барабанщиков, пронзительных трубачей, то фигуры на ходулях, то с паклевыми волосами в метр, горбоносые ведьмы и бедуины на верблюдах, катили на колёсах карусели, магазины, мёртвых великанов, пушки, те стреляли гарью, трубы выплёвывали конфетти, – сколько засидевшихся бездельников к тому готовились, шили костюмы, репетировали, сколько сытых сил не пожалели, освобождённых от войны! – половину бы тех сил да двинуть на всеобщую забастовку!
А через месяц, уже после Пасхи, будет праздник прощания с зимой, тут праздников не пересчитать, – ещё одно шествие, уже без масок и грима, парад ремесленного Цюриха, как и в прошлом был году: преувеличенные мешки с преувеличенным зерном, преувеличенные верстаки, переплётные станки, точильные круги, утюги, на тележке кузня под черепичной крышей, и на ходу раздувают горн и куют; молотки, топоры, вилы, цепа (неприятное воспоминание, как когда-то в Алакаевке заставляла мама стать сельским хозяином, отвращение от этих вил и цепов); вёсла через плечо, рыбы на палках, сапоги на знамёнах, дети с печёными хлебами и кренделями, – да можно б и похвастаться этим всем трудом, если б это не выродилось в буржуазность и не заявляло б так настойчиво о своём консерватизме, если б это не было цепляние за прошлое, которое надо начисто разрушать. Если б за ремесленниками в кожаных фартуках не ехали бы всадники в красных, белых, голубых и серебряных камзолах, в лиловых фраках и всех цветов треуголках, не шагали бы какие-то колонны стариков – в старинных сюртуках и с красными зонтиками, учёные судьи с преувеличенными золотыми медалями, наконец и маркизы-графини в бархатных платьях да белых париках, – не хватило на них гильотины Великой Французской! И опять сотни трубачей и десятки оркестров, и духовые верхом, всадники в шлемах и кольчугах, алебардисты и пехота наполеоновского времени, их последней войны, – до чего ж резвы они играть в войну, когда не надо шагать на убойную, а предатели социал-патриоты не зовут их обернуться и начать гражданскую!
Да и что за рабочий класс у них? Бернская квартирная хозяйка, гладильщица, пролетарка, узнала, что Ульяновы мать в крематории сожгли, не хоронили, не христиане, – выгнала с квартиры. Другая только за то, что они днём электричество зажгли, Шкловским показать, как ярко горит, – тоже выгнала.
Нет, их не поднять.
Что ж может сделать пяток иностранцев с самыми верными мыслями?..
Обернулся с бульвара и пошёл круто вверх, в лес.
Облака редели даже до нежных светло-жёлтых, можно было угадать, где сейчас вечернее солнце.
Вот и в лесу. Неразделанный, а где и с аллейками. Вперемежку с елями – какие-то сизо-беловатые стволы, не берёз и не осин. Мокрая земля густо застелена старой листвой. Тут и грязно, и поскользнёшься, но в альпийских ботинках, нелепых на городском тротуаре, здесь как раз хорошо.
Круто поднимался, с напряжением ног. Был один. В сырости и по грязи аккуратные пары не гуляли.
Останавливался отдышаться.
На голых деревьях черно мокрели ещё пустые скворечники.
Нет подъёма трудней, чем от нелегальности к легальности. Ведь не случайное слово подполье : себя не показывая, всё анонимно, и вдруг выйти на возвышение и сказать: да, это я! берите оружие, я вас поведу! Почему так и трудно дался Пятый год, а Троцкий с Парвусом захватили всю российскую революцию. Как это важно – прийти на революцию вовремя! Опоздаешь на неделю – и потеряешь всё.
Что сейчас Парвус будет делать? Ах, надо было подружественней ответить ему.
Так – ехать? Если всё подтвердится – ехать?
Вот так сразу? Всё – бросить. И – по воздуху перелететь?
За первым хребтом горы местность уваливалась в сырой тёмный ельник, и там на дороге совсем было грязно, размешано. А можно было без тропинки идти по самому хребту – он сух, в траве и под редкими соснами,
Вот, ещё на пригорок.
Отсюда опять открывался вид, ещё обзорнее. Большим куском было видно безмятежное оловянное озеро, и весь Цюрих под котловиной воздуха, никогда не разорванного артиллерийскими разрывами, не прорезанного криками революционной толпы. А солнце – вот уже и заходило, но не внизу, а почти на уровне глаз – за пологую Ютлиберг.
Как будто после лечебного забытья вынырнуло опять, что загнало его в неурочное время, в рабочий день, в эту сырость на гору: неудобство, волнение, испытанное в русской читальне, этот единый бараний рёв о том, что началась революция. До чего ж легковерны эти все профессиональные революционеры, какою баснею их ни помани.
Нет, теперь-то и нужно проявить величайшее недоверие и осторожность.
Так и пошёл бездорожным сухим хребтом, по бурой траве, по сухим веткам. Тут, на горе, часто лазают белки, а иногда и молоденькие косули, величиной с собаку и больше, вдали перемелькивают, дорогу перебегают.
На высоте и в тишине, в чистом воздухе – откладывало от головы, снимало давящий обруч. Все раздражения, все раздражающие люди – отпадали, забывались, внизу остались.
Тяжёлая была последняя зима, сильно измотала. С таким напряжением жить нельзя, поберечь бы себя.
А – для чего беречь? Если ничего не делать – к чему и беречься?
Но – и так долго не проживёшь. Неважно с головой. Плохо.
Хребтик, по которому он шёл, обрывался к поперечной гравийной дороге. А, знакомое место, обелиск. Тропинка спускала туда. Это был памятник о двух сражениях 1799 года за Цюрих между революционными французами и австро-русской реакцией.
Против обелиска Ленин присел на сырую скамью, устал.
Да, правда, стреляли и здесь. Страшно подумать: и здесь были русские войска! и сюда дотянулась царская лапа!
Ровный цокот копыт по твёрдому донёсся сверху, из-за горба дороги. И тут же из тёмного леса, в послезакатной уже неполноте света, показалась женская шляпа, притянутая лентой, – затем сама женщина в красном – и светло-рыжая лошадь. Лошадь шла шагом, женщина сидела струнно, – и что-то в её манере держаться и голову держать… – Инесса?!.
Вздрогнул, увидел, поверил! – хотя никак было не возможно.
Ближе – нет конечно, а – чем-то похожа. Как себя сознаёт и держит – сокровищем.
Из тёмной чащи выехала – красная, и ехала в сыром, чистом, беззвучном вечере.
Да тут главной красавицей сознавала себя лошадь – из светло-рыжей даже жёлтая, лощёная, уборно зауздана, переборчиво ставила стаканчики копыт.
А всадница сидела невозмутимо или печально, смотрела только перед собой под уклон дороги, не покосилась ни на обелиск, ни на дурно одетого, внизу к скамейке придавленного, в чёрном котелке гриба.
И он просидел, не шевельнувшись, разглядывал её лицо, чёрное крыло волос из-под шляпы.
Если вдруг освободить мысли от всех необходимых и правильных задач – ведь красиво! Красивая женщина!
Покачивалась плечами или в талии не сама она, а лишь сколько качала её лошадь и стременем приподнимала носки сапожков.
Она проехала вниз, там дорога завернула – и только ещё копытный перебор доносился немного.
Проехала, ещё что-то отобрала – и увезла.
339
Керенский-министр представляется Екатерининскому залу. – Его первые депеши и первые планы.
Не наизумиться, как вчера и сегодня проскользнул, пробалансировал блистательный удачник Керенский – между двух скал, между двух берегов, между двух расходящихся льдин – одной ногой там, другой здесь, точно вовремя прыгал, точно вовремя спрыгивал, – и вот цел-невредим, и триумфатор, и вознесен надо всей Россией!
Всю прошлую безсонную, накалённую ночь надо было не столько участвовать в событиях, сколько исчезать и отсутствовать: велись роковые переговоры между Советом и цензовыми, и в присутствии обеих сторон Керенский был наиболее уязвим: как революционный демократ он должен был поддерживать своих советских компаньонов и вместе с ними изображать неуступчивость к буржуазии и презрение к их правительству. А на самом деле его как пилами пилили в клочья наглые и безсмысленные требования Нахамкиса и Гиммера, и чтоб не поддерживать их – но и молчать всё время нельзя! – он вскакивал куда-нибудь по делам.
А дел – у его стремительности было выше головы, дело можно было найти в любом уголке кипящего Таврического, а главное – уже третьи сутки был в его подчинении павильон с арестованными сановниками. И гениальная догадка открылась ему, что этот павильон и есть его площадка для взлёта!
В вихре исторических событий в нас и рождаются молниями гениальные комбинации! Ситуация, когда действуешь даже не расчётом, даже не разумом, а – почти инстинктом, почти каким-то магнитным влечением сквозь туман! И выходишь точно к своей лесенке, ведущей наверх!
Очень упорное и опасное было сопротивление в Исполнительном Комитете – но разве, по сравнению с Керенским, был у них масштаб государственных деятелей! – ошеломительным ударом он опрокинул их всех! Когда его несли на руках из Совета – видел в задних рядах их лица, дышащие местью, но они не посмели и рта раскрыть.
А на всякий случай, если б через Совет не вышло, Керенский устроил себе и партийную страховку: поручил Зензинову и ещё хорошему другу, эсеру Сомову, собрать сегодня сколько можно эсеров, человек 7–8, в Петрограде их и не набиралось, но без Александровича конечно, – и назвать их петроградской городской конференцией эсеров, и принять решение: о поддержке нового правительства, о вступлении в него Керенского как форме контроля за правительством со стороны трудящихся масс, как защитника интересов народа.
Однако – не понадобился запасной вариант, все рифы и так пройдены одним крылатым порывом! – в три часа правительство уже объявлено Милюковым. От мига объявления ещё новые крылья выросли за спиной, Керенский почти реял над толпой, со всех сторон принимая восхищённые взгляды и слыша восхищённый говор.
Александр Керенский – министр!! Ждала ли этого, могла ли думать исстрадавшаяся Россия?.. Пытками, истязаниями, невиданными преследованиями измученная, – вот она вырывалась к свободе – в нём, первом народном министре юстиции!
О, какую свободу он сейчас разольёт по лику России! О, как распахнёт её горизонты! И – о, трепещите, враги!!
И какой же простор для его деятельности! Но и сколько же энергии он ощущал в себе! Он забывал, он забыл прошлогоднюю болезнь, операцию, – о, как он был молод, как быстр, как умён, как исключителен! Три прошлых дня его связывала неопределённость с правительством, эти закулисные манёвры, – но теперь его энергия раскована, и он покажет себя России!
Однако: все ли поняли, все ли слышали милюковское объявление? Могли не все, тут публика меняется. Надо повторить ещё раз. И могли не все знать Александра Фёдоровича в лицо – надо показаться толпе.
Прошло два часа, как слез с площадки Милюков, – и Керенский с помощью крыльев взлетел выше, выше, на балкончик хор – да в новом демократическом виде, в глухой чёрной куртке со стоячим воротником, как он оделся для этого великого дня, для единения с народом, – и только вдохновенное лицо его белело.
И некоторые заметили, поднимали головы со дна Екатерининского зала, а другие не видели, толкались там внизу и гудели, – и Керенский воскликнул на весь зал юношеским голосом:
– Товарищи! Солдаты! И граждане! Я – член Государственной Думы Александр Фёдорович Керенский – ваш новый министр юстиции!!!
О, какая взметнулась буря аплодисментов! О, как раскатывалось «ура» под лепным сводом старого зала! О, этим восторгам не было конца! – и пусть не будет, и пусть не будет…
Перестоял молодой стройный министр весь штурм восторга, и продолжал так же звонко, отчётливо до самых дальних углов:
– Объявляю вам, что новое Временное Правительство вступило в исполнение своих обязанностей – по соглашению с Советом Рабочих и Солдатских Депутатов!
То, что Милюков, сам добившись, упустил объявить. То, что выигрышно было и одновременно укрепляло Керенского против ИК:
– Соглашение, заключённое Комитетом Государственной Думы и Советом Рабочих и Солдатских Депутатов, – (как великие клятвы звучали эти слова!) – одобрено Советом Рабочих и Солдатских Депутатов сотнями голосов против пятнадцати! – торжествовал Керенский свою победу над ИК.
Взмывом голоса, толчком голоса он выразил толпе, что здесь ожидаются бурные аплодисменты! – и они обрушились к стопам его тонкого чёрного монумента встречным девятым валом! А по белым их гребешкам ещё хлопали крыльями чайки: «браво! браво!»
И когда схлынуло – юношеский монумент стоял всё так же неповреждённый. О, что может быть выше этого удовлетворения! – метать слова о свободе освобождённому народу!
– Временным Правительством будет немедленно опубликован акт полной амнистии! Наши товарищи-депутаты Второй и Четвёртой Государственных Дум, беззаконно сосланные в тундры Сибири, – он весь трепетал от наступившей справедливости, он словно сам освобождался сейчас из сибирских тундр, – будут немедленно освобождены и препровождены с особым почётом!!
Здесь он опять ждал бури аплодисментов, но недостаточно подтолкнул, она не возникла.
– Товарищи! – прореял он к другому, и опять выигрышному. – В моём распоряжении находятся все председатели советов министров прежнего режима! И все министры старого правительства! Они ответят, товарищи, за все преступления перед народом! Согласно закону.
(Пока ещё не созданному.)
Аплодировали. Вместо чаек летели чёрные птицы возмездия: «Без пощады!»
А прирождённый, оказывается, легко плавать в этой народной буре, отважный пловец не дал себя смыть, но красиво набирал своё направление:
– Товарищи! Свободная Россия не будет прибегать к тем позорным средствам борьбы, к которым прибегала старая власть. Без суда – никто не будет подвергнут наказанию. Всех будет судить гласный народный суд. За-ко-но-по-ло-же-ни-я, принятые новым правительством, будут опубликованы!
И вот – он магнетически владел толпой! Он мог вызвать бурю в ней, а мог – благородно успокоить. И, выходя за пределы юстиции, он мог помочь и другим своим коллегам по правительству, у кого не хватало смелости вот так обращаться:
– Солдаты! Прошу вас, окажите нам содействие! Не слушайтесь призывов, исходящих от агентов старой власти! – слушайтесь ваших офицеров! Свободная Россия родилась – и никому не удастся вырвать свободу из рук народа!
О, какое «ура»! Какая новая буря аплодисментов! И – раскланиваясь, раскланиваясь – на этот раз по её волнам Керенский снизился и уплыл в рабочие комнаты правительственного крыла.
Он – и представился. И увлёк. И направил.
Всё трепетало в нём, но не только восторгом от этого поклонения, но и жаждой дальнейших действий! Министр юстиции не мог ожидать и прозябать ещё целые часы, пока неуклюжее новое правительство соберётся функционировать.
Ревель? Передал по аппарату в мятежный Ревель и вмиг успокоил город.
Можно было тотчас рвануться в здание министерства юстиции – и бурно приняться за реформу министерства. Однако там сейчас сидели два комиссара Думы (просчёт Маклакова: надо было ему присутствовать здесь, а не там). Они уже там выработали острейшие популярные реформы – всеобщую амнистию и зачисление всех евреев-юристов в сословие присяжных поверенных. Так надо опередить! Надо сейчас же отсюда, из Таврического, телеграфом во все концы России – от имени нового кипучего министра!
Итак, первый шаг: немедленно освободить всех политических заключённых и подследственных изо всех русских тюрем – и всем прокурорам судебных палат доложить о том министру телеграфно! А особо: немедленно освободить всех членов Государственной Думы, пятерых большевиков. И возложить на енисейского губернатора, под его личную ответственность: обезпечить самое почётное их возвращение в Петроград.
Второй шаг: приём в адвокатуру всех евреев, помощников присяжных поверенных. (О, какая возникнет сразу популярность и прочность!)
Затем: немедленно прекратить политический сыск и дознания по всей Российской империи!
Пока, для завтрашних газет, – довольно.
А ещё – у него оставались любимые узники в министерском павильоне. И самый, лично излюбленный из них, министр Макаров. Без Керенского его бы не схватили, он бы ушёл: во вторник его задержали, привели, но освободили: враг Распутина и Сухомлинова. Но память людская забыла, что Макаров противостоял восходящей звезде Керенского в деле о Ленском расстреле, мог не дать ему взлететь в решающие месяцы перед выборами в 4-ю Думу. А когда Макарова освободили – был поздний вечер, он побоялся возвращаться по революционным улицам и нашёл пристанище в частной квартире на антресолях дворца. А Керенскому – к счастью шепнули! И он прихватил двух вооружённых солдат, бегом по лестницам наверх, сам ворвался в квартиру и сам снова арестовал Макарова!
Однако и много уже их, арестованных сановников, набралось в павильоне, битком. А самым опасным и зловредным здесь не место. Решил Керенский: сегодня же ночью, когда не будет публики, под строго надёжным конвоем перебросить их в Петропавловскую крепость.
Это будет – и народный эффект!
А что ожидало теперь самого Александра Фёдоровича – наполняло его ещё новым освобождением! В первые же сутки революции тут, на кушетке, сообразил он, что эти невиданные обстоятельства освобождают его от скучного домашнего плена: стало естественно теперь, что он никак не сможет ходить ночевать домой – ещё долго, долго! В понедельник утром ускочив из дому, он больше туда не ступил ногой.
А дальше… рисовалась упоительная вереница встреч… В миг успеха всегда находятся женщины, готовые радостно нас при-нять. Как будто, притаясь, они все ждали этого момента, – а тут все сразу объявляются, улыбаются, зовут облегчить историческое бремя.
А пока – эти ночи прокорчились тут на таврических диванах, столах и стульях, да и ночей не было. Но надо было устроить свой быт на холостую ногу в министерстве юстиции: взять себе кабинет министра, ещё пару комнат – остальную казённую квартиру оставить пока жене арестованного Добровольского. На нужду исторической личности сразу появляются и нужные помощники: перед Керенским вырос граф Орлов-Давыдов (Керенский был шафером на его второй свадьбе, с актрисой Пуаре), и всем усердием готовый услужать и помогать: для кормления Александра Фёдоровича приставить своего графского повара, и всюду сопровождать, и вообще выполнить любое интимное поручение. Сам граф, правда, очень пострадал в общественной репутации после скандала разводного процесса с Пуаре (для нее разводился, а она дурачила его ложной беременностью, мнимыми родами, и только случайно граф догадался, и сколько позора). Но всё равно – граф! и какая старинная звонкая фамилия! и богат!
340
Фрагменты дня и вечера.
* * *
В Москве морозец – градуса три. Улицы переполнены ещё больше вчерашнего. Всеобщее торжество. Раздаются, теснятся, чтобы пропустить вооружённые автомобили. Кое-где военные оркестры. Во главе военных отрядов уже не только прапорщики, но – подполковники и полковники.
Около городской думы два английских офицера с восторгом говорят публике: «Мы знали, что Россия – великая страна, но не знали, что у вас такая прекрасная дисциплина. Наконец настоящая Россия нашла себя! Мы передадим в Англии, что мы видели».
Со ступенек думы объявляют: в Луге создался отряд, который арестует царя.
В самой думе стало так тесно, что сегодня днём подполковник Грузинов реквизировал кинематограф «Художественный» на Арбатской площади и перевёл туда свой штаб восстания . Сам он объезжал город на автомобиле и везде держал речи.
* * *
Весь день в разных местах Петрограда – митинги, политические речи: какая будет власть? что будет с царём?
Какой-то в затёртом пальтишке:
– Товарищи! Да разве Родзянко и Милюков могут нам дать землю и волю?
Студент:
– Товарищи! Это говорит провокатор!
А тот:
– Вас хотят усыпить, чтобы вы подчинились и больше ничего не требовали!
Вылезает господин в чёрной мягкой шляпе и держит речь о честности Родзянки:
– Он много лет защищал народные интересы!
В толпе на лицах – страдание нерешённости: кому верить?
* * *
«Россия! Ты больше не раба!» – под красными флагами, с красными бантами по Невскому оживлённая смешанная демонстрация: рабочие в чёрных пальто, работницы, студенты – и с ними вместе упитанные белокожие обыватели, хорошо одетые, в дорогих шубах, в котелках. Все вместе поют:
Долго в цепях нас держали!
Долго нас голод томил!..
* * *
14-летняя Леночка Таубе записала в дневник: «С Кронштадтом телефонная связь прервалась, а телеграфная сохранилась. И нам пришла телеграмма, неизвестно от кого: “Барин жив и здоров арестован”. Мама то в слезах, то в обмороке».
* * *
В квартиру звонок. Два безусых солдата, на папахах красные лохмотья:
– Дозвольте посмотреть.
В зубах папиросы. Уходя, на пол их, гасят и сплёвывают.
– …Всё обыскивают, всё обшаривают… – ворчит прислуга. – При старом режиме так не бывало.
* * *
Нападали на ломовиков, везущих продовольствие: «Куда везёте? Здесь раздавайте!» И растаскивали.
* * *
В Петропавловской крепости набралось много лишних офицеров – ни в какой не охране, не гарнизонные, а слоняются, обсуждают события, играют в биллиард. Прячутся.
* * *
Перед вечером с грузового автомобиля читают толпе свежие «Известия», состав нового правительства.
Удивляются: «А что ж Родзянко? Не вошёл?»
Толпа перекачивается по Невскому, радуется.
И другие ещё листовки, розовые, на стенах, не на Невском: «Не верьте Временному правительству! Рабочие должны взять власть в свои руки».
Люди читают с недоумением.
Гудят, что Милюков обещал царя возворотить. Это что же значит? – нас наказывать будут?..
* * *
За дни революции во дворце великой княгини Марии Павловны разграбили и перебили винный погреб на полмиллиона рублей.
* * *
Вечером возник слух, что на Васильевском острове толпа громит университет.
Что какие-то чёрные автомобили разъезжают по городу и расстреливают мирных жителей.
На ночь опять в домах огней не зажигают или укрывают. Безпокойно.
У костров на улицах – военные и штатские патрули, новые милиционеры и добровольцы с винтовками, револьверами. Останавливают проносящиеся иногда автомобили, требуют пропуска.
Кое-где в темноте чернеют застрявшие в снегу грузовые и легковые автомобили.
К ночи пошёл крупный, редкий, картинный снег.
341
Гучков на вокзале в Луге. – Дадут ли ехать?
По линии разнёсся слух, что едут важные члены Государственной Думы, сам Гучков, – и на станциях собирались кучки или толпишки – железнодорожники, рабочие, отдельные солдаты, случайные люди или пассажиры, и требовали речь, как в эти дни все приучились требовать, как очередную еду. Гучков с тамбурной площадки своего вагона или с какого-нибудь ящика на платформе, сняв пенсне и щурясь, держал к ним речь, уж он наизусть её сам знал: слушаться офицеров, поддерживать новую власть, да здравствует революция и победа над немцами.
В Гатчине была большая толпа, и он говорил дольше, но то же самое.
После Гатчины ему уже стало казаться, что проворачивается вхолостую мельница, опустошая его, а без пользы.
Задержались в Гатчине с полчаса лишних, ожидая подъезда генерала Иванова по соединительной ветке. Но не было его. А день – уже к концу, поездка затянулась, миссия не выполнялась, нельзя было ждать. Поехали. (Уже потом, в пути, нагнала телеграмма Иванова, что он в Вырице и рад повидаться. Другого Гучков и не ждал.)
В Гатчине 20-тысячный гарнизон был спокоен. А о таком же лужском гарнизоне ещё с вечера знал Гучков, что там восстание и убивают офицеров. И сегодня с утра по его поручению поехали туда член Государственной Думы Лебедев и полковник генерального штаба Лебедев – уладить и успокоить: слишком важное место занимала Луга на линии Петроград – Псков. Хотя именно этим мятежом она и сослужила революции, обезоружив бородинцев. Но и – достаточно, дальше это уже начинало мешать.
Гучкову много раз приходилось выезжать на фронты, правда всегда по делам Красного Креста, но в этих выездах он чувствовал в себе хорошую военную подвижность, была у него и полувоенная одежда, куртка, сапоги, его часто так фотографировали и помещали в обозрениях. И сегодня поездка была вполне фронтовая, вот предстояло в Луге окунуться в это солдатское море, может быть возмущённое и опасное, а Гучков и любил опасность, и только не хватало ему сейчас для лёгкости той своей военной одежды. Но он всё же ехал к Государю – и на нём был хороший костюм, крахмальный воротничок, галстук, а сверху – городская, тяжеловатая шуба с дорогим меховым воротником и шапка меховая.
Вид лужского вокзала был необычен от множества солдат – но не в командах и не в строю, а бродящих, смотрящих, бездельных, – впрочем, петроградский глаз это уже не могло удивить. Среди этих бездельников сразу возникло движение к приехавшему поезду всего из одного вагона – и стали сталпливаться, кто безобидно, кто дерзко. Дерзость в солдатах особенно била в глаза.
Оба Лебедева тотчас вошли в вагон, хотели докладывать – но толпа густилась, и надо было разрядить её речью. Гучков это понял, вышел и повторил всё то же от имени святой Государственной Думы и священной войны против германцев.
Помогло. Послушали, покричали «ура», – разредились, расходились. Лебедевы извинялись, что им не удалось устроить встречу с почётным караулом, оркестром и дефилированием под «марсельезу», как их самих встречал здешний ротмистр. Но тут – уже командует военный комитет, составленный от одной автомобильной роты, – и определённо уже снесшийся, да тут недалеко, с петроградским Советом: те же повадки и те же лозунги, и недоверие к Думе. И вот с этим комитетом Гучкову не миновать было иметь дело сейчас.
Шульгин остался в вагоне писать проект отречения, Гучков пошёл в здание вокзала на переговоры с комитетом. Держа марку, комитет не прислал своих представителей приветствовать его приезд.
Конечно, никто из них не знал, что в эти самые часы Гучков становился военным министром. Но как прославленный деятель России мог бы он ожидать от рядовых сограждан более почтительного приёма. И когда в комнату вошёл – навстречу ему никто не поднялся, а указали, где ему сесть за одним столом с ними в дымах махорки. Все курили и сплёвывали на пол, курили и плевали.
Сразу Гучков погрузился в эту гущу. Меньше всего он мог сейчас тратить время и усилия на Лугу, а надо было. Изо всего нового правительства самый противный Совету рабочих депутатов, – здесь, признавая силу обстановки, он должен был лгать им, что в Петрограде между Думским Комитетом и Советом депутатов противоречий нет. Всё нутро переворачивало от их хамства, но Гучков не должен был вскочить, скомандовать им или уйти сам, а должен был сидеть и убеждать навести порядок, – да более того, такой порядок, чтобы сегодня же ночью Лугу мог безпрепятственно пройти царский поезд, направляясь в Царское Село.
Гучков ехал выполнить миссию всей своей жизни, сделать исторический шаг за всю Россию, – а должен был преть здесь с этой неподчиняемой массой, высматривать её ускользающую душу. Он ехал на историческую встречу с Государем – а должен был потеть, измять и изгрязнить крахмальный воротник в этой духоте и махорке. Он ехал ставить ультиматум главе государства – но сам оказывался в унтер-офицерских клещах. Был момент такого подозрения: он не был уверен, что его самого-то отпустят ехать дальше.
Сколько же спорили об этом Народе! – обездоленные добродетельные труженики, кого урядники и жандармы не допускают к добру, а интеллигенция могла бы вывести к свету, – или счастливая религиозная масса, всегда готовая принести себя в жертву на алтарь Отечества. Но оказаться с этим Народом на равных в продымленной, заплёванной комнате, на одной скамье – пришлось очень неуютно. И – ни одно из лиц автомобильного комитета не напоминало благообразного народного Лика, – все до одного были неожиданные, неподступистые, неуговорные.
Гучкова не хватали за плечи, не наставляли на него штыков, – но с тоской и озлоблением ощутил он всю тёмную силу этой стихии, которой, увы, дали вырваться. Чего он и опасался всегда.
Тем временем приехал этот самый ротмистр Воронович, высокий ражий кавалерист, очень подобранный, отличная выправка. Смоляные приглаженные волосы, холёные пушистые усики – а лицо совсем закрытое. Оказался не рубака, а отличный дипломат. Присел к их общему разговору, и Гучков поражён был, как свободно среди мятежных солдат и тотчас после убийства своих однополчан-офицеров этот ротмистр себя чувствовал, с какой (осторожной, однако) свободой и (осторожной) уверенностью он рассуждал, находя ещё и тонкие способы дать понять Гучкову, что он его поддерживает, конечно.
Сколько видел Гучков армейских офицеров – а никогда не замечал, не выделял среди них этого типа, который так легко поскользит по волнам революции.
С приходом ротмистра обсужденье пошло всё благополучней, уже не было тени, что Гучкова задержат или имеют право задержать, или подозревают, зачем это он едет к царю. А про царский поезд Гучков не стал выяснять, было бы опасно. Он понимал, что царь только и рвётся к своей супруге, и за отречение он имеет право получить такую плату, – ну что ж, проедет вкруговую, опять через Дно.
Переговоры – неизвестно о чём, – об общем положении, о победе над старым режимом, о верности боевым знамёнам и петроградским властям, – кончились, и Гучков пошёл к своему поезду.
Но не узнал его.
Паровоз по своей круглой чёрной груди был накрест перевит красными лентами, и красный флаг торчал на будке машиниста; ещё, где можно, воткнуты были еловые ветки. А ещё прицепили другой вагон, пассажирский пригородный, в котором своя топилась печка, искры из трубы, и туда село несколько солдат и несколько вооружённых штатских, все с красными бантами.
Гучков не имел власти и воли разрушать это революционное великолепие или отцеплять второй вагон, уж он был рад, что самого-то отпускали безпрепятственно.
Напугали бы они царя и свиту на псковском вокзале, да уже и сейчас было темно.
342
Царица готовит письма Государю с офицерами. – Бог выручит!
Государыня придумала: послать к Государю не одного офицера, а двух, и каждому дать по письму, и притом на маленьких бумажках, так, чтоб их можно было сложить в вершок, спрятать в сапоге, а в случае чего и сжечь. Кто-нибудь из двоих офицеров доберётся!
И всё, что теснилось и бурлило в ней, – она в эти часы пыталась, в промежутке между делами, вписывать то в одно письмо, то в другое.
А часы были ужасные. Добралась из Петрограда молодая фрейлина, по возрасту подруга дочерей, – и что, она рассказывала, творится там – это не вмещалось в голове.
Посланный к Родзянке флигель-адъютант Линевич так и не вернулся, ни вчера, ни сегодня. Саблин из Петрограда прислал с верным человеком тайную записку, что рвётся сюда, но никак не может поехать, потому что все такие видные, как он, – на учёте . Генерала Гротена послали в царскосельскую ратушу на переговоры с мятежниками – и он что-то не возвращался.
Первоначальная утренняя радость, что Государь нашёлся во Пскове, постепенно затемнялась встающими чёрными клубами тревоги. Добровольно ли он поехал туда и остаётся там? Не пойман ли он в западню?
Величайшая низость и подлость, не слыханная в истории, – задерживать своего Государя! Как унизительно ощущать Государя в плену! Какой ужас для союзников! Какая радость врагам!
Ах, жалела она теперь, что не сказала дедушке Иванову – действовать самым решительным образом по освобождению Государя! А он, по доброте, может проявить мягкость.
И – зачем бы захватили царя? Ясно: не допустить его увидеться с царицей. И – для чего же? Заставить его подписать какое-нибудь невыносимое ответственное министерство. Но это было бы гибелью России. И как бы ни был Государь обманут и отделён от своих верных войск – не может он изменить своей коронационной клятве! Не может он разрешить короне стать придаточным украшением, а власть отдать самоответственному правительству из самозваных лиц!
Или – вынуждают его назначить каких-нибудь невыносимых министров?
А что правда делать? Нельзя залить столицу кровью, да ещё во время войны. И тем более во время войны нельзя оставить мятеж пылать. Если не удастся торжественный вход Иванова в Петроград – какие-то уступки, может быть, и неизбежны, только вопрос: кому? до каких пор? и в какой форме?
Там, во псковской немоте, происходил, быть может, великий духовный поединок: её супруг своею некрепкой душой отстаивал священный принцип – а она не могла в эти часы приложить ему свои силы и твёрдость! И – ни весточки получить от него! И – как дослать свою по воздуху?
О, мой святой страдалец! Какое невыразимое унижение я испытываю за тебя! Как разрывающе больно за тебя – и ничего не могу тебе посоветовать. Только не дай насиловать твою волю! Бог должен услышать наши мольбы и послать нам наконец какой-нибудь успех. Это – вершина несчастий, и мы пройдём её! Вера моя безгранична, и это поддерживает меня. Бог не покинет тебя и нашу любимую страну. Сейчас хотела вложить тебе и образок в письмо – но тогда нельзя скомкать бумажку. Вот ты стесняешься носить крест Григория – а насколько тебе было бы спокойнее!
А моё настроение – бодрое, боевое, знай!
А если тебе, не имея за собой никакой армии, придётся покориться обстоятельствам, то Бог потом поможет и освободиться от них. Если тебя принудят к уступкам, то ты потом ни в коем случае не обязан их выполнять, потому что они добыты недостойным образом. Если ты и подпишешь обещание – оно не будет иметь никакой силы, когда власть снова окажется в твоих руках. Но всемогущий Бог – выше всего, он – любит своего помазанника, и спасёт тебя, и восстановит в твоих правах. Бог поможет, поможет, и твоя слава вернётся!
Два течения, две змеи – Дума и революционеры, – может быть, они отгрызут друг другу головы – и так спасут положение? Я чувствую, что Бог что-нибудь сделает!
А может быть, ты покажешься войскам во Пскове и соберёшь их вокруг себя? Когда войска узнают, что тебя не выпускали, – войска придут в неистовство и восстанут против всех!!
…Пришёл генерал Ресин и доложил: генерала Гротена революционеры в ратуше арестовали.
343
Революция пришла в Ростов. – У Архангородских.
В Ростове-на-Дону уже третий день накоплялся общественный взрыв. Ростовчане привыкли к полной свободе всякой речи, также и гневной, – на улице, в трамвае, в университетском коридоре и на базаре. А тут – от Ростова что-то скрывали! Третий день не приходило никаких агентских телеграмм из Петрограда – хотя провода были целы, потому что приходили частные телеграммы. И из этих частных улавливались намёки на какие-то важные события в столице. Кидались день и кидались другой к редакциям «Приазовского края» и «Ростовской речи» – но и там не знали больше, чем простые обыватели. Непроходимые тупицы правящей власти наступили где-то сапогом на поток известий и придушили его. Но слухами, слухами – прорывало запрет неудержимо!
Какие уж там учебные занятия! Вчера ещё только перебегающая тревога, а сегодня и в университете и на высших женских курсах лекции шли кое-как, многих не было на месте, и уж конечно Сони Архангородской. Вместе с несколькими подругами по юридическому факультету они бродили по городу, и к газетным редакциям, и просто вдоль Садовой, и звонили по телефонам – чтоб узнать, узнать скорее и раньше! – а сердце-то уже догадывалось: наступил несравненный миг жизни!
А ещё же дышала весна! Днями сильно таяло, по всем улицам, буровя снег, неслись коричневые ручьи, показывая наклоны всех улиц, такие резкие в Ростове. К вечеру подстывало – по оголённым тротуарам тонкой льдистой коркой, в месиве дорожного снега коричневыми лужками. Но сохранялся, как всегда бывает в Ростове в мартовские вечера, – уже весенний воздух, откуда-то прилетевший таинственно-радостный воздух весны.
Конечно, больше мог знать папа, Соня дважды забегала домой узнать что-нибудь – но и Зоя Львовна полдня не могла с ним соединиться, он вызван на срочное заседание военно-промышленного комитета. После университета вернулся брат Володя, он отсидел все лекции, – тут Соня увлекла его тоже идти к «Приазовскому краю».
И там толпились ещё два часа, потому что обещали из редакции, что какие-то новости вот-вот будут, вот-вот, да будет специальный бюллетень, – и наконец уже к самому вечеру выскочили газетчики с пачками бюллетеня – сперва с отчаянными криками, а потом и кричать перестали, – только успевали медяки принимать и кидать в карманы, а пачки на руках утончались и чуть не мгновенно исчезали.
И какие же новости!! – никто в толпе не жалел, что постоял. С весной природы соединилась буйная весна газетная! Чёрными типографскими буквами подтверждалось больше, чем даже слухи перед тем: не просто петроградские волнения – но вся власть в России перешла к народному представительству!!
Какие ликующие минуты! Какой жгучий момент! Теперь неизбежным казалось, что и тиран падёт! Восстанет из смрадного гроба Россия! Долой монархию! Долой сословия!
Уже – вся Садовая праздновала, и ясно, что на несколько дней! Густо высыпали толпами – по обоим тротуарам не пробиться, только течь в медленном потоке. Все радовались, незнакомые (хотя мало таких в ростовской публике) обсуждали друг с другом, там и здесь начинали запевать революционные песни. А уж свыше меры были переполнены кофейни «Ампир» и «Чашка чая»: там читали вслух новости, произносили речи, потребовали от оркестра исполнить марсельезу, все встали, а офицеры взяли под козырёк. Кто-то кричал: «Да здравствует Франция!» – и высказывали, что надо пойти манифестацией к французскому консульству.
А полицейские?! – стояли на постах – но безучастно! – но как будто ничего-ничего не замечая! Так это значит: им велено так!?
Но если Новочеркасск бросит на Ростов казаков? Это будет мясорубка!
А самая главная манифестация, мешая и трамваям идти на вокзал, трамваям непоместительно стало в городе, – сгущалась как раз против квартиры Архангородских на углу Почтового: потому что vis-a-vis , по ту сторону Садовой, высились ребристые колонны переехавшего теперь в Ростов Варшавского (в этих днях ожидалось, что правительство учредит его Донским) университета. Толпа собралась тысячная, заливая всё вокруг университетского входа под навесом громадного балкона, и мостовую Садовой, и Почтовый переулок.
Очень ждали конца университетской сходки: что она решит? – хотя как будто не от неё зависел ход дел в России. Уже было темно, когда из двузеркальных дверей университета студенты стали выливаться сюда, в толпу. Оказалось: избрали студенческий Революционный комитет, хотя была оппозиция студенческого «Прогрессивного блока» (и Володя в нём), а некоторые филологи безпринципно заявляли, что «считают себя вообще некомпетентными в таких вопросах».
Что за ужимки? Да курсистки завтра же изберут и своих депутаток к вам!
Хотя горели обычные уличные газовые фонари вразрядку и светились окна домов – молодёжь притащила с десяток факелов, оставшихся от какого-то карнавала, и их тревожные смоляные огни запылали в нескольких местах над толпой.
Два-три факела поднялись и на обширный балкон университета, куда вышли члены Революционного комитета и профессора со своего совета – они, кажется, не совсем охотно. Недовольными выглядели и ректор Вехов, и славяновед Яцимирский, а маленький густоусый математик Мордухай-Болтовской – так просто сердитым. Зато рядом с ним сиял профессор физики Колли.
И зазвенела с балкона смелая речь юношеским горлом к толпе, невозможная ещё сегодня утром:
– Бастилию берут не разумом, а порывом! Победоносный народ сбил цепи своей неволи! Злостное пренебрежение старого режима к священным интересам родины… Режим был весь пропитан прусскими идеалами… Но кучка негодяев, управлявшая Россией против России, – упала! Все живые силы страны присоединяются к революции! Начинается долгожданное обновление России!..
А власти – ничему не мешали! А полиции – как не было никакой, забилась куда-то в тёмный угол.
Из толпы, оборачиваясь, видела Соня через сплетение голых ветвей, как на балкончике их угловом, надев шубы, стояли папа с мамой и смотрели сюда.
А папа – что-то же ещё знает, что-то расскажет!
Сказочный вечер! Нехотя расходились.
Соня бегом по лестнице, влетела в столовую, – верхнего света нет, ужин не накрывается, а мама при настольной лампе горячо разговаривает по телефону. А есть как хочется! Пошли с Володей в папин кабинет. Илья Исакович за большим письменным столом, лампа в белом матовом абажуре.
– Папа! Папа! Ну скажи сперва в трёх словах! А потом подробно.
Илья Исакович смотрел как бы с виноватым видом, за очками его, кажется, можно было увидеть по слезе:
– Слова отстают от чувств.
– Ну, а подробно??
– А что мы говорили, папа, а что? – ликовала Соня. – Николашка мечется в поезде! Ясно, что дни его сочтены. Теперь ясно, что в Пятом году царизму был нанесен смертельный удар и эти 12 лет – только агония!
– Да дай же папе, – останавливал Володя.
Со своей обычной умеренностью в движениях, не потерянной и в такой великий день, ещё немного довернувшись к ним в своём поворотном кресле, держа пальцы в переплёте у брюшка, Илья Исакович вместо ликования сказал негромко:
– Теперь… теперь, дети… Надо напрячь всю волю, чтобы только не закружилась от радости голова. Теперь-то и начинается самое опасное.
– Что?? Почему? Да ты, может быть, не всё знаешь, папа? Ты бюллетень-то читал? Вот мы принесли… – Рванула бежать в коридор к пальто.
– Садись уж, садись, – усмехнулся Илья Исакович. – Я за четыре часа до вашего бюллетеня знал.
Сестра и брат сели на стулья, поближе.
Илья Исакович уже с полудня заседал в военно-промышленном комитете. Председателя их, известного Парамонова, тучного, но подвижного промышленного туза, вызвали вместе с ростовским и нахичеванским городскими головами и с Зеелером от доно-кубанского Земгора – к градоначальнику генерал-майору Мейеру. Тем более военно-промышленный комитет продолжал заседать и обсуждать гадаемое. Часа через два вернулся к ним и громогласный Парамонов с новостями, кипучими решениями и таким видом, что приписывал себе чуть не всю ростовскую революцию и четвёртую часть петроградской.
Градоначальник Мейер, и прежде очень сочувственный к общественности, теперь открылся ей более чем благожелательно. Объявил, что это он сейчас добился от атамана Граббе разрешения на публикацию агентских телеграмм безо всяких изъятий. Уже с решительностью уверенный в безповоротности событий (он только что вернулся из Петрограда и застал там начало волнений), он заверял, что и ни атаман, и ни начальник ростовского гарнизона не посмеют поддержать старую власть оружием. И признался буквально так:
– Тем и был тяжёл прежний государственный строй, что всякий работник на ниве общественности не мог выступать и действовать открыто, не надевая маски так называемой лояльности перед правительством. Маска была условием работы. И я рад теперь её снять. Я и прежде делал всё что мог для облегчения участи борцов за народные интересы, вы помните.
Четверо деятелей в ответ попросили посовещаться полчаса без Мейера. И затем выставили ему условия. Освободить заключённых по политическим и религиозным мотивам. (Тотчас же. Их оказалось трое.) Свободные собрания без контроля властей. (Разрешил.) Согласны принять на себя тяжёлую и ответственную задачу сформирования Гражданского комитета в Ростове, но только если местная власть будет безпрекословно выполнять все постановления комитета. (Градоначальник принял.) Таким образом почта, телеграф, телефон и железные дороги перейдут под контроль Гражданского комитета. (Согласен.) А не помешает ли Охранное отделение? (Нет, ротмистр Пожога – в тифу и в бреду.) Немедленно закрыть или хотя бы взять под строгую цензуру черносотенный «Ростовский листок», чтоб не допустить агитацию за прежний строй. (Гражданской цензуры у нас не существует, но для этого случая – согласен.) А как отнесутся власти к возможному уличному выступлению черносотенцев? поможет ли власть обезвредить их выступления против нового строя? Мейер обещал, что не допустит манифестаций с царскими портретами и прочих провокационных. И тут же при них распорядился полицмейстеру: не препятствовать никаким манифестациям, кроме монархических, терпеливо относиться к выражению чувств народной радости, даже если они будут враждебны к чинам полиции. Объяснять, что полиция и раньше служила населению и сейчас не пойдёт против воли народа.
И ещё добился Парамонов: получить копии всех петроградских телеграмм, чтобы лично проверить, не утаит ли какую военная цензура.
И – разъехались все четверо по местам, готовить Гражданский комитет. А заседать он будет в особняке Мелконовых-Езековых на Пушкинской, куда и вернулся Парамонов к своему военно-промышленному комитету. Между прочим, среди самых последних телеграмм оказалось воззвание Совета съездов промышленности и торговли: эта головка промышленников и купцов призывала все биржевые комитеты, купеческие общества – забыть о всякой социальной розни и сплотиться вокруг Думского Комитета. И Илья Исакович, съездив потом в биржевой комитет, участвовал в составлении от него телеграммы Родзянке: восторженно приветствуя в вашем лице… положим все свои силы на устроение нашего отечества.
– Так всё великолепно, папа! Ты ж этого и хочешь! И – за один день сломились все барьеры тирании! – как они оказались непрочны!
Поднимались идти в столовую. Илья Исакович обнял обоих, он был уже чуть ниже Сони и заметно ниже Володи:
– Всё – так, мои родные. И может быть – это и есть великое начало. Но революции имеют коварное свойство раскатываться.
Сделали шага три в обнимку, остановился:
– Но что меня в этом всём покоробило – это градоначальник Мейер. Не так меня удивили петербургские события, как генерал-майор Мейер. Всё-таки, если б это я был градоначальником, на таком высоком доверенном посту, – я бы стоял до последнего. А он так торопится. Некрасиво.
– Так вот это и показывает, папа, что их дело давно кончено. Они погибли!
344
Окончание переговоров ИК и правительства.
Остатки думского Комитета или начатки нового правительства под напором публики отступили уже из вчерашней комнаты в следующую, внутреннюю: там, где вчера трое из Исполкома торговались с Милюковым, теперь сидели второстепенные лица, канцелярия, временно задержанные, вид охраны, – а думские лидеры стеснились в ещё меньшей комнатушке, и маячил у них тут ещё больший безпорядок, чем вчера: они разговаривали, ходили, хлопотали, совещались, и места не хватало никому.
А тут, в восьмом часу вечера, пришла опять делегация из Исполкома, уже только двое – Гиммер и Нахамкис.
Навстречу и думцы не пытались усаживать никакого подобия совещания, – а просто Милюков пошёл с ними двумя к небольшому столу в углу комнаты, там сели все рядом, лицом к стене, даже настольной лампы там не было, своими плечами они себе ж и загораживали верхний свет. Гиммер – посередине, а то б его и не видно было через плечи Нахамкиса.
Ещё двое Львовых – один благостный, другой мрачный верзила, пытались сделать вид, что они тоже участники совещания, присаживались где-то сзади за их спинами, но, посидев без внимания, не предназначаемые для разговора, – потом исчезли.
Тáк ведь и не кончили вчера, и целый день не собрались, вот жизнь. А – чего вчера не кончили, вспомним?
Условия деятельности нового правительства уже утвердили…
Не совсем. На пленуме Совета добавлены некоторые изменения.
Ах вот как? (Пожалел Милюков, пожалел, что вчера не закончили, а всё из-за Гучкова.) Но так же тоже, товарищи, нельзя работать… А осталось нам согласовать встречную Декларацию Совета?
А вот, на двух листах бумаги вчерашние их попытки: один лист, крупный, неровно оборванный, принёс Нахамкис, и там один абзац от Гиммера, а наперёд сверху вставлен стрелкой снизу абзац от Нахамкиса, который должен стать первым. А на другом листе, у Милюкова, – абзац, который Милюков сам написал от имени Совета.
Стали теперь эти абзацы с двух листов смотреть и сочетать. И чего вчера не могли добрать измученные ночные головы, теперь видели глаза: ничего, кажется пойдёт. Гиммер писал, что нельзя допускать анархии и надо пресекать грабежи и врывания в частные квартиры, – так вашими устами и мёд пить. А Милюков писал об офицерах, кому дороги интересы свободы, и как ради успеха революционной борьбы надо забыть их несущественные проступки против демократии, и нельзя клеймить всю офицерскую корпорацию в целом. Что ж, достаточно оговорено насчёт революции и демократии, так что Исполкому приемлемо.
Пошутил Гиммер, что Павел Николаевич левеет и скоро будет рабочим депутатом.
Но Нахамкис – не шутил (хотя вообще, в революционной среде, он очень любил анекдоты). И больше всего не шутил в его новом абзаце, написанном разборчиво, чуть внаклон, крупно, как бы с плечами у многих букв. Этого абзаца Милюков вчера не видел, читал теперь в первый раз.
Говорилось там о новом правительстве очень отстранённо – вот, дескать, новая власть – объявляет, обязуется, некоторые реформы должны демократическими кругами приветствоваться (те самые, продиктованные Исполкомом), – и в той мере , в какой нарождающаяся власть будет действовать в направлении этих обязательств, – в той мере и демократия должна оказать ей свою поддержку.
Вот это «в той мере» очень не понравилось Павлу Николаевичу: вчера, при наших обязательствах, вы обещали нам поддержку безусловную. А ваша вот – и условная, и очень уж сдержанная.
Нахамкис, и не волнуясь и не торопясь:
– То было вчера. С тех пор мы продумали. Выслушали мнение Совета…
Да, куй железо, пока горячо, надо было кончать вчера. Вчера они примирялись больше. А теперь Нахамкис был непреклонен.
Но опасался Милюков слишком торговаться, как бы не разрушить так трудно доставшуюся власть. Без Совета справиться с массами невозможно.
А оба исполкомца ещё упрекали его и даже нападали: как же он мог публично выступить до соглашения? Это уже нарушение честных переговоров. Зачем же вы вдруг о монархии, если мы решили не предрешать?
(Ах, Павел Николаевич и сам жалел.)
Выступил потому, что полное соглашение у нас вчера фактически состоялось, – а ждать невозможно.
А вот, Совет сегодня выдвинул новые условия.
Да какие же?
– Вот, – читал Нахамкис с другой бумажки, тоже неровной и мятой, запись во время пленума: – Правительство обязуется не пользоваться предлогом военных обстоятельств для промедления в осуществлении обещанных реформ.
Покрутил Милюков головой, губами, носом под круглыми очками:
– Ну, просто вы нас во всём подозреваете, в любой нечестности.
– Классовый инстинкт! – хихикнул Гиммер.
А Нахамкис дальше водил крупным пальцем по большим строчкам, ещё условие: декларацию Временного правительства должен подписать также и Родзянко.
– А это зачем? – искренно удивился Милюков и совсем не по-торговому на них посмотрел: – Ну зачем? Ну что такое Родзянко?
Навязывали ему наследственность от Думы и неповоротливость её.
Советские товарищи поняли этот вопрос, и даже были согласны, но… так решил Совет.
Заметил Гиммер, что Милюков уже начал сердиться, слишком много изменений. Сейчас одна неосторожность, Милюков прекратит переговоры, соглашение лопнет – и лопнет великий замысел навязать буржуазии безвластную власть. А сам Совет никак не способен создать аппарат управления, всё пойдёт прахом, и революция погибла.
И он забрал со стола перед Нахамкисом те четыре условия Совета, ещё оставалось два непрочитанных, какое имеет значение, что там накричат на безформенном Совете, это не были настоящие условия. Нахамкис как докладчик держался за ту бумажку, а Гиммер нисколько.
А обязательства правительства? Да, вчера согласованы, не будем к ним возвращаться.
Обрывок, на котором Нахамкис делал записи во время советского митинга вчера, был пока их наилучшей аутентичной записью. Ещё был листок, где Милюков для себя их вчера повторял, но сокращённо. Ещё был – отчётливый красивый список нового правительства, написанный Милюковым, – а перед ним красивая преамбула, что «Временный Комитет Государственной Думы при сочувствии населения и при содействии столичных войск достиг такой степени успеха над тёмными силами старого режима…» И Милюков очень опасался, что сейчас будут атаковать эту формулировку: а где тут Совет Рабочих Депутатов? а неужели вы сделали больше, чем столичный гарнизон? – и тогда опять спорить, и переписывать, и пропал весь эффект. Но, к его радости, – смолчали. А дальше стояло: «Общественный кабинет из лиц, заслуживших доверие страны своей прошлой деятельностью», – и тоже смолчали. Значит, список уцелевал. И только:
– Так не забудем, Павел Николаевич, припишите сейчас своей рукой.
Очень не хотелось Милюкову, усами пошевелил:
– Совершенно излишнее недоверие.
И приписал, макая в тяжёлую чернильницу:
«Временное Правительство считает своим долгом присовокупить, что оно отнюдь не намерено воспользоваться военными обстоятельствами для промедления в осуществлении реформ».
– И мероприятий, – добавил Нахамкис.
– А – литературно это будет? Можно так выразиться? – реформ и мероприятий?
– Можно, – уверенно клал лапу на документ Нахамкис.
– Можно, – сказал Гиммер. – Мы все трое – писатели, и с достаточным опытом.
Вот и всё. Теперь собрать подписи всех министров – для торжественности, как клятву, и Родзянки тоже. Вот и всё. (Они все уже не видели, забыли, что этот документ начинался как объявление Думского Комитета – а теперь кончался от имени министров: неизвестно, что ж это и получалось.)
Но тоном необязательным, полуделовым, всё-таки Гиммер повторно укорил Милюкова:
– Хоть образ правления мы вам сняли, а зря вы, Павел Николаич, с монархией выскочили? Осеклись.
– Нисколько, – конечно возражал, конечно на своём Милюков.
– Да я вам скажу из своего опыта, – важничал Гиммер. – Вот сейчас, недавно, я выступал перед большой толпой. Встречали меня прекрасно, всё время одобрительные крики. Тем не менее потом стали выкрикивать насчёт династии – и уже совсем другим тоном. Это – вы их перебудоражили, Павел Николаич.
Правда, откуда же взялось? Ни вчера, ни позавчера об этом как будто никто и не вспоминал, никто и не кричал. Получалось, правда, так, что всё – от выступления Павла Николаевича? Но и нельзя зажмуривать глаза на будущее: без продолжения монархии не получить и нормального конституционного развития.
– Ну конечно, – предположил Милюков, – солдатам может показаться опасным возврат всякого царя. Как бы ближе к наказанию за восстание. Надо разъяснять, что это не так.
А Гиммер, во-первых, знал, что сейчас уже пишется ядовитая статья в завтрашние «Известия» против милюковского выступления. Во-вторых, он и сам не сконцентрировался на этом вопросе раньше, не придал такого важного значения: вопрос о реальной власти разрешался и независимо от судьбы Романовых. Да Совет был обезпечен от неожиданностей пунктом об Учредительном Собрании.
– Неужели вы надеетесь, – усмехнулся Гиммер, и худые щёки его втянулись, – что Учредительное Собрание оставит в России монархию? Да все ваши старания пойдут прахом всё равно…
Показалось, что Милюков как будто чуть надувается: приподнялись его щёки, усы:
– Учредительное Собрание может решить что угодно. Если оно выскажется против монархии – тогда я могу уйти. Сейчас же – я не могу уйти. Сейчас же, если меня не будет – то и правительства вообще не будет.
Посмотрел на Гиммера, посмотрел на Нахамкиса. Достаточно предупреждая.
А про поездку Гучкова исполкомцы, видимо, не знали и до сих пор! – неужели бы промолчали? Так выигрывалось время. А через несколько часов Михаил уже будет регентом, и Россия станет перед фактом. А не будет монарха – то, по сути, кто же претендует стать самодержавной властью? – да Совет: ведь он, вот, ставит условия существования правительства, он будет его контролировать.
Да, так что же со встречным заявлением ИК? На трёх разных бумажках начерно три разных абзаца – и теперь опять взаимно оспаривать и переписывать начисто? Уже надоело, и нетерпение было, особенно у Павла Николаевича: скорей оглашать, да начинать полноценную деятельность. А вот что. Так как в комнате имелись ножницы и клей – то просто склеили эти три листа бумаги разной ширины и разными почерками. Первым пошёл абзац Нахамкиса, вторым – абзац Гиммера, а третьим – Милюкова. И всё это вместе будет называться «От Исполнительного Комитета СРСД».
Теперь оставалось: на милюковском чистом листе собрать подписи членов первого общественного кабинета и Родзянки (Милюков расписался первый), да перестукать на машинке, да отправлять в типографию, чтоб успело завтра… в газеты? но газет нет… Чтоб успело в «Известия» всё того же Совета депутатов. И – прокламацией для расклейки на улицах.
Все трое встали – и Нахамкис неожиданно обнял Милюкова, даже как бы прислонился поцеловать. (Милюков с горечью сообразил, что, значит, он что-то пропустил, проиграл.)
Нахамкис ушёл. Милюков собирал подписи министров, Гиммер наблюдал. Очень значительно, вальяжно уселся и расписался Родзянко – как будто его подпись только и решала всё. Он доволен был очень, что договорились. Он хотел, чтоб это скорей.
Потом Гиммер унёс всё в печать.
А Милюков обдумывал. Да, очевидно, он принял слишком тяжёлые для правительства условия. И, да, может быть за министерскими расчётами он упустил, что ещё резко может всплыть монархический вопрос. Пожалуй, да, не следовало сегодня объявлять это вслух. Но всё шло регулярно и неизбежно. Через несколько часов Михаил будет регентом, и вопрос исчерпается.
Тут подскочили к нему английский и французский корреспонденты: ведь Европа, ведь союзники хотели и имели право знать, что происходит в туманном и огненном Петербурге.
И всем сердцем любя союзников, Милюков дал им первое правительственное интервью:
– Народный гнев был такой силы, что русская революция оказалась едва ли не самой короткой и безкровной в истории. Нынешние великие события увеличат народный энтузиазм, умножат народные силы, дадут им, наконец, возможность выиграть войну.
– А какова будет судьба монархии?
– Новое правительство считает необходимым, чтобы регентство было временно возложено на великого князя Михаила Александровича. Таково наше решение, и изменить его мы не считаем возможным.
(Пока напечатают в Европе, пока вернётся сюда, а дело уже сделается.)
345
В пути. Шульгин над проектом манифеста.
Только в книгах можно было читать о таких моментах, никогда не мечтая попасть в их сладостно-ужасный водоворот. И редки те счастливцы на целую жизнь, отмеченные богами, кому удаётся пальцы свои приложить к величайшим событиям истории. Шульгину досталось вот уже два, самых крупных: позавчера без выстрела овладеть русской Бастилией, сегодня – ехать к императору за отречением. Это не только станет достоянием твоих внуков, не только твои знакомые ещё много лет будут расспрашивать, но войдёт в учебники, хрестоматии, изобразится в рисунках, как во все великие революции.
Здесь, вблизи, видишь тысячерылую чернь, грязь и мразь, несёшься по этим жутким извивам, – что делать, пусть и они! Ты должен готов быть растерзанным в любую минуту – но и надо признать, как легчают ноги, как будто отчасти летаешь, надо признать.
Упоённый этой необычностью, для себя – Шульгин ничего не хотел. Он – и не вошёл в правительство, взяли кого-то другого, и не важно. Он и сейчас хотел не славы, а только соучастия в трагической и великой минуте.
Как падающая звезда прочерчивает небо сияющей чертою, так пронёсся и ком событий по русскому небу, и Шульгин упоён, что и ему доводится там быть сверкающей искринкой. Он не вошёл в правительство, но – да здравствует новое правительство, и будем все поддерживать его всеми силами, ибо враг у ворот России. Если мы мощно поддержим эту горсточку отважных людей из Таврического дворца – мы спасём страну.
Пусть это странно, оглушительно и ново – что будет с нами самими. Не время задумываться, не будем задумываться, будем верить!
Мысль отказывалась охватить! Ещё четыре дня назад, в воскресенье, когда так таинственно замер и так прекрасен был Петроград перед обвалом, – Шульгин оскорбился бы, если б ему сказали, что вот – когда? в четверг – он осмелится ехать предложить Его Величеству отречение!
Но переворот произошёл так неслыханно легко, безсопротивно, – что вот, он ехал, и казалось ему уже однозначно: Государю и нельзя остаться царствовать.
Да уже этой всей зимой нет-нет да казалось Шульгину, увлечённому неистовыми речами Пуришкевича, всей волной негодования даже дворянских кругов: нельзя этому режиму дальше существовать! Так докатимся мы и до цареубийства!
Да как же Государю остаться царствовать, если месяц за месяцем из общества ему и его супруге бросались в лицо все резкие обвинения – а он никогда не ответил.
Никто никогда ни на одно не ответил.
Одним своим молчанием он почти утерял престол до всякой революции.
А сейчас, когда всё разверзлось и грохнуло…? Там, под сводами Таврического, рядом с Советом рабочих депутатов и видя эти прущие, орущие толпы, – уже почти и представить нельзя, что Государь по-прежнему существует, действует, правит Россией?
Очевидно, ударил час…
Или, может быть, это от неполноты сознания, от смутности в голове, от безсонницы, от усталости? – но как-то перестал видеться другой исход. Наоборот, все поиски выхода для России вытекают – к отречению. Для того, чтобы спасти сам трон и династию.
И разве мало знает история примеров, когда переход власти от монарха к монарху – к сыну, брату, племяннику, дяде, – спасали трон, спасали монархию?
Спасти монархию, пожертвовав монархом.
Ну, и ещё многими бюрократами, конечно.
Это – и самое разумное решение. Если отречение – то революции сразу как будто и не станет, власть мягко перейдёт к регенту, назначится новое правительство, всё законным путём.
В Девятьсот Пятом тоже могло быть сотрясение страшное, но тогда так не был подорван кредит власти, тогда на защите её неколебимо стояла вся гвардия, не бунтовала армия, младшие офицеры не усумнялись выполнять приказы, и так в разгар волнений и вопреки смертным угрозам мог продолжать публиковаться правый «Киевлянин». И когда на балконе киевской думы стали ломать царскую корону, – толпа, слушавшая революционный митинг, ахнула от ужаса, и руки протягивались поднять обломки от унижения.
Но если бы в сегодняшнем Петрограде так – то уже не бросились бы поднимать…
Ах, как много потерял за эти годы Государь! И как много – трон.
Но трон – ещё можно, ещё надо спасти, спасать!
Шульгин едет – именно для того, – вот такая мысль созревала в нём: именно для того, чтоб облегчить Государю отречение. Ведь Государь хорошо помнит Шульгина, ласково с ним разговаривал на приёмах. Шульгин – природный монархист, хотя и член Прогрессивного блока, но самый правый. Он примет отречение тактичней всякого левого, облегчит Государю этот горький момент. Его присутствие рядом с Гучковым, известным ненавистником трона, многое смягчит. В руки верного восторженного монархиста Государю легче будет передать акт.
Только этот акт – не выписывался никак. Не складывались мысли, не складывались фразы. Оттого ли, что такая усталость? что голова разболелась?
С Гучковым мало говорили в пути, оба перегружены мыслями. Шульгин набрасывал что-то, уже в тёмном вагоне, при свете свечи и в покачке, – но сам был очень недоволен.
Ну, «в тяжёлую годину», это конечно… «тяжких испытаний для…» Тавтология, а иначе не получается… «Вывести Империю из тяжкой смуты перед лицом лютого…» «Мы за благо сочли, идя навстречу желаниям всего русского народа…»
А разве – это желание всего русского народа?..
А – как иначе мотивировать?..
«…сложить бремя вручённой от Бога власти… Во имя величия возлюбленного русского народа… Призываем благословение Божье на сына нашего… а регентом…»
Нет, не получалось.
Да и неряшливо выглядела бумага.
Может быть, надо было больше волноваться? Но уже столько волновались эти дни, наступило отупение.
И он снова – отдавался мечтам. Или воспоминаниям.
Воспоминаниям – о встречах с Государем. На приёме волынской губернской делегации. На торжественном приёме в Зимнем дворце. На молебне в Таврическом. Вспоминал несравненно милую улыбку Государя, его никогда не преодолённую застенчивость, нервное подёргивание одним плечом, его низкий, довольно густой голос, чёткую ясную речь с лёгким гвардейским акцентом, его поразительно спокойный взгляд.
Христианин на троне.
Ехал – и любил его. Ехал – и радовался, что ещё раз увидит. Ехал – и надеялся смягчить, облегчить ему роковую неотвратимую минуту.
И вдруг – его прорезало воспоминание: второе марта. Избегнуто страшное Первое марта, – но что случилось второго?
Ах, 2-го марта – да ровно десять лет назад – обрушился думский потолок.
Так вот к чему было это пророчество!
346
Алексеев поддерживает назначение Корнилова. – Ставка нервничает в ожидании отречения.
Тревожное, тягучее ожидание Ставкою отречения прервалось неожиданным образом: с аппарата Ставки принесли телеграмму, направленную не в Ставку, но мимо Ставки – на Юго-Западный фронт, и даже мимо Юго-Западного – командующему корпусом генералу Корнилову: о том, что он назначается Родзянкою командовать Петроградским военным округом!
Каково?! Как быстро расшатываются устойчивые понятия! Едва начали Главнокомандующие неуставные сношения с Родзянкой, – и вот уже он, пренебрегая и Ставкой, назначает прямо Корнилова, снимая его с фронта?
Задержали телеграмму, разумеется.
Но следом подошла смягчительная телеграмма Родзянки в Ставку. Он ещё раз объяснял, почему Временный Комитет Государственной Думы вынужден был взять власть, а теперь передаёт её Временному Правительству. Что и войска, и всё население, и даже члены императорской фамилии признают только эту власть. Но уже для последнего полного порядка, а также для спасения столицы от анархии – необходимо командировать в Петроград доблестного боевого Корнилова – во имя спасения родины и победы над врагом, чтоб не пропали даром неисчислимые жертвы войны.
Интересно, что от ночных слов Родзянки об отречении здесь не было и намёка.
Не успел Алексеев хорошо разобрать этот ребус – пришла поддерживающая телеграмма от генерала Главного штаба: просилось и в ней безотлагательное командирование в Петроград доблестного генерала Корнилова – также для спасения столицы от анархии, но ещё и от террора…
Ещё и от террора?? Где ж «успокоение»?
…и для опоры Думскому Комитету, спасающему монархический строй. Объяснение же давалось другое, чем у Родзянки: что среди войск ведётся разрушительная работа и пропаганда Совета рабочих депутатов, не дающая поставить войска под команду офицеров, так что они переходят на сторону крайней левой рабочей партии.
О-го! Картина в столице представлялась весьма и весьма опасной.
Приходилось выполнить просьбу.
Но где предел обхода устава? Если никто не смел вызвать Корнилова, минуя Ставку, то и Алексеев не мог произвести такого важного назначения без Верховного Главнокомандующего.
Который, как ни устранил себя сам от реального руководства – но и не отказался ещё от него. И находился вполне доступно в штабе Северного фронта.
Оставалось посылать во Псков всеподданнейшую просьбу Верховному на основании телеграммы Родзянки: дать разрешение на отозвание генерал-адъютанта Иванова с этой должности (Родзянко, между прочим, забывал, что не может быть двух командующих в одном округе) – и откомандирование туда Корнилова.
Между тем Брусилову дать предварительную телеграмму: быть готовым к такому откомандированию, боевой генерал с популярным именем может повести к водворению порядка.
Брусилов вскоре отозвался, и неудовлетворительно: к этой должности Корнилов мало подходит, прямолинеен, чрезмерно пылок.
Ревновал, конечно. Да даже и прав: в нынешнюю петроградскую обстановку надо было посылать дипломата, подобного самому Брусилову.
Но назначение – верно задумано. И надо с ним спешить, спасать столицу. И даже не побрезговать Воейковым: передать ему просьбу наштаверха ускорить назначение Корнилова.
Да – там ли ещё литерные поезда?
Да, да, подтверждал Псков, литерные поезда никуда не ушли, но во вторичной беседе главкосева с Государем обстановка видоизменилась, следует быть осторожным. По поводу Манифеста об отречении нет пока указаний. Но сам Данилов думает, что надо подготовиться к его скорейшему выпуску.
А текст уже и был готов!
Передали его во Псков.
Чем могла, Ставка помогала.
Штаб Северного не торопился с ответом.
Снова запрос ему: да передали ли Государю?
Всё передали. Но есть опасение: не оказался бы проект и этого манифеста запоздалым.
Как, и он опоздал?.. Ну, наваливались события! Чего же тогда ещё?
Есть частные сведения, что такой манифест уже опубликован в Петрограде по распоряжению самого Временного Правительства.
Как это может быть? Тогда не отречение, а свержение??
Да, действительно надо торопиться, чтобы было благопристойное отречение.
Даже уравновешенный Алексеев потерял способность заниматься рядовыми делами, только нервно ждал.
Тем временем с Балтийского флота принеслась от Непенина самая свежая, но и отчаяннейшая телеграмма: что он с огромным трудом удерживает в повиновении флот и уж конечно присоединяется к ходатайствам об отречении. Если это решение не будет принято в ближайшие часы, то последует катастрофа с неисчислимыми бедствиями для родины.
На Алексеева эта телеграмма как хлестнула валом, ударила в лицо. Балтийский флот – на грани анархии!
Если немножко точило его какое-то сомнение весь день, то этим ударом вышибло. Всё верно! – только отречение! И как можно скорей!
А с Черноморского гордый Колчак так и не ответил ни слова.
Лишь в половине десятого вечера пришло согласие Государя на назначение Корнилова и отозвание Иванова.
А о манифесте – ни слова…
Когда же?..
Теперь-то, внутренне выполнив обязательный служебный цикл, мог разрешить себе Алексеев и вольность: в ответе Родзянке уже не упоминать процедуру с государевой подписью, может быть сомнительную и устаревшую, но: моим приказом командир 25-го армейского корпуса генерал-лейтенант Корнилов назначен командующим Петроградского округа.
Через Родзянку пытался Алексеев снестись и с Ивановым: отозвать его окончательно в Могилёв.
И опять переговаривались с Северным фронтом: когда ж наконец они пошлют офицеров связи к Иванову? И где он находится?
Где находится – сами не знаем.
Закрадывалось к Алексееву подозрение, ведь он был прост, а Государь уклончив и скрытен: а не ведёт ли он двойной игры, и пока обещает манифест – не двигает ли Иванова куда-то дальше? А сам – вот улизнёт из Пскова, так и не даст отречения?
Как там с литерными? На месте ли?
Да, да. Приехали Гучков и Шульгин и приглашены в вагон к Государю.
Ну, наступили исторические минуты.
Добивались и с Кавказского фронта, для Николая Николаевича: отрёкся уже или ещё не отрёкся? Августейшему Главнокомандующему чрезвычайно важно знать.
Напряжённо ждала Ставка каждого нового сообщения с аппарата.
А ленты текли самые ничтожные, никак не в уровень с событиями. От Квецинского: что из Великих Лук на Полоцк едет какая-то депутация до 50 человек от нового правительства и обезоруживает на всех станциях железнодорожную охрану. Затем и Псков подтвердил, что от Бологого поехало три таких депутации по трём направлениям и обезоруживают жандармов. Говорят – уполномоченные нового правительства.
Просил теперь Эверт снестись с Родзянкой и уговориться всё же о таком правиле, чтоб о всяких командировках на фронты сообщалось бы Главнокомандующим предварительно. Не самозванцы ли едут?
Совсем не час был заниматься этой депутацией, и Алексееву не до того, и Родзянке, – но поезд продвигался и в зоне военного командования разоружал военную охрану!
Пришлось Алексееву телеграфировать Родзянке, что этак правда нарушается существующий в армиях порядок, должно же новое правительство с ним считаться. Просит наштаверх не отказать преподать указание: что ж это за депутация?..
347
Первое заседание Временного правительства.
Ну что ж, если новое правительство уже было составлено, и обнародовано, и согласовано с Советом депутатов, – так отчего бы ему и не начинать осуществлять власть? Правда, день был – объявительный, торжественный, и уже опять к ночи, – но ведь обстоятельства не терпели. Да и удобно, что члены правительства в большинстве как раз все здесь, ещё не разошлись.
Правда, они не были в комнате одни: тут же, деля с ними клочки столов, хаотические стулья и места на диване, теснились и члены временного Думского Комитета. Все эти дни физически люди тут не разъединялись, они были – единая головка Думы, секреты общие, разговоры общие. Но составилось правительство, и прошла новая изломистая грань между ними, пока ещё стеклянная, ещё видно насквозь и голоса слышны, – а уже решительная грань. Керенский перестал быть чужим, советским, перестал быть чужим Терещенко, а уж тем более князь Георгий Евгеньевич, – а вот члены Думского Комитета, вчера, даже сегодня утром неразличимо свои, – уже ощущались явно как чуждые и мешающие.
И сейчас члены правительства, готовые начать заседание, но не имея для того отдельной комнаты, – владея всей Россией, но не имея комнаты для заседаний, – несколько смущались и переглядывались. Они сами ещё не знали, о чём будет их заседание, насколько конфиденциально потекут их разговоры, – но было бы профанацией их нового министерского звания вести беседу при посторонних.
Очевидно… очевидно, надо было попросить остальных выйти, оставив им эту последнюю, тупиковую, комнату.
Но небесноглазый, добрейший князь Георгий Евгеньевич не мог решиться вымолвить такую невежливость.
Доставалось проявить твёрдость Милюкову? Он мог, конечно, но печально, что по первому ничтожному поводу, с первого волоска, ему уже приходилось заменять собою премьер-министра.
Однако он не успел достаточно нахмуриться и шевельнуть сероватыми усами, как обер-прокурор Святейшего Синода, подкоротивший разбойную бороду, но с такой же безуминкой в прыгающих бровях и блистающих глазах, – глядя прямо в лоб помятого, но всё ещё величественного Родзянки, выпалил более несдержанно, чем даже требовалось:
– Господа члены Комитета! Мы, члены правительства, желали бы остаться наедине.
Грубо, но отметим, что этот второй Львов в иных случаях может очень пригодиться.
Родзянко, как дразнимый бык, посмотрел на задиру Львова. На других. Пощурился. Изумление выразилось на его крупном лице: в собственном здании Таврического теснила его революция, буйные толпы, – но чтобы свои думцы?
Однако и… И возразить как будто было нечего.
И он понёс свою печаль в другую комнату.
А – только бы Родзянку вытолкнуть, остальные выталкивались уже легко.
И вот – новое правительство осталось само с собою и – рассаживалось. Кого не было? Гучкова. Шингарёва. Этот всё дорабатывает в продовольственной комиссии. Ну, пусть.
Как новенький серебряный рубль среди потускневших, изо всех выделялся новый министр финансов Терещенко – такой свежий, молодой, одетый взыскательно, нисколько не сбившаяся бабочка на свежейшем крахмальном воротнике, такой белейший уголок платочка из нагрудного кармана, – при остальных помятых и неприличной чёрной куртке Керенского.
Рассаживались. Пусть не за единым большим столом, а кто где, малоудобно, – но трудно было не почувствовать великую минуту России. Исполнилась вековая мечта народа! О чём грезили массы, за что отдавали жизнь борцы, – первый общественный кабинет России, одарённый народным доверием, и ответственный не перед царём, а перед парламентом, – вот, наконец собрался, начинал работать!
Вся история России делилась этим моментом на две эры: эру неволи и эру свободы.
Так. Все друг друга более или менее видят и слышат. Так. А ведь – нет секретаря. Ни одно заседание, ни один шаг этого правительства не могут миновать журнала заседаний. Формируясь, как-то не подумали о секретаре. Надо будет подыскать, и – высокообразованного, талантливого, просто выдающегося человека. А пока сейчас…? Оглядывали друг друга и не могли найти секретаря. Министр просвещения? – не справится. Коновалов – тоже не успевает, медлителен. Владимир Львов? – слишком нервный. Терещенке неудобно предложить, а уж Керенскому – тем более: и самый левый, и вечно деятельный, комок энергии, он может в любую минуту вскочить и убежать, никого этим не удивив. И получалось чуть ли не что – опять Милюкову?
А какая же повестка заседания? Это не было подготовлено.
Керенский – сидел здесь из чинности, из приятства, но он не нуждался в соображениях министров, чтó ему делать с юстицией: программа ясна – расширять свободу безгранично, и он уже начал.
Так же и Милюков, тончайший специалист в нюансах международных отношений, не нуждался в советах своих коллег, знал сам.
Тактичнейший председатель, князь Георгий Львов, руководил заседанием с величайшим внутренним смущением. Как ужасно отличались условия взятия власти от того, как это представлялось всегда раньше! Уже сегодня днём кричали в Екатерининском зале, что князь Львов возглавляет общественность только цензовую. И как же теперь это общественное недовольство ввести в русло? Крайне сомнительные условия – и почему именно он должен нести ответственность?
Однако видя, что его коллеги не спешат высказываться, князь Львов в осторожной форме выразил сам ту мысль, что, приступая к деятельности, новое правительство нуждалось бы определить объём своей власти. Вдаль во времени эта власть ограничивается предстоящим Учредительным Собранием.
Да. Как ни замечательно, что они получили власть, но на Учредительном Собрании их власть должна неизбежно окончиться.
А – до этого? А до этого хотелось бы, чтобы власть была как можно более полной и суверенной. Это надо обосновать теоретически: к кому именно перейдёт полнота власти? Правильно было бы считать, что она переходит именно к правительству. Неправильно было бы считать – что к Государственной Думе. Представляется весьма сомнительным, чтобы Дума могла возобновить свои занятия в этой обстановке: правая часть депутатов утеряна, они не посмеют явиться; да и вся Дума окажется слишком правой для нынешнего течения событий. Да и – переизбираться ей этой осенью. Она будет сейчас только стеснять правительство.
Да ведь и есть некоторые деликатности – ну, хотя бы, как подобрались министры, как сложилось правительство, какие отношения с Советом, – не всё это можно огласить в Думе. Удобнее действовать без думских заседаний.
Родзянко этого, конечно, не вынесет. Ему открыто об этом даже и говорить нельзя.
Но если стеснительна была бы Государственная Дума – то тем более Думский Комитет, зачем тогда он? Это некий дубляж правительства, это совсем недопустимо.
Но и этого, тем более, пока нельзя высказывать Родзянке.
В чём будет, господа, особая сложность деятельности нашего правительства? В том, что, как всем ясно, весь состав основных законов Российского государства перестаёт существовать в один миг. А новые законы выработаются ещё очень-очень нескоро. Итак, мы будем действовать как бы в безвоздушном пространстве. Вот почему нам особенно нужна полнота власти. Нам предстоит не только исполнительная деятельность, но и законодательная. Мы – сами должны выработать те нормы, которые будем признавать соответствующими в данный момент.
Продуктивно бы устроить как бы такую продлённую, перманентную 87-ю статью: принимать законы без парламента.
А если ещё учесть общую анархию? И что нам придётся считаться с мнением Совета рабочих депутатов?
Господа, такого вмешательства в наши действия мы не можем допустить, мы тогда перестанем быть правительством.
Но реальные обстоятельства заставляют нас считаться.
Ну, тогда надо как-то неофициально узнавать желания Совета депутатов – ещё до официальных заседаний Совета министров. Да вот – через Александра Фёдоровича?
А вот, как раз, в частных контактах стало известно, что Совет рабочих депутатов высказывается за выдворение всех членов дома Романовых за пределы Российского государства.
Да-а-а-а?..
Наступила тяжёлая тишина. Страшная выдвигалась голова этого Совета рабочих депутатов: ведь на официальных переговорах согласились не ставить вопрос об образе правления, а вот в частных контактах наших доверенных коллег… Неизвестно кто, но тем страшнее, высказал мнение, что…
Но, простите, это выглядит как абсурд. Как же тогда может династия продолжать оставаться…?
(Тут ещё прикатил по городу слух, что умер наследник. Звонили доктору Боткину, – нет, жив.)
Может быть – для некоторых членов династии?.. Может быть – ограничить пребывание известными пределами, но внутри России?..
А некому было дальше ответить: ведь это – контакт , он был, миновал, не видно никакого лица.
Сидел Некрасов, остроусый, замкнутый, с горбинкой на носу. Выставил Коновалов толстые губы без движения. Именинно сиял Терещенко.
Так как все знали, зачем и куда поехал Гучков, то, может быть, не сегодня следовало этот вопрос обсуждать? Можно пообождать.
Но соотношение с Советом депутатов останется самой щекотливой проблемой правительства…
Теперь: какие деловые вопросы необходимо Совету министров обсудить тотчас же?
Министр финансов возбуждает вопрос о праве выпустить бумажные деньги на сумму 2 миллиарда рублей.
Ну что ж, если это необходимо… Действительно, после такого государственного сотрясения…
А любезный, милый председатель Совета министров затрудняется (как это и можно было ожидать) одновременно выполнять две роли, ещё и министра внутренних дел. И поэтому он думал бы оставить за собой лишь общее руководство, а непосредственное заведывание делами министерства внутренних дел, всю практическую работу – передать своему помощнику в головке земсоюза, очень обещающему Дмитрию Митрофановичу Щепкину… (Он помог князю Львову и в декабре, огласить самую резкую из противоправительственных резолюций.)
Первое пожелание премьера не могло же быть отвергнуто.
Значит, этот делопроизводитель невольно станет теперь как бы членом нашего правительственного кабинета?
Ну что ж… Ну, придётся…
348
Загаженность Таврического. – Тревога офицеров перед Родзянкой. – Отступление Милюкова.
А в десятом часу вечера Таврический дворец опустел: главные жители – бродячие солдаты, уже не боялись ворочаться к себе в казармы, уже знали, что их наказывать не будут, а скорей офицеров расстреляют. Хотя с дворцового входа стража ушла – но и во дворец уже никто не пёрся. Опустел и Екатерининский зал, где днём толпился постоянный митинг, опустело и крылечко хор, откуда постоянно кричал какой-нибудь оратор, опустели от брошюр столики агитаторов, уходили домой барышни, раздававшие брошюры, – и только на колоннах, приклеенные, оставались названия партий да лозунги, крупно коряво, от руки: «В борьбе обретёшь ты…», «Пролетарии всех стран…» – по новым понятиям они были святы, и никакой пристав или служитель Думы не смел их снять. Да не осталось теперь ни приставов с цепью на груди, ни служителей, никто это здание, кажется, уже не убирал, и хорошо, что кочегары не ушли, топили, – а уйди кочегары, и разбежалась бы цитадель революции. Много ободрали и попачкали красной шёлковой материи на скамейках, белые мраморные колонны стали рябые, в черно-пепельных точках от гасимых цыгарок, всюду на полах было наплёвано, насморкано, валялись окурки, разорванная бумага, и всё в грязи от сапог, – да вряд ли был смысл сегодня это всё убирать, завтра опять навалят. Выключили большие лампы, в полутёмном зале изгаженье меньше виделось.
В Купольном зале посвободнело: увезли из Таврического взрывчатые вещества, часть крупного оружия, мясные туши, что по делу, а что люди разобрали понемногу себе. А какие-то кули оставались, до сих пор стоял дизель, две швейных машины.
Смирно вёл себя 2-й этаж, с арестованными. Тесно набитые по комнатам, лёжа на полу, полицейские и жандармские офицеры и арестованные чиновники радовались, что они хоть и в тесноте да в безопасности.
Хотя и шныряли ещё люди кое-где по коридорам, через залы наискосок, по бывалому мирному времени это выглядело бы возбуждением, тревогой, – а сейчас казалось безлюдьем, отдыхательной тишиной, первым таким вечером. Огромная буйная невместимая революция, четыре дня бушевавшая тут, опростала дворец, вывалила куда-то прочь.
И в этот первый тихий и полутёмный час вышел на обход дворца его главный хозяин.
Если и всем думцам был оскорбителен загаженный вид Екатерининского зала – то каково ж Председателю! И нельзя приказать сдёрнуть эти отвратительные тряпки с надписями. Вся слава общественной России, собранная в этой Думе, в этом зале, вот теперь как гадко, неприглядно обернулась. Революция гигантски ступала в светящееся будущее, но оставляла мерзкие следы на паркете.
Отошла Революция! – вот сейчас первый раз это ощущалось, уже ушла куда-то вперёд от думских помещений.
И от самого Родзянки.
Собрался наконец тот Общественный Кабинет, который так долго маячил перед Россией, которого ждали, задыхаясь, – а самый крупный, а самый главный, а самый первый в него и не вошёл.
Поймут ли?..
Поймут ли, что он, своими большими руками совершивший всю эту революцию, отстоявший её перед троном и спасший от подавления, – вот, для себя самого ничего и не взял. Первый кандидат передо всею Россией – вот, не вошёл в правительство.
Должны оценить.
Хотя горько.
Он медленно ходил через зал. И старался думать о будущем. О том, как со славой вести теперь Думу, первый свободный русский парламент.
Вдруг послышался шум от входа из Купольного – громкие шаги и перебив голосов.
Это была группа офицеров – и направлялась прямо к нему, узнав конечно сразу.
Они так отмахивали руками на ходу, так нестройно громко говорили – даже не похоже было на офицеров. Один высокий драгун, двое егерей, трое измайловцев, старше капитана тут не было.
– Кого вы ищете, господа?
И – несдержанно, крайне взволнованно:
– Господин Родзянко!
– Ведь вы же опять…! Мы жить так не можем!
– Ведь вы же нас ставите в крайнее…!
Они говорили почти все сразу, и Родзянко, почти все сразу лица их видя, не успевал различить отдельных, а все они были на одно лицо – отчаянное.
Что ж оказалось? По казармам разнеслось, что сказал Милюков – остаётся династия Романовых, и началось буйство: не потерпим! будем убивать офицеров!
– Вчера ваши призывы, господин Родзянко, возвращаться в строй были поняты так же, нас грозились убивать, выгоняли из казарм… А теперь – опять. Господа! Подумайте же о нас! Что же вы делаете?..
Хотя и слова «династия», конечно, солдаты не знали, да и «Романовых» из пяти один, – но что-то происходило, не сошлись бы эти офицеры из разных полков сюда, в одно время…
А Родзянко тоже был человек и не мог обдумывать теперь хладнокровно. Ещё со вчера не утихла в нём собственная опасность, когда грозились убивать его самого, – и тем острей и сочувственней он перенял офицерскую тревогу, да со всем взлётом своего могучего сердца:
– Ка-ак? – почти заревел он. – Опять??
Не могли так жить несчастные офицеры! Не могла так стоять славная армия! Не могла дальше так развиваться Россия!
– Пойдёмте! – скомандовал офицерам старый кавалергард и отправился впереди их кучки, так же размахивая руками и клокоча.
Он гнал скорей, чтоб это клокотанье не разорвало ему грудь, а – выбросить Милюкову в лицо.
Там в комнате сидело их несколько, всё члены нового правительства, не приявшего в себя гиганта Родзянку, – и он, как бы ворвавшись во главе этой кучки офицеров и сам коренной офицер, чего они, штафирки, перечувствовать не могли, – за всех громко бросил Милюкову:
– Что же вы делаете?! Из-за вашего заявления офицеры не могут вернуться к своим частям! Вы губите армию! После вашего заявления…! Теперь надо спасать офицеров, это наш долг!
Ещё и горькое удовлетворение испытывал он, выговаривая этому осмотрительному, сдержанному, злому коту Милюкову, из-за которого столько…
Милюков поднялся. Никогда не красневший, он, кажется, даже едва покраснел. О каком заявлении его – он сразу понял, уже накорили.
– Но, – возразил он твёрдо, – мы же не можем в угоду частным ситуациям… Если таково наше общее принципиальное мнение… – и оглядывал за поддержкой сидящих за столом министров – настолько новоназначенных, что ещё и сами не привыкли к звучанию этого звания. – Мы все так думаем и не можем… – это прозвучало у него уже менее твёрдо.
Этот увалень Родзянко последние часы как скатывался камнем с горы, всех опережая в падении: уж он и торопил соглашение с Советом, уж он и подписался под его условиями. Лишь два часа назад он с гордостью открыл министрам, что держит постоянную связь с Михаилом и уже подготовил его к регентству, и может немедленно великого князя привлечь к делу. И вдруг вот – уже стряхивал и монархию?
Князь Львов за столом на бархатном стуле ровно и безпечно сидел, хотя и лицом к возбуждённой ворвавшейся группе. Смотрел ласковыми глазами. Не совсем понимая. Не переняв волнения.
И сидел другой Львов, верзилистый, с голым черепом и разбойничьей чёрной бородой, того гляди бросится кусать или бить? Он ляпнуть мог в любую минуту самое вредное.
А Некрасов лицо своё носил как готовую фотографию: можно сколько угодно её рассматривать в неподвижности и непроницаемости: усы не шевельнутся и прикрывают замкнутые губы от всякого выражения, ни одной живой черты на гладком лице, и глаза таинственные уставлены как уставлены.
Да уже знал о нём Милюков, что он – за республику. Во время министерского торга он это на бумажке писал, показывал, другим не слышно, и сам же бережно изорвал. И про офицеров он уже выражался, что они – действительно старорежимные, и агитируют за старый режим, – и вот ставят министров в неловкое положение.
И понял Милюков, что не от них троих он получит поддержку.
Ещё профессор Мануйлов сидел, министр просвещения, и от этого не ждать.
И, наконец, вертелся на своём стуле Керенский, с узкой отутюженной головой, то оглядываясь на офицерскую группу с богатырём Родзянкой, то на дремлющих коллег по кабинету, на Милюкова, теряющего уверенность. Он был как бы гимназист, может быть и медалист, но сразу назначенный директором гимназии, и этим одним упивался, а образ правления? Ну просто смешно, ну всем известно, что он – за самую крайнюю республику.
И – кто же тогда в правительстве ещё поддерживал Милюкова с его несчастной идеей о продолжении династии? Гучков? Но пока он там во Пскове что-нибудь успеет – мы тут всё проиграем.
А самый верный монархист Родзянко, вот, стоял во главе гневных офицеров! Он так упрекал Милюкова, будто сам отрёкся от династии уже давным-давно.
И Милюков ощутил внезапную потерю всякой опоры – не то что пола, спинки стула, но даже – воздуха. Он мог бы читать им долгую лекцию о преемственности государственной власти, но безнадёжно было привлечь их на поддержку. Конституционная монархия была для него догмат, необходимая ступень развития к республике, и не приходилось доказывать этого однопартийцам-кадетам никогда, все думали так всегда, и весь Прогрессивный блок так думал, – и вдруг в один миг в этом новом сотрясённом мире Милюков остался среди всех один.
Да, все думали, что надо ему отказаться от своих слов!.. Зачем же вызывать новое раздражение, теперь уже против нового правительства?
Но он – не хочет отрекаться, он – так думает, – отпирался, необычно растерянный. Тут ещё и голоса не стало, он совсем надорвал его в зале.
– Тогда заявите, что это – не мнение правительства, а ваше частное, личное, – выдвинулся Некрасов.
Вот так тáк, на первом же шагу предстояло отрекаться!..
И надо поспешить дать это заявление корреспондентам, чтобы появилось завтра в газетах.
349
Гучков и Шульгин в царском вагоне. – Отречение Николая Второго.
С красными лентами через чугунную грудь и с красными флажками локомотив подкатил на псковский вокзал два вагона невдолге до десяти вечера и невдали от той платформы, у которой стоял царский поезд литер «А». Парные часовые у Собственного поезда, чины охраны и свиты остолбенели, увидя при станционных фонарях, как из пришедшего служебного вагона выскочило несколько солдат с красными бантами в петлицах, а винтовки таща как удобней по неумелости, – зримое видение революционного Петрограда. Подошедшие вагоны остановились у соседней платформы лишь немного наискосок от царского салон-вагона. С задней площадки второго вагона гражданский молодой человек, тоже с красным бантом, заприметив станционных служащих да случайных прохожих, стал раздавать им листки. Брали, кто неуверенно, кто охотно. Расходились с ними. Приходили другие желающие взять.
Генерал Рузский непременно хотел перехватить депутатов, зазвать их к себе, минуя царя. Для этого он отдал распоряжения и сам не уезжал в город, сидел в своём вагоне на вокзале, а Данилов из города из штаба присылал сюда ему приходящие документы – ответные телеграммы Сахарова, Непенина, телеграмму о назначении Корнилова, затем разработанный в Ставке проект Манифеста об отречении. Рузский отсылал эти все документы Государю, сам избегая видеть его, желая сохранить при себе отречную царскую телеграмму, – и устоял при повторных требованиях, не отдал сокровища. Боялся он поворота государева настроения за эти лишние часы. Для того Рузский и должен был первый видеть депутатов, чтоб объяснить им, как далеко уже ослаб и подался царь, чтоб их давление оказалось не робче. Беспокоило его, что едет Шульгин, известный монархист, впрочем последние полтора года и верный член Прогрессивного блока. Петроградская обстановка загадочно колыхалась, переменялась, можно было ждать и поворота. Не успел Рузский погнать Родзянке заверительную телеграмму, что по его желанию Корнилов вот уже назначен в Петроград (не должный по службе этого слать, но благоприятно представиться перед могущественным Родзянкой), как пришло – скорее слухом, чем донесением, – что несколько броневых автомобилей, нето грузовиков с вооружёнными солдатами движутся от Луги ко Пскову. И – как это надо было понять и что делать? Противодействовать войскам нового правительства Рузский никак бы не смел, однако и пускать возбуждённую банду в расположение штаба фронта – тоже?
Но как ни сидел он на нетерпеливых иголках в своём вагоне на другом конце вокзала, ничем больше не занимаясь, только ожидая, – упустил, доложили ему с опозданием.
И Гучков с Шульгиным тоже хотели сперва увидеть Рузского, чтоб узнать точно все обстоятельства и не сделать неверного шага. Но не успели они выйти из вагона и выслушать напряжённо-торжественный рапорт станционного коменданта (так приказал ему Рузский) – как вплотную к депутатам подошёл подстерегавший их флигель-адъютант и пригласил к Государю. И отказаться было невозможно: не только по представлениям вековым, но и – выглядело бы неуверенно, портило бы саму их миссию.
И грузноватый, приземистый, чуть прихрамывающий Гучков, в шубе богатого меха, и легко одетый тонкий, высоковатый Шульгин в котиковой шапочке – пошли к царскому вагону, будто так и думали начать, спустились на рельсы, вступили на другую платформу.
По пути флигель-адъютант Мордвинов спросил Шульгина, что же делается в Петрограде, и тот, по молодости, по впечатлительности, не сообразуя со своею миссией, откровенно ответил:
– Что-то невообразимое! Мы всецело в руках совета депутатов, уехали тайком, и нас, возможно, арестуют, когда мы вернёмся.
– Так на что же надеяться? – изумился Мордвинов.
– Вот надеемся, – искренно сказал Шульгин, – что Государь нам поможет.
Вошли в столовую часть вагона. Скороход помог депутатам снять пальто. Через двери они перешли в салон. Он был залит ярким светом при зашторенных окнах и лощёно чист, от какой чистоты депутаты уже отвыкали за эти дни в Петрограде. Светло-зелёной кожей обиты стены. Пианино. Небольшие художественные часы на стене.
Тут встретил их с расторченными седыми усами худой, глубоколетний, желтовато-седой генерал с аксельбантами – министр Двора граф Фредерикс. Он многие годы сберегал высокую, ровную фигуру, но теперь согнутье спины уже и крючило его. Однако он был безупречно наряден, и портреты трёх императоров в бриллиантах на голубом банте напоминали дерзким депутатам, куда они явились. У него было своё неотступное спросить о Петрограде – о разгроме своего дома и что жену увезли неизвестно куда, – но он находился при исполнении обязанностей выше его самого и ни о чём не спросил.
А Гучков, здороваясь с ним, это самое и выговорил запросто, или даже рассеянно, почти как говорят дежурную любезность: что дом министра разгромлен, и он, Гучков, не знает, что сталось с семьёй.
Гучков переступал тяжёлыми ногами, как победивший полководец, приехавший диктовать мир. А Шульгин застеснялся: он ощутил себя совсем не к императорскому приёму, не вполне помыт, не хорошо побрит, в простом пиджаке, уже четыре дня в таврическом сумасшествии. Только сейчас он сообразил, насколько далеки они от церемониала, насколько внешне не подготовлены присутствовать при великой минуте России.
Государь был в соседнем вагоне и тут вошёл – не обычной своей молодой лёгкой походкой, однако стройный, как всегда, ещё и в пластунской серой черкеске с газырями, в полковничьих погонах. Лицом он был отемнён и во многих глубоких морщинах, набежавших за последние дни. Он не стал церемонно, чтобы к нему подходили, но сам подошёл и очень просто здоровался, в пожатии у него была крепкая рука.
Дожил император! Своего семейного, личного врага он ожидал как избавителя и сердцем торопил встречу все эти ужасные семь часов от дневного отречения до приезда депутатов. За эти семь часов он выдержал со свитой чай, обед. И читал подбодряющую телеграмму Сахарова. И безнадёжную Непенина: что если отречение не будет дано в несколько ближайших часов – наступит катастрофа России. И в телеграмме Алексеева уверенное заявление Родзянки о сформировании самозваного правительства, и как оно само себе выбрало генерала на Петроградский округ. И несколько раз перечитывал проворно подготовленный дипломатической частью Ставки Манифест об отречении, впрочем благородный.
Вероятно (он боялся), в этот раз глаза его не скрыли и растерянности и надежды: может быть, депутаты привезли ему смягчение? Он спешил угадать: чтó привезли? Он готов был на ответственное министерство и готов был своего ненавистника Гучкова сделать председателем Совета министров (и потом работать с ним и сносить его доклады), – только бы окончилась эта мучительная тяжба с Петроградом, а сам император мог бы безпрепятственно следовать в Царское Село.
Так известны были здесь все лица, что встречавшим не пришёл даже вопрос – спросить у приехавших полномочий от Государственной Думы на этот приезд и переговоры. А депутаты даже ни минуты не подумали ни в Петрограде, ни по пути о таких полномочиях.
Они сошлись как лица несомненные и в обстоятельствах несомненных.
Несомненных – но достаточно ли известных Государю тут, во Пскове?..
Государь сел к небольшому квадратному столу у стены, с каждой стороны на двоих, слегка ослонясь о зеленоватую кожаную обивку стены. Гучков и Шульгин – по другую сторону, против него, Фредерикс – на отдельном стуле, посреди комнаты. В углу, за другим маленьким столиком, – свитский генерал Нарышкин, начальник военно-походной канцелярии, занёс карандаш над бумагой, записывать.
Понимая, что главный из двоих – Гучков, Государь именно ему кивнул говорить.
О, сколькое мог Гучков высказать этому человеку! Сколько уже было между ними докладов – в Девятьсот Пятом и Шестом году принятых доверительно, так что возбуждалась большая надежда на действие; потом, председателем 3-й Думы, непонятых, отвергнутых. И ещё сверх того в разное время сколько готовил Гучков мысленных докладов царю, монологов к нему, разоблачительных писем! Не изгладился, не забылся ни один рубец минувшего десятилетия. Но – ускользнул уклончивый венценосец ото всех тех монологов, утекло время, – и выговаривать всё то сейчас упречно – было поздно, разве только наслаждением мести. И – улавливал Гучков сейчас в глазах царя и невраждебность, и – неуверенность.
Так надо было идти кратчайшим путём прямо и – доломить августейшего собеседника, не дававшегося никогда до конца.
И Гучков стал говорить – просто, по очереди, как оно всё есть:
– Ваше Величество. Мы приехали доложить о том, что произошло за эти дни в Петрограде. И вместе с тем… посоветоваться, – (это он удачно выразился), – какие меры могли бы спасти положение.
К чему он не стремился – это к краткости. Путь до конца и желательный вывод был ему чрезвычайно ясен, но и сам он не мог его выговорить без подготовки, – и тем более в подготовке нуждался император. Именно долготой, обставленностью, убедительностью речи мог Гучков лучше протолкнуть царя через предстоящую хлябь колебаний и сомнений. И вот он подробно рассказывал теперь, как это всё началось, сперва с разгрома булочных, с рабочих забастовок, разные случаи с полицией, как перекинулось в войска, какие пожары учинились, всё и правда стояло перед глазами, – эти пожары, и костры на улицах, автомобили со штыками, депутации к Таврическому. Каков паралич прежней власти. Как шли под снегопадом пулемётные ораниенбаумские полки… А затем – как и Москва присоединилась вся дружно и без борьбы. То, что в обеих столицах не было сопротивления, особенно важно было для его аргументации, да это и самое поразительное было: власть оказалась даже и несуществующей!
– Вы видите, Ваше Величество, это возникло не от какого-нибудь заговора или заранее обдуманного переворота… – Он не задумывал так выразиться, но язык выразился сам, невольно влачась на место преступления, как тянет часто преступника. – Но это – народное движение, которое вырвалось из самой почвы и сразу получило анархический отпечаток. И именно этот анархический характер движения наиболее пугал нас, общественных деятелей. И, чтобы мятеж не превратился в полную анархию, – мы и образовали Временный Комитет Государственной Думы. И начали принимать меры, чтобы вернуть офицеров к командованию нижними чинами. Я сам лично объехал многие части и убеждал нижних чинов сохранять спокойствие. Однако кроме нас в том же здании Думы заседает и другой комитет – рабочих депутатов, и мы, к сожалению, находимся под его властью и даже под его цензурой. Их лозунг – социалистическая республика и землю – крестьянам, а это захватывает солдат. И есть опасность, что нас, умеренных, сметут. Их движение захлёстывает нас. И тогда Петроград попадёт весь в их руки.
В таком раскрыве истинного состояния была, может быть, нерасчётливость, которой Гучков не учёл: ведь их Временный Комитет считали здесь всевластным правительством, только потому и переговоры вели, а иначе: кто они? зачем?
Но, иногда встречая неприкрытые искренние глаза Государя, Гучков уловил, что в глазах его вот погасают какие-то слабые блески надежды, которые, кажется, были вначале. Такая полная правда имела, очевидно, влияние на Государя более верное: они, приехавшие, – умеренные, а не лютые враги престола, как рисовалось когда-то, и возникал наклон: не подчиниться им как реальной власти, но – помочь им как, оказывается, полусоюзникам.
Иногда Гучков взглядывал в лицо Государя, но большую часть речи даже и не смотрел, с приопущенной головой, глаза в стол, – лучше ли сосредоточиться? или стесняясь слишком открыто торжествовать над давним врагом? Почему-то он избегал прямого взгляда.
Он волновался. Говорил глухим голосом, с остановками, не везде согласовав.
А Государь, полуспиной отслонясь к стенке вагона, тоже опустил голову и перестал смотреть на Гучкова.
Они разговаривали, как если бы были разъединены не этим столиком, но сотнями вёрст телеграфной проволоки.
А вот – безусловно убедительный и выигрышный поворот, который здесь должны почувствовать наилучше: чтó, если мятежное движение перекинется на фронт? Ведь всё – горючий материал, и всякая воинская часть, попав в атмосферу движения, тотчас и заразится. Поэтому посылать против Петрограда войска – безнадёжно: соприкоснувшись с петроградским гарнизоном, они неминуемо перейдут на его сторону.
Такого случая ещё не было, с Бородинским полком произошло вовсе не то (впрочем, царь, наверно, и не знает того случая). Однако Гучков не только пугал, но и сам был уверен. Ещё и развязный лужский гарнизон виделся ему – ведь это уже не Петроград, отчего бы не пошло так и дальше?
– Всякая борьба для вас, Государь, безполезна. Подавить это движение – не в ваших силах!
Так ли, не так ли, сгущалось ли, чтоб отбить надежду у царя и скрыть, чтó вызывало растерянность самих думцев? Государь – не возражал, не оспаривал. Склонённая голова его была неподвижна, и лицо непроницаемо. Он сидел, кажется, самым спокойным изо всех.
Он и всегда – волновался только перед решительным моментом, а с началом его успокаивался. А сейчас – совсем успокоился, узнав, что никакого облегчения ему не привезли. Вместе с последней надеждой он утерял и последнее волнение. С безразличием слушал – как что-то новое? или только проверял в себе решённое?
Ещё он про себя удивлялся, как прилично, не дерзко ведёт себя Гучков. Он ожидал оскорбительного поведения.
За дверью едко кого-то добранив, почему не прислали депутации сперва к нему, вошёл Рузский. Не спросил ни дозволения присутствовать, разве кивком головы, ни – сесть четвёртым за их столик, – а сел, через угол от Шульгина, с третьей стороны стола, досадливо перебирая шнуры аксельбантов.
В ровном голосе Гучкова стали выделяться молоточные нотки. Он как будто хотел наконец удостовериться, пронял ли он царя. Неумолимо рассказывал, как приходили приветствовать Думу и признать её власть – депутации Собственного Конвоя, Собственного железнодорожного полка, Сводного гвардейского полка и даже – царскосельской дворцовой полиции. Все, все доверенные, кто имел касательство к охране личности Государя.
И действительно, можно было заметить, что это Государя забирало: задвигались брови, дёрнулось плечо.
А Гучков истолковал невероятное спокойствие царя до сих пор – его пониженной сознательностью, пониженной чувствительностью, как думало о нём всё общество. Он и сам не забывал никогда поразительное спокойствие Государя на аудиенции в Петергофе летом 1906: рядом с восставшим Кронштадтом – такое невозмутимое спокойствие! Гучков тогда из этой царской безмятежности вывел, что – все погибнут, Россия погибнет. И сейчас он думал, что не может нормальный человек так спокойно выслушивать такие ужасные для себя сведения. А что Государь именно в мелкий момент выразил волнение, было доказательством того же: среди страшных дней России не это ли первое его поразило? Если б не измена Конвоя – понял ли бы он, над какою пропастью стоит?
И, ещё развивая этот мотив: всем этим частям приказано продолжать охрану лиц, которая им поручена. Однако другие царскосельские части – в мятеже, и вооружена простая толпа, и опасность (Гучков не вымолвил прямо: для вашей семьи) – конечно существует.
Он – сбивал императора со спокойствия.
Но тот – опять не выказывал ничего.
Всё-таки, несмотря на всю его простоту, что-то в нём не давало забыть, что он – царь.
Итак, Думский Комитет – все сторонники конституционной монархии. А в народе – глубокое сознание ошибок власти и именно – Верховной власти. И поэтому нужен какой-нибудь акт , который воздействовал бы на народное сознание. Как удар хлыста, который сразу переменил бы всеобщее настроение. Напротив, для всех рабочих и солдат, принявших участие в безпорядках, возвращение старой власти грозит расправой над ними. У них тоже не стало выхода. Для всех – только один выход: смена власти. Единственный путь – это передать бремя Верховного правления в другие руки. Можно спасти и Россию, и монархический принцип, и династию, если, например, Его Величество объявит, что он передаёт свою власть маленькому сыну при регентстве великого князя Михаила.
Тут Государь первый раз перебил, довольно робко:
– Но достаточно ли вы подумали о впечатлении, которое произведёт на Россию…? В чём почерпнуть уверенность, что при моём уходе не будет пролито ещё больше крови?..
Гучков, тяжело коснеющий, и Шульгин, вдохновенно подвижный, в два голоса и в одну мысль ответили ему, что именно этого и хочет избежать Думский Комитет. Что именно через отречение Россия уже безо всяких помех и при полном внутреннем единстве сможет кончить войну победоносно.
– Даже если судить по Киеву, – убеждённо выникал из молчания Шульгин, – общественное мнение теперь далеко отшатнулось от монархического. Если окажут сопротивление, то элементы малозначительные. Напротив, надо опасаться серьёзной междуусобицы, если отречение затянется.
Как, и – по Киеву? По древнему, стольному, монархическому Киеву?..
На этого известного, когда-то преданного и даже выдающегося монархиста, на малые острые, франтовские усики Государь посмотрел, кажется, первый раз за разговор – и печально. И – не его, но снова Гучкова спросил:
– А не возникнут ли безпорядки в казачьих областях?
Гучков улыбнулся:
– О нет-нет, Ваше Величество! Казаки – все на стороне нового строя! Это ясно проявилось в Петрограде поведением донских полков.
Рузский занервничал: всё говорилось опять сначала, а Государь мог промолчать так и час, и отречения как будто не существовало? Гучков тратил усилия зря! В кармане у Рузского лежала дневная телеграмма августейшей рукой!
Но, не имея возможности вслух перебить при Государе и сделать от себя заявление (однако и сломить же надо этот невыносимый этикет!), – Рузский заёрзал, наклонился к Шульгину и, теряя приличие, прошептал якобы ему, на самом же деле так, чтоб донеслось и до Гучкова:
– Это – дело решённое, даже подписанное. Я…
Это – он сломил Государя! Это должно было стать известным!
А Гучков – не слышал, не понял! Перед встречею было бы довольно двух слов, чтобы теперь этого вовсе не говорить и не вводить бывшего императора в соблазн, что ещё можно уцепиться за уголок трона! Гучков – не понял и, с воспалёнными глазами за пенсне, со сбитым галстуком, вновь настаивал:
– События идут так быстро, что сейчас Родзянку, меня и других умеренных крайние элементы считают предателями. Они конечно против такого выхода, потому что видят здесь спасение монархического принципа.
Не сказал – «который дорог нам с вами», но только так и получалось. Обдуманная или сама собою, сложилась позиция приехавших так, что они – не противниками приехали, не контрагентами, но – даже союзниками, вместе с Государем спасающими все дорогие святыни.
– Вот, Ваше Величество, только при этих условиях можно сделать попытку – (ещё попытку только!) – водворить порядок. Вот что было поручено мне и Шульгину передать вам… И у вас, Государь, тоже нет другого выхода: какую б воинскую часть вы ни послали сейчас на Петроград, повторяю…
Уже совсем не выдерживая, туже насаживая свои стекляшки, Рузский поправил:
– Хуже того. Даже нет такой воинской части, которую можно послать.
Это – сильно было заявлено. Кому лучше знать, чем Главнокомандующему, самому близкому к столице?
(Но никто не высказал да, кажется, и не подумал: а есть ли у Петрограда такая воинская часть, которую можно послать на Ставку?)
И вдруг сейчас, совсем внезапно и ни к чему, Государь понял, какого именно зверька ему всегда напоминал Рузский – хорька! хорька в очках, от сильных скул сплюснутые наверх виски. Верней – хорёнка, но со старым выражением.
Фредерикс грузно-опущенно сидел, будто дремал, и ему грозило свалиться со стула.
Гучков пропустил намёк Рузского, но и сам, своими глазами, видел, что борьбы не будет, что царь близок к капитуляции.
Не замечая, он всё более говорил с этим человеком, недавно правителем, повелителем, который прежде мог его самого легко изгнать или арестовать (но не сделал так), – всё более говорил сверху вниз, поучая, как не вполне развитого и не вполне взрослого. И когда он уже необратимо доказал ему, что единственный выход – передавать престол, и не услышал возражений, он захотел проявить и великодушие:
– Конечно, прежде чем на это решиться, вам следует хорошенько подумать. – Уступая его психике: – Помолиться. – Однако и твёрже: – Но решиться всё-таки – не позже завтрашнего дня. Потому что уже завтра мы не будем в состоянии дать вам добрый совет, если вы его у нас спросите. Потому что – толпа крайне возбуждена, агрессивна, и от неё можно ожидать всего.
И, выдержав паузу, Гучков снисходительно повторил:
– Может быть, Государь, вы хотели бы теперь уединиться? Для обдуманья, для молитвы?
Государь диковато-изумлённо посмотрел на Гучкова.
Гучков положил перед Государем смятую бумагу проекта отречения, составленного ими в пути.
Да, да, верно чувствовал Шульгин: почему правильно, что поехал сюда. Его присутствие здесь отменяет всякий оттенок насилия, унижения. Два монархиста – потому что и Гучков монархист, два воспитанных человека, без оружия, должны были тихими шагами войти к Государю и усталыми охрипшими голосами доложить происходящее. В такой обстановке не унизительно отречься монарху, любящему свою страну.
А Государь всё молчал, иногда разглаживая усы большим и указательным пальцем. Обвесив плечи совсем не по-императорски, а как самый простой человек. Посмотрел большими голубыми больными глазами. И после долгого этого выслушивания наконец сказал:
– Я об этом думал… Думал…
Рузский изводился, что не мог развернуть перед депутатами уже готовое отречение. Хотя как будто царь уже не был царь, вся его бывшая власть лежала, вчетверо сложенная, вот тут, во внутреннем кармане кителя у Рузского, однако власть этикета, внедрённая с юных лет, не отпускала. Объявить сам – он не смел. Но этот тон неспорчивый, эти растянутые «ду-мал» – как будто уже и были высказанным согласием? и открывали Рузскому право (вот как он придумал):
право вынуть из кармана и, самому же Государю возвращая, передавая через стол, сказать:
– Государь уже решил этот вопрос.
Очень удачный получился ход! – Государю отрезáлось отступление!
Но Николай Второй, получив наконец в руки назад упущенное, чего целый день не умел от Главнокомандующего взять, – не развернул, не объявил думским депутатам, а просто – спрятал в карман.
Он – украл своё отречение назад?? Какая ошибка генерала! Так глупо поддаться!
И Рузский приготовился сам теперь объявить, громко сказать, что в том документе, ещё не уничтоженном, ещё вот здесь, в кармане царя.
Нет, к облегчению Рузского царь не слукавил. Он искал словá? Да. Но – не волновался. Да умел ли он волноваться? Этим средним человеческим качеством обладал ли он? Он был – спокойней их всех тут, как будто этот эпизод касался его менее всех.
Но – печален был откровенно. И так смотрел на Гучкова, не искавшего встречи взглядов.
Не обращаясь никак, он сказал, однако, явно одному Гучкову, голос его звучал очень просто:
– Я – об-ду-мывал. Всё утро. Целый день. А как вы думаете? – робким тоном просителя отступил. – Прияв корону, может ли наследник до совершеннолетия оставаться при мне и матери?
И смотрел беззащитно с надеждой.
Гучков уверенно покачал головой:
– Нет, конечно. Никто не решится доверить воспитание будущего Государя тем, кто… – голос его отвердел, это не о присутствующих, – …довёл страну до настоящего положения.
– Значит – мне что же?.. – тихим-тихим упавшим голосом спросил царь.
– Вам, Ваше Величество, придётся уехать за границу.
Государь покивал печально.
– Так вот, господа. Сперва я уже был готов пойти на отречение в пользу моего сына. Именно это я подписал сегодня в три часа пополудни. Но теперь, ещё раз обдумав, я понял… Что расстаться с моим сыном я не способен.
Гучков резко поднял голову к царю.
Голос Государя был совсем не государственный. Но и не равнодушный, а дрогнул болью:
– Я понял, что… Надеюсь, вы это поймёте… У него некрепкое здоровье, и я не могу… Поэтому я решил: уступить престол, но не сыну. А великому князю Михаилу Александровичу.
И потупился. Ему трудно было говорить.
Депутаты удивлённо переглянулись, первый раз за всю беседу. Вступил Шульгин – поспешно, как боясь, что его обгонят:
– Ваше Величество! Это предложение застаёт нас врасплох. Мы предвидели только отречение в пользу цесаревича Алексея. Мы ехали сюда предложить только то, что мы передали вам.
Такое простое изменение, такая простая перестановка двух предметов, – а депутаты совсем оказались к ней не готовы, и пославшие их не готовы, и никто об этом не задумался прежде…
Искал возраженье и Гучков:
– Учитывалось, что облик маленького наследника очень смягчал бы для… масс… факт передачи власти…
Все они там, в новом правительстве, в думской верхушке, рассчитывали на малолетие Алексея, несамостоятельность Михаила… А что ж получалось теперь?
– Тогда разрешите, – искал Шульгин, – нам с Александром Ивановичем посоветоваться?..
Государь не возразил. Но и не поднялся уйти.
Да и не ему ж уходить!
Очевидно – выйти депутатам?
Но и они были в растерянности, не выходили. Да кажется, Гучков и не искал советов Шульгина, он предполагал бы решить сам.
А у Государя – было своё неохватимо трудное. Но ему – не с кем было выйти советоваться, а вот их же, враждебно приехавших, снова спросить о том же:
– Но я должен быть уверен… как это воспримет вся остальная Россия. – И голубым растерянным взглядом искал ответа у них, избегая Рузского: – Не отзовётся ли это… – не нашёл, как выразиться скромно.
– Нет! нет, Ваше Величество, не отзовётся! – это-то Гучков знал твёрдо. – Опасность – совсем не здесь. Опасность, что если раньше нас другие объявят республику – вот тогда… Вот тогда возникнет междуусобица. Мы должны спешить укрепить монархию раньше.
Также и Шульгину этот вопрос был ясней той неожиданной заминки с наследованием. И он давно порывался вступить с монологом, зачем и ехал:
– Ваше Величество! – горячо, убедительно заговорил он. – Позвольте мне дать некоторое пояснение, в каком положении приходится работать Государственной Думе.
Описал, как наглая толпа затопила весь Таврический дворец, у Думского Комитета – две маленьких комнаты.
– Туда тащат всех арестованных, и ещё счастье для них, что тащат, так как это избавляет их от самосуда толпы… Дума – это ад! Это – сумасшедший дом!
Но кажется, такая горячая характеристика не укрепляла позиции приехавших депутатов? Шульгин исправился:
– Но мы содержим символ управления страной, и только благодаря этому некоторый порядок ещё может сохраняться. Вот – не прервалось движение на железных дорогах. Но нам неизбежно придётся вступить в решительный бой против левых элементов, для этого нам нужна прочная почва. Ваше Величество, помогите нам её создать!
Они просто умоляли, они ничего не вынуждали!
А Государь всё никак не мог увериться, не мог охватить:
– Но я хотел бы, господа, иметь гарантию, что вследствие моего ухода не будет пролито ещё новой крови…
О, как раз наоборот! Наоборот как раз! Только отречение и спасёт Россию от перспективы гражданской войны!
Действительно: зато – миролюбие. Зато – ни над кем никаких расправ.
А вот относительно изменённого Государем проекта – конечно, тут надо… Хотя бы посоветоваться четверть часа.
Но Гучков принял легче и быстрее. Да ведь он ехал сюда, зная несравненное упорство этого человека, ожидая самый изнурительный и, быть может, безуспешный поединок, так что пришлось бы вернуться лишь с ответственным правительством и с кусочком конституции, – а тут уже всё было сломлено, отречение – подавалось на блюде, цель долгой общественной борьбы – вырвана, надо брать, пока протягивают.
И – ему отказала ненависть к этому человеку. И он сказал великодушно:
– Ваше Величество! Конечно, я не считаю себя вправе вмешиваться в отцовские чувства. В этой области нет места политике и невозможно никакое давление. Против вашего предложения мы возразить…
Слабое удовлетворение проявилось на истерпевшемся лице Государя.
Отыскалась та точка, где он упёрся: в праве на единственного сына!
Депутаты не находились, и Государь не вынуждал их аргументов. Он тихо поднялся и ушёл в свой вагон, так и в руки не взяв привезенного депутатами проекта.
Не объяснив: давал ли он им перерыв подумать? Или уже принял решение сам?
В салоне разбрелись, закурили. Добавился неприглашённый толстоплечий генерал Данилов, до сих пор завистно переминавшийся на платформе.
Тут стали говорить, в голову пришло: что ведь должны бы существовать какие-то специальные законы престолонаследия, и не худо бы с ними справиться. Граф Нарышкин, до сих пор ведший запись беседы, сходил и принёс из канцелярии нужный том законов Российской империи. Листали, искали, может ли отец-опекун отречься за сына. Не находили.
Не находили видов отречения, но и самого раздела об отречении вообще – тоже не находили.
Двадцать лет боролись, желая ограничить или убрать царя, – никто не задумался о законе, вот штука.
Гучков и Шульгин теперь совещались, верней безпорядочно думали каждый своё.
Если Михаил станет центральной фигурой, то он может повести и неожиданную самостоятельную политику. Монархия может и не принять желанного приличного образа: чтобы монарх королевствовал, но не правил. Такой исход противоречил решению и желаниям Временного правительства.
Просто не успели договорить, сразу не сообразишь. Шульгин сказал бы, немного с романтикой: Ваше Величество! Алексей – естественный наследник, всем понятное воплощение монархической идеи. На нём нет пятен и упрёков. Найдётся немало людей в России, готовых умереть за этого маленького царя…
А может быть, тут есть и свои плюсы? Если на троне останется царевич – очень трудно будет изолировать его от влияния отца и, главное, так ненавидимой всеми матери. Сохранятся прежние влияния, отход родителей от власти покажется фиктивным. Если же мальчик останется при троне, но будет разлучён с родителями реально, уедут они за границу, – это отзовётся на его слабом здоровьи, да и будет он всё время думать о родителях, и в его душе могут подняться недобрые чувства к разлучникам.
Критиковать – легче всего, и теперь Данилов предлагал Гучкову свою критику: не опасно ли принять порядок, не предусмотренный престолонаследием? не вызовет ли отречение в пользу Михаила крупных осложнений впоследствии?
Гучков перетолкнул надоедного Данилова к Шульгину. А Шульгин, про себя лихорадочно прокручивая, вдохновенно нашёл, вздумал ещё и так: если, не дай Бог, придётся и следующему монарху отрекаться (в этой обстановке – нечему удивляться), то Михаил может мирно отречься, а несовершеннолетний Алексей и отречься не может, и тогда – что?..
Тем временем Рузский, обиженный, что смазана вся его роль в отречении, порицал депутатов: как же они могли ехать по такому важному государственному вопросу и не взять с собой ни тома основных законов, ни юриста?
Да не ожидали они такого решения! Да нужно представить себе нынешнюю петроградскую обстановку!
Но вот важный довод: если трон займёт мальчик, то правомочна ли будет его присяга на верность конституции? А именно такой присяги Думский Комитет и хотел, чтобы новый царь не мог восстановить независимости трона. От Михаила же сразу можно будет такой присяги потребовать. Михаил как регент должен будет отстаивать все полные права наследника. Михаил как царь может быть ограничен уже при вступлении, и это посодействует…
Гучкову не хотелось принимать государева варианта. Но утомлённый мозг не мог найти сильного аргумента против.
Да он так был поражён, до чего ж не сопротивлялся царь отречению! Десятилетия жившим под этой императорской махиной вообразить и ожидать такое – было невозможно! Такой успех шёл в руки сам – как было его не брать? Одним шагом Гучков совершал уникальный поступок в русской истории, обуздывал, быть может, революционную смуту – да ещё и спасал монархический принцип!
Да кажется – их решения никто и не ждал: Государь не возвращался. Он счёл дело уже решённым? или ушёл ещё сам обдумывать?
Да рассуждать от обратного: если сейчас не согласиться – значит, отречения не будет вовсе? Значит, они уедут с пустыми руками. А при их положении таврических пленников – дело отречения просто передастся наглеющему петроградскому сброду, Совету рабочих депутатов? Худшая беда, которой надо избежать. Это будет – гильотина и республика…
Значит, надо брать такое отречение, какое дают. Тут и выбора нет.
Главное – скорей бы его получить, через час уже уехать, скорей бы объявить в Петрограде!
В салоне разговаривали. Умели они тут, при Дворе, держаться, но был раздавлен Фредерикс, голова его свешивалась. Гучков подбодрил его, что узнает, примет меры и выручит графиню.
За этот час на перроне между императорским и депутатским поездами собралось разных человек сто, читали раздаваемые революционные листки, покрикивали «ура!». Офицер охраны хотел приказать рассеять эту толпу, но флигель-адъютант остановил: Его Величество приказал никого не трогать и не разгонять.
К одиннадцати ночи крики на платформе всё усилялись и подступали к императорскому поезду. Под эти крики в другом вагоне и составлялся текст отречения. А Гучков, пользуясь пустой паузой, вышел на заднюю площадку салон-вагона и объявил возбуждённой толпе:
– Господа, успокойтесь! Царь-батюшка с нами вполне согласен. И дал даже больше, чем мы ожидали.
– Ура-а! ура-а! – ещё усилилось.
В четверть двенадцатого Государь вернулся – не более потрясённый, чем уходил, всё в том же самообладании, и протянул два листика, отпечатанных на машинке:
– Вот акт. Прочтите.
Все поднялись ещё при входе Государя, стояли теперь. И Гучков, а сбоку Шульгин, склонясь над столом, читали перебегами вполголоса.
– В дни великой борьбы с внешним врагом… Начавшиеся народные волнения грозят отразиться на ведении упорной войны… В эти решительные дни почли Мы долгом совести облегчить народу Нашему тесное единение и сплочение… и в согласии с Государственною Думою признали Мы за благо отречься от престола государства Российского… Не желая расстаться с любимым сыном Нашим… передаём наследие Наше брату Нашему… Призываем всех верных сынов Отечества… вывести на путь победы, благоденствия и славы…
И – как Германия жаждет поработить Россию. И – как для русской победы удаляется Государь.
Рузский видел, что это – далеко не тот Манифест, который прислали из Ставки. Неужели же царь сам так быстро и гладко пересоставил?
Гучков ничему не возразил. А Шульгин, точнее следуя конституционному духу, пославшему их, предложил, чтобы великому князю Михаилу Александровичу было указано принести всенародную присягу верности законодательным учреждениям.
Государь нахмурил лоб, подумал, приписал: «принеся в том ненарушимую присягу».
Шульгин пожал губами на стиль: всенародную не поставил, а какая ж присяга бывает другая как ненарушимая? Но спорить не стал.
Он предложил, чтобы было помечено тем временем – тремя часами дня, когда Государь и без них пришёл к решению отречься.
Чтоб и не упрекали потом, что отречение вырвано депутатами.
Для Гучкова, напротив, такой пометкой умалялась его миссия. Но он смолчал. Пометили тремя часами дня.
И Государь размашисто подписал отречение – простым карандашом.
Гучков сообразил, что подлинным Манифестом в такое смутное время не хочется рисковать, нельзя ли отпечатать ещё и второй подлинный и оставить у Рузского?
Понесли отпечатать ещё один.
Теперь предстояло им троим – бывшему Государю и двум делегатам нового правительства, лицом к лицу промолчать двадцать минут.
Впрочем: нельзя же всё бросить как чужое. Порядок не должен нарушаться. Трон – брату, хорошо. А кому же кабинет министров? А кому же Верховное Главнокомандование?
Депутаты одобрили: неплохо и распорядиться. Усилить преемственность власти. И пометить часом раньше, чем отречение, чтобы было действительно.
Кому же – кабинет?
Государю не хотелось – Родзянке. Вот кого бы назначить: Кривошеина.
Депутаты посоветовали:
– Князю Львову.
Хорошо.
А Верховное Главнокомандование – конечно, Николаю Николаевичу, кому же.
Писались указы Сенату. Это укрепит обоих.
Отдали на перепечатку.
Вот – и молчание.
Потом, потом… Самое трудное – говорить о себе. Какое-то небывалое состояние – без короны. И куда же?..
Ещё не найден тон: кто кому здесь подчинён теперь или нет? Нехорошо поступать самовольно, но унизительно и спрашивать…
Государь подёрнул плечом.
– Не встретится препятствий, если я поеду теперь в Царское Село?
Гучков поднял лоб как преграду. Ещё днём он так и предполагал, но… За спиной царя он увидел властную злую осанку своей главной врагини.
(Соединиться ему – с волей? Нельзя, может и отречение взять назад.)
Вслух – он не запретил. Но весь напрягшийся вид его, краснота лба. Но само молчание.
Затянувшееся.
Потом сказал, что в Луге мятеж. Нельзя гарантировать безопасного проезда.
Государь чуть заметно качнулся – и обмяк как от удара.
(Нельзя в Царское? А только этого он и хотел. Для того и торопился скорей выполнить вот эти все формальности. И – нельзя?..)
Да ведь он в Царское хотел – только на время, пока выздоровеют дети. А потом вместе с ними – в Ливадию бы…
А теперь – куда же? В Ставку?..
В Ставку – надо. Там тоже надо передать дела.
И можно будет вызвать в Могилёв из Киева Мамá. Попрощаться.
Если придётся теперь – покидать Россию?
«В Ставку» – прозвучало и повисло: вопросом? сообщением? Спрашивал разрешения? не спрашивал?.. Какое-то непонятное состояние.
Гучков ещё раз посмотрел на царя в полное пенсне, почти не скрывая, каким его видел, запуганным.
(Ставка, центр войск? При Алексееве и без Алисы? Ни на что не решится. Ни к чему не способен.)
Можно.
Генерал Рузский даже извился – в недоумении, в протесте: да как же можно отрекшегося Верховного и отпускать в Ставку?
Но возразить Гучкову вслух – не выговорилось.
Принесли второй акт.
Депутаты предложили Фредериксу контрассигновать обе подписи Государя. Государь кивнул. Фредерикс тяжело сел, достал автоматическую ручку. И долго-долго выводил, с мучительными усилиями, как никогда.
Что ж, попросил и Государь, чтобы депутаты дали расписку в получении акта.
С волками жить…
Часы на стене салона показывали без четверти полночь.
Попрощались.
Рузский попросил депутатов к себе в вагон.
А царский поезд мог отходить в Могилёв. Соверша трёхсуточный безсмысленный судорожный круг и оброня корону, возвращаться, откуда не надо было и уезжать.
Ещё более часа поезда стояли.
Со свитою пили ночной чай. Но и здесь не говорили об отречении.
В будничном тоне Государь заметил:
– Как долго они меня задержали.
350
Отправка министров в Петропавловскую крепостьВ душных, накуренных комнатах министерского павильона ничто не менялось: подходила ночь, кому первая, кому третья, и снова надо было продремать её сидя, при свете и не раздеваясь, какой-то мучительный, неустроенный вокзал. За сегодня ещё столько добавилось узников, что и на диване лежать по двое, как Протопопов с Барком, могло не достаться, а – сидеть втроём.
Все арестованные были люди немолодые, больше старики, и даже к восьмидесяти, и не имели привычки по несколько дней не мыться, не менять белья, – всё это ощущалось ими мучительно.
Адмирал Карцев всё рычал: «Во-оздуха!»
Никогда в жизни их не отрывали насильственно от семей – и теперь тревога их была ещё и о семьях, и о доме, не разграблен ли: ведь революция это и есть прежде всего грабёж, а что же?
За все эти дни арестованным не пришлось поговорить между собою, кроме десяти минут, когда Караулов, будто став комендантом, разрешил разговоры, – но вскоре, к несчастью, вошёл Керенский, обнаружил – и драматическим голосом к охране снова запретил.
Кто ни сменялся тут в охране, кто ни сменялся в комендантах, – но надо всеми судьбами властнее всех почему-то стоял Керенский. И старики – уже боялись его, недавнего прыща.
И ещё сидели они в безвестии, что делается в Петрограде, в России. А людям государственных привычек да ещё посаженным в такое бездействие, им невозможно было не думать об этом неизвестном происходящем, не строить предположений, как же пошли события, и существует ли новое правительство, и как к нему относится Государь, и как теперь поступать Государю?
По осмотру лиц друг друга они видели, что старых властей в столице не осталось никаких. Все считали демоном зла – Протопопова, и не без удовольствия видели, что и он – здесь, его недавно такую авантажную, а тут сразу такую смятую, припуганную, постаревшую фигуру, как ощипанную птицу.
Просили у прапорщика газет. Он отказывал. Потом принесли два номера «Известий Совета рабочих депутатов» (что за дичь названия!) – и эту мерзость с жадностью брали бывшие сановники, читали невыразимый язык на плохой бумаге грязными отпечатками и истолковывали их себе, как это понимать и что за этим стоит.
Разумеется, понятно было, что их не будут безконечно содержать в министерском павильоне, но что дальше? Отпустят ли домой? Будут ли допрашивать? Так мучительно было сидеть, что уж лучше б скорей что-нибудь менялось!
Так – думали, но когда близ одиннадцати часов вечера распахнулась дверь и вошёл прапорщик Знаменский, за ним – усиляющий наряд преображенцев с винтовками, ещё два прапорщика Михайловского училища, а затем – струнно-грозный Керенский с бумагою в руке, – сердца арестантов захолонули. Все в первой комнате сразу поняли, что сейчас – что-то непоправимое случится, и уже страшно стало им покинуть тёплый и не такой уж неудобный павильон, да даже защитный уголок перед страшным будущим.
Вокруг тонкой фигуры Керенского уже веяла такая атмосфера, и сам он смотрел так требовательно, так уверенно, что к кому он эти дни обращался, старые сановники поднимались из кресел, из диванов – седота и рухлядь, и генеральские мундиры, стояли перед недавним ничтожным депутатом.
Теперь, понимая величие минуты ещё больше, чем все эти старики, Керенский, хотя сам лишь слегка промелькнув по тюрьме в Девятьсот Пятом, восстанавливая по дальней памяти и гениальным даром своей актёрской натуры, воспринял и голос, и значение – и объявил пронизывающе:
– Все, кого я сейчас назову! – он держал список, но тоже для театральности, он в нём и не нуждался, – будут немедленно отправлены!
И догадался же остановиться, не сказав – куда. Это было наиболее страшно! Отправлены могли быть и на тот свет!
И самый невыдержанный, самый раскисший старик Штюрмер, щёточнобородый, высокий, слабый, четыре месяца назад такой ненавидимый премьер-министр, – жалобным, сразу плачущим голосом спросил:
– Но кто поручится, что нас не обезглавят?
По испугу и неловкости он назвал вид казни, уже никем не применяемый, но это прозвучало не только не смешно, а ещё более пугающе: так и представился где-то за городом помост при фонаре в морозной ночи и секира палача.
Керенский с достоинством миновал вопрос, стал читать каждую фамилию полнозвучно, а затем через паузы, как будто давая каждой струне ещё дозвучать.
А некоторые были в других комнатах, и Керенский пошёл прочесть и там весь список – от вступления «все, кого назову».
Облезлый Протопопов ловил за шинели проходящих солдат, спрашивая громким шёпотом:
– А вы не знаете – куда ?
А маленький, съёженный, полукарликовый Беляев с пустыми глазами, не настигнув умелькнувшего Керенского, военный министр, вытянулся перед прапорщиком:
– Я – честнейший человек, и я являюсь ошельмованным. Я занимался только делом и ни во что не вмешивался. Я подлежу увольнению со службы с пенсией…
Знаменский ответил басом ему и остальным:
– Одевайтесь! Собирайтесь быстро!
Старый Горемыкин, надев на сюртук голубую андреевскую цепь, не расставаться же с ней, вот уже в меховой шубе и шапке, оказался готов раньше всех. Уже столько государственных бурь он проходил благополучно и знал, что без Господа не упадёт ни один волос. Да давно уже он жил на этом свете как задержавшийся гость. Он смотрел – и не смотрел, шептал молитву. Его повели.
Голицын прошёл вежливой тенью.
Добровольский обмяк, угнетённый, сколько ж ему расплачиваться за двухмесячное министерство?
Протопопов всё собирался, всё собирался, никак не был готов, хоть и вещей для сбору у него не было.
Дошло и до разляпистого, грузного Хабалова.
Казалось бы, всех неготовее мог объявиться Щегловитов: его ведь, арестовавши, привели в Таврический без пальто, на нём и вовсе ничего сверху не было. Но он ничего и не просил. Круглоголовый, рослый, он держался так спокойно и понимающе, будто он тут и распоряжался всей церемонией. Или тем задался оскорбить высокий порыв Керенского.
Кто-то из офицеров забезпокоился, и послали для Щегловитова за солдатской шинелью. Принесли узкую, насадили.
По коридору до самого подъезда, заднего, выстроена была в разрядку вся караульная рота преображенцев – и это было грозно, как на казнь, для сановников, ведомых изредка по одному, – и никого посторонних встречных в полутёмном всём коридоре.
Все молчали, никаких распорядительных криков, всё согласовано. Страшно было идти.
Маклаков шёл с обинтованной, раненой головой.
Уже за выходом было несколько членов Думы или других каких-то важных по-новому лиц. И в каждый из пяти подъезжавших закрытых автомобилей вводили двух арестованных, сажали их рядом на заднем сидении, а навстречу им, лицом назад, колени к коленям, садились: партийный представитель и унтер с обнажённым револьвером, направленным на арестованных. А с шофёром рядом – по офицеру.
И всякую сажаемую пару Знаменский, смакуя, предупреждал: не шевелиться, по сторонам не смотреть, всякая попытка к бегству вызовет применение оружия.
Как будто кто-то из них был способен бежать.
Занавески автомобилей были задёрнуты, не видно, куда едут. Большой револьвер, не обещающий доброго, поочерёдно наставляли то на одного, то на другого.
Говорить и с единственным соседом – снова не доставалось.
А Протопопову так хотелось узнать, посоветоваться, предположить! Но судьба свела его с мрачным Беляевым, который и без конвоя теперь бы с ним из осторожности разговаривать не стал. Да, верно назвали его военные – «мёртвая голова». А ведь сам же Протопопов зачем-то и выдвинул его в военные министры! И тот – всё погубил.
А с Маклаковым попал рядом Макаров – после Столыпина министр внутренних дел, недавно – министр юстиции, Государем отрешённый за строптивость: отказ погасить дело по Сухомлинову, Манасевичу и недостаточное расследование убийства Распутина. Так что он сам скорей был бы Думе угоден, а в десятку самых опасных и первовиновных угодил по мести Керенского.
Так и ехали. В слабом свете минующих фонарей видно было, как унтер не спускает с их животов крупного нагана. А сопровождающий вертлявый штатский господин вдруг нарушил молчание и обратился к Макарову:
– А вот вы меня и не знаете, ваше превосходительство. Хотя семь лет назад вы меня отправили в якутскую ссылку.
Видно было, что вся процедура сопровождения доставляла ему удовольствие.
В административную ссылку? Возможно. А они там и разбегались свободно.
– А как ваша фамилия?
– Зензинов.
Да, не помнил. И фамилия какая-то шутовская.
– Я – известный эсер. Я – член ЦК! – с гордостью всё рекомендовался тот.
Вот это – и были страшные революционеры? Представилось: как искажённо должно было видеться им снизу вверх всё государственное. И как всё перевёрнуто в их голове.
Но и с министерской высоты случалось искажение всякое. Страдая сердцем, отдыхал Макаров в Крыму. Вызванный телеграммой – приехал в Петербург, думская трибуна изнывала, и, не успев разобраться, вышел: это ленская толпа сама напала на войско, ротмистру ничего не оставалось, как стрелять. Идут годы – стыдно и больно вспомнить.
В обычной жизни мы всегда виним причину внешнюю. А уж когда возьмёт нас беда – тогда разгребаем внутреннюю, исконную.
Да сам Макаров в 60 лет уже хоть и отжил. Но сын у него единственный – это всё, что в жизни. Что будет с ним под этими злодеями?
Автомобили шли небыстро. Иногда их, видимо, останавливали патрули, и передний шофёр кричал:
– Автомобили Временного правительства!
Наверно, странно выглядели эти пять тёмных автомобилей, вереницей, за занавесками, среди ночи, – и все правительственные.
Не было видно, куда едут, пока не взяли на мост – подъём дороги, равномерные тройные фонари с двух сторон, силуэты, – можно было догадаться, что Троицкий.
Некоторое время было в автомобиле светлее.
Перебинтованный Маклаков ехал как отлитой из камня, не давая эсеру перед собой заподозрить в себе волнение. Тот, кто умел властвовать и отправлять в тюрьмы, должен тем более уметь отправляться сам.
Превратности судеб он уже имел время обдумать за эти дни. Превратности России – всё ещё колыхались впереди, не разглядываемые.
Куда же всё-таки?..
По Троицкому мосту уже стали и догадываться, хотя казалось это – чудовищно.
Но вот и явно проехали через глубину глухих ворот Петропавловской крепости.
Уже и забыли о ней, стояла как памятник. Уже несколько лет вообще пустовавшая, вот открывалась теперь её каменная твердыня для немощных и отставленных министров.
Автомобили все остановились. Стояли. Слышались переговаривания приехавших офицеров и здешних.
Ещё подъехали. И раздалась недоброжелательная резкая команда:
– Вы-ходи!
Вышли революционные представители. Вышли унтеры с наганами. Стали по одному выбираться сановники и генералы, зябко оглядываясь на темнеющие башни.
Они оказались между обер-комендантским домом и Монетным двором.
Широким оцеплением стояло много вооружённых солдат, как если б ждали от сановников прорыва. Кроме крепостных солдат откуда-то ещё и отряд матросов.
Но разглядываться не дали им, а командовали одному за другим подходить к каменной рубчатой стене на аршин (снег был не довольно расчищен там, они увязали) и стоять лицом к стене, не оборачиваться.
В ботинки Горемыкина зашла мёрзлая влага, и это было ему всего непереносимей.
Во всех командах чувствовалась неотклонимая уверенность. Это были, конечно, постоянные офицеры крепостной кордегардии, уже служившие здесь 5, 10 или 15 лет при этих самых министрах, тогда мелкие и неведомые, – а теперь такие грозно исполнительные при новой власти, уже нельзя им ни о чём напомнить и попросить.
(А Зензинов узнал тюремного полковника, который и его когда-то принимал здесь же. Сейчас доложить Керенскому, посадим!)
Брали по два с краю, по фамилиям не называя, руку сзади на плечо – и уводили.
В затылок.
В обход Монетного двора.
Значит, в Трубецкой бастион.
Уводили сразу трёх премьер-министров. Трёх министров внутренних дел разного времени. Трёх министров юстиции.
То, что и составляет государственную власть.
Несколько в ряд императорских правительств заканчивали существование в один час, в одну минуту.
И тут мелодичные колокола часов Петропавловского собора стали вызванивать «Коль славен наш Господь в Сионе», тоскливо в ночном пустынном воздухе.
Ту самую печальную мелодию, которую слышали в камерах и декабристы, и народовольцы, и…351
Ужин у Рузского.
Хороший ужин после хороших удач и в моменты жизненных поворотов позволяет нам ярче ощутить их. И себя в них.
Именно такой ужин и предложил Рузский делегатам-депутатам Думы или нового правительства, как бы их ни считать. Правда, сервированный в вагоне военным поваром и по военному быту ужин не напоминал лучшие петербургские, так что даже не оказалось шампанского, столь нужного к моменту, но на столе разлегла сытая добротность русской провинции в копчёностях, солёностях и достаточный выбор что выпить.
Только сейчас, переходя сюда и рассаживаясь, они все ощутили, что испытывают рассвобождение: оказывается, как они все были напряжены.
Революция революцией, а прежняя уютность хорошего ужина – вот сохранялась.
И наконец тут, без придворных чучел, можно было поговорить откровенно.
Да, они ожидали от царя сопротивления, и даже отчаянного. А что так сразу – и сдастся?..
– Что уже днём сдался! – хотел и Данилов рассказывать, он тоже соучастник той переломной минуты дневного отречения. Широкочелюстный, плотный, он уже ел от лиловатого окорока.
– А как он телеграмму назад требовал, а я ему не отдавал! – даже сам себе удивлялся Рузский: – Он хотел увильнуть, взять отреченье назад! И был бы таков. И уехал бы. Но я не допустил!
С каждой минутой всё больше ощущал Гучков облегчение и победу. Ведь совсем могло иначе сложиться – уехали бы и без отречения. Упёрся бы царь – и что? А теперь – такую задачу свалили! – теперь только стряхнуться от помех, как в Таврическом, в Луге, – и освежёнными силами сокрушить Германию!
И ещё хотел им успеть сказать Рузский до переговоров: что посланные против Петрограда войска – это фикция, Рузский-то следит, они отначала растянулись, застряли, а теперь и отзываются.
Ну да всё обошлось прекрасно. Однако, как ни освобождён и упоён, Гучков раньше о деле:
– Один экземпляр отречения повезём с собой, а один оставим, Николай Владимирович, в вашем штабе на хранение. А ещё бы правильней – надо бы сейчас отречение зашифровать – и телеграфно передать в Главный штаб, а они – нашим в Думу. Там-то ждут не дождутся.
Только двое они с Шульгиным видели ту таврическую обезумелость, а кто не видел – не вообразит. И что значит для них там – скорей узнать.
Да, это было разумно. Уже с полученным отречением нельзя было терять часов даже и на ужин.
Но – кому же доверить шифровку, кроме Данилова? И как же, как же не хотелось ему отрываться от этого стола и разговора с высокими гостями!
А ещё, ещё быстрей – послать от имени двух депутатов короткую телеграмму на имя Родзянки: что «согласие получено».
Нечего делать, взял Данилов телеграмму, взял одно отречение, поехал в город.
Александру Ивановичу здоровье давно уже не позволяло есть и пить без оглядки, и не этой живой плотяной радостью был для него дорог стол, да даже и не всякой застольной беседой, – например, сейчас он не был к ней особенно и расположен. А каким-то – надскатертным, надрюмочным полётом.
Свершение! Выполнена задача – может быть, целой жизни. И уже не надо измышляться строить заговор, искать сторонников. И уже ничто не грозит, если заговор раскроется.
Освобождение!
И даже! – проступали явные черты прежнего замысла, даже несомненное прозрение было в нём: между Царским Селом и Ставкою, как задумано, почти по дороге, лишь немного сбились в сторону, во Псков. И где же состоялась встреча с царём? – да в вагоне! в том самом, который и надо было захватить! Ещё был в заговоре замысел, чтоб и Алексеев поддался, не мешал, так вот он и не мешал! Да не просто похожесть была – это и был тот самый замысел в точности: схватить растерявшегося царя, вырвать у него отречение, он не сумеет отказать, таков прогноз! – и после этого пусть уезжает в Англию.
– Господа! – сосредоточенно поднял бокал сивоусый Рузский с четырёхугольным стоячим ёжиком на голове, и переходил очками, сидел тут ещё один свидетель события, начальник снабжения фронта Савич. – Мы – первые русские люди, которые можем выпить первый в России тост не за будущую Россию, но – уже наступившую! Все узнают позже, а мы – первые! Наступившую целую эру свободы, не одно столетие, целую эпоху Свободы, из которой уже не будет пути назад, во мрак!
Однако в лице Рузского, даже когда он хотел выразить радость, всё равно оставалось что-то неизгладимо унылое.
А Шульгин вообще был создан для красивых, высоких моментов, он чувствовал их внутренним трепетом, он вообще был никакой не политический деятель, всё это недоразумение, он был художник жеста и слова, и только потому так блистал в думских речах, он был драматический артист, писатель и даже фантазёр, – наплывы фантазий зыбили для него действительность, и тут рождались лучшие его находки. А сейчас, совершенно необъяснимо, в нём почему-то звучал романс:
Я помню вальса звук прелестный
Весенней ночью, в поздний час…
Но, как назло, такой высокий момент, эту острую неповторимую минуту ему портила мигрень: начал сильно болеть уголок головы около правого виска.
А Рузский рассказывал, как царь эти сутки вёл себя. Но всё же был большой спор? О да, спор был, и какой, вчера, а сегодня соглашался уже легче.
– Господа, – не мог не удивиться Гучков, – подумайте: и стоило ему десятилетиями так цепляться за свои прерогативы – чтобы так легко их сложить в один день? И это был – наш противник?.. Всего-то?..
Противник? Шульгина покоробило. Нет, такого слова он и в мыслях не мог применить к Государю. Это был – любимый собеседник, которого надо было убедить поступиться во имя России. И теперь – будет хорошо и безопасно, и России, и самому Государю.
– Да не мог он править такой страной, господа! – размышлял, откинувшись, щупловатый Рузский. – Слишком у него неустойчивый характер.
Доложили, что отходит царский поезд, – не нужно ли чего? о чём распорядиться?
Распорядиться? Переглянулись. Нет. Не прощаться же. Рассчитались, пусть едет.
Одно, чем Александр Иванович не мог не поделиться, что уж слишком было въявь:
– Но какой деревянный человек, господа! Такой акт! такой шаг! – видели вы в нём серьёзное волнение? Мне кажется, он даже не сознавал. Какое-то роковое скольжение по поверхности всю жизнь. Отчего и все наши беды.
Настолько не сознавал, что, может быть, и поражения не почувствовал от многолетней борьбы с Гучковым? Но и тем не уменьшалась победа, нет! Вершинный час. И откуда же возникло в Гучкове такое пророческое предчувствие: так точно видеть заранее эти ночные вагонные обстоятельства, в которых он возьмёт отречение?
И не прольёт крови. Не Одиннадцатое марта, Павловское, – Второе. Безкровное. Славное. Отречение, как простая бумага, лежало во внутреннем кармане пиджака, у сердца, в бумажнике, чтобы не помять.
А у Шульгина мигрень разыгрывалась:
– Ах, Николай Владимирович, нестерпимо досадно! Но нет ли у вас здесь таблетки пирамидона? Да если вы разрешите, я бы и прилёг на десять минут.
Так и распался ужин. Савич тоже вскоре уехал. За столом сидели Рузский и Гучков.
Совсем друг другу чужие, совсем друг друга не любившие. Случайные союзники в час торжества.
И торжество-то было для Рузского сильно испорчено многим. Смазана была его роль как вырвавшего отречение, – выходило, будто это и не он получил. И Алексеев перехватывал роль, запрашивал Главнокомандующих, слал проект Манифеста. И эти приехали на готовое, даже и законов государства не зная. И не приносило Рузскому радости, что Верховным Главнокомандующим уже сразу и назначен Николай Николаевич: опрометчивый росчерк царя, которого не остановили. Брали картинного, но пустого великого князя, не замечая, какую несправедливость делают. Рузский и по своему интеллекту, и по посту, и по симпатиям общественности и Родзянки, и по близости к Петрограду – вполне мог бы рассчитывать, что Верховным назначат его. (И может быть, это ещё случится, великий князь не удержится.) Однако, как уже пошлó. Надо не считаться, а объединяться. Вот, перед ним сидел уже новый военный министр.
– Обо мне при троне, – криво усмехался Рузский, – всегда было плохое мнение. И что я ненавижу императрицу. Наконец-то можно будет жить без интриг с новым правительством. И не будет этих бюрократических дебрей. И этой парадности, недоступности. И этой продажности. Со склада Фронта требовалось отпускать Двору в день 46 пудов мяса первого сорта – ясно, что для прислуги, лакеев, конюхов, – и это за счёт солдат!
Вообще наступала новая эра в сношениях Главнокомандования с правительством. Для сохранения духа армии очень важна будет, особенно в ближайшие дни, помощь правительства. Возможна ли присылка каких-нибудь политических представителей? Какое-то турне думских ораторов? Вон что делается у Непенина. Чтоб не разыгралось такое на Северном фронте.
Но Гучков сидел наполненный, молчаливый, неотзывчивый. Даже облегчением победы как бы обременённый.
А Шульгин только тут сообразил и воскликнул из пирамидонного лежания:
– Господа! И ещё мы упустили на Алексее: ведь ему войска уже присягали раньше, как наследнику, теперь не надо было бы присяги повторять!
Да, да. Отречение взято, но какая работа теперь предстояла с Михаилом! Михаил – тоже не семи пядей во лбу, фигура не царственная. Михаила тоже надо вести, направлять, вдохновлять, – кто это будет делать?
– Господа! А ещё мы упустили! – накатывало в больную голову Шульгина, через боль он выговаривал томно: – Как же мы не подумали, а? Как же будет с супружеством Михаила? Разве госпожа Брасова, третий раз замужем, может стать императрицей?
Да, в самом деле!
Да, в самом деле. Как затмило, когда соглашались. А потому что непривычны к этим династическим тонкостям.
Но в конце концов это и важно только для династических зубров. В революционно-потрясённой России – ну кого это оскорбит?
– Об этом сам Николай должен был думать, а не мы.
Но вдохновительница нового Государя госпожа Брасова известна своими либеральными симпатиями. У неё – либеральный салон, бывали левые депутаты Думы.
Не разъединяться надо теперь, а объединяться. Однако сидел Рузский против Гучкова и думал: а берёт Гучков на себя – слишком много. Ну, какой же он военный министр?
И сидел Гучков против Рузского, чётче замечал эту зверьковую наружность с обкуренными жёлтыми зубами и эту тощую интеллигентность, – думал: нет, не настоящий военный, рохля.
А Шульгин давал действовать порошку, смягчал свой взгляд, нарочито смотрел неотчётливо. И рядом – почти не видел. А видел – лицо Михаила. Уж такого рядового кавалериста со вскрученными усами.
Боже, ну куда ж ему вести Россию?!
...
ДОКУМЕНТЫ – 11
Ставка, генерал-адъютанту Алексееву
Вырица, 3 марта, 1 ч. 30 м.
До сих пор не имею никаких сведений о движении частей, назначенных в моё распоряжение. Имею негласные сведения о приостановке движения моего поезда. Прошу принятия экстренных мер для восстановления порядка среди железнодорожной администрации…
Ген-адъютант Иванов
352
Штабная тренированность генерала Алексеева. – Манифест об отречении начинает жить.
Без двадцати минут час ночи штаб Северного фронта донёс в Ставку, что Манифест о царском отречении наконец подписан.
Ну, наконец-то! Разрядилось великое напряжение.
Кончилось несчастное царствование, не стало императора Николая II. Но не возникло и Алексея II, а – Михаил II. Имена как бы подвигались вспять к самому корню династии.
Вот скоро, вот скоро Северный фронт передаст и текст.
Кончилось несчастное царствование – и теперь наступит успокоение. Но, как всегда в жизни, великие минуты смешиваются с ничтожными. Там пока манифест, пока успокоение, – а у Ставки роились свои неотложные заботы: полоцкий комендант доложил: прибыло-таки полсотни нижних чинов, вооружённых револьверами и шашками. Выйдя из поезда, потребовали разоружения станционной охраны. На вопрос коменданта, по чьему приказанию они этого требуют, ответили: по приказанию офицера, который остался в вагоне. Послал комендант жандарма в вагон проверить – солдаты из «депутации» напали на него и разоружили. К счастью, тут показался на станции взвод драгун – и все приехавшие солдаты разбежались. А в вагоне никакого офицера не оказалось.
Теперь они могли снова сбежаться и ехать на Витебск, или могла появиться новая самозваная «депутация», или даже десять таких. Юзы передавали исторический царский Манифест, а надо было снова телеграфировать безответственному Родзянке, да в выражениях терпеливо-почтительных, потому что он высился теперь как бы новым царём, и всё военное Главнокомандование, какое ни будь Верховное, под него теперь попадало. В скромных выражениях напоминал Алексеев, что в военное время и в районе Действующей армии никак не возможно допустить разоружение железнодорожной охраны. И против солдатских банд и самозваных депутаций придётся принимать самые суровые меры, чтобы – Алексеев был возмущён, и строка его окрасилась упрёком, – чтобы оградить Действующую армию от того глубокого нравственного разложения, которое переживают все части петроградского гарнизона.
Увы, для петроградской революции, как она дышала вовне, нельзя было найти выражения более точного.
Суматошный этот Родзянко. То три ночи подряд теребил всех Главнокомандующих телеграммами и к аппарату. Но вот посланы ему одна, вторая точные военные телеграммы о тревожном происшествии – а он держит себя так, будто и не получал.
Но что у Алексеева было – это высокая штабная тренировка. Способность одновременно соображать и неупускательно направлять многие дела, включая и самые мелкие, и о которых другие не успевали догадаться.
Едва был принят из Пскова безповоротный царский Манифест, Алексеев уже распоряжался срочно передавать его по всем юзам одновременно на все фронты – и далее во все армии, и начальникам всех военных округов, и безотлагательно рассылать во все части войск. Везде его ждали!
И, стало быть, надо же думать о новой присяге войск.
Об этом послал телеграмму Родзянке и Львову.
Но одновременно тут же соображал Алексеев и такое, что упустили во псковской и петроградской суматохе: а как об отречении будут извещены союзники? Ведь это тоже не ждёт! Достойнее всего это сделать самому же отрекшемуся императору – и надо предложить новому петроградскому правительству заготовить такое обращение.
Об этом послал телеграмму Львову и Милюкову.
А пока не ушли литерные поезда изо Пскова – порядочно было поспешить донести через Воейкова бывшему Государю полученные сведения из Царского Села, что генерал Гротен и другие дворцовые военачальники арестованы в ратуше. (Не поостеречься ли ему туда ехать?)
А вот сообщал Псков о назначении Верховным Главнокомандующим великого князя Николая Николаевича. (Как и можно было ждать, как и хорошо.) И вот Алексеев обязан был теперь спешить доложиться туда, за Кавказский хребет. А – как? «Всеподданнейше»? – уже нет. Искать новое слово. Всепреданнейше.
Всепреданнейше испросить указаний: когда можно ожидать прибытия Его Императорского Высочества в Ставку? А временно, до его прибытия, благоугодно ли будет Его Императорскому Высочеству предоставить генералу Алексееву права Верховного Главнокомандующего? Или угодно будет установить иной порядок?
Ну, пока кажется… пока кажется всё… – досматривал заботливый, острый стариковский сощуренный глаз.
Всего лишь трое суток прошло от момента, когда вот так же в глуби ночи император уехал на вокзал, Алексеев – вот так же шёл ложиться спать.
За трое суток – какую ж отвалили глыбу, загородившую русский путь!
353
Государь остался один.
В окаменении, в многолетней привычке не выражать себя Николай перенёс неурочный чай со свитой, ещё потом обращались Воейков, Нилов. Последние минуты лицо совсем обезжизнело. Веки, щёки, губы потеряли способность двигаться.
Но вот наконец ушли из его вагона – и вступил он в своё спаленное отделение – и сразу так смягчительно пришлось: свет не горел и не надо было зажигать его: камердинер догадался зажечь лампаду. Обычно её зажигал сам Николай, когда хотел, – а сегодня камердинер, заранее, – чувствовал? понимал?
И так сразу вступил Николай в этот малый тёплый сумрак, и увидел только синеватые края лампады над маслом, чуть колыхнувшееся копьецо огонька – и, в соединении строгости и милости, вечно неразгадываемое лицо Спасителя, одной рукой держащего нам открытый Завет, – открытый, но лишь первые буквы мы способны прочесть и охватить.
И последним движением пальцев заперев за собою дверь, уже окончательно отъединясь ото всех, ото всех людей, и оставшись с Ним одним, – Николай ощутил блаженное горе – расслабиться и плакать. Как подрезанный, опустился на жёсткую свою кровать, свалился на один локоть вперёд – и плакал.
И плакал.
Всё, чего он не мог выразить никому, всё, чего не успевал совершить, всё, чего не дотягивался исправить, – всё теперь выбивалось наружу ударами плача.
На земле одна Аликс могла его понять – хотя и требовательно, хотя порой и осуждая. Но ещё исчерпанней, но до пределов охватывая – только Спаситель мог.
Мы – не можем разгадать Спасителя, но Он – понимает нас сразу, до разъёма, и во всём – сделанном, подуманном, упущенном. И от этого полного мгновенного понимания ощущаешь себя вдруг – ребёнком, слабым, но защищённым.
И под Его рукой – плакал, плакал отрекшийся император, и вся обида невысказанная, вся боль к себе неумелому, вся тоска безвыходная и даже весь ужас – выхлёстывали из него, облегчая.
Уже куда облегчённее он стал на колени молиться.
Под коленями подрагивал пол. Он и не заметил, когда поезд тронулся.
Он плакал уже слабей, но вдруг закруживались – снаружи ли вагона? внутри груди? – как бы ознобные вихри, и ударяли по стенкам, – вихри Судного дня? конца света? – Николай вздрагивал от их жгущих холодных ударов. Потом проходили. Так несколько раз.
Нечистая ли сила рвалась? И отстала от молитвы.
Николай много молитв знал, он очень много их знал, и просительных, и благодарственных, наизусть. И прошептал теперь многие. И в этой работе, в мерном повторении, во вдумываньи в иные фразы (а другие проговаривались без внимания) – он всё более умирялся, утешался, понимая, что – идёт как идёт, на всё Божья воля, Божий замысел, не надо надрываться.
И наступила та равновесная, а потом и перевесная минута, когда молитвой он уже насытился, а немолитвенные мысли стали всё более пробиваться. Это и был знак, что молитву надо кончить.
Николай поднялся, сел на кровать. И отдался ровному поездному стуку. Сколько он ездил по железным дорогам, сколько читал под этот благородный вагонный стук, сколько просыпался под него, сколько смотрел в окно, записывал в дневник, – а не предчувствовал, что именно в поезде, в его любимом поезде, свершится конец его царствования, но – не смертью. Странно: по порядку должна была кончиться сперва жизнь. А вот – царствование кончилось, а он остался.
Зачем?..
Сидел – не ложась, не раздеваясь, не ощущая глубокого ночного времени. Сидел, боком к лампадке, под покачивание, под пристукивание.
Беспорядочно теснилось в голову разное всякое.
Зазвучало, как сказал его ненавистник со злорадством:
– Всякая борьба для вас, Государь, безполезна.
Да, почему-то так сложилось. Борьба, даже и не начатая, стала невозможной. Так всё туго завязано, что ничего не изменишь, не пересоставишь. И Николай в 49 лет, полный здоровья и, кажется, полный сил, – не ощущал никаких сил для борьбы за трон.
Не за всё, не везде, не всегда можно бороться. Гораздо дороже – дать установиться в России всеобщему внутреннему миру и благожелательству. Он – мешал, из-за него всё не было мира, – ну, он устраняется. Он пошёл на все отказы, только не внести бы рознь в страну.
Лишь спасена была бы Россия.
Посмотрим, как все эти … Как – у них… Да помоги им Бог. Хотя не видел Николай среди них, право же, ну право же, таких уж замечательных работников, сколько-то лучше его собственных неудачных министров.
А ведь изо всех перебывавших председателей Думы, ну, кроме ещё Хомякова, – Гучков ему был когда-то наиболее к сердцу: и любит Россию, это несомненно, и умён, и как-то ярок.
Первый раз, когда он представлялся, в Японскую войну, он и Аликс понравился. Так тепло его принимали, так долго, хорошо разговаривали. Не было никакого предчувствия, что он станет таким злым врагом.
А ведь – подлый человек. Сегодня – ждал признаков унижения царя и хотел ими насладиться.
И как дёрнул его наставнический, снисходительный тон: помолитесь!
От человека, который сам забыл, как молиться. А ещё – старообрядец…
А император, все годы, сколько случаев имел ему отомстить – ведь не мстил же.
Но спасибо, что отпустил в Ставку. Так рвался Николай в Царское Село, так искал поддержки Аликс! – но пока ещё надо было что-то решать, пока нужны были силы и мужество. А как только отречение свершилось – сразу вдруг не осталось ни борьбы, ни задач (ещё плечи не привыкли к такой лёгкости, ещё не верят). И вдруг внутри – переменились стрелки тяготений. Семье – обещали депутаты безопасность. И с семьёю Николай пребудет теперь до скончания своего века, с кем же и чем же ещё. А Ставку – Ставку свою он уже никогда потом не увидит. Проститься со Ставкой, в этой мужественной расширенной семье пребыть ещё несколько последних дней – он только и мог сейчас, до приезда Николаши.
Вот рок: один только жребий измечтать и любить – не императора совсем, но полководца, вождя армии, отца всех военных, – и не поехать в Японскую (а всё могло бы пойти иначе!), и не решиться, когда возгоралась германская, – и с таким чрезмерным усилием взять, наконец, Главнокомандование от Николаши – чтобы вот опять Николаше и отдать. Рок.
Как Николай любил военных! Каким военным он чувствовал сам себя! Как – на месте среди этих мужественных, простых, понятных людей. Уж он ли не был отдан семье! Но если бы Бог положил перед ним два жребия жизни и один бы исключал другой: или жениться на Аликс, иметь сегодняшнюю семью, Алексея, – но никогда не надеть военного мундира; или – быть всю жизнь военным, генералом, да даже полковником, как есть, но никогда не жениться, – он выбрал бы второе?
Мужская воля и свобода от страха смерти, победа над смертью, реющая в духе армии, – был высший дух, которым восхищался Николай. Этот дух – ещё смертному придавал уже неземную лёгкость.
Да, он нуждался в Ставку сейчас – как дышать. Чтоб не умереть в минуту.
Сколько же этих мужественных, блистательных офицеров он за 22 года царствования знал, повидал, награждал, выслушивал, наблюдал на парадах, смотрах, манёврах, банкетах, – одни они в совокупности уже был тот народ, для которого стоило царствовать.
И – где они оказались сегодня все? Где их восторженные «ура»? где их выхваченные к небу шашки-клятвы? Почему их рать не явилась к нему на поддержку? почему не отстояла трона?
Много – убитых, многих не стало, прими их, Господи, но сколько ж есть ещё, – где они? Все – рассеялись, скрылись, сидят в землянках, смотрят в стереотрубы, лежат в лазаретах, – все скрылись, а вместо них высунулся пяток Главнокомандующих – и ни один не протянул руки поддержки, но все пятеро толкнули – отрекайся!
Первый раз он сегодня подумал, что выбрал Главнокомандующих как будто не из этих офицеров. И во всяком случае, выбрал – не лучших.
Уже давно не горько было Николаю, что его ненавидят революционеры, кадеты, земгор, высший свет, – не горько, потому что и он им встречно не придавал большой цены.
Но что самые близкие, высшие офицеры, те самые, кто и должны были защитить… – вот этот удар сразил его.
И – опять слезами сжало горло. И выступили на глаза.
Он вспомнил о своём дневнике. Что б ни случилось, даже в день Цусимы, – он не мог отклониться, не записать дня.
Сегодня днём он уже начинал запись, ещё император, ещё не зная своего вечернего будущего. А теперь – надо было кончить.
Кожаная тетрадка дневника лежала на своём месте, в выдвижном ящике столика. Он легко достал её на ощупь. Надо было зажечь лампочку, хотя бы ночную, но даже этого удара не могли вынести сейчас глаза.
А была – как раз остановка. Зашторенный поезд недвижно стоял в глухой тишине и как будто во тьме.
Николай раскрыл, где шёлковая закладка, и стал с тетрадью так близко к лампаде, как мог. Он различал и конец записи и смысл последних дневных слов: что он – согласился . И что из Ставки прислали проект манифеста.
И так, стоя под лампадкой, держа раскрытую тетрадь на раскрытой левой ладони, он вписывал самопишущей ручкой, петли букв скорее на память, но ровноту строчки видя глазами:
«Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с кот. я переговорил и передал им подписанный и переделанный Манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжёлым чувством пережитого».
Вот было и всё. Нельзя доверять бумаге ни своих рыданий, ни своих молитв. Он закрывал.
Но поднеслась опять эта губка Главнокомандующих с жёлчью – такая неожиданная, такая незаслуженная! – и он снова раскрыл тетрадь и добавил ещё одной строчкой:
«Кругом измена и трусость».
И опять – кончил. Но не кончил. Главное-то самое:
«…и обман!»
Всю ночь не пересидишь. Стал раздеваться. И только раздеваясь, вспомнил о Мише, – вот только когда, первый раз! Так непоместительно было вечером всё для головы, что Миша-то и не вместился, все поместились, а Миша нет.
Он там, кажется, сейчас в Зимнем. И именно туда, перст Божий, понеслась по тёмному воздуху корона российских государей, – и странно было бы ничего ему не объяснить, не выразить от себя.
Очевидно, надо с какой-то станции послать телеграмму.
Миша! Милый, славный, прежде такой послушный брат, и такой отчаянный воин, всё перековеркал этой женитьбой, – и какая ж это теперь императрица?
Много было разногласий, но всё можно забыть. А вот – извиниться: передал корону, не предупредив, не спросив.
Завтра послать ему телеграмму.
Решил – изместилось и это из головы. И распустился внутри заветный поиск: родной матери. Кто ж ещё над нами, кто ж ещё при нас, когда мы в безсильной беде?
Быть может – последняя надежда встретиться, перед долгой разлукой. Дать завтра телеграмму и ей – «…приезжай к одинокому сыну, всеми оставленному…».
И опять почувствовал себя маленьким, слабым мальчиком, неокрепшим.
Лежал.
А может – Чудо какое-нибудь ещё произойдёт? Бог пошлёт вызволяющее всех Чудо??
Покачивалось, постукивало.
Постепенно отходили все жгучие мысли, пропущенные через себя, изживаемые думаньем и покорностью, и покорностью воле Божьей.
Отходили – и как-то всё в мире опять уравновешивалось. В этом мире, где завтра начинать снова жить.* * *
...
Царь и народ – всё в землю пойдёт
* * *
Фото
Вермонт, 1979
Примечания
1
Сто пять


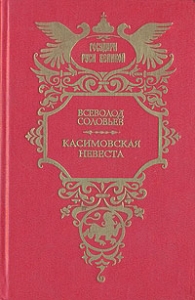

Комментарии к книге «Красное колесо. Узел 3. Март Семнадцатого. Книга 2», Александр Исаевич Солженицын
Всего 0 комментариев