Весь левый низменный берег Оки, почти от устья Москвы-реки, чрез Клязьму, до самой Волги, покрыт густыми сосновыми лесами, в иных местах верст на семьдесят шириною. Леса сии мало-помалу редеют с того времени, как московский топор, добравшись до них, начал просекать сквозные дороги чрез их заповедные чащи; но лет за пятьдесят, за шестьдесят много еще было таких, куда человек не ступал никогда ногою, и даже ворон, по старинной пословице, костей не занашивал. Вечерняя темнота не рассветала в них ни летом, ни зимою; и лишь в березовые рощи, рассеянные кое-где между непроницаемыми соснами и елями, прокрадывались лучи дневные. Тишина глубокая. Иногда только ветер гудел в сокровенной середине, силясь напрасно прорваться сквозь плотные частые преграды; и изредка слышен был медведь; который, взлезая на сосну за бортным медом, царапал своею широкою лапой по древесной коре; или волк, который, почуя дальнюю падаль, скакал по земле, покрытой иглами. Но среди сих дремучих боров есть многие болота, покрытые серым мохом и густою осокою, приволье диких птиц всякого рода, широкие озера, богатые рыбою; и здесь-то исстари находились деревни, основанные охотниками, угольниками и предприимчивыми хозяевами, кои селились в этой глуши, надеясь собирать больший доход с наследственных своих угодий.
У одного из них, премьер-майора Захарьева, который переехал из Москвы в Муромскую деревню с тоски по умершей жене, а остался по привычке и страсти к охоте, затеялось игрище в Васильев вечер для единственной дочери девятнадцатилетней девицы. Все соседи, ближние и дальние, почти за неделю собрались к богатому и радушному хозяину; и в назначенный день, чуть только смерклось, между тем как старики в особых комнатах сидели за отменным пенником и густыми наливками, хвастаясь друг перед другом своими подвигами, нетерпеливая молодежь начала святочные игры; запели песни, заплели хороводы, пустились вприсядку. Поднялся шум, крик, смех, раздались веселые плески. Жмурки, гулючки, жгуты, носки следовали одни за другими, прерываясь только общим хохотом, когда кто-нибудь второпях ушибался до крови об угол или падал стремглав на подставленные ноги, или получал удар побольнее в спину, от которого трещали зубы и из глаз сыпались искры. Ближе к ночи начались гадания, любимая забава взрослых девушек. Они принялись топить олово, выливать в холодную воду и в застывающих образах читать свою участь. Другие выставлялись лицом за окно, накликая суженого: «шени меня, мани меня лисьим хвостиком», — и мягкое прикосновение сулило им богатство, так, как жесткое бедность. Третьи выбегали на мороз и всем телом ложились на рыхлый снег, чтоб по замерзлому отпечатку судить о доброте и лихости будущих мужьев своих. Иные, наконец, бегали слушать на паперть, под церковное окно, иные на мельницу, на погребицу, к закормам, на гумно. Всего занимательнее было толкование предвещаний, когда девушки, одни белые, как молоко, другие красные, как кровь, испугавшись или ободрившись, набежали опять со всех сторон в комнату и стали пересказывать друг другу полученные вести. Вот тут-то надо было послушать споров: один и тот же знак, один и тот же звук иные принимали к добру, другие к худу, одни плакали, а другие смеялись. — А как наконец начались поздравления, утешения, шутки, насмешки! Словом: шумному веселью не было бы конца, если бы старики, успевшие раза по два напиться и проспаться, не стали вызывать игруш домой: на общем совете у них положено было разъехаться теперь же, несмотря на позднюю пору, для того, чтоб удобнее было на третий день собраться к одной дальней имениннице. Девушкам было очень досадно оставить такое раздолье, но их утешили надеждой вскоре возобновить прерываемую забаву; и они, перецеловавшись с молодою хозяйкою, поблагодарив ее за ласковое угощение, уговорясь о наступающем празднике, одни за другими разъехались с своими родителями, уложенные и укутанные. Старик взялся сам проводить одну свою приятельницу, трусливую вдову с двумя дочерями, жившую верстах в двадцати от его усадьбы.
Дочь осталась дома одна. Гаданья в этот вечер возвестили ей печаль наравне с радостию и взаимно себе противоречили: на стене, например, в тени от оловянных вылитков она увидела две церкви, а между ними глубокую впадину с колючим ежом, знаком потаенного врага. На морозе с одной сторон кто-то погладил ее пушистым хвостом, а с другой оцарапал голиком, и песня ей спелася очень странная:
Сиди, ящер, в ореховом кусте; Щипли, ящер, спелые орехи; Грызи, ящер, ореховы ядра; Лови девку за русую косу, Лови красну за алую ленту.Она была в большом сомнении и, чтоб выйти из него, наслышанная много о сбыточных гаданьях в таинственный Васильев вечер, решается на последнее, самое действительное. Одна в своей комнате, в самую полночь, когда улеглись все домашние, и только двое слуг в передней, дремля, дожидались барина, она садится перед зеркалом между двумя свечами и наводит другое так, что оно отразилось в первом двенадцать раз и представило даль бесконечную.
Туда, на самую крайнюю точку, до которой едва досягал напряженный взор, устремила она все свое внимание и с трепетом ожидала, что там ей представится: венец или заступ, счастье или несчастье. Долго, долго смотрит она, ни об чем не думая, и воображение наконец берет верх над прочими способностями; она совершенно забывается, не знает уже, где она, что делает и чего желает, а между тем все смотрит, смотрит, смотрит…
Вдруг на далеком, далеком краю что-то чернеется… шевелится… ближе и ближе, больше и больше… неясные черты собираются в человеческий образ… призрак идет и растет, идет и растет… уж можно различить и черты: черные глаза, как горячие уголья, навислые брови, как сосновые ветви, рот с дупло, голова с пивной котел, волосы всклокоченные овином… а все еще он толстеет и длиннеет… уж это исполин во всю комнату… уж близко ее… и ударил по руке железной лапой… Ах!
Страх возвращает девушке память. Она перекрестилась и видит перед собою высокого толстого мужика в нагольном полушубке с топором в одной руке и потаенным фонарем в другой.
— Ключи от денег! — спрашивает он ее охриплым голосом.
— Не знаю, — отвечает девушка.
— Врешь! Сказывай! Убью! — и замахнулся топором над нею.
— Здесь в образной, — отвечает она, трепещущая, и подает толстую связку.
— Веди под пол! Где ход?
Дрожащей рукою указывает она половицу, которую разбойник тотчас поднимает, толкает вперед девушку и сам спускается вслед за нею по маленькой лесенке; нагнувшись, ведет она его по разгороженному подвалу к углу, где стоял большой дубовый сундук, окованный со всех сторон железом.
Разбойник, осмотревшись, примерясь, кладет на землю топор и фонарь, становится на колена, повертывает с напряжением длинный ключ в заржавом замке и силится поднять примерзлую крышу; а что делает девушка?
Образумясь уже от страха, видя себя в выгодном положении, сия мужественная дочь дикой природы, привыкшая с малых лет к былям и сказкам о страшных приключениях, уже решилась на смелый поступок: она взяла потихоньку топор, не в домеке занятому разбойнику, и, изловчась, со всего размаху вдруг ударила его сзади обухом по голове, так что в то же мгновение вылетел из него дух…
Между тем в ближней стороне слышится шорох: кто-то подлезает через отдушину под дом и издали шепчет:
— Эй, Степка! что ж ты! Да скоро ли?
Не теряя духа, ободренная успехом, девушка отвечает сиповатым голосом:
— Да не управлюсь, поди сюда, пособи.
А сама, закрыв фонарь, прячется у дороги за столбом. Второй разбойник ползет на голос, ругая темноту и тесноту. Лишь только поравнялся он с нею, она из всех сил топором его в самое темя, и тот повалился, не испустив даже стона.
Она спешит оставить мертвецов, но испытание ее не кончилось: еще слышится шорох, подлезает третий:
— Ребята, скорее, барин уж близко.
Уйти ей невозможно: половицу над лестницею первый разбойник крепко прихлопнул, спустившись под пол, и поднять ее без шума нет средства — опасность увеличивается. — Разгоряченная, с помутившимся уже умом, она дожидается нового гостя и встречает его с меньшею осторожностию и меньшим успехом: удар попал не в голову, а по руке… Между тем на дворе послышался шум, залаяли собаки… разбойник, ошеломленный внезапным ударом, назад, а героиня с последними силами на лестницу, в свою комнату, и без памяти покатилась на пол.
Это в самом деле приехал барин. Видя свет в комнате у дочери, он заходит к ней проститься и как же ее находит? Она лежит бледна, как смерть, без голоса, без движения; подле нее окровавленный топор; нагорелые свечи перед зеркалом; другое зеркало, разбитое вдребезги, на полу. — Он не понимает, что все это значит, зовет в ужасе людей, оттирает полумертвую льдом. — Она приходит на минуту в себя, поводит мутными глазами и чуть выговаривает прерывающимся голосом:
— Четвертый… пятый… я устала… нет больше сил… — и опять лишается чувств.
Напрасно старик употреблял все средства, чтоб вывести ее из этого положения. Целую ночь провела она в бреду и изредка произносила:
— Кровь на мне… Я убила двух… трех… Господи, помилуй.
К позднему утру уже она опомнилась совершенно и, увидя подле себя отца, бросилась к нему на шею в горьких слезах:
— Батюшка! Вы ли?.. у нас были разбойники, я убила троих, — и рассказала удивленному старику свои ночные приключения. Старик не верит ушам своим, почитая слова дочери продолжающимся бредом, хоть этого и не показывает. С сомнением поднимает он половицу и спускается под пол с своими людьми; но каково же было его изумление, когда в самом деле видит там мертвые тела и отрубленную кисть! Он расспрашивает дочь о подробностях, посылает верховых в Муром за командою, а между тем принимает все предосторожности на случай внезапного нападения. Однако ж день прошел благополучно, кроме того, что переволнованная девушка слегла в постелю, занемогши горячкою. На другое утро приехала земская полиция с понятыми, отобрали показания, освидетельствовали трупы, объехали дачу, искав горячих следов; но следы простыли, и они, оставив несколько гарнизонных солдат в деревне, отправились обратно для дальнейших поисков. Но все их старания были безуспешны, и сыщики, разосланные по околотку, не привезли никаких объяснительных известий. Между тем девушка выздоровела, старик успокоился, суд забыл о следствии, занявшись свежими уголовными делами, и только молва о мужестве барышни Захарьевой распространялась более и более, так что на противоположном краю лесов говорили, будто она перебила чуть не всех муромских разбойников.
Прошло полгода. Все дела в доме господина Захарьева пошли по прежнему порядку.
Около Петрова дня заезжает к нему сын старинного его сослуживца и крестного брата, жившего под Брянском.
— Батюшка, — сказал молодой человек, — зная, что ваша деревня недалеко от большой дороги в Макарьев, куда я еду с своим приказчиком, велел мне непременно заехать к вам и осведомиться о вашем здоровье и обстоятельствах. Вот вам и письмо от него.
Сельские жители знают, как приятно в глухой деревне увидеть незнакомое лицо и поговорить о чем-нибудь новом, вне круга ежедневных бесед, и потому нетрудно себе представить, с каким удовольствием старик встретил нечаянного гостя. Расцеловав его, припомнив, что за столько-то лет в такой-то праздник, при таких-то гостях он нянчил его на руках своих, познакомив с своею дочерью, майор со слезами на глазах прочел послание задушевного своего друга и требовал потом неотступно от сына погостить у него хотя недолго. Проезжий отговаривался недосугом и просил позволения немедленно отправиться в свой путь. Старик, однако ж, никак не согласился отпустить его, прежде нежели не расспросил подробно обо всех его братьях, сестрах и родственниках — о том, как отец его проводит время, чем занимается и по-прежнему ль метко стреляет дичину. Молодой человек отвечал так ловко и удовлетворительно, что старик полюбил его с первого дня и взял с него честное слово заехать на возвратном пути и погостить у него подольше.
В самом деле чрез три месяца, после скучных ожиданий, в продолжение коих майор начинал уже сердиться на ветреность людей нового поколения, жданный гость, к сердечному удовольствию, явился в сопровождении прежнего приказчика — и не с пустыми руками: в знак благодарности за ласковое гостеприимство он привез дочери в гостинец собольи якутские хвосты, а отцу устюжскую серебряную табакерку с чернью. Старик был очень рад, не знал, чем его потчевать и забавлять; услышав же, что он сдержит свое обещание, начал показывать ему свое хозяйство, водил на охоту с ружьем, ездил с ним бить медведя, а по вечерам молодой человек рассказывал в свою очередь о брянском обиходе, о Макарьевской ярмарке, о петербургских новостях и до такой степени понравился, что майор, под конец недели заметив, какие ласковые взгляды среди разговора бросал он на его дочь, слушавшую с глубоким вниманием, вздумал предложить ему запросто ее руку вместе со всем ее имением.
— Мы выросли с твоим отцом вместе, крестами поменялись, — сказал ему старик, разнеженный любимой мыслью, — одною палкою биты в полку — мне больно хочется под старость пожить с ним еще вместе и порадоваться на общих внучат.
— Василий Демидович! Признаться ли вам — я затем сюда и приезжал, чтоб увидеть дочь вашу: ибо батюшка и спит и видит, чтоб я женат был на ней и породнил его с вами. Получив от меня известие, он сам хотел было приехать к вам и просить ее мне в замужество.
— Настенька! По сердцу ли тебе Григорий Григорьевич? — закричал восхищенный старик.
Настенька пришла и потупила глаза.
— Ермошка! за попом! Целуйтесь, жених и невеста.
Благословленный жених просил не откладывать и свадьбы, ибо отца дожидаться здесь было бы очень долго, а пост был уж на дворе; ехать к нему всем было также затруднительно, потому что целое семейство вдруг подняться не может, да и хозяйство от этого потерпело бы очень много. Эти причины показались уважительными, особливо невесте. Дожидаться больше было нечего: приданое Настеньке еще покойная мать приготовила, и сундуки в кладовых стояли верхом, церковь была близко, и так чрез неделю при множестве повещенных гостей была разыграна свадьба.
Старик не мог нарадоваться на молодых, а они друг от друга были в восхищении. Муж ласкал жену от утра до вечера, смотрел ей в глаза и предупреждал всякое желание. Только и дела было у них, что они целовались и миловались. Между тем званые обеды у себя, в гостях, гулянья, катанья, вечерние пиры не прерывалися.
Месяца чрез два зять сказал, что ему пора уж ехать с женою к отцу, который в своем письме понуждает его воротиться, желая поскорее увидеть молодую невестку.
— Делать нечего, детушки, — сказал наконец старик, — ступайте с Богом! Настенька, не плачь! не век прожить тебе в отцовской пазушке! Убравшись дома, я сам приеду к вам по первопутенке.
— А потом мы к вам всею семьею, — перервал веселый молодой.
— Вот и ладно! так мы и станем провожать друг друга — из муромских лесов да в брянские, а из брянских в муромские.
В неделю молодые собрались; они распорядились ехать на своей тройке, то есть на той, на которой ездил муж к Макарью, а за приданым хотели из дома уж прислать после подводы четыре. Когда все готово было к отъезду, отслужили по обыкновению путевой молебен. Дочь рыдала безутешно, несмотря на прежние веселые сборы, и, прощаясь, так повисла на шею отцу, что едва мог оттащить ее муж. Старик благословил ее в кибитке почти без памяти: так тяжело было ей расставаться с своим родимым обиталищем. Ямщик ударил по лошадям. Поехали.
Много ли, мало ли времени в тот день они проехали, неизвестно: муж, имея слабое зрение, опустил рогожу с кибитки от солнца, а жена, утомленная при прощанье, уснула на десятой версте и проснулась уж вечером, когда лошади остановились у ночлега.
— Вставай, — сказал муж.
Она встала и увидела перед собою ветхую избенку при дороге, чуть наторенной.
— Разве мы ехали не большой дорогой? — спросила она мужа.
— Здесь ближе, — отвечал он ей отрывисто.
Она бросилась было поцеловать друга; тот отворотился с нахмуренными глазами и пошел в другую сторону. Молодая не понимает такой внезапной перемены и, забывая собственную печаль, старается отгадать причину. — Между тем вошли в избу. На столе приготовлен был ужин: пироги, ватрушки, ветчина, вино. Прислужников никого не было; приезжие перекусили все вместе: господа и приказчик, и ямщик; никто как будто не смел прерывать молчания. Чрез несколько минут хозяин-угольщик пришел сказать, что свежая тройка готова. Между тем на дворе было уж очень темно.
— Едем, — сказал муж. Жена опять бросилась поцеловать его по-прежнему. Он улыбнулся, но без нежности, даже с какою-то злобою. Молча сели они опять в кибитку. Несмотря на темноту, жена примечает, что следу становится меньше и меньше, лес гуще и гуще. Ни одной души навстречу не попадается. Ямщик с трудом пробирается в чаще и беспрестанно повертывается около деревьев.
— Куда мы едем? — спрашивает дрожащим голосом молодая.
— Куда надо, — отвечает он сквозь зубы.
Наконец стало рассветать. Глушь и дичь ужасная, но лицо мужа становится веселее: он начинает взглядывать на нее с каким-то удовольствием, приказчик на облучке с ямщиком пересмеивается, и она ободрилась. Так — это был напрасный страх. Два месяца любил он ее так нежно, целовал ее так сладко, угождал ей так искренно. — Чего же дурного ожидать ей? Верно, сам он боялся ехать по такому дремучему лесу, и эта боязнь отпечатывалась на его словах и действиях; или, может быть, он хотел испытать ее доверенность, испугать нарочно, чтоб после посмеяться над ее прежней храбростию или, наконец, доставить ей нечаянное удовольствие. — А теперь, верно, опасность миновалась, и оттого стал он веселее.
Молодая женщина предается снова приятным мечтам, воображает себя в кругу своего нового семейства, среди милых сестер, в объятиях пламенного мужа — как вдруг, выехав из густой чащи на широкую поляну, свистнул он с такой силою, что листья на деревьях, кажется, зашевелились, и вся ее внутренность похолодела… Пронзительный гул пронесся по всей окружности, и тотчас как будто в ответ поднялся в лесу со всех сторон и свист, и крик, и гам… Ямщик и приказчик, гаркнув, приударили по лошадям… Лошади пустились вскачь… Шум увеличивается и приближается, как будто весь лес проснулся и двинулся с своего места, идет к ним навстречу, идет и шумит, идет и шумит. — Молодая не взвидела света Божия! — Что это такое? Куда везут ее, и кто ее муж? Что он замышляет? Господи! умилосердись!
Несколько минут лихая тройка неслась во весь опор.
— Стой, — закричал наконец молодой.
Ямщик осадил приученных лошадей, и они на всем скаку остановились как вкопанные, фыркая и роя копытами землю. Барин и приказчик мигом выскочили из кибитки, подхватили под руки изумленную женщину, которая, вне себя от страха, не знала, что с нею делается, и потащили по длинной узкой гати, заваленной с переднего конца валежником и хворостом…
С половины открылся пред ними на пригорке деревянный дом, окруженный со всех сторон каменной оградой с железными воротами посредине. Они уже отворялись, и со двора высыпало множество народа с веселым криком и шумом навстречу ожиданым гостям. — Все мужчины, высокие, толстые, пухлые, в лаптях, сапогах, босиком, кто в кафтане, кто в рясе, кто в красной рубахе, кто подпоясан, кто нараспашку, с синими пятнами и рубцами на лицах, остриженные и длинноволосые.
— Гей! сюда! ура! Скорей! Давай ее — змею подколодную! — гамели они издали, сверкая глазами, размахивая кулаками, засучивая рукава.
— Вот вам она, — закричал запыхавшийся молодой, перебежав с своим товарищем во весь дух остальную половину дороги, — вот вам она! — и бросил полумертвую в средину разъяренной толпы.
— Ай атаман! Спасибо! исполать! Сослужил нам службу! — раздалось со всех сторон, и разбойники, кажется, тут же растерзали б на части ненавистную им женщину, попавшуюся в их когти, если б один из них, с подвязанною рукою, не остановил своих товарищей.
— Ребята! постойте, выслушайте меня: одной смерти мало этой злодейке; ее надо измучить так, чтоб черти расплакались — за наших двух молодцов — царство им небесное! — что по ее милости издохли не в чистом поле, не в темном лесе, не красною смертью, а под полом, как мокрые мыши от кошечьей лапы. Ребята! отдайте ее мне в волю — за эту руку, которая двадцать лет служила вам верой и правдой, а теперь мотается без пальцев, — уж я вас распотешу!
— Дело! дело! быть по-твоему! Лишь поскорее! поскорее!
— Атаман! ты что скажешь на это?
— Вина, вина, — закричал атаман, переведя дыхание и поднявшись с земли, на которую повалился от усталости, — вина! не быть было мне вашим атаманом… обольстила меня Ева… и если б не побожился я тебе, Иван Артамонович, привезти ее живую или мертвую, если б не привиделся еще мне ночью удалый наш Степка, не погрозил мне окровавленным пальцем и не указал мне на рассеченное темя, братцы, изменил бы я вам, — да откиньте ее с глаз моих подальше, прелестницу… Видите, как она смотрит на меня умильно! Вина! вина!
— Ах, она, злодейка! ах, она, змея! Да она колдунья! чернокнижница! Нашего Грозу отвадить хотела! Вот мы ее! вот мы ее!
А между тем принесено было горячее вино, и жадные разбойники, как пчелы улей, облепили глубокую ендову [2]. Атаман одним духом выпил с ковшик, за ним все товарищи, и началось разгульное похмелье.
Перед нашими вороты, Перед нашими широки, Перед нашими широки Разыгралися ребята, Все ребята молодые, Молодые, холостые: Они шуточку сшутили, В новы сени подскочили, Новы сени подломили, Красну девку подманили, В новы сани посадили.— Гей! еще вина! заповедного! отрывайте ледник, выкатывайте бочку, починайте мартовское пиво! Живей! удалей!
Так буйствовала радостная шайка, пылая мщением за погибших товарищей, несчастная жертва, обреченная на погибель, стояла одаль, потупив глаза, бледная и безмолвная, и ожидала с нетерпением конца своим мучениям. Вот кто был ее муж! вот зачем он женился на ней… Но чувство любви к злодею еще не остыло в ней: она как будто не верит самой себе и с ужасом старается отклонить мысли от этого горестного предмета… «Что будет с отцом моим, — думает она, — когда он услышит, в какой обман он попался, в чьи руки предал единственную любимую дочь свою и какие мучения должна переносить она по его неосторожности», — и залилась горючими слезами.
Между тем ковши по нескольку раз обошли опьянелую шайку…
— Чего же дожидаетесь вы, братцы, — закричал один, — или за попом посылать хотите? Эй, расстрига, дьячок, благослови!
— Вот я благословлю, — загремел косматый толстый мужик с длинной бородой и заплетенною позади косою, подскочил к ней и со всего размаху хватил ее по щеке, так что она зашаталась и упала.
— Те, волосатик, — закричали прочие, грозя ему кулаками, — ты пой, а рукам воли не давай.
— Ребята! в самом деле зевать нечего, говорите вы прежде, что делать с нею! — закричал Иван Артамонович
— Головою об угол?
— Мало.
— Колесовать?
— Мало!
— Повесить за ногу на суку!
— Разорвать по кускам?
— Мало, мало!
— Так что же?
— Сжечь на малом огне! — закричал смеющийся изверг. — Ха! ха! ха! Жечь, жечь ее! Скорее дров, огня, костер!
— Братцы! пусть она сама носит на себя дрова.
— Носи же, бесова дочь! — закричали все разбойники, и ближние толкнули ее к поленнице, а другие притащили из подвала большую железную решетку.
— А нам покамест закусить давайте! Кашевар! Что есть в печи, все на стол мечи! — Разбойники на широком двору, поросшем травою, расположились полдничать; несчастная женщина под надзором троих сторожей ходила взад и вперед, согнувшись под тяжелыми ношами, — а злодеи посматривали на нее с свирепым удовольствием, ругали и швыряли оглоданными мосолыгами.
Атаман сидел задумавшись, отворотясь от нее в другую сторону.
Один молодой парень подвернулся к нему и хотел развеселить.
— Об чем ты, друг наш, призадумался? За что про что ты повесил свою буйную головушку? Послушай-ка меня, слуги своего верного, как я спою тебе песенку, песенку вещую, справедливую.
Стругал стружки добрый молодец, Брала стружки красна девица, Бравши стружки, на огонь клала, Все змей пекла, зелье делала. Сестра брата извести хочет: Встречала брата середи двора, Наливала чашу прежде времени, Подносила ее брату милому. «Ты пей, сестра, наперед меня». «Пила, братец, наливаючи, Тебя, братец, поздравляючи», Как канула капля коню на гриву, У добра коня грива загорается, Молодец на коне разнемогается. Сходил молодец с добра коня, Вынимал из ножен саблю острую, Сымал с сестры буйну голову: «Не сестра ты мне родимая, Что змея ты подколодная»… «Не сестра ты нам родимая, Что змея ты подколодная!» —подхватили другие разбойники, — зажигайте костер! огневщик, чего ты зеваешь?
— Вина, вина! — кричал атаман, в котором тлилась искра сострадания к молодой жене.
Тотчас разбойник высек огню, другие надрали бересты, зажгли подтопку, и черный дым густыми облаками уж поднялся кверху… как вдруг благим матом прискакивает вестовой на замученной лошади…
— Ребята! скорее на коней! обоз едет!
— Где?
— В вечерни пошел от Полусмирного, теперь должен быть близко Волчьего врагу.
— Велик ли?
— Большущий.
— С чем?
— С овощным товаром: сахар, чай, кизлярская водка, сласти, чего хочешь, того просишь. Добыча — разлюли. Трошка подпоил извозчиков на постоялом дворе. У всех в голове шумит, и они едут спустя рукава. Всех руками бери и делай, что хочешь. Только не мешкайте! Скорее.
— Нельзя ли подождать?
— Ни-ни! как они выедут на чистое место да протрезвятся, так взятки с них будут гладки. Еще попутчик, может быть, подвернутся. Команда, слышно, из Мурома едет зачем-то в уезд. Скорее. Да что вы тут развеселились, что вам не хочется с печкой расставаться?
— Чего, брат, гостью бог нам послал, прошеную и званую — (Ба, ба, ба, здорово, краличка! да какая же красивенькая, смазливенькая!) — так мы угостить ее хотим…
— Эва? Что вам мешает! Успеем разделаться с нею, воротясь; надолго ль там работы: окружим, наскочим, закричим, цап-царап, и дома.
— И то, — подхватили другие, — все равно здесь дожидаться: дрова не разгорелись еще.
— На коней — да поедем все гурьбою, чтоб скорее порешить, и назад, на пирушку.
— А с нею кого здесь оставить?
— Тимофея хромого: пусть стережет ее да огонь раздувает.
Разбойники побежали под навес за лошадьми, которые стояли у них готовые, оседланные и взнузданные. Иван Артамонович скрутил молодой женщине руки назад, ударив раза три по голове за то, что она воротилась, наказал строго-настрого оставленному сторожу не спускать с нее глаз, запереть ворота и дожидаться их возвращения. Лошади были выведены, оружие вынесено — кистени, сабли, ружья, рогатины; разбойники выбрали кому что было надо и, одевшись, оправясь, вооружась, сели на коней, свистнули, гаркнули и поскакали ватагами в разные стороны.
Хромой запер за ними ворота и сел к огню, смотря с сожалением на связанную женщину. В самом деле, красавица собою, в цвете лет, высокая, стройная — и в таком горестном положении, похищенная из отеческого дома, ни мужняя жена, ни девушка, во власти неистовых палачей, у костра, на котором должна чрез несколько часов погибнуть в ужасных мучениях, она могла возбудить жалость в самом закоренелом злодее, и только месть ожесточила сердца прочих разбойников, связанных узами условного родства до такой степени, что ни в одном не раздался голос человеческого чувства.
Настенька тотчас заметила действие, производимое ею над молодым сторожем, — она начинает просить его…
— Спаси меня… ты добрый человек… Это видно по лицу твоему… Заставь о себе вечно бога молить… Спаси.
— Что ты? Что ты? Мне жаль тебя, правду сказать, но, видно, так тебе на роду написано: за то Бог наверстает на том свете. Спасти я не в силах; как я могу?
— Убежим вместе.
— Помилуй, я хромаю, у меня пуля в ноге… двадцати шагов не пройду… сил нет, куда мне теперь бежать!
— Ну отпусти меня одну, развяжи только мои руки. Сжалься надо мной, молюся тебе.
— Но они убьют меня самого на месте, как увидят, что я изменил им и выпустил их пленницу. И так меня не любят и беспрестанно подозревают.
— Разве ты здесь недавно?
— Недавно, — они меня сманили в трактире под недобрый час, когда мне было до зла-горя, и вовсе невинный шел я под суд, — теперь я опомнился; мне самому хочется оставить этот вертеп — но меня ранили в первой схватке, и я дожидаюсь, как излечится моя рана.
— О, будь моим ангелом хранителем, ради Бога, прошу тебя.
— Рад бы, да как же?
— Послушай… вот что. Сам Бог меня надоумил… перережь мою веревку… ляг… я убегу… ты скажешь, что я освободила себе руки, толкнула тебя сзади… прибила… связала тебя, а сама убежала… они поверят… они знают меня.
— Да как?
— Как-нибудь! Сделай милость, сделай милость, они тебя не тронут. Все это похоже на правду…
— Но куда бежать тебе? догонят тотчас.
— Попытаюсь… все равно… ведь и без этого умирать мне надо. Авось Бог поможет. Христа ради. Христа ради. Господь наградит за доброе дело, может быть, и я успею помочь тебе. Друг мой…
Из глаз ее лились слезы ручьями, на лице выражалось такое страдание, в голосе слышалось такое убеждение…
И молодой человек побежден; подвергая жизнь свою опасности, он решается исполнить такую усильную просьбу: молча берет топор — но перерубить узлы неловко, они плотно завязаны на теле… надо развязывать. Женщина трепещет от радости и нетерпения, между тем как ее благодетель продевает из петлей толстые концы… вдруг слышится шум… у него опустились руки.
— Господи, они возвращаются.
— Не может быть — это, верно, упало дерево, слышишь, как ветер шумит.
— И собаки бегут к воротам. Все пропало.
— Нет — собаки играют, видишь: они таскают какую-то ветошку.
— Ах! я слышу хохот.
— Совы хохочут в лесу, — развязывай, остался один только узел, последний!
— Свистят!
— Это орел свистит. Вот и все. Ну слава Богу! Благодарю, благодарю тебя. Теперь постой, сейчас я свяжу тебе руки… хоть слабо… будто после ты их распутал… вот так… прощай! Если Бог мне поможет, я тебя не забуду. Если нет — все-таки не забуду на том свете, пред Божией матерью… Ах, я не спросила еще о дороге.
— Я не знаю, меня привезли с завязанными глазами, — и один раз только ночью я выезжал на разбой, где меня ранили.
— Боже мой! По крайней мере… как ты думаешь: в которой стороне город?
— Кажется, в этой…
— Прощай и молись обо мне… Да займи их здесь подольше… опорежься… ляг к забору — прощай!..
Решительная женщина поцеловала его и изо всей мочи побежала…
— Ах! ворота заперты. Тебе нельзя их отпереть.
— Назади есть калитка, пройди через нее.
Собаки с лаем погнались было за нею, но, остановленные знакомым голосом, оставили ее в покое.
Между тем разбойники сделали свое дело, хотя и не с полным успехом. Приехав несколько поздно, они захватили только половину многолюдного обоза, из которого многие воза успели до их появления выбраться на безопасное место. Перевязав остальных ямщиков по рукам и ногам, уложив их в рытвину подле дороги, они отвели подводы в другую сторону, выбрали все, что было полегче и нужнее, навязали на своих лошадей и, поведя за собою несколько выпряженных, пустились разными дорогами к своему притону.
Уж брезжилось утро, как они стали подъезжать к воротам. Подают условный знак — ни ответу, ни привету. Стучатся — то же молчание. Еще шибче — и опять напрасно. Кричат, кличут — все без успеху. Наконец — несколько человек перелезают через забор и отпирают ворота. Нетерпеливые бросаются… на дворе нет ни сторожа, ни пленницы… огонь чуть светится… недоумение… вдруг слышат стон… идут, ищут и находят своего товарища под забором, окровавленного, охающего от боли…
— Что с тобою сделалось?.. где она?
— Ой, ой, ой! ее нет?
— Чего же ты смотрел, мошенник?
— Чего я смотрел! я только оборотился от нее и стал подгребать уголья… ой, ой… мочи нет… как она толкнула меня в огонь, ударила по шее…
— Да ведь она была связана.
— А черт ее знает, как она развязалась, окаянная. Сам бес ей, видно, помог… да отнесите меня на печь. Я прозяб.
— Куда ж она бежала?
— Она побежала в покои…
(Несколько человек бросились тотчас в дом.)
— Но как попал ты под забор?
— От удара лежал я без памяти… Она из дома опять прибежала ко мне… взяла да связала… да за ноги и оттащила к забору, в крапиву…
— А после что?
(- В покоях нет нигде: мы перешарили все мышьи норки, — прибежали сказать разбойники.)
— А после что она сделала, тебе говорят, хромой черт?
— А как мне было видеть… Я слышал только, собаки лаяли вот там… к калитке.
— Да что же, дьявол, ты не сказал этого прежде?
— Братцы! опять на коней! — закричал в бешенстве Иван Артамонович. — Врассыпную! И кто привезет ее сюда живую, тому вся моя доля и тому я слуга до второго пришествия; смотрите ж, чтобы не посмеялася баба над молодецкою шайкою!
Человек восемь разбойников тотчас поскакали из ворот во все стороны, ругая и страшно проклиная нашу героиню, которая в другой раз нанесла им такое оскорбление. Остальные, уложив привезенную добычу в подвалах, пустилися вслед за ними. Дома остались человек пять особенно уставших и Иван Артамонович, который вне себя от ярости то подкладывал дрова, то подходил к воротам смотреть, не везут ли беглянку, то раздувал огонь, то разжигал клещи.
Избегнет ли несчастная женщина приготовленных мучений? Получаса еще не прошло, как она оставила адское жилище. Далеко ли могла она удалиться! Одна, не зная дороги, в дремучем лесу, в котором среди белого дня заблуждаются, может ли она укрыться от своих преследователей? Они знают все заячьи тропинки! Они не оставят ни одного кустика без осмотра. И сколько пустилось их за нею в погоню? Двадцать. Все они раздражены на нее за смерть двух главных своих товарищей. Их злоба теперь получила новую пищу, им стыдно упустить жертву, с таким трудом приобретенную… Притом, спасшись, она может служить к их погибели… Несчастная! Для чего же она поверила обольстительной надежде, для чего за сомнительную минуту отважилась на лишние мучения?
Впрочем, любезные мои читатели, я не скажу вам вдруг, хорошо ли или дурно она это сделала; я скажу вам только, что много обстоятельств может встретиться в ее пользу, так же как и во вред ее; а какие из них случились именно, то есть погибла ли она или спаслась, о том вы узнаете не так еще скоро.
Бывали ль вы, московские мои читатели, в Охотном ряду накануне Благовещенья [3] или Светлого воскресенья? [4] Видали ль вы там, как, в исполнение священного завета старины, добрые наши простолюдины выкупают пленных птичек и из своих рук пускают на волю? Случалось ли вам когда слышать самый первый звук, которым под облаками поздравляют они Божие творение? Ах! этот святой звук всегда проникал до глубины моего сердца. Никакая ученая музыка не производила во мне приятнейшего умиления. Я не знаю сильнейшего выражения беззаботной, чистой, полной радости: освобожденная пташка в одну минуту забывает свой грустный плен, свою тесную клетку; она не боится ни людей, ни сетей; она чувствует только свою волю; она только наслаждается своим счастием. Счастливее и счастливее — взвивается она выше и выше…
С таким-то чувством наша Настенька оставила ужасный вертеп разбойников: она бежит, бежит, не оглядываясь, не слыша земли под собою; ничто ее не останавливает — чрез колючие иглы, по колено в болоте, по грязи, в частом кустарнике она бежит, как будто по гладкой дороге. Темнота в лесу ужасная: на небе, покрытом тучами, не мелькнет ни одна звездочка, не выглянет месяц; но ей кажется, что все светло вокруг нее; и она бежит прямо, ни на шаг не сворачивая в сторону, перепрыгивает, переползает, наклоняется, нагибается, боком, всем телом. Ночь холодная, осенняя; но она вся горит, и пот катится с нее градом. Из лица ее течет кровь, волосы треплются ветром, платье беспрестанно зацепляется… Нужды нет! она утирает лицо, расправляет волосы, отрывает лохмотье, и все дальше, все дальше, по одному направлению. Наконец повеял утренний ветерок, небо мало-помалу очистилось, занялась заря и стало рассветать. Глаз ее устремляется сквозь древесную чащу на самый край: не видать ли какого жилья, не встречается ли человек, не близка ли дорога…
Нет, глушь и дичь кругом, и лесу нет конца. — Ах, если она заблудилась! Силы ее оставляют, колена подсекаются, ей трудно переводить дыхание… и в эту минуту вдали послышался конский топот, раздались людские голоса. Господи! это верно они!
Несчастная побледнела, ей представились уже их зверские лица, их дикие вопли, она уже мучится. Вдруг опять все затихло. Так! Опасность верно только почудилась расстроенному воображению! Но страх подкрепил ее силы. Она опять пускается… Шум послышался снова… громче и громче… прямо на нее. Нет! Это точно разбойники. Что делать?
Спастись невозможно. Несчастная женщина остановилась, осмотрелась кругом — перед нею дерево высокое, суковатое, с широкими, густыми ветвями. Последняя надежда. Она бросается на него, с ветви на ветвь; гнется одна — она уж на другой, на третьей… перебирается выше и выше… и долезла до вершины; там укрылась она так ловко в листьях, что снаружи ее стало неприметно, и шум, произведенный в дереве, затих, прежде чем показались разбойники.
Их было двое.
— Проклятая! вот не было горя, да черти накачали! Чем бы теперь пировать на радостях, а мы на холоду стучи зубом о зуб! Ох, если б теперь попалась мне в руки… Те, постой. Что-то шумит.
Разбойники, приблизясь, остановились под самым деревом, на котором, ни жива ни мертва, ожидала решения своей судьбы несчастная Настенька. Ну если отломится сучок, ну если она потеряет равновесие, из рук выронит ветвь… на ней нет башмака… ну если он скинулся, когда она лезла на дерево или где-нибудь вблизи, и разбойники увидят его на земле! С каким горячим чувством стала молиться несчастная!
— Нет, тебе верно так показалось, — возразил другой, прислушиваясь к шороху.
— Чего, братец, показалось, — смотри, вон пробирается волк, видишь, как сверкает он глазами… Прицеливайся, пали. — И разбойники в два ружья выстрелили в дикого зверя, который с страшным стоном в ту же минуту упал мертвый.
— Мы оставим добычу здесь, — сказал старший разбойник, прикалывая волка, — а сами поедем дальше.
— Куда еще дальше, в омут, — отвечал другой. — Поедем назад: ее, знать, давно поймали!
— Полно врать. Если б поймали, мы услышали б свист. Иван Артамонович всем приказывал знак подать. Доедем хоть до Терешиной дороги, до камня.
— Шутка до Терешиной дороги — версты две, а уж день высоко.
— Зато ведь любо, как она попадется к нам в лапы. Ей-богу, Гриша, мне чудится, что змея где-нибудь здесь проползает. Ведь досадно будет, если по усам потечет, а в рот не попадет.
— Пожалуй, я поеду с тобою, но не дальше Терешина камня, а после, как ты себе хочешь, я прямо домой: и так я устал, как собака, и есть, мочи нет, хочется. Да куда ты воротишь направо? Вот где надо ехать.
— Досталось тебе учить меня, дрянь! ступай за мной.
— Мне все равно, — отвечал молодой разбойник, оборачивая лошадь, — но ты увидишь, дядя Иван, что мы не попадем, куда хочешь.
Разбойники поехали.
Настенька отдохнула. Бережно раздвигает она ветви смотрит вслед за ними, пока не потерялись они из виду, чтоб заметить их путь. Однако ж беда не совсем еще миновалась. Слезть с дерева ей невозможно и бежать некуда — иначе она повстречалась бы с своими преследователями. Она должна дожидаться их здесь, пока они воротятся за оставленным волком и уедут назад. Так и быть: она избирает последнее решение и остается на своем месте.
Эта невольная остановка имела на нее спасительное действие: упавшие ее силы восстановились, дух ободрился; а если б, без последней опасности, она продолжала бежать по-прежнему, без памяти, — то вскоре изнемогла б совершенно и пала б жертвою усталости, голода или того хищного зверя, от которого теперь избавили ее разбойники. Притом она узнает теперь наверное, куда ей бежать, по тому ли направлению, по которому старший разбойник повел младшего, или по тому, которое избрать советовал сей последний. — Настенька ждет не дождется, чтоб скорее приехали разбойники, и смотрит на все стороны. Чрез час она в самом деле завидела их издали. Они ехали шагом и бранились между собой.
— Да перестань, грыжа! — говорил старший. — Эка важность, размок совсем!
— Тебе хорошо, а меня еще черт сунул вперед, попал в такую трущобу, что насилу вылез; — спасибо, что лошадь вынесла.
— Черт знает, братец, как это я ошибся. Со двора надо держаться права; так, кажется, мы и ехали, а не туда приехали. Вот что… ну смекнул теперь: у этого дерева, помнишь, мы останавливались, — вот когда я смешался: я позабыл, с которой стороны мы к нему подъехали.
Старший разбойник остановился в раздумье, осматривался кругом, между тем как младший отъехал подальше за застреленным волком.
— Точно, Гриша, твоя правда… Отсюда надо бы ехать прямо… Придет озерко, мимо его взять поправее… Так и есть, болото, в котором мы было увязли, и останется влево… за озером перелесок с полверсты, а там на версту поруснику, а там и дорога. Тьфу, черт возьми, как будто леший меня обошел.
— Толкуй теперь по субботам, а если б послушался меня, так не бывать бы нам в воде, — сказал младший разбойник, привязав свою добычу к седлу и сев на лошадь.
— Полно, Гришуха, не сердись: тебе не в первой раз из воды вылезать суху. Поедем, поедем, отогреешься; видно, нашу голубку в самом деле другие поймали и нас дома дожидаются. Чтоб тебя с корнем вон, проклятое, — вскрикнул он, ударив палашом по ветвям того дерева, на котором сидела наша пленница, так что шишки сверху посыпались, и поскакал с своим товарищем.
Настенька слезла с дерева и пала на колена, восылая к небу теплую молитву.
— Господи, благодарю Тебя! Ты снял меня с пылающего котла. Ты отворил мне ворота в разбойничьем доме. Ты указал мне это спасительное дерево — доведи, доведи меня до большой дороги.
Кончив свою молитву, она пускается бежать, как сами разбойники указали ей. Солнце блистало на небе; в воздухе распространялась теплота, птицы пели кругом; мертвый лес оживился, и у нее сердце забилось спокойнее, надежда увеличилась; ей остается только две версты до дороги, до человеческого следа. Там предел ее мучениям.
Ах, Настенька! счастлива ты, что не представляешь себе теперь никаких других опасностей, которые тебя ожидают. Терешинская дорога! Но кто тебе сказал, что это большая дорога? Ну если ведет она к прежнему вертепу, из которого ты только что вырвалась — или к другому разбойничьему притону? Два разбойника воротились домой! Но их еще рассыпано двадцать по лесу, и как легко тебе встретиться с ними на каждом шагу! Теперь светло тебе, но зато и тебя увидеть легче по следу издали. Чем больше ты затрудняешь своих мучителей, тем больше увеличиваешь свои мучения. Случай помог тебе, но случай же и погубить может: так часто любит он шутить над своими игрушками!
Но, к счастию, ничего этого не приходит ей в голову. Она бежит, твердя только про себя слова старшего разбойника о дороге. Вот озеро. Она сворачивает направо. Вот и перелесок. Она все бежит, бежит. И перелесок миновался. Вот пошел кустарник. Уж четверть версты до дороги… сейчас, сейчас… Вдруг, откуда ни взялись, опять послышались двое верховых…
Ах! куда деваться: деревьев нет кругом… Они уж близко… скачут во весь опор. — Настенька бросается под первый куст.
Не успела еще она улечься, нога еще была на виду, как показались разбойники. — Шевелиться невозможно: привлечешь их внимание. Она остается в первом положении, полумертвая. К счастию, разбойники неслись во весь опор и не смотрели около себя. Но одному путь был вплоть мимо куста, под которым она лежала; лошадь на всем скаку наступила на ногу несчастной и раздробила копытом пятку. Ни малейшего стона не испустила мужественная женщина до тех пор, пока удалились разбойники.
Уже чрез несколько минут страдалица встала… она решилась как-нибудь добираться до дороги: авось они поворотят в другую сторону, авось она встретится там с какими-нибудь проезжими. Опасность же и здесь, на открытом месте, как там, одинокая. — Удерживая стоны, перетерпливая мучительную боль, она поволоклась кой-как вперед.
Надежда ее почти оставляла; нет, ей, видно, не избегнуть казни; ей, видно, не избегнуть от руки этих палачей; она получит, видно, наказание за невольное убийство.
В таких мыслях дотащилась она до дороги. Смотрит в одну сторону: разбойники шагом удаляются; смотрит в другую — едут мужики с сеном. «Слава Богу! Вот, вот мои избавители! наконец Милосердый сжалился надо мною». Настенька как будто воскресла, дожидается их и прямо в ноги.
— Отцы родные! спасите! защитите!
— Что ты, голубушка! Чья ты такая?
— Я дочь господина Захарьева.
— Того барина, что в Синькове живет, Ивана Григорьевича [5], - знаем. Да как ты сюда попала?
— Разбойники меня увезли, замучили было — Бог помог мне убежать от них. Но они гонятся за мною. Родимые, пустите душу на покаяние, поминаючи своих родителей.
— Да как же нам упасти тебя, касаточка. Мы сами на оброке у этих разбойников и из их воли выступить николи не смеем. Они запалят нашу деревню, коли узнают, что мы тебя из-под их рук утащили. Житья ведь нам не будет, хоть со свету беги, — а от господ защита тоже плохая; они сами с ними хлеб-соль водят.
— Батюшки! сжальтеся! у вас свои дети есть. Бог вам невидимо пошлет, если вы меня, сироту, от лютой смерти избавите; да и накажет Он вас на том свете, если меня им предадите. Отец мой дал бы вам выкуп за меня, какой угодно: я единственная дочь его и наследница.
— Родная! и жалко нам тебя, да делать нечего. Посиди лучше здесь у дороги: авось, на твое счастье, попадется какой-нибудь проезжий помогучее, офицер или подьячий, так и ты целее будешь, и мы себе беды не накличем.
— Нет, мои отцы! Здесь усидеть мне недолго, я голодна, холодна, избита, ослабла, разбойники рыщут поминутно; если уж спасти кому меня, так только вам, — а вы, Бог с вами, не хотите. Буди воля Божия! Здесь я умру. Отсюда на вас Отцу Небесному и поплачуся!
— А что, братцы, — сказал один разжалобленный крестьянин, — ведь нам в самом деле грех ее оставить на верную смерть. Зароем ее в сено. — Авось так провезем благополучно до Щиборова, а за ночь-то завтра не мудрость доставить ее и в Синьково.
— Ну как попадутся нам разбойники?
— Авось не догадаются; а мы скажем, что видели в кустах на Стороне какую-то женщину — они поторопятся. Ребята! вы как? — спросил он, оборотившись к прочим товарищам.
— Батюшки! спасите! — воскликнула Настенька, залившись слезами и повалилась мужикам в ноги.
— Пожалуй, мы не прочь, — отвечали все они один за другим.
— Благодарю, благодарю вас, мои благодетели.
— В чей же воз зарывать ее? — спросил Петр.
— Вестимо, в твой, — закричало несколько голосов. — Ты ведь затеял ее спрятать.
— Эхма, ребята, — отвечал Петр, почесывая голову, — видите, у меня какой возище навит: пудов тридцать. Не в твой ли, дядя Федор?
— Что ты, дура, городишь! у меня клячонка насилу ноги передвинет. Как прибавлять еще ей тяги?
— Али к тебе, Яша?
— Братцы! я еду впереди. Ну если, оборони. Господи, они встренутся, так долго ли первый воз разметать? И вам тогда не уйти от беды.
— Эка хитрость! — возразил Федор, — ну да я, пожалуй поеду впереди.
— А! теперь ты вызываешься, а даве-так заартачился, — и, слово за слово, поднялась брань между мужиками.
Настенька между тем со страхом и трепетом смотрела во все стороны, опасаясь, чтоб не показались где-нибудь ее гонители и не застали ее на открытом месте. Не видя конца спорам, испугавшись даже, чтоб мужики не переменили своего намерения, она вступается в их распоряжения.
— Благодетели мои! Чем спорить, киньте жребий. Пусть сам Создатель укажет того доброго человека из вас, который должен взять меня под свое покровительство и получить лишнее награждение от батюшки, — хотя повторю вам, друзья мои, и все вы не будете обижены.
Некоторые мужики, услышав такое обещание, выдвинулись было наперед и, заикаясь, стали вызываться и затевать новый, противоположный спор; но прочие в один голос закричали:
— Кинем жребий!
Проворный Петруха отломил от дерева длинный сучок. Все мужики начали хвататься за него руками, и верхний конец, с обязанностию взять женщину к себе на воз, достался дяде Федору, у которого, однако ж, Андрей, сговорившись, перенял ее к себе. Прочие мужики бросились тотчас к его возу, разметали его до половины и положили туда Настеньку, которая между тем выпросила кусок хлеба у своего хозяина, и потом засыпали ее снятою прежде половиною.
— Лешие! — сказал дядя Федор, — ведь она задохнется.
— И то, — отвечал Петр, — мы позабыли про это, — и тотчас провертел отверстие в возе к заднему боку, к которому Настенька лежала головою.
Воз этот поставили они потом на самый конец, предпоследним, помолились Богу, побожились друг другу под страшною клятвой не изменять, не выдавать и длинной вереницей пустились в дорогу.
Не успели они отъехать полверсты, как навстречу им пятеро разбойников.
— Стой! — закричали они на мужиков.
Обробелые остановились и все повалились им в ноги.
— Откуда едете?
— С отходной пустоши. Барское сено везем. Здравствуйте, батюшка Дмитрий Алексеевич.
— Давно ли в дороге?
— Вчера на ночь выехали.
— Не видали ли вы кого-нибудь по дороге? Молодую женщину?
— Нет, батюшка, вот те Христос! никого не видали. Не останавливайте нас. Бога ради. Спешим ко дворам. Барин у нас, сами изволите знать, такой строгий.
— Да что вы переминаетесь, сиволапые, — закричал другой разбойник, — что вы перешептываетесь? Братцы! размечем воза! посмотрим! Верно, они спрятали ее: нельзя же ей сквозь землю провалиться. — Не в третий же раз пошлют нас ее отыскивать.
Обробелые мужики заплакали и снова повалились в ноги.
— Отцы родные! что вы над нами делать хотите? Ей Богу, никого видом не видали, ни про кого слыхом не слыхали. С нами уж повстречались Степан Герасимович да Ваня Тяжелый; они нас оспрашивали.
— Врете, канальи, вы что-то испугались не путем. Развивайте, — и трое разбойников принялись за первый воз.
— Как не испугаться вашей милости? — отвечал Петр, — да подумайте сами: или мы о двух головах, что вас обмануть в глазах не побоимся, — или мы какие безблагодарные, что против вас, господ наших, замыслим недоброе, — или мы какие глупые, что из одной бабы себе гнев ваш накликаем. Разметывайте воза, пожалуй, сами увидите.
Первый воз был разметан совсем. Разбойники начали складывать сено со второго. — Мужики с большим воплем и рыданием бросились в ноги и стали просить их, чтобы по крайней мере прочих возов не касалися.
— Вот видите, что у нас нет ничего спрятанного; нам только сено сорить не хочется. Ведь мы его весом приняли. Да и времени погубим много, а нам барин настрого наказывал быть ныне к вечеру домой. Он с живых нас шкуру спустит. Не задерживайте нас, батюшки, мы вам за это хоть своих баб руками выдадим.
— Тьфу, дурачье, — сказал один разбойник. — Мы сами под началом. Нам накрепко ведено не оставлять никого без осмотра. Ну долго ли опять навить вам воза? Нет, так нет, вам же лучше.
Мужики замолчали, как к смерти приговоренные, и заплакали, а разбойники разметывали один воз за другим. Они уж окончили седьмой, оставалось шесть, и только четыре до того, в котором лежала наша несчастная Настенька. Однако же они устали, задыхались от пыли — на что мужики только и надеялись. Хитрые тотчас сметили это, приступили со слезами к разбойникам, когда они с меньшим усердием и охотою принялись за осьмой воз.
— Отцы наши, сжальтесь над сиротами. Ведь вот вы уж семь возов осмотрели, а ничего не нашли. И в остальных ничего не найдете. Только доброе на нашу голову рассорите.
— А вот что, ребята, — сказал один разбойник помоложе, — мы не станем больше разметывать сена, а перещупаем остальные воза пиками.
— И то дело, — отвечал старший, — вот если так, то не за что укорить нас будет Ивану Артамоновичу. Ай, Сенька! догадался, собаку съел!
И все они пошли щупать воза с разных сторон, руками, шестами, пиками; трясут их, валяют набок, приподнимают — подходят, наконец, и к роковому, предпоследнему… Мужики бледнеют, колеблются, на языке у них вертится уже признание, они готовы повиниться — но Сенька запустил уж свою пику, — и вынул ее без затруднения, в другой раз также, в третий, в четвертый она что-то остановилась. Он рванул ее и не смог вырвать, пошатнулся…
— Верно, сучок какой попался, батюшка, — сказал, подвернувшись, Петр и, схватив за ручку, помог ему вытащить пику. Семен отошел к последнему возу. Мужики отдохнули и прочли про себя молитву.
Вы думаете, читатели, что по счастливому случаю ни одного раза пика не коснулась до нашей героини. Нет, в последний раз Сенька острием именно ей проткнул руку; но, терпеливая и сильная, она приняла рану без малейшего стону и при втором порыве догадалась обтереть кровь с острия.
Когда разбойники осмотрели таким образом все воза, то старший сказал мужикам:
— Побожитесь еще, что нет у вас никакого обмана.
— Чтоб мне до Миколина дня не дожить, чтоб глаза у меня потемнели, если… если… у нас есть что чужое.
— Ну, делать нечего, ребята, — сказал разбойник, — потревожили мы вас по-пустому. Прощайте.
Мужики, переговоря между собою, повалились опять им в ноги.
— Отцы родные! сами вы знаете, что люди мы бедные господские; сена домой не довезти нам и половины теперь. Времени много прошло, да и еще лишний раз на дороге кормить нам надо, еще потравим немало — тринадцать лошадей — с нас все станут доправлять деньгами на барском дворе. Сделайте божескую милость, киньте нам что-нибудь на бедность за изъяны.
— Ах вы, разбойники, да вы уж около нас живиться хотите. Вот я сотворю тебе божескую милость, — закричал, смеясь, старший и ударил Петруху нагайкою по голове.
— На всем довольны, батюшки, — отвечал Петр, отходя к стороне, — благодарим покорно, дай бог вам всякого благополучия.
— Приходи, приходи к нам, Петруша, не потачь, мы тебе сполна все выдадим, — прибавил Сенька.
— А если, батюшки, — сказал Федор, — еще с нами встретится кто из вашинских?
— Скажите им, мы вас обыскивали, а в подтвержденье наше слово: «Гляди в оба» — они вас и не тронут.
— Спасибо вам, кормильцы!
Разбойники поскакали в лес.
Мужики проводили их глазами и потом подошли к предпоследнему возу.
— Жива ли ты, боярышня? — закричал в проверченное отверстие Петр. — Благодари бога. Беда миновалася!
— Рука проколота, — простонала несчастная, — дайте тряпку перевязать, — благодарю вас, мои благодетели. Это вашими святыми молитвами Господь спас меня, грешную.
Мужики кое-как перевязали ей руку, уложили ее в возу повыше, полегче, — собрали разметанное сено и поехали, спокойные и веселые, по своей дороге.
— Ай Петруха! Ай Андрюха! Вот как — разбойников обманули! Молодцы! Уж барина ли теперь не обманем?
— Обманите-ка, попытайте, — возразил опытный дядя Федор. — Нет, братцы, увечья нам за сено не миновать, и вздуют нас теперь, что твою Сидорову козу. Да так тому и быть. И перед Богом хорошо, и отец-атаман нас не оставит.
Среди сих рассуждений мужики благополучно ехали во весь день по своей дороге, часто наведываясь, жива ли их пленница, — и к ночи доехали благополучно, без всяких приключений, до своей деревни. — С общего совета они оставили Настеньку на ночь в сарае у Андрея, а сами тогда же отправили его в Синьково к господину Захарьеву с вестью, что дочь его освободили они от разбойников и будущей ночью привезут к нему тайно, — и с разными наставлениями, которые мы вскоре узнаем.
Можно себе представить, с каким изумлением услышал спокойный отец, что дочь его, которую он полагал в Брянске, в доме у своего ближнего приятеля, счастливою и благополучною, находилась в руках у разбойников и только благодаря удивительному стечению обстоятельств избавилась от верной, бесчестной смерти. Он осыпал рублевиками радостного вестника. В ту же минуту он хотел было ехать вместе с ним в их деревню; но Андрей удержал его, сказав, что все товарищи требуют непременно, дабы все это дело шло без огласки, и никто, не только разбойники, не узнал бы о участии, принятом ими в спасении его дочери: в противном случае все они подвергнутся великой опасности от разбойников, которые во всю жизнь свою не простят им такого оскорбления и вместе с их барином отомстят за оное им и даже детям их. — Как ни старался нетерпеливый отец убедить нашего Андрея, что нечего бояться им разбойников, что завтра же он с целым полком пойдет на них из города и переловит всех, прежде нежели они успеют дотронуться до кого-нибудь из его товарищей, Андрей стоял на своем и требовал даже неотступно, чтоб его самого барин куда-нибудь спрятал, а ночью с верным человеком выехал навстречу к своей гостье — взял ее с рук на руки и держал взаперти до тех пор, пока тем или другим образом успеет он снять с их деревни всякое подозрение. Старик должен был согласиться. Обдумав зрело это происшествие, после первого пыла он увидел, что мужик говорил правду и что он сам, в своем доме, не может еще до времени надеяться на совершенную безопасность от сильных разбойников. Он решился последовать совету, запер на день в светелке Андрея, которого в доме, к счастию, видел только его старый прислужник, и считал часы, горя нетерпением прижать к своему сердцу несчастную дочь и любопытством узнать ее странные приключения. Наконец пробило двенадцать часов. Уложив всех спать заранее, он вышел вместе с своим старым прислужником и Андреем на дорогу…
Как билось его сердце… долго он ждал… начинал уже бояться, не случилось ли с его дочерью нового несчастия, как наконец она, в сопровождении пяти мужиков, с ног до головы вооруженных, вдали показалась. Без памяти бросился он к ней навстречу и принял ее в свои распростертые объятия. Но что было с нею! Без памяти, без ума почти, она и плакала, и смеялась, и кричала, целуя беспрестанно своего отца, которого видеть было отчаялась. Старик оделил ее спасителей полными пригоршнями денег и отпустил домой, повторив им честное слово скрыть до времени дочь и всеми силами стараться о том, чтоб они не попали в ответ. Мужики с своей стороны хотели распустить по лесу молву о найденной мертвой женщине, чтоб отклонить разбойников от всяких дальнейших поисков. Старик повел ее домой и там услышал от нее все ужасы, которых она насмотрелась, наслушалась и настрадалась. Оба пали они на колена пред создателем, который даровал ей терпение, твердость, такое присутствие духа и тем спас от неминуемой гибели.
Но вся ли беда ее миновалась? О нет, совсем нет. Много терпеть еще придется несчастной Настеньке. Слушайте, читатели.
Утаивать Настеньку слишком долго от домашних было невозможно: на другой день показывались чужие люди в деревне, которые высматривали и выспрашивали о барине и его дочери; разбойники, удостоверясь, легко могли бы напасть ночью на барский дом и опять похитить свою добычу; держать лишнюю стражу около дома старик побоялся, чтоб не привлечь подозрения. — Итак, выспросив у нее подробно о дороге, которою она бежала, и о жилище разбойников, майор решился ехать во Владимир с подробным описанием о происшедшем и просить местное начальство о разорении злодейского гнезда. Взять ее с собою было невозможно: мстительные разбойники могли напасть на него дорогою. Отец не решился подвергать ее новой опасности. Он придумал оставить ее дома. «Разбойникам никак не придет в голову, — рассудил он, — чтоб я мог покинуть ее одну, и они удостоверятся, что она не дошла до меня».
Благословив Настеньку, запертую в чулан, и поручив ее попечениям старого своего прислужника, которому даны были самые подробные и обстоятельные наставления на всякий случай, отправился он из своей деревни. Домашним было сказано, что он из Брянска от своего друга получил странные противоречащие известия о женитьбе его сына, а с другой стороны, услышал о поднятом в лесу трупе, сходном по приметам с его дочерью, и потому хотел поискать на первый случай в городе каких-нибудь объяснительных сведений.
Новый владимирский наместник, старинный сослуживец Захарьева, который был гораздо деятельнее своего предшественника и давно уже думал о средствах, как бы очистить леса от разбойников, случился на ту пору в Муроме; он принял живейшее участие в его положении и согласился послать немедленно целую роту на ужасную шайку. Майор, пылая местию за оскорбление дочери, вызвался быть предводителем и, выписав трех мужиков из Щиборова в провожатые, отправился в поход.
Из Мурома выступил отряд под выдуманным предлогом. Майор ехал одаль. Они приноровили, по указанию Андрея, прийти около вечерен к тому месту на дороге, которое находилось прямо против Терешина камня. Там остановились они, будто ночевать, а лишь только смерклось, пустились врассыпную к разбойничьему вертепу, условясь к утру соединиться по известному знаку в одном захолустье. Всю ночь они пробирались по лесу и еще задолго до рассвета собрались в назначенном месте. Там, усталые от трудной дороги, решились они переждать день, а в сумерки опять пуститься вперед, чтоб в самую глухую пору окружить воровскую крепость. Успех соответствовал их ожиданию: весь день пробыли они спокойно в своем убежище, а вечером рассыпались опять и пробрались благополучно до самого притона, встретясь только около полуночи с двумя разбойниками, которых без дальнего шума положили на месте.
Майор начал учреждать приступ. Около ограды расставил он солдат двойною цепью с строгим приказанием не пропускать ни одного разбойника, который покусился бы бежать: всех вязать или бить, кроме одного хромого с данными приметами. Сам с прочими солдатами хотел он по веревочным лестницам перелезать через ограду; но ротный командир уговорил пылкого старика остаться при цепи и предоставить ему сражение.
Только что поднялись солдаты на ограду местах в десяти и начали спускаться на двор, как залаяла чуткая собака, к ней пристали другие, проснулись сторожа, ударили тревогу, из дома выскочило несколько разбойников в одних рубашках. Впросонках они не понимали, что случилось, и метались как угорелые.
— Сдавайтесь! — закричал им капитан, — вы пойманы богом и государем.
— Да много ли вас здесь! — отвечали разбойники.
— А вот сосчитай! — подхватили солдаты и зарубили их, как прежде сторожей тесаками. Поднялся крик, вопль, стон. В окошках засветились огни, задребезжали стекла, несколько голов высунулось и спряталось. Капитан начал ломать железные двери.
Разбойники увидели, что приходит им худо, заперлись и начали обороняться дома. Увидя такое сопротивление, начальник был минуты две в нерешимости: ломиться ли ему в дом или выманивать и выжидать разбойников на двор. Вдруг раздался выстрел, прямо ему в руку, другой, третий, градом из всех окошек. Многие солдаты повалились. К счастию, в потемках разбойникам не ловко было прицеливаться.
— Ребята! на пролом! — закричал разъяренный капитан.
Солдаты бросились, но железные двери противостояли их усилиям.
— Что, взяли? — кричал атаман. — Давайте лучше уговариваться… Возьмите все наше добро… Пустите только нас на чистое поле.
— Вот мы вас отпустим! — отвечал пылкий офицер. — Зажигайте дом!
Разбойники, услышав это приказание, мало-помалу затихли: они стали выбираться из дома чрез слуховые окна, по крыше, с заднего крыльца, решившись бегством спасти жизнь свою.
Между тем двери наконец были разобраны. Солдаты кинулись в покои, но уж никого почти не нашли там, в разбойники на дворе начали с остальными рукопашный бой, и очень выгодно; однако, видя беду неминучую, некоторые стали отвертываться и, пользуясь темнотою ночи, успели отпереть калитку и начали выбираться в поле; за ними последовали и все прочие, когда солдаты из комнат присоединились к своим товарищам и драться стало им не под силу, — но за оградой всех их встретил полным залпом майор, который давно уж скрежетал зубами от бездействия и с нетерпением ожидал своей очереди. Почти все разбойники с атаманом были перебиты. Немногие сдались и были перевязаны. Человек пять успело убежать.
Расправясь таким образом со всеми, солдаты принялись тушить огонь; проливной дождь на ту пору пособил им сохранить законную их добычу. — К утру они успели разделить по себе все доброе, найденное в покоях и кладовых, навьючили забранных лошадей и, зажегши с четырех сторон злодейское гнездо, отправились в деревню к майору, желавшему с предварительного позволения наместника угостить их всех у себя дома в знак благодарности за кровавую месть, которую совершить они ему пособили.
Сам он отправился в кибитке вперед, чтоб изготовиться к принятию дорогих гостей… Но каково было его удивление и ужас, когда после двухдневного пути, подъезжая к своему дому, он увидел издали на его месте одни дымящиеся головни и торчащие печи…
— Где дочь моя? где дочь моя? — без памяти спрашивает он первого встречного.
— Мы спасли боярышню, — отвечал староста, — и она находится благополучна у меня в избе. Поймали и зажигателя — он сидит на цепи — только дома твоего, батюшка, уберечь не умудрились. Не клади на нас гнева, кормилец, и прости виноватых.
— Бог вас простит, — отвечал успокоенный старик, — ведите меня к дочери.
— Еще случилось с нами несчастие, батюшка! — так встретила его горестная женщина.
— По крайней мере, последнее, — отвечал старик, сжимая ее в своих объятиях. — Злодеи твои и мои все наказаны.
— Не все еще, отец наш! — сказал староста, приведший в эту же минуту знакомого нам Ивана Артамоновича.
Настенька при одном взгляде на него упала было в обморок. Майор тотчас велел отвесть и держать его под крепкою стражею. Успокоив дочь свою, набожный старик пошел с нею в церковь и принес благодарную молитву милосердому Богу за спасение от толиких бедствий.
Этот разбойник успел бежать из последнего сражения и, узнав в лицо майора, командовавшего цепью, догадался, кто виною их гибели, бросился по кратчайшей дороге в его деревню и в следующую ночь поджег в нескольких местах его дом.
Здесь и оканчивается повесть, думают некоторые мои читатели. Совсем нет, милостивые государи. Разумеется, я не стану описывать вам ни трехдневного угощения солдат, пришедших через день на званый пир к радушному майору, ни окончательных распоряжений с пленными разбойниками, ни допросов Ивану Артамоновичу; не стану даже объяснять всем, каким образом атаману удалось сначала так искусно разыграть чужую роль и поймать в свои сети легковерного отца. Но вы помните Тимофея хромого — его спас майор во время всеобщей резни по предварительной просьбе дочери. — Это был сын богатого муромского купца; разбойники заманили его к себе случайно; живя у них только полгода, он не принимал никакого участия в их грабежах и смертоубийствах, кроме одной схватки, в которую вовлечен был невольно и на которой был ранен в ногу. Он раскаялся совершенно в первом, необдуманном по молодости, проступке, был прощен благодаря ходатайству и заступлению майора и отдан на поруки к сему последнему. Он был молод и хорош собою и успел оказать такую услугу его дочери — спас ее от мучительной смерти, жертвуя своею собственною жизнию. Она после виденных ужасов должны была питать к нему самую пламенную благодарность… Ну, да вы догадываетесь теперь, читатели что еще хочу я вам сказать. — Согласитесь, что в этом новом супружестве нет ничего невероятного, согласитесь, что разбойничья вдова не могла надеяться на лучшую партию, — по крайней мере согласитесь, что я не мог лучше схоронить своих концов…
— Но какую нравственную цель имеет эта длинная повесть? — ворчат наши незваные критики.
— Я сам не знаю, милостивые государи.
— Зачем же вы написали ее?
— Признаюсь вам откровенно, милостивые государи: новый журналист заказывал мне написать ему на зубок сказку для первых книжек пострашнее — ибо-де это любит наша любопытная публика. Мне не хотелось на первый случай огорчить его отказом, а у меня не было никакого задуманного содержания: и я решился рассказать одну полубыль, слышанную от него же. Вот вам и происхождение повести. — Да что же, впрочем, я слишком робею пред вами, строгие мои рецензенты! Чем это не нравственное правило: присутствие духа спасает человека в минуту величайших опасностей, и, пока человек дышит, до тех пор он может надеяться. — Довольны ли вы? — По крайней мере я сам доволен тем, что могу наконец поставить точку и сказать с поэтом:
Насилу дописал. [6]
ПРИМЕЧАНИЯ
Впервые напечатано в «Телескопе», 1831, ч. I, № 2, с. 180–196, № 3, с. 311–325, № 4, с. 515–544.
Некоторые эпизоды повести (сцена гадания с двумя зеркалами и появления разбойников, сцена, где во время поездки молодых неожиданно меняется настроение мужа) связаны с мотивами «Светланы» Жуковского.
Примечания
1
Васильев вечер — 31 декабря (день памяти св. Василия Кесарийского), народный праздник, когда принято было гадать.
(обратно)2
Ендова — широкий открытый сосуд.
(обратно)3
Благовещенье — церковный праздник (25 марта).
(обратно)4
Светлое воскресенье — пасха.
(обратно)5
Ивана Григорьевича — так в «Повестях М. Погодина». Выше этот герой звался Василием Демидовичем.
(обратно)6
Насилу дописал — неточная цитата из сказки И. И. Дмитриева «Причудница» (1795) (у Дмитриева: «Насилу досказал»).
(обратно)
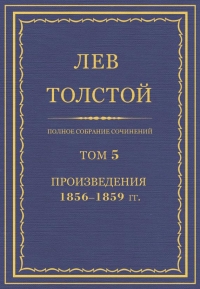
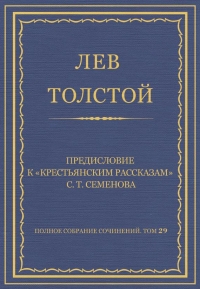
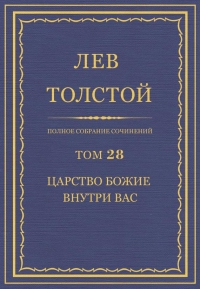

Комментарии к книге «Васильев вечер», Михаил Петрович Погодин
Всего 0 комментариев