Вера Глебовна проснулась еще затемно… За окнами, покрытыми толстым лохматым слоем инея, гудел фeвральский ветер — натужно, надсадно, то доходя до рвущего слух воя, то замирая, но и в этом минутном затишье было что-то грозное, пугающее ожиданием нового порыва, еще более сильного, еще более резкого.
На Вере Глебовне, кроме ватного одеяла, было накидано все, что нашлось в доме теплого, — старые пальто, когда-то очень пушистый, а теперь уже вытертый плед, одеяло шерстяное солдатское (еще с той войны), голова была обмотана платком. Но холод все равно заползал внутрь и цепенил тело.
Выпростав руку, нащупала она в темноте недокуренную вечером папиросу, закурила и после первой же затяжки тяжело раскашлялась.
Надо было вставать, идти на кухню, разжигать керосинку, кипятить чай всё равно уж не уснуть, — но было даже страшно подумать, как выбирался сейчас из-под груды одеял и идти туда, где выхолодило, конечно, еще больше, чем в комнате.
"Какой чертовский холод", пробормотала она, спрятав руки, и подумала, что надо было принести керосинку в комнату еще вчера.
Этими мыслями о холоде, о кухне, о керосинке, о каких-то предстоящих делах она сознательно загружала голову, чтобы хоть на минуту оттянуть наступление ужаса, который обрушивался на нее каждое утро с того самого дня, когда лег на ее стол листок серой бумаги с нацарапанными карандашом строчками: "Мама, я еду на запад!" Он не написал — на фронт. Но запад фронт. А фронт — смерть!
Почтальонша, работавшая ещe до войны, вручив Вере Глебовне письмо, не уходила, а ждала, когда тa прочтет его. И Вере Глебовне пришлось при ней пробежать глазами этот клочок бумаги, с неровными, разбежистыми строками.
— Все благополучно? — спросила почтальонша.
— Да, спасибо, — почти спокойно ответила Вера Глебовна, а сама схватилась за косяк двери, чувствуя, что темнеет в глазах и слабеют ноги. Но она давно приучилась не выдавать своих переживаний. Очень давно.
Два дня после этого письма она пролежала пластом на кровати, словно в столбняке, не находя в себе сил ни подняться, ни сходить за хлебом, ни сготовить еду, ни даже вскипятить чай.
И только зародившаяся надежда, что сын по дороге на фронт может проезжать Москву и тогда вдруг им удастся свидеться, вернула ее к жизни, если можно было назвать жизнью непрерывное, напряженное и тревожное ожидание…
В этом большом холодном городе, где война не стала еще привычной и неожиданным кошмаром висела над ним, еще пугала воем сирен, рокотом вражеских самолетов, стрельбой зениток, ждали все, ждали в постоянном непокое, переходя от отчаяния к надежде, ждали таких обычных, немудрящих слов — жив, здоров, — обретших сейчас необыкновенную значимость.
Но из всех ждавших все же самыми одинокими и самыми несчастными были матери. Их ожидание, их страхи, их муки — сравнить не с чем.
…На кухню Вера Глебовна все же пошла, принесла оттуда керосинку, разожгла, и волны тепла, идущие от нее, как-то обуютили комнату, и даже ветер, все так же хлеставший под окнами, перестал казаться таким уж нещадным. И она подумала: как хорошо, что у нее есть своя комната, и как она правильно поступила, не уехав с учреждением в эвакуацию.
Чайник уже закипел, когда два резких звонка заставили ее мигом набросить на себя шубу и кинуться к парадной двери.
Звонки были не сына — он звонил по-другому, но это были два звонка, значит, к ней, и с бьющимся сердцем, не спрашивая даже "кто?", она дрожащими пальцами сняла цепочку, долго возилась с ключом, а когда открыла дверь и увидела немолодого человека в замасленной телогрейке, небритого, с усталым и измазанным чем-то лицом, удивленно ахнула и, пугаясь догадки, спросила упавшим голосом:
— Вы от… Николая Егорыча?
Мужчина чуть улыбнулся.
— Ну, наверное, еще рановато величать его по имени-отчеству? Я от сынка вашего…
— От сына! — выдохнула она. — Проходите скорей, — поспешно, стараясь унять сердцебиение, пригласила Вера Глебовна.
Она торопливо вела гостя по темному, всегда темному из-за экономии электричества, коридору в свою комнату.
— Простите за беспорядок… я еще спала, — сказала Вера Глебовна, открывая дверь.
— Чего там… Это я спозаранку, прямо с ночной… Но такое дело…
— Где он? — перебила его она.
— Разрешите все по порядку?
— Да, да… присаживайтесь. Может, разденетесь? Правда, у меня жуткий холод.
Мужчина присел, попросил разрешения закурить. Долго сворачивал цигарку.
— Такая история вот вышла… — начал он. — Жена моя к матери своей поехала, к теще, значит, под Малоярославец, за картошечкой… Ну, а тут немец подошел, будь он неладен. В общем, больше месяца ей там под немцем и пришлось пробыть. Оккупация, хоть и недолгая, но все же… Как немца прогнали, сразу ей выехать не удалось — поездов не было…
Вере Глебовне не терпелось узнать все поскорее, но торопить мужчину ей было неудобно. Она только нервно курила и не сводила глаз с неожиданного гостя.
— А… тут часть воинская прибыла, в которой ваш сынок служит,продолжал он. — Как раз у тещи в доме со взводом и расположились. Когда жена уезжала, он и попросил письмецо в Москве опустить, но мы с женой подумали и рассудили, что лучше я вам его в руки передам. Вернее дело-то, а то мало ли чего — и военная цензура задержать может или еще что, а то вообще вдруг затеряется. Вот и пришел.
— Спасибо вам огромное. Письмо… Где письмо? — не сдержала она нетерпения.
Мужчина долго расстегивал ватник, долго шарил в боковом кармане пиджака, а у нее прерывалось дыхание и дрожали руки.
Письмо было короткое: "Нахожусь под Малоярославцем, в деревне Бородухино, в шести километрах от города. Пробудем здесь несколько дней, может быть, неделю. Если сможешь — приезжай. Вряд ли еще раз придется быть так близко от Москвы. Жду. Целую".
Все смешалось в душе Веры Глебовны — и нахлынувшая радость возможной встречи с сыном, и страх, что она не сумеет быстро выехать и не застанет его, и боль, что неизбежное совершилось и Андрей уже в нескольких десятках километров от фронта.
— Ну, я пойду… — поднялся мужчина.
— Нет, что вы? — очнулась она. — Погодите. Я так благодарна вам. Хотите чаю? Горячего? Хотя чего я… У меня есть чем вас угостить.
Она вспомнила, что соседка с первого этажа, в прежние, лучшие времена помогавшая ей в уборке квартиры, а теперь работавшая на парфюмерной фабрике, принесла ей недавно небольшой флакон спирта: "Вдруг ваш Андрей проездом будет. Угостите тогда".
Она вытащила из буфета флакончик, достала большую рюмку.
— Только закусить нечем, — она развела руками, — абсолютно нечем. Нет даже хлеба. Не ходила еще в булочную.
— Какая закуска в наше время! У меня есть с собой чуток… вот и закушу.
— Прошу вас, — пододвинула она ему рюмку. — Это так благородно с вашей стороны было принести письмо…
Мужчина усмехнулся и перебил ее:
— Ну, зачем такие слова высокие? Какое это благородство — обычное дело. Русские же мы… Ну, за сынка вашего, — он поднял рюмку. — Чтоб фашистов бил и живым остался. — Он выпил, крякнул и стал медленно жевать вынутый из-за пазухи кусок хлеба. — Промерз сильно. Вон какая непогодь стоит. Каково ребяткам на фронте…
— Да, подумать страшно.
— Жена сказывала, что оружия они еще не получили, но вы все-таки поторапливайтесь… Поедете?
— Обязательно. Только пока не знаю как.
— Поезда-то еще не ходят. Если эшелоном каким пристроиться? Но пропуск, наверное, надо вам выхлопотать.
— Пропуск? — спросила Вера Глебовна.
— Да. Моя жена на санитарном поезде доехала, и то, хоть паспорт московский показывала, не сразу взяли. Еле уговорила. А вам на воинском придется. Обязательно пропуск спросят. Так что хлопочите.
Вера Глебовна резко поднялась, подошла к двери, открыла. Там стояла соседка.
— Что вам нужно около моей двери? Это невыносимо, наконец! — бросила она в сердцах.
— Да я только что постучаться хотела, — без всякого смущения сказала соседка. — Сказать, что звонил вчера подполковник этот ваш и просил передать, что зайдет сегодня утром.
— Хорошо. Спасибо, — Вера Глебовна закрыла дверь. — Господи, и так все двадцать лет! Все время под дверью!
— Да, бывают такие любопытные, — усмехнулся мужчина. — Своей жизни нет, вот чужой и живут. Была у нас в квартире тоже такая. Переехала, слава богу… Ну, спасибо вам за угощение. Согрелся малость, — он поднялся.
— Это вам огромное спасибо. И вашей жене. Вы не можете представить, что для меня значит — повидаться с сыном. Я не видела его два с половиной года.
— Да, знаю. Говорила жена, что с Дальнего Востока часть… Значит, так, как с поезда сойдете… — и он стал рассказывать Вере Глебовне, как надо добраться ей до Бородухина, что надо идти по тропке, через лес, что этой дорогой в два раза ближе, чем другой, которая, правда, протоптанней и люднее, потому как через деревни проходит.
Проводив гостя, она поставила чайник на керосинку и стала прохаживаться по комнате, ежась и потирая замерзшие руки. Остановившись около фотографии сына, где снят он был в военной форме, улыбающийся, с папироской в зубах, она вздохнула, задумалась, потом прошептала: "Мальчик мой, вот и пробил наш час… Что же скажу я тебе при встрече? Что?" Прервал ее стук в дверь.
— Вера Глебовна, — войдя в комнату, сказала соседка. — Забыла я сказать, что подполковник ваш просил обязательно дождаться его. Уезжает он.
— Спасибо, — сухо поблагодарила Вера Глебовна. — Что еще? — спросила, видя, что та мнется в дверях, не собираясь уходить.
— Больше ничего… — ответила соседка, но все еще стояла в дверях.
Вера Глебовна холодно посмотрела на нее и пожала плечами. Тогда та пробормотала:
— Хотела спросить я…
— Спрашивайте, — уже с раздражением сказала Вера Глебовна.
— Кто это к вам ни свет-заря приходил. Уж наверно, по делу какому-то срочному?
— Вы же стояли под дверью и все слышали, — скривила губы Вера Глебовна.
— Да нет! Честное слово, только постучать хотела, а вы открыли…
— Этот человек принес письмо от Андрея, — коротко сказала она и отвернулась.
— Вот как! — воскликнула соседка. — Где же Андрюша-то наш?
— Под Москвой.
— Господи… Может, свидеться вам доведется?
— Не знаю… Попытаюсь…
— Значит, под Москвой воевать ему… Одну минутку, Вера Глебовна, я сейчас, — она выскользнула в дверь и вскоре появилась с банкой консервов в руках. — Вот осталось у меня случаем. Еще до войны к Майским праздникам купила. Коли с Андреем встретитесь, передадите ему от меня… Защитник он теперь наш.
Вера Глебовна недоуменно пожала плечами и сказала ледяным тоном, которым умела говорить и который был нестерпим для соседей:
— Нет уж, дорогая, увольте. Ничего мне от вас не нужно.
— Зачем же так, Вера Глебовна? Было у нас, конечно, всякое… Но кто старое помянет… Время такое, нечего обиды в душе держать. Мы ведь переменились к вам, после несчастья вашего с мужем-то… А вы все равно смотрите мимо, будто не люди мы. Вот и сейчас обидели, а я от чистого сердца…
— Я вас обидела? Все двадцать лет, как мы живем вместе, я видела от вас одни мелкие пакости… идиотские скандалы из-за пустяков, из-за счетов за электричество и прочей ерунды. А вы…
— А вы жизнь мою со своей сравните, — перебила соседка. — Вы и не работали, и прислугу имели, когда Андрей маленький был, и чаша у вас в доме полная, а мы… мы в те годы с хлеба на воду перебивались. Разве не обидно? Революция вроде для нас, для народа, делалась, а вы, бывшие, все равно лучше нашего жили.
— Но тут вы уж не на меня должны обижаться, — сказала Вера Глебовна.
Соседка пропустила мимо слова Веры Глебовны и продолжала свое:
— Но вот когда вам плохо стало, разве мы не сочувствовали? А вы все равно — разговор сквозь зубы, глядите мимо…
Вера Глебовна подошла к столу, взяла папироску, закурила и внимательно поглядела на соседку, худую, плохо одетую, и, подумав, сказала:
— Да, Ольга Васильевна, я жила лучше вас, но разве я в этом виновата? Вы знаете, Николай Егорыч из простой семьи, учился на медяки… Но в армии у него было большое звание и должность… К тому же я помогала вам, когда ушел от вас муж…
— Помогали. Что верно, то верно. Но знаете, чужой кусок поперек горла…
— Зачем тогда брали? — оборвала ее Вера Глебовна. — Брали, а после этого поносили меня всячески, орали — "интеллигенция паршивая". А хоть знаете, что такое интеллигенция?
— Да чего там знать? Бывшие, буржуи недобитые… Так за то я прощения у вас просила… Ладно, как хотите, Вера Глебовна, только знаю я, не с чем вам к Андрею ехать, а тут какой-никакой, а гостинец…
— Благодарю вас, но ничего от вас не приму, — Вера Глебовна отвернулась, давая понять, что разговор закончен.
Соседка потопталась немного и вышла, покачивая головой.
Вера Глебовна забыла ее спросить, когда утром обещал зайти Батушин, а потому не решилась идти в булочную, где, разумеется, очередь, и стала пить чай безо всего, только с кусочком сахара. Горячий чай немного согрел, и она сняла платок. Когда ставила чашку в буфет, пробормотала: "Действительно, с чем же я поеду к Андрею? Ничего… Абсолютно пусто. Только этот пузырек со спиртом". Потом она взяла письмо от сына и перечитала его.
Батушин пришел около десяти, долго стряхивал снег с шинели, долго вытирал ноги в передней и, несмотря на просьбу Веры Глебовны не раздеваться, снял шинель, оправил гимнастерку и только после этого склонил свою седеющую, с идеальным пробором голову и почтительно поцеловал ей руку. Вера Глебовна сразу же сказала о полученном известии и спросила, как ей выехать в Малоярославец.
— Покажите письмо, — попросил Батушин. — Нет даже почтового штемпеля,сказал он, возвращая конверт. — Чем вы докажете, что ваш сын там?
— Неужели нужно кому-то что-то доказывать? Зачем мне тогда ехать в этот Малоярославец! — воскликнула она.
— Увы, придется доказывать. Боюсь, что вы не получите пропуска.
— Что же тогда? — с тревогой сказала Вера Глебовна и потянулась к лежащей на столе пачке табака.
— Право, не знаю, — пожал плечами он, добавил: — Я сегодня уезжаю в командировку, но, к сожалению, в другом направлении. Вернусь через три дня, тогда подумаем.
— Три дня — это слишком много. Я поеду сегодня на вокзал, — решительно заявила она. — Неужто меня не возьмут в какой-нибудь эшелон? Ведь у всех есть матери и…
— Да, но есть еще уставы и предписания, — перебил он. — Боюсь, что и из этого ничего не выйдет, — он сокрушенно покачал головой.
— Тогда я пойду пешком… по шпалам, — уже с отчаянием почти выкрикнула Вера Глебовна.
— До Малоярославца сто двадцать километров, — остудил ее Батушин.
— Знаю, но я была хорошим ходоком.
— Нереально это, голубушка. Вас остановят первые же патрули.
— Что же делать?! Я должна увидеть Андрея. Должна! — она поднялась и стала нервно ходить по комнате.
Батушин смотрел на нее сочувственным, понимающим взглядом.
— Успокойтесь вы… Один из моих сослуживцев должен поехать в Юхнов. Давайте чайку попьем и поразмыслим спокойно.
— Господи, я даже не предложила вам чаю, — остановилась она, потом бросилась к керосинке подогреть чай.
Батушин раскрыл свой портфель, вынул оттуда несколько свертков, положил их на стол.
— Тут кое-что к чаю…
— Опять, Иван Алексеевич? Я же просила вас… Не так я голодаю, как вы думаете.
— А куда, прикажете, мне это девать? — развел руками Батушин. — Я получил сухой паек, но меня же там будут кормить. Так что не огорчайте меня этакой щепетильностью Не ко времени она, не ко времени…
— Вы ставите меня в неловкое положение, Иван Алексеевич. Сколько раз хочу позвонить вам и пригласить, но не делаю этого из-за этих… подношений.
— Ну о чем вы? Пустяки-то какие. Я же сам и съем сейчас половину. Не завтракал я, а через час ехать. — Батушин вытащил портсигар, и Вера Глебовна сразу же ухватила папиросу и жадно затянулась.
Некоторое время курили молча, а она, пользуясь паузой, решала, показать ли Батушину то письмо Андрея, которое камнем лежало на душе и о котором она никому не говорила.
…Когда началась война, Андрей стал писать чаще, и единственно, что волновало Веру Глебовну в этих письмах, — не раз повторяемая фраза, что он боится всю войну проторчать на Дальнем Востоке. И в каждом своем ответе она еле сдерживалась, чтобы не вырвалась у нее мольба — не торопить события. Она писала, что война, по всей видимости, предстоит долгая и никуда от него не уйдет. Но вот в августе он замолчал — ни одной, строчки за весь месяц. Она не находила себе места, теряясь в догадках, предполагая самое худшее, что он выехал на фронт и не успел написать об этом или письмо его еще не дошло. Только в середине сентября она получила несколько строчек:
"…Прости, что долго не писал — не мог! Довелось увидеть такое, что до сих пор не могу прийти в себя. Представив отца, я задыхался от отчаяния и ужаса… Может быть, со временем это пройдет и я буду в состоянии написать тебе более вразумительное письмо. А сейчас… сейчас просто не знаю… Впереди ведь война…"
Последняя фраза особенно поразила Веру Глебовну, потому как до этого в письмах Андрея ясно виделось стремление вырваться на фронт, так пугавшее ее, а теперь вот это — "не знаю".
В следующих письмах никакого объяснения не было, и она мучилась за Андрея, понимая, как страшен душевный разлад в такое время.
— Одно письмо Андрея я вам не показывала, Иван Алексеевич… — все же начала она.
— Почему?
— Так… Вы не любите касаться некоторых вещей, а оно… — не сразу ответила она, все еще колеблясь.
— Оно важно, на ваш взгляд? — спросил Батушин, нахмурив чуть брови.
— Да, очень… Я все-таки покажу его вам, — решилась она наконец и пошла к письменному столу. — Вот оно, Иван Алексеевич…
Батушин взял письмо и, прочитав внимательно, молча отдал Вере Глебовне. Губы его поджались, лицо стало отчужденным. Затянувшееся молчание становилось все более неловким. Вера Глебовна напряженно смотрела на него, а он, взяв папиросу, долго чиркал спичками, а после того как прикурил, протянул неопределенно:
— Мда…
— Теперь вы поняли, почему мне необходимо увидеть Андрея?
— Да… но ч т о вы ему скажете? — будто нехотя спросил он, сделав ударение на "что", и поднял глаза на Веру Глебовну.
— Пока не знаю.
— Как это так — не знаю? Когда же будете знать? — с еле заметным раздражением сказал Батушин.
Вера Глебовна внимательно посмотрела на него, сделала глубокую затяжку и, резко положив папиросу в пепельницу, отрезала:
— Ладно, бросим об этом. Я вижу, вам неприятен этот разговор.
— Да, неприятен… Идет тяжелейшая и справедливейшая война, а он, понимаете ли, увидел что-то и не знает… А вы, мать, еще не нашли для него нужных слов, вы еще не знаете, что сказать… Да, мне неприятен и непонятен этот разговор, — повторил он, нахмурившись.
— Надеюсь, вы понимаете, что мне нелегко найти слова? — с горечью бросила она. — Вы сказали — идет справедливейшая война. Для матерей нет справедливых войн!
Батушин посмотрел на нее и покачал головой.
— Вам не надо ехать к Андрею. Не надо, — убежденно повторил он, — раз вы ничего не можете сказать ему.
— Что же я должна сказать ему, по-вашему? — тихо спросила Вера Глебовна.
— Это уж, голубушка, вы сами должны найти… Мой друг, а ваш муж Николай Егорыч и отец Андрея семь лет воевал за Россию. Можете это сыну и напомнить…
— Вы же знаете! — перебила она с болью.
— Знаю, — опустил голову Батушин. — Кстати, Вера Глебовна, на днях видел Бородина…
— Бородина?! Господи! — воскликнула Вера Глебовна и уставилась на Батушина.
— Сейчас он принимает подразделение. Не исключено, что и Николая…
— Не надо, Иван Алексеевич! Не надо этих бессмысленных надежд. Я уже ни во что не верю.
— Это плохо — ни во что… — тихо произнес он и снова потянулся к папиросам. Немного погодя спросил: — Вера Глебовна, мне помнится один наш очень давнишний разговор…
— Какой? — довольно безразлично спросила она, занятая своими мыслями.
— Это было, когда мы с Николай Егорычем вернулись с колчаковского фронта… Разговор зашел о Блоке, о его поэме. Вы сказали тогда, что не видите того… "в белом венчике из роз…". А сейчас? — Батушин замолчал и глядел на неё серьезным, внимательным взглядом.
— Что сейчас? — недоуменно пожала плечами Вера Глебовна.
— Сейчас, когда идет святая война, вы тоже не видите… того?
Вера Глебовна задумалась, потом ее губы жестко поджались, и она отрывисто и резко сказала:
— Не вижу.
— С чем же вы поедете к Андрею? — развел руками Батушин.
— С этим и поеду.
Батушин поднялся, прошелся по комнате. Остановившись около Веры Глебовны, он спокойно, но твердо сказал:
— Нельзя с "этим" ехать, Вера Глебовна. Нельзя.
— Не беспокойтесь, я найду силы, чтобы скрыть свое горе и отчаяние.
— Этого мало. Андрею, по-видимому, нужно другое. А этого "другого" нету в вашей душе…
— Откуда может быть это "другое"? — прервала она. — Откуда? Об этом вы подумали?
— Из огромной беды, навалившейся на страну, из всенародного горя, перед которым ваше — только капля, только крупинка…
— Но это моя капля, моя крупинка! Очень легко рассуждать, когда никого — там. И никого — на фронте! А вы сами… в Москве… — она высказала это залпом, но потом осеклась, уже сожалея о сказанном.
Батушин откинулся, как от пощечины, побледнел и сказал с трудом:
— Вот этого я от вас не ожидал… Вы же знаете…
Вера Глебовна бросилась к нему, схватила его руку.
— Знаю, голубчик, знаю, что просились вы на фронт. Простите! Я противная, гадкая. Зачем только ходите ко мне… такой?… Ну, простите. Я очень измучена…
— Будет вам, будет, Вера Глебовна… — Батушин освободил свою руку и провел ею по голове Веры Глебовны. — Вот чайник вскипел. Попьем чайку и успокоимся.
Она отошла от Батушина, стала заваривать чай.
— Вы умный, хороший… Спасибо, что не обиделись, но… неужели у вас никогда, никогда не возникало никаких сомнений? — она подняла на него взгляд и нетерпеливо ждала ответа.
— Я старый офицер, Вера Глебовна… Так вот, кабы колебался да сомневался, присягу бы не принял. А я давал ее, святую присягу, и теперь права не имею сомнения иметь.
— Я понимаю, присяга и все такое…
— Права не имею сомнения иметь, — прервал он ее, повторив убежденно свои слова. — Это вы понять можете? А вам преодолеть себя надобно. Пока война — все из сердца прочь, все сомнения, все обиды. Твердой надо быть и Андрею эту твердость передать. А так только внесете смуту в его душу. В остальных письмах не поминал он об этом случае?
— Нет.
— Значит, сам разобрался.
— А если… не разобрался? — сказала она с мукой. — Тогда что? Вы говорите — преодолеть. Что преодолеть? Если б только обиду, — она замолчала, устало проведя рукой по щеке, и лишь спустя немного добавила, вздохнув: — И все же перед нами стена, Иван Алексеевич.
— Помилуйте, какая стена? — запротестовал он. — Понимаю я вас, жалею, боль вашу и смятение чувствую, — Батушин взял руку Веры Глебовны и поднес к своим губам. — Но, повторяю, голубушка, преодолеть себя надобно. И для себя, и для Андрея, и для России.
Проводив Батушина, Вера Глебовна собралась на рынок, чтоб купить хотя бы килограмм картошки на дорогу. Уже не одна серебряная ложка была продана, но сейчас у нее было немного денег, и, одевшись потеплее, накрутив на себя все, что было можно, она вышла на улицу, где выла метель и колючие снежинки больно били по лицу.
До Центрального рынка было недалеко, только выйти к Троицким переулкам и по ним вниз к Самотечной площади, а там по Цветному бульвару… Переулки были такими же, как и двадцать, а может, и пятьдесят лет тому назад, и она подумала, что время добрее к вещам, чем к людям и их судьбам. Так же стоял, занесенный снегом, домик Васнецова, так же стояли тополя, так же кривились деревянные особнячки и возвышалось несколько доходных домов, построенных, наверное, еще до той, первой войны. Переулки были в сугробах, и она шла по узкой протоптанной людьми тропке, сейчас заносимой метелью, и в некоторых местах ей приходилось идти по колено в снегу. Ей вспомнилось, что и во время революции московские улицы были в сугробах.
Рынок жил своей особой, суматошной жизнью. Закутанные в платки колхозницы продавали картофель, масло, мясо, а москвичи тенями проходили между рядами, покачивая головами и охая на сумасшедшие цены, заламываемые продавцами. У некоторых в руках были кое-какие вещицы-рубашки, брюки, платки, редко у кого шевиотовый отрез, у кого-то колечки, сережки, серебряные ложки — все это уходило, уплывало из рук за бесценок, за несколько килограммов картофеля, за кусочек масла, за горсть крупы.
— Не мороженая? — спросила Вера Глебовна, давая три тридцатки за килограмм картошки.
— Что ты, матушка, в тулупе везла закутанную. Ничуть не мороженная,уверяла пожилая крестьянка, вешая картофель.
Обратно надо было подниматься уже в гору по Троицкому переулку, и Вера Глебовна с трудом осилила этот подъем. Еще полчаса простояла она в булочной за кусочком хлеба в четыреста граммов, которые полагались ей по иждивенческой карточке, и, придя домой, тяжело опустилась в кресло, подумав, что все-таки она сильно ослабла и, разумеется, пешком ей ни до какого Малоярославца не добраться. Дай бог сделать сегодня хоть одно сходить к коменданту города и выяснить насчет пропуска. Немного отдышавшись, она взяла папиросу из оставленной будто бы случайно Батушиным пачки "Беломора" и жадно закурила.
…От коменданта она возвращалась уже вечером по темным, малолюдным московским улицам в полном отчаянии — в пропуске ей отказали.
А ей-то казалось, что нет такой силы, которая устояла бы перед ее неотъемлемым и священным правом матери повидать сына перед фронтом, но, увы, такая сила нашлась в лице плотного пожилого генерала, который на все ее доводы устало отвечал: "Нет оснований для выдачи вам пропуска…" Тогда она показала письмо Андрея, воскликнув:
— Я отдаю вам последнее, что у меня есть — сына, а вы отказываете мне в возможности его повидать!
— Вы не мне его отдаете — Родине, — сказал генерал, поднявшись, давая понять, что разговор окончен.
— Я приду к вам еще. И буду приходить до тех пор, пока вы не дадите мне пропуск, — сказала Вера Глебовна твердо, глядя прямо в глаза генералу. Тот пожал плечами.
О, как не любила она все официальные учреждения!
Теперь у нее только одна надежда — на Киевский вокзал. Неужели никто, никто не сжалится над нею? Ведь у каждого, с кем она будет говорить и кого будет просить взять ее в эшелон, есть матери, с которыми их разлучила война, так неужели?…
И она стала собираться в дорогу. В старый Андреев рюкзак, с которым ходил он в походы, положила сваренную картошку, флакончик со спиртом, бутылку вина, купленную по какому-то случаю еще весной и с тех пор хранимую на случай встречи с сыном, плитку шоколада, подаренную ей Батушиным, и несколько галет, принесенных им же. Вот и все, с чем она поедет к Андрею. И все же рюкзак показался ей тяжелым. Закончив сборы, она прилегла, и кошмар, от которого пряталась с самого утра, заполняя день разными делами, обрушился на нее. "Мальчик мой, — прошептала она, — с какой радостью, с каким счастьем я отдала бы свою жизнь вместо твоей… В любой муке, в любой пытке. Но никому не нужна моя жизнь, нужна твоя".
Эта вспышка отчаяния и боли пригнула Веру Глебовну, и она, прижавшись к спинке дивана, охватила голову руками. "Господи, — подумала она, — будь у меня та покорность, та безропотность, с которой другие матери отдают своих сыновей, — было бы легче…" Но всего этого у нее не было, наоборот, был протест: почему на нее навалилось так много, в чем она виновата, что время выдало именно ей все, что могло: и гибель отца и братьев в гражданской, и арест мужа, и сейчас отправка на фронт сына. Почему все на нее одну? Почему?
Оправив постель, она не стала гасить керосинку — ей надо набраться тепла за эту ночь. Когда легла, ее охватило вдруг очень ясное предчувствие, что она увидит Андрея. Обязательно увидит! А если увидит, то с ним ничего не случится страшного. Ей стало удивительно спокойно, а когда заснула, снилась ей бесконечная крутая лестница, по которой она поднимается, но с каждым преодоленным маршем ее наполняло предвкушение какого-то неизъяснимого счастья, ожидающего ее, которое вот-вот, сейчас, через еще несколько ступенек придет к ней… И когда проснулась, это ощущение долго не покидало ее. Она встала легко, не чувствуя привычной разбитости, и первой мыслью было — сегодня ей должно повезти и она сегодня поедет к сыну. И вот с такой, ни на чем не основанной уверенностью, что все у нее получится, она наскоро попила чаю, съела пару вареных картофелин и, одевшись потеплее, захватив рюкзак, отправилась на Киевский вокзал.
В ледяном трамвае, не согреваемом дыханием набитых в нем людей, Вера Глебовна стояла, прижатая к замороженным окнам задней площадки, и вскоре холод, шедший от них, стал проникать через старенькую, приобретенную в тридцатых годах шубенку.
В трамвае было необычно тихо. Только покашливание простуженных людей прокатывалось с площадки на площадку. Люди ехали на работу. Не отдохнувшие как следует в своих холодных, просквоженных комнатах, не согретые наскоро проглоченным скудным завтраком, ехали хмурые, озабоченные нерадостными сводками Информбюро. Хоть и ушла беда от самой Москвы, но война-то продолжалась и представлялась уже ясно — долгой и кровопролитной.
После эвакуации учреждения, где она работала, Вера Глебовна почти никуда не ходила. Магазин, булочная, иногда рынок — этим и ограничивались ее выходы из дома. И сейчас она с каким-то обостренным интересом всматривалась в похудевшие, поблекшие лица женщин, несших в своей душе тот же страх за близких, то же горе, то же страдание, что и она.
После ареста мужа Вера Глебовна, как и после революции, болезненно переживала особость своей судьбы. Ведь ее горе было только ее горем, ну и горем еще нескольких женщин, стоявших вместе с нею в очереди на Кузнецком мосту в приемной, и нескольких близких и неблизких знакомых, с которыми произошло то же, что и с нею. А вокруг шла обычная, как ни странно это было для нее, жизнь: люди работали, строили планы на будущее, ездили по путевкам отдыхать в Крым или на Кавказ, снимали на лето дачи, ходили в театры, в рестораны… Улицы Москвы украсились неоновыми рекламами, новыми красивыми фонарями на высоких мачтах, в магазинах появилось все, вплоть до паюсной икры и балыков, булочные ломились от белейших французских булок… Людям действительно стало легче и сытнее жить. И от всего этого еще острее чувствовала Вера Глебовна свое отчуждение от остальных.
Когда началась война и горе захлестнуло всю страну, когда почти в каждый дом, в каждую квартиру полетели похоронки, Вера Глебовна оказалась не самой несчастной — ее сын был пока далеко от войны, а муж хоть и не с ней, но живой, над ним не рвались снаряды, не свистели пули, и была надежда на его возвращение, правда, нескорое. И опять она как-то выделялась своей участью среди других. А вот сегодня, когда ее сын в нескольких километрах от фронта и его ждет такая же жестокая судьба, как мужей и сыновей этих едущих в трамвае женщин, когда ее душа полна той же мукой, что и души этих женщин, она, наверное, впервые в жизни ощутила умиротворяющее и даже радостное чувство общности с другими людьми. Стало как-то спокойно и легко. Такой успокоенной сошла она с трамвая и вошла в вокзал.
Там было много людей, но не было вокзальной суеты. Люди молча сидели, кто на скамейках, кто на полу на своих вещах. Вера Глебовна не любила толпы. Еще со времени революции, когда тихие и вежливые раненые солдатики из лазарета, относившиеся к ней с уважением, называющие "сестрицей", вдруг превратились в совсем других — озлобленных, орущих, грубых… Она помнит, как при отъезде из Петрограда на Николаевском вокзале ее толкали, материли и как это было страшно, непонятно ей. Но сейчас, тут, в этой вокзальной толпе, ей не было одиноко. Она вглядывалась в усталые, измученные лица, в которых и горе, и растерянность, опять ощущая какую-то близость с этой массой.
Вскоре она пробралась на перрон. Там стоял санитарный поезд и шла выгрузка раненых. Вера Глебовна остановилась. Мимо нее проходили красноармейцы с перевязанными головами, руками, на костылях, проходили кто в грязных, изорванных шинелях, кто в полушубках, уже не белых, а зеленовато-желтого цвета, у кого-то в пятнах крови, у кого-то обожженных. Проходили молча и какими-то отрешенно-удивленными глазами оглядывали вокзал, словно не веря, что они в Москве, а громыхающий и нещадный фронт остался позади. За ними поплыли носилки с тяжелоранеными, и Вера Глебовна, окаменевшая, сдерживая слезы, смотрела на обострившиеся, будто прозрачные лица, то совсем юные, то обросшие седоватой щетиной, морщившиеся от боли, когда санитары сбивались с шага и дергали носилки…
Но, как ни странно, вид этих перемолоченных войной людей не привел ее в отчаяние, не усилил страха за Андрея — ведь они остались живыми, значит, не так уж неизбежна смерть на войне… И вот один из легко раненных подошел к ней:
— Спичек нет, мать?
— Сейчас… — Она стала судорожно шарить по карманам, ища спички. — Вот, пожалуйста.
Красноармеец прикурил, посмотрел на нее.
— Своего ждете? — спросил хриплым, простуженным голосом.
— Нет. Мне в Малоярославец надо. Сын там…
— Брали мы как раз этот городишко. Дали там немцам. Небось до сих пор трупы ихние валяются. Много их побили… Ну, спасибо за огонек.
— Подождите, — остановила его Вера Глебовна. — Скажите, как сейчас на фронте?
Раненый на миг задумался, затянулся два раза, потом сказал:
— Уперся фриц сейчас, не стронем никак. А вообще-то ничего. Ну, желаю вам, — он, опираясь на палку, заковылял догонять своих.
Она долго глядела ему вслед, пока не подошла к ней молодая женщина и не спросила:
— Тоже своего ищете?
— Нет. Мне надо в Малоярославец. Сын там.
— А мой на работу позвонил, где-то здесь эшелон их. Вот и ищу. Пойдемте вместе.
Они пошли по перрону, пока он не кончился. Сойдя со ступеней, вышли на разветвлявшиеся широким веером пути, забитые составами. Надрывно гудели и фыркали паровозы, туманя клочьями пара междупутья, из какого-то эшелона доносилась гармонь, разрывая сердце разлучной тоской, где-то лязгали буфера, тревожной трелью заливались свистки маневровых кондукторов…
Около вагонов толпились красноармейцы. Какие-то группки были в новеньких полушубках, другие в шинелях. Женщина кидалась то к одним, то к другим, спрашивая:
— Вы не из Сибири?
Но никто ей не отвечал. Только один разбитной боец рассмеялся:
— Чего узнать захотела? Тайна это военная. Поняла?
— Какая тайна? Мужа мне надо найти.
— А чего его искать? Вон мужиков сколько! Выбирай любого.
— Не до шуток, ребята. Звонил он. Где-то тут, на Киевском, эшелон их стоит. Ну, скажите, с Сибири вы или нет?
— Нет. С другого мы места. Иди дальше, — махнул боец рукой. — Там эшелонов тьма стоит.
— Неужто не найду?! — в отчаянии вскрикнула женщина и побежала вперед.
Вера Глебовна осталась одна. Она растерянно озиралась, не зная, кого же спросить, куда отправляется эшелон, и уже понимая, что ей, наверно, никто не ответит.
— Вы тоже кого-то ищете? — спросил ее тот же красноармеец, заметив, видно, ее растерянный вид.
— Мне надо в Малоярославец… Вы не туда?
— Это нам неизвестно. Может, туда, а может, и не туда.
— А у кого я могу узнать? — спросила она
— Вон, у пассажирского вагона, кажись, начальник эшелона стоит… Только, боюсь, не скажет он вам.
— Почему?
— Не положено это знать. Тайна!
Вера Глебовна пошла к пассажирскому вагону, встала поодаль от военного в полушубке, перетянутом новенькими белесыми, не успевшими еще потемнеть ремнями, который разговаривал еще с двумя военными, и стала ждать, когда закончат те разговор. Высокий, в полушубке, несколько раз кидал на нее подозрительный взгляд, а потом, закончив разговор, направился к ней.
— Что вам здесь нужно, гражданка? — спросил резким, неприятным голосом, упершись в нее холодными глазами.
— Я… я получила письмо от сына. Он в Малоярославце, просит приехать… Я не видела его три года… Хотела узнать, ваш эшелон не туда?
Военный недоуменно пожал плечами:
— Вы что, совсем не понимаете, что на этот вопрос вам никто не имеет права ответить?
— Почему? У меня же письмо… Вот оно, — достает она письмо Андрея.
— Не трудитесь. Я ничего вам не могу сказать…
— Но как же? Я же мать… Сын едет на фронт… Я же должна его…начала взволнованно Вера Глебовна, но он перебил, крикнув военному у вагона:
— Комиссар! Подойди-ка сюда. Разъясни гражданке. Это по твоей части,и, круто повернувшись, пошел обратно.
Подошедший к ней военный, тоже в полушубке, но поменьше ростом, с мягкими чертами лица и не такой суровый, как начальник эшелона, слышавший, видимо, краем уха их разговор, спросил ее:
— Ваш сын в Малоярославце?
Она кивнула головой.
— Давно он там? — продолжил комиссар.
— Только прибыли… С Дальнего Востока. Он пишет, что пробудет, возможно, там несколько дней… Мне очень нужно его повидать.
— Да, я понимаю…
— Я не видела его почти три года…
— Не знаю, что вам и посоветовать, — участливо сказал комиссар. — В эшелон воинский вас никто не возьмет. Это исключено
— Что же мне делать? — упавшим голосом спросила она.
— Не знаю… Посторонних в эшелон брать запрещено.
— Но разве я посторонняя — воскликнула она — Я — мать!
— Не мучайтесь зря… Поищите другие пути.
— Их нет — других… И я буду ходить здесь день, если понадобится, и ночь, еще день, и найдется кто-нибудь с сердцем…
— Вы думаете, его нет у меня? Или вот у него? У всех оно есть. И у всех есть матери. Но есть строгие законы военного времени. Поймите это.
— Не понимаю… Я — мать! Я должна увидеть сына перед фронтом. Это мое святое право! — повысила она голос. — И ваши все законы и предписания военного времени перед этим священным правом — ничто!
Комиссар серьезно выслушал эту тираду, потом осторожно взял ее за локоть.
— Пройдемте немного, — и повел вдоль эшелона. — Я же тоже москвич, и мой дом не очень-то далеко отсюда, но я тоже не увижу мать перед фронтом.
— Позвоните домой! — воскликнула Вера Глебовна.
— Увы, наш телефон отключен, — пожал плечами комиссар. — Поверьте, мне сейчас не легче вашего, ведь до моего дома всего несколько километров, а не сто двадцать, как до Малоярославца. Не мучайте себя, идите домой. Будем надеяться, что все будет хорошо, что мы вернемся к своим матерям. Это одно, что сейчас можем. Прощайте, — комиссар протянул руку Вере Глебовне.
Она пошла дальше… Пошла, уже почти ни на что не надеясь, но уйти с вокзала тоже не могла. А вдруг, вдруг, думала она, подвернется какой-то необыкновенный, счастливый случай. Она прошла весь эшелон, пересекла пути и пошла к следующему эшелону, откуда доносился звук гармони. По дороге она спросила какого-то бойца, шедшего с котелком, не в Малоярославец ли они едут, но тот покачал головой, пробормотав: "Не знаю". Уже в конце этого эшелона, когда прошла фыркающий и обдающий парами паровоз, она увидела женщину, с которой начинала путь. Она стояла, обнявшись с нескладным красноармейцем в мешковатой шинели. Лицо ее сияло. Увидев Веру Глебовну, она крикнула:
— Нашла я своего! Вот он, мой Ванечка! — она схватила его за шею и повисла на муже.
Тот же, застеснявшись, видно, постороннего человека, отпустил ее, и она соскользнула с него, чуть не упав. Шутливо ударив мужа по руке, она подбежала к Вере Глебовне.
— Они в Юхнов едут! Мимо Малоярославца, — выпалила, запыхавшись. — Ваня, поди-ка сюда! — позвала мужа, который не очень-то охотно двинулся к ним, недовольный, что помешали его свиданию с женой. — Ваня, поговори со своим начальником. Сын вот у нее в Малоярославце. Надо помочь. Может, возьмут ее в ваш вагон.
— Лида… у нас с тобой-то времени в обрез… — начал было он, но жена оборвала:
— Ты чего? А ну, быстренько иди, — и подтолкнула мужа. — В санроте он, санитаром, нескладный-то мой. У них врач начальником. Молоденький такой, хорошенький… И в вагоне их мало. Возьмут они вас…
— Боюсь и надеяться, — тихо сказала Вера Глебовна и закурила.
— С войны начали? Я тоже балуюсь табачком. Все нервам легче.
— Я давно курю…
Женщина помолчала немного, часто оборачиваясь на вагон, куда ушел муж, потом вздохнула:
— Уж не знаю даже, радость ли встреча эта? Может, лучше и не видеться было? Скис мой совсем… Обнимает меня, а у самого руки дрожат. И у меня словно кол в грудь забит… Знаете что, — добавила после паузы. — Не езжайте вы в Малоярославец этот. И себе и сыну сердце разорвете.
— Я знаю, что не на радость еду… Но надо мне, надо… — опустив голову, сказала Вера Глебовна.
— Идут! — показала женщина рукой на приближающегося мужа и его начальника — молодого военврача с одной шпалой в петлицах длинной шинели.
Он поздоровался с ними, а Вере Глебовне сказал:
— Мне передали вашу просьбу. Только надо посоветоваться. Я ведь военный без году неделя, — улыбнулся он. — Вы, наверно, замерзли. Пойдемте в вагон.
Он помог Вере Глебовне взобраться в товарный вагон, где посредине стояла накаленная докрасна железная печурка, усадил ее, приказал кому-то разогреть воды, а потом обратился к пожилому старшему лейтенанту:
— Вот, Василий Кузьмин, не знаю, как быть? Надо помочь этой женщине добраться до Малоярославца. Ее сын там. Довезем?
— Вы москвичка? — спросил тот Веру Глебовну.
— Да… Вот паспорт и письмо сына, — передала она ему документ.
Старший лейтенант внимательно все проглядел и, вернув их Вере Глебовне, сказал:
— Вообще-то это против правил, товарищ военврач. Начальник эшелона узнает — будут неприятности.
— Ну, неприятности мы как-нибудь переживем, — улыбнулся военврач.
— Глядите, дело ваше… Нас могут бомбить, — повернулся он к Вере Глебовне.
— Я не боюсь этого, — быстро ответила она. — Я никогда не спускалась в бомбоубежище…
— В эшелоне эта штука пострашнее, чем в городе. И должен предупредить вас — мы не знаем, когда тронемся и сколько будем ехать.
— Мне лишь бы добраться и застать сына… — устало проговорила она, потянувшись руками к печке.
Ее сразу разморило от тепла и стало клонить в сон. Она кинула взгляд на нижние нары, где лежали только носилки и было свободное местечко, — ей нестерпимо захотелось прилечь.
— Сейчас мы угостим вас горячим чаем, и вы совсем согреетесь, — сказал военврач.
Котелок, поставленный бойцом на печку, уже вскипел, военврач колдовал с заваркой и спустя немного подал Вере Глебовне кружку крепко заваренного чая, в которую положил несколько кусков сахара и ложку сливочного масла.
— Не пробовали никогда? — спросил он. — Я тоже не знал такой комбинации, но знаете ли, очень вкусно.
Вера Глебовна маленькими глотками стала пить обжигающий горло чай, такой ароматный и вкусный — она же так давно не пила настоящего чая.
На нее смотрел военврач, смотрел еще один молодой командир с кубиками, смотрели бойцы — их было человек шесть, и она поняла, что сейчас все они вспоминают своих матерей, и как хочется им всем, наверно, чтобы вместо нее сидели здесь их матери. Она допила чай, поблагодарила и стала сворачивать цигарку, оставив папиросы (их было немного) на случай, когда надо будет закуривать на улице и замерзшие пальцы не смогут скрутить самокрутку. Но военврач сразу же предложил папиросу, которую она с наслаждением закурила, и у нее вырвалось:
— Мне так хорошо у вас…
И только она это сказала, как подошел кто-то к вагону, заглянул через приоткрытую дверь и крикнул:
— Командира санвзвода к начальнику эшелона!
Военврач застегнул шинель, поправил ремни и выскочил из вагона. Вера Глебовна почувствовала, что вызвали его из-за нее, сжалась и подвинулась к печке, стараясь вобрать в себя тепло, идущее от нее, перед тем как выйти опять на мороз и пронизывающий насквозь ветер.
Военврач вернулся не один. Тот, с кем он пришел, резко отодвинул дверь вагона и уставился на Веру Глебовну. Она тоже смотрела на него, и, видно, было в ее глазах такое, что тот отвернул взгляд и пробормотал:
— Простите, гражданка, военврач не имеет права взять вас в эшелон. Простите, но вам надо выйти.
— У меня сын в Малоярославце… — сказала она.
— Я знаю. Но, увы, не могу ничем помочь. Не положено, — отрезал тот.
— Товарищ майор, — сказал молодой лейтенант, — она же мать военнослужащего. Может, как исключение? У нас пустой вагон…
— Товарищ майор, мы все просим, — выступил один из бойцов. — Понимать же надо… К сынку едет, а ему-то на фронт…
— Отставить разговоры, — нерезко сказал майор. — Я понимаю ваши чувства, товарищи, но мы не можем нарушить инструкции. Не можем, — добавил он тихо и отошел от вагона.
— Очень сожалею… — смущенно сказал военврач.
— Какая падла сообщила?! — в сердцах бросил боец, вступившийся за Веру Глебовну.
— Нашлись благодетели, — проворчал молодой лейтенант.
— Что же делать? — поднялась она. — Благодарю вас всех, что хотели мне помочь… И желаю всем вам… живыми и с победой.
— Посидите еще, — предложил врач. — Не согрелись еще.
— Нет, согрелась. Спасибо.
— Я провожу вас, — военврач помог ей вылезти из вагона и пошел вместе с ней.
— Вы, наверное, только из института? — спросила Вера Глебовна.
— Да… Очень боюсь, совсем нет опыта, умения… Вы извините, что не удалось вам помочь. Вы видели…
— Что вы! Обогрели меня… Ну, желаю вам счастья, доктор, и… возвращения.
— А вам — увидеть сына.
Они остановились… Вере Глебовне захотелось поцеловать этого милого, хорошего доктора, но она постеснялась и только крепко пожала ему руку.
Она шла между стоящими эшелонами, как по длинному, нескончаемому коридору, и уже не спрашивала никого, куда они едут, потому что поняла, что никто ее в эшелон не возьмет и надо поскорее выбраться к вокзалу, там немного передохнуть и ехать домой. Рюкзак, вроде бы совсем пустой, сейчас тянул плечи, и она усмехнулась своим словам, что пойдет в Малоярославец по шпалам, которые сказала Батушину, — ей не пройти и десятка километров.
Еще не дойдя до перрона, она увидела стоявшую около него девушку в военной форме, которая, притоптывая на месте ногами и потирая замерзшие руки, глядела на здание вокзала, видно, поджидая кого-то. Когда она поравнялась с ней и увидела посиневшее девчоночье лицо, показавшееся ей знакомым, она невольно приостановилась. Девушка тоже взглянула на нее и, обрадованно улыбнувшись, бросилась к ней:
— Вера Глебовна! Что вы здесь делаете? Не узнали меня? Я — Ирина. Мы с Андреем в одном классе учились. Вспомнили? Я заходила к вам несколько раз.
— Я помню вас, Ирина… А вы… вы что, в армии?
— Как видите… Смотрю на вокзал… прощаюсь с Москвой. Вы кого-нибудь провожали?
— Нет, Ирина… Андрей в Малоярославце, и я просилась в эшелон, но меня никто не берет. Говорят, не положено, — слабо улыбнулась Вера Глебовна.
— Да, это нельзя… Значит, Андрей уже здесь, на западе? — прошептала Ирина как-то странно, словно обрадовавшись. Потом, вскинув голову, спросила: — Вы сейчас домой, Вера Глебовна?
— Да… Ничего другого не остается… Ирина, а разве девушек призывают в армию?
— Нет, конечно, — засмеялась она. — Я добровольно.
— Зачем, Ирина?
— Так, — пожала плечами Ирина. — Ну а потом, все наши мальчики воюют… и я решила… Вера Глебовна, у меня к вам просьба. У нас выключен телефон. Не зайдете к моей маме, не скажете ей, что я здесь, на Киевском? Может, она успеет? Мы стоим тут уже полдня, возможно, и до вечера простоим. А?
— Конечно, зайду. Давайте адрес.
— Ой как здорово! А я стою и мучаюсь, — она сняла рукавичку и нацарапала адрес. — Это совсем недалеко от вас. От трамвая будете идти как раз мимо нашего дома.
— Я зайду, — сказала Вера Глебовна, беря бумажку. — А застану вашу маму?
— Почти наверняка, она же надомницей сейчас работает. Только скажите ей, чтоб сразу ехала… Значит, Андрей тоже на Западном будет воевать? Может, к нам в санбат раненый попадет? Может же это случиться? А?
— Наверное… Ну, я пойду, Ирина… Надо же поскорее сообщить вашей маме.
— Вдруг и увидимся? И придется мне за ним ухаживать…
— Я пойду, Ирина, — прервала ее мечтания Вера Глебовна.
— Да, да, конечно, идите… Если Андрея увидите, передавайте от меня большущий привет и скажите, что я тоже на Западном воюю. Может, помнит он меня?
— Разумеется, помнит, Ирина.
— Ну хорошо, прощайте. Скажите маме, что я здесь буду стоять. Мне отсюда и перрон и эшелон наш видно.
Вера Глебовна поднялась на перрон и пошла быстрым шагом, пересиливая слабость и усталость.
В трамвае было еще холодней, так как меньше было народу, но зато ей удалось найти место и присесть. У нее была какая-то пустая голова, она ни о чем не могла думать, и ей хотелось только поскорее попасть домой, но вначале, конечно, к Ирининой матери, которую обязательно надо застать, а если не будет ее дома, то и разыскать…
К счастью, она застала ее дома, но не успела перекинуться и двумя словами, потому как та засуетилась, запричитала и, наскоро накинув на себя шубу, уже на ходу повязывая платок, бросилась вниз по лестнице и, обогнав Веру Глебовну, кинула ей слова благодарности… Когда Вера Глебовна спустилась с четвертого этажа и вышла из парадного, та была уже далеко, спеша к трамвайной остановке.
Домой Вера Глебовна вернулась, когда уже смеркалось и короткий зимний день опадал раньше времени из-за сгустившихся туч и пошедшего густого снега. Тяжело поднявшись на третий этаж, она вошла в холодную свою комнату, зажгла керосинку и легла на диван, не раздеваясь, думая о том, что теперь ей ничего не остается, как ждать приезда Батушина и надеяться на командировку в Юхнов его сослуживца, который то ли возьмет ее с собой, то ли не возьмет. И если не возьмет, то ей придется уповать только на какое-то неожиданное чудо, которое поможет ей перенестись из Москвы в Малоярославец. Но чудес в ее жизни не случалось. И тут опять страшная своей обреченностью мысль ударила по сердцу: если не судьба ей увидеть Андрея сейчас, когда он так близко от Москвы, то не суждено ей увидеть его совсем. Но все же какая-то надежда еще тлела в душе и не давала отчаянию захватить ее целиком.
…Прошло несколько дней, похожих один на другой. Вера Глебовна как на работу ходила с утра к коменданту города, простаивала там громадную очередь, чтобы еще раз получить очередной отказ. Правда, ей казалось, что эти отказы звучали мягче, с нотками сожаления, и один раз генерал сказал ей:
— Ну хорошо, я нарушу закон и дам вам пропуск, но как вы поедете в Малоярославец?
Вера Глебовна не нашлась что ответить, забыв совершенно об обещании Батушина, и сказала, что как-нибудь доберется. Генерал покачал головой и приподнялся. Она вышла из кабинета и только тут вспомнила, что надо было сказать, что ее обещали взять на машину, идущую в Юхнов, рванулась было обратно в кабинет, но не вошла, подумав, что не имеет, наверно, права говорить об этом, что генерал может начать расспрашивать ее и она может подвести Батушина.
Дни пролетали мгновенно, и Вера Глебовна страшилась, что каждый пробежавший день может стать последним днем пребывания Андрея под Малоярославцем и что он так и не дождется ее, уйдет на фронт, так и не повидав мать. И уже не только за себя, а больше за Андрея мучилась она, представляя его бесплодное ожидание и то отчаяние и боль, с которыми ему придется уходить из Бородухина, уходить в неизвестность, возможно, навсегда…
…Поздним вечером телефонный звонок сорвал ее с дивана, где лежала она, укрывшись одеялами, спасаясь от холода.
— Я так и знал, — сказал Батушин, выслушав ее бессвязный рассказ о мытарствах на Киевском вокзале. — Но не расстраивайтесь. На той неделе мой сослуживец поедет в Юхнов. Он обещал мне взять вас, но все-таки, Вера Глебовна, хорошо бы добиться пропуска. Я зайду к вам завтра…
Какой-то просвет все же забрезжил впереди, и она легла спать если не успокоенная, то все же без того тяжелого камня на душе, давившего ее постоянно все эти дни.
Утром постучала соседка и вошла, по своему обыкновению, не дождавшись ответа на стук.
— Лежите, лежите, Вера Глебовна… На минутку я, спросить только пропуск-то дали вам?
— Пока нет, — приподнялась с дивана Вера Глебовна.
— Значит, не выйдет вам выехать к Андрюше?
— Не знаю… ничего не знаю…
Пока Вера Глебовна завертывала папироску, соседка прошла в комнату и села.
— Хорошо все же, что не уехали мы из Москвы, — начала она. — А помните, вякали нам те, которые драпали, — немцев дожидаться остались.
— Надо же было им оправдать свою трусость.
— А страшно все-таки было… Все вещи упаковывают, собираются, и мы вроде как одни остаемся.
— Я не верила, что немцы войдут в Москву.
— Вы-то вообще смелая, а я ой как трусила. Не за себя, конечно, за дочку… — Соседка помолчала немного. — Обидели вы все-таки меня, не взяли подарочек для Андрея…
Вера Глебовна взглянула на нее, вспомнила почему-то вокзал, где появилось у нее незнакомое прежде и радостное чувство слитности свой судьбы с судьбами других, и подумав, сказала:
— Наверное, я была не права.
— Так возьмете? — обрадовалась соседка. — Я мигом! — и выбежала из комнаты.
Вера Глебовна невольно улыбнулась.
— Вот, — почти торжественно положила на стол банку консервов соседка.Сейчас-то делить нам нечего.
Вера Глебовна поблагодарила и заметила, что и раньше делить им было нечего.
— Не скажите. Раньше завидовала я вам, что сын у вас, а теперь вышло, что я счастливее — дочка у меня. А был бы сын, как paз этим летом на войну бы пришлось идти… Да, война — всем плохо, но нам, матерям, хужее всего. Верно, Вера Глебовна?
— Да, — прижгла Вера Глебовна потухшую цигарку.
— Ну, пойду я… Очень желаю вам с Андреем свидеться. Вижу, совсем лицом спали за эти дни. Понимаю я вас, Вера Глебовна.
Вера Глебовна кивком поблагодарила соседку за сочувствие и подумала, что странный народ русский — в счастье завидует, в несчастье сочувствует. Да, слава богу, теперь ей никто уже не может завидовать. Печально улыбнувшись, она стала готовить себе завтрак — чай, кусочек хлеба и две картофелины.
Поев, она стала собираться опять туда же — к коменданту города, уже заранее испытывая неприятное чувство предстоящего унижения, но тут прозвучали два звонка. Сердце сразу забилось — кто может звонить, какое известие принести?
Открыв дверь, она увидела мать Ирины и облегченно вздохнула. Та сразу бросилась к ней с благодарностями и слезами — дочь она застала, пробыла с ней до самого вечера, — а потом с извинениями, что вчера в суете и спешке и не поблагодарила как следует. Вера Глебовна пригласила ее присесть, спросила имя-отчество и представилась сама. Иринина мать вытерла платком мокрые глаза.
— Вот мы и одни, — сказала она. — Я знаю, Ирина пошла добровольно, хоть и скрывает это от меня… Что ж делать, — вздохнула она удрученно, — они совсем не думают о нас… А может, так и нужно теперь?
— Что нужно? — резковато спросила Вера Глебовна. — Не думать о близких?
— Идти на фронт, — почти прошептала Иринина мать.
— Она — девочка! Зачем же ей? Андрей служил в армии, для него война была неизбежна…
— Ирина говорила, что Андрей обязательно выпросится на фронт с Дальнего Востока.
— Выпросится? — повторила Вера Глебовна, об этом она как-то раньше не думала. — Не знаю… Он ничего об этом не писал… Господи… Нет… нет… вряд ли…
Это предположение ударило больно — неужели это так? И война для сына не судьба, не неизбежность, а он сам, сам… по глупому мальчишеству… И этого могло не быть. Вот это — "могло не быть" безнадежно придавило грудь. Она потянулась к папиросам.
— Да, они не подумали о нас, — повторила, вздохнув, мать Ирины. — Теперь наша жизнь до конца войны — непрестанное ожидание самого страшного, — она всхлипнула.
— Успокойтесь, — странно холодным голосом сказала Вера Глебовна, закуривая.
После удара боли поступок Андрея — если он действительно выпросился на фронт — поднял в ней раздражение, даже гнев против сына. Он не подумал о ней, о матери. Он же знает, что, кроме него, у нее никого нет на целом свете.
— Я держалась там, на вокзале, — продолжила мать Ирины, — а сегодня ничего не могу делать. Бросила работу и пришла к вам… Вы знаете, что моя Иринка была влюблена в вашего Андрея?
— Нет, откуда я могла знать?
— И глупая девочка решила, что это ее первая и последняя любовь. И вот… военкомат… армия, а теперь фронт.
Вере Глебовне стало очень неловко, и она не знала, что сказать.
— А ваш Андрей… у него была Женя… — закончила Иринина мать.
— С Женей у Андрея давно все кончено. Они даже не переписываются.
— Ира говорила… Женя поступила гадко.
— Если б только она одна, — с горечью заметила Вера Глебовна.
Они помолчали немного…
— Вы очень одиноки? — спросила Иринина мать.
— Да.
— Можно заходить к вам?
— Конечно. Буду рада. Вот только надо мне сперва попасть в Малоярославец…
Они распрощались. Иринина мать хотела поцеловать Веру Глебовну, но та деликатно уклонилась — она терпеть не могла никаких нежностей.
Вечером перед приходом Батушина она думала о матери Ирины. В той чувствовалась какая-то примиренность со случившимся, которая Вере Глебовне была непонятна. Она вспомнила ее слова, что теперь, наверно, нужно всем идти на фронт, сказанные хоть и с заплаканными глазами, но с какой-то тихой убежденностью… Надо идти на фронт. Но почему этой девочке? Почему Андрею?
Батушин пришел ровно в восемь, как и обещал, и опять со своим портфелем. Он опять наклонил свою седоватую голову, целуя руку Веры Глебовны, и опять она ощутила легкое покалывание его коротко стриженных усов и запах одеколона.
— Мне сегодня снова отказали, — сказала Вера Глебовна, ставя чайник на керосинку. — Скажите, ваш сослуживец возьмет меня без пропуска?
— Может, и возьмет, но пропускные пункты… Вас просто-напросто могут высадить из машины. Хорошо, если это случится в городе, а если по дороге… Как будете добираться обратно?
— Тогда вы должны сходить со мной вместе к коменданту. Я не стала говорить ему, как я могу доехать до Малоярославца, боялась вас подвести, но если вы сами…
— Хорошо, Вера Глебовна, — сразу согласился Батушин.
— Вы знаете, мне почти все хотели помочь на вокзале, но…
— Я же говорил вам…
Вера Глебовна заварила чай и пошла к буфету за чашками. Батушин раскрыл свой портфель и стал выкладывать из него свертки.
— Опять, Иван Алексеевич? — покачала она головой.
— Да, опять. Тут есть кое-что и для Андрея, и вам на дорогу, — твердо сказал он.
Они сели за стол. Вера Глебовна разлила чай, а Батушин нарезал принесенный хлеб, колбасу и высыпал в пустую сахарницу куски рафинада.
— Вот вы спрашивали меня, с чем я поеду к Андрею? У меня есть письмо Николая Егорыча.
— Что же он пишет? — насторожился Батушин.
— Он… он… благословляет сына на войну, — с горькой усмешкой сказала она.
— Другого он и не мог написать, — с некоторым облегчением произнес он, вынимая серебряный портсигар и кладя его на стол. — Но и вам, Вера Глебовна, надо знать, что сказать Андрею.
— Что? — с мукой вырвалось у нее. — Господи, если бы я могла молиться. Но я не верю. Ни во что.
— У вас есть во что верить, — твердо сказал Батушин после небольшой паузы. — Есть.
— Во что?
— В Россию.
— В какую?
— В ту, в которой вы родились, в которой живете, в вашу Родину…
Вера Глебовна подняла глаза, хотела что-то сказать, но не сказала. Перед ее глазами опять встали Киевский вокзал, эшелоны, женщина, разыскивающая мужа, комиссар эшелона, военврач, поезд с ранеными, красноармеец, подошедший к ней за спичками… Да, там она увидела Россию, ее народ, частицей которого она так ясно ощутила себя там…
— Да, да, конечно… Вы правы.
— Вот так-то, Вера Глебовна, — сказал Батушин, а потом спросил, когда она пойдет к коменданту города.
— К десяти, как всегда. Но там громадная очередь. Если сможете, подойдите часам к двум.
— Есть, — сказал Батушин и стал прощаться. Минут через десять, как проводила она Батушина, раздались два робких звонка, и, открыв дверь, Вера Глебовна увидела Женю. Она удивленно подняла брови и, не приглашая ту войти, вопросительно глядела на девушку не очень добрым взглядом.
— Вы удивлены, Вера Глебовна? — спросила Женя. — Но я должна…
— Честно говоря, никак не ожидала вашего появления. С чем пожаловали?
— Вера Глебовна, ну зачем такой тон? Я виновата, я знаю, но…
— Ладно, проходите, — сухо пригласила Вера Глебовна, перебив Женю.
Когда вошли в комнату, Женя сразу спросила:
— Вера Глебовна, где Андрей?
— Вы уверены, что я вам скажу? — холодно ответила Вера Глебовна, прямо смотря на нее.
Женя потупилась, но, справившись с собой, сказала довольно твердо:
— Скажете, Вера Глебовна… Я не уйду от вас, не узнав.
— Что же такое случилось? Два с лишним года вас не интересовало, что с ним и где он…
— Я знала, — не дала ей Женя закончить, — он служил на Дальнем Востоке. Его друзья получали письма и говорили мне. Но сейчас война.
— Она уже девять месяцев…
— Не мучайте меня, Вера Глебовна! Сейчас все наши ребята на фронте, и мне не от кого узнать. Скажите, он все еще на Востоке?
— Нет.
— На фронте? — упавшим сразу голосом спросила Женя.
— Пока нет… Он под Малоярославцем.
— Господи… Так близко… Вы, конечно, поедете к нему?
— У меня ничего не выходит с выездом, — устало произнесла Вера Глебовна.
— Что же придумать? — живо откликнулась Женя. — Погодите, погодите… Попросить отца? Нет, это исключено, — горестно закончила она.
— Да уж, конечно, — усмехнулась Вера Глебовна. — По-моему, ваш отец говорил когда-то, что сделает все, чтобы вы позабыли Андрея.
— Я не забыла… — очень тихо сказала Женя. — Да, отец упросил меня не переписываться с ним, но я… я не забыла…
— Женя, вы что, надеетесь, что мой сын простит вам это?
— Вера Глебовна, если бы вы знали, как отец просил меня! Я никогда не видела его таким униженным, таким… — она не закончила, и на ее глаза навернулись слезы.
На какую-то секунду жалость к этой сидевшей напротив нее девочке тронула сердце Веры Глебовны, но она быстро погасила ее.
— Когда Андрей уходил в армию, мне было всего семнадцать, Вера Глебовна, я была совсем девчонкой и… любила отца. Что мне было делать? она смотрела на Веру Глебовну широко раскрытыми глазами.
Вера Глебовна ничего не ответила, и тогда Женя продолжила:
— Вы можете сказать, что Джульетте было пятнадцать…
— Я ничего не скажу, Женя.
— Андрей понял меня тогда…
— Не знаю. Во всяком случае, ни в одном письме он не упоминал вашего имени, — жестко сказала она.
— Я не думала, что вы жестокая, Вера Глебовна, — отшатнулась от нее Женя.
— Я не жестокая… Просто мне трудно прощать. Этого я как-то сразу не могу. Думаю, что Андрей такой же, — добавила она и тут же пожалела о сказанном: Женино личико сморщилось в гримасе такой неподдельной боли, что Вера Глебовна сразу же воскликнула: — Господи, ну чего я мучаю вас?! Разумеется, вы еще глупая девчонка. Господи, — повторила она.
Пока Вера Глебовна свертывала цигарку, что ей не сразу удалось, Женя порывалась что-то сказать и не решалась, но, когда Вера Глебовна закурила и раскашлялась после первой же затяжки, Женя робко, умоляющим голосом попросила:
— Вера Глебовна, возьмите меня с собой в Малоярославец…
— Вряд ли эта поездка вообще состоится, Женя. Мне, матери, не дают пропуск. Меня не взяли в эшелон…
— Надо что-то придумать! Я буду думать, Вера Глебовна. Тогда позвоню. Хорошо?
— Звоните…
На следующее утро, когда Вера Глебовна спускалась по лестнице, направляясь в булочную, ее чуть не сбил с ног стремительно несущийся человек.
— Вера Глебовна, вы?! Простите.
— Эрик! — вскрикнула она, не сразу узнав в человеке в белом полушубке с поднятым воротником соседа с верхнего этажа, погодка Андрея, глядевшего на нее ошалелыми глазами, брызжущими такой неуемной радостью, которая не могла не передаться Вере Глебовне.
— Я, Вера Глебовна! И живой! Понимаете — живой! И на целые сутки домой. Как моя мама?
— Все хорошо. Я недавно ее видела. Но она на работе, Эрик. И вообще вряд ли кто дома в вашей квартире. Идемте ко мне.
— Я все же добегу, позвоню, может, кто есть? А потом к вам. Но вы куда-то шли?
— В булочную. Я схожу потом.
— И не надо. У меня вагон хлеба! — воскликнул Эрик и побежал наверх.
Вера Глебовна вернулась к себе и не стала захлопывать дверь. Через минуту Эрик ввалился в комнату.
— Ну как Москва? — спросил он еще на ходу.
— Стоит, — не могла не улыбнуться она.
— Да, еду по Москве и никак не могу поверить, что я в Москве и живой. Мы же, Вера Глебовна, в Алабино в летних лагерях были, когда война началась, ну и двадцать третьего маршем на фронт. Ох, повидал я всего, Вера Глебовна… — он задумался, и его мальчишеское лицо вдруг перестало быть мальчишеским, на лбу наметились складки, рот сжался, а взгляд потускнел и стал каким-то отрешенным.
Вера Глебовна пристально вглядывалась в его глаза — они же видели смерть. Эрик немного помолчал и продолжил:
— Топаем, значит, на фронт. Настроение дай боже — малой кровью и на чужой территории, погоним немца. Топаем и уже по дороге видим — не то что-то… Ну, а потом… — он взмахнул безнадежно рукой. — Страшно было, Вера Глебовна. Очень страшно. На Соловьевской переправе разбомбили нас вдребезги… Сейфы штабные разорвало, и вот кружатся в воздухе деньги, падают на землю, как листья осенние, а мы по ним… сапожищами, сапожищами… Ни один, понимаете, ни один из нас не нагнулся, чтобы хоть одну купюру поднять… Там нас и окружили… Выходили группками, а кто и в одиночку. Жара, воды нигде нет, колодцы пустые, ну и голод… — он замолчал, вытащил мятую пачку "Беломора", предложил Вере Глебовне, и они долго молча курили.
— Что же было самое страшное, Эрик? — спросила наконец она.
— А вот то, что по деньгам… сапожищами… Ну и еще, Когда из окружения выходили, колонну наших пленных видели, как гнали их немцы словно скотину какую, а раненых пристреливали. Мы глядели и думали, что плен самое страшное. Тогда и решили — живыми не даваться…
— И вы бы застрелились, если…
— Пока этой колонны не видели — не знаю, а вот посмотрели и… наверное, застрелился бы, — закончил он после заминки.
— Господи… — прошептала Вера Глебовна.
— Как скотину гнали, прикладами по спинам и орали, сволочи… — Он немного помолчал, а потом махнул рукой, словно отгоняя от себя воспоминания. — Ладно, не будем о войне больше… Что в Москве было за это время?
Она рассказала ему и о частых налетах, и о панике шестнадцатого октября, и о холоде, в котором живут, и о голоде…
— Конечно, по сравнению с фронтом это не так страшно, но досталось, значит, и москвичам. — Эрик стал развязывать свой вещмешок. — Сейчас мы немного заправимся, Вера Глебовна. У меня хлеб, консервы. Жаль только, что выпить нечего в честь приезда.
— У меня есть немного спирта.
— Вот здорово! — обрадовался Эрик.
Вера Глебовна собрала на стол. Эрик поднял рюмку:
— За Победу, Вера Глебовна!
— А она будет, Эрик? — очень серьезно спросила она.
— Будет, Вера Глебовна! Повернулась уже война! Не скоро, конечно, но выбьем мы немцев.
— А летом? Что вы думали летом? — она напряженно ждала ответа, глядя на Эрика.
— Как ни странно, Вера Глебовна, но даже летом, в отступлениях, окружениях, когда, казалось, такой каток катит — не остановишь, все-таки в победе мы не сомневались. Понимаете ли, не сломали нас немцы тогда. Ну, а зимой… Зимой убедились — можно бить немца. Знаете, сколько их сейчас по дорогам валяется? Малоярославец проезжал, так по всем улицам мертвые фрицы лежат.
— Вы проезжали Малоярославец?! — воскликнула она.
— Да, а что? — удивился Эрик ее волнению.
— Так Андрей же там! В шести километрах от города!
— Андрей? Черт возьми, я так был уверен, что он все еще на Дальнем Востоке, не спросил вас о нем… Он там на формировании?
— Не знаю… Они не получили еще оружие. Неделю тому назад пришла от него весточка, а я никак не могу выехать к нему.
— Послезавтра поедете со мной, — заявил Эрик таким тоном, будто это самое обыкновенное и уже решенное дело.
— Как — с вами? — еле слышно спросила она, боясь поверить в этот удивительно счастливый случай.
— Очень просто. Я на машине. Мы приехали "газоны" получать из ремонта, но они не готовы. Оставлю тут шоферов, а сам поеду обратно. Мы в Юхнове стоим, Вера Глебовна.
— Эрик, мне это не снится?
— Нет, — рассмеялся он.
— Но мне не дали пропуск…
— А, ерунда! Обойдемся! — небрежно кинул Эрик.
— Мне говорили, много контрольно-пропускных пунктов…
— Ну и что? Я вам скажу, что говорить… Значит, послезавтра рано утром. Готовьтесь. А сейчас, Вера Глебовна, хочу по Москве пройтись… посмотреть, как она, матушка…
Весь этот день Вера Глебовна пробыла в каком-то радостном тумане и только к вечеру вспомнила о Жене и ее просьбе. Она поднялась наверх, в двенадцатую квартиру, где жил Эрик. Он был немного навеселе и встретил ее радостно, но, когда она заикнулась о Жене, нельзя ли ее взять, помотал головой.
— Не выйдет, Вера Глебовна. Я вас патрулям представлю женой командира моей части, а кем Женю? Да и вообще не хочу ее даже видеть. Удивляюсь, что вы…
— Эрик, трудно ее осуждать, она же совсем девочка, — перебила она.
— Вам трудно, а мне — нет… В дорогу оденьтесь потеплее. Вера Глебовна. Кузов, правда, с тентом, но все равно… В кабину-то я вас не смогу посадить, на каждом шагу тогда будут останавливать. Значит, в шесть выезжаем.
— Я все еще не верю, Эрик.
— Все будет в порядке. Завтра увидите Андрея.
— Не сглазьте, Эрик. Я все время боюсь, не случилось бы что…
— Ничего не случится, Вера Глебовна, — улыбнулся Эрик.
Она вернулась к себе, поставила чайник и стала ждать Батушина, который еще днем позвонил ей, предупредив о приходе. Ей почему-то не очень хотелось видеть его перед отъездом, но уклониться от встречи было неудобно, и вот ждала его, опасаясь долгого разговора, после которого, разумеется, она не сможет быстро уснуть, а ей так необходимо хорошенько выспаться перед дорогой.
Батушин явился очень серьезный, даже торжественный, и она невольно улыбнулась. Он принес ей немного хлеба, сахара и две пачки галет, которые приняла она без всегдашнего ощущения неловкости — это же для Андрея. Да и, честно говоря, ей было сейчас ни до чего, потому что не давали сосредоточиться неотвязные мысли о том, что вдруг в самый последний момент что-то помешает ей: либо испортится машина, либо задержат ее на контрольно-пропускном пункте, либо еще что-то… И она никак не могла настроиться на разговор, к которому, как видно, готовился Батушин.
— Вера Глебовна, — начал он, — вы должны со всей серьезностью понять, как важно, чтобы Андрей пошел на войну с верой, без сомнений. И вы должны…
— Да, конечно, — перебила Вера Глебовна. — Но я сейчас ни о чем не могу думать, ничего загадывать. Мне бы выехать только и застать Андрея. Остальное — потом.
— Но все-таки, — не согласился с нею Батушин, — надо заранее обдумать, взвесить…
Господи, думала она, почему хорошие, порядочные люди порой бывают так скучноваты своей основательностью и дотошностью. Батушину хочется все уточнить, разъяснить, а у нее одна мысль — лишь бы ничто не помешало завтра.
Наконец Батушин все же увидел, что ей не до него, и стал прощаться. Он долго желал ей доброго пути и удачи в дороге, а она нетерпеливо ждала его ухода, потому что надо было еще собраться.
Ночью Вера Глебовна заснула не сразу… Выл и хлестал ветер за окнами, постреливали зенитки, но не это мешало ей заснуть, а страх, что она не застанет уже сына в Бородухине. И тогда все напрасно. И предстоящая, наверно, не очень легкая дорога туда, и совершенно неизвестная — как и на чем — обратно. Ведь прошло уже больше недели, да и весточку он послал не сразу по прибытии в Бородухино, а когда дочь хозяйки поехала в Москву. Только под утро утихло немного за окнами и в душе Веры Глебовны…
Когда Эрик позвонил в дверь, она была уже готова. Грузовик стоял у подъезда, урча прогреваемым мотором. За рулем сидел молоденький красноармеец, которого Эрик строго спросил:
— В кузове все убрал?
— Так точно, товарищ старший сержант.
Эрик помог Вере Глебовне забраться в кузов. Там, кроме запасного баллона, стояли трофейные канистры, валялись какие-то тряпки, но в углу, у кабины разостланы были старый полушубок и плащ-палатка.
— В случае чего, Вера Глебовна, — вы жена нашего комдива. Поняли? И уверенности побольше, небрежности этакой: что вам какой-то лейтенант с пропускного пункта! Ясно? — улыбнулся он, подмигнул и задернул полог.
Машина тронулась…
Вера Глебовна не видела, по каким московским улицам они ехали, но по времени ей казалось, что скоро должны выехать из города и вот-вот, на выезде, должен быть контрольно-пропускной пункт, около которого и решится, поедет она дальше или нет.
И действительно, машина вскоре замедлила ход, а потом остановилась. Вера Глебовна слышала, как Эрик что-то говорил, смеялся… Затем она услышала приближающиеся шаги и тут же разобрала слова Эрика:
— Понимаешь, лейтенант, хозяин мне голову снимет, если жену ему не привезу…
— Что ж пропуск не выхлопотали?
— Да я думал, дня три пробуду. У меня и ходатайство к коменданту есть, да уже некогда было, — уверенно врал Эрик.
Полог тента раздвинулся, и Вера Глебовна увидела уставленные на нее строгие глаза. Она вся внутренне сжалась, но ответила спокойным, даже чуть снисходительным взглядом и улыбнулась. Лейтенант ответил на улыбку, строгость в глазах ушла.
— Поезжайте, — кивнул он Эрику, а ей сказал: — Желаю приятного свидания.
— Благодарю вас… лейтенант, — сказала она с величавой небрежностью, как благодарила когда-то адъютантов отца. Правда, войдя в роль, чуть не сказала "поручик" вместо "лейтенанта", но испугаться оговорки не успела, так как полог задвинулся и машина тронулась.
Вера Глебовна глубоко и облегченно вздохнула… Судя по тому, что грузовик поехал быстрее, она поняла, что выехали они на Старокалужскую, родную ей дорогу. Она на коленках подобралась к задку кузова и приоткрыла полог. Катились назад снежные поля, убегали обезлюдевшие подмосковные деревеньки. Все пока целое, не порушенное войной. И поля были чистые, без следов воронок, не пропаханные гусеницами танков, и деревни были хоть и пустынные, но живые, с дымком из труб, с протоптанными тропками около изб.
Через полуоткрытый полог врывался ветер, но Вера Глебовна не закрывала его — ей хотелось видеть эту знакомую дорогу. Наверно, ей надо было все видеть. И она смотрела…
Не шибко разъезженная дорога, кое-где рыжеватая от песка, с редкими встречными машинами удивила Веру Глебовну своим малым движением — фронтовая дорога представлялась ей оживленнее, беспокойнее. Не знала она, что основное движение здесь — ночами. Ночами люднеет эта дорога, топают колонны маршевых рот, движутся машины со снарядами и продовольствием. Ночами живет и бурлит фронтовой тракт, а днем — затишье, пустынность, тем более в такой день — солнечный, без единого облачка. Но вот дорога нырнула вниз, и Вера Глебовна сзади видела только задранную к небу колею. Потом машину крепко тряхнуло, зазвенели канистры, сдвинулся с места запасной баллон, и побежали назад перила моста, видно только недавно восстановленного, так как янтарем желтели свежеструганые бревна.
И тут, за мостом, когда машина стала взбираться на гору, увидела Вера Глебовна первую сожженную русскую деревню. Хоть и быстро промелькнула она чернотой пепелища, торчащими из-под земли трубами печей, скелетами обожженных ветел, но и этого было достаточно, чтобы сдавило грудь болью.
Деревни русские… Кто из нас не связан с ними живой и трепетной нитью? Кто из нас не помнит тихие рассветы, первые крики петухов, звон ведер у колодцев, рожок пастуха и мычание выходящего на выпас стада? Кто из нас не вдыхал гyстой деревенский воздух, пропитанный знакомыми и родными запахами? Кто не помнит вечерний запев гармони и тихие девичьи голоса? И Вере Глебовне припомнился их дом, не отгороженный никакими заборами и выходящий запущенным небольшим садом прямо к крайней избе маленькой деревушки Пнево… Вместе с деревенской ребятней бегала она купаться, вместе ходили по грибы, вместе играли в лапту, и никто не называл ее "барышней", а только по имени, потому что бегала она тоже босиком, как и остальные ребята, и одета была в скромненький сарафанчик…
И эта связь с русской землей, надорванная, правда, давней городской жизнью, сейчас стала словно восстанавливаться, и каждая порушенная русская деревня, проплывавшая перед ней, наполняла сердце болью… А дорога катила дальше на запад, и вдоль нее, через три-четыре версты, — все то же: обгорелые останки изб, торчащие трубы, могилы, одни — занесенные уже снегом, другие — еще свежие, рыжевшие глиняными сугробиками, а еще дальше и следы войны другие: немецкие машины, стянутые в кюветы, разбитые орудия, чернеющие на снегу немецкие каски…
Уже, наверное, больше половины пути проехали они, и встреча с Андреем становилась все реальнее, а Вера Глебовна никак не могла представить ее все мучительнее давила мысль, что не застанет она сына в Бородухине.
Хотя и говорил Эрик, что без остановок будут они ехать, но неожиданно машина завихляла, сползла на обочину и остановилась. Эрик подошел к Вере Глебовне:
— Спустил скат, Вера Глебовна… Замерзли?
Она кивнула.
— Тут Оболенское рядом, давайте провожу я вас погреться, пока мы с колесом будем возиться, — он помог ей вылезти из машины, и они отправились к селу.
Постучались в первую же избу. Встретила их чистенькая старушка.
— Разреши погреться, бабуля, пока машину ремонтировать будем? развязно и легко попросил Эрик, привыкший уже к случайным дневкам и ночевкам в деревнях.
— Конечно, погрейтесь. В избе у меня хорошо, тепло. Проходи, матушка. Куда путь-то держите?
— В Малоярославец, — ответила Вера Глебовна.
— Я пойду шоферу подмогну. Тогда посигналим, — сказал Эрик и вышел.
— В Малоярославец, говоришь? Ох, побило его сильно. Говорят, живых домов совсем мало осталось. А к кому туда едешь-то?
— Сын там… В Бородухине.
— Повидаться, значит? Счастье-то какое! Сынок-то небось к фронту подвигается?
— Да…
— Великое это счастье — дите свое перед боями повидать. Благословить, перекрестить … Хотя что я, неверующие вы, городские.
— К сожалению, неверующие, — слабо улыбнулась Вера Глебовна.
— Но крещеная хоть?
— Крещеная.
— И то хорошо… Сейчас-то к богу многие повернулись снова. Горе-то, оно к богу подвигает. Вражина немецкий вот допер куда, до Москвы самой. И чем все это кончится — одному богу известно… Сколько уж, матушка, солдатиков-то побитых, сколько родимых полегло…
Вера Глебовна, как согрелись у нее руки, попросила разрешения закурить и стала свертывать самокрутку. Старуха проворчала:
— Вам бы не табачищем сердце успокаивать надоть, а молитвой.
— Не умею, — пожала плечами Вера Глебовна.
— Не научили в детстве-то?
— Учили… Кстати, я тут бывала у вас, в Оболенском, приезжала с матерью гостить. Помню хорошо и дом, и парк…
— Хорошее имение было. И хозяйка неплохая…
— А почему ваше село целое? По дороге от самой Нары все деревни сожжены. Все, все… Смотреть страшно.
— Повезло нам, матушка, ох как повезло. Генерал какой-то немецкий это наше Оболенское себе в имение захотел взять. Ну и строгий приказ объявил не жечь нас, не грабить. Хотел, стало быть, с нами в мире после войны жить…
— Погодите, погодите, — перебила Вера Глебовна, — Оболенское — себе… немецкий генерал?
— Да, себе… Помещиком нашим надумал стать. И, когда отходили немцы-то, тоже не велел нас жечь. Возвратиться, видать, надеялся. Вот и остались мы живые, непогорелые, и даже коров у нас не отобрали.
— Черт побери! — вырвалось у Веры Глебовны. — Какая нелепость!
— Что это ты, матушка, черта поминаешь?
— Не укладывается в голове, — сказала она, потрясенная этим больше, чем сожженными деревнями. Исконно русское поместье — немецкому генералу! Какая чушь!
— Хочет германец возвернуть все назад — и помещиков, и буржуев, да еще своих, басурманов. А они уж будут над русским народом изгаляться… Русская швайн, то есть свинья, по-другому и не звали ихние солдаты наших-то, нас… — продолжила старуха и задумалась.
Задумалась и Вера Глебовна, попыхивая цигаркой.
— Ох, как крепко воевать нашим надо, — вздохнула старуха. — Так сынку своему и скажи, матушка. Неужто же России под немцем быть?
— Да, да… — рассеянно ответила она и вдруг поднялась: — Господи, а вдруг я его не застану?! — вырвалась у нее ударившая опять мысль, которую отгоняла она от себя всю дорогу.
— Вон икона в углу. Подойди, матушка, помолись, тогда застанешь сынка своего. Поможет господь, — и такая была вера в словах старухи, такая убежденность, что Вера Глебовна как-то помимо своей воли подошла к иконе, подняла на нее глаза…
— Вот теперь и не сомневайся. Дождет тебя твой сынок, будет у вас встреча в Бородухине.
— Мне бы вашу веру, — тихо произнесла Вера Глебовна. — Хотя уже то, что еду я — чудо…
Тут засигналила машина, и Вера Глебовна стала прощаться со старухой и благодарить за приют. Выйдя из избы и глянув на безоблачное, голубое небо, на белый, слепящий снег, на крыши деревни, она вдруг успокоилась: в такой тихий и солнечный день не может произойти беда, все должно быть хорошо, подумала она и направилась к машине.
— Вера Глебовна, подзамерзли мы, — встретил ее Эрик и подмигнул.
— Сейчас, Эрик, я достану флакон, — поняла она сразу.
Прямо из горлышка отхлебнули они с шофером спирта, обтерли рты рукавицами, крякнули. И опять потянулась дорога. Опять те же разорища, видимые ей с заднего борта машины, — торчащие прямо из земли трубы печек, могилы, воронки… И вспыхнувшие вдруг в памяти слова Батушина о святой войне, казавшиеся просто словами, стали обретать свой подлинный, огромный смысл… Да, надо было все это увидеть своими собственными глазами — и эти трубы, и эти холмики могил, и это Оболенское, которое какой-то мерзкий шваб хотел взять в свою собственность, и эту старуху, с ее верой, с ее пониманием войны, и все, все, что она увидела за какие-то несколько часов, вырванная из своей комнатки, из своего прозябания, наполненного только собственными переживаниями… Да, это все надо было увидеть, подумала она еще раз.
Грузовик начал подниматься в гору, натужно ревя двигателем, и Вера Глебовна подумала, что это, наверно, подъем перед самым Малоярославцем, и не ошиблась. Вскоре появились первые домики с пустыми провалами окон, с сорванными крышами… Вдоль дороги — еще не совсем занесенные снегом воронки. Обогнав шедшего по обочине мужчину, машина притормозила, и Вера Глебовна увидела Эрика. Тот кивнул на мужчину:
— Сейчас спросим… — и пошел тому навстречу. К машине он вернулся вместе с прохожим. Лицо худое, небритое, впалые щеки и тусклый, усталый взгляд.
— В Бородухино? Вот как раз возле прогона, по которому идти надо, и остановились… Вниз по нему пойдете, там мостик будет, за ним лес. По тропке до самой деревни и дойдете.
— Спасибо, отец. Значит, приехали, Вера Глебовна. Слезайте. — Эрик протянул руки, чтоб помочь ей.
— Эрик, милый… я не нахожу слов… — начала она.
— Чего там, пустяки какие… Привет Андрею передайте. Пусть бьет немчуру как следует. Видали, что они творят? — остановил он ее.
— Я вас поцелую, Эрик, — она приподнялась на цыпочки и дотянулась до его лица, на миг представив, что через час-два она вот так же прикоснется к щеке Андрея.
— Что это вы? Никак, плакать вздумали? — дрогнувшим голосом спросил Эрик.
— Пустила слезу… — смущенно улыбнулась Вера Глебовна. — Вы же сделали такое, Эрик…
— Ну, всего, Вера Глебовна. Будет все хорошо, — закончил он обретшим уверенность и твердость голосом.
— Дай-то бог… — прошептала она.
Эрик пошел к кабине, залез в нее. Машина буксанула на снежной обочине, вырулила на дорогу, обдав выхлопным дымком. Эрик, не закрывший дверцу, махнул ей на прощанье рукой, и она осталась одна…
Если сгоревшие деревни Вера Глебовна видела и раньше, то разрушенный войной город — впервые. Она переводила взгляд с одного разбитого дома на другой, на груды кирпича, на разломанную мебель, на скрученную взрывом железную кровать… Улица, тянувшаяся к разрушенному храму, который, как она помнила, стоял недалеко oт вокзала, была пустынна. Только вдали ковылял, прихрамывая, одинокий прохожий, объяснивший им дорогу на Бородухино.
Постояв немного, переступая на месте натекшими ногами, Вера Глебовна стала спускаться по малоуторенной тропке, даже не тропке, а по чьим-то полузанесённым снегом следам вниз, вдоль поломанных заборов. Идти было трудно, ноги проваливались в снег, и она подумала, что если вся дорога будет такой, то ей не осилить ее за два часа, хотя и было до Бородухина всего шесть километров.
Спустившись к мостику, она перешла его и вышла к мрачноватому, стоявшему стеной лесу. И тут, бросив взгляд вперед, она застыла как вкопанная — на ослепительно белом снегу лежали, словно какие-то поломанные, брошенные куклы, мертвые немцы. Полураздетые, а кто и просто в нижнем белье, они лежали в разных позах со странными, почти оранжевыми лицами.
Такого Вера Глебовна не ожидала. Ее стала бить нервная дрожь, ей смертельно захотелось закурить, но остановиться здесь и завертывать цигарку было нельзя, и она пошла дальше, стараясь не глядеть по сторонам, но ее взгляд невольно натыкался то на торчащую прямо из снега руку, то ногу, то голову, словно отрезанную от невидимого, запорошенного снегом тела. Неужто и в лесу будет то же, со страхом подумала Вера Глебовна, поеживаясь от заползающих в душу ужаса и брезгливости.
Лес надвинулся сразу, скрыл небо и солнце и навалился настороженной тишиной. Вдоль тропы она увидела таблички: "Ахтунг, минен!" — одну, другую, за ней еще и еще… Этого еще не хватало, подумала она, стараясь идти только по протоптанному, хотя не раз ее нога, соскальзывая, попадала в снег. Дорога шла в гору, довольно крутую поначалу, и Вера Глебовна начала немного задыхаться — тяжелы были подшитые валенки, тяжел рюкзак за спиной. Дальше подъем кончился, и она пошла легче, но все же решила где-нибудь присесть. Ей захотелось есть. На небольшой прогалине она увидела сломанную березу, сняла рюкзак и присела. Вынутая из рюкзака вареная картошка, которой она хотела подкрепиться, оказалась мороженой. Пришлось удовлетвориться галетами.
Вера Глебовна очень давно не была за городом. Отпусков она не брала, получая компенсацию, совсем не лишнюю при ее небольшой зарплате. И эта давняя оторванность от природы сейчас как-то необычайно обострила ее восприятие. Лес тут был не тронут войной. Строгий в своем зимнем уборе, он был торжествен и величав. Она смотрела на огромные ели, которые стояли здесь еще до ее рождения и будут стоять после ее смерти, и эта относительная вечность окружающего ее леса умиротворила и успокоила ее. И пропал страх, что она не застанет сына.
Закурив после еды, она огляделась и чуть не вскрикнула — в шагах пяти от нее около небольшой ели лежал убитый немец! Очень молодой, почти мальчик. Видимо, умер он не в агонии, а просто замерз, брошенный своими, поэтому лицо его было спокойно, глаза закрыты. Он словно спал. Те немецкие трупы, в начале дороги, вызывали страх и отвращение… Господи, подумала Вера Глебовна, знала бы его мать, где валяется ее сын, заброшенный в такую даль от своего фатерлянда. И она поднялась, подошла к убитому и, сломав несколько еловых веток, положила ему на лицо — ведь должно же быть какое-то целомудрие в смерти.
Немного постояв, она вернулась на тропку, надела рюкзак и тронулась дальше. Только сейчас вспомнила она про "ахтунг, минен". Сердце заколотилось, и ей пришлось приостановиться, чтоб унять сердцебиение. Сзади послышалось шелестенье лыж, она повернулась и увидела военного в белом полушубке, перетянутом командирскими ремнями и с кобурой на правом боку. Он остановился, оглядел Веру Глебовну и, странно улыбнувшись, спросил:
— Пожалели врага?
— Вы не из Бородухина? — пропустила она мимо его вопрос.
Военный, в свою очередь, не ответил ей, а повторил:
— Значит, пожалели врага? Я видел, как вы подошли к убитому немцу, наломали веток и прикрыли ему лицо.
— Вряд ли пожалела, но просто было больно смотреть на лицо этого обманутого мальчика.
— Почему обманутого? — холодно спросил военным.
— А разве он не обманутый?
— Он — враг! — резко бросил он.
— Вы не ответили мне. Вы — из Бородухина?
— Нет. А вы — туда?
— Да.
— Видно, что не местная. А откуда?
— Из Москвы.
— Из Москвы? — с интересом спросил военный. — Ну и как там матушка-столица поживает?
— Трудно, но поживает, — сказала Вера Глебовна, доставая табак.
— Возьмите папиросу, — он вынул портсигар и протянул ей.
Заметив, что она задержалась взглядом на портсигаре, небрежно кинул:
— Трофейный. И это трофей, — щелкнул он зажигалкой. — Я слыхал, осенью в Москве был большой "драп"?
— Драпа не было, но многие уехали.
— Зачем вам в Бородухино? — спросил он.
— Там стоит воинская часть. Я иду к сыну.
— Понимаю теперь, почему вы закрыли лицо немцу, — усмехнулся военный.Представили, что и ваш сын будет так же где-то лежать…
Вера Глебовна отшатнулась.
— Зачем вы так? Это жестоко.
— Война жестока, гражданка… А немецкая армия еще очень сильна.
— Если моего сына убьют, он будет лежать на своей земле, а тот немецкий мальчик…
— Не жалейте этого юношу, — перебил мужчина. — Он ведь лежит победителем, в ста верстах от столицы противника.
— Как-то странно вы говорите, — пристально взглянула на него Вера Глебовна. — Он же убит, этот победитель.
— Да, убит, — пожал плечами мужчина, — но, хочется нам этого или нет, он под Москвой… — Он немного помолчал. — Давайте присядем. Мне интересно, что же в Москве?
— Я тороплюсь.
— Что думают и говорят москвичи? — уточнил он вопрос требовательным тоном.
— Они думают, что поражение немцев под Москвой — начало конца.
— Ого, не рановато ли так думать? Немцы пока очень сильны.
— Вы что-то часто это говорите, — заметила Вера Глебовна.
— Разве? Нельзя недооценивать врага… Хотите еще папиросу?
— Нет, спасибо. Я должна идти, — она сделала шаг.
— Погодите. А вы тоже так думаете?
— Да, — взглянула она прямо ему в глаза.
Мужчина как-то передернулся, губы скривила усмешка, и он процедил:
— Странный народ русские… — А потом резко, командным тоном бросил: Идите. Только запомните: тот немецкий юноша все же победитель…
Он задрал голову и смотрел на Веру Глебовну, презрительно сощурив глаза, и в последних его словах сквозило чувство такого превосходства, что ее обдал страх, которого она не сумела скрыть. Заметив это, он усмехнулся еще раз и, круто повернувшись и сильно оттолкнувшись палками, поехал обратно, в сторону Малоярославца.
Вера Глебовна растерянно глядела ему вслед, не зная, что и думать, но он очень быстро скрылся за поворотом. Неужели это был немец, подумала она. Да нет, откуда тут немец? Просто неприятный человек, которому захотелось сделать ей больно, а может, испугать. Мало ли на свете плохих людей. Она постояла еще немного, стараясь успокоиться, но лес стал давить на нее, стал страшен, и ей захотелось как можно быстрей выбраться из него, и она пошла по тропке, вглядываясь в даль в надежде увидеть просвет, но его все не было и не было. Идти быстро она могла только на спусках дороги, но за ними следовали подъемы, и довольно крутые, которые ей трудно было преодолевать, а лес все не кончался, и казалось, нет ему ни конца ни края.
Часов у Веры Глебовны не было, и она совсем не знала, сколько времени она идет. Примерно через километр тропка расширилась, перестала нырять из оврага в овраг, и даже стали попадаться небольшие прогалины. На одной из них она увидела лыжные следы, утоптанный снег. Видно, кто-то разворачивался здесь. Она остановилась, огляделась и вдруг увидела на сугробе начертанную, видно, лыжной палкой стрелку и надпись: "На Бородухино", а рядом инициалы "А. Т."! У нее захватило дух. Это Андрей, Андрей! Значит, он тут, ликовала она! Сразу куда-то пропала усталость, и ноги словно сами понесли ее. Она шла, задыхаясь от счастья, а вдоль тропы все время попадались стрелки с надписью "На Бородухино" и инициалы сына.
Когда перед нею открылось небо и первый дом Бородухина высунулся углом потемневших бревен, она остановилась. Надо было унять сердцебиение, вспомнить, что говорил мужчина, принесший письмо. Кажется, третий или четвертый дом, говорил он, на левой стороне деревни. Нет, четвертый и с голубыми наличниками окон…
Дальше шла она очень медленно. К горлу подкатывал ком и сбивал дыхание. Вера Глебовна боялась, что не выдержит этих последних шагов, осядет в снег, разрыдается и Андрей увидит ее такой, а она должна быть другой — спокойной и собранной. Идя по узенькой тропке, вытоптанной вдоль домов левой стороны деревни, она уже видела тот четвертый дом с голубыми наличниками и искала какой-то проход к нему, но не находила, а вся улица была покрыта глубоким снегом, по которому ей не пробраться. Поравнявшись с домом и глянув на окна, она поразилась нежилому его виду, да и вся деревня была безлюдна — ни местных жителей, ни военных. У нее упало сердце. Она рванулась в сугробы и проваливаясь почти по пояс, пробивая себе дорогу чуть ли не грудью, не то шла, не то ползла, барахтаясь в снегу, уже понимая, что опоздала. А позади нее, словно она истекала кровью, вился неровный, глубокий, а потому казавшийся почти черным след, проторенный ее телом.
Изнемогшая, она взошла на крыльцо и постучала в дверь. Дверь сразу отворилась, но не сразу нашлась что сказать вышедшая из избы женщина, лишь горестно взмахнула руками, и Вера Глебовна все поняла и, осевши на перила крыльца, вцепившись в них руками, так как не держали ноги, прошептала еле слышно:
— Опоздала…
— На один денек разминулись… Сегодня ночью подняли их по тревоге,сказала женщина, приобняв Веру Глебовну и стараясь оторвать ее от перил и провести в дом. — В дом идемте, в дом… Там и расскажу все и письмецо передам.
Как в полусне вошла Вера Глебовна в избу, поддерживаемая хозяйкой, и стояла как неживая, пока та обметала веником прилипший к шубе и валенкам снег, не помнила, как усадила хозяйка ее на скамейку, как стаскивала с нее мокрые валенки и как дала другие, большие, но теплые и сухие, как дала ей попить водицы… И лишь тогда, когда перед глазами замелькал листок бумаги и будто бы издалека донесся голос: "Письмецо-то прочтите", Вера Глебовна очнулась и взяла письмо.
"Милая, дорогая мама! Ждал тебя все эти дни. Сейчас уходим. Не волнуйся, я обязательно вернусь…" — прочла она.
— Как дочка моя в Москву отбыла, так он денька через три и начал вас ожидать, на лыжах встречать вас ездил, — сказала хозяйка, вытирая глаза.Все мы за него так переживали. И бойцы его тоже. Мается, говорили, наш командир Хоть бы скорей мамаша его приехала. И вот надо же, нонешней ночью и погнали их…
— И далеко отсюда до фронта? — наконец нашла в себе силы спросить Вера Глебовна.
— Не знаю… Громыхает ночью фронт, слышен. А верст сколько — не скажу.
— Значит, этой ночью… — пробормотала она.
— Да… Правда, их последние дни каждую ночь по тревоге поднимали. И уходили они, но на рассвете возвращались. А вот сегодня ждем их, ждем, и нету их. Видать, на фронт пошли. Господи, на денек бы раньше приехать вам.
— Не могла. И так чудом выбралась… Вы простите, но я не смогу сразу уйти, так устала…
— Да разве кто гонит вас? И ночевать будете, и можете ден несколько передохнуть. Дом пустой, никого не стесните, — заволновалась хозяйка. — Куда же обратно такой?
— Спасибо, — сказала Вера Глебовна, сдерживая рвущийся из горла крик. Нет, не крик. Она чувствовала, что могла бы сейчас завыть, и, может быть, ей стало бы легче.
— Поплакали бы, — сочувственно сказала хозяйка, видя и понимая состояние Веры Глебовны.
— Не могу…
* * *
Вера Глебовна сидела, вытянув ноги, прислонившись к стене, уставившись невидящим взглядом в угол избы, где тлела лампадка перед старой, потемневшей иконой божьей матери, а в голове толчками, причиняя боль, билось одно — опоздала, опоздала… и все напрасно… Напрасна эта дорога в Бородухино. Не увидела. Ничего не сказала. И Андрей ушел на фронт, не простившись с матерью, и она не знает, каким он ушел…
В избу без стука зашла закутанная в платок девушка и, остановившись, молча смотрела на Веру Глебовну большими, широко раскрытыми глазами.
— Вот приехала… — кивнула на гостью хозяйка.
— Мне сказали: кто-то городской в ваш дом вошел… Вот и прибежала,девушка продолжала смотреть на Веру Глебовну внимательно и немного смущенно. В руках у нее тихо покачивался какой-то узелок.
— Присаживайся, Танюша, в ногах правды нет, — предложила хозяйка дома.
— Спасибо, тетя Нюша, — девушка взяла табурет, поставила его около Веры Глебовны и села напротив нее. — Вера Глебовна, — начала она. — Я — Таня… Андрей наказал мне покормить вас и… вообще поговорить с вами, — она на минуту замолкла, а потом, смущаясь, добавила: — И поцеловать за него, — она приблизилась, прижалась губами к лицу Веры Глебовны и заплакала.
И Вера Глебовна, поняв, что эти девичьи губы, наверно, целовал Андрей перед своим уходом, тоже не выдержала и, обняв девушку и прижав ее к себе словно родную, тоже разрыдалась.
— Так-то оно лучше — поплакать-то, — сказала хозяйка и вышла.
— Спасибо вам, Таня… — прошептала Вера Глебовна, когда обе они выплакались. — Скажите, каким был Андрей эти дни?
— Веселым.
— Как — веселым?
— Да. Когда они оружие получили, ходил с нашими деревенскими ребятами ящики с патронами разыскивать, которые наши при отходе спрятали. Потом мишени из газет старых сделал, фрицев на них нарисовал, и всем взводом ходили этих фрицев стрелять. И меня из автомата учил. Переживал только, что вы приедете и вдруг уже не застанете его. Столько сил потратите, намучаетесь, а зазря… Да что я, Андрей ведь покормить вас велел, — она стала развертывать узелок. — Тут картошка у меня горячая, хлеба немного Давайте, пока не остыло.
— Ты что, Таня, разве у меня такого угощения нет? — сказала вошедшая хозяйка. — Вот только из печки картоху вынула. Садитесь за стол.
— Не знаю, смогу ли есть, — сказала Вера Глебовна.
— Танюша, может, дровишек мелких принесешь, кипяточку разогреем?
Когда Таня вышла, хозяйка подсела к Вере Глебовне и быстро заговорила:
— С Танюшей-то чуть беды при немцах не вышло. Приглянулась она одному, покоя ей не давал. Мы ее всей деревней прятали. То в одном доме ночевала, то в другом. А перед уходом ихним в лесу пряталась. Цельных две ночи в лесу провела. Страх-то какой. Грозился этот немец ее с собой увезти… А сынок ваш ей сразу понравился. Зашла ко мне ненароком, увидела его и зачастила. Но ничего, конечно, промеж их не было. Танюша — девушка с понятием, десятилетку окончила. Не какая-нибудь… Уж и ревела она вчера ночью, уж убивалась. Мать ее уговаривает: чего ты, дурочка, он же московский, если живым и останется, не к тебе вернется, а к своим городским подастся…
— Главное — вернуться, — вздохнула Вера Глебовна
— Это оно так. Далеко еще загадывать. Войне пока ни конца ни краю. От моих вот никаких известиев…
— Они воюют?
— А как же… И муж, и сын… И ни слуху ни духу.
Таня принесла охапку дров и стала растапливать печь.
— Таня, а больше ничего Андрей не просил вас передать мне? — спросила Вера Глебовна.
— Нет. Он говорил, правда, что ему так много надо сказать вам при встрече… Но чтоб передать? Нет, — помотала она головой.
— Странно… А о своем отце он вам ничего не говорил?
— Нет, Вера Глебовна, а что?
— Ничего, просто так поинтересовалась…
Хозяйка вынула из печки кипящий чайник и пригласила к столу.
— Я привезла кое-что, — засуетилась Вера Глебовна, начав развязывать рюкзак. — Вот к чаю… Есть даже бутылка вина. Везла для Андрея, но теперь можно…
— Не надо вина, Вера Глебовна, — остановила ее Таня. — А вдруг…
— Что вдруг?
— Вдруг он вернется?… — сказала Таня.
— Разве это может случиться? — со вспыхнувшей надеждой спросила Вера Глебовна и затаила дыхание.
— А вдруг? — с упрямой ноткой повторила Таня.
Чай пили без заварки, простой кипяток, но зато с шоколадом. На каждую кружку — по квадратной дольке. Дымилась горячая картошка, лежали привезенные Верой Глебовной хлеб и галеты. Поставила она и бутылку вина, но ее никто не стал раскупоривать.
— Не все они, немцы, фашистами были, — сказала хозяйка.
— Что вы, тетя Нюша! — оборвала ее Таня. — Все они фашисты. Один, может, на тысячу — человек, а остальные…
— Знаете, по дороге сюда в лесу я встретила очень странного человека,только сейчас вспомнила Вера Глебовна о встрече.
— В полушубке? В ремнях? — быстро спросила Таня.
— Да.
— На лыжах?
— На лыжах, — подтвердила.она, с удивлением глядя на взволнованное Танино лицо.
— Это немец! Господи, это немец был, Вера Глебовна!
— Что вы, Таня! Каким образом могут быть тут немцы?
— Немец это! — повторила Таня. — Сейчас расскажу вам все…
И она стала рассказывать, как в одну из поездок их с Андреем для встречи Веры Глебовны наткнулись на этого военного на лыжах. Андрей поприветствовал его, а потом, глянув на лыжи, побледнел и спросил у того документы. Тот усмехнулся и сказал, что это он должен документы у Андрея спросить, а то прогуливается с девицей и без оружия. Сказал и поехал себе дальше. Андрей, все такой же бледный, оставив Таню на дороге, тихонько последовал за ним, но вскоре вернулся, сказав, что тот куда-то исчез. А догадался он по резинкам на лыжах. Рисунок не тот. Таких у нас резинок нет. Дня через два после этого получили они оружие, и Андрей с двумя бойцами поехал, и целый день они пропадали, но никого не нашли. А потом сообщение в часть прибыло, что задержан шпион немецкий на станции, который об эшелонах сообщал, и что скрывается где-то их целая группа…
— Я почувствовала, что это чужой… Но не могла поверить. Он очень чисто говорил по-русски, — сказала Вера Глебовна.
— Таня, надо завтра в город сходить, заявить. Только не тропкой этой, а большаком,. — она покачала головой и добавила: — Уехали-то наши, а в деревне-то одни бабы… Как бы чего…
— Я утром пойду…
— Нет, Танюша, это я наспех насоветовала. Мальчишек надо послать. Те мигом сбегают, — сказала хозяйка.
Немного помолчали. Потом Таня попросила рассказать Веру Глебовну о Москве, и та стала говорить о жизни в столице, о бомбежках, о том, как одиноко она живет… Тетя Нюша о немцах рассказала, которые не очень-то в их деревне лютовали, но в других — безобразничали, а Таня о том, как они с Андреем на току зерно собирали, варили его потом и в мясорубке провертывали — не хватало бойцам казенного питания, так как не поставили сразу их часть на довольствие и перебои случались.
А зимний день потихоньку уходил… Все синее и синее становилось за окнами, а в избе потемнели углы, и только лампадка трепетным светлячком мерцала у иконы, и они почти уже не видели друг друга, но Вера Глебовна ощущала около себя округлое девичье плечо, и не было в ее душе отчаяния от несостоявшейся встречи с сыном, а только какая-то тихая и торжественная почему-то грусть…
Так и сидели три эти женщины, вроде бы посторонние друг другу, но одинаково больно ударенные войной под самое сердце, сидели и сумерничали, ощущая себя близкими, почти родными, словно прожили бок о бок долгие годы.
И тут прокатился далекий, глухой гул, словно где-то очень далеко шла гроза. То неясным рокотом в тиши деревенского вечера дала о себе знать неблизкая передовая. Вера Глебовна вздрогнула и сдавленным шепотом спросила:
— Неужели Андрей уже там?
— Нет, Вера Глебовна… За ночь не дойти туда.
Они притихли, Таня прижалась к Вере Глебовне, и долго слушали, как еще не раз прокатывались дальние отзвуки фронта.
— Выйдемте на улицу, посмотрим, — предложила Таня, и они, накинув шубы, вышли во двор, прошли немного по улице, откуда виден был горизонт, и Вера Глебовна увидела, как серо-синее небо на западе высветлилось зловещим, кровавым заревом…
И провалилась куда-то земля под ногами Веры Глебовны, и ухватилась она за Танино плечо, чтоб устоять. Таня потянула ее к дому, но она отрицательно закачала головой, не будучи в силах оторвать взгляда от этого полыхающего неба, от этого кровавого зарева, к которому сейчас по темной, ночной дороге неотвратимо приближается ее сын.
— Пойдемте, — Таня еще раз мягко потянула ее к дому.
— Подождите, Таня… Мне надо видеть это.
Они еще долго стояли на околице деревни, пока не замерзли совсем. Возвратившись в избу, опять сели за стол, но разговора уже не было, не шел он почему-то, сидели молча, каждый в своем, пока хозяйка не сказала со вздохом.
— Да, обидно очень все же, что зазря вся дорога ваша…
Вера Глебовна подняла голову, подумала…
— Нет, наверное, не зря… Я так много увидела за этот день… И сожженные деревни по дороге, и немецкие трупы, и этого немца, и это кровавое небо… Потом я узнала вас, Таня, узнала, что скрасили вы Андрею последние дни, получила переданный им поцелуй… Нет, я все это должна была увидеть. Все, все… И не зря была эта дорога в Бородухино. Теперь я знаю, что сказала бы Андрею, но что делать… его нет…
— А вдруг они вернутся? — прошептала Таня.
— Нет, Танюша, не вернутся они… Всегда на рассвете возвращались, а сейчас вечер уже… И отдыхать нам пора, — сказала хозяйка.
— Да, я пойду, — поднялась Таня. — Отдыхайте, Вера Глебовна. Утром загляну. Если завтра в Москву надумаете, провожу вас на станцию, в поезд усажу. Я ведь тоже в Москву собираюсь. Хочу на заводе работать, который снаряды делает или еще какое оружие. Тогда заходить к вам буду.
Вера Глебовна ничего не ответила, только привлекла Таню к себе и поцеловала. Эта деревенская девчушка вдруг стала ей родной и близкой.
— А я ждать его буду, — неожиданно прошептала Таня. — Знаю, у него есть девушка в Москве, но неизвестно еще, кто крепче ждать будет.
— Нет у него, по-моему, никого…
— Нет, есть… Говорил. Но я все равно ждать буду… Вы знаете, он меня только один раз и поцеловал, когда ночью уходил. Видно, почувствовал, что насовсем они уходят… Вот этот поцелуй я и передала вам…
— Спасибо, Танюша, — тоже прошептала Вера Глебовна, провожая ее до двери.
Хозяйка постелила Вере Глебовне на своей кровати, сказав, что сама на печке будет, теплее там, да и любит она на печке.
Вера Глебовна давно не ложилась в постель при таком тепле. Она разделась до белья и даже могла не натягивать одеяло до самого горла. Телу было свободно и легко, а на душе, как ни странно, было спокойно, и это не был мертвящий покой отчаяния, а какое-то тихое примирение со всем, хотя и безмерно было разочарование, что не увидела сына. Она прислушивалась к дальнему гулу фронта и думала — переменилось что-то в ее сердце, и не напрасна была эта дорога в Бородухино. Нет, не напрасна.
Она проснулась от негромкого стука в дверь и сдержанного шепотливого разговора, в котором разобрала слова хозяйки…
— Смилостивился господь над вами…
Она открыла глаза, приподнялась и увидела — в проеме двери большой, неуклюжей тенью стоял Андрей! Она зажмурилась, не веря, боясь верить. Потом опять раскрыла глаза — Андрей все так же стоял в двери, не шевелясь, и шумно, прерывисто дышал.
— Не может быть! — вскрикнула она, вскочила с постели и бросилась к нему.
Диск автомата, висящего на шее Андрея, больно ударил в грудь, а потом обжег промерзшим железом. Она прижалась к нему и не могла говорить. Лицо Андрея пылало жаром, а от разгоряченного тела пахнуло едким мужским потом, запахом ремней и железа, которым увешана была его одежда.
— Это я, мама… — сказал он.
— Лампу сейчас зажгу, посмотрите друг на друга, а то какое свидание в темени, — прошептала тетя Нюша.
И в свете медленно разгорающейся керосиновой лампы Андрей, которого она пока только ощущала руками, лицом, прижатым к его подбородку, и телом, начал лепиться в бликах колеблющегося света, и она, все еще не верящая, что это не сон, глядела на его темное лицо с выпирающими скулами, огрубевшее, резковатое, может, потому что было небритое и сильно похудевшее, ставшее еще больше похожим на лицо мужа, глядела, замирая от счастья, которое сдавило горло и не давало вымолвить ни слова…
— Скажи, это правда? Это ты? — смогла наконец сказать она.
— Я, мама… Разреши, я разденусь, — он осторожно высвободился из ее объятий и с облегчением стащил с шеи автомат, расстегнул пояс с висевшими на нем дисками и гранатами в чехольчиках, скинул ватник, снял ушанку, потом подшлемник и шагнул к столу, к свету.
— Ты совсем вернулся? Я хочу спросить — вы все вернулись?
— Нет, мама, один… Мы сейчас в двадцати километрах отсюда. Стоим в лесу. Ротный позабыл вещмешок, ну и послал меня. Вернее, я сам вызвался. Я чувствовал, мама, что ты здесь.
— И ты прошел сейчас двадцать километров?!
— Я на лыжах, подумаешь… Мама, через полчаса я должен обратно.
— И опять двадцать километров?… — ужаснулась Вера Глебовна.
— Ерунда. Я пробежал бы и сто. Как ты добралась, мама?
Вера Глебовна рассказала и про попытки добиться пропуска, и про Киевский вокзал, и про обещание Батушина, и про Эрика… Андрей свернул огромную самокрутку из махорки и курил частыми, глубокими затяжками, поглядывая на нее из-под бровей своими серыми глазами, в которых появилось что-то новое, незнакомое ей, как незнакома была и его манера говорить отрывисто, короткими фразами, да и сам голос был не похож на прежний, стал ниже и хрипловатее.
— Танюша больше меня верила в твое возвращение и не позволила нам раскупоривать бутылку… — сказала она, накидывая на себя платье.
— Ты познакомилась с нею? — живо спросил Андрей.
— Да… — Она помолчала, а потом спросила: — Это серьезно, Андрей?
— Сейчас все серьезно, мама, — как-то веско ответил он.
— Ты бы… сходил за ней, — не сразу предложила она.
— Она… не помешает нам? — спросил Андрей, сделав уже непроизвольное движение к двери.
— Конечно, нет.
— Сиди, сиди… Схожу я, — вступила в разговор тетя Нюша, отойдя от печки, которую затопила, чтоб согреть воды. — Сиди с матерью, мало ли что надо вам без людей переговорить.
— Спасибо, тетя Нюша, — он опустился на стул.
Вера Глебовна достала консервы и передала вино Андрею, чтоб он раскупорил бутылку. Он ударил ладонью по донышку бутылки, а потом зубами вытащил высунувшуюся пробку. Задрав гимнастерку, вынул из кожаных ножен, прикрепленных к брючному ремню, кинжал с деревянной ручкой, похожий на финку, и стал вскрывать банку со шпротами. Она с притаенным страхом смотрела на холодное стальное лезвие с красноватыми, словно кровь, бликами от лампы, которым уверенно и ловко орудовал сын.
— А зачем… это? — тихо спросила она, уже понимая наивность и ненужность своего вопроса.
Андрей не ответил. Вскрыв банку, отодвинул ее на середину стола и спросил:
— Тебе рассказала Таня про немцев?
— Хозяйка говорила.
— Сволочи, мать… — он запнулся, покраснел и виновато улыбнулся, переменив сразу разговор: — Каким чудом у тебя сохранились шпроты? Сто лет не ел? — он подцепил кинжалом одну и бросил в рот.
Пожалуй, это был единственный мальчишеский жест, напомнивший ей прежнего Андрея.
— Как Москва, мама? Много разрушено?
— Нет. Правда, около нашего дома разорвались две бомбы. Одна — на Божедомке, вторая — у твоей школы. Нас здорово тряхнуло, но стекла остались целы.
— У моей школы? — воскликнул он. — Что же они, гады, в школу метились?
— Да, именно. Там теперь пункт формирования.
— Знали, значит… А про встреченного немца Таня рассказала?
Вера Глебовна не знала, говорить ли ему о том, что и она его повстречала, будет же беспокоиться, и решила не говорить.
— Да, — кивнула головой.
— Мама, а бомбоубежище близко от нашего дома? Ты уж ходи туда…
— Дома спокойнее, Андрей.
— Все наши ребята уже воюют, наверно?
— Да… На Киевском встретила Ирину…
— Ирку Фоминову?
— Да… Она в армии.
— Да ну! Хотя она такая… боевая была. Значит, и девчонки идут. Молодцы!
Вера Глебовна чувствовала, что говорят они все не о том, что надо о главном, но никак не могла начать, не зная — с чего. И сказала обычное:
— Ты очень изменился, Андрей… И такой худой…
— Сбросили в эшелоне дальневосточный жирок, — засмеялся он. — Но я сильный, мама… Ты знаешь, нас здорово вооружили, много автоматов. Видишь, — показал он на ППШ. — В диске семьдесят два патрона. Сила! Я уверен — погоним немца. Мы же — кадровики, да еще дальневосточники! Подготовочка у нас дай боже!
— Андрей, не забывай, что ты у меня один… — вырвалось у нее.
Андрей посмотрел на нее, нахмурил брови и сказал мягко, по очень серьезно:
— Мама… милая, мне надо помнить больше о другом.
— О чем, Андрей? — не поняла сразу она, а поняв, похолодела, сердце куда-то упало, и на какие-то секунды все поплыло в глазах. С трудом она превозмогла себя и подняла голову — Андрей смотрел на нее твердым взглядом, даже слишком твердым, в котором почудилась ей некая фанатичность, испугавшая ее так же, как и слова — "надо помнить о другом".
Вошла тетя Нюша с Таней. У Тани сияли глаза и дрожали губы в счастливой улыбке. Андрей поднялся, как-то мимоходом, смущенно прихватил ее руку, когда она шла к столу, пожал, и в этой скупой ласке увиделось Вере Глебовне настоящее, и ее тронуло, что они оба покраснели и застеснялись.
— Чуяла я, чуяла… — прошептала Таня, садясь за стол.
— Садитесь… Покормить его надо, — сказала хозяйка и поставила на стол чугунок с картошкой.
Андрей разлил вино в кружки.
— За встречу, мама, — он некрасиво, как-то по-мужицки торопливо опрокинул кружку и сразу же стал есть, тоже некрасиво, жадно и торопясь.
Он, наверно, очень голоден, подумала Вера Глебовна, или они привыкли так есть в армии.
— Ты не заблудишься на обратном пути? — с беспокойством спросила она.
— Что ты, мама! — со снисходительной улыбкой ответил он и показал на руке компас со светящимся циферблатом. — Компас! Ну и старую лыжню, надеюсь, не занесет.
Он говорил уверенно. Даже очень уверенно. Нет, ни следов смятения или страха не было в его облике.
— Ты очень повзрослел, Андрей, — сказала она.
— Да, мама, — как-то очень просто подтвердил он. — Почти три года кадровой армии что-то значат, мама. А потом мне многое пришлось передумать.
Он вытер губы не очень свежим носовым платком и стал закручивать цигарку большими, сильными пальцами с отросшими нечистыми ногтями. Вера Глебовна подумала, что у него крестьянские, как у отца, руки и что он сейчас совсем не тот интеллигентный мальчик, каким был в Москве и каким провожала она его в армию. Появилось что-то простоватое, мужицкое, и она заметила, что не раз, говоря о немцах, сдерживал он в себе слова, к которым, видно, привык и которые превратились уже не в ругательства, а просто в присказки к обычному разговору. Но она не была расстроена этим, понимая, наверно, что таким быть и в армии, и тем более на войне — легче и проще.
Докурив, Андрей поднялся.
— Мы еще не знаем номера своей полевой почты. Как получим — сообщу. И тебе, Таня.
Наступало самое страшное… Но лицо Андрея было спокойно, только какая-то огромная внутренняя сосредоточенность и собранность лежали на нем.
— Тебе уже пора? — еле слышно спросила Вера Глебовна, видя ненужность своего вопроса, но ожидая чуда — слов: "Еще немного могу побыть", но он сказал:
— Пора, мама.
Неужто уже все? А они ни о чем не поговорили! Господи, неужели его сейчас не будет? И он ничего не спросил об отце!
Поднялась Таня, поднялась хозяйка, и все молча смотрели, как неспешно надевает на себя Андрей ватник, как затягивает ремень, на котором брякнули, стукнувшись друг о друга, две гранаты, как натягивает на голову подшлемник, а потом и ушанку.
Вера Глебовна глядела на него и твердила себе: надо быть спокойной, надо быть спокойной…
Одевшись, но не взяв еще автомат, Андрей шагнул к матери.
— Ты молодец, мама… Ты у меня совсем молодец, — и протянул руки.
Она ухватилась за его шею и повисла на нем, а он гладил ее по голове и все повторял дрогнувшим голосом:
— Ты молодец, мама, совсем молодец…
Всхлипнула тетя Нюша; отвернулась, закрыв лицо руками, Таня. Наконец Вера Глебовна оторвалась от него.
— Андрей, вот последнее письмо отца… Он пишет: то, что навалилось на страну, важнее…
— Я понимаю, мама, — прервал он ее. — А ты? Ты понимаешь? — спросил он ее, напряженно, в упор глядя прямо в глаза.
Она кивнула головой.
— Я… перекрещу тебя, Андрей…
— Мы же неверующие, мама, — чуть улыбнулся он.
— Мы — русские, Андрей. Как же по-другому я могу благословить тебя?
— Ты благословляешь? — напряжение, которое было у него до этого, спало, он глубоко и облегченно вздохнул. — Теперь мне ничего не страшно… Мама, я буду здорово воевать и… тогда… Понимаешь?
— Да, но только помни — ты один у меня, — опять не сдержалась она и отошла в сторону, чтобы дать Андрею проститься с Таней.
Он подошел к ней, обнял и коротко, застенчивым поцелуем чмокнул в губы.
— Мы проводим тебя, — сказала Вера Глебовна, накидывая шубу.
Они вышли во двор. Падал легкий снег, и на западе притухло зарево. Приглушил снег и тот беспокойный гул, которым тревожил их фронт. Было тихо, совсем тихо… Андрей, нагнувшись, долго возился с лыжными креплениями. Наконец он поднялся, оглядел всех внимательным взглядом, словно стараясь навсегда сохранить в своей памяти образы трех русских женщин, благословивших его на войну, откашлялся, скрывая волнение:
— Спасибо вам всем и за все… Ну… я поехал.
Взмахнув палками и резко оттолкнувшись ими, он пошел широким, привычным, видимо, для него пружинистым шагом, не оглядываясь. Оглянулся он только в конце улицы, остановился, помахал им рукой, а потом сразу скрылся за поворотом.
Таня вскрикнула и, рванувшись с места, побежала. Вера Глебовна — за ней. Когда они подбежали к повороту, Андрей был еще виден. Он шел споро и быстро удалялся. Они впились в него глазами, каждая надеясь, что он почувствует ее взгляд и обернется… И он обернулся. Увидев их, приостановился, помахал палкой, а потом, сняв автомат и подняв его одной рукой над головой, дал короткую очередь в воздух. Красные точечки трассирующих прочертили небо и потухли…
Таня обняла Веру Глебовну. Так и стояли они, прижавшись друг к другу, пока все уменьшающаяся, бегущая фигура Андрея не растворилась в снежном дыму. И когда совсем его не стало видно и темно-серая пелена сомкнулась за ним, в небо опять взвились огненные точечки, но выстрелов уже было не слышно…
А потом еще и еще, уже совсем слабые, еле видные и беззвучные, мерцали в небе последние прощальные весточки от Андрея, пока не погасли совсем…


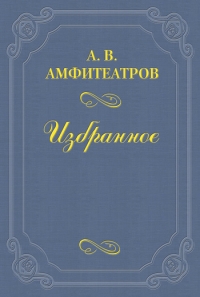
Комментарии к книге «Дорога в Бородухино», Вячеслав Кондратьев
Всего 0 комментариев