Ив. Касаткин
ТЮЛИ-ЛЮЛИ
I.
Пришла бабка Марья из Дрыкина.
Ни колобков, ни пряника в этот раз не принесла. Села на лавку, сгорбилась на свой костылек с резной петушьей головкой на сгибе и вдруг захлипала, будто со-смеху начала пырскать, так что голова у ней затряслась, и костылек в руках тоже затрясся.
Раз нет пряника, Силашка чуфыркнул носом и, поддерживая штаны, юркнул на полати. Лег там плашмя на теплую шерсть тулупа и давай молотить себя пятками в зад.
Глядит, что дальше будет с бабкой. Но не забывает и пальцами на губах подыгривать, а в промежутки поддает кулаком по надутой щеке, - и выходило как у Гараськи Пыжика: хоть пляши...
Мигаючи, воззрилась на бабку мать и вскочила с лавки. Прялка из-под нее взглянула копылом вверх и мягко ткнулась кудельной бородой в пол, лукошко с веретеньями и пряжей рассыпалось, дремавшая кошка с перепугу стрельнула на печь...
Тою же минутой прибежал из хлева отец. Упарился он там, шапка на затылке, мокрые волосы ко лбу прилипли, а полы для аккурату за поясом. Так и вошел с вилами в руках: навоз кидал. А навоз-то еще от Чубарки, который пал.
Отец и мать оба разом приступили к бабке.
- Што ты?.. мамонька, чево ты?.. о чем? - пытают ее.
Скрепилась бабка. Раскачиваясь взад-вперед, заклохтала о чем-то частобаем, но съехала нараспев - и застонала, захрипела, трясясь... Мать, шатнувшись, плеснула руками и залилась горючими. Отец повел глазами по потолку и тихо-тихо головой закачал, снимая шапку... Он уперся на вилы, свесил над столом голову и с горестным удивлением боком глядит на расписную солоницу, на которой желтая пичуга клюет синие винограды.
А дверь в избу хлоп да хлоп.
Входят люди, мягким катом пуская по полу морозный пар. Внизу уже толпится Никанорко, который с придурью, сосед Тереха, кузнец Прокл, бабы, ребята...
Гараська Пыжик уже кряхтит там, борется, кого-то подмял под себя. Моську?.. нет, не Моську. Сеньку Зуйка?.. да нет, пожалуй, Моську... С полатей не разглядишь, а слезать не хочется, - в избу напустили холодищу.
Пока бабка там стонала да поклохтывала, а люди вздыхали да ахали, Гараська Пыжик тихим манером подобрался на полати и ледяными рукавицами сгреб Силашку за голые ноги. Тут они попыхтели немного, а потом, встав друг против друга на карачки, сделались собаками. Глаза выкатили, ощерились, зарычали, залаяли и с страшной яростью сцепились грызться... Отец сердито застучал в пол вилами. Силашка прижухнул, отдыхиваясь, а Гараська - катышом на пол.
Лег опять Силашка плашмя на тулуп и немножко поиграл на губах, поддавая кулаком в щеку, потом закрыл ладонями глаза и быстро-быстро заработал в зад пятками, - это он ныром, без ручек, переплывал речку Крутицу. Вынырнул, отфыркнулся и глядит: народу уж полна изба! Цакают языками, головами покачивают, слушая хлипающую бабку. Та уж и костылек с петушьей головкой уронила на пол. Уперлась крючьями рук о лавку и рассказывает всем про деда Никиту и про мельницу.
Силашка тоже стал слушать, выдирая пучечками шерсть из тулупа.
Оказалось, деда Никиту смололо вчистую на той самой мельнице, где он жил и делал муку. По бабкину выходит, что - до-смерти, а тятька сомневается, говорит: надо съездить, поглядеть надо. Он уж такой: всегда ладит поперек сказать. Никиту он тятенькой называет, а Никита настоящий дед. Даже пахло от него всегда дедом.
--------------
Этот Никита подпоясывался ниже пупа, а у пояса медный гребешок носил. Борода у него до глаз, завитушчатая. Когда, бывало, принимался резать из дерева петушков и человечков, то шевелил и бородой и бровями, а деревяшку упирал в крутую грудь и шибко сопел. Брови у него свислые, как усы, и везде у него волосья растут - и в носу, и в ушах. Из прорехи на груди тоже выпирали густые волосы, и Силашке иногда думалось: а вдруг это совсем и не дед, а медведь, только рубаху на него надели да подпоясали...
Приходил он с мельницы больше в праздники и выпивал со стариками. Выпьет и почнет чудесить. Сядет на пол, расшеперится во всю избу, и давай тянуться на палках, так что в руках у него трещит и палки ломаются. Молодых через голову шутя побрасывал. А то схватится с охочими бороться, тогда уж убирай и столы и посуду... А то всех в конюшню поведет, мерина подымать. Подлезет под мерина спиной, раскорячит этак ноги, понапружится, да и подымет... Вздымет и держит, сколь надо. Налитые глаза из-под бровей выкатит, ворочает ими: мол, видели?..
Против него не тягайся. Веселый был, Никита-то, плясать любил.
Почнет вывертывать ногами такие кренделя, что народ впокатущую на лавки валится. А дед осатанеет, да того пуще! Где руки, где ноги, не разберешь, волосы дыбом, как у лешака...
- Закоклячива-ай! - рявкнет гармонисту. - Отдирай: примерзло!..
Бабка Марья, бывало, глядит-глядит, да как избоченится, подожмет этак губы, дернет плечом - и выплывет, взмахивая платочком, и пойдет вкруг деда причекотывать и носком, и пяткой... Ну, тут уж дед схватится прямо за голову, да в присядку! И руками и ногами отпихивается от бабки, а сам: ух! ух!.. Вся изба в тряс идет, даже горшки на полках подпрыгивают. С деда уж пар валит. Хлопнется на лавку. Выхлестнет в себя ковш браги, да еще ковш, и скажет:
- Будя-а...
А к концу гостьбища тяжелел. Навалившись грудью, возил по столу бородой и ржавленым скрипучим голосом тянул всегда одну и ту же песню: про белы-снега. Песня эта была такая длинная, что он и в поле никогда не успевал допеть ее, когда бабка вела его домой, - в Дрыкино.
--------------
И вот - смололо...
Размышляя о Никите, Силашка раздумчиво поковыривает в носу и жалеет, что дед так и не сделал ему меленку, чтоб на ветру вертелась и пестиками стучала, как у Моськи.
В избе уже вечереет. Силашка смотрит с полатей вниз, и на синеве окошка с серебряными лапами изморози будто впервые видит мамкины и будто не мамкины плечи и спину. Она отвернулась к окошку, локтями на подоконник, и спина у ней узкая-преузкая, а плечи к голове подвело и дрожат. Совсем не мамкины плечи, и голос, которым плачет, не ее голос, - круглая мамка вдруг усохла, сделалась как есть старушка.
Бабка размотала свой большой плат шмелиного цвета - и голова у ней сделалась совсем маленькая. Сидит, будто сейчас из бани пришла, откинулась спиной к стене, руки по лавке разбросила. Лицо у ней, как бересто на жару, морщится, - она плачет, а голоса нет, и слез нет. Отец припер стену плечом, сбычился, молчит, только шапку в руках мнет: скрутит ее жгутом и опять раскрутит...
Люди понурились, вздыхают, смотрят в пол, будто Никита на полу лежит, и на все лады мягко обкладывают его тихими словами:
- Ой, Микитушка-а...
- Жаль таких-то.
- Коли не жаль...
- Пронзитель был на всякое дело.
- Поискать...
- Горе-то, а?
- И не говори...
Силашке жаль тоже, но не Никиту, а мать и бабку - шибко плачут. Никиту не жаль: его не видно. Он какой-то давний и всегдашний, как скрипучий журавель на колодце, или как та ржавленая песня, которую он уносил в поле, да и там никогда не мог допеть. И еще неизвестно, - он такой, дед-то: возьмет да и смастерит меленку. Ведь обещал и даже пальцами показывал, как будут плясать пестики.
И вдруг вспомнил: у деда в голове, в бороде и усах всегда мука была. И рубаха была мучная и кафтан мучной. Мука явно выступала из него. Не погодился ли он на муку?.. вот и смололи. Силашка стал думать о мельнице: что она и как? Неизвестно. Может, ступа большая с пестом, а может вроде колокольни.
Поглядеть бы.
- Мам, а мам! - кричит он, свешиваясь вниз головой, - где мельница?
- В городу, рожоный, в городу...
- Как колокольня?
Не слышат. Им только бы горевать!
Никанорко, который с придурью, знает, пожалуй: с котомкой ходит в город за кусочками. Силашка начал заманивать его на полати. Руками и ртом показывает, что подаст ему кусочек. Взлез тот, большой парень в вороньей шапке и берестяных лаптях. Под носом у него мокро и всегда он улыбается, а глаза мутные, и собачий дух от него.
- Мельница, она какая? ты видел?
Никанорко только гыкает. Утирает рукавицей нос и жует. Всегда чего-нибудь жует, а через губу слюна.
- Гы-гы-ы! Подай, бык-те бодай... гы-ы!
Только и всего от Никанорки.
II.
Той же ночью Силашке приснилась страшная мельница.
Многое множество Никанорок, глазом не охватишь, топоча ногами, вихрем носилось вкруг Никиты и все Никанорки зараз вскрикивали:
- Бык-те бодай! Гы-гы-гы-ы!..
А Никита в кругу Никанорок, сгребши бабку Марью за подол, с вывертами отплясывал перед ней вприсядку и как в трубу трубил:
- Пошевеливайсь!..
Никанорок туча-тучей. Никанорки так ходуном и ходят. Дед взмахивает ногами поверх головы, взлетает выше Никанорок, щелкает языком и знай гудит:
- Пошевеливайсь!..
Никанорки стараются еще пуще, мчатся что есть сил, вихрятся так, что от них ветер свищет, а из-под ног пылью мука летит...
Бабка же вдруг уперлась и заголосила:
- Родимо-ой ты-ы мо-о-ой!..
Откуда ни возьмись - тятька. Шипом шипит:
- Подхватывай за ноги, а я в головах...
Тут Силашка и проснулся.
Слышит, и впрямь бабка в сенях голосит. Вскочил, глаза вытаращил - и спросонок глядит, глядит...
Рассветало. Окошки мутные, сумрачь, синь, холод, в трубе поет ветер, за стеной шипит вьюга, а дверь настежь расхлебячена - и в избу потихонечку всовывается да всовывается большая белая колодища...
В двери, тяжело дыша, застряли с этой колодой отец, сосед Тереха, мать, Оська Лодыжкин. Тут же, улыбаясь и гыкая, пыхтит и Никанорко. А чужой черный мужик в огромном обовьюженном тулупе, напружась у заднего конца колоды, щелкает языком и как в трубу гудит, дивясь на Никанорку:
- Эк, ты какой... Пошевеливайсь!
А Никанорко:
- Гы-гы-гы-ы!.. бык-те бодай...
Пыхтит, косопузится, подхватывая колоду не там, где надо, и разворачивает рот в такую улыбку, что под вороньей шапкой уж не лицо, а одна дикая дыра с зубами.
Колоду втащили и, шипуче перешептываясь, поставили середь избы на стол. Зажгли и прилепили к колоде тонкую желтую свечечку. Огонек заколыхался тоже желтый, живой, так к себе и притягивающий... Вся изба и мутный рассвет, и все лица, и все вздохи будто влипли в это хитрое, играющее желтое пятнышко. В нем было что-то старинное, страшное, но надобное. Даже Силашка сразу это понял и пальцы его сами собою остановились у губ и перестали брынькать.
Тереха принес псалтырь. Вошли еще люди. Встали все над колодой с одинаково строгими лицами, мрачно потупились, руки плетьми опустили, - молчат...
Одна только бабка Марья, пав головой и грудью на колоду, как над младенцем в люльке, лепечет ласковые старушечьи слова, торопливо ведет последний горестно-сладкий разговор.
Вьюга покидывает в окошки снегом, ветер шеберстит и ощупывает стены, шушукается, вздыхает, поскрипывает ставней. А в трубе будто потрясучий бездомный кобель засел: так и юзжит, так и взвизгивает, окаянный, хоть туда с кочергой лезь!
Чужой черный мужик устроил лошадь и вошел в избу. Щеря ядреные сахарные зубы, гребет пятерней обмерзлую бороду, топочет в пол валенцами и покрякивает, будто на банном полке.
В лад вздохам и молчанью, сосед Тереха раскрыл псалтырь и ногтем прижал то место, с которого читать. Вот он взметнул вверх бровями и даже рот раскрыл, чтоб начать, - как чужой мужик вдруг замахал для согреву руками и гулко захлопал ими по тулупу, ревуче крякнул, будто кипятком окатился, и густым, как смола голосом, не к месту громко, стал рассказывать:
- Метил вчерась к ночи утрафить. И дорога, заметь, ладная была. А посля как замело-замело-о-о... ух ты, батюшки мои! Проезжаю Гагино, сват и говорит: ночуй, куды тебя понесет? Не послухал, заметь... Ах ты, нечистая сила! Кружил-кружил всю ночь, хоть реви! Ну, вижу, пришло узло к гузну: ложись в ряд с Микитой и помирай. И заметь - на овины вынесло. Гляжу: - тут и есть! Ах ты, распропори ее, погоду самую!..
Взял из угла веник и давай охлестывать с валенцов снег. Тут Силашка и приметил, что валенцы у него выше колен, белые, с красными горошками, как у Сеньки Зуйка. Тятька пообещал ему такие же, да так и забыл, ужо надо мамку попросить.
А мужик махнул веником на колоду и, продолжая охлестывать, сказал:
- Ему всякая дорога теперь ладна: лежи-полеживай! Ну, а я, стало быть, как говорится, даже попужался. Живому, заметь, да здоровому погинуть, хе-хе... не хоцца!
Охлеставши валенцы, веник он бережно, как хрупкую посудину, прислонил в угол. Выпрямился, поднял черную бороду с играющими в ней светлыми капельками, надул красные щеки, со свистом фукнул в усы и, глядя на желтый огонек свечки, широким розмахом отогнул полу тулупа и вынул из штанов куколку в сарафане - нарядный пестрый кисет, удавленный за головку шнурком. Раскрутивши под горлышком шнурок, достал бумажку, аккуратно расправил ее, вздохнул и, мигая, двумя пальцами протянул отцу.
- От Петра Минеича, от хозяина... трешница на помин души, - сказал он и тут же ловко дернул за шнурок: кисет опять стал с головкой, как куколка, и юркнул в мужиковы штаны.
Сосед Тереха без промедления взметнул бровями вверх и бабьим голосом начал читать псалтырь, водя ногтем по надобному месту.
Люди завздыхали, вышептывая божественные слова. Кто-то снял с Никанорки шапку, он гыкнул и распялил рот, принимая шапку мохнатыми собачьими рукавицами.
А черный чужой мужик, скинувши тулуп, примерился глазом к печи и полез на ее, таща за собой и тулуп, чтоб укрыться.
III.
Завернули такие крутые морозы, что дым из труб в небо силком пропихивался. Стены стреляли, как из ружья. Зря не высунься, нос отхватит, либо ухо. Выйдешь на улицу, глянешь туда-сюда и ахнешь... Избы, деревья, Моськина меленка на воротах, колодезный журавль, скворешницы на шестах, веревка под окошком и заколелые синие тятькины портки на ней - все побелело, осеребрилось, мохнато закужлевело, и такая кругом тишь и сонь, что ресницы слипаются, а в ухе комар поет.
Крякали обозы, появляясь неизвестно откуда, и заворачивали к отцу Сеньки Зуйка пить чай. У Сенькина отца изба выше всех, над окнами борются деревянные львы, вставши на дыбки, а в чулане, где картинка про страшный суд над грешниками, есть пряники, сельди и вино в зеленых бутылях.
Покеркивая и взвизгивая, обозы трогались дальше, черной змеей уползали в белое поле, двигались в неизвестные места, а мужики в чапанах шли по бокам и, вея полами, криком вели разговор и тыкали в снег кнутиками.
Как раз была пора ловить снегирей, клестов и овсянок.
У Моськи для клестов была сделана ледяная горка. На эту горку надо было почаще бегать и мочиться, чтоб краснота была. Либо сыпать дресвой. Слетятся крючконосые клесты и начнуть играть: с горки они катом вниз, а там - силки... Моська налавливал их не мало. В праздники ощипывал, жарил и ел, хрустя косточками. А кривая Овдоха, мать его, вдова горючая, подпершись кулаком, сбоку жальливо глядела на него единственным глазом.
Тятька сделал Силашке тоже силки - эдакую дощечку с волосяными петельками из лошадьего хвоста. - И сказал:
- На, ставь на гумно и гляди: зараз попадет либо овсянка, либо снегирь! Сыпь проса. Просо они уважают.
Силашка поставил. Оповестил всех, что и у него силок, водил на гумно и показывал: какой и как стоит. То и дело бегал глядеть, - пусто. День прошел, - пусто. А на другой день еще издали увидел: попала, сидит... Замерло сердце, подкрадывается, глаз не спуская. Не две ли?.. две и есть... знамо две! Подбежал, глядит: - во всю дощечку кто-то круто нагадил.
Тихо пошел прочь. Глядел на остолбенелый дым из труб и все думал: кто?.. Сенька Зуек или Моська? Пожалуй, Моська... или Сенька? Сенька и есть, он такой... А может - оба?..
Быком вошел в избу.
Мать пряла, протягивая вжикающее веретено пяткой до-полу. Меж круглых колен у ней дремала кошка. Отец стругал ножом новые пальцы к старым граблям, - упирал деревяшку в грудь и сопел, как дед Никита.
У Силашки внутри будто еж ощетинился, в носу едко засвербило, в горле встала картошка, не продохнешь... Так прямо с рукавичками и шапкой, придавливая кошку, вдруг ткнулся мамке в колени - и в рыд! Кошка фырснула на печь, выпущенное из рук веретено поиграло на полу и закатилось мамке под подол.
- Што ты, Силань? - склонилась она теплой грудью на его затылок.
- Ребята-а...
- Дерутся?
- Не-е-е...
- Чево же?
- Они на мо-ой сило-ок...
- Ну?
Силашка сказал, что сделали на его силок. Услыша, тятька прыснул и загоготал, как дикий. Он уронил и нож и деревяшку, взбрыкнул ногами и протянулся вдоль лавки. Мотал головой, хлеща по глазам волосами, и гоготал. Хлопал себя по ляжкам и орал:
- Ай-яй! Ну, и чичка залетела!..
- Будет, охальник! - махала рукой мать. - Парня обидели, а он... Ишь раздирает жеребца нелегкая! - Пожалеть надо, а он...
- Ладно, Силантий, молчи! - сказал отец и отмахнул со лба волосы. Другой силок сделаю. Либо пичугу деревянную вырежу, на лапках стоять будет... хошь?
Мелькнула мысль сказать про белые валенцы с красными горошками, как у Зуйка, да вспомнился опять этот силок на гумне, - зарыдал еще пуще. От реву даже глаза вспухли. Мать уложила его на печь. Согнулся крендельком и уснул там, всхлипывая и во сне.
С этих пор он больше дома сидел. Дышал на серебряную изморозь окошек, надыхивал дырочку, глядел в нее: ничего не видно, а обозы кряхтят под самыми окошками, к Зуйкам заворачивают чай пить.
И вот пришли дни посветлее, с окошек потекло, завиднелась улица и колодезный журавль в небо. У Кубыкиной Дарьи оторванная ставня скособенилась еще больше, повисла над завалиной, а над крыльцом соседа Терехи прибавился еще один угляной крестик, - чтобы бесы в избу не проскочили.
Начало гулять в небе солнышко и стало можно зеркалом пускать зайчиков по стенам, даже за трубу, где тараканы, даже в подпечек, где седое помело лежит, а может, и домовой живет.
Обозы пропали. Дорога пошла в пятна, взбурела. Чирикая, на дорогу кучами слетались воробьи и расклевывали лошадиные култышки, а Лыско с лаем бросался на них, и воробьи летели к гумнам. Лыско же, сбочив кренделястый хвост, неспешно трясся опять к воротам.
Так потихоньку и шли дни.
Скоро началось гульбище. По деревне запахло горьким маслом, везде ели блины и вкусную рыбу-вонькушу. Избы распирало песнями и винным духом, а под окошками девичий визг и крик под гармошку, и ух, и топ, и колокольцы!
Народ так и валил из избы в избу. Везде застолье, пей-ешь до отвалу и перекатывайся дальше. Красные, упаренные мужики грузно наваливались на столы и гудели все зараз. В глазах у них будто зарево, а зеленые стаканчики так ходуном и ходят. Сидели в обнимку, нос-в-нос, гулко хлопали друг друга по спинам и как через поле кричали:
- Сват!
- Телку я на-племя... чиркасськой породы она!
- Сватко!
- И дальнюю запашу... Нынче я - вво... сила!..
- Сватушко! Чуй-ко, я што-те скажу!
- Нну-у?!.
- Ммиллай!.. Люблю я тебя... Рыбки возьми!..
В последний день гульбища, ночью, мать подняла разоспавшегося Силашку, - еще раз всей семьей сели за стол и давай доедать масляное и скоромное, чтобы не пропадало.
А потом, - как топором обрубило, - наступили тихие, ожидальные дни.
Старухи да бабы ходили вечерами к соседу Терехе, послушать чтенья про житье святых.
Раз густо метнула пурга, завернул мороз, но ни к чему: заутро же опять обозначилась рыжая култыжистая дорога, чирикали воробьи, лаял Лыско, и ломкие ледяные сосули висли с застрех.
Как бы спросонок, во дворах взмыкивали коровы, а петухи орали так неуемно, будто им что приспичило. По деревне шла стукотня, мужики похаживали с топориками, примериваясь глазом к телегам, сохам, боронам, перебирали жерди, колья, доски, искали по кладовкам струментов, ремешков, гвоздей...
Раз, в солнечное воскресенье, Силашка бегал с ребятами по деревне и звонко пел середокрестье-крестье. Бабы из окошек надавали много оржаных крестов и жаворонков. Силашка расколупал их все до единого, но счастья медную копеечку - так и не нашел: не запекли.
Дома подала ему мамка жаворонка с изюмными глазами. Колупнул ему брюшко, а счастье-то тут и есть - новая семитка!
IV.
Весна началась сразу, вдруг, как шапкой накрыла.
С крыш, с пригорков, со всех сторон и во все стороны вода потекла. Сначала по капелькам, ручеечками, а потом как зазвенела, зашумела, забуровила, - только держись!
Гараська Пыжик, засуча штаны, прямо на дороге ладит мельницу, да где там: сломало, понесло... Гараська бежит за ней, машет руками, кричит, а из-под ног во все стороны - брызги, брызги!
Не успели оглянуться - кругом зеленя, с них от солнышка даже пар валит, а небо высокое, синее. На пригорках мурава так и брызнула щеточкой. Но в лощинах еще грязь, жиделяга, из грядок на огороде ногу не вытащишь, гумно взбухло пирогом.
Черный, как уголь, скворец на березе свищет и свищет, будто ямщик, и вздрагивает крылышками, а из скворешной дырочки под ним то-и-дело скворчиха высовывается.
Мужики с перевернутыми сохами, с мешками и лукошками поехали в широкие и светлые - точно с них крышу сняли - поля пахать и сеять. Время-то в самый раз, зевать нечего. Даже Лыско, задрав хвост и вывернув уши, как угорелый, помчался туда же, а сам лает, лает, лает!
Мужики пашут, а тятька собирается в город.
У соседа Терехи выпросил старого мерина Сивку, а телега своя. Поднялся затемно, вздыхает, копошится, ворчит на мать, - в кладовке кринки расставила под ногами, решето не на месте...
Кладет он на телегу мешки с картошкой, с рожью, и еще один мешок, совсем живой, так и ворочается сам собою, - в этом мешке три боровка, тоже на продажу. С одного боку телеги мать приладила плетушку с раскудахтавшимися курами, с другого боку лукошко яиц, пересыпала их куколем, чтоб не бились, а в передок сунула в бураке скоп топленого масла.
Ходит она вкруг телеги и все вздыхает, все учит отца, как надо продавать добро, чтоб не промахнуться, и как выбрать животину, чтоб опять не купить опоеного, как Чубарка, - тут пахать бы, а он сдох!
- Ладно уж... не каркай! Наворожишь ты мне!..
Отец сердито глянул в поля, плюнул в руку, коленкой уперся в хомут и, ощерясь, так стал его затягивать, точно решил удавить Сивку на-смерть.
Приплелась из Дрыкина бабка Марья. Упираясь на костылек, топчется тут же, и тоже дает советы, как и что лучше, а главное, чтоб отец побывал на мельнице, хозяина повидал, Петра Минеича.
- Обскажи ему... должон способие выдать. Мы люди смирные...
- Выдаст, дожидайсь... - кряхтя над хомутом, сказал тятька.
Сунув палец в рот, Силашка глядел на сборы и крепился. А как услышал, что можно бы и мельницу увидать, - настоящую, ту самую, на которой смололо деда Никиту, - не вытерпел и взвыл благим матом.
- Ты опять?.. Запри его, мать, в избу!
Отец продел в кольчико дуги ремешок, обмотал его винтом по дуге и завязал у оглобли, а чтоб крепче было, конец ремешка даже зубом потянул. Тряхнул оглоблю, оправил рыжий картуз и сказал:
- Готово!
А сам поглядел на плачущего Силашку и переглянулся с матерью. Та тоже глянула на Силашку и ясным взглядом уставилась в отцовы глаза: уважить, мол, надо. Тут и бабка ввязалась, потыкивая костыльком в землю:
- Возьми парнишку, возьми! Пусть съездиит, сроду никуды не бывал. Возьми, говорю!..
- Невелик хахаль... и дома посидит.
Строго сказал, а в бороде заиграла улыбка, не знает, куда ее деть. Общупал поклажу на телеге. Выправил у Сивки под репицей шлею, хлопнул его по заду. И махнул рукой.
- Ну, сбирай, мать, ладно уж... Давай его сюда!
Мамка проворно сготовила Силашку в путь.
Вышел он на крыльцо, сияет, а на глазах еще слезы. Оглядывает на себе пестрядиную сибирку праздничную, новые лапотки, - еще дед Никита их сработал, а в груди будто живая птица трепыхается, - дышать тесно!
Пока там отец с мамкой в избе советовались, как и что, Силашка обежал всю деревню, свой наряд показал и всех оповестил, что едет в город. Перед Гараськой Пыжиком и другими то-и-дело лез на телегу, забирал в руки вожжи и мужиковским голосом орал на Сивку. А тот будто спит, - без внимания. Голову свесил, ноги клешнями. Нет ему дела до Силашкиной радости.
Вышел отец. Постоял, подумал, на утреннее солнце глянул, сбоку на мать поглядел и тряхнул головой.
- Ну, готово... Пора!
Вскинулся на край телеги, засопел и вожжей вытянул Сивку. Тот лишь хвостом махнул, даже и не оглянулся, стоит и дремлет.
- Охлопочи там! - замигала бабка, хватаясь за телегу. - Ведь тысяшник, а мы люди бедные! Какого старика-то сгубил, стра-асть!.. Хоть бы зерном дал, ежели што... Ни коня, ни семян, так и скажи-и!..
- Слышу, ладно уж... Ну, прощайте!
Над Сивкиной спиной еще и еще раз со свистом взвились вожжи. Тот нехотя замотался в оглоблях, дернул телегу в сторону, потом в другую, оттопырил хвост, зафуркал задом...
Поехали!
С визгучим скрипом и тырырыканьем отворились ворота в поле. Утро синее, веселое, позывчатое, будто сейчас умылось и смеется. Из-за поля, над зубчатыми елками огромным золотым глазом выкатилось солнышко, брызжет по зеленям и межам, алым цветом кропит суглинистую дорогу и рыжий тяткин картуз.
Силашка глянул назад: окошки изб полным-полно налились золотом: в каждом окошке по солнцу. Скворцы над скворешнями засвистывают еще пуще, а жаворонки в небе точно дырочки буравчиками высверливают: тир-люр-лю-ю, тир-лю-ю, тюр-ли-и...
Как хочешь загибай голову, ни за что эту пичужку не разглядишь, - одна синь. И небо - как чашка.
Еще раз Силашка оглянулся на деревню. Избы сделались маленькие, точно старушечьи головы в темных платках. Только на Терехиной избе платок побелей, а на Зуйковой - зеленый, на четыре стороны, и из трубы дым вьюнком. У скрипучих ворот на выезде так и стоят два человечка, - это мать и бабка, руки козырьками, глядят и глядят в солнечное поле, оторваться не могут...
Около Прокловой кузницы, у перелеска, сосед Тереха в белой, орозовевшей в солнце рубахе, попевая божественное, чинил изгороди. Звенькая по сучьям топором, он рубил молодые елки и облаживал их на колья. Как проезжали, он положил ярко взблеснувший топор на плечо, поднял брови и закричал тятьке:
- Вертайся скорей!.. Самому пахать надобно! Слышь!?
- Ла-адно!.. - нехотя откликнулся тятька, глядя Сивке под ноги и покачивая концом вожжей.
- Ну, то-то... смотри!
Опять молнией взблеснул снятый с плеча топор и зазвенькал по обрубаемым сучьям, а бабий голос запел божественное.
V.
Ехали молча, шагом.
Тятька ноги с телеги свесил, голову эдак на бок, сумрачный, - только и глядит Сивке в хвост. Силашку же распирает неохватная буйная радость. Он то замрет, с ненасытной жадностью глядя в неизвестные дали, то места не найдет, - так и вертится на мешках, и туда глянет, и сюда глянет, чтоб все приметить.
Вот у дороги огромный камень, а на камне зеленый мох растет. Вот синеватая старая осина двойная, - как есть чудище: головой в землю ушло, а ногами взбрыкнуло вверх... Вдали по низинам лужицы - будто зеркала кто растерял. Валяется на дороге лиловый старый лапоть, из пятки солома торчит. Под придорожным кустом, измызганном колесами, птичьи перья и косточки, - к чему? А в глубоком овраге еще лежит грудка ноздривого снега, ручеек тилиликает.
Да разве успеешь все заприметить!
Развернулась широкая вырубка с черноголовыми пеньками. Откуда ни возьмись, вдруг выскочил на дорогу заяц. Приподнялся на дыбки, но, завидя Сивку, оторопел, прижал уши и понесся, махая через пеньки. Тятька вдогонку гикнул, свиснул, взвил вожжами, с головы чуть картуз не слетел... Долго глядел на мелькающего вдали зайца, поправил картуз и сказал:
- А, косая шельма!.. Из ружья бы тебе в зад-то!..
Телегу заворочало по корневищам, с боку на бок, точно с ней боролся кто-то, легший на дороге. Пеньки обросли прямыми, как брызги, дымчатыми лозинами. Тятька соскочил с телеги и выломил одну большую себе, и поменьше - для Силашки.
- На!.. Ежли лешуга лесная выскочит, лупи ее, не щадя живота!
Въехали в большой лес. Запахло корнями, смолевиной, сыростью. Проселок заколесил туда и сюда, закривулял как пьяный. Со всех сторон обступили телегу косматые седые елки и медностволые сосны.
Прорезая лесную гущу и зеленые сутемки, по мешкам, по тятькину картузу и спине живыми золотыми блинками заскользило солнце. В чащуге тенькают птицы, точно серебряные денежки на блюдечко сыплют. Выряженный по празничному дятел винтом увивается вкруг лысой сухостойны, звонко цефкает и долбит-долбит, упираясь на хвостик. А сосны да елки, будто за руки взявшись, идут и идут мимо телеги зеленым хороводом без конца и краю!
А птицы в чащуге: тинь, тинь, тюнь, тинь...
Силашка косит глазами по обе стороны, - вот тут-то и живут всякие чудища... Покажутся или нет? Сивко мотает головой и в полную ноздрю звонко фыркает, и в лесу ему кто-то откликается, подфыркивает. Колеса гулко стукают по корням, под колесами хрустят сучья, шишки... Нет, не покажутся чудища - Сивку побоятся. Большой он, Сивко-то, и сильный, ему даже телега нипочем. Да и тятька тоже тут, - попробуй, покажись: хватит вожжей, как Сивку!
Бока у Сивки худые, ребристые и раздуваются, как мехи у кузнеца Прокла. Об эти бока хворостина у тятьки сразу сломалась. До того, как ударить, тятька долго крутит над головой вожжами и, чтоб хлестнуть как следует, чуть не ложится вдоль телеги и придавливает боровков в мешке, те начинают визжать, а куры в плетушке им откликаются: куда? куд-куд... куда?..
Прислушиваясь к курам, Силашка вспомнил, куда он едет, - в город, в город!.. Забыл и о чудищах. Стал думать о городе. Сначала молча, а потом вслух, - похож ли город на много колоколен, или иначе как, вроде лесу, а может, и повыше лесу...
Уперся голубыми глазами в отцов затылок.
- Тять!
- Ну?
- Какой он?
- Кто?
- Город-то.
- Уездной, знамо дело...
- А како-ой он?
- Так, не ахти...
- Большущий?
- Город как город. Голодранцев много...
- Это какие... голодранцы-то?
- А которы без порток.
- Маленькие?
- Маленькие... борода по пуп.
Ничего не понять у тятьки. Силашка повернулся на бок, улегся на мешках половчее и стал думать молча. Тятька нокает, Сивко фыркает, телега кряк да кряк, а тут еще колесо начало попискивать: пиить, пиить...
Силашка закрыл глаза, чтоб хорошенько додумать о городе. Но зеленый лесной хоровод, и фырканье, и кряк, и писк совсем закружили и спутали мысли в одно играющее розовое марево, видимое сквозь закрытые веки...
Силашка уснул. А под щекою у него возился теплый боровок и сытно уркал.
VI.
Вдруг в самое ухо свирепый тятьки голос:
- Но-о, лешуга!.. У, дьяво-ол!.. Ле-э-зь!..
Встрепенулся Силашка и смотрит сонными глазами, - не чудища ли?
Чудищ нет. Телега стоит на одном месте. Сивко дергается, оттопыря хвост, а тятька что есть мочи хлещет его по спине и бокам вожжей. Он хлещет и вытягивается вдоль телеги так, что рубаха из-за пояса выбилась, видна опушица штанов и голая поясница жолобом. Завизжал придавленный боровок. Куры забеспокоились: ко-о, ко-о, ко-ко-о... и одна вскикнула: куд-куд... куда?
Силашка сел, протер кулаком глаза и глядит. - Кругом рыжее, впрозелень, болото, да голенастый бледный осинник, да солнышко над головой. Колеса втюхались в болотную зелень по ступицу, и вкруг телеги пузыри бурлюкают.
Тятька подобрал ноги, раскорячился на телеге, быстро-быстро закрутил над головой вожжами, изо всей силы огрел Сивку и заорал так, что голос у него осекся... Сивко вытянулся весь, хвост до самого передка оттопырил, голову из дуги куда-то спрятал, одна выгнутая коромыслом хребтина видна, - и, нося брюхом, дернул, дернул... и колеса зашипели в болотище, навертывая на себя густые, маслянистые ошметки бурой грязи.
Выехали!
Телега весело застукала по жердиннику, - только держи зубы. Жерди под колесами выгибаются. Под жердями бурчит, пузырится, хлюпает и будто пригоршнями всплескивается рыжая вода. Зеленые ржавчатые лягухи жирными шлепками бесперечь шарахаются от телеги в стороны и уныривают, ловко работая задними ножками.
Хватив воды и грязи, колеса немножко помолчали. Но скоро вдруг пронзительно запели и заверещали неожиданными голосами, будто во втулки попали все три боровка и с них живьем сдирали кожу. С этого ли визгу, иль солнышко припекло жарчей, Силашке до смерти захотелось испить студеной воды.
Вот затолпились высокие светлые березы. В их ветвях, четких в глубокой синеве неба, прозрачно и серебряно, как по натянутой струнке, пинькали птицы: пинь-пинь, пинь-пинь...
В полудреме Силашка слушал это пиньканье, и оно казалось ему светлыми, падающими с берез капельками воды, которые можно глотать. Березы снизились и с разбегу под горку рассыпались мелким дымчатым лозняком и вербой. Дальше пошли сухие пригорки с песчаными оплешинами. Тут да там копенками можжевель, а то кривая сосенка. По сыпучей дороге телега мягко переваливается с боку на бок, а колеса, хватив песку, наладились на один голос и во всю мочь верещат: цари-и! цари-и! цари-и!
От этого вереску разом забеспокоились и боровки и куры. Тятька строго скосился на ступицу и буркнул:
- Ведьма...
Проехали мелкий еловый перелесок, и в низине, меж кустарников, Силашка увидел знакомую речку Крутицу. Миновали знакомый мосток из прогнивших колодин, поднялись в горку, - развернулось поле в черной пахоте, а за полем - знакомая деревня... Силашка даже глаза вытаращил.
- Тять, это наша?
- Кто?
- Деревня-то?..
- Гагино это, дурень!
- А город-то?..
- Еще далече. Спи!..
Тятька врет. - Избы те же самые. Вон та, с крышей из новой соломы, как есть Пыжикова, а эта, что ставня оторвана, Кубыкиной Дарьи. Да вот же и сама она в окошко глядит!.. Не Оська ли Лодыжкин, длинный как жердина, ведет там на огороды упирающегося телка? Он и есть... нет, не он, пожалуй... да он, он!
Откуда ни взявшись, с лаем выскочил на дорогу Лыско. И тут же, отшлепывая пятками, гусем пронеслись мимо ребята, - задний кучером, в одной руке вожжи, в другой кнут мочальный. Силашка сразу узнал и кучера, и кнут. Привскочил на мешках и замахал руками:
- Моська-а!.. отдай мой кнут! Маме скажуу!..
- Вот дак дура-ак! - обернулся тятька с удивлением и даже головой покачал. - Ну-ну-у...
Хлопнул себя по ляшке и загоготал, глядя на солнышко.
- Не выйдет из тебя, Силантий, путного старика! - сказал он, нагоготавшись, и весело высморкался.
У колодца остановились поить Сивку.
Закеркал, закряхтел журавель, будто нехотя нагибаясь высоченным носом. Тятька достал в колоду воды. Дрожа мышиной кожей губ и вывертывая ушами, Сивко припал и медленно, истово начал тянуть.
Подошла круглоплечая девка с ведрами. Пока она спускала и вынимала бадью, скользя гладким шестом меж вздрагивающих грудей, темные глаза ее в длинных ресницах немигаючи глядели на тятьку так, что тот тихонечко крякнул и одернул рубаху. Девка вытулив зад, нагнулась с бадьей к первому ведру. Тятька пихнул рыжий картуз на ухо и по особенному выпрямил плечи, опершись спиной и локтями о телегу. И пока опять скользил гладкий шест меж девкиных грудей, оба они сцепились глазами и так стояли под скрипящим журавлем, комель которого с подвязанным обрубком бревна забирался все выше и выше, пока бадья в темном колодце не чохнулась об воду и захлебнулась в ней...
Девка подняла на плечо коромысло и пошла, чуть плеская из полных ведер светлые пленки. Она шла и выгибала спину, и мягко поддавала задом, приподняв рукой сарафан и показывая из-под него мелькающие розовые голяшки и пятки-просвирки. Она и не оглянулась. Тятька же, сощурясь и пошевеливая носком лаптя, глядел ей вслед и наигрывал по животу пальцами.
Сивко напился. Поднял от колоды морду и, роняя серебряные капли, пошлепал языком. Заглядевшись в дрожащее марево полевой дали, он вдруг оскалил большие желтые зубы и попробовал заржать, но ничего не вышло, только потрескал задом. Тятька кинул ему сена. Сами поели оржаного хлеба с солью, испили студеной воды из бадьи.
Засунув котомку с хлебом в передок, поехали дальше.
--------------
В поле пахали мужики, сгибаясь вперед с лошадью и сохою, будто ветром их гнуло. Косыми прыжками и короткими взлетами за пахарями по пятам двигались черные птицы и, вытягивая горла, на все поле кричали: карр!.. карр!..
Крик их казался черным, как они сами и как эта бухлая, жирно распластованная земля. Тятька поглядел в поле и звонко зацакал языком. Нахлюпил картуз, свесил голову и задумался, помахивая хворостиной.
Дорога опять заколесила лесом, глушью и буреломиной.
В одном месте будто из-под земли вынырнули навстречу двое, - парнишко и слепой старик. На парнишке драный армяк нараспашку, волосы сивые, штаны засучены выше колен. Он тянул старика за батог, а тот глядел бельмами в небо и будто упирался, а лысое темя его блестело на солнышке, как самовар.
В другом месте, под густой елью дымились головешки, а людей не видно. Дым подымался в гущу елки, лез в нее, и елка доверху была лиловая от дыму, а вглубь леса понизу легким пологом залегла синева. И вдруг Силашка увидел: по самый пояс в этой синеве, будто обрезанные, стоят мужик и баба, а на плече у мужика топор.
Дальше Силашка ничего не видел, - его сморил сон. Но и во сне он слышал, как под боком возятся боровки, угнездиться никак не могут, и как куры в плетушке тревожно беспокоились: куд-куд... куда?..
А колеса на весь лес верещали: цари-и!.. цари-и!.. цари-и!..
VII.
Проехали еще не мало деревень.
В одной заночевали. Бабы щупали боровков и мешки, пригорюнивались на кулачок и советовали разное. Тятька так и спал на телеге. Силашку же ввели в избу и с таганка накормили шипучим овсяным киселем с маслом. Он ел, обжигаясь, а веснушчатая беременная молодуха, сложив под налившимися грудями руки, в упор глядела на него ласковыми серыми глазами.
Она же постелила на лавку шубняк и уложила его. Сама села рядом. Теплой рукой давай гладить его по спине и расспрашивать про мамку: какая, да какая она. У Силашки даже затосковало сердце о мамке, - не сдержался, заплакал, тихонько чуфыркая носом. Молодуха прильнула к нему ласковая и мягкая как мамка, даже пахло от нее мамкой, - и давай нашептывать ему в ухо всякие слова...
Потом начала сказку про попова работника. Но Силашка сразу же уснул, - так и не узнал, довелось ли этому работнику выловить мережами бесенят из омутища?
Тятька разбудил его затемно. Вывел за руку и посадил на телегу. Силашку валил сон. Он ткнулся было на мешки, но придавил боровка, тот взвизгнул, - и Силашка опомнился, высверлил кулаками глаза, зевнул и глядит вокруг: - тятькина голова, Сивкин зад, мешки...
Заглушая собачий лай и петухов на деревне, заверещали колеса и занукал тятька, дергаясь локтями и спиной. Протырырыкали ворота на околице. Собаки замолкли и побежали в ту сторону, где огонек в окошке остался.
Выехали в поле. Половина неба малиновая, половина темная, посередке же, над головой, синь бездонная, и в ней, как засыпающие глаза, две слабые звездочки. Впереди по земле белесый туман пологом, но его никак не догонишь, - телега будто на одном месте ворочается или кругами кружит, нехотя покрякивая.
Тятька вздел армяк, картуз нахохлил вперед, козырем чуть нос не покрыл. Нагорбился с телеги и тихо помахивает хворостиной, точно рыбу удит. Весь он в светлой утренней темноте какой-то новый и далекий, но в то же время и близкий, всегдашний, родной. Сивкина спина мотается вот тут, рядом, а голова фыркает где-то далеко-далеко, - там, за туманами...
Малиновая половина неба разжигалась ярче и ярче. Те два глаза - две звездочки - уснули, растаяли... Светлая синь пролилась и в темную половину неба. Зажурчали жаворонки, просверливая вышину золотыми буравчиками: тюр-ли-и... тир-люр-лю... тир-лю-ю...
А как выкатился зыбучий шар солнца, вдали, за дымно-синими перелесками, Силашка увидел белые колокольни, одна, самая высокая, с золотой головой, как свеча горит на солнышке. Завертелся парень на мешках, глаз не спуская с золотой маковицы.
- Тять... Гляди!..
- Вижу...
- Што это?
- Черквы...
- Город?
- Он самый. Во-он где!..
Тятька указал туда хворостиной.
Замерещились синие, зеленые и всякие крыши. У Силашки дух заперло. Привстал на коленки и глядит, глядит... Играющей радостью налились и грудь, и глаза, и руки, и пальцы, - хоть лети!
Спустились под гору. Загрохотал длинный мост. А под мостом - вода, широкая, с поле. По ту сторону воды на берегу кустом встали три сосны, выросли комлями из одного места. Они опрокинулись в светлую воду кудрявой головой, - и выходит как есть та большая зеленая буквища вроде жука, что на Терехиной книжке: "Житье святых".
Силашка еще издали приметил: прямо на воде стоит чудной дом без окошек и весь стучит, шумит, дрожит... Крыша, стены, лужайка около - белые, будто в снегу. Кругом распряженные возы, лошади хвостами помахивают. Согнувшись под мешками, лезут и лезут на тот чудной дом человечки и вверху проваливаются в черную дыру.
Подъехали ближе. Тятька задергал вожжами, ни к чему вытянул Сивку хворостиной, соскочил, пошагал, опять сел, поправил картуз и свирепо сморкнулся.
- Вот она, мельница...
- Которая?..
- Да вот... гляди!
- Эта?
- Она самая. Вот тут дедушку... Никиту-то...
Не дыша, Силашка вытаращил глаза на мельницу. Побелевшие от муки бревенчатые стены гудят, дрожат, внутри что-то скрипит, скрежещет и грузно топочет... Человечки - оказалось, простые мужики - лезут и лезут с мешками в верхнюю дыру и проваливаются в страшное грохало. Неужто и их на муку?.. Нет, кой-которые вылезают из нижней двери, и тоже с мешками, и все белые.
Сбоку мельницы огромное колесо, до самой крыши. Оно неторопливо вертится, скрипит, шумит и во все стороны брызжет и плещет водою. Вода голгочет, ревет, вскипает пеной, веселой пылью взлетает в высь - и, сверкая в утреннем солнце, в этой играющей пыли стоймя стоит над колесом настоящая радуга-дуга. Силашка даже рот открыл, - как она попала сюда с неба?
Около мельницы тятька затпрукал. Остановились.
Как раз в это время из особой избушки вышел человек в синей поддевке, в лаковых сапогах и с таким большим козырем у картуза, что из-под него виднелась только красная луковица носа да рыжая, будто огненная, борода веником.
У крыльца, помахивая головой, выплясывал нетерпеливыми ногами крупный караковый мерин в дрожках. Рыжий в козыре уже занес ногу на эти дрожки, как подошел тятька и низко-низко поклонился, держа обеими руками картуз под животом.
Отвел тятька рукой со лба волосы и степенно начал толковать с рыжим. Долго чего-то обсказывал. И опять поклонился. Рыжий одернул козырь еще ниже, совсем закрыл нос, и стал говорить свое - загибал на руке пальцы и совал их под тятькин нос. Тятька сгорбился, слушал и уныло глядел в нутро своего картуза.
Вдруг он выпрямил спину, хлопнул картузом о ладонь и нахлобучил его на голову - глубже некуда. Да как взмахнет рукой, точно топором секанул, и давай кричать на рыжего так громко, что бежавшие гусем мужики с мешками сразу остановились и стали слушать. Рыжий удивился, его даже шатнуло. Но он тотчас открыл из-под козыря нос и медным, похожим на его бороду голосом заорал куда громче тятьки, - так заорал, что мужики с мешками испугались и побежали куда надо.
Наоравшись, рыжий прошелся около тятьки кособоким петухом, дернул козырь так, что нос опять спрятался, и сел на дрожки.
Пока Силашка, отойдя за куст, торопливыми кривульками мочил траву, караковый мерин, звонко гулькая селезенками, унес рыжего из видов.
Тятька потряс в ту сторону кулаком.
- А, сстерьва!.. кровопивец! Погоди-и!..
Затейливо и длинно, как кузнец Прокл, выругался нехорошими словами и тоже сходил за куст.
Вскочил на телегу и давай высвистывать Сивку хворостиной так, что тот пустился-было в рысь, но сразу же одумался и замотался в оглоблях, как невареный.
VIII.
Под березами, близ мельницы, стоит красная кирпичная избушка с синей головкой, а на головке крест. Дверь в избушку открыта и в темном нутре красными язычками горят свечки. Греясь на солнышке, сидит на приступках избушки старичок, голова начисто лысая, лишь белые прядки около ушей на ветру шевелятся. Борода тоже белая, а у губ с желтинкой.
Силашка сразу признал: Никола-угодник, тот самый, который на иконах. Тятька тоже признал его, потпрукал, слез и давай молиться на него, взмахивая волосьями. Никола приподнялся с приступков и закланялся тятьке, протягивая деревянную чашечку. Ничего в эту чашечку тятька не положил, быком пошел к телеге, вертя в руках картуз.
Силашке жаль стало тятьку: - на том свете за это его, пожалуй, привесят за ноги, вниз головой, прямо в огонь. А то и в кипучий котел посадят... Так и на картинке есть у Зуйкова отца в чулане, где пряники, сельди и вино в зеленых бутылях.
--------------
Силашка поглядывает вперед, - сейчас покажется город, город! Его пока не видно. Лишь слышно оттуда чудной шум. - Вот так шумело, когда загорелась изба у Лаврухи, потом рядом у Сизана, потом у Жмычкова Игнахи, - да как пошло, пошло!.. Даром что ночью, а было посветлей, чем днем. Головешки летели аж за гумна, а Марьяна Хрящева в тот раз ума рехнулась: выла по-собачьи и в огонь кидалась, а глаза страшные, по кулаку... Хоть и дрожали коленки, а весело было в тот раз!
Начинался город.
Силашка не успевает повертывать голову. Вот он какой, - город! Избы с окошками в два, а то и в три ряда, одна другой лучше. Прикидывает: сколь высоко в таких избах от полу до потолка? И сразу пала мысль: в таких избах и люди живут, должно быть, ростом повыше высокой елки. Чего они едят? На чем спят? Начал было думать о лошадях, - сколь велики у таких людей лошади, - да увидел нарядную барыню. Едко ухмыльнулся и ткнул тятьку в бок.
- Глянь, тетка-то в шапке... и с перо-ом!
- Не замай ее! - махнул рукой тятька.
Барыня ведет за цепочку крохотную поджарую собачку. Собачка боком скачет на трех ножках и останавливается у каждого столбика. Рядом с барыней идет мальчик в голубой курточке. Волосы у него до плеч, светлые, как чесаный лен, на ногах желтые сапожки, а поверх картузика мохнатая малиновая пуговица. Такой нарядный и во сне сроду не приснится. Не это ли и есть самый Иван-царевич? Тятьку бы спросить. Уж и чистяк! Вишь, как глядит...
А мальчик смотрел-смотрел на Силашку - и вдруг высунул ему длинный язык и погрозился кулаком. Будто ни в чем не бывало, сунул руки в карманчики и идет с барыней дальше, а сам поглядывает на Силашку. Вдруг вынул руку и показал кукиш. Вынул другую руку и тоже показал кукиш. Погодя вынул сразу два кукиша...
Силашка живо добыл из мешка крупную картошину и запустил ею в мальчика. Не попал, лишь собачка на трех ножках подскочила, взвизгнув. Потянулся за другой картошкой. Тятька ударил его по руке.
- Баловаешь! Я-те покидаю... Она денег стоит!..
Присмирел, отодвинулся к боровкам, а руки так и зудят.
Барыня, собачка и мальчик повернули за угол, скрылись. Не успел Силашка подумать о желтых сапожках - вот бы и ему такие! - как нарядный мальчик вдруг еще раз выскочил из-за угла и, вертясь на одной ножке, сделал ему из пальцев нос и показал длиннущий язык. Собачка тоже выскочила и подняла над столбиком ногу, но ничего не успела сделать, - ее из-за угла потянули за цепочку.
IX.
Вот он откуда - шум будто с пожарища!
Большая, как есть поле, площадь. Телег и людей тут съехалось со всех деревень. Мужики, бабы, бабушки, девки, лошади, - все смешалось в одну кучу и шумит, галдит, лопочет, гогочет, ржет!..
Тятька выпряг Сивку и ткнул его мордой в сено, а оглобли подвязал стойком, как у других. Составил на землю мешки и засучил их, чтоб видели, что в этих мешках есть. Открыл плетушку с курами, а они с устатку так и закатывают глаза под пленочку. Только рябка, трепыхнувшись, ясно глянула в один глаз на тятьку и закекала: ке-ке, ке-ке-е... трепыхнулась еще раз и вскрикнула: куда?..
Связанных за ноги боровков тятька разложил прямо на землю. Они обрадовались солнышку и, похрюкав, тут же задремали, подрагивая розовой кожицей на животах и ушками. Приоткрытый бурак со скопом топленого масла встал рядом с боровками.
Тятька уладил все дела, одернул латаную на локтях рубаху, рыжий картуз избоченил на ухо и оперся спиной о телегу, - мол, подходи!
--------------
Силашка будто в жимки попал, - вертится так и сяк, пялится туда и сюда, не успевая всего примечать. В глазах так и пестрит от мелькающих лиц, а в ушах звон стоит от разных выкриков и ржанья коней, от писку и визгу, от хлопанья по рукам и зазываний.
Как раз рядом безбровый мужик с желтым бабьим лицом вызванивал кнутовищем по глиняной посуде и тонкоголосо, как Марьяна Хрящева на пожарище, без передыху вопил:
- Ай-ай-ай, горшки-плошки! Ай-ай-ай, корчаги, кринки, рукомойнички-и!
А рядом разбойного вида чернобородый мужик огромным топором хряскал на толстом обрубке тушу. Взлетая над головой, топор молнией взблескивал на солнце. Белые мужиковы зубы в черноте бороды скалились на весь базар. При каждом ударе страшного топора из мужикова рта свистел звук: хессь!.. Взмахнет, яро ощерясь, и - изо всего нутра: хессь!.. а топор - в тушу: хрякк!..
Вкруг обрубка, поджимая хвост меж ног и вздрагивая мелкой дрожью, вертелся облезлый худой кобель с плачущими глазами. Пока мужик там мешкал, перевертывая тушу, кобель быстро схватывал языком крошки и лизал землю. При ударе топора он с визгом отскакивал в сторону, и снова, дрожа и горбясь, крался к обрубку и пугливо взметывал глазом в разбойное мужиково лицо.
Но пуще всего Силашка дивился на полный воз настоящих белых кренделей и на старика, сидящего на этих кренделях. Поджаристые, румяные, крендели так и поманивали вгрызться в них всеми зубами. Но старик даже и не взглядывал на них, - шевеля скулами и пепельной бородой, он спокойно уминал краюшку оржаного хлеба. На то место, где откусить, он сыпал щепотью соль, точно благословлял эту краюшку. А пока жевал, оглядывал ее со всех сторон и ногтем выщербливал припекшиеся к исподу угольки.
Как раз в это время на колокольне с золотой маковицей вдруг забухало, загудело и затренькало в большие и малые. Старик на кренделях широко и истово закрестился, бережно держа краюшку на ладони, и промолвил:
- Только што отошла... А я-то, окаянный, не утерпел, наперся загодя... Ой, Господи-и! - и принялся доедать, натужисто и звонко икая.
Разинучи рот, Силашка загляделся на гудящую колокольню. Там, на страшной высоте, руками и ногами дергался маленький человечек, вздрыгивал и так и эдак - будто сбирался взлететь на небо. А колокола и впрямь, как Гараська пыжик сказывал, так и выговаривали: пол-блина-пол-блина!.. четверть-блина, четверть-блина!.. блин-блин-блин!..
- Закрой рот, эй... галка влетит! - окликнул Силашку курносый рябой парень в новой красной рубахе, которая на спине вспузырилась так, будто туда подушку запихали.
Он шел в обнимку с крутозадой, по-уточьи шагающей девкой и нес за ремешок растянувшуюся мехами гармонь, - точно дохлую собаку тащил за ухо. Шел и куражился, раскачивая девку за плечи. А на девке в три ряда бусы и канареешный платок с махрами. Она босиком, полусапожки свои в руке несет, держит их на отлете, чтоб видели люди, какие у ней полусапожки.
--------------
Скоро тятька распродал все в чистую.
Краснощекий поп с гривой во всю лиловую спину уносил за задние ноги последнего боровка. Долго было слышно, как боровок на весь базар верещал: - уви-и!.. уви-и!.. а связанная на соседнем возу свинья, свешивши с телеги рыло; тяжко договаривала: жусь... жусь...
Тятька долго топтался около воза с кренделями, щупал и выпытывал цену у старика с пепельной бородой, который все еще икал, - прицелился и купил самый большой крендель с маком.
- На-ко, жуй, - подал он Силашке крендель, - да гляди тут. Я пойду коня высматривать. Конягу, может, купим... слышь? Не отходи, поглядывай тут!
Взворошил под мордой у Сивки сено, боком оглядел его, почесал у себя в затылке и ушел.
Силашка хрусткает вкусный крендель и глазеет на народ. С телеги ему кругом видны все люди и лошади, все палатки, возы и поднятые вверх оглобли.
А солнце уже к закату покатилось. Большие окошки нарядных домов так и горят, налитые солнцем.
Вкруг белой колокольни с золотой маковицей крикливым летучим облаком кружат вечерние галки. Вот они черным-черно обсели на карнизах, а одна взлетела на самый крест и помахивает крылом, чтоб усесться как следует, - да не усидела, схизнула косым летом книзу...
Доел Силашка крендель и поглядел на икающего старика, - еще бы такой кренделек, в самый раз наелся бы. А так сидеть скучно... Его манят холщевые палатки, - там пестрота, шум, крик, писк, свист, давка!.. Народ так и напирает туда огулом, а торгаши разноголосо блазнят:
- Во-от нитки, иголки, гребешки, петушки... эй, эй, эй!
- Топоры, топоры, топоры... завияловские-е топоры!
- Ух, остатки, ух, остаточки, наваливайсь!
- Здесь сита, здесь решета, тетки, тетки, гляди сюда-а!
- Пряники, ой да прянички, ах да медовые, печатные!
- Молодка, здравствуй!.. вот они, ленты-то, вот они!
Не утерпел Силашка, соскочил с телеги и давай толкаться туда-сюда около палаток. Сразу попал в самую затируху, - ему то сшибали картуз, то наступали на ногу, то сплющивали его так, что он уж ничего не видел и чертил носом по чужим задам и животам.
Но где он ни ходил, все возвращался к муравчатым глиняным свистулькам и глядел на них завидущими глазами, и вздыхал, а потрогать не смел.
Вдруг в этой сутолоке он увидел знакомого деда, что похаживал около разложенных картин и книжек. Усы у деда зеленые, один глаз с бельмом. Вот он вынул берестяную табакерку и стукнул по ней, собираясь нюхнуть табаку...
Как раз тот самый дедко, что зимой забирал в деревне тряпье и кошачьи шкуры. Он самый подарил тогда Силашке пряник-сусленик, а сосед Тереха купил у него книжку: "Житье святых".
Силашка живо признал старика и обрадовался, - в оба глаза глядит глядит ему прямо в бельмо... А тот Силашку не признает, - сощурясь, прижал одну ноздрю, в другую неторопливо заносит с кривого пальца здоровую понюшку табаку, чтоб заворотит ее туда со свистом, честь-честью, а потом люто крякнуть и обмахнуть платочком лишки...
Помешкал у оловянных петушков, Силашка стал-было опять проталкиваться к глиняным свистушкам, - как вдруг над городом что-то загудело таким страшным гудом, что лошади шарахнулись, а тот дед и нюхнуть не успел, удивленно выворотил бельмо, да так и остался с занесенной понюшкой табаку на кривом пальце.
- Пароход, робята! - отчаянно выкрикнул мужик в горошчатых штанах, замерев с вороненой косой над ухом, которую он перед тем постукивал ногтем и слушал. - Он и есть!.. разрази Господь!
Бросил косу и понесся, мелькая горошчатыми штанами, - коса жалобно звинькнула, а мужика и след простыл.
Тут и пошла кутерьма. Вся площадь сорвалась с места и повалила за торговые ряды. Силашка тоже бежит за людьми, глаза выпучил, лапотками заплетается. И неизвестно - в чем дело?
А за торговыми рядами оказалась такая большая река, против которой Крутица - курий ручей. Такую реку и с ручками на сажонках не переплывешь, ежели не умеешь кверху брюхом отдыхать, как Оська Лодыжкин, - ляжет, и хоть бы ему что!
Набережная покрылась народом, как черникой. Силашка вынырнул вперед и ахнул... Прямо по воде двигался длинный белый дом с высокой трубой, а из этой трубы непроворотно прет на всю реку черный дым. С боков белого дома во всю мочь вертятся и лопочут большие красные колеса, бузят воду в пенистые бугры, и эти бугры по реке - точно грядки на огороде. А свисток так и ревет, так и гудит, так и гогочет, выпуская, как из ружья, прямую струю пара.
Народ на берегу жужгом-жужжит, ахает и толмачит на все лады, с удивлением глазеючи на невиданное чудо - первый в лесном крае пароход.
- Ой-ой-ой, робята-а...
- Ай, Петр Минеич...
- Штуку сверзил... а?
- Ах, рыжий дьявол!..
- Разъядри его бабушку!
- Затейник!
- Башка, и толковать нечего...
- А ведь наш брат, мужик.
- Я, паря, слыхал: на ту весну еще пароходец пустит.
- Денежка-то, ребята, што делает... а?
- Мельницу, водянку-то, слышь, на-слом... Паровую закатывает.
- Ай-ай! вот и гляди на него!
- Што ж, подавай бог всякому.
- Подаст, держись, крепи гашник!
- Вона, едет, сам едет!.. дорогу дай!..
В это время караковый мерин, храпя и теряя с губ пену, врезался прямо в живую гущу, - натянув синие вожжи, рыжая борода под большим козырем спешила на дрожках к берегу.
X.
Силашка бегает по базарной площади и никак не может найти ни телегу, ни тятьку, - телег и мужиков так много, и все они одинаковы.
А солнце давно за крыши ушло. Вот и темнеть стало. Многие разъехались, иные укладывались и запрягали, переговариваясь тихими вечерними голосами. Каждого оглядывал и в спину, и в бок, и прямо, - нет, не тятька...
Тоска напала. Бегал-бегал и присел у темного амбара на приступки. Поднял голову и завыл, глядя сквозь слезы в густую синеву вешнего неба, на молодой озолоченый рожок месяца, от которого - ежели глядеть через слезы - вертятся прямые золотые усики то в одну сторону, то в другую.
Поревет и смолкнет, сглатывая горькую слюну и в жгучей тоске вспоминая деревню, избу, помело в подпечке, солоницу с желтой пичугой и синими виноградами, и мамку, ласковую, теплую, мягкую, улыбучую мамку, - придется ли когда увидеть?.. и зальется еще пуще.
- Чево, женишило, ревешь? - тронул его за плечи маленький старичок в такой большой шапке, что она сразу закрыла и рожок месяца, и длинные золотые усики вкруг его.
- Где тять-ка-а?..
- Тятька, говоришь?.. - задумался старичок. - Вот дела-то какие... Как же это он?.. экой он, право...
Старичок поайкал и незаметно растаял в темноте, опростав от шапки сияющий усиками месяц.
Чуть ли не все телеги разъехались. Площадь пустела. Тоска все горячей и горячей. Силашка вскочил с приступков и, как надрезанная курочка, вкривь и вкось забегал по площади, закидывая голову и плача навзрыд. На минутку останавливался и вопил:
- Тять-ка-а!..
И вдруг из темноты, нос к носу, вынырнул тятька. Его даже не узнать, - глаза выкатил страшные, сопит... Глазами прямо к Силашкину лицу наклонился, схватил за плечи, что есть мочи трясет и удавлено хрипит:
- Силантий, где Сивко?.. слышь?.. где Сивко?.. Ах ты, стерьвенок!..
Не дождался Силашкиных слов, изо всей силы опрокинул его за плечи навзничь. Но тотчас же больно схватил за руку, дернул и понесся с Силашкой по площади.
И вдруг в темноте - знакомая телега, оглобли к золотому месяцу подняты, как руки, а Сивки нет. Тятька тоже поднял руки кверху и ревучим голосом завыл:
- Што теперь делать?.. Тереха ведь шкуру сдерет!.. Ай-яй-яй!..
Опять схватил Силашку за руку и понесся в другую сторону. Набегу цакал языком, ахал, охал, хлопал себя по ляшке, сдирал с головы картуз и, размахивая им по звездам и месяцу, ругался словами, неслыханными даже от кузнеца Прокла.
Тут и там приглядывался к лошадям, тыкался прямо в них, как слепой. И снова несся в темноту так, что Силашка не успевал ступать и падал, перевертываясь боком, но тятька тотчас вздымал его, дергая за онемевшую руку, и бежал, бежал...
Исколесили всю площадь и все закоулки меж амбарами, - нет Сивки, пропал Сивко!
Когда рожок месяца сделался совсем серебряный и закатился высоко-высоко в звездное небо, а на колокольне пробенькало двенадцать раз, - бегать не стало мочи. Пятили с тятькой жалобливо повизгивающую пустую телегу куда-то в темный двор, в чавкающую навозную жижу, а человек с фонариком и с красной, будто ошпаренной щекой показывал:
- Закатывай в самый зад... вот та-ак... Сюда, сюда оглоблями, другим проезд надо! Ну, вот, готово...
Оглядел тятьку, разодрал позевотой рот и спросил:
- Как же это ты, паря, а?
- Да вот так! - тятька перегнулся пополам и развел руками, будто семитку потерял. - Теперь ищи-свищи!..
Тот поднял фонарик и сбоку глянул в него, освещая ошпаренную щеку. Покачал фонариком, покачал головой.
- А и рохля ты, дядя! Дивлюсь, как самого-то не украли...
Зевнул так, что за ушами у него пискнуло, и, чавкая сапогами в навозной жиже, пошел впереди к выходу.
XI.
Утром ходили в желтый каменный дом.
Над крыльцом намалевана двуголовая птица, как на деньгах, а внутри дома непроносно пахло кислой квашней и луком. Сумрачный человек с багровым длинным носом в синих жилах, шумно сопя, вынул и разгладил перед собою бумагу, мрачно глядя на тятьку.
Одной рукой он прижал к столу тятькину полтину, в другую взял перо, омокнул в пузырек, почистил о стриженую щетину на голове, опять омокнул в пузырек, - и давай со скрипом и свистом пером и носом ездить по бумаге...
Но ничего не вышло, - так и пропал Сивко.
Ходили и за город.
Там Силашка видел цыган и цыганяток. Все они копченые, галгакают все зараз, и не поймешь о чем. Глаза у всех точно дегтем помазаны, а пуговицы серебряные, по яйцу. Живут прямо в поле, на телегах, кругом костры горят, вьется дым.
Тятьку повели в табун, а тятька хитрый: будто лошадь купить хочет, а сам во все глаза Сивку высматривает, - не тут ли?
Трясучая страшная старуха подала Силашке прямо из огня кусок баранины. Он ел эту баранину и с удивлением глазел на молодую цыганиху, что сидела у огня и по-мужиковски курила трубку. Она была голая чуть ли не по-пояс, только вороненые волосы по грудям распустила, а в волосьях-то серебряные деньги. Маленький цыганенок с курчавой ягнячьей шорсткой на голове, выворачивая на Силашку черный глаз, насасывал цыганихину темную грудь, тискал ее кулаком и поигрывал звякающими в волосах денежками.
Рядом, сидя на телеге, кудлатый цыган с серьгой в ухе вынул из узорной своей жилетки дудочку и стал играть на ней, часто-часто перебирая пальцами по дырочкам. Из крытой телеги вдруг выскочила на лужайку гологрудая девочка в сарафане с прозолотой. В руках у ней маленькое решетце в лентах и с медными позвонками-ширкунчиками. Она взмахнула над головой этим решетцем - и ветром закружилась перед цыганом, изгибаясь и так и эдак, а сама решетцем так и потряхивает, так и позвякивает, босые ноги так сами и плывут, попихиваясь, а в плечах дрожь, дрожь... Алый рот открыла прямо в небо - и гикает, гикает, гикает!
Тут приспел тятька, суетливый попыхун, и не дал Силашке доглядеть, пришлось пойти прочь.
Тятька уж такой, - ему только и разговоров теперь про Сивку да про Сивку. Весь затылок себе исчесал и весь картуз исшлепал об голову, даже козырь оторвался...
Бегали туда и сюда дня три, прохарчились на-тло, хоть плюнь. Махнули на все рукой и ранним утром, еще солнце не всходило, пошли с тятькой из города вон.
Подальше от таких мест!
--------------
Вышли в поле. Вдали, в голубом дыму, пашет мужик, изгибаясь с лошадью вперед, - и взмахнутый кнутик и оттопыренный лошадий хвост будто вырезаны на голубом мареве. Тятька взглянул на мужика и звонко по-птичьи защелкал языком.
- Пахать, пахать, пахать бы... Ай-яй-яй!..
По кочкам, зеленям и кустарнику косым махом брызнуло выкатившееся солнышко и заполыхало над синеватыми зубцами перелеска. На бухлой пахоте крикливо гомозятся и взблескивают вороненым отливом грачи. Пролетела мелькающим летом желтая бабочка - и Силашка ни к тому, ни к сему вдруг вспомнил Никиту, гогочущего Никанорку в собачьих рукавицах и ту желтую страшную свечечку над Никитовой колодой...
Порхая ступеньками, на дорогу вылетела пестрая трясогузка и быстро-быстро побежала на тонких длинных ножках. Увидав Силашку, остановилась, качнула хвостиком, наскоро опорожнилась известковой капелькой, чивикнула и пырхнула по ветерку в переливчатые зеленя. Дорога в солнышке розовая, так и вьется лентой, так и поманивает все дальше и дальше, к тем синим лесам.
Силашку распирает неуемная радость. Зеленя, солнышко, грачиный крик, - все это в нем, а не где-нибудь. И совсем не в бездонной небесной чашке, а у него в груди журчит, поет, звенит, переливается та нескончаемая песня: тюр-ли-и... тир-люр-ли-и, тир-лю-ю...
Радость оттого, что земля и небо никаким глазом не охватны, что каждый день приходит по-новому, как праздник, и что где-то там, далеко за лесом, есть скрипучие ворота, а за воротами избы, как старушки в платках, и сверх их высокий журавель в небо.
Там раздольные огороды, гумна, темные амбары. В банной застрехе там есть воробьиное гнездо, а под самым коньком избы - ласточье. На полатях в плетушке с бабками там лежит налиток-свинчатка, куда потяжелей, чем у Гараськи Пыжика. И мочальный кнут там же, если Моська не украл его, и зеленое стеклышко спрятано на божнице там же...
Еще из окошка увидит и выбежит навстречу мамка. Обрадуется, ахнет, посадит за стол и накормит чем ни-то вкусным. Сбегутся ребята. И начнет он хвастать про все, что видел, только бы не забыть чего, - про цыган, про воз кренделей, про деда с бельмом...
Жаль, свистушку не купил! Глиняную, муравчатую. Так в глазах и стоит: голова птичья, с боков две дырочки, с гузна одна дырочка. Возьмешь вот так в руки - и дуй: тюли-люли, тюли-люли...
--------------
Опять проходили мимо красного кирпичного домика с синей головкой и с крестом. Поднявшись со ступенек, Никола-угодник усердно закланялся и протянул чашечку. А тятька будто и не заметил его, даже отвернулся, половчее вскидывая на спине мешок на лямках. Хотел было Силашка помолиться за тятьку, да на живого Николу молиться непривычно, робко, - Никола слинялыми глазами прямо на Силашку глядит и как-то даже подмигивает...
Опять жужжала и грохотала мельница. На неторопливое колесо с ревущим гулом все так же валится вода, кипит, взбрызгивает и рассыпается пылью и радугой-дугой. Колесо скрипит, рычит, взвизгивает, а внутри мельницы тяжко топочет и скрежещет зубами невидимый страшный силач. В запруде вода широкая, светлая и в ней облака плавают. Мельница и лужайка вокруг, и люди с мешками на спинах - все тут белое, как в сказке про зиму и волка...
Не даром Никита любил тут жить! Не сидел ли он вон на том крылечке под крышей, где дыра? Сидел и пел ржавленым голосом всегдашнюю свою песню. А потом шатнулся и упал в ту черную дыру... Будь бабка Марья, она бы его поддержала, - всегда поддерживала, когда вела его домой, в Дрыкино.
XII.
Подошли к лесу, а Силашка уже устал. Тятька снял с него лапотки, привесил их себе за пояс, и сразу стало легко и привычно, - можно тихо, с тятькой в ряд, можно и бегом.
А как пустились в лес, парня охватила такая радость - хоть колесом катись! То-и-дело во всю мочь несся по дороге вперед, изображая либо лошадь, либо птицу. Вдруг останавливался и косился в лесную гущу, где чудища и медведи. Казалось, где-нибудь тут, рядом, сидит под седой елью лесное чудище и помахивает обомшелыми лапами, - волосы у чудища до пят, глаза зеленые, а в рот хоть коровай хлеба запихивай...
Ужаснувшись, срывался и с перекошенным от страха лицом стрелой несся назад, к тятьке. Но скоро забывал про чудище и снова засвистывал вперед, только пятки шлепотали, а дымчатые стволы елей, будто чьи ноги, бежали навстречу: мельк-мельк-мельк... и жужжал ветер в ушах: вжжж...
Забежал раз подальше и удумал напугать тятьку. Присел за лопух, сердце колотится... Сидит и ждет, - чтоб выскочить, да как ухнуть!
И видит: показывается тятька из-за поворота. Идет и громко ругается, кулаки кому-то сучит, а кому - не видно. Лицо у него - точно кислого квасу хватил... Чесанет в затылке, двинет картуз на ухо - и снова костит того пуще, а в промежутки айкает:
- Ай-яй-яй!..
Присмирел Силашка за лопухом, не стал пугать тятьку, пропустил мимо. Пошел сзади и стал разглядывать его со спины, стал думать о тятьке разное. Долго думал, и жаль стало тятьку, жаль его спину под большим мешком и ноги в узких портках, и эти завитушки волос из-под рыжего картуза всего жаль!
Петушком зашел сбоку и поднял на тятьку робкие глаза.
- Тять, у тебя ноги устали? Сыми лапти, а я их понесу. И мешок сыми, я понесу...
Словами и голубостью глаз просил: сыми-де, и тогда будет легко, можно хоть тихо, хоть бегом...
Думая о другом, тятька покосился на него. Шагал-шагал, - и еще раз уперся долгим взглядом в светлые Силашкины глаза. Шагал-шагал, мелькнул еще раз глазом по Силашке, поддернул мешок на спине, крякнул и согнал с лица кислое, даже улыбнулся.
Шел-шел, - да как схватит Силашку на руки, да как подбросит его выше головы, да еще раз... Прижал, дыхнуть некуда, и давай целовать в нос, в шею, во что попало. Как есть с ума спятил! Борода у него щекотучая, душная, Силашка увертывается, дрягает ногами, хохочет...
У тятьки уж и картуз слетел, а он знай свое:
- Ах ты, наследыш мой, сопатка, гнездыш желтоносый, курья кость!.. Ах ты, ягнячья шерсть!.. Ах ты, поросятина несоленая, чилим сморчковый, почечуй с горохом!.. Ведь вот ты какой... да вишь ты какой!.. да откель ты такой взялся?
Спустил наземь. Наклонился к самому Силашкину лицу, опершись ладонями в коленки, - и глядит, глядит через свисшие на лоб волосья... Да как растаращит глаза, да как рявкнет во весь голос:
- Ты чей!?
И далеко в лесу тотчас же кто-то звонко крикнул:
- Чей?
- Мамин, - твердо сказал Силашка, и перед ним живьем встали ее серые глаза и как бы пронесся сладко-горьковатый запах ее тела...
Но, глянув на тятьку, на любовно кипящие в бороде губы и зубы, на раскоряченные ноги в узких портках и на упертые в колени руки с голубыми жилами, - изо всей груди выдыхнул:
- И твой...
- То-о-то!..
И в лесу, совсем рядом, кто-то спокойно сказал:
- То-о-то.
- А тятьку тебе жаль?
- Знамо, жаль...
- А Сивку?
- Не жаль... он не наш, Терехин.
Так они шли рядом и без передыху говорили про всячину. Никогда тятька не говаривал с Силашкой ладом, а тут его прорвало.
- Што ж теперь делать будем, Силантий, а?
- К мамке придем.
- Да она живьем нас съест!
- Не-е...
Силашка светло и весело глянул на тятьку, - сколь-де мало ты мамку знаешь, - и уверенно сказал:
- Она картошки нажарит нам, либо лепешек... а то и пирог сварит!
- А пахать-то на чем будем?
- Тереха Буланку даст... попроси Буланку, она прытчей Сивки бегает. Только лягается, ты не подходи к ней сзади...
- Тереха теперь с нас штаны сдерет и по-миру пустит...
- Как Никанорку?.. с мешком?
- Вот-вот! И будешь ходить в город за кусочками.
Силашка даже подпрыгнул и засиял глазами.
- Я тогда в городе свистушку куплю! А то две, одну тебе дам, либо спрячем!.. Она вот так: тюли-люли, тюли-люли...
Тут тятька распалился и давай нахвастывать Силашке, что никакая-де свинья его не съест, и ежели уж так, то и плотничное дело у него из рук не выскочит.
Ежели что, можно-де и в город перемахнуться. А в лесу, а на реке!.. барки, например, строить, беляны, в низа их гонять... Да мало ли там работы - хоть задавись работой!
- Избу и какую всякую мурью продадим! Денежки, значит, за голенище, да и айда в белый свет! - кричал он на весь лес и размахивал руками, попутно закобенивая картуз с оборванным козырем на самое ухо. - Вынырнем, нас не уто-о-пишь!..
Силашка глядел в отцову бороду и живо на все соглашался. Леса, барки, беляны, белый свет... А как услышал, что и у него будет маленький топорик, даже взвизгнул и дрыганул ногами.
Тут они заговорили наперебой, всяк свое. Силашка тоже кобенил свой картузишко, как тятька, взмахивал рукой и говорил, что ехать, так надо скорей, только бы мамку не забыть. Кнут мочальный и зеленое стеклышко на божнице он возьмет с собой. Через это стеклышко, ежели на солнце глядеть, - солнце желтое, а небо черное. А бабки, что в плетушке на полатях, он продаст. И свинчатку-налиток продаст, только олово из гузнышка выковыряет, - пригодится!
Лесное эхо встревало в их разговор и поддакивало. А впереди увязалась вороватая сорока, дорогу показывала. Так и стрекочет, подлая, так и стрижет, так и хорчит, поскакивая боком и взлетая по сажонкам.
Празднично выряженый дятел на посинелой гиблой сухостоине вдруг звонко зацефкал, будто его ущемили. Вот он проворно взвинтился еще повыше, глянул по сторонам, уперся на хвостик и часто-часто застукал носом в полое место.


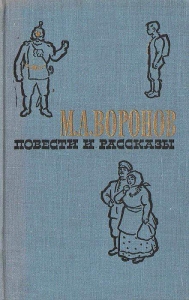

Комментарии к книге «Тюли-люли», Иван Михайлович Касаткин
Всего 0 комментариев