I
Все эти дни Анисимов почти не спал, но чувствовал себя таким здоровым и бодрым, как никогда. Он даже как будто помолодел, и его худая, нескладная фигура, с унылым и длинным носом, двигалась по станции быстро и весело.
Все было так стремительно, так неожиданно и хорошо, что все время у него было такое ощущение, будто он кружится в свежей и чистой волне, откуда-то нахлынувшей и без следа, навсегда смывшей всю старую, тусклую и скучную жизнь.
На станции, всегда тихой и пустынной, теперь было людно и шумно. От черных толп, непрестанно движущихся по платформе и путям, казалось, что вся она движется, как муравейник, и многоголосый, возбужденный говор так и висел над ней в чистом, холодном воздухе белого дня. С востока один за другим проходили пестрые, наскоро составленные из разнокалиберных вагонов поезда и, почти не останавливаясь, стремительно уносились вдаль, быстро уменьшаясь и тая в белом мареве снежных полей. Каждый поезд толпа на станции встречала и провожала долгим «ура» и маханием шапок, причем от множества рук мелькало в глазах, а от крика овладевало мальчишески-задорное чувство. Каждый старался кричать как мог громче и, улыбаясь, оглядывался на соседей наивно и весело. И когда поезд уже скрывался в перелеске, еще долго слышались одинокие замирающие крики: А-а!..
На паровозах лопотали по ветру красные флаги, и из всех вагонов глядели какие-то совершенно неизвестные, но странно близкие, как общие друзья, по большей части молодые люди. Они махали руками и фуражками и исчезали все в одном направлении. И то, что их было так много, чти так часты были эти поезда, что ружья и револьверы так странно не гармонировали с черными пальто и шапками, все поселяло в душе молодое и радостное чувство своей правоты и силы.
Анисимов принимал и отправлял каждый поезд сам и, стоя далеко от станции у стрелки, приветливо высовывал навстречу из-под красной шапки свой длинный, покрасневший от холода нос. Он вглядывался в предносившиеся мимо него незнакомые лица, и грудь у него теснило какое-то большое, новое и счастливое чувство.
Он еще сам не знал, что будет дальше, но что-то светлое, свободное и счастливое смутно рисовалось ему впереди и казалось очевидным и непреложным то, что прежняя жизнь, с ее мертвым тяжелым трудом, душевным одиночеством, унижениями, пьянством от скуки, вечными заботами и нуждой, кончена.
Когда не было поездов, он слонялся в толпе по станции и, всовывая свой длинный нос то в ту, то в другую кучку возбужденно спорящих людей, улыбался и вставлял свои замечания. Его все уже знали, называли «наш начальник станции» и «товарищ» и просто и охотно вступали с ним в разговоры, точно все это были давно знакомые и близкие ему люди.
Иногда Анисимов заходил в свою комнату на вокзале, чтобы немного побыть одному и собраться с мыслями. Он долго стоял посреди комнаты, не снимая пальто и шапки, мечтательно улыбался и думал все одну и ту же фразу, каждый раз полагая, что открывает что-то новое:
— Эх! Вот какою должна быть настоящая жизнь!
И, забывая свое намерение отдохнуть и подумать, опять шел на воздух, где так ярко белело небо, чисто и звонко хрустел снег и все так же двигались, шумели, кричали и смеялись оживленные, бодрые люди.
С каждого проходившего поезда к Анисимову соскакивало по два-три человека и передавали ему известия или задавали ему вопросы чрезвычайной общей важности. Анисимов был рад, когда мог ответить что-нибудь хорошее. Он крепко пожимал им руки и, глядя в глаза открыто и весело, говорил:
— Ну, трогайте, товарищи!.. С Богом!..
Длинный нос краснел у него еще больше, и маленькие глазки становились влажными. Он торопливо кивал им и бежал к паровозу. Гудел свисток, и масса близких, странно дорогих людей уносилась вдаль, где делалось что-то огромное, страшное и радостное вместе.
И толпа опять провожала их долгим громовым криком, от которого мощно гудела, казалось, сама земля.
В одном из поездов, уже под вечер, Анисимов увидал знакомое лицо. Толстый машинист, с обрюзглой и измятой физиономией, соскочил к нему с площадки паровоза. Они крепко пожали друг другу руки, и Анисимов, торопясь и улыбаясь странному виду машиниста, с ружьем и карманами, оттянутыми тяжелыми патронами, сказал:
— Вот какие дела, Карл Вульфович!.. Как славно, голубчик!.. Какое общий порыв!..
— О-о!.. — возразил бледный, но улыбающийся машинист. — Что-то будем смотреть!..
Он нечисто говорил по-русски, и эта маленькая подробность, всегда забавлявшая Анисимова, теперь почему-то тронула его.
— Сейчас получено известие, что солдат не выпускают из казарм, так как боятся, что они перейдут на нашу сторону, сообщил он, и лицо его бессознательно расширилось в счастливую улыбку.
— О-о!.. — восторженно сказал машинист. — Это надо было ожидайт… — и, торопливо пожав руку Анисимову, побежал садиться.
Анисимов бежал с ним рядом, цепляясь плечом за встречных, и говорил:
— Поехал бы и я с вами, да без меня тут все перепутается.
— Я думал, вы семья бросайт не хочит… — на бегу заметил машинист.
Какая теперь семья! — возбужденно и радостно крикнул Анисимов. — Да я и жену, и детей в деревню к тестю послал… Семья потом, — теперь не до семьи… Ну, всего хорошего… Дай Бог здоровым быть!..
Он отстал от машиниста и долго смотрел вслед поезду, задумчиво улыбаясь.
«Как странно все это… — мелькало у него в голове. Еще три дня тому назад я не поверил бы… Думал, так и уйдет жизнь… день за днем, день за днем, только нужда проклятая да тоска…»
Призрак серой, длинной и скучной жизни бледно мелькнул перед ним и исчез. Он оглянулся кругом, тряхнул головой и пошел, пробираясь между толпой и прислушиваясь к голосам. В зале третьего класса, где было накурено до синего тумана и было жарко, как в бане, от множества голосов стоял непрерывный гул. У стойки стоял стрелочник Аким и, распуская вокруг сизые клубы махорки, говорил:
— А ты как думаешь!.. Народ, брат, ен… ен ежели подымется, да ежели, скажем, тряхнет, да ежели… так ого-го, брат…
Было весело и хорошо в теплой и светлой атмосфере общего оживления; клубами ходил сизый дым; перед окнами двигались тесные темные силуэты; гудели голоса, и входная дверь поминутно визжала на блоке, пропуская то туда, то сюда целые кучки народу.
II
В этот самый день, когда уже стало смеркаться и дальний перелесок начал сереть на посиневшем снегу, полным ходом, без фонарей, как зловещая черная птица, вылетевшая из темного леса, с гулом и свистом промчался одинокий, черный паровоз из Москвы. Со страшным шипением тормоза и скрежетом мерзлых колес он на секунду остановился у станции, и кто-то, свесившись с площадки тендера, закричал отчаянным криком:
— То-варищи!.. Все пропало!.. Бологое взято войсками. Баррикадируйте путь… Идет поезд с солдатами!
Паровоз двинулся, качаясь, как бы в раздумье перешел стрелку и, оставляя позади клочья белого пара и дыма, понесся дальше. А в наступившей внезапной тишине еще звенел удаляющийся, одинокий, напряженный крик:
— То-варищи, сначала — наши… Наш поезд сначала, смотрите-е!
На станциях поднялась зловещая, тревожная суета. Толпы людей со всех сторон бежали на крик. В страшном хаосе закрутились вокруг Анисимова побледневшие, растерянные лица. В странной напряженной тишине негромко послышались разрозненные, болезненные голоса и, казалось, над станцией пронеслось что-то страшное. Анисимов, расставив ноги, неподвижно стоял там, где остановил его зловещий крик с промчавшегося паровоза, и с непонятным чувством оглядывался вокруг. То, что он услышал и что не совсем ясно понял, было так неожиданно и ужасно, что на мгновение у него беспомощно остановилась мысль.
— Что такое?.. Что такое?.. — машинально спрашивал он ближайших людей.
Но ему никто не отвечал, и темный ужас глядел изо всех глаз, блестящих круглыми, расширенными зрачками. Чудилось, что еще минута, еще один тревожный крик — и вдруг все бросится прочь, с диким воем, плачем и безумием. Это было страшное и необъяснимое мгновение, во время которого Анисимов чувствовал, как странная слабость и холод ползут у него по телу.
Но в следующую минуту какой-то молоденький и очень маленький студент чьими-то руками был поднят на воздух и, размахивая шапкой, закричал изо всех сил высоким, пронзительным голосом: Това-рищи!.. Этого не может быть!.. Это провокация, товарищи!..
И что-то исчезло. Страшное мгновение прошло. Именно в эту минуту всем почему-то стало ясно, что это правда, ужасная, непоправимая, быть может, правда; но вместе с тем как-то разом пропал безобразный, панический ужас и сменился озлоблением и решимостью.
Нервные и мрачные толпы глухо загудели в наступающих бледных сумерках, и странно, точно в конвульсиях, задвигались по станции, будто отыскивая какого-то спрятавшегося врага. В нескольких местах сразу послышались то глухие, то пронзительные выкрики людей, говорящих с целою толпой, и вместо страха и растерянности в общем напряженном движении стало расти что-то грозное и сосредоточенное.
Анисимов опомнился. Он снял шапку, вытер на лбу мгновенно выступивший пот и, сам не зная что, сказал близ стоящему телеграфисту:
— Ну что ж… это еще ничего не доказывает… Мало ли как могли прорваться… Будем делать свое дело, а там посмотрим.
Высокий белобрысый телеграфист что-то ответил, но Анисимов не расслышал. В это время опять поднялась суматоха. Толпы людей начали строить баррикады. Сразу, в нескольких местах, появились их черные, безобразные силуэты. Из вокзала тащили мебель; два человека, толкаясь и торопясь, пронесли мимо Анисимова длинную обмерзлую шпалу; откуда-то послышался звон разбиваемого стекла.
И почему-то Анисимов понял, что никто не знает хорошенько, что нужно делать, и что именно ему надо направить вею эту оживленную, смутную силу. Он знал на этой станции каждую шпалу, его потом она была скреплена и им делала свое дело, плавно и стройно входя в бесконечный ряд таких же маленьких, одиноких станций. И зато никто так, как он, не знал, каким образом в одну минуту превратить эту стройную машину в безобразную груду обломков. И чувствуя тупую злобу к кому-то далекому, Анисимов побежал по платформе, замахал красной фуражкой и, перебивая студента, который звал из окна вагона: Товарищи, сюда!.. Из вагонов лучше всего! Сам закричал: Не так, товарищи… Вагоны надо поперек рельс!.. Баррикадируйте все пути, кроме главного!.. Аким, Аким… давай кран!..
Он спрыгнул с платформы и, прыгая через рельсы, побежал к длинному зеленому вагону, стоявшему в тупике. И за ним уже послушно и охотно со всех сторон бежали разные люди.
Черные толпы закопошились вокруг вагонов. Огромные красные, синие и зеленые вагоны медленно, как будто сами собой, шевелились над кучками людей, похожих на муравьев, медленно поворачивались и вдруг с гулом, звоном цепей и дребезжанием стекол валились вниз. Глухо охала земля, и каждый раз нестройные голоса слабо кричали: «Ур-ра!..»
Весь потный, с всклокоченными вихрами и каплями пота на длинном носу, блестя глазами и не переставая уже охрипшим голосом кричать что-то ободряющее и призывное, Анисимов бегал, перепрыгивая через рельсы, из стороны в сторону, и его красная шапка быстро мелькала во всех концах станции. В это время он не думал о приближающейся опасности, о том, что будет дальше, после того как он построит эти баррикады. Это будущее ему вовсе не представлялось. Сейчас вокруг было так ярко, живо, сильно, а впереди был только какой-то смутный, далекий туман.
Возясь с установкой крана, чтобы перевернуть тяжелый пульмановский вагон, Анисимов пропустил момент прихода поезда. А когда услышал крики «Ура!» и оглянулся, увидел уже остановившийся, тяжело дышащий, высокий черный паровоз и длинный ряд вагонов, из которых в обе стороны сыпались черные вооруженные люди. Всю станцию запрудила огромная движущаяся толпа.
И в этой толпе Анисимов в первый раз увидел кровавые пятна на белых повязках. Со странным жутким любопытством он посмотрел на эту кровь, и что-то тревожное впервые шевельнулось в нем. Почему-то вспомнились жена и дети, стало холодно и почувствовалась усталость.
— Господин начальник, товарищ! — кричал высокий человек, проталкиваясь к нему сквозь толпу. Надо загородить и этот путь. Так, чтобы, понимаете, была сплошная баррикада… А то придется носить раненых в вокзал по открытому месту… А?..
«Разве будут раненые?..» — смутно мелькнуло в мозгу Анисимова, и на секунду у него в голове все смешалось.
— Ах… Да, да!.. — встрепенувшись, ответил он. Конечно, необходимо. Я сейчас…
Он кивнул головой и побежал к паровозу.
«Будь что будет… чему быть, тому не миновать… Ну убьют, значит, так надо… без жертв нельзя… А может, и не убьют, а только ранят… И всю жизнь буду знать, что я свое дело сделал!..» — уже овладев мыслью, думал он, и все тело его подбиралось какою-то сжатой решимостью.
С паровозной площадки на него глядел знакомый машинист.
— Не доехали до Москва… — обрываясь, испуганно сказал он. — Что там делается!.. В наш поезд стрелял солдат!..
— Ну-ну, ничего, голубчик! — ободряющим тоном возразил Анисимов. «Вот ведь ему тоже страшно!» — подумал он, чувствуя, что от этого становится легче ему самому. — Слушайте, гоните вы свой паровоз на вагоны: загородим путь…
И когда огромный черный паровоз, похожий на могучее живое существо, оторвавшись от поезда, разбежался, с грохотом и свистом пара налетел на кучу дробящихся с невообразимым упорным треском и звоном вагонов, поднялся на дыбы, закачался и тяжко рухнул на бок, окутавшись белыми облаками пара, и когда потом на двух путях, всегда таких ровных и аккуратных, образовалась высокая дымящаяся масса обломков, в душе Анисимова появилось горделивое чувство.
— Посмотрим, посмотрим… — сказал он вслух, ни к кому не обращаясь. Далеко не уедут!
— Вы оружий имеет? — спросил машинист.
— Нет… Да я и стрелять толком не умею… — с улыбкой ответил Анисимов. — Вы себе сражайтесь, а я и так дело найду…
— Да… мы будем сражайтесь! — сердито ответил машинист.
— Идет, идет! — издали закричали нестройные, тревожные голоса, и люди, одиноко торчавшие на крыше вокзала и на водокачке, быстро стали спускаться вниз.
— Милости просим… — тихо и злобно проговорил возле Анисимова незнакомый телеграфист и, волоча ружье за дуло, побежал к баррикаде.
Толпа хлынула вперед, потом назад и быстро расплылась вдоль баррикад. Все стихло так быстро, что стало даже странно. Вокруг опустело, и только отдельные люди торопливо выбегали из здания вокзала.
В прозрачных сумерках из-за перелеска тихо и осторожно выдвинулся мрачный, без огней, поезд. Он был еще далеко, казался маленьким, но вид его был необыкновенен и жуток, точно это подползал какой-то длинный, осторожный и хитрый гад.
— Они… — сказал машинист и присел за кучей угля и дров.
Странное, жуткое любопытство овладело Анисимовым. Неуверенно улыбаясь, сам не зная чему, он с трудом влез на скользкий бок покосившегося вагона и, держась за его холодные металлические края, высунулся наружу.
Черный поезд медленно подползал, и чем ближе, тем тише. Временами казалось, а может быть, так и было, что он останавливался, как бы нащупывая дорогу, а потом опять полз вперед. На станции было мертвенно тихо, точно там никого не было; но когда Анисимов оглядывался назад, повсюду, за каждым выступом баррикады, за деревьями, за оградой палисадника, в окнах вокзала и под вагонами, он видел молчаливые, приникшие, черные фигуры.
Поезд совсем остановился и странно чернел в пустом поле. Там было так же тихо и казалось, что поезд и станция, как два зверя, напряженно оглядывают и подстерегают друг друга. Сумерки быстро сгущались.
Минуты шли, и в них была тяжелая неизвестность вечности. Уже в мозгу Анисимова как-то странно, кошмарно зашевелилась нелепая мысль, что поезд пуст и брошен посреди поля, но в то же время по обе стороны его закопошились еле видные в сумраке люди. Их было много; они что-то делали, растягивались на снегу и что-то тащили; но все по-прежнему было тихо.
Затем развернулись длинные темные полосы, волнообразно задвигались и медленно стали приближаться. Что-то дрогнуло в груди Анисимова, и в душе его возникло какое-то сложное чувство: он никогда в жизни не видал, чтобы люди большими массами, совершенно правильно и обдуманно вступали в драку, исходом которой должны были быть смерть и страдания многих из них. Война представлялась ему только очень смутно и вызывала неопределенное недоверие, как будто на самом деле ничего из ее ужасов не бывало, а все кем-то преувеличивалось и выдумывалось. Но войну все-таки легче было представить себе: во-первых, всегда казалось, что она происходит где-то в совершенно особом месте, как будто предназначенном для нее и совсем не похожем на ту обстановку, в которой живут изо дня в день люди, а во-вторых, и сами эти люди, дерущиеся на войне, представлялись какими-то особенными, неспособными так остро чувствовать страх и страдание, как окружающие рабочие, чиновники, студенты, женщины и дети. Анисимов, конечно, знал, что эго совсем не так, но все же только теперь, на этой простенькой, до смерти надоевшей станции, с ее заборами, садиками, черным пятном на месте остановки паровозов, стрелочниками, звонками и тысячами знакомых будничных мелочей, в присутствии массы людей, совершенно таких же простых и обыкновенных, как сам Анисимов, мысль о сражении, о выстрелах; крови, раненых и убитых показалась ему так противно и очевидно, и страшно нелепой.
«Что за черт!.. неужели же так и будет?..» — вертелось в голове его растерянное недоумение.
Но темные полосы все приближались, разделились на отдельных людей; стало видно, как упорно и быстро перебирают сотни ног, и по этому неуклонному движению и по напряженному молчанию массы притаившихся вокруг людей чувствовалось, что как бы там ни было, а непонятное, безобразное и нелепое дело совершится сейчас, сию минуту. И от этого чувства бессильно замирала мысль.
Солдаты подходили. А тишина стояла такая же зловещая и напряженная. И это было так невыносимо страшно, что хотелось уже только одного: хоть бы уж скорее «это» началось.
«Не может быть… ничего не выйдет…» подумал Анисимов, нагнулся к машинисту, сидевшему у его ног, и, почему-то стесняясь говорить громко, тихо сказал:
— Я думаю, что если бы с ними вступить в переговоры…
Бледное, опухшее лицо машиниста посмотрело на него снизу, как будто ничего не понимая. Анисимов пристально вгляделся в его округлившиеся, принявшие дикое и жуткое выражение глаза, потом перевел взгляд на стоявшего рядом незнакомого человека, горбоносый, бледный профиль которого был совершенно неподвижен, точно человек этот был чем-то загипнотизирован, вдруг почувствовал такой страх, что даже руки у него задрожали.
Неожиданно, заставив вздрогнуть, где-то правее Анисимова коротко и одиноко бахнул громкий выстрел, и, точно по условленному сигналу, все заборы, рвы, кучи шпал и обломков покрылись короткими, сверкающими огоньками, наполняя прозрачный морозный воздух торопливым, дробным щелканьем.
Анисимов отчетливо видел, как серые ряды смешались, расстроились и, точно от ветра, подались назад. Видел, как на очищенном, уже истоптанном месте болезненно закопошились отдельные фигуры; слышал в той стороне отдаленный крик; но ему все еще казалось, что это только «так» и сейчас прекратится. Но в следующее мгновение вся серая масса солдат опоясалась огненными узорами, и сухой треск залпов бурно оживил молчаливое белое поле. Что-то с силой защелкало по вагонам; кто-то испуганно закричал; оглушительно выстрелил у самого уха Анисимова загипнотизированный горбоносый человек. Анисимов опять повернулся к машинисту. Тот все еще сидел на корточках, но с ним делалось что-то нехорошее: ружье его лежало на снегу, лицо было удивительно бело, глаза огромны и как будто незрячи. Он коротко махал перед собою обеими руками и медленно валился назад. А когда лег спиной на снег, то перестал махать руками, и его огромное, толстое тело с возвышающимся, массивным животом застыло, как мороженая туша. Опять оглушительно выстрелил горбоносый человек, и Анисимов, оглянувшись на него, тихо сполз вниз.
Он весь дрожал и смутно улыбался. Мертвое лицо машиниста смотрело прямо на него тусклыми, замерзшими, казалось, глазами. Это была смерть, и Анисимов только теперь понял, что то, во что не верило все его существо, совершилось. «Убили… — подумал он. — Боже мой, что ж это такое?..»
У этого машиниста была жена и четверо детей, которых всех знал Анисимов. Каждый день он ездил мимо станции и здоровался с Анисимовым. Теперь он лежал, как туша, как бревно. Умер…
Анисимов медленно отошел, стараясь не смотреть на труп и тщетно усиливаясь объяснить себе то, что делалось в нем самом: что он должен сейчас чувствовать — ужас, или злобу, или отвращение? Он вспомнил, как год тому назад мимо этой же станции везли на войну таких же солдат, этих же самых русских, своих солдат. И их было так искренне жаль, так грустно становилось, когда они уносились в неведомую даль, и так хотелось сделать им хоть что-нибудь приятное, хоть чем-нибудь помочь.
«Боже мой… Боже мой… Боже мой!..» — нелепо повторяла смятенная мысль и не могла разобраться в хаосе кошмарных представлений и образов.
Вокруг пахло пороховым дымом; а черные фигуры за вагонами странно и торопливо копошились, то отбегая назад, то падая, то поднимаясь, то карабкаясь на крыши вагонов, то быстро скатываясь вниз, чтобы неподвижно скорчиться на рельсах. Отсюда Анисимову уже не было видно наступающих солдат, но страшная сила залпов то приближалась, то удалялась, потрясая смятенный воздух.
Потом начало с ужасным треском разражаться в воздухе что-то необыкновенное, огромное, точно лопалось и рвалось на части самое небо. С того места, на которое отошел Анисимов, видно было, как на мгновение в серовато-синем сумраке вдали появилась яркая, огненная звезда, и когда она уже скрывалась и тьма на том месте на секунду делалась черной, казалось, над самой головой Анисимова разражался трескучий гром, грудная клетка его вздрагивала, как крышка коробки, и с невероятной силой, взметая снег, черные обломки, огонь, дым и снежную пыль, что-то невидимое, но всесокрушающее било прямо в черную стену баррикад. И там раздавался крик, вой, и оттуда во все стороны бежали ополоумевшие люди.
Бой тянулся с четверть часа, но Анисимову показалось, что все кончилось в одну минуту.
Он видел, как наверху одной баррикады показались темные силуэты стреляющих прямо в него солдат; услышал что-то зловеще и злобно завизжавшее возле него по снегу; видал кучки черных людей, медленно уходивших вдоль линии и по железнодорожному палисаднику и, как будто очень спокойно, не торопясь, стрелявших в солдат; видел истоптанный, грязный снег, усеянный разбитыми, копошившимися, как черви, людьми; видел, как сзади, из-за вокзала неожиданно стали выбегать кучками солдаты и как черные люди стремительно и вразброд побежали во все стороны, оглашая воздух криками и беспорядочной стрельбой.
Пушки вдруг замолчали, стало казаться тихо, несмотря на крики и выстрелы. Серые солдаты бежали от станции в поле, догоняли отдельных, вязнувших в снегу черных людей, торопливо и судорожно возились с ними и бежали дальше. А на том месте оставался скорчившийся черный комок. Делалось что-то такое невероятное, ужасное и омерзительное, что Анисимов весь похолодел и инстинктивно, не соображая и ничего не чувствуя, кроме невообразимого животного ужаса, изо всех сил побежал по пути.
От водокачки, также изо всех сил, бежал ему наперерез огромный круглоголовый солдат в длинной серой шинели и с ружьем в одной руке. Еще за несколько шагов они увидали глаза друг друга и побежали еще быстрее. У солдата было молодое, безусое и красное лицо. Он добежал скорее и, с внезапно исказившимся злобой лицом, перехватил ружье в обе руки и ткнул в Анисимова штыком. Анисимов извернулся, как падающая кошка, и бросился в сторону. Солдат метнулся за ним, повторяя его движение и одну секунду они точно танцевали, кидаясь то туда, то сюда и выпученными глазами глядя прямо в зрачки друг другу. Но потом солдат вскинул длинное и острое ружье и навел его прямо в живот Анисимова.
— Ой, стой… подож… — тоненьким голосом закричал Анисимов и, закрыв глаза, замер на месте, выставив вперед руки.
Он услышал оглушительный выстрел, сквозь закрытые веки увидел мгновенный свет и как-то не мыслью, а всем телом понял, что солдат промахнулся. Но в это время кто-то быстро набежал сзади, тупо и больно, так что огни засверкали в глазах, ударил его по голове, схватил за рукав и, не удержавшись с разбегу, упал вместе с ним в мокрый, холодный снег.
— Пусти! — с острой злобой закричал Анисимов и, стиснув зубы, изо всей силы ударил локтем назад по чьему-то лицу, на котором торчал мягкий нос, хрустнувший под его ударом, и совершенно бессмысленные, выпученные глаза, которые он видел первый раз в жизни.
III
Была уже ночь, и ее черное лицо загадочно смотрело в окна станции, разбитые пулями и развороченные какой-то невероятной силой. На станции было тихо. Но в этой тишине, казалось, еще дрожали крики, выстрелы и стоны. На подъездном пути ярко горели неизвестно кем и зачем подожженные вагоны. И над взвивающимся багровым, весело страшным пламенем небо было совершенно черно и низко. Дым тяжелыми клубами медленно поднимался вверх; а выше его, во тьме, искры красиво танцевали какой-то грациозный и таинственный танец. От всего ложились на снег неровные, беспокойные тени, и казалось, что неподвижные трупы, рядами сложенные против вокзала, осторожно шевелятся.
Везде стояли и ходили солдаты, освещенные пожаром. Они сходились, расходились, наклонялись к земле и, казалось, пристально разглядывали то, что сделали в этот день и что было для них совершенно неожиданно и непонятно. Их черные тени ползали за ними по красному снегу, быстро перегибаясь на рельсах, блестящих от огня, а над ними изредка красными иглами вспыхивали штыки. На платформе стояли офицеры и о чем-то негромко говорили между собой, поминутно закуривая папиросы. От недалекого пожара глаза у них резко, точно стеклянные, блестели и казались злыми и дикими, как у хищных зверей.
В комнате, где заперли Анисимова, было холодно и пусто. Освещалась она только полосами зарева, принимая в его мечущемся огненном свете фантастически необыкновенный вид. Давно знакомая Анисимову мебель казалась чересчур неподвижной, как памятники на кладбищах; а разбитая пулей лампа, свернувшаяся с крюка, висела на потолке, как труп огромной летучей мыши. Тени солдат и офицеров медленно и беззвучно ходили по освещенной стене и кривлялись по углам.
Первое время Анисимов не мог опомниться и прийти в себя, чтобы сознать и обсудить свое положение. Он тяжело дышал, весь дергался, поминутно то закрывал глаза, то открывал и не видел, где он и что вокруг. Вся правая сторона его головы тупо ныла, и он бессознательно встряхивал головой, стараясь отделаться от этой боли. Но она не отставала, и половина лица была тяжела, как каменная.
Когда его схватили, он долго сопротивлялся, бился, даже кусался, как зверь, сам не замечая этого. Его хватали и за волосы, и за бороду, и за руки, но он упорно вывертывался и все время ему казалось, что вот-вот, еще одно усилие, и он непременно вырвется и будет спасен. Но когда его осилили и поставили на ноги и, крепко держа за обе руки, он вдруг сразу понял, что сопротивление бесполезно, и притих.
В плотной кучке четырех солдат, огромных, красных и возбужденных борьбой, он казался очень маленьким и бессильным, как затравленный зверек, и, как зверек, только оглядывался во все стороны блестящими, округленными глазами, втянув голову в плечи и тяжело дыша.
— Ишь ты, сволочь!.. — с возмущением и злобой сказал один из солдат, вытирая кровь со щеки, и с исказившимся лицом и с бешенством в тупых, бесцветных глазах еще раз ударил его снизу в подбородок. Анисимов ляскнул зубами и вздернул головой, но молчал и продолжал оглядываться.
— Не вырвешься! — торжествующим, грубым голосом сказал солдат.
— Ну, иди, что ль! — крикнул другой и толкнул его в плечо. Что-то пробудилось в Анисимове от этого толчка, данного тогда, когда он уже не сопротивлялся. Он быстро обернулся, но новый удар, уверенный и беспощадный, толкнул его на два шага вперед. Два солдата крепко схватили его за руки и потащили к вокзалу. Он шел, упираясь обеими ногами, шаг за шагом, а сзади били его в шею и спину прикладами, отчего тупо и мучительно вздрагивало сердце.
Так дотащили его до платформы и толкнули к двум другим, избитым, окровавленным и оборванным людям, которых окружали солдаты.
В это время запылали вагоны, и синий сумрак вечера сразу задрожал и озарился ярким красноватым светом.
Высокий и плотный офицер с большими и рыжими усами подошел к ним. Еще человек пять офицеров, блестя перевязями и пуговицами, стояли в стороне.
— Ваше высокоблагородие, заговорил солдат, выступая из рядов, — так что захваченные, значит, которые с оружием.
— Ага, да!.. — голосом высоким и загадочным, точно радуясь чему-то тайному, известному ему одному, протянул офицер. — Анатоль Петрович! громко позвал он.
Из кучки офицеров выдвинулся один, толстый и черный, с маленькими черными усиками. И пока он подходил, Анисимов смотрел ему прямо в лицо. Пожар был близко и сбоку, и оттого у всех была видна только одна половина лица, ярко освещенная, а другая совсем пропадала в черной тени. Анисимов с непонятным ему самому чувством ужаса смотрел на эти половинчатые лица с одинокими блестящими глазами, и ему казалось, что это не простые люди, солдаты и офицеры, каких он видел всю свою жизнь, а какие-то особенные, страшные и необыкновенные существа, в которых нет ничего человеческого.
— Вот, рекомендую, сказал высокий офицер тем же непонятно злорадным голосом, поворачиваясь к подходящему офицеру, господа революционеры.
Он вдруг переменил выражение и, твердо и властно выговаривая, спросил: Ты кто?
Тогда Анисимов посмотрел на своего соседа, которому обращался вопрос, и узнал его. Это был тот самый горбоносый, как будто чем-то загипнотизированный человек, который стрелял в солдат с баррикады возле Анисимова.
— С оружием схватили, ваше высокоблагородие! — сказал кто-то из солдат.
— А… Рассгрелять!.. — отчетливо и спокойно выговорил полковник.
Анисимов понял это слово, но не понял его ужасного, именно в этот момент, значения. Очевидно, не понял и горбоносый человек, потому что он не двинулся с места, не крикнул, ничем не выразил своего ужаса. Два солдата с одинаковыми темными лицами взяли его под руки и отвели. Он еще обернулся, точно хотел что-то сказать, но промолчал и так же неподвижно стал там, где его поставили, в нескольких шагах. Кто? опять спросил высокий офицер.
Вопрос был обращен к Анисимову, но ответил не он, а маленький, щуплый человек в разорванном ватном пальто и картузе.
— Мы с Костюковского завода… токари… Федульев… — торопливо проговорил он, поспешно выдвигаясь вперед и весь приходя в движение. Нижняя челюсть его странно двигалась.
— Тоже палил, ваше высокоблагородие… — каким-то унылым и безнадежным тоном подсказал опять тот же солдат.
И опять отчетливо и коротко полковник выговорил то же непонятное слово.
Смутная и странная мысль мелькнула в мозгу Анисимова. Лицо его медленно побледнело, и он сделал судорожное движение назад, точно хотел вдавиться в ряды солдат. Но кто-то сейчас же схватил его сзади за руки.
— Ты? — заметив его движение, быстро повернулся к нему высокий полковник.
Анисимов молчал и надавливал спиной на державшие его руки.
— Но-но-но! — насмешливо, подняв подбородок, сказал полковник.
— Да это начальник станции… — заметил толстый поручик, устремляя прямо в лицо Анисимову свой единственный блестящий глаз.
— Да, я начальник этой станции… — точно кто толкнул его, торопливо ответил Анисимов и вдруг заискивающе криво улыбнулся, не спуская взгляда с этого одинокого, как будто окровавленного глаза.
— А-а!.. Оч-чень приятно познакомиться! — кривя половину губ с одним красным усом, протянул полковник. — Так это вы и есть — начальник этой станции?.. Тэк-с… Ну, нам не мешает побеседовать подробнее, господин… позвольте узнать, как ваша фамилия?..
— Анисимов… — глухо ответил Анисимов.
— Ага… оч-чень приятно все-таки… — тянул полковник, сгибая голову набок, и в голосе его было что-то кошачье, жестокое и хитрое.
— До утра под караул!.. — вдруг громко приказал он, отворачиваясь от Анисимова.
— Ваше благородие, а мне как же? — неверным голосом спросил мастеровой, вытягивая шею.
Полковник через плечо посмотрел на него.
— А тебе, милый друг?.. Расстреляют… ответил он не сразу и, видимо, наслаждаясь впечатлением своих слов.
— Ваше благородие! — дрогнув, вскрикнул мастеровой.
Странное и короткое смятение пробежало по толпе солдат от этого крика. Кто-то усиленно и напряженно задышал над самым ухом Анисимова.
— Тише там! быстро поднимая голову и блестя глазом, крикнул толстый офицер. И все замерло так, точно здесь не было живых людей, а было одно пугливое и смирное животное.
— Веди! — энергично кивнув в сторону поля, приказал полковник.
С тем самым мучительным, острым любопытством, с которым он в детстве смотрел, как режут курей, Анисимов впился глазами в освещенную половину бледного, с широко открытым глазом, лица мастерового. Он ждал, что этот человек сейчас бросится, начнет рваться, как рвались куры из режущих рук, закричит, и это будет ужасно; но мастеровой стоял молча и только вытягивал и втягивал отвисшую нижнюю челюсть. И видно было, как она дергалась все сильнее и сильнее и уже прыгала в страшной пляске. Анисимов, не отрываясь, смотрел на эту челюсть, и все смотрели на нее, и с каждым се движением рос и рос общий напряженный ужас.
— А ты кто? вдруг громко и отчетливо заговорил издали горбоносый человек. — Собака, сволочь… своих бьешь, подлец… мать твою…
— Что-о! Молчать! — резко и звонко крикнул полковник, судорожно хватаясь за револьвер и делая два шага к нему.
— Сам молчи!.. Чего мне молчать, когда я на смерть иду, дурак! загремел горбоносый человек. — Чтоб ты сдох… Иуда, проклятая собака!.. Ты думаешь я тебя боюсь… На, бей!.. Сам бей, сволочь, бей!..
Со слабым вскриком Анисимов обеими руками схватился за лицо и закрыл глаза.
Один за другим сверкнули два выстрела. Кто-то вскрикнул, и вдруг все затолпились, задвигались. Темные силуэты солдат сразу загородили от Анисимова то место и, схватив его под руки, быстро потащили прочь…
И все это теперь стояло перед глазами Анисимова в смутном мраке холодной комнаты.
Теперь он уже знал, что завтра утром, через несколько часов, его расстреляют.
IV
«Завтра меня расстреляют! — думал Анисимов, острыми блестящими глазами глядя в холодный мрак. Завтра меня расстреляют».
Это была не мысль, потому что нельзя было думать о том, что через несколько недолгих часов придут люди, которых он никогда в жизни даже не видал, и убьют его, страдающего, живого человека, как старую, запаршивевшую собаку. Это было просто какое-то тяжелое и холодное давление на мозг, какое на человека, не верящего в сверхъестественное, производит появление страшного, необъяснимого призрака.
Анисимову иногда хотелось пожать плечами и усмехнуться этой забавной несообразности, но вместо того лицо его в темноте кривилось дикой и болезненной гримасой, принимая выражение зловеще искаженной маски сходящего с ума.
Он запахнулся, точно в больничный халат, в пальто с разорванным клапаном и короткими, неровными шагами, худой, длинный, как привидение, заходил по комнате, осторожно обходя в темноте мебель и почему-то стараясь не шуметь. Странно было то, что эта его осторожность была вовсе не от страха: Анисимову только страстно хотелось, чтобы никто не помешал ему думать «об этом». Казалось, что если он спокойно и точно обдумает что-то до конца, то все переменится, — он все поймет, и тогда все разъяснится очень просто и хорошо. И он думал, думал, думал… Лицо его принимало мучительное выражение свыше сил напряженной думы, но ничего не выходило. Порой как будто и возникала яркая, спасительная мысль, но где-то очень глубоко и смутно. Анисимов делал сверхъестественное усилие, чтобы вызвать ее на поверхность и облечь в слова. Мысль крепла, поднималась, начинала распутываться и приближаться к какому-то слову. Становилось легче, голова светлела, глаза теряли напряженное выражение. Анисимов останавливался, чтобы схватить самое главное, схватывал и мысленно говорил, думая, что говорит именно то, что нужно: «Завтра меня расстреляют!..» И тогда вдруг все снова путалось, мысль моментально и бесследно таяла в мозгу, выступал липкий пот на висках; холодная гуманная пустота, похожая на то, как будто всего его неожиданно окутывало густым облаком какого-то холодного пара, наполняла душу, и Анисимов опять начинал мелкими шажками быстро и осторожно ходить из угла в угол и напрягать свой усталый, горячий мозг.
Вдруг представилось ему знакомое место, за станцией, у канавы, где сложена куча старых почерневших шпал и снег лежит округлыми, хруплыми сугробами, белый, чистый, не тронутый ногой. Кучи шпал теперь не было, Анисимов знал, что ее растащили на баррикады но его же указанию, но место это так и представилось ему: ограда палисадника, черная куча обледенелых шпал, а дальше белое свободное поле, с которого далеко видны, точно игрушечные, красные домики станции и бегущие по бесконечному, ровному стальному пути хорошенькие разноцветные поезда с белыми султанчиками паровоза. И вот именно там, на снегу, головой к шпалам, он, Анисимов, будет лежать мертвый, не просто мертвый, а «расстрелянный». Голова и грудь у него будут пробиты пулями, синие руки закостенеют, как скрюченные лапки зарезанной курицы, а колени острыми углами будут торчать из сугроба.
Будет холодно, он весь обледенеет и станет твердый, как полено, с замерзшими, мутными, выпученными глазами и ртом, набитым снегом и красным льдом. Но тогда он уже не будет ничего чувствовать, сознавать и видеть, и не увидит даже своего трупа.
«Это самое ужасное… это самое ужасное…» почему-то подумал Анисимов, и невыносимая внутренняя тоска, выворачивающая всю душу, засосала сердце. Захотелось стонать тоненьким жалобным воем.
Было тихо вокруг, и только треск горевшего дерева изредка доносился в окно.
Все быстрее и быстрее шагая из угла в угол и кутаясь в пальто, как в больничный халат, Анисимов стал припоминать. Сначала он сам не мог понять, что именно ему хочется припомнить, но появилось и окрепло воспоминание о прожитой и теперь вдруг неожиданно, по очевидно заканчивающейся жизни. Он стал проходить ее мыслью с начала до конца и тщательно искать в ней чего-нибудь такого, что имело бы связь с тем, что должно было произойти завтра.
Вызванная из серого тумана забвения, стала проходить перед ним вереница дней, годов, встреч, дел, настроений и забот. Жизнь вставала перед ним тускло и бледно, представляясь однообразно-серой полосой, без начала и конца. Иногда ему казалось, что она началась еще раньше его рождения и что все его страдания, болезни, унижения и заботы были только продолжением неисчислимых бед, идущих от времени. Точно это был бесконечный путь из вечности в вечность, на который он незаметно вступил где-то неизмеримо далеко от начала, чтобы через несколько томительных мгновений сойти так же далеко от конца, как случайная тень, тоскливо скользнувшая по проезжей дороге.
Бедным родился он на свете, в жестокой нищего прожил все детство и всегда вспоминал о нем с унылым отвращением, удивляясь тем людям, которые говорили о своем детстве, как о светлом празднике жизни. Был он оборванный, плохо обутый, тщедушный и болезненный мальчик, типичный сын почтальона, на котором труды, болезни и горе родителей положили навек свое бледное клеймо. Учиться ему пришлось немного и трудно, и то, чему он выучился, было соком жизни, выжатым из себя отцом и матерью. Рано пришлось думать о пище, и пятнадцати лет он уже поступил на железную дорогу, где и прослужил двадцать пять лет в разных должностях, всегда одинаково трудных, томительно однообразных и чуждых душе. Ему было тяжело, часто унизительно и трудно, но отец и мать, пока не умерли, надорвавшись на работе, были счастливы, что он избежал участи отца. Их чахоточная радость была бессмысленна и ужасна, но самое ужасное было то, что он сам понимал и разделял их радость. И это было похоже на ту радость, которою радуется человек, затонувший в топи по горло и видящий рядом другого, которого вонючая, душащая грязь уже покрыла с головой.
Когда прошли года и счастье вечного прозябания на маленькой, затерянной в глухой степи станции было достигнуто, он женился. Женился он по любви на некрасивой глуповатой девушке, прошедшей ту же жизнь, что и он. И в этой любви был тоже ужас, ибо и в самые счастливые моменты ее не затемнялось сознание бесцветности, ничтожности и некрасивости жены; но жажда, во что бы то ни стало, иметь хоть кого-нибудь близкого, теплого, родного забивала это сознание, и оно оставалось в душе только как непрестанное, ноющее томление духа по красивой, таинственной и поэтичной любви, которой никогда не придется испытать. Жена его скоро состарилась и потеряла и ту относительную миловидность, которую все же давали ей молодость и свежесть. С нелепо страшной быстротой рождались дети. Жена стала сварливой, скучной, безнадежно опустившейся полустарухой, на лице которой навсегда застыла жалкая маска заботы и зависти.
Дети вырастали худосочными, больными и щуплыми. Радостный степной воздух и светлое солнце не могли вытравить из них страшного яда векового недоедания и прозябания их рода. Одна девочка страдала расслаблением кишок и всегда сидела в маленьком кресле-судне, страдальчески выглядывая из своего уголка, как закусанная насмерть мышка. Не радовали души эти дети, а только заботили, печалили и злили.
Мало было сношений с людьми, потому что это вызывало расходы, неловкость за свою бедность и унижения. Анисимов много пил, пьяный плакал о своих несчастиях и томился смутной мечтой об иной, свободной, легкой и приятной жизни, осмысленной хоть каким-нибудь светлым лучом.
Страшна была его жизнь, как страшна была у всех окружающих его, и именно это скоро притупило сознание и скрыло от него ужасный вид его существования. Как ни мучительны были у него позывы что-то переменить, что-то узнать, что-то устроить, — в общем ему казалось, что так и надо, ибо так живет не он один. Томление духа обратилось в привычку, научило брюзжать, раздражаться, пить, и не было сил задуматься, оглянуться и прийти в отчаяние. Как крот, живущий в вечной тьме, Анисимов уже не видел тьмы, окружающей его, и думал, что он живет лучше многих; но не как крот — он тяготился и страдал своею жизнью.
Так было до тех пор, пока внезапный свет всеобщего протеста и всеобщего напряжения, как молния, не осветил для него все и, как молния, не убил его.
Анисимов вдруг остановился. Что-то напряглось в нем до высшей точки и замерло в ожидании. И внезапно Анисимов понял, что ему не жаль своей жизни.
«Если такая жизнь опять, то лучше смерть… И тогда в смерти нет ничего ужасного, а, напротив, она нужна, необходима, как естественный выход… Будь она проклята, такая жизнь!» — подумал Анисимов.
И когда подумал, — успокоился, затих, и лицо его, серое и измученное, приняло спокойное и решительное выражение, то самое, с которым он так бесповоротно и всецело вошел в закипевшую вокруг борьбу.
Но в самой глубине его души что-то ныло. Это была тупая, ноющая и чуть слышная боль. Что-то как будто грызло, подтачивало, сосало. Анисимов с тревогой прислушался и сказал себе:
«Чего же еще… я же решил?.. Не надо думать… Если думать, то будет опять ужас… Лучше не думать».
Но боль все ныла, поднималась, подступала к сердцу и, как грызущая мышь, становилась все смелее и ближе. Анисимов быстро встал и опять торопливо заходил по комнате, стараясь шагами заглушить то, что неуклонно делалось в нем. Но боль вес росла и уже не ныла, а терзала сердце, и от нее росло тяжелое, отчаянное возмущение.
И вдруг она прорвалась и наполнила все существо его с такой силой, что у него загудело в ушах и сдавило грудь.
«Да, так… скачками запрыгала его мысль. Мне не жаль жизни… лучше смерть, чем такая жизнь… Но почему же „такая“, а не иная?.. Кто смел обречь меня на такую жизнь?.. Кто отнял у меня, и не отнял, а просто не дал мне такой жизни, чтобы се было жаль?.. И это неправда, мне жаль и ту жизнь, которая у меня! Какая бы она ни была, а жаль… Жаль, что ее изуродовали, жаль, что ее хотят уничтожить, как что-то ужасное, а она только несчастная!.. И как же смеет кто бы то ни было за то, что я всю жизнь страдал, за то, что мне было скверно, тяжело и мучительно, убить меня?!.. Это… это… это…» забормотал Анисимов, останавливаясь посреди комнаты и сверкая ненормально расширенными, больными глазами, и вдруг стремительно бросился к окну, схватился за раму и, обрезывая руки стеклами, стал рвать ее и ломать.
За окном уже погасал пожар, и бурая тьма все ближе и гуще подступала к огню, но в комнате было так темно, что на дворе казалось светло как днем.
— Куда лезешь! — отчаянно, грубым голосом крикнул солдат, с ружьем на перевесе подбегая к окну. Анисимов остановился и застыл, держась за раму, и солдат тоже остановился. Из мрака выделялось бледное, с расширенными глазами лицо Анисимова и клочки его спутанных волос; а на Анисимова смотрел темный силуэт неизвестной круглой и усатой головы. С минуту они смотрели друг на друга с недоумением, и опять, как с тем солдатом, который ловил его, оба не знали, что им делать. Было в этом что-то нелепое, но одинаково тяжелое для обоих. Потом Анисимов, точно опомнившись, рванул раму и неистово закричал:
— Пусти!
— Не велено! — таким же неистово неестественным голосом крикнул солдат.
— Врешь… пусти!.. Позови сюда полковника…
— Какого тебе полковника!.. Осади!..
Их неестественно громкие и напряженные голоса поразили обоих, и на секунду опять наступило молчание и неподвижность, и опять что-то встало между ними. Было мгновение напряженной тишины, и казалось, что сейчас должно произойти что-то особенное, новое. Но в это время послышались приближающиеся голоса и шаги. И точно в ответ именно на эти шаги, Анисимов молча и упрямо стал рвать раму. Со звоном посыпались стекла. Солдат внезапно шагнул вперед и изо всей силы, так же молча и упрямо, ударил Анисимова прикладом в костлявую грудь.
Горячая соленая волна хлынула к горлу и носу Анисимова, он повернулся и, как захлебнувшийся, расставив руки и ничего не видя, закружился и тяжко сел на пол.
— Что тут, Ефимов? — спрашивал кто-то за окном.
— Так что арестованный в окно полез… — срывающимся и как будто недоумелым голосом ответил солдат.
Несколько черных голов заглянуло в комнату и долго неподвижно смотрело в темноту. Было тихо. Анисимову казалось, что это бред, и голова у него быстро-быстро шла кругом, увлекая в страшном водовороте три черные, неподвижные и какие-то таинственные силуэта в окне. Потом они вдруг исчезли, и тот же голос сказал громко и сердито:
— Будет очень колобродить — пали ему в башку!.. Очень просто!
И голоса затихли.
Анисимов приподнялся, безумными глазами посмотрел в окно и отполз в сторону. Его страшно поразило последнее слово:
— Очень просто!
И он понял, что это действительно так, — просто; сколько бы он ни кричал, сколько бы ни бился, как бы остро и мучительно ни сознавал ужас смерти, страдание и то, что он, человек, Анисимов, имеет свою единственную жизнь, имеет право не умирать, не страдать, жить, — из этого ничего не выйдет. И вдруг опять вынырнула старая мысль: «Меня расстреляют!..»
Было несколько мгновений пустоты и мертвого бессмыслия, а потом и ярче, подробнее вырисовывалось в мозгу:
«Меня расстреляют… что бы я ни делал, как бы ни просил, как бы ни корчился от страха, как тот мастеровой, меня… поведут к куче шпал, станут целиться, так спокойно, как будто я не вижу этого и не умираю от страха».
И он почувствовал, что нижняя челюсть его начинает как-то странно прыгать, и все сильнее, сильнее. Анисимов сделал нечеловеческое усилие, чтобы удержать ее, но начал биться весь, дергаясь плечами, руками, головой, точно его трясла и била какая-то посторонняя, жестокая сила. Ему казалось, что это никогда не прекратится; но когда сразу опомнился и инстинктивно понял, что с ним был длинный период полного беспамятства, судорог уже не было, а тело только ныло и дрожало чуть заметной, неимоверно мелкой дрожью… Странно поразило его то, что за окном уже печально серело, как на осеннем рассвете. В комнате было все видно, и бледный свет слабо ложился на стены, на пол и на его белевшие руки. Одну секунду ему казалось, что все прошло и он проснулся, но со страшной быстротой, точно откуда-то извне, налетели — и сознание неотвратимой действительности, и тою, что уже скоро, и снова то же, мучительное, как пытка, недоумение, и острая потребность скорее, как можно скорее, что-то обдумать и сообразить… Быстро, мельком, точно отбрасывая прочь со словами: «не то… не то…», Анисимов припомнил убитого машиниста, потом еще троих, которые скатывались с баррикад и свертывались на окровавленном снегу, потом мастерового, потом черного горбоносого человека и два коротких выстрела, сопровождаемых легким страдальческим вскриком, и внезапно увидел среди бледного и болезненного хаоса черную груду обледенелых шпал и острые колени, его колени, торчащие из сугроба. «Да за что же все это?..»
И ему наконец стало смешно. Анисимов в самом деле тихо и судорожно засмеялся, но сейчас же замолк. Короткий, дрожащий звук его смеха был слишком тихо — громок и странен в пустой бледной предрассветной мгле… Опять начался стремительный ход мыслей: сколько раз он слышал, что людей казнят. Так. Значит, это совершенно возможно и тут нет ничего непонятного. Это так просто. Их — казнят, они страдают от боли и ужаса, но потом умирают, и страдания и ужас прекращаются, точно их не было. Об этом можно было думать, но только с отвращением, и мысль об этом неприятно бередила мозг. Да, но там было все-таки понятно: эти люди, которых казнили, были люди особенные, злодеи. И это были, что самое главное, не Анисимов.
«Нет, лучше не думать!» бессильно подумал он… Ему вдруг стало холодно и захотелось есть… Тогда он в первый раз вспомнил о жене и детях и удивился, что до сих пор не вспоминал. И ему показалось, что, может быть, здесь и есть то, что необходимо себе уяснить прежде всего.
«Скорей надо думать… скорей надо думать…» — стал он торопить себя, беспокойно оглядываясь. Он еще не сознавал, но его болезненно остро мучило то, что небо становилось в окне все светлее и светлее.
«Надо написать жене…» пришло ему в голову. Уже было достаточно светло у окна, и он это заметил. Чернильница на столе была, но чернила покрылись льдом. Анисимов заботливо подышал на них, проткнул пером и отнес чернильницу к окну.
На подоконник уже падал серый и холодный свет, в котором таким же серым и холодным пятном выделялось лицо Анисимова с взъерошенными клочьями волос и с черными тенями на скулах и под глазами. Писать было трудно, перо два раза выскакивало из окоченелых пальцев, и это будило в Анисимове острое, глубокое чувство жалости к себе.
Сначала ему казалось, что могут помешать, а нужно написать много и потому надо торопиться. По временам он острым, быстрым взглядом посматривал в окно, где теперь неподвижно, спиной к окну стоял длинный серый солдат, облокотившийся на ружье. На серую спину его шинели уже падал явственный серый свет утра.
«Милая Саша», — написал Анисимов, с трудом, хотя и казалось светло, различая буквы, и не знал, что писать дальше. Ничего нельзя было выразить, потому что надо было выразить и то радостное чувство, которым он прожил эти десять дней, и тот хаос, огненный и кровавый, и смерть людей, и ужас его одинокой последней ночи, и то нелепое и безумное, что должно было совершиться с ним, и кучу черных шпал, и закоченевшие колени, торчащие из снега, и то, что он уже не увидит ее и детей, и свою беспомощность, и свою жалость к себе, и то горе, в котором ему хотелось ее обласкать и утешить, те слезы, которые стали наполнять его глаза, скатываться по щекам, исхудалым и холодным, и падать на клочок его последнего письма.
И это было невозможно, и ужас этой невозможности вызвал в нем невыразимую грусть.
— Господи, Господи… Господи!.. За что же меня так мучают?.. Ну, за что?.. зашептал он, хватаясь за свои всклокоченные волосы, и заплакал. И долю плакал, остановившимися глазами глядя в окно, в белое, далекое, безучастное небо.
V
Его расстреляли в восемь часов утра.
Последние видения его сна с мгновенной быстротой слились с действительностью: ему приснилось, что он лезет по какому-то страшно узкому земляному коридору, лезет на животе, с трудом, и чем дальше, тем коридор становится уже, и лезть все труднее и труднее. Но он все-таки лезет и знает, что не лезть нельзя. Сзади земля осыпается с каждым шагом, и он чувствует, что там уже глухая стена. Он лезет, а чувство какого-то неведомого, грядущего неизбежного ужаса все сильнее и сильнее давит ему грудь. Ему уже трудно дышать, он хочет по крайней мере крикнуть, чтобы хоть криком рассеять этот невыносимый ужас, и вдруг видит перед собою, всего на сажень расстояния, приплюснутую серую голову с неподвижными узкими зеленоватыми глазками, а за ней длинное скользкое тело, на котором блестит слабый подземный свет. «Это гремучая змея!» — с невообразимым ужасом кричит ему кто-то в уши, и он чувствует, как волосы тихо шевелятся на голове. Он судорожно пятится назад. Но сзади уже рыхлая, непроницаемая стена. Он в ужасе бьется в нее, взрывает ее ногами, царапает, бьет. Но она рыхла, безвольна и неодолима. Он старается зарыться в нее, не видеть, закрывает глаза, но уже слышит легкий, таинственный свист и видит, ясно видит сквозь закрытые веки, что приплюснутая голова с зеленоватыми глазками уже не лежит, а медленно-медленно скользит к нему по земле, и за ней противно струится длинное скользкое серое тело. В страшном последнем отчаянии он открывает глаза…
Перед ним стоял высокий худой офицер в серой шинели и, глядя ему прямо в глаза серыми холодными зрачками, говорил:
— Ну, вставайте… господин А…НИСИМОВ. Пожалуйте!
Анисимов быстро приподнялся на локте и острыми глазками пристально уставился в лицо офицеру. Потом вдруг засуетился и встал с деловым и серьезным видом.
— Разве уже пора? — торопливо спросил он.
Офицер криво усмехнулся.
— Н-да…
Анисимов засуетился еще больше и стал искать свою фуражку. Ее не было на диване, не было на столе. Анисимов бестолково и торопливо шарил вокруг, и ему было странно, мучительно неловко, что он задерживает. Руки у него дрожали, глаза бегали.
— Ну, вы скоро? — сердито спросил офицер.
— Сейчас… тут шапка…
— Да все равно, можно и без шапки! — нетерпеливо возразил офицер.
Анисимов опять быстро взглянул ему в глаза и потупился.
— Да, впрочем, все равно… — торопливо, как будто про себя, выговорил он в сторону. Воцарилось короткое молчание, и вдруг у офицера явственно задрожали губы.
Анисимов тихо повел глазами и встретился со странным, как будто чего-то не понимающим и растерянным взглядом. Но так же мгновенно лицо офицера резко изменилось.
— Ну!.. — короткой страшно грубо выкрикнул он, порывисто дернув головой к двери.
Анисимов вздрогнул, судорожно покривился и, не глядя на офицера, шагнул вперед.
Когда его вывели на платформу и кучка офицеров и солдат молча уставилась на него, Анисимов опять вздрогнул и поморщился болезненно-странно. Вид у него был больной и измученный, лицо серо, глаза ввалились и волосы стояли торчком во вес стороны.
Тот же офицер, который разбудил его, что-то сказал, и из рядов солдат вышли двенадцать человек и стали позади Анисимова. Тогда Анисимов растерянно улыбнулся, повел глазами кругом и сказал хрипло и невнятно:
— Господин офицер… Офицер медленно обернулся:
— Что такое?
— Я не знаю… — с трудом заговорил Анисимов, все страдальчески и как будто конфузливо улыбаясь. — Может быть, можно все-таки письмо…
Один из стоявших рядом офицеров, толстый и черноусый, морщась, ответил:
— Право… теперь уже… когда же теперь…
— Я уже написал…
— А… Ну, так что же?
— Нельзя ли послать… по адресу?..
— Послать?.. Да… Иванов, возьми… — сердито и коротко ответил толстый офицер, и его короткая шея налилась кровью.
Из рядов выступил рябой белоусый ефрейтор. Анисимов засунул руку за пазуху и достал письмо, грязное и скомканное.
— Пожалуйста… — тихо попросил он.
И когда его уводили, он долго и грустно посмотрел на этот клочок белой бумаги, которую ефрейтор Иванов тщательно засовывал за обшлаг своей серой шинели.
Его провели на маленькое кладбище, лежавшее в полуверсте от станции. Там было пусто и тихо; белели холмики могил и чернели кривые, покосившиеся кресты. Тонкие и печальные, стояли неподвижные березки с тоненькими, узорными веточками.
Они шли недолго. Анисимов шел среди солдат один. Шел он так покорно, точно кто-то сильный его крепко держал за локоть и вел, и у него не было сил не только сопротивляться, но даже думать о том, куда он идет. Ни воли, ни ясного, здорового разума в нем уже не было. Он смотрел вокруг яркими, всевидящими, каждый пустяк отмечающими глазами, и в голове его странно мелькала мысль, что все это не страшно, что стоит только сохранить над собой волю и полное сознание каждой мельчайшей частицы мгновения, — и не будет ни страшно, ни больно, и все кончится просто и легко.
«Выстрелят и убьют… только и всего. Что ж тут… такого ужасного? Все очень просто и обыкновенно…»
Но было мучительно именно то, что никак не удавалось все видеть и сознавать. Каждая мелочь: рыжий сапог солдата, шедшего впереди, синева на снежном горизонте, далеко в белом поле чернеющая точка, воробьи, слетевшие с дороги и обсыпавшие закачавшийся черный куст, белый свет, скрип снега под ногами, — вес отчетливо резало глаза, но в общем ничего не получалось, и в мозгу была пустота, точно утеряна уже была какая-то самая главная общая связь, без которой все овальное было незначительно, мелко и мертво… Анисимов опустил голову и стал смотреть под ноги, на следы резиновых калош офицера, и смотрел так внимательно, точно от этого зависело все. Он поднял голову только тогда, когда его оставили одного.
Было пусто и холодно. И ряд серых солдат, офицеров и направленные прямо в него ружья не прибавляли ничего к этим пустоте и холоду.
Анисимов посмотрел на солдат. Все они, поверх длинных дул, смотрели прямо на него, и он вдруг стал видеть только один этот ряд разноцветных, испуганных и непонятных глаз. Все остальное исчезло, и в эту короткую секунду, между командой и залпом, Анисимов подумал с мгновенной ясностью и отчетливостью:
«Им не надо меня убивать и мне не надо умирать… Всем страшно, что меня сейчас убьют, но меня убьют… Это оттого, что у меня нет такого слова, которым я мог бы показать им весь ужас и тоску этого…»
Тысячи огненных слов молниями избороздили его мозг; в невероятном усилии что-то сказать, Анисимов подался вперед и судорожно открыл рот.
Он видел еще мгновенный бледный огонь, но не слыхал залпа, а только почувствовал, как вскинул руками и ударился лицом о твердый снег, и еще понял, что все кончено и произошло что-то совершенно и навсегда непоправимое.
Треск ружейных выстрелов мелкой дробью далеко отлетел в поле. Вздрогнули тоненькие березки, и ворона, сидевшая на дальнем кресте, взъерошив черные крылья, взлетела вверх и, точно падая, низко над снегом полетела прочь от людей.
Солдаты, опустив ружья и раскрыв посиневшие губы, бессмысленно смотрели на труп, и было тихо, пока легкая дрожь в носке левого сапога не прекратилась. Кровь быстро впитывалась в белый снег, и на нем торопливо расплывалась в бесформенное розовое пятно. Перепачкавшись в эту кровь, солдаты оттащили труп Анисимова к канаве и там зарыли.
Кровавое пятно забросали снегом, но оно опять просочилось. Долгая зима покрыла его снегами, но весною они стаяли, и побуревшее пятно снова появилось ненадолго, чтобы вместе со снегом, под радостными лучами яркого солнца, растаять и уйти в рыхлую живую землю.
1906


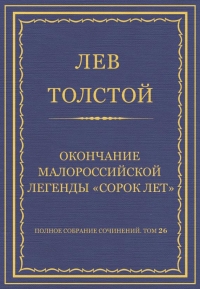
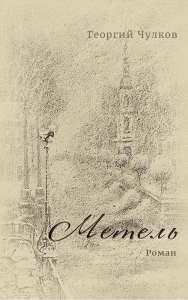
Комментарии к книге «Кровавое пятно», Михаил Петрович Арцыбашев
Всего 0 комментариев