Сыну моему посвящаю
I
В полутёмной тесной комнате, на полу, под окном, лежит мой отец, одетый в белое и необыкновенно длинный; пальцы его босых ног странно растопырены, пальцы ласковых рук, смирно положенных на грудь, тоже кривые; его весёлые глаза плотно прикрыты чёрными кружками медных монет, доброе лицо темно и пугает меня нехорошо оскаленными зубами.
Мать, полуголая, в красной юбке, стоит на коленях, зачёсывая длинные, мягкие волосы отца со лба на затылок чёрной гребёнкой, которой я любил перепиливать корки арбузов; мать непрерывно говорит что-то густым, хрипящим голосом, её серые глаза опухли и словно тают, стекая крупными каплями слёз.
Меня держит за руку бабушка — круглая, большеголовая, с огромными глазами и смешным рыхлым носом; она вся чёрная, мягкая и удивительно интересная; она тоже плачет, как-то особенно и хорошо подпевая матери, дрожит вся и дёргает меня, толкая к отцу; я упираюсь, прячусь за неё; мне боязно и неловко.
Я никогда ещё не видал, чтобы большие плакали, и не понимал слов, неоднократно сказанных бабушкой:
— Попрощайся с тятей-то, никогда уж не увидишь его, помер он, голубчик, не в срок, не в свой час…
Я был тяжко болен, — только что встал на ноги; во время болезни — я это хорошо помню — отец весело возился со мною, потом он вдруг исчез, и его заменила бабушка, странный человек.
— Ты откуда пришла? — спросил я её.
Она ответила:
— С верху, из Нижнего, да не пришла, а приехала! По воде-то не ходят, шиш!
Это было смешно и непонятно: наверху, в доме, жили бородатые, крашеные персияне, а в подвале старый, жёлтый калмык продавал овчины. По лестнице можно съехать верхом на перилах или, когда упадёшь, скатиться кувырком, это я знал хорошо. И при чём тут вода? Всё неверно и забавно спутано.
— А отчего я шиш?
— Оттого, что шумишь, — сказала она, тоже смеясь.
Она говорила ласково, весело, складно. Я с первого же дня подружился с нею, и теперь мне хочется, чтобы она скорее ушла со мною из этой комнаты.
Меня подавляет мать; её слёзы и вой зажгли во мне новое, тревожное чувство. Я впервые вижу её такою, — она была всегда строгая, говорила мало; она чистая, гладкая и большая, как лошадь; у неё жёсткое тело и страшно сильные руки. А сейчас она вся как-то неприятно вспухла и растрёпана, всё на ней разорвалось; волосы, лежавшие на голове аккуратно, большою светлой шапкой, рассыпались по голому плечу, упали на лицо, а половина их, заплетённая в косу, болтается, задевая уснувшее отцово лицо. Я уже давно стою в комнате, но она ни разу не взглянула на меня, — причёсывает отца и всё рычит, захлёбываясь слезами.
В дверь заглядывают чёрные мужики и солдат-будочник. Он сердито кричит:
— Скорее убирайте!
Окно занавешено тёмной шалью; она вздувается, как парус. Однажды отец катал меня на лодке с парусом. Вдруг ударил гром. Отец засмеялся, крепко сжал меня коленями и крикнул:
— Ничего не бойся, Лук!
Вдруг мать тяжело взметнулась с пола, тотчас снова осела, опрокинулась на спину, разметав волосы по полу; её слепое, белое лицо посинело, и, оскалив зубы, как отец, она сказала страшным голосом:
— Дверь затворите… Алексея — вон!
Оттолкнув меня, бабушка бросилась к двери, закричала:
— Родимые, не бойтесь, не троньте, уйдите Христа ради! Это не холера, роды пришли, помилуйте, батюшки!
Я спрятался в тёмный угол за сундук и оттуда смотрел как мать извивается по полу, охая и скрипя зубами, а бабушка, ползая вокруг, говорит ласково и радостно:
— Во имя отца и сына! Потерпи, Варюша!.. Пресвятая мати божия, заступница:
Мне страшно; они возятся на полу около отца, задевают его, стонут и кричат, а он неподвижен и точно смеётся. Это длилось долго — возня на полу; не однажды мать вставала на ноги и снова падала; бабушка выкатывалась из комнаты, как большой чёрный мягкий шар; потом вдруг во тьме закричал ребёнок.
— Слава тебе, господи! — сказала бабушка. — Мальчик!
И зажгла свечу.
Я, должно быть, заснул в углу, — ничего не помню больше.
Второй оттиск в памяти моей — дождливый день, пустынный угол кладбища; я стою на скользком бугре липкой земли и смотрю в яму, куда опустили гроб отца; на дне ямы много воды и есть лягушки, — две уже взобрались на жёлтую крышку гроба.
У могилы — я, бабушка, мокрый будочник и двое сердитых мужиков с лопатами. Всех осыпает тёплый дождь, мелкий, как бисер.
— Зарывай, — сказал будочник, отходя прочь.
Бабушка заплакала, спрятав лицо в конец головного платка. Мужики, согнувшись, торопливо начали сбрасывать землю в могилу, захлюпала вода; спрыгнув с гроба, лягушки стали бросаться на стенки ямы, комья земли сшибали их на дно.
— Отойди, Лёня, — сказала бабушка, взяв меня за плечо; я выскользнул из-под её руки, не хотелось уходить.
— Экой ты, господи, — пожаловалась бабушка, не то на меня, не то на бога, и долго стояла молча, опустив голову; уже могила сровнялась с землёй, а она всё ещё стоит.
Мужики гулко шлёпали лопатами по земле; налетел ветер и прогнал, унёс дождь. Бабушка взяла меня за руку и повела к далёкой церкви, среди множества тёмных крестов.
— Ты что не поплачешь? — спросила она, когда вышла за ограду. Поплакал бы!
— Не хочется, — сказал я.
— Ну, не хочется, так и не надо, — тихонько выговорила она.
Всё это было удивительно: я плакал редко и только от обиды, не от боли; отец всегда смеялся над моими слезами, а мать кричала:
— Не смей плакать!
Потом мы ехали по широкой, очень грязной улице на дрожках, среди тёмнокрасных домов; я спросил бабушку:
— А лягушки не вылезут?
— Нет, уж не вылезут, — ответила она. — Бог с ними!
Ни отец, ни мать не произносили так часто и родственно имя божие.
Через несколько дней я, бабушка и мать ехали на пароходе, в маленькой каюте; новорожденный брат мой Максим умер и лежал на столе в углу, завёрнутый в белое, спеленатый красною тесьмой.
Примостившись на узлах и сундуках, я смотрю в окно, выпуклое и круглое, точно глаз коня; за мокрым стеклом бесконечно льётся мутная, пенная вода. Порою она, вскидываясь, лижет стекло. Я невольно прыгаю на пол.
— Не бойся, — говорит бабушка и, легко приподняв меня мягкими руками, снова ставит на узлы.
Над водою — серый, мокрый туман; далеко где-то является тёмная земля и снова исчезает в тумане и воде. Всё вокруг трясётся. Только мать, закинув руки за голову, стоит, прислоняясь к стене, твёрдо и неподвижно. Лицо у неё тёмное, железное и слепое, глаза крепко закрыты, она всё время молчит, и вся какая-то другая, новая, даже платье на ней незнакомо мне.
Бабушка не однажды говорила ей тихо:
— Варя, ты бы поела чего, маленько, а?
Она молчит и неподвижна.
Бабушка говорит со мною шёпотом, а с матерью — громче, но как-то осторожно, робко и очень мало. Мне кажется, что она боится матери. Это понятно мне и очень сближает с бабушкой.
— Саратов, — неожиданно громко и сердито сказала мать. — Где же матрос?
Вот и слова у неё странные, чужие: Саратов, матрос.
Вошёл широкий седой человек, одетый в синее, принёс маленький ящик. Бабушка взяла его и стала укладывать тело брата, уложила и понесла к двери на вытянутых руках, но — толстая — она могла пройти в узенькую дверь каюты только боком и смешно замялась перед нею.
— Эх, мамаша, — крикнула мать, отняла у неё гроб, и обе они исчезли, а я остался в каюте, разглядывая синего мужика.
— Что, отошёл братишка-то? — сказал он, наклонясь ко мне.
— Ты кто?
— Матрос.
— А Саратов — кто?
— Город. Гляди в окно, вот он!
За окном двигалась земля; тёмная, обрывистая, она курилась туманом, напоминая большой кусок хлеба, только что отрезанный от каравая.
— А куда бабушка ушла?
— Внука хоронить.
— Его в землю зароют?
— А как же? Зароют.
Я рассказал матросу, как зарыли живых лягушек, хороня отца. Он поднял меня на руки, тесно прижал к себе и поцеловал.
— Эх, брат, ничего ты ещё не понимаешь! — сказал он. — Лягушек жалеть не надо, господь с ними! Мать пожалей, — вон как её горе ушибло!
Над нами загудело, завыло. Я уже знал, что это — пароход, и не испугался, а матрос торопливо опустил меня на пол и бросился вон, говоря:
— Надо бежать!
И мне тоже захотелось убежать. Я вышел за дверь. В полутёмной узкой щели было пусто. Недалеко от двери блестела медь на ступенях лестницы. Взглянув наверх, я увидал людей с котомками и узлами в руках. Было ясно, что все уходят с парохода, — значит и мне нужно уходить.
Но когда вместе с толпою мужиков я очутился у борта парохода, перед мостками на берег, все стали кричать на меня:
— Это чей? Чей ты?
— Не знаю.
Меня долго толкали, встряхивали, щупали. Наконец явился седой матрос и схватил меня, объяснив:
— Это астраханский, из каюты…
Бегом он снёс меня в каюту, сунул на узлы и ушёл, грозя пальцем:
— Я тебе задам!
Шум над головою становился всё тише, пароход уже не дрожал и не бухал по воде. Окно каюты загородила какая-то мокрая стена; стало темно, душно, узлы точно распухли, стесняя меня, и всё было нехорошо. Может быть, меня так и оставят навсегда одного в пустом пароходе?
Подошёл к двери. Она не отворяется, медную ручку её нельзя повернуть. Взяв бутылку с молоком, я со всею силой ударил по ручке. Бутылка разбилась, молоко облило мне ноги, натекло в сапоги.
Огорчённый неудачей, я лёг на узлы, заплакал тихонько и, в слезах, уснул.
А когда проснулся, пароход снова бухал и дрожал, окно каюты горело, как солнце. Бабушка, сидя около меня, чесала волосы и морщилась, что-то нашёптывая. Волос у неё было странно много, они густо покрывали ей плечи, грудь, колени и лежали на полу, чёрные, отливая синим. Приподнимая их с пола одною рукою и держа на весу, она с трудом вводила в толстые пряди деревянный редкозубый гребень; губы её кривились, тёмные глаза сверкали сердито, а лицо в этой массе волос стало маленьким и смешным.
Сегодня она казалась злою, но когда я спросил, отчего у неё такие длинные волосы, она сказала вчерашним тёплым и мягким голосом:
— Видно, в наказание господь дал, — расчеши-ка вот их, окаянные! Смолоду я гривой этой хвасталась, на старости кляну! А ты спи! Ещё рано, солнышко чуть только с ночи поднялось…
— Не хочу уж спать!
— Ну, ино не спи, — тотчас согласилась она, заплетая косу и поглядывая на диван, где вверх лицом, вытянувшись струною, лежала мать. — Как это ты вчера бутыль-то раскокал? Тихонько говори!
Говорила она, как-то особенно выпевая слова, и они легко укрепля- лись в памяти моей, похожие на цветы, такие же ласковые, яркие, сочные. Когда она улыбалась, её тёмные, как вишни, зрачки расширялись, вспыхивая невыразимо приятным светом, улыбка весело обнажала белые, крепкие зубы, и, несмотря на множество морщин в тёмной коже щёк, всё лицо казалось молодым и светлым. Очень портил его этот рыхлый нос с раздутыми ноздрями и красный на конце. Она нюхала табак из чёрной табакерки, украшенной серебром. Вся она тёмная, но светилась изнутри — через глаза — неугасимым, весёлым и тёплым светом. Она сутула, почти горбатая, очень полная, а двигалась легко и ловко, точно большая кошка, — она и мягкая такая же, как этот ласковый зверь.
До неё как будто спал я, спрятанный в темноте, но явилась она, разбудила, вывела на свет, связала всё вокруг меня в непрерывную нить, сплела всё в разноцветное кружево и сразу стала на всю жизнь другом, самым близким сердцу моему, самым понятным и дорогим человеком, — это её бескорыстная любовь к миру обогатила меня, насытив крепкой силой для трудной жизни.
Сорок лет назад пароходы плавали медленно; мы ехали до Нижнего очень долго, и я хорошо помню эти первые дни насыщения красотою.
Установилась хорошая погода; с утра до вечера я с бабушкой на палубе, под ясным небом, между позолоченных осенью, шелками шитых берегов Волги. Не торопясь, лениво и гулко бухая плицами по серовато-синей воде, тянется вверх по течению светлорыжий пароход, с баржой на длинном буксире. Баржа серая и похожа на мокрицу. Незаметно плывёт над Волгой солнце; каждый час вокруг всё ново, всё меняется; зелёные горы — как пышные складки на богатой одежде земли; по берегам стоят города и сёла, точно пряничные издали; золотой осенний лист плывёт по воде.
— Ты гляди, как хорошо-то! — ежеминутно говорит бабушка, переходя от борта к борту, и вся сияет, а глаза у неё радостно расширены.
Часто она, заглядевшись на берег, забывала обо мне: стоит у борта, сложив руки на груди, улыбается и молчит, а на глазах слёзы. Я дёргаю её за тёмную, с набойкой цветами, юбку.
— Ась? — встрепенётся она. — А я будто задремала да сон вижу.
— А о чём плачешь?
— Это, милый, от радости да от старости, — говорит она, улыбаясь. — Я ведь уж старая, за шестой десяток лета-вёсны мои перекинулись-пошли.
И, понюхав табаку, начинает рассказывать мне какие-то диковинные истории о добрых разбойниках, о святых людях, о всяком зверье и нечистой силе.
Сказки она сказывает тихо, таинственно, наклонясь к моему лицу, заглядывая в глаза мне расширенными зрачками, точно вливая в сердце моё силу, приподнимающую меня. Говорит, точно поёт, и чем дальше, тем складней звучат слова. Слушать её невыразимо приятно. Я слушаю и прошу:
— Ещё!
— А ещё вот как было: сидит в подпечке старичок-домовой, занозил он себе лапу лапшой, качается, хныкает: «Ой, мышеньки, больно, ой, мышата, не стерплю!»
Подняв ногу, она хватается за неё руками, качает её на весу и смешно морщит лицо, словно ей самой больно.
Вокруг стоят матросы — бородатые, ласковые мужики, — слушают, смеются, хвалят её и тоже просят:
— А ну, бабушка, расскажи ещё чего!
Потом говорят:
— Айда ужинать с нами!
За ужином они угощают её водкой, меня — арбузами, дыней; это делается скрытно: на пароходе едет человек, который запрещает есть фрукты, отнимает их и выбрасывает в реку. Он одет похоже на будочника — с медными пуговицами — и всегда пьяный; люди прячутся от него.
Мать редко выходит на палубу и держится в стороне от нас. Она всё молчит, мать. Её большое, стройное тело, тёмное, железное лицо, тяжёлая корона заплетённых в косы светлых волос — вся она, мощная и твёрдая, вспоминается мне как бы сквозь туман или прозрачное облако; из него отдалённо и неприветливо смотрят прямые серые глаза, такие же большие, как у бабушки.
Однажды она строго сказала:
— Смеются люди над вами, мамаша!
— А господь с ними! — беззаботно ответила бабушка. — А пускай смеются, на доброе им здоровье!
Помню детскую радость бабушки при виде Нижнего. Дёргая за руку, она толкала меня к борту и кричала:
— Гляди, гляди, как хорошо! Вот он, батюшка Нижний-то! Вот он какой, богов! Церкви-те, гляди-ка ты, летят будто!
И просила мать, чуть не плача:
— Варюша, погляди, чай, а? Поди, забыла ведь! Порадуйся!
Мать хмуро улыбалась.
Когда пароход остановился против красивого города, среди реки, тесно загромождённой судами, ощетинившейся сотнями острых мачт, к борту его подплыла большая лодка со множеством людей, подцепилась багром к спущенному трапу, и один за другим люди из лодки стали подниматься на палубу. Впереди всех быстро шёл небольшой сухонький старичок, в чёрном длинном одеянии, с рыжей, как золото, бородкой, с птичьим носом и зелёными глазками.
— Папаша! — густо и громко крикнула мать и опрокинулась на него, а он, хватая её за голову, быстро гладя щёки её маленькими, красными руками, кричал, взвизгивая:
— Что-о, дура? Ага-а! То-то вот… Эх вы-и…
Бабушка обнимала и целовала как-то сразу всех, вертясь, как винт; она толкала меня к людям и говорила торопливо:
— Ну, скорее! Это — дядя Михайло, это — Яков… Тётка Наталья, это братья, оба Саши, сестра Катерина, это всё наше племя, вот сколько!
Дедушка сказал ей:
— Здорова ли, мать?
Они троекратно поцеловались.
Дед выдернул меня из тесной кучи людей и спросил, держа за голову:
— Ты чей таков будешь?
— Астраханский, из каюты…
— Чего он говорит? — обратился дед к матери и, не дождавшись ответа, отодвинул меня, сказав:
— Скулы-те отцовы… Слезайте в лодку!
Съехали на берег и толпой пошли в гору, по съезду, мощённому крупным булыжником, между двух высоких откосов, покрытых жухлой, примятой травой.
Дед с матерью шли впереди всех. Он был ростом под руку ей, шагал мелко и быстро, а она, глядя на него сверху вниз, точно по воздуху плыла. За ними молча двигались дядья: чёрный гладковолосый Михаил, сухой, как дед, светлый и кудрявый Яков, какие-то толстые женщины в ярких платьях и человек шесть детей, все старше меня и все тихие. Я шёл с бабушкой и маленькой тёткой Натальей. Бледная, голубоглазая, с огромным животом, она часто останавливалась и, задыхаясь, шептала:
— Ой, не могу!
— На што они тревожили тебя? — сердито ворчала бабушка. — Эко неумное племя!
И взрослые и дети — все не понравились мне, я чувствовал себя чужим среди них, даже и бабушка как-то померкла, отдалилась.
Особенно же не понравился мне дед; я сразу почуял в нём врага, и у меня явилось особенное внимание к нему, опасливое любопытство.
Дошли до конца съезда. На самом верху его, прислоняясь к правому откосу и начиная собой улицу, стоял приземистый одноэтажный дом, окрашенный грязнорозовой краской, с нахлобученной низкой крышей и выпученными окнами. С улицы он показался мне большим, но внутри его, в маленьких, полутёмных комнатах, было тесно; везде, как на пароходе перед пристанью, суетились сердитые люди, стаей вороватых воробьёв метались ребятишки, и всюду стоял едкий, незнакомый запах.
Я очутился на дворе. Двор был тоже неприятный: весь завешан огромными мокрыми тряпками, заставлен чанами с густой разноцветной водою. В ней тоже мокли тряпицы. В углу, в низенькой полуразрушенной пристройке, жарко горели дрова в печи, что-то кипело, булькало, и невидимый человек громко говорил странные слова:
— Сандал — фуксин — купорос…
II
Началась и потекла со страшной быстротой густая, пестрая, невыразимо странная жизнь. Она вспоминается мне, как суровая сказка, хорошо рассказанная добрым, но мучительно правдивым гением. Теперь, оживляя прошлое, я сам порою с трудом верю, что все было именно так, как было, и многое хочется оспорить, отвергнуть, — слишком обильна жестокостью темная жизнь «неумного племени».
Но правда выше жалости, и ведь не про себя я рассказываю, а про тот тесный, душный круг жутких впечатлений, в котором жил — да и по сей день живёт — простой русский человек.
Дом деда был наполнен горячим туманом взаимной вражды всех со всеми; она отравляла взрослых, и даже дети принимали в ней живое участие. Впоследствии из рассказов бабушки я узнал, что мать приехала как раз в те дни, когда ее братья настойчиво требовали у отца раздела имущества. Неожиданное возвращение матери еще более обострило и усилило их желание выделиться. Они боялись, что моя мать потребует приданого, назначенного ей, но удержанного дедом, потому что она вышла замуж «самокруткой», против его воли. Дядья считали, что это приданое должно быть поделено между ними. Они тоже давно и жестоко спорили друг с другом о том, кому открыть мастерскую в городе, кому — за Окой, в слободе Кунавине.
Уже вскоре после приезда, в кухне, во время обеда, вспыхнула ссора: дядья внезапно вскочили на ноги и, перегибаясь через стол, стали выть и рычать на дедушку, жалобно скаля зубы и встряхиваясь, как собаки, а дед, стуча ложкой по столу, покраснел весь и звонко — петухом — закричал:
— По миру пущу!
Болезненно искривив лицо, бабушка говорила:
— Отдай им все, отец, — спокойней тебе будет, отдай!
— Цыц, потатчица! — кричал дед, сверкая глазами, и было странно, что, маленький такой, он может кричать столь оглушительно.
Мать встала из-за стола и, не торопясь отойдя к окну, повернулась ко всем спиною.
Вдруг дядя Михаил ударил брата наотмашь по лицу; тот взвыл, сцепился с ним, и оба покатились по полу, хрипя, охая, ругаясь.
Заплакали дети; отчаянно закричала беременная тетка Наталья; моя мать потащила её куда-то, взяв в охапку; весёлая рябая нянька Евгенья выгоняла из кухни детей; падали стулья; молодой широкоплечий подмастерье Цыганок сел верхом на спину дяди Михаила, а мастер Григорий Иванович, плешивый, бородатый человек в темных очках, спокойно связывал руки дяди полотенцем. Вытянув шею, дядя терся редкой черной бородой по полу и хрипел страшно, а дедушка, бегая вокруг стола, жалобно вскрикивал:
— Братья, а! Родная кровь! Эх, вы-и…
Я еще в начале ссоры, испугавшись, вскочил на печь и оттуда в жутком изумлении смотрел, как бабушка смывает водою из медного рукомойника кровь с разбитого лица дяди Якова; он плакал и топал ногами, а она говорила тяжёлым голосом:
— Окаянные, дикое племя, опомнитесь!
Дед, натягивая на плечо изорванную рубаху, кричал ей:
— Что, ведьма, народила зверья?
Когда дядя Яков ушел, бабушка сунулась в угол, потрясающе воя:
— Пресвятая мати божия, верни разум детям моим!
Дед встал боком к ней и, глядя на стол, где все было опрокинуто, пролито, тихо проговорил:
— Ты, мать, гляди за ними, а то они Варвару-то изведут, чего доброго…
— Полно, бог с тобой! Сними-ка рубаху-то, я зашью…
И, сжав его голову ладонями, она поцеловала деда в лоб; он же маленький против неё — ткнулся лицом в плечо ей.
— Надо, видно, делиться, мать…
— Надо, отец, надо!
Они говорили долго; сначала дружелюбно, а потом дед начал шаркать ногой по полу, как петух перед боем, грозил бабушке пальцем и громко шептал:
— Знаю я тебя, ты их больше любишь! А Мишка твой — езуит, а Яшка-фармазон! И пропьют они добро моё, промотают…
Неловко повернувшись на печи, я свалил утюг; загремев по ступеням влаза, он шлёпнулся в лохань с помоями. Дед прыгнул на ступень, стащил меня и стал смотреть в лицо мне так, как будто видел меня впервые.
— Кто тебя посадил на печь? Мать?
— Я сам.
— Врёшь.
— Нет, сам. Я испугался.
Он оттолкнул меня, легонько ударив ладонью в лоб.
— Весь в отца! Пошел вон…
Я был рад убежать из кухни.
Я хорошо видел, что дед следит за мною умными и зоркими зелёными глазами, и боялся его. Помню, мне всегда хотелось спрятаться от этих обжигающих глаз. Мне казалось, что дед злой; он со всеми говорит насмешливо, обидно, подзадоривая и стараясь рассердить всякого.
— Эх, вы-и! — часто восклицал он; долгий звук «и-и», всегда вызывал у меня скучное, зябкое чувство.
В час отдыха, во время вечернего чая, когда он, дядья и работники приходили в кухню из мастерской, усталые, с руками, окрашенными сандалом, обожжёнными купоросом, с повязанными тесёмкой волосами, все похожие на тёмные иконы в углу кухни, — в этот опасный час дед садился против меня и, вызывая зависть других внуков, разговаривал со мною чаще, чем с ними. Весь он был складный, точёный, острый. Его атласный, шитый шелками глухой жилет был стар, вытерт, ситцевая рубаха измята, на коленях штанов красовались большие заплаты, а всё-таки он казался одетым и чище и красивей сыновей, носивших пиджаки, манишки и шелковые косынки на шеях.
Через несколько дней после приезда он заставил меня учить молитвы. Все другие дети были старше и уже учились грамоте у дьячка Успенской церкви; золотые главы её были видны из окон дома.
Меня учила тихонькая, пугливая тетка Наталья, женщина с детским личиком и такими прозрачными глазами, что, мне казалось, сквозь них можно было видеть все сзади её головы.
Я любил смотреть в глаза ей подолгу, не отрываясь, не мигая; она щурилась, вертела головою и просила тихонько, почти шёпотом:
— Ну, говори, пожалуйста: «Отче наш, иже еси…»
И если я спрашивал: «Что такое — яко же?» — она, пугливо оглянувшись, советовала:
— Ты не спрашивай, это хуже! Просто говори за мною: «Отче наш…» Ну?
Меня беспокоило: почему спрашивать хуже? Слово «яко же» принимало скрытый смысл, и я нарочно всячески искажал его:
— «Яков же», «я в коже»…
Но бледная, словно тающая тетка терпеливо поправляла голосом, который все прерывался у неё:
— Нет, ты говори просто: «яко же»…
Но и сама она и все слова её были не просты. Это раздражало меня, мешая запомнить молитву.
Однажды дед спросил:
— Ну, Олёшка, чего сегодня делал? Играл! Вижу по желваку на лбу. Это не велика мудрость желвак нажить! А «0тче наш» заучил?
Тётка тихонько сказала:
— У него память плохая.
Дед усмехнулся, весело приподняв рыжие брови.
— А коли так, — высечь надо!
И снова спросил меня:
— Тебя отец сёк?
Не понимая, о чём он говорит, я промолчал, а мать сказала:
— Нет. Максим не бил его, да и мне запретил.
— Это почему же?
— Говорил, битьем не выучишь.
— Дурак он был во всем, Максим этот, покойник, прости господи! сердито и четко проговорил дед.
Меня обидели его слова. Он заметил это.
— Ты что губы надул? Ишь ты…
И, погладив серебристо-рыжие волосы на голове, он прибавил:
— А я вот в субботу Сашку за напёрсток пороть буду.
— Как это пороть? — спросил я.
Все засмеялись, а дед сказал:
— Погоди, увидишь…
Притаившись, я соображал: пороть — значит расшивать платья, отданные в краску, а сечь и бить — одно и то же, видимо. Бьют лошадей, собак, кошек; в Астрахани будочники бьют персиян, — это я видел. Но я никогда не видал, чтоб так били маленьких, и хотя здесь дядья щёлкали своих то по лбу, то по затылку, — дети относились к этому равнодушно, только почёсывая ушибленное место. Я не однажды спрашивал их:
— Больно?
И всегда они храбро отвечали:
— Нет, нисколечко!
Шумную историю с напёрстком я знал. Вечером, от чая до ужина, дядья и мастер сшивали куски окрашенной материи в одну «штуку» и пристёгивали к ней картонные ярлыки. Желая пошутить над полуслепым Григорием, дядя Михаил велел девятилетнему племяннику накалить на огне свечи напёрсток мастера. Саша зажал напёрсток щипцами для снимания нагара со свеч, сильно накалил его И, незаметно подложив под руку Григория, спрятался за печку, но как раз в этот момент пришёл дедушка, сел за работу и сам сунул палец в калёный напёрсток.
Помню, когда я прибежал в кухню на шум, дед, схватившись за ухо обожженными пальцами, смешно прыгал и кричал:
— Чьё дело, басурмане?
Дядя Михаил, согнувшись над столом, гонял напёрсток пальцами и дул на него; мастер невозмутимо шил; тени прыгали по его огромной лысине; прибежал дядя Яков и, спрятавшись за угол печи, тихонько смеялся там; бабушка терла на терке сырой картофель.
— Это Сашка Яковов устроил, — вдруг сказал дядя Михаил.
— Врешь! — крикнул Яков, выскочив из-за печки.
А где-то в углу его сын плакал и кричал:
— Папа, не верь. Он сам меня научил!
Дядья начали ругаться. Дед же сразу успокоился, приложил к пальцу тертый картофель и молча ушел, захватив с собой меня.
Все говорили — виноват дядя Михаил. Естественно, что за чаем я спросил — будут ли его сечь и пороть?
— Надо бы, — проворчал дед, искоса взглянув на меня.
Дядя Михаил, ударив по столу рукою, крикнул матери:
— Варвара, уйми своего щенка, а то я ему башку сверну!
Мать сказала:
— Попробуй, тронь…
И все замолчали.
Она умела говорить краткие слова как-то так, точно отталкивала ими людей от себя, отбрасывала их, и они умалялись.
Мне было ясно, что все боятся матери; даже сам дедушка говорил с нею не так, как с другими — тише. Это было приятно мне, и я с гордостью хвастался перед братьями:
— Моя мать — самая сильная!
Они не возражали.
Но то, что случилось в субботу, надорвало моё отношение к матери.
До субботы я тоже успел провиниться.
Меня очень занимало, как ловко взрослые изменяют цвета материй: берут жёлтую, мочат её в чёрной воде, и материя делается густо-синей — «кубовой»; полощут серое в рыжей воде, и оно становится красноватым — «бордо». Просто, а — непонятно.
Мне захотелось самому окрасить что-нибудь, и я сказал об этом Саше Яковову, серьезному мальчику; он всегда держался на виду у взрослых, со всеми ласковый, готовый всем и всячески услужить. Взрослые хвалили его за послушание, за ум, но дедушка смотрел на Сашу искоса и говорил:
— Экой подхалим!
Худенький, темный, с выпученными, рачьими глазами, Саша Яковов говорил торопливо, тихо, захлебываясь словами, и всегда таинственно оглядывался, точно собираясь бежать куда-то, спрятаться. Карие зрачки его были неподвижны, но когда он возбуждался, дрожали вместе с белками.
Он был неприятен мне. Мне гораздо больше нравился малозаметный увалень Саша Михайлов, мальчик тихий, с печальными глазами и хорошей улыбкой, очень похожий на свою кроткую мать. У него были некрасивые зубы, они высовывались изо рта и в верхней челюсти росли двумя рядами. Это очень занимало его; он постоянно держал во рту пальцы, раскачивая, пытаясь выдернуть зубы заднего ряда; он покорно позволял щупать их каждому, кто желал. Но ничего более интересного я не находил в нем. В доме, битком набитом людьми, он жил одиноко, любил сидеть в полутемных углах, а вечером у окна. С ним хорошо было молчать — сидеть у окна, тесно прижавшись к нему, и молчать целый час, глядя, как в красном вечернем небе вокруг золотых луковиц Успенского храма вьются — мечутся черные галки, взмывают высоко вверх, падают вниз и, вдруг покрыв угасаюшее небо черною сетью, исчезают куда-то, оставив за собой пустоту. Когда смотришь на это, говорить ни о чем не хочется и приятная скука наполняет грудь.
А Саша дяди Якова мог обо всём говорить много и солидно, как взрослый. Узнав, что я желаю заняться ремеслом красильщика, он посоветовал мне взять из шкапа белую праздничную скатерть и окрасить её в синий цвет.
— Белое всегда легче красить, уж я знаю! — сказал он очень серьёзно.
Я вытащил тяжёлую скатерть, выбежал с нею во двор, но когда опустил край её в чан с «кубовой», на меня налетел откуда-то Цыганок, вырвал скатерть и, отжимая её широкими лапами, крикнул брату, следившему из сеней за моей работой:
— Зови бабушку скорее!
И, зловеще качая чёрной, лохматой головой, сказал мне:
— Ну и попадет же тебе за это!
Прибежала бабушка, заохала, даже заплакала, смешно ругая меня:
— Ах ты, пермяк, солёны уши! Чтоб те приподняло да шлёпнуло!
Потом стала уговаривать Цыганка:
— Уж ты, Ваня, не сказывай дедушке-то! Уж я спрячу дело; авось, обойдётся как-нибудь…
Ванька озабоченно говорил, вытирая мокрые руки разноцветным передником:
— Мне что? Я не скажу; глядите, Сашутка не наябедничал бы!
— Я ему семишник дам, — сказала бабушка, уводя меня в дом.
В субботу, перед всенощной, кто-то привел меня в кухню; там было темно и тихо. Помню плотно прикрытые двери в сени и в комнаты, а за окнами серую муть осеннего вечера, шорох дождя. Перед черным челом печи на широкой скамье сидел сердитый, не похожий на себя Цыганок; дедушка, стоя в углу у лохани, выбирал из ведра с водою длинные прутья, мерял их, складывая один с другим, и со свистом размахивал ими по воздуху. Бабушка, стоя где-то в темноте, громко нюхала табак и ворчала:
— Ра-ад… мучитель…
Саша Яковов, сидя на стуле среди кухни, тер кулаками глаза и не своим голосом, точно старенький нищий, тянул:
— Простите христа-ради…
Как деревянные, стояли за стулом дети дяди Михаила, брат и сестра, плечом к плечу.
— Высеку — прощу, — сказал дедушка, пропуская длинный влажный прут сквозь кулак. — Ну-ка, снимай штаны-то!..
Говорил он спокойно, и ни звук его голоса, ни возня мальчика на скрипучем стуле, ни шарканье ног бабушки, — ничто не нарушало памятной тишины в сумраке кухни, под низким закопченным потолком.
Саша встал, расстегнул штаны, спустил их до колен и, поддерживая руками, согнувшись, спотыкаясь, пошёл к скамье. Смотреть, как он идет, было нехорошо, у меня тоже дрожали ноги.
Но стало ещё хуже, когда он покорно лёг на скамью вниз лицом, а Ванька, привязав его к скамье под мышки и за шею широким полотенцем, наклонился над ним и схватил чёрными руками ноги его у щиколоток.
— Лексей, — позвал дед, — иди ближе!.. Ну, кому говорю? Вот, гляди, как секут… Раз!..
Невысоко взмахнув рукой, он хлопнул прутом по голому телу. Саша взвизгнул.
— Врешь, — сказал дед, — это не больно! А вот эдак больней!
И ударил так, что на теле сразу загорелась, вспухла красная полоса, а брат протяжно завыл.
— Не сладко? — спрашивал дед, равномерно поднимая и опуская руку. — Не любишь? Это за наперсток!
Когда он взмахивал рукой, в груди у меня все поднималось вместе с нею; падала рука — и я весь точно падал.
Саша визжал страшно тонко, противно:
— Не буду-у… Ведь я же сказал про скатерть… Ведь я сказал…
Спокойно, точно псалтирь читая, дед говорил:
— Донос — не оправданье! Доносчику первый кнут. Вот тебе за скатерть!
Бабушка кинулась ко мне и схватила меня на руки, закричав:
— Лексея не дам! Не дам, изверг!
Она стала бить ногою в дверь, призывая:
— Варя, Варвара!
Дед бросился к ней, сшиб ее с ног, выхватил меня и понес к лавке. Я бился в руках у него, дергая рыжую бороду, укусил ему палец. Он орал, тискал меня и, наконец, бросил на лавку, разбив мне лицо. Помню дикий его крик:
— Привязывай! Убью!
Помню белое лицо матери и ее огромные глаза. Она бегала вдоль лавки и хрипела:
— Папаша, не надо!.. Отдайте…
Дед засек меня до потери сознания, и несколько дней я хворал, валяясь вверх спиною на широкой жаркой постели в маленькой комнате с одним окном и красной, неугасимой лампадой в углу перед киотом со множеством икон.
Дни нездоровья были для меня большими днями жизни. В течение их я, должно быть, сильно вырос и почувствовал что-то особенное. С тех дней у меня явилось беспокойное внимание к людям, и, точно мне содрали кожу с сердца, оно стало невыносимо чутким ко всякой обиде и боли, своей и чужой.
Прежде всего меня очень поразила ссора бабушки с матерью: в тесноте комнаты бабушка, чёрная и большая, лезла на мать, заталкивая ее в угол, к образам, и шипела:
— Ты что не отняла его, а?
— Испугалась я.
— Эдакая-то здоровенная! Стыдись, Варвара! Я — старуха, да не боюсь! Стыдно!..
— Отстаньте, мамаша: тошно мне…
— Нет, не любишь ты его, не жаль тебе сироту!
Мать сказала тяжело и громко:
— Я сама на всю жизнь сирота!
Потом они обе долго плакали, сидя в углу на сундуке, и мать говорила:
— Если бы не Алексей, ушла бы я, уехала! Не могу жить в аду этом, не могу, мамаша! Сил нет…
— Кровь ты моя, сердце моё, — шептала бабушка.
Я запомнил: мать — не сильная; она, как все, боится деда. Я мешаю ей уйти из дома, где она не может жить. Это было очень грустно. Вскоре мать, действительно, исчезла из дома. Уехала куда-то гостить.
Как-то вдруг, точно с потолка спрыгнув, явился дедушка, сел на кровать, пощупал мне голову холодной, как лёд, рукою:
— Здравствуй, сударь… Да ты ответь, не сердись!.. Ну, что ли?..
Очень хотелось ударить его ногой, но было больно пошевелиться. Он казался еще более рыжим, чем был раньше; голова его беспокойно качалась; яркие глаза искали чего-то на стене. Вынув из кармана пряничного козла, два сахарных рожка, яблоко и ветку синего изюма, он положил всё это на подушку, к носу моему.
— Вот, видишь, я тебе гостинца принес!
Нагнувшись, поцеловал меня в лоб; потом заговорил, тихо поглаживая голову мою маленькой, жёсткой рукою, окрашенной в жёлтый цвет, особенно заметный на кривых птичьих ногтях.
— Я тебя тогда перетово, брат. Разгорячился очень; укусил ты меня, царапал, ну, и я тоже рассердился! Однако не беда, что ты лишнее перетерпел — взачет пойдет! Ты знай: когда свой, родной бьет — это не обида, а наука! Чужому не давайся, а свой ничего! Ты думаешь, меня не били? Меня, Олёша, так били, что ты этого и в страшном сне не увидишь. Меня так обижали, что, поди-ка, сам господь бог глядел — плакал! А что вышло? Сирота, нищей матери сын, я вот дошёл до своего места, — старшиной цеховым сделан, начальник людям.
Привалившись ко мне сухим, складным телом, он стал рассказывать о детских своих днях словами крепкими и тяжелыми, складывая их одно с другим легко и ловко.
Его зеленые глаза ярко разгорелись, и, весело ощетинившись золотым волосом, сгустив высокий свой голос, он трубил в лицо мне:
— Ты вот пароходом прибыл, пар тебя вез, а я в молодости сам своей силой супротив Волги баржи тянул. Баржа — по воде, я по бережку, бос, по острому камню, по осыпям, да так от восхода солнца до ночи! Накалит солнышко затылок-то, голова, как чугун, кипит, а ты, согнувшись в три погибели, — косточки скрипят, — идешь да идешь, и пути не видать, глаза потом залило, а душа-то плачется, а слеза-то катится, — эх-ма, Олеша, помалкивай! Идешь, идешь, да из лямки-то и вывалишься, мордой в землю — и тому рад; стало быть, вся сила чисто вышла, хоть отдыхай, хоть издыхай! Вот как жили у бога на глазах, у милостивого господа Исуса Христа!.. Да так-то я трижды Волгу-мать вымерял: от Симбирского до Рыбинска, от Саратова досюдова да от Астрахани до Макарьева, до ярмарки, — в это многие тысячи верст! А на четвертый год уж и водоливом пошел, — показал хозяину разум свой!..
Говорил он и — быстро, как облако, рос передо мною, превращаясь из маленького, сухого старичка в человека силы сказочной, — он один ведет против реки огромную серую баржу…
Иногда он соскакивал с постели и, размахивая руками, показывал мне, как ходят бурлаки в лямках, как откачивают воду; пел баском какие-то песни, потом снова молодо прыгал на кровать и, весь удивительный, еще более густо, крепко говорил:
— Ну, зато, Олеша, на привале, на отдыхе, летним вечером, в Жигулях, где-нибудь под зеленой горой, поразложим, бывалоче костры — кашицу варить, да как заведет горевой бурлак сердечную песню, да как вступится, грянет вся артель, — аж мороз по коже дернет, и будто Волга вся быстрей пойдет, — так бы, чай, конем и встала на дыбы, до самых облаков. И всякое горе — как пыль по ветру; до того люди запевались, что, бывало, и каша вон из котла бежит; тут кашевара по лбу половником надо бить: играй, как хошь, а дело помни!
Несколько раз в дверь заглядывали, звали его, но я просил:
— Не уходи!
Он, усмехаясь, отмахивался от людей:
— Погодите там…
Рассказывал он вплоть до вечера, и, когда ушел, ласково простясь со мной, я знал, что дедушка не злой и не страшен. Мне до слез трудно было вспоминать, что это он так жестоко избил меня, но и забыть об этом я не мог.
Посещение деда широко открыло дверь для всех, и с утра до вечера кто-нибудь сидел у постели, всячески стараясь позабавить меня; помню, что это не всегда было весело и забавно. Чаще других бывала у меня бабушка; она и спала на одной кровати со мной; но самое яркое впечатление этих дней дал мне Цыганок. Квадратный, широкогрудый, с огромной кудрявой головой, он явился под вечер, празднично одетый в золотистую шелковую рубаху, плисовые штаны и скрипучие сапоги гармоникой. Блестели его волосы, сверкали раскосые весёлые глаза под густыми бровями и белые зубы под чёрной полоской молодых усов, горела рубаха, мягко отражая красный огонь неугасимой лампады.
— Ты глянь-ка, — сказал он, приподняв рукав, показывая мне голую руку, до локтя в красных рубцах, — вон как разнесло! Да ещё хуже было, зажило много!
Чуешь ли: как вошёл дед в ярость, и вижу, запорет он тебя, так начал я руку эту подставлять, ждал — переломится прут, дедушка-то отойдет за другим, а тебя и утащат бабаня али мать! Ну, прут не переломился, гибок, моченый! А все-таки тебе меньше попало, — видишь, насколько? Я, брат, жуликоватый!..
Он засмеялся шелковым, ласковым смехом, снова разглядывая вспухшую руку, и, смеясь, говорил:
— Так жаль стало мне тебя, аж горло перехватывает, чую! Беда! А он хлещет…
Фыркая по-лошадиному, мотая головой, он стал говорить что-то про деда, сразу близкий мне, детски простой.
Я сказал ему, что очень люблю его, — он незабвенно просто ответил:
— Так ведь и я тебя тоже люблю, — за то и боль принял, за любовь! Али я стал бы за другого за кого? Наплевать мне…
Потом он учил меня, тихонько, часто оглядываясь на дверь:
— Когда тебя вдругорядь сечь будут, ты гляди, не сжимайся, не сжимай тело-то, — чуешь? Вдвойне больней, когда тело сожмешь, а ты распусти его свободно, чтоб оно мягко было, — киселем лежи! И не надувайся, дыши во всю, кричи благим матом, — ты это помни, это хорошо!
Я спросил:
— Разве еще сечь будут?
— А как же? — спокойно сказал Цыганенок. — Конечно, будут! Тебя, поди-ка, часто будут драть…
— За что?
— Уж дедушка сыщет…
И снова озабоченно стал учить:
— Коли он сечет с навеса, просто сверху кладет лозу, — ну тут лежи спокойно, мягко, а ежели он с оттяжкой сечет, — ударит, да к себе тянет лозину, чтобы кожу снять, — так и ты виляй телом к нему, за лозой, понимаешь? Это легче!
Подмигнув темным, косым глазом, он сказал:
— Я в этом деле умнее самого квартального! У меня, брат, из кожи хоть голицы шей! Я смотрел на его весёлое лицо и вспоминал бабушкины сказки про Ивана-царевича, про Иванушку-дурачка.
III
Когда я выздоровел, мне стало ясно, что Цыганок занимает в доме особенное место: дедушка кричал на него не так часто и сердито, как на сыновей, а за глаза говорил о нём, жмурясь и покачивая головою:
— Золотые руки у Иванка, дуй его горой! Помяните мое слово: не мал человек растет!
Дядья тоже обращались с Цыганком ласково, дружески и никогда не «шутили» с ним, как с мастером Григорием, которому они почти каждый вечер устраивали что-нибудь обидное и злое: то нагреют на огне ручки ножниц, то воткнут в сиденье его стула гвоздь вверх острием или подложат, полуслепому, разноцветные куски материи, — он сошьёт их в «штуку», а дедушка ругает его за это.
Однажды, когда он спал после обеда в кухне на полатях, ему накрасили лицо фуксином, и долго он ходил смешной, страшный: из серой бороды тускло смотрят два круглых пятна очков, и уныло опускается длинный багровый нос, похожий на язык.
Они были неистощимы в таких выдумках, но мастер все сносил молча, только крякал тихонько да, прежде чем дотронуться до утюга, ножниц, щипцов или наперстка, обильно смачивал пальцы слюною. Это стало его привычкой; даже за обедом, перед тем как взять нож или вилку, он муслил пальцы, возбуждая смех детей. Когда ему было больно, на его большом лице являлась волна морщин и, странно скользнув по лбу, приподняв брови, пропадала где-то на голом черепе.
Не помню, как относился дед к этим забавам сыновей, но бабушка грозила им кулаком и кричала:
— Бесстыжие рожи, злыдни!
Но и о Цыганке за глаза дядья говорили сердито, насмешливо, порицали его работу, ругали вором и лентяем.
Я спросил бабушку, отчего это.
Охотно и понятно, как всегда, она объяснила мне:
— А видишь ты, обоим хочется Ванюшку себе взять, когда у них свои-то мастерские будут, вот они друг перед другом и хают его: дескать, плохой работник! Это они врут, хитрят. А ещё боятся, что не пойдёт к ним Ванюшка, останется с дедом, а дед — своенравный, он и третью мастерскую с Иванкой завести может, — дядьям-то невыгодно будет, понял?
Она тихонько засмеялась:
— Хитрят всё, богу на смех! Ну, а дедушка хитрости эти видит да нарочно дразнит Яшу с Мишей: «Куплю, говорит, Ивану рекрутскую квитанцию, чтобы его в солдаты не забрали: мне он самому нужен!» А они сердятся, им этого не хочется, и денег жаль, — квитанция-то дорогая!
Теперь я снова жил с бабушкой, как на пароходе, и каждый вечер перед сном она рассказывала мне сказки или свою жизнь, тоже подобную сказке. А про деловую жизнь семьи — о выделе детей, о покупке дедом нового дома для себя — она говорила посмеиваясь, отчуждённо, как-то издали, точно соседка, а не вторая в доме по старшинству.
Я узнал от неё, что Цыганок — подкидыш; раннею весной, в дождливую ночь, его нашли у ворот дома на лавке.
— Лежит, в запон обёрнут, — задумчиво и таинственно сказывала бабушка, — еле попискивает, закоченел уж.
— А зачем подкидывают детей?
— Молока у матери нет, кормить нечем; вот она узнает, где недавно дитя родилось да померло, и подсунет туда своего-то.
Помолчав, почесавши голову, она продолжала, вздыхая, глядя в потолок:
— Бедность всё, Олёша; такая бывает бедность, что и говорить нельзя! И считается, что незамужняя девица не смей родить, — стыдно-де! Дедушка хотел было Ванюшку-то в полицию нести, да я отговорила: возьмём, мол, себе; это бог нам послал в тех место, которые померли. Ведь у меня восемнадцать было рожено; кабы все жили — целая улица народу, восемнадцать-то домов! Я, гляди, на четырнадцатом году замуж отдана, а к пятнадцати уж и родила; да вот полюбил господь кровь мою, всё брал и брал ребятишек моих в ангелы. И жалко мне, а и радостно!
Сидя на краю постели в одной рубахе, вся осыпанная чёрными волосами, огромная и лохматая, она была похожа на медведицу, которую недавно приводил на двор бородатый, лесной мужик из Сергача. Крестя снежно-белую, чистую грудь, она тихонько смеётся, колышется вся:
— Получше себе взял, похуже мне оставил. Очень я обрадовалась Иванке, — уж больно люблю вас, маленьких! Ну, и приняли его, окрестили, вот он и живёт, хорош. Я его вначале Жуком звала, — он, бывало, ужжал особенно, совсем жук, ползёт и ужжит на все горницы. Люби его — он простая душа!
Я и любил Ивана и удивлялся ему до немоты.
По субботам, когда дед, перепоров детей, нагрешивших за неделю, уходил ко всенощной, в кухне начиналась неописуемо забавная жизнь: Цыганок доставал из-за печи чёрных тараканов, быстро делал нитяную упряжь, вырезывал из бумаги сани, и по жёлтому, чисто выскобленному столу разъезжала четвёрка вороных, а Иван, направляя их бег тонкой лучиной, возбуждённо визжал:
— За архереем поехали!
Приклеивал на спину таракана маленькую бумажку, гнал его за санями и объяснял:
— Мешок забыли. Монах бежит, тащит!
Связывал ножки таракана ниткой; насекомое ползло, тыкаясь головой, а Ванька кричал, прихлопывая ладонями:
— Дьячок из кабака к вечерней идёт!
Он показывал мышат, которые под его команду стояли и ходили на задних лапах, волоча за собою длинные хвосты, смешно мигая чёрненькими бусинами бойких глаз. С мышами он обращался бережно, носил их за пазухой, кормил изо рта сахаром, целовал и говорил убедительно:
— Мышь — умный житель, ласковый, её домовой очень любит! Кто мышей кормит, тому и дед-домовик мирволит…
Он умел делать фокусы с картами, деньгами, кричал больше всех детей и почти ничем не отличался от них. Однажды дети, играя с ним в карты, оставили его «дураком» несколько раз кряду, — он очень опечалился, обиженно надул губы и бросил игру, и потом жаловался мне, шмыгая носом:
— Знаю я, они уговорились! Они перемигивались, карты совали друг другу под столом. Разве это игра? Жульничать я сам умею не хуже…
Ему было девятнадцать лет, и был он больше всех нас четверых, взятых вместе.
Но особенно он памятен мне в праздничные вечера; когда дед и дядя Михаил уходили в гости, в кухне являлся кудрявый, встрёпанный дядя Яков с гитарой, бабушка устраивала чай с обильной закуской и водкой в зелёном штофе с красными цветами, искусно вылитыми из стекла на дне его; волчком вертелся празднично одетый Цыганок; тихо, боком приходил мастер, сверкая тёмными стёклами очков; нянька Евгенья, рябая, краснорожая и толстая, точно кубышка, с хитрыми глазами и трубным голосом; иногда присутствовали волосатый успенский дьячок и ещё какие-то тёмные, скользкие люди, похожие на щук и налимов.
Все много пили, ели, вздыхая тяжко, детям давали гостинцы, по рюмке сладкой наливки, и постепенно разгоралось жаркое, но странное веселье.
Дядя Яков любовно настраивал гитару, а настроив, говорил всегда одни и те же слова:
— Ну-с, я начну-с!
Встряхнув кудрями, он сгибался над гитарой, сгибал шею, точно гусь; круглое, беззаботное лицо его становилось сонным; живые, неуловимые глаза угасали в масленом тумане, и, тихонько пощипывая струны, он играл что-то разымчивое, невольно поднимавшее на ноги.
Его музыка требовала напряжённой тишины; торопливым ручьём она бежала откуда- то издали, просачивалась сквозь пол и стены и, волнуя сердце, выманивала нпонятное чувство, грустное и беспокойное. Под эту музыку становилось жалко всех и себя самого, большие казались тоже маленькими, и все сидели неподвижно, притаясь в задумчивом молчании.
Особенно напряжённо слушал Саша Михайлов; он всё вытягивался в сторону дяди, смотрел на гитару, открыв рот, и через губу у него тянулась слюна. Иногда он забывался до того, что падал со стула, тыкаясь руками в пол, и, если это случалось, он так уж и сидел на полу, вытаращив застывшие глаза.
И все застывали, очарованные; только самовар тихо поёт, не мешая слушать жалобу гитары. Два квадрата маленьких окон устремлены во тьму осенней ночи, порою кто-то мягко постукивает в них. На столе качаются жёлтые огни двух сальных свеч, острые, точно копья.
Дядя Яков всё более цепенел; казалось, он крепко спит, сцепив зубы, только руки его живут отдельной жизнью: изогнутые пальцы правой неразличимо дрожали над тёмным голосником, точно птица порхала и билась; пальцы левой с неуловимою быстротой бегали по грифу.
Выпивши, он почти всегда пел сквозь зубы голосом, неприятно свистящим, бесконечную песню:
Быть бы Якову собакою — Выл бы Яков с утра до ночи: Ой, скушно мне! Ой, грустно мне! По улице монахиня идёт; На заборе ворона сидит. Ой, скушно мне! За печкою сверчок торохтит, Тараканы беспокоятся. Ой, скушно мне! Нищий вывесил портянки сушить, А другой нищий портянки украл! Ой, скушно мне! Да, ох, грустно мне!Я не выносил этой песни и, когда дядя запевал о нищих, буйно плакал в невыносимой тоске.
Цыганок слушал музыку с тем же вниманием, как все, запустив пальцы в свои чёрные космы, глядя в угол и посапывая. Иногда он неожиданно и жалобно восклицал:
— Эх, кабы голос мне, — пел бы я как, господи!
Бабушка, вздыхая, говорила:
— Будет тебе, Яша, сердце надрывать! А ты бы, Ванятка, поплясал…
Они не всегда исполняли просьбу её сразу, но бывало, что музыкант вдруг на секунду прижимал струны ладонью, а потом, сжав кулак, с силою отбрасывал от себя на пол что- тоневидимое, беззвучное и ухарски кричал:
— Прочь, грусть-тоска! Ванька, становись!
Охорашиваясь, одёргивая жёлтую рубаху, Цыганок осторожно, точно по гвоздям шагая, выходил на середину кухни; его смуглые щёки краснели и, сконфуженно улыбаясь, он просил:
— Только почаще, Яков Васильич!
Бешено звенела гитара, дробно стучали каблуки, на столе и в шкапу дребезжала посуда, а среди кухни огнём пылал Цыганок, реял коршуном, размахнув руки, точно крылья, незаметно передвигая ноги; гикнув, приседал на пол и метался золотым стрижом, освещая всё вокруг блеском шёлка, а шёлк, содрогаясь и струясь, словно горел и плавился.
Цыганок плясал неутомимо, самозабвенно, и казалось, что если открыть дверь на волю, он так и пойдёт плясом по улице, по городу, неизвестно куда…
— Режь поперёк! — кричал дядя Яков, притопывая.
И пронзительно свистел и раздражающим голосом выкрикивал прибаутки:
Эхма! Кабы не было мне жалко лаптей, Убежал бы от жены и детей!Людей за столом подёргивало, они тоже порою вскрикивали, подвизгивали, точно их обжигало; бородатый мастер хлопал себя по лысине и урчал что-то. Однажды он, наклонясь ко мне и покрыв мягкой бородою плечо моё, сказал прямо в ухо, обращаясь словно к взрослому:
— Отца бы твоего, Лексей Максимыч, сюда, — он бы другой огонь зажёг! Радостный был муж, утешный. Ты его помнишь ли?
— Нет.
— Ну? Бывало он да бабушка, — стой-ко, погоди!
Он поднялся на ноги, высокий, измождённый, похожий на образ святого, поклонился бабушке и стал просить её необычно густым голосом:
— Акулина Ивановна, сделай милость, пройдись разок! Как, бывало, с Максимом Савватеевым хаживала. Утешь!
— Что ты, свет, что ты, сударь Григорий Иваныч? — посмеиваясь и поёживаясь, говорила бабушка. — Куда уж мне плясать? Людей смешить только…
Но все стали просить её, и вдруг она молодо встала, оправила юбку, выпрямилась, вскинув тяжёлую голову, и пошла по кухне, вскрикивая:
— А смейтесь, ино, на здоровье! Ну-ка, Яша, перетряхни музыку-то!
Дядя весь вскинулся, вытянулся, прикрыл глаза и заиграл медленнее; Цыганок на минуту остановился и, подскочив, пошёл вприсядку кругом бабушки, а она плыла по полу бесшумно, как по воздуху, разводя руками, подняв брови, глядя куда-то вдаль тёмными глазами. Мне она показалась смешной, я фыркнул; мастер строго погрозил мне пальцем, и все взрослые посмотрели в мою сторону неодобрительно.
— Не стучи, Иван! — сказал мастер, усмехаясь; Цыганок послушно отскочил в сторону, сел на порог, а нянька Евгенья, выгнув кадык, запела низким, приятным голосом:
Всю неделю, до субботы, Плела девка кружева, Истомилася работой, Эх, просто чуть жива!Бабушка не плясала, а словно рассказывала что-то. Вот она идёт тихонько, задумавшись, покачиваясь, поглядывая вокруг из-под руки, всё её большое тело колеблется нерешительно, ноги щупают дорогу осторожно. Остановилась, вдруг испугавшись чего-то, лицо дрогнуло, нахмурилось и тотчас засияло доброй, приветливой улыбкой. Откачнулась в сторону, уступая кому-то дорогу, отводя рукой кого-то; опустив голову, замерла, прислушиваясь, улыбаясь всё веселее, — и вдруг её сорвало с места, закружило вихрем, вся она стала стройней, выше ростом, и уже нельзя было глаз отвести от неё — так буйно красива и мила становилась она в эти минуты чудесного возвращения к юности!
А нянька Евгенья гудела, как труба:
В воскресенье от обедни До полуночи плясала. Ушла с улицы последней, Жаль — праздника мало!Кончив плясать, бабушка села на своё место к самовару; все хвалили её, а она, поправляя волосы, говорила:
— А вы полноте-ка! Не видали вы настоящих-то плясуний. А вот у нас в Балахне была девка одна, — уж и не помню чья, как звали, — так иные, глядя на её пляску, даже плакали в радости! Глядишь, бывало, на неё, — вот тебе и праздник, и боле ничего не надо! Завидовала я ей, грешница!
— Певцы да плясуны — первые люди на миру! — строго сказала нянька Евгенья и начала петь что-то про царя Давида, а дядя Яков, обняв Цыганка, говорил ему:
— Тебе бы в трактирах плясать, — с ума свёл бы ты людей!..
— Мне голос иметь хочется! — жаловался Цыганок. — Ежели бы голос бог дал, десять лет я бы попел, а после — хоть в монахи!
Все пили водку, особенно много — Григорий. Наливая ему стакан за стаканом, бабушка предупреждала:
— Гляди, Гриша, вовсе ослепнешь!
Он отвечал солидно:
— Пускай! Мне глаза больше не надобны, — всё видел я…
Пил он не пьянея, но становился всё более разговорчивым и почти всегда говорил мне про отца:
— Большого сердца был муж, дружок мой, Максим Савватеич…
Бабушка вздыхала, поддакивая:
— Да, господне дитя…
Всё было страшно интересно, всё держало меня в напряжении, и от всего просачивалась в сердце какая-то тихая, неутомляющая грусть. И грусть и радость жили в людях рядом, нераздельно почти, заменяя одна другую с неуловимой, непонятной быстротой.
Однажды дядя Яков, не очень пьяный, начал рвать на себе рубаху, яростно дёргать себя за кудри, за редкие белесые усы, за нос и отвисшую губу.
— Что это такое, что? — выл он, обливаясь слезами. — Зачем это?
Бил себя по щекам, по лбу, в грудь и рыдал:
— Негодяй и подлец, разбитая душа!
Григорий рычал:
— Ага-а! То-то вот!..
А бабушка, тоже нетрезвая, уговаривала сына, ловя его руки:
— Полно, Яша, господь знает, чему учит!
Выпивши, она становилась ещё лучше: тёмные её глаза, улыбаясь, ищливали на всех греющий душу свет, и, обмахивая платком разгоревшееся лицо, она певуче говорила:
— Господи, господи! Как хорошо всё! Нет, вы, глядите, как хорошо-то всё!
Это был крик её сердца, лозунг всей жизни.
Меня очень поразили слёзы и крики беззаботного дяди. Я спросил бабушку, отчего он плакал и ругал и бил себя.
— Всё бы тебе знать! — неохотно, против обыкновения, сказала она. Погоди, рано тебе торкаться в эти дела…
Это ещё более возбудило моё любопытство. Я пошёл в мастерскую и привязался к Ивану, но и он не хотел ответить мне, смеялся тихонько, искоса поглядывая на мастера, и, выталкивая меня из мастерской, кричал:
— Отстань, отойди! Вот я тебя в котёл спущу, выкрашу!
Мастер, стоя пред широкой низенькой печью, со вмазанными в неё тремя котлами, помешивал в них длинной чёрной мешалкой и, вынимая её, смотрел, как стекают с конца цветные капли. Жарко горел огонь, отражаясь на подоле кожаного передника, пёстрого, как риза попа. Шипела в котлах окрашенная вода, едкий пар густым облаком тянулся к двери, по двору носился сухой позёмок.
Мастер взглянул на меня из-под очков мутными, красными глазами и грубо сказал Ивану:
— Дров! Али не видишь?
А когда Цыганок выбежал во двор, Григорий, присев на куль сандала, поманил меня к себе:
— Подь сюда!
Посадил на колени и, уткнувшись тёплой, мягкой бородой в щёку мне, памятно сказал:
— Дядя твой жену насмерть забил, замучил, а теперь его совесть дёргает, — понял? Тебе всё надо понимать, гляди, а то пропадёшь!
С Григорием — просто, как с бабушкой, но жутко, и кажется, что он из-под очков видит всё насквозь.
— Как забил? — говорит он не торопясь. — А так: ляжет спать с ней, накроет её одеялом с головою и тискает, бьёт. Зачем? А он поди и сам не знает.
И, не обращая внимания на Ивана, который, возвратясь с охапкой дров, сидит на корточках перед огнём, грея руки, мастер продолжает внушительно:
— Может, за то бил, что была она лучше его, а ему завидно. Каширины, брат, хорошего не любят, они ему завидуют, а принять не могут, истребляют! Ты вот спроси-ка бабушку, как они отца твоего со света сживали. Она всё скажет — она неправду не любит, не понимает. Она вроде святой, хоть и вино пьёт, табак нюхает. Блаженная как бы. Ты держись за неё крепко…
Он оттолкнул меня, и я вышел на двор, удручённый, напуганный. В сенях дома меня догнал Ванюшка, схватил за голову и шепнул тихонько:
— Ты не бойся его, он добрый; тыгляди прямо в глаза ему, он это любит.
Всё было странно и волновало. Я не знал другой жизни, но смутно помнил, что отец и мать жили не так: были у них другие речи, другое веселье, ходили и сидели они всегда рядом, близко. Они часто и подолгу смеялись вечерами, сидя у окна, пели громко; на улице собирались люди, глядя на них. Лица людей, поднятые вверх, смешно напоминали мне грязные тарелки после обеда. Здесь смеялись мало, и не всегда было ясно, над чем смеются. Часто кричали друг на друга, грозиличем-то один другому, тайно шептались в углах. Дети были тихи, незаметны; они прибиты к земле, как пыль дождём. Я чувствовал себя чужим в доме, и вся эта жизнь возбуждала меня десятками уколов, настраивая подозрительно, заставляя присматриваться ко всему с напряжённым вниманием.
Моя дружба с Иваном всё росла; бабушка от восхода солнца до поздней ночи была занята работой по дому, и я почти весь день вертелся около Цыганка. Он всё так же подставлял под розги руку свою, когда дедушка сёк меня, а на другой день, показывая опухшие пальцы, жаловался мне:
— Нет, это всё без толку! Тебе — не легче, а мне — гляди-ка вот! Больше я не стану, ну тебя!
И в следующий раз снова принимал ненужную боль.
— Ты ведь не хотел?
— Не хотел, да вот сунул… Так уж как-то, незаметно…
Вскоре я узнал про Цыганка нечто, ещё больше поднявшее мой интерес к нему и мою любовь.
Каждую пятницу Цыганок запрягал в широкие сани гнедого мерина Шарапа, любимца бабушки, хитрого озорника и сластёну, одевал короткий, до колен, полушубок, тяжёлую шапку и, туго подпоясавшись зелёным кушаком, ехал на базар покупать провизию. Иногда он не возвращался долго. Все в доме беспокоились, подходили к окнам и, протаивая дыханием лёд на стёклах, заглядывали на улицу.
— Не едет?
— Нет!
Больше всех волновалась бабушка.
— Эхма, — говорила она сыновьям и деду, — погубите вы мне человека и лошадь погубите! И как не стыдно вам, рожи бессовестные? Али мало своего? Ох, неумное племя, жадюги, — накажет вас господь!
Дедушка хмуро ворчал:
— Ну, ладно. Последний раз это…
Иногда Цыганок возвращался только к полудню; дядья, дедушка поспешно шли на двор; за ними, ожесточённо нюхая табак, медведицей двигалась бабушка, почему-то всегда неуклюжая в этот час. Выбегали дети, и начиналась весёлая разгрузка саней, полных поросятами, битой птицей, рыбой и кусками мяса всех сортов.
— Всего купил, как сказано было? — спрашивал дед, искоса острыми глазами ощупывая воз.
— Всё как надо, — весело отзывался Иван и, прыгая по двору, чтобы согреться, оглушительно хлопал рукавицами.
— Не бей голиц, за них деньги даны, — строго кричал дед. — Сдача есть?
— Нету.
Дед медленно обходил вокруг воза и говорил негромко:
— Опять что-то много ты привёз. Гляди, однако, — не без денег ли покупал? У меня чтобы не было этого.
И уходил быстро, сморщив лицо.
Дядья весело бросались к возу и, взвешивая на руках птицу, рыбу, гусиные потроха, телячьи ноги, огромные куски мяса, посвистывали, одобрительно шумели.
— Ну, ловко отобрал!
Дядя Михаил особенно восхищался: пружинисто прыгал вокруг воза, принюхиваясь ко всему носом дятла, вкусно чмокая губами, сладко жмуря беспокойные глаза, сухой, похожий на отца, но выше его ростом и чёрный, как головня. Спрятав озябшие руки в рукава, он расспрашивал Цыганка:
— Тебе отец сколько дал?
— Пять целковых.
— А тут на пятнадцать. А сколько ты потратил?
— Четыре с гривной.
— Стало быть, девять гривен в кармане. Видал, Яков, как деньги ростят?
Дядя Яков, стоя на морозе в одной рубахе, тихонько посмеивался, моргая в синее холодное небо.
— Ты нам, Ванька, по косушке поставь, — лениво говорит он.
Бабушка распягала коня.
— Что, дитятко? Что, котёнок? Пошалить охота? Не, побалуй, богова забава! Огромный Шарап, взмахивая густою гривой, цапал её белыми зубами за плечо, срывал шёлковую головку с волос, заглядывал в лицо её весёлым глазом и, встряхивая иней с ресниц, тихонько ржал.
— Хлебца просишь?
Она совала в зубы ему большую краюху, круто посоленную, мешком подставляла передник под морду и смотрела задумчиво, как он ест.
Цыганок, играючи тоже, как молодой конь, подскочил к ней.
— Уж так, бабаня, хорош мерин, так умён…
— Поди прочь, не верти хвостом! — крикнула бабушка, притопнув ногою. Знаешь, что не люблю я тебя в этот день.
Она объяснила мне, что Цыганок не столько покупает на базаре, сколько ворует.
— Даст ему дед пятишницу, он на три рубля купит, а на десять украдёт, — невесело говорила она. — Любит воровать, баловник! Раз попробовал — ладно вышло, а дома посмеялись, похвалили за удачу, он и взял воровство в обычай. А дедушка смолоду бедности=горя досыта отведал — под старость жаден стал, ему деньги дороже детей кровных, он рад даровщине! А Михайло с Яковом…
Махнув рукой, она замолчала на минуту, потом, глядя в открытую табакерку, прибавила ворчливо:
— Тут, Лёня, дела-кружева, а плела их слепая баба, где уж нам узор разобрать! Вот поймают Иванку на воровстве — забьют до смерти…
И ещё, помолчав, она тихонько сказала:
— Эхе-хе! Правил у нас много, а правды нет…
На другой день я стал просить Цыганка, чтоб он не воровал больше.
— А то тебя будут бить до смерти…
— Не достигнут, — вывернусь: я ловкий, конь резвый! — сказал он, усмехаясь, но тотчас грустно нахмурился. — Ведь я знаю: воровать нехорошо и опасно. Это я так себе, от скуки. И денег я не коплю, дядья твои за неделю-то всё у меня выманят. Мне не жаль, берите! Я сыт. Он вдруг взял меня на руки, потряс тихонько.
— Лёгкий ты, тонкий, а кости крепкие, силач будешь. Ты знаешь что: учись на гитаре играть, проси дядю Якова, ей-богу! Мал ты ещё, вот незадача! Мал ты, а сердитый. Дедушку-то не любишь?
— Не знаю.
— А я всех Кашириных, кроме бабани, не люблю, пускай их демон любит!
— А меня?
— Ты — не Каширин, ты — Пешков, другая кровь, другое племя…
И вдруг, стиснув меня крепко, он почти застонал:
— Эх, кабы голос мне певучий, ух ты, господи! Вот ожёг бы я народ… Иди, брат, работать надо…
Он спустил меня на пол, всыпал в рот себе горсть мелких гвоздей и стал натягивать, набивать на большую квадратную доску сырое полотнище чёрной материи.
Вскоре он погиб.
Случилось это так: на дворе, у ворот, лежал, прислонён к забору, большой дубовый крест с толстым суковатым комлем. Лежал он давно. Я заметил его в первые же дни жизни в доме, — тогда он был новее и желтей, но за осень сильно почернел под дождями. От него горько пахло морёным дубом, и был он на тесном, грязном дворе лишний.
Его купил дядя Яков, чтобы поставить над могилою своей жены, и дал обет отнести крест на своих плечах до кладбища в годовщину смерти её.
Этот день наступил в субботу, в начале зимы; было морозно и ветрено, с крыш сыпался снег. Все из дома вышли на двор, дед и бабушка с тремя внучатами ещё раньше уехали на кладбище служить панихиду; меня оставили дома в наказание за какие-то грехи.
Дядья, в одинаковых чёрных полушубках, приподняли крест с земли и встали под крылья; Григорий и какой-то чужой человек, с трудом подняв тяжёлый комель, положили его на широкое плечо Цыганка; он пошатнулся, расставил ноги.
— Не сдюжишь? — спросил Григорий.
— Не знаю. Тяжело будто…
Дядя Михаил сердито закричал:
— Отворяй ворота, слепой чёрт!
А дядя Яков сказал:
— Стыдись, Ванька, мы оба жиже тебя!
Но Григорий, распахивая ворота, строго посоветовал Ивану:
— Гляди же, не перемогайся! Пошли с богом!
— Плешивая дура! — крикнул дядя Михаил с улицы.
Все, кто был на дворе, усмехнулись, заговорили громко, как будто всем понравилось, что крест унесли.
Григорий Иванович, ведя меня за руку в мастерскую, говорил:
— Может, сегодня дедушка не посечёт тебя, — ласково глядит он…
В мастерской, усадив меня на груду приготовленной в краску шерсти и заботливо окутав ею до плеч, он, понюхивая восходивший над котлами пар, задумчиво говорил:
— Я, милый, тридцать семь лет дедушку знаю, в начале дела видел и в конце гляжу. Мы с ним раньше дружки-приятели были, вместе это дело начали, придумали. Он умный, дедушка! Вот он хозяином поставил себя, а я не сумел. Господь, однако, всех нас умнее: он только улыбнётся, а самый премудрый человек уж и в дураках мигает. Ты ещё не понимаешь, что к чему говорится, к чему делается, а надобно тебе всё понимать. Сиротское житьё трудное. Отец твой, Максим Савватеевич, козырь был, он всё понимал, — за то дедушка и не любил его, не признавал.
Было приятно слушать добрые слова, глядя, как играет в печи красный и золотой огонь, как над котлами вздымаются молочные облака пара, оседая сизым инеем на досках косой крыши, — сквозь мохнатые щели её видны голубые ленты неба. Ветер стал тише, где- то светит солнце, весь двор словно стеклянной пылью посыпан, на улице взвизгивают полозья саней, голубой дым вьётся из труб дома, лёгкие тени скользят по снегу, тоже что-то рассказывая.
Длинный, костлявый Григорий, бородатый, без шапки, с большими ушами, точно добрый колдун, мешает кипящую краску и всё учит меня:
— Гляди всем прямо в глаза; собака на тебя бросится, и ей тоже, отстанет…
Тяжёлые очки надавили ему переносье, конец носа налился синей кровью и похож на бабушкин.
— Стой-ко? — вдруг сказал он, прислушиваясь, потом прикрыл ногою дверцу печи и прыжками побежал по двору. Я тоже бросился за ним.
В кухне, среди пола, лежал Цыганок, вверх лицом; широкие полосы света из окон падали ему одна на голову, на грудь, другая — на ноги. Лоб его странно светился; брови высоко поднялись; косые глаза пристально смотрели в чёрный потолок; тёмные губы, вздрагивая, выпускали розовые пузыри; из углов губ, по щекам, на шею и на пол стекала кровь; она текла густыми ручьями из-под спины. Ноги Ивана неукюже развалились, и видно было, что шаровары мокрые; они тяжело приклеились к половицам. Пол был чисто вымыт с дресвою. Он солнечно блестел. Ручьи крови пересекали полосы света и тянулись к порогу, очень яркие.
Цыганок не двигался, только пальцы рук, вытянутых вдоль тела, шевелились, царапаясь за пол, и блестели на солнце окрашенные ногти.
Нянька Евгенья, присев на корточки, вставляла в руку Ивана тонкую свечу; Иван не держал её, свеча падала, кисточка огня тонула в крови; нянька, подняв её, отирала концом запона и снова пыталась укрепить в беспокойных пальцах. В кухне плавал качающий шёпот; он, как ветер, толкал меня с порога, но я крепко держался за скобу двери.
— Споткнулся он, — каким-то серым голосом рассказывал дядя Яков, вздрагивая и крутя головою. Он весь был серый, измятый, глаза у него выцвели и часто мигали.
— Упал, а его и придавило, — в спину ударило. И нас бы покалечило, да мы вовремя сбросили крест.
— Вы его и задавили, — глухо сказал Григорий.
— Да, — как же…
— Вы!
Кровь всё текла, под порогом она уже собралась в лужу, потемнела и как будто поднималась вверх. Выпуская розовую пену, Цыганок мычал, как во сне, и таял, становился всё более плоским, приклеиваясь к полу, уходя в него.
— Михайло в церковь погнал на лошади за отцом, — шептал дядя Яков, — а я на извозчика навалил его да скорее сюда уж… Хорошо, что не сам я под комель-то встал, а то бы вот…
Нянька снова прикрепляла свечу к руке Цыганка, капала на ладонь ему воском и слезами.
Григорий громко и грубо сказал:
— Да ты в головах к полу прилепи, чуваша!
— И то.
— Шапку-то сними с него!
Нянька стянула с головы Ивана шапку; он тупо стукнулся затылком. Теперь голова его сбочилась, и кровь потекла обильней, но уже с одноц стороны рта. Это продолжалось ужасно долго. Сначала я ждал, что Цыганок отдохнёт, поднимется, сядет на полу и сплюнув, скажет:
— Ф-фу, жарынь…
Так делал он, когда просыпался по воскресеньям, после обеда. Но он не вставал, всё таял. Солнце уже отошло от него, светлые волосы укоротились и лежали только на подоконниках. Весь он потемнел, уже не шевелил пальцами, и пена на губах исчезла. За теменем и около ушей его торчали три свечи, помахивая золотыми кисточками, освещая лохматые, досиня чёрные волосы, жёлтые зайчики дрожали на смуглых щеках, светился кончик острого носа и розовые губы.
Нянька, стоя на коленях, плакала, пришёптывая:
— Голубчик ты мой, ястребёнок утешный… Было жутко, холодно. Я залез под стол и спрятался там. Потом в кухню тяжко ввалился дед, в енотовой шубе, бабушка в салопе с хвостами на воротнике, дядя Михаил, дети и много чужих людей.
Сбросив шубу на пол, дед закричал:
— Сволочи! Какого вы парня зря извели! Ведь ему бы цены не было лет через пяток…
На пол валилась одежда, мешая мне видеть Ивана; я вылез, попал под ноги деда. Он отшвырнул меня прочь, грозя дядьям маленьким красным кулаком:
— Волки!
И сел на скамью, упёршись в неё руками, сухо всклипывая, говоря скрипучим голосом:
— Знаю я — он вам поперёк глоток стоял… Эх, Ванюшечка… дурачок! Что поделаешь, а? Что — говорю — поделаешь? Кони — чужие, вожжи — гнилые. Мать, невзлюбил, нас господь за последние года, а? Мать?
Распластавшись на полу, бабушка щупала руками лицо, голову, грудь Ивана, дышала в глаза ему, хватала за руки, мяла их и повалила все свечи. Потом она тяжело поднялась на ноги, чёрная вся, в чёрном блестящем платье, страшно вытаращила глаза и сказала негромко:
— Вон, окаянные!
Все, кроме деда, высыпались из кухни.
…Цыганка похоронили незаметно, непамятно.
IV
Я лежу на широкой кровати, вчетверо окутан тяжёлым одеялом, и слушаю, как бабушка молится богу, стоя на коленях, прижав одну руку к груди, другою неторопливо и нечасто крестясь.
На дворе стреляет мороз; зеленоватый лунный свет смотрит сквозь узорные — во льду — стёкла окна, хорошо осветив доброе носатое лицо и зажигая тёмные глаза фосфорическим огнём. Шёлковая головка, прикрыв волосы бабушки, блестит, точно кованая, тёмное платье шевелится, струится с плеч, расстилаясь по полу.
Кончив молитву, бабушка молча разденется, аккуратно сложит одежду на сундук в углу и подойдёт к постели, а я притворяюсь, что крепко уснул.
— Ведь врёшь, поди, разбойник, не спишь? — тихонько говорит она. — Не спишь, мол, голуба душа? Ну-ко, давай одеяло!
Предвкушая дальнейшее, я не могу сдержать улыбки; тогда она рычит:
— А-а, так ты над бабушкой-старухой шутки шутить затеял!
Взяв одеяло за край, она так ловко и сильно дёргает его к себе, что я подскакиваю в воздухе и, несколько раз перевернувшись, шлёпаюсь в мягкую перину, а она хохочет:
— Что, редькин сын? Съел комара?
Но иногда она молится очень долго, я действительно засыпаю и уже не слышу, как она ложится.
Долгие молитвы всегда завершают дни огорчений, ссор и драк; слушать их очень интересно; бабушка подробно рассказывает богу обо всём, что случилось в доме; грузно, большим холмом стоит на коленях и сначала шепчет невнятно, быстро, а потом густо ворчит:
— Ты, господи, сам знаешь, — всякому хочется, что получше. Михайло-то старшой, ему бы в городе-то надо остаться, за реку ехать обидно ему, и место там новое, неиспытанное, что будет — неведомо. А отец — он Якова больше любит. Али хорошо — неровно-то детей любить? Упрям старик — ты бы, господи, вразумил его.
Глядя на тёмные иконы большими светящимися глазами, она советует богу своему:
— Наведи-ко ты, господи, добрый сон на него, чтобы понять ему, как надобно детей-то делить!
Крестится, кланяется в землю, стукаясь большим лбом о половицу, и, снова выпрямившись, говорит внушительно:
— Варваре-то улыбнулся бы радостью какой! Чем она тебя прогневала, чем грешней других? Что это: женщина молодая, здоровая, а в печали живёт. И вспомяни, господи, Григорья, — глаза-то у него всё хуже. Ослепнет — по миру пойдет, нехорошо! Всю свою силу он на дедушку истратил, а дедушка разве поможет… О, господи, господи…
Она долго молчит, покорно опустив голову и руки, точно уснула крепко, замёрзла.
— Что еще? — вслух вспоминает она, приморщив брови. — Спаси, помилуй всех православных; меня, дуру окаянную, прости, — ты знаешь: не со зла грешу, а по глупому разуму.
И, глубоко вздохнув, она говорит ласково, удовлетворенно:
— Все ты, родимый, знаешь, все тебе, батюшка, ведомо.
Мне очень нравился бабушкин бог, такой близкий ей, и я часто просил ее:
— Расскажи про бога!
Она говорила о нём особенно: очень тихо, странно растягивая слова, прикрыв глаза и непременно сидя; приподнимется, сядет, накинет на простоволосую голову платок и заведет надолго, пока не заснешь:
— Сидит господь на холме, среди луга райского, на престоле синя камня яхонта, под серебряными липами, а те липы цветут весь год кругом; нет в раю ни зимы, ни осени, и цветы николи не вянут, так и цветут неустанно, в радость угодникам божьим. А около господа ангелы летают во множестве, — как снег идёт али пчелы роятся, — али бы белые голуби летают с неба на землю да опять на небо и обо всем богу сказывают про нас, про людей. Тут и твой, и мой, и дедушкин — каждому ангел дан, господь ко всем равен. Вот твой ангел господу приносит: «Лексей дедушке язык высунул!» А господь и распорядится: «Ну, пускай старик посечёт его!» И так всё, про всех, и всем он воздаёт по делам — кому горем, кому радостью. И так все это хорошо у него, что ангелы веселятся, плещут крыльями и поют ему бесперечь: «Слава тебе, господи, слава тебе!» А он, милый, только улыбается им — дескать, ладно уж!
И сама она улыбается, покачивая головою.
— Ты это видела?
— Не видала, а знаю! — отвечает она задумчиво.
Говоря о боге, рае, ангелах, она становилась маленькой и кроткой, лицо её молодело, влажные глаза струили особенно теплый свет. Я брал в руки тяжёлые атласные косы, обертывал ими шею себе и, не двигаясь, чутко слушал бесконечные, никогда не надоедавшие рассказы.
— Бога видеть человеку не дано — ослепнешь; только святые глядят на него во весь глаз. А вот ангелов видела я; они показываются, когда душа чиста. Стояла я в церкви у ранней обедни, а в алтаре и ходят двое, как туманы, видно сквозь них всё, светлые, светлые, и крылья до полу, кружевные, кисейные. Ходят они кругом престола и отцу Илье помогают, старичку: он поднимет ветхие руки, богу молясь, а они локотки его поддерживают. Он очень старенький был, слепой уж, тыкался обо всё и поскорости после того успел, скончался. Я тогда, как увидала их, — обмерла от радости, сердце заныло, слезы катятся, — ох, хорошо было! Ой, Ленька, голуба душа, хорошо все у бога на небе и на земле, так хорошо…
— А у нас хорошо разве?
Осенив себя крестом, бабушка ответила:
— Слава пресвятой богородице, — все хорошо!
Это меня смущало: трудно было признать, что в доме всё хорошо; мне казалось, в нем живётся хуже и хуже. Однажды, проходя мимо двери в комнату дяди Михаила, я видел, как тетка Наталья, вся в белом, прижав руки ко груди, металась по комнате, вскрикивая негромко, но страшно:
— Господи, прибери меня, уведи меня…
Молитва ее была мне понятна, и я понимал Григория, когда он ворчал:
— Ослепну, по миру пойду, и то лучше будет…
Мне хотелось, чтобы он ослеп скорее, — я попросился бы в поводыри к нему, и ходили бы мы по миру вместе. Я уже говорил ему об этом; мастер, усмехаясь в бороду, ответил:
— Вот и ладно, и пойдём! А я буду оглашать в городе: это вот Василья Каширина, цехового старшины, внук, от дочери! Занятно будет…
Не однажды я видел под пустыми глазами тетки Натальи синие опухоли, на жёлтом лице её — вспухшие губы. Я спрашивал бабушку:
— Дядя бьет ее?
Вздыхая, она отвечала:
— Бьет тихонько, анафема проклятый? Дедушка не велит бить её, так он по ночам. Злой он, а она — кисель…
И рассказывает, воодушевляясь:
— Все-таки теперь уж не бьют так, как бивали! Ну, в зубы ударит, в ухо, за косы минуту потреплет, а ведь раньше-то часами истязали! Меня дедушка однова бил на первый день Пасхи от обедни до вечера. Побьёт устанет, а отдохнув — опять. И вожжами н всяко.
— За что?
— Не помню уж. А вдругорядь он меня избил до полусмерти да пятеро суток есть не давал, — еле выжила тогда. А то еще…
Это удивляло меня до онемения: бабушка была вдвое крупнее деда, и не верилось, что он может одолеть её.
— Разве он сильнее тебя?
— Не сильнее, а старше! Кроме того — муж! 3а меня с него бог спросит, а мне заказано терпеть…
Интересно и приятно было видеть, как она оттирала пыль с икон, чистила ризы; иконы были богатые, в жемчугах, серебре и цветных каменьях по венчикам; она брала ловкими руками икону, улыбаясь смотрела на неё и говорила умиленно:
— Эко милое личико!..
Перекрестясь, целовала.
— Запылилася, окоптела, — ах ты, мать всепомощная, радость неизбывная! Гляди, Леня, голуба душа, письмо какое тонкое, фигурки-то махонькие, а всякая отдельно стоит. Зовется это Двенадцать праздников, в середине же божия матерь Феодоровская, предобрая. А это вот — Не рыдай мене, мати, зряще во гробе…
Иногда мне казалось, что она так же задушевно и серьезно играет в иконы, как пришибленная сестра Катерина — в куклы.
Она нередко видала чертей, во множестве и в одиночку.
— Иду как-то великим постом, ночью, мимо Рудольфова дома; ночь лунная, молосная, вдруг вижу: верхом на крыше, около трубы, сидит чёрный, нагнул рогатую-то голову над трубой и нюхает, фыркает, большой, лохматый. Нюхает да хвостом по крыше и возит, шаркает. Я перекрестила его: «Да воскреснет бог и расточатся врази его», — говорю. Тут он взвизгнул тихонько и соскользнул кувырком с крыши-то во двор, — расточился! Должно, скоромное варили Рудольфы в этот день, он и нюхал, радуясь…
Я смеюсь, представляя, как черт летит кувырком с крыши, и она тоже смеётся, говоря:
— Очень они любят озорство, совсем как малые дети! Вот однажды стирала я в бане, и дошло время до полуночи; вдруг дверца каменки как отскочит! И посыпались оттуда они, мал мала меньше, красненькие, зелёные, черные, как тараканы. Я — к двери, — нет ходу; увязла средь бесов, всю баню забили они, повернуться нельзя, под ноги лезут, дёргают, сжали так, что и окститься не могу! Мохнатенькие, мягкие, горячие, вроде котят, только на задних лапах все; кружатся, озоруют, зубёнки мышиные скалят, глазишки-то зелёные, рога чуть пробились, шишечками торчат, хвостики поросячьи — ох ты, батюшки! Лишилась памяти ведь! А как воротилась в себя — свеча еле горит, корыто простыло, стиранное на пол брошено. Ах вы, думаю, раздуй вас горой!
Закрыв глаза, я вижу, как из жерла каменки, с её серых булыжников густым потоком лъются мохнатые, пёстрые твари, наполняют маленькую баню, дуют на свечу, высовывают озорниковато розовые языки. Это тоже смешно, но и жутко. Бабушка, качая головою, молчит минуту и вдруг снова точно вспыхнет вся.
— А то, проклятых, видела я; это тоже ночью, зимой, вьюга была. Иду я через Дюков овраг, где, помнишь, сказывала, отца-то твоего Яков да Михайло в проруби в пруде хотели утопить? Ну, вот, иду; только скувырнулась по тропе вниз, на дно, ка-ак засвистит, загикает по оврагу! Гляжу, а на меня тройка вороных мчится, и дородный такой чёрт в красном колпаке колом торчит, правит ими, на облучок встал, руки вытянул, держит вожжи из кованых цепей. А по оврагу езды не было, и летит тройка прямо в пруд, снежным облаком прикрыта. И сидят в санях тоже всё черти; свистят, кричат, колпаками машут, — да эдак-то семь троек проскакало, как пожарные, и все кони вороной масти, и все они — люди, проклятые отцами-матерьми; такие люди чертям на потеху идут, а те на них ездят, гоняют их по ночам в свои праздники разные. Это я, должно, свадьбу бесовскую видела…
Не верить бабушке нельзя — она говорит так просто, убедительно.
Но особенно хорошо сказывала она стихи о том, как богородица ходила по мука земным, как она увещевала разбойницу «князь-барыню» Енгалычеву не бить, не грабить русских людей; стихи про Алексея божия человека, про Ивана-воина; сказки о премудрой Василисе, о Попе-козле и божьем крестнике; страшные были о Марфе Посаднице, о Бабе Усте, атамане разбойников, о Марии, грешнице египетской, о печалях матери разбойника; сказок, былей и стихов она знала бесчисленно много.
Не боясь ни людей, ни деда, ни чертей, ни всякой иной нечистой силы, она до ужаса боялась чёрных тараканов, чувствуя их даже на большом расстоянии от себя. Бывало, разбудит меня ночью и шепчет:
— Олёша, милый, таракан лезет, задави. Христа ради!
Сонный, я зажигал свечу и ползал по полу, отыскивая врага; это не сразу и не всегда удавалось мне.
— Нет нигде, — говорил я, а она, лёжа неподвижно, с головой закутавшись одеялом, чуть слышно просила:
— Ой, есть! Ну, поищи, прошу тебя! Тут он, я уж знаю…
Она никогда не ошибалась — я находил таракана где-нибудь далеко от кровати.
— Убил? Ну, слава богу! А тебе спасибо…
И, сбросив одеяло с головы, облегчённо вздыхала, улыбаясь.
Если я не находил насекомое, она не могла уснуть; я чувствовал, как вздрагивает её тело при малейшем шорохе в ночной, мёртвой тишине, и слышал, что она, задерживая дыхание, шепчет:
— Около порога он… под сундук пополз…
— Отчего ты боишься тараканов?
Она резонно отвечала:
— А непонятно мне — на что они? Ползают и ползают, чёрные. Господь всякой тле свою задачу задал: мокрица показывает, что в доме сырость; клоп — значит, стены грязные; вошь нападает — нездоров будет человек, — всё понятно! А эти — кто знает, какая в них сила живёт, на что они насылаются?
Однажды, когда она стояла на коленях, сердечно беседуя с богом, дед, распахнув дверь в комнату, сиплым голосом сказал:
— Ну, мать, посетил нас господь, — горим!
— Да что ты! — крикнула бабушка, вскинувшись с пола, и оба, тяжко топая, бросились в темноту большой парадной комнаты.
— Евгенья, снимай иконы! Наталья, одевай ребят! — строго, крепким голосом командовала бабушка, а дед тихонько выл:
— И-и-ы…
Я выбежал в кухню; окно на двор сверкало, точно золотое; по полу текли-скользили жёлтые пятна; босой дядя Яков, обувая сапоги, прыгал на них, точно ему жгло подошвы, и кричал:
— Это Мишка поджег, поджег да ушел, ага!
— Цыц, пёс, — сказала бабушка, толкнув его к двери так, что он едва не упал.
Сквозь иней на стёклах было видно, как горит крыша мастерской, а за открытой дверью её вихрится кудрявый огонь. В тихой ночи красные цветы его цвели бездымно; лишь очень высоко над ними колебалось темноватое облако, не мешая видеть серебряный поток Млечного Пути. Багрово светился снег, и стены построек дрожали, качались, как будто стремясь в жаркий угол двора, где весело играл огонь, заливая красным широкие щели в стене мастерской, высовываясь из них раскалёнными кривыми гвоздями. По тёмным доскам сухой крыши, быстро опутывая её, извивались золотые, красные ленты; среди них крикливо торчала и курилась дымом гончарная тонкая труба; тихий треск, шёлковый шелест бился в стёкла окна; огонь всё разрастался; мастерская, изукрашенная им, становилась похожа на иконостас в церкви и непобедимо выманивала ближе к себе.
Накинув на голову тяжёлый полушубок, сунув ноги в чьи-то сапоги, я выволокся в сени, на крыльцо и обомлел, ослеплённый яркой игрою огня, оглушённый криками деда, Григория, дяди, треском пожара, испуганный поведением бабушки: накинув на голову пустой мешок, обернувшись попоной, она бежала прямо в огонь и сунулась в него, вскрикивая:
— Купорос, дураки! Взорвет купорос…
— Григорий, держи ее! — выл дедушка. — Ой, пропала…
Но бабушка уже вынырнула, вся дымясь, мотая головой, согнувшись, неся на вытянутых руках ведёрную бутыль купоросного масла.
— Отец, лошадь выведи! — хрипя, кашляя, кричала она. — Снимите с плеч-то, — горю, али не видно!..
Григорий сорвал с плеч её тлевшую попону и, переламываясь пополам, стал метать лопатою в дверь мастерской большие комья снега; дядя прыгал около него с топором в руках, дед бежал около бабушки, бросая в неё снегом; она сунула бутыль в сугроб, бросилась к воротам, отворила их и, кланяясь вбежавшим людям, говорила:
— Амбар, соседи, отстаивайте! Перекинется огонь на амбар, на сеновал, — наше всё дотла сгорит и ваше займётся! Рубите крышу, сено — в сад! Григорий, сверху бросай, что ты на землю-то мечешь! Яков, не суетись, давай топоры людям, лопаты! Батюшки-соседи, беритесь дружней, — бог вам на помочь.
Она была так же интересна, как и пожар: освещаемая огнем, который словно ловил её, чёрную, она металась по двору, всюду поспевая, всем распоряжаясь, всё видя.
На двор выбежал Шарап, вскидываясь на дыбы, подбрасывая деда; огонь ударил в его большие глаза, они красно сверкнули; лошадь захрапела, упёрлась передними ногами; дедушка выпустил повод из рук и отпрыгнул, крикнув:
— Мать, держи!
Она бросилась под ноги взвившегося коня, встала пред ним крестом; конь жалобно заржал, потянулся к ней, косясь на пламя.
— А ты не бойся! — басом сказала бабушка, похлопывая его по шее и взяв повод. — Али я тебя оставлю в страхе этом? Ох ты, мышонок…
Мышонок, втрое больший её, покорно шёл за нею к воротам и фыркал, оглядывая красное её лицо.
Нянька Евгенья вывела из дома закутанных, глухо мычавших детей и закричала:
— Василий Васильич, Лексея нет…
— Пошла, пошла! — ответил дедушка, махая рукой, а я спрятался под ступени крыльца, чтобы нянька не увела и меня.
Крыша мастерской уже провалилась; торчали в небо тонкие жерди стропил, курясь дымом, сверкая золотом углей; внутри постройки с воем и треском взрывались зелёные, синие, красные вихри, пламя снопами выкидывалось на двор, на людей, толпившихся пред огромным костром, кидая в него снег лопатами. В огне яростно кипели котлы, густым облаком поднимался пар и дым, странные запахи носились по двору, выжимая слезы из глаз; я выбрался из-под крыльца и попал под ноги бабушке.
— Уйди! — крикнула она. — Задавят, уйди…
На двор ворвался верховой в медной шапке с гребнем. Рыжая лошадь брызгала пеной, а он, высоко подняв руку с плеткой, орал; грозя:
— Раздайсь!
Весело и торопливо звенели колокольчики, всё было празднично красиво. Бабушка толкнула меня на крыльцо:
— Я кому говорю? Уйди!
Нельзя было не послушать её в этот час. Я ушел в кухню, снова прильнул к стеклу окна, но за тёмной кучей людей уже не видно огня, — только медные шлемы сверкают среди зимних чёрных шапок и картузов.
Огонь быстро придавили к земле, залили, затоптали, полиция разогнала народ, и в кухню вошла бабушка.
— Это кто? Ты-и? Не спишь, боишься? Не бойся, всё уже кончилось…
Села рядом со мною и замолчала, покачиваясь. Было хорошо, что снова воротилась тихая ночь, темнота; но и огня было жалко.
Дед вошёл, остановился у порога и спросил:
— Мать?
— Ой?
— Обожглась?
— Ничего.
Он зажёг серную спичку, осветив синим огнём своё лицо хорька, измазанное сажей, высмотрел свечу на столе и, не торопясь, сел рядом с бабушкой.
— Умылся бы, — сказала она, тоже вся в саже, пропахшая едким дымом.
Дед вздохнул:
— Милостив господь бывает до тебя, большой тебе разум дает…
И, погладив её по плечу, добавил, оскалив зубы:
— На краткое время, на час, а дает!..
Бабушка тоже усмехнулась, хотела что-то сказать, но дед нахмурился.
— Григория рассчитать надо — это его недосмотр! Отработал мужик, отжил! На крыльце Яшка сидит, плачет, дурак… Пошла бы ты к нему…
Она встала и ушла, держа руку перед лицом, дуя на пальцы, а дед, не глядя на меня, тихо спросил:
— Весь пожар видел, с начала? Бабушка-то как, а? Старуха ведь… Бита, ломана… То-то же! Эх вы-и…
Согнулся и долго молчал, потом встал и, снимая нагар со свечи пальцами, снова спросил:
— Боялся ты?
— Нет.
— И нечего бояться…
Сердито сдернув с плеч рубаху, он пошёл в угол, к рукомойнику, и там, в темноте, топнув ногою, громко сказал:
— Пожар — глупость! За пожар кнутом на площади надо бить погорельца; он — дурак, а то — вор! Вот как надо делать, и не будет пожаров!.. Ступай спи. Чего сидишь?
Я ушел, но спать в эту ночь не удалось: голько что лёг в постель меня вышвырнул из нее нечеловеческий вой; я снова бросился в кухню; среди нее стоял дед без рубахи, со свечой в руках; свеча дрожала, он шаркал ногами по полу и, не сходя с места, хрипел:
— Мать, Яков, что это?
Я вскочил на печь, забился в угол, а в доме снова началась суетня, как на пожаре; волною бился в потолок и стены размеренный, всё более громкий, надсадный вой. Ошалело бегали дед и дядя, кричала бабушка, выгоняя их куда-то; Григорий грохотал дровами, набивая их в печь, наливал воду в чугуны и ходил по кухне, качая головою, точно астраханский верблюд.
— Да ты затопи сначала печь-то! — командовала бабушка.
Он бросился за лучиной, нащупал мою ногу и беспокойно крикнул:
— Кто тут? Фу, испугал… Везде ты, где не надо…
— Что это делается?
— Тетка Наталья родит, — равнодушно сказал он, спрыгнув на пол.
Мне вспомнилось, что мать моя не кричала так, когда родила.
Поставив чугуны в огонь, Григорий влез ко мне на печь и, вынув из кармана глиняную трубку, показал мне её.
— Курить начинаю, для глаз! Бабушка советует: нюхай, а я считаю лучше курить…
Он сидел на краю печи, свесив ноги, глядя вниз, на бедный огонь свечи; ухо и щека его были измазаны сажей, рубаха на боку изорвана, я видел его рёбра, широкие, как обручи. Одно стекло очков было разбито, почти половинка стекла вывалилась из ободка, и в дыру смотрел красный глаз, мокрый, точно рана. Набнвая трубку листовым табаком, он прислушивался к стонам роженицы и бормотал бессвязно, напоминая пьяного:
— Бабушка-то обожглась-таки. Как она принимать будет? Ишь как стенает тётка! Забыли про неё; она, слышь, ещё в самом начале пожара корчиться стала — с испугу… Вот оно как трудно человека родить, а баб не уважают! Ты запомни: баб надо уважать, матерей то есть…
Я дремал и просыпался от возни, хлопанья дверей, пьяных криков дяди Михаила; в уши лезли странные слова:
— Царские двери отворить надо…
— Дайте ей масла лампадного с ромом да сажи: полстакана масла, полстакана рому да ложку столовую сажи…
Дядя Михаило назойливо просил:
— Пустите меня поглядеть…
Он сидел на полу, растопырив ноги, и плевал перед собою, шлёпая ладонями по полу. На печи стало нестерпимо жарко, я слез, но когда поравнялся с дядей, он поймал меня за ногу, дёрнул, и я упал, ударившись затылком.
— Дурак, — сказал я ему.
Он вскочил на ноги, снова схватил меня и взревел, размахнувшись мною:
— Расшибу об печку…
Очнулся я в парадной комнате, в углу, под образами, на коленях у деда; глядя в потолок, он покачивал меня и говорил негромко:
— Оправдания же нам нет, некому…
Над головой его ярко горела лампада, на столе, среди комнаты, — свеча, а в окно уже смотрело мутное зимнее утро.
Дед спросил, наклонясь ко мне:
— Что болит?
Всё болело: голова у меня была мокрая, тело тяжёлое, но не хотелось говорить об этом, — всё кругом было так странно: почти на всех стульях комнаты сидели чужие люди: священник в лиловом, седой старичок в очках и военном платье и ещё много; все они сидели неподвижно, как деревянные, застыв в ожидании, и слушали плеск воды, где-то близко. У косяка двери стоял дядя Яков, вытянувшись, спрятав руки за спину. Дед сказал ему:
— На-ко, отведи этого спать…
Дядя поманил меня пальцем и пошёл на цыпочках к двери бабушкиной комнаты, а когда я влез на кровать, он шепнул:
— Умерла тетка-то Наталья…
Это не удивило меня — она уже давно жила невидимо, не выходя в кухню, к столу.
— А где бабушка?
— Там, — ответил дядя, махнув рукою, и ушел всё так же на пальцах босых ног.
Я лежал на кровати, оглядываясь. К стеклам окна прижались чьи-то волосатые, седые, слепые лица; в углу, над сундуком, висит платье бабушки, — я это знал, — но теперь казалось, что там притаился кто-то живой и ждет. Спрятав голову под подушку, я смотрел одним глазом на дверь; хотелось выскочить из перины и бежать. Было жарко, душил густой тяжёлый запах, напоминая, как умирал Цыганок и по полу растекались ручьи крови; в голове или сердце росла какая-то опухоль; всё, что я видел в этом доме, тянулось сквозь меня, как зимний обоз по улице, и давило, уничтожало…
Дверь очень медленно открылась, в комнату вползла бабушка, притворила дверь плечом, прислонилась к ней спиною и, протянув руки к синему огоньку неугасимой лампады, тихо, по-детски жалобно, сказала:
— Рученьки мои, рученьки больно…
V
К весне дядья разделились; Яков остался в городе, Михаил уехал за реку, а дед купил себе большой интересный дом на Полевой улице, с кабаком в нижнем каменном этаже, с маленькой уютной комнаткой на чердаке и садом, который опускался в овраг, густо ощетинившийся голыми прутьями ивняка.
— Розог-то! — сказал дед, весело подмигнув мне когда, осматривая сад, я шел с ним по мягким, протаявшим дорожкам. — Вот я тебя скоро грамоте начну учить, так они годятся…
Весь дом был тесно набит квартирантами; только в верхнем этаже дед оставил большую комнату для себя и приёма гостей, а бабушка поселилась со мною на чердаке. Окно его выходило на улицу, и, перегнувшись через подоконник, можно было видеть, как вечерами и по праздникам из кабака вылезают пьяные, шатаясь, идут по улице, орут и падают. Иногда их выкидывали на дорогу, словно мешки, а они снова ломились в дверь кабака; она хлопала, дребезжала, взвизгивал блок, начиналась драка, — смотреть на всё это сверху было очень занятно. Дед с утра уезжал в мастерские сыновей, помогая им устраиваться; он возвращался вечером усталый, угнетенный, сердитый.
Бабушка стряпала, шила, копалась в огороде и в саду, вертелась целый день, точно огромный кубарь, подгоняемый невидимой плёткой, нюхала табачок, чихала смачно и говорила, отирая потное лицо:
— Здравствуй, мир честнОй, во веки веков! Ну, вот, Олёша, голуба душа, и зажили мы тихо-о! Слава те, царица небесная, уж так-то ли хорошо стало всё!
А мне не казалось, что мы живем тихо; с утра до позднего вечера на дворе и в доме суматошно бегали квартирантки, то и дело являлись соседки, все куда-то торопились и, всегда опаздывая, охали, всё готовились к чему-то и звали:
— Акулина Ивановна!
Всем улыбаясь одинаково ласково, ко всем мягко внимательная, Акулина Ивановна заправляла большим пальцем табак в ноздри, аккуратно вытирала нос и палец красным клетчатым платком и говорила:
— Против вошей, сударыня моя, надо чаще в бане мыться, мятным паром надобно париться; а коли вошь подкожная — берите гусиного сала, чистейшего, столовую ложку, чайную сулемы, три капли веских ртути, разотрите всё это семь раз на блюдце черепочком фаянсовым и мажьте! Ежели деревянной ложкой али костью будете тереть — ртуть пропадет; меди, серебра не допускайте, вредно!
Иногда она задумчиво советовала:
— Вы, матушка, в Печёры, к Асафу-схимнику сходите, — не умею я ответить вам.
Она служила повитухой, разбирала семейные ссоры и споры, лечила детей, сказывала наизусть «Сон богородицы», чтобы женщины заучивали его «на счастье», давала хозяйственные советы:
— Огурец сам скажет, когда его солить пора; ежели он перестал землей и всякими чужими запахами пахнуть, тут вы его и берите. Квас нужно обидеть, чтобы ядрён был, разъярился; квас сладкого не любит, так вы его изюмцем заправьте, а то сахару бросьте, золотник на ведро. Варенцы делают разно: есть дунайский вкус и гишпанский, а то еще — кавказский…
Я весь день вертелся около неё в саду, на дворе, ходил к соседкам, где она часами пила чай, непрерывно рассказывая всякие истории; я как бы прирос к ней и не помню, чтоб в эту пору жизни видел что-либо иное, кроме неугомонной, неустанно доброй старухи. Иногда, на краткое время, являлась откуда-то мать; гордая, строгая, она смотрела на всё холодными серыми глазами, как зимнее солнце, и быстро исчезала, не оставляя воспоминаний о себе.
Однажды я спросил бабушку:
— Ты — колдунья?
— Ну, вот еще выдумал! — усмехнулась она и тотчас же задумчиво прибавила: — Где уж мне: колдовство — наука трудная. А я вот и грамоты не знаю — ни аза; дедушка-то вон какой грамотей едучий, а меня не умудрила богородица.
И открывала предо мною ещё кусок своей жизни:
— Я ведь тоже сиротой росла, матушка моя бобылка была, увечный человек; ещё в девушках её барин напугал. Она ночью со страха выкинулась из окна да бок себе и перебила, плечо ушибла тоже, с того у неё рука правая, самонужная, отсохла, а была она, матушка, знатная кружевница. Ну, стала она барам не надобна, и дали они ей вольную, — живи-де, как сама знаешь, — а как без руки-то жить? Вот она и пошла по миру, за милостью к людям, а в тА пора люди-то богаче жили, добрее были, — славные балахонские плотники да кружевницы, — всё напоказ народ! Ходим, бывало, мы с ней, с матушкой, зимой-осенью по городу, а как Гаврило-архангел мечом взмахнёт, зиму отгонит, весна землю обымет, — так мы подальше, куда глаза поведут. В Муроме бывали, и в Юрьевце, и по Волге вверх, и по тихой Оке. Весной-то да летом хорошо по земле ходить, земля ласковая, трава бархатная; пресвятая богородица цветами осыпала поля, тут тебе радость, тут ли сердцу простор! А матушка-то, бывало, прикроет синие глаза да как заведёт песню на великую высоту, — голосок у ней не силен был, а звонок, — и всё кругом будто задремлет, не шелохнется, слушает её. Хорошо было Христа ради жить! А как минуло мне девять лет, зазорно стало матушке по миру водить меня, застыдилась она и осела на Балахне; кувыркается по улицам из дома в дом, а на праздниках — по церковным папертям собирает. А я дома сижу, учусь кружева плести, тороплюсь-учусь, хочется скорее помочь матушке-то; бывало, не удаётся чего — слезы лью. В два года с маленьким, гляди-ка ты, научилась делу, да и в славу по городу вошла: чуть кому хорошая работа нужна, сейчас к нам; ну-ка, Акуля, встряхни коклюшки! А я и рада, мне праздник! Конечно, не мое мастерство, а матушкин указ. Она хоть и об одной руке, сама-то не работница, так ведь показать умела. А хороший указчик дороже десяти работников. Ну, тут загордилась я: ты, мол, матушка, бросай по миру собирать, теперь я тебя одна-сама прокормлю! А она мне: «Молчи-ка знай, это тебе на приданое копится». Тут вскоре и дедушка насунулся, заметный парень был: двадцать два года, а уж водолив! Высмотрела меня мать его, видит: работница я, нищего человека дочь, значит смирной буду, н-ну… А была она калашница и злой души баба, не тем будь помянута… Эхма, что нам про злых вспоминать? Господь и сам их видит; он их видит, а беси любят.
И она смеётся сердечным смешком, нос ее дрожит уморительно, а глаза, задумчиво светясь, ласкают меня, говоря обо всем еще понятнее, чем слова.
Помню, был тихий вечер; мы с бабушкой пили чай в комнате деда; он был нездоров, сидел на постели без рубахи, накрыв плечи длинным полотенцем, и, ежеминутно отирая обильный пот, дышал часто, хрипло. Зелёные глаза его помутнели, лицо опухло, побагровело, особенно багровы были маленькие острые уши. Когда он протягивал руку за чашкой чая, рука жалобно тряслась. Был он кроток и не похож на себя.
— Что мне сахару не даешь? — капризным тоном балованного ребенка спрашивал он бабушку. Она отвечала ласково, но твердо:
— С мёдом пей, это тебе лучше!
Задыхаясь, крякая, он быстро глотал горячий чай и говорил:
— Ты гляди, не помереть бы мне!
— Не бойся, догляжу.
— То-то! Теперь помереть — это будет как бы вовсе и не жил, — всё прахом пойдет!
— А ты не говори, лежи немо!
С минуту он молчал, закрыв глаза, почмокивая тёмными губами, и вдруг, точно уколотый, встряхивался, соображал вслух:
— Яшку с Мишкой женить надобно как можно скорей; может, жёны да новые дети попридержат их — а?
И вспоминал, у кого в городе есть подходящие невесты. Бабушка помалкивала, выпивая чашку за чашкой; я сидел у окна, глядя, как рдеет над городом вечерняя заря и красно сверкают стёкла в окнах домов, — дедушка запретил мне гулять по двору и саду за какую-то провинность.
В саду, вокруг берез, гудя, летали жуки, бондарь работал на соседнем дворе, где-то близко точили ножи; за садом, в овраге, шумно возились ребятишки, путаясь среди густых кустов. Очень манило на волю, вечерняя грусть вливалась в сердце.
Вдруг дедушка, достав откуда-то новенькую книжку, громко шлёпнул ею по ладони и бодро позвал меня:
— Ну-ка, ты, пермяк, солёны уши, поди сюда! Садись, скула калмыцкая. Видишь фигуру? Это — аз. Говори: аз! Буки! Веди! Это — что?
— Буки.
— Попал! Это?
— Веди.
— Врешь, аз! Гляди: глаголь, добро, есть, — это что?
— Добро.
— Попал! Это?
— Глаголь.
— Верно! А это?
— Аз.
Вступилась бабушка:
— Лежал бы ты, отец, смирно…
— Стой, молчи! Это мне в пору, а то меня мысли одолевают. Валяй, Лексей!
Он обнял меня за шею горячей, влажной рукою и через плечо моё тыкал пальцем в буквы, держа книжку под носом моим. От него жарко пахло уксусом, потом и печеным луком, я почти задыхался, а он, приходя в ярость, хрипел и кричал в ухо мне:
— Земля! Люди!
Слова были знакомы, но славянские знаки не отвечали им: «земля» походила на червяка, «глаголь» — на сутулого Григория, «я» — на бабушку со мною, а в дедушке было что-то общее со всеми буквами азбуки. Он долго гонял меня по алфавиту, спрашивая и в ряд и вразбивку; он заразил меня своей горячей яростью, я вспотел и кричал во всё горло. Это смешило его; хватаясь за грудь, кашляя, он мял книгу и хрипел:
— Мать, ты гляди, как взвился, а? Ах, лихорадка астраханская, чего ты орешь, чего?
— Это вы кричите…
Мне весело было смотреть на него и на бабушку: она, облокотясь о стол, упираясь кулаком в щёки, смотрела на нас и негромко смеялась, говоря:
— Да будет вам надрываться-то!..
Дед объяснял мне дружески:
— Я кричу, потому что я нездоровый, а ты чего?
И говорил бабушке, встряхивая мокрой головою:
— А неверно поняла покойница Наталья, что памяти у него нету; память, слава богу, лошадиная! Вали дальше, курнос!
Наконец он шутливо столкнул меня с кровати.
— Будет! Держи книжку. Завтра ты мне всю азбуку без ошибки скажешь, и за это я тебе дам пятак…
Когда я протянул руку за книжкой, он снова привлёк меня к себе и сказал угрюмо:
— Бросила тебя мать-то поверх земли, брат…
Бабушка встрепенулась:
— Ай, отец, почто ты говоришь эдак?..
— Не сказал бы — горе нудит… Эх. какая девка заплуталась…
Он резко оттолкнул меня.
— Иди гуляй! На улицу не смей, а по двору да в саду…
Мне именно и нужно было в сад: как только я появлялся в нём, на горке, — мальчишки из оврага начинали метать в меня камнями, а я с удовольствием отвечал им тем же.
— Бырь пришёл! — кричали они, завидя меня и поспешно вооружаясь. Лупи его!
Я не знал, что такое «бырь», и прозвище не обижало меня, но было приятно отбиваться одному против многих, приятно видеть, когда метко брошенный тобою камень заставляет врага бежать, прятаться в кусты. Велись эти сражения беззлобно, кончались почти безобидно.
Грамота давалась мне легко, дедушка смотрел на меня все внимательнее и всё реже сёк, хотя, по моим соображениям, сечь меня следовало чаще прежнего: становясь взрослее и бойчей, я гораздо чаще стал нарушать дедовы правила и наказы, а он только ругался да замахивался на меня.
Мне подумалось, что, пожалуй, раньше-то он меня напрасно бил, и я однажды сказал ему это.
Легким толчком в подбородок он приподнял голову мою и, мигая, протянул:
— Чего-о?
И дробно засмеялся, говоря:
— Ах ты, еретик! Да как ты можешь сосчитать, сколько тебя сечь надобно! Кто может знать это, кроме меня? Сгинь, пошел!
Но тотчас же схватил меня за плечо и снова, заглянув в глаза, спросил:
— Хитер ты али простодушен, а?
— Не знаю…
— Не знаешь? Ну, так я тебе скажу: будь хитер, это лучше, а простодушность — та же глупость, понял? Баран простодушен. Запомни! Айда, гуляй…
Вскоре я уже читал по складам Псалтырь; обыкновенно этим занимались после вечернего чая, и каждый раз я должен был прочитать псалом.
— Буки-люди-аз-ла-бла; живе-те-иже-же блаже; наш-ер-блажен, выговаривал я, водя указкой по странице, и от скуки спрашивал:
— Блажен муж, — это дядя Яков?
— Вот я тресну тебя по затылку, ты и поймешь, кто блажен муж! сердито фыркая, говорил дед, но я чувствовал, что он сердится только по привычке, для порядка.
И почти никогда не ошибался: через минуту дед, видимо, забыв обо мне, ворчал:
— Н-да, по игре да песням он — царь Давид, а по делам — Авессалом ядовит! Песнотворец, словотёр, балагур… Эх вы-и! «Скакаше, играя веселыми ногами», а далеко доскачете? Вот — далеко ли?
Я переставал читать, прислушиваясь, поглядывая в его хмурое, озабоченное лицо; глаза его, прищурясь, смотрели куда-то через меня, в них светилось грустное, тёплое чувство, и я уже знал, что сейчас обычная суровость деда тает в нём. Он дробно стучал тонкими пальцами по столу, блестели окрашенные ногти, шевелились золотые брови.
— Дедушка!
— Ась?
— Расскажите что-нибудь.
— А ты читай, ленивый мужик! — ворчливо говорил он, точно проснувшись, протирая пальцами глаза. — Побасенки любишь, а Псалтырь не любишь…
Но я подозревал, что он и сам любит побасенки больше Псалтыря; он знал его почти весь на память, прочитывая, по обету, каждый вечер, перед сном, кафизму вслух и так, как дьячки в церкви читают часослов.
Я усердно просил его, и старик, становясь все мягче, уступал мне.
— Ну, ин ладно! Псалтырь навсегда с тобой останется, а мне скоро к богу на суд идти…
Отвалившись на вышитую шерстями спинку старинного кресла и всё плотнее прижимаясь к ней, вскинув голову, глядя в потолок, он тихо и задумчиво рассказывал про старину, про своего отца: однажды приехали в Балахну разбойники грабить купца Заева, дедов отец бросился на колокольню бить набат, а разбойники настигли его, порубили саблями и сбросили вниз из-под колоколов.
— Я о ту пору мал ребенок был, дела этого не видел, не помню; помнить себя я начал от француза, в двенадцатом году, мне как раз двенадцать лет минуло. Пригнали тогда в Балахну нашу десятка три пленников; все народ сухонькой, мелкой; одеты кто в чем, хуже нищей братии, дрожат, а которые и поморожены, стоять не в силе. Мужики хотели было насмерть перебить их, да конвой не дал. гарнизонные вступились, — разогнали мужиков по дворам. А после ничего, привыкли все; французы эти — народ ловкой, догадливый; довольно даже весёлые — песни, бывало, поют. Из Нижнего баре приезжали на тройках глядеть пленных; приедут и одни ругают, кулаками французам грозят, бивали даже; другие — разговаривают мило на ихнем языке, денег дают и всякой хурды-мурды теплой. А один барин-старичок закрыл лицо руками и заплакал: вконец — говорит — погубил француза злодей Бонапарт! Вот, видишь, как: русский был, и даже барин, а добрый: чужой народ пожалел…
С минуту он молчит, закрыв глаза, приглаживая ладонями волоса, потом продолжает, будя прошлое с осторожностью.
— Зима, метель метет по улице, мороз избы жмет, а они, французы, бегут, бывало, под окошко наше, к матери, — она калачи пекла да продавала, стучат в стекло, кричат, прыгают, горячих калачей просят. Мать в избу-то не пускала их, а в окно сунет калач, так француз схватит да за пазуху его, с пылу, горячий — прямо к телу, к сердцу; уж как они терпели это — нельзя понять! Многие поумирали от холода, они — люди тёплой стороны, мороз им непривычен. У нас в бане, на огороде, двое жили, офицер с денщиком Мироном; офицер был длинный, худущий, кости да кожа, в салопе бабьем ходил, так салоп по колени ему. Очень ласков был и пьяница; мать моя тихонько пиво варила-продавала, так он купит, напьется и песни поет. Научился по-нашему, лопочет, бывало: ваш сторона нет белый, он — чёрный, злой! Плохо говорил, а понять можно, верно это: верховые края наши неласковы, ниже-то во Волге теплей земля, а по-за Каспием будто и вовсе снегу не бывает. В это можно поверить: ни в Евангелии, ни в деяниях, ни того паче во Псалтыри про снег, про зиму не упоминается, а места жития Христова в той стороне… Вот Псалтырь кончим, начну я с тобой Евангелие читать.
Он снова молчит, точно задремал; думает о чем-то, смотрит в окно, скосив глаза, маленький и острый весь.
— Рассказывайте, — напоминаю я тихонько.
— Ну, вот, — вздрогнув, начинает он, — французы значит! Тоже люди, не хуже нас, грешных. Бывало, матери-то кричат: мадама, мадама, — это стало быть, моя дама, барыня моя, — а барыня-то из лабаза на себе мешок муки носила по пяти пудов весу. Силища была у неё не женская, до двадцати годов меня за волосья трясла очень легко, а в двадцать-то годов я сам неплох был. А денщик этот, Мирон, лошадей любил: ходит по дворам и знаками просит, дали бы ему лошадь почистить! Сначала боялись: испортит, враг; а после сами мужики стали звать его: айда, Мирон! Он усмехнётся, наклонит голову и быком идет. Рыжий был даже докрасна, носатый, толстогубый. Очень хорошо ходил за лошадьми и умел чудесно лечить их; после здесь, в Нижнем, коновалом был, да сошел с ума, и забили его пожарные до смерти. А офицер к весне чахнуть начал и в день Николы Вешнего помер тихо: сидел, задумавшись, в бане под окном да так и скончался, высунув голову на волю. Мне его жалко было, я даже поплакал тихонько о нём; нежным он был, возьмёт меня за уши и говорит ласково про что-то свое, и непонятно, а хорошо! Человечью ласку на базаре не купишь. Стал было он своим словам учить меня, да мать запретила, даже к попу водила меня, а поп высечь велел и на офицера жаловался. Тогда, брат, жили строго, тебе уж этого не испытать, за тебя другими обиды испытаны, и ты это запомни! Вот я, примерно, я такое испытал…
Стемнело. В сумраке дед странно увеличился; глаза его светятся, точно у кота. Обо всем он говорит негромко, осторожно, задумчиво, а про себя горячо, быстро и хвалебно. Мне не нравится, когда он говорит о себе, не нравятся его постоянные приказы:
— Запомни! Ты это запомни!
Многое из того, что он рассказывал, не хотелось помнить, но оно и без приказаний деда насильно вторгалось в память болезненной занозой. Он никогда не рассказывал сказок, а всё только бывалое, и я заметил, что он не любит вопросов; поэтому я настойчиво расспрашивал его:
— А кто лучше: французы или русские?
— Ну, как это знать? Я ведь не видал, каково французы у себя дома живут, — сердито ворчит он и добавляет:
— В своей норе и хорёк хорош…
— А русские хорошие?
— Со всячинкой. При помещиках лучше были; кованый был народ. А теперь вот все на воле — ни хлеба, ни соли! Баре, конечно, немилостивы, зато у них разума больше накоплено; не про всех это скажешь, но коли барин хорош, так уж залюбуешься! А иной и барин, да дурак, как мешок, — что в него сунут, то и несёт. Скорлупы у нас много; взглянешь — человек, а узнаешь — скорлупа одна, ядра-то нет, съедено. Надо бы нас учить, ум точить, а точила тоже нет настоящего…
— Русские сильные?
— Есть силачи, да не в силе дело — в ловкости; силы сколько ни имей, а лошадь всё сильней.
— А зачем французы нас воевали?
— Ну, война — дело царское, нам это недоступно понять!
Но на мой вопрос, кто таков был Бонапарт, дед памятно ответил:
— Был он лихой человек, хотел весь мир повоевать, и чтобы после того все одинаково жили, ни господ, ни чиновников не надо, а просто: живи без сословия! Имена только разные, а права одни для всех. И вера одна. Конечно, это глупость: только раков нельзя различить, а рыба — вся разная: осётр сому не товарищ, стерлядь селедке не подруга. Бонапарты эти и у нас бывали — Разин Степан Тимофеев, Пугач Емельян Иванов; я те про них после скажу…
Иногда он долго и молча разглядывал меня, округлив глаза, как будто впервые заметив. Это было неприятно.
И никогда не говорил со мною об отце моем, о матери.
Нередко на эти беседы приходила бабушка, тихо садилась в уголок, долго сидела там молча, невидная, и вдруг спрашивала мягко обнимавшим голосом:
— А помнишь, отец, как хорошо было. когда мы с тобой в Муром на богомолье ходили? В каком бишь это году?..
Подумав, дед обстоятельно отвечал:
— Точно не скажу, а было это до холеры, в год, когда олончан ловили по лесам.
— А верно! Ещё боялись мы их…
— То-то.
Я спрашивал: кто такие олончане и отчего они бегали по лесам, — дед не очень охотно объяснял:
— Олончане — просто мужики, а бегали из казны, с заводов, от работы.
— А как их ловили?
— Ну, как? Как мальчишки играют: одни — бегут, другие — ловят, ищут. Поймают, плетями бьют, кнутом; ноздри рвали тоже, клейма на лоб ставили для отметки, что наказан.
— За что?
— За спрос. Это — дела неясные, и кто виноват: тот ли, кто бежит, али тот, кто ловит, — нам не понять…
— А помнишь, отец, — снова говорит бабушка, — как после большого пожара… Любя во всём точность, дед строго спрашивает:
— Которого большого?
Уходя в прошлое, они забывали обо мне. Голоса и речи их звучат негромко и так ладно, что иногда кажется, точно они песню поют, невеселую песню о болезнях, пожарах, избиении людей, о нечаянных смертях и ловких мошенничествах, о юродивых Христа ради, о сердитых господах.
— Сколько прожито, сколько видано! — тихонько бормотал дед.
— Али плохо жили? — говорила бабушка. — Ты вспомни-ка, сколь хороша началась весна после того, как я Варю родила!
— Это — в сорок восьмом году, в самый венгерский поход: кума-то Тихона на другой день после крестин и погнали…
— И пропал, — вздыхает бабушка.
— И пропал, да! С того года божья благостыня, как вода на плот, в дом нам потекла. Эх, Варвара…
— А ты полно, отец…
Он сердился, хмурился.
— Чего полно? Не удались дети-то, с коей стороны ни взгляни на них. Куда сок-сила наша пошла? Мы с тобой думали — в лукошко кладём, а господь-от вложил в руки нам худое решето…
Он вскрикивал и, точно обожженный, бегал по комнате, болезненно покрякивая, ругая детей, грозя бабушке маленьким сухим кулаком.
— А все ты потакала им, татям, потатчица! Ты, ведьма!
В горестном возбуждении доходя до слезливого воя, совался в угол, к образам, бил с размаху в сухую, гулкую грудь:
— Господи, али я грешней других? За что-о?
И весь дрожал, обиженно и злобно сверкая мокрыми, в слезах, глазами.
Бабушка, сидя в темноте, молча крестилась, потом, осторожно подойдя к нему, уговаривала:
— Ну, что уж ты растосковался так? Господь знает, что делает. У многих ли дети лучше наших-то? Везде, отец, одно и то же — споры, да распри, да томаша. Все отцы-матери грехи свои слезами омывают, не ты один…
Иногда эти речи успокаивали его, он молча, устало валился в постель, а мы с бабушкой тихонько уходили к себе на чердак.
Но однажды, когда она подошла к нему с ласковой речью, он быстро повернулся и с размаху хряско ударил её кулаком в лицо. Бабушка отшатнулась, покачалась на ногах, приложив руку к губам, окрепла и сказала негромко, спокойно:
— Эх, дурак…
И плюнула кровью под ноги ему, а он дважды протяжно взвыл, подняв обе руки: — Уйди, убью!
— Дурак, — повторила бабушка, отходя от двери; дед бросился за нею, но она, не торопясь, перешагнула порог и захлопнула дверь пред лицом его.
— Старая шкура, — шипел дед, багровый, как уголь, держась за косяк, царапая его пальцами.
Я сидел на лежанке ни жив ни мёртв, не веря тому, что видел: впервые при мне он ударил бабушку, и это было угнетающе гадко, открывало что-то новое в нём — такое, с чем нельзя было примириться и что как будто раздавило меня. А он всё стоял, вцепившись в косяк, и, точно пеплом покрываясь, серел, съеживался. Вдруг вышел на середину комнаты, встал на колени и, не устояв, ткнулся вперед, коснувшись рукою пола, но тотчас выпрямился, ударил себя руками в грудь:
— Ну, господи…
Я съехал с тёплых изразцов лежанки, как по льду, бросился вон; наверху бабушка, расхаживая по комнате, полоскала рот.
— Тебе больно?
Она отошла в угол, выплюнула воду в помойное ведро и спокойно ответила:
— Ничего, зубы целы, губу разбил только.
— За что он?
Выглянув в окно на улицу, она сказала:
— Сердится, трудно ему, старому, неудачи всё… Ты ложись с богом, не думай про это…
Я спросил её еще о чем-то, но она необычно строго крикнула:
— Кому я говорю — ложись? Неслух какой…
Села у окна и, посасывая губу, стала часто сплёвывать в платок. Раздеваясь, я смотрел на неё: в синем квадрате окна над черной её головою сверкали звёзды. На улице было тихо, в комнате — темно.
Когда я лёг, она подошла и, тихонько погладив голову мою, сказала:
— Спи спокойно, а я к нему спущусь… Ты меня не больно жалей, голуба душа, я ведь тоже поди-ка и сама виновата… Спи!
Поцеловав меня, она ушла, а мне стало нестерпимо грустно, я выскочил из широкой, мягкой и жаркой кровати, подошёл к окну и, глядя вниз на пустую улицу, окаменел в невыносимой тоске.
VI
Снова началось что-то кошмарное. Однажды вечером, когда, напившись чаю, мы с дедом сели за Псалтырь, а бабушка начала мыть посуду, в комнату ворвался дядя Яков, растрёпанный, как всегда, похожий на изработанную метлу. Не здоровавшись, бросив картуз куда-то в угол, он скороговоркой начал, встряхиваясь, размахивая руками:
— Тятенька, Мишка буянит неестественно совсем! Обедал у меня, напился и начал безобразное безумие показывать: посуду перебил, изорвал в клочья готовый заказ — шерстяное платье, окна выбил, меня обидел, Григория. Сюда идет, грозится: отцу, кричит, бороду выдеру, убью! Вы смотрите…
Дед, упираясь руками в стол, медленно поднялся на ноги, лицо его сморщилось, сошлось к носу; стало жутко похоже на топор.
— Слышишь, мать? — взвизгнул он. — Каково, а? Убить отца идет, чу, сын родной! А пора! Пора, ребята…
Прошёлся по комнате, расправляя плечи, подошёл к двери, резко закинул тяжёлый крюк в пробой и обратился к Якову:
— Это вы всё хотите Варварино приданое сцапать? Нате-ка!
Он сунул кукиш под нос дяде; тот обиженно отскочил.
— Тятенька, я-то при чем?
— Ты? Знаю я тебя!
Бабушка молчала, торопливо убирая чашки в шкап.
— Я же защитить вас приехал…
— Ну? — насмешливо воскликнул дед. — Это хорошо! Спасибо, сынок! Мать, дай-кось лисе этой чего-нибудь в руку — кочергу, хоть, что ли, утюг! А ты, Яков Васильев, как вломится брат — бей его в мою голову!
Дядя сунул руки в карманы и отошёл в угол.
— Коли вы мне не верите…
— Верю? — крикнул дед, топнув ногой — Нет, всякому зверю поверю собаке, ежу, — а тебе погожу! Знаю: ты его напоил, ты научил! Ну-ко, вот бей теперь! На выбор бей: его, меня…
Бабушка тихонько шепнула мне:
— Беги наверх, гляди в окошко, а когда дядя Михайло покажется на улице, соскочи сюда, скажи! Ступай, скорее…
И вот я, немножко напуганный грозящим нашествием буйного дяди, но гордый поручением, возложенным на меня, торчу в окне, осматривая улицу; широкая, она покрыта густым слоем пыли, сквозь пыль высовывается опухолями крупный булыжник. Налево она тянется далеко и, пересекая овраг, выходит на Острожную площадь, где крепко стоит на глинистой земле серое здание с четырьмя башнями по углам — старый острог; в нем есть что-то грустно красивое, внушительное. Направо, через три дома от нашего, широко развёртывается Сенная площадь, замкнутая жёлтым корпусом арестантских рот и пожарной каланчой свинцового цвета. Вокруг глазастой вышки каланчи вертится пожарный сторож, как собака на цепи. Вся площадь изрезана оврагами, в одном на дне его стоит зеленоватая жижа, правее — тухлый Дюков пруд, куда, по рассказу бабушки, дядья зимою бросили в прорубь моего отца. Почти против окна — переулок, застроенный маленькими пёстрыми домиками; онупирается в толстую, приземистую церковь Трёх Святителей. Если смотреть прямо — видишь крыши, точно лодки, опрокинутые вверх дном в зеленых волнах садов.
Стёртые вьюгами долгих зим, омытые бесконечными дождями осени, слинявшие дома нашей улицы напудрены пылью; они жмутся друг к другу, как нищие на паперти, и тоже, вместе со мною, ждут кого-то, подозрительно вытаращив окна. Людей немного, двигаются они не спеша, подобно задумчивым тараканам на шестке печи. Душная теплота поднимается ко мне; густо слышны не любимые мною запахи пирогов с зелёным луком, с морковью; эти запахи всегда вызывают у меня уныние.
Скучно; скучно как-то особенно, почти невыносимо; грудь наполняется жидким, тёплым свинцом, он давит изнутри, распирает грудь, рёбра; мне кажется, что я вздуваюсь, как пузырь, и мне тесно в маленькой комнатке, под гробообразным потолком.
Вот он, дядя Михаил: он выглядывает из переулка, из-за угла серого дома; нахлобучил картуз на уши, и они оттопырились, торчат. На нём рыжий пиджак и пыльные сапоги до колен, одна рука в кармане клетчатых брюк, другою он держится за бороду. Мне не видно его лица, но он стоит так, словно собрался перепрыгнуть через улицу и вцепиться в дедов дом чёрными мохнатыми руками. Нужно бежать вниз, сказать, что он пришёл, но я не могу оторваться от окна и вижу, как дядя осторожно, точно боясь запачкать пылью серые сапоги, переходит улицу, слышу, как он отворяет дверь кабака, — дверь визжит, дребезжат стёкла.
Я бегу вниз, стучусь в комнату деда.
— Кто это? — грубо спрашивает он, не открывая. — Ты? Ну? В кабак зашёл? Ладно, ступай!
— Я боюсь там…
— Потерпишь!
Снова я торчу в окне. Темнеет; пыль на улице вспухла, стала глубже, чернее; в окнах домов масляно растекаются жёлтые пятна огней; в доме напротив — музыка, множество струн поют грустно и хорошо. И в кабаке тоже поют; когда отворится дверь, на улицу вытекает усталый, надломленный голос; я знаю, что это голос кривого нищего Никитушки, бородатого старика с красным углём на месте правого глаза, а левый плотно закрыт. Хлопнет дверь и отрубит его песню, как топором.
Бабушка завидует нищему: слушая его песни, она говорит, вздыхая:
— Экой ведь благодатной, — какие стихи знает. Удача!
Иногда она зазывает его во двор; он сидит на крыльце, опираясь на палку, и поёт, сказывает, а бабушка — рядом с ним, слушает, расспрашивает.
— Погоди-ка, да разве божия матерь и в Рязани была?
И нищий говорит басом, уверенно:
— Она везде была, по всем губерниям…
Невидимо течёт по улице сонная усталость и жмёт, давит сердце, глаза. Как хорошо, если б бабушка пришла! Или хотя бы дед. Что за человек был отец мой, почему дед и дядья не любили его, а бабушка, Григорий и нянька Евгенья говорят о нем так хорошо? А где мать моя?
Я всё чаще думаю о матери, ставя её в центр всех сказок и былей, рассказанных бабушкой. То, что мать не хочет жить в своей семье, всё выше поднимает её в моих мечтах; мне кажется, что она живёт на постоялом дворе при большой дороге, у разбойников, которые грабят проезжих богачей и делят награбленное с нищими. Может быть, она живёт в лесу, в пещере, тоже, конечно, с добрыми разбойниками, стряпает на них и сторожит награбленное золото. А может, ходит по земле, считая её сокровища, как ходила «князь-барыня» Енгалычева вместе с божией матерью, и богородица уговаривает мать мою, как уговаривала «князь-барыню»:
Не собрать тебе, раба жадная, Со всея земли злата, серебра; Не прикрыть тебе, душа алчная, Всем добром земли наготу твою…И мать отвечает ей словами «князь-барыни», разбойницы:
Ты прости, пресвятая богородица, Пожалей мою душеньку грешную. Не себя ради мир я грабила, А ведь ради сына единого!..И богородица, добрая, как бабушка, простит её, скажет:
Эх ты, Марьюшка, кровь татарская, Ой ты, зла-беда христианская! А иди, ино, по своему пути — И стезя твоя, и слеза твоя! Да не тронь хоть народа-то русского, По лесам ходи да мордву зори, По степям ходи, калмыка гони!..Вспоминая эти сказки, я живу, как во сне, меня будит топот, возня, рёв внизу, в сенях, на дворе; высунувшись в окно, я вижу, как дед, дядя Яков и работник кабатчика, смешной черемисин Мельян, выталкивают из калитки на улицу дядю Михаила; он упирается, его бьют по рукам, в спину, шею, пинают ногами, и наконец он стремглав летит в пыль улицы. Калитка захлопнулась, гремит щеколда и запор; через ворота перекинули измятый картуз; стало тихо.
Полежав немного, дядя приподнимается, весь оборванный, лохматый, берёт булыжник и мечет его в ворота; раздаётся гулкий удар, точно по дну бочки. Из кабака лезут тёмные люди, орут, храпят, размахивают руками; из окон домов высовываются человечьи головы — улица оживает, смеётся, кричит. Все это тоже как сказка, любопытная, но неприятная, пугающая.
И вдруг всё сотрётся, все замолчат, исчезнут.
…У порога, на сундуке, сидит бабушка, согнувшись, не двигаясь, не дыша; я стою пред ней и глажу её теплые, мягкие, мокрые щеки, но она, видимо, не чувствует этого и бормочет угрюмо:
— Господи, али не хватило у тебя разума доброго на меня, на детей моих? Господи, помилуй…
Мне кажется, что в доме на Полевой улице дед жил не более года — от весны до весны, но и за это время дом приобрел шумную славу; почти каждое воскресенье к нашим воротам сбегались мальчишки, радостно оповещая улицу:
— У Кашириных опять дерутся!
Обыкновенно дядя Михайло являлся вечером и всю ночь держал дом в осаде, жителей его в трепете; иногда с ним приходило двое-трое помощников, отбойных кунавинских мещан, они забирались из оврага в сад и хлопотали там во всю ширь пьяной фантазии, выдёргивая кусты малины и смородины; однажды они разнесли баню, переломав в ней всё, что можно было сломать: полок, скамьи, котлы для воды, а печь разметали, выломали несколько половиц, сорвали дверь, раму.
Дед, тёмный и немой, стоял у окна, вслушиваясь в работу людей, разорявших его добро; бабушка бегала где-то по двору, невидимая в темноте, и умоляюще взывала:
— Миша, что ты делаешь, Миша!
Из сада в ответ ей летела идиотски гнусная русская ругань, смысл которой, должно быть, недоступен разуму и чувству скотов, изрыгающих ее.
За бабушкой не угнаться в эти часы, а без неё страшно; я спускаюсь в комнату деда, но он хрипит встречу мне:
— Вон, ан-нафема!
Я бегу на чердак и оттуда через слуховое окно смотрю во тьму сада и двора, стараясь не упускать из глаз бабушку, боюсь, что её убьют, и кричу, зову. Она не идёт, а пьяный дядя, услыхав мой голос, дико и грязно ругает мать мою.
Однажды в такой вечер дед был нездоров, лежал в постели и, перекатывая по подушке обвязанную полотенцем голову, крикливо жалобился:
— Вот оно, чего ради жили, грешили, добро копили! Кабы не стыд, не срам, позвать бы полицию, а завтра к губернатору… Срамно! Какие же это родители полицией детей своих травят? Ну, значит, лежи, старик.
Он вдруг спустил ноги с кровати, шатаясь пошёл к окну, бабушка подхватила его под руки:
— Куда ты, куда?
— Зажги огонь! — задыхаясь, шумно всасывая воздух, приказал он.
А когда бабушка зажгла свечу, он в взял подсвечник в руки и, держа его пред собою, как солдат ружьё, закричал в окно насмешливо и громко:
— Эй, Мишка, вор ночной, бешеный пёс шелудивый!
Тотчас же вдребезги разлетелось верхнее стекло окна и на стол около бабушки упала половинка кирпича.
— Не попал! — завыл дед и засмеялся или заплакал.
Бабушка схватила его на руки, точно меня, и понесла на постель, приговаривая испуганно:
— Что ты, что ты, Христос с тобою! Ведь эдак-то — Сибирь ему; ведь разве он поймёт, в ярости, чтО Сибирь!..
Дед дрыгал ногами и рыдал сухо, хрипуче:
— Пускай убьёт…
За окном рычало, топало, царапало стену. Я взял кирпич со стола, побежал к окну; бабушка успела схватить меня и, швырнув в угол, зашипела:
— Ах ты, окаянный…
В другой раз дядя, вооружённый толстым колом, ломился со двора в сени дома, стоя на ступенях чёрного крыльца и разбивая дверь, а за дверью его ждали дедушка, с палкой в руках, двое постояльцев, с каким-то дрекольем, и жена кабатчика, высокая женщина, со скалкой; сзади их топталась бабушка, умоляя:
— Пустите вы меня к нему! Дайте слово сказать…
Дед стоял, выставив ногу вперёд, как мужик с рогатиной на картине «Медвежья охота»; когда бабушка подбегала к нему, он молча толкал её локтем и ногою. Все четверо стояли, страшно приготовившись; над ними на стене горел фонарь, нехорошо, судорожно освещая их головы; я смотрел на всё это с лестницы чердака, и мне хотелось увести бабушку вверх.
Дядя ломал дверь усердно и успешно, она ходуном ходила, готовая соскочить с верхней петли, — нижняя была уже отбита и противно звякала. Дед говорил соратникам своим тоже каким-то звякающим голосом:
— По рукам бейте, по ногам, пожалуйста, а по башке не надо…
Рядом с дверью в стене было маленькое окошко — только голову просунуть, дядя уже вышиб стекло из него, и оно, утыканное осколками, чернело, точно выбитый глаз.
Бабушка бросилась к нему, высунула руку на двор и, махая ею, закричала:
— Миша, Христа ради уйди! Изувечат тебя, уйди!
Он ударил её колом по руке; было видно, как, скользнув мимо окна, на руку ей упало что-то широкое, а вслед за этим и сама бабушка осела, опрокинулась на спину, успев еще крикнуть:
— Миш-ша, беги…
— А, мать? — страшно взвыл дед.
Дверь распахнулась, в чёрную дыру её вскочил дядя и тотчас, как грязь лопатой, был сброшен с крыльца.
Кабатчица отвела бабушку в комнату деда; скоро и он явился туда, угрюмо подошёл к бабушке.
— Кость цела?
— Ох, переломилась, видно, — сказала бабушка, не открывая глаз. — А с ним что сделали, с ним?
— Уймись! — строго крикнул дед. — Зверь, что ли, я? Связали, в сарае лежит. Водой окатил я его… Ну, зол! В кого бы это?
Бабушка застонала.
— За костоправкой я послал, — ты потерпи! — сказал дед, присаживаясь к ней на постель. — Изведут нас с тобою, мать; раньше сроку изведут!
— Отдай ты им все…
— А Варвара?
Они говорили долго; бабушка — тихо и жалобно, он — крикливо, сердито.
Потом пришла маленькая старушка, горбатая, с огромным ртом до ушей; нижняя челюсть у неё тряслась, рот был открыт, как у рыбы, и в него через верхнюю губу заглядывал острый нос. Глаз её было не видно; она едва двигала ногами, шаркая по полу клюкою, неся в руке какой-то гремящий узелок.
Мне показалось, что это пришла бабушкина смерть; я подскочил к ней и заорал во всю силу:
— Пошла вон!
Дед неосторожно схватил меня и весьма нелюбезно отнёс на чердак…
VII
Я очень рано понял, что у деда — один бог, а у бабушки — другой.
Бывало — проснётся бабушка, долго, сидя на кровати, чешет гребнем свои удивительные волосы, дёргает головою, вырывает, сцепив зубы, целые пряди длинных чёрных шелковинок и ругается шёпотом, чтоб не разбудить меня:
— А, пострели вас! Колтун вам, окаянные…
Кое-как распутав их, она быстро заплетает толстые косы, умывается наскоро, сердито фыркая, и, не смыв раздражения с большого, измятого сном лица, встаёт перед иконами, — вот тогда и начиналось настоящее утреннее омовение, сразу освежавшее всю её.
Выпрямив сутулую спину, вскинув голову, ласково глядя на круглое лицо Казанской божией матери, она широко, истово крестилась и шумно, горячо шептала:
— Богородица преславная, подай милости твоея на грядущий день, матушка!
Кланялась до земли, разгибала спину медленно и снова шептала всё горячей и умилённее:
— Радости источник, красавица пречистая, яблоня во цвету!..
Она почти каждое утро находила новые слова хвалы, и это всегда заставляло меня вслушиваться в молитву её с напряженным вниманием.
— Сердечушко моё чистое, небесное! Защита моя и покров, солнышко золотое, мати господня, охрани от наваждения злого, не дай обидеть никого, и меня бы не обижали зря!
С улыбкой в тёмных глазах и как будто помолодевшая, она снова крестилась медленными движениями тяжёлой руки.
— Исусе Христе, сыне божий, буди милостив ко мне, грешнице, матери твоея ради…
Всегда её молитва была акафистом, хвалою искренней и простодушной.
Утром она молилась недолго; нужно было ставить самовар, — прислугу дед уже не держал; если бабушка опаздывала приготовить чай к сроку, установленному им, он долго и сердито ругался.
Иногда он, проснувшись раньше бабушки, всходил на чердак и, заставая её за молитвой, слушал некоторое время её шёпот, презрительно кривя тонкие, тёмные губы, а за чаем ворчал:
— Сколько я тебя, дубовая голова, учил, как надобно молиться, а ты всё своё бормочешь, еретица! Как только терпит тебя господь!
— Он поймёт, — уверенно отвечала бабушка. — Ему что ни говори — он разберёт…
— Чуваша проклятая! Эх вы-и…
Её бог был весь день с нею, она даже животным говорила о нём. Мне было ясно, чти этому богу легко и покорно подчиняется всё: люди, собаки, птицы, пчёлы и травы; он ко всему на земле был одинаково добр, одинаково близок.
Однажды балованный кот кабатчицы, хитрый сластёна и подхалим, дымчатый, золотоглазый, любимец всего двора, притащил из сада скворца; бабушка отняла измученную птицу и стала упрекать кота:
— Бога ты не боишься, злодей подлый!
Кабатчица и дворник посмеялись над этими словами, но бабушка гневно закричала на них:
Думаете — скоты бога не понимают? Всякая тварь понимает это не хуже вас, безжалостные…
Запрягая ожиревшего, унылого Шарапа, она беседовала с ним:
— Что ты скучен, богов работник, а? Старенький ты…
Конь вздыхал, мотая головою.
И всё-таки имя божие она произносила не так часто, как дед. Бабушкин бог был понятен мне и не страшен, но пред ним нельзя было лгать, стыдно. Он вызывал у меня только непобедимый стыд, и я никогда не лгал бабушке. Было просто невозможно скрыть что-либо от этого доброго бога. и, кажется, даже не возникало желания скрывать.
Однажды кабатчица, поссорившись с дедом, изругала заодно с ним и бабушку, не принимавшую участия в ссоре, изругала злобно и даже бросила в неё морковью.
— Ну, и дура вы, сударыня моя, — спокойно сказала ей бабушка, а я жестоко обиделся и решил отомстить злодейке.
Я долго измышлял, чем бы уязвить больнее эту рыжую толстую женщину с двойным подбородком и без глаз.
По наблюдениям моим над междоусобицами жителей я знал, что они, мстя друг другу за обиды, рубят хвосты кошкам, травят собак, убивают петухов и кур или, забравшись ночью в погреб врага, наливают керосин в кадки с капустой и огурцами, выпускают квас из бочек, но — всё это мне не нравилось, нужно было придумать что-нибудь более внушительное и страшное.
Я придумал: подстерег, когда кабатчица спустилась в погреб, закрыл над ней творило, запер его, сплясал на нём танец мести и, забросив ключ на крышу, стремглав прибежал в кухню, где стряпала бабушка. Она не сразу поняла мой восторг, а поняв, нашлёпала меня, где подобает, вытащила на двор и послала на крышу за ключом. Удивлённый её отношением, я молча достал ключ и, убежав в угол двора, смотрел оттуда, как она освобождала пленную кабатчицу и как обе они, дружелюбно посмеиваясь, идут по двору.
— Я-а тебя, — погрозила мне кабатчица пухлым кулаком, но её безглазое лицо добродушно улыбалось. А бабушка взяла меня за шиворот, привела в кухню и спросила:
— Это ты зачем сделал?
— Она в тебя морковью кинула…
— Значит, это ты из-за меня? Так! Вот я тебя, брандахлыст, мышам в подпечек суну, ты и очнёшься! Какой защитник — взгляньте на пузырь, а то сейчас лопнет! Вот скажу дедушке — он те кожу-то спустит! Ступай на чердак, учи книгу…
Целый день она не разговаривала со мною, а вечером, прежде чем встать на молитву, присела на постель и внушительно сказала памятные слова:
— Вот что, Лёнька, голуба душа, ты закажи себе это: в дела взрослых не путайся! Взрослые — люди порченые; они богом испытаны, а ты ещё нет, и живи детским разумом. Жди, когда господь твоего сердца коснётся, дело твоё тебе укажет, на тропу твою приведёт, — понял? А кто в чём виноват — это дело не твоё. Господу судить и наказывать. Ему, а — не нам!
Она помолчала, понюхала табаку и, прищурив правый глаз, добавила:
— Да поди-ка и сам-от господь не всегда в силе понять, где чья вина…
— Разве бог не всё знает? — спросил я, удивлённый, я она тихонько и печально ответила:
— Кабы всё-то знал, так бы многого поди люди-то не делали бы. Он, чай, батюшка, глядит-глядит с небеси-то на землю, на всех нас, да в иную минуту как восплачет, да как возрыдает: «Люди вы мои, люди, милые мои люди! Ох, как мне вас жалко!»
Она сама заплакала и, не отирая мокрых щёк, отошла в угол молиться.
С той поры её бог стал ещё ближе и понятней мне.
Дед, поучая меня, тоже говорил, что бог — существо вездесущее, всеведущее, всевидящее, добрая помощь людям во всех делах, но молился он не так, как бабушка.
Утром, перед тем как встать в угол к образам, он долго умывался, потом, аккуратно одетый, тщательно причёсывал рыжие волосы, оправлял бородку и, осмотрев себя в зеркало, одёрнув рубаху, заправив черную косынку за жилет, осторожно, точно крадучись, шёл к образам. Становился он всегда на один и тот же сучок половицы, подобный лошадиному глазу, с минуту стоял молча, опустив голову, вытянув руки вдоль тела, как солдат. Потом, прямой и тонкий, внушительно говорил:
— «Во имя отца и сына и святаго духа!»
Мне казалось, что после этих слов в комнате наступала особенная тишина, — даже мухи жужжат осторожнее.
Он стоит, вздернув голову; брови у него приподняты, ощетинились, золотистая борода торчит горизонтально; он читает молитвы твёрдо, точно отвечая урок: голос его звучит внятно и требовательно.
— «Напрасно судия приидет, и коегождо деяния обнажатся…»
Не шибко бьёт себя по груди кулаком и настойчиво просит:
— «Тебе единому согреших, — отврати лице твоё от грех моих…»
Читает «Верую», отчеканивая слова; правая нога его вздрагивает, словно бесшумно притопывая в такт молитве; весь он напряжённо тянется к образам, растёт и как бы становится всё тоньше, суше, чистенький такой, аккуратный и требующий:
— «Врача родшая, уврачуй души моея многолетние страсти! Стенания от сердца приношу ти непрестанно, усердствуй, владычице!»
И громко взывает, со слезами на зелёных глазах:
— «Вера же вместо дел да вменится мне, боже мой, да не взыщеши дел, отнюдь оправдывающих мя!»
Теперь он крестится часто, судорожно, кивает головою, точно бодаясь, голос его взвизгивает и всхлипывает. Позднее, бывая в синагогах, я понял, что дед молился, как еврей.
Уже самовар давно фыркает на столе, по комнате плавает горячий запах ржаных лепёшек с творогом, — есть хочется! Бабушка хмуро прислонилась к притолоке и вздыхает, опустив глаза в пол; в окно из сада смотрит весёлое солнце, на деревьях жемчугами сверкает роса, утренний воздух вкусно пахнет укропом, смородиной, зреющими яблоками, а дед всё ещё молится, качается, взвизгивает:
— «Погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен!»
Я знаю на память все молитвы утренние и все на сон грядущий, — знаю и напряжённо слежу: не ошибётся ли дед, не пропустит ли хоть слово?
Это случалось крайне редко и всегда возбуждало у меня злорадное чувство.
Кончив молиться, дед говорил мне и бабушке:
— Здравствуйте!
Мы кланялись и наконец садились за стол. Тут я говорил деду:
— А ты сегодня «довлеет» пропустил!
— Врёшь? — беспокойно и недоверчиво спрашивает он.
— Уж пропустил! Надо: «Но та вера моя да довлеет вместо всех», а ты и не сказал «довлеет».
— На ко вот! — восклицает он, виновато мигая глазами.
Потом он чем-нибудь горько отплатит мне за это указание, не пока, видя его смущённым, я торжествую.
Однажды бабушка шутливо сказала:
— А скушно поди-ка богу-то слушать моленье твоё, отец, — всегда ты твердишь одно да всё то же.
— Чего-о это? — зловеще протянул он — Чего ты мычишь?
— Говорю, от своей-то души ни словечка господу не подаришь ты никогда, сколько я ни слышу!
Он побагровел, затрясся и, подпрыгнув на стуле, бросил блюдечко в голову ей, бросил и завизжал, как пила на сучке:
— Вон, старая ведьма!
Рассказывая мне о необоримой силе божией, он всегда и прежде всего подчёркивал её жестокость: вот, согрешили люди и — потоплены, ещё согрешили и — сожжены, разрушены города их; вот бог наказал людей голодом и мором, и всегда он — меч над землёю, бич грешникам.
— Всяк, нарушающий непослушанием законы божии, наказан будет горем и погибелью! — постукивая костями тонких пальцев по столу, внушал он.
Мне было трудно поверить в жестокость бога. Я подозревал, что дед нарочно придумывает всё это, чтобы внушить мне страх не пред богом, а пред ним. И я откровенно спрашивал его:
— Это ты говоришь, чтобы я слушался тебя?
А он так же откровенно отвечал:
— Ну, конешно! Ещё бы не слушался ты?!
— А как же бабушка?
— Ты ей, старой дуре, не верь! — строго учил он. — Она смолоду глупа, она безграмотна и безумна. Я вот прикажу ей, чтобы не смела она говорить с тобой про эти великие дела! 0твечай мне: сколько есть чинов ангельских?
Я отвечал и спрашивал:
— А кто такие чиновники?
— Эк тебя мотает! — усмехался он, пряча глаза, и, пожевав губами, объяснял неохотно:
— Это бога не касаемо, чиновники, это — человеческое! Чиновник суть законоед, он законы жрёт.
— Какие законы?
— Законы? Это значит — обычаи, — веселее и охотнее говорил старик, поблескивая умными, колючими глазами. — Живут люди, живут и согласятся: вот эдак — лучше всего, это мы и возьмём себе за обычай, поставим правилом, законом! Примерно: ребятишки, собираясь играть, уговариваются, как игру вести, в каком порядке. Ну, вот уговор этот и есть закон!
— А чиновники?
— А чиновник озорнику подобен, придёт и все законы порушит.
— Зачем?
— Ну, этого тебе не понять! — строго нахмурясь, говорит он и снова внушает:
— Надо всеми делами людей — господь! Люди хотят одного, а он другого. Всё человечье — непрочно, дунет господь, — и всё во прах, в пыль!
У меня было много причин интересоваться чиновниками, и я допытывался:
— А вон дядя Яков поёт:
Светлы ангелы — божии чины, А чиновники — холопи сатаны!Дед приподнял ладонью бородку, сунул её в рот и закрыл глаза. Щёки у него дрожали. Я понял, что он внутренне смеётся.
— Связать бы вас с Яшкой по ноге да пустить по воде! — сказал он. Песен этих ни ему петь, ни тебе слушать не надобно. Это — кулугурские шутки, раскольниками придумано, еретиками. И, задумавшись, устремив глаза куда-то через меня, он тихонько тянул:
— Эх вы-и…
Но, ставя бога грозно и высоко над людьми, он, как и бабушка, тоже вовлекал его во все свои дела, — и его и бесчисленное множество святых угодников. Бабушка же как будто совсем не знала угодников, кроме Николы, Юрия, Фрола и Лавра, хотя они тоже были очень добрые и близкие людям: ходили по деревням и городам, вмешиваясь в жизнь людей, обладая всеми свойствами их. Дедовы же святые были почти все мученики, они свергали идолов, спорили с римскими царями, и за это их пытали, жгли, сдирали с них кожу.
Иногда дед мечтал:
— Помог бы господь продать домишко этот, хоть с пятьюстами пользы отслужил бы я молебен Николе Угоднику!
Бабушка, посмеиваясь, говорила мне:
— Так ему, старому дураку, Никола и станет дома продавать, — нет у него, Николы-батюшки, никакого дела лучше-то!
У меня долго хранились дедовы святцы, с разными надписями его рукою, в них, между прочим, против дня Иоакима и Анны было написано рыжими чернилами и прямыми буквами: «Избавили от беды, милостивци».
Я помню эту «беду»: заботясь о поддержке неудавшихся детей, дедушка стал заниматься ростовщичеством, начал тайно принимать вещи в заклад. Кто-то донёс на него, и однажды ночью нагрянула полиция с обыском. Была великая суета, но всё кончилось благополучно; дед молился до восхода солнца и утром при мне написал в святцах эти слова.
Перед ужином он читал со мною Псалтырь, часослов или тяжёлую книгу Ефрема Сирина, а поужинав, снова становился на молитву, и в тишине вечерней долго звучали унылые, покаянные слова:
— «Что ти принесу или что ти воздам, великодаровитый бессмертный царю… И соблюди нас от всякого мечтания… Господи, покрый мя от человек некоторых… Даждь ми слёзы и память смертную…» А бабушка нередко говаривала:
— Ой, как сёдни устала я! Уж, видно, не помолясь лягу…
Дед водил меня в церковь: по субботам — ко всенощной, по праздникам к поздней обедне. Я и во храме разделял, когда какому богу молятся: всё, что читают священник и дьячок, — это дедову богу, а певчие поют всегда бабушкину.
Я, конечно, грубо выражаю то детское различие между богами, которое, помню, тревожно раздвояло мою душу, но дедов бог вызывал у меня страх и неприязнь: он не любил никого, следил за всем строгим оком, он, прежде всего, искал и видел в человеке дурное, злое, грешное. Было ясно, что он не верит человеку, всегда ждёт покаяния и любит наказывать.
В те дни мысли и чувства о боге были главной пищей моей души, самым красивым в жизни, — все же иные впечатления только обижали меня своей жестокостью и грязью, возбуждая отвращение и грусть. Бог был самым лучшим и светлым из всего, что окружало меня, — бог бабушки, такой милый друг всему живому. И, конечно, меня не мог не тревожить вопрос: как же это дед не видит доброго бога? Меня не пускали гулять на улицу, потому что она слишком возбуждала меня, я точно хмелел от её впечатлений и почти всегда становился виновником скандалов и буйств. Товарищей у меня не заводилось, соседские ребятишки относились ко мне враждебно; мне не нравилось, что они зовут меня Кашириным, а они, замечая это, тем упорнее кричали друг другу:
— Кощея Каширина внучонок вышел, глядите!
— Валяй его!
И начиналась драка.
Был я не по годам силён и в бою ловок, — это признавали сами же враги, всегда нападавшие на меня кучей. Но всё-таки улица всегда била меня, и домой я приходил обыкновенно с расквашенным носом, рассечёнными губами и синяками на лице, оборванный, в пыли.
Бабушка встречала меня испуганно, соболезнуя:
— Что, редькин сын, опять дрался? Да что же это такое, а? Как я тебя начну, с руки на руку…
Мыла мне лицо, прикладывала к синякам бодягу, медные монеты или свинцовую примочку и уговаривала:
— Ну, что ты всё дерёшься? Дома смирный, а на улице ни на что не похож! Бесстыдник. Вот скажу дедушке, чтоб он не выпускал тебя…
Дедушка видел мои синяки, но никогда не ругался, только крякал и мычал:
— Опять с медалями? Ты у меня, Аника-воин, не смей на улицу бегать, слышишь!
Меня и не тянула улица, если на ней было тихо, но когда я слышал весёлый ребячий гам, то убегал со двора, не глядя на дедов запрет. Синяки и ссадины не обижали, но неизменно возмущала жестокость уличных забав, жестокость, слишком знакомая мне, доводившая до бешенства. Я не мог терпеть, когда ребята стравливали собак или петухов, истязали кошек, гоняли еврейских коз, издевались над пьяными нищими и блаженным Игошей Смерть в Кармане.
Это был высокий, сухой и копчёный человек, в тяжёлом тулупе из овчины, с жёсткими волосами на костлявом, заржавевшем лице. Он ходил по улице согнувшись, странно качаясь, и молча, упорно смотрел в землю под ноги себе. Его чугунное лицо, с маленькими грустными глазами, внушало мне боязливое почтение — думалось, что этот человек занят серьёзным делом, он чего-то ищет, и мешать ему не надобно. Мальчишки бежали за ним, лукая камнями в сутулую спину. Он долго как бы не замечал их и не чувствовал боли ударов, но вот остановился, вскинул голову в мохнатой шапке, поправил шапку судорожным движением руки и оглядывается, словно только что проснулся.
— Игоша Смерть в Кармане! Игош, куда идешь? Гляди — смерть в кармане! — кричат мальчишки.
Он хватался рукою за карман, потом, быстро наклонясь, поднимал с земли камень, чурку, ком сухой грязи и, неуклюже размахивая длинной рукою, бормотал ругательство. Ругался он всегда одними и теми же тремя погаными словами, — в этом отношении мальчишки были неизмеримо богаче его. Иногда он гнался за ними, прихрамывая; длинный тулуп мешал ему бежать, он падал на колени, упираясь в землю чёрными руками, похожими на сухие сучки. Ребятишки садили ему в бока и спину камни, наиболее смелые подбегали вплоть и отскакивали, высыпав на голову его пригоршни пыли.
Другим и, может быть, ещё более тяжким впечатлением улицы был мастер Григорий Иванович. Он совсем ослеп и ходил по миру, высокий, благообразный, немой. Его водила под руку маленькая серая старушка; останавливаясь под окнами, она писклявым голосом тянула, всегда глядя куда-то вбок:
— Подайте, Христа ради, слепому, убогому…
А Григорий Иванович молчал. Чёрные очки его смотрели прямо в стену дома, в окно, в лицо встречного; насквозь прокрашенная рука тихонько поглаживала широкую бороду, губы его были плотно сжаты. Я часто видел его, но никогда не слыхал ни звука из этих сомкнутых уст, и молчание старика мучительно давило меня. Я не мог подойти к нему, никогда не подходил, а напротив, завидя его, бежал домой и говорил бабушке:
— Григорий ходит по улице!
— Ну? — беспокойно и жалостно восклицала она. — На-ко, беги, подай ему!
Я отказывался грубо и сердито. Тогда она сама шла за ворота и долго разговаривала с ним, стоя на тротуаре. Он усмехался, тряс бородой, но сам говорил мало, односложно.
Иногда бабушка, зазвав его в кухню, поила чаем, кормила. Как-то раз он спросил: где я? Бабушка позвала меня, но я убежал и спрятался в дровах. Не мог я подойти к нему — было нестерпимо стыдно пред ним, и я знал, что бабушке — тоже стыдно. Только однажды говорили мы с нею о Григории: проводив его за ворота, она шла тихонько по двору и плакала, опустив голову. Я подошел к ней, взял её руку. — Ты что же бегаешь от него? — тихо спросила она. — Он тебя любит, он хороший ведь…
— Отчего дедушка не кормит его? — спросил я.
— Дедушка-то?
Она остановилась, прижала меня к себе и почти шёпотом, пророчески сказала:
— Помяни моё слово: горестно накажет нас господь за этого человека! Накажет…
Она не ошиблась: лет через десять, когда бабушка уже успокоилась навсегда, дед сам ходил по улицам города нищий и безумный, жалостно выпрашивая под окнами:
— Повара мои добрые, подайте пирожка кусок, пирожка-то мне бы! Эх вы-и…
Прежнего от него только и осталось, что это горькое, тягучее, волнующее душу:
— Эх вы-и…
Кроме Игоши и Григория Ивановича, меня давила, изгоняя с улицы, распутная баба Ворониха. Она появлялась в праздники, огромная, растрёпанная, пьяная. Шла она какой-то особенной походкой, точно не двигая ногами, не касаясь земли, двигалась, как туча, и орала похабные песни. Все встречные прятались от неё, заходя в ворота домов, за углы, в лавки, — она точно мела улицу. Лицо у неё было почти синее, надуто, как пузырь, большие, серые глаза страшно и насмешливо вытаращены. А иногда она выла, плакала:
— Деточки мои, где вы?
Я спрашивал бабушку: что это?
— Нельзя тебе знать! — ответила она угрюмо, но всё-таки рассказала кратко: был у этой женщины муж, чиновник Воронов, захотелось ему получить другой, высокий чин, он и продал жену начальнику своему, а тот её увёз куда-то, и два года она дома не жила. А когда воротилась, дети её — мальчик и девочка — померли уже, муж проиграл казённые деньги и сидел в тюрьме. И вот с горя женщина начала пить, гулять, буянить. Каждый праздник к вечеру её забирает полиция…
Нет, дома было лучше, чем на улице. Особенно хороши были часы после обеда, когда дед уезжал в мастерскую дяди Якова, а бабушка, сидя у окна, рассказывала мне интересные сказки, истории, говорила про отца моего.
Скворцу, отнятому ею у кота, она обрезала сломанное крыло, а на место откушенной ноги ловко пристроила деревяшку и, вылечив птицу, учила её говорить. Стоит, бывало, целый час перед клеткой на косяке окна — большой такой, добрый зверь — и густым голосом твердит переимчивой, чёрной, как уголь, птице:
— Ну, проси: скворушке — кашки!
Скворец, скосив на неё круглый, живой глаз юмориста, стучит деревяшкой о тонкое дно клетки, вытягивает шею и свистит иволгой, передразнивает сойку, кукушку, старается мяукнуть кошкой, подражает вою собаки, а человечья речь — не даётся ему.
— Да ты не балуй! — серьёзно говорит ему бабушка. — Ты говори: скворушке — кашки!
Чёрная обезьяна в перьях оглушительно орёт что-то похожее на слова бабушки, — старуха смеётся радостно, даёт птице просяной каши с пальца и говорит:
— Я тебя, шельму, знаю; притворяшка ты — всё можешь, всё умеешь!
И ведь выучила скворца: через некоторое время он довольно ясно просил каши, а завидя бабушку, тянул что-то похожее на — «Дра-астуй…»
Сначала он висел в комнате деда, но скоро дед изгнал его к нам, на чердак, потому что скворец выучился дразнить дедушку; дед внятно произносит слова молитв, а птица, просунув восковой жёлтый нос между палочек клетки, высвистывает:
— Тью, тью, тью-иррь, ту-иррь, ти-и-ррь, тью-уу!
Деду показалось обидным это; однажды он, прервав молитву, топнул ногой и закричал свирепо:
— Убери его, дьявола, — убью!
Много было интересного в доме, много забавного, но порою меня душила неотразимая тоска, весь я точно наливался чем-то тяжким и подолгу жил, как в глубокой тёмной яме, потеряв зрение, слух и все чувства, слепой и полумертвый…
VIII
Дед неожиданно продал дом кабатчику, купив другой, по Канатной улице; немощёная, заросшая травою, чистая и тихая, она выходила прямо в поле и была снизана из маленьких, пёстро окрашенных домиков.
Новый дом был нарядней, милей прежнего; его фасад покрашен тёплой и спокойной тёмно-малиновой краской; на нём ярко светились голубые ставни трёх окон и одинарная решётчатая ставня чердачного окна; крышу с левой стороны красиво прикрывала густая зелень вяза и липы. На дворе и в саду было множество уютных закоулков, как будто нарочно для игры в прятки. Особенно хорош сад, небольшой, но густой, и приятно запутанный; в одном углу его стояла маленькая, точно игрушка, баня; в другом была большая довольно глубокая яма; она заросла бурьяном, а из него торчали толстые головни, остатки прежней, сгоревшей бани. Слева сад ограждала стена конюшен полковника Овсянникова, справа — постройки Бетленга; в глубине он соприкасался. с усадьбой молочницы Петровны, бабы толстой, красной, шумной, похожей на колокол; её домик, осевший в землю, тёмный и ветхий, хорошо покрытый мхом, добродушно смотрел двумя окнами в поле, исковырянное глубокими оврагами, с тяжёлой синей тучей леса вдали; по полю целый день двигались, бегали солдаты; в косых лучах осеннего солнца сверкали белые молнии штыков.
Весь дом был тесно набит невиданными мною людями: в передней половине жил военный из татар, с маленькой, круглой женою; она с утра до вечера кричала, смеялась, играла на богато украшенной гитаре и высоким, звонким голосом пела чаще других задорную песню:
Одна любишь — не рада, Искать другую надо! Умей её найти. И ждёт тебя награда, На верном сём пути! О-о, са-ладкая нагр-рада-а!Военный, круглый, как шар, сидя у окна, надувал синее лицо и, весело выкатывая какие-то рыжие глаза, непрерывно курил трубку, кашлял странным, собачьим звуком:
— Вух, вух-вух-хх…
В тёплой пристройке над погребом и конюшней помещались двое ломовых извозчиков: маленький, сивый дядя Петр, немой племянник его Стёпа, гладкий, литой парень, с лицом, похожим на поднос красной меди, — и невесёлый, длинный татарин Валей, денщик. Всё это были люди новые, богатые незнакомым для меня.
Но особенно крепко захватил и потянул меня к себе нахлебник Хорошее Дело. Он снимал в задней половине дома комнату рядом с кухней, длинную, в два окна — в сад и на двор.
Это был худощавый, сутулый человек, с белым лицом в чёрной раздвоенной бородке, с добрыми глазами, в очках. Был он молчалив, незаметен и, когда его приглашали обедать, чай пить, неизменно отвечал:
— Хорошее дело.
Бабушка так и стала звать его в глаза и за глаза.
— Лёнька, кричи Хорошее Дело чай пить! Вы, Хорошее Дело, что мало кушаете?
Вся комната его была заставлена и завалена какими-то ящиками, толстыми книгами незнакомой мне гражданской печати; всюду стояли бутылки с разноцветными жидкостями, куски меди и железа, прутья свинца. С утра до вечера он, в рыжей кожаной куртке, в серых клетчатых штанах, весь измазанный какими-то красками, неприятно пахучий, встрёпанный и неловкий, плавил свинец. паял какие-то медные штучки, что-то взвешивал на маленьких весах, мычал, обжигал пальцы и торопливо дул на них, подходил, спотыкаясь, к чертежам на стене и, протерев очки, нюхал чертежи, почти касаясь бумаги тонким и прямым, странно белым носом. А иногда вдруг останавливался среди комнаты или у окна и долго стоял, закрыв глаза, подняв лицо, остолбеневший, безмолвный.
Я влезал на крышу сарая и через двор наблюдал за ним в открытое окно, видел синий огонь спиртовой лампы на столе, тёмную фигуру; видел, как он пишет что-то в растрёпанной тетради, очки его блестят холодно и синевато, как льдины; колдовская работа этого человека часами держала меня на крыше, мучительно разжигая любопытство.
Иногда он, стоя в окне, как в раме, спрятав руки за спину, смотрел прямо на крышу, но меня как будто не видел, и это очень обижало. Вдруг отскакивал к столу и, согнувшись вдвое, рылся на нём.
Я думаю, что я боялся бы его, будь он богаче, лучше одет, но он был беден: над воротником его куртки торчал измятый, грязный ворот рубахи, штаны — в пятнах и заплатах, на босых ногах — стоптанные туфли. Бедные — не страшны, не опасны, в этом меня незаметно убедило жалостное отношение к ним бабушки и презрительное — со стороны деда.
Никто в доме не любил Хорошее Дело; все говорили о нём посмеиваясь; весёлая жена военного звала его «меловой нос», дядя Пётр — аптекарем и колдуном, дед — чернокнижником, фармазоном.
— Чего он делает? — спросил я бабушку. Она строго откликнулась:
— Не твоё дело; молчи знай…
Однажды, собравшись, с духом, я подошёл к его окну и спросил, едва скрывая волнение:
— Ты чего делаешь?
Он вздрогнул, долго смотрел на меня поверх очков и, протянув мне руку в язвах и шрамах ожогов, сказал:
— Влезай…
То, что он предложил войти к нему не через дверь, а через окно, ещё более подняло его в моих глазах. Он сел на ящик, поставил меня перед собой, отодвинул, придвинул снова и наконец спросил негромко:
— Ты откуда?
Это было странно: я четыре раза в день сидел в кухне за столом около него! Я ответил:
— Здешний внук…
— Ага, да, — сказал он, осматривая свой палец, и замолчал.
Тогда я счёл возможным пояснить ему:
— Я не Каширин, а — ПешкОв…
— ПЕшков? — неверно повторил он. — Хорошее дело.
Отодвинул меня в сторону, поднялся и, уходя к столу сказал:
— Ну, сиди смирно…
Я сидел долго-долго, наблюдая, как он скоблит рашпилем кусок меди, зажатый в тиски; на картон под тисками падают золотые крупинки опилок. Вот он собрал их в горсть, высыпал в толстую чашку, прибавил к ним из баночки пыли, белой, как соль, облил чем-то из тёмной бутылки, — в чашке зашипело, задымилось, едкий запах бросился в нос мне, я закашлялся, замотал головою, а он, колдун, хвастливо спросил:
— Скверно пахнет?
— Да!
— То-то же! Это, брат, весьма хорошо!
«Чем хвастается!» — подумалось мне, и я строго сказал:
— Если скверно, так уж не хорошо…
— Ну? — воскликнул он, подмигивая. — Это, брат, не всегда, однако! А ты в бабки играешь?
— В козны?
— В козны, да?
— Играю.
— Хочешь — налиток сделаю? Хорошая битка будет!
— Хочу. — Неси давай бабку.
Он снова подошел ко мне, держа дымящуюся чашку в руке, заглядывая в неё одним глазом, подошел и сказал:
— Я тебе налиток сделаю; а ты за это не ходи ко мне, — хорошо?
Это меня прежестоко обидело.
— Я и так не приду никогда…
Обиженный, я ушел в сад; там возился дедушка, обкладывая навозом корни яблонь; осень была, уже давно начался листопад.
— Ну-ко, подстригай малину, — сказал дед, подавая мне ножницы.
Я спросил его:
— Хорошее Дело чего строит?
— Горницу портит, — сердито ответил он. — Пол прожёг, обои попачкал, ободрал. Вот скажу ему — съезжал бы!
— Так и надо, — согласился я, принимаясь остригать сухие лозы малинника.
Но я — поспешил.
Дождливыми вечерами, если дед уходил из дома, бабушка устраивала в кухне интереснейшие собрания, приглашая пить чай всех жителей: извозчиков, денщика; часто являлась бойкая Петровна, иногда приходила даже весёлая постоялка, и всегда в углу, около печи, неподвижно и немотно торчал Хорошее Дело. Немой Стёпа играл с татарином в карты; Валей хлопал ими по широкому носу немого и приговаривал:
— Аш-шайтан!
Дядя Пётр приносил огромную краюху белого хлеба и варенье «семечки» в большой глиняной банке, резал хлеб ломтями, щедро смазывал их вареньем и раздавал всем эти вкусные малиновые ломти, держа их на ладони, низко кланяясь.
— Пожалуйте-ко милостью, покушайте! — ласково просил он, а когда у него брали ломоть, он внимательно осматривал свою тёмную ладонь и, заметя на ней капельку варенья, слизывал его языком.
Петровна приносила вишнёвую наливку в бутылке, весёлая барыня — орехи и конфетти. Начинался пир горой, любимое бабушкино удовольствие.
Спустя некоторое время после того, как Хорошее Дело предложил мне взятку за то, чтоб я не ходил к нему в гости, бабушка устроила такой вечер. Сыпался и хлюпал неуёмный осенний дождь, ныл ветер, шумели деревья, царапая сучьями стену, — в кухне было тепло, уютно, все сидели близко друг ко другу, все были как-то особенно мило тихи, а бабушка на редкость щедро рассказывала сказки, одна другой лучше.
Она сидела на краю печи, опираясь ногами о приступок, наклонясь к людям, освещенным огнём маленькой жестяной лампы; уж это всегда, если она была в ударе, она забиралась на печь, объясняя:
— Мне сверху надо говорить, — сверху-то лучше!
Я поместился у ног её, на широком приступке, почти над головою Хорошего Дела. Бабушка сказывала хорошую историю про Ивана-воина и Мирона-отшельника; мерно лились сочные, веские слова:
Жил-был злой воевода Гордион, Чёрная душа, совесть каменная; Правду он гнал, людей истязал, Жил во зле, словно сыч в дупле. Пуще же всего невзлюбил Гордион Старца Мирона-отшельника, Тихого правды защитника, Миру добродея бесстрашного. Кличет воевода верного слугу, Храброго Иванушку-воина: — Подь-ка, Иванко, убей старика, Старчища Мирона кичливого! Подь да сруби ему голову, Подхвати её за сиву бороду, Принеси мне, я собак прокормлю! Пошёл Иван, послушался. Идет Иван, горько думает: «Не сам иду — нужда ведёт! Знать, такая мне доля от господа» Спрятал вострый меч Иван под полу, Пришёл, поклонился отшельнику: — Всё ли ты здоров, честной старичок? Как тебя, старца, господь милует? Тут прозорливец усмехается, Мудрыми устами говорит ему: — Полно-ка, Иванушко, правду-то скрывать! Господу богу — всё ведомо. Злое и доброе — в его руке! Знаю ведь, пошто ты пришел ко мне! Стыдно Иванке пред отшельником, А и боязно Ивану ослушаться. Вынул он меч из кожаных ножон, Вытер железо широкой полой. — Я было, Мироне, хотел тебя убить Так, чтобы ты и меча не видал. Ну, а теперь — молись господу, Молись ты ему в останний раз За себя, за меня, за весь род людской, А после я тебе срублю голову!.. Стал на коленки старец Мирон, Встал он тихонько под дубок молодой, Дуб перед ним преклоняется. Старец говорит, улыбаючись: — Ой, Иван, гляди — долго ждать тебе! Велика молитва за весь род людской! Лучше бы сразу убить меня, Чтобы тебе лишнего не маяться! Тут Иван сердито прихмурился, Тут он глупенько похвастался: — Нет, уж коли сказано — так сказано! Ты знай молись, я хоть век подожду! Молится отшельник до вечера, С вечера он молится до утренней зари, С утренней зари он вплоть до ночи, С лета он молится опять до весны. Молится Мироне год за годом, Дуб-от молодой стал до облака, С жёлудя его густо лес пошёл, А святой молитве всё нет конца! Так они по сей день и держатся: Старче всё тихонько богу плачется, просит у бога людям помощи, У преславной богородицы — радости, А Иван-от воин стоит около, Меч его давно в пыль рассыпался, Кованы доспехи съела ржавчина, Добрая одёжа поистлела вся. Зиму и лето гол стоит Иван, Зной его сушит — не высушит, Гнус ему кровь точит — не выточит, Волки, медведи — не трогают, Вьюги да морозы — не для него. Сам-от он не в силе с места двинуться, Ни руки поднять и ни слова сказать, Это, вишь, ему в наказанье дано: Злого бы приказу не слушался, За чужую совесть не прятался! А молитва старца за нас, грешников, И по сей добрый час течёт ко господу, Яко светлая река в окиян-море!Уже в начале рассказа бабушки я заметил, что Хорошее Дело чем-то обеспокоен: он странно, судорожно двигал руками, снимал и надевал очки, помахивал ими в меру певучих слов, кивал головою, касался глаз, крепко нажимая их пальцами, и всё вытирал быстрым движением ладони лоб и щёки, как сильно вспотевший. Когда кто-либо из слушателей двигался, кашлял, шаркал ногами, нахлебник строго шипел:
— Шш!
А когда бабушка замолчала, он бурно вскочил и, размахивая руками, как-то неестественно закружился, забормотал:
— Знаете, это удивительно, это надо записать, непременно! Это страшно верное, наше…
Теперь ясно было видно, что он плачет, — глаза его были полны слёз; они выступали сверху и снизу, глаза купались в них; это было странно и очень жалостно. Он бегал но кухне, смешно, неуклюже подпрыгивая, размахивал очками перед носом своим, желая надеть их, и всё не мог зацепить проволоку за уши. Дядя Пётр усмехался, поглядывая на него, все сконфуженно молчали, а бабушка торопливо говорила:
— Запишите, что же, греха в этом нету; я и ещё много знаю эдакого…
— Нет, именно это! Это — страшно русское, — возбуждённо выкрикивал нахлебник и, вдруг остолбенев среди кухни, начал громко говорить, рассекая воздух правой рукою, а в левой дрожали очки. Говорил долго, яростно, подвизгивая и притопывая ногою, часто повторяя одни и те же слова:
— Нельзя жить чужой совестью, да, да!
Потом вдруг как-то сорвался с голоса, замолчал, поглядел на всех и тихонько, виновато ушёл, склонив голову. Люди усмехались, сконфуженно переглядываясь, бабушка отодвинулась глубоко на печь, в тень, и тяжко вздыхала там.
Отирая ладонью красные, толстые губы, Петровна спросила:
— Рассердился будто?
— Не, — ответил дядя Петр. — Это он так себе…
Бабушка слезла с печи и стала молча подогревать самовар, а дядя Петр, не торопясь, говорил:
— Господа все такие — капризники!
Валей угрюмо буркнул:
— Холостой всегда дурит!
Все засмеялись, а дядя Пётр тянул:
— До слёз дошел. Видно — бывало, щука клевала, а ноне и плотва едва…
Стало скучно; какое-то уныние щемило сердце. Хорошее Дело очень удивил меня, было жалко его, — так ясно помнились его утонувшие глаза.
Он не ночевал дома, а на другой день пришёл после обеда — тихий, измятый, явно сконфуженный.
— Вчера я шумел, — сказал он бабушке виновато, словно маленький. — Вы не сердитесь?
— На что же?
— А вот, что я вмешался, говорил?
— Вы никого не обидели…
Я чувствовал, что бабушка боится его, не смотрит в лицо ему и говорит необычно — тихо слишком.
Он подошёл вплоть к ней н сказал удивительно просто:
— Видите ли, я страшно один, нет у меня никого! Молчишь, молчишь, — и вдруг — вскипит в душе, прорвёт… Готов камню говорить, дереву…
Бабушка отодвинулась от него.
— А вы бы женились…
— Э! — воскликнул он, сморщившись, и ушёл, махнув рукой.
Бабушка, нахмурясь, поглядела вслед ему, понюхала табаку и потом строго сказала мне:
— Ты, гляди, не очень вертись около него; бог его знает, какой он такой…
А меня снова потянуло к нему.
Я видел, как изменилось, опрокинулось его лицо, когда он сказал «страшно один»; в этих словах было что-то понятное мне, тронувшее меня за сердце, и я пошёл за ним.
Заглянул со двора в окно его комнаты, — она была пуста и похожа на чулан, куда наскоро, в беспорядке, брошены разные ненужные вещи, — такие же ненужные и странные, как их хозяин. Я пошёл в сад и там, в яме, увидал его; согнувшись, закинув руки за голову, упираясь локтями в колени, он неудобно сидел на конце обгоревшего бревна; бревно было засыпано землёю, а конец его, лоснясь углем, торчал в воздухе над жухлой полынью, крапивой, лопухом. И то, что ему было неудобно сидеть, ещё более располагало к этому человеку.
Он долго не замечал меня, глядя куда-то мимо, слепыми глазами филина, потом вдруг спросил как будто с досадой:
— За мной?
— Нет.
— А что же?
— Так.
Он снял очки, протёр их платком в красных и черных пятнах и сказал:
— Ну, полезай сюда!
Когда я сел рядом с ним, он крепко обнял меня за плечи.
— Сиди… Будем сидеть и молчать- ладно? Вот это самое… Ты упрямый?
— Да.
— Хорошее дело!
Молчали долго. Вечер был тихий, кроткий, один из тех грустных вечеров бабьего лета, когда всё вокруг так цветисто и так заметно линяет, беднеет с каждым часом, а земля уже истощила все свои сытные, летние запахи, пахнет только холодной сыростью, воздух же странно прозрачен и в красноватом небе суетно мелькают галки, возбуждая невеселые мысли. Всё немотно и тихо; каждый звук — шорох птицы, шелест упавшего листа — кажется громким, заставляет опасливо вздрогнуть, но, вздрогнув, снова замираешь в тишине она обняла всю землю и наполняет грудь. В такие минуты родятся особенно чистые, лёгкие мысли, но они тонки, прозрачны, словно паутина, и неуловимы словами. Они вспыхивают и исчезают быстро, как падающие звёзды, обжигая душу печалью о чём-то, ласкают её, тревожат, и тут она кипит, плавится, принимая свою форму на всю жизнь, тут создаётся её лицо.
Прижимаясь к тёплому боку нахлебника, я смотрел вместе с ним сквозь чёрные сучья яблонь на красное небо, следил за полетами хлопотливых чечёток, видел, как щеглята треплют маковки сухого репья, добывая его терпкие зерна, как с поля тянутся мохнатые, сизые облака с багряными краями, а под облаками тяжело летят вороны ко гнездам, на кладбище. Всё было хорошо и как-то особенно — не по-всегдашнему — понятно и близко.
Иногда человек спрашивал, глубоко вздохнув:
— Славно, брат? То-то? А не сыро, не холодно?
А когда небо потемнело и все вокруг вспухло, наливаясь сырым сумраком, он сказал:
— Ну, будет! Идем…
У калитки сада он остановился, тихо говоря:
— Хороша у тебя бабушка, — о, какая земля!
Закрыл глаза и, улыбаясь, прочитал негромко, очень внятно:
Это ему в наказанье дано: Злого бы приказа не слушался, За чужую совесть не прятался!..Ты, брат, запомни это, очень!
И, поталкивая меня вперёд, спросил:
— Ты писать умеешь?
— Нет.
— Научись. А научишься — записывай, что бабушка рассказывает, — это, брат, очень годится…
Мы подружились. С этого дня я приходил к Хорошему Делу, когда хотел, садился в ящик с каким-то тряпьем и невозбранно следил, как он плавит свинец, греет медь; раскалив, куёт железные пластины на маленькой наковальне лёгким молотком с красивой ручкой, работает рашпилем, напильником, наждаком, и тонкой, как нитка, пилою… И всё взвешивает на чутких медных весах. Сливая в толстые белые чашки разные жидкости, смотрит, как они дымятся, наполняют комнату едким запахом, морщится, смотрит в толстую книгу и мычит, покусывая красные губы, или тихонько тянет сиповатым голосом:
О, роза Сарона…— Это чего ты делаешь?
— Одну штуку, брат…
— Какую?
— А-а, видишь ли, не умею я сказать так, чтоб ты понял…
— Дедушка говорит, что ты, может, фальшивые деньги делаешь…
— Дедушка? Мм… Ну, это он пустяки говорит! Деньги, брат, — ерунда…
— А чем за хлеб платить?
— Н-да, брат, за хлеб надобно платить, верно…
— Видишь? И за говядину тоже…
— И за говядину…
Он тихонько удивительно мило смеется, щекочет меня за ухом, точно кутёнка, и говорит:
— Никак не могу я спорить с тобой, — забиваешь ты, брат, меня: давай лучше помолчим…
Иногда он прерывал работу, садился рядом со мною, и мы долго смотрели в окно, как сеет дождь на крыши, на двор, заросший травою, как беднеют яблони, теряя лист. Говорил Хорошее Дело скупо, но всегда какими-то нужными словами; чаще же, желая обратить на что-либо мое внимание, он тихонько толкал меня и показывал глазом, подмигивая.
Ничего особенного я не вижу на дворе, но от этих толчков локтём и от кратких слов все видимое кажется особо значительным, все крепко запоминается. Вот по двору бежит кошка, остановилась перед светлой лужей и, глядя на своё отражение, подняла мягкую лапу, точно ударить хочет его, Хорошее Дело говорит тихонько:
— Кошки горды и недоверчивы…
Золотисто-рыжий петух Мамай, взлетев на изгородь сада, укрепился, встряхнул крыльями, едва не упал и, обидевшись, сердито бормочет, вытянув шею.
— Важен генерал, а не очень умный…
Идёт неуклюжий Валей, ступая по грязи тяжело, как старая лошадь; скуластое лицо его надуто, он смотрит, прищурясь в небо, а оттуда прямо на грудь ему падает белый осенний луч, — медная пуговица на куртке Валея горит, татарин остановился и трогает её кривыми пальцами.
— Точно медаль получил, любуется…
Я быстро и крепко привязался к Хорошему Делу, он стал необходим для меня и во дни горьких обид, и в часы радостей. Молчаливый, он не запрещал мне говорить обо всём, что приходило в голову мою, а дед всегда обрывал меня строгим окриком:
— Не болтай, бесова мельница!
Бабушка же была так полна своим, что уж не слышала и не принимала чужого.
Хорошее Дело всегда слушал мою болтовню внимательно и часто говорил мне, улыбаясь:
— Ну, это, брат, не так, это ты сам выдумал…
И всегда его краткие замечания падали вовремя, были необходимы, — он как будто насквозь видел всё, что делалось в сердце и голове у меня, видел все лишние, неверные слова раньше, чем я успевал сказать их, видел и отсекал прочь двумя ласковыми ударами:
— Врёшь, брат!
Я нередко нарочно испытывал эту его колдовскую способность; бывало, выдумаю что-нибудь и рассказываю как бывшее, но он, послушав немножко, отрицательно качал головою:
— Ну, врешь, брат…
— А почему ты знаешь?
— Уж я, брат, вижу…
Часто, отправляясь на Сенную площадь за водой, бабушка брала меня с собою, и однажды мы увидели, как пятеро мещан бьют мужика, — свалили его на землю и рвут, точно собаки собаку. Бабушка сбросила вёдра с коромысла и, размахивая им, пошла на мещан, крикнув мне:
— Беги прочь!
Но я испугался, побежал за нею и стал швырять в мещан голышами, камнями, а она храбро тыкала мещан коромыслом, колотила их по плечам, по башкам. Вступились и ещё какие-то люди, мещане убежали, бабушка стала мыть избитого; лицо у него было растоптано, я и сейчас с отвращением вижу, как он прижимал грязным пальцем оторванную ноздрю, и выл, и кашлял, а из-под пальца брызгала кровь в лицо бабушке, на грудь ей; она тоже кричала, тряслась вся.
Когда я, придя домой, вбежал к нахлебнику и стал рассказывать ему, он бросил работу и остановился предо мной, подняв длинный напильник, как саблю, глядя на меня из-под очков пристально и строго, а потом вдруг прервал меня, говоря необычно внушительно:
— Прекрасно, именно так и было всё! Очень хорошо!
Потрясённый виденным, я не успел удивиться его словам и продолжал говорить, но он обнял меня и, расхаживая по комнате, спотыкаясь, заговорил:
— Довольно, больше не надо! Ты уж, брат, все сказал, что надо, понимаешь? Все!
Я замолчал, обидясь, но, подумав, с изумлением, очень памятным мне, понял, что он остановил меня вовремя: действительно я всё сказал.
— Ты, брат, на этих случаях не останавливайся, — это нехорошо запоминать! — сказал он.
Иногда он неожиданно говорил мне слова, которые так и остались со мною на всю жизнь. Рассказываю я ему о враге моем Клюшникове, бойце из Новой улицы, толстом, большеголовом мальчике, которого ни я не мог одолеть в бою, ни он меня. Хорошее Дело внимательно выслушал горести мои и сказал:
— Это — ерунда; такая сила — не сила! Настоящая сила — в быстроте движения; чем быстрей, тем сильней — понял?
В следующее воскресенье я попробовал действовать кулаками быстрее и легко победил Клюшникова. Это ещё более подняло мое внимание к словам нахлебника.
— Всякую вещь надо уметь взять, понимаешь? Это очень трудно — уметь взять!
Я не понял ничего, но невольно запоминал такие и подобные слова, именно потому запоминал, что в простоте этих слов было нечто досадно таинственное; ведь не требовалось никакого особого уменья взять камень, кусок хлеба, чашку, молоток!
А в доме Хорошее Дело всё больше не любили; даже ласковая кошка весёлой постоялки не влезала на колени к нему, как лазала ко всем, и не шла на ласковый зов его. Я её бил за это, трепал ей уши и, чуть не плача, уговаривал её не бояться человека.
— У меня одежда пахнет кислотами, вот кошка и не идёт ко мне, объяснял он, но я знал, что все, даже бабушка, объясняли это иначе, враждебно нахлебнику, неверно и обидно.
— Пошто ты торчишь у него? — сердито спрашивала бабушка. — Гляди, научит он тебя чему-нибудь…
А дед жестоко колотил меня за каждое посещение нахлебника, которое становилось известно ему, рыжему хорьку. Я, конечно, не говорил Хорошему Делу о том, что мне запрещают знакомство с ним, но откровенно рассказывал, как относятся к нему в доме.
— Бабушка тебя боится, она говорит — чернокнижник ты, а дедушка тоже, что ты богу враг и людям опасный…
Он дергал головою, как бы отгоняя мух; на меловом его лице розовато вспыхивала улыбка, от которой у меня сжималось сердце и зеленело в глазах.
— Я, брат, вижу уж! — тихонько говорил он. — Это, брат, грустно, а?
— Да!
— Грустно, брат…
Наконец его выжили.
Однажды я пришел к нему после утреннего чая и вижу, что он, сидя на полу, укладывает свои вещи в ящики, тихонько напевая о розе Сарона.
— Ну, прощай, брат, вот я и уезжаю…
— Зачем?
Он пристально посмотрел на меня, говоря:
— Разве ты не знаешь? Комната нужна для твоей матери…
— Это кто сказал?
— Дедушка…
— Врёт он!
Хорошее Дело потянул меня за руку к себе, и, когда я сел на пол, он заговорил тихонько:
— Не сердись! А я, брат, подумал, что ты знаешь, да не сказал мне; это нехорошо, подумал я…
Было грустно и досадно на него за что-то.
— Послушай-ко, — почти шёпотом говорил он, улыбаясь, — ты помнишь, я тебе сказал — не ходи ко мне? Я кивнул головой.
— Обиделся ты на меня, да?
— Да…
— А я, брат, не хотел тебя обидеть; я, видишь ли, знал: если ты со мной подружишься, твои станут ругать тебя, — так? Было так? Ты понял, почему я сказал это?
Он говорил, словно маленький, одних лет со мною; а я страшно обрадовался его словам; мне даже показалось, что я давно, еще тогда, понял его; я так и сказал:
— Это я давно понял!
— Ну, вот! Так-то, брат. Вот это самое, голубчик…
У меня нестерпимо заныло сердце.
— Отчего они не любят тебя никто?
Он обнял меня, прижал к себе и ответил, подмигнув:
— Чужой — понимаешь? Вот за это самое. Не такой…
Я дергал его за рукав, не зная, не умея, что сказать.
— Не сердись, — повторил он и шёпотом, на ухо, добавил: — Плакать тоже не надо…
А у самого тоже слёзы текут из-под мутных очков.
И потом, как всегда, мы долго сидели в молчании, лишь изредка перекидываясь краткими словами.
Вечером он уехал, ласково простившись со всеми, крепко обняв меня. Я вышел за ворота и видел, как он трясся на телеге, разминавшей колёсами кочки мёрзлой грязи. Тотчас после его отъезда бабушка принялась мыть и чистить грязную комнату, а я нарочно ходил из угла в угол и мешал ей.
— Уйди! — кричала она, натыкаясь на меня.
— Вы зачем прогнали его?
— А ты поговори!
— Дураки вы все, — сказал я.
Она стала шлёпать меня мокрой тряпкой, крича:
— Да ты ошалел, пострел!
— Не ты, а все другие дураки, — поправился я, но это её не успокоило.
За ужином дед говорил:
— Ну, слава богу! А то, бывало, как увижу его, — нож в сердце: ох, надобно выгнать!
Я со зла изломал ложку и снова потерпел.
Так кончилась моя дружба с первым человеком из бесконечного ряда чужих людей в родной своей стране, — лучших людей её…
IX
В детстве я представляю сам себя ульем, куда разные простые, серые люди сносили, как пчёлы, мёд своих знаний и дум о жизни, щедро обогащая душу мою, кто чем мог. Часто мёд этот бывал грязен и горек, но всякое знание — всё-таки мёд.
После отъезда Хорошего Дела со мною подружился дядя Пётр. Он был похож на деда: такой же сухонький, аккуратный, чистый, но был он ниже деда ростом и весь меньше его; он походил на подростка, нарядившегося для шутки стариком. Лицо у него было плетёное, как решето, всё из тонких кожаных жгутиков, между ними прыгали, точно чижи в клетке, смешные бойкиё глаза с желтоватыми белками. Сивые волосы его курчавились, бородка вилась кольцами; он курил трубку, дым её — одного цвета с волосами — тоже завивался, и речь его была кудрява, изобилуя прибаутками. Говорил он жужжащим голосом и будто ласково, но мне всегда казалось, что он насмешничает надо всеми.
— В начале годов повелела мне барыня-графиня, Татьян, свет, Лексевна, «будь кузнецом», а спустя некоторое время приказывает: «Помогай садовнику!» Ладно; только, как мужика ни положь — всё не хорош! В другое время она говорит: «Тебе, Петрушка, рыбу ловить!» А для меня всё едино, я и рыбу… Однако только я пристрастился — прощай рыба, спасибо; а мне — в город ехать, в извозчики, на оброк. Ну, что ж, в извозчики, а — ещё как? А ещё уж ничего не поспели мы с барыней переменить, подошла воля и остался при лошади, теперь она у меня за графиню ходит.
Была она старенькая, и точно её, белую, однажды начал красить разными красками пьяный маляр, — начал, да и не кончил. Ноги у неё были вывихнуты, и вся она — из тряпок шита, костлявая голова с мутными глазами печально опущена, слабо пристёгнутая к туловищу вздутыми жилами и старой, вытертой кожей. Дядя Пётр относился к ней почтительно, не бил и называл Танькой.
Дед сказал ему однажды:
— Ты что это скота христианским именем зовёшь?
— Никак, Василь Васильев, никак, почтенный! Христианского такого имени нет — Танька, а есть — Татиана!
Дядя Пётр тоже был грамотен и весьма начитан от Писания, они всегда спорили с дедом, кто из святых кого святее; осуждали, один другого строже, древних грешников; особенно же доставалось — Авессалому. Иногда споры принимали характер чисто грамматический, дедушка говорил: «согрешихом, беззаконновахом, неправдовахом», а дядя Пётр утверждал, что надо говорить «согрешиша, беззаконноваша, неправдоваша».
— Ино дело — по-моему, ино — по-твоему! горячился дед, багровея, и дразнил: — ВашА, шишА!
Но дядя Пётр, окружаясь дымом, ехидно спрашивал:
— А чем лучше хомы твои? Нисколько они богу не лучше! Бог-от, может, молитву слушая, думает: молись как хошь, а цена тебе — грош!
— Уйди, Лексей! — яростно кричал дед, сверкая зелёными глазами.
Пётр очень любил чистоту, порядок; идя по двору, он всегда откидывал в сторону ударом ноги щепки, черепки, кости, — откидывал и упрекал вдогонку:
— Лишняя вещь, а — мешаешь!
Он был словоохотлив, казался добрым, весёлым, но порою глаза его наливались кровью, мутнели и останавливались, как у мёртвого. Бывало, сидит он где-нибудь в углу, в темноте, скорчившись, угрюмый, немой, как его племянник.
— Ты — что, дядя Пётр?
— Отойди, — говорил он глухо и строго.
В одном из домиков нашей улицы поселился какой-то барин, с шишкой на лбу и чрезвычайно странной привычкой: по праздникам он садился у окна и стрелял из ружья дробью в собак, кошек, кур, ворон, а также и в прохожих, которые не нравились ему. Однажды он осеял бекасинником бок Хорошего Дела; дробь не пробила кожаной куртки, но несколько штук очутилось в кармане её; я помню, как внимательно нахлебник рассматривал сквозь очки сизые дробины. Дед стал уговаривать его жаловаться, но он сказал, отбросив дробины в угол кухни:
— Не стоит.
Другой раз стрелок всадил несколько дробин в ногу дедушке; дед рассердился, подал прошение мировому, стал собирать в улице потерпевших и свидетелей, но барин вдруг исчез куда-то.
И вот, каждый раз, когда на улице бухали выстрелы, дядя Пётр — если был дома — поспешно натягивал на сивую голову праздничный выгоревший картуз, с большим козырьком, и торопливо бежал за ворота. Там он прятал руки за спину под кафтан и, приподняв его, как петушиный хвост, выпятив живот, солидно шёл по тротуару мимо стрелка; пройдёт, воротится назад и снова. Мы, весь дом, стоим у ворот, из окна смотрит синее лицо военного, над ним — белокурая голова его жены; со двора Бетленга тоже вышли какие-то люди, только серый, мёртвый дом Овсянникова не показывает никого.
Иногда дядя Пётр гуляет без успеха, — охотник, видимо, не признаёт его дичью, достойной выстрела, но порою двуствольное ружьё бухает раз за разом:
— Бух-бух…
Не ускоряя шага, дядя Пётр подходит к нам и, очень довольный, говорит:
— В полу хлестнул!
Однажды дробь попала ему в плечо и шею; бабушка, выковыривая её иголкой, журила дядю Петра:
— Что ты ему, дикому, потакаешь? А ну он глаз тебе выбьет!
— Не-е, никак, Акулина Иванна, — пренебрежительно тянул Пётр. — Он стрелок никакой…
— Да ты-то пОшто балуешь его?
— Я разве балую? Мне охота подразнить барина…
И, разглядывая на ладони извлечённые дробины, говорил:
— Никакой стрелец! А вот у барыни-графини, Татьян Лексевны, состоял временно в супружеской должности, — она мужьёв меняла вроде бы лакеев, — так состоял при ней, говорю, Мамонт Ильич, военный человек, ну — он правильно стрелял! Он, бабушка, пулями, не иначе! Поставит Игнашку-дурачка за далеко, шагов, может, за сорок, а на пояс дураку бутылку привяжет так, что она у него промеж ног висит, а Игнашка ноги раскорячит, смеётся по глупости. Мамонт Ильич наведёт пистолет — бац! Хряснула бутылка. Только, единова, овод, что ли, Игнашку укусил — дёрнулся он, а пуля ему в коленку, в самую в чашечку! Позвали лекаря, сейчас он ногу отчекрыжил — готово! Схоронили её…
— А дурачок?
— Он — ничего. Дураку ни ног, ни рук не надо, он и глупостью своей сытно кормится. Глупого всякий любит, глупость безобидна. Сказано: и дьяк и повытчик, коли дурак — так не обидчик…
Бабушку эдакие рассказы не удивляли, она сама знала их десятки, а мне становилось немножко жутко, я спрашивал Петра:
— А до смерти убить может барин?
— Отчего не мочь? Мо-ожет. Они даже друг друга бьют. К Татьян Лексевне приехал улан, повздорили они с Мамонтом, сейчас пистолеты в руки, пошли в парк, там, около пруда, на дорожке, улан этот бац Мамонту — в самую печень! Мамонта — на погост, улана — на Кавказ, — вот те и вся недолга! Это они сами себя! А про мужиков и прочих — тут уж нечего говорить! Теперь им поди — особо не жаль людей-то, не ихние стали люди, ну, а прежде всё-таки жалели — своё добро!
— Ну, и тогда не больно жалели, — говорит бабушка.
Дядя Пётр соглашается:
— И это верно: свое добро, да — дешёвое…
Ко мне он относился ласково, говорил со мною добродушнее, чем с большими, и не прятал глаз, но что-то не нравилось мне в нём. Угощая всех любимым вареньем, намазывал мой ломоть хлеба гуще, привозил мне из города солодовые пряники, маковую сбойну и беседовал со мною всегда серьёзно, тихонько.
— Как жить будем, сударик? В солдаты пойдёшь али в чиновники?
— В солдаты.
— Это — хорошо. Теперь и солдату не трудно стало. В попы тоже хорошо, покрикивай себе — осподи помилуй, — да и вся недолгА! Попу даже легше, чем солдату, а ещё того легше — рыбаку; ему вовсе никакой науки не надо — была бы привычка!..
Он забавно изображал, как ходят рыбы вокруг наживки, как бьются, попав на крючок, окуни, голавли, лещи.
— Вот ты сердишься, когда тебя дедушко высекет, — утешительно говорил он. — Сердиться тут, сударик, никак не надобно, это тебя для науки секут, и это сеченье — детское! А вот госпожа моя Татьян Лексевна — ну, она секла знаменито! У неё для того нарочный человек был, Христофором звали, такой мастак в деле своём, что его, бывало, соседи из других усадеб к себе просят у барыни-графини: отпустите, сударыня Татьян Лексевна, Христофора дворню посечь! И отпускала.
Он безобидно и подробно рассказывал, как барыня, в кисейном белом платье и воздушном платочке небесного цвета, сидела на крылечке с колонками, в красном креслице, а Христофор стегал перед нею баб и мужиков.
— И был, сударик, Христофор этот, хоша рязанской, ну вроде цыгана али хохла, усы у него до ушей, а рожа — синяя, бороду брил. И не то он дурачок, не то притворялся, чтобы лишнего не спрашивали. Бывало, в кухне нальёт воды в чашку, поймает муху, а то — таракана, жука какого и — топит их прутиком, долго топит. А то — собственную серую изымет из-за шиворота её топит…
Такие и подобные рассказы были уже хорошо знакомы мне, я много слышал их из уст бабушки и деда. Разнообразные, они все странно схожи один с другим: в каждом мучили человека, издевались над ним, гнали его. Мне надоели эти рассказы, слушать их не хотелось, и я просил извозчика:
— Расскажи другое!
Он собирал все свои морщины ко рту, потом поднимал их до глаз и соглашался:
— Ладно, жадный, — другое. Вот был у нас повар…
— У кого?
— У графини Татьян Лексевны.
— Зачем ты её зовешь Татьян? Разве она мужчина?
Он смеялся тоненько.
— Конешно — барыня она, однако — были у ней усики. Чёрненькие, — она из чёрных немцев родом, это народец вроде арапов. Так вот — повар: это, сударик, будет смешная история…
Смешная история заключалась в том, что повар испортил кулебяку и его заставили съесть её всю сразу; он съел и захворал.
Я сердился:
— Это вовсе не смешно!
— А что смешно? Ну-ко, скажи!
— Я не знаю…
— Тогда — молчи!
Он снова плёл скучную паутину.
Иногда, по праздникам, приходили гости братья — печальный и ленивый Саша Михаилов, аккуратный, всезнающий Саша Яковов. Однажды, путешествуя втроём по крышам построек, мы увидали на дворе Бетленга барина в меховом зелёном сюртуке; сидя на куче дров у стены, он играл со щенками; его маленькая, лысая, желтая голова была непокрыта. Кто-то из братьев предложил украсть одного щенка, и тотчас составился остроумный план кражи; братья сейчас же выйдут на улицу к воротам Бетленга, я испугаю барина, а когда он, в испуге, убежит, они ворвутся во двор и схватят щенка.
— Как испугать?
Один из братьев предложил:
— Ты поплюй ему на лысину!
Велик ли грех наплевать человеку на голову? Я многократно слышал и сам видел, что с ним поступают гораздо хуже, и, конечно, я честно выполнил взятую на себя задачу.
Был великий шум и скандал, на двор к нам пришла из дома Бетленга целая армия мужчин и женщин, её вёл молодой, красивый офицер, и так как братья в момент преступления смирно гуляли по улице, ничего не зная о моем диком озорстве, — дедушка выпорол одного меня, отменно удовлетворив этим всех жителей Бетленгова дома.
Когда я, побитый, лежал в кухне на полатях, ко мне влез празднично одетый и весёлый дядя Пётр.
— Это ты ловко удумал, сударик! — шептал он. — Так ему и надо, старому козлу, так его, — плюй на них! Ещё бы — камнем по гнилой-то башке!
Предо мною стояло круглое, безволосое, ребячье лицо барина, я помнил, как он, подобно щенку тихонько и жалобно взвизгивал, отирая жёлтую лысину маленькими ручками, мне было нестерпимо стыдно, я ненавидел братьев, но всё это сразу забылось, когда я разглядел плетёное лицо извозчика: оно дрожало так же пугающе противно, как лицо деда, когда он сёк меня.
— Уйди! — закричал я, сталкивая Петра руками и ногами.
Он захихикал, замигал и слез с полатей.
С той поры у меня пропало желание разговаривать с ним, я стал избегать его и, в то же время, начал подозрительно следить за извозчиком, чего-то смутно ожидая.
Вскоре после истории с барином случилась ещё одна. Меня давно уже занимал тихий дом Овсянннкова, мне казалось, что в этом сером доме течёт особенная, таинственная жизнь сказок.
В доме Бетленга жили шумно и весело, в нём было много красивых барынь, к ним ходили офицеры, студенты, всегда там смеялись, кричали и пели, играла музыка. И самое лицо дома было весёлое, стёкла окон блестели ясно, зелень цветов за ними была разнообразно ярка. Дедушка не любил этот дом.
— Еретики, безбожники, — говорил он о всех его жителях, а женщин называл гадким словом, смысл которого дядя Пётр однажды объяснил мне тоже очень гадко и злорадно.
Строгий и молчаливый дом Овсянникова внушал деду почтение.
Этот одноэтажный, но высокий дом вытянулся во двор, заросший дёрном, чистый и пустынный, с колодцем среди него, под крышей на двух столбиках. Дом точно отодвинулся с улицы, прячась от неё. Три его окна, узкие и прорезанные арками, были высоко над землёй, и стёкла в них — мутные, окрашены солнцем в радугу. А по другую сторону ворот стоял амбар, совершенно такой же по фасаду, как и дом, тоже с тремя окнами, но фальшивыми: на серую стену набиты наличники, и в них белой краской нарисованы переплёты рам. Эти слепые окна были неприятны, и весь амбар снова намекал, что дом хочет спрятаться, жить незаметно. Что-то тихое и обиженное или тихое и гордое было во всей усадьбе, в её пустых конюшнях, в сараях с огромными воротами и тоже пустых.
Иногда по двору ходил, прихрамывая, высокий старик, бритый, с белыми усами, волосы усов торчали, как иголки. Иногда другой старик, с баками и кривым носом, выводил из конюшни серую длинноголовую лошадь; узкогрудая, на тонких ногах, она, выйдя на двор, кланялась всему вокруг, точно смиренная монахиня. Хромой звонко шлёпал её ладонью, свистел, шумно вздыхал, потом лошадь снова прятали в тёмную конюшню. И мне казалось, что старик хочет уехать из дома, но не может, заколдован.
Почти каждый день на дворе, от полудня до вечера, играли трое мальчиков; одинаково одетые в серые куртки и штаны, в одинаковых шапочках, круглолицые, сероглазые, похожие друг на друга до того, что я различал их только по росту.
Я наблюдал за ними в щели забора, они не замечали меня, а мне хотелось, чтобы заметили. Нравилось мне, как хорошо, весело и дружно они играют в незнакомые игры, нравились их костюмы, хорошая заботливость друг о друге, особенно заметная в отношении старших к маленькому брату, смешному и бойкому коротышке. Если он падал — они смеялись, как всегда смеются над упавшим, но смеялись не злорадно, тотчас же помогали ему встать, а если он выпачкал руки или колена, они вытирали пальцы его и штаны листьями лопуха, платками, а средний мальчик добродушно говорил:
— Вот ус неуклюзый!..
Они никогда не ругались друг с другом, не обманывали один другого, и все трое были очень ловки, сильны, неутомимы. Однажды я влез на дерево и свистнул им, — они остановились там, где застал их свист, потом сошлись не торопясь и, поглядывая на меня, стали о чём-то тихонько совещаться. Я подумал, что они станут швырять в меня камнями, спустился на землю, набрал камней в карманы, за пазуху и снова влез на дерево, но они уже играли далеко от меня в углу двора и, видимо, забыли обо мне. Это было грустно, однако мне не хотелось начать войну первому, а вскоре кто-то крикнул им в форточку окна:
— Дети, — марш домой!
Они пошли не торопясь и покорно, точно гуси.
Много раз сидел я на дереве над забором, ожидая, что вот они позовут меня играть с ними, — а они не звали. Мысленно я уже играл с ними, увлекаясь иногда до того, что вскрикивал и громко смеялся; тогда они, все трое, смотрели на меня, тихонько говоря о чём-то, а я, сконфуженный, спускался на землю.
Однажды они начали игру в прятки, очередь искать выпала среднему, он встал в угол за амбаром и стоял честно, закрыв глаза руками, не подглядывая, а братья его побежали прятаться. Старший быстро и ловко залез в широкие пошевни, под навесом амбара, а маленький, растерявшись, смешно бегал вокруг колодца не видя, куда девать себя.
— Раз, — кричал старший, — два…
Маленький вспрыгнул на сруб колодца, схватился за верёвку, забросил ноги в пустую бадью, и бадья, глухо постукивая по стенкам сруба, исчезла.
Я обомлел, глядя, как быстро и бесшумно вертится хорошо смазанное колесо, но быстро понял, чтО может быть, и соскочил к ним во двор, крича:
— Упал в колодезь!..
Средний мальчик подбежал к срубу в одно время со мной, вцепился в веревку, его дернуло вверх, обожгло ему руки, но я уже успел перенять верёвку, а тут подбежал старший; помогая мне вытягивать бадью, он сказал:
— Тихонько, пожалуйста!..
Мы быстро вытянули маленького, он тоже был испуган; с пальцев правой руки его капала кровь, щека тоже сильно ссажена, был он по пояс мокрый, бледен до синевы, но улыбался, вздрагивая, широко раскрыв глаза, улыбался и тянул:
— Ка-ак я па-ада-ал…
— Ты с ума сосол, вот сто, — сказал средний, обняв его и стирая платком кровь с лица, а старший, нахмурясь, говорил:
— Идём, всё равно не скроешь…
— Вас будут бить? — спросил я.
Он кивнул головой, потом сказал, протянув мне руку:
— Ты очень быстро прибежал!
Обрадованный похвалой, я не успел взять его руку, а он уже снова говорил среднему брату:
— Идем, он простудится! Мы скажем, что он упал, а про колодезь — не надо!
— Да, не надо, — согласился младший, вздрагивая. — Это я упал в лужу, да?
Они ушли.
Всё это разыгралось так быстро, что когда я взглянул на сучок, с которого соскочил во двор, он еще качался, сбрасывая жёлтый лист.
С неделю братья не выходили во двор, а потом явились более шумные, чем прежде; когда старший увидал меня на дереве, он крикнул ласково:
— Иди к нам!
Мы забрались под навес амбара, в старые пошевни, и, присматриваясь друг ко другу, долго беседовали.
— Били вас? — спросил я.
— Досталось, — ответил старший.
Трудно было поверить, что этих мальчиков тоже бьют, как меня, было обидно за них.
— Зачем ты ловишь птиц? — спрашивал младший.
— Они поют хорошо.
— Нет. ты не лови, пускай лучше они летают, как хотят…
— Ну, ладно, не буду!
— Только ты прежде поймай одну и подари мне.
— Тебе — какую?
— Весёлую. И в клетке.
— Значит — это чиж.
— Коска съест, — сказал младший. — И папа не позволит.
Старший согласился:
— Не позволит…
— А мать у вас есть?
— Нет, — сказал старший, но средний поправил его:
— Есть, только — другая, не наша, а нашей — нет, она померла.
— Другая называется — мачеха, — сказал я; старший кивнул головою:
— Да.
И все трое задумались, отемнели.
По сказкам бабушки я знал, что такое мачеха, и мне была понятна эта задумчивость. Они сидели плотно друг с другом, одинаковые, точно цыплята; а я вспомнил ведьму-мачеху, которая обманом заняла место родной матери, и пообещал им:
— Ещё вернётся родная-то, погодите!
Старший пожал плечами:
— Если умерла? Этого не бывает…
Не бывает? Господи, да сколько же раз мёртвые, даже изрубленные на куски, воскресали, если их спрыснуть живою водой, сколько раз смерть была не настоящая, не божья, а от колдунов и колдуний!
Я начал возбуждённо рассказывать им бабушкины истории; старший сначала всё усмехался и говорил тихонько:
— Это мы знаем, это — сказки…
Его братья слушали молча, маленький — плотно сжав губы и надувшись, а средний, опираясь локтем в колено, — наклонился ко мне и пригибал брата рукою, закинутой за шею его.
Уже сильно завечерело, красные облака висели над крышами, когда около нас явился старик с белыми усами, в коричневой, длинной, как у попа, одежде и в меховой, мохнатой шапке.
— Это кто такое? — спросил он, указывая на меня пальцем.
Старший мальчик встал и кивнул головою на дедов дом:
— Он — оттуда…
— Кто его звал?
Мальчики, все сразу, молча вылезли из пошевней и пошли домой, снова напомнив мне покорных гусей.
Старик крепко взял меня за плечо и повёл по двору к воротам; мне хотелось плакать от страха пред ним, но он шагал так широко и быстро, что я не успел заплакать, как уже очутился на улице, а он, остановясь в калитке, погрозил мне пальцем и сказал:
— Не смей ходить ко мне!
Я рассердился:
— Вовсе я не к тебе хожу, старый чёрт!
Длинной рукою своей он снова схватил меня и повёл по тротуару, спрашивая, точно молотком колотя по голове моей:
— Твой дед дома?
На моё горе дед оказался дома; он встал пред грозным стариком, закинув голову, высунув бородку вперёд, и торопливо говорил, глядя в глаза, тусклые и круглые, как семишники:
— Мать у него — в отъезде, я человек занятой, глядеть за ним некому, уж вы простите, полковник!
Полковник крякнул на весь дом, повернулся, как деревянный столб, и ушёл, а меня, через некоторое время, выбросило на двор, в телегу дяди Петра.
— Опять нарвался, сударик? — спрашивал он, распрягая лошадь. — За что бит?
Когда я рассказал ему — за что, он вспыхнул и зашипел:
— А ты на што подружился с ними? Они — барчуки-змеёныши; вон как тебя за них! Ты теперь сам их отдуй — чего глядеть!
Он шипел долго; обозлённый побоями, я сначала слушал его сочувственно, но его плетёное лицо дрожало всё неприятней и напомнило мне, что мальчиков тоже побьют и что они предо мной неповинны.
— Их бить — не нужно, они хорошие, а ты врешь всё, — сказал я.
Он поглядел на меня и неожиданно крикнул:
— Пошёл прочь с телеги!
— Дурак ты! — крикнул я, соскочив на землю.
Он стал бегать за мною по двору, безуспешно пытаясь поймать, бегал и неестественно кричал:
— Дурак я? Вру я? Так я ж тебя…
На крыльцо кухни вышла бабушка, я сунулся к ней, а он начал жаловаться:
— Никакого житья нет мне от парнишки! Я его до пяти раз старше, а он меня — по матушке и всяко… и вралём…
Когда в глаза мне лгали, я терялся и глупел от удивления; потерялся и в эту минуту, но бабушка твёрдо сказала:
— Ну, это ты, Пётр, и впрямь врешь, — зазорно он тебя не ругал!
Дедушка поверил бы извозчику.
С того дня у нас возникла молчаливая, злая война: он старался будто нечаянно толкнуть меня, задеть вожжами, выпускал моих птиц, однажды стравил их кошке и по всякому поводу жаловался на меня деду, всегда привирая, а мне всё чаще казалось, что он такой же мальчишка, как я, только наряжен стариком. Я расплетал ему лапти, незаметно раскручивал ч надрывал оборы, и они рвались, когда Пётр обувался; однажды насыпал в шапку ему перцу, заставив целый час чихать, вообще старался, по мере сил и разумения, не остаться в долгу у него. По праздникам он целые дни зорко следил за мною и не однажды ловил меня на запрещённом — на сношениях с барчуками; ловил и шёл ябедничать к деду.
Знакомство с барчуками продолжалось, становясь всё приятней для меня. В маленьком закоулке, между стеною дедова дома и забором Овсянникова, росли вяз, липа и густой куст бузины; под этим кустом я прорезал в заборе полукруглое отверстие, братья поочерёдно или по двое подходили к нему, и мы беседовали тихонько, сидя на корточках или стоя на коленях. Кто-нибудь из них всегда следил, как бы полковник не застал нас врасплох.
Они рассказывали о своей скучной жизни, и слышать это мне было очень печально; говорили о том, как живут наловленные мною птицы, о многом детском, но никогда ни слова не было сказано ими о мачехе и отце, — по крайней мере я этого не помню.
Чаще же они просто предлагали мне рассказать сказку; я добросовестно повторял бабушкины истории, а если забывал что-нибудь, то просил их подождать, бежал к бабушке и спрашивал её о забытом. Это всегда было приятно ей.
Я много рассказывал им и про бабушку; старший мальчик сказал однажды, вздохнув глубоко:
— Бабушки, должно быть, все очень хорошие, — у нас тоже хорошая была…
Он так часто и грустно говорил: было, была, бывало, точно прожил на земле сто лет, а не одиннадцать. У него были, помню, узкие ладони, тонкие пальцы, и весь он — тонкий, хрупкий, а глаза — очень ясные, но кроткие, как огоньки лампадок церковных. И братья его были тоже милые, тоже вызывали широкое доверчивое чувство к ним, — всегда хотелось сделать для них приятное, но старший больше нравился мне.
Увлечённый разговором, я часто не замечал, как появлялся дядя Пётр и разгонял нас тягучим возгласом:
— О-опя-ать?
Я видел, что с ним всё чаще повторяются прнпадки угрюмого оцепенения, даже научился заранее распознавать, в каком духе он возвращается с работы: обычно он отворял ворота не торопясь, петли их визжали длительно и лениво, если же извозчик был не в духе, петли взвизгивали кратко, точно охая от боли.
Его немой племянник уехал в деревню жениться; Пётр жил один над конюшней, в низенькой конуре с крошечным окном, полной густым запахом прелой кожи, дёгтя, пота и табака, — из-за этого запаха я никогда не ходил к нему в жилище. Спал он теперь не гася лампу, что очень не нравилось деду.
— Гляди, сожжёшь ты меня, Пётр!
— Никак, будь покоен! Я огонь на ночь в чашку с водой ставлю, — отвечал он, глядя в сторону.
Он теперь вообще смотрел всё как-то вбок и давно перестал посещать бабушкины вечера; не угощал вареньем, лицо его ссохлось, морщины стали глубже, и ходил он качаясь, загребая ногами, как больной.
Однажды, в будний день, поутру, я с дедом разгребал на дворе снег, обильно выпавший за ночь — вдруг щеколда калитки звучно, по-особенному, щёлкнула, на двор вошёл полицейский, прикрыл калитку спиною и поманил деда толстым серым пальцем. Когда дед подошёл, полицейский наклонил к нему носатое лицо и, точно долбя лоб деда, стал неслышно говорить о чём-то, а дед торопливо отвечал:
— Здесь! Когда? Дай бог память…
И вдруг, смешно подпрыгнув, он крикнул:
— Господи помилуй, неужто?
— Тише, — строго сказал полицейский.
Дед оглянулся, увидал меня.
— Прибери лопаты да ступай домой!
Я спрятался за угол, а они пошли в конуру извозчика, полицейский снял с правой руки перчатку и хлопал ею по ладони левой, говоря:
— Он — понимает; лошадь бросил, а сам — скрылся вот…
Я побежал в кухню рассказать бабушке все, что видел и слышал, она месила в квашне тесто на хлебы, покачивая опылённой головою, выслушав меня, она спокойно сказала:
— Украл, видно, чего-нибудь… Иди гуляй, что тебе!
Когда я снова выскочил во двор, дед стоял у калитки, сняв картуз, и крестился, глядя в небо. Лицо у него было сердитое, ощетинившееся, и одна нога дрожала.
— Я сказал — пошёл домой! — крикнул он мне, притопнув.
И сам пошёл за мною, а войдя в кухню, позвал:
— Подь-ка сюда, мать!
Они ушли в соседнюю комнату, долго шептались там, и, когда бабушка снова пришла в кухню, мне стало ясно, что случилось что-то страшное.
— Ты чего испугалась?
— Молчи знай, — тихонько ответила она.
Весь день в доме было нехорошо, боязно; дед и бабушка тревожно переглядывались, говорили тихонько и непонятно, краткими словами, которые ещё более сгущали тревогу.
— Ты, мать, зажги-ко лампадки везде, — приказывал дед, покашливая.
Обедали нехотя, но торопливо, точно ожидая кого-то; дед устало надувал щёки, крякал и ворчал:
— Силён дьявол противу человека! Ведь вот и благочестив будто и церковник, а — на-ко ты, а?
Бабушка вздыхала.
Томительно долго таял этот серебристо-мутный зимний день, а в доме становилось всё беспокойней, тяжелее.
Перед вечером пришёл полицейский, уже другой, рыжий и толстый, он сидел в кухне на лавке, дремал, посапывая и кланяясь, а когда бабушка спрашивала его: «Как же это дознались?» — он отвечал не сразу и густо:
— У нас до всего дознаются, не беспокойтесь!
Помню, я сидел у окна и, нагревая во рту старинный грош, старался отпечатать на льду стекла Георгия Победоносца, поражавшего змея.
Вдруг в сенях тяжко зашумело, широко распахнулась дверь, и Петровна оглушительно крикнула с порога:
— Глядите, что у вас на задах-то!
Увидав будочника, она снова метнулась в сени, но он схватил её за юбку и тоже испуганно заорал:
— Постой, — кто такая? Чего глядеть?
Запнувшись за порог, она упала на колени и начала кричать, захлёбываясь словами и слезами:
— Иду коров доить, вижу: что это у Кашириных в саду вроде сапога?
Тут яростно закричал дед, топая ногами:
— Врёшь, дура! Не могла ты ничего в саду видеть, забор высокий, щелей в нём нет, врёшь! Ничего у нас нет!
— Батюшка! — выла Петровна, протягивая одну руку к нему, а другой держась за голову. — Верно, батюшка, вру ведь я! Иду я, а к вашему забору следы, и снег обмят в одном месте, я через забор и заглянула, и вижу — лежит он…
— Кто-о?
Этот крик длился страшно долго, и ничего нельзя было понять в нём; но вдруг все, точно обезумев, толкая друг друга, бросились вон из кухни, побежали в сад, — там в яме, мягко выстланной снегом, лежал дядя Пётр, прислонясь спиною к обгорелому бревну, низко свесив голову на грудь. Под правым ухом у него была глубокая трещина, красная, словно рот; из неё, как зубы, торчали синеватые кусочки; я прикрыл глаза со страха и сквозь ресницы видел в коленях Петра знакомый мне шорный нож, а около него скрюченные, тёмные пальцы правой руки; левая была отброшена прочь и утонула в снегу. Снег под извозчиком обтаял, его маленькое тело глубоко опустилось в мягкий, светлый пух и стало ещё более детским. С правой стороны от него на снегу краснел странный узор, похожий на птицу, а с левой снег был ничем не тронут, гладок и ослепительно светел. Покорно склонённая голова упиралась подбородком в грудь, примяв густую курчавую бороду, на голой груди в красных потоках застывшей крови лежал большой медный крест. От шума голосов тяжело кружилась голова; непрерывно кричала Петровна, кричал полицейский, посылая куда-то Валея, дед кричал:
— Не топчите следов!
Но вдруг нахмурился и, глядя под ноги себе, громко и властно сказал полицейскому:
— А ты зря орёшь, служивый! Здесь божье дело, божий суд, а ты со своей дрянью разной, — эх вы-и!
И все сразу замолчали, все уставились на покойника, вздыхая, крестясь.
Со двора в сад бежали какие-то люди, они лезли через забор от Петровны, падали, урчали, но всё-таки было тихо до поры, пока дед, оглянувшись вокруг, не закричал в отчаянии:
— Соседи, что же это вы малинник-то ломаете, как же это не совестно вам!
Бабушка взяла меня за руку и, всхлипывая, повела в дом…
— Что он сделал? — спросил я; она ответила:
— Али не видишь…
Весь вечер до поздней ночи в кухне и комнате рядом с нею толпились и кричали чужие люди, командовала полиция, человек, похожий на дьякона, писал что-то и спрашивал, крякая, точно утка:
— Как? Как?
Бабушка в кухне угощала всех чаем, за столом сидел круглый человек, рябой, усатый, и скрипучим голосом рассказывал:
— Настоящее имя-прозвище его неизвестно, только дознано, что родом он из Елатьмы. А Немой — вовсе не немой и во всём признался. И третий признался, тут ещё третий есть. Церкви они грабили давным-давно, это главное их мастерство…
— О господи, — вздыхала Петровна, красная и мокрая.
Я лежал на полатях, глядя вниз, все люди казались мне коротенькими, толстыми и страшными…
X
Однажды в субботу, рано утром, я ушёл в огород Петровны ловить снегирей; ловил долго, но красногрудые, важные птицы не шли в западню; поддразнивая своею красотой, они забавно расхаживали по среброкованому насту, взлетали на сучья кустарника, тепло одетые инеем, и качались на них, как живые цветы, осыпая синеватые искры снега. Это было так красиво, что неудача охоты не вызывала досаду; охотник я был не очень страстный, процесс нравился мне всегда больше, чем результат; я любил смотреть, как живут пичужки, и думать о них.
Хорошо сидеть одному на краю снежного поля, слушая, как в хрустальной тишине морозного дня щебечут птицы, а где-то далеко поёт, улетая, колокольчик проезжей тройки, грустный жаворонок русской зимы…
Продрогнув на снегу, чувствуя, что обморозил уши, я собрал западни и клетки, перелез через забор в дедов сад и пошёл домой, — ворота на улицу были открыты, огромный мужик сводил со двора тройку лошадей, запряжённых в большие крытые сани, лошади густо курились паром, мужик весело посвистывал, — у меня дрогнуло сердце.
— Кого привёз?
Он обернулся, поглядел на меня из-под руки, вскочил на облучок и сказал:
— Попа!
Ну, это меня не касалось; если поп, то, наверное, к постояльцам.
— Эх, курочки-и! — закричал, засвистел мужик, трогая лошадей вожжами, наполнив тишину весельем; лошади дружно рванули в поле, я поглядел вслед им, прикрыл ворота, но когда вошёл в пустую кухню, рядом в комнате раздался сильный голос матери, её отчётливые слова:
— Что же теперь — убить меня надо?
Не раздеваясь, бросив клетки, я выскочил в сени, наткнулся на деда; он схватил меня за плечо, заглянул в лицо мне дикими глазами и, с трудом проглотив что-то, сказал хрипло:
— Мать приехала, ступай! Постой… — Качнул меня так, что я едва устоял на ногах, и толкнул к двери в комнату: — Иди, иди…
Я ткнулся в дверь, обитую войлоком и клеёнкой, долго не мог найти скобу, шаря дрожащими от холода и волнения руками, наконец тихонько открыл дверь и остановился на пороге, ослеплённый.
— Вот он, — говорила мать. — Господи, какой большущий! Что, не узнаёшь? Как вы его одеваете, ну уж… Да у него уши белые! Мамаша, дайте гусиного сала скорей…
Она стояла среди комнаты, наклонясь надо мною, сбрасывая с меня одежду, повёртывая меня, точно мяч; её большое тело было окутано тёплым и мягким красным платьем, широким, как мужицкий чапан, его застёгивали большие чёрные пуговицы от плеча и — наискось — до подола. Никогда я не видел такого платья.
Лицо её мне показалось меньше, чем было прежде, меньше и белее, а глаза выросли, стали глубже и волосы золотистее. Раздевая меня, она кидала одежду к порогу, её малиновые губы брезгливо кривились, и всё звучал командующий голос:
— Что молчишь? Рад? Фу, какая грязная рубашка…
Потом она растирала мне уши гусиным салом; было больно, но от неё исходил освежающий, вкусный запах, и это уменьшало боль. Я прижимался к ней, заглядывая в глаза её, онемевший от волнения, и сквозь её слова слышал негромкий, невесёлый голос бабушки:
— Своевольник он, совсем от рук отбился, даже дедушку не боится… Эх, Варя, Варя…
— Ну, не нойте, мамаша, обойдётся!
В сравнении с матерью всё вокруг было маленькое, жалостное и старое, я тоже чувствовал себя старым, как дед. Сжимая меня крепкими коленями, приглаживая волосы тяжёлой, тёплой рукой, она говорила:
— Остричь нужно. И в школу пора. Учиться хочешь?
— Я уж выучился.
— Ещё немножко надо. Нет, какой ты крепкий, а?
И смеялась густым, греющим смехом, играя мною.
Вошёл дед, серый, ощетинившийся, с покрасневшими глазами; она отстранила меня движением руки, громко спросив:
— Ну, что же, папаша? Уезжать?
Он остановился у окна, царапая ногтем лёд на стекле, долго молчал, всё вокруг напряглось, стало жутким, и, как всегда в минуты таких напряжений, у меня по всему телу вырастали глаза, уши, странно расширялась грудь, вызывая желание крикнуть.
— Лексей, поди вон, — глухо сказал дед.
— Зачем? — спросила мать, снова привлекая меня к себе.
— Никуда ты не поедешь, запрещаю…
Мать встала, проплыла по комнате, точно заревое облако, остановилась за спиной деда.
— Папаша, послушайте…
Он обернулся к ней, взвизгнув:
— Молчи!
— Ну, а кричать на меня я вам не позволяю, — тихо сказала мать.
Бабушка поднялась с дивана, грозя пальцем:
— Варвара!
А дед сел на стул, забормотал:
— Постой, я — кто? А? Как это?
И вдруг взревел не своим голосом:
— Опозорила ты меня, Варька-а!..
— Уйди, — приказала мне бабушка; я ушёл в кухню, подавленный, залез на печь и долго слушал, как за переборкой то — говорили все сразу, перебивая друг друга, то — молчали, словно вдруг уснув. Речь шла о ребёнке, рождённом матерью и отданном ею кому-то, но нельзя было понять, за что сердится дедушка: за то ли, что мать родила, не спросясь его, или за то, что не привезла ему ребёнка?
Потом он вошёл в кухню встрёпанный, багровый и усталый, за ним бабушка, отирая полою кофты слёзы со щёк; он сел на скамью, опёршись руками в неё, согнувшись, вздрагивая и кусая серые губы, она опустилась на колени пред ним, тихонько, но жарко говоря:
— Отец, да прости ты ей Христа ради, прости! И не эдакие сани подламываются. Али у господ, у купцов не бывает этого? Женщина — гляди какая! Ну, прости, ведь никто не праведен…
Дед откинулся к стене, смотрел в лицо ей и ворчал, криво усмехаясь, всхлипывая:
— Ну да, ещё бы! А как же? Ты кого не простишь, ты — всех простишь, ну да-а, эх вы-и…
Наклонился к ней, схватил за плечи и стал трясти её, нашёптывая быстро:
— А господь небойсь ничего не прощает, а? У могилы вот настиг, наказывает, последние дни наши, а — ни покоя, ни радости нет и — не быть! И помяни ты моё слово! — ещё нищими подохнем, нищими!
Бабушка взяла руки его, села рядом с ним и тихонько, легко засмеялась.
— Эка беда! Чего испугался — нищими! Ну, и — нищими. Ты знай сиди себе дома, а по миру-то я пойду, — небойсь мне подадут, сыты будем! Ты — брось-ка всё!
Он вдруг усмехнулся, повернул шею, точно козёл, и, схватив бабушку за шею, прижался к ней, маленький, измятый, всхлипывая:
— Эх, ду-ура, блаженная ты дура, последний мне человек! Ничего тебе, дуре, не жалко, ничего ты не понимаешь! Ты бы вспомнила: али мы с тобой не работали, али я не грешил ради их, — ну, хоть бы теперь, хоть немножко бы…
Тут и я, не стерпев больше, весь вскипел слезами, соскочил с печи и бросился к ним, рыдая от радости, что вот они так говорят невиданно хорошо, от горя за них и оттого, что мать приехала, и оттого, что они равноправно приняли меня в свой плач, обнимают меня оба, тискают, кропя слезами, а дед шепчет в уши и глаза мне:
— Ах ты, бесёныш, ты тоже тут! Вот мать приехала, теперь ты с ней будешь, дедушку-то, старого чёрта, злого, — прочь теперь, а? Бабушку-то, потатчицу, баловницу, — прочь? Эх вы-и…
Развёл руками, отстраняя нас, и встал, сказав громко, сердито:
— Отходят все, всё в сторону норовят — всё врозь идёт… Ну, зови её, что ли! Скорее уж…
Бабушка пошла вон из кухни, а он, наклоня голову, сказал в угол:
— Всемилостивый господи, ну — вот, видишь вот!
И крепко, гулко ударил себя кулаком в грудь; мне это не понравилось, мне вообще не нравилось, как он говорит с богом, всегда будто хвастаясь пред ним.
Пришла мать, от её красной одежды в кухне стало светлее, она сидела на лавке у стола, дед и бабушка — по бокам её, широкие рукава её платья лежали у них на плечах, она тихонько и серьёзно рассказывала что-то, а они слушали её молча, не перебивая. Теперь они оба стали маленькие, и казалось, что она — мать им.
Уставший от волнений, я крепко заснул на полатях.
Вечером старики, празднично одевшись, пошли ко всенощной, бабушка весело подмигнула на деда, в мундире цехового старшины, в енотовой шубе и брюках навыпуск, подмигнула и сказала матери:
— Ты гляди, каков отец-то, — козлёнок чистенький!
Мать весело засмеялась.
Когда я остался с нею в её комнате, она села на диван, поджав под себя ноги, и сказала, хлопнув ладонью рядом с собою:
— Иди ко мне! Ну, как ты живёшь — плохо, а?
Как я жил?
— Не знаю.
— Дедушка бьёт?
— Теперь — не очень уж.
— Да? Ты расскажи мне, что хочешь, — ну?
Рассказывать о дедушке не хотелось, я начал говорить о том, что вот в этой комнате жил очень милый человек, но никто не любил его, и дед отказал ему от квартиры. Видно было, что эта история не понравилась ей, она сказала:
— Ну, а ещё что?
Я рассказал о трёх мальчиках, о том, как полковник прогнал меня со двора, — она обняла меня крепко.
— Экая дрянь…
И замолчала, прищурясь, глядя в пол, качая головой. Я спросил:
— За что дед сердился на тебя?
— Я пред ним виновата.
— А ты бы привезла ему ребёнка-то…
Она откачнулась, нахмурясь, закусив губы, и — захохотала, тиская меня.
— Ах ты, чудовище! Ты — молчи об этом, слышишь? Молчи и — не думай даже!
Долго говорила что-то тихо, строго и непонятно, потом встала и начала ходить, стукая пальцами о подбородок, двигая густыми бровями.
На столе горела, оплывая и отражаясь в пустоте зеркала, сальная свеча, грязные тени ползали по полу, в углу перед образом теплилась лампада, ледяное окно серебрил лунный свет. Мать оглядывалась, точно искала что-то на голых стенах, на потолке.
— Ты когда ложишься спать?
— Немножко погодя.
— Впрочем, ты днём спал, — вспомнила она и вздохнула. Я спросил:
— Ты уйти хочешь?
— Куда же? — удивлённо откликнулась она и, приподняв голову мою, долго смотрела мне в лицо, так долго, что у меня слёзы выступили на глазах.
— Ты что это?
— Шею больно.
Было больно и сердцу, я сразу почувствовал, что не будет она жить в этом доме, уйдёт.
— Ты будешь похож на отца, — сказала она, откидывая ногами половики в сторону. — Бабушка рассказывала тебе про него?
— Да.
— Она очень любила Максима, — очень! И он её тоже…
— Я знаю.
Мать посмотрела на свечу, поморщилась и погасила её, сказав:
— Так лучше!
Да, так свежее и чище, перестали возиться тёмные, грязные тени, на пол легли светло-голубые пятна, золотые искры загорелись на стёклах окна.
— А где ты жила?
Словно вспоминая давно забытое, она назвала несколько городов и всё кружилась по комнате бесшумно, как ястреб.
— А где ты взяла такое платье?
— Сама сшила. Я всё себе делаю сама.
Было приятно, что она ни на кого не похожа, но грустно, что говорит она мало, а если не спрашивать её, так она и совсем молчит.
Потом она снова села ко мне на диван, и мы сидели молча, близко прижавшись друг к другу, до поры, пока не пришли старики, пропитанные запахом воска, ладана, торжественно тихие и ласковые.
Ужинали празднично, чинно, говорили за столом мало и осторожно, словно боясь разбудить чей-то чуткий сон.
Вскоре мать начала энергично учить меня «гражданской» грамоте: купила книжки, и по одной из них — «Родному слову» — я одолел в несколько дней премудрость чтения гражданской печати, но мать тотчас же предложила мне заучивать стихи на память, и с этого начались наши взаимные огорчения.
Стихи говорили:
Большая дорога, прямая дорога, Простора немало берёшь ты у бога… Тебя не ровняли топор и лопата, Мягка ты копыту и пылью богата.Я читал «простого» вместо «простора», «рубили» вместо «ровняли», «копыта» вместо «копыту».
— Ну, подумай, — внушала мать, — чего — простого? Чудовище! Про-сто-ра, понимаешь?
Я понимал и всё-таки читал «простого», сам себе удивляясь.
Она говорила, сердясь, что я бестолков и упрям; это было горько слышать, я очень добросовестно старался вспомнить проклятые стихи и мысленно читал их без ошибок, но, читая вслух, — неизбежно перевирал. Я возненавидел эти неуловимые строки и стал, со зла, нарочно коверкать их, нелепо подбирая в ряд однозвучные слова; мне очень нравилось, когда заколдованные стихи лишались всякого смысла.
Но эта забава не прошла даром: однажды, после удачного урока, когда мать спросила, выучены ли наконец стихи, я, помимо воли, забормотал:
Дорога, двурога, творог, недорога, Копыта, попы-то, корыто…Опомнился я поздно: мать, упираясь руками в стол, поднялась и спросила раздельно:
— Это что такое?
— Не знаю, — сказал я, обомлев.
— Нет, всё-таки?
— Это — так.
— Что — так?
— Смешно.
— Поди в угол.
— Зачем?
Она тихо, но грозно повторила:
— В угол!
— В какой?
Не ответив, она смотрела в лицо мне так, что я окончательно растерялся, не понимая — чего ей надо? В углу под образами торчал круглый столик, на нём ваза с пахучими сухими травами и цветами, в другом переднем углу стоял сундук, накрытый ковром, задний угол был занят кроватью, а четвёртого — не было, косяк двери стоял вплоть к стене.
— Я не знаю, что тебе надо, — сказал я, отчаявшись понять её.
Она опустилась, помолчала, потирая лоб и щёки, потом спросила:
— Тебя дедушка ставил в угол?
— Когда?
— Вообще, когда-нибудь! — крикнула она, ударив дважды ладонью по столу.
— Нет. Не помню.
— Ты знаешь, что это наказание — стоять в углу?
— Нет. Почему — наказание?
Она вздохнула.
— Ф-фу! Поди сюда.
Я подошел, спросив её:
— Зачем ты кричишь на меня?
— А ты зачем нарочно перевираешь стихи?
Как умел, я объяснил ей, что вот, закрыв глаза, я помню стихи, как они напечатаны, но если буду читать — подвернутся другие слова.
— Ты не притворяешься?
Я ответил — нет, но тотчас подумал: «А может быть, притворяюсь?» И вдруг не спеша прочитал стихи совершенно правильно; это меня удивило и уничтожило.
Чувствуя, что лицо моё вдруг точно распухло, а уши налились кровью, отяжелели и в голове неприятно шумит, я стоял пред матерью, сгорая в стыде, и сквозь слёзы видел, как печально потемнело её лицо, сжались губы, сдвинулись брови.
— Как же это? — спросила она чужим голосом. — Значит — притворялся?
— Не знаю. Я не хотел…
— Трудно с тобой, — сказала она, опуская голову. — Ступай!
Она стала требовать, чтоб я всё больше заучивал стихов, а память моя всё хуже воспринимала эти ровные строки, и всё более росло, всё злее становилось непобедимое желание переиначить, исказить стихи, подобрать к ним другие слова; это удавалось мне легко — ненужные слова являлись целыми роями и быстро спутывали обязательное, книжное. Часто бывало, что целая строка становилась для меня невидимой, и как бы честно я ни старался поймать её, она не давалась зрению памяти. Много огорчений принесло мне жалобное стихотворение — кажется, князя Вяземского:
И вечерней и ранней порою Много старцев, и вдов, и сирот Христа ради на помощь зовёт,а третью строку
под окошками ходят с сумоюя аккуратно пропускал. Мать, негодуя, рассказывала о моих подвигах деду; он зловеще говорил:
— Балует! Память у него есть: молитвы он твёрже моего знает. Врёт, память у него — каменная, коли что высечено на ней, так уж крепко! Ты выпори его!
Бабушка тоже уличала меня:
— Сказки — помнит, песни — помнит, а песни — не те ли же стихи?
Всё это было верно, я чувствовал себя виноватым, но как только принимался учить стихи — откуда-то сами собою являлись, ползли тараканами другие слова и тоже строились в строки.
Как у наших у ворот Много старцев и сирот Ходят, ноют, хлеба просят, Наберут — Петровне носят, Для коров ей продают И в овраге водку пьют.Ночью, лёжа с бабушкой на полатях, я надоедно твердил ей всё, что помнил из книг, и всё, что сочинял сам; иногда она хохотала, но чаще журила меня:
— Ведь вот, знаешь ты, можешь! А над нищими не надо смеяться, господь с ними! Христос был нищий и все святые тоже…
Я бормотал:
Не люблю нищих И дедушку — тоже, Как тут быть? Прости меня, боже! Дед всегда ищет, За что меня бить…— Что ты говоришь, отсохни твой язык! — сердилась бабушка. — Да как услышит дед эти твои слова!
— Пускай!
— Напрасно ты озорничаешь да сердишь мать! Ей и без тебя не больно хорошо, — задумчиво и ласково уговаривала бабушка.
— Отчего ей нехорошо?
— Молчи знай! Не понять тебе…
— Я знаю, это дедушка её…
— Молчи, говорю!
Мне жилось плохо, я испытывал чувство, близкое к отчаянию, но почему-то мне хотелось скрыть его, я бойчился, озорничал. Уроки матери становились всё обильнее, непонятней, я легко одолевал арифметику, но терпеть не мог писать и совершенно не понимал грамматики. Но главное, что угнетало меня, — я видел, чувствовал, как тяжело матери жить в доме деда; она всё более хмурилась, смотрела на всех чужими глазами, она подолгу молча сидела у окна в сад и как-то выцветала вся. Первые дни по приезде она была ловкая, свежая, а теперь под глазами у неё легли тёмные пятна, она целыми днями ходила непричёсанная, в измятом платье, не застегнув кофту, это её портило и обижало меня: она всегда должна быть красивая, строгая, чисто одетая — лучше всех!
Во время уроков она смотрела углублёнными глазами через меня — в стену, в окно, спрашивала меня усталым голосом, забывала ответы и всё чаще сердилась, кричала — это тоже обидно: мать должна быть справедлива больше всех, как в сказках.
Иногда я спрашивал её:
— Тебе нехорошо с нами?
Она сердито откликалась:
— Делай своё дело.
Я видел также, что дед готовит что-то, пугающее бабушку и мать. Он часто запирался в комнате матери и ныл, взвизгивал там, как неприятная мне деревянная дудка кривобокого пастуха Никанора. Во время одной из таких бесед мать крикнула на весь дом:
— Этого не будет, нет!
И хлопнула дверь, а дед — завыл.
Это было вечером; бабушка, сидя в кухне у стола, шила деду рубаху и шептала что-то про себя. Когда хлопнула дверь, она сказала, прислушавшись:
— К постояльцам ушла, о господи!
Вдруг в кухню вскочил дед, подбежал к бабушке, ударил её по голове и зашипел, раскачивая ушибленную руку.
— Не болтай чего не надо, ведьма!
— Старый ты дурак, — спокойно сказала бабушка, поправляя сбитую головку. — Буду я молчать, как же! Всегда всё, что узнаю про затеи твои, скажу ей…
Он бросился на неё и стал быстро колотить кулаками по большой голове бабушки; не защищаясь, не отталкивая его, она говорила:
— Ну, бей, бей, дурачок! Ну, на, бей!
Я, с полатей, стал бросать в них подушки, одеяла, сапоги с печи, но разъярённый дед не замечал этого, бабушка же свалилась на пол, он бил голову её ногами, наконец споткнулся и упал, опрокинув ведро с водой. Вскочил, отплёвываясь и фыркая, дико оглянулся и убежал к себе на чердак; бабушка поднялась, охая, села на скамью, стала разбирать спутанные волосы. Я соскочил с полатей, она сказала мне сердито:
— Подбери подушки и всё да поклади на печь! Надумал тоже: подушками швырять! Твоё это дело? И тот, старый бес, разошёлся, — дурак!
Вдруг она охнула, сморщилась и, наклоня голову, позвала меня:
— Взгляни-ка, чего это больно тут?
Я разобрал её тяжёлые волосы, — оказалось, что глубоко под кожу ей вошла шпилька, я вытащил её, нашёл другую, у меня онемели пальцы.
— Я лучше мать позову, боюсь!
Она замахала рукой:
— Что ты? Я те позову! Слава богу, что не слышала, не видела она, а ты — на-ко! Пошел ин прочь!
И стала сама гибкими пальцами кружевницы рыться в густой чёрной гриве своей. Собравшись с духом, я помог ей вытащить из-под кожи ещё две толстые, изогнутые шпильки.
— Больно тебе?
— Ничего, завтра баню топить буду, вымоюсь — пройдет.
И стала просить меня ласково:
— А ты, голубА душа, не сказывай матери-то, что он бил меня, слышишь? Они и без того злы друг на друга. Не скажешь?
— Нет.
— Ну, помни же! Давай-ко уберём тут всё. Лицо-то избито у меня? Ну ладно, стало быть, все шито-крыто…
Она начала подтирать пол, а я сказал от души:
— Ты — ровно святая, мучают-мучают тебя, а тебе — ничего!
— Что глупости мелешь? Святая… Нашел где!
Она долго ворчала, расхаживая на четвереньках, а я, сидя на приступке, придумывал — как бы отомстить деду за неё?
Первый раз он бил бабушку на моих глазах так гадко и страшно. Предо мною, в сумраке, пылало его красное лицо, развевались рыжие волосы: в сердце у меня жгуче кипела обида, и было досадно, что я не могу придумать достойной мести.
Но дня через два, войдя зачем-то на чердак к нему, я увидал, что он, сидя на полу пред открытой укладкой, разбирает в ней бумаги, а на стуле лежат его любимые святцы — двенадцать листов толстой серой бумаги, разделённых на квадраты по числу дней в месяце, и в каждом квадрате фигурки всех святых дня. Дед очень дорожил этими святцами, позволяя мне смотреть их только в тех редких случаях, когда был почему-либо особенно доволен мною, а я всегда разглядывал эти тесно составленные серые маленькие и милые фигурки с каким-то особенным чувством. Я знал жития некоторых из них — Кирика и Улиты, Варвары Великомученицы, Пантелеймона и ещё многих, мне особенно нравилось грустное житие Алексея божия человека и прекрасные стихи о нём: их часто и трогательно читала мне бабушка. Смотришь, бывало, на сотни этих людей и тихо утешаешься тем, что всегда были мученики.
Но теперь я решил изрезать эти святцы, и, когда дед отошёл к окошку, читая синюю, с орлами, бумагу, я схватил несколько листов, быстро сбежал вниз, стащил ножницы из стола бабушки и, забравшись на полати, принялся отстригать святым головы. Обезглавил один ряд, и — стало жалко святцы; тогда я начал резать по линиям, разделявшим квадраты, но не успел искрошить второй ряд — явился дедушка, встал на приступок и спросил:
— Тебе кто позволил святцы взять?
Увидав квадратики бумаги, рассеянные по доскам, он начал хватать их, подносил к лицу, бросал, снова хватал, челюсть у него скривилась, борода прыгала, и он так сильно дышал, что бумажки слетали на пол.
— Что ты сделал? — крикнул он наконец и за ногу дёрнул меня к себе; я перевернулся в воздухе, бабушка подхватила меня на руки, а дед колотил кулаком её, меня и визжал:
— Убью-у!
Явилась мать, я очутился в углу, около печи, а она, загораживая меня, говорила, ловя и отталкивая руки деда, летавшие пред её лицом:
— Что за безобразие? Опомнитесь!..
Дед повалился на скамью, под окно, завывая:
— Убили! Все, все против меня, а-а…
— Как вам не стыдно? — глухо звучал голос матери. — Что вы всё притворяетесь?
Дед кричал, бил ногами по скамье, его борода смешно торчала в потолок, а глаза были крепко закрыты; мне тоже показалось, что ему — стыдно матери, что он — действительно притворяется, оттого и закрыл глаза.
— Наклею я вам эти куски на коленкор, ещё лучше будет, прочнее, говорила мать, разглядывая обрезки и листы. — Видите — измято всё, слежалось, рассыпается…
Она говорила с ним, как со мною, когда я, во время уроков, не понимал чего-либо, и вдруг дедушка встал, деловито оправил рубаху, жилет, отхаркнулся и сказал:
— Сегодня же и наклей! Я тебе сейчас остальные листы принесу…
Пошёл к двери, но у порога обернулся, указывая на меня кривым пальцем:
— А его надо сечь!
— Следует, — согласилась мать, наклонясь ко мне. — Зачем ты сделал это?
— Я — нарочно. Пусть он не бьёт бабушку, а то я ему ещё бороду отстригу…
Бабушка, снимавшая разорванную кофту, укоризненно сказала, покачивая головою:
— Промолчал, как обещано было!
И плюнула на пол:
— Чтоб у тебя язык вспух, не пошевелить бы тебе его, не поворотить!
Мать поглядела на неё, прошлась по кухне, снова подошла ко мне.
— Когда он её бил?
— А ты, Варвара, постыдилась бы, чай, спрашивать об этом, твое ли дело? — сердито сказала бабушка.
Мать обняла её.
— Эх, мамаша, милая вы моя…
— Вот те и мамаша! Отойди-ка…
Они поглядели друг на друга и замолчали, разошлись: в сенях топал дед.
В первые же дни по приезде мать подружилась с весёлой постоялкой, женой военного, и почти каждый вечер уходила в переднюю половину дома, где бывали и люди от Бетленга — красивые барыни, офицера. Дедушке это не нравилось, не однажды, сидя в кухне, за ужином, он грозил ложкой и ворчал:
— Окаянные, опять собрались! Теперь до утра уснуть не дадут.
Скоро он попросил постояльцев очистить квартиру, а когда они уехали привёз откуда-то два воза разной мебели, расставил её в передних комнатах и запер большим висячим замком:
— Не надобно нам стояльцев, я сам гостей принимать буду!
И вот, по праздникам, стали являться гости: приходила сестра бабушки Матрена Ивановна, большеносая крикливая прачка, в шёлковом полосатом платье и золотистой головке, с нею — сыновья: Василий — чертёжник, длинноволосый, добрый и веселый, весь одетый в серое; пёстрый Виктор, с лошадиной головою, узким лицом, обрызганный веснушками, — ещё в сенях, снимая галоши, он напевал пискляво, точно Петрушка:
— Андрей-папА, Андрей-папА…
Это очень удивляло и пугало меня.
Приезжал дядя Яков с гитарой, привозил с собою кривого и лысого часовых дел мастера, в длинном чёрном сюртуке, тихонького, похожего на монаха. Он всегда садился в угол, наклонял голову набок и улыбался, странно поддерживая её пальцем, воткнутым в бритый раздвоенный подбородок. Был он тёмненький, его единый глаз смотрел на всех как-то особенно пристально; говорил этот человек мало и часто повторял одни и те же слова:
— Не утруждайтесь, всё равно-с…
Когда я увидел его впервые, мне вдруг вспомнилось, как однажды, давно, ещё во время жизни на Новой улице, за воротами гулко и тревожно били барабаны, по улице, от острога на площадь, ехала, окружённая солдатами и народом, чёрная высокая телега, и на ней — на скамье — сидел небольшой человек в суконной круглой шапке, в цепях; на грудь ему повешена чёрная доска с крупной надписью белыми словами, — человек свесил голову, словно читая надпись, и качался весь, позванивая цепями. И когда мать сказала часовых дел мастеру: «Вот мой сын», — я испуганно попятился прочь от него, спрятав руки.
— Не утруждайтесь, — сказал он, страшно передвинув весь рот к правому уху, охватил меня за пояс, привлёк к себе, быстро и легко повернул кругом и отпустил, одобряя:
— Ничего, мальчик крепкий…
Я забрался в угол, в кожаное кресло, такое большое, что в нём можно было лежать, — дедушка всегда хвастался, называя его креслом князя Грузинского, — забрался и смотрел, как скучно веселятся большие, как странно и подозрительно изменяется лицо часовых дел мастера. Оно у него было масленое, жидкое, таяло и плавало; если он улыбался, толстые губы его съезжали на правую щёку, и маленький нос тоже ездил, как пельмень по тарелке. Странно двигались большие, оттопыренные уши, то приподнимаясь вместе с бровью зрячего глаза, то сдвигаясь на скулы, — казалось, что если он захочет, то может прикрыть ими свой нос, как ладонями. Иногда он, вздохнув, высовывал тёмный, круглый, как пест, язык и, ловко делая им правильный круг, гладил толстые масленые губы. Всё это было не смешно, а только удивляло, заставляя неотрывно следить за ним.
Пили чай с ромом, — он имел запах жжёных луковых перьев; пили бабушкины наливки, жёлтую, как золото, тёмную, как деготь, и зелёную; ели ядрёный варенец, сдобные медовые лепёшки с маком, потели, отдувались и хвалили бабушку. Наевшись, красные и вспухшие, чинно рассаживались по стульям, лениво уговаривали дядю Якова поиграть.
Он сгибался над гитарой и тренькал, неприятно, назойливо подпевая:
Эх, пожили, как умели, На весь город нашумели, — Ба-арыне из Казани Всё подробно рассказали…Мне думалось, что это очень грустная песня, а бабушка говорила:
— Ты бы, Яша, другое что играл, верную бы песню, а? Помнишь, Мотря, какие, бывало, песни-то пели?
Оправляя шумящее платье, прачка внушительно говорила:
— Нынче, матушка, другая мода…
Дядя смотрел на бабушку прищурясь, как будто она сидела очень далеко, и продолжал настойчиво сеять невесёлые звуки, навязчивые слова.
Дед таинственно беседовал с мастером, показывая ему что-то на пальцах, а тот, приподняв бровь, глядел в сторону матери, кивал головою, и жидкое его лицо неуловимо переливалось.
Мать сидела всегда между Сергеевыми, тихонько и серьёзно разговаривая с Васильем; он вздыхал, говоря:
— Да-а, над этим надо думать…
А Виктор сыто улыбался, шаркал ногами и вдруг пискляво пел:
Андрей-папА, Андрей-папА…
Все, удивлённо примолкнув, смотрели на него, а прачка важно объясняла:
— Это он из киятра взял, это там поют…
Было два или три таких вечера, памятных своей давящей скукой, потом часовых дел мастер явился днём, в воскресенье, тотчас после поздней обедни. Я сидел в комнате матери, помогая ей разнизывать изорванную вышивку бисером, неожиданно и быстро открылась дверь, бабушка сунула в комнату испуганное лицо и тотчас исчезла, громко шепнув:
— Варя — пришёл!
Мать не пошевелилась, не дрогнула, а дверь снова открылась, на пороге встал дед и сказал торжественно:
— Одевайся, Варвара, иди!
Не вставая, не глядя на него, мать спросила:
— Куда?
— Иди, с богом! Не спорь. Человек он спокойный, в своём деле — мастер и Лексею — хороший отец…
Дед говорил необычно важно и всё гладил ладонями бока свои, а локти у него вздрагивали, загибаясь за спину, точно руки его хотели вытянуться вперёд, и он боролся против них.
Мать спокойно перебила:
— Я вам говорю, что этому не бывать…
Он шагнул к ней, вытянул руки, точно ослепший, нагибаясь, ощетинившись, и захрипел:
— Иди! А то — поведу! За косы…
— Поведёте? — спросила мать, вставая; лицо у неё побелело, глаза жутко сузились, она быстро стала срывать с себя кофту, юбку и, оставшись в одной рубахе, подошла к деду: — Ведите!
Он оскалил зубы, грозя ей кулаком:
— Варвара, одевайся!
Мать отстранила его рукою, взялась за скобу двери:
— Ну, идёмте!
— Прокляну, — шёпотом сказал дед.
— Не боюсь. Ну?
Она отворила дверь, но дед схватил её за подол рубахи, припал на колени и зашептал:
— Варвара, дьявол, погибнешь! Не срами…
И тихонько, жалобно заныл:
— Ма-ать, ма-ать…
Бабушка уже загородила дорогу матери, махая на неё руками, словно на курицу, она загоняла её в дверь и ворчала сквозь зубы:
— Варька, дура, — что ты? Пошла, бесстыдница!
Втолкнув её в комнату, заперла дверь на крюк и наклонилась к деду, одной рукой поднимая его, другой грозя:
— У-у, старый бес, бестолковый!
Посадила его на диван, он шлёпнулся, как тряпичная кукла, открыл рот и замотал головой; бабушка крикнула матери:
— Оденься, ты!
Поднимая с пола платье, мать сказала:
— Я не пойду к нему, — слышите?
Бабушка столкнула меня с дивана:
— Принеси ковш воды, скорей!
Говорила она тихо, почти шёпотом, спокойно и властно. Я выбежал в сени, в передней половине дома мерно топали тяжёлые шаги, а в комнате матери прогудел её голос:
— Завтра уеду!
Я вошел в кухню, сел у окна, как во сне.
Стонал и всхлипывал дед, ворчала бабушка, потом хлопнула дверь, стало тихо и жутко. Вспомнив, зачем меня послали, я зачерпнул медным ковшом воды, вышел в сени — из передней половины явился часовых дел мастер, нагнув голову, гладя рукою меховую шапку и крякая. Бабушка, прижав руки к животу, кланялась в спину ему и говорила тихонько:
— Сами знаете — насильно мил не будешь…
Он запнулся за порог крыльца и выскочил на двор, а бабушка перекрестилась и задрожала вся, не то молча заплакав, не то — смеясь.
— Что ты? — спросил я, подбежав.
Она вырвала у меня ковш, облив мне ноги и крикнув:
— Это куда же ты за водой-то ходил? Запри дверь!
И ушла в комнату матери, а я — снова в кухню, слушать, как они, рядом, охают, стонут и ворчат, точно передвигая с места на место непосильные тяжести.
День был светлый; в два окна, сквозь ледяные стёкла, смотрели косые лучи зимнего солнца; на столе, убранном к обеду, тускло блестела оловянная посуда, графин с рыжим квасом и другой с тёмно-зелёной дедовой водкой, настоянной на буквице и зверобое. В проталины окон был виден ослепительно сверкающий снег на крышах, искрились серебряные чепчики на столбах забора и скворешне. На косяках окон, в клетках, пронизанных солнцем, играли мои птицы: щебетали весёлые, ручные чижи, скрипели снегири, заливался щегол. Но весёлый, серебряный и звонкий этот день не радовал, был ненужен, и всё было ненужно. Мне захотелось выпустить птиц, я стал снимать клетки — вбежала бабушка, хлопая себя руками по бокам, и бросилась к печи, ругаясь:
— А, окаянные, раздуй вас горой! Ах ты, дура старая, Акулина…
Вытащила из печи пирог, постучала пальцем по корке и озлобленно плюнула.
Ну — засох! Вот те и разогрела! Ах, демоны, чтоб вас разорвало всех! Ты чего вытаращил буркалы, сыч? Так бы всех вас и перебила, как худые горшки!
И — заплакала, надувшись, переворачивая пирог со стороны на сторону, стукая пальцами по сухим коркам, большие слёзы грузно шлёпались на них.
В кухню вошли дед с матерью; она швырнула пирог на стол так, что тарелки подпрыгнули.
— Вот, глядите, что сделалось из-за вас, ни дна бы вам, ни покрышки!
Мать, весёлая и спокойная, обняла её, уговаривая не огорчаться; дедушка, измятый, усталый, сел за стол и, навязывая салфетку на шею, ворчал, щуря от солнца затёкшие глаза:
— Ладно, ничего! Едали и хорошие пироги. Господь — скуповат, он за года минутами платит… Он процента не признает. Садись-ка, Варя… ладно!
Он был словно безумен, всё время обеда говорил о боге, о нечестивом Ахаве, о тяжёлой доле быть отцом — бабушка сердито останавливала его:
— А ты — ешь знай!
Мать шутила, сверкая ясными глазами.
— Что, испугался давеча? — спросила она, толкнув меня.
Нет, я не очень испугался тогда, но теперь мне было неловко, непонятно.
Ели они, как всегда по праздникам, утомительно долго, много, и казалось, что это не те люди, которые полчаса тому назад кричали друг на друга, готовые драться, кипели в слезах и рыданиях. Как-то не верилось уже, что всё это они делали серьёзно и что им трудно плакать. И слёзы, и крики их, и все взаимные мучения, вспыхивая часто, угасая быстро, становились привычны мне, всё меньше возбуждали меня, всё слабее трогали сердце.
Долго спустя я понял, что русские люди, по нищете и скудости жизни своей, вообще любят забавляться горем, играют им, как дети, и редко стыдятся быть несчастными.
В бесконечных буднях и горе — праздник, и пожар — забава; на пустом лице и царапина — украшение…
XI
После этой истории мать сразу окрепла, туго выпрямилась и стала хозяйкой в доме, а дед сделался незаметен, задумчив, тих непохоже на себя.
Он почти перестал выходить из дома, всё сидел одиноко на чердаке, читал таинственную книгу «Записки моего отца». Книгу эту он держал в укладке под замком, и не однажды я видел, что прежде, чем вынуть её, дед моет руки. Она была коротенькая, толстая, в рыжем кожаном переплёте; на синеватом листе пред титулом красовалась фигурная надпись выцветшими чернилами: «Почтенному Василью Каширину с благодарностью на сердечную память», подписана была какая-то странная фамилия, а росчерк изображал птицу в полёте. Открыв осторожно тяжёлую корку переплёта, дед надевал очки в серебряной оправе и, глядя на эту надпись, долго двигал носом, прилаживая очки. Я не раз спрашивал его — что это за книга? — он внушительно отвечал:
— Этого тебе не нужно знать. Погоди, помру — откажу тебе. И шубу енотовую тебе откажу.
Он стал говорить с матерью мягче и меньше, её речи слушал внимательно, поблёскивая глазами, как дядя Пётр, и ворчал, отмахиваясь:
— Ну, ладно! Делай, как хошь…
В сундуках у него лежало множество диковинных нарядов: штофные юбки, атласные душегреи, шёлковые сарафаны, тканные серебром, кики и кокошники, шитые жемчугами, головки и косынки ярких цветов, тяжёлые мордовские мониста, ожерелья из цветных камней; он сносил всё это охапками в комнаты матери, раскладывал по стульям, по столам, мать любовалась нарядами, а он говорил:
— В наши-те годы одёжа куда красивей да богаче нынешней была! Одёжа богаче, а жили — проще, ладнее. Прошли времена, не воротятся! Ну, примеряй, рядись…
Однажды мать ушла ненадолго в соседнюю комнату и явилась оттуда одетая в синий, шитый золотом сарафан, в жемчужную кику; низко поклонясь деду, она спросила:
— Ладно ли, сударь-батюшка?
Дед крякнул, весь как-то заблестел, обошёл кругом её, разводя руками, шевеля пальцами, и сказал невнятно, точно сквозь сон:
— Эх, кабы тебе, Варвара, большие деньги да хорошие бы около тебя люди…
Теперь мать жила в двух комнатах передней половины дома, у неё часто бывали гости, чаще других братья Максимовы: Пётр, мощный красавец офицер с большущей светлой бородой и голубыми глазами, — тот самый, при котором дед высек меня за оплевание старого барина; Евгений, тоже высокий, тонконогий, бледнолицый, с чёрной остренькой бородкой. Его большие глаза были похожи на сливы, одевался он в зеленоватый мундир с золотыми пуговицами и золотыми вензелями на узких плечах. Он часто и ловко взмахивал головою, отбрасывая с высокого, гладкого лба волнистые, длинные волосы, снисходительно улыбался и всегда рассказывал о чем-то глуховатым голосом, начиная речь вкрадчивыми словами:
— Видите ли, как я думаю…
Мать слушала его прищурившись, усмехаясь и часто прерывала:
— Ребёнок вы, Евгений Васильевич, извините…
Офицер, хлопая себя широкой ладонью по колену, кричал:
— Именно же-ребёнок…
Шумно и весело прошли святки, почти каждый вечер у матери бывали ряженые, она сама рядилась — всегда лучше всех — и уезжала с гостями.
Каждый раз, когда она с пёстрой ватагой гостей уходила за ворота, дом точно в землю погружался, везде становилось тихо, тревожно-скучно. Старой гусыней плавала по комнатам бабушка, приводя всё в порядок, дед стоял, прижавшись спиной к тёплым изразцам печи, и говорил сам себе:
— Ну, — ладно, хорошо… Поглядим, что за дым…
После святок мать отвела меня и Сашу, сына дяди Михайла, в школу. Отец Саши женился, мачеха с первых же дней невзлюбила пасынка, стала бить его, и, по настоянию бабушки, дед взял Сашу к себе. В школу мы ходили с месяц времени, из всего, что мне было преподано в ней, я помню только, что на вопрос: «Как твоя фамилия?» — нельзя ответить просто: «Пешков», — а надобно сказать: «Моя фамилия — Пешков». А также нельзя сказать учителю: «Ты, брат, не кричи, я тебя не боюсь…»
Мне школа сразу не понравилась, брат же первые дни был очень доволен, легко нашёл себе товарищей, но однажды он во время урока заснул и вдруг страшно закричал во сне:
— Не буду-у…
Разбуженный, он попросился вон из класса, был жестоко осмеян за это, и на другой день, когда мы, идя в школу, спустились в овраг на Сенной площади, он, остановясь, сказал:
— Ты — иди, а я не пойду! Я лучше гулять буду.
Присел на корточки, заботливо зарыл узел с книгами в снег и ушёл. Был ясный январский день, всюду сверкало серебряное солнце, я очень позавидовал брату, но скрепя сердце пошёл учиться, — не хотелось огорчить мать. Книги, зарытые Сашей, конечно, пропали, и на другой день у него была уже законная причина не пойти в школу, а на третий его поведение стало известно деду.
Нас привлекли к суду, — в кухне за столом сидели дед, бабушка, мать и допрашивали нас, — помню, как смешно отвечал Саша на вопросы деда:
— Как же это ты не попадаешь в училище-то?
Саша, глядя прямо в лицо деда кроткими глазами, отвечал не спеша:
— Забыл, где оно.
— Забыл?
— Да. Искал-искал…
— Ты бы за Лексеем шел, он помнит!
— Я его потерял.
— Лексея?
— Да.
— Это как же?
Саша подумал и сказал, вздохнув:
— Метель была, ничего не видно.
Все засмеялись, — погода стояла тихая, ясная. Саша тоже осторожно улыбнулся, а дедушка ехидно спрашивал, оскалив зубы:
— Ты бы за руку его держал, за пояс?
— Я — держал, да меня оторвало ветром, — объяснил Саша.
Говорил он лениво, безнадежно, мне было неловко слушать эту ненужную, неуклюжую ложь, и я очень удивлялся его упрямству.
Нас выпороли и наняли нам провожатого, бывшего пожарного, старичка со сломанной рукою, — он должен был следить, чтобы Саша не сбивался в сторону по пути к науке. Но это не помогло: на другой же день брат, дойдя до оврага, вдруг наклонился, снял с ноги валенок и метнул его прочь от себя, снял другой и бросил в ином направлении, а сам, в одних чулках, пустился бежать по площади. Старичок, охая, потрусил собирать сапоги, а затем, испуганный, повёл меня домой.
Целый день дед, бабушка и моя мать ездили по городу, отыскивая сбежавшего, и только к вечеру нашли Сашу у монастыря, в трактире Чиркова, где он увеселял публику пляской. Привезли его домой и даже не били, смущённые упрямым молчанием мальчика, а он лежал со мною на полатях, задрав ноги, шаркая подошвами по потолку, и тихонько говорил:
— Мачеха меня не любит, отец тоже не любит, и дедушка не любит, — что же я буду с ними жить? Вот спрошу бабушку, где разбойники водятся, и убегу к ним, — тогда вы все и узнаете… Бежим вместе?
Я не мог бежать с ним: в те дни у меня была своя задача — я решил быть офицером с большой, светлой бородой, а для этого необходимо учиться. Когда я рассказал брату план, он, подумав, согласился со мною:
— Это тоже хорошо. Когда ты будешь офицером, я уж буду атаманом, и тебе нужно будет ловить меня, и кто-нибудь кого-нибудь убьёт, а то в плен схватит. Я тебя не стану убивать.
— И я тебя тоже.
На этом и порешили.
Пришла бабушка, влезла на печь и, заглядывая к нам, начала говорить:
— Что, мышата? Э-эх, сироты, осколочки!
Пожалев нас, она стала ругать мачеху Саши — толстую тётку Надежду, дочь трактирщика; потом вообще всех мачех, вотчимов и, кстати, рассказала историю о том, как мудрый пустынник Иона, будучи отроком, судился со своей мачехой божьим судом; отца его, угличанина, рыбака на Белоозере,
Извела молодая жена: Напоила его крепкой брагою, А ещё — сонным зелием. Положила его, сонного, Во дубовый чёлн, как во тесный гроб, А взяла она вёсельце кленовое, Сама выгребла посередь озера Что на те ли на тёмные омуты, На бесстыжее дело ведьмино. Там нагнулася, покачнулася, Опрокинула, ведьма, легок чёлн. Муж-от якорем на дно пошёл. А она поплыла скоро к берегу, Доплыла, пала на землю И завыла бабьи жалобы, Стала горе лживое оказывать. Люди добрые ей поверили, С нею вместе горько плакали: — Ой же ты, молодая вдова! Велико твоё горе женское, А и жизнь наша — дело божие, А и смерть нам богом посылается! Только пасынок Ионушко Не поверил слезам мачехи, Положил он ей ручку на сердце, Говорил он ей кротким голосом: — Ой ты, мачеха, судьба моя, Ой ты, птица ночная, хитрая, А не верю я слезам твоим: Больно сердце у тебя бьется радошно! А давай-ко ты спросим господа, Все святые силы небесные: Пусть возьмет кто-нибудь булатный нож Да подбросит его в небо чистое, Твоя правда — нож меня убьёт, Моя правда — на тебя падёт! Поглядела на него мачеха, Злым огнем глаза её вспыхнули, Крепко она встала на ноги, Супроти Ионы заспорила: — Ах ты, тварь неразумная, Недоносок ты, выбросок, Ты чего это выдумал? Да ты как это мог сказать? Смотрят на них люди, слушают. Видят они — дело тёмное. Приуныли все, призадумались, Промежду собой совещаются. После вышел рыбак старенький, Поклонился во все стороны, Молвил слово решённое: — А вы дайте-ко, люди добрые, В праву руку мне булатный нож, Я воскину его до неба, Пусть падет, чья вина — найдет! Дали старцу в рученьку острый нож, Взбросил он его над седою головой, Птицею нож полетел в небеса, Ждут-пождут — он не падает. Смотрят люди во хрустальную высь, Шапки поснимали, тесно стоят, Все молчат, да и ночь нема, А нож с высоты всё не падает! Вспыхнула на озере алая заря, Мачеха зарделась, усмехнулася, Тут он быстрой ласточкой летит к земле Прямо угодил в сердце мачехе. Встали на колени люди добрые, Господу богу помолилися: — Слава тебе, господи, за правду твою! Старенький рыбак взял Ионушку И отвёл его в далекий скит, Что на светлой реке Керженце, Близко невидима града Китежа…[1]На другой день я проснулся весь в красных пятнах, началась оспа. Меня поместили на заднем чердаке, и долго я лежал там слепой, крепко связанный по рукам и по ногам широкими бинтами, переживая дикие кошмары, — от одного из них я едва не погиб. Ко мне ходила только бабушка кормить меня с ложки, как ребёнка, рассказывать бесконечные, всегда новые сказки. Однажды вечером, когда я уже выздоравливал и лежал развязанный, — только пальцы были забинтованы в рукавички, чтоб я не мог царапать лица, — бабушка почему-то запоздала прийти в обычное время, это вызвало у меня тревогу, и вдруг я увидал её: она лежала за дверью на пыльном помосте чердака, вниз лицом, раскинув руки, шея у неё была наполовину перерезана, как у дяди Петра, из угла, из пыльного сумрака к ней подвигалась большая кошка, жадно вытаращив зелёные глаза.
Я вскочил с постели, вышиб ногами и плечами обе рамы окна и выкинулся на двор, в сугроб снега. В тот вечер у матери были гости, никто не слыхал, как я бил стёкла и ломал рамы, мне пришлось пролежать в снегу довольно долго. Я ничего не сломал себе, только вывихнул руку из плеча да сильно изрезался стёклами, но у меня отнялись ноги, и месяца три я лежал, совершенно не владея ими; лежал и слушал, как всё более шумно живёт дом, как часто там, внизу, хлопают двери, как много ходит людей.
Шаркали по крыше тоскливые вьюги, за дверью на чердаке гулял-гудел ветер, похоронно пело в трубе, дребезжали вьюшки, днём каркали вороны, тихими ночами с поля доносился заунывный вой волков, — под эту музыку и росло сердце. Потом в окно робко и тихонько, но всё ласковее с каждым днём стала заглядывать пугливая весна лучистым глазом мартовского солнца, на крыше и на чердаке запели, заорали кошки, весенний шорох проникал сквозь стены — ломались хрустальные сосульки, съезжал с конька крыши подтаявший снег, а звон колоколов стал гуще, чем зимою.
Приходила бабушка; всё чаще и крепче слова её пахли водкой, потом она стала приносить с собою большой белый чайник, прятала его под кровать ко мне и говорила, подмигивая:
— Ты, голуба душа, деду-то, домовому, не сказывай!
— Зачем ты пьешь?
— Нишкни! Вырастешь — узнаешь…
Пососав из рыльца чайника, отерев губы рукавом, она сладко улыбалась, спрашивая:
— Ну и вот, сударь ты мой, про что бишь я вчера сказывала?
— Про отца.
— А которое место?
Я напоминал ей, и долго текла ручьём её складная речь.
Она сама начала рассказывать мне про отца, пришла однажды трезвая, печальная и усталая и говорит:
— Видела я во сне отца твоего, идёт будто полем с палочкой ореховой в руке, посвистывает, а следом за ним пёстрая собака бежит, трясёт языком. Что-то частенько Максим Савватеич сниться мне стал, — видно, беспокойна душенька его неприютная…
Несколько вечеров подряд она рассказывала историю отца, такую же интересную, как все её истории: отец был сыном солдата, дослужившегося до офицеров и сосланного в Сибирь за жестокость с подчинёнными ему; там, где-то в Сибири, и родился мой отец. Жилось ему плохо, уже с малых лет он стал бегать из дома; однажды дедушка искал его по лесу с собаками, как зайца; другой раз, поймав, стал так бить, что соседи отняли ребёнка и спрятали его.
— Маленьких всегда бьют? — спрашивал я; бабушка спокойно отвечала:
— Всегда.
Мать отца померла рано, а когда ему минуло девять лет, помер и дедушка, отца взял к себе крёстный — столяр, приписал его в цеховые города Перми и стал учить своему мастерству, но отец убежал от него, водил слепых по ярмаркам, шестнадцати лет пришёл в Нижний и стал работать у подрядчика столяра на пароходах Колчина. В двадцать лет он был уже хорошим краснодеревцем, обойщиком и драпировщиком. Мастерская, где он работал, была рядом с домами деда, на Ковалихе.
Заборы-то невысокие, а люди-то бойкие, — говорила бабушка, посмеиваясь. — Вот, собираем мы с Варей малину в саду, вдруг он, отец твой, шасть через забор, я индо испугалась: идёт меж яблонь эдакой могутной, в белой рубахе, в плисовых штанах, а — босый, без шапки, на длинных волосьях — ремешок. Это он — свататься привалил! Видала я его и прежде, мимо окон ходил, увижу подумаю: экой парень хороший! Спрашиваю я его, как подошёл: «Что это ты, молодец, не путём ходишь?» А он на коленки стал. «Акулина, говорит, Ивановна, вот те я весь тут, со всей полной душой, а вот-Варя; помоги ты нам, бога ради, мы жениться хотим!» Тут я обомлела, и язык у меня отнялся. Гляжу, а мать-то твоя, мошенница, за яблоню спрятавшись, красная вся, малина малиной, и знаки ему подаёт, а у самой — слёзы на глазах. «Ах вы, говорю, пострели вас горой, да что же это вы затеяли? Да в уме ли ты, Варвара? Да и ты, молодец, говорю, ты подумай-ко: по себе ли ты берёзу ломишь?» Дедушко-то наш о ту пору богач был, дети-то ещё не выделены, четыре дома у него, у него и деньги, и в чести он, незадолго перед этим ему дали шляпу с позументом да мундир за то, что он девять лет бессменно старшиной в цехе сидел, — гордый он был тогда! Говорю я, как надо, а сама дрожу со страху, да и жалко мне их: потемнели оба. Тут отец твой сказал: «Я-де знаю, что Василий Васильев не отдаст Варю добром за меня, так я её выкраду, только ты помоги нам», — это я чтобы помогла! Я даже замахнулась на него, а он и не сторонится: «Хоть камнем, говорит, бей, а — помоги, всё равно я-де не отступлюсь?» Тут и Варвара подошла к нему, руку на плечо его положила, да и скажи: «Мы, говорит, уж давно поженились, ещё в мае, нам только обвенчаться нужно». Я так и покатилась, — ба-атюшки!
Бабушка стала смеяться, сотрясаясь всем телом, потом понюхала табаку, вытерла слёзы и продолжала, отрадно вздохнув:
— Ты этого ещё не можешь понять, что значит — жениться и что венчаться, только это — страшная беда, ежели девица, не венчаясь, дитя родит! Ты это запомни да, как вырастешь, на такие дела девиц не подбивай, тебе это будет великий грех, а девица станет несчастна, да и дитя беззаконно, — запомни же, гляди! Ты живи, жалеючи баб, люби их сердечно, а не ради баловства, это я тебе хорошее говорю!
Она задумалась, покачиваясь на стуле, потом, встрепенувшись, снова начала:
— Ну, как же тут быть? Я Максима — по лбу, я Варвару — за косу, а он мне разумно говорит: «Боем дела не исправишь!» И она тоже: «Вы, говорит, сначала подумали бы, что делать, а драться — после!» Спрашиваю его: «Деньги-то у тебя есть?» — «Были, говорит, да я на них Варе кольцо купил». — «Что же это у тебя — трёшница была?» — «Нет, говорит, около ста целковых». А в те поры деньги были дороги, вещи — дёшевы, гляжу я на них, на мать твою с отцом, — экие ребята, думаю, экие дурачишки! Мать говорит: «Я кольцо это под пол спрятала, чтоб вы не увидали, его можно продать!» Ну, совсем ещё дети! Однако, так ли, эдак ли, уговорились мы, что венчаться им через неделю, а с попом я сама дело устрою. А сама — реву, сердце дрожмя дрожит, боюсь дедушку, да и Варе — жутко. Ну, наладились!
Только был у отца твоего недруг, мастер один, лихой человек, и давно он обо всём догадался и приглядывал за нами. Вот, обрядила я доченьку мою единую во что пришлось получше, вывела её за ворота, а за углом тройка ждала, села она, свистнул Максим — поехали! Иду я домой во слезах — вдруг встречу мне этот человек, да и говорит, подлец: «Я, говорит, добрый, судьбе мешать не стану, только ты, Акулина Ивановна, дай мне за это полсотни рублей!» А у меня денег нет, я их не любила, не копила, вот я, сдуру, и скажи ему: «Нет у меня денег и не дам!» — «Ты, говорит, обещай!» — «Как это — обещать, а где я их после-то возьму?» — «Ну, говорит, али трудно у богатого мужа украсть?» Мне бы, дурёхе, поговорить с ним, задержать его, а я плюнула в рожу-то ему да и пошла себе! Он — вперёд меня забежал на двор и — поднял бунт!
Закрыв глаза, она говорит сквозь улыбку:
— Даже и сейчас вспомнить страшно дела эти дерзкие! Взревел дедушко-то, зверь зверем, — шутка ли это ему? Он, бывало, глядит на Варвару-то, хвастается: за дворянина выдам, за барина! Вот те и дворянин, вот те и барин! Пресвятая богородица лучше нас знает, кого с кем свести. Мечется дедушко по двору-то, как огнём охвачен, вызвал Якова с Михаилом, конопатого этого мастера согласил да Клима, кучера; вижу я — кистень он взял, гирю на ремешке, а Михайло — ружьё схватил, лошади у нас были хорошие, горячие, дрожки-тарантас — лёгкие, — ну, думаю, догонят! И тут надоумил меня ангел-хранитель Варварин, — добыла я нож да гужи-то у оглобель и подрезала, авось, мол, лопнут дорогой! Так и сделалось: вывернулась оглобля дорогой-то, чуть не убило деда с Михайлом да Климом, и задержались они, а как, поправившись, доскакали до церкви — Варя-то с Максимом на паперти стоят, обвенчаны, слава те господи!
Пошли было наши-то боем на Максима, ну — он здоров был, сила у него была редкая! Михаила с паперти сбросил, руку вышиб ему, Клима тоже ушиб, а дедушко с Яковом да мастером этим — забоялись его.
Он и во гневе не терял разума, говорит дедушке: «Брось кистень, не махай на меня, я человек смирный, а что я взял, то бог мне дал и отнять никому нельзя, и больше мне ничего у тебя не надо». Отступились они от него, сел дедушко на дрожки, кричит: «Прощай теперь, Варвара, не дочь ты мне, и не хочу тебя видеть, хошь — живи, хошь — с голоду издохни». Воротился он — давай меня бить, давай ругать, я только покряхтываю да помалкиваю: всё пройдет, а чему быть, то останется! После говорит он мне: «Ну, Акулина, гляди же: дочери у тебя больше нет нигде, помни это!» Я одно своё думаю: ври больше, рыжий, — злоба — что лёд, до тепла живёт!
Я слушаю внимательно, жадно. Кое-что в её рассказе удивляет меня, дед изображал мне венчание матери совсем не так: он был против этого брака, он после венца не пустил мать к себе в дом, но венчалась она, по его рассказу, — не тайно, и в церкви он был. Мне не хочется спросить бабушку, кто из них говорит вернее, потому что бабушкина история красивее и больше нравиться мне. Рассказывая, она всё время качается, точно в лодке плывёт. Если говорит о печальном или страшном, то качается сильней, протянув руку вперёд, как бы удерживая что-то в воздухе. Она часто прикрывает глаза, и в морщинах щёк её прячется слепая, добрая улыбка, а густые брови чуть-чуть дрожат. Иногда меня трогает за сердце эта слепая, всё примиряющая доброта, а иногда очень хочется, чтобы бабушка сказала какое-то сильное слово, что-то крикнула.
— Первое время, недели две, и не знала я, где Варя-то с Максимом, а потом прибежал от неё мальчонко бойкенький, сказал. Подождала я субботы да будто ко всенощной иду, а сама к ним! Жили они далеко, на Суетинском съезде, во флигельке, весь двор мастеровщиной занят, сорно, грязно, шумно, а они — ничего, ровно бы котята, весёлые оба, мурлычут да играют. Привезла я им чего можно было: чаю, сахару, круп разных, варенья, муки, грибов сушёных, деньжонок, не помню сколько, понатаскала тихонько у деда — ведь коли не для себя, так и украсть можно! Отец-то твой не берёт ничего, обижается: «Али, говорит, мы нищие?» И Варвара поёт под его дудку: «Ах, зачем это, мамаша?..» Я их пожурила: «Дурачишко, говорю, я тебе — кто? Я тебе — богоданная мать, а тебе, дурёхе, — кровная! Разве, говорю, можно обижать меня? Ведь когда мать на земле обижают — в небесах матерь божия горько плачет!» Ну, тут Максим схватил меня на руки и давай меня по горнице носить, носит да ещё приплясывает, — силен был, медведь! А Варька-то ходит, девчонка, павой, мужем хвастается, вроде бы новой куклой, и всё глаза заводит и всё таково важно про хозяйство сказывает, будто всамделишняя баба, — уморушка глядеть! А ватрушки к чаю подала, так об них волк зубы сломит, и творог — дресвой рассыпается!
Так оно и шло долгое время, уж и ты готов был родиться, а дедушко всё молчит, — упрям, домовой! Я тихонько к ним похаживаю, а он и знал это, да будто не знает. Всем в дому запрещено про Варю говорить, все молчат, и я тоже помалкиваю, а сама знаю свое — отцово сердце ненадолго немо. Вот как-то пришёл заветный час — ночь, вьюга воет, в окошки-то словно медведи лезут, трубы поют, все беси сорвались с цепей, лежим мы с дедушком — не спится, я и скажи: «Плохо бедному в этакую ночь, а ещё хуже тому, у кого сердце неспокойно!» Вдруг дедушко спрашивает: «Как они живут?» — «Ничего, мол, хорошо живут». — «Я, говорит, про кого это спросил?» — «Про дочь Варвару, про зятя Максима». — «А как ты догадалась, что про них?» «Полно-ко, говорю, отец, дурить-то, бросил бы ты эту игру, ну — кому от неё весело?» Вздыхает он: «Ах вы, говорит, черти, серые вы черти!» Потом выспрашивает: что, дескать, дурак этот большой — это про отца твоего, верно, что дурак? Я говорю: «Дурак, кто работать не хочет, на чужой шее сидит, ты бы вот на Якова с Михайлой поглядел — не эти ли дураками-то живут? Кто в дому работник, кто добытчик? Ты. А велики ли они тебе помощники?» Тут он — ругать меня: и дура-то я, и подлая, и сводня, и уж не знаю как! Молчу. «Как ты, говорит, могла обольститься человеком, неведомо откуда, неизвестно каким?» Я себе молчу, а как устал он, говорю: «Пошёл бы ты, поглядел, как они живут, хорошо ведь живут». — «Много, говорит, чести будет им, пускай сами придут…» Тут уж я даже заплакала с радости, а он волосы мне распускает, любил он волосьями моими играть, бормочет: «Не хлюпай, дура, али, говорит, нет души у меня?» Он ведь раньше-то больно хороший был, дедушко наш, да как выдумал, что нет его умнее, с той поры и озлился и глупым стал.
— Ну, вот и пришли они, мать с отцом, во святой день, в прощёное воскресенье, большие оба, гладкие, чистые; встал Максим-то против дедушка а дед ему по плечо, — встал и говорит: «Не думай, бога ради, Василий Васильевич, что пришёл я к тебе по приданое, нет, пришёл я отцу жены моей честь воздать». Дедушке это понравилось, усмехается он: «Ах ты, говорит, орясина, разбойник! Ну, говорит, будет баловать, живите со мной!» Нахмурился Максим: уж это, дескать, как Варя хочет, а мне всё равно! И сразу началось у них зуб за зуб — никак не сладятся! Уж я отцу-то твоему и мигаю и ногой его под столом — нет, он всё своё! Хороши у него глаза были: весёлые, чистые, а брови — тёмные, бывало, сведёт он их, глаза-то спрячутся, лицо станет каменное, упрямое, и уж никого он не слушает, только меня; я его любила куда больше, чем родных детей, а он знал это и тоже любил меня! Прижмётся, бывало, ко мне, обнимет, а то схватит на руки, таскает по горнице и говорит: «Ты, говорит, настоящая мне мать, как земля, я тебя больше Варвары люблю!» А мать твоя, в ту пору, развесёлая была озорница — бросится на него, кричит: «Как ты можешь такие слова говорить, пермяк солёны уши?» И возимся, играем трое; хорошо жили мы, голубА душа! Плясал он тоже редкостно, песни знал хорошие — у слепых перенял, а слепые лучше нет певцов!
— Поселились они с матерью во флигеле, в саду, там и родился ты, как раз в полдень — отец обедать идёт, а ты ему встречу. То-то радовался он, то-то бесновался, а уж мать — замаял просто, дурачок, будто и невесть какое трудное дело ребёнка родить! Посадил меня на плечо себе и понёс через весь двор к дедушке докладывать ему, что ещё внук явился, — дедушко даже смеяться стал: «Экой, говорит, леший ты, Максим!»
— А дядья твои не любили его, — вина он не пил, на язык дерзок был и горазд на всякие выдумки, — горько они ему отрыгнулись! Как-то о великом посте заиграл ветер, и вдруг по всему дому запело, загудело страшно — все обомлели, что за наваждение? Дедушко совсем струхнул, велел везде лампадки зажечь, бегает, кричит: «Молебен надо отслужить!» И вдруг всё прекратилось; ещё хуже испугались все. Дядя Яков догадался: «Это, говорит, наверное, Максимом сделано!» После он сам сказал, что наставил в слуховом окне бутылок разных да склянок, — ветер в горлышки дует, а они и гудут, всякая по-своему. Дед погрозил ему: «Как бы эти шутки опять в Сибирь тебя не воротили, Максим!»
— Один год сильно морозен был, и стали в город заходить волки с поля, то собаку зарежут, то лошадь испугают, пьяного караульщика заели, много суматохи было от них! А отец твой возьмёт ружьё, лыжи наденет да ночью в поле, глядишь — волка притащит, а то и двух. Шкуры снимет, головы вышелушит, вставит стеклянные глаза — хорошо выходило! Вот и пошёл дядя Михайло в сени за нужным делом, вдруг — бежит назад, волосы дыбом, глаза выкатились, горло перехвачено — ничего не может сказать. Штаны у него свалились, запутался он в них, упал, шепчет — волк! Все схватили кто что успел, бросились в сени с огнём, — глядят, а из рундука и впрямь волк голову высунул! Его бить, его стрелять, а он — хоть бы что! Пригляделись — одна шкура да пустая голова, а передние ноги гвоздями прибиты к рундуку! Дед тогда сильно — горячо рассердился на Максима. А тут ещё Яков стал шутки эти перенимать: Максим-то склеит из картона будто голову — нос, глаза, рот сделает, пакли налепит заместо волос, а потом идут с Яковом по улице и рожи эти страшные в окна суют — люди, конечно, бояться, кричат. А по ночам — в простынях пойдут, попа напугали, он бросился на будку, а будочник, тоже испугавшись, давай караул кричать. Много они эдак-то куролесили, и никак не унять их; уж и я говорила — бросьте, и Варя тоже, — нет, не унимаются! Смеётся Максим-то: «Больно уж, говорит, забавно глядеть, как люди от пустяка в страхе бегут сломя голову!» Поди говори с ним…
— И отдалось всё это ему чуть не гибелью: дядя-то Михайло весь в дедушку — обидчивый, злопамятный, и задумал он извести отца твоего. Вот, шли они в начале зимы из гостей, четверо: Максим, дядья да дьячок один его расстригли после, он извозчика до смерти забил. Шли с Ямской улицы и заманили Максима-то на Дюков пруд, будто покататься по льду, на ногах, как мальчишки катаются, заманили да и столкнули его в прорубь, — я тебе рассказывала это…
— Отчего дядья злые?
— Они — не злые, — спокойно говорит бабушка, нюхая табак. — Они просто глупые! Мишка-то хитёр, да глуп, а Яков так себе, блаженный муж… Ну, столкнули они его в воду-то, он вынырнул, схватился руками за край проруби, а они его давай бить по рукам, все пальцы ему растоптали каблуками. Счастье его — был он трезвый, а они — пьяные, он как-то, с божьей помощью, вытянулся подо льдом-то, держится вверх лицом посередь проруби, дышит, а они не могут достать его, покидали некоторое время в голову-то ему ледяшками и ушли — дескать, сам потонет! А он вылез, да бегом, да в полицию — полиция тут же, знаешь, на площади. Квартальный знал его и всю нашу семью, спрашивает: как это случилось?
Бабушка крестится и благодарно говорит:
— Упокой, господи, Максима Савватеича с праведными твоими, стоит он того! Скрыл ведь он от полиции дело-то! «Это, говорит, сам я, будучи выпивши, забрёл на пруд да и свернулся в прорубь». Квартальный говорит: «Неправда, ты непьющий!» Долго ли, коротко ли, растёрли его в полиции вином, одели в сухое, окутали тулупом, привезли домой, и сам квартальный с ним и ещё двое. А Яшка-то с Мишкой ещё не поспели воротиться, по трактирам ходят, отца-мать славят. Глядим мы с матерью на Максима, а он не похож на себя, багровый весь, пальцы разбиты, кровью сочатся, на висках будто снег, а не тает — поседели височки-то!
Варвара — криком кричит: «Что с тобой сделали?» Квартальный принюхивается ко всем, выспрашивает, а моё сердце чует — ох, нехорошо! Я Варю-то натравила на квартального, а сама тихонько пытаю Максимушку — что сделалось? «Встречайте, шепчет он, Якова с Михайлой первая, научите их говорили бы, что разошлись со мной на Ямской, сами они пошли до Покровки, а я, дескать, в Прядильный проулок свернул! Не спутайте, а то беда будет от полиции!» Я — к дедушке: «Иди, заговаривай кварташку, а я сыновей ждать за ворота», и рассказала ему, какое зло вышло. Одевается он, дрожит, бормочет: «Так я и знал, того я и ждал!» Врёт всё, ничего не знал! Ну, встретила я деток ладонями по рожам — Мишка-то со страху сразу трезвый стал, а Яшенька, милый, и лыка не вяжет, однако бормочет: «Знать ничего не знаю; это всё Михайло, он старшой!» Успокоили мы квартального кое-как — хороший он был господин! «Ох, говорит, глядите, коли случится у вас что худое, я буду знать, чья вина!» С тем и ушёл. А дед подошёл к Максиму-то и говорит: «Ну, спасибо тебе, другой бы на твоем месте так не сделал, я это понимаю! И тебе, дочь, спасибо, что доброго человека в отцов дом привела!» Он ведь, дедушко-то, когда хотел, так хорошо говорил, это уж после, по глупости, стал на замок сердце-то запирать. Остались мы втроём, заплакал Максим Савватеич и словно бредить стал: «За что они меня, что худого сделал я для них? Мама — за что?» Он меня не мамашей, а мамой звал, как маленький, да он и был, по характеру-то, вроде ребёнка. «За что?» — спрашивает. Я — реву, что мне больше осталось? Мои дети-то, жалко их! Мать твоя все пуговицы на кофте оборвала, сидит растрёпана, как после драки, рычит: «Уедем, Максим! Братья нам враги, боюсь их, уедем!» Я уж на неё цыкнула: «Не бросай в печь сору, и без того угар в доме!» Тут дедушко дураков этих прислал прощенья просить, наскочила она на Мишку, хлысь его по щеке — вот те и прощенье! А отец жалуется: «Как это вы, братцы? Ведь вы калекой могли оставить меня, какой я работник без рук-то?» Ну, помирились кое-как. Похворал отец-то, недель семь валялся и нет-нет да скажет: «Эх, мама, едем с нами в другие города — скушновато здесь!» Скоро и вышло ему ехать в Астрахань; ждали туда летом царя, а отцу твоему было поручено триумфальные ворота строить. С первым пароходом поплыли они; как с душой рассталась я с ними, он тоже печален был и всё уговаривал меня — ехала бы я в Астрахань-то. А Варвара радовалась, даже не хотела скрыть радость свою, бесстыдница… Так и уехали. Вот те и — всё…
Она выпила глоток водки, понюхала табаку и сказала, задумчиво поглядывая в окно на сизое небо:
— Да, были мы с отцом твоим крови не родной, а души — одной…
Иногда, во время её рассказа, входил дед, поднимал кверху лицо хорька, нюхал острым носом воздух, подозрительно оглядывал бабушку, слушал её речь и бормотал:
— Ври, ври…
Неожиданно спрашивал:
— Лексей, она тут пила вино?
— Нет.
— Врёшь, по глазам вижу.
И нерешительно уходил. Бабушка, подмигнув вслед ему, говорила какую-нибудь прибаутку:
— Проходи, Авдей, не пугай лошадей…
Однажды он, стоя среди комнаты, глядя в пол, тихонько спросил:
— Мать?
— Ай?
— Ты видишь, что ли, дела-то?
— Вижу.
— Что ж ты думаешь?
— Судьба, отец! Помнишь, ты всё говорил про дворянина?
— Н-да.
— Вот он и есть.
— Голь.
— Ну, это её дело!
Дед ушёл. Почуяв что-то недоброе, я спросил бабушку:
— Про что вы говорили?
— Всё бы тебе знать, — ворчливо отозвалась она, растирая мои ноги. Смолоду все узнаешь — под старость и спросить не о чём будет… — И засмеялась, покачивая головою.
— Ах, дедушко, дедушко, малая ты пылинка в божьем глазу! Ленька, ты только молчи про это! — разорился ведь дедушко-то дотла! Дал барину одному большущие деньги-тысячи, а барин-то обанкрутился…
Улыбаясь, она задумалась, долго сидела молча, а большое лицо её морщилось, становясь печальным, темнея.
— Ты о чём думаешь?
— А вот, думаю, что тебе рассказать? — встрепенулась она. — Ну, про Евстигнея — ладно? Вот значит:
Жил-был дьяк Евстигней, Думал он — нет его умней, Ни в попах, ни в боярах, Ни во псах, самых старых! Ходит он кичливо, как пырин, А считает себя птицей Сирин, Учит соседей, соседок, Всё ему не так да не эдак. Взглянет на церковь- низка! Покосится на улицу — узка! Яблоко ему — не румяно! Солнышко взошло — рано! На что ни укажут Евстигнею, А он:бабушка надувает щёки, выкатывает глаза, доброе лицо её делается глупым и смешным, она говорит ленивым, тяжёлым голосом:
— Я-ста сам эдак-то умею, Я-ста сделал бы и лучше вещь эту, Да всё время у меня нету. —Помолчав, улыбаясь, она тихонько продолжает
И пришли ко дьяку в ночу беси: — Тебе, дьяк, не угодно здеся? Так пойдем-ко ты с нами во ад, — Хорошо там уголья горят! Не поспел умный дьяк надеть шапки, Подхватили его беси в свои лапки, Тащат, щекотят, воют, На плечи сели ему двое, Сунули его в адское пламя. — Ладно ли, Евстигнеюшка, с нами? — Жарится дьяк, озирается, Руками в бока подпирается, Губы у него спесиво надуты, — А — угарно, — говорит, — у вас в аду-то!Закончив басню ленивым, жирным голосом, она, переменив лицо, смеётся тихонько, поясняя мне:
— Не сдался, Евстигней-то, крепко на своем стоит, упрям, вроде бы дедушко наш! Ну-ко, спи, пора…
Мать всходила на чердак ко мне редко, не оставалась долго со мною, говорила торопливо. Она становилась всё красивее, всё лучше одевалась, но и в ней, как в бабушке, я чувствовал что-то новое, спрятанное от меня, чувствовал и догадывался.
Всё меньше занимали меня сказки бабушки, и даже то, что рассказывала она про отца, не успокаивало смутной, но разраставшейся с каждым днём тревоги.
— Отчего беспокоится отцова душа? — спрашивал я бабушку.
— А как это знать? — говорила она, прикрывая глаза. — Это дело божие, небесное, нам неведомое…
Ночами, бессонно глядя сквозь синие окна, как медленно плывут по небу звёзды, я выдумывал какие-то печальные истории, главное место в них занимал отец, он всегда шёл куда-то, один, с палкой в руке, и — мохнатая собака сзади его…
XII
Однажды я заснул под вечер, а проснувшись, почувствовал, что и ноги проснулись, спустил их с кровати — они снова отнялись, но уже появилась уверенность, что ноги целы и я буду ходить. Это было так ярко хорошо, что я закричал от радости, придавил всем телом ноги к полу — свалился, но тотчас же пополз к двери, по лестнице, живо представляя, как все внизу удивятся, увидав меня.
Не помню, как я очутился в комнате матери у бабушки на коленях, пред нею стояли какие-то чужие люди, сухая, зелёная старуха строго говорила, заглушая все голоса:
— Напоить его малиной, закутать с головой…
Она была вся зелёная, и платье, и шляпа, и лицо с бородавкой под глазом, даже кустик волос на бородавке был, как трава. Опустив нижнюю губу, верхнюю она подняла и смотрела на меня зелёными зубами, прикрыв глаза рукою в чёрной кружевной перчатке без пальцев.
— Это кто? — спросил я, оробев. Дед ответил неприятным голосом:
— Это ещё тебе бабушка…
Мать, усмехаясь, подвинула ко мне Евгения Максимова.
— Вот и отец…
Она стала что-то говорить быстро, непонятно; Максимов, прищурясь, наклонился ко мне и сказал:
— Я тебе подарю краски.
В комнате было очень светло, в переднем углу, на столе, горели серебряные канделябры по пяти свеч, между ними стояла любимая икона деда «Не рыдай мене, мати», сверкал и таял в огнях жемчуг ризы, лучисто горели малиновые альмандины на золоте венцов. В тёмных стёклах окон с улицы молча прижались блинами мутные круглые рожи, прилипли расплющенные носы, всё вокруг куда-то плыло, а зелёная старуха щупала холодными пальцами за ухом у меня, говоря:
— Непременно, непременно…
— Сомлел, — сказала бабушка и понесла меня к двери.
Но я не сомлел, а просто закрыл глаза и, когда она тащила меня вверх по лестнице, спросил её:
— Что же ты не говорила мне про это?…
— А ты — ладно, молчи!
— Обманщики вы…
Положив меня на кроватъ, она ткнулась головою в подушку и задрожала вся, заплакала, плечи у неё ходуном ходили, захлёбываясь, она бормотала:
— А ты поплачь… поплачь…
Мне плакать не хотелось. На чердаке было сумрачно и холодно, я дрожал, кровать качалась и скрипела, зелёная старуха стояла пред глазами у меня, я притворился, что уснул, и бабушка ушла.
Тонкой струйкой однообразно протекло несколько пустых дней, мать после сговора куда-то уехала, в доме было удручающе тихо.
Как-то утром пришёл дед со стамеской в руке, подошёл к окну и стал отковыривать замазку зимней рамы. Явилась бабушка с тазом воды и тряпками, дед тихонько спросил её:
— Что, старуха?
— А что?
— Рада, что ли?
Она ответила так же, как мне на лестнице:
— А ты — ладно, молчи!
Простые слова теперь имели особенный смысл, за ними пряталось большое, грустное, о чём не нужно говорить и что все знают.
Осторожно вынув раму, дед понёс её вон, бабушка распахнула окно — в саду кричал скворец, чирикали воробьи; пьяный запах оттаявшей земли налился в комнату, синеватые изразцы печи сконфуженно побелели, смотреть на них стало холодно. Я слез на пол с постели.
— Босиком-то не ходи, — сказала бабушка.
— Пойду в сад.
— Не сухо еще там, погодил бы!
Не хотелось слушать её, и даже видеть больших было неприятно.
В саду уже пробились светло-зелёные иглы молодой травы, на яблонях набухли и лопались почки, приятно позеленел мох на крыше домика Петровны, всюду было много птиц; весёлый звон, свежий пахучий воздух приятно кружил голову. В яме, где зарезался дядя Пётр, лежал, спутавшись, поломанный снегом рыжий бурьян, — нехорошо смотреть на неё, ничего весеннего нет в ней, чёрные головни лоснятся печально, и вся яма раздражающе ненужна. Мне сердито захотелось вырвать, выломать бурьян, вытаскать обломки кирпичей, головни, убрать всё грязное, ненужное и, устроив в яме чистое жилище себе, жить в ней летом одному, без больших. Я тотчас же принялся за дело, оно сразу, надолго и хорошо отвело меня от всего, что делалось в доме, и хотя было всё ещё очень обидно, но с каждым днём теряло интерес.
— Ты что это надул губы? — спрашивали меня то бабушка, то мать, — было неловко, что они спрашивают так, я ведь не сердился на них, а просто всё в доме стало мне чужим. За обедом, вечерним чаем и ужином часто сидела зелёная старуха, точно гнилой кол в старой изгороди. Глаза у ней были пришиты к лицу невидимыми ниточками; легко выкатываясь из костлявых ям, они двигались очень ловко, всё видя, всё замечая, поднимаясь к потолку, когда она говорила о боге, опускаясь на щёки, если речь шла о домашнем. Брови у неё были точно из отрубей и какие-то приклеенные. Её голые, широкие зубы бесшумно перекусывали всё, что она совала в рот, смешно изогнув руку, оттопырив мизинец, около ушей у неё катались костяные шарики, уши двигались, и зелёные волосы бородавки тоже шевелились, ползая по жёлтой, сморщенной и противно чистой коже. Она вся была такая же чистая, как её сын, — до них неловко, нехорошо было притронуться. В первые дни она начала было совать свою мёртвую руку к моим губам, от руки пахло жёлтым казанским мылом и ладаном, я отворачивался, убегал.
— Мальчика непременно надо очень воспитывать, понимаешь, Женя?
Он послушно наклонял голову, хмурил брови и молчал. И все хмурились при этой зелёной.
Я ненавидел старуху — да и сына её — сосредоточенной ненавистью, и много принесло мне побоев это тяжёлое чувство. Однажды за обедом она сказала, страшно выкатив глаза:
— Ах, Алёшенька, зачем ты так торопишься кушать и такие большущие куски! Ты подавишься, милый!
Я вынул кусок изо рта, снова надел его на вилку и протянул ей:
— Возьмите, коли жалко…
Мать выдернула меня из-за стола, я с позором был прогнан на чердак, пришла бабушка и хохотала, зажимая себе рот:
— А, ба-атюшки! Ну, и озорник же ты, Христос с тобой…
Мне не нравилось, что она зажимает рот, я убежал от неё, залез на крышу дома и долго сидел там за трубой. Да, мне очень хотелось озорничать, говорить всем злые слова, и было трудно побороть это желание, а пришлось побороть: однажды я намазал стулья будущего вотчима и новой бабушки вишнёвым клеем, оба они прилипли; это было очень смешно, но когда дед отколотил меня, на чердак ко мне пришла мать, привлекла меня к себе, крепко сжала коленями и сказала:
— Послушай, — зачем ты злишься? Знал бы ты, какое это горе для меня!
Глаза её налились светлыми слезами, она прижала голову мою к своей щеке, — это было так тяжело, что лучше бы уж она ударила меня! Я сказал, что никогда не буду обижать Максимовых, никогда, — пусть только она не плачет.
— Да, да, — сказала она тихонько, — не нужно озорничать! Вот скоро мы обвенчаемся, потом поедем в Москву, а потом воротимся, и ты будешь жить со мной. Евгений Васильевич очень добрый и умный, тебе будет хорошо с ним. Ты будешь учиться в гимназии, потом станешь студентом, — вот таким же, как он теперь, а потом доктором. Чем хочешь, — учёный может быть чем хочет. Ну, иди, гуляй…
Эти «потом», положенные ею одно за другим, казались мне лестницею куда-то глубоко вниз и прочь от неё, в темноту, в одиночество, — не обрадовала меня такая лестница. Очень хотелось сказать матери:
«Не выходи, пожалуйста, замуж, я сам буду кормить тебя!»
Но это не сказалось. Мать всегда будила очень много ласковых дум о ней, но выговорить думы эти я не решался никогда.
В саду дела мои пошли хорошо: я выполол, вырубил косарём бурьян, обложил яму по краям, где земля оползла, обломками кирпичей, устроил из них широкое сиденье, — на нём можно было даже лежать. Набрал много цветных стёкол и осколков посуды, вмазал их глиной в щели между кирпичами — когда в яму смотрело солнце, всё это радужно разгоралось, как в церкви.
— Ловко придумал! — сказал однажды дедушка, разглядывая мою работу. Только бурьян тебя забьёт, корни-то ты оставил! Дай-ко я перекопаю землю заступом, — иди принеси!
Я принёс железную лопату, он поплевал на руки и, покрякивая, стал глубоко всаживать ногою заступ в жирную землю.
— Отбрасывай коренья! Потом я тебе насажу тут подсолнухов, мальвы хорошо будет! Хорошо…
И вдруг, согнувшись над лопатой, он замолчал, замер; я присмотрелся к нему — из его маленьких, умных, как у собаки, глаз часто падали на землю мелкие слёзы.
— Ты что?
Он встряхнулся, вытер ладонью лицо, мутно поглядел на меня.
— Вспотел я! Гляди-ко — червей сколько!
Потом снова стал копать землю и вдруг сказал:
— Зря всё это настроил ты! Зря, брат. Дом-от я ведь скоро продам. К осени, наверное, продам. Деньги нужны, матери в приданое. Так-то. Пускай хоть она хорошо живёт, господь с ней…
Он бросил лопату и, махнув рукою, ушёл за баню, в угол сада, где у него были парники, а я начал копать землю и тотчас же разбил себе заступом палец на ноге.
Это помешало мне проводить мать в церковь к венцу, я мог только выйти за ворота и видел, как она под руку с Максимовым, наклоня голову, осторожно ставит ноги на кирпич тротуара, на зелёные травы, высунувшиеся из щелей его, — точно она шла по остриям гвоздей.
Свадьба была тихая; придя из церкви, невесело пили чай, мать сейчас же переоделась и ушла к себе в спальню укладывать сундуки, вотчим сел рядом со мною и сказал:
— Я обещал подарить тебе краски, да здесь в городе нет хороших, а свои я не могу отдать, уж я пришлю тебе краски из Москвы…
— А что я буду делать с ними?
— Ты не любишь рисовать?
— Я не умею.
— Ну, я тебе другое что-нибудь пришлю.
Подошла мать.
— Мы ведь скоро вернёмся; вот отец сдаст экзамен, кончит учиться, мы и назад…
Было приятно, что они разговаривают со мною, как со взрослым, по как-то странно было слышать, что человек с бородой всё ещё учится, Я спросил:
— Ты чему учишься?
— Межевому делу…
Мне было лень спросить — что это за дело? Дом наполняла скучная тишина, какой-то шерстяной шорох, хотелось, чтобы скорее пришла ночь. Дед стоял, прижавшись спиной к печи, и смотрел в окно прищурясь; зелёная старуха помогала матери укладываться, ворчала, охала, а бабушку, с полудня пьяную, стыда за неё ради, спровадили на чердак и заперли там.
Мать уехала рано утром на другой день; она обняла меня на прощание, легко приподняв с земли, заглянула в глаза мне какими-то незнакомыми глазами и сказала, целуя:
— Ну, прощай…
— Скажи ему, чтобы слушался меня, — угрюмо проговорил дед, глядя в небо, ещё розовое.
— Слушайся дедушку, — сказала мать, перекрестив меня. Я ждал, что она скажет что-то другое, и рассердился на деда, — это он помешал ей.
Вот они сели в пролётку, мать долго и сердито отцепляла подол платья, зацепившийся за что-то.
— Помоги, али не видишь? — сказал мне дед; я не помог, туго связанный тоскою.
Максимов терпеливо уставлял в пролётке свои длинные ноги в узких синих брюках, бабушка совала в руки ему какие-то узлы, он складывал их на колени себе, поддерживал подбородком и пугливо морщил бледное лицо, растягивая:
— До-остаточно-о…
На другую пролётку уселась зелёная старуха со старшим сыном, офицером, — она сидела, как написанная, а он чесал себе бороду ручкой сабли и позёвывал.
— Значит — вы на войну пойдёте? — спрашивал дед.
— Обязательно!
— Дело доброе. Турок надо бить…
Поехали. Мать несколько раз обернулась, взмахивая платком, бабушка, опираясь рукою о стену дома, тоже трясла в воздухе рукою, обливаясь слезами, дед тоже выдавливал пальцами слёзы из глаз и ворчал отрывисто:
— Не будет… добра тут… не будет.
Я сидел на тумбе, глядя, как подпрыгивают пролётки, — вот они повернули за угол, и в груди что-то захлопнулось, закрылось.
Было рано, окна домов ещё прикрыты ставнями, улица пустынна — никогда я не видал её такой мёртво пустой. Вдали назойливо играл пастух.
— Пойдем чай пить, — сказал дед, взяв меня за плечо. — Видно — судьба тебе со мной жить; так и станешь ты об меня чиркать, как спичка о кирпич!
С утра до вечера мы с ним молча возились в саду; он копал гряды, подвязывал малину, снимал с яблонь лишаи, давил гусеницу, а я всё устраивал и украшал жилище себе. Дед отрубил конец обгоревшего бревна, воткнул в землю палки, я развесил на них клетки с птицами, сплёл из сухого бурьяна плотный плетень и сделал над скамьёй навес от солнца и росы, — у меня стало совсем хорошо.
Дед говорил:
— Это очень полезно, что ты учишься сам для себя устраивать как лучше.
Я очень ценил его слова. Иногда он ложился на седалище, покрытое мною дёрном, и поучал меня не торопясь, как бы с трудом вытаскивая слова:
— Теперь ты от матери отрезан ломоть, пойдут у неё другие дети, будут они ей ближе тебя. Бабушка вот пить начала.
Долго молчит, будто прислушиваясь, — снова неохотно роняет тяжёлые слова.
— Это она второй раз запивает, — когда Михайле выпало в солдаты идти она тоже запила. И уговорила меня, дура старая, купить ему рекрутскую квитанцию. Может, он в солдатах-то другим стал бы… Эх вы-и… А я скоро помру. Значит — останешься ты один, сам про себя — весь тут, своей жизни добытчик — понял? Ну, вот. Учись быть самому себе работником, а другим — не поддавайся! Живи тихонько, спокойненько, а — упрямо! Слушай всех, а делай как тебе лучше…
Всё лето, исключая, конечно, непогожие дни, я прожил в саду, тёплыми ночами даже спал там на кошме, подаренной бабушкой; нередко и сама она ночевала в саду, принесёт охапку сена, разбросает его около моего ложа, ляжет и долго рассказывает мне о чём-нибудь, прерывая речь свою неожиданными вставками:
— Гляди — звезда упала! Это чья-нибудь душенька чистая встосковалась, мать-землю вспомнила! Значит — сейчас где-то хороший человек родился.
Или указывала мне:
— Новая звезда взошла, глянь-ко! Экая глазастая! Ох ты, небо-небушко, риза богова светлая…
Дед ворчал:
— Простудитесь, дурачьё, захвораете, а то пострел схватит. Воры придут, задавят…
Бывало — зайдёт солнце, прольются в небесах огненные реки и — сгорят, ниспадёт на бархатную зелень сада золотисто-красный пепел, потом всё вокруг ощутимо темнеет, ширится, пухнет, облитое тёплым сумраком, опускаются сытые солнцем листья, гнутся травы к земле, всё становится мягче, пышнее, тихонько дышит разными запахами, ласковыми, как музыка, — и музыка плывёт издали, с поля: играют зорю в лагерях. Ночь идёт, и с нею льётся в грудь нечто сильное, освежающее, как добрая ласка матери, тишина мягко гладит сердце тёплой, мохнатой рукою, и стирается в памяти всё, что нужно забыть, вся едкая, мелкая пыль дня. Обаятельно лежать вверх лицом, следя, как разгораются звёзды, бесконечно углубляя небо; эта глубина, уходя всё выше, открывая новые звёзды, легко поднимает тебя с земли, и — так странно — не то вся земля умалилась до тебя, не то сам ты чудесно разросся, развернулся и плавишься, сливаясь со всем, что вокруг. Становится темнее, тише, но всюду невидимо протянуты чуткие струны, и каждый звук — запоёт ли птица во сне, пробежит ли ёж, или где-то тихо вспыхнет человечий голос — всё особенно, не по-дневному звучно, подчёркнутое любовно чуткой тишиной.
Проиграла гармоника, прозвучал женский смех, гремит сабля по кирпичу тротуара, взвизгнула собака — всё это не нужно, это падают последние листья отцветшего дня.
Бывали ночи, когда вдруг в поле, на улице вскипал пьяный крик, кто-то бежал, тяжко топая ногами, — это было привычно и не возбуждало внимания.
Бабушка не спит долго, лежит, закинув руки под голову, и в тихом возбуждении рассказывает что-нибудь, видимо, нисколько не заботясь о том, слушаю я её или нет. И всегда она умела выбрать сказку, которая делала ночь ещё значительней, ещё краше.
Под её мерную речь я незаметно засыпал и просыпался вместе с птицами; прямо в лицо смотрит солнце, нагреваясь, тихо струится утренний воздух, листья яблонь стряхивают росу, влажная зелень травы блестит всё ярче, приобретая хрустальную прозрачность, тонкий парок вздымается над нею. В сиреневом небе растёт веер солнечных лучей, небо голубеет. Невидимо высоко звенит жаворонок, и все цвета, звуки росою просачиваются в грудь, вызывая спокойную радость, будя желание скорее встать, что-то делать и жить в дружбе со всем живым вокруг.
Это было самое тихое и созерцательное время за всю мою жизнь, именно этим летом во мне сложилось и окрепло чувство уверенности в своих силах. Я одичал, стал нелюдим; слышал крики детей Овсянникова, но меня не тянуло к ним, а когда являлись братья, это нимало не радовало меня, только возбуждало тревогу, как бы они не разрушили мои постройки в саду — моё первое самостоятельное дело.
Перестали занимать меня и речи деда, всё более сухие, ворчливые, охающие. Он начал часто ссориться с бабушкой, выгонял её из дома, она уходила то к дяде Якову, то — к Михаилу. Иногда она не возвращалась домой по нескольку дней, дед сам стряпал, обжигал себе руки, выл, ругался, колотил посуду и заметно становился жаден.
Иногда, приходя ко мне в шалаш, он удобно усаживался на дёрн, следил за мною долго, молча и неожиданно спрашивал:
— Что молчишь?
— Так. А что?
Он начинал поучать:
— Мы — не баре. Учить нас некому. Нам надо всё самим понимать. Для других вон книги написаны, училища выстроены, а для нас ничего не поспело. Всё сам возьми…
И задумывался, засыхал, неподвижный, немой, почти — жуткий.
Осенью он продал дом, а незадолго до продажи, вдруг, за утренним чаем, угрюмо и решительно объявил бабушке:
— Ну, мать, кормил я тёбя, кормил — будет! Добывай хлеб себе сама.
Бабушка отнеслась к этим словам совершенно спокойно, точно давно знала, что они будут сказаны, и ждала этого. Не торопясь достала табакерку, зарядила свой губчатый нос и сказала:
— Ну, что ж! Коли — так, так — эдак…
Дед снял две тёмные комнатки в подвале старого дома, в тупике, под горкой. Когда переезжали на квартиру, бабушка взяла старый лапоть на длинном оборе, закинула его в подпечек и, присев на корточки, начала вызывать домового:
— Домовик-родовик, — вот тебе сани, поезжай-ко с нами на новое место, на иное счастье…
Дед заглянул в окно со двора и крикнул:
— Я те повезу, еретица! Попробуй осрами-ка меня…
— Ой, гляди, отец, худо будет, — серьёзно предупредила она, но дед освирепел и запретил ей перевозить домового.
Мебель и разные вещи он дня три распродавал старьёвщикам-татарам, яростно торгуясь и ругаясь, а бабушка смотрела из окна и то плакала, то смеялась, негромко покрикивая:
— Тащи-и! Ломай…
Я тоже готов был плакать, жалея мой сад, шалаш. Переезжали на двух телегах, и ту, на которой сидел я, среди разного скарба, страшно трясло, как будто затем, чтобы сбросить меня долой.
И в этом ощущении упорной, сбрасывающей куда-то тряски я прожил года два, вплоть до смерти матери.
Мать явилась вскоре после того, как дед поселился в подвале, бледная, похудевшая, с огромными глазами и горячим, удивлённым блеском в них. Она всё как-то присматривалась, точно впервые видела отца, мать и меня, присматривалась и молчала, а вотчим неустанно расхаживал по комнате, насвистывая тихонько, покашливая, заложив руки за спину, играя пальцами.
— Господи, как ты ужасно растёшь! — сказала мне мать, сжав горячими ладонями щёки мои. Одета она была некрасиво — в широкое, рыжее платье, вздувшееся на животе.
Вотчим протянул мне руку.
— Здравствуй, брат! Ну, как ты, а?
Понюхал воздух и сказал:
— А знаете — у вас очень сыро!
Оба они как будто долго бежали, утомились, всё на них смялось, вытерлось, и ничего им не нужно, а только бы лечь да отдохнуть.
Скучно пили чай, дедушка спрашивал, глядя, как дождь моет стекло окна:
— Стало быть — всё сгорело?
— Всё, — решительно подтвердил вотчим. — Мы сами едва выскочили…
— Так. Огонь не шутит.
Прижавшись к плечу бабушки, мать шептала что-то на ухо ей, — бабушка щурила глаза, точно в них светом било. Становилось всё скучнее.
Вдруг дед сказал ехидно и спокойно, очень громко:
— А до меня слух дошёл, Евгений Васильев, сударь, что пожара-то не было, а просто ты в карты проиграл всё…
Стало тихо, как в погребе, фыркал самовар, хлестал дождь по стёклам, потом мать выговорила:
— Папаша…
— Что-о, папаша-а? — оглушительно закричал дед. — Что ещё будет? Не говорил я тебе: не ходи тридцать за двадцать? Вот тебе, — вон он — тонкий! Дворянка, а? Что, дочка?
Закричали все четверо, громче всех вотчим. Я ушёл в сени, сел там на дрова и окоченел в изумлении: мать точно подменили, она была совсем не та, не прежняя. В комнате это было меньше заметно, но здесь, в сумраке, ясно вспомнилось, какая она была раньше.
Потом, как-то не памятно, я очутился в Сормове, в доме, где всё было новое, стены без обоев, с пенькой в пазах между бревнами и со множеством тараканов в пеньке. Мать и вотчим жили в двух комнатах, на улицу окнами, а я с бабушкой — в кухне, с одним окном на крышу. Из-за крыш чёрными кукишами торчали в небо трубы завода и густо, кудряво дымили, зимний ветер раздувал дым по всему селу; всегда у нас, в холодных комнатах, стоял жирный запах гари. Рано утром волком выл гудок:
— Хвоу, оу, оу-у…
Если встать на лавку, то в верхние стёкла окна, через крыши, видны освещённые фонарями ворота завода, раскрытые, как беззубый чёрный рот старого нищего, — в него густо лезет толпа маленьких людей. В полдень снова гудок; отваливались чёрные губы ворот, открывая глубокую дыру, завод тошнило пережёванными людями, чёрным потоком они изливались на улицу, белый, мохнатый ветер летал вдоль улицы, гоняя и раскидывая людей по домам. Небо было видимо над селом очень редко: изо дня в день над крышами домов, над сугробами снега, посоленными копотью, висела другая крыша, серая, плоская, она притискивала воображение и ослепляла глаза своим тоскливым одноцветом.
Вечерами над заводом колебалось мутно-красное зарево, освещая концы труб, и было похоже, что трубы не от земли к небу поднялись, а опускаются к земле из этого дымного облака, — опускаются, дышат красным и воют, гудят. Смотреть на всё это было невыносимо тошно, злая скука грызла сердце. Бабушка работала за кухарку — стряпала, мыла полы, колола дрова, носила воду, она была в работе с утра до вечера, ложилась спать усталая, кряхтя и охая. Иногда она, отстряпавшись, надевала короткую ватную кофту и, высоко подоткнув юбку, отправлялась в город.
— Поглядеть, как там старик живёт…
— Возьми меня!
— Замёрзнешь, гляди, как вьюжно!
И уходила она за семь вёрст, по дороге, затерянной в снежных полях. Мать, жёлтая, беременная, зябко куталась в серую, рваную шаль с бахромой. Ненавидел я эту шаль, искажавшую большое, стройное тело, ненавидел и обрывал хвостики бахромы, ненавидел дом, завод, село. Мать ходила в растоптанных валенках, кашляла, встряхивая безобразно большой живот, её серо-синие глаза сухо н сердито сверкали и часто неподвижно останавливались на голых стенах, точно приклеиваясь к ним. Иногда она целый час смотрела в окно на улицу; улица была похожа на челюсть, часть зубов от старости почернела, покривилась, часть их уже вывалилась и неуклюже вставлены новые, не по челюсти большие.
— Зачем мы тут живём? — спрашивал я. Она отвечала:
— Ах, молчи ты…
Она мало говорила со мною, всё только приказывала:
— Сходи, подай, принеси…
На улицу меня пускали редко, каждый раз я возвращался домой избитый мальчишками, — драка была любимым и единственным наслаждением моим, я отдавался ей со страстью. Мать хлестала меня ремнём, но наказание ещё более раздражало, и в следующий раз я бился с ребятишками яростней, — а мать наказывала меня сильнее. Как-то раз я предупредил её, что, если она не перестанет бить, я укушу ей руку, убегу в поле и там замёрзну, — она удивлённо оттолкнула меня, прошлась по комнате и сказала, задыхаясь от усталости:
— Зверёныш!
Живая, трепетная радуга тех чувств, которые именуются любовью, выцветала в душе моей, всё чаще вспыхивали угарные синие огоньки злости на всё, тлело в сердце чувство тяжкого недовольства, сознание одиночества в этой серой, безжизненной чепухе.
Вотчим был строг со мной, неразговорчив с матерью, всё посвистывал, кашлял, а после обеда становился перед зеркалом и заботливо, долго ковырял лучинкой в неровных зубах. Всё чаще он ссорился с матерью, сердито говорил ей «вы» — это выканье отчаянно возмущало меня. Во время ссор он всегда плотно прикрывал дверь в кухню, видимо, не желая, чтоб я слышал его слова, но я все-таки вслушивался в звуки его глуховатого баса.
Однажды он крикнул, топнув ногою:
— Из-за вашего дурацкого брюха я никого не могу пригласить в гости к себе, корова вы эдакая!
В изумлении, в бешеной обиде я так привскочил на полатях, что ударился головою о потолок и сильно прикусил до крови язык себе.
По субботам к вотчиму десятками являлись рабочие продавать записки на провизию, которую они должны были брать в заводской лавке, этими записками им платили вместо денег, а вотчим скупал их за полцены. Он принимал рабочих в кухне, сидя за столом, важный, хмурый, брал записку и говорил:
— Полтора рубля.
— Евгений Васильев, побойся бога…
— Полтора рубля.
Эта нелепая, тёмная жизнь недолго продолжалась; перед тем, как матери родить, меня отвели к деду. Он жил уже в Кунавине, занимая тесную комнату с русской печью и двумя окнами на двор, в двухэтажном доме на песчаной улице, опускавшейся под горку к ограде кладбища Напольной церкви.
— Что-о? — сказал он, встретив меня, и засмеялся, подвизгивая. Говорилось: нет милей дружка, как родимая матушка, а нынче, видно, скажем: не родимая матушка, а старый чёрт дедушка! Эх вы-и…
Не успел я осмотреться на новом месте, приехали бабушка и мать с ребенком, вотчима прогнали с завода за то, что он обирал рабочих, но он съездил куда-то, и его тотчас взяли на вокзал кассиром по продаже билетов.
Прошло много пустого времени, и меня снова переселили к матери в подвальный этаж каменного дома, мать тотчас же сунула меня в школу; с первого же дня школа вызвала во мне отвращение.
Я пришёл туда в материных башмаках, в пальтишке, перешитом из бабушкиной кофты, в жёлтой рубахе и штанах «навыпуск», всё это сразу было осмеяно, за жёлтую рубаху я получил прозвище «бубнового туза». С мальчиками я скоро поладил, но учитель и поп невзлюбили меня.
Учитель был жёлтый, лысый, у него постоянно текла кровь из носа, он являлся в класс, заткнув ноздри ватой, садился за стол, гнусаво спрашивал уроки и вдруг, замолчав на полуслове, вытаскивал вату из ноздрей, разглядывал её, качая головою. Лицо у него было плоское, медное, окисшее, в морщинах лежала какая-то прАзелень, особенно уродовали это лицо совершенно лишние на нём оловянные глаза, так неприятно прилипавшие к моему лицу, что всегда хотелось вытереть щёки ладонью.
Несколько дней я сидел в первом отделении, на передней парте, почти вплоть к столу учителя, — это было нестерпимо, казалось, он никого не видит, кроме меня, он гнусил всё время:
— Песко-ов, перемени рубаху-у! Песко-ов, не вози ногами! Песков, опять у тебя с обуви луза натекла-а!
Я платил ему за это диким озорством: однажды достал половинку замороженного арбуза, выдолбил её, и привязал на нитке к блоку двери в полутёмных сенях. Когда дверь открылась — арбуз взъехал вверх, а когда учитель притворил дверь — арбуз шапкой сел ему прямо на лысину. Сторож отвёл меня с запиской учителя домой, и я расплатился за эту шалость своей шкурой.
Другой раз я насыпал в ящик его стола нюхательного табаку; он так расчихался, что ушёл из класса, прислав вместо себя зятя своего, офицера, который заставил весь класс петь «Боже царя храни» и «Ах ты, воля, моя воля». Тех, кто пел неверно, он щёлкал линейкой по головам, как-то особенно звучно н смешно, но не больно.
Законоучитель, красивый и молодой, пышноволосый поп, невзлюбил меня за то, что у меня не было «Священной истории ветхого и нового завета», и за то, что я передразнивал его манеру говорить.
Являясь в класс, он первым делом спрашивал меня:
— Пешков, книгу принёс или нет? Да. Книгу?
Я отвечал:
— Нет. Не принёс. Да.
— Что — да?
— Нет.
— Ну, и — ступай домой! Да. Домой. Ибо тебя учить я не намерен. Да. Не намерен.
Это меня не очень огорчало, я уходил и до конца уроков шатался по грязным улицам слободы присматриваясь к её шумной жизни.
У попа было благообразное Христово лицо, ласковые, женские глаза и маленькие руки, тоже какие-то ласковые ко всему, что попадало в них. Каждую вещь — книгу, линейку, ручку пера — он брал удивительно хорошо, точно вещь была живая, хрупкая, поп очень любил её и боялся повредить ей неосторожным прикосновением. С ребятишками он был не так ласков, но они всё-таки любили его.
Несмотря на то, что я учился сносно, мне скоро было сказано, что меня выгонят из школы за недостойное поведение. Я приуныл, — это грозило мне всякими неприятностями: мать, становясь всё более раздражительной, всё чаще поколачивала меня.
Но явилась помощь, — в школу неожиданно приехал епископ Хрисанф,[2] похожий на колдуна и, помнится, горбатый.
Когда он, маленький, в широкой чёрной одежде и смешном ведёрке на голове, сел за стол, высвободил руки из рукавов и сказал: «Ну, давайте беседовать, дети мои!» — в классе сразу стало тепло, весело, повеяло незнакомо приятным.
Вызвав после многих меня к столу, он спросил серьёзно:
— Тебе — который год? Только-о? Какой ты, брат, длинный, а? Под дождями часто стоял, а?
Положив на стол сухонькую руку, с большими острыми ногтями, забрав в пальцы непышную бородку, он уставился в лицо мне добрыми глазами, предложив:
— Ну-ко, расскажи мне из священной истории, что тебе нравится?
Когда я сказал, что у меня нет книги и я не учу священную историю, он поправил клобук и спросил:
— Как же это? Ведь это надобно учить! А может, что-нибудь знаешь, слыхал? Псалтырь знаешь? Это хорошо! И молитвы? Ну, вот видишь! Да ещё и жития? Стихами? Да ты у меня знающий…
Явился наш поп, красный, запыхавшийся, епископ благословил его, но когда поп стал говорить про меня, он поднял руку, сказав:
— Позвольте, минутку… Ну-ко, расскажи про Алексея человека божия…
— Прехорошие стихи, брат, а? — сказал он, когда я приостановился, забыв какой-то стих. — А ещё что-нибудь?.. Про царя Давида? Очень послушаю!
Я видел, что он действительно слушает и ему нравятся стихи, он спрашивал меня долго, потом вдруг остановил, осведомляясь, быстро:
— По Псалтырю учился? Кто учил? Добрый дедушка-то? Злой? Неужто? А ты очень озорничаешь?
Я замялся, но сказал — да. Учитель с попом многословно подтвердили моё сознание, он слушал их, опустив глаза, потом сказал, вздохнув:
— Вот что про тебя говорят — слыхал? Ну-ко, подойди!
Положив на голову мне руку, от которой исходил запах кипарисового дерева, он спросил:
— Чего же это ты озорничаешь?
— Скушно очень учиться.
— Скучно? Это, брат, неверно что-то. Было бы скучно учиться — учился бы ты плохо, а вот учителя свидетельствуют, что хорошо ты учишься. Значит, есть что-то другое.
Вынув маленькую книжку из-за пазухи, он записал:
— ПешкОв Алексей. Так. А ты всё-таки сдерживался бы, брат, не озорничал бы много-то! Немножко можно, а уж много-то досадно людям бывает! Так ли я говорю, дети?
Множество голосов весело ответили:
— Так.
— Вы сами то ведь не много озорничаете?
Мальчишки, ухмыляясь, заговорили:
— Нет. Тоже много! Много!
Епископ отклонился на спинку стула, прижал меня к себе и удивлённо сказал, так, что все — даже учитель с попом — засмеялись:
— Экое дело, братцы мои, ведь и я тоже в ваши-то годы великим озорником был! Отчего бы это, братцы?
Дети смеялись, он расспрашивал их, ловко путая всех, заставляя возражать друг другу, и всё усугублял весёлость. Наконец встал и сказал:
— Хорошо с вами, озорники, да пора ехать мне!
Поднял руку, смахнув рукав к плечу, и, крестя всех широкими взмахами, благословил:
— Во имя отца и сына и святаго духа, благословляю вас на добрые труды! Прощайте.
Все закричали:
— Прощайте, владыко! Опять приезжайте.
Кивая клобуком, он говорил:
— Я — приеду, приеду! Я вам книжек привезу!
И сказал учителю, выплывая из класса:
— Отпустите-ка их домой!
Он вывел меня за руку в сени и там сказал тихонько, наклонясь ко мне:
— Так ты — сдерживайся, ладно? Я ведь понимаю, зачем ты озорничаешь! Ну, прощай, брат!
Я был очень взволнован, какое-то особенное чувство кипело в груди, и даже, — когда учитель, распустив класс, оставил меня и стал говорить, что теперь я должен держаться тише воды, ниже травы, — выслушал его внимательно, охотно.
Поп, надевая шубу, ласково гудел:
— Отныне ты на моих уроках должен присутствовать! Да. Должен. Но сиди смиренно! Да. Смирно.
Поправились дела мои в школе — дома разыгралась скверная история: я украл у матери рубль. Это было преступлением без заранее обдуманного намерения: однажды вечером мать ушла куда-то, оставив меня домовничать с ребёнком; скучая, я развернул одну из книг вотчима — «Записки врача» Дюма-отца — и между страниц увидал два билета — в десять рублей и в рубль. Книга была непонятна, я закрыл её и вдруг сообразил, что за рубль можно купить не только «Священную историю», но, наверное, и книгу о Робинзоне. Что такая книга существует, я узнал незадолго перед этим в школе: в морозный день, во время перемены, я рассказывал мальчикам сказку, вдруг один из них презрительно заметил:
— Сказки — чушь, а вот Робинзон — это настоящая история!
Нашлось ещё несколько мальчиков, читавших Робинзона, все хвалили эту книгу, я был обижен, что бабушкина сказка не понравилась, и тогда же решил прочитать Робинзона, чтобы тоже сказать о нём — это чушь!
На другой день я принёс в школу «Священную историю» и два растрёпанных томика сказок Андерсена, три фунта белого хлеба и фунт колбасы. В тёмной, маленькой лавочке у ограды Владимирской церкви был и Робинзон, тощая книжонка в жёлтой обложке, и на первом листе изображён бородатый человек в меховом колпаке, в звериной шкуре на плечах, — это мне не понравилось, а сказки даже и по внешности были милые, несмотря на то что растрёпаны.
Во время большой перемены я разделил с мальчиками хлеб и колбасу, и мы начали читать удивительную сказку «Соловей» — она сразу взяла всех за сердце.
«В Китае все жители — китайцы, и сам император — китаец», — помню, как приятно удивила меня эта фраза своей простой, весело улыбающейся музыкой и ещё чем-то удивительно хорошим.
Мне не удалось дочитать «Соловья», в школе — не хватило времени, а когда я пришёл домой, мать, стоявшая у шестка со сковородником в руках, поджаривая яичницу, спросила меня странным, погашенным голосом:
— Ты взял рубль?
— Взял; вот — книги…
Сковородником она меня и побила весьма усердно, а книги Андерсена отняла и навсегда спрятала куда-то, что было горше побоев.
Несколько дней я не ходил в школу, а за это время вотчим, должно быть, рассказал о подвиге моём сослуживцам, те — своим детям, один из них принёс эту историю в школу, и, когда я пришёл учиться, меня встретили новой кличкой — вор. Коротко и ясно, но — неправильно: ведь у не скрыл, что рубль взят мною. Попытался объяснить это — мне не поверили, тогда я ушёл домой и сказал матери, что в школу не пойду больше.
Сидя у окна, снова беременная, серая, с безумными, замученными глазами, она кормила брата Сашу и смотрела на меня, открыв рот, как рыба.
— Ты — врёшь, — тихо сказала она. — Никто не может знать, что ты взял рубль.
— Поди спроси.
— Ты сам проболтался. Ну, скажи — сам? Смотри, я сама узнаю завтра, кто принёс это в школу!
Я назвал ученика. Лицо её жалобно сморщилось и начало таять слезами.
Я ушёл в кухню, лёг на свою постель, устроенную за печью на ящиках, лежал и слушал, как в комнате тихонько воет мать.
— Боже мой, боже мой…
Терпения не стало лежать в противном запахе нагретых, сальных тряпок, я встал, пошёл на двор, но мать крикнула:
— Куда ты? Куда? Иди ко мне!..
Потом мы сидели на полу, Саша лежал в коленях матери, хватал пуговицы её платья, кланялся и говорил:
— Бувуга, — что означало: пуговка.
Я сидел, прижавшись к боку матери, она говорила, обняв меня:
— Мы — бедные, у нас каждая копейка, каждая копейка…
И всё не договаривала чего-то, тиская меня горячей рукою.
— Экая дрянь… дрянь! — вдруг сказала она слова, которые я уже слышал от неё однажды.
Саша повторил:
— Дянь!
Странный это был мальчик: неуклюжий, большеголовый, он смотрел на всё вокруг прекрасными синими глазами, с тихой улыбкой и словно ожидая чего-то. Говорить он начал необычно рано, никогда не плакал, живя в непрерывном состоянии тихого веселья. Был слаб, едва ползал и очень радовался, когда видел меня, просился на руки ко мне, любил мять уши мои маленькими мягкими пальцами, от которых почему-то пахло фиалкой. Он умер неожиданно, не хворая; ещё утром был тихо весел, как всегда, а вечером, во время благовеста ко всенощной, уже лежал на столе. Это случилось вскоре после рождения второго ребёнка, Николая.
мать сделала, что обещала; в школе я снова устроился хорошо, но меня опять перебросило к деду.
Однажды, во время вечернего чая, войдя со двора в кухню, я услыхал надорванный крик матери:
— Евгений, я тебя прошу, прошу…
— Глу-по-сти! — сказал вотчим.
— Но ведь я знаю — ты к ней идёшь!
— Н-ну?
Несколько секунд оба молчали, матъ закашлялась, говоря:
— Какая ты злая дрянь…
Я слышал, как он ударил её, бросился в комнату и увидал, что мать, упав на колени, опёрлась спиною и локтями о стул, выгнув грудь, закинув голову, хрипя и страшно блестя глазами, а он, чисто одетый, в новом мундире, бьёт её в грудь длинной своей ногою. Я схватил со стола нож с костяной ручкой в серебре, — им резали хлеб, это была единственная вещь, оставшаяся у матери после моего отца, — схватил и со всею силою ударил вотчима в бок.
По счастью, мать успела оттолкнуть Максимова, нож проехал по боку, широко распоров мундир и только оцарапав кожу. Вотчим, охнув, бросился вон из комнаты, держась за бок, а мать схватила меня, приподняла и с рёвом бросила на пол. Меня отнял вотчим, вернувшись со двора.
Поздно вечером, когда он всё-таки ушёл из дома, мать пришла ко мне за печку, осторожно обнимала, целовала меня и плакала:
— Прости, я виновата! Ах, милый, как ты мог? Ножом?
Я совершенно искренне и вполне понимая, что говорю, сказал ей, что зарежу вотчима и сам тоже зарежусь. Я думаю, что сделал бы это, во всяком случае попробовал бы. Даже сейчас я вижу эту подлую, длинную ногу, с ярким кантом вдоль штанины, вижу, как она раскачивается в воздухе и бьёт носком в грудь женщины.
Вспоминая эти свинцовые мерзости дикой русской жизни, я минутами спрашиваю себя: да стоит ли говорить об этом? И, с обновлённой уверенностью, отвечаю себе — стоит; ибо это — живучая, подлая правда, она не издохла и по сей день. Это та правда, которую необходимо знать до корня, чтобы с корнем же и выдрать её из памяти, из души человека, из всей жизни нашей, тяжкой и позорной.
И есть другая, более положительная причина, понуждающая меня рисовать эти мерзости. Хотя они и противны, хотя и давят нас, до смерти расплющивая множество прекрасных душ, — русский человек всё-таки настолько ещё здоров и молод душою, что преодолевает и преодолеет их.
Не только тем изумительна жизнь наша, что в ней так плодовит и жирен пласт всякой скотской дряни, но тем, что сквозь этот пласт все-таки победно прорастает яркое, здоровое и творческое, растёт доброе — человеческое, возбуждая несокрушимую надежду на возрождение наше к жизни светлой, человеческой.
XIII
Снова я у деда.
— Что, разбойник? — встретил он меня, стуча рукою по столу. — Ну, теперь уж я тебя кормить не стану, пускай бабушка кормит!
— И буду, — сказала бабушка. — Эка задача, подумаешь!
— Вот и корми! — крикнул дед, но тотчас успокоился, объяснив мне:
— Мы с ней совсем разделились, у нас теперь всё порознь…
Бабушка, сидя под окном, быстро плела кружева, весело щёлкали коклюшки, золотым ежом блестела на вешнем солнце подушка, густо усеянная медными булавками. И сама бабушка, точно из меди лита, — неизменна! А дед ещё более ссохся, сморщился, его рыжие волосы посерели, спокойная важность движений сменилась горячей суетливостью, зелёные глаза смотрят подозрительно. Посмеиваясь, бабушка рассказала мне о разделе имущества между ею и дедом: он отдал ей все горшки, плошки, всю посуду и сказал:
— Это — твоё, а больше ничего с меня не спрашивай!
Затем отобрал у неё все старинные платья, вещи, лисий салоп, продал всё за семьсот рублей, а деньги отдал в рост под проценты своему крестнику-еврею, торговцу фруктами. Он окончательно заболел скупостью и потерял стыд: стал ходить по старым знакомым, бывшим сослуживцам своим в ремесленной управе, по богатым купцам и, жалуясь, что разорён детьми, выпрашивал у них денег на бедность. Он пользовался уважением, ему давали обильно, крупными билетами; размахивая билетом под носом бабушки, дед хвастался и дразнил её, как ребёнок:
— Видала, дура? Тебе сотой доли этого не дадут!
Собранные деньги он отдавал в рост новому своему приятелю, длинному и лысому скорняку, прозванному в слободке Хлыстом, и его сестре — лавочнице, дородной, краснощёкой бабе, с карими глазами, томной и сладкой, как патока.
Всё в доме строго делилось: один день обед готовила себе бабушка из провизии, купленной на её деньги, на другой день провизию и хлеб покупал дед, и всегда в его дни обеды бывали хуже: бабушка брала хорошее мясо, а он — требуху, печёнку, лёгкие, сычуг. Чай и сахар хранился у каждого отдельно, но заваривали чай в одном чайнике, и дед тревожно говорил:
— Постой, погоди, — ты сколько положила?
Высыплет чаинки на ладонь себе и, аккуратно пересчитав их, скажет:
— У тебя чай-то мельче моего, значит — я должен положить меньше, мой крупнее, наваристее.
Он очень следил, чтобы бабушка наливала чай и ему и себе одной крепости и чтоб она выпивала одинаковое с ним количество чашек.
— По последней, что ли? — спрашивала она перед тем, как слить весь чай.
Дед заглядывал в чайник и говорил:
— Ну, уж — по последней!
Даже масло для лампадки пред образом каждый покупал своё, — это после полусотни лет совместного труда!
Мне было и смешно и противно видеть все эти дедовы фокусы, а бабушке только смешно.
— А ты — полно! — успокаивала она меня. — Ну, что такое? Стар старичок, вот и дурит! Ему ведь восемь десятков, — отшагай-ка столько-то! Пускай дурит, кому горе? А я себе да тебе — заработаю кусок небойсь!
Я тоже начал зарабатывать деньги: по праздникам, рано утром, брал мешок и отправлялся по дворам, по улицам собирать говяжьи кости, тряпки, бумагу, гвозди. Пуд тряпок и бумаги ветошники покупали по двугривенному, железо — тоже, пуд костей по гривеннику, по восемь копеек. Занимался я этим делом и в будни после школы, продавая каждую субботу разных товаров копеек на тридцать, на полтинник, а при удаче и больше. Бабушка брала у меня деньги, торопливо совала их в карман юбки и похваливала меня, опустив глаза:
— Вот и спасибо тебе, голубА душа! Мы с тобой не прокормимся, — мы? Велико дело!
Однажды я подсмотрел, как она, держа на ладони мои пятаки, глядела на них и молча плакала, одна мутная слеза висела у неё на носу, ноздреватом, как пемза.
Более доходной статьёй, чем ветошничество, было воровство дров и тёса в лесных складах на берегу Оки или на Песках, — остров, где во время ярмарки торгуют железом из наскоро сбитых балаганов. После ярмарки балаганы разбирают, а жерди, тёс — складывают в штабеля, и они лежат там, на Песках, почти вплоть до весеннего половодья. За хорошую тесину домовладельцы-мещане давали по гривеннику, в день можно было стащить штуки две, три. Но для удачи необходимы были ненастные дни, когда вьюга или дождь разгоняли сторожей, заставляя их прятаться.
Подобралась дружная ватага: десятилетний сын нищей мордовки, Санька Вяхирь, мальчик милый, нежный и всегда спокойно весёлый; безродный Кострома, вихрастый, костлявый, с огромными чёрными глазами, — он впоследствии, тринадцати лет, удавился в колонии малолетних преступников, куда попал за кражу пары голубей; татарчонок Хаби, двенадцатилетний силач, простодушный и добрый; тупоносый Язь, сын кладбищенского сторожа и могильщика, мальчик лет восьми, молчаливый, как рыба, страдавший «чёрной немочью», а самым старшим по возрасту был сын портнихи-вдовы Гришка Чурка, человек рассудительный, справедливый и страстный кулачный боец; всё — люди с одной улицы.
Воровство в слободе не считалось грехом, являясь обычаем и почти единственным средством к жизни для полуголодных мещан. Полтора месяца ярмарки не могли накормить на весь год, и очень много почтенных домохозяев «прирабатывали на реке» — ловили дрова и брёвна, унесённые половодьем, перевозили на дощаниках мелкий груз, но главным образом занимались воровством с барж и вообще — «мартышничали» на Волге и Оке, хватая всё, что было плохо положено. По праздникам большие хвастались удачами своими, маленькие слушали и учились.
Весною, в горячее время перед ярмаркой, по вечерам улицы слободы были обильно засеяны упившимися мастеровыми, извозчиками и всяким рабочим людом, — слободские ребятишки всегда ошаривали их карманы, это был промысел узаконенный, им занимались безбоязненно, на глазах старших.
Воровали инструмент у плотников, гаечные ключи у легковых извозчиков, а у ломовых — шкворни, железные подоски из тележных осей, — наша компания этими делами не занималась; Чурка однажды решительно заявил:
— Я воровать не буду, мне мамка не велит.
— А я — боюсь! — сказал Хаби.
У Костромы было чувство брезгливости к воришкам, слово — вор он произносил особенно сильно и, когда видел, что чужие ребята обирают пьяных, — разгонял их, если же удавалось поймать мальчика — жестоко бил его. Этот большеглазый, невесёлый мальчик воображал себя взрослым, он ходил особенной походкой, вперевалку, точно крючник, старался говорить густым, грубым голосом, весь он был какоё-то тугой, надуманный, старый. Вяхирь был уверен, что воровство — грех.
Но таскать тёс и жерди с Песков не считалось грехом, никто из нас не боялся этого, и мы выработали ряд приёмов, очень успешно облегчавших нам это дело. Вечером, когда темнело, или в ненастный день Вяхирь и Язь отправлялись на Пески через затон по набухшему, мокрому льду, — они шли открыто, стараясь обратить на себя внимание сторожей, а мы, четверо, перебирались незаметно, порознь. Сторожа, встревоженные Язём и Вяхирем, следили за ними, мы собирались у заранее назначенного штабеля, выбирали себе поноски, и, пока быстроногие товарищи дразнят сторожей, заставляя их бегать за собою, мы отправляемся назад. У каждого из нас верёвка, на конце её загнут крючком большой гвоздь; зацепив им тесины или жерди, мы волокли их по снегу и по льду, — сторожа почти никогда не замечали нас, а заметив не могли догнать. Продав поноски, мы делили выручку на шесть частей приходилось по пятаку, иногда по семи копеек на брата.
На эти деньги можно было очень сытно прожить день, но Вяхиря била мать, если он не приносил ей на шкалик или на косушку водки; Кострома копил деньги, мечтая завести голубиную охоту; мать Чурки была больна, он старался заработать как можно больше; Хаби тоже копил деньги, собираясь ехать в город, где он родился и откуда его вывез дядя, вскоре по приезде в Нижний утонувший. Хаби забыл, как называется город, помнил только, что он стоит на Каме, близко от Волги.
Нас почему-то очень смешил этот город, мы дразнили косоглазого татарчонка, распевая:
Город на Каме, Где — не знаем сами! Не достать руками, Не дойти ногами!Сначала Хаби сердился на нас, но однажды Вяхирь сказал ему воркующим голосом, который оправдывал прозвище:
— Чего ты? Разве на товарищев сердются?
Татарчонок сконфузился и сам стал распевать о городе на Каме.
Нам всё-таки больше нравилось собирание тряпок и костей, чем воровство тёса. Это стало особенно интересно весной, когда сошёл снег, и после дождей, чисто омывавших мощёные улицы пустынной ярмарки. Там, на ярмарке, всегда можно было собрать в канавах много гвоздей, обломков железа, нередко мы находили деньги, медь и серебро, но для того, чтобы рядские сторожа не гоняли нас и не отнимали мешков, нужно было или платить им семишники, или долго кланяться им. Вообще деньги давались нам нелегко, но жили мы очень дружно, и, хотя иногда ссорились немножко, — я не помню ни одной драки между нами.
Нашим миротворцем был Вяхирь, он всегда умел вовремя сказать нам какие-то особенные слова; простые — они удивляли и конфузили нас. Он и сам говорил их с удивлением. Злые выходки Язя не обижали, не пугали его, он находил всё дурное ненужным и спокойно, убедительно отрицал.
— Ну, зачем это ещё? — спрашивал он, и мы ясно видели — незачем!
Мать свою он называл «моя мордовка», — это не смешило нас.
— Вчерась моя мордовка опять привалилась домой пьянёхонькая! — весело рассказывал он, поблёскивая глазами золотистого цвета. — Расхлебянила дверь, села на пороге и поёт, и поёт, курица!
Положительный Чурка спрашивал:
— Что — поёт?
Вяхирь, прихлопывая ладонью по колену, тонким голоском воспроизводил песню своей матери:
Ой, стук-постук Молодой пастух, Он — в окошко падогом, Мы на улицу бегом! Пастух Борька, Вечерняя зорька, Заиграет на свирели Все в деревне присмирели!Он знал множество таких задорных песенок и очень ловко распевал их.
— Да, — продолжает он, — так она и заснула на пороге, выстудила горницу беда как, я весь дрожу, чуть не замёрз, а стащить её — силы не хватает. Уж сегодня утром говорю ей: «Что ты какая страшная пьяница?» А она говорит: «Ничего, потерпи немножко, я уж скоро помру!»
Чурка серьёзно подтверждает:
— Она скоро помрёт, набухла уж вся.
— Жалко будет тебе? — спрашиваю я.
— А как же? — удивляется Вяхирь. — Она ведь у меня хорошая…
И все мы, зная, что мордовка походя колотит Вяхиря, верили, что она хорошая; бывало даже, во дни неудач, Чурка предлагал:
— Давайте сложимся по копейке, Вяхиревой матери на вино, а то она побьёт его!
Грамотных в компании было двое — Чурка да я; Вяхирь очень завидовал нам и ворковал, дёргая себя за острое, мышиное ухо:
— Схороню свою мордовку — тоже пойду в училище, поклонюсь учителю в ножки, чтобы взял меня. Выучусь — в садовники наймусь к архиерею, а то к самому царю!..
Весною мордовку, вместе со стариком, сборщиком на построение храма, и бутылкой водки, придавило упавшей на них поленницей дров; женщину отвезли в больницу, а солидный Чурка сказал Вяхирю:
— Айда ко мне жить, мамка моя выучит тебя грамоте…
И через малое время Вяхирь, высоко задирая голову, читал вывески:
— Балакейная лавка…
Чурка поправлял его:
— Бакалейная, кикимора!
— Я вижу, да перескакивают буквовки.
— Буковки!
— Они прыгают — рады, что читают их!
Он очень смешил и удивлял всех нас своей любовью к деревьям, травам.
Слобода, разбросанная по песку, была скудна растительностью; лишь кое-где, по дворам, одиноко торчали бедные ветлы, кривые кусты бузины, да под забором робко прятались серые сухие былинки; если кто-нибудь из нас садился на них — Вяхирь сердито ворчал:
— Ну, на что траву мнёте? Сели бы мимо, на песок, не всё ли равно вам?
При нём неловко было сломать сучок ветлы, сорвать цветущую ветку бузины или срезать прут ивняка на берегу Оки — он всегда удивлялся, вздёрнув плечи и разводя руками:
— Что вы всё ломаете? Вот уж черти!
И всем было стыдно от его удивления.
По субботам мы устраивали весёлую забаву, — готовились к ней всю неделю, собирая по улицам стоптанные лапти, складывая их в укромных углах. Вечером, в субботу, когда с Сибирской пристани шли домой ватаги крючников-татар, мы, заняв позиции, где-нибудь на перекрёстке, начинали швырять в татар лаптями. Сначала это раздражало их, они бегали за нами, ругались, но скоро начали сами увлекаться игрою и уже зная, что их ждёт, являлись на поле сражения тоже вооружёнными множеством лаптей, мало того подсмотрев, куда мы прячем боевой материал, они не однажды обкрадывали нас, — мы жаловались им:
— Это — не игра!
Тогда они делили лапти, отдавая нам половину, и — начинался бой. Обыкновенно они выстраивались на открытом месте, мы с визгом носились вокруг их, швыряя лаптями, они тоже выли и оглушительно хохотали, когда кто-нибудь из нас на бегу зарывался головою в песок, сбитый лаптем, ловко брошенным под ноги.
Игра горела долго, иногда вплоть до темноты, собиралось мещанство, выглядывало из-за углов и ворчало, порядка ради. ВорОнами летали по воздуху серые, пыльные лапти, иногда кому-нибудь из нас сильно доставалось, но удовольствие было выше боли и обиды.
Татаре горячились не меньше нас; часто, кончив бой, мы шли с ними в артель, там они кормили нас сладкой кониной, каким-то особенным варевом из овощей, после ужина пили густой кирпичный чай со сдобными орешками из сладкого теста. Нам нравились эти огромные люди, на подбор — силачи, в них было что-то детское, очень понятное, — меня особенно поражала их незлобивость, непоколебимое добродушие и внимательное, серьёзное отношение друг ко другу.
Все они превосходно смеялись, до слёз захлёбываясь смехом, а один из них — касимовец, с изломанным носом, мужик сказочной силы: он снёс однажды с баржи далеко на берег колокол в двадцать семь пудов веса, — он, смеясь, выл и кричал:
— Вву, вву! Слова — трава, а слова — мелка деньга, а золотой монета слова-та!
Однажды он посадил Вяхиря на ладонь себе, поднял его высоко и сказал:
— Вот где живи, небеснай!
В ненастные дни мы собирались у Язя, на кладбище, в сторожке его отца. Это был человек кривых костей, длиннорукий, измызганный, на его маленькой голове, на тёмном лице кустились грязноватые волосы; голова его напоминала засохший репей, длинная, тонкая шея — стебель. Он сладко жмурил какие-то жёлтые глаза и скороговоркой бормотал:
— Не дай господь бессонницу! Ух!
Мы покупали три золотника чая, осьмушку сахара, хлеба, обязательно шкалик водки отцу Язя, Чурка строго приказывал ему:
— Дрянной Мужик, — ставь самовар!
Мужик, усмехаясь, ставил жестяной самовар, мы, в ожидании чая, рассуждали о своих делах, он давал нам добрые советы:
— Глядите — после завтрея сороковины у Трусовых, большой стол будет, вот они где, кости вам!
— У Трусовых кости кухарка собирает, — замечал всезнающий Чурка.
Вяхирь мечтал, глядя в окно на кладбище:
— Скоро в лес ходить будем, ох ты!
Язь всегда молчал, внимательно разглядывая всех печальными глазами, молча же он показывал нам свои игрушки — деревянных солдат, добытых из мусорной ямы, безногих лошадей, обломки меди, пуговицы.
Отец его ставил на стол разнообразные чашки, кружки, подавал самовар, Кострома садился разливать чай, а он, выпив свой шкалик, залезал на печь и, вытянув оттуда длинную шею, разглядывал нас совиными глазами, ворчал:
— Ух, чтоб вам сдохнуть, — будто и не мальчишки ведь, а? Ах, воры, не дай господь бессонницу!
Вяхирь говорил ему:
— Мы вовсе не воры!
— Ну, ин воришки…
Если Язёв отец надоедал нам, — Чурка сердито окрикивал его:
— Отстань, Дрянной Мужик!
Мне, Вяхирю и Чурке очень не нравилось, когда этот человек начинал перечислять, в каком доме есть хворые, кто из слобожан скоро умрёт, — он говорил об этом смачно и безжалостно, а видя, что нам неприятны его речи, нарочно дразнил и подзуживал нас:
— Ага-а, боитесь, шишиги? То-то! А вот скоро один толстый помрёт, — эх, и долго ему гнить!
Его останавливали, — он не унимался:
— А ведь и вам надо умирать, не помойных-то ямах недолго проживёте!
— Ну, так и умрём, — говорил Вяхирь, — нас в ангелы возьмут…
— Ва-вас? — задыхался от изумления Язёв отец. — Это — вас? В ангели?
Хохотал и снова дразнил, рассказывая о покойниках разные пакости.
Но иногда этот человек вдруг начинал говорить журчащим, пониженным голосом что-то странное:
— Слушайте-ка, ребятишки, погодите! Вот третьево дни захоронили одну бабу, узнал я, ребятёнки, про неё историю — что же это за баба?
Он очень часто говорил про женщин и всегда — грязно, но было в его рассказах что-то спрашивающее, жалобное, он как бы приглашал нас думать с ним, и мы слушали его внимательно. Говорил он неумело, бестолково, часто перебивая свою речь вопросами, но от его рассказов оставались в памяти какие-то беспокоящие осколки и обломки:
— Спрашивают её: «Кто поджёг?» — «Я подожгла!» — «Как так, дура? Тебя дома не было в ту ночь, ты в больнице лежала!» — «Я подожгла!» Это она зачем же? Ух, не дай бог бессонницу…
Он знал историю жизни почти каждого слобожанина, зарытого им в песок унылого, голого кладбища, он как бы отворял пред нами двери домов, мы входили в них, видели, как живут люди, чувствовали что-то серьёзное, важное. Он, кажется, мог бы говорить всю ночь до утра, но как только окно сторожки мутнело, прикрываясь сумраком, Чурка вставал из-за стола:
— Я — домой, а то мамка бояться будет. Кто со мной?
Уходили все; Язь провожал нас до ограды, запирал ворота и, прижав к решётке тёмное, костлявое лицо, глухо говорил:
— Прощайте!
Мы тоже кричали ему — прощай! Всегда неловко было оставлять его на кладбище. Кострома сказал однажды, оглянувшись назад:
— Вот, проснёмся завтра, а он — помер.
— Язю хуже всех жить, — часто говорил Чурка, а Вяхирь всегда возражал:
— Нам вовсе не плохо…
И на мой взгляд нам жилось не плохо, — мне эта уличная, независимая жизнь очень нравилась и нравились товарищи, они возбуждали у меня какое-то большое чувство, всегда беспокойно хотелось сделать что-нибудь хорошее для них.
В школе мне снова стало трудно, ученики высмеивали меня, называя ветошником, нищебродом, а однажды, после ссоры, заявили учителю, что от меня пахнет помойной ямой и нельзя сидеть рядом со мной. Помню, как глубоко я был обижен этой жалобой и как трудно было мне ходить в школу после неё. Жалоба была выдумана со зла: я очень усердно мылся каждое утро и никогда не приходил в школу в той одежде, в которой собирал тряпьё.
Но вот наконец я сдал экзамен в третий класс, получил в награду Евангелие, басни Крылова в переплёте и ещё книжку без переплёта. с непонятным титулом — «Фата-Моргана», дали мне также похвальный лист. Когда я принёс эти подарки домой, дед очень обрадовался, растрогался и заявил, что всё это нужно беречь и что он запрёт книги в укладку себе. Бабушка уже несколько дней лежала больная, у неё не было денег, дед охал и взвизгивал:
— Опиваете вы меня, объедаете до костей, эх вы-и…
Я отнёс книги в лавочку, продал их за пятьдесят пять копеек, отдал деньги бабушке, а похвальный лист испортил какими-то надписями и тогда же вручил деду. Он бережно спрятал бумагу, не развернув её и не заметив моего озорства.
Разделавшись со школой, я снова зажил на улице, теперь стало ещё лучше, — весна была в разгаре, заработок стал обильней, по воскресеньям мы всей компанией с утра уходили в поле, в сосновую рощу, возвращались в слободу поздно вечером, приятно усталые и ещё более близкие друг к другу.
Но эта жизнь продолжалась недолго — вотчиму отказали от должности, он снова куда-то исчез, мать, с маленьким братом Николаем, переселилась к деду, и на меня была возложена обязанность няньки, — бабушка ушла в город и жила там в доме богатого купца, вышивая покров на плащаницу.
Немая, высохшая мать едва передвигала ноги, глядя на всё страшными глазами. брат был золотушный, с язвами на щиколотках, и такой слабенький, что даже плакать громко не мог, а только стонал потрясающе, если был голоден, сытый же дремал и сквозь дрёму как-то странно вздыхал, мурлыкал тихонько, точно котёнок.
Внимательно ощупав его, дед сказал:
— Кормить бы надобно его хорошенько, да не хватает у меня кормов-то на всех вас…
Мать, сидя в углу на постели, хрипло вздохнула:
— Ему немного надо…
— Тому — немного, этому — немного, и выходит много…
Он махнул рукой и обратился ко мне:
— Держать Николая надо на воле, на солнышке, в песке…
Я натаскал мешком чистого сухого песку, сложил его кучей на припёке под окном и зарывал брата по шею, как было указано дедушкой. Мальчику нравилось сидеть в песке, он сладко жмурился и светил мне необыкновенными глазами — без белков, только одни голубые зрачки, окружённые светлым колечком.
Я сразу и крепко привязался к брату, мне казалось, что он понимает всё, о чём думаю я, лёжа рядом с ним на песке под окном, откуда ползёт к нам скрипучий голос деда:
— Умереть — не велика мудрость, ты бы вот жить умела!
Мать затяжно кашляет…
Высвободив ручки, мальчик тянется ко мне, покачивая белой головёнкой; волосы у него редкие, отливают сединой, а личико старенькое, мудрое.
Если близко к нам подходит курица, кошка — Коля долго присматривается к ним, потом смотрит на меня и чуть заметно улыбается, — меня смущает эта улыбка — не чувствует ли брат, что мне скучно с ним и хочется убежать на улицу, оставив его?
Двор — маленький, тесный и сорный, от ворот идут построенные из горбушин сарайчики, дровяники и погреба, потом они загибаются, заканчиваясь баней. Крыши сплошь завалены обломками лодок, поленьями дров, досками, сырою щепой — всё это мещане выловили из Оки во время ледохода и половодья. И весь двор неприглядно завален грудами разного дерева; насыщенное водою, оно преет на солнце, распространяя запах гнили.
Рядом — бойня мелкого скота, почти каждое утро там мычали телята, блеяли бараны, кровью пахнет так густо, что иногда мне казалось — этот запах колеблется в пыльном воздухе прозрачно- багровой сеткой…
Когда мычали животные, оглушаемые ударом топора — обухом между рогов, Коля прищуривал глаза и, надувая губы, должно быть, хотел повторить звук, но только выдувал воздух:
— Ффу…
В полдень дед, высунув голову из окна, кричал:
— Обедать!
Он сам кормил ребёнка, держа его на коленях у себя, — пожуёт картофеля, хлеба и кривым пальцем сунет в ротик Коли, пачкая тонкие его губы и остренький подбородок. Покормив немного, дед приподнимал рубашонку мальчика, тыкал пальцем в его вздутый животик и вслух соображал:
— Будет, что ли? Али ещё дать?
Из тёмного угла около двери раздавался голос матери:
— Видите же вы — он тянется за хлебом!
— Ребёнок глуп! Он не может знать, сколько надо ему съесть…
И снова совал в рот Коли жвачку. Смотреть на это кормление мне было стыдно до боли, внизу горла меня душило и тошнило.
— Ну, ладно! — говорил наконец дед. — На-ко, отнеси его матери.
— Я брал Колю — он стонал и тянулся к столу. Встречу мне, хрипя, поднималась мать, протягивая сухие руки без мяса на них, длинная, тонкая, точно ель с обломанными ветвями.
Она совсем онемела, редко скажет слово кипящим голосом, а то целый день молча лежит в углу и умирает. Что она умирала — это я, конечно, чувствовал, знал, да и дед слишком часто, назойливо говорил о смерти, особенно по вечерам, когда на дворе темнело и в окна влезал тёплый, как овчина, жирный запах гнили.
Дедова кровать стояла в переднем углу, почти под образами, он ложился головою к ним и окошку, — ложился и долго ворчал в темноте:
— Вот — пришло время умирать. С какой рожей пред богом встанем? Что скажем? А ведь весь век суетились, чего-то делали… До чего дошли?..
Я спал между печью и окном, на полу, мне было коротко, ноги я засовывал в подпечек, их щекотали тараканы. Этот угол доставил мне немало злых удовольствий, — дед, стряпая, постоянно выбивал стёкла в окне концами ухватов и кочерги. Было смешно и странно, что он, такой умный, не догадается обрезать ухваты.
Однажды, когда у него что-то перекипело в горшке, он заторопился и так рванул ухватом, что вышиб перекладину рамы, оба стекла, опрокинул горшок на шестке и разбил его. Это так огорчило старика, что он сел на пол и заплакал.
— Господи, господи…
Днём, когда он ушёл, я взял хлебный нож и обрезал ухваты четверти на три, но дед, увидав мою работу, начал ругаться:
— Бес проклятый, — пилой надо было отпилить, пило-ой! Из концов-то скалки вышли бы, продать бы их можно, дьяволово семя!
Махая руками, он выбежал в сени, а мать сказала:
— Не совался бы ты…
Умерла она в августе, в воскресенье, около полудня. Вотчим только что воротился из своей поездки и снова где-то служил, бабушка с Колей уже перебралась к нему, на чистенькую квартирку около вокзала, туда же на днях должны были перевезти и мать.
Утром, в день смерти, она сказала мне тихо, но более ясным и лёгким голосом, чем всегда:
— Сходи к Евгению Васильевичу, скажи — прошу его прийти!
Приподнялась на постели, упираясь рукою в стену, и села, добавив:
— Скорей беги!
Мне показалось, что она улыбается и что-то новое светилось в её глазах. Вотчим был у обедни, бабушка послала меня за табаком к еврейке-будочнице, готового табаку не оказалось, пришлось ждать, пока будочница натёрла табаку, потом отнести его бабушке.
Когда я воротился к деду, мать сидела за столом, одетая в чистое сиреневое платье, красиво причёсанная, важная по-прежнему.
— Тебе стало лучше? — спросил я, оробев почему-то.
Жутко глядя на меня, она сказала:
— Поди сюда! Ты где шлялся, а?
Я не успел ответить, как она, схватив меня за волосы, взяла в другую руку длинный гибкий нож, сделанный из пилы, и с размаха несколько раз ударила меня плашмя, — нож вырвался из руки у неё.
— Подними! Дай…
Я поднял нож, бросил его на стол, мать оттолкнула меня; я сел на приступок печи, испуганно следя за нею.
Встав со стула, она медленно передвинулась в свой угол, легла на постель и стала вытирать платком вспотевшее лицо. Рука её двигалась неверно, дважды упала мимо лица на подушку и провела платком по ней.
— Дай воды…
Я зачерпнул из ведра чашкой, она, с трудом приподняв голову, отхлебнула немножко и отвела руку мою холодной рукою, сильно вздохнув. Потом взглянула в угол на иконы, перевела глаза на меня, пошевелила губами, словно усмехнувшись, и медленно опустила на глаза длинные ресницы. Локти её плотно прижались к бокам, а руки, слабо шевеля пальцами, ползли на грудь, подвигаясь к горлу. По лицу её плыла тень, уходя в глубь лица, натягивая жёлтую кожу, заострив нос. Удивлённо открывался рот, но дыхания не было слышно.
Неизмеримо долго стоял я с чашкой в руке у постели матери, глядя, как застывает, сереет её лицо.
Вошёл дед, я сказал ему:
— Умерла мать…
Он заглянул на постель.
— Что врёшь?
Ушёл к печи и стал вынимать пирог, оглушительно гремя заслоном и противнем. Я смотрел на него, зная, что мать умерла, ожидая, когда он поймёт это.
Пришёл вотчим в парусиновом пиджаке, в белой фуражке. Бесшумно взял стул, понёс его к постели матери и вдруг, ударив стулом о пол, крикнул громко, как медная труба:
— Да она умерла, смотрите…
Дед, вытаращив глаза, тихонько двигался от печи с заслоном в руке, спотыкаясь, как слепой.
Когда гроб матери засыпали сухим песком и бабушка, как слепая, пошла куда-то среди могил, она наткнулась на крест и разбила себе лицо. Язёв отец отвёл её в сторожку, и, пока она умывалась, он тихонько говорил мне утешительные слова:
— Ах ты, — не дай бог бессонницу, чего ты, а? Уж это — такое дело… Верно я говорю, бабушка? И богату и просту — всем дорога к погосту, — так ли, бабушка?
Взглянув в окно, он вдруг выскочил из сторожки. но тотчас же вернулся вместе с Вяхирем, сияющий, весёлый.
— Ты гляди-ко, — сказал он, протягивая мне сломанную шпору, — гляди, какая вещь! Это мы с Вяхирем тебе дарим. Гляди — колёсико, а? Не иначе казак носил да потерял… Я хотел купить у Вяхиря штучку эту, семишник давал…
— Что ты врёшь! — тихо, но сердито сказал Вяхирь, а Язёв отец, прыгая предо мною, подмигивал на него и говорил:
— Вяхирь-то, а? Строгий! Ну — не я, он дарит это тебе, он…
Бабушка умылась, закутала платком вспухшее, синее лицо и позвала меня домой, — я отказался, зная, что там, на поминках, будут пить водку и, наверное, поссорятся. Дядя Михаил ещё в церкви вздыхал, говоря Якову:
— Выпьем сегодня, а?
Вяхирь старался рассмешить меня: нацепил шпору на подбородок и доставал репеёк языком, а Язёв отец нарочито громко хохотал, вскрикивая:
— Гляди, ты гляди, чего он делает! — Но видя, что всё это не веселит меня, он сказал серьёзно: — Ну — буде, очнись-ка! Все умрём, даже птица умирает. Вот что: я те материну могилу дёрном обложу — хошь? Вот сейчас пойдём в поле, — ты, Вяхирь, я; Санька мой с нами; нарежем дёрна и так устроим могилу — лучше нельзя!
Мне понравилось это, и мы пошли в поле.
Через несколько дней после похорон матери дед сказал мне:
— Ну, Лексей, ты — не медаль, на шее у меня — не место тебе, а иди-ка ты в люди…
И пошёл я в люди.
1913–1914 гг.
Примечания
1
В селе Колюпановке, Тамб[овской] губ., Борисоглебского уезда, я слышал иной вариант этой легенды: нож убивает пасынка, оклеветавшего мачеху. (Прим. М. Горького)
(обратно)2
Автор известного трёхтомного труда — «Религии древнего мира», статьи — «Египетский метампсихоз», а также публицистической статьи — «О браке и женщине». Эта статья, в юности прочитанная мною, произвела на меня сильное впечатление. Кажется, я неверно привёл титул её. Напечатана в каком-то богословском журнале семидесятых годов. (Прим. М. Горького)
(обратно)
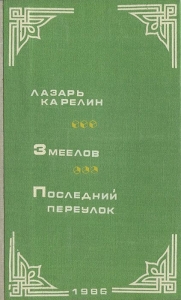

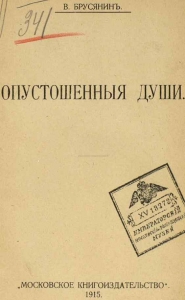

Комментарии к книге «Детство», Максим Горький
Всего 0 комментариев